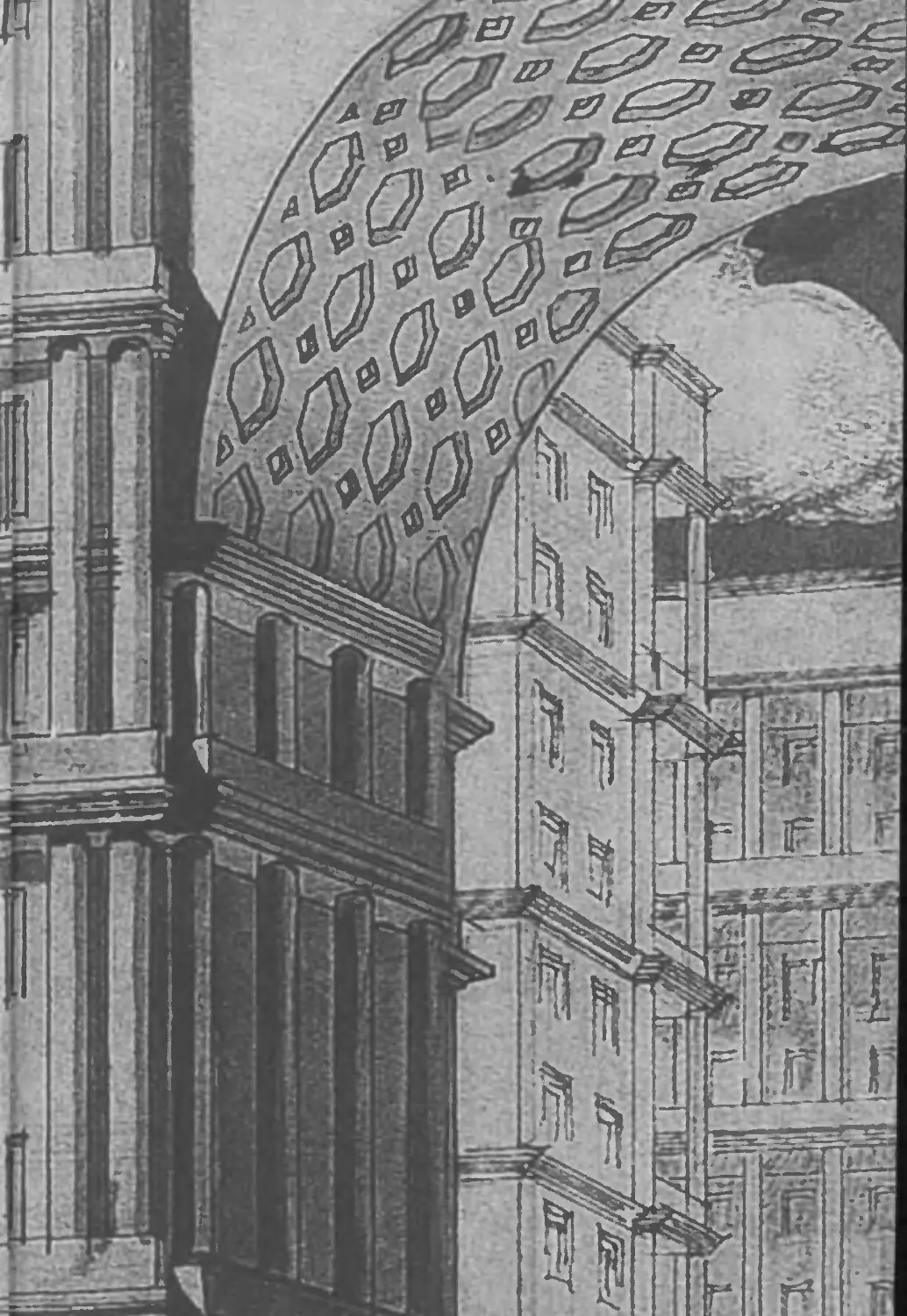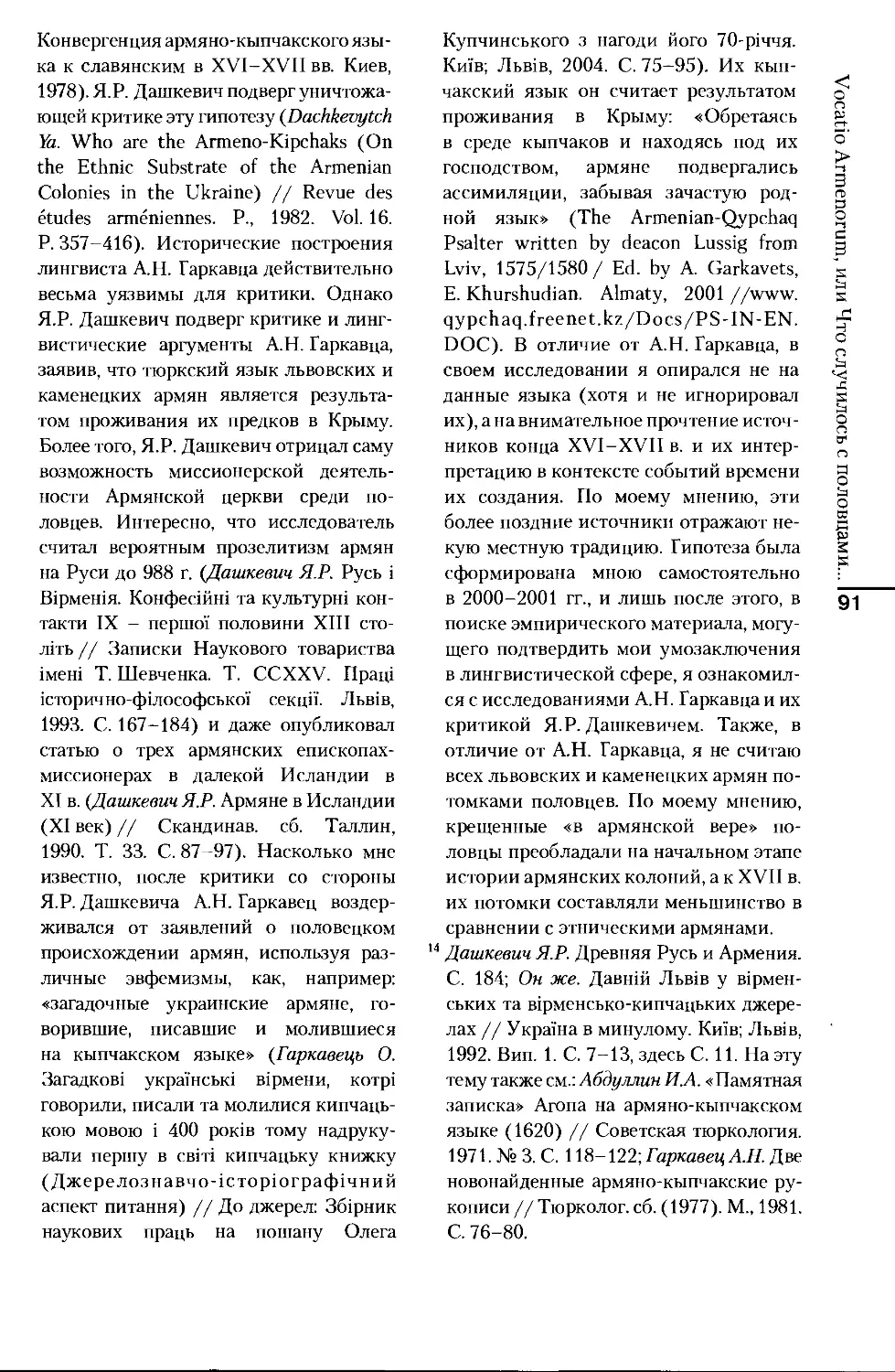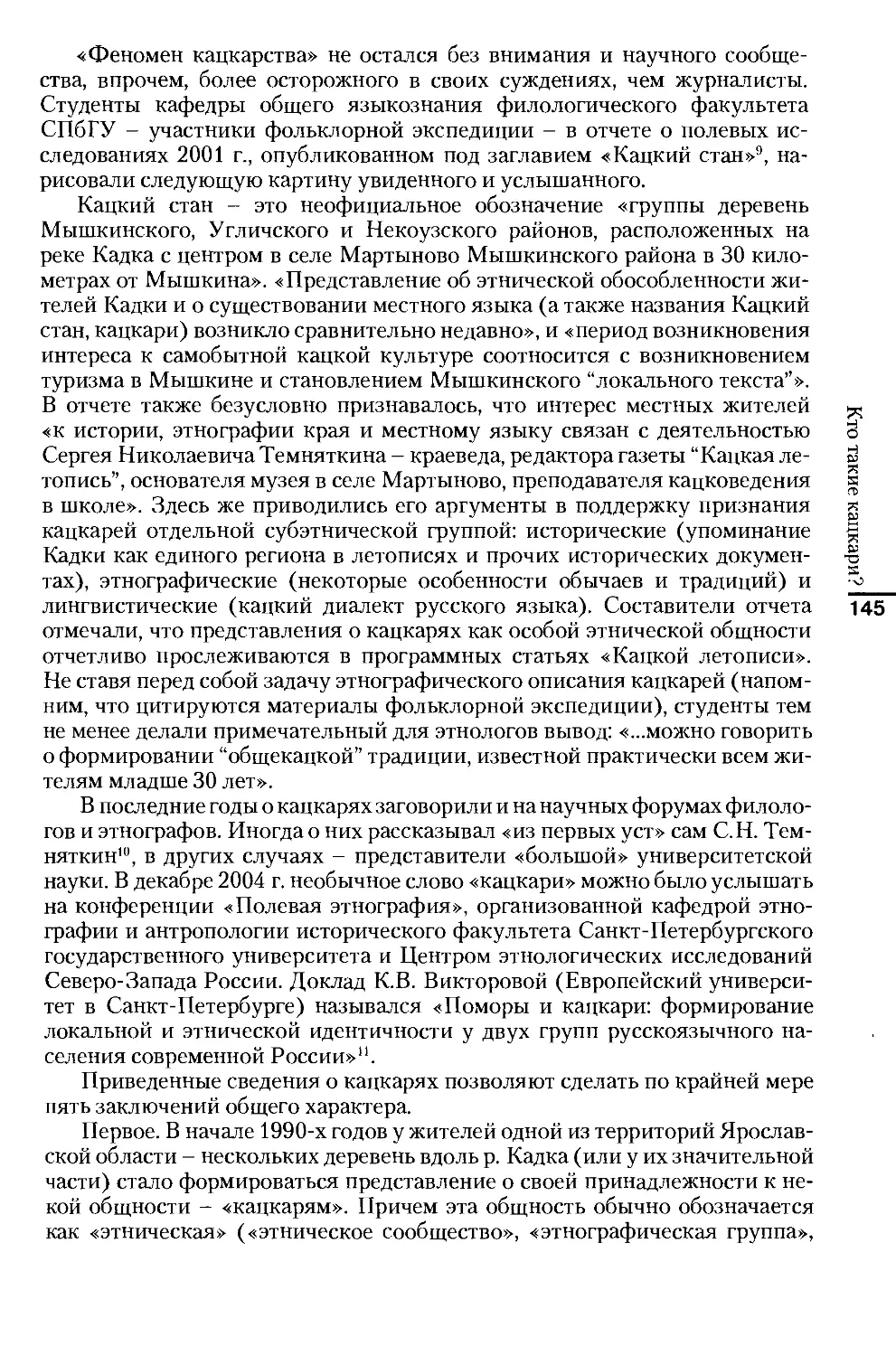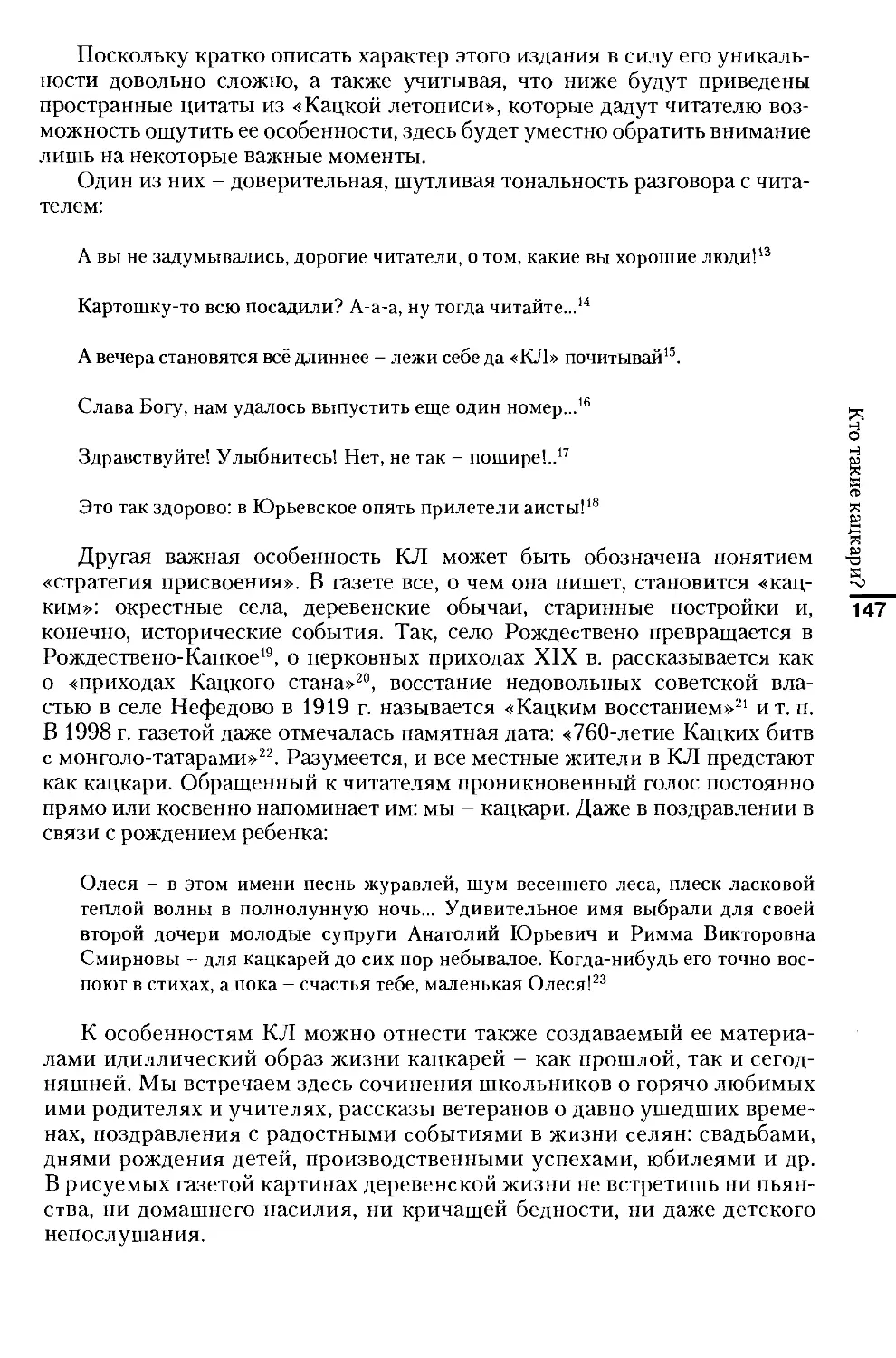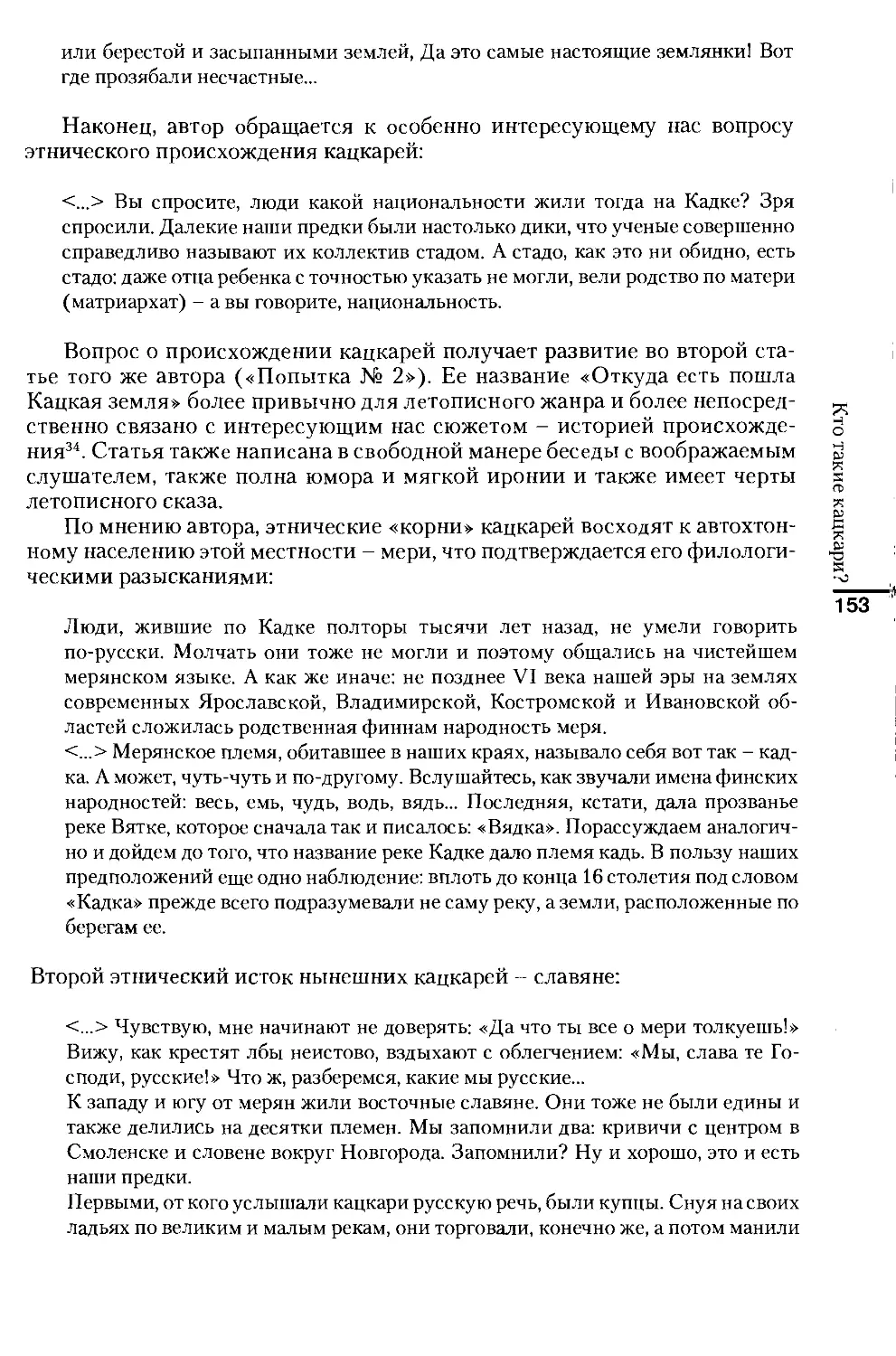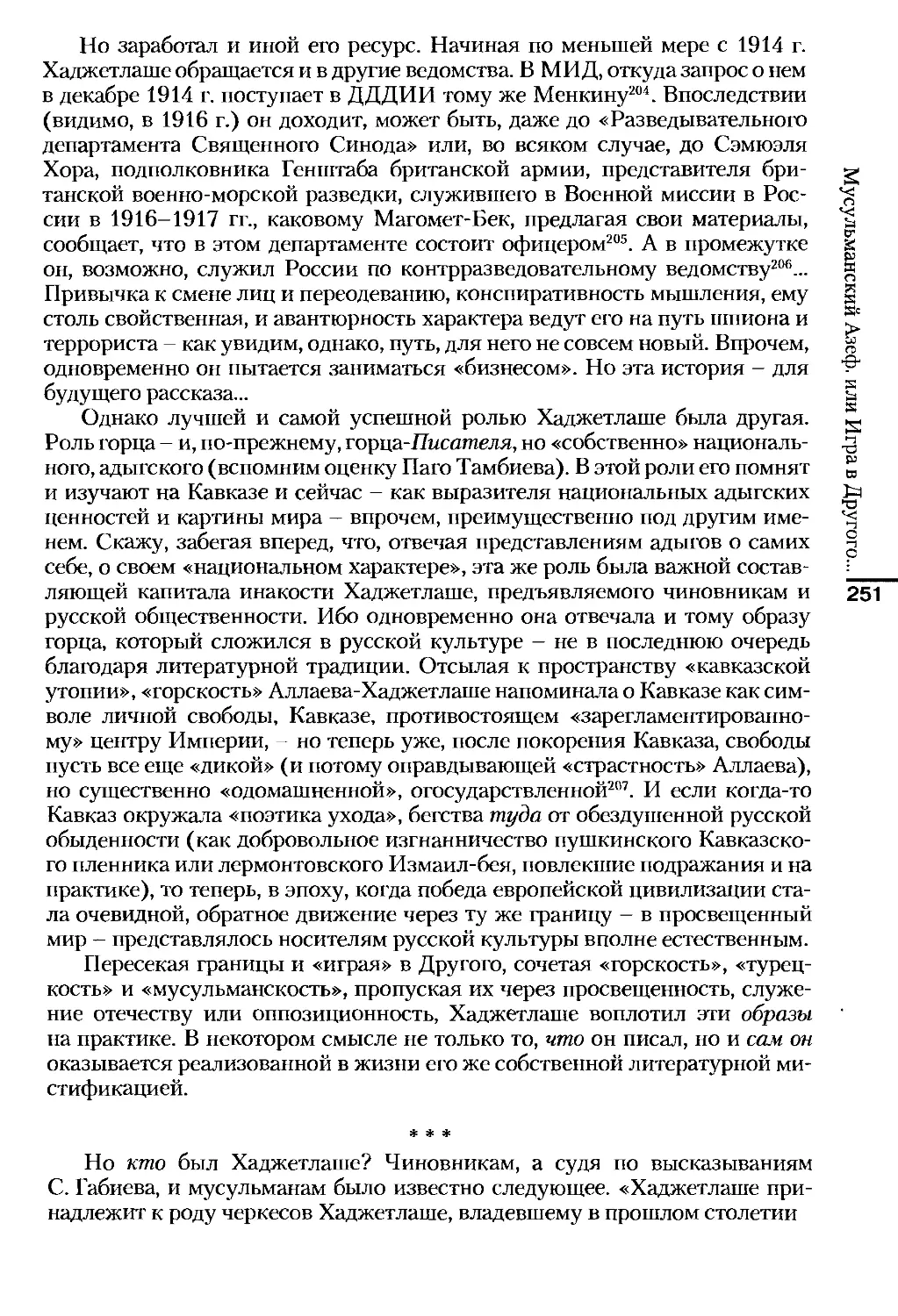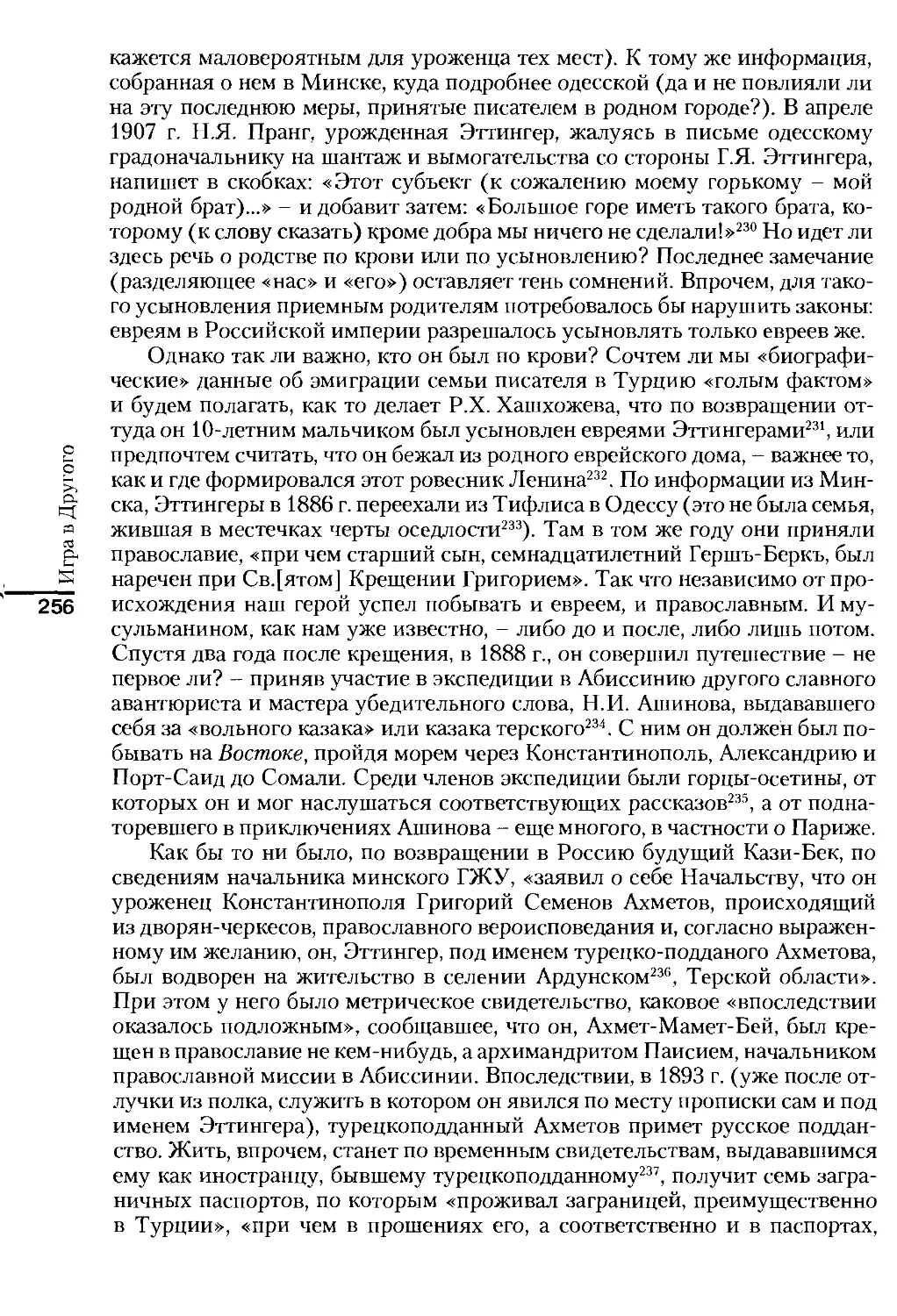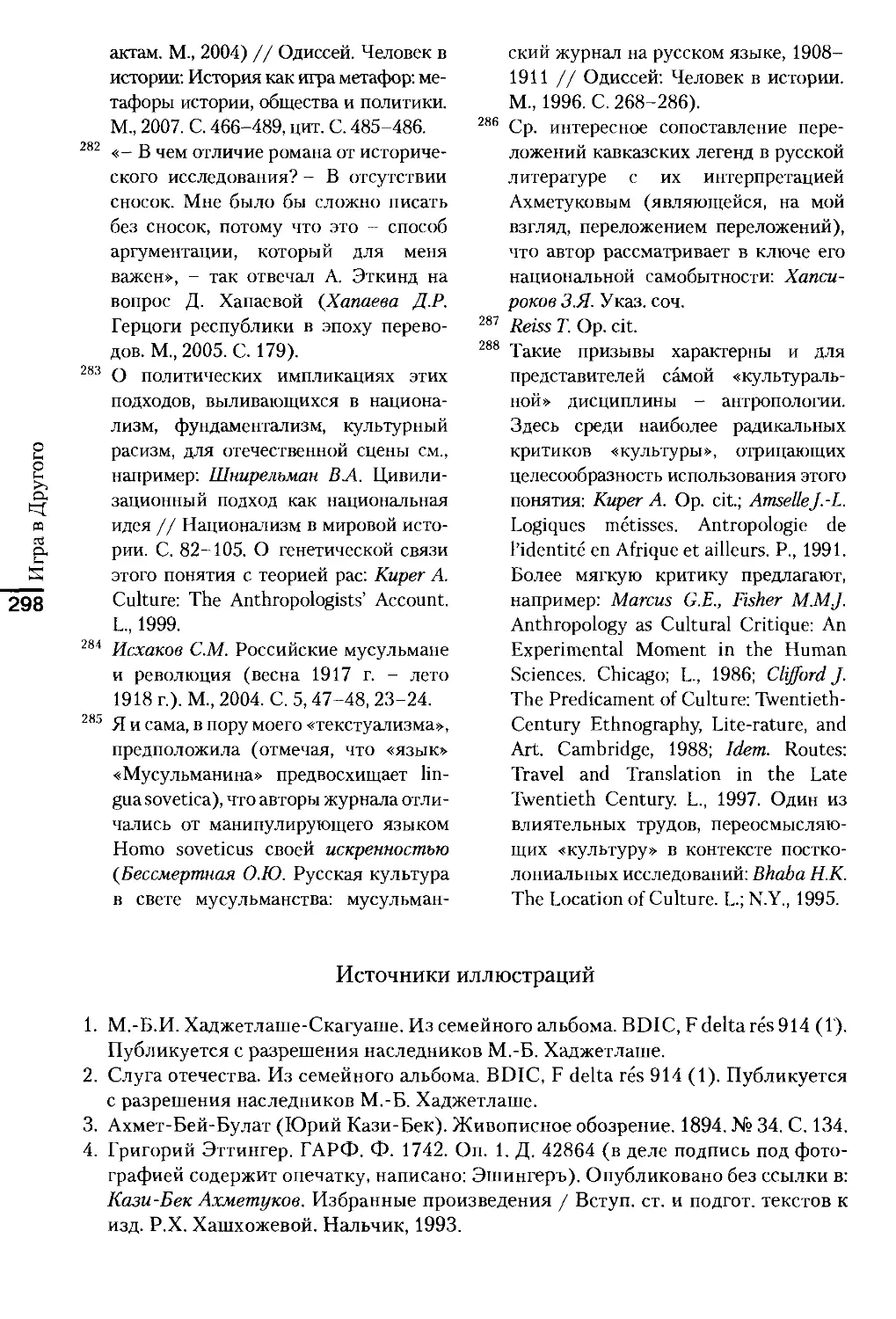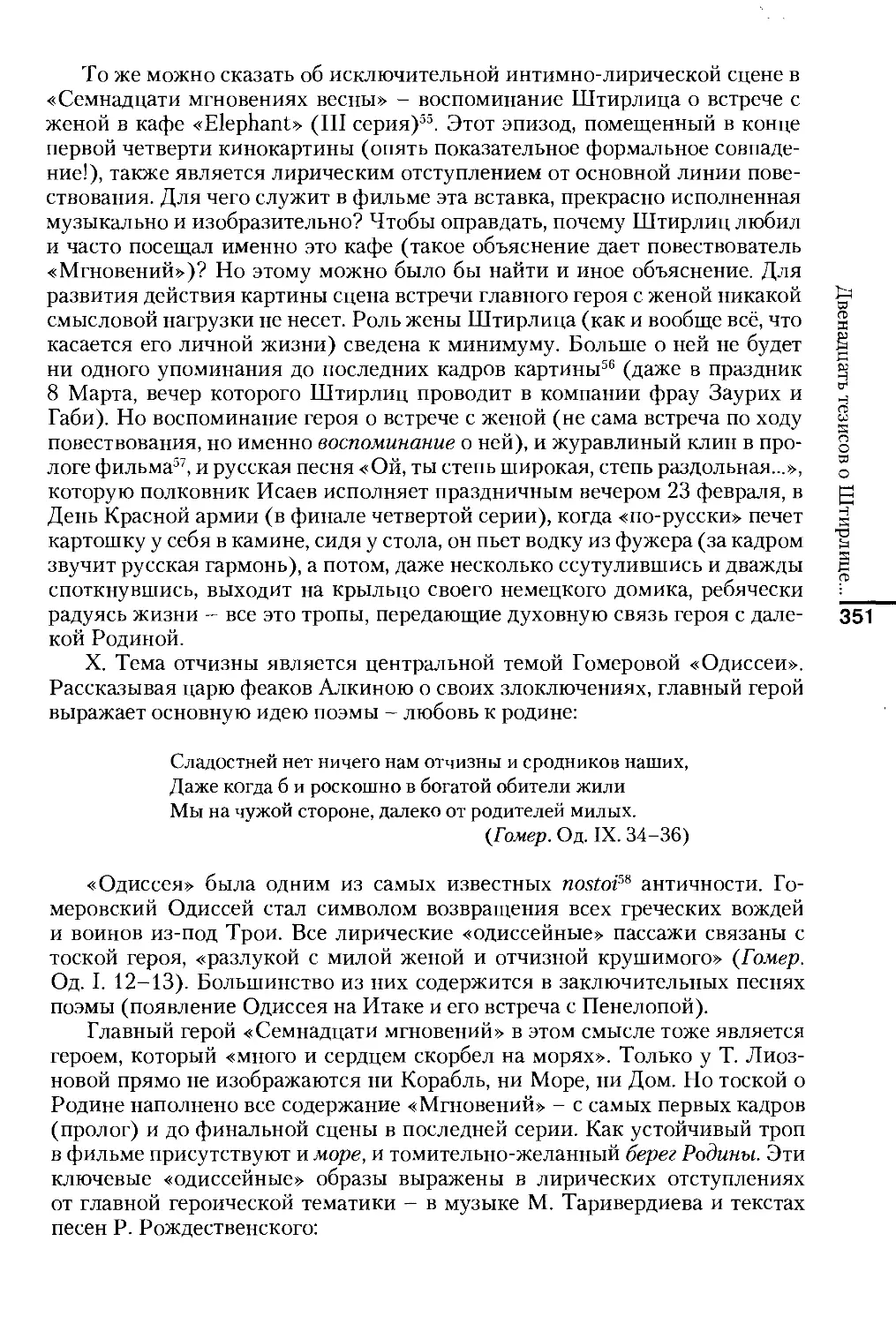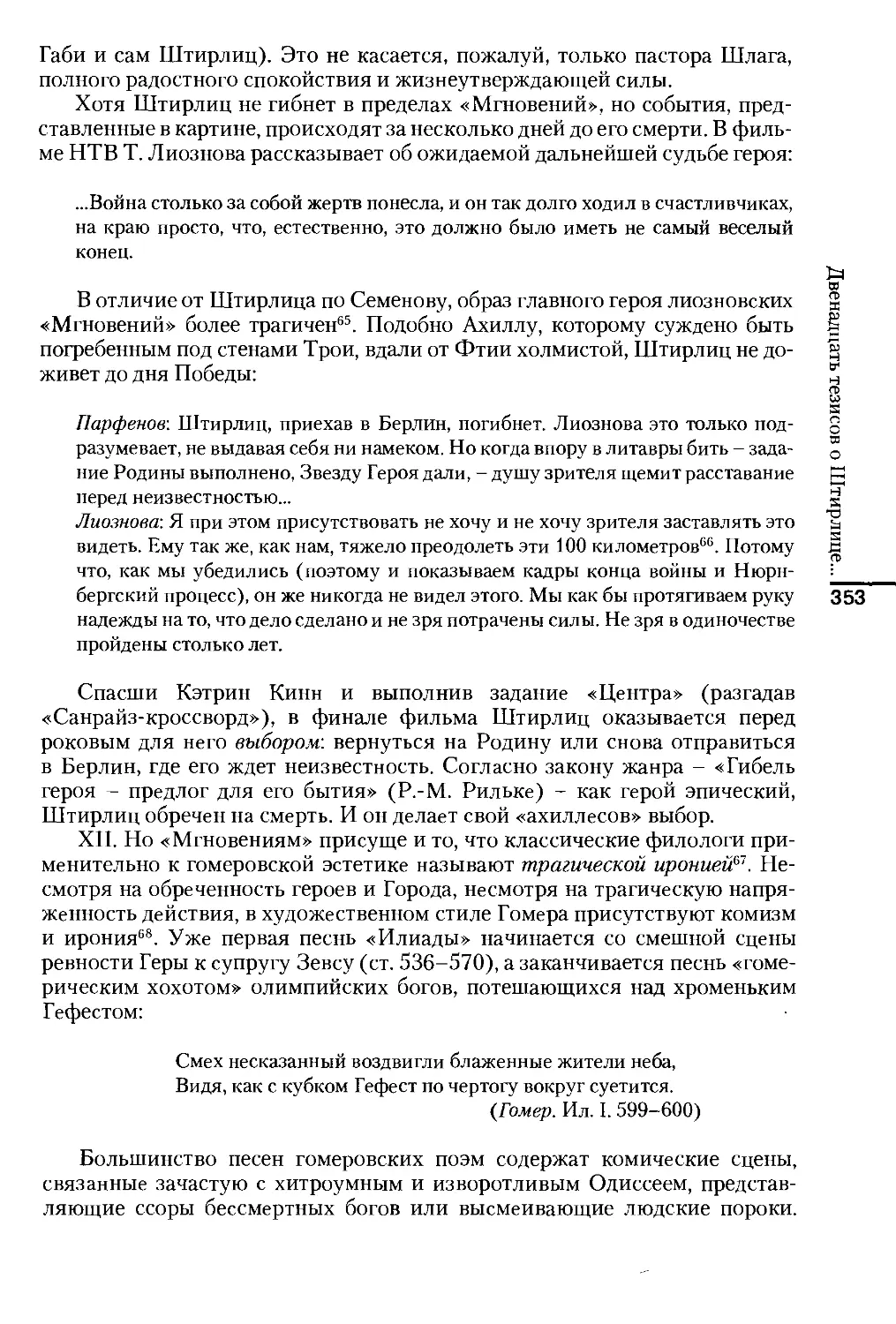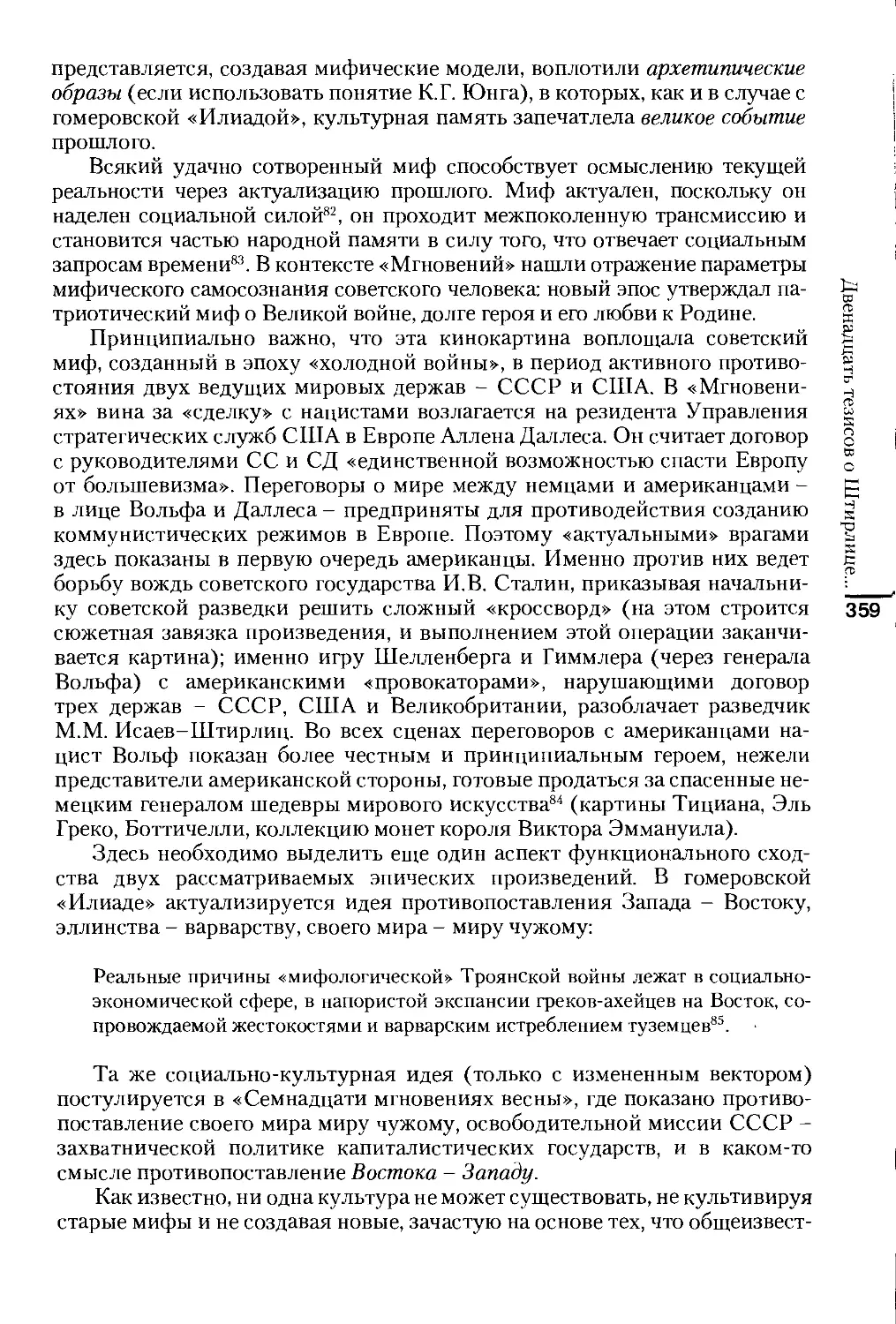Автор: Данилевский И.Н. Бойцов М.А.
Теги: всеобщая история история российского государства религия история история древней руси
ISBN: 978-5-7281-1151-1
Год: 2007
Текст
к
этот альманах.
Необычный поступок
неожиданный поворот судьбы
странное стечение
обстоятельств,
удивительный случай -
вот о каких казусах прошлого
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ
RUSSIAN STATE UNIVERSITY FOR THE HUMANITIES
RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES
INSTITUTE OF GENERAL HISTORY
CASUS
The individual
and unique in history
2007-2009
Almanac founded
by Yuri Bessmertny
Edited by
Mikhail Boitsov
and Igor Danilevsky
Managing editor
Olga Togoeva
MOSCOW 2012
КАЗУС
Индивидуальное
и уникальное в истории
2007-2009
Альманах основан
Юрием Бессмертным
Под редакцией
Михаила Бойцова
и Игоря Данилевского
Ответственный секретарь
Ольга Тогоева
МОСКВА 2012
УДК 94(08)
ББК 63.3(2)-7я43
К 14
В оформлении выпуска использована
акварель «Конкурсный проект здания Наркомтяжпрома
на Красной площади».
Архитекторы И.А. Фомин, П.А. Абросимов,
М.А. Минкус. 1934 г.
Воспроизводится по изданию:
Московскому метро 70 лет // World Art Музей. 2005. № 14
Рецензенты
кандидат исторических наук И.Л. Андреев
кандидат исторических наук Ю.П. Крылов
ISBN 978-5-7281-1151-1
© Коллектив авторов, 2012
© Российская академия наук, 2012
© Российский государственный
гуманитарный университет, 2012
Содержание Contents
От редакции 7 From the Editorial Board
Казусы Древней Руси Cases of the Old Rus’
Владимир Рынка «Летопись Аскольда»: Об источниковедческих мнимостях и казусах историографии 15 Vladimir Rychka “Askold Chronicle”: On Allegations of Sourceology and Cases of Historiography
Алексей Толочко Как была разрушена Десятинная церковь в Киеве? 28 Oleksij Tolochko How Was the Tithe Church in Kiev Destroyed?
Владимир Рудаков Время «Ч» в древнерус- ских произведениях о монголо-татарах 37 Vladimir Rudakov “H-hour” in the Ancient - Russian Works about Mongol-Tatars
Чужие или свои?
Strangers or not?
Александр Осипян
Vocatio Armenorum, или
Что случилось с половцами
в Галицкой Руси? 67
Татьяна Опарина
«Корыстное крещение».
Указ 1623 г. и следы
его реализации 99
Олег Будницкий
Евреи и ВЧК
(1917-1921)
Юрий Зарецкий
Кто такие кацкари?
Alexander Osipian
Vocatio Armenorum,
or What Happened with
the Cumans in Galician Rus’?
Tatiana Oparina
“The Conversion with Selfish
Ends”. The Law of the 1623
and Its Traces in Judge Practice
Oleg Budnitskij
Jews and the Cheka
124 (1917-1921)
Yuri Zaretsky
143 Who are Katskari?
Игра в Другого Playing the Other
Александр Чудинов Многоликий Жильбер Ромм Alexander Chudinov Multifaced Gilbert 179 Romme
Ольга Бессмертная Мусульманский Азеф, или Игра в Другого: Olga Bessmertnaya A “Muslim Azef”, or Playing the Other:
метаморфозы Магомет- Бека Хаджетлаше Metamorphoses 209 of Maghomet-Bek Hadjetlache
Совэпос Sovepos
Вадим Михайлин Смерть героя Vadim Mikhailin 303 The Death of a Hero
Александр Синицын Двенадцать тезисов о Штирлице, или Советский миф о «Троянском коне» Alexander Sinitsyn Twelve Theses about Stierlitz, or The Soviet Myth about 334 the “Trojan horse”
Summaries 369 Summaries
Наши авторы 380 Our authors
От редакции
Всемирный экономический кризис не миновал издательства, в котором
вышли последние выпуски «Казуса»: более того, там он начался раньше,
чем даже в Америке, отчего можно опасаться, что и завершится позже, чем
за океаном. Название нашего альманаха продолжает оправдываться: казу-
сы сопровождают его постоянно. Но можно сказать иначе: дав альманаху
такое название, мы тем самым как раз и обрекли его на сложную судьбу,
полную приключений: nomen est omen. Впрочем, к нелегкому будущему
своего начинания мы были готовы с самого начала. В очередной раз заин-
тригованные крутыми поворотами как отдельной тропинки «Казуса», так и
нашего всеобщего - широкого, но, разумеется, совершенно особого - пути,
мы решили временно порвать с одной из исконных традиций альманаха и
посвятить очередную - выходящую после вынужденного внешними обсто-
ятельствами перерыва - его тетрадку, всю целиком, одной-единственной
стране. Такого у нас еще не бывало: друзья «Казуса» знают, что в каждом
выпуске мы заботились куда больше о разноплановости тематики, нежели
о ее единообразии.
Однако избранная нами страна безусловно заслуживает пристального
внимания: сколько уже ее историю описывали на всевозможных языках -
то в общем, то в деталях, столько же раз представлялась она на особый
лад: то «ведущей», то «провинциальной», то банальной, то экзотической,
то понятной, то непостижимой, то захватывающей, то скучной, то привле-
кательной, то отталкивающей. Нам меньше всего хотелось бы выбирать
какую-либо одну из сторон таких оппозиций - как названных, так и любых
иных, которые читатель сам легко сможет выстроить по аналогии. Скорее
для «Казуса» мила одна характерная особенность этой страны, давно уже
отмеченная светлыми умами, - ее фантасмагоричность. Люди, институции
и события здесь сплошь и рядом оказываются по сути своей вовсе не теми,
чем они предстают внешне и чем их называют. Об этом повсеместном глу-
бинном расхождении между содержанием и формой все знают, но вслух
не говорят и даже очень обижаются, если кто-либо вдруг невзначай о нем
заикнется, пускай и в форме робкого вопроса. Вероятно, в данном случае
возобладала особая манера видения, при которой сознание привычно не
замечает бесспорных несоответствий, поскольку уже целые поколения
От редакции
отпущенное им время проводили и проводят «в ожидании Годо» посреди
бесконечных хороводов явлений, то призрачных, то грубо материальных,
но равно норовящих выдать себя за нечто иное, чем они есть. Не случайно
весь новый выпуск нашего альманаха оказался посвящен именно кажимо-
стям - может быть, и не самым впечатляющим, но характерным: мы при-
выкли видеть, например, исторический эпизод или персонаж одним, при
ближайшем рассмотрении он оказывается совсем другим, хотя сохраняет-
ся большая вероятность, что он был и вовсе каким-то третьим, а то и со-
вершенно четвертым. В мареве бесконечных несоответствий исторические
фигуры двоятся и троятся, оборачиваясь к нам несколькими непохожими
ликами сразу, одни этносы прикидываются совершенно другими, а герои
то ли сходят со своих пьедесталов, то ли поднимаются на чужие. Весь этот
столь подходящий для «Казуса» материал в изобилии поставляет история
той самой, избранной страны.
Страна эта, разумеется, наше родное отечество, предоставляющее воис-
тину необъятное поприще не только для исторических изысканий, но также
для историофилософских, философических и всяких иных, по большей ча-
сти, правда, почему-то невеселых, размышлений. На последующих страни-
цах она будет являться читателю в разных своих исторических ипостасях
и очертаниях, отчего мы надеемся избежать дипломатического скандала по
тому поводу, что не все разбираемые сюжеты топографически привязаны к
пространству, обведенному сегодняшними российскими границами.
8 Как и положено, рассказ ведется с начала - от времен почти былинных.
Называя первый раздел «Казусы Древней Руси», мы имели в виду отнюдь
не события, происходившие в давние века, а то, как складывался образ этих
давних веков в сегодняшней исторической памяти. Наш альманах из выпу-
ска в выпуск настаивает на тезисе самоочевидном, но почему-то до сих пор
далеко не у всех вызывающем понимание; историк в своих трудах вовсе не
отражает прошлое, он конструирует свой образ прошлого, руководству-
ясь, разумеется, не одним лишь собственным велением, а более или менее
жестко определенными профессиональными правилами. Впрочем, стро-
гость этих цеховых норм сама колеблется в зависимости от происходящих
исторических обстоятельств. Не надо, кстати, полагать, будто в недавнем
прошлом, «когда был порядок», эти нормы держались на высоте, и только
позже любую чушь начали выдавать за строгое историческое знание. Ведь
как раз в том самом - вроде бы солидно-академическом - вчерашнем про-
шлом нам авторитетно рассказывали, скажем, о народе росоманов, якобы
живших по реке Рось и давших имя Киевской державе. Здесь возникает
вопрос не только о том, до какой степени наш сегодняшний образ Древней
Руси все еще состоит из подобных мифологем, но, что не менее интересно,
и о том, во-первых, при каких обстоятельствах, из какого материала и с
помощью каких приемов создавались эти мифологемы, а во-вторых, по-
чему они приобретали высокий статус истин (или почти истин) в научном
сообществе при том, что их сомнительность была очевидна едва ли не с
первого сколько-нибудь профессионального взгляда?
Более того, уместно было бы спросить, не является ли вся нынешняя
академическая история Древней Руси конструктом, собранным нескольки-
ми поколениями историков, руководствовавшихся, при всем субъективно
честном поиске исторической правды, такими идеями, надеждами и опа-
сениями, которые сегодня уже никак нельзя признать обоснованными?
Сколько общепризнанных истин, вошедших в школьные учебники, обяза-
ны своей долгоживучестью лишь традиции, опирающейся на весьма сомни-
тельные толкования весьма темных мест из весьма смутных источников?
Столь общий вопрос на страницах «Казуса» можно разве что сформулиро-
вать, но, разумеется, никак не разрешить. Зато, скажем, анализ технологии,
позволившей сконструировать призрачный «народ росоманов» (вовсе не
вероломный - gens infida, - как обозвал его ревнивый германец Иордан,
а наверняка благородный во всех проявлениях), вполне мог бы стать те-
мой для статьи в «Казусе». Конечно, и помимо вероломно-благородных
росомонов-росоманов для нашего издания сюжетов хватает, что показыва-
ет первая же статья «древнерусского раздела». «Летопись Аскольда» (как,
скорее всего, и многое иное, относящееся к «Аскольдовой Руси») является,
похоже, в не меньшей степени изобретением советских и постсоветских
историков (руководствовавшихся, безусловно, самыми благородными на-
мерениями), нежели легендарные росоманы.
Пожалуй, казус с «Летописью Аскольда» нетипичен, поскольку руко-
творный характер конструирования исторического прошлого в нем виден
слишком отчетливо. Однако есть и куда менее броские пути порождения
историографических мифов. Так, нынешний историк вполне может не
понять своего средневекового коллегу, не уловить намека, адресованного
человеку ушедшей церковно-книжной культуры. Тогда метафорический
текст прочитывается как простодушно описательный, отчего рождается
его интерпретация, легко понятная человеку Нового времени, но далеко
уводящая от замысла средневекового автора. Яркие примеры такого ана-
хронического прочтения, порождения историографических призраков и
вторичной мифологизации прошлого, вызванные (как ни парадоксально)
именно избыточно рациональным взглядом историка, демонстрируются в
статьях, посвященных как хрестоматийной истории об обрушении сводов
Десятинной церкви при штурме Киева войсками Батыя, так и еще одной -
о странных «хронологических указаниях» в древнерусских произведениях,
посвященных Куликовской битве.
Второй раздел альманаха открывается статьей, повествующей о том,
«что случилось с половцами в Галицкой Руси», и потому послужившей
хорошим переходом от древнерусских сюжетов к новой теме. Тема эта -
различные аспекты «инородческого» состояния - странного, тоже порой
полупризрачного бытия на меже между относительно немногими «свои-
ми» и куда более многочисленными «чужими». Инородец-иноземец в
одних случаях пользуется такими привилегиями, о которых большинство
«местных» могут только мечтать, но в других, напротив, ему не позави-
дуешь. Несколько характерных опций «инородничества» представлены в
исследованиях наших авторов: это и своеобразная мимикрия, и готовность
любыми способами влиться в ряды преобладающего большинства или же,
совсем напротив, в революционном порыве перевернуть весь несправедли-
вый порядок. Есть даже вариант сознательного придумывания себе неко-
торой «особости» - такой, естественно, которая неприятностей не сулит, а,
даже напротив, для общего «я» оказывается вполне комфортной.
От редакции I о>
о I От редакции
В одном из прошлых выпусков мы представляли галерею исторических
портретов доносчиков, а в другом - еще более длинный ряд скандалистов.
Прошло время расширить наше собрание характерных типажей прошлого
(да, впрочем, и настоящего). Как точно обозначить нынешнее пополнение,
сразу и не придумаешь - лучше всего воспользоваться метким словом из
заголовка первой статьи раздела: они люди многоликие. При ближайшем
рассмотрении выясняется, что у каждого имеется сразу по нескольку весь-
ма различных идентичностей, причем в том, какая из них «подлинная», а
какие «ложные», путаются уже, кажется, и сами наши герои. На этой вы-
ставке представлены всего два портрета, зато так подробно выписанные, что
читатель сможет хорошенько рассмотреть все детали плащей, кинжалов и
прочих неизменных атрибутов людей столь сложного образа жизни. Хотя
вторую работу ее автор назвала «почти романом», на взгляд перепуганной
редакции тут не меньше подошло бы обозначение «почти монография», по-
скольку столь обширные исследования мы пока не публиковали: даже пси-
ходелическое повествование о драгоценных треножниках Доброго Мужа
Кэ заняло в свое время куда меньше страниц.
Перейти от трудных блужданий по не самым симпатичным лабиринтам
судеб людей многоликих к последнему разделу альманаха будет подобно
тому, как выбраться из сумрачной и липкой чащи на солнечный простор.
После неизбежной психологической борьбы с почти шизофренической
раздвоенностью (или даже растроенностью) сомнительных героев сколь
освежающим будет для читателя соприкоснуться с героями подлинными,
чьи характеры целостны, как и положено персонажам эпических сказаний.
Эпосы эти сложились, правда, совсем недавно: один - в годы первой пяти-
летки, второй - в пору брежневского строительства БАМа, но в их основе,
как настаивают авторы публикуемых исследований, лежат те же архетипи-
ческие мотивы, что и в эпосах древности.
Читатель, надеемся, будет опечален, не обнаружив ставший уже тради-
ционным заключительный теоретический раздел. Дело в том, что в соот-
ветствии с общим патриотическим настроем данного выпуска альманаха, а
также откликаясь на относительно свежие веяния, редакция погрузилась в
глубокие размышления по поводу совершенно новых теоретических осно-
ваний для «Казуса». Сколько можно озираться на занесенную к нам не-
ведомыми путями из подозрительных и, скорее всего, глубоко чуждых нам
краев и умов «микроисторию», сколько можно шакалить у закордонных
библиотек?! Давно уже пора выработать сугубо отечественное направле-
ние - «наноисторию», она будет не только несравненно эффективнее за-
рубежного аналога (что очевидно уже из самого названия), но и сможет,
надеемся, привлечь к себе государственные щедроты в количествах, доста-
точных, чтобы уберечь хотя бы одну группу скудно оплачиваемых истори-
ков вместе с их скромным альманахом от самых что ни на есть всемирных
экономических кризисов.
Казусы Древней Руси
Владимир Рычка
«ЛЕТОПИСЬ АСКОЛЬДА»:
ОБ ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКИХ
МНИМОСТЯХ И КАЗУСАХ
ИСТОРИОГРАФИИ’
Круг источников по ранней истории Киевской Руси давно и хорошо
известен историкам, и надеяться на его расширение, к сожалению, не при-
ходится. Между тем в последнее время на Украине не только в научно-
популярной и учебной, но и в специальной литературе нередко восторжен-
но цитируется «возрожденный» в 70-80-х годах XX в. М.Ю. Брайчевским
летописный памятник IX в. - так называемая «Летопись Аскольда». За-
крепление за этим текстом статуса солидного исторического источника
явилось закономерным следствием «рыбаковщины» - поощрявшегося в 15
позднем Советском Союзе волюнтаризма при создании исторических ре-
конструкций древнерусского прошлого.
Ни в коем случае не собираясь «пинать мертвого льва», хочу отметить,
что бывший официальный лидер советской русистики - академик АН
СССР, Герой Социалистического Труда Б.А. Рыбаков имел обыкновение,
помимо всего прочего, как можно сильнее удревнять начало летописания
на Руси. Его появление он относил к 60-м годам IX в., а создание Началь-
ного летописного свода - к 996/997 гг. В монографии «Древняя Русь: Ска-
зания. Былины. Летописи» (1963) Б.А. Рыбаков высказал предположение,
что в Никоновской летописи сохранились фрагменты некоего древнего
летописного свода, названного им «Летописью Аскольда»:
Речь идет о нескольких записях 867-889 гг., кратко сообщающих о делах «кня-
зя русского Осколда», княжившего в Киеве, ходившего походами на Царьград
и черноморские владения Византии, боровшегося со степными кочевника-
ми - печенегами и болгарами, подчинявшего соседние с Киевом славянские
племена Древлян и Уличей, возможно, противостоявшего норманнской агрес-
сии на Полоцк и Кривичей и, по-видимому, предоставившего право убежища
новгородцам, утесненным варягами. В самый разгар борьбы с печенегами и
варягами в 874-875 гг. киевский князь принимает предложение императора
Василия Македонянина о мире с империей и допускает проповедь епископа.
Впоследствии на Аскольдовой могиле была поставлена церковь Св. Николая.
‘Статья подготовлена при поддержке РГНФ, проект № 10-01-00426а.
ст> I Казусы Древней Руси
Это говорит о том, что сам Осколд, вероятно, был крещен... Киевские погодные
записи можно предположительно считать первой русской летописью князя
Осколда, начатой в год крещения руссов1.
Б.А. Рыбаков выделил в составе Никоновской летописи восемь отрыв-
ков, которые считал фрагментами «Летописи Аскольда», повествование
которой, по его мнению, охватывало чуть больше двух десятилетий от гипо-
тетического крещения руссов в 867 г. до гибели князя от рук(и) норманн(а)
(-ов? -а Олега?) в 882 г.
В 1975 г. М.Ю. Брайчевский задался вопросом: какие еще фрагменты
летописных свидетельств происходят из «Летописи Аскольда»? Отве-
том на него и стала предложенная им реконструкция. Впервые она была
опубликована на страницах популярного литературно-художественного
киевского журнала в 1988 г.2, а затем в виде вполне респектабельной по
виду научной монографии3, которая не так давно была частично перепеча-
тана (вместе с украинским переводом «Велесовой книги»!) в первом томе
обширной антологии под претенциозным названием «Тысяча лет украин-
ской общественно-политической мысли»4.
В процессе реконструкции «Летописи Аскольда» М.Ю. Брайчевский
пришел к выводу, что «некоторые отрывки из нее образовывали собой не
только древнейшую часть “Повести временных лет” и других летописных
кодексов; они были широко использованы книжниками Ярослава Мудрого
при написании эпизодов, не имеющих никакого отношения ко временам
Аскольда. Имеются два таких цикла: один из них называем “Ольговой ле-
гендой”, другой - “Владимировой”»5.
Вследствие «идеологической диверсии», проведенной книжниками
Ярослава, Аскольд, по мнению ученого, превратился из исконного киевля-
нина, представителя местного княжеского рода, в норманнского завоева-
теля и «боярина» Рюрика. Славные походы на Византию, совершенные
Аскольдом в 860,866 и 874 гг., а также заключенные им договоры с греками
были приписаны Олегу и Игорю. Крещение Аскольда вместе с так назы-
ваемой «Речью Философа» таким же грубым способом были вставлены в
повествование «Повести временных лет» о крещении Владимира Свято-
славича.
Столь решительная переоценка значения фигуры Аскольда в истории
Киевской Руси побуждает к подробному пересмотру и ревизии имеющихся
в распоряжении исследователей письменных источников. Свидетельства
последних об Аскольде объединяются вокруг следующих сюжетов: его по-
ход с русского севера и вокняжение в Киеве; поход или походы на Царьград
и, наконец, его гибель под мечами воинов Олега.
Помещенное в недатированной части «Повести временных лет» ле-
тописное «Сказание о призвании варягов» стало исходным пунктом для
исторических построений и интерпретаций старокиевскими книжниками
истории княжеской династии. Его возникновение было обусловлено, как
доказывают Е.А. Мельникова и В.Я. Петрухин, необходимостью объ-
яснить обстоятельства заключения «ряда», регулировавшего отношения
между Рюриком и родоплеменной знатью северорусской племенной кон-
федерации6. Оставляя в стороне вопрос об исторической достоверности
«Летопись Аскольда»
«Сказания», отмечу, что идейно и тематически оно открывает письменную
традицию известий об Аскольде и Дире. Как свидетельствует «Повесть
временных лет», после того как Рюрик утвердил свою власть над славяно-
кривичско-мерянским населением северной части Восточной Европы, в
его окружении неожиданно обнаружились
...2 мужа, не племени его, ни боярина, и та испроситася ко Царюграду с ро-
домъ своимъ. И поидоста по ДнЪпру, и идуче мимо и узрЪста на горЪ градок.
И упрошаста и рЪста: “Чий се градок?” Они же рЪша: “Была суть 3 братья, Кий,
Щекъ, Хоривъ, иже сд'Ьлаша градоко-сь, и изгибоша, и мы сЬдимъ родъ ихъ
платяче дань козаромъ”. Аскольдъ же и Диръ остаста въ градЪ семь, и многи
варяги съвокуписта, и начаста владКти польскою землею, Рюрику же княжащу
в НовЪгородЪ7.
Так впервые появляются на страницах летописного текста имена
Аскольда и Дира, разграничивая и одновременно объединяя историю
Киева и Новгорода. Это сообщение помещено в летописи под 862 г. - да-
той, которая, как в конечном счете и вся ранняя летописная хронология,
является весьма условной. В свое время А. А. Шахматов аргументированно
показал, что в Древнейшем летописном своде, который предшествовал
«Повести временных лет», ничего не говорилось о приходе откуда бы то ни
было Аскольда и Дира: их имена там не фиксировались, а появились лишь
в самой «Повести», т. е. в начале XII в., вследствие книжной обработки 17
местного киевского предания8. Откуда ее составители могли почерпнуть
сведения об обоих князьях, поныне доподлинно не установлено. Невы-
ясненной остается и этимология имен Аскольда (Оскольда) и Дира. «По-
весть временных лет» считает их норманнами. Такой взгляд на этническое
происхождение этой княжеской пары унаследовала и позднейшая исто-
риографическая традиция. В «Хронографах» XVI-XVII вв. Аскольд и Дир
выступают племянниками варяжского (sic!) князя Кия9. Польский хронист
XV в. Ян Длугош для обоснования исторических претензий Польши на
Киев напрямую отождествлял летописных киевских полян с поляками
и выводил родословие Аскольда от Кия, которого считал соответственно
польским князем-язычником10. Позже эту мысль развил М. Стрыйков-
ский, а вслед за ним теория о славянском происхождении Аскольда была
безоговорочно принята Феодосием Софоновичем и автором киевского
«Синопсиса». Замечу также, что и М.С. Грушевский считал вполне воз-
можным рассматривать Аскольда и Дира как потомков Кия11.
А.А. Куник, признавая имена обоих князей скандинавскими, сопо-
ставлял их с древнеисландским Hoskuldr и Dyri12. Львовский историк
Е. Партицкий полагал, что имя Аскольд соответствует скандинавскому
названию Askvald, возникшему из двух слов: ask - корабль и valdi - вла-
ститель13. Напротив, Д.И. Иловайский категорически возражал против
варяжского происхождения Аскольда и Дира. Он, в частности, утверждал:
«Если можно с чем сблизить имя Оскольда или Оскол ода, то уж никак не
со скандинавскими Хескульд и Аскель, а просто с нашей южно-русской
рекой Оскол. Что такое имя Оскол? Мы позволяем себе заподозрить в нем
слово сокол»14.
оо I Казусы Древней Руси
Историки XIX в. Г. Эверс и С.А. Гедеонов полагали, что Аскольд и Дир
были венграми (уграми), и именно потому место погребения Аскольда
было названо Угорским15. Вооруженным столкновением с воинственными
уграми объяснял происхождение названия этого урочища и В.А. Пархо-
менко: «Столкновение с уграми и место гибели Аскольда и его погребение
летопись недаром в согласии с народным преданием отметила названием
“Угорьское”. Победители угры поставили в Киеве своего князя, соединен-
ного летописным сводчиком с Аскольдом, - Дирда или Дира. Десятилетия
полтора-два спустя, около 903 907 гг. угр Дирд или Дир был свергнут род-
ственником прежнего киевского князя - Игорем при содействии норманн-
ского викинга Олега»16. По мнению В.А. Пархоменко, Аскольд появляется
в Киеве незадолго до освобождения последнего от хазарского владычества.
Историк колебался в вопросе о том, был ли Аскольд местным князем
или же Тмутараканским.
Защищая русскую этимологию имени Аскольд, Г.И. Магнер полагал,
что оно образовалось при помощи префикса о- от основы сколд и является
производным от зафиксированного в «Толковом словаре» В.И. Даля слова
«сколдыра, скалдыра - скряга, сколдырить - копить, скряжничать, прибе-
регать». Отсюда ученый и выводил значение этого имени - «оберегаемый»,
«сокрытый»17. По мнению А.П. Толочко, имена Аскольда и Дира были ско-
рее всего «реконструированы» летописцем, как и в случае с Кием, Щеком и
Хоривом, на основе современной ему киевской топонимии18.
Эта княжеская пара мне также представляется искусственной кон-
струкцией ученого монаха начала XII в. Ведь еще в середине XI в. «глу-
бина» историко-генеалогической памяти древнерусских книжников не
шла, как свидетельствуют слова киевского митрополита Илариона, далее
Игоря «Старого»19. Ретроспективное углубление генеалогических корней
княжеской династии, и в особенности воспроизведение порядка ее пре-
емственности от Рюрика до Игоря, имело принципиальное значение для
реконструкции древнерусской истории в летописании. Его применение
отвечало стремлению продемонстрировать единство княжеской династии.
Вот почему, по справедливому земечанию Е.А. Мельниковой, «объедине-
ние героев различных, не связанных между собой сказаний по генеалоги-
ческому принципу, изображение Рюрика первым и единственно законным
правителем на Руси, прародителем княжеской династии, требовало преоб-
разования других преданий и породило противоречия и несообразности в
повествовании»20. Не отрицая возможности того, что Аскольд и Дир были
историческими лицами, Саймон Франклин и Джонатан Шепард не прини-
мают на веру приведенный в летописи рассказ об их жизни и летописные
даты, полагая, что «составители “Повести временных лет” стремились вос-
полнить пробелы в своих сведениях, соединяя имена, взятые из различных
генеалогических историй и легенд, в более-менее непрерывную цепочку.
Сходную попытку заполнить пробел в исторической традиции можно на-
блюдать в Англосаксонской хронике, где прибытие принцев Кинрика и
Кердика отнесено задним числом к V в.»21.
Не исключено, что имя «Аскольд» было тусклым воспоминанием -
отголоском времен хазарского присутствия в Киеве. Небезынтересным в
этой связи представляется мнение канадского исследователя Юрия Кны-
ша, предложившего смелую, однако не лишенную оснований интерпре-
тацию слова «Аскольд» как иранского Аскол-т в значении «пограничные
начальники»22. В лексикон политической культуры Хазарского каганата
этот титул вошел как заимствование из среды тюркских степных империй.
Такое предположение представляется мне наиболее убедительным из
числа попыток объяснить семантику слов «Аскольд» или «Оскольдир».
Оно согласуется с летописной локализацией места погребения киевского
властителя на «горф, еже ся ныне зоветь Угорьское»23.
«Угорская гора» на южной окраине Киева получила свое название во-
все не потому, что во время миграции угры/венгры там «сташа вежами»,
в чем убеждает нас летописец. Не лишено оснований высказывавшееся в
литературе мнение, согласно которому в этом месте в древности распола-
гался гарнизон нанятых хазарами на военную службу венгров24. В связи с
этим понятной становится парадигма летописного повествования, по кото-
рому освобождение среднеднепровских славян от хазарского владычества
тесно увязывалось с фактом физического отстранения от власти Аскольда
и Дира новгородским завоевателем киевского наследия - варягом Олегом.
Что же представляла собой Аскольдова Русь? Была ли она государ-
ством в строгом понимании этого слова - с определенной территорией,
аппаратом власти и развитой письменностью?
По мнению М.Ю. Брайчевского, эпоха Аскольда в развитии Руси стала
определяющим рубежом:
Именно тогда завершается формирование древнерусского фео-дализма (здесь
и далее курсив мой. - В. Р.) и Древнерусского государства... Титул кагана, при-
нятый Аскольдом (?! - В. Р.), приравнивался к императорскому (царскому)
и был убедительным проявлением политической претенциозности киевского
властителя25.
Опираясь на известия арабских авторов ал-Истахри, Ибн-Хаукаля
и ал-Масуди, исследователь утверждал, что в середине - начале второй
половины IX в. (т. е. во времена Аскольда) в Восточной Европе уже
существовали три объединения восточнославянских племен - Куявия,
Славия и Арсания (Артания). Эти объединения локализуются соответ-
ственно в Среднем Поднепровье, Ладоге и Приазовье. Куявия - это и есть
Киевская Русь, государство Аскольда. В его состав входили, по мнению
историка, земли летописных полян, древлян, дреговичей и юго-западной
части северян (вместе с Черниговом). Однако «Повесть временных лет»
свидетельствует, что Аскольд и Дир владели только землей полян («поль-
скою землею»). Это подтверждается и сообщением Новгородской Первой
летописи младшего извода:
приидоста два Варяга и нарекостася князема: одиному 6Ъ имя Аскольдъ, а
другому Диръ; и бЪста княжаща в КиевЪ и владЪюща Полями (Полянской зем-
лею. - В. Р.); и бЪша ратни с Древляны и съ Улици26.
Только в поздней Никоновской летописи Аскольд изображается могу-
щественным правителем, подчинившим своей власти не только среднедне-
«Летопись Аскольда»
о I Казусы Древней Руси
провских полян, но и полочан («воеваша Асколд и Дир полочан и много зла
створиша»). Этот же источник под 864 г. упоминает и о гибели «от болгар»
Осколдова сына. Откуда такая осведомленность у северорусского летописца
XVI в.? Был ли в его распоряжении неизвестный нам ранний письменный
источник, который представлялся Б.А. Рыбакову «давно забытым, затерян-
ным еще в эпоху Киевской Руси древним листом (может быть, не известным
даже Нестору), всплывшим на свет из глубин московских архивов в связи
с грандиозной работой, которую предприняли русские историки, подготав-
ливая такие монументальные исторические труды, как Воскресенская лето-
пись, Никоновская летопись, Степенная книга, Лицевой свод и др.»27.
Блок статей Никоновской летописи «О князи рустемъ Осколде» и
«О пришествии Руси на Царьград» был заимствован составителем этого
исторического произведения из грандиозного по своему объему компиля-
тивного компендиума XVI в., известного в науке под названием «Русский
хронограф». В свою очередь, источниками последнего в том, что касалось
событий византийской истории IX в., была, как установлено исследования-
ми А.А. Шахматова, а позже Б.М. Клосса и О.В. Творогова, сокращенная
переработка «Хроники» Зонары - «Паралипомена», известная по руко-
писному сборнику начала XVI в. Соответственно, нет никаких тексто-
логических оснований считать блок выписок из «Хронографа», которым
пользовался составитель Никоновской летописи, отдельным завершенным
и самостоятельным летописным памятником - древнейшим протографом
«Повести временных лет».
Столь же неаргументированным, лишенным веских оснований пред-
ставляется постулируемый М.Ю. Брайчевским тезис о феодальном харак-
тере древнерусской государственности середины IX в. Вряд ли было бы
справедливо считать Аскольдову Русь государственным или хотя бы ран-
негосударственным образованием, поддерживавшим активные торговые и
политические связи с Хазарией, Болгарией, Византией, Грузией, Армени-
ей, закавказской Албанией и Багдадом. Строгий анализ археологических
материалов VIII - первой половины IX в. демонстрирует, как убедительно
показал Е.А. Шинаков, отсутствие в Среднем Поднепровье «четкой иерар-
хии городищ и особо крупных укрепленных и богатых центров, которые
можно было бы контаминировать с князем и дружиной, что не позволяет
говорить о сложении общеполянской княжеской власти, а вопрос о госу-
дарстве “ад-Дир” весьма спорен». По мнению исследователя, до середины
IX в. летописные поляне (или, перефразируя слова летописца, «иже и есть
Русь Аскольда») представляли собой «конгломерат земледельческих про-
тогородов этапа вождеств»28.
Среди аргументов, которые зачастую приводятся в научной литературе в
подтверждение существования в Среднем Поднепровье во времена Асколь-
да раннегосударственного объединения, едва ли не главным считается по-
ход руси под предводительством киевского князя на Константинополь.
Поскольку в этом походе усматривают, помимо прочего, повод к созданию
«Летописи Аскольда», следует рассмотреть данный сюжет детально.
Военный набег руси на Византию «Повесть временных лет» относит к
866 г. «Въ лЪто 6374 (866), - сообщает летописец, - иде Асколдъ и Диръ на
Греки, и прииде... и въ двою сотъ корабль Царьградъ оступиша»29.
Ратники, нужно отдать им должное, выбрали удачное время для на-
падения на византийскую столицу. Император ромеев Михаил находился
тогда в далеком военном походе. Оставшийся в Царьграде гарнизон не
имел достаточно сил для того, чтобы отразить превосходящие силы про-
тивника. Получив известие о вражеской осаде столицы, император по-
спешно вернулся и с большим трудом пробрался в город. Грекам казалось,
что поражение неизбежно. Теплилась одна надежда - на Божье заступни-
чество. Закрывшись в храме Святой Богородицы Влахернского монастыря,
император вместе с патриархом Фотием всю ночь творили молитвы. И они
были услышаны! Утром на море поднялась страшная буря, разметавшая,
словно щепки, вражеские парусники: «Безбожныхъ Руси корабля смяте, и
к берегу приверже, и изби я, яко мало их от таковыя бЪды избЪгнути и въ
свояси возъвратишася»30.
Описание похода Руси на Царьград, относимого здесь к июню 860 г.,
когда царствовал император Михаил, содержится и в так называемых до-
полнениях к «Хронике» Георгия Амартола, которые текстуально (кроме
первой фразы) совпадают с аналогичным описанием в «Повести времен-
ных лет»:
Царь же на Агаряны изыде воевать, Оорифаита в КостянтинЬ градГ оставивь.
Дошедшоу емоу Чърныа РЪкы глаголемы, и се абие вЪсть емоу епархъ посла,
яко Роусь на Костянтинь град идоу, Аскольд и Диръ, и тЬмь царь прочь поиде.
Роусь же, вноутрь Соуда вшедше, много оубиство христианомъ створиша, и
пришли бо бяхоу въ двоюстоу лодеи, Костянтинь градъ остоупишя. Царь же
дошед едва въ град вниде и съ патриархомъ Фотиемь к соущии церкви святыя
Богородица ВлахернЬ, и абие пакы всюнощноую молбоу створиша... Таче бо-
жествноую святыа Богородица ризоу с пЪсньми изнесша, в мори скоутью омо-
чивше. ТишинЬ же соущи и морю оукротившоуся, абие буря съ вЪтромъ въста
и влънамъ велиемъ въздвигшимся за собь, безбожных Роуси лодиа възмяте, и
ко берегоу привержени избиени, яко мало от них от таковыа бЪды избЪгноути
и въ своаси с побеждениемъ възратишася31.
Этот рассказ был перенесен в «Повесть временных лет» из так назы-
ваемого Начального летописного свода, куда, в свою очередь, он попал
через посредничество созданного на Руси «Хронографа по великому из-
ложению»32. В Новгородской первой летописи, где сохранились наслоения
Начальной летописи, поход Руси на Константинополь не датирован и его
предводители не названы по именам33. Не было имен Аскольда и Дира так-
же и в первоначальном греческом тексте византийской «Хроники» Георгия
Амартола, которой пользовались составители «Повести временных лет»
при создании летописной статьи 866 г.34 Они внесены в текст одной из
групп поздних списков «Хроники» из летописи через посредничество «Ле-
тописца Эллинского и Римского», по которому В.М. Истрин подготовил к
изданию окончание «Хроники» Георгия Амартола35.
Патриарх Фотий, ставший свидетелем осады Царьграда варварами «с
севера», также не знал имен их вождей. Ему Русь представлялась народом
«не славным», т. е. таким, которого ромеи и не считали за народ. До похода
на Византию он был «безвестный — но получивший имя от похода на нас,
«Летопись Аскольда» I см
м I Казусы Древней Руси
неприметный - но ставший значительным, неизменный и беспомощный -
но взошедший на вершину блеска и богатства»36.
Не приводит имена предводителей воинственных русов и составленная
при дворе Константина Багрянородного (между 945-959 гг.) византийская
хроника «Продолжателя Феофана», которая среди других событий, связан-
ных с жизнью и деятельностью Михаила III (842-867), также описывает
вторжение Руси в окрестности Константинополя: «Потом набег росов (это
скифское племя, необузданное и жестокое), которые опустошили ромей-
ские земли, сам Понт Евксинский предали огню и оцепили город (Михаил
в то время воевал с исмаилитами)»37.
Только «Повесть временных лет», пытаясь придать черты достовер-
ности летописному рассказу 866 г., а главное - подтвердить легитимность
и древность киевской княжеской династии, утверждает, что этот поход
Руси на Византию был совершен под предводительством Аскольда и Дира.
Д.С. Лихачев, комментируя статью «Повести временных лет» 866 г., вы-
сказал предположение, что имена Аскольда и Дира были вставлены в лето-
писный текст из греческого перевода «Хроники» Георгия Амартола пере-
писчиком или же русским переводчиком, воспользовавшимся каким-то
другим источником. Им, по мнению исследователя, могло быть народное
сказание38. Однако на основе анализа словоупотребления русского перево-
да «Хроники», скрупулезно проведенного Н.Н. Дурново, выясняется, что
слов, которые «могут указывать на русскую национальность переводчика,
ничтожное количество по сравнению с объемом всего словаря перевода, в
котором насчитывается 6800 слов». Исследователь пришел к выводу, что
«русский переводчик работал над переводом Хроники в сотрудничестве с
южным славянином в XI в.»39. Не этим ли обстоятельством объясняются
болгарские и венгерские (паннонские) мотивы в биографии Аскольда?
В Никоновской летописи поход Аскольда и Дира на Константинополь
упоминается четыре раза. Этот блок известий детально проанализирован
О.В. Твороговым, который текстологически обосновал, что в первых двух
случаях рассказы были заимствованы из упоминавшегося уже «Русского
Хронографа» и дополнены летописным источником, близким к Софий-
ской первой летописи. Источниками же сообщения о походе Аскольда и
Дира, помещенного в Никоновской летописи под 866 г. и в недатированной
статье «О князе русском Аскольде», была сокращенная переработка «Хро-
ники» Зонары, где имена князей, отсутствовавшие в ее первоисточнике,
были добавлены переписчиком40.
В реконструированной М.Ю. Брайчевским «Летописи Аскольда» ки-
евскому князю приписывается, помимо прочего, совершение четырех по-
ходов на Константинополь.
Первый из них - триумфальный - приходится на 860 г. Эта дата яв-
ляется первым годом «Русской (Русько!) эры» - особого летосчисления,
которое, по мнению историка, было введено автором/составителем «Ле-
тописи Аскольда». Реконструированная М.Ю. Брайчевским статья, пове-
ствующая о походе Аскольда на Царьград и его последующем крещении,
представляет собой контаминацию различных по объему известных фраг-
ментов «Повести временных лет». Открывается она первым предложением
статьи 866 г. («Иде Аскольдъ и Диръ на Греки»), сразу за которым вставлен
фрагмент статьи 907 г. о византийском походе Олега в той ее части, где речь
идет о заключении мира с греками и получении контрибуции; далее сле-
дует большой отрывок из статьи 986 г., рассказывающей о «выборе веры»
Владимиром, включающий речь «Философа» (Кирилла).
При этом М.Ю. Брайчевский не дает текстологического объяснения,
чем вызваны столь радикальные перемещения весьма значительного по
своему объему текста в «Повести временных лет» - цельном по своему за-
мыслу и идейному наполнению летописном памятнике начала XII в.
В распоряжении современной науки нет надежных источников, на
основании которых можно было бы раскрыть, говоря словами М.Ю. Брай-
чевского, «заговор молчания» и убедительно аргументировать обращение
Аскольда в христианство, крещение им всей Руси и учреждение здесь в
60-х годах IX в. митрополичьей кафедры. Эти гипотетические построе-
ния основаны на давней историографической традиции, которая тесно
объединила военный поход Руси под предводительством Аскольда на Кон-
стантинополь с последующим так называемым Аскольдовым крещением
Руси. Данная традиция, в свою очередь, основывается главным образом на
сообщении статьи Никоновской летописи «О князе русском Осколде», в
которой поход Аскольда и Дира «на Греки» представлен в качестве непо-
средственной причины последующего крещения потерпевших поражение
русов. Однако ныне установлено, что в первоисточнике этой статьи - «Хро-
нике» Зонары - никакой связи между поражением росов в византийском
походе 860 г. и их крещением при императоре Василии Македонянине и
патриархе Игнатии не существовало41. Между тем принято считать, что
именно эта акция описана в «Окружном послании» патриарха Фотия:
И не только этот народ (болгарский. - В. Р.) переменил прежнее нечестие на
веру во Христа, но и даже сам ставший для многих предметом многократных
толков и всех оставляющий позади в жестокости и кровожадности, тот самый
так называемый [народ] Рос, те самые, кто, поработив [живших] окрест них и
оттого чрезмерно возгордившись, - подняли руки на саму Ромейскую держа-
ву! Но однако ныне и они переменили языческую и безбожную веру, в которой
пребывали прежде, на чистую и неподдельную религию христиан, сами себя
охотно поставив в ряд подданных и гостеприимцев вместо недавнего разбоя и
великого дерзновения против нас. И при этом столь воспламенило их страстное
влечение и рвение к вере - вновь восклицает Павел: «Благословен Бог во веки!»
(2. Кор. И: 31; 1: 3; Еф. 1: 3), - что приняли они у себя епископа и пастыря и с
великим усердием и старанием предаются христианским обрядам42.
О крещении Руси в IX в. писал несколько позже и император Констан-
тин VII Багрянородный в жизнеописании своего деда Василия I Македо-
нянина:
Но и народ россов, неодолимейший и безбожнейший, он (император Васи-
лий. - В. Р.), склонив к соглашению обильными подношениями золота, сере-
бра и шелковых одеяний и заключив с ними мирный договор, убедил также
приобщиться к спасительному крещению и уговорил принять получившего
рукоположение от патриарха Игнатия архиепископа43.
«Летопись Аскольда» I см
£ I Казусы Древней Руси
Следует обратить внимание на то обстоятельство, что имя Аскольда в
этих текстах также ни разу не упоминается, а сама Русь к Среднему По-
днепровью прямо не привязывается. Историки механически совместили
сообщение «Повести временных лет» о походе Аскольда на греков с ви-
зантийскими описаниями крещения Руси, считая ее, конечно же, Киевской.
Между тем следы изначальной Руси обнаруживаются не только на
Новгородском севере и Киевском юге. На основе анализа сообщений ви-
зантийских и арабских средневековых авторов некоторые исследователи
локализуют присутствие Руси в IX в. на Таманском полуострове с центром
в Тмутаракани. Гарнизон этой хорошо укрепленной крепости составляли
русы. Именно отсюда они отправлялись в военные походы против врагов
своего политического союзника Хазарии - каспийских мусульман и визан-
тийцев. В 860 г. «русы, живущие вблизи Тавра», совершили победоносный
поход на Константинополь44. Именно после этого похода они выступают
как новая, вполне самодостаточная историческая сила.
Подобной точки зрения придерживается также известный французский
исследователь Жан-Пьер Ариньйон. Проанализировав текстологические
особенности гомилий патриарха Фотия, он пришел к выводу, согласно
которому «русы, напавшие на Константинополь 18 июня 860 г., ни в коем
случае не приходят из Древнерусского государства, уже основанного на
“пути из Варяг в Греки”. Эти русы являются членами варяго-славянского
племени, которое совершило едва ли не последнее свое нападение и подо-
шло к столице Византии после длительных и далеких странствий. После
неудачи этого похода русы возвращаются туда, откуда они отплывали, то
есть в Тавриду-Хазарию, где миссия Константина-Кирилла сразу же по-
спешила обратить их в христианство»45. Результатом чего и явилось знаме-
нитое «Фотиево крещение» какой-то части русов.
Таким образом, в свете имеющихся в нашем распоряжении источ-
ников «Аскольдово крещение» Руси оказывается мнимой реальностью,
историографическим мифом. Никаких воспоминаний об этом событии не
оставили такие блестящие для своего времени эрудиты-интеллектуалы,
как митрополит Иларион, Яков Мних и другие книжники-историографы
из окружения Ярослава Мудрого. Вот почему в «Слове о законе и благо-
дати» митрополита Илариона мы не найдем ни одного слова об Аскольде
и крещении Киевской Руси в 60-х годах IX в. А ведь такой прецедент имел
бы большое значение для обоснования идеи священной и царственной го-
сударственности, создания сонма собственных святых.
Второй поход Аскольда на Царьград в изложении «Летописи Аскольда»
текстуально соответствует статье «О пришествии агарянъ на Царьградъ»
Никоновской летописи:
Множество съвкупившеся агарянъ прихождаху на Царьградъ и сия множицею
творяще. Слышавше же киевстии князи Асколдъ и Диръ идоша на Царьградъ
и много зла сътвориша46.
М.Ю. Брайчевский, относя этот поход к 863 г., ограничился в пред-
ложенной им реконструкции лишь простым указанием на достоверность
этого эпизода. Недостающие фрагменты текста он щедро восполнил
дополнениями о жизни и деятельности Аскольда, заимствованными из
статьи 945 г. «Повести временных лет», повествующей о заключении кня-
зем Игорем мирного договора с греками47; статьи 989 г., сообщающей о
прибытии ко двору князя Владимира Святославича византийских зодчих
(«мастеры от Грекъ»)48; а также статьи 986 г., где содержится упоминание
о посещении Киева послами «от папежа»49.
Подавляющее большинство статей «Летописи Аскольда» полностью
текстуально совпадает с соответствующими статьями, во-первых, «По-
вести временных лет» и, во-вторых, Никоновской летописи. Например,
статья 864 г. «Летописи Аскольда» повторяет статью 858 г. «Повести вре-
менных лет»; статья 865 г. - статью 898 г. «Повести»; статья 874 г. - статью
912 г. «Повести».
Описание третьего похода Аскольда на греков в реконструированном
М.Ю. Брайчевским «источнике» хронологически и текстуально соответ-
ствует статье 866 г. «Повести временных лет». Четвертый поход согласно
«Летописи Аскольда» приходится на 974 г. Его пересказ воспроизводится
по известному сообщению «Повести временных лет» под 912 г. об отправке
князем Олегом своих послов в Константинополь. При этом исторические
источники, референции и библейские аллюзии, которые определяют идей-
ное содержание этих известий, остались нераскрытыми.
В целом предпринятая ученым попытка реконструкции гипотетически
древнейшей русской летописи оказалась курьезом. «Летопись Аскольда»
не содержит самостоятельных известий, отличных от других известных
нам летописных текстов. Исключение составляют разве что несколько сю-
жетов, в которых речь идет о крещении при участии Аскольда печенежских
ханов Мстигая и Кучуга, а также статьи 24 г. по летосчислению загадочной
«Русской эры» следующего мистического содержания: «Завершился Боль-
шой круг...»
И правда, «все возвращается на круги своя». На мой взгляд, эти
слова являются хорошим эпилогом ко всему реконструированному про-
изведению, которое лишь создает иллюзию источниковедческой реаль-
ности. Называя «Летопись Аскольда» реальностью, данной нам в исто-
риографических ощущениях, я тем не менее считаю его ярким памятником
общественно-политической мысли, но не IX, а XX в. и, добавлю, смелым
вызовом талантливого киевского ученого советскому официозу в науке.
«Летопись Аскольда» 1см
1 Рыбаков БЛ. Древняя Русь: Сказания.
Былины. Летописи. М., 1963. С. 172.
2 Брайчевський М. Вщроджена пам’ятка
дев’ятого столптя // Кшв. 1988. № 2.
С. 146-152.
3 Брайчевський М.Ю. Лпопис Аскольда.
Кшв, 2001.
4 Тисяча рок1в украшсько! сусшльно-
полпично! думки: У 9 т. Кшв, 2001. Т. 1:
X-XV ст. / Передм. О. Слшушко,
В. Яременко; упор. прим. О. Слшушко.
С. 136-170.
3 Тисяча роюв украшсько! сустльно-
полпично! думки. Т. 1. С. 141.
6 Мельникова ЕЛ., Петрухин ВЯ. «Ряд»
легенды о призвании варягов в контек-
сте раннесредневековой дипломатии //
Древнейшие государства на территории
О) I Казусы Древней Руси
СССР. 1990. М„ 1991. С. 219-229;
Мельникова Е.А., Петрухин В.Я. Леген-
да о «призвании варягов» и становле-
ние древнерусской историографии //
Вопросы истории. 1995. № 2. С. 44-57.
7 Лаврентьевская летопись. Вып. 1:
Повесть временных лет // Полное
собрание русских летописей (далее -
ПСРЛ). Л., 1926. Стб. 20-21.
8 Шахматов А.А. Разыскания о древней-
ших русских летописных сводах. СПб.,
1908. С. 320-323.
9 См.: Изборник славянских и русских
сочинений и статей, внесенных в
Хронографы русской редакции / Собр.
и изд. А. Попов. М., 1869. С. 136.
10 Флоря Б.Н. Русь и русские в историко-
политической концепции Яна Длу-
гоша // Славяне и их соседи. Этно-
психологические стереотипы в средние
века. М., 1990. С. 16-28.
11 См.: Грушевський М.С. IcTopia Украши-
Pyci: В И т., 12 кн. Т. 1: До початку
XI вша. Кшв, 1991. С. 407-408.
12 Куник А., Розен В. Известия ал-Бекри
и других авторов о Руси и славянах.
СПб., 1878. Вып. 2. Ср.: Петрухин В.Я.
Комментарий // Ловмяньский X. Русь
и норманны. М., 1985. С. 271.
13 Партицький О. Скандинавщина в
давшй Pyci. Льв1в, 1887. С. 22.
14 Иловайский Д.И. История России.
Начало Руси. (Разыскания о начале
Руси. Вместо введения в русскую
историю). М., 1996. С. 107.
15 Эверс Г. Предварительные критические
исследования для российской истории.
М., 1825. Кн. 2. С. 216-219; Гедеонов С.
Варяги и Русь. СПб., 1876. С. 233.
16 Пархоменко В.А. К вопросу о хроно-
логии и обстоятельствах жизни лето-
писного Олега // Известия Отделения
русского языка и словесности им-
ператорской АН. 1914. Т. 19. Кн. 1.
С. 230-231.
17 Магнер Г.1. Русько-угорський союз
IX ст. у св1тл! л!топис1в // УкраТпський
1сторичний журнал. 1969. № 7. С. 80.
18 Толочко О. Замп ки з вторично! топогра-
фы домонгольського Киева // Кшвська
Старовина. 2000. № 5. С. 144-157.
19 «Слово о законе и благодати» Илари-
она / Изд. А.М. Молдован. Киев, 1984.
С. 91.
20 Мельникова Е.А. Устная традиция в
Повести временных лет: К вопросу о
типах устных преданий // Восточная
Европа в исторической ретроспективе:
К 80-летию В.Т. Пашуто. М., 1999.
С. 164.
21 Франклин С., Шепард Д. Начало Руси:
750-1200. СПб., 2000. С. 93.
22 Книш Ю. Таемниця початково! Pyci
в Киев!. BiHHiner, 1991. С. 10-13.
Возможно, имя Аскольд являлось все же
не собственным, а нарицательным - от
арабского Алькальд («аль-кади») - су-
дья, староста общины, выполнявший
обязанности судьи.
23 Лаврентьевская летопись. Вып. 1: По-
весть временных лет. Стб. 23.
24 Франклин С., Шепард Д. Указ. соч.
С. 146. О существовании здесь уже в
IX в. значительного поселения свиде-
тельствуют находки кладов арабских
монет, выявленных археологами в
районе летописных села Берестова и
урочища Угорського. (См.: Толочко П.П.
1сторична топограф!я стародавнього
Киева. Кшв, 1972. С. 73.)
25 Брайчевський М.Ю. Утвердження хрис-
тианства на Pyci. Кшв, 1998. С. 38, 40.
26 Новгородская первая летопись стар-
шего и младшего изводов / Под ред. и
с предисл. А.Н. Насонова. М.; Л., 1950.
С. 106.
27 Рыбаков БА. Указ. соч. С. 161.
№ Шинаков Е.А. Образование Древне-
русского государства: Сравнительно-
исторический аспект. Брянск, 2002.
С. 109.
29 Лаврентьевская летопись. Вып. 1: По-
весть временных лет. Стб. 21.
30 Там же. Стб. 21-22.
31 Истрин В.М. Книгы временьныя и образ-
ный Георгия Мниха. Хроника Георгия
Амартола в древнем славянорусском
переводе: Текст, исследование и сло-
варь. Т. 1: Текст. Пт., 1920 [Репринтное
издание: Die Chronik des Georgios
Hamartolos. Munchen, 1972]. C. 511.
32 Творогов O.M. Повесть временных лет и
Хронограф по великому изложению //
Труды Отдела древнерусской литера-
туры Института русской литературы
(Пушкинский Дом) АН СССР. Л., 1974.
Т. 28. С. 19; Творогов О.М. Сколько раз
ходили на Константинополь Аскольд и
Дир? // Славяноведение.1992. № 2. С. 55.
33 См.: Новгородская первая летопись
старшего и младшего изводов. С. 105.
34 Тернавский Ф. Изучение византийской
истории и ее тенденциозное при-
ложение в Древней Руси. Киев, 1875.
С. 108-109.
35 Творогов О.В. Древнерусские хроногра-
фы. Л., 1975. С. 147-159.
36 Цит. по: Кузенков П.В. Поход 860 г. на
Константинополь и первое крещение
Руси в средневековых письменных ис-
точниках // Древнейшие государства
Восточной Европы. 2000 г.: Проблемы
источниковедения. М., 2003. С. 47, 57.
Ср.: Грушевський М. Вшмки з джерел
до icTopii Украши-Pyci (до половини
XI вша). Льв1в, 1895. XII. С. 23-24;
Mango С. The Homilies of Photius
Patriarch of Constantinople. Cambridge,
Mass., 1958 (Dumbarton Oaks Studies.
Vol. 3). P. 83-84.
37 Продолжатель Феофана. Жизнеописа-
ния византийских царей. СПб., 1992.
С. 84.
38 Лихачев Д. С. Комментарии // Повесть
временных лет / Под ред. и с предисл.
В.П. Адриановой-Перетц: В 2 ч. М.; Л.,
1950. Ч. 2. С. 247.
39 Дурново Н. К вопросу о национально-
сти славянского переводчика Хроники
Георгия Амартола // Slavia. 1925.
Roc. 4. S. 3. S. 459.
40 Творогов О.В. Сколько раз ходили на
Константинополь Аскольд и Дир?
С. 58-59.
41 Там же. С. 59.
42 Цит. по: Кузенков П.В. Указ. соч. С. 73,
75. Ср.: Трушевсъкий М. Вшмки з дже-
рел... С. 34.
43 Кузенков П.В. Указ. соч. С. 125-126. Ср.:
Грушевський М. Вшмки з джерел... С. 61.
44 См.: Bogachek (Goldelman)М.О диархии
в Древней Руси (IX-X вв.) //Jews and
Slavs. 1995. Vol. 3. P. 77.
45 Артьйон Ж.-П. Дипломатичш зв’язки
м!ж Рязанткю та Руссю з 860 по 1043 р. //
Хрошка-2000: Украшський культуроло-
пчний альманах. 1995. Вип. 2-3. С. 31.
46 Патриаршая или Никоновская лето-
пись // ПСРЛ. Т. 9. С. 8.
47 Ср.: Лаврентьевская летопись. Вып. 1:
Повесть временных лет. Стб. 46-52.
48 Там же. Стб. 121-122.
49 Там же. Стб. 85.
«Летопись Аскольда» I см
Алексей Толочко
КАК БЫЛА РАЗРУШЕНА
ДЕСЯТИННАЯ ЦЕРКОВЬ
В КИЕВЕ?*
co I Казусы Древней Руси
История домонгольской Руси может существовать как научная дис-
циплина только при негласном принятии одного постулата: единичные
известия суть осколки некогда массовых явлений. Приводя факт, ссылаясь
на явление, указывая на рукопись, мы предполагаем, что за ними стоят
десятки таких же, но не сохранившихся до нашего времени свидетельств.
Иными словами, казус здесь равнозначен правилу. Этот секрет Полиши-
неля, впрочем, приводит и к некоторым трудностям, ведь чрезвычайно
тяжело отделять единичное от массового: любое событие может быть рас-
смотрено и как редкостное, и как обыденное. Это, однако, и удобство: при
необходимости можно провозглашать массовое уникальным.
Об уникальном событии, которое на поверку оказывается не таким уж
и редкостным, здесь и пойдет речь.
Осада Киева монголами в декабре 1240 г., его оборона и падение
представляют собой одну из наиболее ярких страниц древнерусской
истории. Особый трагизм описанию несомненно придает его финальная
сцена: отступая, последние защитники города затворились в Десятин-
ной церкви; своды древней церкви не выдержали тяжести людей и их
скарба и рухнули. Вот как описан этот хрестоматийно известный эпизод
в летописи:
Людем же. оузбЪгшимъ и на црквь. и на комаръ црквныд и с товары своими,
w тагости повалишасА с ними стЬны црквныл. и пригатъ быс грая сице воими
(Ипат. 785)1.
Никто из историков не сомневался в достоверности описанного, и эпи-
зод оказался растиражирован бесчисленными общими очерками истории
Руси, вошел в специальные труды и популярные изложения, стал частью
коллективной памяти как своего рода славянские Фермопилы2. Однако
попытки исследователей представить себе действительный сценарий
произошедшего наталкивались на трудности. Причину такого необычного
’Статья подготовлена при поддержке РГНФ, проект № 10-01-00426а.
явления (падения церкви под тяжестью людских тел) искали в архитектур-
ных особенностях Десятинной церкви. После раскопок храма В.Д. Ми-
леевым в начале XX в., казалось, появились основания предполагать, что
причиной падения церковного здания могли стать ошибки при закладке
его фундаментов. Раскопками были обнаружены деревянные конструк-
ции (в виде продольных и поперечных лежней), на которых, собственно,
и покоились основания каменных фундаментов. В момент раскопок такое
строительное решение казалось уникальным, характерным именно для
Десятинной церкви и только для нее. Причины, побудившие строителей
прибегнуть к столь необычному способу возведения фундаментов, пред-
полагались разные: либо неопытность местных зодчих, возводивших свой
первый каменный храм (Ф.И. Шмидт)3, либо желание стабилизировать
«рушенный» грунт на избранной под строительство площадке, ранее ис-
пользовавшейся как языческий могильник (Д.В. Айналов)4. Впрочем, в
любом случае оказывалось, что именно это фатальное решение привело к
тому, что деревянные конструкции истлели, «рушенная» почва оказалась
нестабильна и стены храма получили неравномерную осадку. С этим и
было связано столь «легкое» разрушение храма в 1240 г.:
Можно думать... что неустойчивость рушенной почвы повела к тому, что
здание упало при перегружении его народом во время осады Киева Батыем,
чего не случилось с храмом св. Софии. При раскопках было обнаружено, что
бревна, служившие укреплением площади абсид и солеи, истлели, а сам слой
извести оказался раздавленным тяжестью стен. Эта ли одна причина привела
к падению храма или еще и другие, неизвестно, но во всяком случае относи-
тельно церкви св. Софии те же летописи сообщают, что она была выстроена на
цельной, материковой земле «на поле вне града»5,
отчего, нужно думать, и устояла перед натиском монголов.
Исследовавший Десятинную церковь накануне Второй мировой войны
М.К. Каргер признал оба мнения «искусственными» и даже «ненаучными».
Ничего уникального именно для Десятинной церкви в конструкции фун-
даментов он не нашел и, следовательно, причину обрушения храма искал в
других обстоятельствах:
Трудно согласиться с этим (летописным. - А. Т.) объяснением причины раз-
рушения здания. Падение церкви едва ли произошло только от большого коли-
чества людей, «с товары» забравшихся «на комары церковные» (т. е. на своды).
По-видимому, татары, осаждая церковь, применили здесь ту же стенобитную
технику, которая описана при взятии ими городских стен Киева6.
Причины, по которым исследователи назначили «виновным» именно
фундаменты храма, очевидны: это единственная доступная исследова-
нию часть сооружения. Точное прочтение летописи, однако, указывает в
противоположном направлении: обрушились своды («комары») церкви.
Вероятно, можно было бы обсуждать и качество сооружения сводов (были
ли они слишком тонки или небрежно сложены), но, как представляется,
решение лежит в совершенно иной плоскости.
Как была разрушена Десятинная церковь в Киеве? 1см
о I Казусы Древней Руси
Часто забывают, что статья Ипатьевской летописи под 1240 г., хотя и
повествует о Киеве, представляет собой фрагмент Галицко-Волынской
летописи. А в этой последней уже был зафиксирован прецедент обороны
от неприятеля с церковных сводов.
Под 6727 г. (а на самом деле, вероятно, летом 1220 г.7) при описании
похода Мстислава Мстиславича на Галич против оккупировавших его вен-
гров летописец сообщает, что оставленный воеводой Фильнием в городе
королевич Коломан пытался (неудачно) укрепиться на сводах Успенского
собора в Галиче:
шстави же Каломана. в Галичи и созда градъ. на цркви. прчстое влдцча нашел
Бца. (аже не стЬрпЪвшю. шскверненил храма своего, и вда7 ю в руци Мьстиславру
(Ипат. 737).
Смысл сообщения состоит в указании на чудо Богородицы: та не стер-
пела осквернения своего храма иноверными венграми и «вдала» их в плен
Мстиславу Мстиславичу, так как происходило все это «на канунъ стон Бци»
(вероятно, Успения).
Дело далее осложняется тем, что и это не последний случай, когда такая
необычная военная хитрость отмечена в Галицко-Волынской летописи.
Третий эпизод произошел уже после монгольского завоевания, в 1251 или
1252 г.8 Во время похода Куремсы некий Изяслав «испросил» у монголов
«помощи» и захватил Галич. Выбивать его оттуда отправился Роман Дани-
лович:
Поемъ же Романъ вое иде днь и нощь, и внезапру нападшимъ на нЬ. шномру же не
возмогшру. круда рутечи. и возбЬже на комары црквна1а. идеже безаконные ОугрЬ
возбЬгли. бЬахру. стоащру же около его кнзю Романру. жажею водною, измирающи
имъ. четвертый днь сниде (Ипат. 830)9.
Сообщение откровенно апеллирует к эпизоду с Коломаном, а скрыто
(упоминанием «церковных комар») - и к случаю с Десятинной церковью.
Итак, выясняется, что уникальное событие, случившееся во время
осады Киева монголами, на самом деле представляет собой звено в серии
однотипных сообщений Галицко-Волынской летописи. Как толковать
подобные сообщения? На этом этапе равновероятными представляются
несколько возможностей. Можно предположить, что все три сообщения
(несмотря на текстуальные переклички) отражают реальные события
(с «реальным» комментарием в том духе, что в условиях преимущественно
одноэтажной и деревянной застройки древнерусского города каменное
церковное здание действительно представляло собой существенный обо-
ронительный ресурс). Можно выдвинуть более изощренную гипотезу:
предположить, что известный летописцу случай с королевичем Коломаном
стал затем литературным фактом и был повторен еще несколько раз в сю-
жетно сходных ситуациях.
Можно, впрочем, поискать и первоисточник этих сообщений.
Галицко-Волынская летопись - памятник уникальный в древнерусском
летописании. Ее литературную технику, быть может, следует даже счесть
образцовой. Она и задумывалась, и была исполнена как подражание ви-
зантийским историям, но не летописям. По своему жанру она совершенно
уникальна для древнерусской книжности и представляет собой (по крайней
мере в изначальном виде), несомненно, историю (в том смысле, который
придавался этому слову византийскими авторами), т. е. углубленное иссле-
дование одного частного сюжета: судьбы двух малолетних сыновей Романа
Мстиславича, оставшихся сиротами, но сумевших возвратить отцовское
достояние, преодолев «многие мятежи, великие лести, бесчисленные рати».
История двух Романовичей противостоит хронографии, обширной компиля-
ции событий в их хронологической последовательности, лежащей в основа-
нии жанра именно летописи'0 (хотя сам автор Галицко-Волынской летописи
в одном месте и называет себя хронографом). Жанр истории ответственен
и за такие изначальные черты произведения, как, например, отсутствие раз-
бивки на погодные статьи и вообще четкой хронологической сетки, так как
повествование здесь «склеивается» логикой сюжетных последовательностей
(а не внешне заданной чередой годов), перескакивая при необходимости
либо вперед, либо назад.
Выбор жанра определил и образцы для подражания, а с ними и много-
численные - сознательные или неосознанные, - но всегда умело вплетен-
ные в ткань собственного повествования (а значит, и скрытые от поверх-
ностного взгляда) текстуальные заимствования из полюбившихся автору
византийских исторических произведений. Такого рода буквальные цита-
ты, парафразы отдельных мест и аллюзии на сюжеты византийской хроно-
графии в Галицко-Волынской летописи отмечались издавна11, но почему-
то так и не стали важным обстоятельством для исследования собственно
летописи. Полагают, что ее автор черпал информацию из так называемого
«Иудейского хронографа» (созданного около 1262 г.)12, где и обнаружил
фрагменты хроник Георгия Амартола, Иоанна Малаллы, а также «Историю
иудейской войны» Иосифа Флавия. Последнее произведение оказалось
особенно удачной находкой для автора Галицко-Волынской летописи, так
как предоставляло практически неисчерпаемый арсенал изобразительных
средств для описания битв, походов, осад и вообще военных столкновений
(составляющих существенную или даже основную часть повествования о
Романовичах).
Именно в «Истории иудейской войны» Иосифа Флавия мы находим
довольно много эпизодов, в которых люди, сражаясь внутри города, защи-
щаются, взобравшись на своды («комары») различных сооружений.
Вот несколько примеров13:
И став!ша на камарахь боддх^ римлАНы. и си тр^дившесл вышнимъ бодЪишемъ. и
не възмогше прТити. и оидоша на црскыи дворъ (4026, 9-13);
Цркве оем'ше стЪны. а шнемъ прибЪгноувшимъ къ цркви. и затвориша врата и
биихоу с камаръ и с полать. ананъ же моглъ бы взати црквь. но боисд кровопролитье
дане осквернить стаа [...] (425в, 1-8);
Не имоуще иже на потребоу очаишасд. и ставша по коморамъ по забраломъ, бТах^СА
съ симономъ. и многы о народа оубиша, свыше поущающе (4336, 21-26).
Как была разрушена Десятинная церковь в Киеве? I со
ю I Казусы Древней Руси
В этих примерах, впрочем, здание с людьми на его сводах не обруши-
вается. Поэтому наиболее близкой параллелью к истории падения Деся-
тинной церкви является, вероятно, эпизод из рассказа об осаде римлянами
города Гамалы14. Поставив в трех местах «градобичныя сосуды» (среди ко-
торых мы находим, кроме «овнов», и знакомые нам по летописи «порокы»)
и пробив стены, римляне ворвались в город, где оказались в ловушке среди
городской тесноты и в низинах:
Не оумЪюще что са домыслити, лязах^ть на градьныл храмы съ тажкымъ ор^жиемь.
храмомъ же наплънив'шимсА. и не дръжаще тагости раз‘др>?шевах>?тьсА. и падахоу
дроугъ на nptfsi. издавлевах^ воа вса. швы камешемъ. швы же прахъ извистныи. и
mhosh ш нихъ погребени быша живи (421а, 27-36)13.
Славянское «камара/комара» (дуга, арка; свод, верхний ярус здания,
апсида, хоры; аркасолий16) происходит из греч. кацара (аркада, арка). Од-
нако, судя по указателю слов к «Истории иудейской войны», славянский
переводчик практически во всех случаях передавал этим словом отоа
(аркада, галерея, портик, крытая колоннада) своего оригинала17. Именно о
такого рода сооружениях - портиках и крытых колоннадах - и ведет речь
Иосиф Флавий. Что же дало повод летописцу отождествить эти сооруже-
ния (в большинстве своем - части светских построек) с привычными для
него церковными сводами?
Вероятно, кроме прочего, свою роль здесь сыграли финальные сцены
книги шестой, где последним оплотом защитников Иерусалима выступает
храм (называемый тут церковью), с «комар» которого иудеи отражают оса-
ду римлян. Всякого читающего труд Иосифа Флавия, тем более читающего
так внимательно, как автор Галицко-Волынской летописи, не могли не впе-
чатлить эти сцены отчаянной и безнадежной обороны храма («церкви»),
превращенного в крепость, где сгрудились горожане со своим скарбом
(«И штинудь рещи все богатство юудЪиско тру 64. събрано. и вси домовЪ бога-
ты'1»: 459а, 22-24) и на «комарах» которого происходили последние стычки
с римлянами. С разрушением «церкви» пал и Иерусалим.
Это уже серьезное обстоятельство, так как предлагает мотив для иначе
малообъяснимого заимствования. Оно оказывается не случайно «одол-
женным» красивым местом; параллель сознательная, своего рода скрытое
уподобление Киева и его падения перед монголами падению Иерусалима.
Если в результате наших разысканий мы начинаем угадывать некий
литературный прием, можно говорить о положительном результате для
понимания литературного произведения: оно становится глубже и значи-
тельнее, чем мы предполагали ранее; отсутствие простодушного фактогра-
физма оборачивается осмысленностью. Для самого же события это, скорее,
печальный результат. Событие «растворяется» в сериях иных подобных, в
параллелях и цитатах и, по существу, исчезает как действительно произо-
шедшее. По мере углубленного прочтения летописи исследователям Руси,
основывающим свои реконструкции прошлого преимущественно на нарра-
тивных источниках, приходится все больше и больше иметь дело с такого
рода «ускользающими» событиями. Для историка (всегда держащего, в от-
личие от историка литературы, в уме вопрос: а как же было на самом деле?)
это означает, что наиболее существенная цель его предприятия становится,
быть может, недостижимой.
В самом деле, с чем мы имеем дело: с описанием реально состоявшего-
ся или с литературной фикцией? Для летописания эту дихотомию еще в
1920-х годах сформулировал Владимир Перетц:
Можно ли за каждым словом летописи, за ее рассказом о событиях, видеть со-
бытия действительные, или же - не имеем ли мы временами вместо реальных
событий лишь готовые стилистические формулы, целиком заимствованные
летописцем из его источника или же возникшие из желания летописца при-
вести нечто подобное, аналогичное тому, что вычитал он в своем источнике?18
Ответа на поставленный вопрос В. Перетц тогда не предложил. Нет его
и сейчас. Вероятно, он и не может быть одинаковым для всех случаев. На-
толкнувшись на клише, топос или же цитату, исследователи в большинстве
случаев склонны делать радикальные выводы: либо что события не было,
либо (более корректно) что судить о происшедшем нет возможности; все,
чем мы располагаем, - это литературный текст, связь которого с прошлой
реальностью неочевидна или проблематична. В методологическом плане
вторая позиция выглядит более последовательной. Во многих случаях,
однако, от такого естественного решения стоило бы воздерживаться. Ведь
средневековый книжник всегда писал с опорой на авторитет. Цитата из ав-
торитетного текста всегда представлялась предпочтительнее собственной
«новины», имитация освященного временем всегда была благочестивее
оригинального взгляда на вещи. Поэтому постоянно остается вероятность
того, что, заимствуя чужие изобразительные средства, автор все же мог
описывать действительно увиденное или услышанное.
Наш случай, похоже, из этого последнего разряда.
Итак, кто же разрушил Десятинную церковь: киевляне, обрушившие
своей тяжестью своды, хан Батый, бивший в стены таранами, или же га-
лицкий летописец, поддавшийся обаянию «Иудейской войны»?
Какой-то намек на ответ предлагает уже сам источник заимствова-
ния - «История иудейской войны», а также манера работы с ним галиц-
кого летописца. Безоглядно копируя свой образчик ради уподобления
Киева Иерусалиму, наш автор вполне мог бы перенести на Десятинную
церковь судьбу Храма: он был подожжен и, по существу, разрушен сами-
ми обороняющимися в нем иудеями. Быть может, такая жертвенность
выглядела бы даже предпочтительнее его собственной картины паники
обезумевших людей. Но летописец прибег к заимствованию из иного
места, отнюдь не героического и, кроме того, говорящего о смятении и
панике нападавших римлян, приведшей к обрушению зданий. Не может
ли это быть следами умысла? Летописцу нужен был именно фрагмент с
падением «комар» под тяжестью людей.
Более определенное свидетельство предоставляет «Список русских
городов дальних и ближних», сохранившийся в поздних списках, но, как
полагают, составленный в 1380-1390-х годах в канцелярии митрополита
киевского Киприана19. Здесь, разумеется, упомянут Киев, а в нем «церкы:
святаа Богородиця десятиннаа, камена, была о полутретьятцати версЬх»20.
Как была разрушена Десятинная церковь в Киеве? I со
I Казусы Древней Руси
Это уточнение необычно и потому красноречиво: в «Списке» упомянуты и
иные церкви, и даже с количеством куполов, но только о Десятинной ска-
зано, что у нее некогда было 25 куполов21. Следовательно, по крайней мере
в 1380-х годах, Десятинная церковь действительно стояла, но с обрушен-
ными «комарами». Обрушились ли ее «верхи» от длительного небрежения
(как то впоследствии случилось с остальными киевскими церквами), или
это все же последствия монгольского штурма 1240 г.? Вероятности были
бы почти равновеликими, если бы не описание галицкого автора.
Быть может, этих свидетельств окажется недостаточно, чтобы решить
интересующий нас вопрос со всей несомненностью. Ясно, впрочем, что
своды Десятинной церкви обрушились. То есть событие все-таки имело
место22.
Установить же, рухнули ли своды под таранами монголов или под пе-
ром галицкого летописца, вероятно, не удастся никогда.
1 Здесь и далее Ипатьевская летопись
цитируется по изданию: Ипатьевская
летопись // Полное собрание русских
летописей (далее - ПСРЛ). Т. 2. СПб.,
1908 (репринт - М., 2001) с указанием
столбца.
2 В Киеве возле руин Десятинной церкви
установлен мемориальный гранитный
крест в память о последних героиче-
ских защитниках города, погибших в
Десятинной церкви.
3 Шмидт Ф.И. Заметки о поздневи-
зантийских храмовых росписях //
Византийский временник. 1916. Т. 22.
Вып. 1.С. 105-109.
4 Айналов Д.В. К вопросу о строительной
деятельности св. Владимира // Сб. в па-
мять святого равноапостольного князя
Владимира. [Б.м.], 1917. С. 24-26.
5 Там же. С. 25-26. Шмидт также про-
тивопоставлял устойчивость построек
Ярослава и последующего времени
раннему разрушению возведенных
Владимиром сооружений.
6 Каргер М.К. Древний Киев. Очерки по
истории материальной культуры древ-
нерусского города: В 2 т. М.; Л., 1961.
Т. 2: Памятники киевского зодчества
Х-ХП вв. С. 12, 31-36. Это мнение за-
крепилось в последующей литературе:
Толочко П.П. Древний Киев. Киев, 1983.
С. 278. Впрочем, в последнее время де-
ревянные конструкции вновь признаны
«чрезвычайно редким для древнерус-
ской архитектуры» решением, дейст-
вительно призванным обезопасить
фундаменты от проседания: Козюба В.
Дослщження садиби Десятинно! церк-
ви у Киев! в 1908-1914 рр. (за матер!-
алами щоденниюв Д.В. Митеева) //
Ruthenica. 2005. Т. 4. Р. 194-195.
7 Грушевський М. Хронолопя подш
Галицько-Волинського лпопису //
Mitteilungen der Sewcenko-Gesellschaft
der Wissenschaften in Lemberg. 1901.
Bd. 41.S. 17.
8 Ibid. S. 38.
9 Текст летописи в этом месте довольно
сбивчив и требует комментария. К тому
же он, вероятно, осложнен вставками,
от чего и не вполне понятно, кто имен-
но на кого напал. Комментируя этот
фрагмент, Н.Ф. Котляр полагает, что
речь идет об упомянутом несколько
выше Изяславе (не названном по от-
честву, отчего идентификация его не-
возможна), занявшем Галич и подверг-
шемся внезапному нападению Романа
Даниловича {Котляр Н.Ф. Коментар!
до лггопису // Галицько-Волинський
лггопис: Дос.'йдження, текст, коментар.
Кшв, 2002. С. 286-290). Таким образом,
именно этот таинственный Изяслав
был осажден и оборонялся на церков-
ных сводах, что, вероятно, и уподобляет
его - захватчика - прежним захватчи-
кам, венграм.
10 О значении понятий «история» и «хро-
нография» в древнерусской книжности
см.: Вилкул Т. Повесть временных лет и
Хронограф // Paleoslavica. 2007. Т. 15.
№ 2. Р. 84 и примеч. 177.
11 См., например: Орлов А.С. К вопросу
об Ипатьевской летописи // Известия
Отделения русского языка и словес-
ности Академии наук СССР. 1926.
Т. 31. С. 106-108; Мещерский Н.А.
История Иудейской войны Иосифа
Флавия в древнерусском переводе. М.;
Л., 1958; Творогов О.В. Древнерусские
хронографы. Л., 1975. С. 18-20. Общую
сводку выявленных до настоящего вре-
мени заимствований см.: Пауткин А.А.
Южнорусские летописцы XIII в. и
переводная историческая литература //
Герменевтика древнерусской литерату-
ры: Сб. 9. М„ 1998. С. 130-132.
12 Близок или даже тождественен Архив-
скому и Виленскому хронографам.
13 Здесь и далее «История иудейской вой-
ны» цитируется по изданию: «История
иудейской войны» Иосифа Флавия.
Древнерусский перевод: В 2 т. М., 2004.
Т. 1 (с указанием листа и строк).
14 Отмечено в: Пауткин А.А. Указ. соч.
С. 131.
13 Влияние «Истории иудейской войны» в
данном случае допустить тем более обо-
снованно, что Н.А. Мещерский отмечал
заимствование еще и иной фразы (из
книги третьей), ср.: «И тоу б!аше видити
ломъ копГины. и щеть ск1пание. стр!лы
шмрачиша св!ть поб!жены“» (Ипат.
785) - «И бысть вид!ти ломъ копииныи.
и скрежтанТе мечное и щити иск1пани.
и моужи носими землю напоиша кро-
вии» (412в, 36-39) (Мещерский Н.А.
Указ. соч. С. 78; Пауткин А.А. Указ,
соч. С. 129). Кстати, во фразе той же
летописной статьи «И не 61 слышати
w гласа, скрипанига тел!гь ег. множества
ради ревенига. вельбл^дъ его. и рьжанига
w гласа стадъ конь его» (Ипат. 784)
Владимир Перетц видел влияние кни-
ги Судей («Яко прузи множьством и
вельблудомъ ихъ не бЪяше числа, но
б!аху, яко п!сокъ на край морьсгЬмъ
въ множество») (Перець В. До питан-
ия про лггературщ джерела давнього
украшського лпопису // Зб1рник
1сторично-ф1лолопчного вщдглу УАН.
Ювыейний зб!рник на пошану акад.
М.С. Грушевського. Ки1в, 1928. № 76.
4.2. С. 214).
16 Словарь древнерусского языка XI-
XIV вв.: В 10 т. М„ 1991. Т. 4. С. 247.
17 «История иудейской войны» Иосифа
Флавия. Т. 2. С. 90-91, 722.
18 Перець В. Указ. соч. С. 213.
19 О нем см.: Тихомиров М.Н. «Список рус-
ских городов дальних и ближних» //
Ист. записки. 1952. Т. 40. С. 214-259;
Наумов Е.П. К истории «Списка рус-
ских городов дальних и ближних» //
Летописи и хроники: Сб. ст. 1973 г.
М„ 1974. С. 150-163; Подосинов А.В.
О принципах построения и месте созда-
ния «Списка русских городов дальних
и ближних» // Восточная Европа в
древности и средневековье. М., 1978.
С. 40-48; Янин В.Л. Новгород и Литва:
пограничные ситуации XIII-XV веков.
М„ 1998. С. 61-70.
20 Новгородская первая летопись старше-
го и младшего изводов // ПСРЛ. Т. 3.
С. 475.
21 Число куполов - 25 - несомненная
гипербола, приличествующая леген-
дарной первой церкви (хотя и пред-
принимались попытки учесть это при
реконструкции архитектурного облика
Десятинной церкви). В XIV в. она ока-
залась возможна именно потому, что
купола были уже давно утрачены.
22 Здесь, вероятно, важной оказывается
и фактическая аналогия: при осаде
монголами Владимира-на-Клязьме
люди укрылись в Успенском соборе,
Как была разрушена Десятинная церковь в Киеве? I со
подожженном и затем взятом штурмом
татарами: «епспъ Митрофанъ. и кнагыни
Юрьева, съ дчерью. и с снохами. и со
внучаты. и проча! кнагини. ВолодимерАга
с дкгми. и множество много богаръ. и
всего народа людии. затворишасА в цркви
стьпа Бца» (ПСРЛ. Т. 1. С. 463). Искать
защиту в каменном храме - естествен-
ное и часто встречаемое решение.
В противоположность сообщениям
Галицко-Волынской летописи, люди
пассивно затворяются внутри церкви,
а не используют ее в качестве оборони-
тельной башни.
а> I Казусы Древней Руси
Владимир Рудаков
ВРЕМЯ «Ч»
В ДРЕВНЕРУССКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ
О МОНГОЛО-ТАТАРАХ*
Время в разные исторические эпохи воспринималось по-разному.
Средневековье, например, «было безразлично ко времени в нашем, исто-
рическом его понимании, оно имело свои специфические формы его
переживания и осмысления»1. Как писал Жак Ле Гофф, средневековая
хронология «не определялась протяженностью времени, которое делится
на равные отрезки и может быть точно измерено... Она имела знаковый
характер... Средневековые люди доводили до крайности аллегорическое
толкование содержавшихся в Библии более или менее символических дат 37
и сроков творения»2.
Эта особенность сознания существенным образом влияла на специфи-
ку использования хронологической информации (сведений, касающихся
определения места во времени, а также временной протяженности того
или иного события) в том числе и авторами древнерусских исторических
источников3. Поскольку Средневековье датировало события по другим
правилам и с другими целями, чем это принято делать сегодня, особую
актуальность приобретает изучение недостоверной (с точки зрения совре-
менных представлений) временной информации, содержащейся в памят-
никах средневековой письменности. В первую очередь важно понять, с чем
вообще связано ее появление.
Казалось бы, проще всего объяснить появление недостоверной хро-
нологической информации банальной невнимательностью книжников.
Действительно, обилие ошибок (описок), в том числе хронологических, -
весьма частое явление для рукописной книжной традиции вообще и
древнерусской в частности. Между тем один из базовых принципов совре-
менной текстологии, заложенный еще А.А. Шахматовым применительно
к древнерусским летописным текстам, состоит в примате сознательных
изменений текста над ненамеренными - механическими. «Исследователь
текста во всех случаях должен в первую очередь искать сознательные при-
чины изменения текста и только в случае невозможности более или менее
достоверно объяснить изменения текста намерениями переписчиков или
'Статья подготовлена при поддержке РГНФ, проект № 10-01-00426а.
со | Казусы Древней Руси
переделывателей останавливаться на объяснениях, допускающих простую
его порчу», — писал по этому поводу Д.С. Лихачев4.
Понимание же целей, которые ставил перед собой средневековый
книжник, позволяет по-новому (почти его глазами) взглянуть и на содер-
жание исследуемых текстов.
Весьма характерные казусы с хронологической информацией обна-
руживаются в древнерусских произведениях, посвященных «ордынской
тематике»: в рассказе Лаврентьевской летописи о нашествии Батыя, по-
мещенном под 6745 (1237) г. (далее - Лаврентьевская), в «Поучениях» Се-
рапиона Владимирского (далее - «Поучения») и в «Сказании о Мамаевом
побоище» (далее - «Сказание»).
Составление всех трех памятников отделено друг от друга весьма
значительными промежутками времени. «Поучения» Серапиона от-
носят к 70-м годам XIII в.5, летописный рассказ Лаврентьевской о на-
шествии Батыя появился, скорее всего, в начале XIV в. (но никак не
позднее 1377 г. - этим временем датируется единственный дошедший
до нас список)6, «Сказание» же, согласно новейшим исследованиям
В.А. Кучкина и Б.М. Клосса, не могло появиться раньше конца XV - на-
чала XVI в.7
Рассмотрим их хронологические «странности» и попытаемся понять,
что за ними стоит.
Рассказ Лаврентьевской содержит две полные даты: татары пришли
под Владимир «месяца февраля в 3 на память святого Симеона во вторник
преж мясопуст за неделю» и пошли на штурм города «в неделю мясопуст-
ную по заутрени ... месяца февраля в 7 день на память святого мученика
Феодора Стратилата»8. Что касается первой даты, то еще Н.Г. Бережков
обратил внимание на ошибку (или описку), допущенную при указании
числа, - на вторник в тот год приходилось не третье, а второе февраля.
Исследователь назвал возникшую неточность «плодом вычислений, сде-
ланных спустя некоторое, даже незначительное время после события»9. По
его мнению, летописец просто перепутал буквенные обозначения цифр:
буква-цифра «3» (Г) с большей вероятностью могла случайно появиться
из буквы-цифры «2» (В), чем слово «вторник» из «среды»10.
Однако при должной проверке выясняется, что и вторая дата («в не-
делю мясопустную по заутрени...») также оказывается неверной, хотя при-
рода этой неточности, по-видимому, существенно иная.
Как показал исследователь летописных повестей о нашествии Батыя
А.Ю. Бородихин, составитель рассказа Лаврентьевской сознательно изме-
нил датировку взятия татарами Владимира. Дело в том, что в более раннем
рассказе Новгородской первой летописи старшего извода (далее - НПЛ), с
которой составитель рассказа Лаврентьевской, судя по всему, был знаком,
содержится правильная датировка этого события: штурм Владимира тата-
рами, по версии этой летописи, происходит не в «неделю мясопустную»,
а «в пяток преже мясопустный недели»11. Зачем же вместо имевшегося в
НПЛ хронологического указания на пятницу («пяток») «преже мясопуст-
ный недели» составитель Лаврентьевской ввел в свой рассказ указание на
то, что татары пошли в атаку «в неделю мясопустную», т. е. воскресенье,
двумя днями позже?
Позднейшей опиской, как в случае с первой датой, подобное изменение
не объяснишь. Гораздо более обоснованным выглядит объяснение, пред-
ложенное А.Ю. Бородихиным. По его мнению, «представление о Божьей
каре, постигшей владимирскую Русь, могло оказать влияние на выбор дня,
в который свершилось “наказание”». Обратив внимание на то, что «неделя
мясопустная имеет в православии еще название недели о Страшном Суде»
(курсив наш. - В. Р.), А.Ю. Бородихин посчитал «неслучайным стремле-
ние составителя Лаврентьевской соединить в сознании читателей эти два
события: Страшный Суд и “наказание Божие” земле Русской нашествием
татар»12.
Вообще привлечение автором «посторонней» (т. е. не имеющей пря-
мого отношения к описываемым событиям) информации - одна из специ-
фических черт рассказа Лаврентьевской о нашествии Батыя. С той же
самой целью — провести аналогии с Божьим наказанием, обрушившимся
на русские земли, с одной стороны, и эсхатологическими знамениями - с
другой, - составитель рассказа Лаврентьевской активно прибегал к ли-
тературным заимствованиям. Изучение авторской манеры составителя
летописного рассказа дало повод В.А. Кучкину сделать вывод о том, что
все места статьи Лаврентьевской, «где описываются грабежи и убийства
монголо-татарами русского населения и дается объяснение завоевания
как наказания за “грехи наши”... оказываются литературными цитатами»13.
Вполне понятно, что в рамках такого художественного метода книжник мог
пойти и на сознательную корректировку хронологической информации. 39
К тому же трактовка нашествия в духе «казней Господних» вполне совпа-
дает с общей тональностью не только летописной статьи Лаврентьевской,
но и целого ряда произведений древнерусской литературы, посвященных
нашествию татар на Русь, в которых оно описывается как Божья кара «за
грехи» в «последние времена»14.
В том же рассказе Лаврентьевской для нагнетания «эсхатологических
тонов» книжник с помощью ряда точных цитат из предшествующего ле-
тописного текста сравнивает татар с народами, которые должны явиться
накануне Страшного суда. Весьма показательным в связи с этим являет-
ся использованное при описании татарских разорений Рязанской земли
заимствование из рассказа Повести временных лет (далее - ПВЛ) под
6449 (941) г., в котором повествуется о приходе под стены Константинопо-
ля князя Игоря с дружиной.
Время «Ч» в древнерусских произведениях ...
«почаша воевати Вифиньскиа страны, и
воеваху по Понту до Ираклиа и до Фафло-
гоньски земли, и всю страну Никомидий-
скую попленивше, и Судъ весь пожьгоша;
их же емше, овехъ растинаху, другая аки
странь поставляюще и стреляху въ ня, из-
имахуть, опаки руце съвязывахуть, гвозди
железный посреди главы въбивахуть имъ.
Много же святыхъ церквий огневи пре-
даша, манастыре и села пожгоша, и именья
немало от обою страну взяша...»15
«безбожнии татарин почаша воевати
Рязаньскую землю, и пленоваху и до
Проньска, попленивше Рязань весь,
и пожгоша, и князя их убиша. Их
же емше, овы растинахуть, другыя
же стрелами растреляху в ня, а инии
опакы руце связывахуть. Много же
святых церкви огневи предаша, и ма-
настыре, и села пожгоша, именья не
мало обою страну взяша...»16
о I Казусы Древней Руси
Еще не так давно было принято считать, что в процитированном выше
отрывке Лаврентьевской до нас дошли следы рязанского летописания.
И лишь Д.С. Лихачев обратил внимание на явные несуразности текста.
«Некоторое отдаленное сходство рассказа Лаврентьевской о нашествии
на Рязань... решительно разбивается о то, до сих пор не замеченное об-
стоятельство, что в основной своей части это сообщение повторяет слова
и выражения ПВЛ о мучениях, которым русские подвергали греческое
население по обе стороны пролива Суд в 941 г. Рассказ Лаврентьевской
1237 г. настолько близок к ее же рассказу 941 г., что даже сохраняет детали,
имеющие реальное значение лишь для 941 г.»17
Между тем, как заметил еще А.Н. Веселовский, процитированный выше
отрывок из летописной статьи 6449 (941) г. является отражением неизвест-
ного текста, ставшего общим источником для ПВЛ и Жития Василия Но-
вого18. Поскольку же Житие Василия Нового, так же как и «Откровение»
Псевдо-Мефодия Патарского, известное на Руси примерно с XII в., было
посвящено, среди прочего, описанию картин «последних времен» и «при-
надлежало к числу весьма популярных памятников» эсхатологического
характера19, в рассказе об Игоре явно содержится намек на близящееся на-
ступление «последних дней».
Примерно таким же образом - при помощи литературных заимство-
ваний - добивался нагнетания эсхатологических мотивов и автор расска-
за о нашествии Батыя, помещенного в НПЛ. Повествование начинается
с сообщения о численности «поганых»: «...придоша иноплеменьници,
глаголемии Татарове, на землю Рязаньскую, множьства бещисла, акы
прузи...»20
Известно, что пришествие саранчи в Средние века традиционно вос-
принималось в качестве одной из «казней Господних»21. Однако появление
саранчи в этом контексте имело, судя по всему, и иные параллели. «Прузи»
также упоминаются в «Откровении» Псевдо-Мефодия Патарского. В его
произведении именно измаильтяне «на земли хождахоу» «мнозы яко проу-
зи», пленяя «землю и грады»22. Учитывая, что для обозначения татар автор
рассказа активно использует термин «измаильтяне», следует полагать, что
сравнение множества «поганых» с саранчой имело неслучайный характер
и во фразу «придоша множьства бещисла, акы прузи» автор заключает
сразу несколько смыслов. С одной стороны, в ней содержится указание от-
носительно численности пришедших на Русь татар - их несметное множе-
ство. С другой стороны, книжник указывает на функцию «поганых» - они
пришли для наказания Руси, в качестве «кары Господней». И наконец, ав-
тор еще раз подводит читателя к необходимым параллелям между татарами
и «нечистыми народами», в частности измаильтянами, которые, согласно
предсказанию Псевдо-Мефодия Патарского, должны покорить мир нака-
нуне «последних времен». Напряженно вглядывавшийся в окружавшую
его реальность в поисках «знамений последних времен» средневековый
читатель не мог оставить без внимания столь понятные ему параллели.
Таким образом, использование недостоверной с современной точки
зрения хронологической информации о событиях, связанных с монголо-
татарским нашествием, оказывается вполне оправданным с позиций древ-
нерусского автора. Для него это художественный прием, позволяющий
донести до читателя дополнительную информацию. Причем информацию
не столько о хронологии, сколько о смысле происходящего.
Еще один памятник, в котором особое внимание уделяется эсхатологи-
ческому смыслу нашествия и где, как представляется, мы вновь имеем дело
с недостоверной хронологической информацией, - «Поучения» Серапиона
Владимирского.
Современность также ассоциируется у Серапиона с «последними вре-
менами»23. Характеристика современности как «последних времен» стро-
ится у него на сочетании явных и неявных указаний, ближних и дальних
исторических параллелей. Это явный результат именно ассоциативного
способа «атрибуции времени».
Так, бедствия, обрушившиеся на Русь, Серапион ставит в один ряд
с несчастьями, произошедшими с другими - библейскими - народами.
«О, маловернии, - восклицает епископ, - слышасте казни от Бога: в пер-
выхъ родехъ потопа на гиганты, огнемъ пожьжени, а содомляне огнем же
сожени, а при фараоне десять казней на Егупетъ, при ханании каменее
огненое с небесе пусти, при судьяхъ рати наведе, при Давиде моръ на люди,
при Тите пленъ на Ерусалимъ, потомъ трясенье земли и паденьемъ града.
И в наша лета чего не видехомъ зла? многи беды и скорби, рати, голодъ,
от поганых насилье»2*. Как видно, «цепочка» пролегает через всю историю
человечества, и современные Серапиону события лишь завершают череду
«казней Божиих».
В условиях надвинувшихся «последних времен» отсутствие искренне-
го покаяния и исправления среди паствы являлось «главным источником
вдохновения» пастыря. «Всем казнив ны, Богь не отьведеть злаго обы-
чая», - сокрушается проповедник. Неслучайно в «Поучениях» Серапиона
Владимирского одной из ключевых является идея о порочности общества
и человека.
При слабой сохранности источников, современных рассматриваемому
периоду, довольно трудно объяснить, почему именно в 70-х годах XIII в.,
т. е. спустя почти четыре десятилетия после Батыева нашествия, в церк-
ви начинается духовное движение, направленное на осмысление причин
монголо-татарских завоеваний. А в том, что такое движение возникло
именно в тот период, сомневаться не приходится. На это указывает и факт
созыва во Владимире в 1274 г. церковного собора, и характер принятых на
нем решений, и пафос поучений Серапиона, и целый ряд схожих с Сера-
пионовыми идей, высказанных в других дошедших до нас памятниках той
эпохи25.
Пожалуй, ключ к решению данной проблемы лежит в самих текстах
Серапиона. Исследователи давно обратили внимание на то, что во втором
«Поучении» владимирского епископа есть указание на срок, прошедший
от нашествия татар до произнесения самой проповеди. «Се уже к 40 лет
приближаеть томление и мука, и дане тяжькыя на ны не престануть, гла-
ди, морове животъ нашихъ, и в сласть хлеба своего извести не можемь, и
въздыхание наше и печаль сушать кости наша», - констатирует епископ26.
По сложившейся академической традиции данное указание использова-
лось исследователями только с сугубо прагматическими целями. По их
мнению, оно вроде бы позволяет путем нехитрых вычислений датировать
Время «Ч» в древнерусских произведениях ... I
ю I Казусы Древней Руси
второе «Поучение». В зависимости от момента, с которого начинали отсчет
изучавшие памятник ученые - от битвы на Калке или от нашествия Батыя,
получалось, что Серапион произнес проповедь в промежуток времени от
1260-х годов до 1275 г.27
Вместе с тем, как представляется, упоминание 40-летнего отрезка
времени, скорое завершение которого предвещал Серапион, может быть
отнесено не только к реальным хронологическим расчетам владыки, но
и к его попытке своеобразного - символического - истолкования проис-
ходящих на Руси событий28. Легко улавливаемая параллель с 40-летним
сроком странствий Израиля в пустыне, возможно, была навеяна ощу-
щением общности того, что произошло с «избранным народом», с одной
стороны, и Русью - с другой. Рассуждение по аналогии действительно
оказывалось уместным: из того, что Господу для наказания «сынов Изра-
илевых» за нарушение ими Его заповедей понадобилось 40 лет29, вполне
логично вытекало предположение, что и Руси был отведен точно такой
же срок в наказание «за грехи» и для окончательного исправления.
Косвенные подтверждения тому, что в русском обществе XIII в. по-
добное представление существовало, можно обнаружить в иностранных
источниках.
В «Великой хронике» Матвея Парижского (ок. 1200-1259), а также
анонимных «Анналах» Бёртонского монастыря (конец XIII в.) подробно
описываются деяния I Лионского собора, созванного по инициативе папы
Иннокентия IV в 1245 г. Среди вопросов, вынесенных на обсуждение собо-
ра, был и вопрос о будущем отношении к монголо-татарам, к тому времени
прочно обосновавшимся на территории Восточной Европы. В «Анналах»
говорилось, что на собор в Лион прибыл некто Петр, «архиепископ Руси»,
который рассказал немало интересного о монголо-татарах30. (Согласно
Матвею Парижскому, дело происходило в Италии.) В частности, Петр
сообщил, что тем было «божественное откровение», согласно которому
«должны они разорить весь мир за тридцать девять лет». «И утверждают
они, - поведал Петр, - что, как некогда божественная кара потопом очисти-
ла мир, так и теперь всеобщим избиением людей, которое они произведут,
мир будет очищен»31.
Наличие в столь различных источниках, как «Поучения» Серапиона и
сочинения английских хронистов, схожей хронологической информации
позволяет предполагать существование некоторой взаимосвязи между
ними. Если архимандрит Киево-Печерского монастыря и позже епископ
Владимирский Серапион называли 40-летний срок господства татар, так
сказать, post factum, ближе к его истечению - скорее всего в 70-х годах
XIII в. («к 40 лет приближаешь томление и мука»), то Петр, возможно, тоже
выходец из Киевской Руси, в 40-х годах XIII в. имел в виду предстоящее (на
протяжении ближайших 39 лет) разорение христианского мира татарами32.
Возможно, действительно в 70-х годах XIII в., по мнению некоторых
церковных деятелей той поры, истекали какие-то символические «сроки».
Нельзя исключать также, что чрезвычайно чувствительные ко всякого рода
хронологическим расчетам (особенно в отношении будущего) средневеко-
вые книжники ожидали наступления времени «подведения итогов» как раз
через 40 лет после нашествия «иноплеменных». И именно поэтому данное
хронологическое указание (40 лет) попало в «Поучения» Серапиона Вла-
димирского. Конечно, если учитывать время появления «Поучений», само
это хронологическое указание в точном смысле слова недостоверным не
является. Однако наличие в нем помимо прямого хронологического еще и
скрытого - символического - смысла не позволяет относить его и к вполне
достоверным. По крайней мере, вряд ли стоит строить на его основе точные
расчеты, касающиеся датировки «Поучений» Серапиона Владимирского.
Схожую картину мы наблюдаем и в случае со «Сказанием о Мамае-
вом побоище», хотя оно дает нам пример использования недостоверной
хронологической информации совершенно иного рода. Во-первых, речь в
произведении идет не о поражениях Руси, не о «томлениях и муках», а о
победе над татарами. Во-вторых, в памятнике содержится хронологическая
информация не о годах и даже не о днях недели, а о часах. Вернее, всего об
одном часе -- «осьмом».
Как известно, «Сказание о Мамаевом побоище» содержит наиболее
подробный рассказ о сражении «на усть Непрядве», причем значительная
часть сообщаемых «Сказанием» сведений носит уникальный характер.
В число таких оригинальных (не подтверждаемых другими источни-
ками) сюжетов «Сказания» входит и известие о действиях знаменитого
засадного полка, возглавлявшегося князем Владимиром Андреевичем Сер-
пуховским и воеводой Дмитрием Михайловичем Боброком-Волынцем.
Рассказ о стоянии засадного полка в «дубраве» и его выходе на поле
боя, несомненно, являет собой кульминационный момент всего повество-
вания. Несмотря на это, содержание указанного известия практически
не подвергалось углубленному анализу, поскольку в исторической науке
прочно утвердилось представление о подлинности большинства описы-
ваемых в «Сказании» событий. Так, широкое распространение получило
мнение о том, что в основе известия о засадном полке «лежит реальный
факт военной тактики московского князя»33. Данная точка зрения, к со-
жалению, не была подкреплена сколько-нибудь серьезной аргументацией.
Анализ же отдельных деталей известия и вовсе позволяет нам усомниться
в справедливости приведенного мнения и предположить наличие в тексте
памятника некоторых более глубоких смыслов, скорее всего не связанных
напрямую с простым описанием батальных сцен 1380 г.
Очевидно, что существовавшая долгие годы недооценка полисемантич-
ной структуры произведения обедняет наше представление о памятнике и,
следовательно, деформирует взгляд на восприятие Куликовской битвы в
момент создания «Сказания о Мамаевом побоище», что, в свою очередь,
мешает отделять художественный вымысел автора произведения рубежа
XV и XVI вв. от реалий 1380 г. Ниже мы попытаемся выявить смыслы,
скрытые при буквальном понимании памятника, и предложить более убе-
дительную интерпретацию известия о засадном полке.
Как известно, по версии «Сказания» вступлению засадного полка в бой
предшествовал известный диалог Владимира Андреевича Серпуховского с
воеводой Боброком. Суть разговора касалась выбора времени, подходяще-
го для выхода полка из засады.
На определенном этапе сражения, видя, что «погании же начаша одо-
левати, христианскыя же полки оскудеша», и, «не мога терпети» этого,
Время «Ч» в древнерусских произведениях ... I
I Казусы Древней Руси
серпуховской князь призывает воеводу немедленно выступить на помощь
основным силам русских. Однако Боброк, ссылаясь на то, что время для
этого еще не пришло, а всякий «начинай без времени, вред себе приемлеть»,
предлагает князю ждать до «времени подобна», поскольку именно тогда,
по мнению Дмитрия Михайловича, Божественная благодать снизойдет
на русских, поможет им разбить «поганых». Выбранное Боброком время
оказывается «счастливым»: выскочивший по призыву воеводы засадный
полк наносит решающий удар противнику, что и приводит к окончатель-
ной победе.
Исследователи давно обратили внимание на прозорливость воеводы
Боброка, отмечая, что ни преждевременный, ни запоздалый удары засадно-
го полка не смогли бы переломить ход сражения34. Споры ученых начались
тогда, когда предпринимались попытки понять, из каких именно критериев
исходил Боброк-Волынец, определяя «время подобно» для выступления
полка из засады. Было предложено несколько версий, объясняющих вну-
треннюю мотивацию поведения Дмитрия Боброка.
Так, одни исследователи полагали, что вступлению засадного полка
в бой первоначально препятствовал сильный встречный ветер, перемены
которого якобы настойчиво ожидал Волынец35, а также солнце, слепившее
русских воинов и мешавшее им биться с врагом36. Другие считали, что Бо-
брок дожидался изменения не природных факторов, а расположения татар
на поле брани: он ждал, когда «поганые» окажутся наиболее уязвимыми.
По мнению этих ученых, Боброк сдерживал засадный полк «до момента,
когда преследующие бегущих (русских воинов. - В. Р.) татары повернулись
к засаде тылом»; после этого «Боброк стремительно бросился на татар»37.
При выдвижении обеих версий исследователи исходили из факта
реальности описанного в «Сказании» эпизода. Но художественное произ-
ведение, которым является исследуемый нами памятник древнерусской
литературы, имеет свою внутреннюю логику, поскольку «всякий истинно
творческий текст всегда есть в какой-то мере свободное и не предопреде-
ленное эмпирической необходимостью (курсив наш. - В. Р.) откровение
личности»38.
Позволяющие нам судить о первоначальном виде памятника тексты
ранних редакций «Сказания» (Основной, Летописной и Распространен-
ной) единодушны в том, что Боброк призывал ждать «времени подобна».
Однако далее следуют разночтения: согласно Летописной и Распростра-
ненной редакциям, воевода точно определяет это «время». «...Осмого часа
ждите, - призывает он серпуховского князя, - в он же имать быти благо-
дать Божия»39.
Тексты же, относящиеся к Основной редакции произведения, по-
разному трактуют слова воеводы: в одних Боброк упоминает «осмой час»,
в других - нет. Впрочем, в тех вариантах Основной редакции, где чтение
«осмого часа» отсутствует, дважды (!) упоминается «час» без числового
определения, но зато с непонятными в данном контексте указательными
местоимениями («вън же час», «от сего часа»), что, скорее всего, косвенно
свидетельствует об имевшей здесь место порче текста40. Любопытно, что
в так называемом Лондонском лицевом списке «Сказания», который, по
мнению Л.А. Дмитриева, также относится к Основной редакции, можно об-
наружить весьма характерные подписи к миниатюрам: «Князя Владимира
Андреевича полк стоит в лузе, крыяся при дубраве, ждет осмого часа...» и
«Княж Владимиров полк стоит и ожидает осмого часа, дондеж время при-
дет»41. Все это позволяет сделать вывод о том, что в первоначальном виде
«Сказания» Боброк, призывая Владимира Андреевича не спешить, точно
определял время будущего вступления в бой («осмой час»), и лишь в более
поздних текстах это чтение по каким-то причинам исчезло.
Итак, когда «приспе час осмый», согласно тексту памятника «абие духъ
южны потягну ззади их». После этого, «воспи Волынецъ гласом великим
князю Владимиру: “час прииде, а время приближися”. И паки рече: “братия
мои и друзи, дерзайте, сила Святого Духа помогает нам”**2. После этих
слов в «Сказании» следует описание атаки засадного полка и последовав-
ших затем разгрома и бегства татарских войск.
Отметив, что «осмой час» в «Сказании» непосредственно связан с
«духом южным», вернемся к анализу историографических заблуждений
относительно причин вступления в бой засадного полка.
Важно подчеркнуть: тексты «Сказания» вообще не содержат указаний
на то, что солнце светило русским воинам в глаза, мешая им дать достойный
отпор «поганым» и тем самым помочь гибнувшим в тот момент соратникам.
Исследователи, придерживающиеся данной версии, видимо, опирались на
«свидетельство» не древнерусского источника, а... В.Н. Татищева, который
действительно полагал, что «русским... тяжко бе, зане солнце бе во очи и
ветр»' '. На каких текстах мог основывать свою гипотезу В.Н. Татищев, нам
неизвестно.
Тексты «Сказания» не позволяют признать обоснованной и версию
тех исследователей, которые полагали, что Боброк ожидал, когда не подо-
зревавшие о засадном полке татары, увлекшись атакой, подставят под удар
свой фланг (или тыл). Мало того, что «Сказание» не упоминает о такой
тактической «небрежности» татарских войск, точно названное воеводой
время выступления - «осмой час» - позволяет считать, что, несмотря на
свою опытность, Боброк-полководец все-таки не мог предугадывать харак-
тер и определять время (причем с точностью до часа!) будущих ошибок
неприятеля. Также с трудом верится в то, что воевода мог предугадать час,
в который переменится ветер.
Версия исследователей о наличии в начале сражения встречного ветра,
якобы мешавшего полку Владимира Серпуховского выступить на помощь
основным силам русских, основывается на единственной фразе: «И егда
хотяху изыти на враги своя, и веаше ветр велий противу им в лице и бьяше
зело и возбраняше», читающейся тем не менее только в поздней (так назы-
ваемой Киприановской) редакции памятника44. Прав А.С. Демин, полагав-
ший, что поздние редакции «Сказания» «служили истолкованием (курсив
наш. - В. Р.) авторского текста»45. Вероятно, составитель этой редакции
произведения исходил из чтения текста первоначального вида о том, что
в момент «времени подобна» «духъ южны потягну ззади» русских воинов.
Поняв употребленный древнерусским книжником термин «духъ» как «ве-
тер» и истолковав процитированное чтение как указание на то, что перед
этим ветер дул русским «спереди», т. е. в лицо, исследователи и предло-
жили гипотезу «о встречном ветре». По-видимому, предложенная гипотеза
Время «Ч» в древнерусских произведениях ...
45
0)1 Казусы Древней Руси
является всего лишь одним из возможных истолкований текста «Сказания
о Мамаевом побоище».
Таким образом, отсутствие в историографии сколько-нибудь убеди-
тельных, опирающихся на тексты источника объяснений выжидательной
тактики Дмитрия Боброка приводит нас к необходимости подробнее ис-
следовать упомянутые в «Сказании» обстоятельства вступления засадного
полка в бой.
Нам представляется, что упомянутый в «Сказании» «духъ южный»,
потянувший «сзади» русских полков, не может ассоциироваться с попут-
ным для русских «южным ветром». Действительно, дующий с юга ветер
может быть попутным лишь для тех, кто движется с ним в одном направ-
лении (буквально «по пути» ветра). По-видимому, засадный полк, как и
основные силы Дмитрия Донского на Куликовом поле, не мог наступать,
двигаясь с юга на север. Существующие в науке локализации «Куликова
поля» и расположения на нем русских и ордынских войск (традиционная,
принадлежащая С.Д. Нечаеву46 и поддержанная большинством исследова-
телей, а также новейшая - В.А. Кучкина47) однозначно признают тот факт,
что русские могли совершать наступательные действия только с севера на
юг. Следовательно, если в «Сказании» речь шла о южном ветре, последний
ни в коем случае не мог бы подуть «сзади» русских, а значит, не мог быть
попутным для них48.
Вероятно, появление определения «южный» нельзя объяснять и нео-
сведомленностью средневекового книжника, решившего заново описать
героическую битву на Непрядве спустя целое столетие. Мы не согласны с
В.А. Кучкиным, полагающим, что «здесь очевидно явное незнание некото-
рых реалий сражения автором “Сказания о Мамаевом побоище”»49. Стоит
иметь в виду, что автор памятника подробно описывает маршрут движения
русских войск к полю Куликову, сносно ориентируется в его расположении
по отношению к сторонам света (Мамай движется с востока, перед битвой
«земля стонет велми... на восток до моря, а на запад до Дуная»50). Кроме того,
необходимо помнить, что слово «духъ» полисемантично, а следовательно,
интерпретация фразы «духъ южный» как «южный ветер» сама по себе тре-
бует серьезного обоснования51. Насколько можно судить, в первоначальном
виде «Сказания» слово «ветер» в исследуемом нами эпизоде не употребля-
лось вообще; впервые оно появилось опять-таки в поздней Киприановской
редакции памятника52.
По-видимому, употребление прилагательного «южный» было вполне
сознательным и намеренным (столь же намеренным, сколь и настойчивое
употребление термина «духъ» в ранних редакциях «Сказания» вместо
возможного, по крайней мере с позиций составителя Киприановской
редакции, термина «ветер»), а вовсе не являлось ошибкой автора па-
мятника. Помимо приведенных выше рассуждений общего характера,
важным аргументом в пользу такого заключения является наличие в
тексте «Сказания» еще одного упоминания юга в аналогичном, по наше-
му мнению, контексте. Незадолго до описания действия засадного полка
в текст памятника помещен рассказ о видении некоего Фомы Кацыбея
(Кацибеева) - одного из воинов Дмитрия Донского. Стоя на страже, «на
высоце месте», упомянутый Фома «видети облакъ от востока велико зело
Время «Ч» в древнерусских произведениях ...
изрядно... аки некия плъки к Западу идущь». Вдруг явились «от полуден-
ная же страны (т. е. с южной стороны! - В. Р.) два юноши, имуща на себе
светлый багряница, лица их сияюща, аки солнца, въ обоихъ рукахъ у них
острые мечи, и рекуще плъковникомъ: “Кто вы повеле требити отечество
наше, его же нам Господь дарова?” И начаша их (упомянутые полки. -
В. Р.) сещи и всех изсекоша, ни единъ же от них не избысть»53. В данном
«видении» присутствует описание типичной для древнерусской литера-
туры ситуации помощи небесных сил. (В случае с Фомой Кацыбеем под
загадочными юношами легко угадываются «сродники великого князя» -
святые великомученики Борис и Глеб. Движение же «облака» с востока
на запад точно повторяет маршрут движения на Русь полчищ «безбожно-
го Мамая»; именно его «полки» «секут» св. Борис и Глеб.)
Интересно, что разгром татар в «Сказании» также описывается как ре-
зультат небесного заступничества: действительно, «сынове русские, силою
Святого Духа и помощию святых мученикъ Бориса и Глеба, гоняще, сечаху»
«поганых татар»54. В данном контексте «видение» Фомы Кацыбея можно
рассматривать как «предвосхищенное будущее», сюжеты же, связанные с
описанием русской победы над ордынцами, - как «воплощенное предска-
зание» этого «вещего» воина.
Даже если употребление определения «южный» относительно «духа»
можно было бы отнести на счет неосведомленности автора памятника, то
упоминание «полуденной страны» как места, откуда к русским приходит
небесное заступничество, к подобным ошибкам отнести вряд ли возможно: 47
очевидно, что детали описания феноменов «мира невидимого» («помощи
свыше») никак не могли быть связаны с конкретными сторонами Кулико-
ва поля.
Таким образом, представляется, что употребленное древнерусским
книжником прилагательное «южный» относилось не к реальному ветру,
дующему с какой-либо стороны, а к духу, к нематериальной, сверхъесте-
ственной силе, олицетворявшей снисхождение Божественной благодати на
русские полки и не зависевшей от земных событий и явлений. Смысловая
и образная связь «видения» и его «воплощения» дает почву именно для
таких заключений. Упоминание «духа южного», вероятнее всего, является
сознательным творческим ходом автора «Сказания», дважды (!) пожелав-
шего отметить, что помощь русским полкам приходила именно от этой, в
данном контексте богоизбранной, стороны света.
Давно отмечено, что пространство земной жизни в средневековом
христианском мировоззрении являлось лишь проекцией «пространства»
неземного; существовала некая «пространственная непрерывность», «ко-
торая переплетала и соединяла небо и землю» и которой соответствовала
аналогичная «непрерывность времени»55. Именно по этой причине, как
отмечал Ю.М. Лотман, «земля получает несвойственное современным
географическим понятиям религиозно-моральное значение», а сама «гео-
графия выступает как разновидность этического знания»56. Те же функции
в системе восприятия пространства выполняли и стороны света, которые
«с древнейших времен играли важную роль в создании системы координат,
позволявшей человеку ориентироваться в окружающем его мире, в физи-
ческом и сакральном пространстве»57.
co I Казусы Древней Руси
По мнению А.В. Подосинова, «южная сторона горизонта во многих
культурах древности принадлежала к числу сакральных сторон света»58.
По-видимому, русская средневековая культура в данном случае исклю-
чением не являлась. Восприятие юга как сакрального, богоизбранного
места нашло отражение в древнерусском переводе «Истории Иудейской
войны» Иосифа Флавия - с XI в. чрезвычайно популярном на Руси про-
изведении59. Еще ярче восприятие богоизбранности юга в русском средне-
вековом сознании проявилось в припеве к стихирам, которые с давних
пор исполняли в русской церкви в «царские часы» (накануне Рождества
Христова, Богоявления и в Великую Пятницу)60. Название припева - «Бог
от юга» - перекликается также с фразой текста Служебной Минеи на
8 сентября (праздник Рождества Пресвятой Богородицы). В Минее со-
держится чтение: «Пророкъ Аввакумъ, умныма очима провиде, Господи,
пришествие Твое. Темъ и вопияше: отъ юга приидетъ Богъ. Слава силе
Твоей, слава снисхождению Твоему»61. Тот факт, что в минейном тексте на
8 сентября - день, когда произошло «побоище на Дону» (!) - содержится
явное указание на богоизбранность юга, позволяет с большой степенью
вероятности предположить наличие смысловой связи между указанным
чтением Минеи и «духом южным» «Сказания о Мамаевом побоище».
Полагаем, что упоминание «духа южного» было связано с необходимо-
стью описать сцену не батальную, а провиденциальную — сцену, где «дух»
знаменовал собой сошествие на помощь русским «силы Святого Духа».
Семантическая близость «южного духа» и «Святого Духа» актуализиро-
вала именно знаковую функцию исследуемого чтения. Упоминание «духа
южного» получало особое звучание еще и потому, что восприятие юга как
богоизбранной стороны света, возможно, приобретало специфическую
напряженность именно в день Рождества Пресвятой Богородицы, когда
русским воинам на Куликовом поле и было послано заступничество не-
бесных сил. Судя по всему, «духъ южный», не будучи связан с реальным
южным ветром Куликовской битвы, являл собой подчеркиваемое автором
«Сказания о Мамаевом побоище» знамение снисходящей на православное
воинство Божественной благодати.
Итак, ни одна из предложенных ранее версий относительно того, что
именно побудило Волынца медлить со вступлением в бой, не опиралась
на текст самого источника. Скорее всего, для автора памятника успех за-
садного полка не связывался ни с фактором внезапности, ни с тем, что в
лице засадного полка в бой был введен мощный воинский резерв62. Побе-
ду «православному воинству» обеспечило Божие Проведение, во власти
которого было и «попустить» «поганым» «трехъ ради нашихъ», и разбить
«нечестивых» силою Святого Духа. Именно конца «попущения Божьего»
(«попущения», равнозначного «гибели христианской») и начала снисхож-
дения «Божьей Благодати» ожидал Дмитрий Боброк в «Сказании о Ма-
маевом побоище».
Вернемся, наконец, к «осмому часу». Резонен вопрос, почему древне-
русский книжник именно в «осмом часу» «заставил» своего героя ожидать
Божьего заступничества. Нам представляется, что между «духом юж-
ным», «осмым часом» и снисхождением помощи свыше русским полкам
существует тесная смысловая связь. Действительно, в описании разговора
Боброка и Владимира Серпуховского мы находим упоминание «осмаго
часа» как времени, когда, по мысли воеводы, следует ожидать Божьей по-
мощи, как «времени подобна», наиболее подходящего для вступления в бой.
Смысловая связь между двумя деталями «Сказания» особенно ярко прояв-
ляется в том, что автор памятника сознательно и вполне жестко определяет
последовательность произошедших событий: как только «осмый час при-
спе», «абие (т. е. тотчас, немедленно. - В. Р.) духъ южны потягну».
Исследователям проблема хронометрии событий Куликовской бит-
вы ранее представлялась решенной. Из четырех известных памятников
Куликовского цикла только два - самые поздние (летописная Повесть и
«Сказание») - содержат указания на часы, в которые происходили те или
иные сражения на Непрядве. Вслед за М.Н. Тихомировым большинство
исследователей склонны доверять информации летописной Повести, со-
гласно которой битва продолжалась три часа - «от шестого часа до девято-
го»63. С этой точкой зрения согласен и В.А. Кучкин, который считает, что
«сведения о продолжительности Куликовской битвы содержатся в “Лето-
писной Повести”: с 6 по 9 час, т. е. с 10 ч 35 мин до 13 ч 35 мин». Правда, по
справедливому замечанию исследователя, «“Летописная Повесть” не знает,
когда в сражение вступил засадный полк. Время его вступления называет
“Сказание о Мамаевом побоище”: 8 час (12 ч 35 мин)». С другой стороны,
полагает В.А. Кучкин, «автор “Сказания” не знал, когда началась и когда
закончилась битва». На основе приведенных аргументов исследователь
приходит к выводу о «согласованности разных источников относительно
хронологии важнейших эпизодов битвы», что, на его взгляд, «позволяет с
доверием относиться к содержащимся в них хронологическим указаниям»64.
Однако, по нашему мнению, ни одна из приведенных точек зрения не
является в достаточной мере обоснованной. Само по себе более раннее
(по сравнению со «Сказанием») происхождение летописной Повести еще
не является решающим аргументом в пользу большей достоверности со-
держащейся в ней хронологической информации. Наоборот, большая от-
даленность памятников от описываемых событий (в случае с летописной
Повестью - как минимум несколько десятилетий, в случае со «Сказани-
ем» - приблизительно 100-120 лет) в одинаковой степени позволяет усо-
мниться в точности хронологических расчетов авторов этих произведений.
«Согласованность» же версий обоих памятников представляется нам на-
думанной.
Во-первых, сам автор «Сказания» полагал, что знает, когда началась
битва: в третьем часу «съступишася грозно обе силы великиа»65. Более
того, автор памятника рассказывает о событиях, произошедших, по его
мнению, между вторым и третьим часами66. Под шестым же часом, когда
согласно летописной Повести битва только начинается ( «въ шестую годину
дни начата появляться погании измаилтяне в поле... и тоу сретошася пол-
ци...»67), в «Сказании» находим рассказ о том, как «Божиимъ попущениемъ,
греховъ ради нашихъ начата погании одолевати» (именно в это время и
происходит знаменитый разговор Владимира Серпуховского и Боброка о
времени вступления в бой на помощь погибающим соплеменникам).
Во-вторых, оказывается, что автор «Сказания» знал и время окончания
боя. Если сравнить описания происходившего на Куликовом поле в обоих
Время «Ч» в древнерусских произведениях ...
49
о I Казусы Древней Руси
памятниках, станет ясно, что свои последние хронометрические указания
авторы летописной Повести и «Сказания» отнесли к одному и тому же
событию, по-разному лишь «датировав» его. Действительно, согласно ле-
тописной Повести «въ 9 часъ дни, призре Господь милостивыми очим на...
вся христианы... видеше вернии, яко въ 9 часъ бьющеся ангелы помогающе
христианом и святыхъ мученикъ полкы...» (интересно, что среди мучеников
бьются и «тезоименитные Борис и Глеб»)68. В «Сказании», как уже было
упомянуто, лишь только «осмый час приспе», появляется «духъ южный».
Как представляется, под разными часами (8-м и 9-м) в обоих памятниках
описывается не сама воинская победа русских, а в первую очередь непре-
менно предшествовавшая ей провиденциальная сцена сошествия Божьей
благодати, оказавшей помощь православным воинам.
Таким образом, мы полагаем, что существуют две отличные друг от
друга хронометрические версии событий Куликовской битвы, ни одна из
которых не может быть признана нами в качестве более достоверной69.
Появление в столь поздних, относительно описываемых в них событий,
памятниках «точных» хронометрических данных может, на наш взгляд,
быть объяснено исключительно спецификой средневекового восприятия
времени.
Средневековый человек «не знал ни унифицированного времени, ни
единообразной хронологии»70: сутки делились на часы неодинаковой про-
тяженности, а сам отсчет суточного времени мог начинаться с различных
моментов — не только с полуночи (как это принято теперь), но и с заката,
восхода и даже с полудня. По-видимому, точность измерения времени,
по крайней мере внутри суток, для Средневековья не была столь же акту-
альной, как для Нового времени. Несмотря на то что проблема счисления
времени в пределах суток в отечественной историографии поднималась
лишь эпизодически71, существует аргументированное мнение специалиста
в области древнерусской хронологии Н.В. Степанова, полагавшего, что на
Руси «никакой определенной системы в счете часов не было»72.
Причины отсутствия в Средние века точности в измерении столь малых
промежутков времени, как час, объясняются в первую очередь тем, что в
подобной точности не испытывали особой нужды. «Поскольку темп жизни
и основных занятий людей зависел от природного ритма, то постоянной
потребности знать точно, который час (курсив наш. - В. Р.), не существо-
вало... Жизнь населения регулировалась боем колоколов, соразмеряясь с
ритмом церковного времени»73. Последовательность же церковных служб
и точное в срок их совершение, возможно, также не зависели от счисления
каждого конкретного момента времени. Подобные изо дня в день, через
определенные промежутки времени повторяющиеся события можно было
хронометрировать приборами типа песочных часов, отмеряющих время
только «от и до», но не отсчитывающих и не обозначающих каждый мо-
мент внутри этого промежутка.
Отсутствие интереса к измерению времени в столь малых величинах74
порождало и отсутствие необходимых для подобных вычислений приборов.
В Западной Европе, например, «до XIII-XIV вв. приборы для измерения
времени были редкостью, предметом роскоши»75. Та же ситуация наблюда-
лась и на Руси. Так, первое описание механических часов, установленных
на одной из башен Московского Кремля, зафиксировано под 1404 г. «Час-
ник» был создан выходцем из Сербии монахом Лазарем и обошелся казне
в 150 рублей76. При этом следует отметить, что установка башенных часов
на Руси на протяжении всего XV в. представляла собой явление крайне
редкое и воспринималась как исключительное событие. Как отмечалось
в литературе, «можно с уверенностью сказать, что... широкого размаха
строительство башенных часов достигает лишь в XVI веке»77.
Помимо механических часов, существовали приборы, столь же точно
измеряющие время, но основанные на иных, так сказать, технологических
принципах функционирования. Однако «клепсидры» - водяные часы -
даже в Западной Европе «оставались редкостью, были, скорее, игрушкой
или предметом роскоши, чем инструментом для измерения времени»78. Что
же касается «гномонов» - солнечных часов, то они «были пригодны лишь
в ясную погоду»79 и в светлое время суток. На Руси, особенно на северо-
востоке, где лишь меньшая часть дней в году солнечная, а значительная
часть года - это время «пасмурное», в большинстве случаев солнечные
часы также оказывались бездейственными.
Даже само упоминание «часа» как «астрономической единицы време-
ни», давно замеченное в русских средневековых текстах (по наблюдениям
Н.Ф. Мурьянова, такое упоминание содержится уже в «Путятиной Ми-
нее»80, дошедшей в рукописи XI в.), не может служить доказательством из-
мерения столь малого для Средневековья отрезка времени. Термин «час»,
как показал Н.В. Степанов, долгое время на Руси не имел ничего общего
с теми «равными часами», которые составляли ’/ суток и которыми
принято измерять время теперь81. Каким же образом все-таки измерялось
суточное время, откуда в источниках появляются почасовые указания?
Как писал Н.В. Степанов, «русские не по часам определяли время
обеден, вечерень, заутрень, а, наоборот, по обедням, вечерям и заутреням
( а также по другим службам суточного круга, добавим мы. - В. Р.) любите-
ли определяли, когда желали этого, свои часы»82. При этом, как совершенно
верно, на наш взгляд, отметил Н.В. Степанов, именно «важность (описы-
ваемого в произведениях древнерусской литературы) события (добавим,
его значимость. - В. Р.) требовала... подобающего описания»83, в том числе
и с привлечением хронометрической информации об этом событии.
Важно также, что в представлении людей Средневековья явления ре-
альной жизни, а также события, описываемые в литературных произведе-
ниях, разворачивались как бы «сразу в двух временных планах - в плане
эмпирических, преходящих событий земного бытия и в плане осуществле-
ния Божьего предначертания»84. При этом само историческое время (время
«преходящих событий». - В. Р.) было подчинено сакральному времени85.
Поскольку средневековое сознание основу основ и причину причин вся-
кого явления видело в действиях Творца, «конкретные исторические со-
бытия не воспринимались буквально, как нечто самоценное, их соотносили
с промыслом Божиим и наделяли провиденциально-эсхатологическим
значением»86. Действовал «принцип», согласно которому событие было
«существенно... постольку, поскольку оно являлось со-Бытием»87, а «сами
факты земной жизни в сознании человека представали не иначе как знаки
и образы, связанные с действием и волеизъявлением Творца»88. Все это
Время «Ч» в древнерусских произведениях ...
51
ю I Казусы Древней Руси
создавало своеобразные критерии как для отбора требующих фиксации
фактов, так и для выбора средств их описания. Средневековому книжнику,
вероятно, приходилось учитывать и то, когда событие могло произойти на
самом деле, и то, как соотносилось «проставленное» им «земное время»
данного события с временем «сакральным».
Поэтому, как нам представляется, появление точных почасовых указа-
ний как в летописной Повести о Куликовской битве, так и «Сказании о
Мамаевом побоище», скорее всего, может быть объяснено сознательным
творческим приемом авторов, стремившихся подчеркнуть наиболее важ-
ные, по их мнению, события битвы именно таким образом - «хронометри-
ровав» их89.
Такая точка зрения представляется тем более резонной, что хрономе-
трические измерения во время битвы, по-видимому, вообще не произво-
дились - ни при помощи часов, ни при помощи колокольного звона90. Хро-
нометрические версии событий сентября 1380 г., скорее всего, появились
много позже, когда потребовалось описать произошедшее на Куликовом
поле, причем описать иначе, чем в «Задонщине» и краткой летописной
Повести. При этом авторы летописной Повести и «Сказания», вероятно,
исходили из того, что точное хронометрирование выделяет описываемое
ими событие из общего ряда хронологически не привязанных фактов рас-
сказа. Условность же хронометрических указаний отнюдь не смущала ни
самих книжников, ни их «читательскую аудиторию», поскольку, скорее
всего, являлась нормой современного им художественного повествования.
Исходя из вышеизложенного, представляется, что упоминание «осма-
го часа» как момента времени, когда «имать быти благодать Божия», как
момента, когда «сила Святого Духа» начинает помогать русским полкам,
не отражает реальный 8-й час дня (по древнерусской системе счисления
часов), а имеет символическое значение. Тем более что Средневековью
были известны не только «добрые» и «злые» дни91, но также «добрые» и
«злые» часы92.
Возможно, автор «Сказания» имел основания полагать, что «осмой
час» в субботу 8 (!) сентября 6888 (три восьмерки сразу!) года непременно
должен был быть «счастливым», отмеченным Божественной благодатью и
поэтому благо-приятным для победы русских сил. Именно такие соображе-
ния, вероятно, и могли подвигнуть средневекового книжника написать, что
Дмитрий Боброк ожидал «осмого часа», «времени подобна», когда «благо-
дать Божия» снизойдет на православное воинство.
Анализ числовой символики исследуемого нами «осмого часа» укре-
пляет такое предположение. Дело в том, что «идеи о числах как теологи-
ческих символах, отражающих сущность высшей непознаваемой истины,
постоянно питали средневековую мысль, воплощаясь в той или иной
форме»93. При этом «функции последних (т. е. чисел. - В. Р.) в контексте
того или иного произведения... не всегда (были) определены только факто-
логическими задачами; не редки сочинения, в которых числа использованы
как средство художественной изобразительности, средство, обладающее
специфической сакрально-символической семантикой»94. Число несло
дополнительную, причем часто сущностную, информацию о том или ином
событии или явлении.
В христианстве число 8 с древнейших времен символизировало веч-
ность, «новый эон», «Царство Божие»95, поскольку ассоциировалось с
«восьмым днем Творения». Начиная с трудов Отцов Церкви, время земной
жизни разворачивалось в рамках своеобразной «седмицы». Земное время
являлось как бы отражением символического времени «шести дней творе-
ния», включая и «седьмой день», когда Господь «почил от всех дел своих»96.
Земная жизнь человечества, вплоть до Страшного суда, укладывалась в
указанную седмицу, по окончании которой и Страшного суда должен был
начаться «восьмой день», представляющий собой «последний век», вечно
длящийся «единый день» Спасения97.
Символическое значение числа 8 было хорошо известно в средневековой
Руси: наступление восьмой тысячи лет от Сотворения мира воспринималось
как начало «восьмого дня», которому должен был предшествовать Страш-
ный суд. Именно подобное восприятие времени и определило напряжен-
ность ожидания 7000 г. от сотворения мира (1492 г. от Рождества Христова),
вслед за которым православные христиане ожидали «окончания времен»98.
Широкое распространение символика «восьмерки получила и в иконогра-
фии - знаменитый восьмиугольник, в который как бы вписывалась фигура
Христа («Спас в силах»), олицетворял собой эсхатологическую Вечность99.
По наблюдениям Д.С. Лихачева, древняя восьмиугольная форма крещаль-
ной купели также имела символический смысл: погружаемый в купель
новообращенный христианин тем самым приобщался к «жизни вечной», к
Спасению100.
Как уже говорилось выше, упоминание «осмого часа» как времени, не-
сущего на себе черты начала «вечной жизни», возможно, имело дополни-
тельную символическую значимость еще и потому, что сами описываемые в
памятнике события происходили в знаменательный для христианина день -
день Рождества Пресвятой Богородицы'^'. «Сказание», равно как и другие
памятники Куликовского цикла, специально подчеркивает этот факт102.
Рождество Богородицы согласно церковному преданию «ознаменовано на-
ступлением времени, когда начали исполняться великие и утешительные
обетования Божия о спасении рода человеческого от рабства диавола»103.
Можно предположить, что именно в данном контексте символика празд-
ника Рождества Божьей Матери была тесно связана с символикой числа 8.
Действительно, и праздник, и число так или иначе семантически связаны с
образами Спасения: праздник знаменует начало Спасения, а число - саму
Вечную жизнь - эсхатологическую вечность спасшегося человеческого рода.
Таким образом, упомянутый «осмой час», по-видимому, отражал
своеобразное «художественное время» памятника, автор которого с пози-
ций провиденциализма воспринял и описал победу русских на Куликовом
поле. В контексте наступления спасительного для всего человеческого
рода праздника Рождества Богородицы использование числовой символи-
ки «осмаго часа» (ассоциация с Вечностью), вероятнее всего, было вызвано
стремлением автора произведения усилить и уточнить и без того выражен-
ную в «Сказании» художественную линию, посвященную теме избавления
православных христиан от «казней Господних» в лице «поганых» татар104.
Итак, действия воеводы, ожидающего наступления «осмого часа», про-
ясняются, как только мы представим, что перед нами разворачиваются
Время «Ч» в древнерусских произведениях...
53
Казусы Древней Руси
помыслы и поступки не реального Дмитрия Боброка - героя Куликовской
и других битв второй половины XIV в., а Дмитрия Боброка - героя художе-
ственного произведения рубежа XV-XVI вв. - «Сказания о Мамаевом по-
боище». Анализ некоторых «подробностей» в описании кульминационного
эпизода сражения («дух южны», «осмой час») позволяет сделать вывод, что
перечисленные детали, вероятно, не соотносились с реальными обстоятель-
ствами Куликовской битвы. Функция указанных деталей - знаковая.
Таким образом, мы видим, что использование недостоверных хроно-
логических данных было вполне преднамеренным и осуществлялось в
рамках определенной традиции датирования информации, существовав-
шей на протяжении нескольких столетий.
Судя по всему, в средневековой Руси интерес к датам был двояким:
даты, знаменующие что-либо, могли привлечь внимание средневекового
книжника, и наоборот, датировки - определения места события во време-
ни - могли быть использованы по отношению к действительно значащим
событиям в качестве средств их дополнительной смысловой маркировки.
И тот, и другой способы использования хронологической информации
применялись при описании событий, связанных с монголо-татарами: и в
статье, помещенной под 6745 (1237) г. в Лаврентьевской летописи о наше-
ствии Батыя, и в «Поучениях» Серапиона Владимирского, и в «Сказании о
Мамаевом побоище».
Что и говорить: нашествие на Русь войск Батыя и победа над монголо-
татарами на Куликовом поле не могли не быть значащими (и поэтому
«знаковыми»!) событиями для древнерусских книжников. Именно это
обстоятельство не только не помешало, но, судя по всему, весьма поспособ-
ствовало использованию писателями «недостоверной» хронологической
информации. У казанные недостоверные с современной точки зрения детали
описания как бы направляли восприятие читателя в необходимое авторам
смысловое русло, позволяя за «военно-историческим» сюжетом разглядеть
провиденциальный подтекст, не менее, а может быть, и более значимый
для понимания смыслов, заключенных в произведениях средневековой
литературы. Нелишним будет напомнить наблюдение С.С. Аверинцева, об-
ратившего внимание на то, что по средневековым представлениям «человек
обязан (был) быть... “знающим значение знаков и знамений” - или, если
угодно, семиотиком»105.
1 Гуревич ЛЯ. Категории средневеко-
вой культуры. М., 1984. С. 43 и далее.
Ср.: Пронштейн А.П., Кияшко В.Я.
Хронология. М., 1981. С. 24; Ле Гофф Ж.
Цивилизация средневекового Запада.
М„ 1992. С. 164-166.
2 Ле Гофф Ж. Указ. соч. С. 165-166.
3 По словам А.Я. Гуревича, «в процес-
се художественного познания мира»
Средневековье вырабатывало «свои,
автономные категории времени и про-
странства», которые обусловливались
«особыми художественными задачами,
возникавшими перед писателями, поэ-
тами, живописцами» См.: Гуревич АЯ.
Указ. соч. С. 52.
4 Лихачев Д.С. Текстология. На материа-
ле русской литературы X-XVII веков.
2-е изд., исправ. и доп. Л., 1983. С. 379.
3 Колобанов ВА. К вопросу о датировке
первого «Слова» Серапиона Владимир-
ского // Учен. зап. Владимир, пед. ин-та.
Вып. 4. Владимир, 1958. С. 258. См. так-
же: Подскальски Г. Христианство и бо-
гословская литература в Киевской Руси
(988-1237 гг.). СПб., 1996. С. 181-182.
Примем. 476,484; Топоров В.Н. Святость
и святые в русской духовной культуре:
В 2 т. М„ 1998. Т. 2. С. 239-240, 243.
6 См.: Лурье Я.С. Лаврентьевская ле-
топись - свод начала XIV века //
ТОДРЛ. Т. 29. Л., 1974. С. 66-67. Ср.:
Прохоров Г.М. Летопись Лаврентьев-
ская // Словарь книжников и книж-
ности Древней Руси. Вып. 1. Л., 1987.
С. 244.
7 В.А. Кучкин исходил из факта упо-
минания в «Сказании» Константино-
Еленинских ворот Московского
Кремля. До 1476 г. ворота назывались
Тимофеевскими, а новое их название
впервые появилось в источниках лишь
с 1490 г. Исследователь связал переиме-
нование ворот со строительством новых
кремлевских стен, происходившим
в 1485 г. По его мнению, именно по-
сле этого времени и могло появиться
«Сказание». См.: Кучкин В.А. Победа
на Куликовом поле // Вопросы исто-
рии. 1980. № 8. С. 7; Он же. Дмитрий
Донской и Сергий Радонежский в канун
Куликовской битвы // Церковь, обще-
ство и государство в феодальной России:
Сб. ст. М., 1990. С. 109-114. В одной из
работ Б.М. Клосс датировал состав-
ление памятника 1513-1518 гг. (см.
подробнее: Клосс Б.М. Об авторе и вре-
мени создания «Сказания о Мамаевом
побоище» // In memoriam: Сб. памяти
Я.С. Лурье. СПб., 1997. С. 259-262),
позже он пересмотрел свою точку зре-
ния, предложив датировать «Сказание»
1521 г. (см.: Он же. Избранные труды:
В 2 т. М„ 1998. Т. 2. С. 333-345).
8 ПСРЛ. Т. 1. М„ 1997. Стб. 462.
9 См. подробнее: Бережков Н.Г. Хроно-
логия русского летописания. М., 1963.
С. 109-110,318-319.
10 См. также: Бородихин А.Ю. Цикл по-
вестей о нашествии Батыя в летописях
и летописно-хронографических сводах
XIV-XVII вв.: Дис.... канд. филол. наук.
Машинопись. Новосибирск, 1989. С. 78.
11 Новгородская первая летопись старше-
го и младшего изводов. М., 2000. С. 75.
12 Бородихин А.Ю. Указ. соч. С. 78-79,
81-82.
13 При этом «трудно назвать исследовате-
ля, писавшего о Батыевом нашествии,
который не приводил бы этих мест как
ярких свидетельств современника», до-
бавляет В.А. Кучкин. См.: Кучкин В.А.
Монголо-татарское иго в освещении
древнерусских книжников (XIII -
первая четверть XIV в.) // Русская
культура в условиях иноземных на-
шествий и войн. X - нач. XX в.: Сб.
науч. тр. Вып. 1. М., 1990. С. 44. Ср.:
Прохоров Г.М. Повесть о Батыевом на-
шествии в Лаврентьевской летописи //
ТОДРЛ. Т. 28. Л., 1974. С. 78-83.
14 См. подробнее: Рудаков В.Н. Монголо-
татары глазами древнерусских книж-
ников середины XIII-XV вв. М., 2009
С. 45-101.
13 Повесть временных лет / Под ред.
В.П. Адриановой-Перетц. 2-е изд., не-
прав. и доп. СПб., 1996. С. 22.
16 ПСРЛ. Т. 1. Вып. 2. Стб. 460. «Это
“обою страну”, - писал Д.С. Лихачев, -
могло касаться только пролива Суд, его
обеих сторон, но не Рязанской земли».
См.: Лихачев Д.С. К истории сложения
«Повести о разорении Рязани» //
Лихачев Д.С. Исследования по древне-
русской литературе. Л., 1986. С. 261.
17 См.: Лихачев Д.С. К истории сложе-
ния «Повести о разорении Рязани».
С. 261. Ср.: Комарович В.Л. Литература
Рязанского княжества XIII-XIV вв. //
История русской литературы: В 10 т.
М.;Л., 1945. Т. 2. Ч. 1.С. 75.
18 Веселовский А.Н. Видение Василия
Нового о походе русских на Византию
в 941 г. // ЖМНП. Ч. 261.1889. Январь.
С. 80-92.
19 Вилинский С.Г. Житие св. Василия
Нового в русской литературе. Ч. 1 //
Время «Ч» в древнерусских произведениях ...
55
о> I Казусы Древней Руси
Зап. ист.-филол. фак. Новорос. ун-та.
Вып. 6. Одесса, 1911. С. 320.
20 Новгородская первая летопись стар-
шего и младшего изводов. М.; Л., 1950.
С. 74.
21 См., например: Исх. 10: 4-19. Для
сравнения: в ПВЛ из пяти упоминаний
о саранче два относятся именно к рас-
сказам о «казнях Божиих»: о наведении
саранчи на фараона подробно рассказы-
вает князю Владимиру Святославичу
Философ; в этом же контексте саранча
упоминается и в так называемом от-
рывке «О казнях Божиих» под 6576
(1068) г. См.: Повесть временных лет...
С. 44, 73.
22 Истрин В.М. Откровение Мефодия
Патарского и апокрифические видения
Даниила в византийской и славяно-
русской литературе: Исследования и
тексты. М„ 1897. С. 87, 94, 98, 104, 109,
112.
23 См., например: Кусков В.В. История
древнерусской литературы. 5-е изд., не-
прав. и доп. М., 1989. С. 132.
24 ПЛДР. XIII век. М., 1981. С. 452. Ср.:
Там же. С. 450, 452.
25 См. подробнее: Рудаков В.Н. Особен-
ности восприятия монголо-татар
во второй половине XIII века (на
материале «Поучений» Серапиона
Владимирского) // Проблемы ис-
точниковедения истории книги:
Межведомств, сб. науч. тр. Вып. 3. М.,
2000. С. 83-99.
26 ПЛДР. XIII век. С. 444.
27 См., например: Шевырев А.С. Обозре-
ние русской словесности в XIII в. //
ИОРЯС. СПб., 1854. Т. 3. Стб. 89-90;
Петухов Е.В. Серапион Владимирский,
русский проповедник XIII века. СПб.,
1888. С. 23; История русской литерату-
ры. Т. 2. Ч. 1. С. 47 и др.
28 Возможная символическая «нагрузка»
упомянутых «40 лет» не позволила
Г. Подскальски однозначно датировать
второе «Поучение»: «...в зависимости
от того, является ли указанный здесь
срок в 40 лет реальным или символи-
ческим (ср. срок странствий Израиля
в пустыне), определяется и дата напи-
сания поучения...» См.: Подскальски Г.
Христианство... С. 182. Примеч. 484.
В.Н. Топоров вообще не рассматривает
упомянутое 40-летие как реальный вре-
менной отрезок, а анализирует лишь
возможные символические значения
указанной цифры. См.: Топоров В.Н.
Указ. соч. С. 291-292. Примеч. 39.
29 См., например: «А сыны ваши будут
кочевать в пустыне сорок лет, и будут
нести наказание за блудодейство ваше,
доколе не погибнут все тела ваши в
пустыне. <...> Вы понесете наказание
за грехи ваши сорок лет... дабы познали,
что значит быть оставленными Мною»
(Числа. 14: 33-34); «И воспылал гнев
Господа на Израиля, и водил Он их
по пустыне сорок лет, доколе не кон-
чился весь род, сделавший зло в очах
Господних» (Числа. 32: 13); «И помни
весь путь, которым вел тебя Господь,
Бог твой, по пустыне, вот уже сорок
лет, чтобы смирить тебя и узнать, что
в сердце твоем, будешь ли хранить
заповеди Его, или нет» (Вт. 8: 2). Ср.:
«Сыны Израилевы продолжали делать
злое пред очами Господа, и предал их
Господь в руки Филистимлян на сорок
лет» (Суд. 13: 1).
30 Ряд исследователей полагают, что
этим человеком являлся некто Петр
Акерович, игумен Спасского монасты-
ря на Берестове, поставленный в «ми-
трополиты всея Руси» черниговским
князем Михаилом Всеволодовичем в
период недолговременного княжения
последнего в Киеве во второй полови-
не 30-х годов XIII в. и высланный из
столицы преемниками Михаила (см.
подробнее: Пашуто В.Т. Очерки по
истории Галицко-Волынской Руси. М.,
1950. С. 58-62).
31 Матузова В.И. Английские средневе-
ковые источники IX-XIII вв. М., 1979.
С. 152, ср.: С. 182.
32 О другом отголоске подобных времен-
ных расчетов в западных хрониках см.:
Назаренко А.В. Русь и монголо-татары
в Хронике сплитского архидьякона
Фомы (XIII в.) // История СССР.
1978. № 5. С. 152. В более поздний пе-
риод внимание книжников также было
обращено на символическое истолкова-
ние числа 40: так, в одном из сборников
выписок исторического содержания
мы находим указание на то, что взятие
Царьграда турками происходило «до
исхода лет за 40» (т. е. за 40 лет до исхода
седьмой тысячи лет). См.: Горский А.В.,
Невоструев К.И. Описание славянских
рукописей Московской синодальной
библиотеки. Отд. II. Ч. 3. М., 1862.
С. 667 (ср.: Тихонравов Н.С. Соч.: В 2 т.
М„ 1898. Т. 1.С. 237).
33 Истоки русской беллетристики. Л.,
1970. С. 304 (раздел написан Л.А. Дмит-
риевым).
34 См., например: Каргалов В.В. Конец
ордынского ига. М., 1984. С. 55-56.
35 Арцибашев Н.С. Повествование о
России: В 4 т. М., 1838. Т. 2. С. 133:
Афремов И.Ф. Куликово поле с ре-
ставрационным планом Куликовской
битвы. В 8-й день сентября 1380 года.
М., 1849. С. 31; Костомаров Н.И.
Куликовская битва. М., 1864. С. 21;
Бестужев-Рюмин К.Н. О злых временах
татарщины и о страшном Мамаевом по-
боище. СПб., 1865. С. 61; Соловьев С.М.
История России с древнейших вре-
мен // Соловьев С.М. Соч.: В 18 кн. М.,
1988. Кн. 2. С. 276-277.
36 См., например: Карамзин Н.М. История
государства Российского: В 12 т. М.,
1993. Т. 5. С. 43; Костомаров Н.И. Указ,
соч. С. 21; Соловьев С.М. Указ. соч.
С. 277; Экземплярский А.В. Великие и
удельные князья Северной Руси в та-
тарский период: Биографические очер-
ки по первоисточникам и главнейшим
пособиям: В 2 т. СПб., 1889. Т. 1. С. ИЗ;
Греков Б.Д., Якубовский А.Ю. Золотая
Орда и ее падение. М.; Л., 1950. С. 242;
Очерки истории СССР: Период феода-
лизма (IX-XV вв.): В 2 ч. М., 1953. Ч. 2.
С. 225; Кирпичников А.Н. Куликовская
битва. Л., 1980. С. 99; Кучкин В.А.
Победа на Куликовом поле. С. 19 и др.
37 Греков БД., Якубовский А.Ю. Указ,
соч. С. 242; См. также: Очерки исто-
рии СССР. Период феодализма (IX-
XV вв.). Ч. 2. С. 225; Бескровный Л.Г.
Куликовская битва // Куликовская
битва: Сб. ст. М„ 1980. С. 241-242. По-
видимому, Н.М. Карамзин имел в виду
то же, когда писал, что Дмитрий Боброк
призвал к битве, перед этим «с величай-
шим вниманием примечая все движе-
ния обоих ратей». См.: Карамзин Н.М.
Указ. соч. С. 43. Эта же точка зрения
представлена и в современной научной
и учебной литературе. См., например:
Павленко Н.И., Кобрин В.Б., Федоров
ВА. История СССР с древнейших
времен до 1861 года. М., 1989. С. 109;
Горский А.А. Русь. От славянского рас-
селения до Московского царства. М.,
2004. С. 266 и др.
38 Бахтин М.М. Проблема текста в линг-
вистике, филологии и других гумани-
тарных науках. Опыт философского
анализа // Бахтин М.М. Эстетика сло-
весного творчества. М., 1979. С. 285.
39 ПСРЛ. Т. 26. М.; Л., 1959. С. 142;
Сказания и повести о Куликовской
битве. М.; Л., 1982. С. 99.
40 Сказания и повести о Куликовской
битве. С. 44, 122. Ср.: Русские повести
XV-XVI вв. М.; Л., 1958; Повести
о Куликовской битве. М.; Л., 1959.
С. 196; Шамбинаго С.К. Сказание
о Мамаевом побоище // ОЛДП.
Вып. 125. СПб., 1907. С. 44. Ср.:
Памятники Куликовского цикла. СПб.,
1998. С. 180. См. также: Дмитриев ЛА.
Обзор редакций «Сказания о Мамаевом
побоище» // Повести о Куликовской
битве. М., 1959. С. 457-458, 464-470.
Подробнее см.: Рудаков В.Н. Монголо-
татары глазами древнерусских книжни-
ков. С. 181-183.
Время «Ч» в древнерусских произведениях ... |ю
co I Казусы Древней Руси
41 Дмитриев ЛА. Лондонский лицевой
список «Сказание о Мамаевом побои-
ще» // ТОДРЛ. Т. 28. Л., 1974. С. 159,
172-173.
42 Сказания и повести... С. 44, 99, 123;
ПСРЛ. Т. 26. С. 142; «Сказание о
Мамаевом побоище»: Ист.-литера-
туровед. очерк: В 2 кн. М., 1980. Кн. 1.
С. 94. Указание на «осмой час» как на
время вступления засадного полка в
бой отсутствует в Лондонском списке
Вологодско-Пермской летописи - из-за
порчи текста это место не читается (см.:
ПСРЛ. Т. 26. С. 340) и в Киприановской
редакции «Сказания» (См.: Сказания
и повести... С. 25). В последней, как
мы покажем далее, «расчасовка» всей
Куликовской битвы производилась по
тексту «Летописной Повести», чтения
которой существенно отличаются от
соответствующих мест ранних редак-
ций «Сказания». В остальных интере-
сующих нас текстах памятника данное
чтение присутствует, что позволяет
отнести его происхождение к первона-
чальному виду памятника.
43 Татищев В.Н. История Российская:
В 5 т. М.; Л., 1965. Т. 5. С. 146-147.
К сожалению, ряд исследователей до-
статочно активно привлекают труд
В.Н. Татищева для реконструкции
событий Куликовской битвы, что, на
наш взгляд, не вполне корректно (см.,
например: Кирпичников А.Н. Великое
Донское побоище // Сказания и пове-
сти... С. 293-294, 298-301,303).
44 Сказания и повести... С. 65.
i5 Демин А.С. Указ. соч. С. 112.
46 Нечаев С.Д. Некоторые замечания о
месте Мамаева побоища // Вестник
Европы. Ч. 118. № 14. Июль. 1821.
С. 126-164 (план Куликова поля см.:
Там же. С. 164а). Согласно точке зре-
ния С.Д. Нечаева, поддержанной боль-
шинством исследователей, битва про-
ходила в междуречье Дона, Непрядвы
и Мечи, т. е. между правым берегом
Дона и правым берегом Непрядвы
(см.: Тихомиров Д.И. Краткое описание
Куликова поля // ЧОИДР. 1846. Кн. 2.
Отд. 4. С. 36; Афремов И.Ф. Указ, соч.;
ЛуцкийЕА. Куликово поле // Ист. жур-
нал. 1940. № 9. С. 44-54; Ашурков А.Н.
На поле Куликовом. Тула, 1976;
Бескровный Л.Г. Указ. соч. С. 234;
Хорошкевич А.Л. О месте Куликовской
битвы // История СССР. 1980. № 4.
С. 92; Скрынников Р.Г. Куликовская
битва. Проблемы изучения // Кули-
ковская битва в истории и культуре
нашей Родины. М., 1983. С. 54-57;
ПлигузовА.И. [Комментарии]// Живая
вода Непрядвы. М., 1988. С. 609-611;
Фехнер М.В. Находки на Куликовом
поле. К вопросу о месте битвы
1380 г. // Куликово поле: Материалы
и исследования. М., 1990 (Тр. ГИМ.
Вып. 73. С. 72-78 и др.).
4 ' В.А. Кучкин полагает, что сражение про-
ходило в междуречье Дона, Непрядвы
и Буйцы, т. е. между правым берегом
Дона и левым берегом Непрядвы. См.:
Кучкин В А. Победа на Куликовом поле.
С. 16-19.
48 Это относится и к основным силам, и
к засадному полку русских: согласно
обеим локализациям южный ветер мог
быть только встречным по отношению
к ним. Отвергая возможность того, что
засадный полк, занимая какую-то осо-
бую позицию, располагался лицом на
север, В.А. Кучкин отметил, что, «по-
скольку Мамай шел на Куликово поле
со стороны р. Мечи, русские полки,
даже засадный, не могли стоять фрон-
том к северу». См.: Кучкин ВА. О месте
Куликовской битвы // Природа. 1984.
№8. С. 51.
49 Там же.
э0 Сказания и повести... С. 25, 41, 73, 96,
103, 119; ПСРЛ. Т. 26. С. 139 (в Лон-
донском списке Вологодско-Пермской
летописи вместо чтения «на запад» -
«назади»; см.: Там же. С. 338).
31 Помимо значений «дуновение», «дви-
жение воздуха», «ветер» древнерусское
слово «духъ» имело еще и другие зна-
чения: «бесплотное сверхъестественное
существо», собственно «дух», а также
«благодать», «дар», «сверхъестествен-
ная сила». См.: СлРЯ XI-XVII вв.
Вып. 4. М., 1977. С. 380. Ср.: Словарь
древнерусского языка XI-XIV вв.:
В Ют. М„ 1990. Т. 3. С. 104.
52 Сказания и повести... С. 65. По мне-
нию А.С. Демина, сообщенному при
обсуждении нашего доклада «“Духъ
южны” в “Сказании о Мамаевом побои-
ще”» в ИМЛИ РАН 19 апреля 1995 г.,
употребление глагола «потягну» с
существительным «духъ» (в значении
«ветер») во время создания «Сказания»
маловероятно; в подобном словосочета-
нии «духъ» действительно должен был
восприниматься как «сверхъестествен-
ная сила». В «Словаре русского языка
XI-XVII вв.» термин «потягнуть» в
значении «потянуть», «подуть» (о ве-
тре) цитируется только по памятникам
XVI-XVII вв. См.: СлРЯ XI-XVII вв.
Вып. 18. М., 1992. С. 35.
53 Сказания и повести... С. 40-41, 62,
95-96, 118-119; ПСРЛ. Т. 26. С. 139,
337-338.
54 См., например: Сказания и повести...
С. 45, 66, 99,123.
35 Ле Гофф Ж. Указ. соч. С. 155.
л Лотман Ю.М. О понятии географи-
ческого пространства в русских средне-
вековых текстах // Лотман Ю.М.
Избр. статьи: В 3 т. Таллин, 1992. Т. 1.
С. 407-408.
57 Подосинов А.В. Ориентация по сто-
ронам света в древних культурах как
объект историко-антропологического
исследования // Одиссей. Человек в
истории. 1994. М., 1994. С. 38. См. так-
же: Гуревич А.Я. Указ. соч. С. 89.
58 Подосинов А.В. Указ. соч. С. 42-45.
59 См.: Мещерский Н.А. «История Иудей-
ской войны» Иосифа Флавия в древ-
нерусском переводе. М.; Л., 1958. С. 45,
117, 255-256. Ср.: Срезневский И.И.
Материалы для Словаря древнерус-
ского языка: В 3 т. СПб., 1912. Т. 3.
Стб. 1141. См. также: Лотман Ю.М.
О понятии... С. 409.
60 См.: Дмитриевский А.А. Богослужение
в русской церкви в XVI в.: В 2 ч. Казань,
1884. Ч. 1.С. 43.
61 Служба на день Рождества Пресвятой
Богородицы. М., 1765. С. 20. Ср.: Минея.
Сентябрь. М., 1978. С. 222. О существо-
вании данного чтения в Минее нам со-
общил В.В. Кусков.
62 Карамзин Н.М. Указ. соч. С. 43; Соло-
вьев С.М. Указ. соч. Кн. 2. С. 277.
63 Тихомиров М.Н. Куликовская битва
1380 года // Повести о Куликовской
битве. С. 370. Ср.: Кирпичников А.Н.
Великое Донское побоище. С. 296.
64 Кучкин В А. Победа на Куликовом поле.
С. 19. Примеч. 120. С ним согласен и
Б.М. Клосс: Памятники Куликовского
цикла... С. 219.
6э Сказания и повести... С. 43, 98. Ср.: Там
же. С. 121; ПСРЛ. Т. 26. С. 141.
66 Сказания и повести... С. 41-43,96-98.
67 ПСРЛ. Пг„ 1915. Т. 4. Ч. 1. Вып. 1.
С. 317-318; СПб., 1853. Т. 6. С. 94.
68 ПСРЛ. Т. 6. С. 95.
69 Кстати, впервые столкнулся с несогла-
сованностью хронометрических показа-
ний «Сказания» и летописной Повести
составитель Киприановской редакции.
Рассудив, что под «осмым» часом в
«Сказании» и под «девятым» часом в
летописной Повести описано одно и то
же событие (появление помощи «свы-
ше»), книжник «согласовал» хрономе-
трические версии обоих произведений.
В результате, как нам представляется,
возникла компилятивная хронометри-
ческая версия Киприановской редакции,
согласно которой битва оканчивалась
выходом засадного полка в девятом часу
(см.: Сказания и повести... С. 65).
70 Ле Гофф Ж. Указ. соч. С. 166; Гуре-
вич А.Я. Указ. соч. С. 114.
71 Прозоровский Д.И. О старинном русском
счислении часов // Тр. 2-го Археолог,
съезда. Вып. 2. СПб., 1881. После работ
Время «Ч» в древнерусских произведениях ... 1ю
о I Казусы Древней Руси
Д.И. Прозоровского и Н.В. Степанова
(см.: Степанов Н.В. Единицы счета вре-
мени (до XIII века) по Лаврентьевской и
1-й Новгородской летописям. М., 1909)
данная проблематика почти не рассма-
тривалась в основных пособиях по исто-
рической хронологии (ср.: Черепнин Л.В.
Русская хронология. М., 1944. С. 48-49;
Каменцева Е.И. Хронология. М., 1967.
С. ПО; Ермолаев И.П. Историческая
хронология. Казань, 1980. С. 110-111;
Пронштейн А.П., Кияшко В.Я. Указ. соч.
С. 24-26; Климишин ИА. Календарь и
хронология. М., 1990 и др.).
72 Степанов Н.В. Указ. соч. С. 12-18.
73 Гуревич А.Я. Указ. соч. С. 115.
74 Наличие умозрительных расчетов Кири-
ка Новгородца или Гонория Августо-
дунского подтверждает лишь то, что вре-
мя можно было рассчитать, не измеряя
его (см.: Зубов В.П. Кирик Новгородец и
древнерусское деление часа // Ист.-мат.
исслед. Вып. 6. М., 1953. Ср.: Гуревич АЯ.
Указ. соч. С. 115-116).
75 Там же. С. 114.
76 Арциховский А.В. Древнерусские ми-
ниатюры как исторический источник.
М., 1944. С. 86; Черепнин Л.В. Указ,
соч. С. 48. Видимо, это и позволило
И.П. Ермолаеву прийти к выводу о
том, что «четкое деление суток на часы
входит в употребление только при-
близительно с начала XV века» (см.:
Ермолаев И.П. Указ. соч. С. 110).
77 Пипуныров В.Н., Чернягин Б.М. Разви-
тие хронометрии в России. М., 1977.
С. 12-17. Совершенно естественно,
что в индивидуальном употреблении
«портативные экземпляры* механиче-
ских часов появляются гораздо позже,
чем те же башенные часы, - только
начиная с XVI в. (см.; Пронштейн А.П.,
Кияшко ВЯ. Указ. соч. С. 26).
78 Гуревич А. Я. Указ. соч. С. 114.
79 Там же.
80 Мурьянов М.Ф. Хронометрия Киевской
Руси // Советское славяноведение. 1988.
№ 5. С. 68.
81 Степанов Н.В. Указ. соч. С. 14-16.
82 Там же. С. 17. С тем, что «время обычно
указывали по церковным службам»,
согласна и Е.И. Каменцева (см.: Камен-
цева Е.И. У каз. соч. С. 110). Эта гипотеза
нашла подтверждение и на западноев-
ропейском материале (ср.: Гуревич АЯ.
Указ. соч. С. 115). Вероятно, определив
«точное время» по колокольному звону
местного храма, книжник и заносил в
свое сочинение «хронометрическую»
информацию о событиях.
83 Степанов Н.В. Указ. соч. С. 19.
84 Гуревич АЯ. Указ. соч. С. 121.
85 Там же. С. 120.
86 Кириллин В.М. Символика чисел в
древнерусских сочинениях XVI века //
Естеств.-науч. представления в Древней
Руси. М„ 1988. С. 106.
87 Данилевский И.Н. Библия и Повесть
временных лет (К проблеме интерпре-
тации летописного текста) // Отечеств,
история. 1993. № 1. С. 79.
88 Кириллин В.М. Указ. соч. С. 106.
89 Возможность пользования составите-
лями летописной Повести и «Сказа-
ния» двумя (!) не дошедшими до нас
источниками, содержащими разные
хронометрические версии одних и тех
же событий, представляется нам мало-
вероятной. Если какие-либо ранние
хронометрические свидетельства о
событиях Куликовской битвы и суще-
ствовали, то почему ими не восполь-
зовались авторы «Задонщины» или
краткой летописной Повести? Трудно
предположить, что составители этих
рассказов о Куликовской битве могли
не знать о существовании хотя бы одно-
го из двух гипотетических памятников,
коль скоро с ними смогли познакомить-
ся авторы более поздних источников -
летописной Повести и «Сказания».
Трудно также предположить, что со-
ставители «Задонщины» и краткого
летописного рассказа сознательно и
последовательно обходили упомина-
ния столь точных хронометрических
данных, которые только бы добавили
живости в их повествования. Вероятнее
предположить, что отмеченные хроно-
метрические указания и в летописной
Повести, и в «Сказании» явились пло-
дом творчества самих сочинителей этих
памятников.
90 Поскольку согласно представлениям
того времени Куликово поле находи-
лось за пределами «Русской земли», а
следовательно, и православного мира,
возможность существования вблизи
места сражения каких-либо право-
славных храмов, имеющих к тому же и
звонницы, приходится исключить.
91 Известно, например, послание старца
Филофея Михаилу Григорьевичу
Мунехину «О злых днехъ и часехъ»
(см.: ПЛДР. Конец XV - первая полови-
на XVI века. М., 1984. С. 442-455.) См.
также: Симонов Р.А. Математическая
и календарно-астрономическая мысль
Древней Руси. По данным русской
средневековой книжной культуры. М.,
2007. С. 265-278.
92 Симонов Р.А. Объяснение оригиналь-
ной трактовки «качеств» хронократо-
ров в древнерусском астрологическом
тексте XV века // Герменевтика
древнерусской литературы X-XVI вв.
Сб. 3. М, 1992. С. 327-343. См. также:
Гуревич А.Я. Указ. соч. С. 117.
93 Кириллин Б.М. Указ. соч. С. 83.
94 Кириллин Б.М. Епифаний Премудрый:
Умозрение в числах о Сергии Радонеж-
ском // Герменевтика древнерусской ли-
тературы. Сб. 6. Ч. 1. М., 1994. С. 80-81.
95 Настольная книга священнослужителя:
В 7 т. М, 1983. Т. 4. С. 240, 665.
ж Зелинский А.Н. Конструктивные прин-
ципы древнерусского календаря //
Контекст. 1978. Лит.-теорет. исследова-
ния. М, 1978. С. 94-95.
97 Оксиюк М.Ф. Эсхатология св. Григория
Нисского: Историко-догматическое ис-
следование. Киев, 1914. С. 2, 497.
98 Зелинский А.Н. Указ. соч. С. 96-98.
Согласно тексту Священного Писания
«у Господа один день, как тысяча лет,
и тысяча лет, как один день» (2 Петр.
3: 8) и «пред очами Твоими тысяча
лет, как день вчерашний» (Пс. 89:
4-5). См. также: Зелинский А.Н. Указ,
соч. С. 94.
99 Д.С. Лихачев подметил, что компо-
зиция «Троицы» Андрея Рублева
«вписана в восьмиугольник, обра-
зуемый табуретами и подножиями
внизу, архитектурными деталями и
горкой вверху. Этот восьмиугольник
символизирует собой вечность...»
(см.: Лихачев Д.С. Культура Руси
времени Андрея Рублева и Епифания
Премудрого (конец XIV - начало
XV в.). М.; Л., 1962. С. 129).
100 Там же.
101 Как отметил А.Н. Робинсон, то, что
сражение происходило 8 сентября, в
праздник Рождества Богородицы, «в
данную эпоху (эпоху создания памят-
ников Куликовского цикла. - В. Р.)
имело немаловажное моральное зна-
чение» (см.: Робинсон А.Н. Эволюция
героических образов в повестях о
Куликовской битве // Куликовская
битва в литературе и искусстве. М.,
1980. С. 12).
102 Сказания и повести... С. 10, 14, 20, 41,
62, 96; ПСРЛ. Т. 26. С. 139, 338.
103 Месяцеслов (8 сентября) // На-
стольная книга священнослужителя.
Т. 2. М., 1978. С. 41. Интересно, что
в Летописной редакции «Сказания
о Мамаевом побоище» мы находим
подтверждение того, что спаситель-
ный смысл праздника был известен,
по крайней мере, составителю этой
редакции, а скорее всего - и авторам
всех памятников Куликовского цикла:
«приспе же праздник сентября 8, на-
чало спасения нашего рожеству святой
богородицы...» (см.: ПСРЛ. Т. 26.
С. 139. Ср.: Служба на день Рожества
Пресвятые Богородицы... С. 8; Минея.
Сентябрь... С. 213; Минея Общая. М.,
1993. Л. 16об.)
Время «Ч» в древнерусских произведениях ...
61
104 Случаи подобного использования
числовой символики известны.
Так, например, автор одной из ре-
дакций «Сказания о Тихвинской
Одигитрии» «попытался с помо-
щью сакральной символики чисел
(в данном случае - 3, 5, 7, 15. - В. Р.)
донести до читателя невыразимую
средствами простого языка идею о
сокровенном смысле явления иконы
и последующих чудесах и событи-
ях» (см.: Кириллин В.М. Указ. соч.
С. 107). Предложенная нами интер-
претация «осьмаго часа» «Сказания»
в последнее время получила под-
держку со стороны целого ряда ис-
следователей. См.: Кириллин В.М.
Таинственная поэтика «Сказания
о Мамаевом побоище». М., 2007;
Симонов Р.А. Математическая и
календарно-астрономическая мысль
Древней Руси... С. 265-278.
105 Аверинцев С.С. Поэтика ранневизан-
тийской литературы. М., 1977. С. 123.
м I Казусы Древней Руси
Чужие или свои?
Александр Осипян
VOCATIO ARMENORUM,
ИЛИ ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С ПОЛОВЦАМИ
В ГАЛИЦКОЙ РУСИ*
Среди многочисленных уделов Руси Галицко-Волынское княжество,
пожалуй, быстрее других оправилось от последствий монгольского наше-
ствия. В немалой степени этому способствовала активная градостроитель-
ная политика князя Даниила Романовича. В его правление основывались
новые города, как, например, Холм и Львов. Дабы восполнить потери го-
родского населения, Даниил привлекал в свои владения иностранных по-
селенцев: «нача призывати приходаЪ нЪмцЪ и Русь, иноязычники и ляхи»1.
Особое предпочтение отдавалось немецким колонистам, которым на новых
землях даровалось право на самоуправление и отдельный суд во главе с
войтом (так называемое немецкое право). Вероятно, так происходило и за-
селение Львова, впервые упомянутого в летописи под 1256 г.
В 1349 г. Львов, как и вся Галицкая Русь, был завоеван польским коро-
лем Казимиром III (1333-1370). В 1356 г. король даровал Львову (а именно
горожанам-католикам) право на самоуправление и судопроизводство по
магдебургскому праву. Вместе с тем король оставлял каждой из некатоли-
ческих «наций» право сохранить свои отдельные суды:
А если откажутся судиться по магдебургскому праву ... тогда упомянутые
нации: армяне, иудеи, сарацины, татары, русины и все иные нации, кои там
[в городе] будут находиться, могут поставить и решить любой вопрос в соот-
ветствии с правом своей нации, но при председательстве городского войта на
том [их] суде2.
Из этой оговорки следует, что все эти общины сложились как автоном-
ные «нации» еще до польского завоевания. Казимир III всего лишь утвер-
дил существовавший до него порядок вещей.
Во Львове имелось четыре общины - католики, русины (т. е. право-
славные), армяне и иудеи. Главным критерием отношения горожанина к
той или иной «нации» была его конфессиональная принадлежность: меняя
'Статья подготовлена при поддержке РГНФ, проект № 10-01-00426а.
оо I Чужие или свои?
вероисповедание, мещанин переходил под юрисдикцию соответствующей
«нации». С середины XIV в. привилегированное положение в городе за-
няли католики. Для их проживания во второй половине XIV в. к югу от
старого «княжьего» города был возведен новый «готический» Львов, и их
переселение сюда всячески поощрялось. В первой половине XVI в. католи-
ки составляли 61% населения города и предместий, русины - 24, иудеи - 8,
а армяне - 7%3.
Проживавшие во Львове армяне занимались торговлей и ремеслом
(главным образом кожевенным и ювелирным) и вели оптовую торговлю со
странами Востока. Однако со второй половины XVI в. стали ощущаться по-
следствия Великих географических открытий, прежде всего открытия мор-
ского пути в Индию. Теперь значительная часть восточных товаров достав-
лялась в Европу по морю западноевропейскими купцами. Доходы львовских
армян от восточной торговли сокращались, и они старались компенсировать
потери, переключаясь на участие в местной торговле. Они стремились откры-
вать лавки в городе и торговать не только «экзотическими», но и местными
товарами, не только оптом, но и в розницу. Кроме того, армяне попытались
принять участие в производстве и реализации крепких напитков. Тут-то их
новые устремления столкнулись с интересами мещан-католиков, считавших
эти сферы своей исключительной привилегией и не желавших появления
опасных конкурентов. Таким образом, с последней четверти XVI в. началось
жесткое противостояние двух общин, апеллировавших к королевскому суду
и использовавших в качестве главного аргумента собственное прошлое.
В 1578 г. Львов посетил недавно избранный король Стефан Бато-
рий (1576-1586). Он лично рассмотрел тяжбу между львовскими армя-
нами и мещанами-католиками и вынес решение в пользу армян, уравняв
их в правах с католиками4. Те не сложили оружия и продолжили борьбу.
В 1597 г. была создана мировая комиссия во главе со львовским католиче-
ским архиепископом Я.-Д. Соликовским (1583-1603). Из разработанного
им проекта примирения двух общин (декабрь 1597 г.) следует, в частности,
что в 1578 г. армяне продемонстрировали некую грамоту, полученную их
предками еще до завоевания Галицкой Руси поляками: «А то показали нам
Даниила Федоровича малую грамотку старую, ту, которую его [королев-
ской] милости Стефану [показали]»5. Под Даниилом Федоровичем, веро-
ятно, следует понимать галицкого князя Даниила (1238-1264)6, которому
армяне приписывали свое призвание на Русь. Таким образом, армяне за-
являли, что их предки обосновались во Львове задолго до середины XIV в.
(когда главенствующее положение в городе заняли католики) и, следо-
вательно, обладают равными с ними правами, полученными от галицких
князей фактически при основании Львова.
Судя по всему, львовские католики признавали данную аргументацию
армян и их ссылки на привилегии, полученные от князей Даниила и Льва
Даниловича. Однако в самом конце XVI в. они искусно обратили аргументы
армян против них самих. Это явственно следует из жалобы львовской като-
лической общины в королевский надворный суд (между 1597-1600 гг.):
Львов основан около 1280 г. Львом, сыном князя Руси Даниила. Этот Даниил
умер около 1263 или 1264 г. Следовательно, призвание армян состоялось рань-
ше, так как армяне приурочивают свое призвание к упомянутому Даниилу, а
это время Львов еще не существовал. На основании этого совершенно точно
не подлежит сомнению, что их призвали не в город Львов, а на земли Руси,
для того чтобы с Даниилом, вместе с русами и татарами, вести войну против
[Польского] королевства, что явствует из хроник королевства времен Лешка
Черного. Равным образом армяне, даже если со временем следовали приви-
легиям Льва (которые мы за ними не признаем), то все их, однако, потеряли
по законам войны именно тогда, когда часть Руси вместе с городом Львовом,
захваченная военным путем, перешла к Казимиру в 1340 г., так что основание
города Львова нужно уже относить к указанию его, [Казимира], а не этих пер-
воначальных князей Руси. Что и признается первой привилегией Казимира,
пожалованной в Сандомире в 1356 г.7
Несмотря на то что католики признавали призвание армян (vocatio
Armenorum) Даниилом, они использовали это их утверждение для того,
чтобы обвинить предков львовских армян в участии в походах на Польшу.
(Правда, с Лешком Черным, краковским князем в 1280 1288 гг., воевал
не Даниил, а его сын Лев, но в те времена на подобные хронологические
мелочи мало кто обращал внимание.) Жалоба католиков была рассмотрена
в королевском суде. В результате привилей Стефана Батория был факти-
чески отменен декретом Сигизмунда III (1587-1632) от 17 апреля 1600 г.8
Таким образом, аргументы католиков сработали. Почему же они не
изложили их в 1578 г. перед Стефаном Баторием? Очевидно, католики
использовали трактат епископа и известного историка Марцина Кроме-
ра (1512-1589) «Польша, или Тридцать книг о происхождении и деяниях
поляков» (первые издания - 1555, 1558, 1562, 1568, 1589 гг.). Под 1280 г.
Кромер поместил сообщение, что польский князь Лешко Черный, отразив
нападение руських9, татар и литовцев, победоносно вторгся на Русь. Из-
за этого поражения Лев, сын короля Руси Даниила, избегал нападений на
Польшу, удалился во внутренние земли Руси и воздвиг там город Львов10.
Хотя у некоторых львовян было немецкое издание Кромера (1562), в
1578 г. они, видимо, еще не читали его и потому не использовали в тяжбе с
армянами. Однако уже в 1600 г. весьма вольная трактовка сообщения Кро-
мера позволила католикам представить предков львовских армян врагами
Польши и получить выгодный для себя декрет Сигизмунда III.
Но в данном трактате вовсе не говорилось о том, что армяне были при-
глашены Даниилом для войны с поляками. В источниках XIII в. также ни-
чего не сообщалось об участии армян в походах Льва на Лешка в 1280,1283
и 1287 гг., совершенных им совместно с татарами хана Телебуги и эмира
Ногая11. В «Великопольской хронике» (Chronica Poloniae Maioris), где упо-
миналось об участии русских князей в походе темника Бурундая на Сандо-
мир в 1259 г., подобные сведения также отсутствовали: «В Сандомирскую
землю вторглись татары с пруссами, русскими, куманами и другими на-
родами и безобразно ее разорили грабежами, поджогами и убийствами»12.
На фоне этой информации довольно странным кажется то, что армяне не
отрицали явно натянутых обвинений, выдвинутых против их предков, - это
вызывает подозрение, что они молчаливо признавали их справедливость.
Но на каких фактах в таком случае основывалась уверенность их противни-
Vocatio Armenorum, или Что случилось с половцами... 1<о
о I Чужие или свои?
ков? И что сами армяне знали о прошлом своей общины во Львове, о своем
подлинном происхождении и появлении в русских землях?В * * * * 13
Документов, в которых поднимался бы вопрос о происхождении
львовских армян, известно немного. Две армянские хроники, составлен-
ные во Львове в 1520-1530-х годах (на кыпчакском языке), - «Хроника
Польши» и «Венецианская хроника» - обходят эту проблему молчани-
ем14. Сведения о происхождении армян сообщает нам Иоганн Альнпек,
выпускник Падуанского университета, львовский аптекарь и современ-
ник судебного процесса 1600 г., несомненно читавший труд Марцина
Кромера. В 1603-1605 гг. Альнпек создал свое «Описание города Львова»
(Topographia civitatis Leopolitanae) для шеститомной серии «Города зем-
ного круга» (Civitatis orbis terrarum), издававшейся Г. Брауном в Кёльне
в 1597-1618 гг.15 Труд Альнпека, в отличие от жалобы мещан королю, был
предназначен не для практического применения в тяжбе с армянами, а для
прославления родного города за рубежом. Возможно, поэтому так сильно
отличалась его трактовка упомянутого сюжета у Кромера. Известия об
основании Львова и войне Льва с Лешком Черным Альнпек разводит и в
тексте, и во времени:
Лев, сын Даниила, могущественного короля Южной Руси, внук владимирского
и галицкого князя Романа, основал Львов около 1270 года от воплощения на-
шего Спасителя. <...> В 1280 году Лев не очень удачно вел войну с поляками, а
именно с Лешком Черным, князем краковским и сандомирским, и с того време-
ни руськие с поляками неоднократно состязались между собой во враждебных
набегах и опустошении (земель. - А. О.)16.
Альнпек не обвинял армян в участии в войне с Лешком. Тем не менее
сообщение об их поселении во Львове Альнпек поместил именно между
этими двумя раздельно датированными сюжетами, с которых и начина-
лось «Описание». Приписав основание Львова Льву и вкратце описав
возведенные им укрепления, Альнпек переходил к истории заселения
города. Однако свой рассказ он начинал не с автохтонов-русинов (украин-
цев), как можно было бы ожидать от историка XIX-XX вв., а почему-то
с армян:
[Лев] поселил во Львове армян, азиатских воинов, [с] оружием, одеждой и
языком [как у] татар, (под чьим господством [они] выросли некогда между го-
рами Тавра и Кавказа [и] заняли когда-то Киликию), [за то, что] их стараниями
[его] отец (т. е. Даниил. - А. О.) либо уничтожил, либо подчинил своей воле
враждебные группировки князей руських, вследствие чего приобрел великую
власть и стал единоличным правителем всей Южной Руси17.
В описании армянских воинов, призванных Даниилом, у Альнпека
появляются весьма существенные детали - это тюркоязычные всадники,
ведущие сходный с татарским образ жизни: «Литургию в церкви соверша-
ют на родном языке, а дома по-прежнему общаются по-татарски»18. Автор
пытается объяснить это противоречие тем, что эти армяне выросли в Ар-
мении, уже находившейся под владычеством татар. Объяснение абсолютно
неудачное, ибо Великая Армения (между Тавром и Кавказом) была за-
воевана монголами в 1236-1244 гг. Послужить Даниилу в междоусобной
войне с непокорными вассалами упомянутые Альнпеком армяне могли
именно в конце 1230-х - начале 1240-х годов, когда князю на самом деле
пришлось побороться за престол и с конкурентами, и с внутренней оппо-
зицией. В случае, если пришедшие ему на помощь армяне действительно
переселились бы из Армении, они просто не успели бы ассимилироваться
(перенять язык, оружие и одежду татар). Да и сам Даниил вряд ли стал бы
приглашать воинов из столь отдаленной страны, поскольку для подавле-
ния мятежа ему нужны были войска, находившиеся под рукой.
Логика автора, впрочем, становится понятной, если учесть то, как он
писал свое сочинение и что служило ему своеобразной умозрительной
матрицей в процессе работы. Дело в том, что Альнпек уподоблял Львов
(и в особенности историю его основания) Риму. В XVI-XVII вв. об-
разование строилось на изучении античных авторов, чьи труды активно
издавались и пополняли библиотеки образованных людей. Большое рас-
пространение тогда получила так называемая антикварная литература,
посвященная изучению античных древностей19. В 1534 г. был опубликован
труд миланского патриция Джованни Бартоломео Марлиани «Topographia
antiquae Romae»20, только в XVI в. выдержавший шесть изданий. Этому
образцу и следовал Альнпек в своем небольшом сочинении. «Энеида»
Вергилия, «История от основания Города» Тита Ливия и прочие античные
авторитеты утверждали, что Рим основали потомки троянцев, бежавших
от захвативших их родину ахейцев. Альнпек «привел» во Львов армян,
азиатских воинов, из захваченной татарами Армении. Упор на азиатское
происхождение армян должен был подчеркнуть параллели с троянцами.
В Римской державе под Азией понимали западную часть полуострова Ма-
лая Азия (провинция Азия), где и находилась некогда Троя, а потому упо-
минание в «Описании Львова» гор Тавра, Кавказа и Киликии в качестве
родины армян также должно было продемонстрировать параллели между
двумя городами. Однако явная литературность этой версии также под-
тверждает, что армяне, оружием, одеждой и языком напоминавшие татар,
пришли на службу к Даниилу вовсе не из Армении.
Иную версию приводил Симеон Лехаци (1584 - после 1636), сын
крымского армянина Мартироса, перебравшегося вместе с женой из Каф-
фы в расположенный недалеко от Львова город Замостье, основанный
канцлером и гетманом Яном Замойским в 1585 г. Здесь поселились армяне
из Крыма, Персии, Малой Азии и Армении. В отличие от Львова это была
новая колония. В 1608-1619 гг. Симеон совершил путешествие по странам
Средиземноморья и описал свои впечатления в «Путевых заметках». Одну
из глав своего труда Лехаци посвятил львовской армянской общине:
Львовские армяне не знают армянского языка, но говорят по-польски и по-
кыпчакски, то есть на татарском языке. Говорили, что местные армяне пере-
селились из Ани; согласно историкам, они разделились на две группы: одна
пришла в Кафу и Аккерман (совр. Белгород-Днестровский. - А. О.), и до сих
пор их [потомки] живут в Сулуманастре (квартал в Стамбуле. - А. О.) и гово-
рят по-армянски; другая - в Анкурию (Анкара. - А. О.) и оттуда в Польшу21.
Vocatio Armenorum, или Что случилось с половцами...
71
го I Чужие или свои?
Последняя фраза заслуживает пояснений. Дело в том, что до монголь-
ского нашествия Ани был одним из богатейших торговых центров Ар-
мении (до 1045 г. - столицей Анийского царства). Поэтому в армянской
книжной традиции Ани рассматривался как город грешников, погрязших
в богатстве, а разгром города монголами в 1239 г. - как кара Божья за
грехи22. Этой традиции придерживался и Симеон: «[Бог] погубил Ани
вместе с грешными жителями, а добропорядочных вывел из него»23. Оче-
видно, уцелевшие жители расселились по другим городам, в том числе
и в Анкаре. После захвата Константинополя в 1453 г. султан Мехмет II
Фатих переселил туда многих армян именно из Анкары24. Из источников
известно много случаев переселения армян из Каффы и прочих колоний
в Северном Причерноморье во Львов, Каменец и иные соседние города в
XIV-XVI вв. Таким образом, Лехаци, писавший на основании книжной
традиции («согласно историкам») и, возможно, по памяти, перепутал
информацию, поменяв два сюжета местами, и данный отрывок следует
читать так: «...Они разделились на две группы: одна пошла в Каффу и Ак-
керман и оттуда в Польшу; другая - в Анкурию, и до сих пор их [потомки]
живут в Сулуманастре».
Лехаци приводил сведения и об иных армянских колониях в Речи По-
сполитой:
В других городах, как в Каменце, Язловце, Замостье, Луцке, Манкермане [Киев. -
А. О.], также есть немного армян. Раньше в Луцке было 300 домов [армян], [они]
имели села, поместья и много вакуфов (владения церкви. - А. О.), там находился
раньше престол. Ныне остались две армянские семьи, но каменная церковь и
село еще существуют. Говорят, во время войн в великом Манкермане на войну
выступали 500 душ армян - храбрых богатырей, а ныне осталось всего лишь
четыре армянские семьи. Однако много лавок, вакуфных домов, мельниц, полей,
бахчей и прочего остается в руках армян. Львовские господа послали иереев
также и туда и в Луцк, дают им олофе (содержание. - А. О.) и содержат [церкви]
в благоустроенном состоянии. Есть и другие древние города, в которых живут
армяне, как Пелза (Белз. - А. О.), Вилна, Володимир, и другие села, которые уни-
чтожены, видны только их остатки, а почему, не знаю25.
Сын выходцев из Крыма, выросший в новой колонии, состоявшей из
недавних переселенцев, половину жизни проведший в дальних краях, Ле-
хаци не был носителем местной традиции и оказался в роли иностранного
путешественника и в Речи Посполитой, и в ее армянской среде. Именно
поэтому, как представляется, в его рассказе совершенно отсутствовали
сведения о призвании армян на Русь Даниилом (или Львом). Очевидно;
эта версия относилась к устной традиции, бытовавшей во Львове, где ее
хорошо знали как местные армяне, так и католики. Симеон же строил свой
рассказ на книжной традиции и сведениях, полученных от армянского ду-
ховенства Львова.
Однако авторы, имевшие возможность непосредственного общения
с армянской общиной, использовали в своих сочинениях как раз устную
традицию. Среди них был папский нунций в Польше Гонорацио Висконти
(1630-1636), писавший в своем отчете от 7 июня 1631 г.:
Итак, в провинциях Руси армяне находились уже около 500 лет. Их приход,
сначала обсужденный этими правителями с нацией, был окончательно решен
во времена князя Даниила и утвержден при его преемнике Льве, в то время
правителе Руси, который основал город Львов. Говорят, что якобы эти князья
желали их переселения, чтобы отделить их от каффских татар, с коими они со-
седствовали и с которыми они постоянно опустошали эту страну; что потом они
были большой помощью русинам против этих варваров и исправили тот вред,
который в компании с неверными нанесли христианам. Количество (армян. -
А. О.), которое охватило это переселение, было большим, они расселились в
более чем 15 городах Руси. Они получили все привилегии местных жителей,
а также право владения земельными имениями, иными словами, права шлях-
ты. После завоевания и присоединения той провинции к этому королевству,
осуществленных позже королем (Польши Казимиром III. - А. О.), [они] были
приняты подобным же образом - им были подтверждены те же самые приви-
легии, но поскольку они значительно уменьшились в числе, сначала из-за войн
между поляками и русинами, а затем из-за больших потерь, которые неодно-
кратно несла эта страна от тевтонцев Пруссии, большая их часть, утомленная
столькими страданиями, удовольствовалась прибылями от торговли, чтобы
не быть принужденной идти на военную службу, отказалась от привилегий
шляхты и осталась на положении мещан и купцов. Итак, в таком состоянии
они находятся и на данный момент, за исключением нескольких [семей] около
города Киева, кои все еще пользуются некоторыми преимуществами шляхты26.
В основе своей сообщение Висконти совпадало со сведениями из жало-
бы мещан-католиков и сочинения Альнпека: армян пригласили Даниил и
Лев для военной службы. В остальном, однако, заметны существенные раз-
личия. Так, по мнению нунция, до переселения на Русь армяне жили среди
каффских татар. В XVI-XVII вв. у многих народов Крымский полуостров
был известен под названием «остров Каффа». Следовательно, у Висконти
речь шла о крымских татарах. Но во времена Даниила не существовало
крымских татар, ибо Крымское ханство возникло в середине XV в. Более
того, в XIII в. татары еще не были неверными, т. е. мусульманами. Таким
образом, современными ему понятиями Висконти описывал реалии XIII в.
Вероятно, этот фрагмент следует понимать так: предки львовских армян
жили среди кочевников, населявших тогда земли современного Крымского
ханства (т. е. Крым и степи Приазовья и Северного Причерноморья). Та-
кая трактовка совпадала и с утверждением Альнпека о том, что у предков
львовских армян оружие, одежда и язык были как у татар. Затем речь шла
о том, что предки армян вместе с татарами нападали на Русь, но после были
приглашены Даниилом на службу. Однако во времена Даниила татары еще,
не сформировались как отдельный этнос. В степях жили половцы (кыпча-
ки, куманы). Не случайно Симеон Лехаци писал, что «львовские армяне...
говорят... по-кыпчакски, то есть на татарском языке». Кыпчакский язык
был разговорным языком кочевников Золотой Орды, а в XV-XVII вв. был
известен уже как татарский язык.
Откуда же мог почерпнуть столь подробную информацию нунций, со-
всем недавно прибывший из Рима в Варшаву? Версия, приведенная в его
реляции, стилизована таким образом, чтобы представить предков армян в
Vocatio Armenorum, или Что случилось с половцами...
I Чужие или свои?
как можно более выгодном свете и опровергнуть обвинения, выдвигаемые
против них недоброжелателями. Логично будет предположить, что подоб-
ного рода информацию Висконти мог получить от самих армян. Из жалобы
львовских армян от 25 июля 1631 г. следует, что незадолго до этого их пред-
ставители получили у него аудиенцию27.
Можно предположить, что Висконти изложил услышанный им рассказ
(или написанный армянами по его просьбе) без существенных изменений,
поскольку в армянах он видел заблудших овец, коих надлежит вернуть в
лоно католической церкви. Местные же католики, наоборот, видели в ар-
мянах опасных экономических конкурентов, чьи религиозные отличия и
грехи предков, воевавших против Польши, они использовали для их дис-
криминации и недопущения к равным с собою правам. Дабы снять с себя
подобные обвинения, армяне в уже известной версии о приглашении их
предков на Русь заменили скомпрометировавших себя Даниила и Льва на
ранее никому не известного князя Федора Дмитриевича (в некоторых ва-
риантах - Дмитрия), преимущество которого заключалось в том, что ниче-
го не было известно о его войнах с Польшей. Грамота, якобы изданная этим
князем в 1062 г., была внесена в Коронную Метрику 17 ноября 1641 г.28
Таким образом, одним махом армяне избавлялись от висевших над ними
обвинений - их предков якобы пригласили за 200 лет до того, как Даниил
и Лев вели какие бы то ни было войны с поляками. Отныне в своих тяж-
бах армяне ссылались только на эту грамоту. И августа 1654 г. король Ян
Казимир (1648-1668) издал декрет, которым уравнял армянскую общину
Львова в торговых правах с мещанами-католиками. В декрете упоминалась
и грамота о призвании армян:
Во-первых, показали привилей князя Дмитрия 1062 г., когда впервые армян-
скую нацию привлекли и призвали в область Руси в составе значительного
войска для помощи в войне и [исходя] из общественной необходимости, и в
этом специальном привилее от этого князя Руси было разрешено им жить и
селиться в любом месте29.
С учетом заявленной даты грамоты было подкорректировано и время
переселения «армянской нации, живущей во Львове 600 лет»30. Именно эту
версию призвания армян использовал в своем «Кратком отчете» (1679-
1680) Луи-Мари Пиду - глава миссии монахов-театинцев, занимавшихся
распространением католицизма среди армян:
[Из Ани] армяне прибыли в Татарию. Время (когда это произошло. - А. О.)
установить невозможно, но с тех пор как прибыли на Русь, уже должно было
пройти 600 лет ... Лета Божьего 1062, Феодосий, князь руський, сын Дмитрия,
который вел внутреннюю войну со своими подданными, поднявшими мятеж,
призвал армян из Татарии на помощь, уговорил их, чтобы остались навсегда,
и пожаловал им многочисленные привилеи, впоследствии подтвержденные
польскими королями, когда они покорили Русь»31.
Таким образом, сообщение Пиду соединяло в себе сведения и из
книжной традиции (о прибытии армян из Ани, о чем сообщал Лехаци), и
из устной традиции (о призвании предков армян руськими князьями для
участия в войне с непокорными вассалами и об их прибытии из Татарии, о
чем упоминали соответственно Альнпек и Висконти), и из новоявленной
«грамоты 1062 г.», и королевского декрета 1654 г. Причем момент прибы-
тия армян отступал все дальше в прошлое - на 300, 500, наконец, 600 лет.
В декабре 1670 г. с театинцами познакомился фрисландский дворянин
Ульрих фон Вердум (1632-1681), служивший тогда французскому послу в
Польше. Очевидно, со слов театинцев фон Вердум записал рассказ о пере-
селении армян на Русь:
Некогда их было неисчислимое множество, а теперь осталось не более трех-
четырех тысяч семей <...> Этих армян - по их словам - 600 лет назад призвал в
Польшу руський князь Дмитрий с понтийского острова Кафы, который неког-
да назывался Феодосией, на помощь против своих взбунтовавшихся поддан-
ных. За верную службу он одарил их многими значительными привилегиями
<...> Среди них нет никого, кто бы понимал древний армянский письменный
язык, за исключением нескольких, живущих в Язловце, городе между Львовом
и Каменцом-Подольским, которые, кажется, прибыли сюда из Армении лишь
100 лет назад. Их повседневный язык смешан со множеством татарских вы-
ражений32.
Поскольку Вердум не разбирался в восточных языках, то информация
о языковых отличиях между первыми поселенцами, прибывшими из Кры-
ма/Татарии, и недавними, осевшими в Язловце, явно была получена им от
театинцев.
Гораздо больше внимания лингвистическим особенностям местных
армян уделил анонимный автор «Обширного отчета» - несомненно,
миссионер-театинец. Его версия прибытия армян на Русь в основных
чертах повторяла рассказ Пиду, однако весьма выразительно указывала на
языковые различия между первыми и позднейшими поселенцами:
Около 1062 г. армяне были призваны с соседнего Херсонеса (т. е. Крымского
полуострова. - А. О.) Феодосием, руським князем, сыном Дмитрия, для пода-
вления мятежа [его] подданных, и [они] переселились в большом количестве;
а когда с их помощью восстание было усмирено, то по просьбе князя, они,
одаренные различными привилегиями, впоследствии подтвержденными ко-
ролями польскими, переселились многочисленными колониями в различные
города на Руси, а именно в Киев, Владимир, Луцк, Львов, Каменец, Снятый,
Галич и во многие иные, к которым следует еще добавить Язловец, Замостье,
Подгайцы, Броды, Жванец, Городенку и Станислав, куда [армяне пересели-
лись] значительно позже из Валахии и Молдавии в торговых интересах по
приглашению польских панов. С тех пор в тех первых городах руководители
армяне (т. е. члены самоуправления общины, патриции. - А. О.) до сих пор
основательно знают скифский (т. е. татарский. - А. О.) язык, в других же -
знают только разговорный армянский язык, который почти настолько же от-
личается от книжного армянского языка, как итальянский от латыни. Первым,
т. е. народным, языком с примесью персидских, турецких и польских слов, в
зависимости от места проживания, разговаривают восточные армяне. Второй
Vocatio Armenorum, или Что случилось с половцами...
75
О) I Чужие или свои?
же, книжный, язык уже почти исчез и остался только в литургии и в священ-
ных писаниях, в которых и применялся33.
Таким образом, становились очевидными базисные различия между
двумя группами (условно говоря, волнами) армян: язык, занятия, перво-
начальное место проживания, время и обстоятельства переселения на Русь.
Чем были вызваны эти различия? Прежде чем ответить на этот вопрос,
рассмотрим последний известный на сегодня источник XVII в. о проис-
хождении армянской общины во Львове.
Коренной львовянин, юрист Юзеф-Бартоломей Зиморович (1597-
1677) с 1654 г. занимал высокую должность войта, возглавлявшего город-
ской суд34. Последние 20 лет жизни он работал над исторической хроникой
«Тройной Львов» (Leopolis triplex), в которой описал историю Львова от
основания города и до событий 1633 г.35 В отличие от своих современников
театинцев, Зиморович не принял версию о приглашении армян на Русь в
1062 г. князем Федором Дмитриевичем, выдвинутую армянами в 1641 г.
Это тем более показательно, что войт Зиморович возглавлял католическую
«нацию» Львова и имел деловые и родственные связи с армянами. По мне-
нию исследователей творчества Ю.-Б. Зиморовича, свой труд он написал
не только на основании материалов из городского архива, сочинений Яна
Длугоша и Марцина Кромера, но также с использованием устной город-
ской традиции36. Поэтому не удивительно, что его рассказ об основании
города и приглашении армян в значительной мере совпадал с версиями,
изложенными у Альнпека, Висконти и в жалобе мещан-католиков.
Поскольку Зиморович работал над «Тройным Львовом» уже после оса-
ды Львова казацко-татарскими войсками в 1648 и 1655 гг., то и в его версии
основания города в XIII в. всячески подчеркивалось соратничество руси-
нов и татар («скифов»): князья Даниил и особенно Лев Данилович были
изображены коварными пособниками монголов в их походах на Польшу.
Согласно Зиморовичу, последние не ограничивались грабежами, но захва-
тывали людей и добычу во владениях самого Льва, возвращаясь из походов
в свои степи. Поэтому в 1270 г. на высоком холме князь возвел замок, у
подножия которого осели люди из его свиты:
С тех пор и до нашего времени это Подзамче изобилует преимущественно
русинами, [а также] армянами и евреями, и храмы их [тут] видны в немалом
количестве, потому что их предки еще во времена правления Льва устроили
свои жилища у подножия этой горы37.
Население города быстро росло за счет беженцев, искавших защиты от
«когтей гарпий-скифов»:
Наконец, чтобы беспорядочная толпа, туда прибывавшая, не занимала нео-
пределенные места, сам князь [определил] каждому народу, который ко двору
своему принимал, отдельные участки по лагерному обычаю, [т. е.] поделил
[пространство] на четыре части по сторонам света [и поселил] каждую нацию
друг возле друга. А именно, сначала землякам-русинам выделил место, к вос-
ходу солнца обращенное, дабы снискать расположение [этого] народа. Иудеям
и, подобно им обрезанным, сарацинам - южную, а армянам и татарам, в войске
друг к другу привыкшим, - назначил северную [часть], сам же со своей свитой
выбрал для проживания западную часть с еще перед тем построенным замком.
Столько ведь народов, языком, нравами, обрядами между собой несходными,
составляли придворную свиту Льва38.
Лев, подобно древним римлянам (так как в описании Зиморовича, как
несколько раньше у Иоганна Альнпека, Львов также уподоблялся Риму),
делившим место будущего лагеря на четыре части, также разделил площадь
под застройку на четыре части. При всей очевидной литературности этого
приема следует отметить, что во времена Зиморовича (как и в наши дни)
Руськая улица располагалась в восточной части города, Армянская и Татар-
ская - в северной, Еврейская - в южной (сарацины - арабы-мусульмане из
Египта/Сирии, вероятно, были вытеснены из города в конце XIV - начале
XV в.), а западную часть с Нижним замком занимали католики, отныне
господствовавшие в городе. Как и информаторы Висконти, Зиморович
подчеркивал близость львовских армян и татар, привыкших друг к другу
«в войске» (in commilitio)39. Поскольку Зиморович вряд ли читал отчет
нунция, хранившийся в Риме в Конгрегации распространения веры, то
объяснение подобного совпадения следует искать в том, что Зиморович и
информаторы Висконти черпали свои сведения из одного источника, кото-
рым могла являться устная традиция.
Описав основание города, Зиморович рассказывал и о том, как во Льво-
ве оказались столь экзотические народы:
В соответствии с условиями договора татары зимовали по селам, вставая вбли-
зи [от них] густой толпой на постой, [а] многие [из них] служили при особе
князя. У некоторых из этих кочевников жилища были все еще передвижными,
ведь они перевозили с собой на возах детей с образинами ужасного вида и [их]
матерей-колдуний. Большая их часть, привлеченная урожайностью земли,
обилием добычи, изрядной платой (за военную службу. - А. О.), сопоставила
преимущества своей родины, закрепила возы под чужим солнцем и поселилась
в указанной части города. Чтобы народ, состоящий из одних только мужчин, не
исчез за одно поколение, [они] захватили крестьянок из числа сарматских (т. е.
русинских. - А. О.) жен, коих тела использовали для [удовлетворения] своего
вожделения, и породили [с ними] детей. Впоследствии, однако, [когда они]
вместе с русинами сдались и достались полякам, [те] запретили подобные умы-
кания (sabinarum), а невесты русинские с отвращением относились к бракам с
этими обрезанными, [и те] пали жертвой времени (т. е. исчезли. - А. О.). Все
же память об этом отвратительном народе пробуждает его кладбище, располо-
женное под Высоким замком, а улица с городскими воротами, ныне именуемая
Краковской, двумя столетиями ранее (т. е. в XV в. - А. О.) в городских актах
имела название Татарской40.
Представленные у Зиморовича львовские (шире - галицкие) татары
абсолютно не соответствуют образу татар/монголов XIII в. - повелителей
вселенной. Эти странные «татары» покинули степи, перешли на службу к
галицким князьям, от которых получили земли, зимовали по селам, жен и
Vocatio Armenorum, или Что случилось с половцами...
77
оо I Чужие или свои?
детей у них почему-то очень мало, и, чтобы не исчезнуть совсем, они захва-
тывали русинских крестьянок. За 100 лет - с 1240-х по 1340-е - они могли
бы расплодиться в большом количестве, но почему-то после завоевания
Галицкой Руси поляками эти странные «татары» исчезли, хотя еще в XV в.
в северной части города имелись Татарские ворота и Татарская улица.
Итак, армяне же, увлеченные из отчих земель из-за этих татар, враждебно ры-
скавших по Великой Азии, словно напором неожиданного бурного потока и
принесенные на Русь тем же вихрем, сперва [пребывали] как прислуга среди
пастухов на низкой службе, затем были включены в войско и заслужили [не-
которые] права у скифов (т. е. монголов. - А. О.). Хотя появилась надежда на
более почетную военную службу, все же христианской душе была противна
совместная военная служба, безумный вздор Магомета, дикие нравы, грубое
завывание нечеловеческого голоса татар, к которым хотя отчасти привыкли, [но
все же] презирали. [Поэтому они] охотно перешли в дружину Льва, по просьбе
которого были отпущены. Многие из них, [пользуясь] возрастом и милостью
князя, получили освобождение от военной службы и стали жителями упомяну-
того города41.
Таким образом, Зиморович также свидетельствовал, что на службу
ко Льву армяне пришли из татарского войска. Мотивацию их перехода
следует считать несомненным изобретением самого Зиморовича, ибо в те
времена татары по большей части еще не были мусульманами, но испове-
довали различные религии.
На существование определенной связи между армянами и татарами
указывало не только их одновременное поселение в близком соседстве. Те-
зис о совместной службе/боевом содружестве (commilitio) подкреплялся у
Зиморовича рассказом о событиях, имевших место после прекращения ди-
настии Даниила и Льва. Около 1323 г. умерли князья Андрей и Лев Юрье-
вичи, не оставив мужского потомства. Их сестра Мария была замужем за
мазовецким князем Тройденом, от которого имела сына Болеслава. Около
1325 г. поляки, намеревавшиеся посадить во Львове несовершеннолетнего
Болеслава Тройденовича, предприняли поход на Галицко-Волынское кня-
жество. Зиморович, отождествив Льва (Юрьевича) с основателем города
Львом (Даниловичем) и проигнорировав Андрея Юрьевича, так описал
эти события:
Один только Львов, мужественно защищаемый соратниками Льва - татарами,
сарацинами, армянами и иными княжескими дружинниками, закрыл ворота
чужеземным властителям и открыл их только на таких условиях (1327): что
непременно Болеслав, принявши титул руського князя, позволит городской
общине спокойно и свободно жить по своим законам и обычаям; от княжеского
скарба, как от вещи святой, руку удержит, и ничего в публичных делах не будет
делать без общих сборов42.
Действительно, в 1327 г. князь Болеслав принял православие и имя
Юрий и на упомянутых условиях получил Галицко-Волынское княжество,
которым правил до своей смерти в 1340 г.
Итак, перед нами довольно странный портрет предков львовских ар-
мян. Они жили в Татарии среди татар, говорили по-татарски, оружие и
одежда у них были как у татар, вместе с татарами они совершали военные
походы. Даниил (или Лев) пригласил их на службу для усмирения своих
вассалов или же для походов на Польшу и разрешил селиться везде в его
владениях (согласно Зиморовичу, служившие Льву татары «зимовали по
селам»). Лев поселил «армян» одновременно с «татарами» и по соседству с
«татарами» в северной части города. Вместе с «татарами» «армяне» препят-
ствовали Болеславу вступить во Львов. Потомки этих странных «армян»
еще и в XVII в. говорили по-татарски/по-кыпчакски; на этом же языке, но
армянскими буквами они вели хроники и протоколы заседаний суда ар-
мянской общины, на этот язык переводили с армянского многие церковные
книги. Очевидна практически полная тождественность странных «армян»
и странных «татар», живших во Львове во второй половине XIII - первой
половине XIV в.
Чем в таком случае эти «армяне» отличались от «татар»? И были ли
предки львовских армян на самом деле армянами? Или они пришли на Русь
по призыву Даниила как часть «татар»? И их потомки, в 1580-х годах еще
мало интересовавшиеся историей основания колонии, в результате тяжбы
с католиками стали использовать версию о приходе «татар» на службу к
Даниилу и Льву в своих интересах, предварительно отделив «своих» пред-
ков, т. е. армян, от татар, вызывавших презрение и ненависть у христиан в
XVII в.? Ведь самих себя львовские армяне называли «эрмени» - так, как
это принято у тюркских народов, а не «хай», как это делают сами армяне.
Свой кыпчакский язык армяне во всех внешних контактах называли ар-
мянским, хотя армянскими там были лишь буквы и религиозные термины.
В то же время между собой армяне называли этот язык татарским или
кыпчакским: «хыпчак тили», «бизим тил» (тюрк, «наш язык»), «татарча»
(«по-татарски»)43.
Чтобы ответить на все эти вопросы и выяснить, каким путем попали во
Львов предки местных армян, следует прежде всего разобраться с не менее
странными «татарами».
В XVI-XVII вв. термин «татары» применялся для обозначения всех
тюркоязычных мусульман Восточной Европы. Этот же термин проециро-
вался и на кочевников XIII-XIV вв. Европейские авторы XVI-XVII вв.
зачастую именовали крымских татар скифами, что являлось несомнен-
ным анахронизмом и данью античной традиции. Подобная вольность в
обращении с терминами наводит на мысль, что кочевники XIII-XIV вв.,
называемые в сочинениях XVI-XVII вв. «татарами», вовсе не обязательно
являлись таковыми.
До монгольского нашествия 1230-1240-х годов в степях господствова-
ли половцы, известные в латинских источниках как «cumani» и «comani», в
арабских - «кыпчаки» или «турки», в армянских - «хпчах» или «хартес»44.
Гегемония половцев в регионе закончилась с приходом Бату-хана. Одни
половцы погибли в боях, от голода или же были проданы в рабство, другие
переселились в Венгрию, Болгарию, Византийскую и Латинскую империи,
наконец, большая их часть осталась в степях, признав власть завоевателей.
В Золотой Орде собственно монголы постепенно ассимилировались в по-
Vocatio Armenorum, или Что случилось с половцами... I г*
о I Чужие или свои?
ловецком большинстве. Египетский автор ал-Умари (1301-1348) писал по
этому поводу:
В древности это государство было страною кыпчаков, но когда им завладели
татары, то кыпчаки сделались их подданными. Потом они смешались и пород-
нились с ними, и земля одержала верх над их природными и расовыми каче-
ствами, и все они стали точно кыпчаки, как будто они одного рода, - оттого что
монголы поселились на земле кыпчаков, вступали в брак с ними и оставались
жить в земле их45.
Постепенно политоним «татары» распространился и на половцев
Золотой Орды46. К середине XIV в. топоним «Татария» постепенно вы-
теснил «Куманию», хотя еще довольно долго оба термина употреблялись
как синонимы47. Половецкий (куманский, кыпчакский) язык стал «языком
межнационального общения» в Золотой Орде. Именно куманский язык
(в уйгурской графике) изучали католические миссионеры48, а европей-
ские купцы, путешествовавшие по монгольским владениям, нанимали
слуг, знавших этот язык49. Именно на куманском языке купцы разных
национальностей заключали сделки, затем оформлявшиеся нотариями на
латыни50. Во второй половине XIV в. определение «татарский язык» по-
степенно вытеснило «куманский язык». Этот язык в русско-монгольских
отношениях XIII - XIV вв. также выполнял роль посредника51.
Попав в вассальную зависимость от Бату, русские князья должны были
ездить в Орду за ярлыком на княжение, а потому охотно принимали на
службу целые отряды половцев, знавших язык, степные пути и обычаи и
составлявших свиту князей во время их поездок в ставку хана. В свою оче-
редь, сами половцы в бурные 1240-е годы были заинтересованы в переходе
«под руку» русских князей, с которыми еще до монгольского нашествия
имели родственные и союзнические связи. В апреле 1246 г. папский посол
Плано Карпини видел в ставке Бату одного из таких половцев: «У Бату мы
нашли сына князя Ярослава (Всеволодовича. - А. О.), который имел при
себе одного воина из Русии, по имени Сангора; он родом коман, но теперь
христианин, как и другой русский, бывший нашим толмачом у Бату, из зем-
ли Суздальской»52. В 1245-1246 гг. упомянутый Соногур (тюрк, «сокол»)
в ставке Бату инструктировал русских князей относительно ритуалов,
предшествовавших аудиенции у хана53. В Монголии, в ставке великого
хана Гуюка, Плано Карпини пользовался услугами толмача Темера (тюрк,
«железо»), воина из свиты находившегося там же князя Ярослава. На об-
ратном пути, в Средней Азии, папский посол встретил «Угнея, который по
приказу жены Ярослава и Бату ехал к вышеупомянутому Ярославу, а также
Коктелеба и всех его товарищей. Все они вернулись в землю суздальскую
в Руссии»54.
Очевидно, в 1239-1241 гг. довольно большое количество половцев
перешло на службу и к галицкому князю Даниилу. Связи с половцами
Даниил унаследовал от своего тестя Мстислава Удатного, женатого на
дочери половецкого хана Котяна55. В 1228 г. Даниил просил Котяна не по-
могать его врагам, обращаясь к хану как к отцу: «...а Павла своего посла
ко Котяневи, река: “Отче, измяти войну сю, прими мя в любовь собЪ»56.
Vocatio Armenorum, или Что случилось с половцами...
После смерти Мстислава Даниил окончательно утвердился в роли главно-
го союзника Котяна. Уже в 1229 г. во время войны с венгерским королем
«Данилъ же приведе к собЪ ляхы и половци Котяневы. А у короля бЪаху
половци БЪговаръсови»37. В 1233 г. Даниил также призвал половцев на по-
мощь: «Данилъ же Ъха Киеву и приведе половцЪ»58. Вероятно, когда Котян
в 1238-1239 гг. со своей ордой уходил через Прикарпатье в Венгрию, часть
половцев могла остаться у Даниила. Летописец никак не отреагировал на
это, поскольку приход половцев был самым обычным делом.
Уже под 1243 г. он сообщал, что о возвращении монголов из западного
похода князь узнал от своего половца Актая: «Данилу же будущу во ХолмЪ,
прибежЪ к нему половчинъ его именемь Актай»39. В войске Даниила по-
ловцы упоминались в 1245 г. во время его войны с князем Ростиславом
Михайловичем, приведшим с собой венгров и поляков:
Данилъ же воружився, поемь вое свое, поиде рЪцЪ Сяну. Броду же глубоку
сущу, и приЪхаша половци напередъ, и приЪхавше видиша стада ихъ (венгров
и поляков. - А. О.). Не бЪ же страж ихъ у рЪкы. Половцем же не смЪющимъ
разъграбити ихъ бес повеления княжа. ОнЪм (т. е. венграм и полякам. - А. О.)
же узрЪвшимъ и убЪгшимъ со стады своими во станы свое60.
В этот раз Даниил не приглашал половцев, а просто «поемь вое свое»,
т. е. половцы были под рукой, в княжеских владениях. Нет упоминания и
о половецком вожде, т. е. это уже были не союзники, а собственные воины. 81
Характерно, что половцы не осмелились захватить верную добычу (враже-
ские стада) «бес повеления княжа». В 1251 г. Даниил с братом Васильком и
польскими князьями пошел на ятвягов. Описывая один из эпизодов битвы,
летописец отметил, что: «Лазореви же назадЪ бывшу с половци, нападоша
на нь крепко и хоруговь его отъяша»61. В 1252 г. Даниил оказал помощь
литовскому князю Тевтивилу: «И посла Данило Тевтивила и помочь собЪ
и с нимъ русь и половцЪ»62. То есть Даниил распоряжался половцами как
собственным войском. «ВыЕха же Тевтивилъ изъ города, русь и половци
Даниловы с ними»63. Итак, процесс терминологической трансформации
завершился: если ранее в летописи фигурировали «половци Котяневы» и
«половци БЪговаръсови», то теперь - «половци Данилови». В 1253 г. во
время похода на литовцев «Данило же поиде с братомъ Василкомъ и со сы-
номъ Лвом и с половци со сватомъ своимъ ТЪгакомъ»64. Наконец, в 1259 г.
в походе на Польшу татарского темника Бурундая принимали участие брат
Даниила (Василько) и его сыновья, а в их войске, очевидно, и «половци Да-
нилови». Польский хронист так написал об этом: «В Сандомирскую землю
вторглись татары с пруссами, русскими, куманами и другими народами и
безобразно ее разорили грабежами, поджогами и убийствами»63.
Несомненно, что половцы принимали участие и в походах Льва на Поль-
шу в 1280, 1283 и 1288 гг. Почему же тогда львовские мещане-католики в
конце XVI в. обвиняли в этом армян? И почему армяне не отрицали эти
обвинения? Значит ли это, что предками львовских армян были половцы,
служившие Даниилу и Льву, и сами армяне, как и местные католики, пом-
нили об этом еще в XVI в.? Если так, то каким образом половцы превра-
тились в армян? Очевидно, что если половец Соногур воспринимался как
русский после своего крещения в «русскую веру», то и «половци Данилови»
(или часть их) могли стать армянами после крещения в «армянскую веру».
Каким же образом все это произошло?
Армянская церковь имела давний опыт миссионерской деятельно-
сти среди кочевников. Около 530 г. армянский епископ Кардост прибыл
в «землю гуннов» и старался крестить их66. Около 681 г. миссионерское
путешествие к хазарам осуществил епископ Исраел67. Были крещены, а
впоследствии и ассимилированы те кочевые венгерские племена, которые
в IX в. поселились на северо-востоке Армении68. Уже в XI в. армянские
колонии и церкви существовали в крымской Феодосии (Каффе)69. В XII в.
армянская церковь была и в Прикубанье. В XIX в. в развалинах храма близ
станицы Белореченской Майкопского уезда была обнаружена армянская
надпись на камне, гласящая: «Церковь построена каменщиком М(е)сро-
пом в 620 году армянской эры (1171 г. - А. О.)»70. Через эти приходы могла
осуществляться миссионерская деятельность Армянской церкви среди
половцев. Очевидно, она активизировалась после пребывания в 1118—
о 1125 гг. половецкой орды Атрака на службе у грузинского царя Давида II
“ (в состав его царства входила и Северная Армения). Известно, что многие
§ половцы крестились за это время71. Возвращаясь в родные степи, половцы
g прихватили с собой много пленных-христиан, захваченных во владениях
Давида II72. Часть половцев осталась у него на службе73. Вероятно, часть
половцев поселилась в Северной Армении. Одно из сел носило название
82 «Хпчах». Здесь в 1206 г. «амирспасалар армян и грузин» Захария Долго-
рукий построил монастырь Арич, по имени селения называемый Хпчаха-
ванк («Кыпчакский монастырь»), В одной из надписей этого монастыря
(1304 г.) упоминаются жертвователи с явно тюркскими именами: «Эль-
хутлу, сын Чагана, и сын мой Абаш и хатун (госпожа. - А. О.) моя Ходлу»74.
Еще в одной недатированной надписи упоминается виноградник семейства
Хупасаренц. По мнению С.Т. Еремяна, этот род был половецкого проис-
хождения, ибо в источниках упоминается кыпчак Хубасар, амирспасалар
(в 1178-1185 гг.) царя Георгия III75.
Армяне также бывали в стране кыпчаков. Памятная надпись 1193 г. в
конце Евангелия, переписанного в Александрии Египетской, гласит, что
книгу эту приобрел в стране Хпчах армянин Аруц, сын Ахбарика76. В 1185 г.
богатый тбилисский купец Занкан Зорабабели был отправлен в половец-
кий город Севинч сватать грузинскую царицу Тамар за русского князя
Юрия Андреевича, прятавшегося у половцев от своего дяди Всеволода77.
Вероятно, выбор пал именно на купца, поскольку он неоднократно бывал
в Половецкой земле. Купцы были активными распространителями сведе-
ний о своей религии в среде кочевников. Достаточно вспомнить верхушку
хазар, принявшую иудаизм78. Со второй половины XI в. армянская община
существовала в Киеве. Из Крыма в Киев и обратно армянские купцы путе-
шествовали через половецкие степи. На зиму половцы перекочевывали в
Крым, где вступали в активные торговые контакты с горожанами79. Вполне
возможно, что какая-то часть половцев была крещена армянскими миссио-
нерами. Сразу же после монгольского нашествия армянские миссионеры
начали проповедовать среди монголов, в первую очередь среди представи-
телей династии Чингисидов. Гийом Рубрук, посол французского короля, в
1253 г. повстречал армянских священников в ставке Сартаха, сына Бату, на
правом берегу Волги80. В Монголии, в ставке великого хана Мангу, Рубрук
познакомился с армянским монахом Сергием, намеревавшимся крестить
самого Мангу81. Гетум I, король Киликийской Армении, отправляясь в
1253 г. к Мангу, «взял с собой много священников и Вардана вардапета
(т. е. богослова. - А. О.)»82. С поручениями Гетума I у Бату неоднократно
бывал армянский священник Барсег83. Гетум из Корикоса (племянник Ге-
тума I) писал в 1307 г., что Мангу-хан был крещен армянским епископом,
бывшим в свите Гетума I84. Летом 1254 г. в Ананьи (Италия) к папе явился
человек, назвавший себя армянским священником Иоанном, духовником
Сартаха. Он сообщил папе о крещении армянскими священниками 50 000
татар85. Несмотря на всю невероятность последних двух сообщений, они
свидетельствуют о миссионерском рвении Армянской церкви в ту эпоху
и ее намерении заниматься прозелитизмом среди кочевников. В первой
трети XIV в. упоминаются армянские епископы в Сарае и Каффе86. Мо-
гила армянского епископа Иоанна, датируемая 1324 г., была обнаружена
в конце XIX в. на несторианском кладбище около Бишкека (Кыргызстан).
На знаменитом Каталонском атласе - карте мира, составленной в 1375 г.
в Барселоне, - к северу от озера Иссык-Куль изображен армянский мона-
стырь, в котором хранились мощи апостола и евангелиста Матфея87.
Таким образом, Армянская церковь и в позднем Средневековье зани-
малась прозелитизмом среди кочевников. Следовательно, среди половцев,
в 1239-1241 гг. перешедших на службу к Даниилу, могли быть крещенные
в «армянскую веру». Конечно же, даже после крещения кочевники оста-
вались верными своим прежним языческим верованиям, и только переход
к оседлому образу жизни и соседство многочисленного христианского на-
селения способствовали окончательной христианизации бывших номадов.
Подобные процессы имели место среди половцев, перешедших на службу
к венгерскому королю и византийскому императору в 1230-1240-х годах88.
Альнпек, Висконти, Пиду, У. фон Вердум и анонимный автор «Об-
ширного отчета» писали, что князь пригласил «армянских воинов» для
подавления мятежа своих подданных. О каком мятеже могла идти речь? В
1241 г., уже после того как войска Бату прошли через Галицко-Волынское
княжество и вступили в Венгрию и Польшу, в свои разоренные владения
вернулись Даниил и его конкурент в борьбе за княжеский стол Ростислав,
сын черниговского князя Михаила (оба пережидали монгольское нашествие
в Польше). Ростислав сразу же поднял против Даниила болоховских кня-
зей и остаток галичан89. Даниил оказался в тяжелой ситуации - одни его
города были разорены монголами, другие (например, Дорогичин) даже не
открыли ему ворота. «Бояре же галичьстии Данила княземь соб!; называху, а
сам!; всю землю держаху. <...> И бысть мятеже великъ в земл!; и грабежь от
них»90. Очевидно, в этот критический момент Даниил и призвал на помощь
половцев, как делал уже не раз. «Услышав о приходе Ростислава с болохов-
скими князьями на Бакоту, Даниил внезапно устремился на них, города их
предал огню, срыл их оборонительные валы»91. Столь жестокая расправа
с Болоховской землей объясняется тем, что болоховцы уже перешли на
службу к монголам: «Даниил, захватив всю землю Болоховскую, пожег ее,
ибо те земли сохранили татары, чтобы там для них сеяли пшеницу и просо.
Vocatio Armenorum, или Что случилось с половцами... I оо
I Чужие или свои?
Даниил же большую вражду к ним имел, потому что они на татар возлагали
надежды»92. Своими решительными действиями Даниил лишил монголов
этого плацдарма, полностью опустошив Болоховскую землю: «...так что не
осталось ничего в их городах, что бы не было пленено»93.
Логично было бы предположить, что в опустошенной Болоховской
земле Даниил поселил верных ему половцев. Такое предположение под-
тверждают и многочисленные топонимы, сохранившиеся до нашего време-
ни: села Половци (Тернопольская обл.), Ку манив и Куманивци (Винницкая
обл.), Куманивка (Хмельницкая обл.), Половецъке (Житомирская обл.),
Великополовецъке и Малополовецъке (Сквирский р-н Киевской обл.)94. По-
добные топонимы характерны и для иных стран, где осели половцы: Коман,
Команешти, Команово, Кумании и т. п.95
В Подольском воеводстве (часть бывшей Болоховской земли) на бе-
регу реки Смотрич располагались села Великие Ормяны и Малые Ормяны
(с 1947 г. села Великозалисся и Малозалисся, Хмельницкой обл.)96. Согласно
устной традиции, села возникли в XIII в.97 Первое известное документаль-
ное свидетельство об этих селах встречается в 1493 г.98 Такое название двух
соседних сел - этноним с эпитетом «великие» и «малые» - также может
указывать на поселенцев-кочевников. Например, в Венгрии область рас-
селения половцев (кунов) делилась на две части: Надькуншаг («Великая
Кумания») и Кишкуншаг («Малая Кумания»)99. Подобные наименования
отражали дуальную структуру организации кочевых обществ100.
Также в пределах бывшей Болоховской земли находится село Урманъ
(Бережанский р-н Тернопольской обл.). «Урмене»/«урмяне» - один из
вариантов написания этнонима «армяне» на украинских и молдавских
землях в Средние века. А.М. Пиду среди современных ему армянских при-
ходов в Молдавском княжестве упоминал и Урмани (Urmani)101. Урмани
можно отождествить с селом «Арменещи» (от молд. Armene§ti - Армян-
ское), впервые упоминаемым 18 февраля 1456 г.102 Село располагалось на
Буковине, в XIII в. входившей в состав Галицкого княжества. Названия
сел Великие Ормяны, Малые Ормяны, Урмань, Урмани свидетельствуют
о том, что обосновавшиеся там люди отличались от первых поселенцев сел
Половци, Куманивци и т. п. Очевидно, этим отличием была их принадлеж-
ность к Армянской церкви.
Соответственно, получает объяснение и утверждение Лехаци о том, что
раньше армяне жили во многих селах, а теперь «видны только их остатки,
а почему, не знаю». Вероятно, это было вызвано ассимиляцией половцев,
а с ними и армяно-кыпчаков, в сельских поселениях. Сообщение Лехаци
о том, что «во времена войн в великом Манкермане на войну выступали
500 душ армян - храбрых богатырей», надо понимать следующим обра-
зом: на землях Киевского княжества поселилась какая-то часть степняков
(среди которых, возможно, были и «крещеные армяне») на условиях во-
енной службы. Со временем те из них, кто жил в селах, ассимилировались
с русинами. По подсчетам Н.Н. Яковенко, около 30% шляхты Киевщины
было тюркского происхождения103. Осевшие в Киеве прихожане Армян-
ской церкви занимались торговлей со своими единоверцами из Крыма
(некоторые из них, очевидно, также поселялись в Киеве) и, хотя во второй
половине XVI в. уже перешли на украинский язык104, сохранили группо-
вую идентичность в силу религиозных отличий от окружающего право-
славного населения.
Служилые половцы поселялись и в городах, чтобы быть под рукой у
князя в случае тревоги и для борьбы со своевольными вассалами, и в сель-
ской местности (как писал Зиморович, «зимовали по селам»). Переход к
оседлой жизни имел промежуточный этап, когда зимнюю пору кочевники
проводили в зимовниках - «кишлаках» (от тюрк, qis - зима). Их постепен-
ной ассимиляции способствовали и смешанные браки. Вероятно, убегая от
монголов, половцы потеряли и стада, и повозки с семьями. Для того чтобы
восполнить эти потери, они захватывали женщин в землях тех правителей,
к которым нанимались на службу105. Так что сообщение Зиморовича о за-
хвате «татарами» русинских крестьянок выглядит вполне правдоподобно.
Процесс перехода к оседлой жизни шел параллельно с процессом хри-
стианизации. В отличие от Венгрии, где с половцами работали только ка-
толические миссионеры, в Галицко-Волынском княжестве прозелитизмом
занимались представители разных конфессий - православные, католики,
армяне, возможно, мусульмане («сарацины») и иудеи. Уже во второй по-
ловине XIII в. армянские и караимские купцы появились в Луцке, Влади-
мире и Львове, поскольку теперь через эти города, а не через пришедший
в упадок Киев шли торговые пути из Северного Причерноморья на Запад.
Вероятно, уже в это время во Львове была построена первая армянская
церковь Св. Анны106.
Участие половцев в обороне Львовав 1325 г. и, вероятно, в 1340-1349 гг.
не могло не сказаться на их дальнейшей судьбе. «Татары» еще упомянуты в
грамоте Казимира III Львову (1356) наряду с католиками, русинами, армя-
нами, сарацинами и иудеями. Но в грамоте 1387 г. королевы Ядвиги (1382—
1399) «татар» уже нет, хотя все остальные присутствуют. В отличие от про-
чих общин, образованных по религиозному признаку, «татары» (половцы)
были военно-служебной группой. Их особый статус обеспечивался служ-
бой князю. Этот статус львовские половцы утратили между 1356 и 1387 гг.,
ибо поляки (и в 1372-1387 гг. венгры) рассматривали их как ненадежный
элемент107. Утратив свою военную функцию, львовские половцы автомати-
чески утратили и юридический статус своей общины, ибо не существовало
какой-либо «татарской» религии. Очевидно, во второй половине XIV в.
произошло рассредоточение львовских половцев по соответствующим
религиозным общинам. Так, половцы армянского вероисповедания теперь
становились членами армянской общины и со временем уже рассматрива-
лись не как «татары», а как «армяне»108. Чуть позже, вероятно, подобные
изменения претерпевала и их самоидентификация. Эти процессы могут
быть прослежены в наиболее ранних городских книгах Львова (1382-1389,
1404-1426, 1441-1448)109.
Именник львовских армян может служить индикатором процессов асси-
миляции части половцев в армянской общине. В конце XIV - начале XV в.
тюркские имена были весьма распространены среди львовских армян. Не-
которые из них имели двойные имена - тюркское, данное при рождении, и
христианское, полученное при крещении: Петр Буга («бык»), Совунч Аракел
(«радость»), Захария Кутлубей («богатый счастьем»), Юрко Корк («кра-
сота»)110. Двойное именование было характерно именно для тех случаев,
Vocatio Armenorum, или Что случилось с половцами... I со
или свои?
когда только одно имя выбиралось христианское, и практически отсутству-
ют пары, где оба имени христианские. К примеру, у венгерских половцев
только со второй трети XIV в. христианские имена начали количественно
превосходить языческие, а процесс христианизации завершился к концу
XIV в.111 Подобная ситуация сложилась в XIII-XIV вв. среди православных
половцев Крыма112, тюркских рабов, крещенных генуэзцами113, и тюрок-
несториан в районе Иссык-Куля111. Сходные процессы имели место и среди
руськой шляхты, в XV в. принимавшей католицизм. Повторно крещенные,
они в дальнейшем выступали под обоими именами - католическим и право-
славным"5. В XV в. преобладающей у львовских армян была тенденция, при
которой тюркское имя сохранялось у отца, а христианские (вариант - ар-
мянские) имена носили его сыновья.
И все же, хотя реестры армянской общины 1407, 1416 и 1417 гг. весьма
репрезентативны, статистическая обработка имен не может служить надеж-
ным показателем соотношения этнических армян и крещеных половцев.
Дело в том, что часть крещеных половцев уже выступала под христиан-
скими именами. В то же время некоторые этнические армяне упоминались
под тюркскими именами, приобретенными ими в Армении, Малой Азии
или Крыму, откуда они переселялись на Русь. В целом именник львовских
армян заслуживает отдельного исследования.
S Количество половцев, входивших в состав львовской армянской об-
Т щины в XIV в., должно было быть весьма значительным, поскольку тут
86 возобладал кыпчакский язык, служивший разговорным до второй поло-
вины XVII в. Ничего подобного не было в Крыму. Более того, армяне,
переселявшиеся в Галичину и Подолию в XVI-XVII вв., т. е. те, кого
театинец-аноним отнес ко второй волне, говорили на армянском языке
с небольшим числом заимствований из языков народов, с которыми они
жили по соседству. В то же время в кыпчакском языке армян из старых
колоний армянскими были лишь религиозные термины, и армянский
использовался только священниками при богослужении. Все это напо-
минает ситуацию с латынью в средневековой Европе, где в «варварские
языки» прежде всего заимствовались термины, связанные с религией.
С 1520-1530-х годов богослужебная литература во Львове и Каменце по-
степенно переводилась на кыпчакский.
Вероятно, именно крещеные половцы составили начальное ядро армян-
ской общины во Львове вместе с первыми поселившимися там этническими
армянами - купцами и священниками. Все прибывавшие затем во Львов
этнические армяне (как правило, поодиночке или отдельными семьями) по-
падали в тюркоязычную среду и ассимилировались там лингвистически. Это
происходило тем более легко, что большинство новых поселенцев переселя-
лись из регионов с преимущественно тюркоязычным населением (Крым,
Малая Азия) или же из Армении, уже несколько веков находившейся под
властью тюркоязычных правителей. Таким образом, они знали тюркский
язык, а учитывая то, что многие из этих переселенцев были купцами, то и
применяли его в своей деятельности, поскольку в Передней Азии и части
Восточной Европы тюркский язык обеспечивал коммуникацию в торговле.
В результате монгольского нашествия многие половцы лишились
своего скота и осели в городах Крыма или в их околицах. Если раньше
половцы обеспечивали безопасность купцов, путешествовавших через их
степи, то теперь они нанимались в качестве проводников, переводчиков и
перевозчиков, использовавших для транспортировки купеческих товаров
свои повозки. Уже Гийом Рубрук в 1253 г. по совету местных купцов путе-
шествовал от Судака до ставки Бату на Волге на нанятых в Крыму возах,
запряженных быками116. Арабский путешественник Ибн-Баттута, прибыв-
ший в Крым в 1333 г., сообщал: «На следующий день после нашего прибы-
тия один торговец из нашей компании нанял несколько возов у кыпчаков,
населяющих эти степи и являющихся христианами, и мы направились в
Каффу»117. Испанский монах-францисканец Паскаль из Виттории в 1336 г.
путешествовал из Таны в Сарай «с какими-то греками на возах»118. Вероят-
но, речь шла о православных половцах («греческой веры»), являвшихся в
глазах миссионера «греками». Флорентиец Франческо Балдуччи Пеголот-
ти в 1335-1343 гг. написал пособие для купцов, намеревавшихся торговать
в татарских владениях. Он, в частности, советовал:
В Тане вам следует обеспечить себя толмачом. <...> И, кроме толмача, было
бы хорошо взять, по крайней мере, двух хороших слуг-мужчин, хорошо знаю-
щих куманский язык. А если купец желает взять с собой женщину из Таны, он
может сделать это <...> Итак, если возьмет ее, было бы хорошо, если бы она
владела куманским языком так же хорошо, как и мужчины119.
Таким образом, половцы обслуживали все возможные потребности
купцов, путешествовавших через степи. Можно предположить, что по-
селившиеся во Львове армянские купцы нанимали на службу половцев-
извозчиков и их вместительные возы, на которых путешествовали в
Молдавию и Крым. Служба у армянских купцов, вероятно, стимулировала
обращение извозчиков в «армянскую веру» их богатых клиентов. Возмож-
но, часть крещеных половцев занималась торговлей самостоятельно или
на паях с купцами-этническими армянами (своими кумовьями, зятьями,
сватами и т. п.).
Что касается иных занятий львовских армян конца XIV - начала XV в.,
то после торговцев на втором месте с огромным отрывом от всех остальных
шли специалисты по обработке кож - 20 человек (11 скорняков, восемь са-
пожников и один шорник). Для сравнения: в это же время среди армян было
семь толмачей, пять ювелиров, два мясника, один ткач, один портной и один
монетчик. Как известно, обработка кож являлась одним из главных занятий
кочевников, еще со скифских времен сбывавших выделанные шкуры город-
ским купцам. Характерно, что у пяти скорняков имена были тюркские.
Поражает и большое количество толмачей среди львовских армян, слу-
живших посредниками на рынке не только в общении между местными и
приезжими купцами, но и между последними и городскими властями. Изве-
стен и королевский толмач Василий армянин (1531 г.)120. Армянские толмачи
неоднократно фигурируют и в грамотах великих князей литовских конца
XV - первой половины XVI в. о пожаловании им земельных владений на
Киевщине121. Очевидно, это о них писал Висконти: «...за исключением не-
скольких около города Киева, кои все еще пользуются некоторыми преиму-
ществами шляхты». Вероятно, это были потомки тюркоязычных «ордынских
Vocatio Armenorum, или Что случилось с половцами... Iсо
слуг», в XIV-XV вв. сопровождавших татарских послов ко двору великого
князя, а его послов - в Орду. В некоторой степени функции «ордынских
слуг» совпадали с «киличеями» (тюрк, «килич» - меч), т. е. мечниками, пре-
бывавшими в это же время на службе у князей Северо-Восточной Руси и
доставлявшими подарки в Орду после получения князем ярлыка или при
вступлении на престол нового хана. Характерно, что у некоторых «киличе-
ев» были тюркские или двойные имена - христианское и тюркское122.
Роль всех этих профессий (извозчики, торговцы, толмачи, скорняки, а
также «татары»-огородники в Галицком предместье), несомненно, возрас-
тала при ослаблении военно-служебных функций половцев, что, вероятно,
происходило в конце XIV - начале XV в. прежде всего с теми, кто жили в
крупных городах, где могли найти иное применение своим силам.
Подобный путь развития прошли и так называемые литовские татары,
которые были переселены из степей великим князем литовским Витовтом
в 1397-1398 гг. в районы возле основных политических центров государ-
ев ства - Троки (Тракай), Вильно, Крево, Гродно, Новогрудок и Минск (но
g также и в селах) - с обязанностью нести военную службу, за которую они, в
“ зависимости от статуса, получали земельные наделы. По своему юридиче-
§ скому статусу верхушка татар приближалась к местной шляхте, в то время
g как простые татары жили на положении служебных бояр и казаков. Уже
К в XVI-XVII вв. многие из них вынуждены были заниматься торговлей,
f1 извозом, ремеслами (в основном кожевенным), огородничеством, были
88 толмачами и коновалами123. В это время их разговорным языком стал бе-
лорусский, но они сохранили свою идентичность благодаря религиозной
обособленности от местного населения. Если учесть, что они переселились
в Литву на полтора столетия позже, то процессы, происходившие у них в
XVI-XVII вв., соответствуют тем, что имели место у половцев Галицкой
Руси во второй половине XIV-XV в.
Из общего числа половцев, осевших на Руси, «арменизировалась»
лишь небольшая часть, остальные приняли православие или католицизм.
Поэтому и львовских католиков можно было бы с таким же успехом об-
винять в участии их предков в нападениях на Польшу в XIII в. Однако в
католической и православной среде потомки половцев утратили и язык, и
идентичность. В армянской же общине в силу ее религиозной обособлен-
ности и функциональности языка в международной торговле кыпчакский
язык сохранился. Это и дало повод католикам обвинить местных армян
в антипольских деяниях их предков. Очевидно, среди потомков самых
первых поселенцев - армян, половцев «армянской веры» и католиков -
сохранялась память о начале города и поселении тут их предков. И хотя в
конце XVI-XVII в. большинство членов армянской общины были этниче-
скими армянами, эта традиция была использована ими для легитимации
своего статуса с отсылкой к привилегированному воинскому (а значит,
шляхетскому) прошлому их предков. Когда же католики, используя вы-
годную им интерпретацию трактата М. Кромера, обвинили армян в том,
что их предки были призваны для войны с Польшей, армяне приписали
свое призвание на Русь князю Федору Дмитриевичу и с помощью под-
правленной грамоты второй половины XIV в. удревнили свое пребывание
на Руси до 1062 г.
1 Галицко-Волынская летопись // Памят-
ники литературы Древней Руси: XIII век
(далее - ГВЛ). М., 1981. С. 344.
2 Привме! мкзта Львова XIV-XVIII ст. /
Упор. М. Капралы Льв1в, 1998. С. 28.
3 Капраль М.М. Нацюнальш громади
Львова XVIXVIII ст.: Сощально-
правов! взаемини. Льв1в, 2003. С. 264.
4 Привме! нацюнальних громад Mic-
та Львова (XIV-XVIII ст.) / Упор.
М. Капраль. Льв1в, 2000. С. 299.
5 Капраль М.М. Указ. соч. С. 369.
6 М.М. Капраль отождествляет Даниила
Федоровича с князем Федором
Дмитриевичем из знаменитой «гра-
моты 1062 г.». Мою аргументацию в
пользу князя Даниила Романовича
см. в статье: Осипян АЛ. За правами к
королю: власти, религия и конструиро-
вание полезного прошлого армянской
общиной Львова в XVI-XVII вв. //
Казус. Индивидуальное и уникальное в
истории - 2006 / Под ред. М.А. Бойцова
и И.Н. Данилевского. Вып. 8. М., 2007.
С. 296 333.
7 «Leopolis est fundata circa annum 1280
a Leone Danielis Russiae ducis filio. Qui
Daniel obiit circaannum 1263 vel quartum.
Igitur anterior est vocatio Armenorum;
siquidem vocationem suam Armeni ad
dictum Danielem referunt, quotempore
nondum Leopolis existit. Unde etiam cer-
to constat non ad civitatem Leopoliensem
sed ad terras Russiae vocatos, ut cum
Russis et Tartaris contra Regnum cum
Daniele bellum gererent ut patet ex anna-
libus Regni tempore Lesconis Nigri. Idem
Armeni si quae privilegiei Leonis fuerunt
successu temporisconsecuti, quod illis da-
mus non concedimus, ea tamen omnia iure
belli expirerunt, siquidem bello contingua
Russiae pars Leopoli cum ipsa civitate ad
Casimirum anno 1340 venit, ita ut iam ad
ipsius ordinationem non ad ilium prim-
duam ducum Russiae fundatio civitatis
Leopoliensis sit referenda. Quod probatur
privilegio primi Casimiri de oblata Sando-
miriae anno 1356» (цит. по: Дашке-
вич Я.Р. Древняя Русь и Армения в
общественно-политических связях
XI—XIII вв. (Источники исследования
темы) // Древнейшие государства на
территории СССР: Материалы и ис-
след. (1982 г.). М„ 1984. С. 177-195,
здесь С. 195).
8 Привтле! нацюнальних громад. С. 304-
305.
9 Здесь и дальше термин «руський»
используется по отношению к право-
славному населению, проживавшему
в исследуемый период в Польском
королевстве и Великом княжестве
Литовском. Термин «русский» исполь-
зуется по отношению к населению до-
монгольской Руси.
10 CromerusM. Polonia, siue De origine et re-
bvs gestis Polonorum libri XXX. Coloniae
Agrippinae, 1589. P. 171.
11 ГВЛ. C. 376,384-386, 388.
12 «Великая хроника» о Польше, Руси и
их соседях XI—XIII вв. М., 1987. С. 184.
13 Проблема возникновения армянских
колоний в Западной Украине имеет
давнюю историографическую тради-
цию. В XIX в. можно выделить два
основных направления, обусловленных
Источниковой базой. К первому от-
носятся сторонники гипотезы о при-
звании армян на Русь князем Федором
Дмитриевичем, издавшим в 1062 г.
специальную грамоту (Бжишкянц М.
Путешествие в Польшу. Венеция, 1830
(на арм. языке); Zachariasiewi.cz F.-X.
Wiadomosc о Ormianach w Polszcze.
Lwow, 1842; Barqcz S. Rys dziejow
ormianskich. Tarnopol, 1869). Причиной
миграции армян они считали завоева-
ние Армении сельджуками в 1060-х го-
дах. Исследователи, принадлежащие
ко второму направлению, опирались
на сообщения львовских историков
XVII в. И. Альнпека и Ю.-Б. Зимо-
ровича и считали, что армян на земли
Галицкого княжества пригласили
Vocatio Armenorum, или Что случилось с половцами... I со
о I Чужие или свои?
князья Даниил и Лев, правившие в
1230 1290-х годах (Przezdziecki А.
Podole, Wolyn, Ukraina. Obrazy miejsc
i czasow. Wilno, 1841; Zubrycki D.
Kronika miasta Lwowa. Lwow, 1844).
Причиной миграции армян они счита-
ли монгольское завоевание Армении
в 1230-1240-х годах. Включение
Западной Украины в состав СССР
активизировало научный обмен между
украинскими и армянскими историка-
ми и стимулировало новые исследова-
ния данной проблематики. Молодой
украинский историк Я.Р. Дашкевич
в 1962 г. заявил о подложности «гра-
моты 1062 г.» (Дашкевич Я. Грамота
Федора Дмитровича 1062 року (На-
рис з украшсько! дипломатики) //
Науково-шформащйний бюлетень
apxiBHoro управлшня УРСР. Кшв.
1962. № 4. С. 9-20). Армянский исто-
рик В.А. Микаелян выступил с весьма
эмоциональной и довольно предвзятой
критикой утверждения Я.Р. Дашкевича
(Микаелян ВЛ. К вопросу о грамоте
Федора Дмитриевича // Археограф.
Ежегодник за 1964 г. М., 1965. С. 11-
19). Выступая с позитивистских по-
зиций, Я.Р. Дашкевич отдавал предпо-
чтение синхронным документальным
источ-никам. Сведения из позднейших
повествовательных источников рассма-
тривались им как весьма сомнительные.
Вот как он охарактеризовал сочинение
И. Альнпека: «Компилятивный харак-
тер описания Альнпека заставляет нас
с подозрением относиться к сведениям
о начале армянской колонии во Львове,
которые сами по себе очень интересны.
Эти сумбурные сведения, приправ-
ленные, по-видимому, значительной
дозой средневековых фантастических
домыслов, - крепкий орех для совре-
менных историков» (Дашкевич Я.Р.
Армянские колонии на Украине в ис-
точниках и литературе XV-XIX веков
(Историографический очерк). Ереван,
1962. С. 42). Не меньше критических
стрел было адресовано и Ю.-Б. Зимо-
ровичу: «Его сочинение, написанное
путаным, тяжелым, помпезным язы-
ком» отличает «тенденциозность и
сомнительность сведений (особенно
относящихся к XIII-XIV вв.)» (Там же.
С. 81-82). ВдальнейшемЯ.Р. Дашкевич
занимался изданием источников по
истории армянской колонии Львова
XVI-XVII вв. Что же касается воз-
никновения армянских колоний во
Львове и Каменце-Подольском, то
вклад Я.Р. Дашкевича ограничивается
позитивистской критикой источников
(Дашкевич Я.Р. Кам’янець-Подиьський
у в!рменських джерелах XIV-XV ст. //
Арх1ви Украши. 1970. № 5. С. 57-66;
Он же. Древняя Русь и Армения в
общественно-политических связях
XI—XIII вв. (Источники исследования
темы) // Древнейшие государства на
территории СССР. Материалы и иссле-
дования (1982 г.). М., 1984. С. 177-195;
Он же. Давнш Льв1в у в!рменських та
в!рменсько-кипчацьких джерелах //
Укра!на в минулому. Ки!в; Льв1в, 1992.
Вип. 1. С. 7-13). Собственной гипотезы
он так и не сформулировал в сколько-
нибудь значительном исследовании,
хотя и опубликовал статью о воз-
никновении армянского поселения в
домонгольском Киеве (Dachkevytch Ya.
Les Armeniennes a Kiev (jusqu’a 1240) //
Revue des etudes armeniennes. P, 1973-
1974. Vol. 10. P. 114-131; 1975-1976.
Vol. 11. P. 323-375). В 1970-х годах
украинский тюрколог А.Н. Гаркавец,
основываясь на изучении кыпчакского
языка актовых книг армянских общин
Львова и Каменца XVI-XVII вв., вы-
двинул предположение о половецком
происхождении местных армян. По
мнению А.Н. Гаркавца, в XI XIII вв.
часть половцев была крещена армян-
скими миссионерами. Приобретя таким
образом армянскую идентичность, они
в результате монгольского нашествия
переселились на Русь (Гаркавец А.Н.
Конвергенция армяно-кыпчакского язы-
ка к славянским в XVI-XVII вв. Киев,
1978). Я.Р. Дашкевич подверг уничтожа-
ющей критике эту гипотезу (Dachkevytch
Ya. Who are the Armeno-Kipchaks (On
the Ethnic Substrate of the Armenian
Colonies in the Ukraine) // Revue des
etudes armeniennes. P., 1982. Vol. 16.
P. 357-416). Исторические построения
лингвиста A.H. Гаркавца действительно
весьма уязвимы для критики. Однако
Я.Р. Дашкевич подверг критике и линг-
вистические аргументы А.Н. Гаркавца,
заявив, что тюркский язык львовских и
каменецких армян является результа-
том проживания их предков в Крыму.
Более того, Я.Р. Дашкевич отрицал саму
возможность миссионерской деятель-
ности Армянской церкви среди по-
ловцев. Интересно, что исследователь
считал вероятным прозелитизм армян
на Руси до 988 г. (Дашкевич Я.Р. Русь i
Ейрмешя. Конфесшш та культурш кон-
такта IX - першоТ половини XIII сто-
лпь // Записки Наукового товариства
i.MCiii Т. Шевченка. Т. CCXXV. Пращ
кторично-фшософсько! секцп. Льв1в,
1993. С. 167-184) и даже опубликовал
статью о трех армянских епископах-
миссионерах в далекой Исландии в
XI в. (Дашкевич Я.Р. Армяне в Исландии
(XI век) // Скандинав, сб. Таллин,
1990. Т. 33. С. 87-97). Насколько мне
известно, после критики со стороны
Я.Р. Дашкевича А.Н. Гаркавец воздер-
живался от заявлений о половецком
происхождении армян, используя раз-
личные эвфемизмы, как, например:
«загадочные украинские армяне, го-
ворившие, писавшие и молившиеся
на кыпчакском языке» (Гаркавець О.
Загадкой! укра’шсью в!рмени, Korpi
говорили, писали та молилися кипчаць-
кою мовою i 400 роюв тому надруку-
вали першу в свт кипчацьку книжку
( Джерелознавчо-1сторюграф1чний
аспект питания) // До джерел: Зб1рник
наукових праць на пошану Олега
Купчинського з нагоди його 70-р1ччя.
Кшв; Льв1в, 2004. С. 75-95). Их кып-
чакский язык он считает результатом
проживания в Крыму: «Обретаясь
в среде кыпчаков и находясь под их
господством, армяне подвергались
ассимиляции, забывая зачастую род-
ной язык» (The Armenian-Qypchaq
Psalter written by deacon Lussig from
Lviv, 1575/1580 / Ed. by A. Garkavets,
E. Khurshudian. Almaty, 2001 //www.
qypchaq.freenet.kz/Docs/PS-IN-EN.
DOC). В отличие от A.H. Гаркавца, в
своем исследовании я опирался не на
данные языка (хотя и не игнорировал
их), а на внимательное прочтение источ-
ников конца XVI-XVII в. и их интер-
претацию в контексте событий времени
их создания. По моему мнению, эти
более поздние источники отражают не-
кую местную традицию. Гипотеза была
сформирована мною самостоятельно
в 2000-2001 гг., и лишь после этого, в
поиске эмпирического материала, могу-
щего подтвердить мои умозаключения
в лингвистической сфере, я ознакомил-
ся с исследованиями А.Н. Гаркавца и их
критикой Я.Р. Дашкевичем. Также, в
отличие от А.Н. Гаркавца, я не считаю
всех львовских и каменецких армян по-
томками половцев. По моему мнению,
крещенные «в армянской вере» по-
ловцы преобладали на начальном этапе
истории армянских колоний, а к XVII в.
их потомки составляли меньшинство в
сравнении с этническими армянами.
14 Дашкевич Я.Р. Древняя Русь и Армения.
С. 184; Он же. Давнш Льв1в у в1рмеп-
ських та в!рменсько-кипчацьких джере-
лах // Укра'ша в минулому. Ки!в; Льв1в,
1992. Вип. 1. С. 7-13, здесь С. 11. На эту
тему также см.: Абдуллин И.А. << Памятная
записка» Агопа на армяно-кыпчакском
языке (1620) // Советская тюркология.
1971. № 3. С. 118-122; Гаркавец А.Н. Две
новонайденные армяно-кыпчакские ру-
кописи //Тюрколог.сб. (1977). М., 1981.
С. 76-80.
Vocatio Armenorum, или Что случилось с половцами...
91
ю I Чужие или свои?
15 Сочинение Альнпека в сокращенном
виде было опубликовано в 6-м томе
(1618 г.): Rachwal S. Jan Alnpek i jego
«Opis miasta Lwowa» z poczqtku XVII w.
Lwow, 1930. S. 1-9.
16 «Leo, Danielis Russorum Australium
Regis Potentissimi filius, Romani
Wladimiriensium et Haliciensium ducis
nepos, Leopolim circa annum salutis
nostrae instauratae MCCLXX condidit
<...> Anno MCCLXXX Leo cum Polonis
et Lescone Nigro, Principe Cracoviensi et
Sendomiriensi minus prospere belligera-
tus est, a quo tempore Russi cum Polonis
crebris inter se odiis incursionibus, de-
populationibus certabant» (Alnpekius I.
Topographia civitatis Leopolitanae //
Rachwal 5. Jan Alnpek i jego «Opis miasta
Lwowa» z poczqtku XVII w. Lwow, 1930.
P. 10).
17 «Armenos Asiaticos milites armis, vestitu
et lingua Tartarorum, sub quorum imperio
aliquando inter Taurum et Caucasum
montes ortos, quondam Ciliciam occupa-
tos quorum opera pater adversae factionis
duces Russorum vel domuit, vel in suam
sententiam adduxit, ob idque magnam sibi
potentiam et fere Monarchiam in Russis
Australibus faciebat, Leopoli locavit»
(Ibid.).
18 «Sacra in Ecclesia nativo sermone pe-
ragunt, domi simper Tartarorum lingua
utuntur» (Ibid. P. 20).
19 Momigliano A.D. Ancient History and
the Antiquarian // Momigliano A.D.
Studies in Historiography. L., 1966.
P. 1-39; Burke P. Images as Evidence in
Seventeenth-Century Europe // Journal
of the History of Ideas. 2003. Vol. 64. № 2.
P. 273-296 (П. Берк, в частности, отме-
чал, что среди антикваров XVII в. было
чрезвычайно много врачей, в особенно-
сти выпускников Падуанского универ-
ситета); JacLs Р. The Antiquarian and the
Myth of Antiquity. The Origins of Rome in
Renaissance Thought. Cambridge, 1993;
Moyer A.E. Historians and Antiquarians
in Sixteenth-Century Florence // Journal
of the History of Ideas. 2003. Vol. 64. № 2.
P. 177-193 (статья дает представление
о методах исследования прошлого
антикварами на примере дискуссии
двух из них о времени и обстоятель-
ствах основания Флоренции); Weiss R.
The Renaissance Discovery of Classical
Antiquity. Oxford, 1988.
20 Topographia antiquae Romae loanne
Bartholemaeo Marliano patritio Medio-
lanensi autore. Lugduni, 1534. 336 p. //
http: // www.bhv.univ-tours.fr/Consult.
Выражаю искреннюю благодарность
Карло Гинзбургу, обратившему мое
внимание на трактат Дж.Б. Марлиани.
21 Лехаци С. Путевые заметки. М., 1965.
С. 248.
22 Как сообщает современник монголь-
ского нашествия армянский историк
Киракос Гандзакеци, «во всех от-
ношениях город был очень богат,
поэтому пресыщение их переросло в
высокомерие, а высокомерие, как это
было испокон века и по сей день, при-
вело к гибели» {Гандзакеци К. История
Армении. М., 1976. С. 165).
23 Лехаци С. Указ. соч. С. 248-249.
Крымский армянин Давид Гримеци в
своем сочинении «История анийцев,
жителей Каффы» (ок. 1690) также
считал своих земляков, каффинских
армян, потомками анийцев: Schutz Е.,
Nagy К. Some Remarks on the Mongol
Conquest of Greater Armenia and its
Cosequences // Annual of Medieval
Studies at CEU. 2000. Vol. 6. P. 237-248,
здесь P. 243; Dachkevytch Ya. Who are the
Armeno-Kipchaks. P. 388.
24 Sanjian A.K. Colophons of Armenian
Manuscripts, 1301-1480. Cambridge,
Mass., 1969. P. 284.
25 Лехаци С. Указ. соч. С. 249.
26«Trovansi, dunque, gl’Armeni nelle pro-
vincie di Russi da circa 500 anni in qua. La
lor venuta, prima trattata da quei Duchi
con la Nationa, fu finalmente conclusa in
tempo d’un Principe Danielle, e stabilita
dal suo successore Leone, ch’edifico la
Citta di Leopoli, hora Capo della Russia.
Dicono fosse bramata da quei Principi la
lor transmigratione per scompagnargli
da i Tartari Caffensi, lor confinanti, co i
quail infestavano continuamente quell
Paese; onde, poi, furono di grande aiuto
a Ruteni contro quei barbari, et emanda-
rono i Danni ch’havevono in compagnia
de gl’infideli apportato a Christiani. Il
numero che fece quella transmigratione
fu grande, onde fu compartito in piu di
15 Citta della Russia. Hebberotutti i pri-
vilege de gl’habitatori originari et anco
quello di possedere i beni terrestri, che
vuol dire della Nobilta. Nella conquista et
unione che fecero poi i Re di Polonia di
quelle Provincie a questa Corona, furono
essi accettati nell’istessa maniera e furon
lor confermati i medesimi privilege, ma
essendo assai scimati di numero, prima
per le guerre de i Polacchi in Russia, e poi
per i gran Danni che ricevette piu volte
quell Paese da i Teutonic! di Prussia, e
la maggior parte di essi, stanca per tanti
travagli et anco alettata da i guadagni
della mercantia, si contento, per non
esser astretta a militare, di rinuntiare al
privilegio della Nobilta, restando nella
condittione de cittadini e mercanti. In
questa, dunque, si trovano al presente,
fuorche alcuni pochi verso la Citta di
Chiovia, che godono ancora qualche
preminenza di Nobili» (Acta nuntiaturae
Polonae. T. XXIV (1630-1636). Vol. 1
(1630-1631) / Edidit A. Bilinski. Romae,
1992. P. 278). Выражаю искреннюю
благодарность Светлане Гуркиной за
перевод данного фрагмента со старо-
итальянского языка.
27 Украинско-армянские связи в XVII ве-
ке: Сборник документов / Сост. Я.Р. Да-
шкевич. Киев, 1969. С. 51.
28 Подробнее на эту тему см.: Осипян А.Л.
За правами к королю.
29 Привык нацюнальних громад. С. 334.
30 «Nationi Armenicae civitatem Leopo-
liensem ab annis sexcentis inhabitant!»
(Там же. С. 335).
31 Pidou A.M. Krotka wiadomosc о obecnym
stanie, poczqtkach i postypi e misyi apostol-
skiej do ormian w Polsce, Woloszczyznie i
sqsiednych krajach // Zrodla dziejowe.
Warszawa,1876. T. 2. S. 5-108, здесь
S. 12-13.
32 Вердум У. фон. Щоденник подорож!, яку
я здшснив у роки 1670, 1671, 1672 ... че-
рез Корол!вство Польське // Жовтень.
1983. № 9. С. 87-99, здесь С. 90.
33 Obszerna wiadomosc о polqczeniu narodu
ormianko-polskiego z kosciolem rzym-
skim // Zrodla dziejowe. T. 2. S. 109-211,
здесь S. 130. Симеон Лехаци пишет
о двух группах армян, живущих во
Львове, - старожилах и недавних пере-
селенцах: «В городе было 70 домов ар-
мян - в каждом доме два-три танутера
(домохозяина. - А. О.), а за городом
60 домов пришлых и несколько мест-
ных» (Лехаци С. Указ. соч. С. 244).
Причем в городе жила верхушка коло-
нии: «Среди них нет ремесленников,
все они большие и именитые купцы»
(Там же). В предместье проживали
бедняки и недавние переселенцы.
Таким образом, замечание анонима
о доскональном знании «скифского»
языка относится именно к армянским
патрициям, жившим в центральной
части города в армянском квартале и,
очевидно, являвшимся потомками ран-
них поселенцев.
34 Heck К. Jozef Bartolomiej Zimorowicz
burmistrz, poeta i kronikarz Iwowski.
Lwow, 1897. S. 46-48.
35 Ibid. S. 63.
36 Ibid.
37 «Exindeque ad nostram usque aetatem pro-
castria eadem Russis potissimum, Armenis
Hebraeisque scatent et delubris eorun-
dem frequentata conspiciuntur, ex quo
aborigines ipsorum potiente adhuc rerum
Leone pedemontium istud domiciliis suis
praeceperunt» (ZimorowiczJ.-B. Leopolis
triplex // Zivorowics J.-B. Opera quibus
res gestae urbis deopolis illustrantur / Ed.
C.J. Heck. Lwow, 1899. P. 42).
Vocatio Armenorum, или Что случилось с половцами...
93
I Чужие или свои?
38 «Et quidem primum locum indigenis
Russis, soli surgenti obversum addixit,
favore populari potiorem. ludaeis et ad
instar eorum recutitis Saracenis austra-
lem, Armenis et Tartaris in commilitio sibi
assuetis aquiloniam assignavit, ipse cum
stipatoribus suis occiduam regionem, iam
pridem arce ima inaedificatam, habitan-
dum sumpsit. Totidem enim gentes, lingua,
moribus, ritibus sibi non competentes,
aulicum Leonis famulitium explebant»
(Ibid.).
39 In commilitio можно перевести как «в
войске», «в дружине», «в боевом содру-
жестве».
40 «Tartari, ex formula foederis pagatim
hibernantes, densis agminibus in proximo
stabulabantur, multi latera principis
claudebant. Quidam eorum Hamaxovii,
penates etiam pedicosos, utpote pueras-
tros, larvali forma horridos, matresque
veneficas in plaustris secum circumdu-
cebant. Quorum pars magna ubertate
soli, dulcedine praedarum, stipendiis
lautioribus illecti, patriam commodis suis
pensantes, sub alieno sole Lares vagos
fixerunt et in partem civitatis, uti retuli,
venerunt. Ne vero populus ille virorum
una aetate exolesceret, libertini ex feminis
Sarmaticis, quarum corporibus captivis ad
libita sua abutebantur, propagati fuerunt.
Postmodum tamen, cum Russi/Russici
Polonis dediti capturaeque eiusmodi
Sabinarum prohibiti, cum Russicae nup-
tae thalamos eorum recutitos abhorrerent,
tempori succubuerunt. Refricat nihilo-
minus memoriam gentis invisae sepul-
cretum, infra arcem supernalem situm, et
in actis diurnis platea cum porta urbana,
Cracoviana in praesens nominata, ante
bina saecula a Tartaris cognomen sortita»
(Zimorowicz J.-B. Op. cit. P. 43).
11 «lam vero Armeni ab iisdem Tartaris,
Asiam maiorem hostiliter persultantibus,
velut impetu subiti torrentis, ex agris
gentiliciis tracti et in Russiam eadem tem-
pestate delati, cum primo lixabundi inter
gregarios humilibus obsequiis, deinde tur-
mis immisti, Scythicas vindicias emeruis-
sent, quamvis honoratioris militiae spes
affulgeret, nihilominus animo Christiano
contubernium obscaenum, deliria absurda
Machometis, mores infectos, vocis inhu-
manae brutos ululatus Tartarorum, quibus
in parte iam assueverant, aspernantes,
facile in commilitium Leonis transierunt,
cuius precibus manu missi erant. Quorum
plerique aetate vel indulgentia principis
vacationem militiae adepti, inquil-
ini civitatis exterrante dicti sunt» (Ibid.).
Следует отметить, что, упоминая о
предоставлении королевой Ядвигой
Львову «складочного права» в 1387 г.
и о развитии тут торговли, Зиморович
пишет, что армяне некогда вместе с тав-
рийскими скифами, называемыми ныне
татарами, были приглашены королем
Руси Даниилом и Казимир III допустил
их к городскому праву Львова, однако
на определенных условиях.
42 «Sola Leopolis a commilitionibus Leonis,
Tartaris, Saracenis, Armenis ceterisque
stipatoribus principis mascule defensa,
peregrinis dominis portas clausit, nec nisi
pactis initis patefecit (1327): ut nimirum
Boleslaus, titulo ducis Russiae in se sump-
to, urbanam multitudinem indemnem ac
immunem suis legibus et ritibus vivere
permitteret, a cimeliarcho ducali, velut
re sacra, manus cohiberet nihil ue in pub-
licum sine comitiis centuriatis ageret»
(Ibid. P. 59).
43 Dachkevytch Ya. Who are the Armeno-
Kipchaks. P. 404-405, 408, 410; Ибатов
А., Кубасов С. [Рец. на: Гаркавец A.H.
Кыпчакские языки: куманский и
армяно-кыпчакский] // Советская тюр-
кология. 1990. № 4. С. 105-107, здесь
С. 106.
44 Golden Р.В. The Qipcaqs of Medieval
Eurasia: An Example of Stateless
Adaptation in the Steppes // Rulers
from the Steppe: State Formation on the
Eurasian Periphery / Ed. G. Seaman and
D. Marks. Los Angeles, 1991. P. 132-157,
здесь P. 133. Древнейшее упоминание
о половцах - надпись уйгурского ка-
гана Эл-Элми (747-759 гг.) на берегу
реки Селенги в Монголии - называет
их в форме «тюрк-кибчак»: Spinei V.
The Great Migrations in the East and
South East Europe from the Ninth to the
Thirteenth Century. Cluj-Napoca, 2003.
P.219.
4 ;' Цит. по: Григорьев А.П. Официальный
язык Золотой Орды XIII-XIV вв. //
Тюрколог, сб. (1977). М„ 1981. С. 81-89,
здесь С. 82.
46 Vdsary I. Orthodox Christian Qumans
and Tatars of the Crimea in the 13th-14th
Centuries // Central Asian Journal. 1988.
Vol. 32. Issue 3-4. P. 260-271, здесь
P. 269.
47 Votary I. Cumans and Tatars: Oriental
Military in the pre-Ottoman Balkans,
1185-1365. Cambridge, 2005. P. 139-141.
48 Letterfrom Pascal of Vittoria, a Missionary
Franciscan in Tartary, to his Brethren of
the Convent of Vittoria, 1338 // Cathay
and the Way Thither / Ed. H.Yule; rev.
edn. by H. Cordier. L., 1914. Vol. 3. P. 85;
Elemosina J. Chronicon // Golubovich G.
Biblioteca bio-bibliografica delle Terra
Santa e dell’Oriente Francescano. Qua-
rachi, 1909. Vol. 2. P. 125-126.
49 Balducci Pegolotti F. Notices of the Land
Route to Cathay and of Asiatic Trade in
the First Half of the Fourteenth Century /
Ed. H. Yule; rev. edn. by H. Cordier. L.,
1914. Vol. 3. P. 151-152,172.
50 В городе Килия (в устье Дуная) 11 сен-
тября 1360 г. сарацин Tandis продал
генуэзцу Francinus de Corsia 18-лет-
нюю рабыню-татарку. В конце записи
нотаций отметил, что при заключении
сделки использовался куманский
язык: «Interpretante inter dictos Tandis
et dictum Francinum de lingua Latina
in comanescho et de comanescho in la-
tina» (BalardM. Genes et 1’Outre-Mer.
T. 2: Actes de Kilia du notaire Antonio di
Ponzo. 1360. P, 1980. P. 99). Подобная
запись сделана и в конце акта (14 сен-
тября 1360 г.) о продаже армянином
Григо, сыном покойного Арабеца, гену-
эзцу Иоанну из Монтероссо, граждани-
ну Перы, 20-летней рабыни-монголки:
«Interpretante inter predictos contra-
hentes de lingua comanescha in latina et
de latina in comanescha» (Ibid. P. 108).
51 Григорьев А.П. Указ. соч. С. 89.
52 Плано Карпини Дж. дель. История
монгалов // Плано Карпини Дж. дель.
История монгалов. Рубрук Г. де. Путе-
шествие в Восточные страны. Книга
Марко Поло. М., 1997. С. 84.
53 ГВЛ. С. 312.
54 Плано КарпиниДж. дель. Указ. соч. С. 84.
Нелишне будет отметить, что Ярослав
Всеволодович был женат на дочери
половецкого хана Юрия Кончаковича
(Пашуто В.Т. Внешняя политика
Древней Руси. М., 1968. С. 419).
55 Тверская летопись // Памятники
литературы Древней Руси: XIII век.
М., 1981. С. 152. В качестве союзников
Мстислава половцы упоминаются в
летописных статьях 1217, 1219, 1225 и
1227 гг. (ГВЛ. С. 254, 262, 266).
56 ГВЛ. С. 268.
57 Там же. С. 274.
58 Там же. С. 282.
59 Там же. С. 302.
60 Там же. С. 308.
61 Там же. С. 316.
62 Там же. С. 322.
63 Там же.
64 Там же. С. 322-324. Половецкий князь
Тегак был сватом Льва Даниловича, ко-
торый в 1247 г. женился на Констанции,
дочери венгерского короля Белы IV.
Дело в том, что своего наследника
Иштвана Бела IV в 1246 г. женил на
Эржебет (Елизавете), дочери поло-
вецкого хана (о нем известно только,
что он крестился в доминиканском
монастыре в Буде): Paloczi Horvath
A. Pechenegs, Cumans, lasians. Steppe
Peoples in Medieval Hungary. Budapest,
1989. P. 52-53, 78. Вероятно, Тегак
приходился родственником Эржебет,
поэтому его выбор в качестве свата
Vocatio Armenorum, или Что случилось с половцами...
95
0)1 Чужие или свои?
вполне обоснован. Вполне возможно,
что Лазарь и Тегак - это одна и та же
особа, упомянутая в летописи под обои-
ми своими именами - христианским и
языческим.
65 «Великая хроника» о Польше, Руси и
их соседях. С. 184.
66 Golden Р.В. The Turkic Peoples and
Caucasia // Transcaucasia, Nationalism
and Social Change: Essays in the History
of Armenia, Azerbaijan, and Georgia / Ed.
by R.G. Suny. Ann Arbor, 1983. P. 45-67,
здесь P. 48; Idem. Religion among the
Qipcaqs of Medieval Eurasia // Central
Asiatic Journal. 1998. Vol. 42. № 2.
P. 180-237, здесь P. 229.
67 Golden P.B. Khazaria and Judaism //
Archivum Eurasiae Medii Aevi. Wies-
baden. 1983. Vol. 3. P. 127-156, здесь
P. 128; Idem. Religion among the Qipcaqs
of Medieval Eurasia. P. 229-230.
68 Константин Багрянородный в середине
X в. называл их «савартами» (в араб-
ских источниках - «ас-савардийа», в
армянских - «севордик»): Константин
Багрянородный. Об управлении импе-
рией. М., 1989. С. 159, 392. Территория
расселения венгров-савартов полу-
чила название «страна-Сиявурдийя»
с центром в городе Тус/Товус (совр.
Тауз). В 853 г. упоминается их вождь
«Степанос по прозвищу Кон, род ко-
торого от имени пращура его Севука
называли Севордик»: Иованнес Драсха-
накертци. История Армении. Ереван,
1986. С. 112, 309, 317. И до сих пор
среди армян есть носители фамилий
Севордикян и Севортян.
69 Кучук-Иоаннесов X. Старинные армян-
ские надписи и старинные рукописи
в пределах Юго-Западной Руси и в
Крыму // Древности восточные. М.,
1903. Т. 2. Вып. 3. С. 33-75, здесь
С. 68, 70.
70 Кучук-Иоаннесов X. Армянская над-
пись XII столетия // Материалы по
археологии Кавказа. М., 1893. Вып. 3.
С. 106-109, здесь С. 106.
71 Georgian Chronicle / Ed. and transl. by
R. Bedrosian // http://rbedrosian.com/
gc.html/P. 110-111; Картлис цховреба /
Под ред. С. Каухчишвили. Тбилиси,
1955. Т. 1. С. 335-337.
72 Картлис цховреба. Т. 1. С. 354.
73 Golden Р.В. Cumanica I: The Qipcaqs
in Georgia // Archivum Eurasiae Medii
Aevi. Wiesbaden, 1985 (1987). Vol. 4.
P. 45-87, здесь P. 64, 72, 78-80; Idem.
The Turkic Peoples and Caucasia.
P. 59-62.
74 Еремян C.T. Юрий Боголюбский в ар-
мянских и грузинских источниках //
Науч. тр. Ереван, гос. ун-та. 1946. № 23.
С. 393-394.
73 Там же. С. 394.
76 Там же. С. 393.
77 Картлис цховреба. Т. 2. С. 36-37;
Golden Р.В. Cumanica I: The Qipcaqs in
Georgia. P. 82.
78 Golden P.B. Khazaria and Judaism. P. 129.
79 Подробнее о путях распространения
христианства среди половцев см.:
Оапян ОД. Поширення християн-
ства серед половщв в XI-XIV ст. //
Кшвська старовина. 2005. № 1. С. 3-28;
№ 2. С. 3-22.
80 Рубрук Г. де. Путешествие в Восточные
страны // Плано Карпини Дж. дель.
История монгалов. Рубрук Г. де.
Путешествие в Восточные страны.
Книга Марко Поло. М., 1997. С. 111.
81 Там же. С. 135.
82 Выдержки из «Истории» Давида
Багишеци // Армянские источники о
монголах. Извлечения из рукописей
XIII-XIV вв. / Пер. с древнеармян.,
предисл. и примеч. А. Г. Галстяна. М.,
1962. С. 104.
83 Гандзакеци К. Указ. соч. С. 225.
84 Hayton. La flor des estoires de la terre
d’Orient // Recueil des historiens des
croisades. Documents Armeniens: En 2 t.
Documents latins et fran^ais relatifs a
I’Armenie. P, 1906. T. 2. P. 164-165.
85 RichardJ. Op. cit. P. 77-78, 88.
86 Ibid. P. 92, 159-160.
87 DauvillierJ. Les Armeniens en Chine et en
Asie Centrale au Moyen Age // Melanges
de sinologie offerts a M.Paul Demieville:
En 2 t. P, 1974. T. 2. P. 1-17, здесь P. 5.
88 Decreta regni medievalis Hungariae /
Ed. Janos M. Bak, Gydrgy Bonis, James
Ross Sweeney. Idyllwild, California, 1999.
Vol. 1 (1000-1301). P. 67-69; Pdloczi
Horvath A. Op. cit. P. 80, 110; Simonis de
K('za. Gesta Hungarorum / Ed. Laszlo
Vespremy, Frank Schaer, Jeno Szucs.
Budapest, 1999. P. 156; Vasary I. Cumans
and Tatars. P. 67, 115, 119.
89 ГВЛ. C. 300.
90 Там же. С. 298.
91 Там же. С. 301.
92 Там же.
93 Там же. С. 303. Из дальнейшего рас-
сказа следует, что статус болоховских
князей был невысок. В летописи они
всегда фигурируют во множественном
числе и никогда по отдельности, никто
из них не назван по имени. Очевидно,
этих князей можно отождествить с
«кнезами» - вождями сельских общин
в Болгарии, Валахии и Молдавии.
Упомянутые летописцем болоховские
города ранее в летописи не фигуриро-
вали, скорее всего, это были и не города
вовсе, а укрепленные центры сельских
волостей, наподобие древнеславянских
градов.
94 Коваль А.П. Зпайом! незнайомць По-
ходження назв поселень Украши.
Кшв, 2001. С. 128-129; Горпинич В.О.
Словник географ!чних назв Украши.
Кшв, 2001. С. 65, 221.
95 Salaville S. Les Comans. Un peuple de race
turque christianise au XIII siecle // Echos
d’Orient. 1914-1915. T. 17. P. 193-208,
здесь P. 206; Spinet К Moldavia in the
11th—14th Centuries. Bucurejti, 1986.
P. 104.
96 Григорян B.P. Истории^ армянских ко-
лоний Украины и Польши (Армяне в
Подолии). Ереван, 1980. С. 53-54.
97 Barqcz S. Rys dziejow ormianskich.
Tarnopol, 1869. S. 92.
98 Архив Юго-Западной России: В 35 т.
Киев, 1893. Ч. 8. Т. 2. С. 339.
99 Pdloczi Horvath A. Op. cit. Р. 156.
100 Golden Р.В. Khazaria and Judaism.
P. 144-145. Кочевые венгры/мадьяры
оставили немало топонимов с корнем
«мажар»/«можар>> в Поволжье, в
частности села Большие Можары и
Меньшие Можары Можарской воло-
сти Сапожковского уезда Рязанской
губернии: Golden Р.В. The Migrations
of the Oguz // Archiwum Ottomanicum.
Vol. 4. The Hague, 1972. P. 45-84, здесь
P.67.
101 PidouA.M. Op. cit. S. 13.
102 Documented Moldovenejti inainte de
§tefan ^el Mare / Publ. de M. Costa-
chescu: In 2 vol. Ia§i, 1932. Vol. 2.
P. 568-569.
103 Яковенко H.M. Нарис icTopi'i середньо-
BiuHoi та ранньомодерно! Украши. К.,
2005. С. 153-154; Она же. Украшська
шляхта з кшця XIV до середини
XVII ст. (Волинь i Центральна Укра'1-
на). Кшв, 1993. С. 170-174, 222.
104 По свидетельству Груневега, побывав-
шего в Киеве в 1584 г., «мало кто из
них знает армянский язык, большин-
ство владеет только руським» (з по-
дорожшх записок Мартина Груневега
(уривок про Кшв) // Кшвська Русь:
культура, традицп. К., 1982. С. 121).
103 Decreta regni medievalis Hungariae.
P. 69; Никифор Григора. Римская исто-
рия. Рязань, 2003. С. 100.
106 Дашкевич Я.Р. Давнш Льв1в. С. 12.
107 Так, Ласло IV в 1279 г. лишает своих
половцев отдельного суда и подчиняет
их юрисдикции обычных судей так же,
как и прочих подданных: Decreta regni
medievalis Hungariae. P. 69.
108 Во второй половине XIV в. подобные
процессы были характерны и для крым-
ских половцев. Теперь быть мусуль-
манином означало быть татарином, а
православные половцы автоматически
рассматривались как греки: Vasary I.
Orthodox Christian Qumans. P. 271.
Vocatio Armenorum, или Что случилось с половцами...
97
оо I Чужие или свои?
109 Pomniki dziejow Lwowa z archiwum
miasta / Wyd. A. Czolowski: In 4 t.
Lwow, 1892-1921. Так, среди членов
армянской общины (1382-1389) мас-
са носителей тюркских имен. Вот да-
леко не полный их перечень: Abusco,
Amyrbey Asslan, Attabey (Athabey
Atlabey Atlhabey, Achtibey), Petrus
Buha, Cotlubey, Cotlusch, Czaban/
Czoban, lolbey, Kystustur, Orus, Saray,
Sewoncz/Sewnucz, Tholak, Tochbey.
Женщины, конечно, упоминаются
гораздо реже, но зато в их именни-
ке явное преобладание . тюркских
имен: Bemolik, Cotlumelik, Mamusz,
Saymnelyk/Saym/Sayn, Sennachaton,
Thormelyk, Zolmelyk. В реестрах
налогоплательщиков начала XV в.
встречается целая группа лиц с ин-
дикатором «татарин», но христиан-
ским именем, причем, как правило,
в латинской форме, что указывает
на католическое вероисповедание их
носителей. Это Петр татарин, Михал
татарин, Пашко татарин, Ганс та-
тарин из Галича, Ганс татарин, Давид
татарин, Ходор (Федор) татарин,
Маргарита татарка.
110 Перевод осуществлен по: Gronbech К.
Komanisches Worterbuch. Tiirkischer
Wortindex zu Codex Cumanicus.
Kopenhagen, 1942; Гафуров А. Имя и
история: Об именах арабов, персов,
таджиков и тюрков: Словарь. М., 1987;
Древнетюркский словарь. Л., 1969;
Севортян Э.В. Этимологический сло-
варь тюркских языков (общетюркские
и межтюркские основы на гласные).
М., 1974.
111 Pdloczi Horvath A. Op. cit. Р. 107-109;
Rdsonyi L. Les anthroponymes comans de
Hongrie // Acta Orientalia Academiae
Scientiarum Hungaricae. 1967. Vol. 20.
P. 135-149.
1,2 Антонин (Капустин А.И.) Заметки
XII-XV века, относящиеся к крым-
скому городу Сугдее (Судаку),
приписанные на греческом Синак-
саре // Зап. Одес. общества истории и
древностей. Одесса, 1863. Т. 5. С. 625-
628; Vdsdryl. Orthodox Christian
Qumans. P. 266.
113 Например, «nominee Bisara et in la-
tino Chatarina» (Quirini-Poplawska D.
Wloski handel czarnomorskimi nie-
wolnikami w poznim sredniowieczu.
Krakow, 2002. S. 265).
114 Слуцкий C.C. Семиреченские нестори-
анские надписи // Древности восточ-
ные: Тр. Вост, комиссии Император,
мос. археолог, об-ва. М., 1889. Т. 1.
Вып. 1. С. 1-72.
115 «Generosa Anna, conda in Ruthenica
fide Fyethca nominee (16.07.1471)»
(AGZ. T. 18. № 254); Зазуляк Ю.П.
Шляхта Руського воеводства у XV ст.
Льв1в, 2004. С. 140-141. [На правах
рукописи.]
116 РубрукГ. де. Указ. соч. С. 90-91.
117 Ibn-Battuta. Travels in Asia and Africa
1325-1354. L„ 1929. P. 142.
118 Letter from Pascal of Vittoria. P. 84.
119 Balducci Pegolotti F. Op. cit. P. 151-152,
172.
120 «Basilium Armenum interpretem re-
gem» (lorga N. Studii §i documente cu
privire la istoria rominilor. Bucure§ti,
1913. Vol. 23. Part 1. P. 6).
121 Dachkevytch Ya. Les Armeniens a Kiev
(de la deuxieme moitie du XIIIе au
XVIIе siecle) // Armenian Studies/
Etudes armeniennes. In memoriam Haig
Berberian. Lisboa, 1986. P. 185-214,
здесь P. 207-210.
122 Федор Шубачей (1348), Толбуга
и Мокший (1380), Гурлень (1382),
Федор Гуслень (1400) (Полубояри-
нова М.Д. Русские люди в Золотой
Орде. М., 1978. С. 18-19).
123 Tyszkiewicz J. Tatarzy па Litwie i w
Polsce. Studia z dziejow XIII-XVIII w.
Warszawa, 1989. S. 147-149, 158-161,
214-221, 224-226, 229-234, 237.
Татьяна Опарина
«КОРЫСТНОЕ КРЕЩЕНИЕ».
УКАЗ 1623 г. И СЛЕДЫ
ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ’
В русской обществ£нной мысли XVI-XVII вв. весьма большую роль
играло представление о неизменном давлении на Русь «нечестивого» За-
пада, заставляющего русских людей воспринимать свои ценности в ущерб
исконным, что проявлялось, в частности, в активном проникновении ино-
странцев в Россию. Их приток рассматривался как разрушительная сила,
ставящая под угрозу самобытность русской культуры.
Не отвергая того, что иностранные влияния действительно способство- _
вали серьезным изменениям в русском обществе, отметим лишь, что всту- 99
пление чужестранцев в пределы Российского государства не происходило
вопреки желанию правительства. Самовольное пересечение границы в тот
период было абсолютно невозможно. Въехать, как, впрочем, и выехать из
России, позволялось лишь по разрешению высокопоставленных чиновни-
ков. Приток иностранцев санкционировался и, более того, приветствовался
самими властями, поскольку страна не могла существовать без постоян-
ных, хотя и жестко регламентированных, контактов с окружающим миром.
Представители верховной власти были заинтересованы в специалистах и
пополнении служилого сословия.
Однако правительство стремилось создать особые условия для пребы-
вания неправославных в Московском государстве. Их положение в России
в XVI-XVII вв. никоим образом не позволило бы им подрывать устои
русского общества. «Иноземцы» представляли собой особую социальную
группу («чин»), отделенную от русских подданных преградой - вероиспо-
веданием.
Разрушить эту преграду было возможно лишь сменой религиозных
воззрений. Иммигранты не могли стать членами русского общества, не от-
казавшись от веры отцов. Только переход в православие давал им статус
полноправных подданных московского государя, позволял превратиться в
«русских» людей.
Государство имело отработанную систему мер, подталкивавших ино-
земцев к обращению. Насильственное крещение применялось лишь в
'Статья подготовлена при поддержке РГНФ, проект № 10-01-00426а.
порядке исключения. В подавляющем же большинстве случаев использо-
валось социальное и юридическое давление. Приемы скрытого, но эффек-
тивного воздействия приводили к тому, что многие иностранцы, оставав-
шиеся жить в России, постепенно переходили в православие.
Но в таких случаях естественно возникал вопрос, насколько искренним
было желание иностранцев сменить веру, чем определялось их стремление
приобщиться к русской церкви? Ведь согласно каноническому праву вхож-
дение в церковь без твердых убеждений являлось нарушением духовных
правил и церковным преступлением. Если переход в православие был вы-
зван не внутренней потребностью человека, а сугубо мирскими причинами,
таинство не могло состояться.
Дабы не исказить христианскую догму, власти требовали от будущих
подданных определенных подтверждений искренности перехода в право-
славие. Так, в тексте Оглашения 20-х годов XVII в. подчеркивалось, что
обращение должно являться результатом прозрения. Иностранец перед
совершением таинства произносил: «Сего ради прихожду ко истинной
православной християнской вере и ко святей соборной и апостольстьи
церкви восточней, прося святого крещения. Ни от которые нужи, ни от не-
воли, ни лестию, ни лицемерьством, ни збойством, но всем сердцем и всею
душею и разумом своим»1. После таинства новообращенный давал расписку:
«...по желанию моему из своей воли и ни из-за какого принуждения принял
веру греческого закона»2.
Светское законодательство, однако, отставало от церковной практики.
Единственным актом, поднимавшим вопрос о «корыстном» крещении,
стала частная правовая норма 1623 г. указа 1622 г. о холопах3. Однако уже
в следующем указе 1627 г. о холопах4 развернутая формулировка о запрете
перехода в православие, мотивированного лишь стремлением к получению
социальных преимуществ, отсутствовала. Положение было сведено к необ-
ходимости выяснения обстоятельств крещения. Указывалось на обязатель-
ное расследование по делу каждого беглого иностранного холопа - «без
сыску не крестить». Вероятно, подразумевалось не только расследование
правительственных органов, но и духовное - проверка искренности веры.
В Уложении 1649 г. (гл. XX, ст. 71) нормы о «корыстном крещении» и «сы-
ске» были окончательно сняты.
Означало ли это, что понятия ложного обращения на практике вообще
не существовало и переход в православие мыслился светской властью ис-
тинным при любых обстоятельствах? Что указ о «корыстном крещении»
был забыт уже в самый момент его обнародования, а русское государство
проявило готовность принять под свое крыло любых новых полноправных
подданных?
Проследить реализацию указа 1623 г. о «корыстном» крещении на
практике очень сложно, тем более что официальных отказов от крещения
на его основании почти не сохранилось. Этим, в частности, объясняется и
отсутствие историографической традиции изучения указа, представлявше-
го, как уже отмечалось, единственный раздел более общего закона о холо-
пах. Как следствие, исследователей холопства данный акт не интересовал в
силу своей конфессиональной специфики, в то время как историки церкви
не искали памятников канонического права среди статей о зависимом насе-
лении. Таким образом, историки не обращались к указу 1623 г. и, что самое
главное, не распространяли его действие на другие категории иностранцев.
И все же некоторые архивные материалы, касающиеся историй жизни
конкретных людей, позволяют говорить о расширенной трактовке указа в
первой половине XVII в., о его - пусть косвенном - влиянии на судьбы
самых разных групп иностранцев, потерявших в России свободу и мечтав-
ших ее вернуть, даже и через отказ от собственной веры.
Поскольку указ 1623 г. с формальной точки зрения относился только к
иностранным холопам, именно с этой категории «иноземцев» мы и начнем
свои поиски.
В России многих иммигрантов (прежде всего вынужденных) обращали
в холопов. На протяжении XVI-XVII вв. зависимое сословие постоянно
пополнялось за счет военнопленных и угнанных из чужих земель5. В соот-
ветствии с нормами традиционного права такие люди переходили в услу-
жение к победителям.
Помимо военной добычи правительственных войск, в России суще-
ствовал особый вид угнанных с родины - «ясырь» (от турецкого «esir» -
пленник, проданный в рабство). Прибрежные города Османской империи6,
а также территории Крымского ханства и Ногайской Орды стали объектом
постоянных грабежей запорожских и донских казаков, промышлявших
работорговлей7. Из набегов казаки доставляли множество пленных - «ясы-
ря». У таких людей в России был один путь - в холопы.
Удивительно, но попадавшим в зависимость иностранцам русское пра-
вительство даровало свободу веры. Их конфессиональный статус не был
оговорен специальным законодательством, но многочисленные частные
акты свидетельствуют о принципиальной возможности сохранения не-
вольниками своей религии. Присутствие в России инославных холопов
объяснял, в частности, указ 1627 г.8, в котором говорилось о наличии «не-
метцких и литовских людей, которые иманы полоном и живут ...в своей
в латынскои вере некрещоны». Власти не требовали от таких пленников
перехода в православие. С точки зрения московского правительства, ино-
странные холопы уже в достаточной мере были прикреплены к. новой
стране, чтобы добиваться невозможности их возвращения путем перекре-
щивания в православие. Таким образом, лишившись свободы личности,
эти люди сохраняли свободу религиозную.
Парадокс, однако, заключался в том, что согласно тому же самому за-
конодательству холоп мог обменять свободу совести на свободу личности:
юридической свободы можно было достичь ценой вероотступничества.
Самым ранним из сохранившихся законодательных актов, трактующих
этот вопрос, являлся указ 1622 г., повторенный в указе 1627 г., а затем и в
Уложении 1649 г. (гл. XX, ст. 71).
В рассматриваемых указах светская практика являлась продолжением
церковного правотворчества. В христианской доктрине крещению всегда
придавалось огромное значение. Это таинство играло совершенно особую
роль в обновлении человека: его смысл заключался в полном очищении
от прежних грехов. В русском богословии крещение мыслилось не только
необходимым, но в XVI-XVII вв. едва ли не единственным условием спа-
сения. Но если отпущение грехов и посмертное спасение души даровались
«Корыстное крещение».
101
свыше, то на земное государство возлагались функции социального возна-
граждения. Власти не могли оставить приобщение к православной церкви
без поощрения. Именно поэтому восприятие таинства крещения должно
было даровать холопам волю. Кроме того, законодательные акты задавали
правила, по которым иностранные хозяева могли владеть иностранными
же холопами. В случае вступления таких холопов в русскую церковь они
уже не могли более находиться в собственности у неправославных господ.
В ситуации, когда личная свобода могла быть получена через смену
вероисповедания, русские владельцы сами стремились как можно раньше
обратить своих иноземных холопов в православие. Если иностранец при-
нимал православие еще в момент похолопливания (как бы до вступления в
зависимость), то он навсегда лишался свободы. Зависимость такого право-
славного холопа от православного господина длилась до конца жизни.
Безусловно, у русских дворян имелись и инославные холопы и крепост-
ные9, но в целом политика хозяев стала ориентироваться на приобщение к
Московской церкви зависимых от них людей сразу при похолопливании.
g Практика закабаления при помощи перекрещивания становилась типич-
“ ной10. В подобных случаях господин одновременно выступал и обладателем
§ холопа, и его крестным отцом. Так, к середине XVII в. Павел Алеппский
§ писал исключительно о крещеных пленниках из Османской империи,
Крымского ханства и Ногайской Орды, которых, как он полагал, владельцы
Т «усыновили» (в действительности они усыновили их только сугубо в духов-
102 ном смысле)11.
Аналогично поступали и иностранные хозяева. Согласно упоминав-
шимся указам 1622, 1627 гг. и Уложению 1649 г. неправославные не могли
держать у себя в услужении православных. Поэтому холопы татарских
мурз, а также голландских, английских, немецких и прочих купцов, офи-
церов и врачей могли быть мусульманами, протестантами, католиками, но
никакие православными. Западноевропейцам крайне затруднительно было
найти единоверную прислугу. В России они активно покупали «ясырь».
Обзаведшись татарскими и турецкими пленниками, иностранцы в полном
соответствии с практикой русских владельцев активно применяли креще-
ние12. Но если православные хозяева обращали холопов-мусульман в свою
веру, то западные христиане - в протестантизм (католических храмов в
Москве не существовало), превращая их в своих единоверцев. Д.В. Цвета-
ев отмечает значительное число крещений татар в лютеранской кирхе св.
Михаила (единственной, сохранившей ряд относящихся к данному вопро-
су документов). Вероятно, нечто сходное происходило и в кальвинистском
приходе13.
Подобный прозелитизм «иноземцев» ни в коей мере не противоречил
русскому законодательству. Но он создавал основу для освобождения
холопов: если русские владельцы холопов действительно закрепляли
«ясырь» в своей собственности через крещение, то инославные хозяева
попадали в ловушку русского законодательства. Изменяя веру своих слуг,
они, как оказывалось, вовсе не устраняли возможности потерять работ-
ников. У иностранных холопов, попавших в услужение к иностранцам,
сохранялась возможность прекращения зависимости через обращение в
православие. И они активно ею пользовались.
С этой точки зрения особый интерес представляют судьбы невольни-
ков, происходивших из Трапезунда. Нередко они становились зависимыми
у протестантов, которые обращали их в свою веру. Для обретения свободы
им необходимо было доказать свою причастность к православию, что дале-
ко не всегда было очевидным.
В Османской империи (как и в России) конфессиональная идентич-
ность доминировала над этнической. Термин «греки» не употреблялся: все
православные именовались рум (от «ромеи»). Формула имела религиозное,
а не этноязыковое наполнение. К последователям ислама также не приме-
нялось этнических характеристик. Лишь для сторонних наблюдателей они
были «турками» и «татарами».
Привилегиями в Османской империи обладали приверженцы един-
ственной религии. Только последователи ислама допускались к системе
управления страной и несению государственной службы. Входить в военно-
служилое сословие (сипахов - дворянской конницы) и, соответственно,
сохранять переходившие по наследству земли условного держания (тима-
ры - поместья) могли лишь мусульмане. Занятие любой административной
или же военной должности в Османской империи предполагало принятие
ислама. Православным (даже представителям древних родов Византии) от-
водилось поле коммерческих занятий (наиболее известным примером явля-
ются греки-фанариоты). Выбор между поместьем и верой разрешался в те-
чение столетий в пользу социальной стабильности. Смена вероисповедания
для греческих дворян становилась нормой. Исламизация стала характерной
чертой Османской империи14.
Эта ситуация обусловила сложную идентичность мусульман грече-
ского происхождения. «Внешняя» идентичность относила их к туркам и
предполагала, что они полностью выполняют исламские нормы поведения.
Но «внутренняя» идентичность подобных новообращенных продолжала
тяготеть к греческому самосознанию и совсем не редко предполагала скры-
тую приверженность православию15.
Однако именно к подобным тайным христианам «истинные» право-
славные относились с особой ненавистью. Запорожские казаки обозначали
неофитов «потурнаками», донские - «ахриянами», русские литературные
тексты называли их «окаянными отступниками от православный христи-
анский веры». При нападении казаки не щадили «изменников» веры: по-
павших в плен они казнили с подчеркнутой жестокостью либо продавали
в рабство16. Нормы беспощадного религиозного противоборства были
полностью реализованы в крупнейшем десанте на Трапезунд в 1625 г.17 Из
удачного похода казаки пригнали тысячи турецких и татарских рабов (от-
давая предпочтение юным, способным к несению службы, но не к сопротив-
лению пленникам). В составе богатой добычи в Россию были доставлены
«ясыри», имена которых стали известны по более поздним следственным
делам. Среди многочисленных невольников оказался, в частности, маль-
чик, в русских документах называвшийся Мануилом Константиновым.
Мануил Константинов принадлежал к семье чиновника из Трапезунда.
Его отец, которому русские документы дали имя Константин Федоров,
входил в администрацию города и владел поместьем. Как и любой допу-
щенный во властные структуры Османской империи человек, отец Мануи-
«Корыстное крещение».
103
•М Чужие или свои?
ла и члены его семьи исповедовали ислам. Об этом упоминал и сам Мануил
Константинов:-«...был он в Турках в босурманстве»18. Очевидно, что при
этом клан хранил память о своих греческих корнях.
Казаки, уводя в плен мусульман, не вдавались в тонкости их проис-
хождения. Ворвавшись в богатое поместье, они захватили турецкого маль-
чика (который, видимо, испугался признаться в том, что он «ахриянин») и
угнали на корабль: «...взяли меня в Турках, не ведоя, что я греченин»19.
Как «некрещеный босурман» - враг христианства, Мануил Константи-
нов был продан в Воронеже, ставшем в то время центром работорговли.
Цепочка последовательных перепродаж привела невольника в Москву.
Последний владелец - житель города Зарайска Федор Мозжелинин - при-
вез его в качестве товара в столицу. Здесь он уступил холопа за более вы-
сокую цену известному ювелиру Мастеровых палат, выходцу с Британских
островов, прихожанину лютеранской церкви св. Михаила Якову Гасту20.
Гаст, как и любой другой «иноземец», мог держать у себя холопа-
мусульманина, не прибегая к смене его вероисповедания, но решил все
же приобщить его к протестантизму в соответствии с принятой в его
среде традицией. Он сделал из Мануила протестанта. Надо полагать, что
пленник из Трапезунда принял крещение в кирхе св. Михаила (прихожа-
нином которой был Яков Гаст). Законы Русской православной церкви не
нарушались, когда пастор «окрестил» Мануила Константинова «по своей
вере немецкой». Впрочем, позже холоп сообщил, что владелец крестил его
больного (т. е. насильно): «...а он в те поры был мал и лежал в болести»21.
Очень скоро Мануил Константинов освоился в московской среде,
выучил русский язык и сумел обрести знакомых в столице. Работником за-
интересовался князь И.Ф. Татев, переманивавший холопа к себе, чтобы по-
полнить число зависимых людей. Как раз на этот период пришлось и огла-
шение указа 1627 г. Очевидно, русский дворянин ознакомил иностранца
с правительственным распоряжением, открывшим перед «ясырем» новые
перспективы.
Выходец из Трапезунда осознал преимущества православия перед
исламом и протестантизмом. В Московском государстве быть греком-
православным оказалось предпочтительнее, чем турком-мусульманином
или турком-протестантом. И тогда Мануил Константинов явил новую
грань своей этноконфессиональной идентичности. Как уже говорилось,
представители многих османских родов, перейдя в ислам, помнили о своем
истинном - греческом - происхождении и при необходимости использо-
вали это обстоятельство. В Османской империи «Константин Федоров» и
его сын «Мануил Константинов» были законопослушными последовате-
лями ислама и соответственно турками. В России Мануил Константинов
«вспомнил», что он грек, т. е. православный, и заявил о своей изначальной
приверженности восточному христианству: «...сказался, что греченин, а
не турченин, а зовут ево Мануйло»22. Принадлежность же к православию
означала право получения свободы от инославного владельца. Сговорив-
шись с князем И.Ф. Татевым, юный трапезундец решился на побег: «...и как
по государеву указу руским людем у некрещеных иноземов жить не велено,
и он Мануйло от Якова Гаста сшел»23; «и обмогшись, не похотя у Якова
в неметцкои вЪре жить от него збежал и придался жить ко князю Ивану
княж Федорову сыну Татеву»24. Князь укрыл беглого холопа и оказал ему
помощь в составлении челобитной царю Михаилу Федоровичу и патри-
арху Филарету. В его доме Мануил Константинов подготовил прошение
властям, подробно излагая порыв вернуться в веру предков, представляя
себя жертвой прозелитизма хозяина-протестанта, обратившего его якобы
насильно.
Глава русской церкви неизменно откликался на подобные прошения.
Власти устойчиво поощряли переход в православие из иных конфессий.
Патриарх Филарет совершил таинство и вернул «греченина» к прежней
вере, но теперь уже в лоно Московской церкви.
Православный холоп не мог более находиться в доме протестанта. Яков
Гаст лишился купленного работника и подал правительству иск о потере
с требованием денежной компенсации. При дворе патриарха началось
разбирательство, в которое по цепочке вовлекались все бывшие русские
владельцы Мануила Константинова. Теперь они должны были понести на-
казание за то, что продавали «греченина» под видом «турченина». Однако
и над вновь православным Мануилом Константиновым сгустились тучи:
нависла угроза службы теперь уже у православного владельца. Именно на
это и рассчитывал князь И.Ф. Татев, поскольку в соответствии с указом
1627 г. власти поощряли переход православных холопов от иностранцев к
русским и в судебных спорах принимали сторону православных владель-
цев25. Полная свобода все еще оставалась недостижимой для «ясыря».
В этой ситуации Мануил Константинов сумел опереться на другую
силу. В столице он нашел земляков - выходцев из Османской империи.
К этому времени холоп установил связи не только с представителем рус-
ского дворянства, но и с сообществом православных подданных Порты.
Признанным главой греческого землячества тогда являлся келарь Ново-
спасского монастыря Иоанникий26. Многообразие религий и конфессий
Мануила Константинова не стало для греческого пастыря препятствием
к покровительству. Иоанникий видел в невольнике своего тайного еди-
новерца. Переход греческой фамилии в ислам в Османской империи яв-
лялся скорее правилом, чем исключением. Принятие протестантизма под
давлением обстоятельств рассматривалось как еще меньший грех. Потому
Иоанникий, обладавший значительным авторитетом при дворе патриарха,
неизменно помогал освобождению греков из зависимости27. Он вступился
за бывшего пленника и направил личное прошение к патриарху Филарету.
Вмешательство греческого иерарха в судьбу Мануила Константинова ока-
залось решающим. Холопа лишился не только Яков Гаст, но и князь Татев.
Так Мануил Константинов обрел долгожданную свободу. Статус холопа
он сменил на «кормового иноземца». «Грека» определили в Иноземский
приказ. Перейдя в корпорацию служилых иноземцев, Мануил Константи-
нов долгое время служил в Москве в составе «греческой роты», но жизнь
закончил в Сибири. По извету в измене Мануил Константинов попал в
Томск, где стал родоначальником разветвленного клана Гречениновых28.
Чуть позже аналогичный путь обретения свободы (за исключением,
конечно, службы в Иноземном приказе, а также сибирской ссылки) про-
делала девушка, в русских документах получившая имя Авдотья Кон-
стантинова29.
«Корыстное крещение»...
105
Авдотья Константинова, как и Мануил, происходила из Трапезун-
да, но попала в Россию позже, видимо, около 1637/1638 г. — при первом
штурме Азова и в начале «Азовского сидения». Во всяком случае, в 1643 г.
она говорила о своем шестилетнем пребывании в Москве. О социальном
статусе ее семьи нам ничего не известно. Проживая в Османской империи,
Авдотья Константинова, наиболее вероятно, принадлежала к исламу и,
соответственно, в России связывалась с турецким этносом. Последний хо-
зяин характеризовал холопку как «турчанку некрещену»30. Это косвенно
подтвердила и она сама, уклончиво ответив на вопрос священника о том,
как она была принята в христианскую церковь: «...а как де ее взяли в полон
донские казаки, и она в те поры была мала, того не помнит, в православную
крестьянскую веру крещена или нет»31.
Украденная ребенком в Трапезунде, Авдотья стала холопкой донского
казака, перепродавшего ее воронежцу, а тот - живущему в Москве богатому
голландскому купцу Иеремии Фентцелю32. Девушка оказалась собственно-
стью голландского кальвиниста и его супруги англичанки Елизаветы (в де-
о вичестве Барнсли)33, скорее всего пуританки. В доме протестантов «ясырка»
“ вскоре обрела другое имя - Софья и «немецкую» (т. е. западноевропейскую)
| одежду. Все это говорило об изменении прислугой вероисповедания. В си-
g стеме норм того времени переодевание, как и новое имя, означало внутрен-
* нее перерождение - смену веры. Скорее всего, Авдотья Константинова по-
У лучила крещение в кальвинистской консистории Москвы.
106 Однако невольница не стала последовательной сторонницей кальви-
низма и верной служанкой своих господ. Около 1643 г. Авдотья оставила
дом хозяина, прихватив с собой часть его имущества. Побег с криминаль-
ным оттенком, видимо, на этот раз проходил без чьей-либо поддержки.
Можно лишь предположить, что он был связан с событиями в Москве:
разрушением в 1643 г. протестантских церквей (среди них и той, где она
предположительно приняла крещение) и начавшимся гонением на проте-
стантов.
Обострение межконфессиональных противоречий было вызвано
планом династического брака между царевной Ириной Михайловной и
графом Вальдемаром, сыном датского короля Христиана IV34. Среди про-
тестантов, добивавшихся заключения членом царской семьи смешанного
союза, активно проявили себя родственники хозяйки Авдотьи — брат Ели-
заветы Уильям Барнсли, а также муж ее сестры Доротеи Петр Марселис.
Последний, отправленный в дипломатическую миссию, добился приезда
графа Вальдемара в Москву. В русской столице сын датского короля
столкнулся с жестким требованием принять православие, а после своего
не менее решительного отказа - с необходимостью участвовать в долгих
богословских диспутах.
Не исключено, что именно обстановка православно-протестантского
конфликта способствовала подтверждению указа 1627 г. Во всяком случае,
Авдотья Константинова была осведомлена о сути этого законодательного
акта. Таким образом, за время своих скитаний «ясырка» узнала об измене-
ниях, происходящих в политической элите русского общества, и поняла,
что теперь может рассчитывать на законное получение воли, однако лишь
при условии, если она станет православной.
В 1644 г., через год после побега, Авдотья предстала перед властями.
Беглая холопка вышла к Кремлю и попросила официальной защиты. На
Красной площади она обратилась за помощью к первому встречному ду-
ховному лицу. Им оказался священник Успенского собора Московского
Кремля Артемий Фефилатьев, который отвел ее на Патриарший двор.
Глава русской церкви Иосиф (основной противник Марселиса) активно
вмешался в дело «ясырки», как только узнал ее историю.
Авдотья Константинова говорила о своем праве на свободу. Холопка
категорически отказывалась от принадлежности к исламу или протестан-
тизму. Она сообщила, что является «православной крестьянкой»35 и, соот-
ветственно, относится к греческому этносу: «родом де она гречанка», «отец
де у ней и мать были греченя»36. Пребывание в доме протестанта девушка
описывала как посягательство на ее православную веру. Невольница по-
ведала о жестоких религиозных преследованиях, которые ей довелось
испытать в семье Фентцелей. Главной фигурой в издевательствах над ее
религиозным чувством предстала хозяйка Елизавета. Именно она, по
словам невольницы, оказывала на служанку постоянное религиозное дав-
ление: запрещала исполнять православные таинства и обряды, вынуждала
нарушать посты. Несмотря на это, по словам Авдотьи Константиновой, ей
удалось сохранить верность устоям православия. Она сообщала, что непри-
миримо отстаивала веру в протестантском окружении: «...а она де помня
православную крестьянскую веру в посные дни скоромные яствы не ела»37.
Подобная твердость в благочестии, по версии холопки, вызывала яростный
гнев хозяйки. Первоначально злобная кальвинистка применяла методы
физического воздействия: «...и за то де та иво Еремеива жена ее била и му-
чила». Не добившись религиозного подчинения, Елизавета якобы выгнала
холопку из дома. Таким образом, девушка объясняла, что не сбежала от
хозяев, а, напротив, была прогнана владелицей, которая «говорила, коли де
ты нашей веры не вЪруюшь и ты де поди з двора и платье де с нее неметцкое
сняла и збила з двора»38. После этого Авдотье не оставалось ничего иного,
как только искать спасения у русских духовных властей.
Патриарх Иосиф сразу принял сторону мученицы за веру. Страдаю-
щая от протестантского давления «гречанка» «вернулась» в православие.
В Георгиевском женском монастыре Авдотья Константинова восприяла
таинство крещения. Однако для окончательного разрешения конфликта
необходимым оказалось участие влиятельного лица, которое способно
было лично обратиться к носителю верховной власти. Если в деле Мануила
Константинова его заступником выступил келарь Иоанникий, то в случае
Авдотьи Константиновой покровительницей холопки стала сама царица.
Во время торжественной церемонии в Кремле Авдотья Константинова
упала в ноги Евдокии Лукьяновне и подала ей челобитную с просьбой о
свободе. Прошение новообращенной, составленное в период бурно про-
текающего православно-протестантского диспута, было немедленно пере-
дано государю. Царь Михаил Федорович принял решение о прекращении
зависимости православной холопки от протестанта-хозяина, сославшись
на указ 1627 г. Иеремия Фентцель, лишившись собственности, подал иск
о компенсации затрат на ее приобретение. Однако, не имея купчей, он по-
терял не только холопку, но и деньги. Девушка же осталась в доме священ-
«Корыстное крещение»..
107
co I Чужие или свои?
ника Артемия Фефилатьева, вероятно, в качестве прислуги. Кроме того,
священник впоследствии мог устроить ее судьбу в соответствии с нормами
русской традиции - подыскать жениха среди своих прихожан.
В следственных делах Мануила и Авдотьи мы не находим четких
указаний на закон 1623 г. Но можно предположить, что в таких случаях
подтверждением искренности помыслов холопов явились рекомендации
таких авторитетных и влиятельных лиц, как царица Евдокия Лукьяновна
и келарь Иоанникий. Они фактически брали на себя ответственность за ис-
тинность принятия обращаемыми таинства. Кроме того, приверженность
православию гарантировалась и специфическим происхождением обоих
героев, подразумевавшим принадлежность к «истинной» вере буквально с
рождения.
Впрочем, многие холопы, и вовсе не имевшие греческого происхожде-
ния, вполне успешно могли повторить тот же путь перехода в православие,
не вызывая никаких подозрений в личной «корысти».
К таковым следует отнести Асанна Ахметева (Махметева)39, еще одного
пленника из Трапезунда. Вероятнее всего, он попал в Россию вместе с Ма-
нуилом Константиновым после набега на их город казаков в 1625 г. Однако
если Мануил Константинов обрел свободу уже в 1628 г., то Асанн Ахметев
(Махметев) - только в 1646 г. Вероятно, эту ситуацию можно объяснить
изначальным вероисповеданием «ясыря».
Никаких сведений о принадлежности Асанна Ахметева (Махметева)
к греческой традиции источники не зафиксировали. Информация о его
связи с православием отсутствует. В России он говорил, что «родом тур-
ченин», своего отца также характеризовал как «турченина» и указывал
на его высокий социальный статус: «...отец де мои у турского царя был
дворянин в Тряпызане городе»40. Родителя он определял как турецкого
дипломата или дипломатического курьера: «...отец мои служил в чеушах
турскому царю»41. В русских документах иммигрант так и остался Асан-
ном (в отличие от Мануила и Авдотьи, получивших у делопроизводите-
лей христианские имена).
Прочие различия в судьбах турецкого невольника и Мануила с Авдотьей
не столь существенны (за исключением срока несвободы). Асанн Ахметев
(Махметев) находился в Трапезунде, когда 1625 г. в город ворвались казаки:
«...и тому де 21 год как приходили донские атаманы и казаки морем в судех
под город Тропизон и город Трапизон взяли». Его отец Ахмет (Махмет),
последователь ислама, погиб в схватке с ревнителями православия, а под-
росток в числе прочих рабов отплыл на корабле к Дону: «И в то время отца
ево Ахметя донские казаки убили, а его невелика взяли в полон и привели
ево с собою на Дон в свои казачеи Черкасский городок». Далее, как и многих
других «ясырей», юношу через цепочку перепродаж доставили в Москву.
Турецкого пленника купила некая «немка Катерина прапорщица»42, очевид-
но, вдова погибшего прапорщика-иностранца, чьего имени мы не знаем43.
Служба у иностранки продлилась для Асанна Ахметева почти четверть
столетия: «И с тех мест жил у немки Катерины». Причем он не использовал
период оглашения указа 1627 г. (не знал языка и, соответственно, не услы-
шал обнародования закона или же не смог апеллировать к православному
прошлому своего рода?). Оставаясь мусульманином, в доме иностранки
пленник обзавелся семьей. Хозяйка сама определила ему пару, выбрав из
прислуги ему единоверку, очевидно, тоже «ясырку», но происходившую из
Крымского ханства или Ногайской Орды: «И та немка Катерина женила ево
на татарке Девлекее». В браке родилось трое детей: в русской транскрипции
их имена звучали как Григорий (в 1646 г. ему было 13 лет), Яким (8 лет),
Сузанна (9 лет). Затруднительно ответить на вопрос, принимала ли мусуль-
манская чета протестантизм. Имена детей дают основания предположить,
что крещение в протестантской церкви все же состоялось. Несомненным
остается лишь то, что неволя у последовательницы западного христианства
для Асанна Ахметева тянулась 21 год, пока в 1646 г. он не принял правосла-
вие. В этом году произошло повторное обнародование указа 1627 г. Находясь
много лет в России, Асанн Ахметев уже знал русский язык и разбирался в
законодательстве. Объявление указа стало толчком для невольника. Вместе
со всей семьей он обратился к властям с просьбой о вступлении в Москов-
скую церковь. Прошение было удовлетворено, Асанн Ахметев и члены его
семьи были крещены (или же перекрещены, если ранее принимали проте-
стантизм). Глава семьи и старший сын прошли оглашение на Троицком под-
ворье, супруга и младшие дети - в Рождественском девичьем монастыре. По
истечении срока обучения основам веры семья была приобщена к правосла-
вию, получив новые имена: Асанн стал Филиппом, Девлекея - Прасковьей,
Григорий - Артемием, Яким - Ларионом, Сузанна - Ненилой (Неонилой)44.
Таинство крещения даровало холопам волю.
Таким образом, и у тех холопов, которые никак не связывали себя с гре-
ческим православием, в России сохранялась возможность освобождения
от личной зависимости через крещение.
По-видимому, причина столь легкого перехода в иную веру во всех
трех рассмотренных выше случаях заключалась, помимо прочего, в том,
что владельцами этих иностранных холопов выступали также иностранцы.
Государство спасало души иностранных холопов, приобщая их к «правой»
вере и прекращая «нечестивые» воздействия на них западных христиан.
А в ситуации обострения споров русских властей с протестантами пред-
ставители власти имели возможность нанести удар, пусть и не очень су-
щественный, иностранцам, владевшим холопами (как в случае с семьей
Барнсли-Фентцелей).
Труднее приходилось тем, кто попадал в зависимость от русских хозяев,
да и сам считался православным. В этом случае рассчитывать на получение
свободы могли представители «чужих» ветвей православия - прежде всего
Киевского. Тем более что в отношении представителей Киевской митро-
полии существовала специальная норма канонического права - «Указ
о белорусцех», принятый на поместном соборе 1620 г. под руководством
патриарха Филарета. Указ предполагал повторное крещение украинцев и
белорусов при принятии русского подданства.
Как отмечалось, в набегах возбранялось обращать единоверцев в хо-
лопство. В мирной жизни закабаление православных иммигрантов никак
не ограничивалось. Ярким свидетельством тому служит история Анны
Смеловской45. Она не была ни «ясырем», ни пленницей правительствен-
ных войск, но приехала в Россию добровольно. Перипетии ее судьбы де-
монстрируют особый путь попадания в холопство - в качестве наказания
«Корыстное крещение»...
109
Чужие или свои?
за совершенное преступление: жене украинского казака довелось узнать,
что государственным изменникам (и членам их семей) предписано закаба-
ление.
Анна Смеловская с супругом и детьми входила в число двух тысяч укра-
инских казаков, попросивших русского подданства в 1638 г.46 Поражение
казацких восстаний в Речи Посполитой 1637-1638 гг. повлекло массовое
бегство повстанцев в границы родственной державы. Иммигранты искали
политической свободы и спасения православной веры от преследований
католиков-поляков и униатов. Русские власти активно принимали пересе-
ленцев, предоставляя им землю и наделяя недвижимостью. Тысячи людей
оседали на южных окраинах России, ставших основой формирования Сло-
бодской Украины. Большинство из мигрантов было определено в Чугуев.
Ивана Смеловского с семьей направили в Воронеж.
Принятие в русскую службу беженцев 1638 г. не сопровождалось ис-
полнением указа 1620 г. Московское правительство оказало всяческое
содействие гонимым единоверцам, даже не исполнив церковных предпи-
саний патриарха Филарета. Церковный указ 1620 г. на время был забыт.
В данный момент казаки Речи Посполитой были восприняты в качестве
православных, а вопрос о том, что вера их подверглась искажениям, даже
не поднимался. Этим обстоятельством вскоре и смогла воспользоваться
Анна Смеловская.
___ Через два года после перехода границы начался обратный процесс.
110 В среде украинских казаков вызревал бунт. Бегство от несвободы Речи Пос-
политой завершилось разочарованием: волю в России им обрести не удалось.
Происходил массовый отток в Речь Посполитую, власти которой теперь
обещали бывшим повстанцам прощение. Однако стремление вернуться на
родину означало в России государственную измену. Принятие русского
подданства нельзя было обернуть вспять, и уехать после крестоцелования
было невозможно. Среди тех, кто пожелал возвратиться, оказался и Иван
Смеловский. Попытка обрести свободу закончилась для него трагически.
Беглец был настигнут казаками - сторонниками властей и зарублен.
Семья предателя перешла в распоряжение казаков, его и убивших, в
качестве поощрения за их заслуги перед правительством. Свою добычу
владельцы распродали. Анна Смеловская и ее дети с оформлением необ-
ходимых документов - купчей - перешли в собственность русского чело-
века, жителя Суздаля. Важно отметить, что закабаление в данном случае
не имело религиозных ограничений. Как отмечалось, изначально было
признано православное вероисповедание Анны Смеловской, что отменяло
необходимость перекрещивания при обращении в холопство. Православ-
ный хозяин, хорошо помня о тонкостях владения иностранными холопами,
не усматривал различий между своим вероисповеданием и убеждениями
украинских казаков. Анна Смеловская в Суздале ходила в один храм со
своим хозяином, относилась к одному с ним приходу, в господском доме
исполняла посты и молитвы. Бывшая киевская православная ничем не от-
личалась в вере от русских.
В услужении Анна Смеловская находилась с 1640 по 1650 (1651?) г.
За это время господин нашел холопке нового супруга - своего кабального
русского холопа, а достигших совершеннолетия детей определил по своему
усмотрению к новым владельцам. Однако через 12 лет, когда уже выросли
ее дети и как холопы были распроданы хозяином по разным людям, Анна
Смеловская попыталась коренным образом изменить свою судьбу.
Перелом в судьбе вдовы украинского казака был связан с обнародова-
нием Соборного уложения 1649 г. Ситуация полной зависимости длилась
для Анны Смеловской до тех пор, пока не был издан свод российских зако-
нов. В качестве самостоятельного раздела он включал указ 1627 г. (гл. XX,
ст. 71). Правовое сознание иммигрантки из Речи Посполитой, очевидно,
обедневшей шляхетки, оказалось очень высоким. Помимо кодекса свет-
ского права, она был знакома с более ранней практикой перекрещиваний
и, очевидно, печатным сборником канонического права. Судя по ее дей-
ствиям, она была осведомлена и о публикации указа 1620 г. в Требнике,
напечатанном в Москве в 1639 г.
Зная положения церковных и государственных правовых актов, холоп-
ка решилась на побег. В 1650 (1651?) г. Анна Смеловская покинула дом
хозяина в Суздале и устремилась в столицу, ища помощи у главы русской
церкви. Сбежав от русского владельца, киевская православная достигла
Москвы. Здесь беглая холопка продемонстрировала неожиданную для
своего господина грань этноконфессиональной идентификации. Анна Сме-
ловская отказалась признавать себя русской православной. Иммигрантка
теперь декларировала принадлежность к «белорусской вере» и утвержда-
ла, что продолжает оставаться представительницей Киевской митрополии:
ведь крещения над ней в России так никто и не совершил. В 1651 г. Анна
Алексеева, жена «литвина» Ивана Смеловского, обратилась к патриарху
Иосифу с просьбой о повторном крещении. Обливательное крещение, ис-
пользуемое в церковной практике Киевской православной митрополии и
принятое некогда вдовой, стало для нее спасительным. Согласно поста-
новлениям церковного собора 1620 г. вступившие в христианскую церковь
через окропление подлежали новому обращению. На этом основании Анна
Смеловская доказывала неистинность своего изначального «белоруского»
крещения: «И похотя де она быть в православной християнскои вере ис
Суздаля пошла для крещения к Москве для того, что по их белоруской
вере обливают, а не погружают, и крестов они на себе не носят»47. Хоро-
шее знакомство холопки с правовой системой Российского государства
проявилось в том, что она настаивала на исполнении как духовного, так
и светского законодательства. После исполнения норм указа 1620 г., опу-
бликованного в Требнике 1639 г., Анна говорила о получении свободы в
соответствии с Уложением 1649 г.
Внутрицерковные противоречия способствовали осуществлению
плана Анны Смеловской. Патриарх Иосиф, находившийся в конфликте
с царским духовником Стефаном Вонифатьевичем и его ставленником,
новгородским митрополитом Никоном, стремился всячески дискредити-
ровать своих оппонентов. Глава русской церкви, противостоя проукраин-
ской линии Стефана Вонифатьевича и Никона, возродил исполнение указа
1620 г. Он принял решение о перекрещивании Анны. Со ссылкой «излюбя
православную христианскую веру» киевская православная восприяла за-
ново таинство крещения и была наречена Ариной (Ириной?). Несмотря
на то что в Уложении 1649 г. речь шла о прекращении зависимости ново-
«Корыстное крещение»..
111
ю I Чужие или свои?
обращенных холопов от инославных и иноверных владельцев, Смеловская
получила волю от православного хозяина. Сила таинства виделась тако-
вой, что устраняла зависимость даже от русского господина. Как видно из
документов, в деле Анны (Арины) вольная была дана сразу после совер-
шения таинства крещения, несмотря на православие ее господина. Пере-
крещивание в данном случае автоматически освободило от зависимости,
в чем проявилось догматическое понимание таинства. Кроме того, порыв
к «истинному» православию - московскому, зафиксированный в текстах
ее челобитных, не дал основания властям усомниться в ее искренности и
применить к ней указ 1623 г.
Но личной свободы оказалось для Арины (бывшей Анны) Смеловской
недостаточно. Ей необходимо было собрать всех детей, продолжавших на-
ходиться в зависимости. Она стремилась на том же основании - принадлеж-
ности детей к не-московскому православию - вызволить и их из холопства.
Бывшая киевская православная заговорила о необходимости повторного
крещения своих детей. Она настаивала, подавая одну челобитную за другой.
Прошения породили продолжительное следствие, в которое постепенно во-
влекалось все большее число людей. Для дачи показаний был призван новый
муж Анны, русский кабальный человек. Кроме того, Анна добилась вызова
разбросанных и утерянных ею детей. Всем им предполагалось дать свободу,
что вызвало крайне негативную реакцию владельцев. В развернувшемся
споре характер ключевого вопроса приобрело изначальное вероисповедание
Анны и, соответственно, ее детей.
Хозяин Анны приводил многочисленные примеры благочестивости
своей холопки. Он утверждал, что его прислуга в полной мере право-
славная и никаких различий в их вероисповеданиях не существует. Тем
самым он подчеркивал тождественность «белорусской» и «русской» веры.
В этой ситуации Анне Смеловской пришлось усложнить ответы, запуты-
вая детали крещения. Она ввела новое понятие и говорила о «литовской
вере» и своем «литовском крещении», отделяя его от «белорусского» и
тем более от «русского». Таким образом, если Авдотья Константинова и
Мануил Константинов декларировали близость к русскому православию,
то Анна Смеловская, напротив, настаивала на своей отстраненности от
него. Холопам-«грекам» необходимо было доказать, что они православные,
украинцам - что они «чужие» православные.
Ссылки на «литовское» крещение имели успех. Патриарх Иосиф, при-
нимая во внимание столь далекий от русской традиции способ вступления
в церковь, предписал вновь принять в христианство ее детей. Однако та-
инство должно было произойти теперь в Суздале, а не Москве, как ранее.
Глава церкви согласился, что крестить можно, но полагал, что освобождать
нельзя. Конечное решение было принято не в пользу детей Анны Смелов-
ской. Новообращенные холопы должны были остаться во власти своих
православных хозяев. Но отказано в воле им было не на основании указа
1623 г., а по внимательному рассмотрению закона о крещении иностран-
ных холопов (как отмечалось, зафиксированному в указах 1622, 1627 гг.
и в Уложении 1649 г.). В этих законодательных актах получение свободы
от владельца мотивировалось невозможностью совместного проживания
неправославного господина и его новообращенных слуг. Но в ситуации с
детьми Анны Смеловской различия в вере между хозяином и холопами от-
сутствовали. То есть в данном случае сила таинства уже не повлияла на их
судьбу (в отличие от судьбы матери).
В целом, в рассмотренных выше историях иностранных холопов влия-
ние указа 1623 г. практически не прослеживается - мы лишь предполагаем,
что наши герои знали о его существовании и опирались на него в своих
действиях. Можно даже заподозрить, что указ так и остался на бумаге.
Однако сделать это не дают архивные материалы, посвященные перекре-
щиванию совершенно иной категории «иноземцев» - вполне свободных
людей, правда, находящихся в тюрьме или под следствием. Значительное
количество судебных разбирательств, сохранившихся до настоящего вре-
мени, заставляет предположить влияние указа 1623 г. на судьбы более ши-
роких кругов иноземцев - прежде всего уголовных (реже политических)
преступников.
В России правом достичь свободы или смягчить наказание через при-
нятие православия обладали люди, находящиеся под следствием или уже
осужденные за различные преступления. Тюрьма и ссылка также лишали
человека воли, вернуть которую можно было обращением. Эту практику
отмечали иностранцы в своих записках. Имперский посол барон Августин
Мейерберг выделял в особую категорию неофитов, которые приняли
православие «из страха казни и ссылки за преступления»48. То, что кре-
щение было способом избежать наказания за любое преступление, кроме
измены, подтверждают и указы региональных властей. Так, сибирские
правители предписывали: «А который татарин дойдет до вины и убежит к
архиепископу, от опалы, от каковы ни будет, опричь измены, и похочет кре-
ститись, и ему тех татар принимать и держать их у себя бережно... боярам,
и воеводам и диаку до указу никак не отдавать»49. Традиция вынесения
после крещения оправдательного определения сохранялась до XVIII в.
Императрица Анна Иоанновна 11 марта 1741 г. приняла решение, соответ-
ствовавшее практике предшествующего периода. На запрос правительства
о судьбе обвиненного в убийстве калмыка, успевшего в тюрьме вступить
в русскую церковь, представительница верховной власти вынесла резолю-
цию об освобождении. Главным аргументом являлось то, что преступник
«убивство учинил прежде принятия веры греческаго исповедания, будучи
в магометанском законе». Предписывалось «и впредь, ежели такие иновер-
цы в смертных убивствах или в других тяжких винах явятся, а потом веру
греческаго исповедания воспримут, то их для того восприятия веры, нигде
не описывся, смертию не казнить и в ссылку не посылать, а требовать о том
указа от Кабинета»50. Таким образом, данная норма обычного права была
зафиксирована правительственным законодательством лишь в XVIII в.
Действенность подобной традиции в XVII в. фиксируют многочислен-
ные следственные процессы. В них проявилось сложное сочетание двух об-
стоятельств: права на свободу новообращенных и проблемы «корыстного
крещения». На основании указа 1623 г. заключенные должны были дока-
зать свою искренность. Единственное известное мне дело об официальном
отказе от крещения относится к 1626 г.
Как отмечалось, указ 1623 г. предназначался иностранным холопам, но
фактов его применения к представителям зависимого сословия не обнару-
«Корыстное крещение».
113
жено. Однако сохранились документы о запрещении крестить сидящих в
тюрьме татар, в просьбе которых власти усмотрели лишь стремление к осво-
бождению. В 1621 г. в Новгород Великий была отправлена группа пленни-
ков из азовских, ногайских и крымских татар. В 1622 и 1623 гг. (в период
оглашения указа о холопах) они попросили о вступлении в православную
церковь. Ответа, вероятно, не последовало. В 1626 г. заключенные мусуль-
мане обратились с просьбой вновь, ссылаясь на голод, от которого уже
умерли шесть заключенных, и убеждая: «...и хотим мы, бедные, креститися
и жити во православной в крестьянской вере и за тобя, государя, радеем
крестяся, головы свои положити в православной крестьянской вере». Но
резолюция царя сводилась к увеличению поденного корма и к отклонению
просьбы о крещении: «...а о крещении бьют челом по неволе и тому верить
нечему»51. Слишком пронзительно звучали просьбы соединиться с истин-
ной верой, когда от голода погибло шесть человек. Власти справедливо
заподозрили челобитчиков в неискренности.
Использование указа о «корыстном крещении» при отказе принять
g того или иного иноземца в православие прослеживается, как кажется, еще
“ в некоторых уголовных делах.
§ Попытку остановить исполнение приговора путем обращения в
g православие в 1665 г. предпринял артиллерийский капитан Христиан
Улман52, виновный в убийстве. Капитан не вернул заем своему соратни-
У ку по оружию Юрию Смиту. Выяснение отношений между должником и
114 кредитором завершилось применением силы. В результате столкновения
Юрий Смит погиб. Началось следствие, проводившееся в Иноземском
приказе. Обвиняемый попытался представить происшествие результатом
самообороны и, соответственно, неумышленным преступлением. Дознание
включало пытки Улмана на дыбе и допросы многочисленных свидетелей.
Вина Улмана для следователей была доказана, и ему был вынесен обви-
нительный приговор. Своим единственным спасением иностранец видел
переход в православие. Улман предупредил власти о готовящейся подаче
челобитной, что отменило первоначально намеченную казнь. Взойдя на
эшафот, преступник услышал приказ властей, который ему «вместо смерти
живот дал, принял бы я християнскую веру». Оставалось лишь составить
необходимые бумаги и подать их властям. Но именно это оказалось для
Улмана невыполнимо. Настойчивые попытки начать делопроизводство о
перекрещивании полностью провалились. Очевидно, причиной тому стал
этнический конфликт в Немецкой слободе: Христиан Улман был немцем,
а его жертва Юрий Смит - шотландцем. Корпоративность выходцев с Бри-
танских островов не позволила ни самому Улману, ни членам его семьи от-
нести челобитную в Иноземский приказ. В Патриаршем же приказе бумаги
не были приняты к делу. Чиновники настаивали на определенной, давно
сложившейся последовательности прохождения бумаг: инициативную
челобитную необходимо было подать только в свое ведомство. Шотланд-
ское землячество, видимо, подкупило приказную бюрократию и, кроме
того, перекрыло для Улмана и его супруги дороги из Немецкой слободы до
Иноземского приказа. В результате этой продуманной кампании Христиан
Улман так и не стал православным. Неудача с перекрещиванием усугуби-
лась отказом пастора исповедать его перед казнью. В Немецкой слободе
была совершена публичная экзекуция: виновному в убийстве западному
христианину его единоверцы отрубили руки и ноги. Наиболее вероятно,
в прецеденте Христиана Ульмана проявились и скрытая реализация указа
1623 г. о «корыстном крещении», и корпоративное воздействие на русскую
администрацию группы иностранцев, противившихся перекрещиванию
Улмана.
Следует признать, что в подобных случаях власти и сами не всегда
стремились принять в лоно русской церкви преступника, не сумевшего
правильно составить документ. Иной пример надежды на спасение дает
случай с Петером Фальком53. Его коллизия также демонстрирует кон-
фликт между двумя иностранцами, вызванный невозвращением займа.
Недавно приехавший в Россию сержант Фальк в ожидании назначенного
правительством жалованья заложил за два рубля карабин, видимо, рав-
ному ему по званию сослуживцу Томасу Грельсу (Григорию Томасову).
Надо полагать, что вовремя вернуть сумму должник не смог. Томас Грельс
предъявил обвинения, которые Фальк нашел порочащими его достоинство
и потребовал дуэли. Поединок двух сержантов на шпагах состоялся летом
1637 г. и завершился смертью заимодавца. Против Фалька было выдвинуто
обвинение в уголовном преступлении. Следствие, включавшее пытки как
метод дознания, затягивалось. Петер Фальк стремился отклонить версию
об убийстве, заявляя, что действовал «обороняясь: он набежал на мою шпа-
гу и накололся, и от того ему смерть случилась». Судей такие аргументы
не убедили. У заключенного оставался лишь один способ избежать смер-
ти - направить прошение о вступлении в русскую церковь. Петер Фальк
решил прибегнуть к нему и составил челобитную, в которой просил царя:
«...крестить в православную крестьянскую веру, чтоб мне бедному... сидя в
чепи и в железах в неверии не умереть голодною смертию»54. Перед этим
он ярко описал ход дела: «Пытан накрепко и посажен в чепь и в железах и
твоего царского жалованья не дают седмои месяц. И с тех мест по ся место
в заключенье от всяческие нужи вконец погиб». Прошение висящего на
дыбах иностранного офицера не было принято властями к рассмотрению.
Резолюции государя не сохранилось, но известно, что Петер Фальк пода-
вал прошение дважды, причем каждый раз его челобитная зачитывалась
верховному правителю. Царю Михаилу Федоровичу было доложено о нем
25 и 28 мая 1639 г. Очевидным было, что мотивация обращения никак не
была связана с духовными поисками. Неясно, чего его автор боялся боль-
ше: умереть «в неверии» или же «голодною смертию». Власти выжидали,
не вынося решения ни о казни, ни о перекрещивании. Так и не дождавшись
ни свободы, ни веры, в марте 1642 г. Петер Фальк скончался под стражей.
Можно предположить, что и в его деле сыграл свою роль указ 1623 г.
В позднейшей судебной практике указ о «корыстном» крещении приме-
нялся все реже. В большинстве случаев власти с полным пониманием отно-
сились к челобитьям преступников о вступлении в русскую церковь. Если
в 1626 г. пленным татарам отказали в принятии православия, то в схожей
ситуации 1635 г. «тюремные сидельцы некрещеные татаровя Тинмамет Ев-
кастыев с товарыщи Козыева улуса» благополучно достигли изменения ве-
роисповедания. Просидев четыре года в застенках Кирилло-Белозерского
монастыря, Тинмамет Евкастыев вместе с сокамерниками обратился к главе
«Корыстное крещение».
115
о> I Чужие или свои?
епархии - вологодскому архиепископу Варлааму. Он просил приобщиться
к Московской церкви. Предстоятель дал предварительное согласие, но не
вынес окончательного определения. Необходимой силой обладало реше-
ние только верховной власти. В соответствии с предъявленным им требо-
ванием заключенные направили повторную челобитную царю Михаилу
Федоровичу. В документе они умоляли правителя: «Пожалуй нас крестить
и из тюрьмы выпустить и в своей бахметскои вере седя в тюрьме голодною
смертию не помереть»55. Как видно, текст прошения полностью созвучен
оказавшимся неудачными документам Петера Фалька и татар в 1626 г. Од-
нако в данном случае просители смогли сослаться на покровительство во-
логодского архиепископа, а также на прецедент: в вологодской епархии за
последний год уже совершались крещения с последующим освобождением.
Тогда группа татар, сидевших в тюрьме Вологды, вступила в Московскую
церковь и достигла воли. Но самое главное, Тинмамет Евкастыев и его
«товарищи» нашли поручителей, готовых взять на себя ответственность
подтвердить искренность их обращения и, что не менее важно, лояльности
властям. Перед совершением таинства Тинмамета Евкастыева и его друзей
«взяли на поруки», т. е. был составлен специальный документ. «Поручная
челобитная» на них гарантировала несовершение ими государственной
измены. В тексте заверялось, что в случае принятия в православие и, соот-
ветственно, освобождения новообращенные «в Крым и Литву не уйдут»56.
Власти полностью поверили просителям и поручителям.
В 1645 г. татарин Тлещ Каркаданов, попавший в заточение в Яблонове
в 1641 г., также ощутил потребность соединиться с «истинной» верой. «Тю-
ремный сиделец» взмолился: «...сижю в Яблонове многое время». В чело-
битной, как и в предшествующем случае, он сумел доказать верноподдан-
ничество, отклонив обвинения в государственных преступлениях. Кроме
того, Тлещ заверил, что его многочисленные родственники уже перешли
в православие и вполне благонадежны: «...а которые у него были братья,
и те де ево братья ныне в Московском государстве крещены в православ-
ную крестьянскую веру и служат государеву службу на Туле з донскими
казаки». Подозреваемый в бегстве и продаже православных в Крымское
ханство и Ногайскую Орду был принят в лоно русской церкви. В начале
1646 г. Тлещ Каркаданов был крещен в Москве, его восприемником стал
Дмитрий Богданов Плещеев-меныпой. Заключенный получил новое имя -
Алексей и долгожданную свободу57.
Реализацию нормы освобождения новообращенных преступников
фиксирует и случай 1643 г. Иностранный военный Юрий Узби, вхо-
дивший в роту Фамендина, вступил в неизвестный нам конфликт с ко-
мандиром. Начальник не замедлил принять решение. Он исключил под-
чиненного из списков. Заявив, что Узби «в уме помешался», Фамендин
«вычеркнул его из службы». Он снял его имя из окладных книг Инозем-
ского приказа, тем самым лишив жалованья и, соответственно, любых
средств к существованию. Оскорбленный Узби набросился на ротмистра
и попытался заколоть его шпагой. Взбунтовавшегося солдата связали и
доставили в тюрьму, где началось дело о «бесчестье». Понимая безвыход-
ность своего положения, заключенный составил прошение о принятии
православия. За «прозревшего в вере» вступился, подтвердив его искрен-
ность и лояльность, тесть Таврило Мартынов. Его мнение было тем более
важным, что отец жены уже принадлежал к русской церкви. Документы
именовали Гаврила Мартынова «новокрещенным». Неясно, имелся ли у
конфликта между Фамендиным и Узби межконфессиональный оттенок,
но, безусловно, Узби был принят в Московскую церковь. Он был наречен
Гурием и обрел свободу58.
В 1675 г. голландец Иван Имбрант59 присоединением к православию
сохранил себе жизнь. Иностранец был обвинен в убийстве своего отчима
Ивана Сара. Следствие полностью доказало его вину, и Имбранта ожидала
казнь. Избегая трагической развязки, преступник составил челобитную об
изменении вероисповедания. Получив согласие властей на приобщение
к «истинной» вере, по окончании суда он был перекрещен. Убийца таин-
ством крещения омыл страшный грех. Обвинительный приговор был снят.
Новообращенный иностранец продолжил жизнь прихожанином Москов-
ской церкви.
Обращение в православие иногда приносило человеку если не поми-
лование, то смягчение наказания. Во время Смоленской кампании 1632—
1643 гг. рядовой Томас Сакс был обвинен в измене - бегстве с поля боя на
территорию противника. Пойманный и посаженный в тюрьму, Сакс заявил
о желании приобщиться к православию. Ему было даровано это священ-
ное право. Он был принят в русскую церковь, но все же понес наказание.
Православный иностранец, который потенциально мог повторить попытку
покинуть пределы России, был отправлен в Сибирь60.
Подводя итоги нашего исследования, стоит остановиться на двух важ-
ных обстоятельствах.
Прежде всего следует отметить специфическое понимание свободы,
характерное для определенных групп иностранного населения России в
XVII в. Эта «свобода» понималась ими в буквальном смысле - как осво-
бождение от личной зависимости (для холопов) или освобождение из
тюрьмы (для преступников). При этом смена вероисповедания являлась
для таких людей единственной возможностью обмануть судьбу (в отличие
от свободных состоятельных иностранцев). Стать «русским» означало для
холопов и преступников стать свободным, независимым человеком.
Кроме того, необходимо отметить специфическую судьбу указа 1623 г.,
применение которого - вопреки сложившемуся в историографии мне-
нию - все же фиксируется на практике. Однако фиксируется оно в до-
вольно оригинальном виде. Несмотря на то что сам законодательный акт
формально был посвящен холопам, в судебных процессах происходит из-
менение его трактовки: он применяется не к холопам, а к лично свободным
людям - правда, преступникам. Очевидно, что представителям светской
власти оказывалось крайне сложно (если вообще возможно) распознать
прагматические причины, по которым тот или иной холоп решал обра-
титься в православие. А вот «корысть» преступника была хорошо понятна
и, главное, доказуема - ее легче было выявить и, соответственно, дать ей
правовое определение.
Несомненно, в подобной расширительной трактовке указа проявилась
размытость русского законодательства, непроясненность его формули-
ровок. В русских уголовных архивах Средневековья и раннего Нового
«Корыстное крещение».
117
Чужие или свои?
времени очень трудно установить реальные механизмы осуществления
правовых норм. Закон, предназначенный для одной группы населения, без
проговоренных обоснований мог применяться и к другим категориям.
Русское государство действительно поощряло обращения любых ино-
странцев в православие, а русская церковь готова была принять в свое лоно
не только холопов, но и преступников. Основой служило догматическое
положение о полном преображении человека в момент таинства. Ведь пре-
ступник (с точки зрения государства) и грешник (с точки зрения церкви)
совершали свои злодеяния, пребывая в «чужой», «неистинной» вере. Но
при этом они вовсе не утрачивали возможности стать благочестивыми и
спасти свои души, приняв православие.
Однако, приобщая к своей вере маргиналов иноземческого сообщества,
русские духовные и светские власти предъявляли к ним вполне определен-
ные процессуальные требования. Важнейшим компонентом достижения
обращения становилось правильное оформление документа. Таким об-
разом, при полной неразработанности собственно абстрактных правовых
норм, нормы делопроизводства (т. е. процессуальное право) оказывались
на высоком уровне.
Рассмотренные выше судебные дела позволяют хотя бы отчасти про-
следить, как именно следовало составлять прошение. Ведь челобитной с
просьбой о принятии православия давался ход лишь при определенных
___ условиях. Если они не выполнялись, прошение не порождало сложного
118 делопроизводства об обращении, а ложилось «под сукно» или вообще не
принималось. Согласие на совершение таинства получали прежде всего
те, кто мог акцентировать в тексте прошения свое «бескорыстие». Необхо-
димо было доказать, пусть даже и формально, собственную искренность.
В челобитную должны были быть включены фразы, подчеркивавшие
факт религиозного прозрения, в чем после совершения таинства, как уже
отмечалось, давалась расписка. Таким образом, решающую роль во всем
процессе обращения играло использование нужных формул, умение по-
добрать слова. Реальная внутренняя религиозность людей совсем не обя-
зательно фиксировалась документом и, видимо, не всегда интересовала
власти. Именно поэтому в русскую церковь шли иностранцы, отвергнутые
собственным сообществом западных христиан.
В такой ситуации первостепенное значение приобретала квалифи-
кация площадных подьячих, как правило, составлявших челобитья.
Очевидно, большинство из перечисленных иностранцев даже не знали
русского языка. Так, допросы Петера Фалька в Иноземском приказе
велись только через переводчика. Неизвестна степень знакомства с рус-
ским языком заключенных в тюрьму татар. Можно предположить, что
русским языком владела Арина Смеловская. Она принадлежала к род-
ственной украинской культуре, а кроме того, сумела хорошо разобраться
в тонкостях русского законодательства и, быть может, сама принима-
ла участие в составлении документов. Но в целом неясно, что больше
проявилось в дошедших челобитных, принятых к делу и имевших успех
у властей, - искренность, или хотя бы смекалка неофита, или все же
ловкость подьячих. Чем опытнее был писец, тем вернее письмо получало
должный прием в суде.
Другим условием достижения согласия властей являлись рекоменда-
ции. Даже если челобитная и не была правильно оформлена (т. е. почти
дословно повторяла прошения, не принятые в свое время чиновниками),
решающую роль могло сыграть заступничество третьих лиц - челобитная
влиятельного человека или поручительство близких. Участие авторитет-
ного лица, способного заступиться за иностранца перед верховной властью
и бравшего на себя ответственность по поводу искренности желающего
совершения таинства, приносило успех. Подобное вмешательство могли
заменить и поручительства самых обычных, но многочисленных людей.
Важно было, чтобы решившийся на изменение вероисповедания иноземец
не был одинок, а находился в кругу тесных связей. Существующий вне
общества человек мало зависел от государства, что заведомо вызывало
подозрения. Семьи и сослуживцы всегда оставались рычагами давления
на любого подданного государя. Иностранец также должен был быть ино-
корпорирован в определенную социальную группу, которая и принимала
на себя ответственность за истинность совершаемого таинства и, главное,
за лояльность будущего неофита. «Поручная челобитная» подтверждала
включенность в государственную систему. Поощрялось, если подписав-
шиеся за просителя члены семьи ранее сами вступили в русскую церковь.
Так, свою роль в успехе обращения Юрия Узби сыграл его православный
тесть, а при переходе в православие Тлеща Каркаданова - не названные по
имени члены его рода. Для властей оказывалось важным, что семья ино-
странца уже начала движение к православию.
Впрочем, все эти требования постепенно сходили на нет. И если в на-
чале XVII в., когда и появился указ о «корыстном крещении», еще можно
было встретить случаи отказа от крещения (хотя бы и не проговоренного),
то к концу рассматриваемого периода процесс перехода в православие при-
нимал все больший размах, он шел по нарастающей. Власти исполняли
просьбы о вступлении в русскую церковь уже безо всяких судебных разби-
рательств. К середине XVII в. о возможном тайном «умысле» обращенных
иностранцев предпочитали не вспоминать вообще: указ о «корыстном»
крещении уходил из судебной практики.
«Корыстное крещение»...
119
1 Опарина Т.А. Иван Наседка и полеми-
ческое богословие Киевской митропо-
лии. Новосибирск, 1998. С. 342.
2 Клюева В.П. Иноземцы в Сибири
XVII в.: стратегия этноконфессио-
нального предпочтения // Иноземцы
в России XV-XVII веков: Материалы
междунар. конф. М., 2006. С. 469.
3 Законодательные акты Русского госу-
дарства второй половины XVI - первой
половины XVII в. Л., 1986-1987. № 119:
Указ о запрете крестить пленных латы-
шей, стремившихся последствием при-
нятия православия освободиться на
волю от некрещеных татар. В редакции
1623 г. данный указ сведен к двум фра-
зам: «...а которые будет креститися похо-
тят для того, чтоб им избыти холопства,
и тех крестити отнюдь не велено, потому
что бьют челом о крещенье, смотря на
то, что от татар велено русских всяких
людей освободити на волю и избыти
холопства, и то крещение не водное.
И тем некрещенным велено жити у
татар, хто у кого жил, по прежнему»
(Законодательные акты. 1986. С. ИЗ).
о I Чужие или свои?
4 Опарина ТА., Орленка С.П. Указы 1627
и 1652 годов против «некрещенных
иноземцев» // Отечественная история.
2005. Вып. 1. С. 22-39; Опарина Т.А.
Новые документы с изложением указа
1627 г. о православной прислуге у не-
православных господ // Общественная
мысль и традиции русской духовной
культуры в исторических и лите-
ратурных памятниках XVI-XX вв.
Новосибирск, 2005. С. 72-83.
5 Лохвицкий А. О пленных по древнему
русскому праву (XV, XVI, XVII века).
М., 1855; Гессен Ю. Пленные в России с
древнейших времен. Пг., 1918.
6 Ostapchuk V. The Human Landscape
of the Ottoman Black Sea in the Face
of the Cossack Naval Raids // Oriente
Moderno. The Ottomans and the Sea.
2001. T. 20. Vol. 1. P. 23-95; Королев
B.H. Босфорская война. Ростов н/Д,
2002; Остапчук В., Галенко О. Казацью
Чорноморсью походи у Морсьюй
IcTopii Кяп'ба Челеб! «Дар великих
муж(в у воюванш MopiB» // Марра
Mundu. Зб1рник наукових праць на
пошану Ярослава Дашкевича з нагоди
його 70-р1ччя. Льв1в; Кшв; Нью-Йорк,
1996. С. 371-372; Мыцык Ю.А. Новые
данные о черноморских походах дон-
ского и запорожского казачества про-
тив Османской империи и Крымского
ханства в конце XVI - первой половине
XVII в. (на материалах архивохрани-
лищ ПНР) // Международные отно-
шения в бассейне Черного моря в древ-
ности и средние века. Ростов н/Д, 1986.
С. 126-137; Он же. Новые данные о
черноморских походах донского и запо-
рожского казачества против Османской
империи и Крымского ханства (се-
редина - третья четверть XVII в.) //
Торговля и мореплавание в бассейне
Черного моря в древности и средние
века. Ростов н/Д, 1988. С. 134-141;
Истрин В.М. Греческая запись о набеге
казаков на Константинополь в начале
XVII в. // Журнал Министерства народ-
ного просвещения. 1898. № 7. С. 42-48;
Гранстрем Е.Э. Заметки современника
о набегах казаков на турецкие владе-
ния в начале XVII в. // Восточ. сб. М.,
1972. Вып. 3. С. 37-40; Королев В.Н.
Босфорская война. Ростов н/Д, 2002.
Павел Алеппский несколько раз от-
мечает огромное количество турецких
и татарских холопов в России, неодно-
кратно возвращаясь к этой теме: «Мы
видели у них пленников из восточных
земель; Трабзона, Синопа и их округов,
из Еникея, из татар. Всех их захватыва-
ют в плен азовские казаки. Они плава-
ют по Черному морю, берут в плен мно-
жество мужчин, женщин, мальчиков и
девочек, привозят их сюда и продают по
самой дешевой цене... Мы во множестве
встречали их в домах богачей и даже
простолюдинов» {Павел Алеппский.
Путешествие антиохийского патриарха
Макария в Россию в половине XVII в. /
Пер. Г. Муркоса. Вып. 3. Кн. 8. М., 2005.
С. 327); «Что касается донских казаков,
которые ходят в Черное море, числом
40 000, то они находятся под властью
царя. Татары трепещут пред ними, ибо
казаки всегда нечаянно нападают на их
страну, забирают их в плен и привозят
в страну московитов, где и продают»
(Там же. Кн. 9. С. 368). См. также: Там
же. Кн. 10. С. 411.
7 В свою очередь, находясь в составе
правительственной армии, донские
казаки захватывали европейцев. Таких
пленников-иностранцев они продавали
на невольничьих рынках Востока. О раз-
витости подобной практики свидетель-
ствует и судьба литовского шляхтича
Станислава Вольского: Опарина ТА.
Путь от холопа до московского дво-
рянина Станислава Вольского //
Опарина Т.А. Иноземцы в России XVI-
XVII веков: Очерки исторической био-
графии и генеалогии. Кн. 1. М., 2007.
8 Законодательные акты Русского госу-
дарства второй половины XVI - первой
половины XVII в. Л., 1987. № 166: Указ
о запрещении неправосланым ино-
земцам владеть православными людь-
ми, живущими в господских дворах;
Опарина Т.А., Орленко С.П. Указ. соч.
С. 22-39; Опарина Т.А. Новые докумен-
ты с изложением указа 1627 г. о право-
славной прислуге у неправославных
господ. С. 72-83.
9 Опарина Т.А. Конфессиональные
нормы принятия русского под-
данства шляхтичами-католиками
Речи Посполитой (первая поло-
вина XVII в.) // Studia ofiarowane
Profesorowi Juliuszowi Bardachowi
w dziewikcdziesikciolecie urodzin.
Warszawa, 2004. S. 149-167.
10 О чем подробнее см.: Опарина Т.А. Путь
от холопа до московского дворянина
Станислава Вольского.
11 «Мы видели у них пленников из
восточных земель... Их немедленно
крестят» (Павел Алеппский. Указ. соч.
С. 327); «...Своих хозяев, которые
окрестили их с малых лет и усыновили.
Люди, достойные веры, сообщали нам,
что никто из последователей франк-
ских сект, приняв крещение по нашему
вероисповеданию, не бывает таким
хорошим православным христианином,
как турки и татары, ибо эти последние
прикрепляются к православию сильно,
от всего сердца. Мы видели многих из
них, которые пошли в монахи, покинув
мир, и являли подвижничество и добро-
детели, испрашивая у Бога милости для
своих неверных родителей, которые
произвели их на свет в прежней вере»
(Там же. Кн. 10. С. 411).
12 Можно отметить, что мусульманские
владельцы холопов обращали западных
христиан в ислам.
13 Автор отмечает также, что среди не-
богатых иностранцев, которым было
крайне затруднительно найти себе пару
(смешанные браки с православными
были запрещены церковным законода-
тельством), нередкой оказывалась же-
нитьба на бывших холопках-«ясырках».
Такие новообращенные лютеранки
из-за нехватки инославных женщин из-
бирались партией для брака (Цветаев
Д.В. Протестанты и протестантство в
России XVII в. М., 1890). Как отмеча-
лось, проповедь лютеранской общины
не могла быть направлена на русских
людей. Поэтому ученики лютеранской
школы (нередко жены западноевропей-
ских офицеров) были мусульманами,
принявшими лютеранство.
14 Histoire de 1’Empire Ottoman / Sous la
dir. de R. Mantran. P., 1977; Inalcik H. The
Ottoman Empire: Conquest, Organization
and Economy. L., 1978. P. 103-128.;
Железкова А. Некоторые аспекты рас-
пространения ислама на Балканском
полуострове в XVI-XVIII вв. //
Османская империя. Система управ-
ления, социальные и этнорелигиозные
проблемы. М. 1986. С. 103-116; Она же.
Разпространение на исляма в западно-
балканските земи под османска власт
XV-XVHI век. София, 1990; Vryonis
Sp.Jr. The Experience of Christians un-
der Seljuk and Ottoman Domination,
Eleventh to Sixteenth Century //
Conversion and Continuity. Indigenous
Christian Communities in Islamic Lands.
Eighth to Eighteenth Centuries / Ed. M.
Gervers and RJ. Bikhazi. Torotno, 1990.
P. 201-203; Ayoub M.M. The Islamic
Context of Muslim-Christian Relations //
Ibid. P. 469-474; Османски извориза ис-
лямизационните процеси на Балканите
(XVI-XIX в.). София, 1990; Minkov А.
Conversion to Islam in the Balkans. Kisve
Bahasi petitions and the Ottoman Social
life, 1670-1730. Leiden; Boston, 2004.
15 Скабаланович H. Политика Турецкого
правительства по отношению к хри-
стианским подданным и их религии
(от завоевания Константинополя до
конца XVIII в.); Лебедев А.П. История
Греко-восточной церкви под властью
турок: В 2 т. Сергиев Посад, 1896-1901;
Christians and Jews in the Ottoman
Empire: In 2 vol. N.Y.; L. 1982. Vol. 1.
«Корыстное крещение»..
121
к) I Чужие или свои?
16 Магаков Г.Ю., Королев В.Н. Донские
казаки и причерноморские греки в
XVII в. // Очерки истории Азова.
Вып. 1. Азов, 1992. С. 75-76.
17 Ostapchuk V. Op. cit.; Остапчук В.,
Галенко О. Казанью Чорноморсьвд
походи у Морсыйй IcTopii Кяпба
Челеби «Дар великих муж,в у воюванн!
MopiB» // Марра Mundu. С. 371-372.
18 Российский государственный архив
древних актов (далее - РГАДА). Ф. 210.
Оп. 9. Стб. 911. Столпик 2. Л. 44.
19 Там же. Л. 42.
20 Селезнева И.А. Золотая и Серебряная
палаты. М., 2001. С. 66. Яков Гаст (Jacob
Gast) был прихожанином единствен-
ной на тот момент лютеранской кирхи
Москвы. В метрической книге люте-
ранской кирхи он упомянут под 1623
и 1626 гг. (Цветаев Д.В. Памятники к
истории протестантизма в России. Вып.
1.М., 1882. С. 179,184). Яков Гаст в числе
прочих иностранцев изготовлял царские
регалии: венец 1627 г. государя Михаила
Федоровича, скипетр и державу.
21 РГАДА. Ф. 52 (Сношения России с
Грецией). On. 1. 1633. № 6. Л. 6.
22 РГАДА. Ф. 210. Оп. 13 (Приказной
стол). Стб. 33,1628. Л. 94.
23 Там же. Оп. 9 (Московский стол).
Стб. 911. Столпик 2. Л. 43.
24 Там же. Ф. 52 (Сношения России с
Грецией). On. 1. 1633. № 6. Л. 6.
25 Лаптева ТА. Документы Иноземного
приказа как источник по истории
России XVII в. // Архив русской исто-
рии. М., 1994. Вып. 5. С. 109-127.
26 Фонкич БЛ. Иоанникий Грек (К исто-
рии греческой колонии в Москве
в первой трети XVII в.) // Очерки
феодальной России. Вып. 10. М.; СПб.,
2006. С. 85-110.
27 Фонкич Б.Л. Кипрский священник
в Ярославле и Москве (Из истории
кипрско-русских отношений в пер-
вой четверти XVII в.) // Россия и
Христианский Восток. Вып. 2-3. М.,
2004. С. 238-247.
28 Опарина ТА. Ротмистр Юрий Трапе-
зундский: заметки к биографии //
Опарина Т.А. Иноземцы в России.
29 Опарина ТА. «Исправление веры гре-
ков» в русской церкви первой полови-
ны XVII в. // Россия и Христианский
Восток. Вып. 2-3. С. 288-325 (РГАДА.
Ф. 141 (Приказные дела старых
лет). Оп. 2. 1644. № 45. Допросные
речи новокрещенной девки Авдотьи
Александровой дочери).
30 РГАДА. Ф. 141 (Приказные дела ста-
рых лет). Оп. 2. 1644. № 45. Л. 9. Мотив
купца ясен, он не мог держать у себя
православную, а тем более принуждать
ее сменить веру. Но и рассказ девушки
о сохранении чистоты православия мог
также быть лишь предлогом для выхода
из холопства. Она, наиболее вероятно,
была мусульманкой.
31 РГАДА. Ф. 141 (Приказные дела ста-
рых лет). Оп. 2. 1644. № 45. Л. 6.
32 Велувенкамп Я.В. Компания «Де
Вогелар и Кленк» в голландско-
русских коммерческих отношениях
XVII в. // Нидерланды и Северная
Россия. СПб., 2003. С. 89; Демкин А.В.
Западноевропейское купечество в
России XVII в. Вып. 2. М., 1994. С. 80,
№ 594.
33 Опарина ТА. Выбор веры в семье
Барнсли // Опарина Т.А. Иноземцы в
России.
34 Цветаев Д.В. Из истории брачных
дел Московского периода. М., 1884;
Голубцов А. Прения о вере, вызван-
ные делом королевича Вальдемара
и царевны Ирины Михайловны. М.,
1888; Кошелева О.Е. Лето 1645 года:
смена лиц на российском престоле //
Казус. Индивидуальное и уникальное
в истории - 1999 / Под ред. Ю.Л. Бес-
смертного и М.А. Бойцова. Вып. 2. М.,
1999. С. 148-170.
35 РГАДА. Ф. 141 (Приказные дела ста-
рых лет). Оп. 2. 1644. № 45. Л. 4: «И она
де протопопу Артемью сказала, что она
православная крестьянка».
36 Там же. Л. 1.
37 РГАДА. Ф. 141 (Приказные дела старых
лет). Оп. 2. 1644. № 45. Л. 3.
38 Там же.
39 РГАДА. Ф. 210. Оп. 13. Стб. 271. Л.
398 -402, 479.
40 Там же. Л. 399.
41 Там же. Л. 479.
42 Там же.
43 Очевидно, это то же лицо, что и ино-
странка, проживавшая тогда в центре
Москвы и занимавшаяся винной
торговлей. Монополией в этой сфере
обладало государство, и подобная
деятельность являлась незаконной. До
1638 г. за продажу алкоголя ее дом (на
Сретенской улице) был конфискован
и передан властями стольнику Борису
Александровичу Репнину: «...описнои
двор немки Катерины прапорщицы, что
отписано на государя за корчменную
продажу» (РГАДА. Ф. 150. 1638. № 2.
Л. 10). В таком случае в доме западной
христианки мусульманину пришлось
продавать вино и, быть может, при-
нимать участие в работе питейного за-
ведения хозяйки.
44 РГАДА. Ф. 210. Оп. 13. Стб. 271. Л. 400.
45 Опарина ТА. Воссоздание Немецкой
слободы и проблема перекрещивания
иностранцев-христиан // Патриарх
Никон и его время. М., 2004. С. 106-107.
46 Папков А.И. Гетман Яков Острянин
в Речи Посполитой и России //
Белоруссия и Украина. История и
культура: Ежегодник. 2004. М., 2005.
С. 93-121.
47 Опарина ТА. Воссоздание Немецкой
слободы и проблема перекрещивания
иностранцев-христиан. С. 106-107.
48 Мейерберг А. Путешествие в Моско-
вию// Утверждение династии. М.,
1997. С. 94.
49 История Сибири. Первоисточники.
Вып. IV. Новосибирск, 1994. С. 214.
50 Полное собрание постановлений и рас-
поряжений по ведомству православно-
го исповедания Российской империи.
СПб., 1911. Т. 10. № 3655. С. 493; ПСЗ.
№ 8349.
51 РГАДА. Ф. 210. Оп. 13 (Приказной
стол). Стб. 17. 1626. Л. 272-277.
52 Орленке С.П. Преступление и нака-
зание Христиана Улмана: происше-
ствие 1665 г. // Иноземцы в России в
XV-XVII веках: Сб. материалов конф.
2001-2004. М., 2006. С. 336-345.
53 Эскин Ю.М. Дуэль в Московии
1637 г. // Археограф, ежегодник за
1997 г. М„ 1997. С. 456-463.
54 Там же. С. 460.
55 РГАДА. Ф. 210. Оп. 13. Стб. 101. Л. 427.
56 Там же. Л. 424, 427, 492, 495, 499.
57 Там же. Стб. 271. Л. 122-125.
58 Там же. Стб. 911. Л. 68-71.
59 Орленке С.П. Выходцы из Западной
Европы в России XVII века. Правовой
статус и реальное положение. М., 2004.
С. 147 (РГАДА. Ф. 150. On. 1. 1675.
№5).
60 Соколовский И.Р. Служилые «ино-
земцы» в Сибири XVII в. (Томск,
Енисейск, Красноярск). Новосибирск,
2004. С. 81.
«Корыстное крещение»..
123
Олег Будницкий
ЕВРЕИ И ВЧК
(1917-1921)
I Чужие или свои?
Яков Бромберг, юнкер Киевского Константиновского училища, при-
нимавший участие в боях с большевиками в Киеве в ноябре 1917 года, был
потрясен «при виде солдата-еврея в составе комиссарского синклита»,
куда Бромберга привели «для мучительно-бессмысленного допроса».
«Еврейский смирный и безответный тихоня, который ранее, сталкиваясь
с инородной и иноплеменной стихией, рад был как-нибудь уйти от резкого
шока в первую попавшуюся лазейку, воды не замутя, никого не трогая,
чтобы самого никто не тронул, - оказался в составе, а то и во главе самых
отъявленных хулиганских банд»1.
Не меньшее изумление испытал публицист петроградской «Еврейской
недели» (газеты либеральной, «кадетской» ориентации) М. Левин, отпра-
вившийся вскоре после большевистского переворота поглазеть на запись
желающих занять места забастовавших чиновников. Запись велась в Ми-
нистерстве труда. Собралось около 300 человек. Публика произвела на Ле-
вина «прямо отталкивающее впечатление». «Она поражала прежде всего
своей неинтеллигентностью. Здесь были какие-то беженцы из Лифляндии,
солдаты, молодые девицы, нигде еще не служившие, и т. д. Сразу можно
было сказать, что все эти лица, желающие “мобилизоваться в чиновники”,
не в состоянии заменить настоящих чиновников. Вся эта “мобилизация”
казалась комедией»2.
Среди добровольцев, «желавших стать штрейкбрехерами», оказалось
довольно много евреев. Левин вступил с некоторыми из них в разговор и
выяснил, что «они не состоят членами партии большевиков, что они во-
все не интересуются политикой, что они просто ищут занятий и готовы
воспользоваться случаем». Автор негодовал, что «все эти молодые люди и
молодые девицы не чувствовали даже никакого стыда. Одна еврейка даже
хвасталась перед своей подругой, что “комиссар” просил ее явиться на сле-
дующий день, ибо она умеет быстро переписывать бумаги»3.
На ту же тему иронизировал несколько недель спустя автор сионист-
ского «Рассвета»:
Статистических данных у меня нет, но из круга моих знакомых добрая полови-
на пошла на государственную службу: бывший еврейский учитель моих детей
поступил в военное ведомство; «унтер-шамеса» нашей молельни я встретил
с ружьем через плечо, - милиционерствует; знакомый репортер состоит ко-
миссаром по очистке снега; продавец из кошерной лавки работает в какой-то
комиссии, - кажется, по выработке конституции; мой жилец, психоневролог
первого курса, работает по снабжению, чем - точно не знаю; моя переписчица
заведует какой-то крепостью или тюрьмою4.
Писателю И.Ф. Наживину, посетившему по своим делам Управление
делами Совнаркома в начале 1918 г., количество встретившихся евреев
«буквально резало глаза», особенно его раздражал их «зеленый возраст»5.
Заметим, что в Управлении делами Совнаркома числилось 30 человек.
Шестеро из них были евреями, включая экспедитора, регистратора и ма-
шинистку6. Этого было достаточно, чтобы вызвать раздражение. Сходные
чувства испытывал живший в Полтаве и считавшийся юдофилом В.Г. Ко-
роленко. «Красногвардейцев много мальчишек-евреев, и это вызывает
глухое раздражение, тем более что и среди правящих - немало евреев», -
записал он в дневнике в марте 1918 г.7 Дело было не только (и не столько)
в количестве. Ведь прошло лишь несколько месяцев с тех пор, когда евреев
невозможно было представить на службе в высшем правительственном
учреждении. Даже на технических должностях. Столь стремительная пере-
мена не могла не поражать. Евреи стали играть совершенно не свойствен-
ные им ранее роли.
«Одним из самых поразительных для обывательского воображения
фактов, тоже перенесшим в область действительности нечто, раньше при-
нимавшееся за совершенную фантастику, оказалось массовое привлечение
еврейской полуинтеллигентной массы к отправлению организационных
и распорядительных функций власти», - констатировал задним числом
Бромберг8.
На самом деле сотрудничество еврейской «полуинтеллигенции», так
же как и вовсе не-интеллигенции, с большевиками, «отправление евреями
функций власти» вовсе не было такой уж неожиданностью, учитывая как
историю российского еврейства и «еврейского вопроса» в России, так и в
особенности демографические, социальные, психологические изменения,
происшедшие в годы Первой мировой войны. Евреи, будучи ограничены
в правах, в то же время были одним из наиболее грамотных (уступая лишь
немцам) народов империи. И были преимущественно городскими жите-
лями. А ведь именно в городах происходили основные революционные
события, именно здесь концентрировалась власть и, соответственно, ее
учреждения9.
В годы Первой мировой войны от 400 до 500 тыс. евреев было призвано
в армию. В то же время военное командование, считавшее еврейское на-
селение склонным к измене, в качестве превентивной меры прибегло к мас-
совым депортациям евреев из прифронтовой полосы. Выселения нередко
сопровождались погромами. Число беженцев и выселенцев составило, по
разным оценкам, от 500 тыс. до миллиона человек. Старая власть собствен-
ными руками создавала кадровый резервуар революции10.
При большевиках произошла невиданная демократизация власти, демо-
кратизация в буквальном значении этого слова, когда во властные структу-
Евреи и ВЧК (1917-1921)
125
о I Чужие или свои?
ры пришел демос, пришли люди, для которых раньше это было совершенно
немыслимо по сословным, вероисповедным, образовательным причинам.
«Сколько людей, особенно среди евреев, в старое время девственных для
власти, видал я за свою жизнь, людей влюбленных в дело, которое им до-
сталось», - писал Виктор Шкловский11. На службу советской власти шли
не только карьеристы или «пламенные революционеры». В отличие от
православных, евреи не могли переждать голодные революционные годы в
деревне. Так, в 1917 г. население Петрограда составляло около 2,5 млн чел.,
в том числе 50 тыс. евреев. К августу 1920 г. население города сократилось
в 3,5 раза, до 722 тыс. чел. Темпы сокращения еврейского населения были
существенно ниже. В 1920 г. в Петрограде насчитывалось около 30 тыс.
евреев12. Ликвидация частного предпринимательства и торговли обрекала
даже не слишком политизированное городское население на поиски зара-
ботка на государственной службе.
Среди большевистских лидеров было немало ярких деятелей ев-
рейского происхождения (Л.Д. Троцкий, Г.Е. Зиновьев, Л.Б. Каменев,
Я.М. Свердлов и другие). Однако большевизм не пользовался популярно-
стью в еврейских «массах». Выборы в еврейские общины, а также выборы
делегатов Всероссийского еврейского съезда и депутатов Учредительного
собрания ясно показали предпочтения «еврейской улицы»: во всех случаях
с большим преимуществом победили сионисты. На выборах в Учредитель-
ное собрание Еврейский Национальный блок (включавший сионистов и
религиозные партии) получил 417 215 голосов из общего числа 498 198
поданных за еврейские партии. Остальные пришлись на долю еврейских
социалистических партий13.
Не пользовался большевизм успехом и среди еврейских рабочих.
В 1917 г. численность только одного Бунда превышала число всех евреев -
членов партии большевиков более чем в десять раз. В партии большевиков
к началу 1917 г. насчитывалось около 1000 евреев14 - 4,3% от общей чис-
ленности партии, составлявшей в январе 1917 г. 23 600 человек. В 1917 г.
в партию вступило 2182 еврея, в 1918 - 2712, в 1919 - 5673, в 1920 - 5804.
К началу 1921 г., т. е. ко времени окончания основных сражений Граждан-
ской войны, число евреев среди большевиков выросло почти в 17 с по-
ловиной раз (17,4 тыс.), однако относительно общей численности партии
«еврейское присутствие» снизилось до 2,5%15.
Все еврейские партии и группировки, за исключением, пожалуй,
Поалей Цион, отнеслись отрицательно к большевистскому перевороту.
Сионистская «Тогблат» проводила четкую грань между двумя рево-
люциями 1917 г.: «В марте месяце революция была народной в полном
смысле этого слова. Теперь она представляет собой только солдатский
заговор». Бундовская «Арбейтер Штиме» назвала большевистский пере-
ворот «безумием»16.
Сионисты постепенно были загнаны большевиками в подполье. Что
же касается еврейских социалистических партий, то весной 1919 г. они
объявили о своей поддержке - хотя и с оговорками - советской власти.
Еврейские погромы, осуществленные войсками Директории на Украине
в январе-феврале 1919 г. (наиболее кровавым был погром в Проскурове
15 февраля 1919 г.: за 4 часа петлюровцы вырезали около 1500 евреев),
наступление польских войск на Литву и Белоруссию, использование прак-
тически всеми противниками большевиков «козырной карты» - антисеми-
тизма как средства мобилизации масс сделали союз еврейских социалистов
с большевиками неизбежным. На состоявшейся в конце марта 1919 г. в
Минске XI конференции Бунда было принято решение о признании со-
ветской власти. Эстер (М.Я. Фрумкина), одна из ведущих фигур партии,
заявила, что «Красная армия - наша армия». В марте-апреле 1919 г. Бунд,
Поалей Цион и Фарейнигте объявили партийную мобилизацию в Красную
армию17.
Вторжение на территорию бывшей черты оседлости в августе 1919 г.
войск белых под командованием генерала А.И. Деникина принесло вместо
наивно ожидаемого многими «порядка» новую волну еврейских погромов.
Нередко депутации еврейских старейшин, встречавших «освободителей»
хлебом-солью, становились первыми жертвами погромщиков. В общей
сложности от рук погромщиков всех мастей в 1918-1921 гг. погибли, по
разным оценкам, от 50 до 200 тыс. евреев. Около 200 тыс. было ранено и
искалечено. Были изнасилованы тысячи женщин. Около 50 тыс. женщин
стали вдовами, около 300 тыс. детей остались сиротами18.
В результате выбор евреев между большевиками и их противниками
стал выбором между жизнью и смертью. Не удивительно, что они выбрали
первое.
«Тектонические» изменения в жизни российского еврейства при-
вели к слому традиционного образа жизни, и без того подрывавшегося в
силу как внутренних причин, так и воздействия «окружающей среды», к
принципиальным изменениям в поведении многих евреев. Они перестали
быть «тихонями». Еврей в роли «человека с ружьем» стал повседневным
явлением революционного времени. Но в наибольшей степени современ-
ников поразило появление евреев в «святая святых» любого российского
режима - тайной полиции.
Месту и роли сотрудников еврейского происхождения во Всероссий-
ской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией
и саботажем (ВЧК, учреждена 20 декабря 1917, упразднена 9 февраля
1922 г.) в наиболее «горячее» время ее существования - период Граждан-
ской войны (1918-1920 гг.) - посвящена настоящая статья.
Мнение о непропорционально большом представительстве и особой
роли евреев в карательных органах революции является общепринятым.
«Любой, кто имел несчастье попасть в руки ЧК, с высокой степенью вероят-
ности мог предстать перед следователем-евреем и, возможно, быть им рас-
стрелянным», - писал Леонард Шапиро19. Об особой популярности среди
евреев службы в ЧК пишет вслед за Шапиро Цви Гительман. Он справед-
ливо замечает, что евреи, с точки зрения власти, были вполне надежны, они
никак не были связаны со старым режимом и были безусловными против-
никами белых. С «еврейской точки зрения», предполагает Гительман, тяга
еврейских юнцов к службе в ЧК объяснялась привлекательностью чувства
собственной власти и стремлением отомстить противникам советской вла-
сти всех сортов за их преступления против евреев20.
Между тем и мемуаристы, и историки основывались преимущественно
на мнениях, а не на документальных данных. Сало Барон, говоря, что очень
Евреи и ВЧК (1917-1921)
127
Чужие или свои?
много евреев служило в ЧК, справедливо заметил, что этот вопрос никогда
детально не изучался21. Открывшиеся после 1991 г. архивы, в особенности
бывший Центральный партийный архив, позволили исследователям со-
ставить, среди прочего, представление о национальном составе сотрудни-
ков ВЧК.
Согласно переписи работников советских учреждений Москвы, про-
веденной в сентябре 1918 г., в центральном аппарате ВЧК числился 781 со-
трудник и служащий. На 25 сентября 1918 г. среди сотрудников-инородцев
значилось 278 латышей, 49 поляков и 29 евреев. Евреи составляли 3,7% от
общего числа сотрудников. Среди 220 ответственных работников ВЧК
было 116 латышей, 19 поляков и 19 евреев (8,6%). Семьдесят комиссаров
ВЧК по национальному признаку распределялись следующим образом:
38 латышей, 22 русских, семеро поляков и трое евреев (4,3% от общего
числа комиссаров). Наконец, среди 42 следователей и заместителей следо-
вателей евреев насчитывалось восемь (19,1%) при 14 латышах, 13 русских
и семерых поляках. Евреи составляли половину следователей отдела по
борьбе с контрреволюцией - наиболее важного в составе ВЧК. В абсолют-
ных цифрах - шесть человек22.
Приведенные выше расчеты Л. Кричевского оспорил О. Капчинский.
Расхождения касаются того, какие структуры ВЧК следует относить к
центральному аппарату, а также национальной принадлежности отдель-
___ ных чекистов (они не всегда указывали ее в анкетах). Согласно Капчин-
128 скому из 372 сотрудников управленческого, следственного, оператив-
ного, надзорного, канцелярского и административно-хозяйственного
подразделений 179 (48,1%) были латышами, ИЗ (30,4%) русскими
(включая украинцев и белорусов), 35 (9,4%) евреями, 23 (6,2%) поля-
ками и литовцами. Для сравнения: в центральном аппарате «братских»
организаций - Народного комиссариата внутренних дел (НКВД) и
Народного комиссариата юстиции - насчитывалась сопоставимая доля
евреев. Среди 329 сотрудников НКВД, чьи анкеты сохранились, было
205(64,5%) русских, 39(11,9%) евреев, 33 (10%) латыша, И (3,3%)
поляков и литовцев. В аппарате Наркомюста преобладали русские -
111 (68,9%) из 161 сотрудника, далее шли поляки и литовцы - 12 (7,5%),
латыши - И (6,8%), евреи - 8 (5%)23.
Впоследствии национальный состав центрального аппарата ВЧК за-
метно менялся в связи с событиями Гражданской войны. После установ-
ления советской власти в Латвии в январе 1919 г. многие чекисты-латыши
были направлены туда на политическую и военную работу. И хотя совет-
ская власть продержалась в Латвии недолго, большинство из них в ВЧК не
вернулось. Захват летом и осенью 1919 г. большей части Украины дени-
кинскими войсками и эвакуация оттуда сотрудников местных ЧК, среди
которых было много евреев, привели к возрастанию их числа в центральном
аппарате. В ноябре 1919 г. евреи составляли приблизительно пятую часть
(33 чел.) всех управленцев и специалистов ВЧК (158, не считая сотрудни-
ков особого отдела)24.
В литературе приводятся противоречивые сведения о численности и
составе высшего руководства ВЧК, утверждавшегося Советом народных
комиссаров. Это объясняется тем, что на начальной стадии формирования
ВЧК включенные в ее состав нередко работали лишь несколько дней, а
то и вовсе не успевали приступить к работе, получая новые назначения.
В число членов чекистского «ареопага» (первоначально они назывались
членами ВЧК, с ноября 1918 г. - членами Коллегии ВЧК) в 1918-1920 гг.
входило, по нашим подсчетам, от 34 до 42 человек. Хотя некоторые - лишь
формально23.
В Коллегию ВЧК в 1918-1920 гг. входило трое евреев - С.А. Мессинг,
Г.С. Мороз, начальник Инструкторского, а затем Следственного отдела
ВЧК, и Г.Г. Ягода, с 1920 г. управляющий делами ВЧК. Последний позже
стал наркомом НКВД (1934-1936). Недолгое время заместителем пред-
седателя ВЧК Ф.Э. Дзержинского был Г.Д. Закс, левый эсер, не поддер-
жавший выступление своих товарищей по партии против большевиков
6 июля 1918 г. Уже в ноябре 1918 г. Закс вступил в РКП(б). Подавляющее
большинство членов высшего органа ВЧК составляли русские, хотя в
«четверку», практически руководившую ВЧК в 1918-1920 гг., входили по-
ляк (Дзержинский), двое латышей (Я.Х. Петерс и М.Я. Лацис) и русский
(И.К. Ксенофонтов).
В московском и петроградском аппаратах ВЧК евреи занимали многие
ключевые позиции. М.С. Урицкий до его убийства 30 августа 1918 г. был
председателем Петроградской ЧК. В коллегию из пяти человек Москов-
ской чрезвычайной комиссии, созданной в декабре 1918 г. под председа-
тельством Дзержинского, вошли два еврея - Б. А. Бреслав, фактически ис-
полнявший обязанности председателя до апреля 1919 г., и Я. М. Юровский,
руководивший расстрелом царской семьи26. С.А. Мессинг в январе 1921 г.
был назначен председателем Московской ЧК, в ноябре того же года - Пе-
троградской. Впрочем, он как будто «писался» поляком, а не евреем и в
1937 г. был расстрелян как «польский шпион».
В июне-июле 1920 г. национальный состав секретных отделов ВЧК, ра-
нее именовавшихся отделами по борьбе с контрреволюцией, выглядел сле-
дующим образом: в 32 губернских ЧК насчитывалось 1805 сотрудников, из
них 1357 русских (75,2% от общего числа сотрудников секретных отделов),
137 латышей (7,6%), 102 еврея (5,6%), 34 поляка (1,9%), доля чекистов
остальных 19 национальностей была существенно ниже27. В конце 1920 г.
среди приблизительно 50 тысяч сотрудников всех губернских ЧК русские
составляли 77,3%, евреи - 9,1, латыши - 3,5, украинцы - 3,1, поляки - 1,7,
немцы - 0,6 и белорусы - 0,5%28. Такое же соотношение сохранялось и год
спустя29.
Несомненно, что в пределах бывшей черты оседлости евреев среди
чекистов было существенно больше, нежели в центральных или северных
губерниях. Характерен рассказ сенатора В.П. Носовича, взятого в залож-
ники харьковской чрезвычайкой и чудом спасшегося. Он говорил, что
«видел людей, идущих на смерть, и слышал расстрелы. Мимо проходили
на казнь, раздетые до рубашки, и сзади шли палачи-красноармейцы (не
евреи)»30. Это требовало специальной оговорки.
В целом же, исходя из приведенных данных, можно заключить, что доля
евреев среди сотрудников ВЧК не превышала их доли в советском, пар-
тийном и военно-политическом аппарате. Поэтому вряд ли имеет смысл
искать некие особенные мотивы, приводившие евреев на службу в ВЧК.
Евреи и ВЧК (1917-1921)
129
о I Чужие или свои?
Они мало чем отличались от причин, обусловивших поддержку значитель-
ной частью еврейства советской власти. Мотивы мести деятелям старого
режима или идеологам антисемитизма довольно редко прослеживались
в действиях евреев-чекистов. Так, один из следователей по делу А.И. Ду-
бровина, бывшего председателя Союза русского народа, Б.М. Футорян,
следующим образом обосновывал свое мнение о необходимости передать
его Революционному трибуналу для приговора к расстрелу (иного исхода
не предполагалось): «Если Зап[адная] Европа когда-либо оправдывала
наш красный террор, то Дубровин один из таких. Все еврейство всего зем-
ного шара будет, безусловно, благословлять этот расстрел». Однако дело
решили рассмотреть без излишней огласки. 14 апреля 1921 г. Дубровина
приговорил к расстрелу Президиум ВЧК31.
Среди евреев-чекистов, так же как и среди их товарищей-неевреев,
были, очевидно, и фанатики революции, и люди, польстившиеся на мате-
риальные блага, и любители поиграть чужими жизнями. Были, несомнен-
но, и палачи-садисты, то ли пришедшие такими в ВЧК, то ли приобретшие
такие качества в процессе освоения новой профессии.
Большевики, как и их противники, нередко мерили происходившие со-
бытия «аршином» Великой французской революции. Отсюда - название
советского правительства - Совет народных комиссаров, как и многолет-
ние надежды их противников на Термидор и попытки разглядеть среди
вождей Красной армии будущего Бонапарта. Возможно, в наибольшей
степени коснулись эти поиски исторических корней и аналогий ВЧК - не-
посредственного проводника красного террора.
В.Д. Бонч-Бруевич, управляющий делами Совнаркома, сравнивал
Дзержинского с А. Фукье-Тенвилем, общественным обвинителем рево-
люционного трибунала в 1793—1794 гг.32 Н.И. Бухарин, представлявший
в 1919 г. в коллегии ВЧК ЦК партии, несколько лет спустя, оправдывая
большевистский террор, цитировал Сен-Жюста: «Нужно управлять желе-
зом, если нельзя управлять законом»33. Наконец, знаменитое чекистское
исповедание веры в изложении М.Я. Лациса: «Не ищите в деле обвинитель-
ных улик о том, восстал ли он против Совета оружием или словом. Первым
долгом вы должны его спросить, к какому классу он принадлежит, какого он
происхождения, какое у него образование и какова его профессия. Все эти
вопросы должны разрешить судьбу обвиняемого. В этом смысл красного
террора»34 - было не чем иным, как парафразом высказывания Робеспьера
в Конвенте по случаю введения прериальского закона о терроре: «...чтобы
казнить врагов отечества, достаточно установить их личность. Требуется
не наказание, а уничтожение их»33.
Напомню, что согласно законам 22 прериаля (10 июня) 1794 г. отменя-
лись все судебные гарантии, если они не оказывались безусловно необхо-
димыми - допрос, показания свидетелей и защита; внутреннего убеждения
судей и присяжных было достаточно для вынесения приговора, а именно -
оправдания или смертной казни. Наряду с революционными трибуналами
действовали революционные комиссии, обходившиеся без присяжных. В об-
щем, большевикам было с кого брать пример, и не по аналогии ли с француз-
скими революционными комиссиями действовала ВЧК, в состав «судебной
тройки» которой в декабре 1918 г. вошли Дзержинский, Лацис, М.С. Кедров
и Ксенофонтов36? И не фрагмент ли речи Сен-Жюста 10 октября 1793 г. в
Конвенте: «...вы не должны знать пощады; свобода должна восторжество-
вать, чего бы то ни стоило; вы должны карать не одних изменников, но и
равнодушных; между народом и его врагами лишь один посредник - меч»37 -
навел чекистов на мысль назвать свой журнал «Красный меч»?
Возможно, величественная фразеология была направлена на то, что-
бы «приподнять» чекистов в собственных глазах. Ведь их розыскная и
карательная деятельность не пользовались особенной популярностью
даже у товарищей по партии, не говоря уже о том ужасе, который чекисты
внушали остальному населению. Для того чтобы образ доблестного че-
киста стал популярным и притягательным, потребовалась впоследствии
немалая работа многих небесталанных журналистов, писателей, киноре-
жиссеров.
Пытаясь проникнуть в психологию еврея-чекиста, автор блистатель-
ного эссе «Еврейский век» Юрий Слезкин опирался преимущественно на
художественную литературу 1920-1930-х гг.38 Полагаем, что для понима-
ния мотивов прихода на службу в ЧК евреев, как, впрочем, и неевреев,
продуктивнее заглянуть в ведомость на зарплату, нежели в томик Гросс-
мана или Багрицкого.
Служба в ВЧК давала определенные материальные преимущества.
Зарплата рядового чекиста в феврале 1918 г. была установлена в размере
400 рублей, что более чем в два раза превышало оклад холостого красно-
армейца (150 руб.) и в полтора - семейного (250 руб.). За сверхурочную
работу выплачивалась надбавка в 25%. При этом многие сотрудники мест-
ных ЧК требовали перехода на шестичасовой рабочий день. Зарплата чле-
на коллегии ВЧК (500 руб.) была приравнена к окладу наркома. Чекисты
получали также натуральный паек и бесплатное обмундирование. Допол-
нением служили «премиальные» в виде вещей расстрелянных39.
Правда, в августе 1919 г. Президиум ВЧК принял решение центра-
лизовать распределение имущества казненных. Его теперь надлежало
концентрировать у А.Я. Беленького и распределять по указанию Пре-
зидиума40. Беленький, член партии с 1902 г. и начальник личной охраны
Ленина, пользовался особым доверием41. Чекисты не были монопо-
листами в использовании конфискованных вещей. Время от времени
руководство ВЦИК (Всероссийский центральный исполнительный ко-
митет) обращалось в Хозяйственный отдел ВЧК с просьбами отпустить
сотрудникам ВЦИК по списку «необходимое количество мануфактуры
на одежду, белья, обуви и другие товары из вашей лавки». В связи с
образованием при ВЦИК Комиссии по подготовке отправки подарков
на фронт Президиум ВЦИК предложил ВЧК передавать «ценные пред-
меты, имеющиеся у вас и могущие быть употребленными как подарок
или отличие (часы, портсигары и т. п.), в распоряжение вышеназванной
Комиссии»42.
«На местах» чекисты не ограничивались «законными» премиальными,
прибегая для пополнения своего бюджета к вымогательству.
В.И. Ленин писал Лацису, возглавившему весной 1919 г. Всеукраин-
скую ЧК, ссылаясь на слова Л.Б. Каменева и неназванных «виднейших
чекистов», что «на Украине Чека принесли тьму зла, будучи созданы
Евреи и ВЧК (1917-1921)
131
ю| Чужие или свои?
слишком рано и впустив в себя массу примазавшихся». Вождь требовал
«подтянуть» чекистов43.
В качестве мер, направленных на предотвращение произвола, Лацис
упразднил уездные ЧК и «выбросил мелкую спекуляцию», т. е. запретил
чекистам заниматься подобными делами, дававшими широкие возмож-
ности для злоупотреблений и поборов. Показательно, что им было запре-
щено с самого начала работы на У крайне «забирать при арестах что-либо,
кроме вещественных доказательств»44. Видимо, проблема «чистых рук», о
которой говорил Дзержинский, стояла у чекистов достаточно остро. Это
касалось не только Украины. В ноябре 1918 г. на съезде коммунистических
ячеек отрядов войск ВЧК представитель Костромской губернии Комаров,
рассказывая о взаимоотношениях с местной ЧК, жаловался, что «если идет
член комиссии, и ты ему не поклонился, то он на тебя три недели будет
коситься. Одним словом, из коммунистов стали делаться чиновники ни-
колаевского режима. И какая там может быть ячейка, когда каждый день
пьяные. <...> Реквизированные товары никуда не поступают, а пользуются
только члены коллегии для своего МАМОНА»43.
Проблема пьянства среди чекистов оставалась актуальной и два года
спустя. В приказе ВЧК № 108 от 1 сентября 1920 г. говорилось о позоря-
щих ЧК и чекистов выпивках, которые «разлагают работников, создают
впечатление у посторонних наблюдателей, что все чекисты - алкоголики,
и что этому учреждению доверять нельзя, ибо оно подмочено»46.
Романы и поэмы, воспевающие «рыцаря революции» и его сподвиж-
ников, еще не были написаны, а пока что чекисты даже их товарищами по
партии расценивались в лучшем случае как «чернорабочие революции»
(выражение Лациса). ВЧК постоянно испытывала кадровый кризис, тем
более что в отличие от большинства прочих советских учреждений не мог-
ла рассчитывать на дореволюционное чиновничество47.
ВЧК отнюдь не была элитарным (в интеллектуальном плане) подраз-
делением большевистской системы. Уровень образования ее сотрудников
оставлял желать лучшего. Так, среди сотрудников секретных отделов летом
1920 г. лица с законченным высшим образованием составляли менее одного
процента (0,8%), еще 1,1% учились некогда в высших учебных заведениях;
законченное среднее образование имели 13,7% сотрудников, незакончен-
ное - 12,5%48. К началу 1921 г. среди всех чекистов высшее образование
имели только 513 человек (1,03%), подавляющее большинство (57,3%)
не поднялось выше начального49. Впрочем, в эпоху Гражданской войны
главной функцией ВЧК было не проведение сложных спецопераций, а
устрашение. Преданность делу партии большевиков была важнее, нежели
образованность.
Уровень образованности евреев-чекистов, служивших в центральном
аппарате ВЧК, был сравнительно выше, чем у их товарищей. О. Капчин-
ский, указывая на высокий процент евреев среди «следственного персо-
нала» ВЧК, объяснял это тем, что «следственная работа даже в условиях
Гражданской войны и правового нигилизма требовала относительно боль-
шего (по сравнению с другими категориями чекистских специалистов)
интеллекта и образования, и этим требованиям отвечали многие евреи».
Судя по переписи служащих-коммунистов, проведенной в декабре 1918 г.,
большинство чекистов-евреев, в особенности следователей, имели обра-
зование не ниже среднего, «а некоторые даже учились в высших учебных
заведениях»30.
Заметим, однако, что речь идет об очень небольшой группе чекистов.
В сентябре 1918 г. среди 42 следователей и заместителей следователей трех
ведущих подразделений центрального аппарата ВЧК - отделов по борьбе
с контрреволюцией, спекуляцией и должностными преступлениями - на-
считывалось 10 евреев (по другим данным - 8). Судить об уровне их интел-
лекта по анкетным данным вряд ли представляется возможным, а высоким
уровень их образования можно было счесть только на фоне их товарищей:
один из следователей-евреев до революции учился на юридическом фа-
культете, другой окончил коммерческое училище31.
Более точное представление о чекистах еврейского происхождения
эпохи Гражданской войны дают биографические справки, собранные в
книгах о чекистской элите 1920-1930-х гг.32 По нашим подсчетам, три
четверти евреев-чекистов, дослужившихся впоследствии до высоких чи-
нов (113 человек), начинали свою карьеру в «органах» в 1918-1921 гг.
Сведения о них не всегда полны, но общая картина достаточно вырази-
тельна. Подавляющее большинство (95 человек, сведения о пяти отсут-
ствуют) происходили из черты оседлости, львиная доля (89, сведения о
семерых отсутствуют) имела сомнительную, с классовой точки зрения,
родословную - как правило, они происходили из семей ремесленников
или мелких торговцев. Лишь четверым к моменту поступления на службу
в ЧК исполнилось 30 лет. Остальные по возрастным категориям распре-
делялись следующим образом: 15-20 лет - 44 человека, 21-25 лет - 43,
26-30 лет - 21. Около половины (52 чел.) пришли в ВЧК из Красной ар-
мии, службу в которой почти все будущие чекисты начали рядовыми. По
меньшей мере 14 человек успели послужить еще в армии царской. И бу-
дущих руководителей ОГПУ-НКВД нигде не учились или же сведения об
их образовании отсутствуют, 41 человек имел начальное образование или
проучился в школе один-два года, 16 чекистов имели неполное среднее,
32 - среднее, 11 - незаконченное высшее образование. Двое сдали экстер-
ном экзамен на звание учителя, один - народного, другой - домашнего.
Шестеро вступили в партию большевиков до революции, остальные - в
основном в период Гражданской войны, иногда успев побывать и члена-
ми других партий, в том числе еврейских (шестеро были членами Поалей
Цион, один - Бунда).
Нетрудно подсчитать, что в данной выборке около 37% чекистов име-
ли среднее и незаконченное высшее образование, что было не слишком
удивительно для руководящих работников. Удивительным было дру-
гое: среди чекистской элиты еврейского происхождения почти столько
же - 36% - имели лишь начальное образование, а то и вовсе не окончили
начальную школу. Если же к ним добавить лиц, нигде формально не
учившихся или не сообщивших сведения о своем образовании (что ско-
рее всего свидетельствовало о его отсутствии или невысоком уровне33),
то получается, что на уровне начального - или еще ниже - образования
находились 44% чекистов-евреев, выдвинувшихся в годы Гражданской
войны. А ведь речь идет о чекистской элите. Без особого риска оши-
Евреи и ВЧК (1917-1921)
133
М Чужие или свои?
биться можно предположить, что уровень образования евреев-чекистов,
оставшихся на нижних ступенях чекистской иерархии, был существенно
ниже и вряд ли сильно превосходил средний по ВЧК. Напомню, что бо-
лее половины сотрудников ВЧК в начале 1921 г. имели образование не
выше начального.
Для наглядности приведем «анкетные данные» некоторых евреев, при-
шедших на службу в ВЧК в годы Гражданской войны и сделавших впо-
следствии карьеру в этом ведомстве34.
Обычный возраст евреев - служащих ВЧК того времени - около 20 лет.
Самый юный - Марк Роголь, родился в 1905 г. в семье рабочего-
стеклодува в Одессе, окончил высшее городское училище. С 13-летнего
возраста был чернорабочим на табачной фабрике, в 15 лет вступил в пар-
тию большевиков (в 17 лет был исключен «за пьянку», впоследствии при-
нят вновь) и стал агитатором Одесского губкома КП(б)У. Через месяц, в
марте 1920 г., поступил на должность делопроизводителя в Одесскую губ-
чека, в июле уже был заместителем коменданта Кременчугской губернской
ЧК, в сентябре 1920 - в возрасте 15 лет! - начальником информационно-
агентурного отдела политбюро ЧК Александрийского уезда.
Михаил Андреев (Шейнкман) - сын возчика, образование начальное,
член РКП(б) с 1919 г., стал уполномоченным и замначальника политбюро
ЧК Мозырского уезда в июле 1920 г. в 17-летнем возрасте. В декабре 1920 г.
он уже был следователем Белорусской ЧК.
Сын сапожника-кустаря, окончивший два класса церковно-приходской
школы, Исай Бабич стал членом РКП(б) и помощником уполномоченного
Николаевской губернской ЧК в 1920 г., в 18-летнем возрасте. На работу в
ЧК он перешел с должности наборщика в типографии политотдела Мор-
ских сил Юго-Западного фронта.
Абрам Сапир, 1900 г. р., нигде не учился, сын отправителя поездов при
железнодорожной станции. Профессиональный опыт - чернорабочий на
железнодорожной станции, в ЧК с марта 1919 г. по «специальности» сле-
дователь транспортной ЧК в Барановичах. В РКП(б) вступил в августе
1919 г. С марта 1920 г. работал уполномоченным и секретарем воднотран-
спортной ЧК в Одессе.
Михаил Волков (Вайнер) родился в семье портного, образование
неизвестно, работал мальчиком у торговца на шахте, переписчиком-
конторщиком. Красногвардеец с октября 1917 г., в РКП(б) - с января
1918 г. С мая 1918 г., с 18-летнего возраста, в органах ВЧК. Инструктор,
сотрудник оперативного отдела Курской губернской ЧК до июня 1919 г.,
затем на различных чекистских должностях в Красной армии, в частно-
сти начальник Особого отдела 32-й стрелковой дивизии в 1919-1920 гг.,
18-й кавалерийской дивизии в 1920 г.
Яков Вейншток, сын мелкого торговца, окончил четырехклассное го-
родское училище, работал конторщиком в торговой фирме. Член РКП(б) с
июля 1919 г. С декабря 1919 г. - в Красной армии, с мая 1919 г., с 20-летнего
возраста, - в органах ВЧК, занимал различные руководящие должности в
Особых отделах различных воинских частей, с сентября 1920 г. - началь-
ник Особого отдела 41-й стрелковой дивизии. В период партийной чистки
в 1921 г. был исключен из РКП(б) «как интеллигент»; вероятно, четыре
класса образования показались чрезмерными его товарищам по партии.
В 1926 г. восстановлен.
Были и более образованные. Семен Гендин, сын врача, успел окончить
гимназию, с 1918 г. (с 16-летнего возраста) в Красной армии, в 19 лет
(с 1921 г.) - следователь МЧК. Марк Гай (Штоклянд), сын кустаря-
шапочника, окончил Киевское художественное училище и два курса юри-
дического факультета Киевского университета. С октября 1918 г. рядовой
в Красной армии, затем на военно-хозяйственной и военно-политической
работе. В РКП(б) вступил в марте 1919 г. В ВЧК - с мая 1920 г., когда в
возрасте неполных 22 лет был назначен начальником политотдела 59-й ди-
визии ВЧК.
Все они, кроме Бабича и Андреева-Шейнкмана, были впоследствии
расстреляны в период Большого террора или умерли в лагерях. За ис-
ключением Марка Роголя: он также был репрессирован, но направлен на
принудительное лечение в психиатрическую больницу. Вместе с другими
пациентами он был расстрелян в Киеве в октябре 1941 г. нацистами.
Возможно, самая экзотическая «перемена участи» случилась с Семе-
ном Захаровичем Миркиным, сыном сапожника-кустаря, закончившим
два класса еврейской начальной школы и с 10-летнего возраста работав-
шим подмастерьем, а затем портным в частной портняжной мастерской
сначала в различных местечках и городках Черты, а с июня 1915 г. в Орле,
где наверняка оказался в качестве беженца или выселенца. Несмотря на
16-летний возраст, в июне 1917 г. он каким-то образом оказался в армии
(то ли взяли «на глазок», то ли пошел добровольцем). Вернувшись из
армии в марте 1918 г., Миркин вновь занялся портняжным делом, но в
июле того же года опять оказался в армии - на сей раз Красной. Здесь он
занимался привычным ремеслом - служил рядовым-портным Орловских
кавалерийских курсов РККА, а затем рядовым обмундировальных ма-
стерских 9-й стрелковой дивизии. В ноябре 1919 г. «рядовой-портной»
вступил в РКП(б), с апреля по декабрь 1920 г. учился в партшколе и на
Высших партийных курсах в Ростове-на-Дону, а уже с января 1921 г. на-
чал «шить», но теперь уже не красноармейскую форму, а дела: Миркин
стал работать военным следователем реввоентрибунала 31-й дивизии.
В ВЧК он перешел в июне 1921 г. на должность уполномоченного по
борьбе с бандитизмом 22-й стрелковой дивизии. Вершиной карьеры вы-
пускника хедера и совпартшколы стала должность наркома внутренних
дел Северо-Осетинской АССР. В 1939 г. бывший портной был арестован,
в январе 1940 г. расстрелян.
Нетрудно представить, как проводили следствие и творили расправу
вчерашние портные или наборщики, имевшие за плечами четыре клас-
са образования. Следователь ЧК в Полтаве «товарищ Роза, девушка из
швеек», на упрек в том, что она запугивает допрашиваемых расстрелом,
«в простоте сердечной» ответила: «А если они не признаются?»55. В Харь-
ковской чрезвычайке следователи, бывший парикмахер Мирошниченко
и 18-летний Йесель Мань кин, неизменно сопровождали допросы угрозой
расстрела. Манькин, направив на допрашиваемого браунинг, говорил: «...от
правильного ответа зависит ваша жизнь»56.
Вероятно, это были не худшие образцы.
Евреи и ВЧК (1917-1921)
135
0)1 Чужие или свои?
Российское еврейство в годы революции и Гражданской войны было
расколото, так же как и все общество. Евреи - «буржуи», «спекулянты»
или члены «контрреволюционных партий» имели неплохие шансы ока-
заться в подвалах ЧК. И предстать перед следователем-евреем, иногда
бывшим товарищем по каторге. Так случилось с эсером, писателем Андре-
ем (Израилем) Соболем, арестованным в 1921 г. по приказу председателя
Одесской губчека Макса Дейча, с которым в 1906 г. они вместе сидели в
Виленской тюрьме57.
Киевская ЧК отличилась особой жестокостью при проведении в
жизнь «красного террора». Протоколы киевской ЧК за май-август 1919 г.
сохранили имена выносивших приговоры - иногда более 50 в день. Пред-
седателем киевской ЧК в это время был П.М. Дегтяренко, секретарские
обязанности выполняли Шуб и Иванов, с решающим голосом в рас-
стрельных заседаниях участвовали Гринштейн, Савчук, Шварцман, Уга-
ров, Лацис, Яковлев, Шишков, Апетер, Витлицкий, с совещательным -
Заколупин, Рубинштейн, Лившиц, Давид, Балицкий58. «Карающий меч»
киевской ЧК разил отнюдь не только «бывших» и не только за социаль-
ное происхождение или политическую деятельность. Не было отбора и
по национальному признаку. Захваченный белыми следователь киевской
ЧК М.И. Болеросов, «32 лет, православный, дворянин», утверждал, что
вплоть до мая 1919 г. в киевской ЧК не было ни одной казни еврея, за
исключением проштрафившегося чекиста Каца. По словам Болеросова,
1 мая 1919 г. последовало указание в агитационных целях расстрелять не-
которое количество евреев, а также не назначать евреев на «видные долж-
ности». Показания Болеросова не очень надежный источник: он всячески
пытался обелить собственную деятельность. В то же время его рассказ об
указании устроить «показательные» казни евреев кажется достоверным.
Впоследствии большевики практиковали, как мы увидим ниже, подобные
«пропагандистские мероприятия»59.
Среди 59 дел, рассмотренных за один день, 5 августа 1919 г., киевской
ЧК в составе Дегтяренко (председатель), Шуб (секретарь), членов -
Гринштейна, Савчука, Шварцмана и Угарова, были и уголовные дела, по
которым обвинялись евреи. Чекистский интернационал был к ним столь,
же немилосерден, как и к православным. Моисей и Арон Мееровичи Сой-
ферманы, Исаак Иосифович Линецкий, Шая и Михель Аврумовичи Бух
были приговорены к расстрелу за сбыт фальшивых керенок, Аба Афроим
Фельдман и Мейлах Яковлев Вайнер - за бандитизм. Писон Исаакович
Колтун был приговорен к заключению в лагерь60. Понятно, что при таком
скоротечном (точнее, скорострельном) правосудии установить, насколько
на самом деле подсудимые были виновны в инкриминируемых им престу-
плениях, было невозможно.
Евреи, конечно, не подвергались преследованиям со стороны советской
власти как евреи. Они имели гораздо меньше шансов попасть в заложники,
чем неевреи. Это объяснялось вполне прагматическими соображениями
и было разъяснено в приказе ВЧК № 208 «О заложниках и арестах спе-
циалистов» от 17 декабря 1919 г., подписанном Дзержинским и Лацисом.
Заложник определялся в приказе как «пленный член того общества или
той организации, которая с нами борется. Причем, такой член, который
Евреи и ВЧК (1917-1921)
имеет ценность, которым этот противник дорожит... За какого-нибудь
сельского учителя, лесника, мельника или мелкого лавочника, да еще еврея
(курсив мой. - О. Б.), противник не заступится и ничего не даст». В залож-
ники предлагалось брать высокопоставленных сановников, крупных по-
мещиков, фабрикантов, выдающихся работников, ученых, родственников
лидеров антибольшевистского движения и т. п.61
Остается только гадать, кто понимался под «выдающимися работника-
ми». Видимо, к «выдающимся работникам» был в свое время отнесен Илья
Эренбург, которому пришлось, спасаясь от взятия в заложники, бежать из
Москвы на Украину в сентябре 1918 г.62 Правда, если под рукой не оказы-
валось более «ценных» членов общества, за буржуазию могли сойти и ев-
рейские лавочники, которых «в порядке красного террора» расстреливали
с тем же успехом63. Высокие шансы попасть в заложники и быть расстре-
лянными имели также члены враждебных большевикам на данный момент
партий или имевшие несчастье получить чин прапорщика при Временном
правительстве64.
Расстрел наряду еще с 20 заложниками бывшего юнкера В. Перель-
цвейга, близкого друга Леонида Каннегисера, послужил, по-видимому,
главной причиной убийства последним председателя Петроградской ЧК
М.С. Урицкого. Незадолго до покушения Каннегисер просил Урицкого
не расстреливать его ни в чем не повинного друга, но действия это не
возымело63.
Согласно показаниям отца Л.И. Каннегисера Леонида потрясло также 137
то, что постановление о расстрелах было подписано евреями Урицким
и Иоселевичем. Однако убедительных данных, свидетельствующих в
пользу версии, высказывавшейся, в частности, М.А. Алдановым, будто
бы Каннегисером двигало «чувство еврея, желавшего перед русским на-
родом, перед историей противопоставить свое имя именам Урицких и
Зиновьевых», не имеется66.
12 мая 1919 г. в Киеве были произведены аресты заложников из бур-
жуазии - все 50 человек оказались евреями. Когда одного из «буржуев»
не оказалось на месте, взамен арестовали его брата. Этим заложникам по-
везло: по счастливой случайности никто расстрелян не был67. Менее удач-
лив оказался арестованный по недоразумению И.С. Горенштейн. Вина его
заключалась в том, что он выглядел моложе своих 53 лет и был задержан
при уличной проверке по подозрению в том, что его паспорт - фальшивый.
Когда выяснилось, что Горенштейн действительно тот, за кого себя выдает,
его не освободили, ибо вдобавок к моложавости у него обнаружился еще
один «недостаток» - он оказался сахарозаводчиком. Поскольку Горен-
штейн в списках расстрелянных не значился, семья надеялась, что он жив.
Выяснилось, что он был расстрелян без всякого приказа. Возможно, лишь
потому, что одному из красноармейцев приглянулись лаковые ботинки
Горенштейна68.
В январе 1920 г. большевики, вновь овладевшие Киевом, расстреляли
десять человек за «спекуляцию» валютой. Имена расстрелянных были
написаны на огромных плакатах, развешенных по Крещатику. Девять
из десяти оказались евреями, и толпа, читая плакаты, радостно гоготала:
«Наконец-то и до своих добрались...»69. Летом того же года в Херсоне вы-
вешивали списки расстрелянных, по 15 человек в день, «порционно». По-
следние пять фамилий - еврейские - «для борьбы с антисемитизмом»70.
Наибольшие шансы оказаться в подвале ЧК были у евреев вслед-
ствие их традиционных занятий, ставших преступными в эпоху военного
коммунизма. Так, в Полтаве был расстрелян мельник Г.Я. Аронов «за
злостную спекуляцию», выразившуюся «в допуске помола зерна» без
уведомления местных властей и в продаже муки по рыночной, а не по
твердой цене. При этом всем было понятно, что «назначенные цены на
хлеб совершенно невозможны» и если бы они соблюдались, «производ-
ство муки пришлось бы прекратить». Был расстрелян также С.М. Мир-
кин - «за активное участие в спекулятивной деятельности» Аронова,
выразившееся в том, что он купил у мельника муку и собирался ею тор-
говать в своей лавке71. Это был один из самых вопиющих, но далеко не
единственный случай.
Впоследствии меньшевик Ст. Иванович (С.О. Португейс), рассуждая
о гонениях на еврейскую буржуазию и о том, что процент «лишенцев» по
социальному положению был у евреев выше, чем у любого другого народа
России, писал: «...казни египетские, посыпавшиеся на евреев “не как на
евреев”, а как на буржуев, осуществлялись в значительной мере при помо-
щи еврейской же агентуры из числа еврейских большевиков и ренегатов-
евреев из других партий. В огромном большинстве случаев этих “буржуев”
гнали, терзали и мучили дети той же еврейской улицы, соблазненные в
большевизм». «Этот гонитель и мучитель был не “довер-ахер”, а тот самый
“наш Янкель”, сын реб-Мойше из Касриловки, невредный паренек, кото-
рый в прошлом году провалился на экзамене в аптекарские ученики, но
зато в этом году выдержал экзамен по политграмоте»72.
В.Г. Тан, руководивший обследованием еврейских местечек в середине
1920-х годов, заключил, что «вопреки распространенному обывательскому
мнению, еврейство за революцию платит дороже, а получает от нее меньше
других. Оно не столько создает революцию, сколько претерпевает ее»73.
Семьдесят лет спустя после революции почти то же самое писала Нора
Левин: «Большевистская революция не была сделана ни евреями, ни для
евреев, ни против евреев. Наш народ в России просто попал в жернова
истории и оказался перед дилеммой - быть стертым в историческую пыль
или предпринять определенные усилия, чтобы приспособиться к изме-
нившимся условиям, каким бы болезненным и мучительным ни был этот
процесс»74.
Они были правы - по отношению к большинству еврейского населе-
ния России. Оно «претерпевало» революцию, обернувшуюся Гражданской
войной. Однако правдой было и другое: революция предоставила евреям
невиданные ранее возможности, в том числе возможность стать властью.
Революция не только вынудила ее «претерпевать», она дала возможность
ее творить. Тысячи «пареньков из Касриловки» эту возможность не упу-
стили. «Кожаные куртки» оказались им вполне по плечу.
«Роман» евреев с советской властью кончился в 1940-х годах, когда
окончательно определился призрачный характер «пролетарского интер-
национализма». Кампания по борьбе с «безродными космополитами» и
образование государства Израиль изменили как отношение некоторых
евреев к советской власти, так и советской власти - ко всем евреям. Ев-
реи, самые лояльные советские граждане 1920-1930-х годов, оказались на
своем привычном месте - нежеланного и нелюбимого меньшинства. А их
непропорциональное - хотя и сильно преувеличивавшееся «улицей» и
литературой определенного сорта - представительство в российской тай-
ной политической полиции, так часто менявшей свое название, осталось
историческим казусом. И памятником ложным представлениям и несбыв-
шимся надеждам.
1 Бромберг Я.А. Евреи и Евразия. М.,
2002. С. 70.
2 Левин М. Грустное явление //
Еврейская неделя. 1917. № 45-46. 12
дек. С. 17-18.
3 Там же.
4 Элее. Заметки // Рассвет. 1918. № 5.
С. 32-33.
‘Наживин И. Записки о революции.
Вена, 1921. С. 93.
6 ГА РФ. Ф. 130. On. 1. Д. 99. Л. 1об.
1 Короленко В. Дневник 1917-1921.
Письма. М., 2001. С. 87.
8 Бромберг Я.А. Указ. соч. С. 69.
9 См. о «предыстории» событий главы
«Евреи в Российской империи» и
«Евреи и русская революция» в кн.:
Будницкий О.В. Российские евреи
между красными и белыми (1917—
1920). М„ 2005. С. 13-92, 102-107.
См. также: Евреи и русская револю-
ция / Ред.-сост. О.В. Будницкий. М.;
Иерусалим, 1999.
10 Altshuler М. Russia and her Jews. The
Impact of the 1914 War // The Wiener
Library Bulletin. 1973. Vol. 27. № 30/31.
P. 14; Studies in Contemporary Jewry:
An Annual 4: The Jews and the Euro-
pean Crisis, 1914-1921 / Ed. J. Frankel.
Bloomington, 1988. P. 6; Lohr E. The
Russian Army and the Jews: Mass
Deportation, Hostages, and Violence
during World War I // Russian Review.
Vol. 60. 2001. July. P. 404-419; Idem.
Nationalizing the Russian Empire.
Cambridge; Mass., 2003. P. 137-145;
Будницкий О.В. Указ. соч. С. 98-102,
176, 286-304.
11 Шкловский В. Сентиментальное путе-
шествие. М., 1990. С. 214.
12 Биншток В.И., Новосельский С.А. Ев-
реи в Ленинграде (Петербурге) 1920-
1924 гт.: Демографический очерк //
Вопросы биологии и патологии евре-
ев: В 3 сб. Л., 1926. Сб. 1. С. 30-32.
13 Gitelman Z. Jewish Nationality and So-
viet Politics. Princeton, 1972. P. 78-81.
14 В литературе приводятся цифры 958
(Gitelman Z. Op. cit. P. 105) и 964 чело-
века (Шарапов Я.Ш. Национальные
секции РКП(б). Казань, 1967. С. 239).
15 Шарапов Я.Ш. Указ. соч. С. 238-239;
Костырченко Г.В. Тайная политика
Сталина: Власть и антисемитизм.
М., 2001. С. 58; Ларин Ю. Евреи и
антисемитизм в СССР. М.; Л., 1929.
С. 111; БСЭ. 1-е изд. Т. 24. Стб. 98.
Партийная перепись 1922 г., откуда
почерпнуты приведенные сведения,
охватывала 91% членов партии, за ис-
ключением парторганизаций Якутии
и Дальнего Востока, где вряд ли чис-
ло евреев было значительным.
16 Аронсон ГЛ. Еврейская обществен-
ность в России в 1917-1918 гг. //
Книга о русском еврействе. 1917—
1967. Нью-Йорк, 1968. С. 16-18.
17 См. подробнее: Будницкий О.В. Указ,
соч.. С. 438-493; Budnitskii О. The
«Jewish Battalions» in the Red Army //
Евреи и ВЧК (1917-1921)
139
о I Чужие или свои?
Revolution, Repression, and Revival: The
Soviet Jewish Experience. Lanham, 2007.
P. 15-35.
18 Подробнее см.: Будницкий О.В. Указ,
соч. С. 275-343. Сводку литературы во-
проса см.: Там же. С. 7, примеч. 2.
19 Schapiro L. The Role of the Jews in the
Russian Revolutionary Movement //
Slavonic and East European Review. 1961.
Dec. Vol. 15. № 94. P. 165.
20 Gitelman Z. Op. cit. P. 117.
21 Baron S. Introduction // Violence and
Defence in the Jewish Experience / Ed.
by S. Baron, G. Wise. Philadelphia, 1977.
P. 12. В работах Л. Гереона (Gerson L.D.
The Secret Police in Russia. Philadelphia,
1976), Дж. Леггетта (Leggett G. The
Cheka: Lenin’s Political Police. Oxford,
1981) и диссертации M. Паттерсона
(Patterson М. Moscow Chekists during
the Civil War, 1918-1921 [Simon Fraser
University, 1991]) предприняты попыт-
ки проанализировать национальный
состав ВЧК. Однако ни один из этих
исследователей не имел доступа к со-
ветским архивам, и поэтому их работы
основываются на весьма ограниченном
круге источников.
22 Кричевский Л. Евреи в аппарате ВЧК-
ОГПУ в 20-е годы // Евреи и русская
революция. С. 322, 327-329.
23 Капчинский О. Госбезопасность из-
нутри: национальный и социальный
состав. М., 2005. С. 255, 259.
24 Там же. С. 289-290.
25 Пролетарская революция. 1924. № 10.
С. 5-6; Спирин Л.М. Крах одной аван-
тюры: Мятеж левых эсеров в Москве
6-7 июля 1918 г. М„ 1971. С. 17; Го-
линков ДЛ. Крушение антисоветского
подполья в СССР: В 2 кн. М., 1978.
Кн. 1. С. 60; В.И. Ленин и ВЧК: Сб.
док. (1917-1922 гг.). 2-е изд., доп. М.,
1987. С. 141; Лубянка: органы ВЧК-
НКВД-НКГБ-МГБ-МВД-КГБ 1917-
1991: Справ. / Сост. А.И. Кокурин,
Н.В. Петров. М., 2003. С. 14-20.
26 МЧК. Из истории Московской чрез-
вычайной комиссии: Сб. док. (1918—
1921 гг.). М„ 1978. С. 5.
27 Кричевский Л. Указ. соч. С. 330.
28 Литвин АЛ. Красный и белый террор
в России 1918-1922 гг. Казань, 1995.
С. 53; Кричевский Л. Указ. соч. С. 331.
В книге Литвина приводятся сведения
из «Отчета ВЧК за 4 года ее деятель-
ности» (М., 1922), подготовленного
знаменитым чекистом М.Я. Лацисом.
«Отчет» до сих пор находится на се-
кретном хранении и недоступен боль-
шинству исследователей.
29 Велидов А.С. Коммунистическая пар-
тия - организатор и руководитель ВЧК.
М„ 1967. С. 124.
30 Вернадский В.И. Дневники 1917-1921.
Октябрь 1917 - январь 1920. Киев,
1994. С. 152.
31 Следственное дело доктора Дубровина /
Публ. В.Г. Макарова // Архив еврейской
истории: В 2 т. М., 2004. Т. 1. С. 277.
32 Бонч-Бруевич ВД. Как организовы-
валась ВЧК (памяти Ф.Э. Дзержин-
ского) // Бонч-Бруевич В.Д. Избр. соч.:
ВЗт.М., 1963. Т. З.С. 114-115.
33 Коэн С. Бухарин. Политическая био-
графия. 1888-1938. М.; Минск, 1989.
С. 131, 109; Литвин АЛ. Указ. соч. С. 96,
примеч. ИЗ.
34 Красный террор. Казань. 1918. № 1.
С. 1-2.
35 На первоисточник слов Лациса об-
ратил внимание еще С.П. Мельгунов:
Мельгунов С.П. Красный террор в
России. 1918-1923. М„ 1990. С. 44.
Впервые книга была издана в 1923 г.
36 Литвин АЛ. Указ. соч. С. 66.
37 Цит. по: Герье В. Террор // Энцикл.
слов. / Изд. Ф.А. Брокгауз, И. А. Ефрон.
СПб., 1901. Т. 33. Стб. 72.
м Slezkine Yu. The Jewish Century.
Princeton, 2004. P. 195-203.
39 Литвин АЛ. Указ. соч. С. 50-51, 72;
Лубянка. С. 366.
40 Литвин АЛ. Указ. соч. С. 72.
41 Абрам Яковлевич Беленький (1883—
1941) - сын мастера-ремесленника,
еврейского мещанского старосты.
С 11-летнего возраста работал в коже-
венных мастерских. В 1903 г. арестован
за революционную деятельность, с
1904 г. в эмиграции в Париже, где рабо-
тал сапожником, печатником в частной
типографии. В Париже познакомился
с В.И. Лениным. С декабря 1917 г. - в
ВЧК, комиссар, отвечал за работу ти-
пографий. В 1918-1919 гг. сотрудник
отдела по борьбе с преступлениями по
должности, в 1919-1924 гг. начальник
охраны Ленина. Вся его дальнейшая
биография связана с работой в органах
ВЧК-ГПУ-ОГПУ-НКВД. В 1938 г.
арестован, в 1939 г. за «антисоветскую
агитацию» получил удивительно мяг-
кий по тому времени приговор - пять
лет лишения свободы. Однако после
начала Великой Отечественной войны
приговор был отменен и Беленький
был осужден вторично 7 июля 1941 г.,
на сей раз его приговорили к расстре-
лу. Приговор был приведен в испол-
нение 16 октября 1941 г.: Петров Н.В.,
Скоркин К.В. Кто руководил НКВД:
Справ. М„ 1999. С. 102.
42 ГА РФ. Ф. 1235. Оп. 93. Д. 201. Л. 148,
163.
43 В.И. Ленин и ВЧК. С. 172.
44 Там же.
45 ГА РФ. Ф. 1235. Оп. 93. Д. 201. Л. 28об.
По словам Комарова, исполнявшим
обязанности председателя Костромской
ЧК был некто Малинин, хронический
алкоголик. Вопрос снабжения водкой
в условиях винной монополии чекисты
решили очень просто - назначили свое-
го сотрудника комиссаром монополии
(Там же).
46 Лубянка. С. 366.
47 Кричевский Л. Указ. соч. С. 326-327.
48 Там же. С. 331.
49 Литвин АЛ. Указ. соч. С. 53.
50 Капчинский О. Указ. соч. С. 266-267.
51 Там же. С. 266-267, 314, примеч. 35.
52 Шаповал Ю., Пристайко В., Золо-
тарьовВ. ЧК-ГПУ-НКВД в Украпп:
особи, факта, документи. Кшв, 1997.
С. 431-581; Петров Н.В., Скоркин К.В.
Указ. соч.
53 Мы не включаем в их число двоих,
сдавших экзамен на звание учителя.
Впрочем, один из них, «народный
учитель» Яков Генкин, до револю-
ции работал в основном слесарем и
паяльщиком-жестянщиком. В 1919 г.
он уже стал председателем Херсон-
ской ЧК.
54 Биографические сведения о евреях-
чекистах почерпнуты нами в упо-
мянутой выше книге Н.В Петрова и
К.В. Скоркина.
55 Короленко В.Г. Указ. соч. С. 193. Запись
от 23 июня 1919 г.
56 Мельгунов С.П. Красный террор в
России. С. 123.
57 Лущик С. Реальный комментарий к по-
вести // Катаев В. Уже написан Вертер.
Одесса, 1999. С. 99-100,113-121.
58 Из деятельности ЧК (по данным
Деникинской комиссии) // На чужой
стороне. 1925. Т. 4. С. 210, 212.
59 Чекист о ЧК (Из архива «Особой
Следств. Комиссии на Юге России») //
Там же. Т. 9. С. 132, 137.
60 Из деятельности ЧК. С. 210-211.
61 Лубянка. С. 347-348.
62 И.Г. Эренбург - М.А. Волошину,
30 октября 1918 г. // Эренбург И. Дай
оглянуться... Письма: В 2 т. М., 2004.
Т. 1: 1908-1930. С. 91.
63 Беседовский Г. На путях к термидору.
М„ 1997. С. 21-22.
64 В дни красного террора осенью 1918 г.
в Петрограде оказался среди залож-
ников правый эсер Л.В. Берман, сын
известного еврейского общественного
деятеля В.Л. Бермана; ему повезло и
он не был расстрелян, в отличие от
сына типографщика И.Л. Флейтмана,
прапорщика, чье имя появилось в
списке казненных: Дубнов С.М. Книга
жизни. СПб., 1998. С. 411, 416. По по-
Евреи и ВЧК (1917-1921)
141
го I Чужие или свои?
дозрению в симпатиях к партии каде-
тов осенью 1919 г. вместе со старшим
сыном был заключен на три недели в
«Кресты» один из лидеров еврейской
общины Петрограда, Г.Б. Слиозберг:
Слиозберг Г.Б. Дела минувших дней:
Записки русского еврея: В 3 т. Париж,
1933-1934. Т. 1. С. 1; Т. 3. С. 365-366.
Литвин А.Л. Указ. соч. С. 180-183.
66 О Каннегисере см.: Леонид Каннегисер:
Ст. Г. Адамовича, М.А. Алданова,
Георгия Иванова. Из посмерт. стихов
Леонида Каннегисера. Париж, 1928.
67 Дневник и воспоминания киевской
студентки (1919-1920 гг.) // Архив
русской революции. Т. 15. Берлин,
1924. С. 215-216.
68 Гольденвейзер АЛ. Из Киевских воспо-
минаний // Там же. Т. 6. Берлин, 1922.
С. 258.
69 Дневник и воспоминания киевской сту-
дентки. С. 239.
70 Шкловский В. Указ. соч. С. 213.
71 Короленко В.Г. Указ. соч. С. 297, 304.
Записи от 26 мая (8 июня) и 1 (14) июня
1920 г.
72 Иванович Ст. Евреи и советская дикта-
тура // Еврейский мир: Ежегодник на
1939 год. М.; Иерусалим, 2002. С. 62.
73 Еврейское местечко в революции:
Очерки / Под ред. проф. В.Г. Тана-
Богораза. М.; Л., 1926. С. 10.
74 Levin N. The Jews in the Soviet Union since
1917: In 2 vol. N.Y.; L., 1988. Vol. 1. P. 27.
Юрий Зарецкий
КТО ТАКИЕ КАЦКАРИ?
Первые сведения о кацкарях
В праздничный вечер 7 января 2007 г. в программе «Время» на ОРТ
был показан сюжет, называвшийся «Необычная встреча Рождества в
ярославской деревне, где живут кацкари». В сюжете были представлены
селяне русской глубинки, составляющие, как было сказано, некую особую
общность и имеющие свои обычаи, языковые особенности и историю, от-
личающие их от остальных жителей Центральной России. Из увиденного и
услышанного следовало, что именно эти языковые, культурные, историче-
ские особенности и позволяют говорить об этих селянах как о «кацкарях»1.
Очевидно, что в этом телесюжете самым любопытным были не кар-
тинка (в кадре можно было увидеть обычных празднично одетых жителей
одной из русских деревень) и, конечно же, не сообщение об отсутствии в
деревне Мартынове водопровода (и, наоборот, о наличии в ней колхоза),
а само загадочное «самобытное этническое сообщество» кацкарей, вырос-
шее, если верить словам корреспондента, из интереса жителей нескольких
деревень к истории родных мест.
О кацкарях, появившихся перед миллионами телезрителей на Рож-
дество 2007 г., было известно, впрочем, и раньше - в основном из газет.
В «Известиях» за 25 августа 2003 г., например, была опубликована статья
с выразительным подзаголовком: «В Ярославской области произошел
всплеск пассионарности у отдельно взятого народа — кацкарей». Она допол-
няла уже известную нам из телевизионного сюжета картину некоторыми
важными деталями, в частности сведениями о главном идеологе кацкарей
местном школьном учителе и краеведе Сергее Николаевиче Темняткине
и о его объяснении стремительного роста самосознания местных жителей
гумилевской теорией пассионарности2.
В ярославской областной ежедневной газете «Северный Край» от
3 марта 2004 г. в статье «В Ярославской области может быть создана куль-
турная автономия. Кацкари идут в ООН»3 акцентировалось внимание
на возможных политических и социально-экономических последствиях
образования новой этнической общности. В ней говорилось о том, что
создание автономии может дать кацкарям «право на финансирование об-
143
разовательных и культурных программ из федерального бюджета», а также
на представительство в Организации Объединенных Наций. «Подобные
автономии, - добавлял корреспондент, - есть на Дальнем Востоке России,
но никто не подозревал о возможности их появления в центральном регио-
не...» В конце заметки снова упоминалось имя С.Н. Темняткина, сыграв-
шего, как следовало из текста, исключительную роль в оформлении идеи
кацкой автономии: «Но путь к этой идее измеряется двенадцатью годами
и трудом патриотов-кацкарей во главе с энергичным и одаренным Сергеем
Темняткиным ... За эти годы в сознание множества людей внедрилось по-
нятие о существовании небольшой части населения запада Ярославской
области, которая украшает эту землю своеобразием языка и обычаев»4.
В том же 2004 г. в ежедневной электронной газете УТРО 28 мая была
предпринята попытка разностороннего анализа «феномена “особых рус-
ских”». Кацкари обозначались здесь не отдельным «народом», а «малой эт-
нографической группой русского народа со своей культурой и диалектом»5.
В поддержку такого мнения автор приводил размышления о складывании
g этой «этнографической группы» того же С.Н. Темняткина:
о
S
§ Малые этнографические группы у нас представляют обязательно папуасами
g Новой Гвинеи... но ведь весь русский народ состоит из разных групп. Кацка-
ри - просто одна из них. Уже без малого пять столетий известна кацкая земля,
Ь” долгое время объединенная волостью Кадка (позже Кацкий стан) по названию
144 реки. Собственно, река и сформировала кацкарей в единое целое. Предки кац-
карей собрались из разных мест, а теперь выплавились в единое целое...
В публикации обращалось внимание на наличие у кацкарей своего
фольклора («Пятивековое проживание на одном и том же месте привело к
формированию большого фольклорного пласта»)6 и своего периодическо-
го издания («Читали ли вы когда-нибудь деревенский журнал? Кацкари
делают это регулярно. “Кацкая летопись”... издается с 1992 года, в каждом
номере кацкие новости, рассказы о кацкарях, статьи о кацкой истории, кац-
кая поэзия и многое-многое другое кацкое»). Особенностью аналитическо-
го материала газеты УТРО являлось внимание к экономической стороне
феномена «особых русских», в частности к материальным благам, которые
приносят селянам их новый статус кацкарей и их интерес к своим «кор-
ням»: «Поди, не двух, а целых трех-четырех зайцев убили кацкари, открыв
музей и зазывая московских с питерскими туристов. Быт сберегли, обряды
возродили ... денег немножко заработали и сами жить веселее стали». В за-
ключение автор делал вывод, что интерес местных жителей «к истории,
этнографии, осознание своей округи как местности с особой традицией» -
нам всем пример: «Иванов, не помнящих родства, у нас пруд пруди, а вот
кацкарей среди них почти нет».
Публикации о кацкарях появлялись (и продолжают появляться) в
других центральных, местных и электронных периодических изданиях7,
при этом отклики корреспондентов неизменно полны симпатией к кацка-
рям - ведь, помимо всего прочего несомненно хорошего (что же плохого в
«возвращении к истокам»?), обретение кацкой идентичности делает жизнь
людей лучше8.
«Феномен кацкарства» не остался без внимания и научного сообще-
ства, впрочем, более осторожного в своих суждениях, чем журналисты.
Студенты кафедры общего языкознания филологического факультета
СПбГУ - участники фольклорной экспедиции - в отчете о полевых ис-
следованиях 2001 г., опубликованном под заглавием «Кацкий стан»9, на-
рисовали следующую картину увиденного и услышанного.
Кацкий стан - это неофициальное обозначение «группы деревень
Мышкинского, Угличского и Некоузского районов, расположенных на
реке Кадка с центром в селе Мартынове Мышкинского района в 30 кило-
метрах от Мышкина». «Представление об этнической обособленности жи-
телей Кадки и о существовании местного языка (а также названия Кацкий
стан, кацкари) возникло сравнительно недавно», и «период возникновения
интереса к самобытной кацкой культуре соотносится с возникновением
туризма в Мышкине и становлением Мышкинского “локального текста”».
В отчете также безусловно признавалось, что интерес местных жителей
«к истории, этнографии края и местному языку связан с деятельностью
Сергея Николаевича Темняткина - краеведа, редактора газеты “Кацкая ле-
топись”, основателя музея в селе Мартынове, преподавателя кацковедения
в школе». Здесь же приводились его аргументы в поддержку признания
кацкарей отдельной субэтнической группой: исторические (упоминание
Кадки как единого региона в летописях и прочих исторических докумен-
тах), этнографические (некоторые особенности обычаев и традиций) и
лингвистические (кацкий диалект русского языка). Составители отчета
отмечали, что представления о кацкарях как особой этнической общности
отчетливо прослеживаются в программных статьях «Кацкой летописи».
Не ставя перед собой задачу этнографического описания кацкарей (напом-
ним, что цитируются материалы фольклорной экспедиции), студенты тем
не менее делали примечательный для этнологов вывод: «...можно говорить
о формировании “общекацкой” традиции, известной практически всем жи-
телям младше 30 лет».
В последние годы о кацкарях заговорили и на научных форумах филоло-
гов и этнографов. Иногда о них рассказывал «из первых уст» сам С.Н. Тем-
няткин10, в других случаях - представители «большой» университетской
науки. В декабре 2004 г. необычное слово «кацкари» можно было услышать
на конференции «Полевая этнография», организованной кафедрой этно-
графии и антропологии исторического факультета Санкт-Петербургского
государственного университета и Центром этнологических исследований
Северо-Запада России. Доклад К.В. Викторовой (Европейский универси-
тет в Санкт-Петербурге) назывался «Поморы и кацкари: формирование
локальной и этнической идентичности у двух групп русскоязычного на-
селения современной России»11.
Приведенные сведения о кацкарях позволяют сделать по крайней мере
пять заключений общего характера.
Первое. В начале 1990-х годов у жителей одной из территорий Ярослав-
ской области - нескольких деревень вдоль р. Кадка (или у их значительной
части) стало формироваться представление о своей принадлежности к не-
кой общности - «кацкарям». Причем эта общность обычно обозначается
как «этническая» («этническое сообщество», «этнографическая группа»,
Кто такие кацкари?
145
О) I Чужие или свои?
«субэтническая группа (народ)»).Второе. Основой этой новой (возмож-
но, вновь обретенной) самоидентификации жителей деревень бассейна
р. Кадка стало признание ими общности истории, обычаев и языка, а также
пробуждение живого интереса к ним, выразившегося в активном изучении
селянами своих кацких «корней».
Третье. Исключительно важную роль в складывании и укреплении но-
вой кацкой идентичности сыграл (и продолжает играть) краевед, учитель
Мартыновской школы Сергей Николаевич Темняткин.
Четвертое. Важнейшими институтами формирования кацкой идентич-
ности стали местная газета (впоследствии журнал) «Кацкая летопись»,
«Музей кацкарей» и уроки кацковедения в школе.
Пятое. Обретшие новую (или вернувшие ранее утраченную?) идентич-
ность жители деревень на р. Кадка (в особенности д. Мартынове) извлека-
ют из нее ощутимые выгоды - как материальные (приток туристов), так и
нематериальные (невиданная для российской глубинки паблисити)12.
Однако эти заключения - как и весь материал, на котором они осно-
вываются, - оставляют слишком много неясностей и вопросов. Навязчиво
преследует ощущение какой-то искусственности, сконструированности
всего, что связано с кацкарями. Причем ощущение это настолько сильное,
что хочется спросить, а существуют ли кацкари в действительности?
Путешествие в Кацкий стан
Очевидно, что ответить на возникшие вопросы относительно кацкой
идентичности и понимания кацкой общности как этнической группы мож-
но лишь при более детальном и неопосредованном знакомстве с предметом
изучения. В первую очередь с основаниями, на которых строится кацкая
идентичность, обстоятельствами ее возникновения и лидером кацкарей
С.Н. Темняткиным. Таким образом, путешествие к кацкарям в данном
случае будет пониматься как путешествие, если можно так выразиться, ис-
точниковедческое.
«Кацкая летопись»
«Кацкая летопись» - безусловно, главный институт построения кацкой
идентичности. Чего стоит только само название, отсылающее читателя к
летописной традиции, отвечающей на «главный» вопрос - «откуда есть по-
шла земля Русская?»!
Начиналась «Кацкая летопись» в 2002 г. как приложение к районной
газете, затем, с третьего выпуска, стала издаваться отдельно тиражом в
200 экземпляров. Менялись и ее подзаголовки: сначала «Газета краеведов
Мартыновского сельсовета», потом «Газета мартыновских краеведов»,
«Газета краеведов волости Кадка», «Газета краеведов волости Кадки
(Кацкого стана)». Потом «Кацкая летопись» стала называться журналом,
в ней появились новые рубрики и исчезли некоторые старые, но и общий
характер издания, и его главный редактор (он же автор большинства мате-
риалов) оставались неизменными.
Поскольку кратко описать характер этого издания в силу его уникаль-
ности довольно сложно, а также учитывая, что ниже будут приведены
пространные цитаты из «Кацкой летописи», которые дадут читателю воз-
можность ощутить ее особенности, здесь будет уместно обратить внимание
лишь на некоторые важные моменты.
Один из них - доверительная, шутливая тональность разговора с чита-
телем:
А вы не задумывались, дорогие читатели, о том, какие вы хорошие люди!13
Картошку-то всю посадили? А-а-а, ну тогда читайте...14
А вечера становятся всё длиннее - лежи себе да «КЛ» почитывай15.
Слава Богу, нам удалось выпустить еще один номер...16
Здравствуйте! Улыбнитесь! Нет, не так - пошире!..17
Это так здорово: в Юрьевское опять прилетели аисты!18
Другая важная особенность КЛ может быть обозначена понятием
«стратегия присвоения». В газете все, о чем она пишет, становится «кац-
ким»: окрестные села, деревенские обычаи, старинные постройки и,
конечно, исторические события. Так, село Рождествено превращается в
Рождествено-Кацкое19, о церковных приходах XIX в. рассказывается как
о «приходах Кацкого стана»20, восстание недовольных советской вла-
стью в селе Нефедове в 1919 г. называется «Кацким восстанием»21 ит. п.
В 1998 г. газетой даже отмечалась памятная дата: «760-летие Кацких битв
с монголо-татарами»22. Разумеется, и все местные жители в КЛ предстают
как кацкари. Обращенный к читателям проникновенный голос постоянно
прямо или косвенно напоминает им: мы - кацкари. Даже в поздравлении в
связи с рождением ребенка:
Олеся - в этом имени песнь журавлей, шум весеннего леса, плеск ласковой
теплой волны в полнолунную ночь... Удивительное имя выбрали для своей
второй дочери молодые супруги Анатолий Юрьевич и Римма Викторовна
Смирновы - для кацкарей до сих пор небывалое. Когда-нибудь его точно вос-
поют в стихах, а пока - счастья тебе, маленькая Олеся!23
К особенностям КЛ можно отнести также создаваемый ее материа-
лами идиллический образ жизни кацкарей - как прошлой, так и сегод-
няшней. Мы встречаем здесь сочинения школьников о горячо любимых
ими родителях и учителях, рассказы ветеранов о давно ушедших време-
нах, поздравления с радостными событиями в жизни селян: свадьбами,
днями рождения детей, производственными успехами, юбилеями и др.
В рисуемых газетой картинах деревенской жизни не встретишь ни пьян-
ства, ни домашнего насилия, ни кричащей бедности, ни даже детского
непослушания.
Кто такие кацкари?
147
col Чужие или свои?
Темы и сюжеты в КЛ самые разнообразные, но все, безусловно, инте-
ресные и значимые для каждого кацкаря: рассказы о географии и истории
«Кацкого стана» в рубрике «Моя малая Русь»; в рубрике «Моя война» -
воспоминания земляков-ветеранов о событиях 1941-1945 гг.; сочинения
учеников Мартыновской школы и методические материалы для уроков
краеведения в рубрике «Школьный уголок»; тексты народных песен, за-
писанных со слов селян, побасенки и др. Своеобразной хроникой, фикси-
рующей большие и малые, веселые и грустные события, происходящие в
«Кацком стане», является постоянная рубрика «Листая календарь». Вот
листок этого календаря за июнь-июль 1996 г.:
3 июня. Мартыновские мальчишки бегали по деревенской улице, а за ними на
длинных веревках - выше крыш - подымались воздушные змеи.
5 июня. На Николо-Топорском кладбище хоронили Антонину Ивановну Розо-
ву. Родилась она 13 февраля 1915 года в деревне Нефине, там и жила все время.
В последние годы сильно болела. «КЛ» писала о ней. Помните: «Всякое житье
помню, во всякое время жила, а счастья не видала», - говорила она о себе.
Мы не скоро забудем Антонину Ивановну. Много рассказов о прошлом нашего
края записано с её слов, так что на страницах «КЛ» нам еще предстоит встреча
с ней.
8 июня. В Юрьевском внезапно умер Николай Семенович Румянцев из Левцо-
ва. А ведь был он еще молодой - 8 ноября справил бы 56 лет.
Справил бы... На похоронах было много речей: вспоминали его жизнь, его ра-
боту механизатором, его безотказный характер - но никакие, даже самые хоро-
шие, слова не могут притупить боль утраты и вернуть безвременно ушедшего
человека.
17 июня. У колхозников «Верного пути» был повод выпить, налить себе еще и
снова выпить - наконец-то выдали зарплату! За февраль месяц.
19 июня. Свадьба Зины Смирновой и Миши Соколова была в Ярославле, но это
не мешает нам поздравить земляков с замечательнейшим событием в их жизни!
23 июня. Провожали в армию Евгения Котяшова. Служит он в подмосковном
Наро-Фоминске, шлет весточки домой, скучает, конечно же, и ждет писем от
родных и друзей. Пожелаем ему удачи!
1 июля. Наконец-то закончились проливные июньские дожди, и колхоз при-
ступил к сенокосу.
2 июля. Выборы Президента России. По Мартыновскому избирательному
участку 100 человек проголосовало за Зюганова, 99 за Ельцина, и много было
тех, кто ставил отметку напротив графы «против всех».
8 июля. Вы знаете Бориса Михайловича Федорова, внука Николо-Топорского
священника Александра Пятницкого, племянника знаменитой учительницы
Павлы Александровны Пятницкой! Так вот, был он у нас, навестил родные места.
Всё в его жизни сложилось: он петербуржец, оружейник-реставратор, сотруд-
ник Центрального Военно-морского музея. А домой все равно хочется!24
«Великий и могучий Кацкий язык»
Именно так называется одна из рубрик КЛ, впервые появившаяся в
феврале 1995 г. С этого времени берет начало составление «кацкого ело-
Кто такие кацкари?
варя», в котором, помимо редакции газеты, принимали участие и добро-
вольцы - местные жители, присылавшие или передававшие устно забытые
и полузабытые слова.
Публикации первых статей словаря было предпослано предисловие, в
котором слышится уже знакомый нам голос, доверительно обращающийся
к читателю:
<...> «Что еще за кацкий язык! И чем он отличается от русского!» - удивится
кто-то. Да тем отличается, что несоизмеримо богаче, точнее, образнее.
Не верите! Ну что ж, читайте, убеждайтесь. Перед вами слова, многие из которых
вы с детства прекрасно знаете и употребляете, но ни за что не найдете в словарях.
Их много, только на одну букву «О» таких слов-изгоев набралось около сотни.
Некоторые из них употребляются в двух-трех селениях. <...> .Есть слова, ко-
торые бытуют по всему Кацкому стану, а есть - по всему району и даже за его
пределами. Но уж поскольку «КЛ» первая, кто их записала и дала им толкова-
ние, - суждено им навеки называться кацкими.
К сожалению, большинство этих слов забывается, уходит в прошлое, и с их ухо-
дом мы теряем кусочки истории, маленькие черточки русскости и самобытности.
Поэтому-то мы и печатаем их.
Первой в газете была представлена группа слов на букву «О»:
ОБАЛИТЬ (совершенный вид ОБАЛИВАТЬ) - окучивать, подваливать, ко- 149
нечно, чаще картофель. Так что если спросят вас: «Ты картошку-то всю обали-
ла?», не теряйтесь, отвечайте: «Обалила, обалила!»
ОБАЛКА - окучивание.
ОБАЛ - вал. «Делай обал пошире», - могут посоветовать при обалке картофе-
ля неопытному человеку.
ОБАЛИТЬСЯ - обвалиться, обрушиться, опасть23.
Нужно добавить, что словарь (он публиковался на протяжении не-
скольких лет с дополнениями и уточнениями) в итоге получился довольно
пространный. Публикация происходила группами слов на ту или иную
букву и иногда сопровождалась краткими вступительными разъяснениями
составителя:
«Кацкая летопись» продолжает собирать кацкие слова. Будучи местными, они
не вошли в большой литературный русский язык: их не услышишь с экрана
телевизора, не прочтешь в модном журнале, не найдешь даже в очень солидном
четырехтомном академическом толковом словаре. Но они бытуют в нашей •
округе; одни мы употребляем очень часто и совсем не подозреваем, что они
редкие, другие же кажутся диковинными даже для нашего уха. Литературный
язык от них отказался, и, чтобы отличить их от слов общерусских, мы смело
называем их кацкими.
Нет нужды объяснять смысл собирания и публикаций этих самых кацких
слов - иное из них уведет в тысячелетнюю даль, лучше всяких учебников рас-
скажет о прошлом наших предков; другое просто очень красиво звучит, и нам
жаль расстаться с ним. В февральском номере мы поместили слова на букву
Чужие или свои?
«О», в мартовском - «Т». Как мы и предполагали, наш словарь оказался далеко
не полным. Читатели нашли и сообщили еще много местных слов, которые мы
решили опубликовать в этом выпуске газеты26.
Сам С.Н. Темняткин выступает в качестве не только собирателя «кац-
кого диалекта» и его исследователя, но и горячего сторонника его сохра-
нения. Именно эти две стороны его деятельности были представлены на
XI Опочининских чтениях в г. Мышкине в докладе, который назывался
«Посидим, поёкаем! (Характеристика кацкого диалекта)»27. В нем анали-
зировались фонетика, морфология, ударение, словообразование, лексика,
синтаксис кацкого диалекта, а в заключительной части рисовалась драма-
тическая картина его постепенного исчезновения и выражались надежды
на помощь государства и «широкой общественности» в его спасении:
Кацкий диалект, безусловно, исчезает. Вернее, теряет своё качество...
Каждое новое поколение все больше разрушает его...
Возможно ли сохранить кацкий диалект? Частично - да. <...> Именно в таком
ключе и работаем мы сейчас в Мартынове, создавая, скажем так, литературный
вариант кацкого диалекта...
Разрушение диалектов (любых, не только кацкого) зашло так далеко, что не
обойтись без помощи государства, без поддержки широких слоев обществен-
ности...
150
Заканчивался доклад окрашенной в апокалиптические тона характер-
ной почвеннической риторикой и призывом к решительным действиям:
Как Волга питается водой с притоков, так и «живой великорусский» создаётся
из диалектов28. Иссякнут диалекты - померкнет и литературный язык. Что, в
общем-то, сейчас и происходит: русский литературный язык все более одното-
нен, полон шаблонов, уже не может защититься от атаки иностранных языков.
Пора бить тревогу!
Тут, очевидно, совершенно необходимо сделать отступление и пред-
ставить иные мнения о «великом и могучем» кацком диалекте сторонних
наблюдателей. В упоминавшемся выше отчете фольклорной экспедиции
кафедры общего языкознания филологического факультета СПбГУ 2001 г.
о нем как о языковом явлении говорится осторожно и неоднозначно. По
мнению его авторов, в лексике и употреблении отдельных конструкций
русского языка у жителей Мартынове и др. деревень на р. Кадка заметны
некоторые особенности, но дать им более или менее точное лингвистиче-
ское определение оказывается затруднительным:
Наиболее убежденные сторонники кацкого языка склонны видеть кацкизмы
во вполне обычных словах русского литературного языка, а также в любых
отклонениях от нормы: разговорных, просторечных, детских словах и кон-
струкциях. Для них практически любое слово является словом кацкого языка,
и они убеждены, что говорят на кацком языке. В этом смысле, вероятно, можно
говорить о кацком языке как социолингвистической реальности29.
Более определенное заключение дается в работе А.Ю. Зарецкой «Выяв-
ление статуса языка кацкарей»30. Проведя анализ состава Кацкого словаря
по материалам, опубликованным в КЛ, ее автор приходит к однозначному
выводу: не существует причин для того, чтобы говорить не только о языке
или диалекте, но даже об особом говоре кацкарей как отличном от других
говоров Поволжья: «На основе проделанного анализа языка кацкарей
можно выявить некоторые черты, отличные от других говоров, входящих
в те же языковые подразделения». Однако эти черты «не являются суще-
ственными для выделения отдельного говора», поскольку они «не пред-
ставляют единой системы» и их границы «не образуют пучки изоглосс,
которые должны быть отличительными признаками говора». Следователь-
но, заключает автор, «нельзя говорить о существовании кацкого говора»31.
Но это, так сказать, в теории. На практике же очевидно, что собранные
С.Н. Темняткиным необычные для большинства носителей русского язы-
ка слова действительно употребляются жителями деревень на р. Кадка.
Кацкая история
Как и идея общего языка, идея общего прошлого считается осново-
полагающей для возникновения устойчивой групповой идентичности
и сплочения людей в этнические сообщества. Как пишет современный
автор, «рассказ о “собственном” прошлом дает отдельному человеку пред-
ставление о традиции и величии сообщества и снабжает его сведениями
о существенных чертах, конституирующих группу»32. Примечательно, что
огромную часть публикуемых в КЛ материалов составляют материалы
исторические. Картину общего кацкого прошлого рисуют рассказы старо-
жилов, ссылки на труды историков, публикации разнообразных архивных
документов, связанных с местной историей. Механизм превращения всех
этих свидетельств в «свои» уже был обозначен выше понятием «при-
своение». В данном случае это «присвоение прошлого» осуществляется
простым добавлением ко всем публикуемым материалам определения
«кацкий». В результате «своим», кацким, становится практически все, что
так или иначе было связано с жизнью людей в бассейне р. Кадка на про-
тяжении столетий и даже тысячелетий.
В нашем случае, однако, специальный интерес вызывает связный рас-
сказ о прошлом кацкарей, в частности то, как выстраивается перед чита-
телями КЛ история их происхождения. Первый опыт написания такого
рассказа в летописно-былинной форме относится примерно к тому же вре-
мени, что и начало составления словаря кацкого языка. Две статьи, в кото-
рых эта версия была изложена С.Н. Темняткиным, имеют подзаголовок:
«Я плен веков разорвал»33.
Первая называется довольно неожиданно - «Расскажи мне сказку» - и
имеет подзаголовок «Попытка № 1» (судя по всему, под «сказкой» тут под-
разумевается не вымысел, а особая сказительная форма изложения кацкой
истории). Автор позволяет себе изредка включить в изложение событий
воображаемые картины (когда других сведений у него нет), выразить
легкую иронию, пошутить, но в целом это, безусловно, рассказ о том, «как
было на самом деле».
Кто такие кацкари?
151
fol Чужие или свои?
Начинается этот рассказ с «зачина» о доисторическом прошлом Кац-
кой земли:
Хочу начать как в сказке: давным-давно...
ДАВНЫМ-ДАВНО наш Кацкий уголок нежился в субтропиках. А что, все
Мартынове было огромным бамбуковым лесом, лишь на Прогоне рос одино-
кий баобаб, Юрьевское окружали труднопроходимые рощи из большущих
хвощей да плаунов, да папоротников, а у Нефина... Впрочем, попробуйте сами
догадаться, что творилось в ту пору у Нефина. Трудновато, конечно, вообра-
зить эдак стадо слонов, неторопливо бредущих по сирой нашей Поповке, или
семейство носорогов, залезших от несносной июльской жары в Мелёшкин
пруд. Но, наверное, так и было: субтропики, что с них возьмешь?
Жаль, длилось это счастье не вечно. Лет 100 80 тысяч назад огромным утюгом
прошелся по нашей местности ледник. Он буквально отутюживал поверхность
земли, забирая с собой верхний ее слой, ровняя возвышенности и низменности.
Один Бог ведает, что снес или что засыпал ледяной господин в наших краях.
<...> Но и ледник навсегда не остался. Около 20 тысяч лет назад на планете
наступило заметное потепление, и он растаял, оставив после себя огромные
валуны да груды песка. Пройдут сотни лет, и эти пришельцы обзаведутся рас-
тительностью, а еще через тысячу - скроются под слоем перегноя, превратясь в
привычные нам взгорки да холмы.
<...> Наши места, скорее всего, оказались заливчиком Рыбинского моря. А за-
тем, когда оно обмелело (как-никак Волга воду спускала!), залив превратился в
озеро. Его волны плескались над современным Морским болотом, Масловым с
Воскресенским да Родионовым; а может быть, и над Богородским с Рождестве-
ным. Мартыновский сельсовет, территория которого повыше, наверняка был
южным побережьем того доисторического озера. Шли дожди. Озеро полнело и
полнело; в конце концов, вода нашла себе сток. Образовался ручей. Он мужал,
ширил себе русло - так возникла река Кадка...
Затем в рассказе появляются люди:
<...> Слов сказано много, и потому можно сделать первый вывод: современ-
ный рельеф Кацкой земли сформировался в послеледниковый период, лет
15-20 тысяч тому назад.
А теперь, когда мы разобрались с ландшафтом, поговорим о человеке. Действи-
тельно, а когда он впервые забрел в наши места?
Мышкинские краеведы считают, что у них там человек появился 12 тысяч лет
до нашей эры. Обследовав стоянку Федюково-1 в устье речки Сондры, они
пришли к выводу, что первые люди попали к нам с реки Десны, левого притока
Днепра.
Поверим Мышкинским краеведам и предположим, что и у нас человек обо-
сновался примерно в то же время. Хотя не будем спорить: может, чуть позже.
Или раньше.
<...> Так что где-то здесь, на высоких кацких кручах, можно поискать жилища
наших прапра... То были круглые ямы диаметром от 4 до 6 метров и глубиной
около метра. В центре ямины находился очаг, сложенный из камня. Ямы пере-
крывались коническими крышами, покрытыми, вероятно, шкурами животных
Кто такие кацкари?
или берестой и засыпанными землей, Да это самые настоящие землянки! Вот
где прозябали несчастные...
Наконец, автор обращается к особенно интересующему нас вопросу
этнического происхождения кацкарей:
<...> Вы спросите, люди какой национальности жили тогда на Кадке? Зря
спросили. Далекие наши предки были настолько дики, что ученые совершенно
справедливо называют их коллектив стадом. А стадо, как это ни обидно, есть
стадо: даже отца ребенка с точностью указать не могли, вели родство по матери
(матриархат) - а вы говорите, национальность.
Вопрос о происхождении кацкарей получает развитие во второй ста-
тье того же автора («Попытка № 2»). Ее название «Откуда есть пошла
Кацкая земля» более привычно для летописного жанра и более непосред-
ственно связано с интересующим нас сюжетом - историей происхожде-
ния34. Статья также написана в свободной манере беседы с воображаемым
слушателем, также полна юмора и мягкой иронии и также имеет черты
летописного сказа.
По мнению автора, этнические «корни» кацкарей восходят к автохтон-
ному населению этой местности - мери, что подтверждается его филологи-
ческими разысканиями:
153
Люди, жившие по Кадке полторы тысячи лет назад, не умели говорить
по-русски. Молчать они тоже не могли и поэтому общались на чистейшем
мерянском языке. А как же иначе: не позднее VI века нашей эры на землях
современных Ярославской, Владимирской, Костромской и Ивановской об-
ластей сложилась родственная финнам народность меря.
<...> Мерянское племя, обитавшее в наших краях, называло себя вот так - кад-
ка. А может, чуть-чуть и по-другому. Вслушайтесь, как звучали имена финских
народностей: весь, емь, чудь, водь, вядь... Последняя, кстати, дала прозванье
реке Вятке, которое сначала так и писалось: «Вядка». Порассуждаем аналогич-
но и дойдем до того, что название реке Кадке дало племя кадь. В пользу наших
предположений еще одно наблюдение: вплоть до конца 16 столетия под словом
«Кадка» прежде всего подразумевали не саму реку, а земли, расположенные по
берегам ее.
Второй этнический исток нынешних кацкарей - славяне:
<...> Чувствую, мне начинают не доверять: «Да что ты все о мери толкуешь!»
Вижу, как крестят лбы неистово, вздыхают с облегчением: «Мы, слава те Го-
споди, русские!» Что ж, разберемся, какие мы русские...
К западу и югу от мерян жили восточные славяне. Они тоже не были едины и
также делились на десятки племен. Мы запомнили два: кривичи с центром в
Смоленске и словене вокруг Новгорода. Запомнили? Ну и хорошо, это и есть
наши предки.
Первыми, от кого услышали кацкари русскую речь, были купцы. Снуя на своих
ладьях по великим и малым рекам, они торговали, конечно же, а потом манили
Чужие или свои?
соплеменников рассказами о щедрых на лесные богатства краях с редким и
вполне миролюбивым населением.
<...> Сонную гладь кацкой воды расплескали весла... славян - смоленских
кривичей. Поднявшись по Волге до Корожечны, они попали на Кадку и об-
наружили местность, своими лиственными лесами и безлесными простран-
ствами похожую на их родные дубровы и лесостепи. А может, переселенцы не
случайно сюда попали: у тех же купцов вызнали, что есть-де на Верхней Волге
подходящие слабозаселенные места.
Эти два народа и являются предками нынешних кацкарей:
Произошло это где-то в IX веке нашей эры. Именно тогда начало складываться
современное население, то есть мы. Иными словами, мы потомки коренного
финского племени кадка и пришлого славянского племени кривичи. Есте-
ственно, позднее к нам добавилась кровь соседних новгородских словен и со-
всем даже не соседних киевлян.
Внимательный читатель, несомненно, заметит, что, как и в случае с боль-
шими национальными историческими нарративами, «изобретающими»
прошлое того или иного народа, о придумывании этого прошлого в чистом
виде тут говорить не приходится. Автор истории происхождения кацкарей,
безусловно, использует научные данные и в целом не противоречит на-
учной картине истории региона. «Кадка» как название местности, напри-
мер, действительно встречается в документах XV в.35, а во времена Ивана
Грозного в Угличском уезде действительно существовала волость Кадка36.
Безусловно подлинными являются и разнообразные архивные документы,
опубликованные в КЛ. Вопросы (помимо не совсем обычной для научного
изложения формы) могут вызвать лишь некоторые акценты и детали рас-
сказанной читателям КЛ кацкой истории.
С.Н. Темняткин
Как не раз упоминалось выше, автором большинства опубликованных
в КЛ материалов, включая историю происхождения кацкарей, а также
составителем «Кацкого словаря» является один человек - уже знакомый
нам председатель краеведческого клуба «Кацкая летопись», лауреат пре-
мии «За подвижничество» фонда им. Д.С. Лихачева, областной премии им.
Тихомирова I степени за «заслуги в развитии музейной работы и краеведе-
ния», обладатель других премий и наград С.Н. Темняткин37.
С Сергеем Николаевичем я впервые встретился летом 2005 г., когда о
кацкарях еще ничего не знал, в г. Мышкине на проводившейся Опочинин-
ской библиотекой конференции «“России. Людям. Вечности” (Д.С. Ли-
хачев и русская культура)». Его доклад, имевший удивительное название
«Идеи придумываются... (Из опыта построения кацкой этнической общно-
сти на рубеже XX-XXI вв.)» произвел на меня очень сильное впечатление.
Невозможно было не обратить внимания на самого докладчика, его манеру
говорить, на особую модальность его речи, в которой звучали одновремен-
но искренность, открытость, теплота, удивление, едва скрываемая ирония.
К тому же им описывались поразительные примеры возникновения «но-
вой этнической общности». Первым впечатлением было изумление от того,
о чем говорил докладчик, в особенности от мастерски представленных
слушателям живых свидетельств «явления миру» кацкарей. Вторым, не
вполне отчетливым, - чувство сомнения, ощущение какой-то театрально-
сти описываемых событий.
В докладе сообщалось (помимо некоторых свидетельств, с которыми
читатель этой статьи уже знаком из приведенных выше газетных публи-
каций), что начало формирования «этнокультурной общности» у жителей
бассейна р. Кадка (около 2000 человек) совпадает с созданием в 1992 г.
клуба «Кацкая летопись»; что теперь почти все они считают себя и назы-
вают кацкарями (например, ребята, уехавшие учиться в город, именно так
представляются своим однокашникам), имеют общую мифологию (один
из главных ее персонажей - Белая Корова, символизирующая Солнце) и
общих героев (среди них помещик Батурин, священник Иоанн Голиков,
крестьянин, не выговаривавший «р» и «л» и, чтобы не показывать свою
ущербность, не употреблявший слова с этими звуками, и др.). В докладе
говорилось, что некоторые местные жители убеждены даже в существо-
вании особой кацкой породы кур, что неофициальное название их района
«Кацкий стан» им больше нравится, чем официальное «Мартыновский
куст», и много других любопытных свидетельств (воз)рождения кацкой
идентичности.
К концу доклада все услышанное от С.Н. Темняткина воспринималось
как живое, эмпирически очевидное доказательство правоты конструк-
тивистского понимания этноса (подробнее о нем пойдет речь дальше).
Казались совершенно ясными и конкретные социально-экономические
и политические обстоятельства, «породившие» кацкарей (потребность в
новой идентичности у всеми забытого населения российской глубинки в
условиях постсоветской разрухи), и роль в рождении этой новой идентич-
ности С.Н. Темняткина (в рассказанной им истории он сам выглядел как
интеллектуал, чья благородная деятельность по изучению «исторических
корней» привела к формированию этнического самосознания). Необыч-
ность и особая привлекательность ситуации виделись в том, что формиро-
вание этой этнической идентичности относится не к далекому прошлому,
а к нашему времени, что мы его можем наблюдать и сейчас, так сказать,
непосредственно.
Нужно, однако, добавить, что беседы о кацкарях с мышкинцами в ку-
луарах конференции (это были краеведы, библиотекари, учителя) застави-
ли несколько усомниться в безусловной правильности такого восприятия
услышанного. О своих соседях мышкинцы, как правило, говорили не очень
охотно, осторожно подбирая слова. Изредка высказывалось и скептическое
отношение к «феномену кацкарей», по сути сводившееся к следующему
заключению: «Все дело тут в чьих-то личных амбициях и финансовой сто-
роне дела». Такая реакция явно противоречила первоначально сложивше-
муся впечатлению о появлении «этнического сообщества» в ярославской
глубинке и усложняла понимание того, что же случилось с жителями
Мартыновского куста в последние годы на самом деле. Не является ли это
«этническое сообщество» искусственной конструкцией или вообще фанта-
Кто такие кацкари?
155
Чужие или свои?
зией журналистов и некоторых ученых? Или, может быть, кацкари суще-
ствуют, но их явление миру следует рассматривать не как «естественный
процесс», а как результат поддержки жителями нескольких населенных
пунктов сознательной деятельности одного человека?
Лицо кацкой национальности?
Обозначения народов
Очевидно, что люди, живущие на нашей планете, не все одинаковы:
каждый отличается от любого другого по множеству самых разных при-
знаков. Также очевидно, что они более-менее объединены в группы и
каждая из этих групп отличается от любой другой. Отличиями в каждом
конкретном случае могут быть место обитания, язык, какие-то внешние
признаки, обычаи, традиционные одежды, кухни и др. Существует и обще-
известное универсальное обозначение этих групп - «народ».
В XIX в., когда начали складываться современные науки, появилась
и этнография (от греч. ethnos - народ и grapho - пишу, описываю), ко-
торая стала изучать разные народы, преимущественно находящиеся на
«дописьменной стадии развития». Позднее, однако, стало очевидно, что
дело заключается не только в том, чтобы описать обычаи и нравы разных
___ народов, но и понять сам феномен народа. Тогда возникла выделившая-
156 ся из этнографии этнология (от греч. logos - знание). В последнее время
понятие «этнология» как область научного знания все чаще замещается
более широкими понятиями культурной и/или социальной антрополо-
гии (от греч. anthropos - человек). Нельзя не заметить, что, несмотря на
многочисленные открытия ученых-этнографов (этнологов, антропологов),
позволившие нам сегодня лучше понимать и настоящее человеческой «се-
мьи», и ее прошлое, а также на плодотворное влияние их исследований на
разные области гуманитарного знания, некоторые базовые общие понятия,
используемые антропологами, в том числе и само понятие «этнос», по-
прежнему вызывают у них острые споры.
Если на время отвлечься от обсуждения содержания этих понятий в
ученом мире (об этом речь пойдет дальше) и обратиться к нашей повсед-
невной жизни, станет очевидно, что дело тут обстоит еще сложней. В пони-
мании того, что такое народ, и в способах обозначения тех или иных групп
людей происходит чудовищная неразбериха. Более того, выясняется, что
сегодня в разных обществах существуют не только разные представления
о том, что следует считать народом, но и разные обозначения одних и тех
же народов. Ко всему еще в одном обществе, как правило, существуют не-
сколько пониманий того, что такое «народ» вообще, часто весьма далеких
от научного истолкования, но необычайно влиятельных социально и по-
литически.
По-видимому, самым простым будет сказать, что народ/этнос - это
сообщество людей, члены которого прежде всего осознают свое единство
и отличия от остальных, а кроме того, признаются другими людьми как
особые, т. е. отличные от них. Основу же единства этого сообщества со-
ставляют культурные, поведенческие, языковые, религиозные, обрядовые
характеристики, а также происхождение и родственные связи. Процесс
складывания такого сообщества людей называют этногенезом. Однако
определения, даже хорошие, мало что способны объяснить. Тем более что
понятие «этнос», по общему признанию ученых, тесно переплетается с
другими, такими, например, как «нация», «национальность» или «раса», и
нередко используется как их синоним. Понятие «этнос» может совпадать с
понятием «нация» - в тех случаях, когда национальная идентичность осно-
вывается на признании общности происхождения, а не на принадлежности
к сообществу граждан одного государства (в таком случае считается, что в
национальном государстве могут существовать «титульная нация» и «не-
титульные», т. е. все остальные). Признание общности происхождения, в
свою очередь, ведет к идее биологического родства, т. е. сближает понятия
«этнос» и «нация» с понятием «раса». Тогда человек может говорить о сво-
ей этнической принадлежности как о «национальности», что мы сплошь
и рядом видим у нас сегодня. Когда же понятия «этнос/раса» и «нация/
национальность» разделяются, мы имеем иную картину, как, например, в
современных США.
В качестве наглядной иллюстрации разного понимания того, что зна-
чит «национальность», приведу одну историю, в правдивости которой у
меня нет оснований сомневаться. Летом 1985 г., когда в Москве проходил
Всемирный фестиваль молодежи и студентов, собравший представителей
левых молодежных организаций из разных стран, чернокожий америка-
нец X познакомился с русской девушкой N, и они поженились. Но самое
важное (для нас) произошло тогда, когда X решил сменить гражданство
и пришел в паспортный стол писать заявление на выдачу советского па-
спорта. Ответив на все пункты анкеты, включая злополучный пятый, он
вручил ее паспортистке и через некоторое время услышал от нее примерно
следующее: ну, что же ты, сынок, тут написал про национальность, какой
же ты американец, ты же негр, ну посмотри ж на себя...
X сначала растерялся, но через некоторое время, все же справившись
с замешательством, заявил паспортистке, что она ошибается - он самый
настоящий американец. Чтобы развеять все сомнения на этот счет, он до-
стал из кармана документ с одноглавым орлом на темно-синей обложке,
раскрыл его и в третьем по порядку (после фамилии и имени владельца)
пункте «nationality» значилось «United States of America». Паспортистка,
разумеется, признавать написанное в иностранном документе не захоте-
ла, и после непродолжительных препирательств молодоженам ничего не
оставалось, как вернуться домой. В конце концов все закончилось благопо-
лучно - усилиями многих людей противоречие удалось каким-то образом
разрешить, и число граждан СССР увеличилось на одну единицу.
Совершенно очевидно, что «национальность/nationality» понималась
обеими сторонами спора совершенно по-разному. X вкладывал в него
свой смысл - для него оно однозначно соотносилось с гражданством, а
паспортистка свой - для нее это была этническая или расовая принад-
лежность, наиболее явным признаком которой являлся цвет кожи юного
американца.
К сказанному можно добавить несколько замечаний исторического ха-
рактера. Прежде всего, что большинство понятий, употребляемых сегодня
Кто такие кацкари?
157
Чужие или свои?
для обозначения народов, сформировались в ходе европейской колони-
альной экспансии Нового времени и до нее не существовали. В XIX в. в
этом формировании произошел важный поворот: слияние понятий «раса»
и «нация» (в частности, под влиянием идей И.Г. Гердера) и появление
идеологии этнического национализма. Наиболее известные примеры во-
площения этой идеологии - образование единого германского государства
в 1871 г. и нацистский Третий рейх: в обоих случаях утверждалось, что
правители создают новые государства на землях, на которых искони жили
их народы (в одном случае «немцы», в другом «арийцы»). Тут важно доба-
вить: современная наука собрала немало свидетельств, доказывающих, что
часто декларируемая укорененность в глубоком прошлом и преемствен-
ность истории той или иной этнической группы, на которых основывают
свое единство ее представители, во многих случаях не имеют убедительных
подтверждений. Больше того, ученые обнаружили, что многие «признаки»,
которые рассматриваются сегодня как очевидные общие символические
«маркеры», консолидирующие тот или иной народ, являются сравнитель-
но недавним изобретением38. Но это все же наука, а ведь ученые книжки
обычно читают немногие.
В России
Из этих самых общих размышлений о способах обозначения народов
158 очевидно, что найти для кацкарей подходящее определение оказывается не
так-то просто. Чтобы хоть отчасти приблизиться к этой заветной цели, важ-
но для начала попытаться уяснить, какие понятия наиболее часто использу-
ются для обозначения народов в современной России и как они появились.
И тут можно с большой долей уверенности утверждать, что принятые у
нас сегодня маркеры общностей людей самым непосредственным образом
связаны с вполне определенными обстоятельствами политической истории
нашей страны XIX-XX вв.
Мы не имеем ясной картины того, на основании каких критериев обо-
значались народы в дореволюционной имперской России. Очевидно, четких
критериев для такого рода обозначения просто не существовало ни в науке,
ни в законодательстве, ни в практике государственного управления, ни в
общественном сознании. В России еще во времена Пушкина одним словом
«арап» называли и арабов (откуда и происходит корень слова), и чернокожих
жителей Африки. Однако мы определенно знаем из разных исторических
источников, включая классические образцы русской литературы XIX в.,
что в России жили великороссы, горцы, евреи, малороссы, немцы, поляки,
татары и др. Это отсутствие определенности в значительной степени было
связано с тем, что в официальных государственных актах правительства цар-
ской России понятия, которые были бы близки к обозначению этнической
принадлежности, как правило, не значились. Программа Первой всеобщей
переписи населения Российской империи 1897 г.39 включала, например,
15 признаков (отношение к главе хозяйства и к главе своей семьи; возраст;
пол; брачное состояние; сословие; состояние или звание; место рождения;
место прописки; место постоянного жительства; отметка об отсутствии
или временном проживании; вероисповедание; родной язык; грамотность и
обучение; занятие, ремесло, промысел, должность или служба; физические
недостатки), но ничего похожего на принадлежность к тому или иному
«народу» или «национальности» среди них не было. Скорее всего, такая
принадлежность властям, озабоченным в первую очередь фискальными и
демографическими проблемами, была просто неинтересна40.
В послужных списках, государственных свидетельствах и паспортах
главным критерием соотнесения индивида с той или иной общностью
было вероисповедание. При этом родовая, т. е. «этническая» или «расовая»
(разумеется, этих слов тогда еще в употреблении не было), принадлеж-
ность была факультативной. Евреями, например, считались те подданные
Российской империи, которые исповедовали иудаизм. Если кто-нибудь из
них принимал православие, то с него автоматически снимались имевшиеся
в отношении евреев юридические ограничения и формально-юридически
он мог пользоваться всеми правами православных («русских») подданных
Е.И.В. Если же он также менял при крещении фамилию, то и «по бумагам»
ничем от них не отличался. Некоторое время, впрочем, Министерство вну-
тренних дел требовало в подобных случаях делать в паспортах и других
официальных документах приписку «из евреев», что создавало новообра-
щенным определенные проблемы, но в 1906 г. эта приписка была отмене-
на41. В целом «еврейскость» понималась российским обществом в первую
очередь как религиозная принадлежность, затем как некий «внутренний
дух и как образ жизни» и только в последнюю - как свойство «народа»,
в физическом и психологическом отношении отличного от большинства
населения42.
Хорошо знакомые нам понятия «нация» и «национальность» вошли
в наш политический, научный и повседневный лексикон в значительной
мере благодаря российским социал-демократам, которые, как известно,
были довольно хорошо знакомы с современной им западной обществен-
ной наукой (преимущественно немецкой). Принципиальное значение для
введения в обиход этих понятий имела знаменитая статья И. В. Сталина
«Марксизм и национальный вопрос». Е1аписанная в Вене в 1913 г., она по-
сле победы большевистской революции превратилась не только в «азбуку»
национального строительства, но и в важнейший инструмент укоренения
новых понятий в русском языке43. Е1ужно добавить, что многие базовые
положения этой статьи не слишком оригинальны - они фактически сум-
мируют осмысление понятия «нация» в немецкой науке второй половины
XIX - начала XX в. Однако Сталину удалось превратить эту «сумму» в
ясные чеканные формулы, причем сделать это настолько профессиональ-
но, что на его определение «нации» этнологи ссылаются и сегодня как на
пример понимания «нации» наукой конца XIX в.
Сталинское определение нации, впрочем, некоторым читателям этой
статьи может показаться и сегодня актуальным (или, во всяком случае,
хорошо знакомым и понятным): «Е1ация есть исторически сложившаяся
устойчивая общность людей, возникшая на базе общности языка, терри-
тории, экономической жизни и психического склада, проявляющегося
в общности культуры»44. Сталин отмечал, что его определение имеет
«жесткий» характер, т. е. «работает» только как целое. «Необходимо под-
черкнуть, - писал он, - что ни один из указанных признаков, взятый в от-
Кто такие кацкари?
159
о I Чужие или свои?
дельности, недостаточен для определения нации. Более того, достаточно
отсутствия хотя бы одного из этих признаков, чтобы нация перестала быть
нацией»45. Еще одной важной отличительной особенностью сталинской
трактовки понятия «нация» было признание ее историчности и неизбеж-
ности ее исчезновения в будущем коммунистическом обществе: «...само
собой понятно, что нация, как и всякое историческое явление, подлежит
закону изменения, имеет свою историю, начало и конец»46.
После прихода к власти большевиков постепенно стала складываться
определенность в обозначении различных этнических сообществ, из ко-
торых состояла бывшая Российская империя, а теперь РСФСР-СССР.
В принятой 2 (15) ноября 1917 г. «Декларации прав народов России», по-
мимо понятий «народ» и «национальность», употреблялись также понятия
«национальное меньшинство» и «этнографическая группа» (по-видимому,
для обозначения численно меньших общностей)47. В позднесоветский
период в обществознании прочно укоренилась марксистская эволюцио-
нистская схема развития «исторических общностей людей», состоявшая из
четырех элементов: род - племя - народность - нация. К ней партийными
идеологами и обществоведами добавлялся пятый элемент - «новая исто-
рическая общность советский народ», пришедшая на смену буржуазной
«нации».
Что касается понятия «национальность», то оно стало постепенно
приобретать все большую значимость начиная с 1926 г., после того как
было внесено в опросный лист Всесоюзной переписи населения48. Теперь
(впервые в нашей истории!) каждый житель СССР не просто услышал
это слово из «уст» новых властей, но был обязан идентифицировать себя
с той или иной национальностью/народностью. В итоге государственная
власть получила картину «национального состава населения СССР»49,
необходимую для выработки ею «национальной политики», призванной
способствовать «расцвету социалистических наций», освобожденных от
прежнего угнетения в составе Российской империи («тюрьме народов»),
и, в соответствии с эволюционистскими представлениями идеологов на-
ционального строительства, слиянию отдельных народностей в «нации»50.
По-видимому, особый акцент властей на «национальности» был также
обязан исчезновению в революционном советском государстве, руковод-
ствующемся атеистической идеологией, такого официального маркера со-
циальной идентичности, как «вероисповедание», прежде бывшего одним
из важнейших для стратификации населения империи и осуществления
царским правительством социальной политики.
Введение в 1932 г. в СССР паспортной системы с соответствующей
графой окончательно сформировало и на десятилетия «зацементировало»
советское понимание «национальности». Хотя и не сразу. Первоначально
каждый гражданин СССР при получении паспорта был волен указать в
графе «национальность» ту, к которой он сам себя относил независимо от
места рождения, происхождения, вероисповедания, родного языка и др.
Однако очень скоро, уже с конца 30-х годов, в СССР «национальность»
стала пониматься почти исключительно как родство по крови. Никакой
личной свободы в определении собственной идентичности не допускалось,
знание языка, обычаев и т. п. отходило на второй и третий планы, и именно
родство по крови становилось важнейшим признаком принадлежности к
той или иной «национальности» - во всяком случае, именно указания на
такое родство требовали различные инструкции, анкеты и повседневные
практики.
Юрий Слезкин в книге «Эра Меркурия» приводит отрывок из доку-
мента, характерного для понимания советскими властями этого времени
(а вместе с ними и подавляющим большинством советских людей) «нацио-
нальности» как чисто биологической, генетической общности, принадлеж-
ность к которой отдельного человека можно установить, следуя опреде-
ленным процедурам. Этот документ - специальная инструкция НКВД от
2 апреля 1938 г., такие процедуры прописывающая:
Если родители немцы, поляки и т. д., вне зависимости от их места рождения,
давности проживания в СССР или перемены подданства и друг., нельзя за-
писывать регистрирующегося русским, белорусом и т. д. В случаях несоответ-
ствия указанной национальности родному языку или фамилии, как, например:
фамилия регистрируемого Папандопуло, Мюллер, а называет себя русским,
белорусом и т. д., и если во время записи не удастся установить действитель-
ную национальность (курсив мой. - Ю. 3.) регистрирующегося, графа о нацио-
нальности не заполняется до предоставления заявителями документальных
доказательств51.
В конце концов в послевоенном СССР каждый молодой человек 16-ти
лет, получая паспорт (как и наш знакомый американец X), был обязан
ответить на вопрос о своей национальности. Сделать это нужно было на
основании другого документа, который полагалось предъявить, - сви-
детельства о рождении, где были указаны имена его родителей и их «на-
циональности», вписанные на основании соответствующих записей в их
собственные паспорта. Если национальности родителей были разными, то
молодой человек мог выбрать одну из двух (этой возможностью выбора
либо отцовской, либо материнской линии и ограничивалась его свобода
этнической самоидентификации). В общем, такая практика вполне под-
тверждает заключение, сделанное историком: в СССР «личная националь-
ность стала исключительно вопросом крови»52.
В итоге к концу советского периода для обозначения народов в СССР
сложилась иерархическая система понятий, основанная на идеях био-
логического родства и эволюционного развития. Из них «наиболее “раз-
витые” (и, как правило, относительно многочисленные) получили статус
“наций”, в советский период - с уточняющим определением: “социали-
стических”. Ниже в данной иерархии располагались народы и народно-
сти, некоторые из которых, как предполагалось, превратятся со временем
в нации, другие же “растворятся” в более крупных нациях, т. е. будут асси-
милированы»53. Параллельно было введено понятие «новая историческая
общность», характеризующее социалистическое общество и включающее
все народности, проживающие в СССР, - «советский народ»54. Согласно
официальной идеологии в результате «сближения социалистических на-
ций» это понятие должно было постепенно вытеснить все остальные за их
ненадобностью.
Кто такие кацкари?
161
ю I Чужие или свои?
В постсоветское время такая картина «национальных общностей» и
критерии их обозначения подверглись резкой критике со стороны россий-
ских ученых и вместо понятий «нация» и «национальность» в научный
оборот стали вводиться принятые в мировой науке понятия «этнос», «эт-
ническая группа» и др.55 Однако трудности с овладением новым понятий-
ным аппаратом и его использованием, вставшие перед исследователями,
оказались весьма серьезными. Так, например, один из этнографов, говоря о
собственных эмпирических исследованиях, откровенно признавался:
В процессе анализа результатов нескольких серий полевых исследований мы
столкнулись с большими сложностями в интерпретации целого ряда таких
фундаментальных понятий, как «национальная идентичность», «этническая
идентичность» и «идентичность вообще». И дальше: «...надо признать, что
существует большая путаница с использованием этих понятий, причем и в по-
литической, и в исследовательской практике. То, что в России это путается,
это нормально, это естественно. Мы живем в ситуации взрывов языков, дис-
курсов, институций и, конечно, сценариев идентичности. Все смешалось, и в
рамках повседневности действительно можно говорить и так и эдак - ничего
не меняется56.
Но это то, что касается проблем российского научного сообщества.
В государственно-политической и широкой общественной практике обо-
значение этнических групп и понимание их природы в постсоветское вре-
мя не претерпело серьезных изменений. «Что стоит хотя бы первая строка
нынешней Конституции, - отмечал в связи с этим В.А. Тишков, - “Мы,
многонациональный народ Российской Федерации”. Эти старые клише
“многонациональности” из советских деклараций, когда за них не нужно
было платить процедурой реализации, перекочевали в совершенно новую
политическую ситуацию более ответственных смыслов...»57
Одновременно в околонаучной литературе и публицистике старый
советский понятийный аппарат, смешавшись с новым (понятие «этнич-
ность»), стал все чаще использоваться для построения откровенно расист-
ских теорий58 (что, нужно добавить, было абсолютно невозможно в совет-
ские времена, когда на протяжении десятилетий велась пропагандистская
кампания, прославляющая интернационализм и разоблачающая расизм и
расовую дискриминацию в США и других странах). Показательным явле-
нием в этом отношении является недавняя книга В.Д. Соловья «Русская
история: новое прочтение» (М., 2005)59. В ней автор утверждает, что ему
удалось открыть «естественно-научное основание» античности вообще и
«русскости» в частности: таким основанием является определенный «био-
химический субстрат», заключенный в крови60. Для разъяснения своего
открытия В.Д. Соловей широко употребляет некоторые понятия, исполь-
зуемые в современном научном знании, как, например, «этнос», «архетип»,
«генетика», «биохимия» и даже «дискурс». Однако, по сути, его аргументы
не говорят ничего нового по сравнению с «научным расизмом» XIX в., как
известно, вполне без этих понятий обходившимся61.
Очевидно, что сегодня в нашей повседневной жизни не только понятия
«нация» и «национальность», но и понятие «этнос», а также его произвол-
ные оказываются сильно окрашенными в расовые, «кровяные» тона. Как
свидетельствуют новейшие опросы социологов, «представление о биологи-
ческой природе этничности остается по-прежнему широко распространен-
ным, чтобы не сказать доминирующим, в общественном сознании росси-
ян»62. Примечательно, что россияне склонны придавать больше значения
своей этнической/национальной принадлежности (читай - кровному
родству), чем гражданской/государственной63.
Таким образом, можно заключить, что в общественном сознании пред-
ставления о содержании понятий «нация», «национальность», «этнос»
с середины 1980-х годов мало изменились. Правда, исчезло понятие «со-
ветский народ» и появилось новое - «россияне». Но как и то не играло
существенной роли в публичном дискурсе (за исключением официальной
риторики), так и это остается в нем маргинальным. Во множественном
числе еще куда ни шло («мы - советские люди», «мы - россияне»), но в
единственном, особенно от первого лица, т. е. когда осуществляется акт са-
моидентификации, как-то не получается. Вряд ли многие из наших сограж-
дан, представляясь на каком-нибудь международном собрании, скажут
«я россиянин» или «я россиянка». Скорее всего, он или она скажут: «я из
России», «я гражданин/гражданка России» или обратятся к этничности
(«я русский/русская», «я татарин/татарка» и т. д., имея в виду в первую
очередь свое происхождение, затем культурные, языковые и прочие отли-
чительные черты)64.
И такое положение вещей не удивительно. На уровне массового со-
знания, в значительной мере формируемого сегодняшними массмедиа,
продолжают культивироваться представления о строгой синонимичности
понятий «этнос», «нация» и «национальность» (примером может быть
знаменитое «лицо кавказской национальности»65) и о кровнородственных
связях (или происхождении) как главной «скрепы», объединяющей людей
в этнические/национальные сообщества. Согласно этим представлениям,
этносы развиваются примерно так же, как виды животного мира в дарви-
новской теории. При этом не принимается во внимание, что в отличие от
дарвиновских видов, которые обычно не способны к межвидовому скрещи-
ванию, дающему потомство (за редкими исключениями, например мул -
гибрид от скрещивания осла и кобылы; лошак - гибрид от скрещивания
жеребца и ослицы), многочисленные представители различных этносов-
народов-национальностей-наций своих потомков воспроизводили в про-
шлом и сплошь и рядом воспроизводят в настоящем.
Вернемся теперь от этих рассуждений к жителям деревень, располо-
женных на р. Кадка, которые называются кацкарями. Как правильно/на-
учно обозначить это сообщество людей? Этнос? Субэтнос? Народность?
Или, может быть, правильное/научное обозначение в данном случае не-
важно, и кацкарей можно обозначать как угодно, скажем, как в случае с
кавказцами, - «лица кацкой национальности»?
С научной точки зрения
Да это совсем неважно, может тут не выдержать раздраженный чита-
тель, которому все эти рассуждения и отступления уже изрядно надоели.
Кто такие кацкари?
163
Чужие или свои?
Главное, что кацкари есть, точно так же, как есть и другие общности лю-
дей, объединенные прочными «скрепами», как, например, длительным
проживанием на одной территории, общим прошлым, языком, обычаями,
кровнородственными связями и др. Действительно, если мы включим
телевизор, то обязательно увидим американцев, арабов, грузин, иракцев,
китайцев, литовцев, палестинцев, русских, украинцев, чеченцев и др., и в
том, что они - реальность, нет никаких сомнений. Однако сомнения могут
возникнуть, если мы попытаемся задуматься о самих «скрепах», т. е. о том,
что именно и каким образом объединяет людей в этнические/националь-
ные сообщества.
В науке сегодня выделяют три принципиально различных подхода к
пониманию этнических общностей и характера объединяющих их «скреп».
Первый, эссенциалистский (иначе - примордиалистский), кратко говоря,
состоит в признании «этноса» природной данностью66. Его появление
обычно связывают с европейским колониализмом и выработкой наукой
XIX в. теории рас. Следует добавить, что этот подход прост для понимания
в силу своей «очевидности» и наиболее прочно укоренен в общественном
сознании, особенно через понятие «биологическое родство»67. Поскольку
выше уже приводилось немало примеров именно такого восприятия на-
рода/нации/национальности, едва ли стоит останавливаться на нем под-
робно. Второй подход, конструктивистский, являющийся в известном
___ смысле противоположностью первому, сложился сравнительно недавно.
164 Он не настолько очевиден и в силу этого нуждается в более обстоятельном
внимании.
Основоположниками конструктивистского подхода обычно называ-
ют Эрнста Геллнера, Бенедикта Андерсона и Эрика Хобсбаума68. Идеей,
объединяющей этих ученых, явилось признание того, что «этничность не
есть нечто данное человеку изначально, она не есть “вещь”, таящаяся в био-
логических структурах организма (“крови”) или в свойствах ландшафта.
Она не есть даже печать, неизгладимо поставленная на людях культурой
в незапамятные времена. Этничность “конструируется” людьми в ходе их
творческой социальной деятельности - и постоянно подтверждается или
перестраивается»69.
Конструктивистская трактовка этничности довольно быстро приобре-
ла авторитет в научном мире. Современный исследователь рисует следую-
щую картину произошедшего в конце прошлого века поворота:
В западной социальной мысли постепенный отказ от эссенциализма, или
субстанциализма, начался в 1980-е годы, и цезуру здесь провели две работы:
«Нации и национализм» Эрнеста Геллнера и «Воображаемые сообщества» Бе-
недикта Андерсона. Плюс сборник статей под редакцией Эрика Хобсбаума и
Теренса Рэйнджера «Изобретение традиции». Потом был Э. Хобсбаум с книгой
«Нации и национализм после 1780 года». После этих публикаций даже те ав-
торы, кто, в общем, не разделяет их образа мысли и стоит на эссенциалистских
позициях, уже не могут не учитывать произошедшего изменения. Они видят,
что нечто радикально изменилось в самой гносеологической ситуации. <...>
Так что тезис о «конструируемое™» этнических и национальных сообществ
постепенно становится в международном обществоведении общим местом70.
Ученые проследили, как именно происходили процессы складывания
разного рода «воображаемых сообществ», преимущественно на этапе обра-
зования национальных государств (XIX в.). Одним из самых удивительных
их открытий стало множество доказательств того, что нередко народы были
в прямом смысле «выдуманы» представителями интеллектуальной элиты.
Эти представители получили в Чехии имя «будителей» (затем это обозна-
чение перешло на писателей и ученых, стоявших у истоков национального
самосознания других народов). Схематично картина происхождения этих
«воображаемых сообществ» может быть представлена следующим обра-
зом: сначала интеллектуалы создают и научно подкрепляют некий нацио-
нальный миф; затем этот миф различными способами (преимущественно
через исторические и литературные произведения) внедряется в сознание
населения страны как представителей единого народа (или его части); на-
конец, происходит интериоризация мифа и самоидентификация каждого
отдельного человека с единым «народом», «нацией», «национальностью»,
«этносом».
Как считает современный исследователь, «многие “национальности”
Восточной и Центральной Европы, в основании которых лежат предпо-
лагаемый общий язык, реальные или мифические предки и история, были
в буквальном смысле созданы элитами, причем некоторые представители
этих элит даже не могли говорить на языках изобретенных таким образом
национальностей»71. Другой исследователь, прослеживая роль языка в
формировании этничности, добавляет: «В некоторых случаях подготов-
ленные этими будителями языковые реформы требовали стандартизации
и модернизации языков с уже сложившимися литературными традициями,
в других же - требовалось создание письменного языка на основе одного из
местных диалектов. Будители придумывали новые слова, составляли сло-
вари и грамматики, основывали газеты и журналы»72.
У нас конструктивистский подход был использован В.А. Тишковым
при анализе феномена этничности в советском и постсоветском контексте.
По его мнению, взгляд на этничность через конструктивистскую «иссле-
довательскую призму» позволил «обнаружить яркую картину советской
этнической инженерии»73. Один из выводов, к которым пришел ученый в
результате проведенного анализа, для нашего случая с кацкарями особенно
важен. «Хотя концепция этнонациональной общности представляет собою
воображаемую конструкцию, - говорит В.А. Тишков, - это не мешает ей
становиться жесткой реальностью и основой для коллективного действия.
Особенно в современной России, где люди через этничность обретают
утраченные чувства личной и коллективной самоценности, а лидеры часто
добиваются социального контроля и политической мобилизации через об-
ращение к этническим чувствам и коалициям»74.
Хотя большинство людей продолжают разделять примордиалистское
понимание этничности, ее конструктивистское истолкование оказывается
малоэффективным для решения конкретных задач государственного управ-
ления, в особенности в условиях межэтнической напряженности, во время
межэтнических конфликтов и пр. По этой причине (т. е. вследствие необхо-
димости практического подхода к общественным явлениям и процессам) в
современной теории этноса разрабатывается и третий, смешанный, подход,
Кто такие кацкари?
165
0)1 Чужие или свои?
называемый инструменталистским. Этничность рассматривается в нем как
важная реальность современного общества, одна из «силовых линий», по
которой происходит его стратификация. Вопрос заключается в том, как
обществу управляться с этой важной реальностью, игнорирование или не-
понимание которой политиками (а нередко и циничное ее использование)
имеет следствием многочисленные кровавые конфликты.
Таким образом, получается, что, с одной стороны, большинство ис-
следователей сегодня понимают этносы как воображаемые сообщества,
существующие не в природе, а исключительно в человеческом сознании, с
другой стороны, очевидно, что эти сообщества вполне реальны и являются
важным фактором современного общественного развития. То есть даже
если мы признаем этносы «воображаемыми сообществами» и будем счи-
тать другие точки зрения необоснованными и ненаучными, нам все равно
придется сталкиваться с этими сообществами как с реальными, а отнюдь не
воображаемыми группами людей.
Очевидно, в целом ряде случаев необходимость различения людей
по этническому/расовому признаку важна для государственных органов.
И такое различение на официальном уровне сегодня практикуется чуть
ли не во всех странах. Однако следует подчеркнуть, что эти практики не
имеют никакого научного обоснования. Они основаны исключительно
на принятых в обществе представлениях (подтверждая тем самым конст-
руктивистскую трактовку этноса/расы), к тому же область их применения
в ряде стран строго ограничена законодательно.
В США, например, выходцев из Латинской Америки (а вместе с
ними испанцев и португальцев) обозначают как Hispanics («испаноя-
зычные»), хотя, ясное дело, в действительности это далеко не всегда так,
поскольку Hispanics могут вовсе и не знать испанского. Это обозначение
обычно дается в соответствии с определенным фенотипом (в некоторых
случаях синонимом выступает Latinos). Существуют также группы на-
селения, которые обозначаются как Asian Americans (выходцы из Азии,
«азиаты»); Native Americans («коренные американцы», по-нашему «ин-
дейцы»); Black или African Americans («чернокожие» или «афроамери-
канцы»; предполагается, что их предки были выходцами из Африки);
Middle Easterners («ближневосточные» - выходцы из Ирана, Саудовской
Аравии, Египта и др.); наконец, White Americans («белые американцы» -
выходцы из Европы, Северной Азии, России и др.). Понятие этничности,
как видим, близко совпадает с биологическим понятием расы, хотя и
далеко не всегда75.
В Великобритании сегодня наиболее принятой является классифи-
кация этнического/расового состава населения, использовавшаяся в
ходе переписи 2001 г. Ее вопросник включал следующие группы: белые
(британцы, ирландцы, другие); смешанные (белые и черные карибцы, бе-
лые и черные африканцы, белые и азиаты, другие); азиаты или британцы
азиатского происхождения (индусы, пакистанцы, бангладешцы, другие);
чернокожие или чернокожие британцы (чернокожие карибцы, черно-
кожие африканцы, другие); китайцы или другие (китайцы, другие)76. Эта
классификация с 2003 г. лежит в основе методики словесного описания
задержанных британской полицией (так называемая самоопределяемая эт-
ничность - SDE). Одновременно в Великобритании от самих полицейских
требуется определение этничности/расы задержанного с помощью иной
классификации - кода идентичности (IC), включающего семь категорий:
1 - белые европейцы; 2 - темнокожие европейцы; 3 - афро-карибцы; 4 -
азиаты (в британском понимании индусы или пакистанцы); 5 - выходцы с
Востока; 6 - арабы/североафриканцы; 0 - неизвестная этничность. К ска-
занному важно добавить, что сами определения этносов («ирландцы»,
«пакистанцы», «китайцы» и проч.) в публикуемых полицейских сводках, а
также на радио и в телевизионных репортажах не фигурируют. Сообщение
о несчастном случае на дороге, например, может содержать такие сведения:
«водитель - мужчина IC1, пассажир - женщина 1СЗ». В общем, инструмен-
талистский подход порожден практическими задачами жизни общества и
в большинстве случаев основан на конструктивистской трактовке этноса.
Он признает, что понятие «этнос» не универсально: в разных регионах,
странах, территориях существуют разные представления об этничности и
разные обозначения этносов, сложившиеся исторически.
Все мы кацкари?
Чтобы ответить на главный интересующий нас вопрос, кто такие кацка-
ри, нужно сопоставить их сообщество с другими этническими сообщества-
ми по критериям, о которых шла речь выше. Если при этом сравнении ис-
ходить из доминирующего в современной этнологии конструктивистского
подхода, то получится, что по большому счету никаких принципиальных
различий между кацкарями, эскимосами, ирландцами, турками и др. нет.
Поскольку этносы являются не природными явлениями, а результатами
человеческой деятельности, порожденными определенными обществен-
ными силами и отношениями и постоянно ими воспроизводящимися,
различия касаются только способов их «конструирования» и особенностей
конкретных «скреп», объединяющих в них людей.
Е1о неужели, может спросить тут читатель, и такая очевидная реаль-
ность, как общность происхождения этноса, сконструирована? Е1еужели
общие предки того или иного народа - это не очевидный биологический
факт? Против очевидности того, что люди, составляющие современные
этнические сообщества, обладают теми или иными признаками, унасле-
дованными ими от своих предков, действительно трудно что-либо воз-
разить. Е1о вот может ли общее происхождение служить прочным основа-
нием объединения людей в этнические сообщества?77 Ведь если считать,
что люди принадлежат к одному этносу тогда, когда они имеют общее
происхождение, то человечество сегодня должно было бы представлять
собой один этнос! Однако когда говорят об общих предках, обычно имеет-
ся в виду, что прародители того или иного народа жили несколько позже
первых представителей вида Elomo sapiens. И тут возникает вопрос - на-
сколько позже?
Чаще этот вопрос формулируется иначе: «Как далеко в прошлом?» -
и именно от ответа на него все и зависит. Если углубиться в III тыся-
челетие до н. э., то, например, выяснится, что современные евреи и
Кто такие кацкари?
167
оо I Чужие или свои?
арабы имеют общих предков (об этом свидетельствует лингвистика). Но
почему-то и те и другие предпочитают начинать свою историю с более
позднего времени. Именно из-за произвольности ответа на вопрос «на-
сколько раньше нас?» многие ученые считают сегодня, что этничность
создана мифами об общем происхождении. «Люди признают принадлеж-
ность к единому этносу в том случае, если они признают миф об общем
происхождении - то есть в том случае, если они верят, что произошли от
общих предков»78.
Очевидность «общего происхождения» как основы этнического един-
ства, помимо вопроса «Как далеко в прошлом?», подрывает и другой во-
прос - «По какой линии?». В предыдущем поколении для определения
родства имеются два выбора - мать и отец. На два поколения раньше
таких выборов было уже четыре. На три поколения раньше их имеет-
ся восемь, и дальше их становится невообразимое множество. Почему
для определения происхождения выбирается одна линия, а не другая?
Ответ, как и в первом случае, один - в большей или меньшей степени
произвольно. В итоге эта двойная произвольность позволяет заключить,
что этническая принадлежность - кацкарей или не кацкарей, неважно -
«основана на мифологических представлениях о генеалогических фак-
тах, но не на самих генеалогических фактах. Именно мифы отвечают на
вопросы “как далеко в прошлом” и “по какой линии”»79. Однако мифы,
как мы знаем, слишком часто основываются на исторически недостовер-
ных сведениях.
Из этого заключения, впрочем, вовсе не следует, что «воображаемое со-
общество» кацкарей, как и другие «большие» «воображаемые сообщества»,
является мифом. Поскольку в нашем мире различными способами и на
разных уровнях продолжает воспроизводиться этническое сознание, про-
должают существовать и сами этносы. И это существующее разнообразие
«воображаемых сообществ» не только чревато конфликтами, но и делает
наш мир богаче и разнообразнее, наделяя актуальными смыслами жизнь
отдельного человека.
Из отзывов посетителей музея кацкарей:
Удивительное и прекрасное явление - газета «Кацкая летопись» и Музей кац-
карей! Это живая старина, столь необходимая всем нам - от мала до велика.
Низкий поклон всем кацкарям!
Спасибо кацкарям за счастье видеть и слышать их мир. Это не Россия, которую
«мы потеряли», это Россия, которую мы нашли! Спасибо за подвижничество и
настоящую любовь к русской культуре!80
Из электронной почты «КЛ»:
Здравствуйте!
Совсем случайно попал на сайт «Кацкая летопись»... И такое чувство, что
вдруг попал из топи в темной чащобе на поляну, откуда, может быть, удастся
выбраться и из леса.
В последнее время пребываю в безысходности относительно судьбы России.
Друзья говорят: «Ну ты живёшь? И живи себе». Не живётся - на душе тяжесть!
Много ли нас - тех, кому не наплевать, - и что мы можем сделать, я не вижу.
Блоковское “Пускай заманит и обманет, не пропадешь, не сгинешь ты...» не
успокаивает. Но надо друг друга держаться.
Всего вам, кацкари, доброго!81
1 http://www. Itv.ru/owa/win/ort6_
main.main?p_news title_id=98068.
Начинался сюжет словами диктора:
«Совсем необычная встреча Рождества,
в Ярославской области - в деревне, где
свои обычаи и даже русская речь звучит
иначе. Наш корреспондент Владимир
Федоров встретился с людьми, которые
называют себя - кацкарями...» «Таких
деревень, как Мартынове, - рассказывал
дальше корреспондент, - в ярославской
глубинке, что дров в поленнице, - тьма.
Колхоз тут все еще есть, а водопровода
все еще нет. Часть молодежи уехала туда,
где вода в кране, где газ, ванна, работа с
зарплатой. А другая часть стала копать
историю родных мест и нашла там клад.
Оказалось, что славянские корни пред-
ков переплелись здесь с корнями финно-
угорскими, и на этой почве выросло само-
бытное этническое сообщество. Жили
прапрадеды на берегах речки Кадка и
потому назывались кацкарями...» (кур-
сив мой. - Ю. 3.).
2 Кононов Н. Кацкарский словарь //
Известия. 2003. 25 авг. (Статью пере-
печатала латвийская русскоязычная
газета «Час» в номере от 27.08.2003.)
3 Цит. по: Вся Россия - информацион-
ный аналитический сайт региональных
СМИ (http://www.allrussia.ru). Автор
не указан.
4 Там же.
5 Трифонов А. Феномен «особых рус-
ских» // УТРО. 2004. 28 мая (http://
www.utro.ru/articles/2004/05/28/
312733.shtml).
6 «В мифологии кацкого населения при-
сутствуют сразу несколько аутентичных
персонажей. Один из самых старинных,
ныне уже и подзабытый порядком, -
демон Чугрей. <...> Еще один герой,
Палучато - огненный летающий уж,
приносящий в избу богатство. Кацкий
наличник частенько символически вос-
производит на верхней четверти двух
змеек в стремительном движении друг
к другу. <...> В большом почете у кац-
карей белая корова - символ Солнца.
Крестьянская жизнь зависела от солнца
да от коровы. Зато козу в кацких селе-
ниях вы не найдете - вот он, коровий
антипод. Лошадь, тоже белая, считается
предвестницей смерти» (Там же).
7 Мышкинские районные «Волжские
зори», ярославские областные «Север-
ный край» и «Ярославская губерния»
(газеты), газета «Мценский край»
Орловской области, мурманская «По-
лярная правда», столичные журналы
«Журналист», «Читаем, учимся, игра-
ем» и др.
8 В «Российской газете» от 19.03.2004
(статья называется «Честь и не-
чисть») сказано сильнее: «Старинные
легенды помогают селянам выживать
сегодня» (http://search.rg.ru/rg/doc.
php/109674).
9 См.: Баранова В., Маслинский К. Отчет
о полевых исследованиях студентов
кафедры общего языкознания филоло-
гического факультета СПбГУ. Экспе-
диция 2001 г. // http://www.genling.nw.
ru /Ethnolin/ethnosite/stan.htm.
Кто такие кацкари?
169
о I Чужие или свои?
10 См., например, в отчете о конфе-
ренции в ЯГПУ им. К.Д. Ушинского
«В.И. Даль и русская региональная лек-
сикология и лексикография» (31 октя-
бря - 1 ноября 2001 г.): «Большой
интерес вызвало оригинальное высту-
пление учителя Мартыновской школы
Мышкинского района С.Н. Темняткина
“Диалект как символ сельской терри-
тории”. Он познакомил собравшихся
с уникальным опытом кацкарей,
живущих на западе Ярославской об-
ласти, на речке Кадка. В 90-е годы в
Кацком стане произошло возрождение
родного диалекта, здесь ежегодно
проводятся краеведческие Кацкие
чтения, издается “Кацкая летопись”,
в школах преподается кацковедение,
на таких уроках ученики знакомятся
не только с историей, культурой, бы-
том, этнографией родного Кацкого
стана, но и фольклором и диалектом
кацкарей, его особенностями. Диалект
здесь, действительно, стал символом
маленькой сельской территории. Этот
опыт, несомненно, заслуживает самого
пристального внимания и поощрения»
(Ярославский педагогический вестник.
2002. № 1 // http://www.yspu.yar.ru/
vestnik/chronikainformaciya/l 34/).
См. также: Темняткин С.Н. Посидим,
поёкаем! (Характеристика кацкого диа-
лекта) // XI Опочининские чтения,
посвящ. 125-летию Опочининской б-ки
(Мышкин, 25-26 нояб. 2000 г.) / http://
www.myshkin.ru/frameset.htm
11 Программа конференции опубликована
на сайте истфака СПбГУ: http://www.
history.pu.ru/news/varia_2004/0804.
htm
12 В региональном выпуске программы
«Вести» (14.12.2004 14:15) один из
кацкарей свидетельствует: «Раньше
в Мартынове никто не ездил... А за-
чем ездить? Никакой перспективы.
А сейчас - вон ведь какие автобусы
ходят!» (http://yaroslavl.rfn.ru/rnews.
html?id= 10929).
13 КЛ. 1993. № 1(3). Здесь и далее цитаты
из «Кацкой летописи» приводятся по
электронной версии издания: http://
kl-21.narod.ru/
14 КЛ. 1996. № 7-8 (45-46).
15 КЛ. 1996. № 13-14 (51-52).
16 КЛ. 1996. № 17-18 (55-56).
17 КЛ. 1997. № 5-6 (65-66).
18 КЛ. 1997. № 7-8 (67-68).
19 КЛ. 2001. № 1-10(112-113).
20 КЛ. 1999. № 9-10 (92-93).
21 КЛ. 1999. № 5-6 (88-89).
22 «По преданию, - добавляет газета, - их
было три: у Нефедьева, Хороброва и
Юрьевского. А случилось это в марте
1238 года - наверное, числа 16-го» (КЛ.
1998. № 1 (81)).
23 КЛ. 1997. № 19-20 (79-80).
24 КЛ. 1996. № 13-14 (51-52).
25 КЛ. 1995. №2-3 (21-22).
26 КЛ. 1995. № 6-7 (25-26).
27 http://artemyevo-l0.narod.ru/2000/
Kadka.htm
28 В подтверждение этого аргумента
докладчик ссылается на авторитет-
ное мнение: «Не зря же великий
Солженицын предложил “Словарь
расширения русского языка”, который
недавно печатался в журнале “Русская
речь”. Солженицын предложил расши-
рить язык как раз за счет диалектов!».
29 См.: Баранова В., Маслинский К. Указ,
соч.
30 Курсовая работа подготовлена в
Институте лингвистики РГГУ в 2006 г.
(руководитель - канд. филол. наук, доц.
Е.В. Муравенко).
31 Там же. С. 20.
32 Шенк Ф.Б. Александр Невский в рус-
ской культурной памяти. М., 2007. С. 15.
33 КЛ. 1994. №2 (9); 1994. №4(11).
34 В сжатом виде история кацкарей из-
ложена в опубликованных позднее в
КЛ учебно-методических материалах
к школьному уроку по предмету «Гео-
графическое краеведение» (КЛ. 1997.
№ 5-6 (65-66)), также имеющих назва-
ние «Откуда пошла Кацкая земля».
35 В духовной Василия II читаем: «А у
сына своего у Ондрея у Болшого из уде-
ла даю своей княгине Елду, да Кадку,
да Василково с деревнями» (Духовная
грамота великого князя Василия II
Васильевича 3 мая 1461 г. - 27 марта
1462 г. // Духовные и договорные
грамоты великих и удельных князей
XIV-XVI вв. / Ред. Л. В. Черепнин. М.;
Л., 1950. С. 197).
36 См.: Юрганов АЛ. Удельно-вотчинная
система и традиции наследования вла-
сти и собственности в средневековой
Руси // Отечественная история. 1996.
№ 3. С. 104.
37 О присуждении С.Н. Темняткину
премии фонда «За подвижничество»
был сюжет в региональной программе
«Вестей»: http://yaroslavl.rfn.ru/mews.
html?id=10929. См. также публикацию
в: КЛ. 2001. № 7-8 (110-111) // http://
kl-21.narod.ru/sto/l 1011 l.htm
38 См. сборник статей, положивший
начало целому направлению иссле-
дований: The Invention of Tradition /
Ed. E. Hobsbawm and R. Terence.
Cambridge, 1983. Применительно к рос-
сийской действительности: Уортман Р.
Изобретение традиции в репрезентации
российской монархии // Новое лит.
обозрение. 2002. № 56. С. 35-38.
39 См.: Общий свод по империи результа-
тов разработки данных первой всеоб-
щей переписи населения, произведен-
ной 28 января 1897 г.: В 2 т. СПб., 1905.;
Котельников А. История производства
и разработки всеобщей переписи на-
селения 28 января 1897 г. СПб., 1909;
Ананьева О. Первая всеобщая перепись
в России // http://schools.keldysh.ru/
sch444/MUSEUM/PRES/PL-6-99.htm.
40 По-видимому, «русский народ = на-
роды Российской империи», а то, что
мы назвали бы русским этносом =
великороссы (примерно так в работах
В. И. Ленина).
41 Аврутин Ю.М. Крещеные евреи,
этнический конфликт и политика по-
вседневной жизни в России во время
Первой мировой войны // Мировой
кризис 1914-1920 гг. и судьбы восточ-
ноевропейского еврейства: Материалы
науч. конф. Санкт-Петербург, 7 ноября
2004 г. М., 2005. С. 99-123.
42 Там же. С. 118.
43 См.: Особенности конституирования
национальной и этнической идентич-
ности в современной России. СПб.,
1999. В особенности ст.: Сухачёв В.Ю.
Национальная идентичность - теория
и реальность. С. 30-37.
44 Сталин И.В. Марксизм и национальный
вопрос // Сталин И.В. Соч.: В 13 т. М.,
1946. Т. 2. С. 296.
45 Там же.
46 Там же.
47 «Совет Народных Комиссаров решил
положить в основу своей деятельности
по вопросу о национальностях России
следующие начала: 1) Равенство и су-
веренность народов России. 2) Право
народов России на свободное самоопре-
деление, вплоть до отделения и образо-
вания самостоятельного государства.
3) Отмена всех и всяких национальных
и национально-религиозных приви-
легий и ограничений. 4) Свободное
развитие национальных меньшинств
и этнографических групп, населяю-
щих территорию России» (Декреты
Советской власти. Т. 1. М„ 1957. С. 40).
48 Программа переписи включала 14 при-
знаков. Помимо «национальности»
(в переписном листе ее синонимом вы-
ступала «народность»), в эти признаки
входили пол, возраст, родной язык,
место рождения, продолжительность
проживания в месте переписи, брачное
состояние, грамотность, физические
недостатки, психическое здоровье, за-
нятие (с выделением главного и побоч-
ного), положение в занятии и отрасль
труда, для безработных - продолжи-
тельность безработицы и прежнее за-
нятие, источник средств существования
(для не имеющих занятия).
Кто такие кацкари?
171
ю1 Чужие или свои?
49 Всесоюзная перепись населения
1926 года. Национальный состав насе-
ления по республикам СССР // http://
demoscope.ru/weekly/ssp/ussr_nac_26.
php
50 См. об этом: Hirsch Fr. Empire of Nations:
Ethnographic Knowledge and the Making
of the Soviet Union. Ithaca, 2005.
51 Цит по: Слезкин Ю. Эра Меркурия:
Евреи в современном мире. М., 2005.
С. 368.
52 Там же. С. 367. К сказанному необхо-
димо добавить, что в официальной со-
ветской идеологии любые проявления
национализма и расизма категорически
осуждались.
53 Филиппова Е.И. Найти себя. Констру-
ирование идентичностей в постсовет-
ской России // Этнопанорама. Еже-
квартальный науч.-публицист. журнал.
2004. №3-4. Цит. по: www.eawarn.ru/
pub/Pubs/DialogueMulticulturalism/09_
ElenaFilippova.htm
54 .«...Теоретики и политики в СССР обме-
няли слово нация на кажущееся внеш-
нему миру несуразным понятие единый
советский народ, но этот вполне леги-
тимный новояз выполнял ту же самую
функцию, что и слово нация в других
странах мира» (Тишков ВЛ. Забыть о
нации (Постнационалистическое пони-
мание национализма) // Вопросы фило-
софии. 1998. № 9. Цит по: portal.rsu.ru/
culture/rostov.doc ).
55 Следует заметить, что до перестройки
понятия «этнос» в ходу не было. См.:
Любимова Г.В. Изучение проблем эт-
нической самоидентификации в отече-
ственной литературе 1990-х гг. / / http://
www.sati.archaeology.nsc.ru/Home/pub/
Data/arj /?html=lubg.htm&id=1304
56 Сухачёв В.Ю. Указ. соч.
57 Тишков ВЛ. Указ. соч.
58 Малахов В. Преодолимо ли этноцент-
ричное мышление? // Расизм в языке
социальных наук / Под ред. В. Ворон-
кова, О. Карпенко, А. Осипова. СПб.,
2002. С. 9-22.
39 См. развернутый критический отзыв о
ней: Кара-Мурза С.Н. «Кровяная пара-
дигма» // http://www.apn.ru/publica-
tions/articlel792.htm
60 Этнос, по В.Д. Соловью: «Этнос (эт-
ническая группа) - это группа людей,
отличающаяся от других групп людей
совокупностью антропологических и
биогенетических параметров и при-
сущих только этой группе архетипов,
члены которой разделяют интуитивное
чувство родства и сходства. Этнос от-
личается от социальных групп именно
биологической передачей своих отли-
чительных (пусть даже это социальные
инстинкты) признаков, а этничность -
такая же данность, как раса и пол.
Короче говоря, этнос - сущностно
биологическая группа социальных
существ» (цит. по: http://www.apn.ru/
publications/articlel 792.htm).
61 Повторенное позже в статье «Основной
фактор», это «открытие» В.Д. Соловья
формулируется следующим образом:
«Новое понимание этничности дает не-
двусмысленный и шокирующий ответ
на сакраментальный вопрос русского
национального дискурса: что значит
быть русским, что такое русскость.
Русскость - не культура, не религия, не
язык, не самосознание. Русскость - это
кровь (точнее - генетическая и био-
химическая конституция). Но, - и это
принципиально важно, - кровь высту-
пает носителем этнических инстинктов
восприятия и действия. В отечествен-
ном контексте объемы понятий био-
логической и культурно-исторической
русскости в значительной мере совпа-
дают, а противопоставление “крови” и
“почвы” лишено смысла» (http://www.
apn.ru/publications /article 1792.htm).
62 Филиппова Е.И. Указ. соч.
63 Там же.
64 Примером особенностей постсоветской
иерархии национальных/этнических
идентичностей может служить один не-
давно рассказанный мне случай. Дело
происходило в начале октября 2006 г.
в одном из немецких университетов на
первой встрече только что принятых
студентов первого курса, часть кото-
рых составляли иностранцы. Каждому
присутствующему нужно было кратко
представиться, т. е. назвать свое имя
и добавить пару слов о себе. Все шло
рутинно, пока одна девушка не встала
и не произнесла: «Я (такая-то). Я из
Казахстана, но я русская» (Ich komme
aus Kasakhstan, aber ich bin Russin).
Тут же возникло недоумение, и при-
сутствующие стали перешептываться,
пытаясь выяснить, что эти загадочные
слова означают: какой же она все-таки
национальности (т. е. гражданкой
какого государства она является)?
Казахстана (=казашка)? Или все-таки
России (=русская)? Или, м. б., у нее
двойное гражданство? Какой-то осо-
бый статус? Смысл сказанного, правда,
прекрасно поняла одна студентка из
России, находившаяся в аудитории и
рассказавшая мне эту примечательную
историю.
65 Тут трудно удержаться от одного допол-
нения. И в современной англоязычной
этнологии, и в англоязычных массмедиа
«кавказцами» (Caucasians) называются
представители европеоидной расы (так
как Кавказ является географическим
центром ее распространения).
66 «Неразлучная спутница эссенциа-
лизма, - разъясняет современный
исследователь, - интеллектуальная
процедура, которая в философии
науки называется гипостазирующей
реификацией. Со времен Канта все
знают, что гипостазация, или гипоста-
зирование, - это принятие предмета
мыслимого за предмет как таковой, а со
времен Лукача известно, что реифика-
ция - это принятие того, что существу-
ет в человеческих отношениях, за не-
что, существующее само по себе. Если
гипостазирование - это превращение
мысли в вещь, то реификация - это
превращение отношения в вещь. В лю-
бом случае и то и другое предполагает
овеществление того, о чем мы мыслим»
(Малахов В. Указ. соч.).
67 О переосмыслении современными
учеными биологической природы расы
см. обзорную статью: Billinger M.S.
Moving Anthropology Beyond the Race
Concept // Critique of Anthropology.
2007. Vol. 27. № 1. P. 5-35.
68 Геллнер Э. Нации и национализм. М.,
1991; Андерсон Б. Воображаемые со-
общества. Размышления об истоках и
распространении национализма. М.,
2001; Хобсбаум Э. Нации и национа-
лизм после 1780 г. СПб., 1998.
69 Кара-Мурза С.Г. Теория и практика
конструирования народов // Интернет
против телеэкрана (http://www.contr-
tv.ru/common/1995/).
70 Малахов В. Указ. соч.
71 Нагенгаст К. Права человека и защита
меньшинств: этничность, граждан-
ство, национализм и государство //
Этничность и власть в полиэтнических
государствах. М.,1994. С. 181 (цит. по:
Кара-Мурза С.Г. Указ. соч.).
72 Кисс Э. Национализм реальный и
идеальный. Этническая политика и по-
литические процессы // Этничность и
власть в полиэтнических государствах
(цит. по: Кара-Мурза С.Г. Указ. соч.).
С.Г. Кара-Мурза добавляет к этому:
«Исследователи, работающие в рамках
конструктивизма, подчеркивают, что
создатели техники этнизации населе-
ния в каждом конкретном случае опи-
раются на стихийный примордиализм
простого человека, на его потребность
ощущать себя членом “извечной” общ-
ности, обладающей священными сим-
волами. Да и сами эти конструкторы-
практики в большинстве случаев,
вероятно, мыслят в понятиях при-
мордиализма и уверены, что они от-
крывают изначальную истину, снимая
с нее слои деформации и коррозии.
Даже если эта очищенная ими истина
Кто такие кацкари?
173
через какое-то время сама оказывается
подделкой, это не обесценивает их тру-
да - ведь эта находка успела укрепить
конструкцию этнического сознания
и ее можно убрать, как строительные
леса» (Там же).
73 Тишков В А. Указ. соч.
74 Там же.
75 См. расовый состав американского
общества по результатам перепи-
си Бюро статистики США 2000 г.:
http://quickfacts.census.gov/qfd/meta/
long_68178.htm
76 См. классификацию этнических групп
на официальном сайте национальной
статистики британского правительства:
http://www.statistics.gov.uk/about/
Classifications/ns_ethnic_classification.asp
77 Дальше приводятся некоторые аргу-
менты статьи: Abizadeh A. Ethnicity,
Race and a Possible Humanity // World
Order. 2001. Vol. 33. № 1. P. 23-34.
78 Ibid. P. 25.
79 Ibid.
80 http://kl-21.narod.rU/sto/l 10__l 1 l.htm
81 http://kl-21.narod.ru/sto/129.htm
tx I Чужие или свои? f
Игра в Другого
Г
ЧудИнов
Александр Чудинов
МНОГОЛИКИЙ
ЖИЛЬБЕР РОММ
Фигаро: Я все видел, всем
занимался, все испытал.
Бомарше. Безумный день,
или Женитьба Фигаро
Россия в XVIII в. была для французов страной не слишком привле-
кательной. Редкое упоминание о ней на страницах газет или книг не со- 17g
провождалось рассказом о «суровом климате», «варварских нравах» или
«деспотическом правительстве». Тем не менее на протяжении всего сто-
летия поток направлявшихся в Россию уроженцев Франции не иссякал.
Волшебным магнитом, притягивавшим их сюда, были деньги. Царившая
среди русского дворянства мода на образ жизни a la franqaise создавала
устойчивый и хорошо оплачиваемый спрос на услуги французских торгов-
цев, портных, поваров, парикмахеров, лакеев, учителей.
Впрочем, о последних едва ли справедливо упоминать через запятую с
остальными. Судя по источникам, россияне тогда не очень-то задавались
вопросом о том, соответствует ли профессиональная квалификация, ска-
жем, французских поваров или парикмахеров размерам получаемого ими
жалованья. Напротив, сетования на низкий уровень подготовки француз-
ских учителей-гувернеров, совершенно не отвечающий уровню их оплаты,
были едва ли не общим местом. Так, согласно Указу от 12 января 1755 г. об
учреждении Московского университета, «в Москве у помещиков находит-
ся на дорогом содержании великое число учителей, большая часть которых
не только наукам обучать не могут, но и сами к тому никаких начал не
имеют; многие, не сыскавши хороших учителей, принимают к себе людей,
которые лакеями, парикмахерами и иными подобными ремеслами всю
свою жизнь препровождали»1. Колоритный ряд иноземных проходимцев,
подвизавшихся в России на ниве обучения дворянских детей, представлен
и в произведениях классиков русской литературы2.
И хотя с их легкой руки мнение о низкой профессиональной квалифи-
кации французских гувернеров XVIII в. получило довольно широкое рас-
пространение в нашей научной литературе, историки тем не менее призна-
о I Игра в Другого
вали, что существовали все же и отрадные исключения из этого правила.
В.О. Ключевский, ведя речь о гувернерах времен Екатерины II, отмечал,
что «некоторые из них, стоя на высоте своего призвания, знакомы были с
последними словами тогдашней французской литературы и даже принад-
лежали к крайнему течению тогдашнего политического движения»3. Среди
таковых он называл прежде всего Жильбера Ромма (1750-1795), воспи-
тателя юного графа Строганова, а в дальнейшем видного политика эпохи
Французской революции XVIII в. С тем, что миссию Ромма в России, в
отличие от деятельности большинства иностранных учителей, действи-
тельно можно считать просветительской, соглашались позднее и многие
другие отечественные историки4.
Однако это мнение скорее носит априорный характер, нежели опирает-
ся на какие-либо конкретные факты, ведь, несмотря на достаточно большое
число написанных о Ромме работ, российский период его деятельности
освещен в историографии довольно скупо. Видимо, авторы, заведомо вы-
соко оценивающие просветительскую деятельность Ромма в России, ис-
ходят из предположения, что человек, позднее возглавивший в Конвенте
Комитет общественного образования и обладавший достаточно широкой
эрудицией, чтобы участвовать в создании революционного календаря,
просто по определению не мог не быть выдающимся учителем для своего
единственного ученика. Да и то, что этот ученик - Павел Александрович
Строганов (1772-1817) - добился в дальнейшем заметных успехов на об-
щественном поприще, став в царствование Александра I крупным военным
и государственным деятелем, хотя и косвенно, но тоже свидетельствует в
пользу наставника, готовившего его к взрослой жизни.
Есть только один способ проверить такое предположение - обратиться
к документам и, опираясь на факты, подробно рассмотреть историю пре-
бывания Ромма в России. Именно этим мы далее и займемся.
«Математик»
С графом Александром Сергеевичем Строгановым, отцом своего буду-
щего ученика Павла (или, согласно семейному прозвищу, Попо), Жильбер
Ромм познакомился не позднее 1776 г.5, а возможно, и годом ранее6. К тому
времени Ромм успел закончить Ораторианскую коллегию в Риоме, в Ниж-
ней Оверни, а затем в 1774 г. приехать в Париж, где, вращаясь в светских,
научных и политических кругах, искал себе место службы с постоянным и
надежным доходом.
В научной литературе имя Ж. Ромма нередко упоминается в связке с
определением «математик». Однако относительно недавно французский
историк науки П. Крепель доказал, что это всего лишь недоразумение7.
Настоящим математиком был старший брат Жильбера - Николя-Шарль
Ромм, профессор военно-морской школы в Рошфоре, член-корреспондент
Академии наук. Что же касается младшего брата, то его научные интересы
отличались гораздо большей широтой и меньшим постоянством.
Приехав в 1774 г. в Париж, Ж. Ромм сначала активно изучал медицину,
поскольку друзья рекомендовали ему врачебное искусство как весьма при-
быльное8. Но уже в 1776 г. он представил главе правительства Тюрго план
учреждения в Риоме кафедры математики и экспериментальной физики,
которую сам же и собирался возглавить. Осуществлению проекта помеша-
ла отставка министра-реформатора.
Зарабатывая себе на жизнь частными уроками математики9, Ромм по-
знакомился с графом А.А. Головкиным, который пригласил его препода-
вать математику своим детям. Русский аристократ, всю жизнь проведший
вдали от исторической родины - сначала в Швейцарии, затем во Франции,
сошелся с Роммом довольно близко, став для него старшим товарищем и
покровителем. В письме от 16 февраля 1775 г. Ромм сообщал своему другу
Г. Дюбрёлю: «Г-н Головкин осыпает меня любезностями. Я обедаю у него
дважды в неделю, но он хочет, чтобы я бывал у него чаще. Он - человек
просвещенный и любит говорить только о науках и об ученых. Беседы с
ним мне бесконечно нравятся»10.
Во многом под влиянием Головкина Ромм заинтересовался вопросами
воспитания, особенно педагогическими идеями Ж.-Ж. Руссо, и даже сам
написал книгу о преподавании математики, которую граф упомянул в своей
педагогической работе об образовании девочек: «Сей предмет [математика]
гораздо менее труден, чем о нем думают. Многочисленные наблюдения по-
казали мне, что успешное постижение этой науки, столь способствующей
ясности, гибкости и точности мышления, зависит от манеры объяснять и
наглядно демонстрировать ее первичные элементы. Г-н Ром, почтенный
литератор и знающий физик, имеет на сей счет сочинение, насыщенное
философскими идеями и отличающееся убедительностью и эрудицией.
Я настаиваю, чтобы он его сделал достоянием публики ради той части на-
ции, которая ценит науки. Он уже собрал материал, и эта книга могла бы
оказаться слишком полезной, чтобы отказываться от ее публикации»11.
Но поскольку это сочинение так никогда и не увидело свет, нам оста-
ется либо верить графу на слово, что оно было действительно настолько
хорошо, чтобы оправдать подобные эпитеты по отношению к автору, либо
проявить снисхождение к вполне по-человечески понятному желанию
подчеркнуть достоинства друга, пусть даже несколько утрируя их.
Как бы то ни было, хотя ни в одной из наук, которыми Ромм пытался
заниматься, он не достиг сколько-нибудь заметных результатов, все эти
разноплановые штудии позволили ему к 1779 г. стать, говоря словами
П. Крепеля, если «не настоящим исследователем», то «просвещенным ди-
летантом и способным преподавателем»12.
Многоликий Жильбер Ромм
181
«Вольный каменщик»
Как же случилось, что этому «просвещенному дилетанту» граф
А.С. Строганов, один из богатейших аристократов России, вручил прак-
тически неограниченную власть над своим единственным сыном? Чтобы
это понять, необходимо чуть подробнее остановиться на обстоятельствах
их знакомства.
Большинство авторов, освещавших историю взаимоотношений Ром-
ма и семьи Строгановых, не уделяли данному моменту существенного
ю I Игра в Другого
внимания. Так, первый биограф Ромма М. де Виссак, а вслед за ним и
русские историки П.И. Бартенев и великий князь Николай Михайлович
ограничивались констатацией, что первая встреча Ромма и А.С. Стро-
ганова состоялась у графа Головкина13. И только автор последнего из
жизнеописаний Ромма, итальянский исследователь А. Галанте-Гарроне,
обратил внимание на то, что, хотя встреча в доме Головкина действи-
тельно имела место, знакомство графа Строганова и Ромма первое время
носило поверхностный характер и переросло в настоящую дружбу лишь
в результате приобщения обоих к тайнам «братства вольных каменщи-
ков» - франкмасонов14.
В 70-х годах XVIII в. граф А.С. Строганов играл видную роль в ма-
сонском движении Франции, переживавшем тогда период радикальных
перемен. В 1773 г. он принял деятельное участие в создании «Великого
Востока» - общенационального объединения французских масонов. Как
делегат ложи Безансона и представитель «вольных каменщиков» всего
Франш-Конте Строганов входил в состав в комиссии, разработавшей
систему высших степеней Ордена. В дальнейшем он был одним из руко-
водителей «Великого Востока», занимая последовательно должности Экс-
перта Административной палаты, Великого Хранителя печатей и Великого
первого надзирателя15.
В 1776 г. с основанием ложи «Девяти сестер» Строганов становится
ее членом. Эта одна из наиболее знаменитых лож XVIII в., созданная по
инициативе математика Ж. Лаланда, была задумана как просветительский
центр, объединяющий выдающихся деятелей науки и культуры. Чтобы
вступить туда, требовалось «обладать каким-либо талантом в области
искусств либо науки и уже предоставить публичные и убедительные до-
казательства наличия такого таланта»16. В ложу «Девяти сестер» входили
известный естествоиспытатель и просветитель Б. Франклин, представ-
лявший тогда в Париже интересы североамериканских колоний Англии,
восставших против метрополии, математик Ж.А.Н. Кондорсе, скульптор
Ж.А. Гудон, астроном Ж.С. Байи, химики К.Л. Бертолле и А.Ф. Фуркруа,
а также многие другие известные личности. В 1778 г. на торжественном за-
седании ложи в нее был принят сам Вольтер. Церемония проходила под
председательством Лаланда, вместе с ним ею руководил первый надзира-
тель ложи граф Строганов17.
До последнего времени историки оставались в неведении, когда
именно в ложу «Девяти сестер» вступил Ромм18. Отмечалось лишь, что
согласно списку членов ложи 1779 г. он, с указанием профессионального
статуса «учитель математики», числился уже одним из ее должностных
лиц — экспертом19. И лишь относительно недавно российский исследова-
тель А.Ф. Строев обнаружил в бывшем Особом архиве обращение руко-
водства «Девяти сестер» к «Великому Востоку» с просьбой предоставить
уехавшему в Россию Ромму масонский сертификат20. В этом документе
сообщалось, что в ложу Ромм вступил 29 октября 1776 г., т. е. практически
одновременно со Строгановым. Именно в этой принадлежности обоих к
масонскому «братству» и кроется, на мой взгляд, причина безоговорочно-
го доверия старшего Строганова к наставнику своего сына и той свободы
действий, которую он предоставил Ромму. Ведь груз забот о воспитании
Попо препоручался не просто учителю, а «брату» по Ордену, чей «талант»
получил признание и других «вольных каменщиков».
Уезжая в Россию, Ромм, очевидно, попытался сохранить свои масон-
ские связи, почему и попросил руководство ложи предоставить ему серти-
фикат о принадлежности к «братству». Сам запрос Ромма не сохранился,
и о нем мы знаем из ответного послания ему секретаря ложи аббата Рузо
от 23 марта 1780 г. Ответ этот вряд ли порадовал Ромма. Рузо сообщал, что
из-за возникшего в тот момент конфликта между ложей и «Великим Вос-
током» последний отказал в выдаче сертификата. Что же касается самих
«Девяти сестер», то у них в тот момент не оказалось чистых бланков21.
27 мая руководство ложи вновь обратилось в «Великий Восток» с анало-
гичной просьбой, но, как явствует из пометки секретаря, и это ходатайство
не увенчалось успехом22. Впрочем, к тому времени «Девять сестер», види-
мо, восполнили недостаток в собственных бланках, и 9 июня 1780 г. аббат
Рузо направил Ромму вместе с письмом сертификат, выданный ложей и
подписанный Б. Франклином23.
Последнее из известных нам масонских писем Ромму Рузо послал
8 сентября 1780 г. Судя по тексту, за весь год аббат так и не получил из Рос-
сии вестей от «брата»24. Похоже, после отъезда в Петербург Ромм утратил
былую связь с Орденом. Во всяком случае в списке членов ложи «Девяти
сестер» за 1783 г. фамилия Ромма уже не фигурирует, хотя уехавший одно-
временно с ним граф Строганов упомянут как «отсутствующий»25.
183
Многоликий Жильбер Ромм
Outchitel
Судя по свидетельству друга Ромма Ж. Демишеля, впервые граф
Строганов намеревался пригласить Ромма на должность воспитателя сына
еще в 1777 г., но эта идея не встретила понимания у графини26. В 1779 г.
А.С. Строганов вернулся к прежнему намерению, и 1 мая они с Ромом под-
писали официальный контракт следующего содержания:
Граф Строганов, доверяя воспитание своего сына г-ну Ромму, договаривается
с ним о следующих условиях:
1) Воспитание будет осуществляться по плану, заранее обсужденному,
утвержденному и согласованному между родителями и г-ном Роммом. Задачи
образования будут четко определены, как и методы, коими оно будет произво-
диться. Отводимое на занятия время должно быть регламентировано, особому
согласованию подлежат методы формирования характера. Все эти пункты,
будучи однажды приняты обеими сторонами, становятся постоянной основой
отношений между участниками договора, каковую нельзя менять, кроме как по
взаимному согласию;
2) Жалование г-на Ромма составит 100 французских луидоров в течение пер-
вых трех лет и по 1000 экю27 в год до завершения воспитания с достижением
учеником 18 лет;
3) Вместо пожизненной пенсии граф Строганов обязуется за себя и своих на-
следников выплачивать г-ну Ромму каждые 3 года по 8000 французских ливров;
если же какие-либо обстоятельства вынудят г-на Ромма выйти из соглашения
I Игра в Другого
раньше срока, то ему из этих 8000 будет каждые три года выплачиваться сумма
пропорциональная отработанному времени;
4) Если по окончании срока воспитания г-н Ромм продолжит заботиться о
ребенке, достигшем 18-летнего возраста, путешествуя вместе с ним, то стороны
заключат соглашение на новых условиях;
5) Г-н Ромм будет избавлен от любых расходов, находясь на полном содержа-
нии, за исключением покупки одежды; его будет обслуживать тот же слуга, что
и ученика;
6) Его возвращение в Париж, по суше или по морю, будет оплачено ему в лю-
бом случае, откуда бы оно ни происходило.
Подпись: Александр граф Строганов28.
Как уже отмечалось, Ромм к этому времени отнюдь не был новичком на
ниве просвещения, поскольку уже не один год давал в Париже частные уро-
ки математики. И все же его познания в области педагогики носили гораздо
более теоретический, нежели практический характер. Об этом, в частности,
мы можем судить по его записке старшему Строганову, где Ромм излагает
свои педагогические принципы. Ее французский оригинал опубликован в
книге великого князя Николая Михайловича. Был ли это упоминаемый в
контракте план воспитания или некий промежуточный набросок к нему, к
сожалению, не известно, как, впрочем, и точная датировка документа. Из
текста можно лишь понять, что он появился на свет где-то в самом начале
педагогической карьеры Ромма. Ввиду важности источника привожу его в
русском переводе полностью:
Осознавая всю важность миссии, которую я, сударь, выполняю в отношении
Вашего сына, и желая оправдать Ваше доверие, я не пренебрег ничем, что мне
казалось важным, при составлении плана мудрого и обдуманного ведения
дел. Три основных пункта составляли предмет моих изысканий: физическое
воспитание, нравственное воспитание и образование. Идеи, представляемые
мною на Ваш суд, я почерпнул из книг Тиссо, Руссо и Локка, а также из частых
бесед на сей счет с просвещенным другом. Я понял, что, не имея возможности
на равных участвовать вместе со своим учеником в большинстве его занятий и
упражнений, я должен все свое внимание сосредоточить на том, чтобы они осу-
ществлялись наилучшим образом, дабы извлечь из них все возможные плоды.
Теперь я становлюсь для него вторым отцом и отношусь к нему именно так, а
он во всякое время может рассчитывать на мою дружбу, любезность и доброту
в сочетании с твердостью. То, что я, пока находился рядом с ним, узнал о его
характере и хороших способностях, позволяет мне надеяться, что мои усилия
не останутся безуспешными; мое самое горячее желание - вернуть его Вам до-
стойным любви родителей и уважения всех порядочных людей29.
Как видим, Ромм указывает четыре источника своих познаний в об-
ласти педагогики, однако их влияние на него было далеко не одинаково.
Определяющую роль в формировании педагогических взглядов Ромма
сыграло учение Жана-Жака Руссо. Именно благодаря ему во второй по-
ловине XVIII столетия обрели новую жизнь педагогические идеи, сфор-
мулированные в конце XVII в. английским философом Джоном Локком:
Руссо их широко использовал и существенно развил в знаменитом романе
«Эмиль, или О воспитании» (1762). В свою очередь, труд Руссо произвел
большое впечатление на Самюэля-Огюста Тиссо, швейцарского врача и
автора широко известного в то время сочинения по гигиене. Тиссо подру-
жился с автором «Эмиля» и стал активно популяризировать его взгляды.
И наконец, упоминаемый в записке «просвещенный друг» Ромма - это
граф А.А. Головкин, состоявший в постоянной переписке с Тиссо и также
являвшийся горячим приверженцем руссоистского воспитания.
В 1762 г., когда вышел в свет «Эмиль», у жившего в ту пору в Швейца-
рии графа Головкина родился сын, которого он решил воспитать в строгом
соответствии с принципами Руссо. Такую же судьбу он уготовил и своей
дочери, родившейся четырьмя годами позже. Руссо, узнав об этом экспе-
рименте от общих друзей, в частности от Тиссо, с интересом наблюдал за
ним издалека, а когда Головкин в 1770 г. перебрался с семьей в Париж, они
стали время от времени встречаться и обсуждать интересующие обоих про-
блемы воспитания30.
Так же как Руссо, Ромм был увлечен идеей формирования нового че-
ловека и, подобно Головкину, готов был заняться осуществлением ее на
практике. Предложение А. С. Строганова открывало для этого едва ли не
идеальную возможность. Любопытно отметить, насколько полно совпада-
ли разработанные умозрительным путем требования Руссо к совершенно-
му воспитанию с реальными условиями контракта Ромма. Так, по мнению
Руссо, «воспитатель ребенка, вопреки обычному мнению, должен быть
молод, и даже так молод, как только может быть молод человек умный»31.
Ромму в 1779 г. было 29 лет.Руссо заявлял, что ребенок с рождения и до со-
вершеннолетия должен иметь одного-единственного воспитателя. И хотя
Павлу Строганову в 1779 г. уже исполнилось семь, в остальном требова-
ние автора «Эмиля» было полностью соблюдено: заключенный с Роммом
контракт предполагал, что наставник станет заниматься воспитанием до
совершеннолетия ребенка.
Руссо считал, что подобный опыт воспитания не требует наличия соот-
ветствующего опыта:
Хотят, чтобы воспитателем был человек, завершивший воспитание хотя бы
одного ребенка. Слишком большое требование! Один человек может иметь
один такой опыт; если бы для успеха дела нужно было два, то по какому же
праву воспитатель брался бы за первое? С приобретением большой опытности
можно было бы лучше действовать; но для этого не хватало бы уже сил. Кто на-
столько хорошо выполнил эту должность, что почувствовал все ее трудности,
тот не покусится снова взяться за нее»32.
Ромм, хотя и обладал опытом преподавания, воспитателем действи-
тельно становился впервые.
Руссо полагал, что для получения от его системы необходимого эффек-
та ученика надо брать из богатой семьи:
Бедняк не нуждается в воспитании; воспитание со стороны его среды - вы-
нужденное; он не мог бы иметь другого. Напротив, воспитание, получаемое бо-
Многоликий Жильбер Ромм
185
о> I Игра в Другого
гатым от своей среды, менее всего ему пригодно как для него самого, так и для
общества. К тому же естественное воспитание должно делать человека годным
для всех человеческих состояний; а воспитывать бедняка для богатой жизни
менее разумно, чем богача для бедности; ибо если принять в расчет числен-
ность того и другого состояния, то разорившихся больше, чем поднявшихся
вверх. Выберем поэтому богатого: мы по крайней мере будем уверены, что у нас
стало одним человеком больше, тогда как бедняк может сам по себе сделаться
человеком. В силу того же обстоятельства я не прочь, чтобы Эмиль был из хо-
рошего рода»33.
Павел Строганов как раз и принадлежал к одной из наиболее богатых и
знатных семей русской аристократии.
И наконец, Руссо требовал, чтобы наставника и воспитанника никогда
не разлучали друг с другом иначе, как с их обоюдного согласия34. Контракт
Ромма предусматривал настолько тесное сосуществование с учеником, что
даже слуга у них должен был быть общим.
Возможно, столь полное совпадение перечисленных Руссо гипотетиче-
ских условий идеального воспитания с реальными обстоятельствами Ром-
ма и настроило последнего на оптимистический лад, когда он 11 мая 1779 г.
делился с Дюбрёлем планами относительно своего ученика: «Поскольку
хочу сделать из него человека, именно таковым он выйдет из моих рук»35.
Характерно, что Ромм почти дословно процитировал Руссо: «Выходя из
моих рук... он будет прежде всего человеком»36.
Граф Александр Строганов, истинный сын века Просвещения, на-
столько верил в благотворную силу рационалистических идеалов, что с
готовностью предоставил сына для педагогического эксперимента, нимало
не смущаясь тем, что система воспитания Руссо носила исключительно
умозрительный характер и не опиралась на практический опыт, ведь раз-
работавший ее философ сам не вырастил ни одного ребенка, а собственных
детей, как известно, отдал в приют. Более того, первые результаты приме-
нения этой теории на практике, хотя бы тем же графом Головкиным (кото-
рый, правда, с ведома самого философа ее несколько модифицировал), не
вполне соответствовали ожидаемым. Так, Руссо полагал, что воспитанник,
из которого сформируют «человека вообще», затем легко сможет войти в
общество и адаптироваться к любым условиям: «Всем, чем должен быть
человек, он сумеет быть, в случае надобности, так же хорошо, как и всякий
другой, и, как бы судьба ни перемещала его с места на место, он всегда бу-
дет на своем месте»37. В реальности же воспитываемые подобным образом
дети графа Головкина испытывали проблемы с адаптацией в обществе, ибо
их поведение с недоумением воспринималось окружающими как излишне
эксцентричное. Вот, например, какое впечатление произвела 13-летняя
дочь графа Головкина на одного из современников, тогда еще тоже ребенка:
И наконец, остановлюсь на мгновение, нет, не на графе Головкине, с кем мой отец
также беседовал, а на его дочери, показавшейся мне одним из тех феноменов,
которые оставляют неизгладимый след в памяти. То, что ее отец рассказывал о
ее воспитании, в высшей степени удивило меня. Я не переставал глазеть на эту
барышню в мужской одежде и не мог представить себе, что она питается одними
лишь овощами и молоком, каждый день ныряет в холодную воду, плавает, как
моряк, ездит на лошади, как жокей, стреляет, как офицер, и может совершить
пешком дневной переход. Одним словом, я не понимал, что она собою представ-
ляет, и не воспринимал ее ни как девочку, ни как мальчика»38.
Впрочем, решение было принято, договор с Роммом заключен, и в
сентябре 1779 г. граф Строганов с женой и сыном, которого сопровождал
наставник, покинули Париж. 30 ноября они прибыли в Петербург.
Уже очень скоро Ромм почувствовал издержки своей новой должности.
Социальный статус француза-учителя в России был не слишком высок, и
графиня Строганова не замедлила дать Ромму это почувствовать. Великий
князь Николай Михайлович опубликовал фрагмент из письма Ромма гра-
фине, показывающий, сколь напряженные отношения установились между
гувернером и матерью Попо:
Если бы я был у Вас в доме частным человеком, свободным от каких-либо
обязанностей, недоразумения, возникающие между нами, были бы столь же
смешны для меня, сколь несправедливо то, из-за чего я сочтен недостойным
Ваших милостей... Но Вы забываете, что доверили мне самое дорогое, что у Вас
есть на свете... Я снесу невнимательность, несправедливости, капризы, но уни-
жение и оскорбление - никогда... Только из долга я сопровождаю Вашего сына
в свете. Недоверие и в некотором роде бесчестие, составляющие в этой стране
удел гувернеров, слишком задевают мою чувствительность, чтобы я не старал-
ся изо всех сил как можно меньше тревожить своим присутствием тех особ из
Вашего круга, кому противно дышать одним воздухом с учителем (outchitel).
Наученный собственным опытом, я от всего сердца жалею тех чувствительных
людей, кому приходится здесь заниматься тем же делом, что и мне»39.
Хотя письмо не датировано, а великий князь относит его к тому перио-
ду, когда графиня Строганова уже перебралась жить под Москву, из текста
совершенно очевидно, что оно относится ко времени проживания Ромма
и матери Попо под одной крышей, т. е. к самому началу его пребывания в
России.
Впрочем, вскоре Ромм оказался избавлен от неприятного соседства.
После возвращения графини Строгановой ко двору за нею стал ухажи-
вать фаворит императрицы И.Н. Римский-Корсаков, быстро добившийся
взаимности. Узнав про их связь, Екатерина II отправила графиню на по-
стоянное проживание в ее подмосковное имение Братцево. Оставшийся же
в Петербурге Александр Сергеевич почти все время проводил в царском
дворце, полностью препоручив сына заботам наставника. От Павла разрыв
между родителями долгое время скрывали40.
Так Ромм оказался по отношению к ученику на положении «второго
отца», проводя с ним гораздо больше времени, чем родители. Впрочем, в
этот период его обязанности воспитателя собственно и сводились только
к повседневному общению с подопечным. Согласно теории Руссо систе-
матическое образование, или, говоря словами этого философа, «книжное
обучение», противопоказано детям до 12 лет. «Если природа, - писал автор
«Эмиля», - дает мозгу ребенка мягкость, которая делает его способным
Многоликий Жильбер Ромм
187
Игра в Другого
воспринимать всякого рода впечатления, то это не для того, чтобы на нем
начертывали названия королей, чисел, термины геральдики, космографии,
географии и все те слова, не представляющие никакого смысла для его
возраста и никакой пользы для какого бы то ни было возраста, которыми
обременяют его грустное и бесплодное детство...»41 По мнению Руссо, с ре-
бенком этого возраста наставник должен заниматься лишь нравственным
и физическим воспитанием в процессе их повседневного сосуществования.
Однако, хотя Ромм ежедневно и общался с Попо, обязанности вос-
питателя, судя по переписке с друзьями, занимали в тот момент далеко не
первое место среди его интересов. Во всяком случае, если бы не изредка
встречающиеся в письмах Дюбрёлю ремарки, вроде «я доволен своим
учеником» или «мой ученик доставляет мне приятные минуты»42, непосвя-
щенный читатель мог бы подумать, что перед ним корреспонденция скорее
путешественника-натуралиста, изучающего другую страну, нежели чело-
века, основным занятием которого является воспитание ребенка. И только
однажды Ромм, отвечая на многочисленные жалобы Дюбрёля, что редко
пишет, заявил: «Я занят здесь лишь одним делом, которое полностью погло-
щает все мое время, определяет все мое поведение и не позволяет заняться
ничем, что могло бы меня отвлечь. Я не знаю здесь никаких развлечений,
отказываясь от них, дабы целиком сосредоточиться на своих занятиях»43.
Впрочем, на фоне других писем Ромма, изобилующих сведениями о его
___ путешествиях, научных штудиях и о придворной жизни, подобное замеча-
188 ние выглядит всего лишь не очень убедительным оправданием в ответ на
сетования друга.
Да и в переписке 1780 г. между Роммом и старшим Строгановым, со-
провождавшим императрицу в Могилев на встречу с Иосифом II, теме вос-
питания Попо в целом отведено весьма скромное место. В своих письмах
Ромм с увлечением излагает парижские новости, сообщенные ему графом
Головкиным44, пространно толкует о роли иезуитов в европейской поли-
тике45, обсуждает финансовые вопросы46 и лишь мимоходом упоминает о
подопечном, как то: «Попо чувствует себя хорошо»47.
И только в послании от 20/31 мая Ромм достаточно подробно рас-
сказывает о пешей прогулке с воспитанником на Каменный остров. Судя
по всему, подобные вылазки за город совершались ими регулярно, ведь
согласно теории Руссо они составляли важный элемент воспитания, осо-
бенно в раннем возрасте. На сей раз прогулка ознаменовалась случаем,
который наставник счел необходимым описать особо. По пути им встре-
тился бедняк, просивший милостыню, особенно часто повторявший сло-
во «безруком» (Ромм пишет его по-русски). Услышав, Попо обернулся,
увидел, что несчастный действительно не имеет руки, и отдал ему деньги,
которые накануне получил на свои карманные расходы. «Мне это особенно
понравилось потому, - сообщает Ромм, - что он сделал это не афишируя,
а исключительно из чувства жалости, которое у него вызывают нищета и
страдание»48.
Впрочем, далеко не всегда поведение воспитанника заслуживало одо-
брение учителя. Так, в постскриптуме к письму от 27 мая Ромм сетует на
рассеянность, легкомыслие, инертность и леность своего ученика и просит
его отца повлиять на мальчика, чтобы их побороть49. Пожалуй, впервые в
этой жалобе проявилось то различие темпераментов наставника и его по-
допечного, которое в дальнейшем станет основой для серьезных конфлик-
тов между ними. Реальный ребенок оказался не похож на придуманного
Эмиля, и это все больше будет вызывать растерянность, пессимизм и раз-
дражение у его наставника.
Хотя педагогическая система Руссо не предполагала систематического
образования для детей до 12 лет, двумя предметами Попо все-таки занимал-
ся, правда, Ромм не преподавал ему ни один из них. Во-первых, мальчику,
жившему с рождения в Париже и говорившему только по-французски,
теперь пришлось осваивать русский язык. Разумеется, в этом Ромм помочь
ему не мог и решил хотя бы изучать язык вместе со своим подопечным, о чем
еще до отъезда в Петербург сообщил Дюбрёлю в письме от 11 июня 1779 г. 2
В том же послании Ромм отмечал и еще одну область, где его компетенция о
оказалась недостаточной: «Религиозное образование ребенка вовсе не вхо- g
дит в мои обязанности, однако, поскольку истинная мораль от религии не §
отделима и поскольку, чтобы знать людей, необходимо изучать их предрас- &
судки и средства с таковыми бороться, я считаю необходимым беседовать
с ним о религии. Доверие, коим меня одарили его родители, позволяет мне §
не опасаться, что здесь я встречу какие-либо препятствия»50. Упоминание о О'
«предрассудках» отнюдь не означало, что Ромм, в духе материалистической
философии Просвещения, относил к таковым и саму религию. Напротив, как о
показывают его письма друзьям, она в то время составляла неотъемлемую 2____
часть его мировоззрения. Например, 20 июля 1776 г. он предлагал захворав- 189
шему Дюбрёлю искать утешения именно в вере: «Религия способна придать
всем, кто ее исповедует, то мужество, что позволяет, не закрывая глаза на
наши несчастья, ими пренебрегать, обращаясь к возвышенным материям...»51
Тем не менее католик Ромм не мог быть наставником в религии для ребенка
из православной семьи.
Таким образом, хотя Ромм и заверял своих риомских друзей: «Мне одно-
му и только мне поручено это воспитание, я один буду его вести и отвечать за
результаты, хорошие или плохие»52, из сферы его компетенции выпали столь
важные для формирования детского сознания предметы, как язык и религия.
Более того, это были единственные предметы, которыми Попо предстояло
систематически заниматься в том нежном возрасте, когда восприимчивость
наиболее высока. К сожалению, имеющиеся у нас источники не содержат
имени того русского учителя (или учителей), кто давал Павлу Строганову
эти уроки.
В своей педагогической системе Руссо придавал большое значение пу-
тешествиям, позволяющим ребенку через непосредственное восприятие
познавать окружающий мир и одновременно приучающим преодолевать
трудности. Ромм, как мы видели, строго следовал этой рекомендации, на-
чав в первый год своего пребывания в России с пеших прогулок за город.
Уже в 1781 г. он и Попо предпринимают грандиозный вояж по маршруту
Петербург - Москва - Нижний Новгород - Казань - Урал, сопровождая
графа Строганова в поездке к его пермским владениям. Как показывают
путевые дневники Ромма53, это путешествие дало ему богатый материал
для штудий в сфере естествознания. Что же касается педагогического
эффекта от поездки, то, к сожалению, данный аспект в записях Ромма от-
о I Игра в Другого
ражения не получил. Единственный пассаж в них, где присутствует его
воспитанник, - описание посещения казанской мечети.
Все последующие путешествия Ромм со своим воспитанником совер-
шал уже самостоятельно. В 1783 г. они посетили Выборг и знаменитый
водопад Иматра, в 1784 г. - Карелию и Соловки.
Зато о самих этих путешествиях начиная с 1784 г. нам известно гораздо
больше, нежели о предыдущих. Дополнительным источником для нас слу-
жат письма Павла. Мальчик, которому исполнилось 12 лет, отныне регу-
лярно извещает отца обо всем, что считает достойным внимания. Учитывая
подобное содержание и регулярный характер его корреспонденции, логич-
но предположить, что она являлась частью дидактической системы Ромма:
у мальчика вырабатывались навыки правильной письменной речи, а также
происходило осмысление и закрепление в памяти увиденного. Так, в пись-
ме из Новой Ладоги от 7 июня он рассказывает об особенностях местного
ландшафта и о руинах старинной крепости, в письме из Петрозаводска от
24 июня - - о построенной Петром I церкви и об испытании на оружейном
заводе прочности пушечных стволов54. То, что получаемые таким образом
сведения носят довольно разрозненный и беспорядочный характер, ничуть
не смущало его наставника. В своем педагогическом дневнике, от которого
до нас, к сожалению, дошли только отрывки, опубликованные де Виссаком,
Ромм высказывал на сей счет следующее соображение:
Попо не запомнит всех деталей фабрики, всей совокупности операций, со-
ставляющих ремесло; но их запомню я; именно на это будет обращено все мое
внимание; он будет присутствовать при этом, и потом каждый день я буду
напоминать ему, что в таком-то месте отливают орудия, а в таком - делают
полотно... Он поймет смысл моих бесед с ним, когда станет старше55.
В письме от 28 января 1785 г., адресованном графине д'Арвилль, с
которой Ромма связывали давние дружеские отношения, он так пояснял
дидактический смысл путешествий:
В мои планы входит дать Попо представления о географии, сельском хозяйстве,
естественной истории, познакомить его с нравами и потребностями народа,
пересекая вместе с ним просторы, а не занимаясь бесплодными рассуждениями
в кабинете. Россия и русский народ - вот что я прежде всего хочу сделать пред-
метом его познания, дабы укрепить узы, которые должны связывать его с роди-
ной, и дабы он однажды не вернулся на нее с тем отвращением, которое столь
характерно для его соотечественников56.
Ромм также отводил путешествиям важную роль в деле физического
воспитания Павла.
Моему ученику 13 лет, - писал наставник в своем дневнике, - он приближа-
ется к тому возрасту, когда страсти определяют нрав и образ жизни, почему
и нуждаются в обуздании. Склонность к развлечениям живым, но невин-
ным, - вот та узда, которую я для них готовлю. Попо имеет вкус к верховой
езде, возрастающий день ото дня. Он любит физические упражнения, ходьбу,
усталость. Путешествие хорошо приспособлено для того, чтобы превратить эти
склонности в привычку и чтобы приучать к голоду, жажде, жаре и холоду. Вот
почему я предпочитаю кибитку любому другому транспорту. Вот почему беру
с собою лишь минимум провизии. Повсюду, где есть люди, мы найдем себе про-
питание. Молоко, яйца, дикие плоды составляли его рацион даже в столице
великой Империи...57
Впрочем, сколь бы ни были важны путешествия, но с достижением
Павлом 12-летнего возраста настало время для регулярных занятий с ним
и по другим предметам, кроме русского языка и Священного Писания. Эти
предметы упоминаются в одном из тех писем Ромма, с которыми он об-
ращался к воспитаннику, когда был недоволен его поведением: «Чтению g
классиков, естественной истории, геометрии, изучению вашего родного о
языка вы предпочитаете хороший стол и покой, которые вы покидаете толь- §
ко для того, чтобы беспокоить прислугу или мучить собаку»58. К вопросу об §
отношениях учителя и ученика мы еще вернемся, а пока отметим лишь, что
программа занятий Ромма с Павлом Строгановым полностью соответст-
вует рекомендациям Руссо. Автор «Эмиля» считал чтение античной лите- |
ратуры эффективным средством нравственного воспитания59, а геометрию
одной из необходимых наук60. Что же касается естественной истории, то
ее изучение являлось частью того познания природы, которое составляло о
суть руссоистского учения. Свои соображения на сей счет Ромм изложил в s
педагогическом дневнике: 191
Охота за камнями, как за дичью, - вот еще одно занятие, вкус к коему я по-
пытаюсь у него выработать. Она занимает чувства, наполняет тело усталостью
и оставляет душу в незапятнанной чистоте. Дабы достичь этой цели хотя бы
частично, мы связались со старым охотником, страстным любителем подобного
занятия и добрым отцом семейства, и берем с собою молотки и зубила - инстру-
менты, без коих не ходит истинный минералог61.
Характерно отсутствие в программе гуманитарных дисциплин, в част-
ности истории и современной литературы. Это диктовалось принципами
Руссо, предостерегавшего от преподавания детям отвлеченных идей, не
связанных с непосредственным восприятием материальных предметов.
Так, к 15 годам его гипотетический «Эмиль обладает знаниями лишь в
сфере естественных и чисто физических наук. История ему незнакома
даже по имени; он не знает, что такое метафизика и мораль. Он знает су-
щественные отношения человека к вещам, но ему незнакомо ни одно из
нравственных отношений человека к человеку. Он плохо умеет обобщать
идеи, создавать отвлечения»62. Однако подобный подход отвечал и вку-
сам самого Ромма, который еще до начала своей педагогической карьеры
выказывал резкое неприятие гуманитарных наук как совершенно бес-
полезных. В одном из писем 1779 г. он признавался Дюбрёлю:
Я ненавижу историю почти так же, как и обычную литературу! Хотите ли вы,
чтобы я сам прокомментировал проклятие, каковое только что изрыгнул? Стиш-
ки, романы, большие и малые поэмы - все эти безделушки нашей литературы,
ю I Игра в Другого
в которых обычно восхищаются изяществом, свежестью, энергией, чистотой,
яркостью, богатством содержания, гармонией стиля, для меня лишь несносная
безвкусица. Чтение ее кажется мне занятием настолько пошлым, что все назы-
ваемое в сем жанре гениальными творениями, все вызывающее благосклонную
улыбку наших бабенок (femmlettes) и похвалы наших льстецов, заставляет меня
зевать до смерти. Я не нахожу здесь ничего, кроме слов и фраз, слов и фраз, да
еще красивой бумаги. Вот мое кредо в отношении литературы...63
Со вступлением Павла в подростковый период серьезные изменения
претерпели не только его занятия, но и отношения с наставником. Мы
видели, что и ранее в корреспонденции Ромма А.С. Строганову про-
скальзывали жалобы на «инертность и леность» воспитанника. Теперь
же конфликты между учителем и учеником приобретают порою довольно
острый и затяжной характер, о чем можно судить по весьма резкому тону
писем, которые Ромм писал Павлу, избегая в такие периоды прямого
общения. Например:
Вот уже две недели, как вы отвергаете мои заботы и презираете мою дружбу,
больше не спрашивая совета относительно ваших занятий и вашего поведения.
На вас наводят скуку, заставляют зевать и усыпляют те интересные и поучи-
тельные занятия, что необходимы каждому человеку, желающему иметь поло-
жение в обществе, и особенно тому, кто хочет избрать военную карьеру. <...>
Вы встаете только в девять часов утра, забывая, неблагодарный сын, исполнить
свой долг перед отцом; то, что должно быть для вас самым святым, вам безраз-
лично, то, чему вы должны посвящать весь день, не занимает вас и секунды.
Итак, отказавшись от моих забот ради своей самостоятельности, вы впали в
невежество, чревоугодничество, лень, неучтивость и самую возмутительную
неблагодарность. Несчастный! если это будет продолжаться, вы скоро станете
самым презренным, самым отвратительным существом64.
Великий князь Николай Михайлович, опубликовавший данный до-
кумент, его никак не датировал. Судя же по тексту, речь идет о периоде,
когда у Павла уже начались регулярные занятия учебными предметами, но
жил он еще в доме отца, т. е. примерно о второй половине 1784 - первой
половине 1785 г.
Ромм болезненно переживал возникавшие в ходе воспитательной рабо-
ты трудности: «создание человека» оказалось в реальности гораздо более
сложным делом, нежели описывал Руссо. Усиливалась и ностальгия по
родине. Все эти обстоятельства повергали Ромма в глубокую депрессию.
К середине 1785 г. он пришел к решению уехать из России в самое ближай-
шее время, что вызвало кризис в его отношениях с графом Строгановым.
Ромм даже покинул его дом и перебрался жить во французское посольство.
Вскоре, однако, размолвка была улажена усилиями его друзей - посла
Франции в России графа де Сегюра и секретаря посольства шевалье де
ла Колиньера. Стороны пришли к договоренности, что наставник юного
Строганова проведет еще один год в России, путешествуя со своим подо-
печным по южным областям, а затем оба отправятся в Западную Европу
для продолжения образования Павла.
Примерно во второй декаде июля 1785 г. Ромм и его ученик, как всегда
скромно, в простой кибитке, запряженной тройкой, покинули Санкт-
Петербург. Их сопровождали двое слуг и крепостной художник Андрей
Воронихин. 17 июля Павел пишет отцу уже из Москвы, подробно рас-
сказывая о посещенных по пути солеварнях в Старой Руссе65. Любопытно
отметить, насколько свободно мальчик ориентируется в деталях произ-
водственного процесса, сравнивая его с тем, что он ранее видел в Перми.
Метод наглядного обучения, использовавшийся Роммом, дал в этом случае
весьма успешный результат. В Москве путешественники задержались не-
надолго и двинулись дальше на юг. В Туле они подробно ознакомились с
оружейными заводами, о чем Павел рассказал отцу в послании от 28 июля,
отправленном из Орла66. Письмо от 9 августа Попо направил своему роди-
телю уже из Киева67. Оно заслуживает быть особо отмеченным, поскольку
впервые Павел написал по-русски, что свидетельствовало о его несомнен-
ных успехах в изучении этого языка. Содержание же послания составляют
сведения об устройстве деревенских мазанок и о выращиваемых на Украи-
не сельскохозяйственных культурах. В дальнейшем Попо продолжал под-
робно рассказывать отцу об увиденном. В Киеве, где Ромм и его ученик
провели более полугода, Павел, посещая многочисленные достопримеча-
тельности, получил богатые, хотя и достаточно разрозненные, сведения по
русской истории.
Хотя из Киева Павел писал отцу достаточно часто и подробно как по-
русски, так и по-французски, он весьма скупо сообщал о том, как продол-
жается его учеба. Фактически он упоминает лишь о занятиях русским, в
частности по книгам, посвященным российской истории, и богословием.
Так, 5 октября он пишет:
...конешно буду, как вы мне приказали, примерно упражняться в обучении Ка-
техизиса и руской граматики, ибо оные две вещи могут быть самые нужные для
такого человека, которой должен жить на свете. Учитель, которого мы имеем,
очень хорош и очень ясно толкует. Мы следуем Катехизис Платонов, которой
по мнению здешняго митрополита, самой лучей для меня. Мы следуем грама-
тике Московского университета. Мы тоже с ним упражняемся в российской
истории и из нее делаем выписки, которые он нам диктует, чтоб нас обучить и
правописанию68.
В послании от 13 февраля 1786 г. речь также идет лишь о чтении исто-
рической литературы на русском языке:
Мы имеем собрание писем Петра Великаго к графу Апраксину. Иные из них
очень хороши. В одном нашли, что он употреблял каторжников на сражениях
вместо солдат и становил их обыкновенно на первом ряду. Во всех в сих пись-
мах видно, что он весьма учтиво ко всем писал. Мы тоже читаем по вечерам
перевод анекдотов о Петре Великом, которые уже совсем переведены на руской
язык Матвеем Семеновичем и детми ево. Оное чтение мне весьма нравится69.
И наконец, в письме от 1 марта 1786 г., специально посвященном теме
учебы, также упоминается лишь о тех же самых предметах:
Многоликий Жильбер Ромм
193
I Игра в Другого
Вы желаете знать разположение наших упражнений и в чем состоят, что увиди-
те из сего росписания. От пяти до десяти часов, в котором я, как по расписанию
видно, сам себе упражнение избирал. Иногда читал историю, из которой поутру
выписки делал, или анекдоты Петра Перваго, так же историю нашей фамилии.
В том же времяни я с Андреем [Воронихиным] чертил разныя планы. Когда
дни стали короче, мы сперва делали выписки, а потом попеременно гуляли или
фиктовали [фехтовали]70.
Удивительно, но тема учебы не получила отражения и в корреспон-
денции Ромма А.С. Строганову, за исключением самого первого письма,
отправленного сразу же по приезде в Киев 10 августа 1785 г. В нем Ромм
подробно очертил план предстоящих занятий:
Вы знаете, г-н Граф, что мы намерены воспользоваться пребыванием здесь,
на которое вы дали свое согласие, для совершенствования в русском язы-
ке. Этому предмету мы уделим большую часть нашего времени, поскольку
он имеет наибольшую значимость в возрасте вашего сына и должен пред-
шествовать методичному изучению наук. В Петербурге мы занимались им
каждый день, но в Киеве для этого будет еще больше возможностей. Вдали
даже от того немногого, что могло его отвлекать, ваш сын добьется еще
больших успехов в постижении своего родного языка. Я надеюсь, что г-н
Митрополит нам поможет подыскать хорошего учителя. Что касается дру-
гих занятий, то мы продолжим их так же, как делали это в Петербурге, до-
бавив к ним еще и рисование. Лапта и верховая езда для нас, к сожалению,
невозможны, но прогулками за город и по городу, купанием и плаванием
пренебрегать не будем71.
Однако в дальнейшем эта тема полностью исчезает из писем Ромма.
Похоже, с регулярным изучением тех дисциплин, которыми он ранее
сам занимался с Попо, дело пошло не так гладко, как предполагалось.
Возможно, в письмах Павла потому и упоминаются только те предметы,
которые ему преподавали другие учителя, что уроки его постоянного
наставника если и имели место, то были не столь интенсивны, как в
Петербурге.
Позволю себе предположить, что причиной этого могло стать даль-
нейшее осложнение отношений между воспитателем и его подопечным.
Во всяком случае, именно на эту мысль наводит более чем пространное
письмо Ромма А.С. Строганову, опубликованное в книге великого князя
Николая Михайловича72. Документ не датирован, но, судя по упоминанию
об уроках русского языка с наемным учителем в Киеве, о том, что Ромм
занимает свое место «уже более семи лет» и что продолжать образование
Попо в России невозможно, письмо было написано в 1786 г., примерно
между 1 мая (седьмая годовщина подписания контракта) и концом июня
(отъезд Ромма и Павла за границу). Послание выдержано в драматичных
тонах: Ромм жалуется, что с приближением созревания Попо заниматься с
ним становится все труднее из-за его «моральной лености», невниматель-
ности, инертности, вялости. Наставник прямо заявляет о своей неспособ-
ности найти подход к подопечному:
Многоликий Жильбер Ромм
Господин Граф, я признаю свое бессилие. Я чувствую себя абсолютно неспо-
собным достичь даже посредственных успехов на этом тернистом поприще.
Опыт более чем семи лет дает мне право признаться в своей полной непригод-
ности. Теперь я жалею о том, что столь долго занимал место возле вашего сына,
которое кто-нибудь другой мог заполнить с большей пользой для него и к боль-
шему удовлетворению для вас и всех тех, кто заинтересован в его воспитании73.
Учитывая подобные настроения Ромма, вполне логично предполо-
жить, что в период пребывания в Киеве основная нагрузка по образова-
нию Павла Строганова лежала на русских учителях, преподававших ему
богословие и русский язык, а также на Воронихине, занимавшемся с ним
рисованием.
Прежде чем покинуть Россию летом 1786 г., как это было заранее ого-
ворено с графом Строгановым, Ромм и его ученик с марта по май совер-
шили познавательный вояж в Херсон и Крым - земли, лишь незадолго
до того обретенные Россией. Из путешествия оба вынесли самые богатые
впечатления об удивительной природе Причерноморья, следах античной
цивилизации и самобытной культуре крымских татар74. Вернувшись
в Киев 10 мая, Ромм и младший Строганов провели там около двух не-
дель, после чего проследовали в Петербург. Там они тоже не задержались
надолго и, завершив необходимые формальности, в начале июля отпра-
вились за границу в сопровождении А.Н. Воронихина, получившего на-
кануне вольную. 195
Их путь лежал через Ригу, Мемель, Кенигсберг, Берлин, Страсбург,
Лион в Риом - на родину Ромма, после чего тот повез своего воспитанника
в Женеву для продолжения образования. Там Павла Строганова ожидала
весьма насыщенная программа учебных занятий разными научными дис-
циплинами, которые ему станут преподавать ведущие швейцарские уче-
ные. И роль Ромма в составлении этой программы действительно будет
весьма велика75. Что же касается его просветительской миссии в России, то
рассмотренные нами выше факты заставляют оценить ее гораздо скромнее.
За те шесть лет, что он провел в России, сколько-нибудь систематические
учебные занятия с его подопечным имели место лишь в два последних
года. Да и то сведения об участии в них француза слишком скудны, чтобы
можно было определенно судить об эффективности его усилий. Источни-
ки позволяют с уверенностью констатировать лишь достигнутый Павлом
Строгановым за этот период прогресс в изучении русского языка, Священ-
ного Писания и российской истории, но к освоению ни одной из указанных
дисциплин Ромм прямого отношения не имел. В то же время мы можем с
достаточным основанием утверждать, что программа обучения Попо едва
ли включала в себя, как выразился В.О. Ключевский, «последние слова
тогдашней французской литературы», поскольку сам Ромм питал к ним
нескрываемое отвращение.
По сути, педагогическая деятельность Ромма в России сводилась пре-
имущественно к повседневному общению с учеником и к их совместным
путешествиям по стране. Впрочем, путешествия эти, похоже, носили не
только дидактический характер...
Шпион
Игра в Другого
Биографы Ромма, затрагивая историю его пребывания в России в
1779-1786 гг., обычно упоминают о его штудиях ученого-натуралиста,
который путешествовал от Балтики до Урала, от Белого моря до Черно-
го и поддерживал знакомство едва ли не со всеми видными российскими
естествоиспытателями того времени. Но только ли научными интересами
определялись маршруты его странствий?
Впервые усомниться в этом меня побудило знакомство с одним из до-
кументов рукописного фонда Ромма, хранящегося в западноевропейской
секции архива Санкт-Петербургского института истории РАН. А именно -
с мемуаром «Заметки о военном деле в России в 1780 г.»76. Манускрипт в
семь листов in folio, заключенных в желтую бумажную обложку, не под-
писан, но авторство Ромма легко устанавливается по почерку, полностью
идентичному почерку, которым написаны его письма. Кроме того, на
обложке имеется указание «Manuscrits de G. Romme», сделанное той же
рукой архивиста (полагаю, это был де Виссак), что и аналогичные пометки
на многих других бумагах Ромма, еще в 70-х годах XIX в. составлявших
единый фонд, а ныне рассеянных по архивохранилищам Италии, Франции
и России.
Указанный документ уже достаточно давно известен исследовате-
___ лям биографии Ромма, по крайней мере российским. Еще в 1982 г. его
196 археографическое описание опубликовала И.С. Шаркова77. Любопытно,
что и у нее обстоятельства появления на свет мемуара вызвали недоуме-
ние: «Трудно сказать, с какой целью спустя только год после прибытия в
Россию было написано Роммом это сочинение...»78 Впрочем, какой-либо
версии, объясняющей данный факт, исследовательница не предложила.
А может, мы имеем дело всего лишь с одним из проявлений неуемной
любознательности Ромма? Ведь если его научные интересы могли распро-
страняться на самые разные стороны жизни русского общества, то почему
военное дело России должно было стать исключением? Посещали же дру-
гие путешественники, колесившие по Европе, крепости и парады, не имея
при этом каких-либо задних мыслей и руководствуясь одним лишь любо-
пытством. Так, знаменитый Дж. Казанова, проезжая через Пруссию, с ин-
тересом осматривал потайные ходы Магдебургской крепости и любовался
на потсдамском плацу строевой подготовкой лейб-гвардии Фридриха II, а
находясь в России, три дня наблюдал за грандиозными летними маневрами
1765 г.79
Однако внимательное изучение «Заметок» Ромма показывает, что с
ними дело обстоит далеко не столь просто. Во-первых, не могут не сму-
щать сроки .их составления, на что справедливо обратила внимание Шар-
кова. Ромм прибыл в Россию в самом конце 1779 г., а значит, подготовил
весьма насыщенное деталями описание вооруженных сил России менее
чем за год80. Чтобы собрать столь обширную информацию, да еще не зная
русского языка, ему явно требовалось посвятить данному предмету гораз-
до больше времени и усилий, чем можно было бы ожидать от обычного
путешественника, в равной степени интересующегося всеми сферами жиз-
ни чужой страны. Кстати, отсутствие в известных нам бумагах Ромма за
1780 г. сколько-нибудь значительных рукописей на другие темы, косвенно
подтверждает это предположение.
Во-вторых, наводит на размышления внешний вид мемуара. Большин-
ство путевых дневников Ромма, а также его заметки по географии, бота-
нике и минералогии написаны весьма небрежно и трудны для прочтения,
поскольку предназначались лишь для самого автора. Мемуар же о военном
деле изложен четким, легкочитаемым почерком, каким Ромм писал посла-
ния, предназначенные для чужих глаз.
И наконец, по самому своему содержанию документ скорее напомина-
ет аналитическое исследование, нежели заметки стороннего и праздного
наблюдателя. В тексте то и дело встречаются указания на прилагавшиеся
автором усилия по целенаправленному сбору соответствующей инфор-
мации: «нам до сих еще не удалось раздобыть исчерпывающе подробные
сведения на сей счет», «раздобыть какие-либо подробности об этой ка-
валерии оказалось невозможно» и т. д. Упоминаются факты (например,
маневры Смоленского драгунского полка), непосредственным очевидцем
которых Ромм не был и о которых он мог узнать, лишь опрашивая других
лиц. Один из своих источников он даже указывает: это некий «кавалерий-
ский офицер, считающийся весьма неплохим». По репликам автора можно
также судить, что его сочинение явно рассчитано на квалифицированного
читателя: «Воздержимся здесь от изложения существующей в России но-
менклатуры военных чинов, поскольку полагаем, что она и так известна».
Одним словом, «Заметки» Ромма гораздо больше походят на шпионское
донесение о боеспособности русской армии, нежели на безобидные запи-
ски путешественника. Вот почему знакомство с ними впервые заставило
меня усомниться в том, что деятельность Ромма в России носила исключи-
тельно просветительский характер.
Однако само по себе существование подобного документа еще не дава-
ло оснований утверждать, что его автор выполнял шпионское задание, ведь
мемуар так и не был никуда отправлен и остался в личном архиве Ромма.
Подозрение могло превратиться в уверенность только после обнаружения
неопровержимых свидетельств того, что собранные Роммом сведения о
русской армии предназначались для передачи французскому правитель-
ству. Во Франции того времени не было специализированной службы раз-
ведки и шпионажем по совместительству с дипломатическими функциями
занималось внешнеполитическое ведомство, а значит, доказательства тай-
ной миссии Ромма следовало искать на Кэ д’Орсе, в архиве Министерства
иностранных дел Франции.
Поиск на удивление быстро увенчался успехом. Уже при просмотре
описи 14-го тома серии «Мемуары и документы» (подсерия «Россия»), где
содержатся собранные французскими дипломатами материалы о русской
армии 1745-1828 гг., в глаза бросилось знакомое название «Заметки о во-
енном деле»81. А когда я получил этот манускрипт в шесть листов in folio,
оказалось, что он тоже написан рукою Ромма. И хотя по форме он отлича-
ется от петербургского, тем не менее содержание обоих документов в целом
совпадает, а значительные фрагменты текста даже полностью идентичны.
В парижском мемуаре они лишь скомпонованы по-другому, что сделало
текст более формализованным и существенно облегчило его восприятие.
Многоликий Жильбер Ромм
197
col Игра в Другого
По-видимому, петербургский вариант был написан несколько раньше, а за-
тем послужил основой для парижского. Последний появился в результате
редактирования, сокращения и перекомпоновки автором первого текста,
после чего улучшенная версия была направлена в Париж, а ее прототип
остался в личном архиве Ромма.
Уже само по себе установление факта получения французским прави-
тельством от Ромма информации о состоянии русской армии служит убе-
дительным свидетельством выполнения им в России шпионского задания.
Однако последний абзац парижского мемуара содержит и прямое указание
на подобный характер его миссии: автор документа выражает уверенность
в том, что о результатах его работы докладывают непосредственно королю,
и готовность далее продолжать систематический сбор разведданных о рус-
ской армии.
Впрочем, парижской редакцией мемуара находки в архиве МИД
Франции не ограничились. В том же 14-м томе, где находятся «Заметки
о военном деле», им предшествует еще один любопытный документ, по-
видимому, аналогичного происхождения. А именно - справка о численно-
сти сухопутных сил России под заголовком «Состояние русской армии»82.
В томе имеются два экземпляра этого документа, каждый - на одном листе
in folio. Первый экземпляр (f. 121) написан рукою Ромма, второй (f. 122) -
почерком, идентифицировать который мне не удалось. По содержанию оба
экземпляра совпадают, однако, судя по тому, что некоторые слова, полно-
стью прописанные Роммом, во втором экземпляре для скорости письма
сокращены (например, «hommes» - «horn:»), есть основания полагать, что
второй экземпляр представляет собою копию, которую неизвестный нам
писец снял с документа, составленного Роммом.
На обоих экземплярах справки имеется сделанная красными чернила-
ми пометка архивиста - «1779». Нет ли тут противоречия? Ведь, как мы
знаем, в 1779 г. Ромм провел в России лишь декабрь и вряд ли имел время
до конца года собрать изложенные в справке сведения. На мой взгляд, по-
добная датировка скорее всего объясняется тем, что, занимаясь в 1780 г.
поиском информации о русской армии, Ромм сумел раздобыть данные о
ее численности лишь за предыдущий год. Не исключена, впрочем, и ошиб-
ка архивиста. Как бы то ни было, собственноручное написание Роммом
первого экземпляра справки, ее расположение в архивном деле рядом с
«Заметками о военном деле» и очевидная смысловая связь содержания
обоих документов дают основание считать, что автором справки «Состоя-
ние русской армии» тоже был Ромм.
Все эти документы были в свое время мною опубликованы83, что по-
зволяет здёсь более не останавливаться на их содержании. Отмечу лишь,
что они дали веские основания утверждать: помимо официальной миссии
наставника юного графа Строганова, Ромм выполнял в России и еще одну,
тайную, миссию секретного агента французского правительства.
Кто и когда заказал Ромму собрать сведения о русской армии - кто-то
из людей внешнеполитического ведомства Франции еще в период подго-
товки риомца к отъезду в Петербург либо кто-то из французских диплома-
тов уже в России, - об этом мне ничего не известно. Во всяком случае пока.
Однако кое-какие основания для очень осторожных предположений все
же имеются. Когда до отъезда Ромма в Россию оставались уже считанные
дни, с ним произошло одно очень странное происшествие, о котором он не
утерпел сообщить Дюбрёлю в письме от 24 августа 1779 г.:
В тот момент, когда дата моего отъезда была определена, меня почтил своим
визитом Бомарше, которого я за всю свою жизнь видел только издали. Он
впервые говорил со мною, и все для того, чтобы попросить меня об одной услу-
ге. Я изо всех сил постараюсь сделать то, о чем он меня попросил, хотя и весьма
сомневаюсь в успехе84.
Знаменитый драматург и не менее знаменитый авантюрист являлся с
1774 г. тайным агентом французского правительства, выполняя на между-
народной арене самые щекотливые поручения. В свое время он так сфор-
мулировал свое кредо в письме к Людовику XVI: «Для всего того, что ко-
роль захочет узнать быстро и только для себя, для всего того, что он захочет
сделать тайно и срочно, я всегда к его услугам: моя голова, сердце, руки и
язык готовы служить ему»85. О какой услуге мог попросить Бомарше отъ-
езжающего в Россию Ромма? Уж не о той ли, что привела к появлению
вышеупомянутого мемуара?
Проявленный Роммом повышенный интерес к военному потенциалу
России дает основание предположить, что, намечая маршруты для путеше-
ствий по стране со своим учеником, он мог руководствоваться не только
педагогическими соображениями. Действительно, помимо первой поездки
в 1781 г. на Урал, когда Ромм сопровождал графа А.С. Строганова и, со-
ответственно, не сам выбирал маршрут, все остальные его путешествия
проходили по регионам, имевшим военно-стратегическое значение. Так,
в 1783 г., когда обострились отношения между Россией и Швецией, за
спиной у которой стояла Франция, Ромм повез своего ученика именно в
приграничные со Швецией области - в Выборг. Год спустя он опять-таки
поехал к Белому морю через приграничную со шведскими владениями тер-
риторию - Карелию. Впрочем, в данном случае предположение остается
всего лишь предположением. Фактов, позволяющих утверждать, что в ходе
поездок по Северо-Западу России в 1783-1784 гг. Ромм вновь занимался
сбором разведывательных данных, пока нет. Правда, во время своих путе-
шествий он неизменно проявлял повышенный интерес к российским ору-
жейным заводам и технологии отливки артиллерийских орудий. Однако
сам по себе подобный интерес еще не доказывает наличия некоего тайного
умысла, выходящего за рамки обычной любознательности, по крайней мере
до тех пор, пока не установлен факт передачи Роммом соответствующих
сведений французским властям.
Зато есть достаточно серьезные основания предполагать, что, отправляясь
в продолжительное путешествие по южным областям России 1785-1786 гг.,
Ромм мог руководствоваться именно подобными мотивами. Поскольку ра-
нее мне уже доводилось излагать подробную аргументацию в пользу такого
предположения86, ограничусь здесь лишь ее тезисным пересказом.
Решение отправиться на Юг России Ромм принял тогда, когда, по-
ссорившись с графом А.С. Строгановым, жил в доме французского посла.
Согласие графа на эту поездку стало условием их примирения. Причем
Многоликий Жильбер Ромм
199
о I Игра в Другого
маршрут путешествия был намечен Роммом совместно с французскими
дипломатами: если о своем намерении посетить Крым он известил Строга-
нова лишь письмом с дороги, то секретарь посольства шевалье де ла Коли-
ньер с самого начала знал, что Ромм направляется именно туда. Сведения
о военно-стратегической ситуации в южных областях России, куда поехал
Ромм, представляли в 1785-1786 гг. интерес первостепенной важности
для французского правительства: Версаль подозревал, что Россия пере-
брасывает войска в Причерноморье для нападения на Турцию, и требовал
от французского посла в Петербурге графа Сегюра на сей счет самой под-
робной информации. Соответственно, у французских дипломатов имелись
более чем веские мотивы попросить Ромма отправиться на Юг для ее
сбора. Во всяком случае, в его путевых заметках, помимо разнообразных
натуралистических наблюдений, не раз встречаются записи о посещении
расквартированных в Причерноморье российских воинских частей, при-
чем каждый раз отмечается общая численность их личного состава и число
заболевших; тщательно фиксируются количество и класс военных кора-
блей на стапелях Херсона и в порту Севастополя.
После возвращения в Петербург Ромм поделился впечатлениями об
увиденном с шевалье де ла Колиньером, о чем свидетельствует то, что ряд
наблюдений, зафиксированных в путевых заметках овернца, получил самое
непосредственное отражение в обширном мемуаре «Заметки о нынешнем
состоянии Крыма», который де ла Колиньер составил для французского
правительства, подробно осветив экономическую, политическую и военно-
стратегическую ситуацию в данном регионе. Этот мемуар получил высокую
оценку графа Сегюра и был вместе с рядом других секретных документов
доставлен курьером в Версаль 6 ноября 1786 г.
Семь лет спустя после моей публикации названных источников тема
шпионской миссии Ромма получила новое развитие, правда, в несколько
курьезном направлении. Два историка-любителя - врачи М.В. Далин и
В.А. Фролов - почему-то сочли, что подобный факт биографии будущего
революционера подрывает «канонические представления о “кристальном”
Ж. Ромме, сформировавшиеся в исторической литературе»87, и решили
выступить на воображаемом ими «процессе»88 в качестве его защитников,
доказав, что никакой шпионской миссии Ромм не выполнял.
Несмотря на многообещающую прелюдию: «...во имя принятия справед-
ливого решения нам предстоит длительный процесс погружения в события
конца XVIII в. и в сохранившуюся фактографию»89, авторы не вводят в на-
учный оборот новых источников, а обещанная «фактография» оборачивает-
ся на дейе пересказом содержания хорошо известных исторических работ.
Встречающиеся же время от времени в тексте рассуждения по заявленной
проблеме тонут в обилии подробностей, не имеющих прямого отношения не
только к вопросу об агентурной деятельности Ромма, но и к его пребыванию
в России вообще. Тем не менее, приложив некоторые усилия и вычленив
из потока посторонней информации реплики авторов по существу дела, мы
можем свести их аргументацию к следующим основным тезисам.
После подробного пересказа содержания тех страниц коллективной
монографии «Война за независимость и образование США»90, где опи-
сываются военные действия между Англией и Францией, авторы статьи
заключают: «В свете всего изложенного представляется маловероятным
какой-либо реальный интерес руководителей французского королевства к
конфиденциальной информации о положении в Российской армии по со-
стоянию на 1780 г.»91 Иначе говоря, предполагается, что война с Англией
настолько занимала «руководителей французского королевства», что до
России им не было и дела.
Увы, в основе подобного утверждения - недостаточное знание фактов.
Дипломатическая корреспонденция французского правительства показы-
вает, что война с Англией никоим образом не снижала его интереса к внеш-
неполитическим планам России и к ее возможностям их реализовать. Граф
Верженн, руководивший французской внешней политикой, в переписке
с представителями Франции в Петербурге постоянно призывал их «дер-
жать глаза открытыми», дабы лучше понимать настроения и намерения
русских92. Впрочем, дипломаты и сами усердно собирали разнообразную
информацию о России, в том числе и не в последнюю очередь о ее воен-
ном потенциале. К примеру, консул Лессепс докладывал 5 октября 1781 г.
государственному секретарю маркизу Кастри: «Позволю себе предложить
вниманию Вашей светлости таблицы со сведениями о военных силах Рос-
сии, как сухопутных, так и морских, об ее доходах, расходах, об ее губерни-
ях, судебных учреждениях и администрации, о производстве, фабриках и
торговле...»93 И подобных примеров в дипломатической корреспонденции
достаточно много.
Следующий довод авторов публикации, признаюсь, мне не вполне
понятен. Что они имели в виду, заявляя: «Да и уезжавший из Парижа в
Россию двадцатидевятилетний Жильбер Ромм, математик и педагог, вряд
ли мог смотреться как человек, способный получить такую информа-
цию»94? При подобном построении фразы совершенно не ясно, что именно
побудило их усомниться в способностях Ромма: возраст или профессия
математика-педагога? Вообще-то ни то ни другое не являлось помехой для
выполнения такого задания. В XVIII в., когда во Франции еще не появи-
лась специализированная разведывательная служба, миссия по сбору за
рубежом тех или иных сведений, интересующих французское правитель-
ство, могла быть доверена человеку любой профессии. Требовалась лишь
его собственная готовность такую миссию осуществить. Нередко это могло
быть просто разовое поручение, какое, например, выполнял в 1774 г. зна-
менитый писатель и философ Д. Дидро. Покидая Петербург, он увозил
с собой во Францию документы о военном и экономическом положении
России, добытые французским агентом врачом Н.Г. Клерком, в будущем
прославившимся как историк Леклерк95. А что мешало попросить о подоб-
ной услуге математика и педагога?
Наиболее сложная из задач, поставленных перед собой добровольными
«защитниками» Ромма, - объяснить происхождение упоминавшихся нами
выше документов: написанного Роммом мемуара о русской армии, кото-
рый находится в архиве МИД Франции, и соответствующего черновика в
его личном архиве.
Отсутствие аргументов авторы восполняют свободным полетом
фантазии:
Многоликий Жильбер Ромм
201
ю I Игра в Другого
В июле 1780 г. прибывает новый полномочный министр Франции маркиз де
Верак. Временный поверенный шевалье де Корберон вводит его в курс петер-
бургских событий. <...> Но вот представим себе, что новый посол ... спраши-
вает у шевалье о более серьезных вещах, - к примеру, о состоянии российской
армии. Не получив ответа, он интересуется, а может ли кто-нибудь из француз-
ской диаспоры в Петербурге подготовить для него небольшой мемуар по этому
вопросу? Шевалье вспоминает о недавней встрече с Ж. Роммом у А.С. Строга-
нова и называет «энциклопедиста» возможным кандидатом для выполнения
такой работы. Предложение принимается и передается Ж. Ромму96.
Самое забавное, что, придумав этот эпизод, авторы ничего ровным
счетом не добились. Ведь то, где - в Париже или Петербурге - Ромм по-
лучил от французских должностных лиц поручение или просьбу собрать
сведения о русской армии, сути его действий абсолютно не меняет.
Покинув один раз твердую почву фактов и дав волю воображению,
М.В. Далин и В.А. Фролов уже не могут остановиться и предлагают внима-
нию читателей еще один столь же вымышленный эпизод:
Вот каким нам представляется ход событий, повлекший за собою появление
в конце 1780 г. в руках французского посла в Петербурге маркиза де Верака
мемуара Ж. Ромма «Заметки о военном деле». Маркиз счел это «Рассуждение»
достойным внимания своего патрона и переслал документ графу Шарлю Гра-
вье де Вержену. Видимо, того не очень заинтересовали сведения о ежегодных
расходах российской казны на содержание одного кавалерийского полка,
равно как и дополнительные сведения о деталях обмундирования и содержа-
ния российских солдат. <...> В подобных случаях используется формулировка
«оставить без последствий»97.
Такие тексты, где история подменяется беллетристикой, комментиро-
вать непросто. К счастью, это за меня уже давно сделали классики истори-
ческой науки. Вот что о подобных сочинителях сказал в свое время Б. Кро-
че: «Иногда они ... принимаются рассказывать с уверенностью очевидца то,
что домыслили для полноты картины; им трудно избежать конфуза, если
кто-нибудь с бесцеремонностью enfant terrible их спросит: “А вы откуда это
знаете? Кто вам это сказал?”»98
К столь точному комментарию добавлю лишь одно частное замечание
по существу проблемы. Выше уже говорилось, что справка «Состояние
русской армии» представлена в архиве МИД Франции двумя экземпляра-
ми, написанными разными почерками. Если бы документ действительно не
вызвал интереса у официальных лиц в Версале, как, видимо, хотелось бы
нашим авторам, его бы вряд ли стали копировать.
Основным аргументом против того, что Ромм мог внести вклад в со-
ставление де ла Колиньером «Заметок о нынешнем состоянии Крыма», ав-
торы считают упомянутый в книге великого князя Николая Михайловича
факт совместного отъезда из России Ромма и Колиньера":
Но де ла Колиньер вместе с Ж. Роммом и его спутниками в начале июля 1786 г.
покинул столицу Российской империи, а в конце августа был в столице Фран-
ции. Почему же в таком случае «секретная информация» не оказалась в августе
1786 г. у министра иностранных дел Франции? Почему понадобился особый
курьер для доставки ее в Париж в ноябре 1786 г.? И почему вообще она стала
составляющей секретной депеши № 43, отправленной из Петербурга в Париж
15 октября 1786 г., т. е. спустя 4 месяца после того, как Ж. Ромм навсегда по-
кинул Россию?’00
На все эти «суровые» вопросы есть один простой ответ: никакого со-
вместного отъезда Ромма и Колиньера из России не было. М.В. Далин и
В.А. Фролов с излишней доверчивостью отнеслись к соответствующему
утверждению великого князя. Их не насторожило даже то, что он ошибоч-
но датировал отъезд Ж. Ромма и П.А. Строганова не 1786, а 1787 г.’01 Более
того, вслед за великим князем М.В. Далин и В.А. Фролов «включили» в
число отъезжавших вместе с Роммом молодого барона Г.А. Строганова и
его гувернера Ж. Демишеля102, хотя те на самом деле покинули Россию еще
в июле 1785 г.103 Что же касается шевалье де ла Колиньера, то он получил
отпуск для отъезда во Францию только в ноябре 1786 г.’04, а покинул Рос-
сию и того позже: паспорт для отъезда Коллегия иностранных дел выдала
ему лишь 8 декабря’05. Очевидно, именно в этот период - с июля по октябрь
1786 г. - он и написал «Заметки о нынешнем состоянии Крыма», которые
курьер увез в Версаль вместе с другими секретными документами и с депе-
шей № 43 от 15 октября 1786 г.
Обратив внимание на то, что путешествовавший по Югу России
Ф. Миранда заносил в свой путевой дневник сведения о дислокации рус-
ских войск, во многом схожие с теми, которые сообщались в «Заметках о
нынешнем состоянии Крыма», М.В. Далин и В.А. Фролов заключают:
Но креол ведь не осведомитель, а обычный путешественник, каких в XVIII в.
было множество. И записывает он в путевой дневник лишь ту информацию,
которая российская администрация не относит к разряду секретной. И если эту
же информацию французские дипломаты считают нужным переслать из Петер-
бурга в Париж, зачем нам спустя 220 лет обвинять их в похищении российских
государственных секретов и искать их «тайные связи» среди французской диа-
споры в России XVIII в.?106
В основе этого довода лежит обычный анахронизм. Авторы, вероятно,
не знают, что юридически оформленного понятия «государственная тай-
на» - ключевого для их аргумента (если не похищали государственных
секретов, то не было и шпионажа) - тогда еще не существовало. Тем не
менее для французских дипломатов в Петербурге - а именно дипломати-
ческое ведомство при отсутствии специализированных разведывательных
служб занималось «по совместительству» шпионажем - представляло
немалую трудность получение более или менее подробных сведений даже
о населении или экономике страны пребывания. Российские власти ста-
рались ограничить распространение информации о своем государстве по
весьма широкому кругу вопросов. Например, де ла Колиньер сообщал гра-
фу Верженну как о большой удаче, что сумел раздобыть сочинение по по-
литической географии России, использовавшееся в качестве пособия при
Многоликий Жильбер Ромм I см
I Игра в Другого
обучении дочери великого князя Павла Петровича: «Сей труд не подлежит
публикации, ибо содержит сведения о численности населения в каждой
провинции, что всегда держалось в тайне»’07.
Еще труднее находившимся в Петербурге дипломатам было раздобыть
данные о составе и дислокации русской армии. Так, посол Франции граф
Сегюр сообщал Верженну депешей от 1 апреля 1785 г.:
Несомненно, что Россия держит свои лучшие войска на юге. ...Предпринятые
правительством меры предосторожности и недостаточное развитие торговли
и связи между различными частями империи лишают нас возможности полу-
чить точную информацию о планируемых или предпринимаемых действиях в
удаленных от столицы провинциях108.
Для прояснения картины диспозиции вооруженных сил России в инте-
ресующем французское правительство регионе требовалось не «похищать
государственные секреты» («обвинение» в этом Ромма - еще один плод
фантазии его самозваных «адвокатов»), а поехать туда и собрать необхо-
димые сведения. Пример Миранды показывает, что на месте это было не
очень сложно сделать. Проблема состояла в том, чтобы на это «место» по-
пасть. Российское правительство не слишком охотно разрешало поездки
иностранных дипломатов по своей стране. Так, Колиньер за три года пре-
бывания в России, несмотря на свои изначально обширные планы путе-
шествий, о которых он сообщал в письмах Ромму, смог только однажды
покинуть Петербург, и то лишь чтобы посетить Москву109. Именно поэто-
му путешествие Ромма в Крым, совершенное с ведома, а возможно, и по
инициативе Сегюра и Колиньера, оказалось для них весьма кстати в тот
момент, когда Версаль требовал от посольства подробных сведений о воен-
ных приготовлениях на юге России, а оно вынуждено было оправдываться,
ссылаясь на трудности получения подобных данных.
Как мы смогли убедиться, аргументы, выдвинутые М.В. Далиным и
В.А. Фроловым в опровержение факта шпионской миссии Ж. Ромма в
России, продиктованы либо недостаточным знанием исторических реалий
того времени, либо вовсе представляют собой порождение фантазии. Не
меньше претензий можно предъявить и к той «фактографии», которой
они обильно наполнили свой текст. Пересказывая чужие работы, авторы
не смогли даже точно переписать оттуда имена и титулы упоминаемых
персонажей. Графиня д’Арвиль (Harville) становится у них «герцогиней
д’Анвиль», английский посланник Элейн Фитцгерберт - «Фитцем Гербер-
том», Шаретт де ла Колиньер — «Шарлеттде лаКолиньером», французский
винодел Банк (Banq) - «Бэнксом», француз Жам получает английское имя
«Джеймс», исследовательница И.С. Шаркова фигурирует под именем то
«Ширковой», то «Широковой»110.
Однако подобная неряшливость выглядит лишь досадной мелочью по
сравнению с другими, гораздо более серьезными ошибками, в изобилии
рассыпанными по тексту.
Уже на первой странице своей публикации авторы совершают удиви-
тельное «открытие» относительно происхождения Ромма, сообщая, что он
был «овернским дворянином»111. На следующей странице читатель видит
портрет полного лысого мужчины, которого М.В. Далин и В.А. Фролов
почему-то выдают за Ж. Ромма. Трудно сказать, кто этот «самозванец», но
он не имеет ни малейшего сходства с тем Роммом, что изображен А.Н. Во-
ронихиным на портрете, ныне хранящемся в музее Риома и неоднократно
воспроизводившемся в научной литературе.
На той же странице сообщаются фантастические подробности биогра-
фии покровительницы Ромма графини д’Арвиль (напомню, у М.В. Далина
и В.А. Фролова она проходит под именем «герцогини д’Анвиль»): «...вторая
дочь герцога Александра де Ларошфуко и вдова герцога д’Анвиля, погиб-
шего в 1740 г.»”2 Между тем Мари-Генриетта Августина Рене, в девичестве
Даль Поццо, происходила из пьемонтского княжеского рода де ла Систерна,
родилась 13 февраля 1749 г. и вышла замуж за графа д’Арвиля в 1766 г.”3
Подобные казусы можно перечислять еще очень долго, однако и ска-
занного, думаю, вполне достаточно, чтобы составить исчерпывающее
представление о научном качестве данной публикации. Можно только ис-
кренне пожалеть, что ее авторы не последовали совету Жозефа де Местра,
который сами же вынесли в эпиграф: «Страна сия есть совершенно иной
мир, о котором нельзя рассуждать без основательных знаний».
Что же касается Жильбера Ромма, то едва ли он нуждается в чьей-либо
защите. Именно в качестве тайного агента он сумел добиться наибольших
успехов при выполнении в России своей просветительской миссии. Вот
только просвещал он, вопреки распространенному мнению, не столько жи-
телей этой страны, сколько свое собственное правительство.
Многоликий Жильбер Ромм I см
1 Цит. по: Ключевский В.О. Курс русской
истории // Ключевский В.О. Соч.; В 9 т.
М., 1989. Т. 5. С. 154.
2 Подробнее см.: Чудинов А.В. Фран-
цузские гувернеры в России конца
XVIII в.: стереотипы и реальность //
Европейское Просвещение и цивилиза-
ция России. М., 2004. С. 3.30 .334.
3 Ключевский В.О. Указ. соч. С. 157-158.
4 См., например: «Там [в русском обще-
стве за стенами Смольного института]
уже были известны педагогические
идеи просветителей и существовали
воспитатели типа Жильбера Ромма»
(Лотман Ю.М. Беседы о русской
культуре. Быт и традиции русского
дворянства (XVIII - начало XIX века).
СПб., 2001. С. 82). Подробнее о работах,
посвященных Ромму, см.: Чудинов А.В.
«Русский принц» и француз-«царе-
убийца» (История необычного союза в
документах, исследованиях и художе-
ственной литературе) // Ист. этюды
о Французской революции: Памяти
В.М. Далина (К 95-летию со дня рожде-
ния). М„ 1998.
5 В корреспонденции Ромма граф
А.С. Строганов впервые был упомянут
в середине мая 1776 г. (См.: Romme G.
Correspondance / Ed. par A.-M. Bourdin,
Ph. Bourdin, J. Ehrard, H. Rol-Tanguy et
A. Tchoudinov. Clermont-Ferrand, 2006.
Vol. l.T. l.P. 294).
6 В письме Г. Дюбрёлю от И мая 1779 г.
Ромм говорит о А.С. Строганове: «Я его
знаю уже четыре года» (Romme G. Op.
cit. Т. 2. Р. 530).
7 Crepel Р. Gilbert Romme et les mathema-
tiques // Gilbert Romme (1750-1795).
Actes du colloque de Riom (19 et 20 mai
1995) / Textes reunis et presentes par
J. Ehrard. P., 1996 P. 29-42.
0)1 Игра в Другого
8 Galante Garrone A. Gilbert Romme.
Histoire d’un revolutionnaire (1750
1795). P, 1971. P. 33.
9 Vissac M. de. Romme le Montagnard.
Clermont-Ferrand, 1883. P. 30; Galante
Garrone A. Op. cit. P. 38.
10 Romme G. Op. cit. T. 1. P. 173.
11 {Golovkine A.] Mes idees sur 1’education
du sexe, ou Precis d’un plan d’education
pourmafille. Londres, 1778. P. 56-57.
12 Crepel P. Op. cit. P. 40.
13 Vissac M. de. Op. cit. P. 45; Бартенев П.И.
Жильбер Ромм (1750-1795). К исто-
рии русской образованности нового
времени // Рус. архив. 1887. № 1. С. 8;
Николай Михайлович, вел. кн. Граф
Павел Александрович Строганов: В 3 т.
СПб., 1903. Т. 1.С. 41.
14 Galante Garrone A. Op. cit. Р. 81.
15 См.: Вернадский Г.В. Русское масонство
в царствование Екатерины II / Под ред.
М.В. Рейзина и А.И. Серкова. СПб.,
1999. С. 92, 364; Dictionnaire de la Franc-
Maqonnerie / Sous dir. D. Ligou. P, 1991.
P. 1142.
16 Подробнее см.: Amiable L. Une Loge
Maqonnique avant 1789, la R. L. des Neuf
Soeurs / Augmente d’un commentaire
et de notes critiques de Ch. Porset. P.,
1989. А. Галанте-Гарроне мимоходом
замечает: «Мы не знаем, какие офици-
альные доказательства своей научной
квалификации мог предъявить Ромм»
(Galante Garrone A. Op. cit. Р. 83).
17 Amiable L. Op. cit. P. 255.
18 Cm.: Ligou D. Conventionnels du Puy-
de-D6me et Franc-maqonnerie // Gilbert
Romme (1750-1795) et son temps. Actes
du Colloque tenu a Riom et Clermont
(10-11 juin 1965). P., 1966. P. 117-118;
Galante Garrone A. Op. cit. P. 83.
19 Amiable L. Op. cit. P. 389-393.
20 Cm.: Stroev A. Gilbert Romme et la loge
des Neuf Soeurs (juillet 1779) // Les ar-
chives de 1’Est et la France des Lumieres.
Guide des archives et inedits / Sous
la dir. de G. Dulac et S. Karp: In 2 vol.
Ferney-Voltaire, 2007. T. 2. P. 673-678. В
настоящее время фонды бывшего Осо-
бого архива находятся в Российском
государственном военном архиве
(далее - РГВА), однако документов
французских масонских лож, включая
и процитированное выше письмо, там
уже нет: они возвращены во Францию
по реституции.
21 Ligou D. Op. cit. Р. 119.
22 РГВА. Ф. ИЗ. On. 1. Д. 81. Л. 65.
23 Ligou D. Op. cit. Р. 119-120.
24 Ibid. Р. 120-122.
25 Bibliotheque Nationale de France. Fonds
Maqonnique. 2 89. Paris. L. des Neuf
Soeurs. D. 2. Tableau de 1’an 1783.
26 Ж. Демишель - Г. Дюбрёлю от 22 мая
1779 г. // Российский государственный
архив древних актов (далее - РГАДА).
Ф. 1278: Строгановы. Оп. 3. Д. 1.
27 1 луидор = 8 экю = 24 ливра. Для сравне-
ния заметим, что жалованье в 1000 экю
(3000 ливров) превосходило в 1,5 раза
годовое жалованье члена парижской
Академии наук (см.: Perronne V. Homme
de science // L’Homme des Lumieres /
Sous dir. de M. Vovelle. P., 1992. P. 216).
28 РГАДА. Ф. 1278: Строгановы. On. 1.
Д. 348. Л. 3-4. См. также: Romme G. Op.
cit. P. 525; Vissac M. de. Op. cit. P. 241.
Опубликованный П.И. Бартеневым и
воспроизведенный затем великим кня-
зем Николаем Михайловичем русский
перевод этого документа неточен. См.:
Бартенев П.И. Указ. соч. С. 9; Николай
Михайлович, вел. кн. Указ. соч. Т. 1.
С. 37-38.
29 Николай Михайлович, вел. кн. Указ. соч.
Т. 1. С. 253-254.
30 См.; Galante Garrone A. Op. cit. Р. 56-57.
31 Руссо ЖЖ. Эмиль, или О воспита-
нии // Руссо Ж.Ж. Пед. соч. М., 1981.
С. 43.
32 Там же.
33 Там же. С. 44-45.
34 Там же. С. 45.
35 Romme G. Op. cit. Р. 530.
36 Руссо ЖЖ. Указ. соч. С. 30.
37 Там же. С. 30-31.
38 Memoires du general Bon Thiebault, pu-
blies d’apres manuscrit original par E Cal-
mettes. P., 1895. T. 1. 1769 1795. P. 25.
‘''‘Николай Михайлович, вел. кн. Указ. соч.
Т. 1.С. 5.3 -54.
40 Там же. С. 17-19.
41 Руссо ЖЖ. Указ. соч. С. 119.
42 См., например, письма Ромма Дюбрёлю
от 4 ноября 1780 г. и от 7 января 1783 г.
(Museo del Risorgimento di Milano (да-
лее - MRM). Fonds Romme. Carton 1.
Dossiers 12, 15).
43 Ж. Ромм - Г. Дюбрёлю от 17 февраля
1781 г. (Ibid. D. 13).
44 Ж. Ромм - А.С. Строганову, 1 мая
1780 г. (РГАДА. Ф. 1278: Строгановы.
On. 1. Д. 348. Л. 204-204об.).
45 Ж. Ромм - А.С. Строганову, 27 мая
1780 г. Там же. Л. 205-206.
46 Ж. Ромм - А.С. Строганову, 2/13 июня
1780 г. Там же. Л. 209.
47 Там же.
48 Там же. Л. 207об.
49 Там же. Л. 206об.
50 Romme G. Op. cit. Р. 558.
51 Ibid. Р. 300.
52 Ж. Ромм - Г. Дюбрёлю, 11 июня 1779 г.
(Ibid. Р. 558).
53 [Romme G.] Voyage de St. Petersbourg a
Moskou; [Idem.] DeNisnei Novgorod a
Kasan au commencement du moi d’aout
1781, par le Volga (РГАДА. Ф. 1278:
Строгановы. On. 3. Д. 19).
54 РГАДА. Ф. 1278: Строгановы. On. 1.
Д. 348. Л. 5-7об.
55 Vissac M. de. Op. cit. P. 79.
56 Цит. no: Galante Garrone A. Op. cit.
P. 134.
57 Ibid. P. 78-79.
58 Николай Михайлович, вел. кн. Указ. соч.
Т. 1. С. 49.
59 Руссо ЖЖ. Указ. соч. С. 281-287.
60 Там же. С. 162-163.
61 Vissac М. de. Op. cit. Р. 79.
62 Руссо ЖЖ. Указ. соч. С. 243.
63 Romme G. Op. cit. Р. 496.
64 Николай Михайлович, вел. кн. Указ. соч.
Т. 1. С. 49-51.
65 РГАДА. Ф. 1278: Строгановы. On. 1.
Д. 348. Л. 13-1 Зоб.
66 Там же. Л. 15-16об.
67 Там же. Л. 17-18.
68 Там же. Л. 25. Орфография оригинала
сохранена.
69 Там же. Л. 39.
70 Там же. Л. 41.
71 Там же. Л. 218-218об.
'2 Николай Михайлович, вел. кн. Указ. соч.
Т. ЕС. 254-259.
73 Там же. С. 258.
74 Подробное описание этого путешествия
см.: Ромм Ж. Путешествие в Крым в
1786 г. / Пер. с рукописи, вступ. ст. и
примеч. К.И. Раткевич. Л., 1941.
75 Подробнее см.: Tchoudinov A. Les voyages
de Gilbert Romme et Pavel Stroganov en
Suisse (1786-1788) d’apres les archives
russes // Les conditions de la vie culturelle
et intellectuelle en Suisse romande au temps
des Lumieres. Annales Benjamin Constant.
Vol. 18-19. Lausanne, 1996. P. 187-194.
76 Observations sur le Militaire de Russie
en 1780 (Санкт-Петербургский инсти-
тут истории РАН (далее - СПб ИИ).
Фонд 8 (картон 372). Д. 96).
77 Шаркова И.С. Фонд Жильбера Ром-
ма// Рукописные источники по исто-
рии Западной Европы в Архиве ЛОИИ
(археограф, сб.). Л., 1982. С. 170.
78 Там же. С. 171.
79 См.: Казанова Дж. История моей жиз-
ни / Пер. с фр. И.К. Стаф и А.Ф. Стро-
ева. М., 1990. С. 534, 579, 592.
80 Ромм в своем мемуаре упоминает пле-
мянника князя Потемкина - В.В. Эн-
гельгардта, называя его полковником
и командиром гусарского полка, а уже
24 ноября 1780 г. тот получил чин
бригадира и был поставлен во главе
лейб-кирасирского полка. Очевидно,
«Заметки» Ромма были окончены.
81 Observations sur le Militaire // Archives
des Affaires etrangeres. Serie: Memoires
et documents. Sous-serie: Russie. Vol. 14.
Russie. 1745 a 1828. Forces militaires.
Fol. 123-128v°.
Многоликий Жильбер Ромм I см
co I Игра в Другого
82 Etat des Troupes de Russie // Ibid.
Fol. 121122.
83 Tchoudinov A. Gilbert Romme a propos
de 1’armee russe au XVIIIeme siecle//
Cahiers du monde russe. 1999. № 4.
P. 723-750; Чудинов А.В. Жильбер Ромм
о русской армии XVIII в. // Россия
и Франция XVIII-XX вв. Вып. 3. М.,
2000. С. 88-115.
84 Romme G. Op. cit. Vol. 1. T. 2. P. 579.
85 См.: Кастр Р. де. Бомарше. М., 2003.
С. 189.
86 См.: Чудинов А.В. Французские агенты
о положении в Крыму накануне русско-
турецкой войны 1787-1791 гг.// Рус,-
француз. культурные связи в эпоху
Просвещения: Материалы и исслед.
Памяти Г.С. Кучеренко. М., 2000.
87 Далин М.В., Фролов В.А. Жильбер
Ромм - французский шпион в России в
1779-1786 годах? // Россия и Европа.
Вып. 4. М., 2007. С. 14.
88 «К вящему нашему удовольствию на
этом этапе обвинительного процесса
апологетами Жильбера Ромма высту-
пают...» и т. д. (Там же. С. 24).
89 Там же. С. 14-15.
90 Война за независимость и образование
США / Под ред. Г.Н. Севастьянова. М.,
1976.
91 Там же. С. 17.
92 См., например, письмо графа Вер-
женна шевалье Корберону от 3 августа
1780 г. (Archives des affaires etrangeres.
Correspondance politique (далее - AAE.
CP). Russie. T. 105. Fol. 12).
93 AAE. CP. Supplement. Russie. T. 15. Fol. 40.
94 Далин M.B., Фролов BA. Указ. соч. С. 17.
95 См.: Строев А.Ф. «Те, кто поправляет
Фортуну». Авантюристы Просвеще-
ния. М., 1998. С. 330-331.
96 Далин М.В., Фролов В А. Указ. соч. С. 18-
19. Курсив мой. - А. Ч.
97 Там же. С. 23-24. Курсив мой. - А. Ч.
98 Кроче Б. Теория и история историогра-
фии. М., 1998. С. 24.
99 Николай Михайлович, вел. кн. Указ,
соч. Т. 1. С. 58.
100 Далин М.В., Фролов В А. Указ. соч. С. 33.
101 Николай Михайлович, вел. кн. Указ,
соч. Т. 1. С. 58.
102 Далин М.В., Фролов В А. Указ. соч. С. 32.
103 См.: Роль-Танги Э. Уроженцы Оверни
в России XVIII в.: Жильбер Ромм и
Жак Демишель // Россия и Франция
XVIII-XX вв. Вып. 7. М„ 2006. С. 43.
104 См.: А.С. Строганов - Ж. Ромму,
11 ноября 1786 г. // Николай Михай-
лович, вел. кн. Указ. соч. Т. 1. С. 244.
105 См.: Архив внешней политики Рос-
сийской империи. Ф. 2. Оп. 2/6.
Д. 3676. Л. 114.
106 Далин М.В., Фролов В А. Указ. соч. С. 35.
107 AAE. СР. Russie. 1786. Т. 119. Fol. 144 v°.
108 Ibid.T. ИЗ. Fol. 151 v°, 152 v°.
109 Подробнее см.: Чудинов А.В. Француз-
ские агенты о положении в Крыму.
С. 205-206.
"° Далин М.В., Фролов В.А. Указ. соч.
С. 10-11 («д’Анвиль»), 12 и далее
(«Ширкова»), 23 («Фитц Герберт»),
27 («Джеймс»), 30 («Шарлетт»),
34 («Бэнкс»), 39 примеч. 72 («Ши-
рокова»).
1,1 Далин М.В., Фролов В.А. Указ. соч.
С. 10.
112 Там же. С. И. Авторов, очевидно, вве-
ло в заблуждение некоторое сходство
имен двух реально существовавших
исторических персонажей, после чего
М.В. Далин и В.А. Фролов, уже не
обращая внимания на то, что «р» это
не «н», а «графиня» - не то же самое,
что «герцогиня», механически пере-
несли в свой текст часть комментария
из книги: Фор Э. Опала Тюрго. 12 мая
1776 г. М., 1979. С. 551.
113 Подробнее о ней см.: Rol-Tanguy Н.
Madame d’Harville // Romme G. Cor-
respondance. Vol. 1. T. 2. См. также:
Galante GarroneA. Op. cit. P. 41.
Ольга Бессмертная
МУСУЛЬМАНСКИЙ АЗЕФ, ИЛИ
ИГРА В ДРУГОГО: МЕТАМОРФОЗЫ
МАГОМЕТ-БЕКА ХАДЖЕТЛАШЕ
(Почти роман)'
Памяти Ю.К. Щеглова
Если язык (он же культура) «говорит и ду-
мает» посредством индивида, то прагматиче-
скому повороту в социальных науках просто
некого возвращать.
Н.Е. Колосов'
209
В наш век, век Азефов...
А.-Г. Дашиев
Ахмет-Бек Алибекович Аллаев:
переписка об одной булавке
11 мая 1909 г. Сергей Николаевич Сыромятников, влиятельный сотруд-
ник редакции официозной газеты «Россия», известный также под псевдо-
нимами Сигма и Сергей Норманский, писатель, немало размышлявший о
том, где стране, что дала название газете, следовало искать свой истинный
дом - в Европе или Азии, немало и поездивший по Востоку с разного
рода миссиями, а к тому же имевший связи столь же разного свойства в
министерствах и пользовавшийся дружбой самого П.А. Столыпина, полу-
чил письмо из Парижа. Отправитель, некий Ахмет-Бек Аллаев, предлагал
присылать в «Россию» свои статьи, разоблачающие деятельность «русских
освободителей», обосновавшихся в Париже: речь шла о всяческих «товари-
* Работа выполнена в Институте восточных культур и античности РГГУ при поддерж-
ке Американского совета ученых сообществ (ACLS), ряда грантов парижского Дома
наук о человеке (FMSH) и Смольного коллегиума в Санкт-Петербурге. Я также при-
знательна всем коллегам, участвовавшим в обсуждении этого проекта на его разных
стадиях. Особая благодарность - С. Файзову и И. Насырову за перевод цитируемых
татарских писем. Статья была сдана в редакцию «Казуса» в ноябре 2007 г.
о I Игра в Другого
щах Азефа» - эсерах и не только2. Из письма следовало, что, хотя Аллаев
и жил теперь во Франции, он остался глубоко предан интересам своей
родины - Государства Российского. Он уже раньше публиковал такие
статьи под псевдонимом «Старый Дядя»3 в другой газете, «Волга», но там
сменился редактор, а с новым он сойтись не смог. Письмо, собственно, было
адресовано не прямо Сыромятникову, а «господину редактору» вообще, но
то обстоятельство, что ответ - притом положительный - пришел именно
от Сыромятникова, было тут же высоко оценено Аллаевым: он спешит со-
общить, что знает Его Высокоблагородие еще по публикациям в «Новом
времени», следит и теперь за его статьями в «России»4. Впрочем, между
теми и другими была некоторая разница: Сыромятников в его наиболее из-
вестных «нововременных» статьях 1900-1901 гг. обосновывал свой переход
от «западничества» к «восточничеству», а после русско-японской войны, ко
времени его сотрудничества в «России», вновь видел европейскую цивили-
зацию скорее «своей» для России, а Восток - скорее «чужим». Но и тогда,
и теперь Сигма подчинял такие воззрения идеям русского национализма,
ныне находившим поддержку во взглядах и курсе самого премьер-министра5.
Вероятно, именно к этому националистически-государственническому чув-
ству, по-прежнему не отвергающему цивилизаторского интереса к Востоку
(и тем паче к его представителям среди подданных Российской империи),
апеллирует Аллаев в своем следующем письме, каковому предстоит стать
поворотным пунктом довольно долгой истории6.
Аллаев сообщает, что отправил Сыромятникову «страхованной по-
сылкою» самое дорогое, что у него есть: «ВЫСОЧАЙШИЙ подарок», по-
лученный им «от Великой княгини Виктории Федоровны, в виде булавки
с бриллиантами». Он просит Сыромятникова найти на родине человека,
которому эта вещь была бы так же дорога, как ему самому, чтобы человек
этот в ответ послал редактору журнала «Мусульманин», издающегося в
Париже (но на русском языке и для распространения в России), какую-
нибудь сумму денег, которая позволила бы выпустить еще несколько
номеров. Аллаеву очень тяжело расстаться со столь значимым подарком,
но издание такого журнала столь важно для разрешения сложной полити-
ческой ситуации на Кавказе, что он готов пожертвовать даром Виктории
Федоровны ради этого великого дела. Сам же он хотел бы скромно остать-
ся в стороне, чтобы друзья его в редакции «Мусульманина» не знали о его
участии. Он уверен, что Сыромятников «сердцем [его] поймет». Впрочем,
в письме предусмотрительно указан и адрес в Пятигорске, на который
можно отправить булавку в случае, «если бы судьба была против [этого]
плана». Сыромятников, судя по всему, отвечает резким возмущенным
письмом - восприняв, по-видимому, посылку как взятку или, во всяком
случае, как поступок крайне неучтивый7. Он извещает Аллаева, что не
знает Виктории Федоровны, что счел бы невежливым, к примеру, просить
того заказывать ему костюм в Париже, и спрашивает, почему бы тому не
пристроить булавку самому. В ответ Аллаев, оскорбленный в лучших чув-
ствах, шлет два письма. Он объясняет, кто такая Виктория Федоровна8 и
почему он не послал булавку прямо в Пятигорск (так дороже, да и заду-
манную им «комбинацию» в Петербурге сделать легче), замечая вдобавок,
что был бы лишь рад заказать для Сыромятникова парижский костюм. Он
Мусульманский Азеф, или Игра в Другого...
также пишет: «Посылая Вам булавку, я меньше всего руководствовался
обычными правилами приличия. Если бы Вы были просто Сыромятников,
хотя бы даже высокопоставленный, то я, конечно, не позволил бы себе об-
ратиться вообще к Вам, но дело-то в том, что Вы тот самый Сыромятников,
которого я давно знаю, читал и убеждения которого согласуются со мною...
Могу Вас уверить... что если бы я отправил булавку, например, командиру
л.[ейб-] г.[вардии] Конного полка свиты Его Вел[ичества] хану Нахичи-
ванскому, то редакция [«Мусульманина»] получила бы хорошую помощь.
Вот Вам лучшее доказательство, как плохо понимают нас русские...»9 Ины-
ми словами, даже кажущийся близким интеллигентный русский человек,
писатель, не в состоянии понять горца-мусульманина, которому присуща,
конечно, «бездна гордости» (помешавшая ему обратиться к людям, по духу
чуждым), но который поступает «страстно», а не по этикету. А потому для
Сыромятникова этот горец остается, как он не преминет провокационно
подписаться, «неисправимым (а то и «некультурным») азиатом»10.
Сыромятников вступает в спор. Он ведет речь о том, кто кого должен
стремиться понять первым: если Аллаев хочет, чтобы его понимали русские,
он должен сам сначала понять их. Таково следствие общих культурных
процессов на Востоке, какими их видит Сыромятников. Однако в целом
письмо его теперь явно более благожелательно; скорее всего, он сообщает,
что переслал булавку в Пятигорск11. Мало того: выполняя прежде данное
обещание, он предпринимает наконец шаги, дабы связать Магомет-Бека
Хаджетлаше - редактора журнала «Мусульманин», за которого ходатай- 211
ствует Аллаев, - с А.Н. Харузиным, главой входившего в МВД Департа-
мента духовных дел иностранных исповеданий (ДДДИИ). В результате
Хаджетлаше получит правительственную субсидию для своего журнала -
между тем, давно им искомую: он и сам еще в марте того же года обращался
к Сыромятникову с просьбой о поддержке (когда, видимо, тот и пообещал
ему помощь)12. Он даже окажется на какое-то время в прямом контакте с
П.А. Столыпиным, что, быть может, и не изменит направление мусульман-
ской политики МВД, но придаст ей дополнительное основание, и особенно
в отношении мусульманской прессы... Да и общение между Аллаевым,
Хаджетлаше и Сыромятниковым продлится еще несколько лет, по мень-
шей мере до 1913 г.13
* * *
Эта переписка - не только очередной пример роли случая в «большой»
политике. Здесь удивительно ярко проявляется отчетливое присутствие
понятия «Другой» в сознании обоих корреспондентов - отнюдь не сугу-
бо «теоретическое», но решающим образом сказывающееся на поведении
каждого из них (а в конечном счете и на «большой» политике). Так, мы
видим здесь и отчетливо выраженное сознание своей принадлежности к
некой выпукло очерченной общности, изнутри которой каждый из персо-
нажей вступает в контакт с другим, и разделяемую обоими презумпцию их
существенных различий, затрагивающих в первую очередь образ мысли
и поведения, - т. е. различий, по сути дела, культурных. Причем именно
блестящее умение Аллаева использовать убежденность своего собеседника
в особости его, Аллаева-мусульманина, культурной принадлежности, в его
ю I Игра в Другого
инакости, а отнюдь не только апелляция к государственным интересам
позволяет ему добиться своей цели. Как-никак, Аллаев заставил Сыромят-
никова устыдиться: ему, кажется, удалось пробудить в Сыромятникове -
русском писателе - и чувство долга Просветителя, и даже некий комплекс
вины представителя европейской Культуры14 по отношению к представи-
телю общности, этим носителем Культуры изучаемой и его государством
подчиненной, - сиречь к «азиату», описателю-панисламисту^ (так обо-
значен Аллаев в названии папки Сыромятникова с его письмами - сколь
бы бурных возражений нам ни следовало бы от Аллаева ждать, узнай он об
этом). Главное же, Аллаеву удается создать у Сыромятникова-чиновника
впечатление, что этому «панисламисту» можно до некоторой степени до-
верять, а следовательно, и использовать его для государственного дела.
Конечно, аллаевская «посылочка», демонстрировавшая близость от-
правителя к высшей российской аристократии, могла в конце концов
поспособствовать такому доверию - вопреки первой реакции адресата,
«снижавшей» высокое символическое значение булавки Виктории Фе-
доровны до престижной, но все же банальной потребительской ценности,
аналогичной парижскому костюму. Конечно, и то, что Аллаев заявляет
себя патриотом России, - помещая что собственные статьи, что журнал
«Мусульманин» в контекст противостояния силам, вредоносным для
существующего государственного строя, и не стесняясь вместе с тем по-
критиковать недальновидность чиновников и военных в их деятельности
на Кавказе15, - помогает Сыромятникову увидеть в нем некоего, пусть от-
даленного, соратника. Но этот перелом в отношениях происходит тогда и
постольку, когда и поскольку Аллаев требовательно напоминает о своей
инакости - и праве на нее. Именно инакость (в отличие от булавки) ока-
зывается, другими словами, тем «символическим капиталом», который
Аллаев столь успешно использует для конструирования этих отношений.
Впрочем, можно заметить парадокс в том, что столь выпуклое обоюдоо-
строе напряжение в отношениях с Другим сопровождается здесь не только
весьма тесными контактами с ним, но и некоторыми общими, разделяе-
мыми обеими сторонами представлениями. Сама презумпция взаимной
инакости наших корреспондентов, как мы видели, совершенно взаимна. Ей
никак не мешают заявления Аллаева о схожести их убеждений, о том, что
хоть он и «давно уже живет в Европе, но думает и мыслит по-русски»16.
Ей не мешает и претензия на общее видение миссии писателя в России -
писателя-патриота, противостоящего и бюрократии, и «освободителям»:
ведь писатели - они оба. Ей не мешает, иначе говоря, все то, посредством
чего Аллаев конструирует пространство близости и соратничества между
ними, пересекающее пространство инакости.
Констатируя такое акцентирование инакости на фоне не менее пред-
намеренно демонстрируемой общности, я вместе с тем оказываюсь не в
состоянии использовать для объяснения взаимонепонимания, возникшего
вокруг булавки, напрашивающийся здесь классический исследовательский
ход: увидеть в нем, например, различие понятий о даре-отдаре в нововре-
менной русской и «традиционной» «восточной» культурах или различие
каких-то иных жестко сформированных общественных комплексов пред-
ставлений. Ведь реакция Аллаева на возмущение Сыромятникова столь
адекватна, что замкнуть каждого из них в некое фиксированное культурное
пространство, отчетливо ограниченное теми или иными стабильными и
своеобычными представлениями, становится невозможным. Да и исходное
назначение посылки, как мы видели, было весьма прагматичным и не сво-
дилось к «дару», сколь бы тотальной ни являлась, по определению, симво-
лика этого акта.
Как же тогда в таком индивидуальном, личном общении происходят
межкультурные притяжения и отталкивания на общем пространстве позд-
ней Российской империи? Таков, казалось бы, вопрос, встающий перед
нами. Дело, однако, осложняется одним обстоятельством. Я не могу быть
уверена в том, что Аллаев и Хаджетлаше действительно горцы и мусуль-
мане по происхождению, как и в том, что эти двое - не одно и то же лицо.
О ком? Как? Зачем?
Речь здесь пойдет о человеке, обнаружившем перед собою общество:
российское общество того времени в разительной разноликости групп,
которые его составляли. Такому открытию мог способствовать тот сдвиг
привычных социальных градаций и принадлежностей, что был характерен
для модернизирующейся России. Чем более интенсивно переосмыслялись
и конструировались границы воображаемых сообществ, составлявших им-
перское пространство (сообществ самого разного рода - определявшихся
в категориях «национальной» и/или религиозной принадлежности, со-
циального положения, да и политических лагерей)17, тем более остро они
переживались и тем более жесткими мыслились: это было время, когда по
меньшей мере «происхождение и религиозная принадлежность (как и, до-
бавлю, принадлежность культурная. - О. Б.) казались столь же твердыми,
сколь смертный приговор»18. Возможно, именно это сочетание видимой
жесткости социальных границ с ощущением их бесконечного умножения
и подвижности подвигло моего героя (а точнее, «антигероям) обнаружить
и эти границы - так, что само понятие Другого стало одним из опреде-
ляющих его жизненную стратегию, - и их практическую «прозрачность»,
«проходимость», даже возможность имитировать соответствующие при-
надлежности. Мечется ли он в поисках собственной идентичности между
окружающими его группами, цинично ли использует ради так или иначе
понятой выгоды представшую его глазам картину, но выдает себя то за
одного, то за другого. И чаще всего выбирает, совмещает роли, восприни-
мавшиеся современниками как несовместимые. Его нетрудно представить
как жертву: таким его создала природа, еще более - общество, культура.
Но одновременно встает вопрос, как он распорядился этим наследием. Его
нетрудно представить и как своего рода «социального комментатора» -
зеркало общественных проблем19. Но так ли он пассивен, что создает он,
вольно или невольно, вокруг себя? А в самом себе? Вот такое напряжение
между культурным, социальным пространством и индивидом и явится - в
широком плане - предметом моего интереса.
Один из способов обнаружить это напряжение - рассмотреть, как же уда-
валось человеку, которого мы застали под именем Магомет-Бека Хаджетла-
Мусульманский Азеф, или Игра в Другого...
213
I Игра в Другого
ше, пересекать социальные границы. А соответственно рассмотреть и то, как
эти границы мыслились им и его окружением и (пере)конструировались в
каждой конкретной ситуации (первый пример такого конструирования -
история с булавкой). Как создавал он те или иные свои облики? Что делало
их убедительными? Что лишало их убедительности? Речь пойдет, иными
словами, с одной стороны - со стороны индивида, об используемых им
стратегиях обмана, с другой - со стороны его окружения из разных соци-
альных сред - о том, что вызывало к нему доверие (когда обман оказывался
успешным) и что разрушало это доверие (когда обман вскрывался). Дове-
рие укажет мне, что воспринималось как понятное и узнаваемое, послужит
маркером «принятия в свои»; а его утрата обнаружит способы отчуждения
самозванца. В совокупности это станет описанием того, как мыслилась
и как сдвигалась граница «своей» среды. Стратегии же обмана послужат
характеристикой собственных представлений этого человека о Других и
о себе, «ресурсов», которые он находил и «разрабатывал», дабы выжить и
преуспеть в окружавшем его обществе20. Да и сам набор обликов, которые
он принимает, ролей, которые исполняет, покажет, что представлялось ему
наиболее важным в этом обществе, представшем пред его глазами.
В переплетении многочисленных социальных границ, которые здесь
обнаружатся, конструирование и пересечение границ, мыслившихся как
культурные, будет интересовать меня более всего. Собственно говоря,
именно так мой персонаж заставляет меня переформулировать вопрос о
культурных притяжениях и отталкиваниях, который как будто ставила
перед нами переписка о булавке. Одновременно это позволит задуматься
и о том, как мы сами, исследователи, проводим такие границы: ведь роль
их сегодня лишь возрастает - и отнюдь не только в академическом мире.
А вопрос, являющийся, наверное, главным о человеке, носившем имя Хад-
жетлаше, но и самым трудным, останется лишь на горизонте этой статьи:
что, пересекая границы, изобретал этот человек в себе, чем он был и чем
становился?21
В надежде если не «оживить», то привести картину в движение, я буду
внимательна к деталям, рассыпанным повсюду, где появлялся мой герой.
Поможет ли это нам увидеть мир в капле воды или станет избыточным для
языка исторического исследования? Таков вопрос иного характера, заклю-
ченный в этом повествовании и отчасти превращающий его в эксперимент.
Магомет-Бек Исламович Хаджетлаше-Скагуаше:
между мусульманством и государством
Мусульмане: доверие и развенчание
Не скажу, что журнал «Мусульманин» существовал мирно, - но он
существовал довольно успешно еще два года, до конца 1911-го, прежде чем
разразился публичный скандал. Собственно говоря, первые два номера
вышли в Париже еще до известной нам переписки с Сыромятниковым,
летом 1908 г. Магомет жаловался тогда своим товарищам (появившимся,
замечу, на ином, не мусульманском поприще) на острую нехватку денег, не
Мусульманский Азеф, или Игра в Другого... I см
Магомет-Бек Исламович
Хаджетлаше-Скагуаше
Середина 1910-х годов
позволявшую «выкупить “Мусульма-
нин”», - столь острую, что он и не скры-
вал намерения ехать в Россию в поисках
субсидии, «как ему это ни больно»22. На
первой странице издания (тогда служив-
шей и обложкой) значилось: «Единствен-
ный в России еженедельный народно
популярный, научно-литературный и
общественный журнал “Мусульманин"
(Орган кавказских горцев). Издатель -
Кружок Интеллигентных Черкесов. От-
ветственный редактор - Магомет-Бек-
Хаджетлаше»23.
Подозреваю, что издательского
«кружка» как такового не существовало.
Это не помешает Хаджетлаше впослед-
ствии (и, наверное, уже в «фондрейзин-
говом» общении с директором ДДДИИ
Харузиным, начавшемся, как нам уже
известно, в 1909 г.) использовать столь
удачно найденное - и вполне конспира-
тивное - обозначение издателя для де-
монстрации властям своей преданности
государственным интересам России и
объяснять отсутствие средств на издание
идейным конфликтом с этим кружком. Ведь 1908 год - год младотурецкого
переворота в Османской империи, а младотурецкое движение воспринима-
лось российским правительством как особенно опасное в мусульманском
мире. «Мусульманин» появился как раз на фоне младотурецкой революции.
Его первый номер вышел 28 июля н.ст. - несколькими днями позже заверше-
ния переворота (24 июля), второй - примерно через месяц, 28 августа. И не-
зависимо от того, что именно побудило ответственного редактора не любить
как сторонников режима Абдул-Хамида II, так и его противников, всячески
выражая неверие в перспективы Турции вообще, было бы упущением с его
стороны не воспользоваться одновременностью событий. В общении с рос-
сийскими государственными лицами ему осталось лишь подчеркнуть свое
противостояние этому движению, а заодно и востребованность журнала, со-
общив им, что «во время переворота в Турции кружок, подстрекаемый мла-
дотурками, пожелал сделать журнал революционным. Редакция отказалась
изменить программу, и кружок отказался поддерживать издание»24. Но эта
одновременность лишь усиливает мои сомнения в существовании и такого
конфликта, и такого кружка: когда «интеллигентные черкесы» - «выходцы
из Кубанской области»25 - могли успеть все без исключения так резко пере-
менить свои взгляды? Разве только поверить в совершенную конъюнктур-
ность всех членов этого коллектива - что, собственно, Хаджетлаше и стре-
мится внушить своим собеседникам с государственной стороны (на упустив
при том и возможности указывать дату выхода журнала по старому стилю,
15 июля, будто до переворота). Да и «выкупить» «Мусульманин» Магомет
о> I Игра в Другого
не мог не у издателя: он затруднялся заплатить «за его печатание» - т. е. ти-
пографии26.
Прообразом таинственного кружка, силой той же логики, могли
стать определенные контакты. Например, с Джелаледдином Коркмасовым:
Аллаев будет позже писать Сыромятникову, что это их «старый знакомец,
некогда принимавший деятельное участие в журнале и круто повернуший
влево, как только произошел переворот и друзья их (младотурок. - О. Б.),
вчера голодавшие, сразу получили и деньги и почести»27. Автор проговари-
вается, замечу, о совсем иных, чем Сыромятников или Виктория Федоров-
на, своих «знакомцах»: людях, и впрямь младотуркам сочувствовавших,
да и в целом настроенных решительно - каким был Коркмасов задолго до
переворота; впрочем, тогда Сыромятников вряд ли о нем что-либо знал28.
Но и состав авторов не свидетельствует о том, что в журнале собрался
тогда сколько-нибудь широкий круг людей: здесь все тот же Аллаев; Давлет-
Гирей Хатакокор29, пишущий о бедственном положении черкесов в Турции
и решительно возражающий против их эмиграции из России; остальные - в
большинстве своем такие псевдонимы Хаджетлаше, распознать которые и
вовсе не трудно. Приходится предполагать, что и идея издания журнала, и
его организация, и даже статьи, в нем печатавшиеся, принадлежали самому
Хаджетлаше и, быть может, его ближайшему окружению.
Однако, если первые номера журнала и не вызвали того отклика, на ко-
торый претендовал Аллаев, говоря, что «Мусульманин» стал «желанным
гостем в каждом ауле», они не вызвали и широкого недоверия к редактору.
Можно было бы думать, что первые выпуски30 остались попросту не слиш-
ком известными в аулах, хотя ряд статей из журнала перепечатывался в
российской прессе31. А в 1909 г., когда «Мусульманин» не выходил, под той
же редакцией и с теми же, по преимуществу, авторами издавался «Мусуль-
манский отдел» в довольно распространенном военно-патриотическом
журнале «Братская помощь». Связь с этим консервативным журналом
тоже не помешала Хаджетлаше обрести соратников и собрать авторов для
продолжения «Мусульманина» - в частности, при личном общении с еди-
новерцами во время его поездки в конце 1909 г. на Кавказ и в Поволжье
(деньги на это путешествие «с целью подыскания сотрудников» предоста-
вил, как нетрудно догадаться, ДДДИИ)32. В результате с 1910 г., когда жур-
нал благодаря субсидии начал выходить регулярно, для него стали писать,
ничего предосудительного не подозревая, мусульманские деятели из раз-
ных мест России - среди них уже известные и те, что обретут известность
позже. Как ни странно, это были отнюдь не только представители вероят-
ных читателей «Братской помощи», скажем, горского офицерства (таков,
например, среди авторов «Мусульманина» Камбулат Есиев), от которых
можно было бы ждать заметного консерватизма, но и люди либеральных,
а то и радикальных левых взглядов (кавказцы С. Габиев, Г. Бамматов,
А. Цаликов, татары X. Атласов, Ш. Сунчали33). Появилось у журнала и не-
которое число постоянных читателей34. Иными словами, «Мусульманин»
обрел доверие - по меньшей мере, некоторую его степень - у людей до-
статочно разных настроений в российском мусульманстве.
Казалось бы, журналу и впрямь удалось реализовать один из важных
принципов своей программы, заявленный с самого начала: «миновать со-
вершенно политику», «не преследовать никаких политических целей», - во
всяком случае в том смысле, что он предоставлял страницы авторам почти
независимо от их политических ориентаций. Принцип же этот служил
продолжением еще более значимого стремления: адресоваться к некоему
культурному сообществу в целом - сообществу, границы которого теперь
тоже удалось расширить. Речь шла о том, чтобы сменить кавказский акцент
на всероссийско-мусульманский, что отражалось и в новом самоописании
журнала: «Двухнедельный народно-популярный, научно-литературный
и общественный журнал. Посвящен интересам культурного развития му-
сульман России и кавказских горцев. Стремится объединить единоверцев на
почве прогресса, любви и труда и приобщить к цивилизованным народам»
(курсив мой. - О. Б.). Замечу, что идея «приобщения» здесь была широкой:
в число авторов включали и немусульман35. Но все же общий дух журнала
был довольно ощутимым: критика, и даже весьма резкая, конкретных дей-
ствий властей сочеталась с подчеркнутой убежденностью в лояльности му-
сульман российскому государству в целом и в преимуществах их положе-
ния в России по сравнению с другими странами; превознесение Культуры
и стремление к приобщению к Цивилизации - с критикой нравственного
упадка Европы. И сколь бы удивительным ни казалось это в свете извест-
ной нам истории журнала, политически он более всего ассоциировался
со средой модернизаторской, представленной сторонниками того веера
течений, в которые вылился к этому времени мусульманский реформизм
(джадидизм). Средой, которая и сама была вполне эклектичной, лидеры
которой, критикуя власти, и сами ссылались на интересы государства, как
и на мусульманскую лояльность, но которая повсеместно воспринималась
как оппозиционная36.
У некоторых представителей этой среды удалось поначалу завоевать
доверие и лично редактору журнала. Член мусульманской фракции Госу-
дарственной думы Галиаскар Сыртланов так именно и писал в марте 1911 г.
редактору известной оренбургской газеты «Вакыт» Фатыху Каримову: «Ор-
ганизатор этого дела, Магомет-Бек Хаджетлаше, человек весьма энергичный,
искренно желающий работать на общую пользу наших единоверцев и заслу-
живающий во всех отношениях полного доверия»'31 (курсив мой. - О. Б.). Дело,
о котором идет речь, - создание мусульманской газеты на русском языке в
Санкт-Петербурге. Хаджетлаше начал издавать ее с апреля того же 1911 г.
под названием «В мире мусульманства», и она приобрела, по-видимому,
более широкое хождение, чем его парижский журнал. Здесь Хаджетлаше
значился лишь издателем, а редактором был другой горец, Аслан-Гирей
Датиев, живший тогда в Петербурге38. Отмечу, что название газеты не было
новым: с января по апрель 1910 г. под тем же заголовком выходил мусуль-
манский отдел в газете «Новая Русь» - куда более радикально настроенный,
чем «Мусульманин». Писали там по преимуществу кавказцы39, а материалы
предлагалось присылать как раз на имя Датиева. Имя же Хаджетлаше там
особо не звучало. Но он и здесь стоял за организацией дела, чего, однако, не
должен был слишком афишировать: его сотрудничество в «Новой Руси» -
газете А.А. Суворина, сына и помощника знаменитого редактора одиозного
«Нового времени» «старика» А.С. Суворина, - было согласовано с Хару-
зиным, но при условии, что оно «не помешает» издаваемому Хаджетлаше
Мусульманский Азеф, или Играв Другого... I см
оо I Игра в Другого
журналу40. И все же его «руководство» этим отделом, а затем и связь отдела
с газетой «В мире мусульманства» не утаивалась ни в «Мусульманине», ни
в газете41. Да он, скорее всего, и писал там, скрываясь за псевдонимами (ему
могла бы, например, принадлежать подпись М. Ах-въ).
Впрочем, не ясно, насколько мусульманский отдел «Новой Руси» был в
свое время читаем людьми, которых Магомет-Бек хотел привлечь для под-
держки своей питерской газеты во время его новой поездки в марте 1911 г.
в волго-уральские «центры мусульманства» (Оренбург, Уфу, Казань) -
эту-то поездку и подготовляло цитированное письмо Сыртланова. Но о
необходимости мусульманской газеты, издающейся в столице империи на
русском языке (т. е. объединяющей всех мусульман России независимо от
их этнической принадлежности и языка, рассматривающей общие их про-
блемы и к тому же привлекающей к этим проблемам внимание русскогово-
рящей публики, дающей ей, в отличие от немусульманских газет, правдивые
сведения о мусульманах) в реформистской мусульманской среде говорили
давно, еще со времен активизации политической жизни мусульман в пери-
од революции 1905 г.42 Сочетание нужного дела и заслуживающей доверия
фигуры, готовой его исполнить, привело к тому, что эта поездка Хаджетла-
ше встретила широкую поддержку. «Вакыт», помимо объявления о выходе
его петербургского издания, в двух мартовских номерах поместила статью о
его приезде и интервью с ним: здесь говорилось, что Хаджетлаше — человек
«идейный» и что «главной его работой служит распространение цивилиза-
ции и культуры в мусульманской среде». Были собраны и деньги на это из-
дание43. Правда, объемы средств, в которых он нуждался, могли бы быть не
слишком «неподъемными», поскольку и газета его имела правительствен-
ную субсидию, задуманную, однако, как частичная44.
Такое доверие, конечно, не было всеобщим и безусловным. Возражения
в адрес содержания изданий Хаджетлаше - главным образом тех статей,
что писал он сам под многочисленными псевдонимами, - были порой край-
не резкими и с «переходом на личности» (что, впрочем, было нередкой чер-
той стиля журналистской полемики того времени). Разумеется, не прошла
незамеченной критика Турции, возмутившая, например, бакинскую газету
«Ени Феюзат» (1 февр. 1911), где Ахмед Кемаль задавался вопросом, «кто
заставляет издавать» журнал «Мусульманин», и обвинял издателей-кав-
казцев в том, что они «продались в Париже одному из посольств», по-
скольку не соблюдают по отношению к обновленной Турции обязанностей
«человека, в жилах которого имеется хоть капля крови ислама»45. Однако,
хотя младотурецкая Турция и выступала для мусульман в России как один
из главных ориентиров модернизации, критика в ее адрес могла звучать и
от самых протурецки настроенных авторов46, а против эмиграции россий-
ских мусульман в Турцию возражал еще сам «родоначальник» джадидизма
И. Гаспринский. Так что и такого рода полемика, сколь бы ни выходила
она за пределы обычных представлений об этикете («Мусульманин» и во-
все не стеснялся «уничтожать» каждого критика целиком и полностью47),
укладывалась в целом в русло идейных споров и бурь в российской мусуль-
манской модернизаторской среде.
Даже в начале сентября 1911 г., когда скандал вокруг изданий Хаджет-
лаше уже набирал силу, «Вакыт» в ответ на призыв Хаджетлаше расши-
рить подписку на «Мусульманин» публикует еще далеко не однозначную
рецензию48. Противопоставляя, по сути дела, этот русскоязычный журнал
прессе на татарском, газета подчеркивает его полезность и необходимость,
поскольку он позволяет вернуть мусульманам внутренней России «по-
терянных» было для них мусульман польско-литовских и из «дагестан-
ских племен», не читающих на тюркских языках; а «сблизить мусульман
с этими элементами» - такая же важная задача на пути мусульманского
просвещения, как и та, что решается тюркской прессой. Вместе с тем «Му-
сульманин» не лишен недостатков, мешающих читателям тюркоязычных
газет подписываться на него. Так, он публикует статьи одиозных авторов,
а именно А.Д. Шеманского49, известного выступлениями об угрозе панис-
ламизма, каковые способствуют обвинениям мусульман в сепаратизме со
стороны правой печати; он положительно оценивает расходящийся с ис-
ламом бабизм; он связывает угнетенное положение женщин с исламским
веро-учением - вплоть до предложений отказаться от мусульманской
религии. Видимо, предполагает рецензент, сотрудники «не поспевают», а
быть может, «не в достаточной степени знакомы с делами и религией му-
сульман». И все же, «совершенен или нет», - журнал нужен.
Другими словами, если бакинская «Ени Феюзат» на основании непра-
вильных политических пристрастий «Мусульманина» стремилась лишить
его права на принадлежность к «правильному» мусульманству вообще,
то оренбургская «Вакыт» проводила границу между ним и собой иным
образом. И читатели журнала - «офицеры и иные чиновники»30, «про-
свещенные», но «не получившие мусульманского образования», и такие
же издатели - все-таки тоже мусульмане. Граница проходит, тем самым,
между настоящими, образованными мусульманами (в конечном счете,
татарами по преимуществу) и мусульманами малосведущими, волею су-
деб выброшенными из центров мусульманства, «разбросанными по всем
уголкам России», - но никак не между мусульманами и немусульманами в
целом. И даже не между лагерем прогрессистским (джадидами) и враждеб-
ным «Вакыту» лагерем традиционалистским («кадимистами»): «Мусуль-
манин» явно служит делу просвещения народа, прогрессу31. Журнал вроде
бы и не вполне «свой», но все же «наш» - принадлежащий пусть перифе-
рийному, но важному сегменту российского мусульманского сообщества.
И в добрых намерениях его издателя еще непозволительно усомниться, по
крайней мере публично. В частных разговорах и письмах, однако, уже вы-
сказывались иные мнения, о чем речь пойдет позже.
Уже в этих примерах реакции на печатную продукцию Хаджетлаше мы
сталкиваемся с некоторой системой конвенций относительно того, что мож-
но и чего нельзя говорить в печати. Их определяла не только (да и не всегда)
необходимость считаться с государственной цензурой. В «прогрессивной»
мусульманской прессе они, в частности, касались сюжета, ставшего одним из
ключевых во взаимоотношениях государства и мусульман, - панисламизма,
самое существование которого требовалось отрицать как «миф» и «призрак»,
служащий правительству оправданием антимусульманских репрессий52.
Они касались и дезавуирования тех или иных общезначимых ориентиров,
каким была единоверная Турция (в ее новом или старорежимном обликах),
связанная также и с идеей «национального», тюркского единства. Они могли
219
о I Игра в Другого
касаться дезавуирования мусульманского деятеля, служащего делу просве-
щения российских мусульман. Не то чтобы полемики вокруг таких сюжетов
не велось вовсе, но она чаще была разговором о том, как именно тот или
иной выступающий не имел в виду поставить ключевые ориентиры под со-
мнение33. Между тем Хаджетлаше достаточно безбоязненно такую систему
негласных соглашений нарушал. Не в последнюю очередь как раз это делало
его журнал странным для «настоящих» мусульман внутренней России. Но
странности эти до поры прощали. Прежде чем задуматься почему, посмо-
трим, что привело к утрате завоеванного Хаджетлаше доверия.
* * *
Конечно, эта «звезда», упавшая на российскую мусульманскую почву
с парижского небосклона, не могла не вызывать стремления выяснить
подробности. Но главным поводом к подробному разбирательству и после-
довавшему скандалу все-таки стал допущенный в изданиях Хаджетлаше
«перебор» с нарушением конвенций, а именно правил личной солидарно-
сти, принятых в этой среде.
Могло бы показаться, что в начале было, попросту говоря, Личное
Соперничество. Конкретнее - ссора с мусульманской фракцией Государ-
ственной думы, развязанная, как считается, Датиевым34. Неожиданно, уже
в третьем номере (29 апреля 1911), «В мире мусульманства» выступила с
критикой этой фракции, обвиняя ее в пассивности (она ничего не сделала
для проведения в жизнь резолюций III мусульманского съезда 1906 г.),
и с тех пор газета не упускала случая для подобных выступлений. Такая
критика тоже не была чересчур оригинальной33, но именно на нее сошлется
позже Сыртланов, сначала столь доверявший Хаджетлаше, объясняя из-
менение своего отношения к его газете36. Можно было бы думать, что за
выпадом газеты в адрес фракции стоял спор о том, кто будет эту газету
издавать - члены фракции или «независимый» Хаджетлаше. Такие раз-
говоры действительно велись (они отразятся во взаимных обвинениях,
которые стороны предъявят друг другу осенью), вот только Хаджетлаше
и Датиев сами были готовы поначалу зачем-то передать газету фракции.
На фоне разгоравшегося конфликта остро было воспринято еще одно
нарушение ими конвенций. В июне «В мире мусульманства» перепечатала
статью из газеты «Русское слово» (газеты, в глазах мусульманских про-
грессистов одиозной, «псевдолиберальной») о скандале вокруг бакинского
миллионера и мусульманского мецената Гаджи Тагиева - того самого, в
чьей типографии издавалась «Ени Феюзат»; он же был издателем газеты
на русском языке «Каспий», которая станет одним из основных оппонен-
тов Хаджетлаше и его изданий. Престарелый Тагиев со товарищи избил
из ревности своего управляющего; скандал привел к судебному процессу;
Тагиев был признан виновным. Русская пресса, и не только сугубо правая,
осуждала «восточного бая», мусульманская же почти хором выступала
в поддержку мецената. Спустя некоторое время, но еще до публикации
цитированной мною рецензии, 2 сентября, «Вакыт» (№ 837) выразила
удивление этой перепечаткой, поставив «В мире мусульманства» в один
ряд с «Русским словом» и «Новым временем»: «Газетам, считающим себя
защитниками интересов мусульман, не следует писать так про Тагиева, ко-
торый известен как крупный благотворитель и общественный деятель»57.
И в тот же день «В мире мусульманства» (№ 20) придала гласности обстоя-
тельства ее конфликта с думской фракцией.
Обнаруживалось, что атака, предпринятая этой независимой газетой,
действительно могла объясняться не единственно ее объективностью.
В том самом апреле, когда «В мире мусульманства» только начала выхо-
дить, председатель мусульманской фракции К. Тевкелев направил в Уфу,
от которой он был избран в Думу, своему другу и также депутату от Уфы
С.-Г. Джантюрину, телеграмму, дискредитировавшую газету. Тевкелев
отвечал притом на телеграфный же запрос самого Джантюрина об отно-
шении фракции к этой газете58. О телеграмме Тевкелева, видимо, узнали в
Оренбурге и Казани («В мире мусульманства» не исключала, что Тевкелев
телеграфировал и туда). Тогда же, весной, узнал о ней и Датиев... Главный
упрек, который газета в передовой статье предъявляла фракции теперь,
осенью, заключался как раз в том, что были нарушены правила солидарно-
сти, что издателям «В мире мусульманства» препятствуют свои же: «Мы...
ждали врагов в лагере черной сотни, в лагере тех, кому ненавистны всякие
культурные начинания со стороны инородцев, которые и сейчас продолжа-
ют трубить тревогу по поводу грозных якобы признаков “панисламизма”,
“сепаратизма” и пр. Но мы никогда не ждали встретить этих врагов среди
тех, кому наши единоверцы вверили высокую миссию защищать их интере-
сы». Одновременно Датиев в «Открытом письме» Тевкелеву объяснял свою
готовность передать газету фракции не чем иным, как интересами дела:
«...дабы только не загубить молодой свежей газеты, столь необходимой для
наших единоверцев» (Тевкелев, по словам Датиева, предложение откло-
нил, сказав, что лиц, готовых вести издание, во фракции нет). Хаджетлаше
со своей стороны направил Тевкелеву «Открытое письмо»59, где, помимо
личных выпадов на грани непристойностей, повторял остававшийся без
ответа вопрос Датиева: кого Тевкелев представляет своими телеграммами,
всю ли фракцию или свое личное мнение, - и выражал уверенность, что все
честные единоверцы и все горцы пойдут за ним, за Хаджетлаше (обратим
внимание на сохраняющееся разграничение мусульман «вообще» и горцев,
с которым нам и снова придется столкнуться). Вопрос являлся скорее ри-
торическим: «врагом» была сочтена почти вся фракция.
В конфликте участвовали многие - и в разных ролях. Пожилой Тевке-
лев, возможно, затруднялся кому-либо прямо сказать слово «нет» и еще в
начале событий говорил Датиеву, что одобряет их с Хаджетлаше начина-
ние, а уфимцам сообщил лишь, что фракция (а может, и вовсе он сам как
частное лицо: он запамятовал, как именно написал) к изданию газеты «не
имела отношения». Впрочем, осенью, видимо, выяснились подробности:
если верить возмущенному Хаджетлаше, Тевкелев посмел «выразиться» в
том смысле, что, «судя по лицам», которые стоят во главе газеты, «она не за-
служивает доверия». Стороны согласились на третейский суд, предложен-
ный Датиевым Тевкелеву (проведение суда, однако, по просьбе Тевкелева
откладывалось)60. Какие-то прежние контакты связывали руководителей
«В мире мусульманства» с депутатом Думы от Дагестана И. Гайдаровым.
Именно ему в роли редактора должна была быть передана газета. Издате-
лем же предполагался Сыртланов (помощником как раз этого присяжного
Мусульманский Азеф, или Игра в Другого...
221
го I Игра в Другого
поверенного служил Датиев)61. Этих двоих газета исключила из числа сво-
их врагов в думской фракции, однако они, поставленные перед выбором,
предпочли фракцию и отреклись от изданий Хаджетлаше62. Сыртланов в
«Вакыт» критиковал «В мире мусульманства» за «отсутствие принципов»
и «направления». Последовавший обмен открытыми письмами63 скорее по-
казывает, что Сыртланов дольше оставался на стороне газеты, чем теперь
хотел это представить, а возможно, стремился использовать ситуацию по-
своему: фактически он способствовал конфликту Датиева с Тевкелевым,
рассказав первому о пагубном воздействии телеграммы второго на отноше-
ние уфимцев к этой газете, зато был готов одно время «условно» принять
ее издание на себя. Вероятно, остроте их ссоры способствовал и служебный
конфликт64. Дело дошло до суда: Сыртланов обвинил Датиева в клевете, но
процесс проиграл (Датиев инкриминировал ему финансовые махинации,
связанные с паломничеством в Мекку)65. Неоднозначной долго оставалась
позиция редактора «Вакыт» Ф. Каримова. Отчасти это могло быть связано
с его собственными спорами с членами фракции еще до появления Хаджет-
лаше: судя по некоторым источникам, он не хотел, чтобы планировавшаяся
в Петербурге мусульманская газета издавалась фракцией, и искал неза-
висимого человека (так что Хаджетлаше пришелся как раз кстати)66. Но
именно Каримов, похоже, был в центре расследования: к нему стекались
мнения с обеих сторон67. Не забудем и о Джантюрине: выясняется, что все
началось как раз с его телеграммы.
О побуждениях Джантюрина я скажу чуть позже. Уже сейчас отмечу:
все же не только переосмысление личных амбиций и обид в идеологическом
ключе привело мусульманских оппонентов Хаджетлаше к вопросу о «на-
правлении» его изданий. Скорее наоборот: дрязги начались из-за обеспоко-
енности оппонентов делом - все-таки в начале была Идея. Обеспокоенность
могли вызывать не только сообщения Тевкелева (они и получателями могли
рассматриваться как его частное мнение, что признает даже в ходе ссоры
Сыртланов68). За исключительной независимостью парижанина, помимо его
мстительности, проявившейся в самом способе «ведения» конфликта, поми-
мо некоторой его неосведомленности «в делах и религии [урало-поволжских]
мусульман», определенным образом настроенная читательская бдитель-
ность улавливала нечто иное. Ведь понятно, что и правила личной солидар-
ности, и конвенциональный рисунок прогрессистского печатного слова, при
всем их искажающем воздействии и на индивидуальное поведение, и на
печать, сложились в ответ на реальные потребности политической ситуации,
в какой видели себя российские мусульманские либералы. А те правила и
конвенции, которые нарушал Хаджетлаше, сформировались в противостоя-
нии мусульманских модернизаторов, в первую очередь, государственной
власти. И хотя критика думской фракции, предпринятая газетой «В мире
мусульманства», не была поначалу прямым исполнением правительственно-
го заказа, она обрела поддержку ДДДИИ: видимо, когда на мусульманской
стороне обсуждался вопрос о передаче газеты членам фракции, Хаджетлаше
спросил мнение Харузина, на что получил совсем другое указание: «наобо-
рот, газета должна подготовить фракцию для будущей Думы»69. Сам же за-
мысел передать газету, неосуществленный и неосуществимый, мог, конечно,
диктоваться альтруизмом Датиева, тоже ратовавшего за интересы дела, но
скорее имел целью нейтрализовать воздействие телеграмм Тевкелева, дав
газете «условных» руководителей. Но помогло ли бы это нейтрализовать об-
щую обеспокоенность? В итоге среди оппонентов нашего героя, хотя и вряд
ли знавших о субсидии наверняка, «уже само собой сложилось мнение, что
Хаджетлаше - агент правительствам. так описывал ситуацию полицейский
чиновник, то ли в собственных выражениях, то ли цитируя свой мусульман-
ский источник70.
И тем не менее: при иначе настроенной читательской бдительности -
например, среди таких же полицейских чиновников, не осведомленных о
помощниках своих начальников (как и среди позднейших исследовате-
лей), - журнал могли трактовать совсем наоборот, как радикально панисла-
мистский11. Чиновники, впрочем, были тогда нередко склонны принимать
за явления «панисламизма» почти все, что писалось в мусульманской
прессе. Но и многие мусульмане - те, что были, возможно, недостаточно
бдительны, - продолжали считать «Мусульманин» нужным им изданием...
В подтверждение их чувств - и, конечно, в ответ на подозрения участ-
ников событий - редакция «В мире мусульманства» предприняла неко-
торые шаги. Был анонсирован выход газеты на татарском языке72 и под
маской анонса дан ответ на рецензию в «Вакыт»: обращая, как обычно,
упрек критика в обратный адрес, но с необычной для него лояльностью,
подразумевая, что приверженные тюркоязычной прессе рецензенты не
слишком хорошо знают русский, Хаджетлаше подчеркивал, что татарская
версия газеты «позволит единоверцам лучше понимать, что мы делаем,
что цель наша одна - культурное объединение мусульман, и не упрекать
нас в том, что мы против религии и вековых устоев»73. В том же номере
помещалась статья «Почему штрафуют газету “Вакт”?» (так тогда транс-
литерировали слово «вакыт»), порицавшая чрезмерно бдительное отноше-
ние к оренбургской газете местной администрации на том основании, что
«Вакыт» - газета крайне умеренная, в отличие от «В мире мусульманства»,
и тогда уж следовало бы штрафовать эту последнюю. Один из ее номеров
был, действительно, более чем оштрафован - арестован74. Но демонстрация
оппозиционности газеты разрешению конфликта не помогала. Ведь утрата
доверия нашим героем определялась еще и тем, что можно было бы назвать
предварительным знанием', у Джантюрина уже в апреле были какие-то
сведения о предшествующей деятельности Хаджетлаше, остававшиеся,
впрочем, неподтвержденными.
Однако о существе проблемы никто из оппонентов Магомет-Бека не
сообщал открыто. Датиев возмущенно и безбоязненно требовал прямого
предъявления претензий в прессе: помещая скандал вокруг своей газеты
в контекст мусульманских междоусобиц в Турции, Персии, Баку и Санкт-
Петербурге, он объяснял склонность к «интриге, злобному трусливому
шипению, взаимным подкопам» общей мусульманской бедой - наследием
векового рабства и женственностью, характерной для мусульманских на-
родов в отличие от народов Запада75. Занятый проблемами мусульманской
культуры и цивилизации, он - судя по шоку, отразившемуся в его более
поздних статьях, - был не слишком в курсе ситуации, в которой сам очу-
тился (впрочем, о субсидии он, возможно, знал76). Теперь же, 27 ноября
1911 г., как он писал, свершилось нечто, когда «случайность и отчасти
Мусульманский Азеф, или Игра в Другого...
223
fk I Игра в Другого
собственная их глупость» поставила их с Хаджетлаше противников «в
необходимость выступить публично под своими собственными именами:
они приняли нравственное и юридическое обязательство сделать это»77.
Как сообщат позже правительственные источники, в ноябре в Петербурге
состоялось «собрание мусульман для обсуждения деятельности Хаджетла-
ше»78. Возможно, то и был третейский суд.
«Группа мусульман», объединившая представителей татар, азербайд-
жанцев и северокавказцев, сформированная на собрании79, вплотную за-
нялась расследованием этой деятельности. Одно из конкретных исходных
подозрений заключалось как раз в том, что издания Хаджетлаше имеют
правительственную субсидию80. А правительственная субсидия считалась
тогда в журналистском мире (и не только в его либеральной части81) явле-
нием позорным, безусловно означавшим, что издание, ею пользующееся,
обслуживает интересы власти и лишено «объективности». Тем более для
оппозиционных мусульман сам факт ее получения выбрасывал издателя
в противоположный политический лагерь. Подозревали, впрочем, и боль-
шее. Один из полицейских наблюдателей (трактовавших, надо иметь в
виду, информацию изнутри мусульманской среды), вновь подтверждая,
что Хаджетлаше поначалу доверием обладал, добавляет: «Хаджетлаше до
сего времени считался идейным человеком мусульманства, впрочем, на
Кавказе и сейчас считается таковым, но только отношение правительства к
бакинским татарским газетам заставило их призадуматься, а оренбуржцы
виновником всего этого считают Хаджетлаше»82. Действительно, как раз в
период рассматриваемых нами событий ряд бакинских газет - среди них и
«Ени Феюзат» - был закрыт83. И хотя у меня нет подтверждений прямого
участия в этом деле Хаджетлаше, важно, что могли о нем думать, когда он
утратил доверие. Только ли в продолжение подозрений о субсидии? Рас-
следование, однако, обнаружило нечто, выходящее за субсидийные рамки.
Выяснилось, что автор, который ратовал в своих мусульманских из-
даниях за просвещение мусульман и их объединение на пути прогресса, за
предоставление русской публике правдивых сведений о российских му-
сульманах, об их стремлении к свету Культуры и лояльности российскому
государству, - тот же Хаджетлаше, под псевдонимами, но теми же, какими
он подписывался, адресуясь к мусульманам, - публиковал в консерватив-
ной русской прессе статьи об угрожающем всему цивилизованному миру
панисламизме. Попросту говоря, статьи, читавшиеся в сложившейся по-
литической ситуации как сугубо антимусульманские: ведь писать об этом
значило предполагать и возможность мусульманского сепаратизма внутри
страны, и враждебность ислама Культуре, и политическую угрозу со сто-
роны объединившегося мусульманского мира по отношению к «ненавист-
ным гяурам» в российском и мировом масштабе. Более того, наш автор
не остановился перед тем, чтобы перепечатать в своем журнале и газете
собственную статью, опубликованную за три года до того в правой «Офи-
церской жизни»: там она называлась «Панисламизм как грозное движение
в мусульманском мире», а для мусульман была озаглавлена «Реформаторы
ислама (опыт исторического исследования)»84. При этом он изъял одиоз-
ные оценки из первоначального текста, но не поменял сам текст. Странным
образом «Реформаторы ислама» свободно соседствовали на страницах
«В мире мусульманства» и «Мусульманина» с критикой «Нового време-
ни», «Земщины», «Московских ведомостей» и других изданий, приписы-
вавших российским мусульманам «мифический панисламизм»83.
Избранная «группой мусульман» редакционная комиссия во главе с
Гайдаровым опубликовала разоблачительное «Письмо в редакцию» - при-
том в русскоязычных изданиях с широкой аудиторией: в столичной кадет-
ской «Речи» (24 дек. 1911/6 янв. 1912, № 353)86 и в двух номерах тагиев-
ского «Каспия» (8 и 11 янв. 1912). «Письмо» было призвано дезавуировать
Хаджетлаше не только в глазах мусульман и либеральной российской
общественности в целом, но и в глазах российского правительства. Наряду
с наглядной демонстрацией авторских купюр, каковым подверглась статья
из «Офицерской жизни» для ее публикации в «Мусульманине», и не менее
яркими цитатами из других статей Хаджетлаше, адресованных консерва-
тивному русскому читателю87, здесь приводился фрагмент его частного
письма к «одному из депутатов мусульманской фракции Государственной
Думы» (Гайдарову?), написанного еще 6 марта 1909 г. (т. е. за неделю до
письма Хаджетлаше к Сыромятникову с просьбой о поддержке «Мусуль-
манина» - того, что Сыромятников, под воздействием Аллаева, передал
Харузину). На фоне его предостережений о страшной панисламистской
угрозе письмо депутату представляло Хаджетлаше как человека, готового,
наоборот, работать на поприще того же панисламизма, что подразумевало,
конечно, невозможность для какой-либо из сторон ему доверять. «Мне
очень прискорбно, - цитировали его разоблачители, - что вы не так поняли
наш журнал. О, как далеки мы, и я в частности, - от намерения плясать
под дудку русского правительства. Цель моя — создать совершенно неза-
висимый, но специальный орган русских мусульман, который, издаваясь
за пределами досягаемости, сделает то, что с ним придется считаться.
Цель моя - объединить русских мусульман, создать прочный союз и тогда
диктовать условия. Знаю, что это очень трудно, быть может - для других
утопично, однако, твердо и смело я иду к намеченной цели. Я ли увижу
плоды своих трудов, сыновья ли мои докончат начатое, так или иначе, но
несомненно мусульмане когда-нибудь откроют глаза и протянут нам брат-
ския руки. Да, я в этом убежден... Вперед! Нужно будет, уйду в подполье, но
не умру, пока не налажу дела!»
Несомненное нарушение Хаджетлаше общепризнанных этических
норм - его «работа» одновременно на два противоположных политических
лагеря, «игра» через политическую границу - позволило мусульманским
прогрессистам использовать случай Хаджетлаше в их политической борьбе
с правительством, объявив, что этот безнравственный человек и есть изобре-
татель панисламизма. Таков был пафос «Письма в редакцию», но к тому
же маневру прибегали и позже. С. Максудов, например, вспомнит «дело»
Хаджетлаше в марте 1912 г. в своей думской речи о призраке панисламиз-
ма. Более того. Хотя аргумент от панисламизма зачастую использовался
в противостояниях внутри мусульманства - особенно мусульманскими
консерваторами («кадимистами»), в поисках правительственной помощи
обвинявших мусульманские «прогрессивные элементы» в панисламистских
устремлениях, - Хаджетлаше не был причислен к «кадимистам». Ведь «ка-
димисты», как «прогрессивные элементы» могли думать, хотя бы придержи-
Мусульманский Азеф, или Игра в Другого... I см
О) I Игра в Другого
вались одной, по существу постоянной, позиции. А Хаджетлаше, для татар
по меньшей мере, был выброшен за пределы мусульманского сообщества
вообще. Сколь бы ни была распространена среди прогрессивных мусульман
критика в адрес этого, «своего», сообщества и сколь бы ни была осознанной
универсальность нравственных критериев, отвергнутых Хаджетлаше, он
был воспринят как человек по ту сторону внешней границы мусульманства:
мусульманин так вести себя не может. Эта презумпция позволила в мусуль-
манской среде распространиться слухам о том, что Хаджетлаше - еврей.
Что мусульманин не может выступать против ислама, разумелось само
собой. Замечу, впрочем, что такая предпосылка не была лишена некоторой
прямолинейности, а цитирование, предпринятое авторами «Письма», - не-
которой тенденциозности: при желании в Хаджетлашеевых сентенциях о
чуждости ислама Культуре и его стагнации можно было увидеть критику
ислама искаженного, подвергшегося «порче» и «наслоениям», - критику,
заимствующую аргументы самих джадидов, а то и человека, считающегося
основателем панисламизма, Джамала ад-Дина ал-Афгани88. Бесспорно, од-
нако, что люди, названные «реформаторами ислама» в статьях Хаджетлаше,
адресованных мусульманам, выступали в его статьях для консервативной
русской общественности как грозные враги Цивилизации89. Презумпция
же, что мусульманин так вести себя не может, подразумевала, похоже,
не столько те или иные религиозно-этические установления, сколько не-
кую природную мусульманскую нравственность вообще (представления о
которой основывались скорее как раз на общепризнанных в российском
обществе той поры этических нормах модерности). А потому эта презумп-
ция предполагала и невозможность принадлежности такого человека к
какому-либо «мусульманскому народу» в принципе: в «Письме» дважды
сообщается, что Хаджетлаше «выдает себя за кубанского черкеса», за
«кавказского горца» (курсив мой. - О. Б.). Впрочем, о том, что сие должно
означать, авторы умалчивали.
Собственно говоря, это и было то подозрение, которое высказывалось
в частной переписке еще в апреле 1911 г. С.-Г. Джантюрин тогда сообщал
Ф. Каримову из Константинополя, что настоящая фамилия Хаджетлаше
вроде бы Гриненберг, что стал он Магомет-Беком на Кавказе в результате
какой-то аферы, может быть, присвоив имя какого-то настоящего черке-
са, в ауле которого он будто бы поселился и которого будто бы ограбил90.
Однако предать это «предварительное знание» гласности тогда было не-
возможно - отчасти из-за отсутствия достоверной информации, отчасти
потому, что и на Хаджетлаше тогда еще распространялись упомянутые
конвенции печатного слова, отчасти, видимо, и в силу правил солидарно-
сти, устроенных по принципу «с кем и против кого дружим»: разоблачи-
тели неминуемо оказались бы в «лагере черной сотни». Но не меньшим,
если не главным, препятствием была, очевидно, невозможность вполне
поверить в справедливость таких подозрений: все-таки «Мусульманин» и
его редактор поначалу добились доверия... Однако вскрывшиеся особен-
ности авторского поведения Хаджетлаше ситуацию меняли. Теперь уже
требовалось объявить, что Хаджетлаше не мусульманин. И хотя о том, что
он еврей, говорить в печати прямо по-прежнему избегали, слух этот рас-
пространился, судя по всему, широко.
Мусульманский Азеф, или Игра в
Датиев в прощальной статье в газете (1912. № 8.20 апр./З мая) пытался
разделить существо дела и личность организатора, основываясь между тем
все на том же способе обобщения. Он вновь связывал проблему с общими
чертами мусульман - их культурным уровнем: нельзя смешивать качества
издателя и качество издания, цивилизованные народы так не поступают.
Впрочем, применительно к его ближайшему коллеге и в его личной острой
ситуации (ведь Датиев вынужден был закрывать свою газету) такой способ
обобщения начинал «рваться»: пытаясь хоть как-то оправдать Хаджетлаше,
Датиев подчеркивал, что сам он не интересовался ни его сословием, ни его
«нацией», что не пошел на требование снять имя издателя ради сохранения
газеты (вот еще один отзвук обстоятельств, побуждавших передать газету
думской фракции) и что прошлые ошибки человеку, делающему теперь хо-
рошее дело, можно было бы и простить. И наконец, отвечая, видимо, на раз-
говоры среди мусульман, он настаивал на том, что провокация может иметь
место лишь в подполье, когда же дело открытое и честное - обвинения в
ней бессмысленны. Слово было произнесено не случайно, как не случайна
и ассоциация с подпольем: не так давно та самая этноконфессиональная
группа, к каковой теперь почти открыто относили Хаджетлаше, дала об-
разец провокатора91. «В наш век, век Азефов, - писал Датиев, - обвинение to
в провокации стало модой, обычной в устах крикливых господ». Вряд ли
то был Датиев, кто впервые произнес это имя: скорее всего, и это важнее, g
сопоставление ходило среди разоблачителей. Прозвище «мусульманский ;____
Азеф» было создано. 227
Аналогия между Хаджетлаше и Евно Азефом проводилась в разных
направлениях. Ее политический аспект вполне очевиден. Характерно,
что сообразно найденному общероссийскому образцу молодой сотрудник
оренбургской «Вакыт» Шакир Мухамедиаров - учившийся в Петербурге,
а выросший в Казани, близкий в пору революции 1905 г. к эсерам, один из
тех, кто подпишет разоблачительное письмо в «Речи» и «Каспии», - был
еще в том же апреле 1911 г. командирован оренбуржцами для выяснения
ситуации к разоблачителю Азефа, самому В.Л. Бурцеву в Париж, где он и
побывал летом того же года. Бурцев, охарактеризовав Хаджетлаше «весь-
ма скрытным, хитрым и подозрительным человеком», обещал «иметь его
в виду», но, видимо, не занялся этим делом - хотя некоторые сведения о
Хаджетлаше у него уже имелись из других источников. Нельзя исключить,
что он сообщил о них Мухамедиарову, тем самым усилив подозрения
мусульман. Зато Мухамедиаров, вернувшись в Казань, искал, по данным
полиции, «подходящего человека, чтобы командировать его в Париж сле-
дить за Хаджетлаше», предполагая «устроить его в редакции журнала “Му-
сульманин” в качестве сотрудника». Вот только «выбор его пал на лицо,
известное [жандармскому] Отделению»92...
Ассоциации же с еврейством прототипа Хаджетлаше спустя чуть более
года подтвердит в русскоязычной мусульманской прессе прямолинейный
кавказец Саид Габиев (когда-то писавший у Хаджетлаше, но решительно
от него отмежевавшийся). «Какой-то дворянин, а может быть и князь,
какой-то мусульманин, а может быть и мусульманствующий еврей...»93 -
так поминает он Хаджетлаше (не произнося, однако, этого имени) в своей
«Мусульманской газете», полемизируя с мусульманской политикой пра-
оо I Игра в Другого
вительства, основывающейся на мифе о панисламизме, «этим господином
созданном»94. Впрочем, ему скоро придется уклончиво отвечать на письмо
одного из кавказских сотрудников газеты, вызывающего: «Скажите же
правду о “мусульманском Азефе”»95... Все-таки доверие, завоеванное Хад-
жетлаше, во всяком случае на Северном Кавказе, нелегко поддавалось раз-
рушению.
Там же, где это доверие было утрачено, заговорить широко о том, что
Хаджетлаше - еврей (даже если он и был им), оказалось возможным тог-
да, когда подтвердилось, что он и в других отношениях нехорош. Меня,
однако, интересует в таком разграничивании «своих» и «чужих» не то,
насколько сказывались здесь тогдашние антисемитские стереотипы (или
были ли евреи в восприятии участников описанных событий лишены нрав-
ственности), - иными словами, не то, почему Хаджетлаше отнесли именно
к евреям. Интереснее, как проводилась граница «своего» пространства.
Для разоблачителей, активных политических деятелей мусульманства
(будь то деятельность журналистская, думская или иная), и, видимо, шире -
для мусульман из «центров мусульманства» (Урало-Поволжья и Баку) -
самая граница мусульманства отождествлялась, по крайней мере в нашем
случае, с границей политической, разделявшей «нас» и государственную
власть. Не в последнюю очередь это, конечно, было связано с восприятием
самой власти как иноверческой96. Но эта граница отождествлялась одно-
временно с границей этической, каковую Хаджетлаше пересек, «играя» че-
рез политическую границу. А вместе с тем - с границей этнической, точнее
и шире - с происхождением, которое в конечном счете определяло и нрав-
ственные, и идейные, и религиозные приверженности человека, принад-
лежащего к такому мусульманству (ведь в «жилах» его должна была быть
хоть «капля крови ислама»). Речь идет не просто о сочетании «этнических»
и «конфессиональных» критериев: это общность, особость которой заклю-
чена - все так же, как для Аллаева с Сыромятниковым, - в образе мысли
и поведения. Иными словами - общность культурная, но притом природ-
ная, внеисторическая, «сущностная», «примордиальная» (будь здесь ислам
прежде всего религией, оппоненты могли бы и согласиться с Датиевым, в
шоке обнаружившим, что этническая принадлежность издателя не так уж
важна). Проще говоря, это общность, подобная нации, собственно «мусуль-
манская нация», с ее всеобщим братством и «национальной» культурой
(что культура, что нация конструируются притом равно примордиалист-
ски, и первая является содержанием и сущностью второй).
Та же логика - в позитивных высказываниях о Хаджетлаше. Однако
акценты в ограничивании «своей» общности здесь могут стоять иначе.
Адыгский собиратель фольклора, учитель и инженер (работавший, кстати,
одно время у небезызвестного нам Гаджи Тагиева), безусловно приветство-
вавший появление «Мусульманина» (уже обновленного, 1910 года), Паго
Тамбиев, - допуская, что может ошибаться, отмечая, что знает Хаджетла-
ше лишь заочно, по письмам и «Мусульманину», — все же не может «со-
гласиться с тем, что он вредный человек, ни чуть ли провокатор» (впрочем,
пишет он это до публикации «Письма в редакцию» в «Речи» и «Каспии»).
Наоборот: Хаджетлаше как «горский (черкесский) общественный деятель
стоит вне конкуренции по своим заслугам», а «насчет его происхождения -
судя по его писаниям, думаю, что он черекес, ни один караем или кто иной
так хорошо не будет знать психологию национальную (чужую)» (курсив
мой. - О. Б ). Есть и пояснение: «Быть может, мое несогласие с мнения-
ми, сообщенными Вами, вытекает из того, что я на него смотрю главным
образом с точки зрения горца, а не вообще мусульманина»97. Последнее
замечание примечательно: оно, возможно, отражает те особенности нацие-
строительства на Северном Кавказе (где Хаджетлаше, напомню, больше
всего и доверяли), в которых акцентировалась этническая составляющая
национальной идентичности (в отличие от встреченных нами татарских
интеллектуалов, большую роль в своей «национальной» общности отво-
дивших исламу). Подчеркну, впрочем, что и на Кавказе такое отношение
к Хаджетлаше разделяли не все. С. Габиев или И. Гайдаров были, похоже,
людьми, ничуть не менее «секуляризированными», чем Паго в этом вы-
сказывании, зато куда более «политизированными» и вместе с тем видев-
шими в исламе, подобно их татарским соратникам, важную составляющую
общего «братства»98. Для них Хаджетлаше не был ни мусульманином, ни
горцем99.
Что приятие в число «своих» фигуры позитивной, что отчуждение от
себя отрицательно оцениваемого персонажа, исходя из его этнического и
конфессионального происхождения, чему и подвергся среди наших мусуль-
ман Хаджетлаше, было лишь продолжением построения соответствующих
сообществ - своего и чужого - через придание им тех или иных характе-
ристик, неизбежно оценочных и представляющих смешение политических,
идеологических, нравственных, психологических черт и пристрастий. Как
видим, отчуждение здесь основывалось на тех же презумпциях, которые
использовали Аллаев и Хаджетлаше, наоборот, для достижения доверия
у Сыромятникова: на идее культурной инакости (ведь мусулъманин/горец
так вести себя не может).
* * *
Но если культурная граница мыслилась столь жесткой (и столь «при-
родной»), как же удавалось Хаджетлаше - тем более, если он был евреем, -
ее пересекать? Иными словами, как же он добился доверия?
Обман: общий абрис
Я перехожу к описанию стратегии Хаджетлаше - каковая была, что
следует из всего вышесказанного, стратегией обмана. Обман можно описы-
вать по-разному. Здесь я ограничусь тем, что изображал Хаджетлаше, как
он это делал и почему это оказалось возможным.
Может показаться удивительным, что сам он, похоже, вовсе не сомне-
вался в своей принципиальности, честности и правоте - каковые, впрочем,
слишком сильно подчеркивал. После публикации разоблачительного
«Письма» оппонентов он подал на них в суд, обвиняя в клевете. Дело было
начато (тем же помощником присяжного поверенного, что снял с Датиева
обвинения в клевете, выдвинутые Сыртлановым), но чем оно закончи-
лось, мне не известно100. Аргументы Хаджетлаше должны были строиться,
по-видимому, на апелляциях к проискам панисламистов и склонности к
Мусульманский Азеф, или Игра в Другого... 1см
о I Игра в Другого
склокам, характерной для мусульманской «псевдоинтеллигенции». Во
всяком случае, Ахмет-Бек Аллаев вскоре опубликовал у Сыромятникова в
«России» статью под названием «Существует ли панисламизм?», где разо-
блачители Хаджетлаше вместе с другими заметными членами мусульман-
ской фракции Думы, «бесцветной» «Вакыт» и бакинскими газетами нашли
свое место - вслед за уехавшими из России в Турцию «лакеями» младоту-
рецких «панисламистов» - среди «псевдорадетелей» «темного народа»101.
Хаджетлаше продолжал публиковаться и за собственной подписью (от-
нюдь не все издания его отвергли), не забывая подчеркнуть значимость
своей журналистской деятельности на мусульманском поприще на фоне
склонности мусульманского мира к объединению. Так, в одной из его ста-
тей, появившихся в «Кубанском крае» (1912. № 66. 21 марта), он описывает
свои беседы в Лондоне с представителем индийской «секты» Ахмадиййа и
сообщает, что собрал огромную сумму денег, 50 тысяч рублей, для издания
«центрального мусульманского журнала в Париже на арабском и персид-
ском языках при участии лучших писателей Индии и Аравии»; впрочем,
его скромность заставляет его передать деньги индийцам. Статья эта, как
выяснится, была одним из шагов в целом предприятии.
Друзьям же он писал из Франции, что «принужден» закрыть свою га-
зету, «так как люди, которым я доверил все, не оказались на высоте моего к
ним доверия (sic! - О. Б.), и в редакции моей произошла растрата. Теперь
один из этих типов, на мои (sic! - О. Б.) деньги, адреса и организацию, из-
дает, как мне пишут (sic! - он сам ее, конечно, и не читал. - О. Б.), какую-то
безграмотную газету, позорящую мусульман в смысле ее литературности
(sic! - О. Б.)»102. Что же до журнала, то его прекращение рассматривалось как
временное и объяснялось в другом письме к той же Гернет затянувшимися
хлопотами о его беспошлинном пропуске в Россию. С подобной переква-
лификацией и смысла происходящего, и качеств людей, каковым Магомет-
Бек до того «доверял», и самих отношений с ними103 мы уже сталкивались
и в случае с Коркмасовым, и в скандале с депутатами Думы, и столкнемся
еще не раз. Как принцип она служила самооправданию, в деталях - зависе-
ла от качеств собеседника, на которого была в каждый конкретный момент
ориентирована. Отталкиваясь от некоего «голого», лишенного смысла,
факта (закрытие газеты, например), она и определяла осмысление событий
сообразно случаю: для Гернет подчеркивалась озабоченность автора «лите-
ратурностью», свободная от какой-либо политической (но не этической!)
подоплеки, для Сыромятникова - противостоянием врагам российской
государственности, для депутата Думы - единением мусульман.
Но образ автора, стоявший за переквалификацией событий, та позиция
пишущего (или говорящего), исходя из которой Магомет-Бек вступал в
общение с представителями любой из включенных в эту ситуацию сред,
оставалась как будто неизменной. Она предполагала его высокое служение
долгу, преданность делу и самоотдачу, личную порядочность и образован-
ность - как и несомненную исключительность на фоне его недостойного
окружения. Стержнем же этой идентичности, на который нанизывались
все прочие качества, была выпуклая принадлежность Хаджетлаше к му-
сульманству. И мы уже вряд ли увидим парадокс в том, что, сталкиваясь
с разоблачениями и обвинениями в двурушничестве, Магомет-Бек при-
бегал ровно к тому же аргументу, на основании которого мусульманская
общественность исключила его из своих рядов: «Неужели, - писал он
Сыромятникову рукой Аллаева, - господа Ланге дерзнули сочетать меня
с Азефом? Какое страшное заблуждение! Мусульманин может умереть, но
предателем не будет» (март 1913 г., курсив мой. - О. Б.)104.
Он решительно настаивал на том, что всем говорит одно и то же: «Мне,
наоборот, казалось, что мое участие в этой газете («Новой Руси». - О. Б.)
даже полезно, потому что все равно я писал бы так же, как писал бы и в
“России” и в другом каком-нибудь органе, независимо от его направле-
ния» - такова одна из мотивировок, каковую Хаджетлаше приводит, ис-
прашивая у Харузина разрешение на сотрудничество с А.А. Сувориным105.
Впрочем, эта (само)уверенность не мешала, а скорее способствовала тому,
чтобы в «Мусульманине» публично объяснять (в ходе полемики с социа-
листическими воззрениями А. Цаликова), что «если хотите заинтересовать
мусульманина, то раньше всего говорите ему о религии, о Боге, о Пророке,
в противном случае он не будет слушать вас... Но, объясняя ему основы ре-
лигии, вы можете между строк критиковать все, что угодно, доказав пред-
варительно, что Пророк именно так говорил в аналогичном случае. Тот, кто
действительно знает мусульман, поймет меня...»106 Меня здесь интересует
уже не само по себе конструирование «мусульманской культуры», но са-
мый принцип «говорения», о котором обмолвился Хаджетлаше, и взаимо-
зависимость между первым и вторым. Впрочем, обращаясь к своим мусуль-
манским читателям, Хаджетлаше гораздо меньше говорил им о Боге, чем
о Культуре... Но подчинение говоримого условиям конкретной ситуации,
изменение системы аргументации, да и содержания сообщения, в зависи-
мости от особенностей собеседника было, как видим, вопреки заявленным
убеждениям, его осознанной стратегией. И в его главной «игре» - «игре»
через культурную границу - она оправдывалась культурной спецификой со-
ответствующей аудитории. Эта стратегия выходила далеко за рамки обыч-
ной ориентации на собеседника, характерной для любого общения (ведь
стремление быть понятным и понятым так или иначе заставляет всякого
говорящего учитывать особенности его слушателя, в той или иной степени
«подстраиваясь» под него), как выходила она и за рамки «вынужденного
лицемерия» или вынужденного утаивания «всей правды»107. В частности,
потому, что, как мы видели, такая культурная граница совпадала здесь с
границей политической, и Хаджетлаше в своей «игре» задействовал, в осо-
бенности и прежде всего, именно это ее политическое измерение.
Правительство:
доверие и зарождающаяся усталость
Прежде чем продолжить рассуждение о способах «говорения», ис-
пользуемых нашим героем, вспомним о его взаимоотношениях с другой
обманутой стороной - участницей вышеописанных событий. Впрочем, в
отличие от большой части мусульманской общественности и вопреки на-
мерениям разоблачителей, государственные чиновники, кажется, стороной
обманываемой себя не сочли и не утратили доверия к Хаджетлаше после
появления дискредитирующих его статей - во всяком случае, не вполне и
Мусульманский Азеф, или Игра в Другого... I см
ю1 Игра в Другого
не все108. Не потому ли, что Хаджетлаше пересекал границу мусульманства
именно с этой, их, территории, представлял ее интересы, т. е. действитель-
но выступал как «агент правительства»?
Сам он, похоже, и подавал себя - в отношениях с правительственной
стороной - как представитель государства на территории мусульманской,
по правительственному поручению защищающий эту последнюю от по-
сягательств врагов государственных интересов, но и корректирующий
ошибки правительства, каковые оно совершает на таком малоизученном
поле, защищающий и собственных единоверцев и ходатайствующий за них
перед государством. Еще в начале 1910 г. он просил, например, о переводе
«верных русской государственности людей» (двух офицеров, скорее всего
просто бывших с ним в добрых отношениях, - К. Есиева, который станет
писать не только в «Мусульманине», но и в других мусульманских издани-
ях, и А. Туганова) из отдаленных мест службы в центральные города - и о
желательности этого перевода, оказавшегося, видимо, невозможным, писал
кавказскому наместнику Воронцову-Дашкову сам П.А. Столыпин109. Он
ходатайствовал о разрешении «водвориться на жительство в России» двум
переселенческим семьям, самовольно вернувшимся домой из Турции, - и
это ходатайство было удовлетворено. Он, наконец, просил освободить из
ссылки Г. Баймбетова - в чем ему было отказано110. Возможно, именно в
этой роли представителя-посредника он себя и мыслил111.
Директор ДДДИИ А.Н. Харузин, однако, в переписке с Хаджетлаше
(ведшейся через посредничество секретаря при директоре, действительного
статского советника А.Н. Нефедьева) всячески подчеркивал: «В основание
[его, Харузина] отношения к Вашему изданию положена не коммерческая
сделка, а лишь усилие оказать содействие частно предпринятому изда-
нию», - и отказывался от какой-либо ответственности за это предприятие, к
каковому он «не имел отношения», кроме пересылки денег112 (что не мешало
ему полагать «совершенно недопустимым» публиковать в «Мусульманине»
чересчур критические статьи - «не касаясь сущности» критики113). Впрочем,
«отказ от ответственности» был высказан в связи с поставленным самим
Хаджетлаше вопросом о прекращении парижского журнала: Хаджетлаше
хотел больше денег, и к тому же все сразу, а потому и шантажировал спонсора
немедленным закрытием издания («Продолжать дальше при таких услови-
ях невозможно», - писал он, добавляя, что тем не менее готов), чем вызвал у
Харузина явное раздражение114. Но самое это раздражение свидетельствует,
что прямым своим представителем, «агентом» правительства Хаджетлаше
в ДДДИИ не считали. Зато верили, что редактор этого «частного издания»
действует в духе интересов правительства (характерно, что вслед за «раз-
драженным» письмом Харузин передал еще одно, где, помимо обещания
приложить усилия к удовлетворению очередного ходатайства Хаджетлаше,
сообщалось, что «отношения» Его превосходительства и к изданию, и лично
к его редактору остаются прежними113).
Вместе с тем прекращение журнала по истечении 1911 г. могло быть
тогда уже, в феврале 1911 г., согласовано116 - в связи с уже упоминавшимся
внешним препятствием: доступ его к российскому читателю ограничивался
запретом (с 1911 г.) подписки на заграничные издания, наряду с пошлинами
на русскоязычные издания, выходившие за рубежом и отправлявшиеся по
почте. В отличие от последующих представителей государства в этой исто-
рии более вдумчивый (и этически чуткий?) Харузин счел, что ходатайство-
вать об исключениях для «Мусульманина» на основании получаемой им
субсидии было бы неудобным - и прежде всего для самого Хаджетлаше117.
Когда же в мае 1911 г. разговор вплотную зашел (с подачи Хаджетлаше118)
об «организации серьезно, солидно и популярно поставленной мусульман-
ской газеты в Петербурге», Харузин идею активно поддержал и был готов
«тут же» (но частями) отпустить на нее выделенную сумму. При этом он
полагал «немыслимым» «оставлять петербургское издание без руководи-
тельства» не кого иного, как Хаджетлаше119. Сие окончательно ставило под
удар парижский «Мусульманин» (его «наличность» теряла «значение»;
«...совершенно естественно, - передавал Харузин, - что два издания ... из-
давать нельзя»).
Ясно, однако, что все это время Хаджетлаше удавалось поддерживать
вполне серьезное отношение к себе со стороны директора Департамента.
Его, конечно, и здесь пытались проверить, направляя запросы о его пред-
шествующей деятельности в Департаменты полиции, печати, начальнику
Кубанской области М.П. Бабичу, - как ни странно, тогда же, когда этим
занялись и мусульмане, в апреле-мае 1911 г.120 Но отсутствие сведений о
нем у запрашиваемых лиц свидетельствовало скорее в его пользу: он ничем
не проштрафился. Видимо, с 1912 г. планировался переезд Хаджетлаше в
Питер (возможно, оставлять газету «на руках» у Датиева предполагалось
лишь в течение 1911 г.). Но судьба распорядилась иначе.
Субсидия на издания Хаджетлаше прекратилась с 1912 г. Ему при-
шлось расстаться с ДДДИИ. Однако и то и другое было связано, вероятно,
не только с тем, что после «Письма» его оппонентов в «Речи» чиновники
департамента не считали более возможным продолжать субсидировать
мусульманские издания под той же редакцией. В сентябре 1911 г. погиб,
как известно, П.А. Столыпин, уделявший мусульманской политике госу-
дарства особое внимание, в чем немалое участие принимал как раз А.Н. Ха-
рузин121, - и, напомню, премьер-министр, он же министр внутренних дел,
отнесся к деятельности Хаджетлаше всерьез. Примерно тогда же Харузин
покинул ДДДИИ122. Высокие связи Хаджетлаше в этом Департаменте
тем самым рвались. В начале декабря (возможно, уже после ноябрьского
мусульманского собрания123, но еще до публикации разоблачительного
«Письма») Хаджетлаше писал Харузину прощальное послание: «Вы такой
прямой и хороший русский человек, перед которым нельзя кривить душою,
и я верю в искренность тех чиновников, которые, желая Вам всякого добра,
в то же время горько жалеют, что Вы ушли от них...» — так оно начиналось.
Суть же вновь заключалась в том, чтобы убедиться, что денег - теперь уже
на газету (значимость каковой подтверждалась, в частности, очередными
ссылками на авторитетное мнение Сыромятникова), пусть не ежеднев-
ную, хотя бы еженедельную, - достать более не удастся. «Единственной
просьбой» было дать автору возможность отправить по домам «целый штат
преданных людей», который он «составил», после чего он мог бы объявить
о прекращении своей деятельности. Важность таковой, между тем, под-
черкивало полученное Хаджетлаше приглашение от мусульман Индии
издавать журнал на арабском (вспомним его статью в «Кубанском крае»):
Мусульманский Азеф, или Игра в Другого... 1см
| Игра в Другого
он писал, что над этим пока думает, так что у Харузина еще оставался шанс
сохранить его для России124. И наконец, в феврале 1912 г. - два прощаль-
ных письма Нефедьеву, одно из Лондона, другое по возвращении в Париж:
Магомет-Бек благодарен за все, на три года покидает Европу, отправляется
в Индию - «вероятно, больше уж никогда не увидимся»125. Нефедьев пере-
слал письма Харузину. Печально-любезная тональность писем свидетель-
ствует, очевидно, о том, что история с «авторской правкой» статьи Хад-
жетлаше о панисламизме, которая вряд ли могла не дойти до ДДДИИ, не
была воспринята здесь как нечто этически или политически недопустимое.
Возможно, ее сочли досадной неосторожностью, возможно также, что госу-
дарственным лицам было проще оправдать появление противоположных
версий этой статьи, чем мусульманам. Так что ж, быть может, Хаджетлаше
и вправду здесь не «кривил душою»?
Но независимо от характера его убеждений методы убеждения, ис-
пользуемые им здесь, вряд ли обнаруживают много нового по сравнению,
например, с перепиской Аллаева с Сыромятниковым или Хаджетлаше с
Гернет. Та же комплиментарность (вплоть до лести) по отношению к адре-
сату, то же миссионерство и демонстрация собственной исключительно-
сти, где во главе угла - причастность пишущего незнакомому для адресата,
культурно иному пространству, те же способы предъявить собственную
востребованность - и прежде всего во враждебном адресату «лагере» - и,
конечно, постоянный шантаж возможностью утраты такой выдающейся
фигуры (всегда не без финансового интереса). Уверенность Магомет-Бека
в важности произведенного им печатного слова побуждала его посылать в
ДДДИИ не только субсидируемые издания, но и прочие свои произведе-
ния, в частности на французском, которого, однако, он, видимо, не знал или
знал плохо126. И чиновники, как свидетельствуют их письма и отметки на
полях, все это читали127, и чтение, судя по всему, их устраивало. Хаджетла-
ше и здесь неплохо удавалось «подстраиваться» к собеседнику.
О содержательной стороне его аргументов уже нетрудно догадаться.
«Несомненно, культурным государствам угрожает в ближайшем будущем
новое учение под именем панисламизма», - писал Хаджетлаше Харузину
еще в «Путевых заметках» конца 1909 г. И младотурки после ухода сул-
тана Хамида вовсе не отказались от панисламистской мечты, а наоборот,
планируется политическое объединение суннитской Турции и шиитской
Персии. Турция намерена отомстить ненавистной России за поражение, и
горские племена, более всех других мусульман обиженные русскими пора-
ботителями, для нее особенно плодородная почва. Младотурецкие и мла-
доперсидские комитеты наводнили мусульманскую Россию, и турецкие
эмиссары под видом учителей ведут свою «беспрерывную деятельность»128.
Для того же, чтобы противостоять этому сильному врагу и «направить про-
буждение» мусульман «на прямой путь» - ибо пока еще не поздно, пока
еще как раз горцы являются оплотом русской государственности, - нужны
не те «микроскопические» средства, которые имеются у автора, и журнал
надо выпускать каждую неделю, а не раз в две...
Перед нами - весь набор стереотипных элементов, конструировавших
панисламскую угрозу и заполнявших донесения по мусульманскому во-
просу в МВД в те годы. Включая и не самые устойчивые: таково сопостав-
ление младотурков с другим страшным врагом России, недавно принесшим
ей позор, - японцами, - связывавшее угрозу «зеленую», панисламскую,
с угрозой «желтой»129. И трудно сказать, как именно устроена процедура
«заимствования»: когда Хаджетлаше лишь точно воспроизводит и ком-
бинирует стереотипы, а когда, тонко чувствуя ожидания собеседника,
«переизобретает», вербализирует и укрепляет их (в чем его, по сути, и
обвиняли мусульманские разоблачители, объявляя изобретателем панис-
ламизма). Изобретателем «панисламизма» в России он, конечно, не был130,
но какое-то влияние и на Харузина, и на Столыпина, а вслед за ними на
чиновников МВД оказал131. Своевременность их движения навстречу друг
другу отражается, в частности, в событии из сферы «большой» политики:
в январе 1910 г. (как раз, когда Хаджетлаше удается вовлечь в свои планы
Харузина и вновь «запустить» «Мусульманин», а Столыпин, с его подачи,
пишет письма Воронцову-Дашкову) в России по инициативе Столыпина
и под руководством Харузина проводится межведомственное «Особое со-
вещание», посвященное «мусульманскому вопросу»132.
Вопрос об освобождении «Мусульманина» от пошлин был между тем
решен - посредством еще одного текста-предшественника статьи в «Кубан-
ском крае». В 10-х числах того же декабря 1911 г., когда Магомет-Бек писал
прощальное письмо Харузину, в газете «Вечернее время» (антисемитской
газете, издававшейся другим сыном «старика Суворина», скандальным
Б. А. Сувориным) появилась статья за подписью «Абдаллахъ» под названи-
ем «Собственноручные панисламисты». В ней сообщалось, что «Мусуль-
манин» объявлен в России запрещенным, зато индийские панисламисты
зовут Хаджетлаше издавать журнал на арабском (и обладают все той же
баснословной суммой в 50 тысяч рублей). Ясно, что прежде «не только
чуждый, но даже “чуравшийся” панисламизма» журнал теперь переменит-
ся в своем направлении, а издаваясь на арабском, «совершенно пойдет в
разрыв с нашими русскими интересами»133. ДДДИИ спешно занялся выяс-
нением, действительно ли «Мусульманин» запрещен, а через четыре меся-
ца, в марте 1912 г., министр внутренних дел Макаров обратился к министру
финансов Коковцеву с ходатайством об освобождении «Мусульманина»
от пошлин: ведь издание это - «прямой противовес выходящим в России
мусульманским газетам и журналам, почти без исключения проникнутым
указанными идеями [панисламизма и пантюркизма]». Смысл же «доволь-
но значительной денежной субсидии», оказываемой МВД по названным
причинам издателю журнала, утрачивается, когда доступ издания «в
пределы Империи оказывается фактически прегражденным». Меньше чем
через месяц, 2 апреля 1912 г., Высочайшее повеление о беспошлинном про-
пуске в Россию уже не издающегося «Мусульманина» было получено134 -
что будет широко использоваться Хаджетлаше во всей его дальнейшей
переписке. Но как правительственные чиновники могли всему этому так
легко поверить? Об этом задумаемся позже.
Спустя полтора года после прощальных писем Хаджетлаше Нефедье-
ву, в августе 1913 г., мы находим его вовсе не в Индии, а в Питере, откуда
он ведет переписку со знаменитым директором Департамента полиции
С.П. Белецким135 и куда он только что вернулся из... поездок, финансиро-
ванных этим Департаментом. Причем по сведениям охранки, собранным
Мусульманский Азеф, или Играв Другого...
235
0)1 Игра в Другого
позднее (в 1916 г.) и, очевидно, спорным - она ведь, не зная о субсидии,
считала его «левым панисламистом», - Хаджетлаше вроде бы был в 1913 г.
(если был, то скорее в 1912 г.) также не совсем на Востоке - на Балканском
полуострове, и притом, как отмечает с сомнением составитель справки, в
санитарном отряде (т. е. участвовал на стороне славян в Балканской войне,
оставшись, таким образом, «чуждым панисламизму», - впрочем, сведения
об этом могли быть почерпнуты от него самого)136. Как бы то ни было, Де-
партамент полиции и его Особый отдел, как в свое время ДДДИИ, тоже от-
ветили Хаджетлаше доверием. Во всяком случае, поначалу - достаточным,
чтобы направить его «для ознакомления с мусульманским движением»137 в
апреле 1913 г. в Туркестан, Среднюю Азию и Закавказье вплоть до «турец-
кой границы»138, а в мае - в Поволжье139. Затем - достаточным, чтобы пред-
ставлять справки по его предложениям, каковые, впрочем, почти всякий
раз останавливались на пороге высшей инстанции.
Доклады Магомет-Бека не слишком изменились в приемах подачи
материала. Но содержание их расширилось. Добавились, сообразно пред-
военной конъюнктуре, новые страны - враги России, на которые возла-
гают надежды враждебно, по темноте своей, настроенные ее подданные-
мусульмане: помимо Турции и Японии, здесь выделяются Китай110 и по-
кровительствующая Турции Германия, а также Австрия (германская связь,
в противовес австрийской, будет еще подчеркнута в докладе Хаджетлаше
о собрании «всемирного мусульманского союза», присланном из Парижа
в ноябре 1913 г.141). Более того, отторжение Хаджетлаше мусульманскими
активистами повлекло его в атаку: в отличие от прежних «Путевых за-
меток», - где он писал Харузину: «...не стану называть Вам этих врагов,
назову друзей» (и «врагов» не называл)142, - здесь панисламская угроза
была уже олицетворена немалым числом конкретных имен представите-
лей российской мусульманской «псевдоинтеллигенции», список которых,
как ни странно, не слишком зависел от маршрута путешествий докладчика.
В корреспонденциях не только из У рало-Поволжья, но и из Туркестана
и Средней Азии (три сообщения, пришедшие оттуда в этот период в ДП,
по всей видимости, принадлежат ему143) он не затрудняется перейти от
описания общего настроения «сартов» и прочего мусульманского населе-
ния, падкого на пропаганду тех китайцев, афганцев, немцев и, разумеется,
турок, которые бродят повсюду (еще и с разведывательными, несомненно,
целями) то под видом торговцев или коммивояжеров, то дервишей или
фокусников, то учителей, - к именованию лиц, нам уже отчасти известных.
Переход прост: «Интересуясь распоряжениями русского правительства,
касающимися границы Турции ... турецкое правительство ищет лиц, могу-
щих получить сведения из Азиатского Департамента»144. Так что наиболее
активные в 1911 г. оппоненты Хаджетлаше замешаны уже не просто в про-
паганде в пользу Турции (как о том, например, писал Аллаев в своей статье
в «России»), но в шпионаже: оных лиц турки ищут через Ф. Каримова145,
Ш. Мухамедиарова или корреспондента «Каспия», пишущего под псевдони-
мом Эль-Дагестани146, а вознаграждение за добытые военные сведения будет
выплачено «каким-то бакинским миллионером». Уж не Тагиевым ли? Чуть
ниже он назван прямо: в числе жертвующих на турецкую провоенную дея-
тельность других богачей из Баку, «этого города убийц, где можно за золото
сделать решительно все, в особенности если это повредит России». Здесь
присутствуют и члены думской мусульманской фракции147, а в кружок мо-
сковской мусульманской молодежи, которая готовится разъехаться по всей
России для пропаганды единения с Турцией, затесался Датиев148... Впрочем,
быть может, присутствует здесь и сам Хаджетлаше - как «неизвестное» ав-
тору записки «лицо из Санкт-Петербурга», каковому адресуется корреспон-
денция, «связанная с этим рискованным предприятием» (т. е. добыванием
военных сведений из Азиатского департамента)149: нельзя же, в самом деле,
недооценить его роли и на мусульманском поприще. Вообще автору записок
остается неизвестным довольно многое - настолько, чтобы не сбросить заве-
сы тайны с этого враждебного мира, но, видимо, не настолько, чтобы лишить
ценности получаемые от него сведения. В докладе же из У рало- Поволжья,
группирующем «панисламистскую» интеллигенцию - и, в частности, тех же
лиц - по областям («Панисламизм в Уфимской губернии», в Оренбургской,
Казанской, Астраханской), особая роль в проникновении в Азиатский де-
партамент отведена, конечно, С.-Г. Джантюрину150.
Нельзя исключить, что заслугам Хаджетлаше принадлежит и более
действенное, чем обзорная информация, предприятие: арест студентов-
мусульман в Киеве в апреле 1913 г., подготавливавших, как предпола-
галось, съезд «для выработки объединяющей их действия программы».
Сведения поступают «из агентурных источников» в Казанское жандарм-
ское управление в марте, как раз накануне (по моему прочтению дат)
описанных поездок Хаджетлаше151. Быть может, эта заслуга (единственная
ли?) и стала «мостиком» между его журналистской и «наблюдательной»
деятельностью, обеспечившим ему возможность путешествий с названной
миссией. Приходится допустить, что если он прежде и не делал того, в чем
его подозревали мусульмане, теперь, по-видимому, приступил.
Однако доносы на мусульманскую интеллигенцию и месть его разо-
блачителям и другим личным врагам были лишь попутным назначением
докладов Хаджетлаше. Их главная цель оставалась почти прежней: вновь
«пробить» издание «Мусульманина». Но не только. Бороться с такой
антигосударственной деятельностью, использующей темноту и непросве-
щенность мусульманской «массы», - каковая по природе своей лояльна и
предана России, но не ведает реального положения дел и полноправности
мусульман в этой стране, почему ее и легко так запутать, - следовало «ис-
ключительно путем печати». Доказательству необходимости издания «мно-
жества брошюрок» для распространения их «по аулам и кишлакам» и газет
на тюркских языках, на «священном арабском» и на русском (а затем и на
персидском) посвящен чуть ли не каждый его доклад. Понятно, что при этом
требуется «добросовестная работа лиц, в руках которых будет находиться
такая печать», и притом работа постоянная. Разумеется, «глубокое убежде-
ние и многолетний опыт» автора - залог такой добросовестности. Так что
теперь Хаджетлаше добивается субсидии уже не только на еженедельную
(если не ежедневную) газету, но и на издательство, каковое должно быть
«поставлено солидно»152. А методы убеждения - те же: враги наши, что в
России, что за рубежом, давно осознали важность печати и существенно
опередили нас в ее использовании. В число таких врагов попадает сам
И. Гаспринский, воспетый в «Мусульманине». Впрочем, в этих докладах
Мусульманский Азеф, или Играв Другого...
237
co I Игра в Другого
можно заметить и нечто, высказанное под сурдинку: как враждебно истол-
ковываются в мусульманском мире некоторые распоряжения российского
правительства, затрагивающие мусульман. И, вопреки прямым формули-
ровкам Хаджетлаше, адресованным чиновникам, не всегда ясно, то ли эти
распоряжения надо попросту правильно истолковать (чему и служили бы
его издания), то ли они и в самом деле не совсем хороши153. Как бы то ни
было, с предложениями о возобновлении «Мусульманина», издании газе-
ты и учреждении издательства Хаджетлаше будет обивать пороги разных
департаментов МВД (и не только МВД) вплоть до 1916 г. включительно.
Такие корреспонденции Хаджетлаше не вызывали в ДП и его струк-
турах на местах сомнений в антипанисламистской настроенности автора.
Но возмущение вызывать могли. И не измышлениями о панисламизме как
таковом (в его опасности здесь сомневались немногие), но в особенности
двумя чертами. Во-первых, тем, что автор противопоставлял глубину
своего понимания вещей не только неведению «знатоков Востока» (читай:
европейских/русских ученых), но и «малоопытных» уездных офицеров
и «бездеятельной» администрации. Во-вторых, тем, что сведения его, как
полагал критик, основывались на непроверенных «слухах» и «бесцельных
россказнях», «какие постоянно передаются на базарах по всему Туркеста-
ну», - при отсутствии «положительных данных» и «умолчании о каких-
либо лицах», ведущих «противорусскую работу» по подготовке войны:
нельзя смешивать «возможность» «с тем, что фактически делается»154.
(Ведь лица, обыкновенно называемые Хаджетлаше, мало были связаны с
конкретной «работой» на местах, а их имена - не все, но в большой части -
были известны полиции и без его стараний: речь шла об общественных му-
сульманских деятелях.) Подобного рода полемика между «прагматиками»
и «теоретиками» в министерствах не была новой153, так что Хаджетлаше,
принадлежа ко вторым, вряд ли оказывался слишком оригинальным. И тем
не менее - или скорее как раз благодаря этому - его записки рассылались
по районным ГЖУ156, а обзоры и справки, по ним составлявшиеся, пред-
назначались и для посылки в другие министерства - Сазонову в МИД157
или военному министру Сухомлинову158 - как и для обсуждения в Совете
министров159. Наряду с предложениями об организации мусульманской
печати (передававшимися в Совет министров), общая характеристика
ситуации, судя по этим обзорам, составляла основный предмет интереса
чиновников. Что же до «конкретных» сведений, поступавших от Хаджет-
лаше, то если они и воспринимались как «непроверенные», лучше было
все-таки «перестраховаться». Создать впечатление «конкретности» автор
записок не забывал: например, описанием маршрутов и расположения
населенных пунктов или упоминанием тревожащих деталей (как если бы
то были наблюдения за мобилизационной активностью врага на границе:
«Турция бросит два корпуса на границы Кавказа» - когда «кто-нибудь»
объявит России войну160). Что такая конкретность могла быть попросту
(художественным) вымыслом, вряд ли кому приходило в голову.
Хаджетлаше верили - и, например, вступали в спор с характеристикой,
данной ему охранкой, «в виду различия оценки личности Ходжетлаше
(так. - О. Б.) нашей и о.о. (охранного отделения. - 0.Б.)»161... И здесь, лишь
в мае 1916 г., насколько я могу судить - впервые на бумаге, появляется пря-
мое упоминание истории с разоблачением нашего героя мусульманами. Но
служит оно как раз той аргументации, какую и следовало ожидать от него
самого или от людей, ему верящих, - подобно подтверждениям его вер-
ности избранному направлению стойкостью перед вражескими угрозами и
соблазнами, например со стороны младотурок (а сомнения разоблачителей
в его принадлежности горцам и мусульманам попросту игнорируются)162.
Сразу вслед за упоминанием о том, что мусульмане сочли его деятельность
провокационной, читаем: «По имеющимся в Департаменте Полиции впол-
не достоверным сведениям, Магомет-Бек Хаджетлаше искренно располо-
жен к России, выразив в свое время готовность содействовать Русскому
Правительству в борьбе последнего с панисламизмом. Издававшийся им
журнал “Мусульманин” отнюдь не является органом панисламистов. На-
правление его было чисто консервативное, вполне отвечавшее мероприя-
тиям русского Правительства»163. Впрочем, определенность высказывания,
похоже, усилена полемикой с охранкой. Ибо и в доверии чиновников ДП
еще в 1913 г. обнаруживаются «зазоры»: сведения о нем вновь пытаются
проверить (еще Белецкий)164, на подготовленных письмах и справках по-
являются указания «Не посылать...»165, «в Совет вноситься не будет...»166.
Возможно, обсуждения, стоявшие за этим в начале 1914 г., касались под-
готовки нового «Особого совещания» по мусульманскому вопросу, прове-
денного весной. Но что-то «сломалось». После возвращения Хаджетлаше
из Поволжья ему более не удается получить в МВД «работу». Ее для него
иной раз специально искали (вплоть до готовности, уже в 1916 г., взять его
в Ташкент переводчиком - всего лишь!)167 - но не находили... Опять ушел в
сенаторы его главный «контакт», теперь из ДП, С.П. Белецкий, не появля-
ется как будто после 1913 г. на этой сцене и С.Н. Сыромятников168.
sfc jfs М*
Прерву на время эту часть истории. Что же получается, если взгля-
нуть одновременно на способы «говорения», используемые Хаджетлаше
в двух основных для него в это время сферах общения - либеральной и
мусульманской, с одной стороны, консервативной и правительственной - с
другой? Или, иначе, как Хаджетлаше «подстраивается» к собеседникам из
этих сфер?
Обман: дискурс и «идейность»
Путь, кажется, был прост. Используя склонность консервативной
русской публики и чиновников МВД видеть в мусульманских лидерах
сепаратистов, Хаджетлаше говорил им об угрозе панисламизма. Всячески
нагнетая эту угрозу, он добивался от государства субсидий на то, чтобы в
своих изданиях для мусульман (существовавших или долженствовавших
возобновиться) «приобщать мусульман к Культуре» и переводить «по-
литический панисламизм» на язык «культурного возрождения». Видимо,
считая и сам, что лидеры русских мусульман лишь на словах говорят о
своей лояльности государству, он в подходящих случаях им говорил о сво-
ем возможном уходе в подполье ради «прочного союза» и «объединения»
мусульман. Впрочем, «объединения» он в каком-то смысле добился. И не
Мусульманский Азеф, или Игра в Другого... Iсм
о I Игра в Другого
только парадоксально, объединив в оппозиции к себе самому по крайней
мере некоторое число мусульман из разных регионов России, - но объеди-
нив их и в своих мусульманских изданиях. И не только институционально:
ведь заявленная аполитичность и открытость русской публике «Мусуль-
манина», да и «В мире мусульманства», даже действительное присутствие
в них русских (и даже одиозных) авторов на практике служили все-таки
утверждению общемусульманской особости и упрочению границы, эту
особость очерчивавшей, - сколь бы ни были настойчивы в этих изданиях
утверждения о преданности российских мусульман своей русской родине.
«Игра» ведется, что очевидно, на противопоставлении и без того
противоборствующих лагерей (ему же служит присутствие враждебных
сил, окружающих каждый из них в отдельности). «Подстраивание» к собе-
седнику, представляющему одну из сторон, вырастает здесь - в описаниях
противоположной стороны - в использование и постоянную актуализацию
образа врага. Так - не только в подстраивании к собеседнику русскому и
консервативному. Вспомним обращения Хаджетлаше к мусульманам: за-
явление о намерении «диктовать условия» правительству или предложе-
ние устроить побег Баймбетову, что может характеризовать общее направ-
ление бесед, не предававшихся огласке169. Это отвечало конспиративности
Хаджетлашеева мышления в целом: слова о созданной им по всему миру
«организации» или «сети» «сотрудников», «корреспондентов» или «аген-
тов», о тайных промыслах всяческого рода «эмиссаров» (панисламистских,
турецких и иных), о найденных им тайных прокламациях и секретных до-
кументах, ореол тайны и недоговоренности, окружавший его самого и его
собственную публичную деятельность, сопутствуют ему на всем его пути.
Впрочем, такой полной зеркальности, «взаимо-образности» в созда-
нии им взаимных образов врага, казалось бы, противоречит постоянно
повторяемая Хаджетлаше идея лояльности мусульманской массы к
российской государственности. Однако борьба между противоборствую-
щими лагерями как раз и ведется за эту массу, выразителем истинных
чаяний которой Хаджетлаше как истинный мусульманин и выступает.
В его обращениях к государству эти истинные чаяния (преданность
русской родине) предстают противоположными грозным намерениям
мусульманских лидеров-панисламистов (также претендующих эти чая-
ния выражать - но неправильно, активизируя их вредные стороны); в его
обращениях к мусульманским оппозиционерам такие чаяния противо-
положны устремлениям государства. Идея лояльности была лишь иной
оценкой, по сравнению с представлениями о потенциальной враждеб-
ности мусульман русской государственности, все той же границы (не
случайно эти оценки так легко взаимозаменяемы).
Можно ли тогда определить цели этой «игры», устроенной, конечно,
по принципу «разделяй и властвуй», - но были ли у нее цели помимо
власти, т. е. личного авторитета, какового ищет Хаджетлаше в каждом из
«лагерей-участников», и финансового преуспеяния? Или, иначе говоря,
можно ли допустить, что за «присваиваемыми» Хаджетлаше противопо-
ложными позициями этих лагерей (во всяком случае, такими, какими они
ему виделись) скрывалась и некая собственная его «идейная позиция», на
обладание которой он в каждом случае столь явно претендовал? Был ли
он все-таки привержен интересам какой-либо из сторон, кроме интересов
собственных, даже если каждую из них обманывал? У меня нет однознач-
ного ответа на эти вопросы, как нет его до сих пор у тех, кто ищет его при-
менительно к гораздо лучше исследованной фигуре, послужившей прото-
типом завоеванного Хаджетлаше прозвища, - Евно Азефу170. В описанной
ситуации можно допустить как то, что Хаджетлаше стремился «работать»
в интересах русского правительства, т. е. против «панисламизма», так и то,
что на деньги правительства он желал служить «революционным» объеди-
нительным целям. Первое предположение кажется особенно вероятным в
ситуации после 1912 г., когда Хаджетлаше был как бы вынужден (проис-
ками «панисламистов», конечно) сделать окончательный - консерватив-
ный - выбор (о чем, казалось бы, свидетельствуют его отношения с МВД).
Второе подтверждается теми его открытыми и тайными действиями, где
«врагом» представало правительство (вспомним его «странные» ходатай-
ства за мусульман, явную и неявную критику правительственной мусуль-
манской политики, да и неоднозначность оценок «идейного содержания»
«Мусульманина» его читателями). Ведь Магомет-Бек, похоже, далеко не
все свои правительственные связи скрывал от мусульман: их, конечно,
предполагалось использовать в интересах именно этого лагеря171. Однако
нельзя исключить и другого: что позиция у него не только имелась и была
относительно постоянной, но носила в его глазах некий «третий» характер;
не чуждая даже определенной последовательности, она была способна,
казалось бы, устроить и тех и других. Хаджетлашеева «игра» на антагониз-
мах могла действительно вестись во имя идеи, согласно которой истинные
интересы России и мусульман не противоречат друг другу.
Отголосок такой позиции из сферы ее практического применения
(вновь свидетельствующий, кроме того, об осознанности используемых
методов) доходит до нас - впрочем, уж совсем в фантастическом варианте
и по совсем «испорченному телефону»: идеи Хаджетлаше передает Байм-
бетов172, слова которого передает полицейский информатор, чью информа-
цию начальник Казанского ГЖУ передает в своей справке. Согласно оной,
Хаджетлаше все в том же 1909 г. (когда он добивался правительственной
субсидии), доказывая «утопичность социализма», убеждал эсера Баймбе-
това «примкнуть к панисламистам и работать вместе с ними». Затем он так
объяснял ему свою «цель и деятельность»:
В сущности у Хаджетлаше (Датиева и др.) нет никаких сепаратистских за-
дач, а напротив, они стремятся к объединению русских и мусульман на почве
общей культуры и единого государства, считая, что мусульмане могут жить
спокойно и развиваться свободно лишь в России. Поэтому Хаджетлаше счи-
тает необходимым создать симпатию мусульман мира к России и поддержи-
вать дружеское отношение России со всеми мусульманскими народами. Для
этой цели Хаджетлаше и его партия создали огромную организацию и имеют
в каждой мусульманской стране своих деятельных агентов... В виду того, что
цель Хаджетлаше и его партии противоречит их деятельности (цель - объеди-
нение мусульман при отсутствии сепаратизма, а между тем они приглашают
Баймбетова работать на почве панисламизма), по этому поводу был спрошен
Баймбетов, который ответил так: «Для достижения намеченной цели необхо-
Мусульманский Азеф, или Игра в Другого...
241 '
ю I Игра в Другого
димо настроить все державы, под властью которых имеются мусульмане, подо-
зрительно против мусульман, т. е, создать взгляд на мусульман как на будущую
опасность и, таким образом, развить антагонизм. Ибо только при наличности
такой взаимной вражды возможно сплочение мусульман под одним флагом.
Россия же, поддерживая дружеское отношение с мусульманами, сумеет легче
всех забрать сплоченное мусульманство под свой флаг»173.
Даже если «телефон испорчен», а последний аргумент, быть может,
принадлежит лично Баймбетову, самый принцип «развить антагонизм» -
во имя объединения каждой из противоборствующих сторон, но и во имя
их согласия «под русским флагом» - остается тем же: не он ли диктовал
появление антипанисламистских публичных статей и секретных записок
Хаджетлаше?
За этим могла стоять и более «складная» теоретическая концепция.
Можно допустить, что, выступая против эмиграции мусульман, и прежде
всего горцев, в Турцию, вообще против всяких проявлений мусульманско-
го сепаратизма, а тем самым, в терминах эпохи, и против панисламизма,
действительно считая, что мусульманам лучше живется в России, чем в
Турции и где бы то ни было еще, Хаджетлаше и впрямь «работал» на то,
чтобы предполагаемую угрозу политического объединения мусульман
обратить в объединение культурное174, долженствовавшее обеспечить их
прогресс и просвещение и одновременно сохранить их лояльность россий-
скому государству. Такая позиция вполне могла отвечать ритму «дудки
русского правительства». Но в ее конструктивной части она отвечала (по
крайней мере, внешне) и существенным чертам тенденции, настойчиво
звучавшей в это время в постулатах мусульманских лидеров, о которой я
уже упоминала. Это идеи устроения «культурного единства» мусульман во
имя их «приобщения» Культуре (воплощенной, в своей универсальности, в
первую голову позитивным ликом Европы175, но и культурой русской, вос-
принимавшейся, при всех оговорках, как представительница европейско-
го/христианского мира) - единства, каковое тоже никак не должно было
противоречить лояльности мусульманского населения России, а служило
лишь укреплению взаимотерпимости и государственного благоденствия в
целом. Использование такого совпадения дискурсов «мусульманского» и
«государственного» лагерей в мусульманских изданиях Хаджетлаше по-
зволяло им быть принятыми как их мусульманским читателем, так и их
государственным спонсором. И оно же придавало им ту двоякость, которая
позволяла их читать, в зависимости от настроя читательской бдительно-
сти, то как прогосударственные, то как панисламистские.
Ведь, как мы видели, это совпадение отнюдь не примиряло взаимо-
действовавшие лагеря политически. «Приобщение» мусульман к русской
культуре, о стремлении к которому говорили и та и другая стороны, по-
нималось ими по-разному и должно было вести к разным результатам. Для
государственной стороны проблема так или иначе была связана с русифи-
кацией инородцев и приоритетом (не только религиозным, но прежде всего
культурным) православия; для мусульманской - наоборот, с укреплением
«национальной» мусульманской культуры (хотя чаще - внутри рос-
сийского государства) и обновлением (возрождением) ислама. Видя это
различие (но вряд ли вполне понимая ход подобных рассуждений), кон-
сервативные наблюдатели были склонны расценивать слова мусульман об
их стремлении к такому «приобщению», непременно сопровождавшемуся
идеей всероссийского мусульманского единства, как маскировку их истин-
ных устремлений к «вооружению» современными знаниями ради если не
отделения, то создания «государства в государстве». Как раз так подобные
речи мусульманских лидеров вписывались в тот широкий комплекс пред-
ставлений государственной стороны о мусульманском мире, каковой и вы-
ражался в образе «панисламизма»176.
Итак, если у Хаджетлаше и была «идейная позиция», она исполь-
зовалась им как предмет постоянной реинтерпретации в зависимости
от контекста и читательской (она же культурная, она же политическая)
среды, каковой она адресовалась (подобно тому, как в его личном обще-
нии подвергался переквалификации «голый факт»). Нельзя исключить,
что, говоря, таким образом, с каждой из сторон в ее собственных поли-
тических категориях, Хаджетлаше воспринимал свою деятельность как
перевод с «языка» на «язык». По крайней мере, существование «языков»
не только естественных, но и социальных (дискурсивных практик, как мы
бы сказали), как и возможность предпринять переводческую процедуру в
их отношении, были им осознаны. Он, например, именно в этих выраже-
ниях описывает - в своей скандальной статье о «панисламистах», «пере-
веденных» как «реформаторы ислама», - последователя Баба, «который
в своей родине Персии с большим успехом проповедовал “еретическое”
учение Баба и с религиозно-философского языка переделывал и переводил
на политический»'77. Да и в актуальном измерении тот же автор, то под
собственным именем, то под именем Аллаева, сходным образом различал
панисламизм «религиозный» и «политический»178. Так не собственную ли
деятельность (где подобный «перевод» осуществлялся бы в обоих направ-
лениях) он описывал, говоря о последователе Баба, - ведь до идеи перевода
с языка «политического объединения» мусульман на язык «объединения
культурного» здесь остается меньше чем один шаг? Но такая деятельность
становилась тут и «переводом» с языка на язык, которые принадлежали
разным политическим - и культурным - сообществам.
Средством такого «перевода» - сколь ни оказывается это странным на
фоне описанного нарушения им конвенций - и становится для Хаджетлаше
воспроизведение или актуализация стереотипов, в соответствующей среде
принятых, будь то у мусульман или русских консерваторов. Более того,
такая ориентация на улавливание ожиданий собеседника заставляет его
доводить эти стереотипы до их крайней проявленности, до их логического
конца. Отсюда тот всегда радикальный, часто лозунговый стиль, «стиль
чересчур», который можно заметить во всех его высказываниях. Это было
своего рода упражнение на «говорение по правилам» (правилам, выявлен-
ным им для каждой из сред), манипуляция языком, по сути - ритуальное
воспроизведение правильных высказываний (ритуальность заключена
здесь и в повторяемости, и в символическом употреблении слов, призван-
ном указывать прежде всего на принадлежность говорящего к соответ-
ствующей среде, и, соответственно, в театральности такого употребления,
проявляющейся, например, все в том же «стиле чересчур»)179. Уже в этом
Мусульманский Азеф, или Игра в Другого...
243
ь I Игра в Другого
дискурсивном поведении обнаруживается суть стратегии Хаджетлаше, за-
ключающаяся в том, чтобы совпасть с Другим - другим, во всяком случае,
по отношению к позиции (и позиционированию себя), каковую наш автор
претендовал занимать «только что», в общении внутри противоположного
лагеря, как и по отношению к его собственной «идейной позиции» (если
таковая у него действительно имелась), к себе самому (если у него имелось
некое стойкое «я»).
Такое стремление Хаджетлаше совпасть с Другим уже можно бЪьдо бы
назвать «игрой» в Другого. Быть может, пока - лишь «игрой» в «Другого
политического» (ведь Хаджетлаше как будто нигде не меняет своей «сущ-
ности», всегда и повсюду оставаясь мусульманином, а мусульманские оп-
поненты, отказывая ему в мусульманстве, не причисляют его и к русским:
он для них не то и не другое). И все же не забудем, что это было «игрой»
через политическую границу, воспринятую как граница культурная: речь
всякий раз идет именно об отношениях между русскими (пусть русским
государством, но государством русским) и мусульманами, чье «культур-
ное» сообщество Хаджетлаше так заботливо выстраивает. Ориентация
на совпадение с Другим, «игра» в Другого - т. е. основной метод, исполь-
зуемый Хаджетлаше для достижения доверия внутри соответствующих
сообществ и пересечения их границ - оказывается оборотной стороной его
«игры» на противопоставлении таких сообществ. Парадокс, однако, заклю-
чается в том, что вся эта «игра» на разграничениях (и игра разграничений)
социального пространства - как та, что ведет Хаджетлаше, так и та, что
приводит его мусульманских оппонентов к отчуждению его от себя, да и
та, что то включает его, то выталкивает из среды русских консерваторов, -
оказывается возможной в силу пролегающего поверх таких разграничений
единства этого пространства.
Такое единство в большой мере создавалось общностью пространства
дискурсивного. Как русские консерваторы, так и мусульманские модерни-
заторы, во всяком случае в тех сферах «говорения», с которыми мы сталки-
ваемся в этой ситуации, опирались - при всем различии их дискурсивных
практик - на общую систему референций и ценностных категорий, каковую
принято называть «модерным» дискурсом. И для тех и для других основ-
ными ценностями выступали Прогресс, Культура, Цивилизация, а человече-
ство подразделялось на народы, нации, расы, культуры, цивилизации; и те и
другие так или иначе соотносили с прогрессом Европу, и себя - с ней (видя в
ней то идеал, то антиидеал). В том, как именно мыслятся социальные разгра-
ничения и сколь прямолинейным предстает противопоставление «себя» и
«Другого» в нашей ситуации - что в поведении Хаджетлаше, что в реакциях
его окружения, - кажется примечательным не столько даже проявление этой
системы понятий и ценностей само по себе, сколько непосредственность,
прямота этого проявления180. Внутри этого общего дискурсивного простран-
ства и оказывались возможными те пересечения/совпадения дискурсов обе-
их сторон, с какими мы столкнулись в вопросе о «приобщении» мусульман к
Культуре и каковые этим вопросом далеко не ограничивались.
Разумеется, различия политических, «идейных» позиций этих сторон
предполагали и существенные различия в определенных сегментах их кар-
тин мира. Чуждость ислама прогрессу (мотив, которому предназначалось
по-разному звучать для каждой из аудиторий в статье Хаджетлаше о «па-
нисламистах», или «реформаторах ислама»), виделась одной из сторон как
сущностная черта этой религии и, соответственно, мира, ее исповедующего;
другая же сторона, мусульманская, говорила о временной «порче», избав-
ление от которой и откроет ислам прогрессу. Аналогично и «отсталость»
мусульманского мира (при том что «отсталость» и «невежество» и для тех
и для других выступают как антиценности, антиподы Культуры, Прогрес-
са, просвещения) в мусульманском реформаторском узусе осмыслялась
как предмет преодоления на пути этого мира к Культуре и Прогрессу, а в
узусе «консервативно-русском» превращалась в его враждебность Циви-
лизации, идущей по такому пути. Все это вместе вело к различию взглядов
и на судьбу и будущее мира ислама, и на отношения между европейским/
христианским и мусульманским мирами, затрагивая даже структурирова-
ние исторического времени (ведь панисламская угроза, аналогичная угрозе
«желтой», включала в мировидение русских консерваторов, в момент их
обращения к мусульманскому вопросу, эсхатологическое измерение).
И все же это предполагало - в рамках такой плоскости суждений - разницу
многих оценок, но не многих базовых ценностей, принципиальное различие
взглядов, но не ключевых понятий. Впрочем, в суждениях мусульманских
реформаторов присутствовал и иной пласт - восходивший не к наследию
европейского Просвещения и романтизма, как модерный дискурс, а к тра-
дициям исламского дискурса181. Это взаимонапластование, которое я на-
звала «культурным билингвизмом»182, могло порождать герменевтические
различия в трактовке мусульманами и их русскими собеседниками одних
и тех же «европейских» понятий (в частности, и в трактовке «приобщения»
мусульман к Культуре), но такие различия оставались имплицитными,
далеко не сразу заметными, воспринимаясь, быть может, даже не только
русской, но и мусульманской стороной как разница политических стрем-
лений. И потому Хаджетлаше в его «игре» в Другого, в его публичных и
частных высказываниях, поочередно воспроизводивших названные взгля-
ды, требовалось менять лишь проекции и оценки внутри одного и того же
модерного дискурса, дискурсивную практику (что он назвал бы «языком»),
но не «язык» (как мы бы его понимали). Все же наличие политического из-
мерения в этой культурной границе существенно облегчало такое занятие.
Вместе с тем выбор внутри этого модерного дискурса его модернизатор-
ской версии составлял общую и главную конвенциональную рамку мусуль-
манской прогрессистской прессы той эпохи, рамку, подчинявшую себе прочие
конвенции. И именно соблюдение (притом соблюдение в «стиле чересчур»)
этой общей рамки в изданиях Хаджетлаше, отличавшей их как от стилистики
консервативной мусульманской прессы (при всех оговорках, касающихся и
этой последней), так и от государственнического дискурса русских консер-
вативных изданий, по-видимому, так долго не позволяло мусульманской
общественности до конца поверить в то, что Хаджетлаше нельзя доверять, -
вопреки нарушению им конвенций частных. Тот же эффект «чрезмерного»
соблюдения общих, но здесь - государственнических - конвенций зеркально
воспроизводился в его общении с представителями государства. Узнавае-
мость дискурса, исходящего от представителя той самой культуры, которая и
таила в себе опасность, делала для них этот дискурс особенно убедительным,
Мусульманский Азеф, или Игра в Другого... I см
О) I Игра в Другого
а «обезоруженная» модернизация сознания российских мусульманских масс,
предложенная Хаджетлаше правительству, - привлекательным.
* * *
Однако что заставляло Хаджетлаше нарушать «частные» конвенции
и даже приоткрывать свои секреты - казалось бы, решительно вопреки
всем его возможным целям и избранной стратегии мимикрии? Было ли это
лишь самоутверждением? Или «непроходимой неумностью», в каковой,
наряду с прочими пороками, упрекал этого господина С. Габиев183?
Обман: облики, роли, личины. И снова Аллаев
Такое нарушение служило Хаджетлаше, конечно, средством создания
его облика, обеспечивавшим ту самую позицию честности, независимости,
авторитетности и уникальности, которая играла столь важную роль во
всех его коммуникациях. Оно фактически компенсировало эту мимикрию,
ориентацию на совпадение с Другим, или являло «еще одну» ее оборотную
сторону (в ином аспекте, чем противопоставление «своих» и «чужих»). Од-
нако этот кажущийся неизменным образ (и его «ствол» - принадлежность
к мусульманству), подобно «голому факту», также подвергался переквали-
фикации в общении с каждой из его аудиторий. «Игра» Хаджетлаше в Дру-
гого не сводилась к манипуляции языком, как не сводилась она, пожалуй,
и к «обыгрыванию» лишь политического измерения культурной границы.
Здесь приходится вспомнить о том пересечении пространств близости
и инакости, на котором выстраивал свой облик Аллаев в общении с Сыро-
мятниковым. Теми же приемами пользуется Хаджетлаше - дабы совпасть
с неким социальным типом, в соответствующей среде сложившимся, или,
точнее, сконструировать некий тип, в этой среде узнаваемый.
Для мусульман он играл сформировавшуюся к этому времени роль
«национально-мусульманского» просветителя-модернизатора, писателя и
публициста-оппозиционера. Его выпуклое мусульманство и горское про-
исхождение были залогом принадлежности к этой среде, а его писательство
и издательская деятельность, возведенные в ранг высшей миссии, - к это-
му типу. Его особость (отличительность, если не инакость) создавалась не
только «стилем чересчур» в его речах и жестах, не только неимоверными
связями во власти, не только ореолом недоговоренности о его прошлом,
но,быть может, в первую очередь связью с просвещенной Европой. Дело
не сводилось к нахождению «за пределами досягаемости» российской цен-
зуры. Разве может житель «культурной столицы мира», Парижа, не быть
причастным ко всем достижениям Просвещения, даже «проникнутым»
ими, как и не быть посвященным во всю подноготную европейской куль-
туры (которую он, конечно, решительно вскрывает184)? Но причастным и
посвященным «по-нашему», как мусульманин. Характерно, что в письмах к
нему его мусульманские корреспонденты спрашивают не только о том, как
приехать в Париж учиться, но и о том, нельзя ли там достать традиционные
лекарства арабской медицины и соответствующие словари185...
В общении с правительственными чиновниками он играл роль верно-
го слуги отечества, не единожды предваряя свою подпись словами вроде
Слуга отечества
«всегда готовый служить русскому делу
и своему отечеству»186. Эта роль структу-
рировала другие его ипостаси. Он и здесь
был просвещенным мусульманином - в
достаточной степени для того, чтобы осо-
знать место России и русской культуры
в соотношении культур мира, и особенно
ее роль для мусульман. Связь с Европой
сказывалась и здесь (парижский костюм,
каковой Сыромятников не стал бы про-
сить Аллаева заказывать, хоть и предста-
вал сугубо потребительской ценностью,
все же оставался парижским). Но здесь
просвещенность Магомет-Бека имела
еще и иную направленность: в отличие
от «знатоков Востока», Востоку чуждых,
она представляла его способным осмыс-
лить и передать через границу Востока
на Запад то особое и истинное знание
(«правдивые сведения о мусульманах»),
каковым он был наделен благодаря свое-
му инокультурному происхождению.
Впрочем, и обратно: способным правиль-
но воспитать мусульман - российских
подданных. Он совмещал в себе оба знания, и «уникальность» его как раз и
создавалась легкостью пересечения в обоих направлениях границы, разде-
ляющей эти два мира. «Цивилизованный колонизованный», «воплощенная
мечта» консервативных русских чиновников, олицетворение «сближения»
инородцев с русскими... Одновременно странности, что не вписывались в
нормы поведения стереотипного «слуги отечества», можно было списать
на инакость горца-мусульманина, сумевшего возвыситься над своими
собратьями благодаря правильно воспринятому просвещению, однако со-
храняющего и даже культивирующего некоторые их «природные» черты.
Вместе с тем в одной из своих существенных ипостасей это был янычар
(вспомним попытку дать ему агентурное имя) - фанатично преданный
чужому (в данном случае русскому) правителю, оторванный от корней,
жестокий к противнику, мобильный в своих передвижениях солдат, му-
сульманин и «турок» (или Tatarine, как гласил один из псевдонимов Хад-
жетлаше), азиатский чужак. Но если в отличие от сотрудников ДДДИИ
во главе с Харузиным чиновники ДП во главе с Белецким видят в нем уже
своего агента, он мыслит себя исследователем и - писателем. «Далекорас-
кинулась великая Русь. Через горы, долины и леса несется поезд, с шумом
и треском проносится он, то над величественной Волгой через гигантские
мосты, то с грохотом пробегает почти у самого берега Оральского моря
и снова мчится вперед. Широкое раздолье...» - так начинает он представ-
ленную не куда-нибудь, а в Департамент полиции свою туркестанскую
записку «Из путевых впечатлений», вводя контраст между «настоящей»
(т. е. внутренней) Россией и ее азиатскими окраинами187.
Мусульманский Азеф, или И1ра в Другого.. I см
оэ| Играв Другого
В отличие от мусульманских оппозиционеров, уверенных в своей
правоте, правительственные чиновники, упираясь в тупики собственной
мусульманской политики, чувствовали себя скорее растерянными перед
лицом того неведомого «лабиринта», каким представал мусульманский
мир. Это во многом обеспечивало Хаджетлаше доверие, и сам он широко
этим пользовался. В ситуации же пост- и предвоенной, да и актуальных
войн по соседству (какой была война на Балканах, сильно повлиявшая на
русско-мусульманские отношения), - ситуации, и выраставшей в конеч-
ном счете из тех способов разграничивать мир, какие были свойственны
модернистской его конструкции, и трансформировавшей ее, - конспира-
тивность мышления, доведенная нашим Янычаром до логического конца, с
ее образом врага и актуализацией антагонизмов, легко находила адресата.
Чиновники МВД не случайно «ведутся» на угрозу вражеского соблазнения
«Мусульманина», какой была, в частности, статья о «собственноручных
панисламистах», а баймбетовская трансляция Хаджетлашеевых высказы-
ваний о «развитии антагонизма» внятна всем, находящимся на линии этого
«испорченного телефона».
Казалось бы, писательство - здесь в роли писателя-мусульманина, но
писателя-патриота - должно было выглядеть в таком контексте совершен-
но неуместным. Возможно, оно так и выглядело, но лишь отчасти. Скорее
сочетание «своего» и «чужого» в облике Хаджетлаше, отделявшее его от
чиновников, но представлявшее его для них понятным, лишь поддержива-
лось этой ролью, придававшей еще и социальный смысл его отличиям: все
они знали о высокой писательской миссии в России. Перо приравнивалось
к штыку что в мусульманской модернистской среде, что в правительствен-
ной. Борьбу с антирусской деятельностью если и не «исключительно путем
печати», то в частности этим путем чиновники полагали вполне действен-
ной. И сколь преувеличенным ни казалось бы - нам и чиновникам - то
значение «Мусульманина» в этой борьбе, какое отводили ему Аллаев и
Хаджетлаше, их министерские корреспонденты по переписке полагали, что
он мог бы такое значение иметь. А спустя чуть более двух десятков лет по-
сле этой переписки, в начале 1933 г., изможденный голодом С.Н. Сыромят-
ников напишет письмо, немало напоминающее то, какое когда-то получил
от Аллаева, - В.Д. Бонч-Бруевичу188. Обращаясь к нему «не как к писателю
и редактору, а как к идейному коммунисту, другу Ленина и сановнику», он
предлагал в борьбе с Японией, что «прет на Запад», «создать настоящий
журнал востоковедения, служащий идеям большой политики, несмотря на
техническую внешность»... В контексте «серьезного изучения» врага, како-
вое предлагает Сыромятников и какового, в частности, ждали от «Мусуль-
манина», переплетались писательство, наука, политика, война и - культура
(«мусульманская» ли, японская ли, любая).
* * *
Но сколь бы ни были множественными названные облики и роли
Хаджетлаше, ему явно не хватало места под собственным именем и
многочисленными полу- или вполне раскрытыми псевдонимами. Требо-
валась еще и отдельная фигура - или, точнее, перо. Аллаев понадобился
ему не только для того, чтобы извне (или вернее - изнутри и извне: из
конкретного мусульманского кружка, но и из общего политического рос-
сийского пространства, где велась борьба с «освободителями») давать
ему рекомендации в частной переписке с возможными патронами. Он
нужен был еще и для того, чтобы формировать - словом - публичное про-
странство дискуссий. Этот автор стоял на позициях, близких некоторым
из писаний Хаджетлаше, поддерживая его в сложных ситуациях (как в
цитированной статье из «России»). Но он был более консервативен и,
кроме того, писал на те политические темы, которых Хаджетлаше как
мусульманский публицист-просветитель обычно не касался. Кстати, и
против Бурцева (как раз вскоре после известного нам обращения к Бур-
цеву мусульман)189. Это задевало и совсем не занятый мусульманским
вопросом круг, так что об уровне фантазии автора, названной попро-
сту враньем, российской оппозиционной общественности судить было
проще190. Но это было еще и пространство, где наш автор мог на время
отказаться от своей инакости, сменив мусульманскую «фамилию» на
чисто русский псевдоним, каким был «Старый дядя», и включившись в
дискуссию на общих, не остраненных правах.
Кто же был Аллаев? Сколь корректным ни казалось бы полагать, что
роль эту исполнял все-таки кто-то иной, пусть из ближайшего окруже-
ния Хаджетлаше (хотя бы потому, что Аллаев пишет в «Мусульманин»
корреспонденции из Марокко и Афганистана, когда Хаджетлаше остает-
ся в Париже или Питере), приходится, видимо, признать, что это было
лишь иное перо. Перед нами черновик письма из Лондона от 11 сентября
1911 г., адресованного «Дорогому нашему другу Сергею Николаевичу»,
т. е. Сыромятникову, и за незнакомой нам еще подписью Абдурахма-
нов191. Впрочем, подпись, как и дата и место отправления, Лондон, за-
черкнуты, рукой Хаджетлаше подписано «А.б.Аллаев». На обороте же
читаем ту же руку: «Можно еще P.S. прибавить...» А за постскриптумом,
выражающим восторг Аллаева детьми Хаджетлаше, указание: «Вот это
письмо перепиши и отправь заказным, можно даже из Villemomble - все
равно» (Вильмомбль - последний адрес Хаджетлаше во Франции, в
предместье Парижа). И поскольку далее следуют слова «Целую крепко»
и изложение ближайшего плана поездки отправителя из России в Бер-
лин, можно думать, что инструкции адресованы его жене (которая, надо
сказать, выступала в «Мусульманине», как и в «Вестнике теософии»,
и под «собственным» именем Айша-ханум192). Машинописное письмо
бывшего «Абдурахманова», впрочем, без постскриптума и с заметной
стилистической правкой, с обратным адресом «до востребования» в Ле
Рэнси, смыкающемся с Вильмомблем, Сыромятников получит от Аллае-
ва 14 сентября 1912 г.193
А знакомство с великой княгиней Викторией Федоровной, булавка ко-
торой незаметно сыграла столь значимую роль в истории отношений рос-
сийского государства с мусульманами, как и в судьбе самого Хаджетлаше,
оказывается еще одним из «голых фактов» на его пути. Они действительно
каким-то образом были знакомы, и Виктория Федоровна даже согласилась
стать «как бы крестной матерью» одной из его дочерей, о чем секретарь
великокняжеской семьи подготовил специальное письмо для «муллы Па-
рижской мечети»194.
Мусульманский Азеф, или Игра в Другого...
249
* * *
о I Игра в Другого
И все же, как растратил Хаджетлаше в общении с мусульманами свой
символический капитал принадлежности, так иссякал его капитал инако-
сти в общении с правительственными чиновниками. Хотя свидетельств
об этой сфере его контактов удается найти существенно больше, чем о
реакциях его мусульманского окружения, мне остается не известным, что
именно произошло. Возможно, была оценена по достоинству публикация
разоблачителей в «Речи» и обесценено «значение» его изданий; возмож-
но, он совершил еще какой-то слишком странный шаг. Повторяемость
основных мотивов его записок также могла быть замечена195 — тем более
что в правительственной среде начинали, похоже, уставать от муссиро-
вания панисламской угрозы, и на особом совещании 1914 г., например,
акцент все более смещался на угрозу «пантатаризма»196. Не говоря уже об
иных заботах, появившихся у правительства с началом мировой войны.
Но, по-видимому, и сама инакость этого «агента» «срабатывала» не со
всеми и не всегда. По некоторым свидетельствам, сменивший в феврале
1914 г. Белецкого на посту директора ДП В.А. Брюн де Сент Ипполит
полагал даже, что Хаджетлаше «хлопотал ради личных интересов»197.
Видимую неприязнь испытывал к нему директор ДДДИИ Е.В. Менкин,
летом 1913 г. отправивший предлагавшего ему свои услуги Магомет-Бека
обратно в ДП, поскольку «сведения, какие он намерен сообщать органам
правительственной власти, по существу своему ближе всего касаются
предметов ведения» именно этого департамента. Сообщая о том в ответе
на запрос Белецкого, Менкин добавлял, что Хаджетлаше «лично» ему
«почти совершенно неизвестен», несмотря на то что Магомет-Бек не за-
был познакомить его со своей печатной продукцией198. У Менкина, надо
сказать, была тогда уже альтернатива «Мусульманину» - издававшийся
своими, русскими востоковедами (куда более квалифицированными для
задач «серьезного изучения» Востока) «Мир ислама», с которым тоже
хватало проблем199.
Возобновление активности Хаджетлаше в предложении МВД себя и
своих изданий в 1916 г. предстает как новый «круг» той же истории. В фев-
рале он обращается в ДП, и его план антигерманской пропаганды среди
мусульман как будто поддерживает теперешний директор ДП Е.К. Климо-
вич, передающий бумаги в Главное управление по делам печати200. Однако
позже, видимо, в мае, Хаджетлаше приходится появиться у очередного
директора ДДДИИ Г.Б. Петкевича. И опять тот рассматривает его идею
о создании книгоиздательства и газеты в Петербурге - совместно с пред-
ложениями муфтия Оренбургского Мусульманского Духовного Собрания
М.-С. Баязитова об организации типографии и газеты ОМДС в Уфе201. Но
в последовавшей дискуссии внутри ДДДИИ, связанной с предложениями
Баязитова202, Хаджетлаше исчезает. А в декабре 1916 г. преемник Петкеви-
ча Н.П. Харламов вновь просит уже следующего директора ДП, А.Т. Васи-
льева, прислать ему «особую записку», составленную Хаджетлаше по ре-
зультатам его поездки в Поволжье в 1913 г., - «принимая во внимание тот
интерес, какой представляют для вверенного мне Департамента подобного
рода материалы по мусульманскому вопросу»203. Все-таки этот «капитал»
Хаджетлаше, видимо, до конца исчерпан не был.
Но заработал и иной его ресурс. Начиная по меньшей мере с 1914 г.
Хаджетлаше обращается и в другие ведомства. В МИД, откуда запрос о нем
в декабре 1914 г. поступает в ДДДИИ тому же Менкину204. Впоследствии
(видимо, в 1916 г.) он доходит, может быть, даже до «Разведывательного
департамента Священного Синода» или, во всяком случае, до Сэмюэля
Хора, подполковника Генштаба британской армии, представителя бри-
танской военно-морской разведки, служившего в Военной миссии в Рос-
сии в 1916-1917 гг., каковому Магомет-Бек, предлагая свои материалы,
сообщает, что в этом департаменте состоит офицером205. А в промежутке
он, возможно, служил России по контрразведовательному ведомству206...
Привычка к смене лиц и переодеванию, конспиративность мышления, ему
столь свойственная, и авантюрность характера ведут его на путь шпиона и
террориста как увидим, однако, путь, для него не совсем новый. Впрочем,
одновременно он пытается заниматься «бизнесом». Но эта история - для
будущего рассказа...
Однако лучшей и самой успешной ролью Хаджетлаше была другая.
Роль горца - и, по-прежнему, горца-Писателя, но «собственно» националь-
ного, адыгского (вспомним оценку Паго Тамбиева). В этой роли его помнят
и изучают на Кавказе и сейчас - как выразителя национальных адыгских
ценностей и картины мира - впрочем, преимущественно под другим име-
нем. Скажу, забегая вперед, что, отвечая представлениям адыгов о самих
себе, о своем «национальном характере», эта же роль была важной состав-
ляющей капитала инакости Хаджетлаше, предъявляемого чиновникам и
русской общественности. Ибо одновременно она отвечала и тому образу
горца, который сложился в русской культуре - не в последнюю очередь
благодаря литературной традиции. Отсылая к пространству «кавказской
утопии», «горскость» Аллаева-Хаджетлаше напоминала о Кавказе как сим-
воле личной свободы, Кавказе, противостоящем «зарегламентированно-
му» центру Империи, - но теперь уже, после покорения Кавказа, свободы
пусть все еще «дикой» (и потому оправдывающей «страстность» Аллаева),
но существенно «одомашненной», огосударствленной207. И если когда-то
Кавказ окружала «поэтика ухода», бегства туда от обездушенной русской
обыденности (как добровольное изгнанничество пушкинского Кавказско-
го пленника или лермонтовского Измаил-бея, повлекшие подражания и на
практике), то теперь, в эпоху, когда победа европейской цивилизации ста-
ла очевидной, обратное движение через ту же границу - в просвещенный
мир - представлялось носителям русской культуры вполне естественным.
Пересекая границы и «играя» в Другого, сочетая «горскость», «турец-
кость» и «мусульманскость», пропуская их через просвещенность, служе-
ние отечеству или оппозиционность, Хаджетлаше воплотил эти образы
на практике. В некотором смысле не только то, что он писал, но и сам он
оказывается реализованной в жизни его же собственной литературной ми-
стификацией.
* * *
Но кто был Хаджетлаше? Чиновникам, а судя по высказываниям
С. Габиева, и мусульманам было известно следующее. «Хаджетлаше при-
надлежит к роду черкесов Хаджетлаше, владевшему в прошлом столетии
Мусульманский Азеф, или Игра в Другого... I см
Ахмет-Бей-Булат
(Юрий Кази-Бек). 1894 г.
К) I Игра в Другого
крупной недвижимою собственностью в
Баталпашинском отделе, Кубанской об-
ласти, невдалеке от Майкопа; получил
среднее образование в Екатеринодарской
гимназии; отец его, ныне покойный,
бежал в Турцию пред последнею турец-
кою компаниею и принял турецкое под-
данство, в каковом состоял одно время
и Магомет-Бек-Хаджетлаше, принятый
затем в наше подданство»208.
Юрий Кази-Бек Ахмету ко в,
Магомет Айшин и...
Колоритной фигурой в Асхабаде был до-
вольно известный тогда журналист и пи-
сатель Юрий Кази-бек, публиковавший
живые, бойкие, злободневные фельетоны
под псевдонимом «Ивернели» (в перево-
де с древнегрузинского «грузинский». -
О. Б.). Им написано много очерков и
рассказов из жизни народов Северного
Кавказа и Средней Азии, напечатанных в
журналах «Нива», «Природа и люди», других периодических изданиях. Кази-
бек был его псевдоним, под которым он жил, скрывая настоящую фамилию.
Кази-бек всегда ходил в черкеске с газырями и большим кинжалом у пояса,
носил дымчатое.пенсне, скрывавшее за стеклами его беспокойный взгляд.
Много испытавший, необычайно остроумный, он неожиданно исчез из Асха-
бада, как говорили, потому, что им заинтересовалась полиция. Позднее, мне
рассказывали, Кази-бек оказался в Персии. Там он пришел к губернатору го-
рода Мешхеда и заявил, что он русский, хочет служить на персидской службе
и принять мусульманство. Персы восхитились, узнав, что наконец нашелся
«русский писатель, пожелавший стать верным слугой шаха персидского».
Но когда потребовалось совершить обряд обрезания и старые ишаны готовы
были приступить к этой священной для мусульман процедуре, Кази-бека нигде
найти не смогли. Оказалось, что Кази-бек рассчитывал обойтись без этой про-
цедуры по простой причине - она ему была не нужна; когда ишаны узнали, что
Кази-бек - ягуди (еврей), то заявили, что он, обманув их, тем самым совершил
величайшее святотатство, проникнув в запретную зону древнего, священного
для мусульман города. За Кази- беком погналась толпа фанатичных персов, и
дальнейшая его судьба осталась неизвестной...
Ах, знал бы Василий Григорьевич Ян-Янчевецкий, автор этих воспоми-
наний, служивший с 1907 г. в редакции «России» и еще раньше - литера-
турным секретарем Сыромятникова209, как вновь близко от него находился
Кази-Бек... Воспоминания эти, посвященные концу 1901-1904 гг., записа-
ны почти полвека спустя под диктовку В.Г. Ян-Янчевецкого его сыном, их
впоследствии еще и дополнявшим тем, что он помнил из рассказов отца210.
И все же многое здесь узнаваемо. Да и не там ли, в начале века в русском
Туркестане, откуда как раз и приходили самые обеспокоенные записки
чиновников по мусульманскому вопросу, обрел будущий Хаджетлаше тот
первоначальный набор стереотипов об исламе и панисламской угрозе, ко-
торый впоследствии он столь успешно дополнил и использовал?
Юрий Кази-Бек, в скором времени начавший в разных вариантах со-
четать эту подпись с фамилией Ахметуков и именем Ахмет-Бей-Булат,
появился на российской литературной сцене в середине 90-х годов XIX в.
с рассказами и повестями в иллюстрированных журналах и подвалах газет,
а затем - с рядом книг. Его творчество вызвало интерес критики, особенно
«в виду [eroj происхождения»211; ценность усматривали прежде всего в
«живом и правдивом изображении кавказской и вообще восточной жизни»,
«с точностью... очевидца и местного уроженца»212. На первую книгу, «Чер-
кесские рассказы» (М., 1896), откликнулся ряд журналов: ее хвалили как
собрание «подлинных “человеческих документов”», где «автор ничего не
выдумывал, не сочинял и поделился с нами лишь тем, что он сам слышал от
стариков»213. Но и там, где вымысел был узнаваем, «правдивость» экзотики
сохранялась: «Изящный томик содержит в себе 28 рассказов, для легкого
чтения. Героини рассказов и герои - очень пылкие натуры; оно и понятно,
так как почти все они - южане, чеченци или татары»214, - это о «томике»,
названном «Повести сердца» (Одесса, 1901). Ругали, однако, «Современ-
ную Турцию», где рецензент усмотрел «взгляд и нечто путешественника»,
содержащий сведения «крайне» недостаточные и «вряд ли достоверные»215.
Уже не лишенная критики в адрес Турции, книга была еще существенно
мягче антитурецких писаний автора под именем Хаджетлаше216.
В процессе выхода Кази-Бека на литературную сцену появилась и его
«биография», сопровождавшаяся портретом217. Ахмет-Бей-Булат - таково
было его «настоящее имя»: то был «потомок известного кавказского героя
Ахмет-Бей-Булата, воспетого еще Лермонтовым, и сын когда-то враждеб-
ного России князя Ахмет-Ахмет-Бея, владыки воинственных шапсугов и
других горских племен». В связи с этим родством, между прочим, особый
«библиографический интерес» усматривали в повести Кази-Бека «Хаджи-
Абрек», «переданной» ему его учителем, муллой Хаджи-Омаром: автор,
за исключением нескольких деталей, подтверждал полную достоверность
одноименной поэмы Лермонтова. И возникал вопрос, как дошла до Лер-
монтова эта история, напечатанная «в 1834 г., когда он еще и не предчув-
ствовал своего невольного пребывания на Кавказе»: можно было «думать,
что “Хаджи-Абрек" есть плод его фантазии, а, между тем, является потомок
князя Бей-Булата, свидетельствующий достоверность этой истории»218.
Отчетливо проступающий здесь вопрос о соотношении в тогдашней по-
пулярной литературе экзотики, достоверности и понимания художествен-
ного вымысла лежит за рамками моего рассмотрения - как и анализ лите-
ратурного творчества Кази-Бека. Но то, что созданные им образы «южан»
и его собственная к ним принадлежность вполне отвечали ожиданиям
публики, кажется несомненным. Биография же его, являющаяся, конечно,
Автобиографией (наверное, несколько подправленной редакцией журнала),
«устроена» точно так же и столь же «пылко»219, как и его рассказы той поры,
Мусульманский Азеф, или Игра в Другого...
253 "
Игра в Другого
и литературность ее мне представляется весьма выпуклой. Это не означает,
разумеется, что в ней не могли присутствовать некоторые «голые факты».
Во всяком случае, один мотив будет потом повторяться не раз в (автобио-
графиях нашего героя, в частности и в той, которая нам уже известна от
чиновников ДДДИИ: эмиграция семьи в Турцию и гибель там отца (вме-
сте с тем учеба в гимназии, появляющаяся в биографии автора под именем
Хаджетлаше и свидетельствующая о получении им русского образования
и близости к русским, - новый элемент; Ахмет-Бей-Булат рождается уже в
Турции). Согласно биографии из «Живописного обозрения», отец писателя,
будучи «начальником таборов баши-бузуков, составленных большей частью
из черкесов», погиб в последней русско-турецкой войне в битве с русскими
под Ловчей220; причем связи его с великими героями Кавказа включали, по-
мимо прямого родства с Бей-Булатом, еще и антирусские действия совмест-
но с сыном Шамиля Магомой221. С этим же связан и мотив перехода авто-
ра - будущего Хаджетлаше - в русское подданство, достающегося ему ценой
большой внутренней работы (ошибка эмигрировавшего и погибшего отца
становится некой трагической виной, каковую сын должен искупить) и про-
тивостояния семейной памяти, живым родственникам и «замечательному
по своей жестокости» учителю. Стояли ли за этим реальные события или, по
преимуществу, вымысел писателя, в который он сам в итоге в какой-то мере
поверил, - к этому «реифицированному» мифу могут восходить и неприятие
Хаджетлаше эмиграции горцев в Турцию, и его нарастающая ненависть к
самой этой стране. Ведь носителем тех или иных качеств, определявшихся
сквозь призму личных отношений, — качеств прежде всего нравственных, а
вслед за ними «идейных» и иных (сиречь носителем «культуры») мог стать
для него любой «субъект»: город ли, как Баку, страна ли, как Турция или, в
конце Хаджетлашеева пути, Швеция... А искупление «вины» отца ложилось
в основу «страстного служения» сына отечеству.
Однако уже в 1899 г. происходит публичное «разоблачение» писа-
теля - быть может, первое. И самым обидным, согласно предложенной
версии действительного положения дел, оказывается как раз слом столь
нравившейся публике правдивости его рассказов, обеспеченной, как этой
публике казалось, его происхождением: выясняется, что он и не «очеви-
дец», и не «уроженец». «Самарская газета» (6 апреля 1899 г.) со ссылкой
на кишиневского «Бессарабца» сообщает, что в Кишинев прислан по этапу
из Петербурга «для удостоверения личности» некто, «выдававший себя за
бывшего офицера турецкой службы Кази-Бека Атукаева и составивш[ий]
себе некоторую известность в литературе ... под псевдонимом Юрия Кази-
Бека. По предъявлении этого господина командиру и нижним чинам
9-й роты волынского полка, выяснилось, что это - бывший рядовой этой
роты Гершъ Этингер, дезертировавший еще в 1891 году и никогда в Турции
не бывавший. Его “турецкие” и “черкесские” рассказы составляют плод от-
части измышления, отчасти компиляции». А ведь он выдавал себя «чуть ли
не за потомка Шамиля», и «портреты “обломка старинного рода” помеща-
лись в иллюстрированных изданиях». Впрочем, эта заметка вряд ли была
широко известна. Ее, однако, заметил В.Г. Короленко, упомянувший Кази-
Бека в своей знаменитой «Современной самозванщине», говоря о том, как
самозванцы отвечают «злобе дня»222. Р.Х. Хашхожева между тем связывает
Мусульманский Азеф, или Игра в Другого...
этот «поклеп» с происками мстительно-
го врага Ахметукова (выявленного ею
из рассказов писателя), донесшего о его
политической неблагонадежности в по-
лицию223.
Подробное рассмотрение этой части
истории составило бы предмет еще одной
статьи. Ограничусь тем, что тождество
Ю. Кази-Бека и Григория Яковлевича
Эт(т)ингера подтверждается материала-
ми полиции. Однако первое дело о его
неблагонадежности, во всяком случае в
ДП, было заведено двумя годами позже
газетной заметки224. Так что нельзя ис-
ключить. что «утечка» в «Бессарабец»
произошла из армейских источников.
В конце того же 1899 г., в котором появи-
лась заметка, «происходящий из мещан
г. Одессы» Г.Я. Эттингер был осужден по
приговору полково! о суда к заключению
в Бобруйский «дисциплинарный батали- Григорий .Эттингер.
он за первый из службы побег,сокрытие Не позднее 1907 г.
при его задержании своего имени, фами-
лии и воинского зва ния, проживание за
границей и ношение неформенной одежды», а освобожден и водворен на
место прописки в Одессе он был в начале 1901 г.225 Кстати, это значит, что
он вполне мог оказаться в Асхабаде в годы, когда там был Янчевецкий, -
путешествовал наш герой, пересекая и географические границы, бесконеч-
но. И в Турции, согласно тому же делу, бывал неоднократно.
Но хотя призрак его еврейского происхождения сопутствует ему повсю-
ду, это полицейское дело тоже не подтверждает такового однозначно. Из
Минска начальник ГЖУ пишет о нем как о родном сыне Эттингеров. А из
Одессы начальник тамошнего жандармского управления сообщает, что
«этот Эттингер действительно родом Кабардинец, бывший мусульманин по
фамилии Кази-Бек, в детстве окрещенный и усыновленный Эттингером и
избравший литературным псевдонимом свою магометанскую фамилию»226.
Как подчеркивает Р.Х. Хашхожева (ведь национальному писателю и в
ахметуковедении нужно обладать национальным же происхождением227),
именно в Одессе, «где проживали родные, близкие и знакомые Ахметуко-
ва», «его происхождение можно было установить документально»228. Вот
только «документальности» этих сведений не вполне соответствует то, что
«настоящие» имя и фамилия нашего героя совсем недавно были другими,
не Кази-Бек, а Ахмет-Бей-Булат. Да и кабардинцем - возможно, в поисках
своей горской идентичности - он себя назвал, кажется, только раз. Гораздо
чаще он называл себя самым знаменитым за пределами Кавказа именем
горца вообще - черкесом; зато отец его, напомню, - владыка шапсугов, как,
впрочем, и других горских племен229. Быть может, ему было не столь уж
важно, к какому именно горскому (адыгскому) народу принадлежать (что
255
от I Игра в Другого
кажется маловероятным для уроженца тех мест). К тому же информация,
собранная о нем в Минске, куда подробнее одесской (да и не повлияли ли
на эту последнюю меры, принятые писателем в родном городе?). В апреле
1907 г. Н.Я. Пранг, урожденная Эттингер, жалуясь в письме одесскому
градоначальнику на шантаж и вымогательства со стороны Г.Я. Эттингера,
напишет в скобках: «Этот субъект (к сожалению моему горькому - мой
родной брат)...» - и добавит затем: «Большое горе иметь такого брата, ко-
торому (к слову сказать) кроме добра мы ничего не сделали!»230 Но идет ли
здесь речь о родстве по крови или по усыновлению? Последнее замечание
(разделяющее «нас» и «его») оставляет тень сомнений. Впрочем, для тако-
го усыновления приемным родителям потребовалось бы нарушить законы:
евреям в Российской империи разрешалось усыновлять только евреев же.
Однако так ли важно, кто он был по крови? Сочтем ли мы «биографи-
ческие» данные об эмиграции семьи писателя в Турцию «голым фактом»
и будем полагать, как то делает Р.Х. Хашхожева, что по возвращении от-
туда он 10-летним мальчиком был усыновлен евреями Эттингерами231, или
предпочтем считать, что он бежал из родного еврейского дома, - важнее то,
как и где формировался этот ровесник Ленина232. По информации из Мин-
ска, Эттингеры в 1886 г. переехали из Тифлиса в Одессу (это не была семья,
жившая в местечках черты оседлости233). Там в том же году они приняли
православие, «при чем старший сын, семнадцатилетний Гершъ-Беркъ, был
наречен при Св.[ятом] Крещении Григорием». Так что независимо от про-
исхождения наш герой успел побывать и евреем, и православным. И му-
сульманином, как нам уже известно, - либо до и после, либо лишь потом.
Спустя два года после крещения, в 1888 г., он совершил путешествие - не
первое ли? - приняв участие в экспедиции в Абиссинию другого славного
авантюриста и мастера убедительного слова, Н.П. Ашинова, выдававшего
себя за «вольного казака» или казака терского234. С ним он должен был по-
бывать на Востоке, пройдя морем через Константинополь, Александрию и
Порт-Саид до Сомали. Среди членов экспедиции были горцы-осетины, от
которых он и мог наслушаться соответствующих рассказов235, а от подна-
торевшего в приключениях Ашинова - еще многого, в частности о Париже.
Как бы то ни было, по возвращении в Россию будущий Кази-Бек, по
сведениям начальника минского ГЖУ, «заявил о себе Начальству, что он
уроженец Константинополя Григорий Семенов Ахметов, происходящий
из дворян-черкесов, православного вероисповедания и, согласно выражен-
ному им желанию, он, Эттингер, под именем турецко-подданого Ахметова,
был водворен на жительство в селении Ардунском236, Терской области».
При этом у него было метрическое свидетельство, каковое «впоследствии
оказалось подложным», сообщавшее, что он, Ахмет-Мамет-Бей, был кре-
щен в православие не кем-нибудь, а архимандритом Паисием, начальником
православной миссии в Абиссинии. Впоследствии, в 1893 г. (уже после от-
лучки из полка, служить в котором он явился по месту прописки сам и под
именем Эттингера), турецкоподданный Ахметов примет русское поддан-
ство. Жить, впрочем, станет по временным свидетельствам, выдававшимся
ему как иностранцу, бывшему турецкоподданному237, получит семь загра-
ничных паспортов, по которым «проживал заграницей, преимущественно
в Турции», «при чем в прошениях его, а соответственно и в паспортах,
фамилия, под которой он был принят в русское подданство “Ахметов”, пу-
тем постепенных прибавлений, была превращена в Кази-Бек-Ахметукова,
Ахмет-Бей-Булат-Ахметова»238.
Подчеркну, однако, что, выйдя на литературные подмостки как горец
и - снова - мусульманин (снова - поскольку поначалу он заявил, что кре-
щен, но теперь из мусульман-турецкоподданных), от этого «ствола» своей
идентичности он уже не откажется. Речь здесь вряд ли шла о вере - но,
несомненно, о принадлежности239. Искусственность избранных имен, по-
мимо прочего, толкает меня к тому, чтобы думать все-таки, что родился
наш писатель и не в Турции, и не на Северном Кавказе. Но даже если там,
принадлежность эта конструировалась по преимуществу извне: вырываясь
из родной или приемной еврейской семьи, он придумал себя горцем240.
Было ли это возвращением к истокам или чистым вымыслом? Быть может,
будущие исследования дадут более определенный ответ на этот вопрос.
А то, как это «придумывание» осуществлялось, мы видели у Хаджетлаше.
Но при чем здесь Хаджетлаше? Тождество Юрия Кази-Бека Ахметуко-
ва, или Григория Эттингера, и Магомет-Бека Хаджетлаше-Скагуаше уста-
навливает, подтверждая гипотезу предшественников, Р.Х. Хашхожева241.
Однако она, думается, несколько преувеличивает проблему - каковая,
пожалуй, не столь велика, если читать дело, заведенное В.Л. Бурцевым на
М.-Б. Хаджетлаше, в сопоставлении с полицейскими делами Г.Я. Эттин-
гера. Бурцеву пишут три шокированных человека - впрочем, вовсе не те
мусульмане, каковые обратились к Шерлоку Холмсу русской революции
в связи со скандалом вокруг Магомет-Бека. А двое из них и вовсе не му-
сульмане. Да и первые письма приходят к нему еще в 1908 г., тремя годами
раньше, чем Шакир Мухамедиаров оставит у него свою визитную карточ-
ку. Пишут они о «субъекте», носящем имя Магомет, но пока - Магомет
Айшин; скоро оно станет хорошо известным псевдонимом человека, назы-
вающегося Хаджетлаше (псевдоним легко возводится к «имени» его жены,
Айши242). Лишь один из корреспондентов скажет Бурцеву, по-украински,
что Магомет Айшин «в действительности является Юрием-Кази-Беком-
Ахметуковским»243. Но у Магомета Айшина - тот же маршрут и те же даты,
по которому и в которые преследует Г. Эттингера одесская полиция, те
же тексты и та же пишущая машинка, с которой и Хаджетлаше разъезжал
повсюду (а в его архиве сохранились книги Ю. Кази-Бека Ахметукова, в
обложках которых кто-то зачем-то вырезал имя автора; зато старые расска-
зы Кази-Бека появляются в «Неве» как раз в 1912-1913 гг.244). Тот же по-
черк - во всех смыслах этого слова. Ведь он, Кази-Бек-Эттингер-Айшин,
и здесь не мог не «играть» еще и через политическую границу.
В 1907 г. Г. Эттингер носил уже облик главы «центрального и испол-
нительного комитета боевого летучего отряда Кавказской горской пар-
тии социалистов-революционеров-максималистов» и, «действуя между
Киевом, Одессой и Лембергом (Львовом. - О. Б.)», требовал у богатых
евреев-заводчиков и прочих обеспеченных лиц денег на революционные
нужды - под угрозой смертного приговора со стороны этого комитета. По-
рою и подписываясь: «Магомет»245. На подобных же бланках той же партии
Магомет Айшин будет писать письма будущим корреспондентам Бурцева
и прокламации, призывающие к самому жестокому террору. Особый от-
Мусульманский Азеф, или Игра в Другого... 1см
co I Игра в Другого
дел ДП, однако, пока ему не слишком «верит», квалифицировав его не как
революционера, роль которого он играл еще в Бобруйске, а как «мошенни-
ка» - тогда, в Бобруйске в 1901 г., и как «шантажиста на революционной
почве» - в 1907 г. Этот тип действий был полиции уже известен - как и
нам: об «изнанке революции» пишут теперь нередко246.
Однако наш Магомет, претендуя, конечно, на причастность великому
делу и даже, что нам уже знакомо, на лидерство в нем, шел дальше, чем
люди с этой «изнанки». Осуществленных случаев насилия органы порядка
за ним, надо сказать, не числили, лишь угрозы, но угрозы страшные. Он
и здесь был писателем, изобретающим и описывающим себя в окружаю-
щем мире, - но здесь он опирался, в дополнение к мусульманско-горской
страстности, на самые звучные мотивы литературного мифа подпольной
России247. «Настоящий Могамет», - передаст нам корреспондент Бурце-
ва, С. Беккер, сказанные о нем слова Н.И. Рогдаева248. Магомет и теперь
затевал газеты, во всяком случае в Бобруйске - «чтобы пробудить его от
векового сна»249. Впрочем, планировал Кази-Бек собственное издание еще
и в мирные времена, в 1898 г., в столице: журнал «Кавказ и народы Вос-
тока». Апеллируя при этом к тогда уже сложившимся своим связям в кон-
сервативной русской прессе, да и к рекомендациям высоких чиновников.
Но тогда журнал все же не разрешили: программа его выдавала настроение,
каковое могло укрепить «национальное самомнение» и «сепаратистские
стремления» кавказских народов250.
В австро-венгерской Галиции, в Тарнополе (теперешнем Тернополе),
куда забросят в 1907 г. Г. Эттингера преследования одесских сыщиков,
найдут Магомета Айшина через Рогдаева жившие по соседству, в Бродах,
анархист-коммунист Самуил Беккер и его товарищ - два нелегальных
эмигранта, «жаждущие за моральной пищей»251. Беккер поверит Магоме-
ту - когда увидит в его багаже чуть ли не всю нелегальную литературу,
тогда издававшуюся, печати «партии», прокламации, им изданные. Он бу-
дет шокирован - когда обнаружит, что «нелегальный» Магомет получает
паспорта у высоких чиновников (у львовского консула, у тифлисского на-
чальника паспортного стола), а после переезда в Париж - заметит, что тот
поддерживает связи с русским посольством, куда даже устроил служить
жену. И когда увидит, что Магомет ведет широкую переписку с предста-
вителями той самой «обжирающейся» «гнусной публики», в которую при-
зывал бросать бомбы во имя народного счастья, - с издателями одиозных
своей консервативностью газет, сотрудничая в которых он «работал все
время». Но и теперь этой переписки и этих связей Магомет не слишком
скрывал: связи сохранились у него, «старого воробья», с прошлых вре-
мен252, а переписка велась в интересах горцев и в нужном «направлении»253.
Однако не тогда ли, если не раньше, появился и «Старый дядя», будущий
Аллаев? Последней каплей в утрате Беккером доверия к Магомету станет
обнаруженное им в апреле 1908 г. письмо того к Будиловичу, редактору
«Московских ведомостей», с предложением присылать в его «уважаемую
газету» имеющиеся у него «интересные материалы» о жизни социалистов
и русских «товарищей». «Они уже достаточно напакостили в Европе», -
пояснял автор (а ведь это обороты Аллаева...)254. «Дорогой товарищ» - так
писал Магомет Беккеру в 1907 г.255 Напишет Магомет, все еще Айшин, и
Мусульманский Азеф, или Игра в Другого...
Бурцеву, с которым к тому времени, видимо, уже встречался; он предложит
ему, в частности, помещать анонсы «Былого» в своем журнале256. Именно
Беккер упомянет, что Магомет разместил объявление о «Мусульманине»;
именно Беккер и его товарищ станут - под русскими именами и с доку-
ментами, которые выхлопочет для них Магомет в парижском консуль-
стве257, - сотрудниками «корреспондентского бюро русских журналистов
в Париже», чья реклама будет помещаться в журнале. Именно им 9 августа
1908 г. скажет Магомет о том, что намерен ехать в Россию (и его либо аре-
стуют, либо он вернется с солидной суммой), дабы получить субсидию на
«Мусульманин», - «как ему это ни больно»258. Круг замкнулся.
* * *
Представить смену позиций моего героя как последовательное разви-
тие взглядов, увы, не удается, хотя взгляды его, как мы видели, конечно,
развивались. Он, похоже, побывал чуть ли не на всех «горячих точках», где
пересекались разнородные границы, пронизывавшие жизнь тогдашнего
российского общества. Помимо всего прочего, ему, быть может, просто
нравилось «переодеваться».
Хаджетлаше закончит свою жизнь в 1929 г. в шведской тюрьме. Он будет
арестован в 1919 г. и осужден в 1920 г. за убийства с целью наживы (и это бу-
дет последний смертный приговор в истории Швеции; его заменят на пожиз-
ненное заключение, затем сокращенное до десяти лет, а затем продленное, __
что, возможно, и ускорит смерть заключенного). Он будет выступать здесь, 259
однако, как лидер «Русской лиги», или, точнее, «Военной организованной
группы возрождения Российского государства» - борец с большевизмом,
издатель газеты «Эхо России». В защитной речи перед судом он будет апел-
лировать, в частности, к известному аргументу русского терроризма - ото-
ждествлению его с войной как его этическим оправданием259: совершенные
им и его соратниками убийства агентов большевиков, несущих несчастья его
родине и всей Европе, были действиями солдат, ведущих эту войну, впрочем,
на чужой территории. Однако шведским судьям, как и шведской публике,
эти аргументы не будут внятны260. Одновременно его будут подозревать в
том, что он и сам был большевистским агентом. В. В. Воровский, представ-
лявший молодое большевистское государство в Швеции, напишет о нем
и Лиге две специальные статьи, доказывая обратное261; граф А.Н. Толстой
посвятит этому «дикарю, азиату» и «хитрому татарину»262 неудачный роман
«Черное золото» (во второй редакции «Эмигранты»), а Л.И. Климович обна-
ружит его «провокаторство» на мусульманском поприще. Р.Х. Хашхожева,
впрочем, станет утверждать, что статьи Воровского маскировали действи-
тельное служение Хаджетлаше этому молодому государству, и шведское
дело было спланированной большевиками провокацией для дискредитации
обосновавшихся в Швеции белогвардейцев263. Исследовательница будет
даже настаивать на том, что Хаджетлаше не умер в шведской тюрьме, его вы-
крали оттуда большевики, которым он продолжал служить разведчиком еще
до середины 1930-х годов, - но это не так264. Все же авантюрно-литературная
фантазия Ахметукова-Хаджетлаше заразительна, а его «игра» в Другого
толкает к тому, чтобы видеть его чуть ли не в каждом «шпионском» персона-
же, да и только ли «шпионском»?
Литература и жизнь. Культура и мораль
о I Игра в Другого
Не на родство ли с Ю. Кази-Беком Ахметуковым-Хаджетлаше пре-
тендовал Остап Бендер, когда жаловался, что отец его, турецкоподданный,
недавно скончался в страшных муках? Хаджетлаше действительно умер
страдая265. Вопрос можно поставить и иначе, оставляя генетический его
аспект комментаторам романов Ильфа и Петрова266: на родство только ли
с Хаджетлаше претендовал Остап? Но тут же встает другой вопрос: так ли
уж эвристично вписывать Хаджетлаше в некий ряд?
Например, в длинный ряд повседневных («второ- и третьестепенных»,
по сравнению с Лжедмитрием и Пугачевым) российских самозванцев, бес-
конечную череду которых описывает Короленко, - и ярким пером, опять по
литературным образцам, объясняет ее появление. В субъективном плане -
«слабостью» русской личности, ищущей свое достойное «я», как Голядкин
в «Двойнике» Достоевского или Поприщин в гоголевских «Записках су-
масшедшего». В плане «общественном» - неограниченностью российской
власти и устарелостью уклада общественной жизни (здесь «тени крепост-
ного права» и «параграфы паспортного устава и табели о рангах», «прекло-
нение перед всяким, кто владеет тайной хотя бы и самозванной власти»),
о чем свидетельствует «самоуверенный и жизнерадостный» гоголевский
Хлестаков: «Где есть ревизоры, там, очевидно, есть и ревизуемые, а это
значит, что яд, отравляющий Голядкиных и Поприщиных, разлит в нашей
атмосфере...»267 Или, вспоминая об «изнанке революции», можно было бы
говорить о появлении на волне общественных пертурбаций того типа лич-
ности, для которого смена амплуа по ту или иную сторону «идейности», в
отсутствие «убеждений», не составляла проблемы (например, так, как это
было сказано о другом человеке: «Это был один из весьма размноживших-
ся в 1905-1906 годах типов учащейся молодежи, нашедших в революции
средство своего пропитания. Часть таких отбросов примкнула к полицей-
ским и сыскным сферам и черносотенным организациям. Другая часть - к
кружкам революционеров. По существу, конечно, они были тождественны
и легко меняли одно амплуа на другое... Абсолютный невежда, нахватавший
верхов модных социальных книг...»268). Или, в более современном ключе,
можно вписывать Хаджетлаше в ряды носителей девиантного поведения,
размышляя о том, какой из многих подходов избрать для такого анализа.
Можно сузить кадр и от бесчисленных видов авантюристов, самозван-
цев и всякого рода «переодевалыциков» и «великих комбинаторов» (ха-
рактерно, что слово «комбинация», как передает Беккер, было любимым у
Магомета) вернуться специально к «кровнородственным» связям Остапа,
воспринимавшегося (и воспринимающегося) как российский еврей, не-
смотря на турецкое подданство его папы. Тогда стоял бы вопрос о пути
Кази-Бека Ахметукова-Хаджетлаше как одном из способов преодоления
еврейской маргинальности (в одном из аспектов отсылающей опять к
«слабости личности», но теперь в специфических еврейских условиях269), с
которой наш герой так или иначе столкнулся. Например - о практиках та-
кого преодоления в южных динамичных и полиэтничных городах России,
подобных Одессе, Тифлису или Баку. В этот спектр попали бы, с одной
стороны, одесские самостийные «революционеры», упомянутые выше
(примеч. 246), или чуть более поздние (1914-1915) мелкие вымогатели,
конфессиональной и государственной принадлежности не менявшие, но в
своих шантажных письмах, сниженных подобиях писем Эттингера, созда-
вавшие язык самоописания, оказавшийся прообразом «одесского мифа»,
расцветшего в рассказах Бабеля или тех же Ильфа и Петрова270. С другой -
те одесские евреи, которые как раз и объявляли себя турецкоподданными
для упрощения своих коммерческих предприятий, ухода от ограничений,
налагавшихся на них российским законодательством, как и от службы в ар-
мии: к ним-то, по предположению Одесского и Фельдмана, и отсылает упо-
минание Остапом отца, намекающее на Остапово происхождение из южно-
го портового города, и скорее всего из той самой Одессы271. Минуя вопрос о
выкрестах, в контексте той же проблемы можно было бы включить нашего
героя в серию индивидуальных случаев: например, востоковедов-евреев,
«снимавших» свою маргинальность, но возрождавших свою «восточность»
обращением к изучению ислама и Востока, что могло совмещаться -
вновь - с принятием облика мусульманина272. Отсюда ряд снова бесконеч-
но удлиняется, уходя в глубь прошлого, - именами евреев, знаменитых и
не очень, добровольно выдававших себя за мусульман. А ведь были и такие,
кто и вправду принимал ислам (грань между «выдать себя за мусульмани-
на» и «стать мусульманином», глядя извне, оказывается весьма тонкой)...
Однако в тот момент, как мы поместим нашего героя «в ряд», мы утра-
тим его особость - создающуюся, наверное, не столько его отличиями (от
«нормативного большинства» или от других членов того же девиантного
ряда), сколько самой своей комплексностью, пусть внутри нее не было бы
ни одной оригинальной черты. Но может ли такая особость сказать нам о
чем-либо, кроме как о себе самой? Давняя, неразрешимая проблема. В от-
вет на нее Н.Е. Колосов порой предлагает писать исторические романы, в
коих он видит способ осмысления социальной действительности, позво-
ляющий (в отличие от общественных наук) не разрушить целостности ни
действительности, ни субъекта. В частности, это (помимо объема и прочих
особенностей сей повести, продиктованных мне моим сюжетом273) подвиг-
ло меня, отчасти шутя, дать статье ее подзаголовок. Последнее, однако, не
означает, что я предполагаю названную проблему решить, избавившись от
потребности рядополагать и выбравшись за пределы парадигм гуманитар-
ных наук. А потому я не могу не задуматься о том, что же рассказал нам
Хаджетлаше. Быть может, наименее разрушительным для его рассказа стал
бы ответ на вопрос, уже поставленный, но еще не затронутый: что создавал
наш «турецкоподданный» вокруг себя?
Впрочем, Ш. Фицпатрик вслед за М. Дуглас предполагает, что трик-
стеры (вот ряд самый общий) не креативны: они лишь демонстрируют
необязательность существующего порядка вещей274. Однако может ли та-
кая демонстрация остаться без последствий в обществе? Во всяком случае,
всегда ли?
Я имею в виду не только два (по меньшей мере) конкретных свершения
Ю. Кази-Бека Ахметукова и М.-Б. Хаджетлаше - свершения, противо-
положных друг другу по своей ценности. С одной стороны, укрепление и
поддержание полицейского мифа о панисламизме (впрочем, возможно, и
способствование, помимо воли, его относительному иссяканию, о чем по-
Мусульманский Азеф, или Игра в Другого..
261
го I Игра в Другого
буждает думать отторжение или, по меньшей мере, усталость в МВД от
этого направления деятельности Хаджетлаше). С другой - создание, каким
бы странным образом оно ни происходило, существенной части корпуса
адыгской национальной литературы этого периода: ведь он действительно
стал национальным писателем, свидетельство чему - ахметуковедение.
Речь идет еще и о менее материализованных достижениях.
Хаджетлаше вряд ли был неким «традиционалистом», лишь воспроиз-
водящим традицию российских «повседневных» самозванцев, о которых
писал Короленко, - хотя он знал, что принадлежит к их ряду (характерно,
что в архиве его есть - одна ли? - газетная вырезка о подобной фигуре275). Во
всяком случае, он был не только традиционалистом. Быть может, крещение
(тем более если оно следовало за превращением из мусульманина в еврея) -
легкость смены принадлежности (и имени) или, наоборот, шок, вызванный
ею, так или иначе сложившееся переплетение еврейского, православного,
мусульманского «миров» в его биографии - способствовало тому, что он
оказался способным или вынужденным дистанцироваться от «привязки»
к происхождению, этническому ли, конфессиональному ли. «Привязки»,
тогда, как мы убедились, обычно подобной по своей жесткости смертному
приговору. Последовавшая экспедиция Ашинова (бегство в нее?), откры-
вавшая ему многообразие «культур мира», да и влияние самого «атамана
вольных казаков», лишь поддержали открытие им Другого - и изобретение
«игры в Другого». Ведь, чтобы совпадать с Другим - и пускаться затем в
его противопоставление Другому, - требовалось взглянуть и на него, и на
себя с дистанции. Но и другие, окружавшие его люди из очень разных со-
циальных сред, на эту его «игру» постоянно наталкивались. Разоблачения,
обнаружение этой «игры» вызывали, конечно, шок и отторжение, казалось
бы, лишь способствовавшие укреплению ценности «корней» - существен-
ной составляющей «истинной сущности» всякого человека. Как, казалось
бы, укрепляли они и аксиологическую значимость верности избранным
идеалам. Но «другие» наталкивались ведь и на собственное, более или ме-
нее длительное, доверие к этому человеку.
Реакции могли быть разными. Урало-поволжские мусульмане в боль-
шинстве своем закрывали перед Хаджетлаше двери своей принадлеж-
ности. «Национально» ориентированные кавказские горцы стремились
вытеснить обнаруживавшиеся неприглядные стороны «соплеменника» на
периферию своего знания и памяти о нем. Прагматичные чиновники ис-
кали новые способы его использования на службе государству. Социально
ответственные интеллигенты помещали его случай в ряд аналогичных
явлений, дабы анализировать этот ряд, в зависимости от своих взглядов,
для критики существующего строя и призывов к гражданскому обществу
или для критики последствий революции. На сугубо политической арене
«привыкшие к конспирации», по выражению Беккера, потерянные рево-
люционеры обращались за помощью к авторитету Бурцева и поступали
подобно поволжским мусульманам, а полицейские сыщики - подобно
интеллигентам (впрочем, без особых размышлений по поводу этого «по-
рядочного негодяя»276)... Однако остранение «корней» и превращение
собственной инакости или собственной принадлежности в символический
капитал - наверное, главное изобретение Хаджетлаше (пусть не его одно-
го) - не могло не релятивизировать прочность этих «корней» и в созна-
нии окружающих. Обнаруживалась, пусть вызывая противостояние себе,
самая возможность такого остранения (и отстранения), имитации этой
принадлежности. А значит, ставился под вопрос ее «сущностный» харак-
тер, каковой оказывалось возможным убедительно «изобразить», по сути
дела - сконструировать. Это пока могло объясняться отсутствием прочной
индивидуальной сущности у имитатора, «слабостью личности». Но вопрос
уже был поставлен.
Вместе с тем такое точное и полное, жизненное воплощение в лице
нашего героя образов Другого, видевшихся его современникам - горца,
мусульманина, «турецкоподданного», - действовало, пока ему верили, в
обратном направлении. Оно подтверждало ожидания и лишний раз убеж-
дало в реальном существовании таких Других. У этих Других были особый
жизненный уклад, свои этические нормы, к ним требовалось обращаться
по специальным правилам говорения и на специальном «языке». Обнару-
жение «игры» Хаджетлаше, разумеется, не разрушало такие образы и тем
менее - саму веру в существование многообразных культур. Но, наверное,
укрепляло тревожащее впечатление их странных пересечений, опасных
соприкосновений на их «границах», где могли рождаться еще и такие аван-
тюристы, игроки в Другого277. (Да и Остап Бендер скрещивает в себе два
выпуклых типа «чужаков» предреволюционного российского общества:
авантюризм турецкоподданного, освобожденный от шпионской состав-
ляющей образа турецкого эмиссара, но сохраняющий характерную для
него хитрость, склонность к переодеванию и пересечению границ, стано-
вится наследством еврейского «идейного борца за денежные знаки».) Все
вместе - остранение корней, сомнение в крепости личностной сущности,
упрочение ощущения культурных различий (ставившее под вопрос еще
и универсальность сущности человека) и смещения привычных границ -
вписывалось в атмосферу пошатнувшегося мира.
Игра Хаджетлаше на культурных различиях вряд ли вполне осозна-
валась как таковая. Ее пропускали сквозь фильтр политики - почти все
участники событий, включая и самого героя, - и осмысляли этически.
Быть может, слова, сказанные совсем по другому поводу и в сугубо по-
литическом контексте, но этически сходном с нашим, применимы к пере-
живанию и всего этого конгломерата: «Бомба бесследно утратила полити-
ческую физиономию. Теперь, после каждого динамитного взрыва обеим
сторонам приходится спрашивать друг друга: где ваши? где наши?» - так,
критикуя эсеровский терроризм, писал в связи с делом Петрова Л. Троц-
кий278. По существу, наш герой был одним из тех, кто предлагал современ-
никам этически не признанную большинством и никогда им самим вслух
не признаваемую поведенческую практику - но предлагал по-своему, со-
четав остранение (и вскрыв относительность, релятивность) этнического,
конфессионального, национального и политического. О непризнанности
подобной практики, ее «невозможности» свидетельствует, помимо проче-
го, то нежелание расставаться с доверием к Магомету, какое демонстри-
ровало его окружение: вероятно, не только Беккер, прежде чем убедиться
в «грязности этого типа», наталкиваясь на странности его поведения,
«искал для него защиту»279, оправдание. И все же, исторически очевидно
Мусульманский Азеф, или Игра в Другого... 1см
AI Игра в Другого
не новая, такая практика начинала осознаваться современниками как
практика, тем самым оказываясь, вопреки ее отвержению, здесь и сейчас
в какой-то мере востребованной. Помимо прочего, речь шла о прагмати-
зации и релятивизации морали - прораставшем в повседневность этиче-
ском релятивизме.
* * *
Однако Ю. Кази-Бек Ахметуков-М.-Б. Хаджетлаше рассказывает нам
и нечто, что существенно для наших собственных путей наблюдения за его
современниками. «Играя» через культурные границы и вызывая доверие
людей, находившихся по их разные стороны, он демонстрирует нам прозрач-
ность, проходимость этих границ, как и сам их сконструированный харак-
тер. Но не только. «Играя» поверх таких границ, он втягивает в свою орбиту
людей, относившихся к очень разным социальным и культурным кругам,
но зачастую в чем-то сходных: своими интересами (поглощенностью экзо-
тикой и Востоком, местом России между ним и Западом, убежденностью во
всесильности слова) и, быть может, более всего - сходных характерологи-
чески (хотя чаще и не сходных нравственно). Сыромятников, Янчевецкий -
с одной стороны культурной границы, Баймбетов, Габиев - с другой. Были
и иные, очень разные, намеченные здесь одним мазком-сноской. Окруже-
ние человека, и тем более «трикстера», им объединенное, разветвляясь от
каждого из участников все дальше, кажется, могло бы рисовать нам это, во
многом единое, социальное пространство с пересекающимися внутри него
кругами человеческого притяжения280. Нечто параллельное «коллигентной
категории», предложенной Н.Е. Колосовым281: это категория, связывающая
некоторое число людей между собой «явочным порядком», создающаяся
концентрированным набором отдельных казусов-примеров, персонажи
которых взаимодействуют друг с другом. В совокупности такие казусы
«плотно» описывают ту или иную социальную среду, подобно тому как
естественным образом организуется наше обыденное знание своей соб-
ственной среды. В так сформированном знании, по мысли автора, можно
видеть альтернативу искусственным исследовательским классификациям
социального мира, но это - абстрактная возможность: потребовалось бы
слишком много примеров, если б мы пожелали описать не одну среду.
В нашем случае следование за каждым из участников может стать столь же
неэкономным, не вмещающимся в рамки исследования. Экономнее, каза-
лось бы, роман - вот только и в нем ведь приходилось бы и обрисовывать
каждого, дабы обобщить его в художественный тип, и где-то остановиться.
По крайней мере, в нашем случае нет необходимости априори очерчивать
некую среду, из которой брать примеры, а повествование, организованное
вокруг одного индивида, может обрести (если уже отчасти не обрело)
центр, структуру и нескрываемую интригу. Так не обещает ли все же мой
Хаджетлаше, увиденный в его разных окружениях, описать нам - все ближе
к роману, но и неподалеку от эксплицитности общественных наук и при-
сущего им устройства воображения, ориентированного, признаем это, на
интерпретацию «голых фактов» и обилие сносок (добавлю еще одну282) -
некий целостный сегмент этого мира?
* * *
Но есть и иной вопрос, поставленный Хаджетлаше, лежащий на другом
полюсе продемонстрированной им спаянности рассеченного пространства,
в котором он действовал и которое одновременно создавал. Это вопрос о
культурной специфике. Мусульманские разоблачители, видимо, оказались
правы в своих подозрениях относительно его чуждого этнического и кон-
фессионального происхождения: скорее всего, он был рожден евреем. Но
разоблачили его не оттого, что он евреем был. Его подвели самомнение,
мстительность, очень поверхностная образованность (ведь и он «нахватал
верхов» модных книг, но не только «социальных», еще ориенталистских),
не говоря уже о несоблюдении принятых норм нравственности... Так что
конструируемый характер (национальной) культуры, ее «невеществен-
ность», предъявлен нам здесь с двух сторон. С одной - тем, как Ахметуков-
Хаджетлаше создавал собственную ей принадлежность. С другой - тем,
как приняли и отвергли эту его принадлежность мусульмане.
А между тем как часто сходное детерминирование индивида культурой
встречается в наших собственных рассуждениях! Да и в целом «культура»
по-прежнему имеет силу всеобъясняющего понятия и притом объясняю-
щего мир через себя самое: «эта культура такова потому, что такова эта
культура». Кажется, это понятие сильнее всех прочих сопротивляется
«де-реификации», быть может, выполняя роль последней точки опоры в
пошатнувшемся мире гуманитарных наук.
Ситуация предстает совсем грубой, когда синонимами «культуры»,
как во времена Хаджетлаше, оказываются «мусульманская психология»,
«российская ментальность», любая национальная «душа» или «харак-
тер»283. Здесь объяснения по принципу «индивид таков потому, что такова
его культура», зачастую наталкиваются на любопытный парадокс. Даже
если считать, что мы можем описать «национальную» или «мусульман-
скую» «культуру» (или «цивилизацию») по тем или иным, заведомо при-
надлежащим ей представителям и феноменам (текстам), у нас, похоже,
нет обратного хода: мы вряд ли можем определить, к какой «культуре»
принадлежит человек, культурного бэкграунда которого не знаем, судя
по тем или иным его чертам и высказываниям, - во всяком случае, в том
модернизирующемся мире бесконечных переплетений и взаимодействий,
о котором рассказывает Хаджетлаше. Современный историк российского
мусульманства С.М. Исхаков в солидном исследовании, посвященном
«социально-психологическим особенностям российских мусульман в
условиях Российского государства в 1917-1918 гг.», приводя (впрочем, по
пересказу Климовича) одно из вредных для горцев предложений Хаджет-
лаше, подобно моим персонажам, не верит, что Хаджетлаше сам мог быть
горцем. В другом месте он цитирует мнение Аллаева - как «кавказца»,
представителя «мусульманских интеллектуалов»284. А представим себе,
что до нас не дошли бы источники, отразившие скандал вокруг мусуль-
манских изданий Хаджетлаше, его сотрудничество с правительством и
«революционно-шантажистскую» деятельность Г. Эттингера, - не сочли
бы мы его писания одним из вариантов дискурса горцев и мусульман того
времени285? Впрочем, они таковым, пожалуй, и являются, ибо вписаны в
это, «российско-горско-мусульманское», пространство и так или иначе
Мусульманский Азеф, или Игра в Другого... I см
о> I Игра в Другого
преобразуют его, да и сами подвержены его воздействию - сколь бы «нена-
стоящим» горцем-мусульманином Хаджетлаше ни оказывался. Хотя, ко-
нечно, они одновременно являются не только мусульманским или горским
дискурсом - бывает ли такой?
Так и национальный адыгский писатель Кази-Бек Ахметуков стойко
сопротивляется «разоблачениям», окружающим фигуру Хаджетлаше.
Быть может, русская литературная традиция, на которую он как писатель
по большей части ориентировался286, вызывавшая меньше политических
ассоциаций, чем кавказский и мусульманский вопросы в публицистике,
лучше отвечала складывавшимся тогда представлениям горцев о самих
себе - и этот писатель показывает, сколь сильно такие представления за-
висели от ненациональной литературы. Быть может, «чужаки», глядя с
дистанции, порой способны лучше «ухватить» «национальные запросы» -
распространенные в «чужом» для них «народе» ожидания, касающиеся
его национального образа. Кази-Бек и здесь не одинок: уже в следующем
поколении и в ближайшем к нему культурном пространстве его прямым
наследником по писательской линии стал Курбан Саид, автор нацио-
нального азербайджанского «бестселлера» «Али и Нино», написанного в
1930-х годах; он же - бакинский еврей Лев Нуссимбаум, объявивший себя
мусульманином, эмигрировавший после революции в Германию, так и не
«разоблаченный» в Азербайджане287.
* * *
Ситуация с «культурой» оказывается лишь сложнее, заставляя нас
думать о романных способах обобщения, когда «культура» обретает иные
синонимы - «дискурс», «историческая память», «символическое про-
странство», набор меняющихся индивидуальных возможностей и ожи-
даний, «эпоха»... И все же, сформировавшись как востоковед, человек,
занимающийся «иными культурами» par exelence, я, как видно из этого
повествования, не могу (пока?) отказаться от этого понятия вовсе: у меня
нет другого средства ни описать коллективные различия, ни назвать этот
«воздух», дыша которым индивид прокладывает себе дорогу в социальном
пространстве, порой его изменяя. Я могу лишь вновь подхватить призы-
вы, раздавшиеся еще в середине 1980-х годов, увидеть за этим понятием
пространство дискуссий, постоянно пересоздающиеся и разнородные на-
пластования «дискурсов», «памятей» и «возможностей», используемых
общностями людей, помещенными в историю288. Их границы по-разному
пересекаются в разных плоскостях, формируются по разным параметрам,
создаются переосмыслением противоборства политических сил или пред-
ставлений соседей...
В так увиденном сообществе его российских современников Ю. Кази-
Бек-Ахметуков-Магомет-Бек-Хаджетлаше сыграл весьма разные роли.
Его главный талант - вопреки бесконечной повторяемости словесной пар-
тии в каждой из ролей - заключался, быть может, в способности улавливать
«текучесть мира», его «казусность»: изменчивость «вчера» и «сегодня»,
специфику каждой ситуации, особенности каждого собеседника. Но одна
из его ролей, не будучи уникальной, стала, наверное, наиболее для нас су-
щественной. Столь непосредственные проявления в его речах и поступках
понятий и ценностей, в совокупности восходивших и к Просвещению, и к
романтизму, «в стиле чересчур» доведенных Хаджетлаше до логического
конца, оборачивались своей противоположностью. Он, как кажется, бро-
сил в повседневность зернышко кризиса «проекта Просвещения». Кризи-
са, последствия которого столь заметны сегодня. Уверен ли ты, читатель,
что тебя решительно ничто не связывает с нашим героем?
1 Колосов Н.Е. Хватит убивать кошек!
Критика социальных наук. М„ 2005.
С. 82. Речь идет о возвращении субъекта.
2 Институт русской литературы (Пуш-
кинский Дом; далее - ИРЛИ). Ф. 655.
Д. 15. Л. 1.
3 Насколько мне известно, этот псевдоним
(также «Ст. Д.») до сих пор не был рас-
крыт. Он был сохранен и для большой
части публикаций автора в «России».
4 Письмо Аллаева, зарегистрированное
в редакции «России» 12 мая 1909 г.:
ИРЛИ.Ф. 655. Д. 15. Л. 2.
5 С.Н. Сыромятников (18641933) ра-
ботал в «Новом времени» (с некото-
рыми перерывами) в 1893-1904 гг.;
в «России» - с 1909 г. (по другой вер-
сии- с 1907). Его статьи 1900-1901 гг.
собраны в: Сыромятников С.Н. Опыты
русской мысли. СПб., 1901. Подробнее
о «восточничестве» Сыромятникова,
сменившемся «своеобразным нео-
западничеством в его национально-
консервативном изводе», см.; Межуев Б.
Забытый спор; о некоторых возмож-
ных источниках «Скифов» Блока //
http://www.archipelag.ru/authors/
mezhuev/?library=1919. О биографии
Сыромятникова и особенно о его мис-
сиях, в частности на Востоке, имевших
не только журналистские, но и коммер-
ческие, дипломатические, а возможно,
и разведывательные задачи, см.: Сыро-
мятников БД. Странные путешествия
и командировки Сигмы. СПб., 2004
(автор оспаривает некоторые из усто-
явшихся сведений, восходящих к сло-
варям Брокгауза и Ефрона).Отзвуки
работы Сыромятникова в «Новом вре-
мени» и взаимоотношений там (вклю-
чая подозрения коллег о его связях с
секретной полицией) см. в: Дневник
А.С. Суворина. М., 2000. Особ. С. 267;
Снессарев Н. Мираж «Нового времени».
Почти роман. СПб., 1914. Его отноше-
ние к П.А. Столыпину и, в частности,
к национальному курсу министра пря-
мо выражено в: Сыромятников С.Н.
Железный министр // В.А. Скрипицын.
Богатырь мысли, слова и дела. СПб.,
1911.
6 ИРЛИ. Ф. 655. Д. 15. Л. 3. Это письмо
пришло через месяц после начала
переписки, 16 июня. На сей раз оно да-
тировано автором: 26 июня. Парижанин
следует календарю нового стиля, петер-
буржцы - старого.
7 Писем Сыромятникова к Аллаеву я
не нашла и сужу об их содержании по
реакциям Аллаева.
8 Сыромятников вряд ли мог не знать
этого: брак великого князя Кирилла
Владимировича с Викторией Федоров-
ной, заключенный в 1905 г. против воли
Николая II (она была разведена, к тому
же первый ее муж, Эрнст Людвиг, был
родным братом императрицы Алек-
сандры Федоровны), чуть не лишил
Кирилла права на престолонаследие.
(См.: «Мысль, что я могу лишиться ее,
мне слишком невыносима»: Велико-
княжеский роман / Публ. Н. Канищевой
и В. Шелохаева // Источник. 2002.
№ 4. С. 28-38, зд. 28.) Император при-
знал этот союз в 1907 г., когда в нем
родился первый ребенок. Аллаев, воз-
можно, желает подчеркнуть не только
реальность своего знакомства с семьей
Мусульманский Азеф, или Игра в Другого...
267
оо I Игра в Другого
князя Кирилла, но и исчерпанность
скандала, когда пишет Сыромятникову,
что Виктория Федоровна снова «не-
давно разрешилась от бремени дочерью
Кирой» (ИРЛИ. Ф. 655. Д. 15. Л. 5).
9 Там же. Л. 4.
10 Там же. Л. 4,7.
11 Из ответа Аллаева от 16 июля (н. ст.)
1909 г. мы узнаем о его «душевной благо-
дарности», не поддающейся выражению
«даже на богатейшем русском языке»,
а заодно и о его аргументах в споре, ка-
ковыми становятся, в частности, факты
личной биографии: возможно, что он
«плохо понимает [русских], хотя гимна-
зию и университет окончил, живя исклю-
чительно среди русских» (Там же. Л. 7).
12 Российский государственный истори-
ческий архив (РГИА). Ф. 821. Он. 8.
Д. 1203. Л. 1.
13 ИРЛИ. Ф. 655. Д. 15. Л. 38;
Государственный архив Российской
Федерации (ГАРФ). Ф. 102. ДП ОО.
1913. Д. 194. Л. 11-14.
14 Понятие «культура» участвует в моем
рассказе в трех значениях. Два из них
относятся к его употреблению моими
персонажами: это, во-первых, универ-
сальная Культура - сумма высших до-
стижений и предстоящих свершений че-
ловечества, некое «идеальное общество
будущего» (такая Культура достигается
по преимуществу «просвещением» и в
этот европоцентристский век олицетво-
рена Европой); во-вторых, это частная,
партикулярная культура того или иного
«народа», культура-традиция - в отли-
чие от первой, таких культур много. Для
различения я пишу с большой буквы
слово «Культура» в универсальном зна-
чении этого понятия. В третьем значении
понятие используется мною как элемент
моего собственного исследовательского
аппарата; близкое по своей множествен-
ности ко второму значению, оно ему не
тождественно (увы, дополнительных
графических признаков в тексте оно не
имеет). Подробнее о соотношении пер-
вых двух значений и эволюции понятия
см.: Копосов Н.Е. Указ. соч. С. 65-83; при-
менительно к ситуации наших мусуль-
ман: Bessmertnaia О. Le « panislamisme »
existait-il? La controverse entre 1’Etat
et les reformistes musulmans de Russie
(autour de la « Commission speciale » de
1910) // Le choc colonial et 1’islam. Les
politiques religieuses des puissances colo-
nialesen terred’islam. P., 2006. P. 485-515.
15 Аллаев полагает, например, что гене-
рал Михеев, «обезаруживая и безпо-
коя мирных горцев... слеп и бродит во
тьме». Зато «Мусульманин», при том
что «известная часть против него», «от-
кроет глаза кое-кому» (ИРЛИ. Ф. 655.
Д. 15. Л. 3).
16 Там же. Л. 4. В этом же письме слова
о том, что горцы ведут себя иначе, чем
русские, которые их плохо понимают.
17 Я употребляю здесь в расширительном
значении термин Б. Андерсона, исполь-
зованный им для описания механизмов
конструирования наций. О проблеме
социальных границ и пограничных зон
в российском имперском контексте см.
особенно: Новая имперская история
постсоветского пространства. Казань,
2004; Российская империя в зарубеж-
ной историографии. М., 2005. Среди
прочих, журнал Ab Imperio все более
заостряет эту проблематику.
18 Reiss Т. The Orientalist: Solving the
Mystery of a Strange and Dangerous
Life. N.Y., 2005. P. xxiii. Рейсс говорит о
несколько более позднем периоде евро-
пейской истории, 20-30-х годах XX в.
19 Как это делает Ш. Фицпатрик, рас-
сматривая литературные и реальные
фигуры мошенников и самозван-
цев уже советской эпохи, таких как
Остап Бендер: Fitzpatrick Sh. Tear Off
the Masks!: Identity and Imposture in
Twentieth-Century Russia. Princeton,
2005 (особенно P. 263-300).
20 Первой на роль связки «обман и доверие»
обратила мое внимание О.Е. Кошелева:
Кошелева О. Снова Рыбников: обман и
доверие // Homo Historicus: К 80-летию
со дня рождения Ю.Л. Бессмертного.
М„ 2003. Т. 2. С. 152-170; Kosheleva О.Е.
L’honneur et la caution: Deux garanties de
confiance dans la Russie du Moyen Age et
de Г Age des Lumieres // Cahiers du Monde
russe. 2009. 50/2-3. Avril-sept. Для нее
связка эта служит скорее средством
обнаружить социальные механизмы,
вырабатываемые для защиты от обмана.
О доверии говорит и Ш. Фицпатрик,
однако здесь это - лишь результат высо-
кого владения мошенником принятыми
социальными практиками (Fitzpatrick Sh.
Op. cit.).
21 О переизобретении индивидом себя в
близком к моему контексте см., в част-
ности: Reiss Т. Op. cit.; Fitzpatrick Sh. Op.
cit. В контексте отдаленном, но также
рассмотренном сквозь призму пере-
сечения культурных границ: Davis N.Z.
Trickster Travels: A Sixteenth-Century
Muslim Between Worlds. N.Y., 2006.
Однако, сколь бы часто ни ставился
ныне этот вопрос, редко удается выйти
за пределы констатации самого факта
такого «переизобретения» и описать
его, не сводя к рассказу о пути героя
или взаимодействиях разных традиций
в его произведениях. Неким вызовом
служат здесь исследования по истории
«советской субъективности».
22 ГАРФ. Ф. 5802. Оп. 2. Д. 456. Л. 13-14.
23 ГАРФ. Ф. 102. ДП ОО. 1913. Оп. 14.
Д. 194. Л. 30-50. Второй дефис в напи-
сании имени редактора впоследствии
исчезает.
24 Так гласит составленная уже в 1913 г.
справка Особого отдела Департамента
полиции (ДП), основанная скорее всего
на сведениях, полученных от самого
Хаджетлаше; те же сведения повторя-
ются и в последующих справках этого
отдела о моем персонаже (Там же. Л. 29;
см. также: Л. 64-68, 78-82, 89-93).
25 ГАРФ, та же справка. Выходцем из
Кубанской области считался и сам
Хаджетлаше, о чем подробнее - ниже.
26 Об этом сообщают упомянутые това-
рищи Магомета (ГАРФ. Ф. 5802. Оп. 2.
Д. 456. Л. 16об.). Они же - удивленные
свидетели того, что деньги, и немалые,
в семействе Хаджетлаше порой по-
являлись. О дороговизне типографии
Хаджетлаше не раз упоминает в перепи-
ске с Харузиным (РГИА. Ф. 821. Оп. 8.
Д. 1203).
27 Атака Аллаева была направлена про-
тив газеты «Стамбульские новости»,
которую Коркмасов стал издавать в
Константинополе: в письме от 23 (10 ст.
ст.) марта 1910 г. Аллаев призывал
Сыромятникова «обратить строгое вни-
мание» на эту «протурецкую» газету,
противопоставляя ее «Мусульманину»
еще и по невероятному тиражу и фи-
нансовой обеспеченности (ИРЛ И.
Ф. 655. Д. 15. Л. 16-17). Здесь же -
еще одно упоминание о конфликте
Хаджетлаше с «кружком» (согласно
автору, Коркмасов тоже не был его чле-
ном, но - в отличие от Хаджетлаше -
был им соблазнен). Призыв Аллаева
оказался не слишком предусмотри-
тельным. Уже 16 марта ДДДИИ послал
запросы в губернии с мусульманским
населением - о распространенности не
только «Стамбульских новостей», но и
«Мусульманина»; как выяснилось, оба
издания поступали в Россию в значи-
тельно меньшем количестве, чем указы-
вал Аллаев (РГИА. Ф. 821. Оп. 8. Д. 834.
Л. 254-256, 258, 261-312). Хаджетлаше
пришлось, в мае, доказывать Харузину
важность его журнала (Там же. Д. 1203.
Л. 37, 40а-б). «Стамбульские новости»
были изъяты из обращения в России за
«паносманскую пропаганду» (Там же.
Д. 834. Л. 299).
28 Дж. А. Коркмасов (1877/78-1937),
анархист, социалист, участвовал еще в
революции 1905 г., затем в Париже стал
дружен с российскими и турецкими
«тюркистами» (например, с ГО. Акчу-
рой), а с 1908 г. в Турции, не признав
«ограниченности» переворота, созда-
Мусульманский Азеф, или Игра в Другого... I см
о I Игра в Другого
вал как Тюркскую ассоциацию, так и
Османскую социалистическую партию.
В 1917 г. активно поддержал больше-
виков, в 1921-1931 гг. - председатель
Совнаркома ДАССР; репрессирован
по обвинению в шпионаже в пользу
Турции.
29 Давлет-Гирей Хатакокор, как и по-
являющиеся в «Мусульманине» поз-
же Магомет (или Ислам) Ечерух и
X. Хаджемокор, рассматриваются неко-
торыми адыгейскими исследователями
как имена публицистов, «возвращенные
в современную адыгскую культуру».
Восстанавливаются даже их адыгизиро-
ванные формы. См.: Агержанокова С.Р.
Художественное осмысление жизни
адыгов в творчестве адыгских про-
светителей конца XIX - начала XX в.
Майкоп, 2003. С. 15, 34-41. Автор сле-
дует здесь выводам академика АМАН
А.А. Схаляхо; последний, основываясь
на списке сотрудников журнала, не ста-
вит вопроса о реальности этих фигур:
Схаляхо АЛ. Идейно-художественное
становление адыгейской литературы.
Майкоп, 1988. С. 48-56. Однако соглас-
но статье С. Хотко «Адыги в политиче-
ской истории Турции 1878-1922 гг.»
(опубликованной в 2005 г. на сайте
http://www.adygi.ru/history/article/028.
html), как раз С. Агержанокова предпо-
ложила, что Д.-Г. Хатакокор, М. Ечерух
и М.-Б. Хаджетлаше - имена одного и
того же автора. Возможно, гипотеза об
этом тождестве, с моей точки зрения,
почти очевидном, высказана С. Агержа-
ноковой (или другим исследователем)
в труде, оставшемся мне неизвестным.
30 В 1908 г. вышло только два выпуска
(они представлены в: ГАРФ. Ф. 102.
ДП ОО. 1913. Д. 194).
31 Екатеринодарская «Новая заря» (№ 724
за 1909 г.) перепечатала статью о прин-
ципах всеобщего обучения на Кавказе.
Статьи против эмиграции горцев в
Турцию воспроизводились, судя по со-
общениям Аллаева Сыромятникову,
«Туркестанскими ведомостями». В поль-
зу «Мусульманина» говорят и письма его
читателей, публиковавшиеся в журнале.
Такие письма появляются уже в первом
номере, в ответ на объявление о выходе
журнала.
32 РГИА. Ф. 821. Оп. 8. Д. 1203. Л. 10-17.
Судя по «отчету» Хаджетлаше, озаглав-
ленному «Путевые заметки» (письмо
от 20 декабря 1909 г. / 2 января 1910 г.),
он побывал не только на Северном
Кавказе и в Закавказье, но и в основ-
ных мусульманских центрах Урало-
Поволжья, где, с точки зрения прави-
тельственных кругов, жили наиболее
опасные носители «панисламизма» и
«пантюркизма» - татары. Частично
документ опубликован в: Ямаева JI.A.
«Мусульманский Азеф» или миф о
российском панисламизме в свете
архивных материалов // Археография
Южного Урала: Исторические источ-
ники и современные методы. Уфа, 2001.
С. 192-201. Публикация содержит
девять архивных документов, к сожа-
лению, приведенных фрагментарно.
Отмечу, что совпадение в названиях
наших статей произошло независи-
мо (ср.: Бессмертная О.Ю. Русская
культура в свете мусульманства: текст
и поступок // Христиане и мусуль-
мане: Проблемы диалога / Под ред.
А. Журавского. М., 2000. С. 469-530,
особенно С. 497; далее в ссылках:
Бессмертная. Текст и поступок).
33 Я привожу имена в той транскрипции
(чаще - русифицированной), в какой
они появлялись в журнале.
34 В частности, это вновь подтверждается,
теперь уже документально, письмами
читателей: около трех десятков таких
писем на разных вариантах татар-
ского языка (как и несколько писем
читателей-мусульман, пишущих на
русском) сохранилось в частном архи-
ве Хаджетлаше; если верить номерам
на этих письмах, их было около двух
сотен. В том же архиве сохранился и
список из 100 адресов годовой рас-
сылки. Мне удалось найти этот архив
в городе По во Франции (за что я осо-
бенно признательна поддержке париж-
ского Дома наук о человеке), где жила
в свои последние годы старшая дочь
Хаджетлаше Лейла (1906-2005). По
моей инициативе архив теперь пере-
дан наследницей, Селией де Баррос,
в Библиотеку современной междуна-
родной документации (BDIC) в пред-
местье Парижа. По моим подсчетам на
основе упомянутых сведений ДДДИИ
(РГИА. Ф. 821. Оп. 8. Д. 834. Л. 254-
. 256, 258, 261-312) «Мусульманин»
весной-летом 1910 г. получало через
почтовые конторы (включая пробные
номера) примерно 500 человек, глав-
ным образом на Кавказе (надо иметь
в виду, что доступ журнала в Россию
осложнялся таможенными пошлинами,
о чем подробнее ниже). По цитиро-
ванной выше справке Особого отдела
ДП, тираж журнала составлял 1500
экземпляров, в России его получало
750 человек, в Константинополе - 180,
в Малой Азии - 64 (ГАРФ. Ф. 102.
ДП ОО. 1913. Д. 194. Л. 29); если и эта
информация в справке основана на све-
дениях, полученных от Хаджетлаше, то
в данном случае, похоже, он не прибег к
чрезмерным преувеличениям.
35 Как и следовало ожидать, были у
журнала и читатели-немусульмане -
включая людей от власти: в упомяну-
том списке рассылки присутствуют
Сыромятников, Столыпин, кавказский
наместник Воронцов-Дашков и другие.
36 Трактовка исследователями характера
и степени этой оппозиционности за-
висит от позиции, которую занимают
авторы в дискуссии о содержании наци-
естроительских процессов в этой среде,
о соотношении ислама и этничности в
них. распространенности сепаратист-
ских устремлений, панисламизма и
пантюркизма. Такие позиции во многом
зависят от степени собственной анга-
жированности участников дискуссии
сегодняшними нациестроительскими
процессами. См., например: Ямаева ЛА.
Мусульманский либерализм начала
XX века как общественно-политическое
движение: по материалам Уфимской
и Оренбургской губерний. Уфа, 2002;
Усманова Д. Создавая национальную
историю татар: историографические и
интеллектуальные дебаты на рубеже
веков // Новая имперская история...
С. 109-126; Мухаметшин Р. Проблема
идентичности татар в нач. XX в. глазами
национальной интеллигенции: этнона-
циональные и политические аспекты //
Новая волна в изучении этнополити-
ческой истории Волго-Уральского ре-
гиона / Под ред. К. Мацузато. Саппоро,
2003. С. 316-335; Noack Ch. State Policy
and its Impact on the Formation of a
Muslim Identity in the Volga-Urals //
Islam in Politics in Russia and Central
Asia: Early XVIII to Late XX Centuries /
Ed. by S.A. Dudoignon & Komatsu
H. L., 2001. P. 3-26; Frank A. Muslim
Religious Institutions in Imperial Russia:
The Islamic World of Novouzensk District
and the Kazakh Inner Horde, 1780-1910.
Leiden, 2001; как пример «резкого» на-
циестроительства: Хабутдинов А.Ю.
Формирование нации и основные на-
правления развития татарского обще-
ства в кон. XIX - нач. XX в. Казань, 2001.
Одновременно эту модернизаторскую
оппозиционную среду принято противо-
поставлять мусульманским традицио-
налистам (получившим именование
кадимиййа, кадимисты - «старые», в
противоположность джадидам - «но-
вым»), что восходит к собственному
восприятию этими лагерями себя и
друг друга; прямолинейность такого
противопоставления вызывает ныне
основательные сомнения: Dudoignon SA.
Qu’est-ce que la « quadimiya »? Elements
de sociologie du traditionalisme musulman,
en Islam de Russie et en Transoxiane //
L’Islam de Russie: Conscience communau-
Мусульманский Азеф, или Игра в Другого... Iсм
Игра в Другого
272
taire et autonomie politique chez les Tatars
de la Volga et de 1’Oural depuis le XVIIIe
siecle / S.l.d. S.A. Dudoignon et al. P.,
1997. P. 207-225.
37 Национальный архив Республики
Татарстан (НАРТ). Ф. 1370. On. 1. Д. 22.
Л. 20. О Галиаскаре (Оскаре) Шах-
Айдаровиче Сыртланове см. восторжен-
ный очерк: Султанбеков Б.Ф. История в
лицах. Казань, 1997. С. 26-31.
38 Об Аслан-Гирее Шавловиче Датиеве
мне удалось выяснить немногое. Он
впервые появляется в 1901 г. в Киеве
как студент, брат Адил-Гирея: братьям
Датиевым адресовано письмо моего
главного персонажа, перехваченное по-
лицией (ГАРФ. Ф. 102. ДП ОО. 1901.
Д. 235. Л. 6). В 1911 г. Аслан-Гирей
упоминается в связи со слежкой «по с.д.
партии» за Грауштейном, который его
посещал, но сам он характеризуется как
«отличающийся примерным поведени-
ем»: ГАРФ. Ф. 111 (С.-Петербургское
охранное отделение). On. 1, 1911.
Д. 880/257. По источникам Р.Х. Хаш-
хожевой, однако, братья Датиевы про-
ходили в полиции «как политические
по партии эсеров» (Хашхожева Р.Х.
Кази-Бек Ахметуков: жизнь и творче-
ство // Казн-Бек Ахметуков. Избр. про-
изведения / Вступ. ст. и подгот. текстов
к изд. Р.Х. Хашхожевой. Нальчик, 1993.
С. 5-78, зд. С. 21). Судя по переписке
Хаджетлаше с женой в 1920 г., отец
Датиевых - офицер высокого ранга.
Аслан к этому времени погиб - то ли в
войну, то ли во время революционных
событий. В 1920-х годах Хаджетлаше
посвятит ему стихотворный панегирик,
восславляющий их верную дружбу:
BDIC F delta res 914 (8) (10). Впрочем,
этому светлому воспоминанию пред-
шествовал, судя по описанным ниже
событиям, резкий разрыв.
39 Например, Ахметхан Мутушев - в бу-
дущем переводчик на чеченский язык
«Интернационала», член Дагестанского
военно-революционного комитета, член
Наркомюста Азербайджана, председа-
тель Чеченского окружного исполкома.
40 РГИА. Ф. 821. Оп. 8. Д. 1203. Л. 15.
Предварительно Хаджетлаше сооб-
щил в письме в ДДДИИ (завершая
«личными делами» упомянутые выше
«Путевые заметки») о полученном им
предложении Суворина вести в «Новой
Руси» мусульманский отдел и, по сути,
испрашивал разрешения на это, жалу-
ясь на нехватку денег: не может же он
«пользоваться хотя бы одной копейкой
от журнала» (аналогичное предложе-
ние, согласно его письму, он получил
от «Московского еженедельника»
братьев Трубецких; замечу, что там он
сотрудничал и раньше). Он сообщал
также, что предостерегал его от сотруд-
ничества в суворинской газете, которое
могло бы повредить «Мусульманину»,
Сыромятников (Там же. Л. 17). «Новая
Русь» выступала скорее в кадетском
русле (ее редактор ушел из «Нового
времени» в 1901 г. после раскола в
редакции, когда и Сыромятников пред-
принял ту же попытку); она вряд ли
рассматривалась в прогрессистской
мусульманской среде как враждебная.
Не вполне ясно поэтому, в чем заклю-
чались опасения Сыромятникова: то ли
их вызывало возможное обнаружение
читателями «Мусульманина» связи ре-
дактора с Сувориными, то ли противо-
речие такого участия задуманному кон-
сервативному направлению журнала.
41 См., например, рекламное объявление:
Мусульманин. 1910. № 3. С. 95. Обзор
реакций на выход «В мире мусульман-
ства» (включая цитаты из питерской
газеты «Нур», считавшейся среди «про-
грессивных» мусульман реакционной)
см.: Там же. 1911. №8-10. С. 402-406;
В мире мусульманства. 1911. №28.
28 окт.
42 См., например, архив одного из основа-
телей партии «Мусульманский союз»
(Иттифак ал-Муслимин), председателя
мусульманской фракции и ее Бюро
в I Государственной думе, тогда ре-
дактора бакинских газет «Каспий» и
«Хаят», азербайджанца Али-Мордана
Топчибашева (Топчибаши): издание
еженедельника на русском в Петербурге
оказывается постоянной заботой и
Бюро, и самого Топчибаши (речь идет
о 1906-1908 гг.): НАРТ. Ф. 186. On. 1.
Д. 6. Л. 1-5; Д. 9. Л. 1; Д. И. После за-
крытия «В мире мусульманства» му-
сульманской общественностью вновь
были предприняты усилия, поверх
региональных и этнических границ, для
издания газеты в столице (см. переписку
об этом татарина Ф. Каримова и горца
И. Шагиахметова: Там же. Д. 65). Такая
появилась с октября 1912 г. (и опять
под редакцией горцев - С. Габиева
и И. Шагиахметова) под названием
«Мусульманская газета»; одновремен-
но Габиев издавал в Петербурге специ-
ально горскую газету «Заря Дагестана».
43 Вакыт. 1911. № 749. 19 марта; № 751. 22
марта. Цит. по: ГАРФ. Ф. 102. ДП ОО.
1911. Д. 74, ч. 53. Л. 1-2; НАРТ. Ф. 51.
Оп. 10. Д. 365. Л. 407. По сведениям,
опубликованным в самой «В мире му-
сульманства» (1911. № 1. 3 апр.), в Уфе
было собрано около 2 тыс. рублей и со-
стоялся прием в честь Хаджетлаше - в
кругах, весьма обеспеченных, а по духу
близких оренбургской «Вакыт». Деньги
собирали и другие, и в других местах.
Один из ярких участников нашей исто-
рии, Г. Баймбетов, собрал в той же Уфе
80 рублей, но вынужден был их частич-
но проесть и рассчитывал пополнить
сумму сборами в Казани: ГАРФ. Ф. 102.
ДП ОО. 1911 Д. 20, ч. 86 л Б. Л. 12; ср.:
НАРТ. Ф. 51. Оп. 10. Д. 365. Л. 440.
44 РГИА. Ф. 821. Оп. 8. Д. 1203. Л. 66, 69,
71-76а-б. Объем субсидии составлял
15 тыс. рублей. Как сообщала, несо-
мненно преувеличивая, газета «Нур»,
в целом требовалось 40 тыс. (цит.
по: Мусульманская печать в России
в 1910 г. Оксфорд, 1987. С. 60). Это
сообщение могло появиться не без
участия Хаджетлаше. На его попытки
«выбить» в ДДДИИ больше Харузин
отвечал, что субсидия предназначена
«служить первоначальной основой для
возникновения издания, существова-
ние которого должно быть обеспечивае-
мо общественными мусульманскими
средствами». Очевидно, помимо огра-
ниченности государственных средств,
Харузин руководствовался желанием
иметь определенные гарантии того,
что издание будет распространенным
и читаемым. По оценкам депутатов му-
сульманской фракции Думы, в 1910 г.
на издание газеты в Петербурге нужно
было 12 тыс. рублей в год: Усманова Д.
Мусульманская фракция и проблемы
«свободы совести» в Государственной
Думе России (1906-1917). Казань,
1999. С. 61.
45 ГАРФ. Ф. 102. ДП ОО. 1911. Д. 74, ч. 6.
Л. 9-9об. Критика была направлена
в адрес статей Д.-Г. Хатакокора, при-
нятого (случайно ли?) за издателя
«Мусульманина» (см. примеч. 29).
Ахмед Кемаль - выходец из Турции,
который поселился в Баку, спасаясь
от преследований полиции при Абдул
Хамиде, был известен резкими вы-
ступлениями против режима султана
и в поддержку младотурков. В 1907 г.
они вызвали возмущение бакинских
мусульман и принудили Гаджи Зейна
ал-Абдана Тагиева, известного бакин-
ского миллионера, мусульманского ме-
цената и издателя, среди прочих, газеты
«Феюзат» (предшественницы «Ени
Феюзат»), где Кемаль был редактором,
закрыть газету: Bennigsen A., Lemercier-
Quelquejay Ch. La presse et le mouvement
national chez les musulmans de Russie
avant 1920. P., 1964. P. 112.
46 Ср. «Стамбульские письма» Ф. Кари-
мова, публиковавшиеся в период Бал-
канских войн в «Вакыт». О Турции как
ориентире модернизации, на примере
татарской газеты того же периода см.:
DudoignonSA. Un islam peripherique?
Мусульманский Азеф, или Игра в Другого...
273
ь I Игра в Другого
Quelques reflexions sur la presse musulmane
de Siberie a la veille de la Premiere Guerre
mondiale // En islam siberien. Cahiers du
monde russe. T. 41. № 2-3. P., 2000.
47 См., например, реакцию на выступле-
ние «Ени Феюзат» - без ссылки, за
подписью X. Хаджемокора, но в стиле
Хаджетлаше: обвиняя оппонентов в
клевете, подтасовке фактов, истериче-
ских воплях, базарной ругани и про-
дажности, автор высказывал мысль,
что критики, «жаждущие, чтоб на них
обратили внимание, всех и вся мерят на
свой аршин» (Мусульманин. 1911. № 1.
С. 12-13).
48 Вакыт. 1911. № 839. Цит. по: НАРТ.
Ф. 199. On. 1. Д. 722. Л. 237-238.
49 А.Д. Шеманский - полковник Генераль-
ного штаба Российской армии, извест-
ный статьями о ее действиях на Кавказе
и в Средней Азии. В «Мусульманине»
опубликовал статью «Гумбет-Кабус
(исторические памятники мусульман-
ской Средней Азии)» (Мусульманин.
1910. № 10. С. 231-235), противопо-
ставлявшую Россию Персии и подчер-
кивавшую роль первой как «патрона»
мусульманских племен.
50 Так представленная читательская ауди-
тория «Мусульманина» несколько уже
той, которой рассылался журнал: как
свидетельствует упомянутый список его
рассылки, здесь были и учителя, и ком-
мерсанты из татар Урало-Поволжья и
Средней Азии. Но горцы на военной или
иной государственной службе (наряду
с коллективными адресатами - библио-
теками и редакциями газет, каковым
журнал доставлялся по обмену) дей-
ствительно представляли большинство
в этом списке.
51 Тем самым трактовка Л.И. Климовича,
помещающего издания Хаджетлаше в
лагерь «кадимистов», не подтвержда-
ется: Климович Л.И. Ислам в царской
России. М„ 1936. С. 233-267.
52 Это цитаты из знаменитой думской
речи (1912 г.) С. Максудова, отражав-
шей общий дух публичных трактовок
вопроса о панисламизме мусульман-
скими лидерами. См.: Мусульманские
депутаты Государственной думы
России 1906-1917 гг.: Сб. док. и мате-
риалов / Сост., авт. вступ. ст. и примеч.
Л.А. Ямаева. Уфа, 1998. С. 178-194;
зд. С. 193. Я солидарна с теми иссле-
дователями, которые не считают такие
выступления чистыми декларациями
и полагают, что панисламизм в России
в то время не представлял собою
сколько-то оформившегося течения
(Bessmertnaia О. Le « panislamisme »...).
Подчеркну вместе с тем, что различия
в реакциях мусульман на деятельность
Хаджетлаше отражают разнообразие их
политических стремлений.
э3 Так, «Стамбульские письма» Ф. Кари-
мова вызвали бурную дискуссию. См.,
например, письма Каримову: НАРТ.
Ф. 1370. On. 1. Д. 23, 28; Оп. 2. Д. 28.
Л. 12.
>4 Климович Л.И. Указ, соч.; Ямаева Л.А.
«Мусульманский Азеф»... С. 194.
5э О реакциях мусульманской прессы на
деятельность мусульманской фракции
Думы см.: Усманова Д. Мусульманская
фракция... С. 58-64.
з6 Каспий. 1911. № 233. 18 окт.; РГИА.
Ф. 776. Оп. 9. Д. 2249. Л. 7-9.
57 Цит. по: ГАРФ. Ф. 102. ДП ОО. 1911.
Д. 74,ч. 53. Л. 1-2.
j8 Датиев А.-Г. Открытое письмо Члену
Государственной Думы К.М. Тевке-
леву// В мире мусульманства. 1911.
№ 20. 2 сент. (опубл.: Мусульманские
депутаты... С. 164-167). Джантюрин
упоминает, что ждет от Тевкелева теле-
граммы, в частном письме Каримову
уже 18 апреля (НАРТ. Ф. 1370. On. 1.
Д. 22. Л. 28-28об).
39 Мусульманин. 1911. № 22-23. С. 956-
958.
60 В мире мусульманства. 1911. № 21.
11 сент.
61 Об идее передать газету Сыртланову
и Гайдарову говорят как Датиев (в его
«Открытом письме Тевкелеву»), так и
Сыртланов {Сыртланов О.Ш.-А. Ответ г.
Датиеву // Каспий. 1911. № 233.18 окт.;
РГИА. Ф. 776. Оп. 9. Д. 2249. Л. 7-9).
62 Гайдаров заявил о своей непричаст-
ности к газете «В мире мусульманства»
в «Каспии» (№ 216. 19 сент.), а Сырт-
ланов - в «Вакыт» (№ 845. 22 сент.).
63 Датиев А.Г. Ответ на письмо Члена
Государственной Думы, присяжного
поверенного О.Ш.-А. Сыртланова //
В мире мусульманства. 1911. № 25.
7 окт.; Мусульманин. 1911. № 24.
С. 1013-1018; Сыртланов О.Ш.-А. Ответ
г. Датиеву. Сыртланов, опровержение
которого Датиев отказался напечатать
в своей газете, сначала направил письмо
в Департамент по делам печати, настаи-
вая, чтобы тот принудил Датиева опу-
бликовать его. Но ему и здесь отказали:
его текст не удовлетворял требованию
закона «содержать в себе лишь факти-
ческие данные... без всяких отвлеченных
суждений, а также полемических или
укоризненных выражений» (РГИА.
Ф. 776. Оп. 9. Д. 2249. Л. 13).
64 Сыртланов уволил Датиева из своих по-
мощников и заявил о преждевременном
присвоении им себе звания присяжного
поверенного ( Сыртланов О.Ш-А. Ответ
г. Датиеву).
65 В мире мусульманства. 1911. № 31.
18 нояб.; 1912. № 4. 27 янв.
66 См. обзор, подготовленный в МВД
для внутреннего пользования и затем
опубликованный: Мусульманская пе-
чать в России в 1910 году / Сост. по
распоряжению г. Начальника Главного
Управления по делам печати под ред.
В. Гольстрем [СПб, 1911]. Оксфорд,
1987. С. 60; то же: РГИА. Ф. 821.
Оп. 133. Д. 451. Л. 1-36; зд. Л. 24 (ав-
торы «Обзора» успели лишь отметить
начало выхода «В мире мусульман-
ства» в год публикации их труда). По
трактовке составителей, описывающих
«проект издания газеты на русском
языке» в Петербурге «для отстаивания
мусульманских интересов», Каримов
опасался, «что издание будет отражать
исключительно фракционные интере-
сы». Однако по другой трактовке - из-
нутри мусульманской среды - фракция
сама сочла, что формально газета не
должна быть думской {Усманова Д.
Мусульманская фракция... С. 61-62).
67 Ср., с одной стороны, письма Джан-
тюрина и Акчокр-Оглы к Каримову
(НАРТ. Ф. 1370. On. 1. Д. 22. Л. 28-29,
32-33), с другой - упоминание об
«оживленной переписке» между Кари-
мовым и Хаджетлаше, связанной с
разгоравшимся скандалом и шедшей
по крайней мере в июне (ГАРФ. Ф. 102.
ДП ОО. 1911. Д. 74, ч. 28. Л. 13).
68 Сыртланов О.Ш.-А. Ответ г. Датиеву.
69 РГИА. Ф. 821. Оп. 8. Д. 1203. Л. 76а-76б.
Письмо из ДДДИИ датировано 12 мая
1911 г. Выборы в IV Думу предстояли в
1912 г.
70 ГАРФ. Ф. 102. ДП ОО. 1911. Д. 74, ч. 53.
Л. 1-2; ср.: НАРТ. Ф. 51. Оп. 10. Д. 365.
Л. 407.
71 См., например, обзор «панисламистской
печати» за 15 окт. 1910 г. - 4 окт. 1911 г.,
подготовленный в Казани (НАРТ.
Ф. 199. On. 1. Д. 722. Л. 24-26), или
справку питерской охранки от октября
1911 г., гласящую, что Хаджетлаше и
Датиев «оба ярые приверженцы па-
нисламистского движения, и хотя, по
убеждениям, сочувствуют партии с.-р.,
но журнальное дело ведут настолько
осторожно, что до сего времени газе-
та ни судебному преследованию, ни
административным карам не подвер-
галась» (НАРТ. Ф. 51. Оп. 10. Д. 365.
Л. 420-421; сходная оценка воспроизво-
дится в 1916 г.: ГАРФ. Ф. 102. ДП ОО.
1913. Оп. 14. Д. 194. Л. 87). Составитель
справки пожелал именно так истолко-
вать сообщение Особого отдела, что «по
отзыву С.-Петербургского Комитета по
делам печати, газета “В мире мусуль-
манства” обсуждает и отстаивает инте-
ресы мусульман в области религиозной
Мусульманский Азеф, или Играв Другого...
275
s
о
PQ
сЗ
&
s
276
и общественной жизни, является орга-
ном беспартийным, особых резкостей не
допускает и судебному преследованию со
стороны означенного Комитета, а также
административным карам не подвер-
галась» (июль 1911 г.: см., в частности:
НАРТ. Ф. 51. Оп. 10. Д. 365. Л. 423;
курсив мой. - О. Б.~). Как панисламист-
ские трактуют издания Хаджетлаше
А. Беннигсен и Ш. Лемерсье-Келькежэ
(Bennigsen A., Lemercier-Quelquejay Ch.
Op. cit. P. 172 173). Ср. по сути противо-
положные друг другу трактовки «идей-
ного» содержания журнала у советских
ученых (спор с Л.И. Климовичем в:
Хакуашев А.Х. К вопросу об идейных
позициях М. Хаджетлаше и журнала
«Мусульманин» // Общественно-по-
литическая мысль адыгов, балкарцев
и карачаевцев в XIX - нач. XX в.:
Материалы конф. 28-29 марта 1974 г.
Нальчик, 1976. С. 223-241; поддержку
Климовича Т.Х. Кумыковым: Там же.
С. 35).
72 Разрешение Депатртамента по делам пе-
чати на татароязычную «В мире мусуль-
манства» получено 28.09.1911 г. (РГИА.
Ф. 777. Оп. 17. Д. 186); во всяком случае,
первые два номера в 1912 г. вышливсвет
(что подтверждается письмом дирек-
тора Департамента полиции о передаче
этих номеров в январе 1914 г. тогдаш-
нему директору ДДДИИ Е.В. Менкину:
РГИА. Ф. 821. Оп. 133. Д. 449. Л. 134).
Сообщение о ее планирующемся выходе
сдержанно воспроизводит «Каспий»
(1911. №218. С. 4).
73 В мире мусульманства. 1911. № 24.
30 сент. С. 3.
74 РГИА. Ф. 776. Оп. 9. Д. 2249. Арест
был наложен на № 26 от 14 окт. 1911 г.
В деле' нет признаков того, что арест
показательный (между разными струк-
турами МВД, как мы уже видели, было
много несогласованностей), но этого
нельзя исключить, судя по совпадению
даты с развитием скандала. «Каспий»
(20.10.1911, № 235) этот арест отметил.
75 Подобная самокритика - обычное явле-
ние в мусульманской прессе той поры
(подробнее: Бессмертная О. Текст и
поступок).
76 Помимо некоторых признаков этой
осведомленности, присутствующих в
последних статьях Датиева в «В мире
мусульманства», об этом могут свиде-
тельствовать письма некоего Аслан-
Гирея (его же?) от декабря 1909 г. на
имя Ахмет-Бека (Аллаева?) и от апреля
1911г., передаваемые Хаджетлаше
через ДДДИИ (РГИА. Ф. 821. Оп. 8.
Д. 1203. Л. 27, 72).
77 Передовая «8 декабря 1911г.»//В мире
мусульманства. 1911. № 34.9 дек.
78 Так в одной из версий (май 1916 г.) упо-
минавшейся уже справки Особого отде-
ла: ГАРФ. Ф. 102. ДП ОО. 1913. Д. 194.
Л. 89-93. Возможно, здесь привлечены
сведения не только от Хаджетлаше, но и
не найденные мною агентурные данные,
восходящие ко времени событий.
79 Не ясно, была ли здесь избрана «ко-
миссия» для расследования (так в
упомянутой справке Особого отдела)
или «группа», которая затем выберет
«редакционную комиссию» (так в по-
следовавшей публикации разоблачите-
лей Хаджетлаше), или это одна и та же
«комиссия».
80 ГАРФ. Ф. 102. ДП ОО. 1911. Д. 74, ч. 28.
Л. 13.
81 «История журналистики за границей
и в России доказывает ясно, что газета,
или вообще печатный орган, пользую-
щийся правительственной субсидией в
какой угодно форме, никогда не может
иметь успеха в стране и заранее осужден
на быструю гибель, или в лучшем слу-
чае на бесцельное и вялое прозябание.
Это незыблемый закон, не имеющий
исключений» (Снессарев Н. Указ. соч.
С. 133).
82 НАРТ. Ф. 51. Оп. 10. Д. 365. Л. 164об.
83 «Ени Феюзат» была закрыта в марте
1911 г. Два года спустя начальник
Тифлисского ГЖУ (губернского жан-
дармского управления) полковник Пас-
трюлин, с которым нам еще предстоит
встретиться, вспоминая об этих арестах
«в ночь на 19 марта 1911 г.», будет сооб-
щать в Особый отдел о подозрительно-
сти наследницы этой газеты - «Икбал»
(ГАРФ. Ф. 102. ДП ОО. 1913. Д. 74.
Л. 43-44об).
84 Офицерская жизнь. 1908 (июнь).
№ 118. С. 261-263; № 122. С. 317-318;
№ 123. С. 333-335. Мусульманин. 1911.
№ 14-17. С. 685-696; В мире мусуль-
манства. 1911. № 1-3 (3 апр.; 22 аир.;
29 апр.).
85 Такая критика, часто в передовых ста-
тьях, появляется чуть ли не в каждом
номере газеты. Помимо цитированного
выше (с. 221) противопоставления
врагов ожидаемых и неожиданных из
статьи о ссоре с думской фракцией,
см., например, передовую, соседствую-
щую с «Реформаторами ислама» (№ 2,
22.04.1911), или передовую (№ 19,
26.08.1911), сопровождаемую большой
статьей Г. Бамматова «Панисламизм
и русское мусульманство»; ср. ста-
тьи в том же ключе, подписанные
Хаджетлаше, например «Мусульмане и
Россия» (№ 17,12.08.1911).
86 «Письмо» в «Речи» подробно рассма-
тривает Л.И. Климович: целиком раз-
деляя возмущение авторов «Письма»
поведением Хаджетлаше, он не за-
бывает указать и на отвратительность
методов царского режима в борьбе с
мусульманской буржуазией, и на ре-
акционность самой этой буржуазии,
главное же, на то, «что за типы делали
погоду в религиозной жизни мусульман
царской России» (Климович Л.И. Указ,
соч. С. 242-243).
87 Подробнее см.: Бессмертная О. Текст и
поступок.
88 Искажением истинного ислама в ходе
истории объяснял мусульманский
реформизм повсюду, и российский
джадидизм в частности, «отсталость»
мусульманского мира по сравнению с
Европой. Такой ответ на колониальный
вызов Запада мог достигать весьма
радикальных форм по отношению к
собственной традиции (ср. переписку
ал-Афгани с Э. Ренаном: Laurens Н.
A propos de la controverse Renan /
Afghani: Islam et protestantisme // D’un
Orient 1’autre: Les metamorphoses suc-
cessives des perceptions et connaissances.
P., 1991. Vol. 2. P. 221-227). О поисках
очищения и обновления ислама - ре-
лигии и ислама - образа жизни среди
татарских джадидов см. особенно:
Zarcone Th. Philosophie et theologie chez
les djadids: la question du raisonnement
independant (igtihad) // Le reformisme
musulman en Asie Centrale : Du premiere
renouveau a la sovietisation, 1788-1937.
Cahiers du Monde russe. T. 37. № 1-2.
P, 1996. P. 53-64; Lazzerini E. Beyond
Renewal: The Jadid Response to Pressure
for Change in the Modern Age // Gross
J.-A. (ed.) Muslims in Central Asia:
Expressions of Identity and Change.
Durham; L., 1992.
89 О распространении в Европе образа
панисламизма как цивилизационной
угрозы со стороны мусульманского
мира, в частности о его связи с пред-
ставлениями о религии как сущности
любой цивилизации, см. особенно:
Rodinson М. La fascination de 1’Islam. P.,
1980. P. 76-94.
90 НАРТ. Ф. 1370. On. 1. Д. 22. Л. 28-28o6;
28 anp. 1911 г. Джантюрин отмечал так-
же, что сведения эти каким-то образом
следуют из дела между Сыртлановым и
Датиевым и что «если посмотреть на его
(Хаджетлаше. - О. Б.) друзей в Турции,
то дело безнадежно» (из текста не ясно,
то ли попытки Джантюрина выяснить
что-либо о Хаджетлаше через его турец-
ких друзей ни к чему не ведут, то ли они
ни о чем хорошем не свидетельствуют).
Как раз планирующейся поездкой
Джантюрина в Константинополь объ-
яснял Тевкелев Датиеву использование
ими телеграфа.
Мусульманский Азеф, или Игра в Другого...
277
со | Игра в Другого
91 Руководство партии эсеров окончатель-
но признало Азефа провокатором в кон-
це 1908 г., на трибуну Государственной
думы проблема была вынесена в фев-
рале 1909 г. Вспомним предложение
Аллаева Сыромятникову разоблачать
«товарищей Азефа»: оно шло по «горя-
чим следам» скандала.
92 НАРТ. Ф. 51. Оп. 10. Д. 365. Л. 407,
420-421, 423, 164 (курсив мой. - О. Б.).
Лицом, «известным» полиции, сообраз-
но ее собственной системе умолчаний,
часто называли секретных сотрудников.
При неравноценности политических по-
зиций и ситуаций, в каких находились
члены столкнувшихся здесь лагерей,
нельзя не отметить сходство их методов.
См. также: ГАРФ. Ф. 102. ДП ОО. 1911.
Д. 74, ч. 53. Л. 1-2; Д. 74, ч. 28. Л. 13.
93 Первая часть фразы, в отличие от вто-
рой, содержит лишь оценку нравствен-
ности, а не происхождения Хаджетлаше:
это цитата из известной басни Крылова
«Лжец». Впрочем, упоминание Датие-
вым сословия Хаджетлаше (которым
он, напомню, «не интересовался») сви-
детельствует, что и оно вызывало во-
просы, оставаясь значимой характери-
стикой человека. О роли еврейства Евно
Азефа в восприятии его тогдашним рос-
сийским обществом см.: Одесский М.П.,
Фельдман Д.М. Евно Азеф: еврей,
автор, террорист // Параллели: Русско-
еврейский историко-литературный и
библиографический альманах. 2002.
№ 1. С. 53-78.
94 Мусульманская газета. 1913. № 18.
25 мая. Прежде, вскоре после появления
газеты, в ответ на «запросы» в редак-
цию, сообщалось, что «Мусульманская
газета» находится в сфере влияния
лишь «политически честных людей» и
не имеет отношения «к некоему бывше-
му издателю журнала “Мусульманин”»;
«категорически» заявлялось, что «с та-
кими господами мы имели только не-
счастье быть знакомыми, о чем можем
лишь страшно пожалеть» (1913. № 8,
30 янв.). Саид Габиев стал признан-
ным советским лакским писателем,
«занимавшим ответственные посты
на Северном Кавказе, в Дагестане
и Грузии»; статья о нем вошла в
«Краткую литературную энциклопе-
дию» (М„ 1962. Т. 1. С. 1084-1085).
Здесь, впрочем, умалчивается о связи
его дореволюционной деятельности с
мусульманством и о «Мусульманской
газете», но сообщается о национальном
аспекте этой деятельности, в частности
о «Заре Дагестана» (хотя и та была про-
низана мусульманскими сюжетами).
95 Вопрос задал автор, подписывавшийся
«Абадзех». Габиев, откладывая «бес-
пощадный приговор», ссылается на
«различные соображения юридическо-
го характера», мешающие «сказать нуж-
ную правду», но сообщает, что «по всем
данным, имеющимся пока у разоблача-
ющих, тот, о ком вы спрашиваете, весь-
ма большой негодяй и авантюрист, если
не сказать больше» (Мусульманская
газета. 1913. № 20. 23 июля). Уже и
из предыдущего упоминания (№ 18)
следовало, что разоблачителям не уда-
валось достоверно подтвердить свои
подозрения и, в частности, выяснить
«настоящую фамилию» «Н.» - пред-
ставлявшего «господ... присосавшихся
к мусульманскому миру».
96 Хотя, как известно, не все носители
власти в Российской империи были
этническими русскими и православ-
ными.
97 «Тем не менее очень интересно, что
он ответит на обвинения Кубали в
“Каспии”», - замечает Паго (Письмо
П. Тамбиева жене, 29 ноября 1911 г. Цит
по: Паго Тамбиев: К 110-летию со дня
рождения / Сост. и вступ. ст. Р.Х. Хаш-
хожевой. Нальчик, 1984. С. 237). Речь
идет, очевидно, о критике «Каспием»
в статье, подписанной Кубали (1911.
№219. 30 сент., там же, где сообщается
об отречении Сыртланова от «В мире
мусульманства»), статьи «Бакинские
дела-делишки», подписанной X. Хадже-
мокором (В мире мусульманства. 1911.
№ 20. 2 сент., т. е. уже после выступле-
ния газеты против Тагиева, в том же
номере, где был оглашен конфликт с
Тевкелевым), содержавшей, согласно
Кубали, «клеветническое искажение»
межконфессиональной ситуации в Баку.
98 Габиев, видимо, считал религиозный
аспект братства мусульманских на-
родов (во всей их совокупности!) его
временной составляющей: «Такую ду-
ховную солидарность мусульманина не
уничтожить никакими репрессиями, до
тех пор пока национальные или другие
общечеловеческие идеи не возьмут верх
над доминирующим в жизни темных
народных масс понятием о религиозном
братстве» (Мусульманская газета. 1912.
№ 1.12 окт. С. 2-3 (курсив мой. - О. Б.).
99 Мнение Габиева о Хаджетлаше подхва-
тывала газета на арабском «Джаридат
Дагистан» («Дагестанская газета»).
Возвращая проблему в собственно ре-
лигиозную сферу, она не освобождала ее
ни от политики, ни от «генетики» (роли
происхождения героя): уже после фев-
раля 1917 г. она вспоминала о «происках
русского государства» по отношению к
исламу, носителем которых оказывался
этот герой, «еврей из Одессы... выда-
вавший себя черкесом»: «Если бы этот
жалкий еврей знал сущность ислама,
он не писал бы таких статей». Газета
издавалась с 1913 г. в Темир-Хан-Шуре
Бадави Саидовым (Ислам на терри-
тории бывшей Российской империи:
Энциклопедический словарь. Вып. 4.
М., 2003. С. 27-29). Автор статьи, не
знавший русского и через переводчика
познакомившийся с каким-то выступле-
нием «Мусульманина» (возможно, все с
той же статьей «Реформаторы ислама»),
похоже, существенно радикализовал
взгляды на судьбы ислама, высказывав-
шиеся в журнале (Джаридат Дагистан.
1917. 9 авг. Цит. по: Хашхожева Р.Х.
Кази-Бек Ахметуков. С. 29-30).
100 В письме к Хаджетлаше от присяж-
ного поверенного И.П. Бессарабова
21 ноября 1912 г. сообщается, что
формальная процедура «примири-
тельного разбирательства» подходит
к концу, что затянулась она в связи
с необходимостью присутствия каж-
дого из пяти обвиняемых в Санкт-
Петербурге и сложностью отыскания
их адресов и что после 29 ноября он
рассчитывает передать дело в суд. Год
спустя, 17 ноября 1913, Хаджетлаше
шлет Бессарабову открытку, желая
знать, когда будет назначено дело,
дабы он «мог покончить с этой гнус-
ностью раз и навсегда», но открытка
возвращается к отправителю (BDIC,
F delta res 914 (3) (2)).
101 Россия. 1912. № 2009. 2 (15) июня.
С. 1 (первая часть статьи - в № 2008.
1 (14) июня. С 1-2). Статья вызвала
возмущенную реакцию мусульман.
«Мусульманская газета» обвиняла
как «Россию», которая «черпает свои
сведения о мусульманах от cher ami
Парижских апашей - мусье Achmet'a»
(1913. 25 мая. С. 4), так и сами ее ис-
точники в наветах и непонимании
«корня мусульманского братства»,
каковое ничем не отличается от брат-
ства христианского, а противостояние
порождено агрессией самой Европы
(1912. 12 окт. С. 2-3). Последний
аргумент, впрочем, почти дословно
совпадал с тем, о чем писал Аллаев.
Что же до отмеченного здесь факта
«дружбы» Аллаева и «парижских
апашей» (читай: Хаджетлаше), не
ясно, было ли это лишь указанием на
сходство их высказываний, догадкой
или неуверенным знанием. Отмечу,
что впоследствии Аллаев не пре-
минет напомнить Сыромятникову о
том, «как он провалил» при выборах
в IV Думу Максудова, Гайдарова,
Тукаева - благодаря его статьям в
«России» и «Казанском Телеграфе»
(ИРЛИ. Ф.655. Д. 15. Л. 33. 13.02.
Мусульманский Азеф, или Игра в Другого... I см
о I Игра в Другого
1913). Обычно, впрочем, их провал
связывают с более конкретными
действиями администрации в ходе
выборов (см., в частности: Ямаева ЛА.
Мусульманский либерализм).
102 Письмо к Нине Константиновне Гер-
нет (BDIC, F delta res 914 (3) (2)).
Н.К. Гернет, родом из Пятигорска
(1864-?), активная деятельница меж-
дународного и российского теософ-
ского движения, была в 1912-1914 гг.
одним из постоянных корреспонден-
тов семьи Хаджетлаше (см. о ней:
Лебедева Е. С. История российского тео-
софского общества //http://theosophy.
ru/history.htm). Считается, что в 1897 г.
она эмигрировала в Англию, но ее
письма приходят в дом Хаджетлаше из
Царского Села, где она, видимо, тогда
жила, как и из Пятигорска или Женевы.
Возможно, именно она вызвала инте-
рес к теософии в семье Хаджетлаше.
Его жена опубликовала по меньшей
мере одну статью («Теософия и
мусульманки: из бесед с единоверка-
ми») в «Вестнике теософии» (1912.
№ 12. С. 1-6). Редактор «Вестника»
А.А. Каменская - друг Гернет и еще
один из корреспондентов семейства.
Учение теософа Р. Штейнера особен-
но сильно скажется на мировидении
Магомет-Бека в его последние годы,
как и на выборе пути его дочерьми.
103 Говоря о растрате, Магомет-Бек, воз-
можно, имеет в виду Г. Баймбетова -
«проевшего», напомню, 80 рублей
и не принятого работать в «В мире
мусульманства» за связи с Ш. Муха-
медиаровым. До того редакция «Му-
сульманина» вела с Баймбетовым
активную переписку; он перево-
дил на татарский один из романов
Хаджетлаше; ему же, когда он был в
ссылке, Хаджетлаше предлагал устро-
ить побег, от которого тот отказался
(ГАРФ. Ф. 102. ДП ОО. 1911. Д. 74,
ч. 28, л А. Л. 4-5), но сведения о том,
как поступить учиться во Франции,
спрашивал в той же редакции (BDIC,
GF delta res 124 (5) (2) (1)). В осталь-
ном речь идет, очевидно, о Датиеве.
104 ИРЛИ. Ф. 655. Д. 15. Л. 37-38. Кому
из многочисленных Ланге, имевших
возможность столкнуться с Аллаевым
и выступавших в прессе, принад-
лежит переданное Сыромятниковым
Аллаеву «сочетание», мне выяснить
пока не удалось. А жаль: это могло
бы указать на отзвук нашей исто-
рии за пределами мусульманского
общественного мнения, как и на то, не
удалось ли общественности уже тогда
отождествить Аллаева и Хаджетлаше
(вспомним и связь между ними, на-
меченную Габиевым; см. примеч. 101).
105 РГИА. Ф. 821. Оп. 8. Д. 1203. Л. 17.
106 Мусульманин. 1911. № 24. С. 984-985.
Курсив мой. - О. Б.
107 Разработанная в исламе концепция
такиййа, «благоразумного скрывания
своей веры» при условии «мысленной
оговорки», чаще в ситуации смертель-
ной опасности для верующего, нередко
рассматривается исследователями как
оправдание притворства и умолчаний
(диссимуляции) и в иных сферах по-
ведения. В западнохристианском мире
как диссимуляция (претензия на то,
что нет чего-то, что в действительно-
сти есть), так и симуляция (претензия
на то, что есть что-то, чего в дейст-
вительности нет) также находили
свое этическое оправдание и практи-
ческое использование (см., например:
CavailleJ.-P. Dis/Simulations : Religion,
morale et politique au XVIIe siecle. P.,
2002. Cp.: Davis N.Z. Op. cit). Но напря-
мую связать стратегию Хаджетлаше
с каким-либо из этих принципов мне
представляется, по крайней мере на
данном этапе исследования, неоправ-
данным. О неизбежности «приукраши-
вания правды» в современной культу-
ре см. также: Nyberg D. The Varnished
Truth: Truth Telling and Deceiving in
Ordinary Life. Chicago, 1993.
108 А казалось бы, как то предполагает
Л. А. Ямаева (Ямаева ЛА. «Мусуль-
манский Азеф»), «жандармские орга-
ны» после его разоблачения должны
были отказаться от услуг этого «тайно-
го агента». Рассматривая Хаджетлаше
как жандармского агента (на том осно-
вании, что, хотя он и был «завербован»
директором ДДДИИ, деньги ему шли
от Особого отдела ДП; в действитель-
ности - из специальных средств МВД,
см., в частности: РГИ А. Ф. 821. Оп. 133.
Д. 449. Л. 43об.), исследовательница,
как мне представляется, апеллирует к
устоявшимся в русистике негативным
коннотациям понятия «жандармерия»
и принижает уровень, на который
удалось Хаджетлаше проникнуть. Об
иерархии полицейских структур см.:
Перегудова З.И. Политический сыск в
России: 1880-1917. М„ 2000.
109 РГИА. Ф. 821. Оп. 8. Д. 1203. Л. 17.
Перевод одного в Тифлис, другого
в Елисаветполь был неосуществим,
поскольку в этих городах либо не
было нужных родов войск, либо ва-
кансий. Он осложнялся еще и само-
стоятельностью Воронцова-Дашкова
в отношениях с правительством.
Переписку Столыпина с кавказской
администрацией по этому поводу,
тянувшуюся так долго (по меньшей
мере с января по сентябрь 1910 г.), что
сам Столыпин успел, кажется, забыть,
о чем шла речь, см. в: ГАРФ. Ф. 102.
ДП ОО. 1910. Д. 74, ч. 1. Л. 21-23, 32,
47-50, 52,68,211.
ио РГИА. Ф. 821. Оп. 8. Д. 1203. Л. 50,
59 (в деле говорится о Байматове, но,
видимо, так транскрибирована фами-
лия Гилемдара Баймбетова). Не ясно,
вызвано ли это ходатайство отказом
Баймбетова от предложенного ему
Хаджетлаше побега или, наоборот, по-
бег был предложен в связи с отказом в
ходатайстве.
1П Характерно, что, отправившись в «цен-
тры мусульманства» в марте 1911г.,
Хаджетлаше просил у Харузина его
визитную карточку - в качестве ре-
комендации для визита к начальнику
Кубанской области Бабичу. Харузин
в карточке отказал (такая форма ре-
комендации не принята), но был готов
дать рекомендации по телефону, буде
таковые понадобятся (РГИА. Ф. 821.
Оп. 8. Д. 1203. Л. 69).
1,2 Письмо Нефедьева от 3 февраля
1911г. (Там же. Л. 64).
113 Там же. Л. 53. Речь шла о статье Датиева
«Приказ или травля» (Мусульманин.
1910. №21. Сент.).
114 Письмо Хаджетлаше Харузину от
8 февраля 1911 г. (РГИА. Ф.821. Оп. 8.
Д. 1203. Л. 60). Письмо Нефедьева от
3 февраля (датированное по старому
стилю), видимо, отвечает именно на
это письмо Хаджетлаше (см. примеч.
112). Харузин передает также, что в
субсидии Хаджетлаше не отказывают
и не собирались отказывать, что пре-
кращение издания остается целиком
на усмотрение редактора, но что обре-
тение журналом того значения, кото-
рое приписывает ему последний, тре-
бовало бы гораздо больших средств,
чем можно найти (Там же. Л. 64).
110 Там же. Л. 65, 66.
116 Отзвуки этой договоренности можно
усмотреть в том же письме Хадже-
тлаше от 8 февраля 1911 г. Однако
еще в конце января речи о том, что в
1912 г. журнал выходить не будет, не
идет: наоборот, Харузин одобряет идею
сделать к нему бесплатное приложе-
ние- «Татарско-русско-французский
словарь», но при условии, что это не
увеличит размера субсидии (Там же.
Л. 59). Так что нельзя исключить, что
предъявленная Хаджетлаше Харузину
в феврале альтернатива прекратить
издание немедленно или лишь с 1912 г.
целиком была формой шантажа.
117 Письмо Нефедьева Хаджетлаше от
8 октября 1910 г. (Там же. Л. 54). См.
также присланные по этому поводу
Мусульманский Азеф, или Игра в Другого... I <м
о
о
л
CQ
стЗ
Cl,
S
282
в ДДДИИ разъяснения начальника
Главного управления почт и теле-
графов (РГИА. Ф. 821. Оп. 8. Д. 834.
Л. 312). Такие бандероли попросту от-
правляли обратно, поскольку взимать
пошлины с каждой в отдельности
было неудобно. Вопрос о пошлинах
на «Мусульманин» был еще более
заострен упомянутым выше поста-
новлением об ограничении подписки
(принятым как раз в конце 1910 г.);
закон же о таможенных пошлинах на
русскоязычные заграничные издания
действовал и раньше.
118 «Организацию» газеты Хаджетлаше,
напомню, начал еще в марте 1911 г.,
во время своей поездки; первое обсуж-
дение с Харузиным идеи основать из-
дание в Питере относится к февралю
1910 г. (Там же. Д. 1203. Л. 27).
119 Там же. Л. 76а-76б.
120 Там же. Оп. 133. Д. 449. Л. 25-28;
Ф. 776. Оп.Э.Д. 2249. Л. 1-2.
121 Убедительное предположение, что
ряд записок Столыпина по мусуль-
манскому вопросу был подготовлен
А.Н. Харузиным, см. в: Арапов Д.Ю.
Система государственного регулиро-
вания ислама в Российской империи
(последняя треть XVIII - начало
XX в.). М„ 2004. С. 197-198.
122 Он стал товарищем министра вну-
тренних дел, а в 1913 г. - сенатором.
Последнее, возможно, было «почет-
ной ссылкой»: Харузин, как кажется,
не находил понимания с политиками,
сменившими Столыпина после его
гибели, и в конце концов ушел с госу-
дарственной службы: Керимова М.М.,
Наумова О.Б. А.Н. Харузин - этнограф
и антрополог // Репрессированные
этнографы. М., 1999. Вып. 1. С. 166.
123 Собрание, как мы помним, состоя-
лось 27 ноября, письмо Хаджетлаше
датировано 6 декабря. В том случае,
если ноябрьская дата дана по старому
стилю, а дата письма - по новому, оно
написано до собрания.
124 BDIC, F delta res 914 (6) (2). Это же
письмо дает основания думать, что
предполагался переезд редакции в
Питер: Хаджетлаше вместе с состав-
ленным им «штатом» готов был «не-
медленно отправиться в путь».
125 РГИА. Ф. 821. Оп. 8. Д. 1203. Л. 90, 94.
126 Помимо разбросанных по разным
делам МВД сообщений о пересылке
«Мусульманина» и «В мире мусуль-
манства» (как и самих сохранившихся
там изданий) и упоминаний тех или
иных произведений Хаджетлаше в
переписке с Харузиным, в архивах
ДДДИИ представлено дело под на-
званием «Гаржислахе “Турецкая
революция”. Очерк об эпохе, пред-
шествовавшей и последовавшей после
государственного переворота (руко-
пись на французском яз.” (так. - О. Б.).
Б.д. На 119 листах» (РГИА. Ф. 821.
Оп. 133. Д. 640). Однако подпись под
текстом четкая: «Par Mahomet-Beck
de Hadjetlache». Судя по почерку (но
в ожидании экспертной оценки), пере-
вод сделан женой Хаджетлаше. О его
плохом знании французского говорит
его поздняя переписка с семьей: из
стокгольмской тюрьмы он не только
прямо пишет, что начал изучать фран-
цузский, но в письмах своих на фран-
цузском зачастую то или иное слово
сопровождает в скобках целым рядом
синонимов, что выдает неумелое ис-
пользование словаря.
127 Пометки свидетельствуют, что «Пу-
тевые заметки» 1909 г. внимательно
читал и П.А. Столыпин (ГАРФ.
Ф. 102. ДП ОО. 1910. Д. 74, ч. 1. Л. 17).
128 РГИА. Ф. 821. Оп. 8. Д. 1203. Л. 16.
129 На связь двух «угроз» указывала еще
книга В.П. Васильева «О движении
магометанства в Китае» (СПб., 1867).
Идея взаимозависимости между
панисламизмом и китайским вос-
станием Ихэтуань высказана в таш-
кентской записке 1900 г. (или 1899 г.)
В.П. Наливкина, чиновника при
генерал-губернаторе Туркестанского
края, «О возможных соотношениях
между последними событиями в
Китае и усилением панисламистского
движения» (Арапов Д.Ю. Указ. соч.
С. 154-155), что вторило дикуссиям,
ведшимся в связи с тем же восстани-
ем, между «восточниками» и «запад-
никами» с участием Сыромятникова
(Межуев Б. Указ. соч.). Ассоциации
между двумя угрозами во время и
после русско-японской войны отме-
чает Е. Воробьева-Кэмпбелл (Воро-
бьева Е.И. Мусульманский вопрос
в имперской политике Российского
самодержавия: 2-я пол. XIX в. - 1917 г.:
Дис.... канд. ист. наук. Ин-т рос. истории
РАН, С.-Петерб. филиал, 1999. С. 87).
В рассматриваемые мною годы такие
ассоциации порой вновь становились
актуальными (см. ниже о циркуляре
МВД 1913 г.) - впрочем, иной раз, воз-
можно, под влиянием Хаджетлаше: 31
декабря 1910 г. начальник Тифлисского
ГЖУ полковник Пастрюлин (в чьи
двери, нельзя исключить, Хаджетлаше
был вхож) информировал Особый от-
дел о статье из газеты «Баку» «Ислам
в Китае и Японии», сообщавшей «о
развитии в этих странах идеи панисла-
мизма» (ГАРФ. Ф. 102. ДП ОО. 1911.
Д. 74, ч. 1. Л. 1-3). На полях письма по-
метка сотрудника Отдела: «В Японии,
между прочим, мусульман вовсе нет».
Последнее неверно. Именно там пы-
тался организовать мусульманскую
общину, и действительно в «панисла-
мистском» духе, эмигрировавший из
России Р. Ибрагим(ов), о чем доходили
слухи и до российских полицейских ор-
ганов (НАРТ. Ф. 199. On. 1. Д. 722. Л. 6,
44,72-76; Ф. 51. Оп. 10. Д. 365. Л. 652).
130 По наблюдениям Воробьевой-Кэмп-
белл, одно из первых употреблений сло-
ва «панисламизм» в лексиконе русской
администрации встречается как раз в
названной записке из Туркестанского
края (исследовательница приписыва-
ет ее не Наливкину, а генерал-губер-
натору Духовскому), а «магометанский
вопрос», формировавший контекст для
такого «панисламского» наваждения,
поставил еще в 1867 г. оренбургский
генерал-губернатор Н.А. Крыжанов-
ский (Воробьева Е.И. Указ. соч. С. 37-
38). А.Н. Харузин был обеспокоен
этими проблемами задолго до встречи
с Хаджетлаше, в период своих этногра-
фических исследований (кон. 1880 -
перв. пол. 1890-х гг.), включавших
мусульманские районы (Крым, Кавказ,
киргизскую Букеевскую степь);
П.А. Столыпин мог обратить внимание
на «мусульманский вопрос» в бытность
свою саратовским губернатором в По-
волжье в 1903-1906 гг. (АраповД.Ю.
Указ. соч. С. 196, 198; Керимова М.М.,
Наумова О.Б. Указ. соч.).
131 Прямое воспроизведение Столы-
пиным «Путевых заметок» Хадже-
тлаше см. в цитированной выше
(примеч. 109) его переписке с Во-
ронцовым-Дашковым. Хотя оценить
в целом степень влияния Хаджетлаше
на складывание дискурса о панисла-
мизме, как раз в силу его стереотипно-
сти, сложно, можно подозревать, что
именно Магомет-Беку принадлежат
некоторые «базовые» фрагменты
текстов МВД по мусульманскому
вопросу, переходившие из одной
справки в другую вплоть до 1916 г.
(справки составлялись, как это свой-
ственно бюрократической практике,
путем компиляции). Таковы части
текста от апреля 1910 г., названного
Д.Ю. Араповым «первичной справкой
о панисламизме» (Арапов Д.Ю. Указ,
соч. С. И): здесь усматриваются не
только мотивы «Путевых записок»
от декабря 1909 г., но и клише, прямо
приписанные перу Хаджетлаше впо-
следствии, в обзоре, составленном
в Особом отделе в 1913 г. (ГАРФ.
Ф. 102. ДП ОО. 1913. Д. 194. Л. 50).
Ему, возможно, принадлежит и мо-
Мусульманский Азеф, или Игра в Другого... 1<м
& Игра в Другого
тив возникновения панисламизма в
Африке, дополнивший «первичную
справку» и также доживший до 1916 г.
(«поставщиком» этого мотива стал
текст, вышедший в 1910 г. все из того
же Тифлисского ГЖУ: ГАРФ. Ф. 102.
ДП ОО. 1910. Д. 74. Л. 162-176). Ср.
справку от января 1911 г. (с прямыми
цитатами как из «Путевых заметок»,
так и из «Мусульманина»), воспро-
изведенную в марте 1912 г. в докладе
директора ДП С.П. Белецкого (опубл.:
АршаруниА., Габидуллин X. Очерки
панисламизма и пантюркизма в
России. М.; Л., 1931. С. 101-113).
132 Официальное название совеща-
ния - «Особое совещание по вы-
работке мер для противодействия
татарско-мусульманскому влиянию
в Поволжском крае»; речь же шла
о панисламизме по преимуществу.
В нем участвовали представители
МВД, Министерства просвещения,
Св. Синода, Русской Православной
Церкви, некоторые губернаторы.
Подробнее см.: Воробьева Е.И. Указ,
соч. С. 123-132; Geraci R. Russian
Orientalism at an Impasse: Tsarist
Education Policy and the 1910 Confe-
rence on Islam // Russia’s Orient:
Imperial Borderlands and Peoples,
1700-1917 / Ed. by D.R. Brower,
E.J. Lazzerini. Bloomington, 1997.
P. 138-161; Bessmertnaia O. Le « panis-
lamisme »). В том же 1910 г., видимо,
в связи с этим совещанием в Особом
отделе ДП была заведена специальная
рубрика дел по «панисламизму», куда
и поступали упомянутые выше справ-
ки. Так панисламизм встал в один ряд
с оппозиционными политическими
партиями, как эсеры и эсдеки. На ме-
стах (например, в Казани) отдельные
подобные дела появляются раньше.
133 РГИА. Ф. 821. Оп. 133. Д. 449. Л. 40.
Одним из выдающихся индийских
панисламистов был объявлен здесь
сотрудник «Мусульманина» 1910 г. -
князь Измаил Баракай-Окка из
Бомбея.
134 РГИА. Ф. 821. Оп. 133. Д. 449.
Л. 40об.-45.
13э См. о нем: Перегудова З.И. Указ. соч.
Особенно С. 53-57.
136 ГАРФ. Ф. 102. ДП ОО. 1913. Д. 194.
Л. 87.
137 Там же. Д. 174. Л. 109, ИЗ; РГИА.
Ф. 821. Оп. 133. Д. 528. Л. 244-246.
138 ГАРФ. Ф. 102. ДП ОО. 1913. Д. 365.
Л. 13-25 и др.
139 Сам он, впрочем, сообщает, что по-
ездки его длились с февраля по июль
(Там же. Д. 194. Л. 1), что затем будет
повторяться в справках о нем, подго-
тавливавшихся в Особом отделе. Но
первое письмо его из Ташкента прихо-
дит, видимо, не в феврале, а в апреле
1913 г. (в рукописи дата, проставлен-
ная римской цифрой, может читаться
как II и как IV, но именно IV увидела
машинистка, перепечатывавшая руко-
пись; апрельский же штемпель стоит
на конверте (Там же. Д. 365. Л. 6а-6в,
11-12). Это существенно, поскольку в
марте он, возможно, занимался сход-
ной деятельностью, но во внутренней
России.
140 Включившие Китай донесения Хадже-
тлаше составлены сразу вслед за выхо-
дом в марте 1913 г. на фоне революцион-
ных событий в Китае циркуляра МВД,
призывавшего обратить внимание на
«возбужденное состояние мусульман в
связи с Балканской войной» и на воз-
можную поддержку ими китайцев в
случае войны с Китаем (ГАРФ. Ф. 102.
ДП ОО. 1913. Д. 74, ч. 1. Л. 25-25об.).
Циркуляр стал поводом для полемики
мусульман с государством, в частности
со стороны «Мусульманской газеты»,
и - отмечу прозорливость Габиева-
как раз в связи с этим он вспоминал
Хаджетлаше (Мусульманская газета.
1913. №18.25 мая).
141 ГАРФ. Ф. 102. ДП ОО. 1913. Д. 194.
Л. 16-22; ср. письмо Хаджетлаше мини-
стру внутренних дел Маклакову - уже
от 1914 г. (Там же. Л. 70 -72,75-76).
142 РГИА. Ф. 821. Оп. 8. Д. 1203. Л. 17.
143 Записка «Из путевых впечатле-
ний» (ГАРФ. Ф. 102. ДП ОО. 1913.
Д.365. Л. 13-25, 64-69об.) отчет-
ливо идентифицирована. Записка
«О Самаркандской области» (Там же.
Л. 7-8, 61-63) рассылается вместе с
ней (обе записки притом имеют об-
щий номер, указанный в картотеке ДП
в карточке Хаджетлаше), и, похоже,
рукописные вставки в машинописном
оригинале сделаны его почерком.
Записка эта вместе с вырезкой газет-
ной статьи, критикующей думскую
мусульманскую фракцию (очевидно,
из «России» - Там же. Л. 6г), видимо,
была вложена с письмом в конверт,
адресованный Никите Антоновичу
Золотарю для С.П.Б. (вряд ли для
кого-то иного, как С.П. Белецкого).
Письмо, рукописное и также об-
рисовывающее положение дел в
Туркестане, подписано «Янычар»
(Там же. Л. 6а-6в, перепечатка: Л. 11-
12об.). Если мое предположение об
авторстве Хаджетлаше верно, это
означает, что ему пытались дать аген-
турное имя и секретный адрес - но их
использование дальше одного письма,
вероятно, не пошло.
144 Азиатский департамент - структура
МИДа. Впрочем, и военное ведомство
имело аналогичную структуру.
145 По обвинению в шпионаже в пользу
Турции Ф. Каримов, как и многие
другие деятели мусульманского дви-
жения, был репрессирован в период
сталинских чисток.
146 Дагестани писал не только в «Каспии»,
но прежде и в «Мусульманском отде-
ле» «Новой Руси», а также выступал с
обзорами российской мусульманской
прессы в парижском « Revue du monde
musulman ». Хаджетлаше, с оговоркой
«кажется», называет его фамилию и
местожительство: Султанов, пишу-
щий из Петербурга. На этот псевдо-
ним претендовал, однако, Джейхун
Гаджибейли, известный азербайджан-
ский общественный деятель (см.: Как
была создана первая азербайджанская
опера // Из воспоминаний Джейхуна
Гаджибейли, соавтора оперы «Лейли
ве Меджнун»: http://southcaucasus.
org/Jeyhun_Hajibeyli.htm).
147 Приведенные до сих пор в этом
абзаце цитаты - из записки
«О Самаркандской области». Неслу-
чайность для Хаджетлаше упоми-
наемых здесь имен служит, на мой
взгляд, одним из подтверждений его
авторства в указанных неподписан-
ных корреспонденциях из Туркестана
и Средней Азии.
148 Письмо Янычара Золотарю для С.П.Б.
Правда, здесь Датиев имеет иной
инициал, чем редактор «В мире му-
сульманства», - И. Датиев. Это может
быть опиской, забывчивостью или со-
знательным запутыванием ситуации,
как может и попросту подразумевать
другого Датиева.
149 «О Самаркандской области».
150 ГАРФ. Ф. 102. ДП ОО. 1913. Д. 194.
Л. 50-55.
151 Там же. Д. 174: «О съезде мусульман-
ских студентов в Киеве». Подозревать,
что «агентурным источником» был
Хаджетлаше, позволяет не только при-
сутствие его визитной карточки в этом
деле (Л. 9), но и резолюция Белецкого
о командировании Хаджетлаше в
Поволжье, поставленная прямо на до-
несении Казанского ГЖУ о подготов-
ке этого съезда (Л. 113, 109-112, особ.
Л. 109). И наконец, уже встречавший-
ся нам прием, появление «неизвест-
ного лица»: сообщается, что студенты
планировали террористические акты,
но «не против правительства, а про-
тив вредных (с точки зрения партии)
элементов среди мусульман», из-
вестных мусульманских консервато-
ров, список которых заканчивается
Мусульманский Азеф, или Игра в Другого... I см
О) I Игра в Другого
словами: «и еще какое-то лицо в
Петербурге»- (Л. 121- 122об.) - не
Хаджетлаше ли?
152 Субсидия опять требуется немалая:
120 тыс. руб. на издательство и 25 тыс.
на газету. Для «скромного» возобнов-
ления «Мусульманина» достаточно
10 тыс. руб.: Там же. Д. 194. Л. 28-29,
50-55, 64-68, 78-82, 89-93 и др.
153 См. особенно доклад о зарубежной
мусульманской прессе, критикующей
два решения русского правительства:
о водворении на местожительство
киргизов-киреевцев, самовольно пе-
реселившихся из Монголии в Россию,
и о выдаче турецкому правительству
одного из политических эмигрантов
из Турции (Там же. Л. 50-55). В пред-
варяющем доклад письме Белецкому
Хаджетлаше пишет: «...как тяжело
молчать, не имея возможности отве-
тить им по достоинству и разъяснить
русским мусульманам, в чем дело и
как нужно отнестись к завываниям
злобствующих против России газет»
(Там же. Л. 15). Однако в докладе
между строк о злостном мусульман-
ском единении читаем детальное из-
ложение критики этих решений.
154 Этот критический анализ туркестан-
ских записок Хаджетлаше, заслужи-
вающий специального рассмотрения
(автор стремится отделить миф от
реальности, оставаясь внутри мифа),
прислан в Особый отдел в июне
1913 г. и принадлежит начальнику
Пермского ГЖУ, в прошлом - на-
чальнику Туркестанского охранного
отделения. Он сравнивает эти записки
с теми, что получал тогда от штаба
Туркестанского военного округа: Там
же. Д. 365. Л. 80-83об.
155 «Прагматики» необязательно были
работниками на местах. Еще в 1910 г.
министр иностранных дел Сазонов
писал товарищу министра внутрен-
них дел Курлову: «Принося Вашему
Превосходительству мою искреннюю
благодарность за сообщенные мне
в доверительном письме сведения о
положении дел в Бухарском ханстве,
не могу не высказать, что значитель-
ная часть сообщенных Вам агентами
МВД фактов носит, по моему мне-
нию, безусловно характер толков
и слухов, которыми всегда полны
восточные базары». Он выражал при
этом понимание всей сложности си-
туации, ссылаясь на «преувеличения,
свойственные туземцам-разведчи-
кам, через коих приходится осведом-
ляться» (ГАРФ. Ф. 102. ДП ОО. 1910.
Д. 74, ч. 1. Л. 203-204).
156 См. шаблон рассылки текстов «Из
путевых впечатлений» и «О Самар-
кандской области» по губернским
жандармским управлениям (ГАРФ.
Ф. 102. ДП ОО. 1913. Д. 365).
137 Там же. Д. 194. Л. 69, 73-74.
158 Там же. Д. 365. Л. 71, 78-79.
139 Там же. Д. 194. Л. 15 (резолюция на
письме Хаджетлаше Белецкому),
Л. 64 (об указании министра внутрен-
них дел, тогда уже Н.А. Маклакова,
подготовить справку для обсуждения
в Совете министров).
160 «Из путевых впечатлений».
161 Фрагмент резолюции делопроизво-
дителя (М.М. Рукавичникова) на
справке Охранного отделения 1916 г.
(ГАРФ. Ф. 102. ДП ОО. 1913. Д. 194.
Л. 87).
162 Нив одном из известных мне прави-
тельственных источников так и не
прозвучат подозрения о еврействе
М.-Б. Хаджетлаше.
163 ГАРФ. Ф. 102. ДП ОО. 1913. Д. 194.
Л. 89-93, 15 мая 1916 г. Справка, как
обычно, составлена методом компи-
ляции; не только о направлении его
изданий, но и об «искренной располо-
женности» Хаджетлаше к России из
Особого отдела писали разъяснения
«вниз» еще раньше (см., например,
такой текст 1911 года в: Ямаева Л.А.
«Мусульманский Азеф». С. 201). Но
последовательность фрагментов пре-
вращает упоминание об отвержении
мусульманами Хаджетлаше в допол-
нительный аргумент, а вставка «по...
вполне достоверным сведениям» уси-
ливает позитивную характеристику
Хаджетлаше.
164 В марте 1913 г., видимо, перед от-
правкой Хаджетлаше в Туркестан,
ДДДИИ пересылает Белецкому дело
Хаджетлаше, наверное, по его запросу
(РГИА. Ф. 821. Оп. 8. Д. 1203. Л. 96), и
оно, судя по результатам, его удовлет-
воряет; но в январе 1914 г., незадолго
до своего ухода с поста директора ДП,
он снова посылает запрос о «значе-
нии» «Мусульманина» теперешнему
директору ДДДИИ Е.В. Менкину
(ГАРФ. Ф. 102. ДП ОО. 1913. Д. 194.
Л. 58-59), причем характерна правка
в письме: вместо слов из справки о
Хаджетлаше «весьма благожелатель-
но относящийся ко всем начинаниям
и мероприятиям русского правитель-
ства» читаем «проводивший в этом
органе, судя по направлению таковою,
политику, отвечающую, по-видимому,
мероприятиям русского правитель-
ства» (курсив мой. - О. Б.); впрочем,
правка могла быть вызвана не столько
или не только сомнениями, но и жан-
ром письма: это был вопрос.
165 Резолюция 22 октября 1914 г. «по
приказании Г.[ Господина! Товарища
министра [внутренних дел]» на копии
письма Хаджетлаше министру вну-
тренних дел Маклакову, подготовлен-
ной для отправки министру иностран-
ных дел Сазонову (Там же. Л. 69).
166 Резолюция на справке с предложения-
ми об основании издательства и газе-
ты, которую «Господин Директор из-
волил приказать приобщить к делу»,
26 апреля 1914 г. (Там же. Л. 78).
167 Там же. Л. 85,88,95. Ср. также письмо
Сыромятникова Белецкому еще де-
кабря 1913 г.: он спрашивал, стоит ли
Хаджетлаше приезжать в Петербург, и
присовокуплял, что это целесообразно
«только в том случае, если он действи-
тельно может получить здесь какую-
нибудь работу» (Там же. Л. 11).
168 В 1915 г. Сыромятников командиро-
ван в Америку {Сыромятников БД.
Указ. соч. С. 101 и др.). Но где он в
1914 г.?
169 Сохранился, например, ряд писем к
Хаджетлаше от С. (?) Челеби, выход-
ца из России, живущего в Женеве; в
одном из них автор, рассказывая о кон-
ференции младотурок во Франции,
вполне откровенен с письмополучате-
лем, говоря об объединении исламско-
го мира, деле независимости и роли
«культурного класса» в этом (BDIC
GF delta res 124 (5) (2) (1)).
170 Одесский M., Фельдман Д. Указ. соч.
С. 66-67; Тютюкин С.В. Вокруг со-
временных дискуссий об Азефе //
Отечественная история. 1992. № 5.
С. 179—183:.ПрайсманЛ.Г. Террористы
и революционеры, охранники и про-
вокаторы. М., 2001.
171 Так, в апреле 1911 г. секретарь редак-
ции «Мусульманина» пишет Ф. Кари-
мову, что Магомет-Бек «копию по-
становления губернатора показал в
Петербурге, где следует. После этого
таких происшествий, вероятно, не
будет» (НАРТ. Ф. 1370. On. 1. Д. 22.
Л. 30-30об.; опубл.: Фатих Карими:
Науч.-библиограф. сб. Казань, 2000.
С. 258). О каком именно постановле-
нии идет речь, неизвестно - вероятно,
об аресте или штрафе на «Вакыт»,
ответом на который была и цитиро-
ванная выше (с. 223) статья в «В мире
мусульманства» (ср. такие поста-
новления в: НАРТ. Ф. 1370. On. 1.
Д. 5). Но возможности «выхода»
Хаджетлаше в высшие сферы здесь
названы откровенно.
172 Пора сказать о Г.С. Баймбетове (1886-
1933) подробнее. Уроженец Уфимской
губернии, учился в Татарской учитель-
ской школе в Казани, в 1906 г. был аре-
Мусульманский Азеф, или Игра в Другого... I см
co I Игра в Другого
стован как эсер, из-под гласного над-
зора полиции бежал, скрывался (и как
будто пытался вновь поступить в
школу по подложному свидетельству),
был вновь арестован в 1907 г., в 1908 г.
сослан в Вологодскую губернию на
три года (НАРТ. Ф. 199. On. 1. Д. 383,
609). К 1917 г. принял сторону боль-
шевиков, в 1917-1918 участвовал в на-
циональной политике, в 1922-1923-
член Бухарского ЦИК и коллегии
Наркомата просвещения, в 1924-1925
работал в Центральном издательстве
народов Востока. Репрессирован в
1933 г. по делу «Националистической
контрреволюционной повстанческой
организации» в Казани (Татарский
энциклопедический словарь. Казань,
1999. С. 57, 390). После возвращения
Баймбетова из ссылки в С.-Петербург
в 1911 г. Ш. Мухамедиаров просил в
письме в Казань устроить его там со-
трудником одной из газет и, как сооб-
щает полицейский наблюдатель, «гово-
рил о нем, что он надрывает ему душу,
т. к. ходит голодный и холодный...
Баймбетов приехал в С.-Петербург ра-
ботать в газете “В мире мусульманства”,
но туда его не берут; он много говорит и
страшно всех ругает, ставит себе целью
работать на благо мусульманского про-
летариата, по-своему доказывает, что
в Турции развивается капитализм, но,
замечает Мухамедиаров, “до появления
в Турции пролетариата Баймбетов по-
мрет с голода и станет добычей червей”.
По его мнению, Баймбетов своим пове-
дением “дискредитирует как социализм,
так и самого себя”» (ГАРФ. Ф. 102. ДП
ОО. 1911. Д. 74, ч. 28, л А. Л. 1; НАРТ.
Ф. 51. Оп. 10. Д. 365, Л. 444).
173 ГАРФ. Ф. 102. ДП ОО. 1911. Д. 74,
ч. 28л А. Л. 4-5; НАРТ. Ф. 51. Оп. 10.
Д. 365. Л. 444.
174 Пример этого различения встреча-
ем в цитированной статье Аллаева:
«Переворот в Турции понят ими как
начало возрождения мусульманства,
но не с культурной стороны, а с за-
воевательной», - говорит автор о рос-
сийских «лакеях» младотурецких «па-
нисламистов» (Россия. 1912. №2009.
2 (15) июня).
Об инвертируемости позитивного
и негативного ликов «европейской
культуры» в этом контексте см/.
Бессмертная О. Текст и поступок.
176 Подробнее см.: Bessmertnaia О. Le
« panislamisme ». В рассматриваемый
период - в отличие от предшествую-
щих лет - в мусульманской политике
государства обнаруживается некоторая
осторожность относительно обучения
мусульман на «европейский манер»
и скептицизм по поводу перспектив
их «приобщения» к русской культуре.
«Сближение» мусульман «со всем
русским», как правило, оставалось (не-
достижимым) идеалом. Но здесь стали
усматривать и угрозу: предполагалось,
что, воспринимая новые навыки, му-
сульмане лишь усиливали присущий
их собственной культуре опасный
потенциал. Как считает Р. Суни, мо-
дернизация окраин «изнутри» таила
в себе опасность потому, что лишала
имперскую власть идейных основа-
ний ее легитимности, заключавшихся
как раз в ее цивилизаторской миссии
там; однако здесь речь идет об угрозе,
которую стали усматривать в самой
этой миссии. Подобное различение
культур лишь способствовало кон-
струированию своей «национальной»
культуры (и культур) мусульманами
(как отмечает Суни, стимулирование
метрополией нациестроительства
на окраинах отнюдь не специфично
для российской имперской власти).
См.: Суни Р.Г. Империя как она есть:
имперский период в истории России,
«национальная» идентичность и
теории империи // Национализм в
мировой истории. М., 2007. С. 26-82;
Арапов Д.Ю. Указ, соч.; Кэмпбелл Е.И.
Мусульманский вопрос в России:
история обсуждения проблемы //
Исторические записки. 2001. № 4.
С. 132-157; Noack Ch. State Policy and
its Impact on the Formation of a Muslim
Identity in the Volga-Urals // Islam
in Politics in Russia and Central Asia:
Early XVIII to Late XX Centuries /
Ed. by S.A. Dudoignon, Komatsu H. L.,
2001. P. 3-26; Geraci R. Window on the
East: National and Imperial Identities
in Late Tsarist Russia. Ithaca; L., 2001;
Werth P. At the margins of Orthodoxy:
Mission, Governance, and Confessional
Politics in Russia’s Volga-Kama Region,
1827-1905. Ithaca; L., 2002.
177 Офицерская жизнь. 1908. № 123.
С. 333; Мусульманин. 1911. № 14-17.
С. 692 (курсив мой. - О. Б.).
178 Аллаев А.-Б. Несколько слов по по-
воду статьи «Существует ли панис-
ламизм» (BDIC, GF delta res 124 (4)
(3), эта статья служила ответом на
критику мусульманами его цитиро-
ванной выше статьи в «России»);
Хаджетлаше М.-Б. «Из путевых
впечатлений». Л. 14. Случайно ли со-
впадение этого мотива с тем, что писал
в мае 1911 г. Н.В. Чарыков - русский
посол в Турции в 1910-1912 гг.
(а в 1886-1890 гг. - дипломатический
агент в Бухаре)? См.: Арапов Д.Ю.
Указ. соч. С. 212-213.
179 Ш. Фицпатрик указывает на мани-
пуляцию языком как прием само-
званцев советского периода, отмечая
одновременно тонкость грани, разде-
лявшей самозванчество и «переизо-
бретение себя» обычными советски-
ми людьми {Fitzpatrick Sh. Op. cit.).
Ритуализация языка характерна для
тоталитарных режимов. См., напри-
мер: Magureanu A. Remarques sur le
discours totalitaire // L’Etat des lieux
en sciences sociales. P., 1993.
180 Подробнее см.: Бессмертная О.Ю.
Текст и поступок.
181 Об исламском дискурсе в России:
Kemper М. Sufis und Gelehrte in Tata-
rien und Baschkirien, 1789-1889: Der
islamische Diskurs unter russischer Herr-
schaft. Berlin, 1998; Frank A. Op. cit.
182 Bessmertnaia O. Le «panislamisme»;
Бессмертная О.Ю. Культурный би-
лингвизм? Игра смыслов в одной
скандальной статье (Из истории от-
ношений мусульманских оппозицио-
неров и русских «государственников»
в позднеимперской России) // Россия
и мусульманский мир: инаковость как
проблема. М., 2010. С. 197-383.
183 Мусульманская газета. 1913. № 18
(25 мая).
184 См., например, цикл «Очерки Пари-
жа», подписанный женой Хаджетлаше,
в «Мусульманине» за 1910-1911 гг.
«Культурная столица мира» - клиши-
рованное определение Парижа в этом
журнале.
185 BDIC, GF delta res 124 (5) (2) (1).
Характерно также, что в газете «Ку-
банский край» еще до разоблачения
Хаджетлаше (1911. № 142, 144, 146,
155, 193) состоялась посвященная
«Мусульманину» дискуссия о том,
целесообразно ли «учить горцев из
Парижа». Помимо глухого спора о
роли цензурных соображений в вы-
боре редакцией ее местонахождения,
здесь можно заметить озабоченность,
если не обиду, участников обсуждения
претензией редакции на причастность
Культуре - что, по сути, предполагает
признание этой причастности.
186 Письмо Белецкому, 15.08.1913: ГАРФ.
Ф. 102. ДП ОО. 1913. Д. 194. Л. 6.
187 Там же. Д. 365. Л. 13.
188 Сыромятников БД. Указ. соч. С. 94-95.
189 Старый дядя. За рубежом // Россия.
1912. № 2018 (13/26 июня). С. 2.
190 Амфитеатров А. Бурцевы III. Дядя
Враль // Амфитеатров А. На всякий
звук. СПб., 1913. С. 146-152. Знал ли
Амфитеатров, писавший из Парижа, как
близко от него находился этот «Дядя»?
Аллаев в письме к Сыромятникову реа-
гировал, конечно же, яростно: «...фигляр,
Мусульманский Азеф, или Игра в Другого... 1см
шут и жидовский наймит» (ИРЛИ,
Ф. 655. Д. 15. Л. 34-35).
,9’ BDIC, F delta res 914 (10) (6) (2).
192 Фигура жены Хаджетлаше (действи-
тельное имя которой - также предмет
для интерпретаций), как и их частная
жизнь, заслуживают отдельной длин-
ной истории. Но почерк Айши узнава-
ем в рукописных частях писем Аллаева
в архиве Сыромятникова (что, несо-
мненно, требует проверки эксперта-
графолога). Можно было ожидать, что
за Аллаева пишет брат Хаджетлаше, в
некоторые периоды представлявшийся
его секретарем, однако и секретарь
иной раз получает письма от Аллаева,
предназначенные для третьих лиц.
193 ИРЛИ. Ф. 655. Д. 15. Л. 28. Ле Рэнси
(Le Rainey) одно время был адресом
Аллаева. Этот городок упоминается
еще до переезда семьи Хаджетлаше
из Парижа в Вильмомбль: там живет
сестра Аллаева. Многообещающие де-
тали выяснить пока не удается. У него
был затем и свой адрес в Вильмомбле -
но в описях населения Вильмомбля,
четко фиксирующих проживание там
семейства Хаджетлаше, указанный
дом Аллаева ни в 1911 г., ни в 1921 г.
почему-то не присутствует (Archives
departementales de la Siene-St.Denis,
D2M8-45, Villemomble, 1911; D2M8-
73, Villemomble, 1921).
194 BDIC. F delta res 914 (1) (2) (3).
Мечети в Париже тогда, в 1909 г., еще
не было, но призывы к ее постройке
раздавались; она появилась в 1926 г.
195 Мусульманская сторона упрек в по-
вторяемости проговорила в печати:
он «под десятью псевдонимами в
разных журналах печатал буквально
одно и то же» (Мусульманская газета.
1913. № 18. 25 мая).
196 Воробьева Е.И. Указ. соч. С. 139-147;
Арапов Д.Ю. Указ. соч. С. 225-228.
197 Это цитата из письма оскорбленного
Хаджетлаше с жалобой к Маклакову,
которое приводит Р.Х. Хашхожева
(Хашхожева Р.Х. Кази-Бек Ахмету -
ков. С. 30) (по не ясным мне причи-
нам она называет директором ДП, о
котором идет речь, М.И. Занкевича).
По-видимому, цитируя, исследова-
тельница комбинирует два разных
письма: часть цитаты относится к
письму Хаджетлаше Маклакову, хра-
нящемуся в ГАРФ (Ф. 102. ДП ОО.
1913. Д. 194. Л. 70-72; 75-76), та же
часть, в которой содержатся слова, ци-
тированные здесь, мною пока не най-
дена (ее отзвук, однако, слышен в еще
одном личном письме Хаджетлаше к
Маклакову: BDIC, F delta res 914 (10)
(6) (2)). Более чем кому-либо из пред-
шественников, Р.Х. Хашхожевой уда-
лось обнаружить материалы о нашем
герое. К сожалению, она не приводит
ссылок на большую часть архивных
источников, до выхода ее труда не из-
вестных и в период ее работы в архи-
вах частично закрытых. Справедливо
стремясь преодолеть влияние трак-
товки Л.И. Климовича на исследо-
вания, посвященные Хаджетлаше
(согласно Хашхожевой, оно повлекло
запрет на изучение этой фигуры),
она, как правило, умалчивает и о том
содержании найденных ею матери-
алов, которое может так или иначе
дискредитировать ее персонажа, - за
редкими исключениями, рассматрива-
емыми ею как примеры «инсинуаций»
в его адрес (см. также примеч. 223).
Критика не умаляет моей признатель-
ности Р.Х. Хашхожевой за рассказ о
ее исследованиях и предоставленную
мне возможность взглянуть на ее ар-
хивные выписки, что помогло моим
разысканиям.
198 Ответ Менкина на запрос Белецкого,
январь 1914 г. (ГАРФ. Ф. 102. ДП ОО.
1913. Д. 194. Л. 60-61; РГИА. Ф.821.
Оп. 133. Д. 449. Л. 136-136об.). Хадже-
тлаше писал Менкину: «Я надеюсь,
что книги и журналы моего издания
Вы получили и теперь имеете полное
представление, что я сделал в такой
сравнительно короткий период време-
ни» (BDIC F delta res 914 (3) (4) (2)).
199 Менкин упоминает о «Мире ислама»
как о прямой альтернативе «Мусуль-
манину» в ответ на другой запрос
о Хаджетлаше - из МИДа (РГИА.
Ф. 821. Оп. 133. Д. 449. Л. 138).
Отмеченный Араповым (Арапов Д.Ю.
Указ. соч. С. 12) выпад Хаджетлаше
против В.В. Бартольда, редактора
«Мира ислама» в 1912 г., мог быть
связан еще и с этой сменой приори-
тетов ДДДИИ; а прямым поводом
для него стала разгромная критика в
журнале одной из книг Хаджетлаше -
«Шрутель-ислам» (Мир ислама. 1912.
С. 118-123). Подробнее о «Мире ис-
лама»: Хайрутдинов Р. «Мир ислама»:
из истории создания журнала // Мир
ислама. 1999. № 1. С. 3-20. Я призна-
тельна Р.У. Амирханову за указание
на эту статью и ее автору за содержа-
тельную беседу.
200 Арапов Д.Ю. Указ. соч. С. 231. По
источникам исследователя, Хадже-
тлаше предложил еще и новую идею:
развернуть пропаганду о переносе
мест паломничества российских
мусульман из Мекки и Медины в
Бухару.
201 «К вопросу об оказании противо-
действия влиянию на мусульманские
массы тенденциозной инородческой
прессы и литературы», 18 июня 1916 г.
(РГИА. Ф. 821. Оп. 133. Д. 449. Л. 462-
465об.). Хаджетлаше обращается в
ДДДИИ раньше. Как раз в мае ДП
готовит для Петкевича - очевидно, в
ответ на его запрос - сообщение, что
Хаджетлаше может быть использо-
ван в качестве переводчика (ГАРФ.
Ф. 102. ДП ОО. 1913. Д. 194. Л. 95).
Видимо, с этим был связан и майский
же запрос ДП в Охранное отделение
(Там же. Л. 94), ответом которому
стала цитированная выше справка
охранки.
202 РГИА. Ф. 821. Оп. 133. Д. 449. Л. 476-
485об; ср. также л. 487-491 (продол-
жение дискуссии).
203 ГАРФ. Ф. 102. ДП ОО. 1913. Д. 194.
Л. 96.
204 Запрос подписал советник 2-го По-
литического отдела П. Гулькевич
(РГИА. Ф. 821. Оп. 133. Д. 449.
Л. 137-138).
205 Хор сообщает, что британское
Министерство по делам Индии, куда
он отправил материалы Хаджетлаше,
«признало значительную важность
большей части информации», в них
содержавшейся. Hoare S. The Forth
Seal: The End of a Russian Chapter. L.,
1930; ср. также: Фролов B.H. «Лига
убийц» и ее руководитель Магомет-
Бек Хаджетлаше. Новые материа-
лы // Из глубины времен. 2005. № 13.
С. 393. Контакты с Хором находят
отзвук и в переписке Хаджетлаше.
206 Так сообщают источники Р.Х. Хаш-
хожевой (и не с тем же ли связан
упомянутый декабрьский запрос из
МИДа?); см.: Хашхожева Р.Х. Кази-
Бек Ахметуков. С. 31. Что касается ее
трактовки событий, согласно которой
наш герой был по заданию контрраз-
ведывательного отдела Генштаба
организатором антигерманской про-
вокации в Шанхае в 1914 г., то она,
возможно, несколько одностороння -
судя по параллельным документам
ДП (ГАРФ. Ф. 102. ДП. Оп. 316.1915.
Д. 1,ч. 43, л Д. Л. 2-30). Сопоставление
этих источников, причем с учетом
разной степени осведомленности их
составителей, - задача отдельного
исследования. Не вполне ясен во-
прос с датами: если Хаджетлаше был
в Шанхае, то скорее в 1915 - начале
1916 г.
207 Layton S. Nineteenth-Century Russian
Mythologies of Cauca-sian Savagery //
Russia’s Orient. P. 80-100; Гордин Я.А.
Зачем был нужен России Кавказ?
Иллюзии и реальность // Кавказ и
Мусульманский Азеф, или Игра в Другого... Iсм
го I Игра в Другого
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
Россия - прошлое и настоящее. СПб.,
2007. С. 3-24.
Именно эти сведения ДДДИИ пытал-
ся проверить, обращаясь к начальнику
Кубанской области М.П. Бабичу
(РГИА. Ф. 821. Оп. 133. Д. 449. Л. 28);
его ответ, если какой-либо содержа-
тельный ответ вообще существовал,
мне найти не удалось. См. также:
Хайрутдинов Р. Указ. соч. С. 8. Ссылка
на номер дела в РГИА, приводимая в
этой статье, ошибочна.
Их знакомство состоялось в 1896 г.
(http://annenskij.lib.ru/pism/sy го-
myatnikov.htm).
Ян В. Голубые дали Азии // Ян В. Огни
на курганах / Сост. М.В. Янчевецким.
М, 1985. С. 606-607, 677-702.
Живописное обозрение. 1894. № 34.
С. 134.
Вокруг света. 1897. № 26. С. 415.
Русская мысль. 1896. Окт. Библио-
граф. отдел. С. 453-454. Впрочем, не-
которые, не отрицая «подлинности» и
«правды действительности», находи-
ли «томик» скучным: «...в конце кон-
цов, все сводится к повторению того
же самого» (Новости. 1897. № 55).
Кавказский вестник. 1902. Кн. 26. № 2.
С. 99.
Русская мысль. 1897. Авг. Ср. также:
Живописное обозрение. 1897. № 30.
С. 507.
Ср. также: Кази-Бек Ахметуков Ю.
Черты из жизни его величества
Султана Хамида II. СПб., 1897. Здесь
султан предстает вполне героической
фигурой.
Живописное обозрение. 1894. № 34.
С. 134.
Звезда. 1894. № 36. С. 702. Рецензент
забыл о родственных и дружеских
связях Лермонтова. Прототипом его
героя был реальный исторический
персонаж, Бей-Булат Таймазов, по-
гибший от кровной мести, широко
известный на Кавказе и упомяну-
тый Пушкиным в «Путешествии в
Арзрум». Поэма впервые напечатана
в «Библиотеке для чтения» в 1835 г.
Подробнее см.: Лермонтовская эн-
циклопедия. М., 1999. С. 600-601;
http://feb-web.ru/feb/lermont/texts/
lerm04/vol02/L42-233.htm.
219 «Когда семью постигло несчастье и
князь был убит на войне, мать Ахмет-
Бея в припадке отчаяния зарезалась,
зарезав и дочь. Ей тогда было около
тридцати лет, дочери - только двенад-
цать. И Ахмет-Бей-Булата постигла
бы такая же участь...» (Живописное
обозрение. 1894. № 34. С. 134).
220 Ловеч, город на севере Болгарии, где в
июле-августе 1877 г. состоялась бит-
ва, окончившаяся, после временного
отступления, победой русских.
221 Подразумевается старший сын Шами-
ля Кази (Гази) Магомет, командовав-
ший на стороне Турции кавказским
добровольческим отрядом в русско-
турецкой войне 1877-1878 гг.
222 Короленко В.Г. Современная само-
званщина // Короленко В.Г. Поли,
собр. соч. СПб., 1914. Т. 3. С. 324.
Статья написана в 1896 г. и затем до-
полнялась.
223 Хашхожева Р.Х. Кази-Бек Ахметуков.
С. 17-20. Восстанавливая ряд су-
щественных эпизодов биографии
Ахметукова на основе его собственных
писаний, исследовательница, на мой
взгляд, оказывается под чрезмерным
влиянием сюжетных и мыслительных
ходов ее персонажа и решительно
его романтизирует (ср.: Арапов Д.Ю.
Указ. соч. С. 11-12). Взгляд, близкий
Хашхожевой: Курашинов Б.М. Яркая
звезда //Курашинов Б.М. В кругу дру-
зей: О русско-кабардино-балкарских
литературных связях. Нальчик, 1973.
С. 137-152.
224 ГАРФ. Ф. 102. ДП ОО. 1901. Д. 235;
см. также: Там же. 1907. Д. 297;
Гиреев Д. Тайна Юрия Кази-Бека //
Гиреев Д. Рассказы литературоведа.
Орджоникидзе, 1975. С. 73-93.
225 ГАРФ. Ф. 102. ДП ОО. 1901. Д. 235.
Л. 26.
226 Там же. Л. 16-16об. Метрические
записи ни по одному из возможных
ведомств найти не удается.
227 Термин «ахметуковедение» принад-
лежит С.Р. Агержаноковой (Указ,
соч. С. 85) и обнимает собой ее
предшественников-литературоведов
(частично мною цитируемых), рас-
сматривающих творческое наследие
писателя.
228 Хашхожева Р.Х. Указ. соч. С. 11. В под-
тверждение горского происхождения
Ахметукова Р.Х. Хашхожева указы-
вает на существование в Кубанской
области станицы Ахметуковской и на
«историческое известие, что в 1832 г.
темиргоевскому дворянину Шумафу
Ахметукову было разрешено посе-
литься между аулом Васюрепским и
Старо-Корсунским» (Там же. С. 10).
Станица Ахметовская находилась
(и находится) близ горы Ахмет, не
в Баталпашинском отделе этой об-
ласти, как сообщалось в сведениях
об имении Хаджетлаше, полученных
ДДДИИ, а в Лабинском, впрочем,
граничившим с Баталпашинским к
западу от нее и Майкопским к востоку
(если Хаджетлаше, поставляя эти све-
дения, имел в виду ее, то мог и пере-
путать). Станицы же Васюринская
(так!) и Старокорсунская расположе-
ны существенно дальше - к северо-
западу, в Екатеринодарском отделе.
Так - согласно картам Кубанской об-
ласти конца XIX - нач. XX в. (станицу
Ахметуковскую мне на них найти не
удалось).
229 Кабардинцем Кази-Бек называет себя
в письме Феликсу Волховскому в
Лондон, где, еще и под новой фами-
лией Магомет Еминаджалов, просит
того прислать все издания «вольной
русской прессы» за последние 10 лет
для их «распространения по всей зем-
ле русской» и для перевода их на араб-
ский и турецкий языки, «дабы мои
земляки могли читать их» (ГАРФ.
Ф. 102. ДП ОО. 1901. Д. 235. Л. 4 4об.;
курсив мой. - О. Б.). Однако в полеми-
ке, состоявшейся в «Мусульманине»
в 1910 г. (№ 4. С. 98-100) по поводу
критики им кабардинцев, опублико-
ванной в «Братской помощи» (1909.
Ns 10. С. 179-194), он пишет, что
кабардинцы - «ему самые близкие из
всех племен Кавказа», из чего должно
следовать, что сам он не кабардинец,
а принадлежит к родственному им
народу. В узком значении этноним
«черкес» стал употребляться позже, в
1920-х годах.
230 ГАРФ. Ф. 102. ДП ОО. 1907. Д. 297.
Л. 21-21а.
231 Р.Х. Хашхожева объясняет это
усыновление отсутствием тогда у
Эттингеров детей. Но зачем было
еврейской семье - в эпоху тех жест-
ких этноконфессиональных раз-
граничений, о которых здесь идет
речь, - искать способы обойти закон
и усыновлять турецкоподданного
черкесского мальчика? Можно,
впрочем, и тут предположить воздей-
ствие «кавказской утопии» - или же
что мальчик... объявил себя евреем.
Семья Эттингеров, судя по всему,
не бедствовала. Я признательна
Л.Г. Прайсману за указание на юри-
дическую ситуацию.
232 Год рождения, 1870, приведен в деле
1901 г.; сам Хаджетлаше варьирует
его: 1870,1868, реже - 1869,1872.
233 В 1892 г. Эттингеры переехали в
Петербург и жили то в городе, то в
Царском Селе - но уже без Григория.
234 Результатом стала, в частности, по-
весть Ю. Кази-Бека «На черный
материк», публиковавшаяся в ряде
номеров «Вокруг света» в 1898 г.
Экспедиция имела две цели: явную -
православную миссию в Абиссинии,
возглавлявшуюся, при конвое отряда
Ашинова, архимандритом Паисием
Мусульманский Азеф, или Игра в Другого... I см
I Игра в Другого
(фигурой не менее «странной»), и
скрытую - основание русского пор-
та в «южном море». Эта «частная
инициатива» лишилась правитель-
ственной поддержки, и без того ко-
леблющейся, когда выяснилось, что
план Ашинова строился на обмане.
Основание «вольными казаками» (до
Абиссинии не добравшимися) «ста-
ницы Новая Москва» в сомалийском
мусульманском селении, входившем
во французские владения близ фак-
тории Обок, вызвало неудовольствие
Франции и в итоге обстрел станицы
французским флотом, повлекший
жертвы; участники экспедиции были
возвращены Францией в Россию,
подверглись суду и ссылкам (см.
особенно: Луночкин А.В. «Атаман
вольных казаков» Николай Ашинов
и его деятельность. Волгоград, 1999).
Луночкин подтверждает участие
Кази-Бека в экспедиции. Следуя
версии его горского происхождения
и усыновления «тифлисским ме-
щанином», исследователь отмечает
влияние на него Ашинова, особенно
в части «изобретения» себе проис-
хождения. Одновременно Луночкин
показывает, сколь мало достоверными
были рассказы Кази-Бека, во всяком
случае об экспедиции Ашинова, опу-
бликованные в журнале «Природа и
люди» в 1894 г. (Там же. С. 118-119).
235 Рассказ об экспедиции ее главного
горского участника Джейранова
(Дзеранова), на попечение которого
был отправлен на Кавказ Кази-Бек,
передан в: Андреев А.П. В плоскостной
Осетии // Исторический вестник.
1903. № 8. С. 548-560.
236 Ардонское, или Ардон, в Северной
Осетии. Минские сведения совпадают
с отразившимися в делах об ашинов-
цах: Луночкин А.В. Указ. соч.
237 Согласно трактовке Р.Х. Хашхожевой
(Хашхожева Р.Х. Кази-Бек Ахмету-
ков. С. 17), это было вызвано стремле-
нием сохранить неприкосновенность
в случае обнаружения полицией его
борьбы с царским режимом.
238 ГАРФ. Ф. 102. ДП ОО. 1901. Д. 235.
Л. 27-29.
239 К нему вряд ли применимо опреде-
ление «ренегат в вере», которое ис-
пользует Д.Ю. Арапов (Арапов Д.Ю.
Указ. соч. С. 12); оно же встречается в
Интернете.
240 Ярый антисемитизм нашего героя
во всех его ипостасях, проявленный
и в адрес Эттингеров (он угрожал
Н.Я. Пранг публикацией антисемит-
ской брошюры о ее семье, демонстри-
ровавшей ее развратность (ГАРФ.
Ф. 102. ДП ОО. 1907. Д. 297. Л. 23в.
об.)), может быть характерным явле-
нием собственно еврейского антисе-
митизма, особенно острого. Впрочем,
таковой оставался прагматичным и
не мешал ему поддерживать контакты
с евреями, включая их в члены своих
«организаций».
241 Эта гипотеза, как сообщает Хашхожева
(Хашхожева Р.Х. Кази-Бек Ахметуков.
С. 8), обсуждалась устно. Впервые
в печати она бегло высказана в:
Хапсироков ЗЯ. О художественных
истоках творчества Юрия Казы-Бека
Ахметукова // Известия Северо-Кав-
казского науч, центра высшей школы:
Общественные науки. Ростов н/Д,
1979. №3. С. 71-75, зд. С. 72.
242 Аналогичные псевдонимы Хадже-
тлаше станет изобретать себе и позже,
в военные годы: например, Лейлин -
от имени старшей дочери, Лейлы.
243 ГАРФ. Ф. 5802. Оп. 2. Д. 456. Л. 23;
Хашхожева Р.Х. Кази-Бек Ахметуков.
С. 28.
244 ИРЛИ, картотека Алексеева. Соглас-
но принятой точке зрения, Кази-Бек
исчез с литературной сцены после
1905 г. Остается выяснить, получал ли
кто-то гонорары.
245 ГАРФ. Ф. 102. ДП ОО. 1907. Д. 297.
Л. 8, 12, 26 и др.
246 Значимой аналогией кажутся случаи
не вполне (или вполне не) революци-
онного насилия, совершавшегося на
свой страх и риск, но под революци-
онными лозунгами евреями той самой
Одессы, где какое-то время жил наш
герой и где он порой «действовал» как
раз в те послереволюционные годы,
когда подобные случаи там распростра-
нились. Использование этих лозунгов
И. Герасимов рассматривает в перспек-
тиве, близкой к нашим проблемам: это
моральное оправдание преодоления
такими «анархистами» традиционных
еврейских самоограничений в городе,
где жесткость этноконфессиональных
барьеров и без того была постоянным
предметом переосмысления, - оправ-
дание, позволявшее евреям символи-
чески влиться в общероссийское про-
странство, каким было революционное
движение (Герасимов И. Еврейская
преступность в Одессе начала XX века:
от убийства к краже? Криминальная
эволюция, политическая революция
и социальная модернизация // Новая
имперская история... С. 511-544,
особ. 522-527). См. также: Гейфман А.
Революционный террор в России,
1894-1917. М„ 1997; Будницкий О.В.
Терроризм в российском освободи-
тельном движении: идеология, этика,
психология (вторая половина XIX -
начало XX в.). М., 2000.
247 Могилънер М. Мифология «подполь-
ного человека»: Радикальный микро-
косм в России начала XX в. как пред-
мет семиотического анализа. М., 1999.
248 ГАРФ. Ф. 5802. Оп. 2. Д. 456. Л. 14.
Н.И. Рогдаев (Музиль), деятель рос-
сийского анархического движения,
главный редактор «Буревестника» в
1908-1910 гг. (когда журнал издавал-
ся в Париже). Обширная переписка
Рогдаева и Бурцева представлена: Там
же.Д. 423,713.
249 ГАРФ. Ф. 102. ДП ОО. 1901. Д. 235.
Л. 1. Мне неизвестно, предпринял ли
наш герой реальные шаги по организа-
ции этой газеты. Поскольку намерение
его - в этих именно выражениях - ста-
ло известно полиции, газета не могла
быть разрешена (Там же. Л. 1-3).
2 ,’° Хашхожева Р.Х. Кази-Бек Ахметуков.
С. 15-16.
251 ГАРФ. Ф. 5802. Оп. 2. Д. 456. Л. 14.
Письмо же, идентифицирующее
Ахметукова как Магомета Айшина,
напишет Бурцеву М. Филипенко (Там
же. Л. 23-23а). Вероятно, он как-то
связан с Гавриилом Леонтьевичем
Филиппенко (Р.Х. Хашхожева их
отождествляет), или, по другому
прочтению полицией, Филоненко,
имевшим отношение к Эттингеровой
«Кавказской горской группе» (или
«партии»): ему, «состоявшему во время
железнодорожной забастовки делопро-
изводителем забастовочного комитета
ст. Знаменки», жившие в этом районе
жертвы шантажных писем, рассылав-
шихся от имени «группы», поначалу
приписали их авторство. Он был аре-
стован и бежал. На адрес какого-то из
Филиппенко в Лемберге должна была
выслать деньги Н.Я. Пранг, шантажи-
руемая братом (ГАРФ. Ф. 102. ДП ОО.
1907. Л. 10,15об, 23в).
252 Любопытен мотив «визитной карточ-
ки», с которым мы уже столкнулись в
переписке Хаджетлаше с Харузиным:
именно сохранившиеся во множестве
«из его прошлого вращения среди
сильных мира сего» визитные кар-
точки дают Магомету Айшину, по его
словам, переданным Беккером, «воз-
можность доступа всюду» (ГАРФ.
Ф. 5802. Оп. 2. Д. 456. Л. 5-6).
253 Там же. Л. 5-12. Конечно, Беккер чув-
ствует себя несколько виноватым в
наивности, с которой они с товарищем
отнеслись к этому человеку, и в какой-
то степени стремится оправдаться
перед Бурцевым. Его контакты с
Магометом, очевидно, окончились
конфликтом. Но заметно и стремле-
Мусульманский Азеф, или Игра в Другого...
295
О) I Игра в Другого
ние Беккера не привносить в письма
«ничего личного» и быть как можно
ближе «к фактам». Да и есть ли здесь
факты, которые могли бы еще стать
для нас неожиданными?
254 Там же. Л. 10. А.С. Будилович изве-
стен как ученый, публицист и «воин-
ствующий» славянофил.
255 Там же. Л. 1.
256 Там же. Л. 4.
257 О документах Беккер упоминает в
письме «корреспонденту одной из му-
сульманских газет» (Там же. Л. 13-17;
зд. Л. 16). Оно написано не менее чем
через год после его письма Бурцеву от
17 авг. 1908 г. и отличается от первого
отдельными деталями: очевидно, ав-
тор начал что-то забывать, да и оценка
событий стала резче.
258 Там же. Л. 13-14. Ср.: Хашхожева Р.Х.
Кази-Бек Ахметуков. С. 25.
2э9 Будницкий О.В. Указ. соч. С. 154-177.
260 LundbergS. Ryssligan: Flyktingarna fran
ost och morden i Bollstanas 1919. Lund,
2004.
261 Воровский B.B. Жертвы стокгольмских
бандитов; В мире мерзости запусте-
ния // Воровский В.В. Соч. М.; Л.,
1933. Т. 3. С. 388-419.
262 Характеристики, данные Хаджетлаше
В.В. Воровским (Там же. С. 396,407).
263 Автор настаивает на аналогии между
провокациями в Швеции и Шанхае (см.
примеч. 206). Хашхожева Р.Х. Кази-Бек
Ахметуков; Она же. Одиссея Кази-
Бека Ахметукова // Лит. Кабардино-
Балкария. 2001. № 1. С. 161-176; Она
же. О Кази-Беке Ахметукове (Магомед-
Бек Хаджетлаше) и его потомках //
Генеалогия Северного Кавказа: Ист,-
генеалог. науч.-рефератив. независи-
мый журнал. 2002. № 4. С. 6-15; ср.:
Фролов В.Н. Указ. соч.
264 Утверждение Хашхожевой (Кази-Бек
Ахметуков. С. 33-34; также: Одиссея..;
О Кази-Беке...) основано на ошибочной
интерпретации двух высказываний «ан-
тисоветчика» Бурцева в 1930-х годах:
упоминание им известного сотрудника
ЧК-ОГПУ-НКВД Наума (Леонида)
Этингона принято исследовательни-
цей за неверное написание фамилии
Эттингер; и им же, Эттингером, сочтено
неизвестное лицо, которому Бурцев, об-
виняя того в работе на контрразведки,
высказал сожаление, что сопроводил его
воспоминания в «Иллюстрированной
России» «сочувственным предислови-
ем». Однако ср.: История одной прово-
кации / Записки члена подпольной ор-
ганизации П. Крючкова с предисловием
В.Л. Бурцева // Иллюстрированная
Россия. 1928. № 10-13 (150). 24 марта, и
сл.; там же помещен портрет Крючкова.
Впрочем, нельзя исключить, что я не
нашла какого-то еще предисловия
Бурцева к чьим-нибудь воспоминаниям
в «Иллюстрированной России».
26э Об этом свидетельствуют его бесчис-
ленные тюремные письма и произве-
дения.
266 Предположу вместе с тем, что Ильф
и Петров могли знать о Кази-Беке,
например, по статье Короленко, хотя
он и не занимает там сколько-нибудь
выдающегося места. О Хаджетлаше
(но не о его родстве с Кази-Беком)
они могли знать тоже (по шведскому
эпизоду), но воспринимался ли он как
родственник Остапу?
С глубокой горечью приходится до-
бавить: адресуясь к комментаторам
романов Ильфа и Петрова, я обраща-
лась прежде всего к Ю.К. Щеглову
(1937-2009); мой учитель был еще
жив. См.: Щеглов Ю.К. Романы Ильфа
и Петрова. Спутник читателя. 3-е изд.,
испр. и доп. СПб., 2009. Ю.К. отмечает
Кази-Бека, хотя не называет его, ссы-
лаясь на соответствующие страницы
статьи Короленко (Там же. С. ПО).
[Добавление 2010 г.]
267 Короленко В.Г. Указ. соч. Особенно
С. 357-368, цит.: С. 357-358,363,273.
268 Так описывается Козловский, оказав-
ший пагубное влияние на газету, где
сотрудничал и Хаджетлаше, - «Новое
время»: Снессарев Н. Указ. соч. С. 75-76.
Интересно, знал ли Снессарев о другом
странном корреспонденте газеты?
269 Ср.: Гейфман А. В сетях террора: Дело
Азефа и русская революция. М., 2002.
270 Герасимов И. Указ. соч.
271 Ильф И., Петров £.12 стульев. Первый
полный вариант. М., 1997. С. 467;
Щеглов Ю.К. Указ. соч. С. 119.
272 Рейсс отмечает забытую после Второй
мировой войны близость, которая в
восприятии ассимилированных евре-
ев Европы связывала их с исламским
миром. У.Г. Палгрейв (1826-1888),
выполняя миссию в Аравии, поручен-
ную ему иезуитами, среди которых он
выступал под своим еврейским име-
нем, принимал облик мусульманского
ученого (скорее в шпионских целях);
премьер-министр Великобритании
Б. Дизраэли (1804-1881) видел евро-
пейских евреев посредниками между
восточной мудростью и английской
практичностью, когда стремился пре-
вратить страну в «панвосточную»
империю: Reiss Т. Op. cit. Р. XIX-XX.
273 Эта статья была задумана примерно
на лист или два. Впрочем, жалоба, что
казус в принципе требует книги, а не
статьи, не нова. Каждый из эпизодов,
рассказанных здесь, мог бы сам рас-
сматриваться как казус. Но ни один из
них невозможно было осмыслить вне
соседства с другими. А сколько их еще
осталось... Все же казус на то и казус,
чтобы вмещать в себя многое.
274 Fitzpatrick Sh. Op. cit. P. 265.
275 «Суд над современным Хлестаковым».
В данном случае таковым выступает
рядовой П. Панасюк, побывавший
в Австралии, Турции, Франции,
Германии и служивший добровольцем
в австрийской армии, откуда бежал,
опасаясь быть принятым за шпиона.
В России пошел в армию, снова до-
бровольцем, опять бежал и сделался
ревизором... мечетей.
276 Пометка чиновника ДП на минской
справке об Эттингере (ГАРФ. Ф. 102.
ДП ОО. 1901. Д. 235. Л. 26).
277 «Означенный Григорий Яковлев
Эттингер (он же Кази-Бек) имеет
за собой множество похождений и
приключений, почти с самой ранней
своей юности», - так, не совсем по
нормам полицейского донесения и с
некоторым изумлением, вводил «аван-
тюрную» часть своей справки для ДП
начальник Минского ГЖУ (Там же.
Л. 27). Противоположную оценку
предлагает современный наблюда-
тель, погруженный в ту же проблему
межкультурного («межцивизцион-
ного») общения: на форуме avigdor-
eskin.com сторонник неоевразийства
С. Подъяпольский в 2003 г. упомянул
Кази-Бека (без каких-либо пояснений,
но подразумевая, очевидно, евразий-
скую связь, олицетворенную им) как
одного из немногих нашедших аль-
тернативу произошедшему в России в
1917 г.; впрочем, Кази-Бек был «про-
сто талантливым авантюристом» на
пути продвижения вперед «по сравне-
нию с дореволюционным состоянием
мыслей», а евразийство «давало ответ»
единственно «внятный».
278 В 1910 г. А.А. Петров, эсер и агент
полиции, на ее же деньги взорвал
на конспиративной квартире своего
полицейского шефа. Цит. по: Буд-
ницкий О.В. Указ. соч. С. 203 (курсив
мой. - О. Б.).
279 ГАРФ. Ф. 5802. Оп. 2. Д. 456. Л. 13-17.
280 Ср.: Levi G. Les usages de la biogra-
phie // Annales E.S.C. 1989. № 4.
P. 1325-1336; Репина Л.П. От «исто-
рии одной жизни» к «персональной
истории» // История через личность:
Историческая биография сегодня. М.,
2005. С. 55-74.
281 Колосов Н.Е. Эпистемология доверия,
или Девиантная совокупность ([рец.
на:] Уваров П.Ю. Франция XVI века:
опыт реконструкции по нотариальным
Мусульманский Азеф, или Игра в Другого... I cn
оо I Игра в Другого
актам. М., 2004) // Одиссей. Человек в
истории: История как игра метафор: ме-
тафоры истории, общества и политики.
М„ 2007. С. 466-489, цит. С. 485-486.
282 «- В чем отличие романа от историче-
ского исследования? - В отсутствии
сносок. Мне было бы сложно писать
без сносок, потому что это - способ
аргументации, который для меня
важен», - так отвечал А. Эткинд на
вопрос Д. Хапаевой (Хапаева Д.Р.
Герцоги республики в эпоху перево-
дов. М., 2005. С. 179).
283 О политических импликациях этих
подходов, выливающихся в национа-
лизм, фундаментализм, культурный
расизм, для отечественной сцены см.,
например: Шнирелъман ВА. Цивили-
зационный подход как национальная
идея // Национализм в мировой исто-
рии. С. 82-105. О генетической связи
этого понятия с теорией рас: Кирег А.
Culture: The Anthropologists’ Account.
L., 1999.
284 Исхаков C.M. Российские мусульмане
и революция (весна 1917 г. - лето
1918 г.). М, 2004. С. 5,47-48, 23-24.
285 Я и сама, в пору моего «текстуализма»,
предположила (отмечая, что «язык»
«Мусульманина» предвосхищает lin-
gua sovetica), что авторы журнала отли-
чались от манипулирующего языком
Homo soveticus своей искренностью
(Бессмертная О.Ю. Русская культура
в свете мусульманства: мусульман-
ский журнал на русском языке, 1908—
1911 // Одиссей: Человек в истории.
М., 1996. С. 268-286).
286 Ср. интересное сопоставление пере-
ложений кавказских легенд в русской
литературе с их интерпретацией
Ахметуковым (являющейся, на мой
взгляд, переложением переложений),
что автор рассматривает в ключе его
национальной самобытности: Хапси-
роков З.Я. Указ. соч.
287 Reiss Т. Op. cit.
288 Такие призывы характерны и для
представителей самой «культураль-
ной» дисциплины - антропологии.
Здесь среди наиболее радикальных
критиков «культуры», отрицающих
целесообразность использования этого
понятия: Кирег A. Op. cit.; AmselleJ.-L.
Logiques metisses. Antropologie de
I’identite en Afrique et ailleurs. P., 1991.
Более мягкую критику предлагают,
например: Marcus G.E., Fisher M.MJ.
Anthropology as Cultural Critique: An
Experimental Moment in the Human
Sciences. Chicago; L., 1986; Clifford J.
The Predicament of Culture: Twentieth-
Century Ethnography, Lite-rature, and
Art. Cambridge, 1988; Idem. Routes:
Travel and Translation in the Late
Twentieth Century. L., 1997. Один из
влиятельных трудов, переосмысляю-
щих «культуру» в контексте постко-
лониальных исследований: Bhaba U.K.
The Location of Culture. L.; N.Y., 1995.
Источники иллюстраций
1. М.-Б.И. Хаджетлаше-Скагуаше. Из семейного альбома. BDIC, F delta res 914 (Г).
Публикуется с разрешения наследников М.-Б. Хаджетлаше.
2. Слуга отечества. Из семейного альбома. BDIC, F delta res 914 (1). Публикуется
с разрешения наследников М.-Б. Хаджетлаше.
3. Ахмет-Бей-Булат (Юрий Кази-Бек). Живописное обозрение. 1894. № 34. С. 134.
4. Григорий Эттингер. ГАРФ. Ф. 1742. On. 1. Д. 42864 (в деле подпись под фото-
графией содержит опечатку, написано: Эшингеръ). Опубликовано без ссылки в:
Кази-Бек Ахметуков. Избранные произведения / Вступ. ст. и подгот. текстов к
изд. Р.Х. Хашхожевой. Нальчик, 1993.
I
Совэпос
Вадим Михайлин
СМЕРТЬ ГЕРОЯ
Корчагина, кроме матери, никто
не ласкал, но зато били много.
И тем сильнее чувствовалась ласка.
Николай Островский.
Как закалялась сталь1
Проблема, поставленная мною в этой статье, носит сугубо антрополо- 303
гический характер, хотя речь пойдет о вполне конкретном литературном
тексте, да и методы анализа будут применяться отчасти литературоведче-
ские. Но только отчасти. Меня не будет интересовать ни история создания
и/или публикации романа Николая Островского «Как закалялась сталь»,
ни проблема авторства - хотя системное рассмотрение обеих тем, несо-
мненно, сообщило бы статье должную академическую фундированность,
а заодно позволило бы во всех возможных подробностях отследить про-
исхождение того или иного конкретного мотива, той или иной аллюзии.
Литературоведческий аппарат будет в данном случае играть роль сугубо
вспомогательную: ибо в первую очередь меня в романе интересует про-
явленность - сознательная или бессознательная - поведенческих матриц,
стереотипов, укорененных в гораздо более ранних культурных традициях,
нежели русская традиция 1920-1930-х годов.
Между волком и собакой
Мне уже приходилось предпринимать попытку провести параллель
между устойчивым раннесредневековым эпическим сюжетом, с высокой
степенью вероятности имеющим ритуальную привязку и «отрабатываю-
щим» вполне конкретные мужские поведенческие матрицы, и рядом сю-
жетных схем, задействованных в ориентированном на трансляцию струк-
турно близких поведенческих стереотипов раннесоветском героическом
дискурсе2. Изложу вкратце представленную там концепцию, которая, с
моей точки зрения, позволяет по-новому взглянуть на довольно предста-
AI Совэпос
вительный ряд культурных феноменов - как архаических, так и вполне
«модерных» по времени реализации, в том числе и на текст Островского.
Исходной точкой служит сугубо структуралистский анализ одного из
наиболее распространенных эпических сюжетов - сюжета о «любовном
треугольнике», где основную конфликтную пару составляют две принци-
пиально единосущные, но ситуативно и/или статусно противопоставлен-
ные мужские фигуры, которые можно условно обозначить как «король»
и «герой», при том что женский персонаж играет роль, по сути, сугубо
функциональную. Сюжет обыкновенно развивается по следующей схеме:
король и герой близки друг другу (являются побратимами, кровными род-
ственниками, членами одного воинского союза, связаны договором и т. д.);
у короля есть невеста (дочь, сестра, жена), которая проявляет выраженный
интерес к герою; герой и красавица бегут (пытаются наладить отношения
за спиной короля); их преследуют; происходит финальная схватка (или
другая, структурно равнозначная коллизия), в которой гибнет герой (гиб-
нет король, после чего в результате кровной мести погибает и герой; гибнут
оба); наступает смерть красавицы (или другая, структурно равнозначная
коллизия)3.
Анализ данного устойчивого сюжета велся исходя из представлений о
четкой семантической структурированности пространства в архаических
системах сознания4, о «револьверной» структуре архаического сознания5 и
о связи данного сюжета с системой ритуалов перехода, «переключающих»
мужские поведенческие модели со статусно-хозяйственных на воинско-
маргинальные и обратно. Компаративный анализ достаточно широкого
архаического индоевропейского материала (германского, кельтского,
славянского, иранского и др.)6 позволил выделить устойчивую двойную
мифологему волк/пес, имеющую набор как общих, так и антагонистиче-
ски противопоставленных друг другу собственно «волчьих» и собственно
«песьих» характеристик. Воинские по происхождению тексты, активно
оперирующие волчье-песьей кодовой парадигмой, как правило, крайне
внимательны к тончайшим нюансам воинских поведенческих стратегий,
и обе ее части, ориентированные на соответствующие культурные зоны,
прорабатываются весьма детально. Разные инварианты воинской судьбы и,
соответственно, сюжеты, связанные с выявлением отношений между пер-
сонажами, представляющими таковые, как раз и составляют здесь главный
предмет интереса.
Персонаж, маркируемый как «король», представляет «охранитель-
ную», «песью» модель воинского поведения: это статусный воин, обере-
гающий «свое» и «своих», предпочитающий воевать «по правилам», впи-
санный в систему наследственной передачи семейного блага и в систему
договорных отношений с клиентами и соседями.
Персонаж, маркируемый как «герой», представляет маргинальную,
«волчью» модель: он может быть страшен как для чужих, так и для сво-
их, он ориентирован на индивидуальную «судьбу» и вместо родственных
отношений вписан в неустойчивую и мало предсказуемую систему «стай-
ных» лояльностей. Он никогда «не взрослеет», и в этом смысле его судьба
представляет собой не «становление», а череду эпизодов, подтверждающих
его героическую исключительность, как правило, заданную уже в обстоя-
тельствах «неправильного» рождения и получающую окончательное под-
тверждение в не менее исключительной героической смерти.
Особого внимания заслуживает и героическая смерть, привычные
представления о роли и месте которой в эпическом тексте следует, на
мой взгляд, пересмотреть. Ведь смерть не есть финальный эпизод - один,
пусть даже наиболее важный из ряда других эпизодов7. Она составляет
основное содержание героической песни, и все прочие эпизоды являются
не ее предпосылками (т. е. связаны с ней не временными отношениями),
но ее составными частями (т. е. связаны с ней отношениями сугубо про-
странственными, как части одного тела или одной территории) - ибо герой
изначально мыслится как мертвый. Только будучи магически мертвым,
он в состоянии совершать воистину героические поступки; только будучи
магически мертвым, он может принять воистину героическую смерть как
финальное воплощение героического статуса.
Если ушедший в поход погибает, его хоронят именно так, как подоба-
ет хоронить «заранее мертвого», со всеми признаками соответствующего
территориально-магнетического - в данном случае «героического» - ста-
туса. Непременным атрибутом является оружие, желательными - для
большинства индоевропейских и ряда других (тюркских и т. д.) культур -
золото как магический субстрат воинского счастья, удачи, «фарта» и конь
(ладья) как специфический атрибут волчьей «подвижности».
Поскольку «убитого убить нельзя», смерть героя не мыслится как яв-
ление окончательное, необратимое. Даже с сугубо бытовой точки зрения
возвращение ушедших в поход, т. е. «умерших», соплеменников и их маги-
ческое «воскрешение» после соответствующих обрядов очищения должно
было быть практикой если и не рутинной, то по крайней мере вполне при-
вычной. Эти особые, интимные отношения со смертью играли, несомненно,
могучую психотерапевтическую роль - как на групповом, так и на индиви-
дуальном уровне - в ранних сообществах (гораздо более «стрессогенных»,
чем обычно принято считать).
Особый интерес представляет женский персонаж. Проведенный анализ
показал, что женщина, с одной стороны, может быть показателем «одо-
машненности» бойца, значимым символом его «зимней», песьей ипостаси;
с другой стороны, женщина может выступать в качестве «провокатора»,
«валькирии» - это одновременно и «воспитатель», и символ «летней»
воинской удачи бойца, и его «боевая подруга», связанная с ним никак не
супружескими, но скорее магически-договорными отношениями.
Если исходить из пространственно-магнетической привязанности тех
или иных социальных групп и практик, то «серединная», сугубо женская
зона, связанная с земледельческой магией плодородия и расположенная
между центральной сакрализованной зоной «совместного проживания»
и маргинальной, сугубо мужской охотничье-воинской зоной, имеет выра-
женную двойственную природу. С точки зрения маргинального охотничье-
воинского коллектива, со всеми присущими ему хтоническими характери-
стиками, она представляет собой вожделенную страну сытости, богатства
и плодородия. К тому же именно через нее лежит путь к сакрализованному
центру, к «дому и храму» (первая стандартная женская функция). С точки
же зрения «статусного мужа», пребывающего в сакрализованном центре,
Смерть героя I со
О) I Совэпос
эта область должна восприниматься как хтоническая зона «перемежающе-
гося хаоса», как путь к «полной тьме», к «волчьей героике» и соответствен-
но к смерти со всеми ее сюжетными и магическими коннотациями (вторая
выделенная функция, «валькирическая»).
Центральная зона есть область не только статусного мужчины, но и
статусной женщины, воспринимаемой часто как непременный атрибут
статусного мужчины, наряду с родом, собственностью и т. д. По отноше-
нию к ней «магически девственная» незамужняя женщина (в особенности
в том случае, если она принадлежит к территориально связанному с «сере-
динной» зоной девичьему возрастному союзу) есть существо откровенно
хтоническое, посягающее на магические составляющие ее высокого жен-
ского статуса - на мужа, сына, собственность и т. д. Однако обязательный
для мужчины периодический (возрастной - связанный с участием в ини-
циационных юношеских союзах; «сезонный» - связанный с различными
социальными ролями взрослого статусного мужчины и др.) переход из
центральной зоны в маргинальную и обратно не может осуществляться
иначе как через эту «промежуточную» область и, следовательно, не может
не «налаживать схем взаимодействия» с зональными территориально-
магическими системами.
В данном случае схема ритуала перехода необходимо осложняется тем
обстоятельством, что взаимодействуют здесь не две, а три территориально-
магические зоны, причем одна из них выступает в роли проводника и по-
средника.
Если попытаться реконструировать сезонный ритуал «собачье-
волчьего» (и «волчье-собачьего») перехода, то у нас получится следующая
модификация стандартной схемы. Для «собачье-волчьего» ритуала пере-
хода необходима женская «выманивающая» провокация - причем жен-
щина здесь ни в коем случае не может быть статусной женщиной и должна
выступать именно в описанной «валькирической» роли. Ритуальный
поединок между «статусным мужем» и «пограничником», между «псом» и
«волком» должен заканчиваться ритуальной смертью «статусного мужа».
Возможен также и структурно равновесный мотив вроде нарушения клятв,
предательства, убийства кровного родственника и т. д. (отчасти параллель-
ный мотиву «неправильного» рождения протагониста, изначально пред-
расположенного таким образом к «героической» судьбе): герой «разбивает
оковы», «помечает территорию», означая себя как изгоя, как маргинала, как
«живого покойника», и тем самым заявляет претензии на героический ста-
тус. Для «волчье-собачьего» перехода необходима «свадьба», ритуальный
переход «валькирии» в статус жены и матери и убийство «волка» «псом».
В любом случае имеет место игровое ритуальное столкновение двух по-
лярных «стай», финал которого определяется в первую очередь сезонной
привязанностью ритуала. Весной (для европейских земледельческих тра-
диций)8 это праздник свободы, боевой готовности, лихости, предощущения
вольной и полной героических «вызовов» жизни. Осенью9 - праздник во-
инского совершенства, «воскрешения из мертвых», почитания убитых в
«Диком поле», демонстрации добычи и ритуального хвастовства, готовно-
сти к женитьбе и уплате ритуального же выкупа за «теряющую девический
пояс» невесту.
Напомню, что героическая песня, как и иные разновидности раннеэпи-
ческих текстов (да, вероятно, и сам «исходный» ритуал), рассчитана только
на мужскую, причем на воинскую мужскую, аудиторию. Так что «женский»
сюжет как таковой ее нимало не интересует - непременная самоиденти-
фикация с персонажем имеет место только в отношении мужских героев.
Женский же персонаж выступает в сугубо «инструментальной» функции,
чем объясняется и его особая наклонность к метонимичности, к замещению
(иногда) реального участия в сюжете структурно равнозначными с точки
зрения главного содержания текста ходами.
Показательно, что именно связка «герой-валькирия» воспринимается
как протагонистическая, причем «противозаконность» и «неправиль-
ность» этой связи рассматриваются в данном случае как положительные
героические характеристики. Герой никогда не овладевает красавицей как
законной женой - только как «заклятой подругой». «Статусный» же герой
лишен в отношении «валькирии» каких бы то ни было шансов на успех -
чтобы овладеть ею, нужен «волк». Так, «статусный герой» Гуннар не в
состоянии совладать с валькирией Брюнхильд - и передоверяет эту функ-
цию «волку» Сигурду. Конхобар растит Дейрдре себе в жены буквально с g
первых дней ее жизни, но лишает ее девственности (причем на сугубо мар- -о
гинальной территории!) «волк» Найси. Грайне «похищает» Диармайда не-
посредственно со свадебного пира, после которого она должна стать женой -3
Финна10. Во всех перечисленных сюжетах женщина играет выраженную »______
провокативную роль. 307
Характерно и то, что с мотивом бегства здесь часто соседствует мотив
воздержания от непосредственного полового контакта, как бы данное
обстоятельство ни мотивировалось. «Волк» магически кастрирован, и
«сыграть полноценную свадьбу» он не имеет не только права, но и воз-
можности. Самый известный в этом отношении сюжет - сюжет о мече на
ложе (Сигурд и Брюнхильд; Тристан и Изольда), символика которого в
данном контексте прочитывается достаточно легко. Еще более показателен
тот способ, которым Диармайд дает понять преследующему их с Грайне
Финну, что он относится к ней «как к сестре»: уходя утром с очередного
«лежбища», он оставляет на нем кусок сырого мяса - законной волчьей
пищи. Сигурд не притрагивается к Брюнхильд, несмотря на то что в их
«предыстории» он уже успел лишить ее девственности (эпизод на холме с
Сигрунн, на которой Сигурд рассекает мечом доспех).
Итак, «весенний» ритуал связан с начальной стадией «основного»
сюжета - с похищением (при том что не всегда понятно, кто, собственно,
кого похищает) и «странной жизнью вдвоем». «Осенний» ритуал тракту-
ется в завершающей стадии сюжета, связанной со смертью героя и валь-
кирии (каковые можно понимать и как преображение того и/или другой
в «статусных» персонажей). Подобная смерть обставлена целым рядом
специфических, имеющих вполне прозрачную символическую значимость
обстоятельств.
Напомню еще раз, что речь идет о проблематике не собственно фило-
логической и не собственно исторической, но историко- или культурно-
антропологической. Выделенные поведенческие матрицы обладают вы-
оо I Совэпос
сокой интерпретативной ценностью именно в связи с тем, что позволяют
выйти за пределы собственно филологических механизмов анализа лите-
ратурного текста, привычно подвешивающих текст в пустоте, в том безвоз-
душном пространстве, в котором независимо от конкретных человеческих
интенций и судеб действуют законы передвижения согласных, не говоря
уже о неких платонически-гегельянских «законах развития литературы»
и «теориях жанров». Литературный жанр с представленной здесь точки
зрения есть функция от исходных условий бытования текста в конкретной
культурной среде и в конкретной «ситуации исполнения», как правило,
имеющей четкую привязку к той или иной празднично-досуговой практи-
ке - также вполне конкретной. Эта «мнемоническая машина» переводит
определенную сумму социально значимого опыта в игровой дискурс, ко-
торый дает любому участнику ситуации возможность, пережив состояние
«миметического перехода», позволяющее ассоциировать себя и свой инди-
видуальный опыт с игровыми текстуальными идентичностями, принять и
инкорпорировать этот опыт как свой собственный, «пережитой». Таким
образом, выделяемые при антропологическом анализе литературного (изо-
бразительного, перформативного и т. д.) текста поведенческие матрицы и
«конгруэнтные» им системы кодовых маркеров дают нам ключ к системам
поведенческих (осознаваемых или не осознаваемых) реакций конкретных
индивидов и групп, являющихся непосредственными адресатами данного
текста. В то же время они дают нам ключ к поведенческим реакциям куда
более многочисленных индивидов и групп - при условии, что эти индиви-
ды и группы принадлежат к культурным традициям, близким к «исходной»
культуре либо ей наследующим.
Советский героический дискурс
Анализ тех причин, благодаря которым к концу 1917 г. территория быв-
шей Российской империи оказалась практически полностью маргинализи-
рована, никак не укладывается в рамки данной статьи. Важны следствия -
огромное «Дикое поле», протянувшееся от немецкого фронта на западе до
Тихого океана на востоке; поле, включившее в себя не только огромные
территории, но и огромные массы населения. Поле, в чьих пределах законы
выживания и взаимодействия (как на уровне больших человеческих масс,
так и на микроуровне) вполне соотносимы с теми, что действовали в V в. на
территориях, подконтрольных когда-то Западной Римской империи.
Я вовсе не пытаюсь приравнять друг к другу более чем несхожие ком-
плексы экономических, политических, социальных и иных процессов,
между которыми лежат полторы тысячи лет и огромная пройденная ев-
ропейским человечеством дистанция. Моя задача куда скромнее - попы-
таться выявить элементы базового сходства11 в механизме формирования
и функционирования героического дискурса в рамках двух эпох. Обе они
начинали «с нуля» и воспринимали то пространство, в котором строили
собственное бытие, как «вновь рожденное» и, следовательно, являющее со-
бой героический вызов, подлежащее героическому освоению и «очищению
от хтона».
Понятно, что уровень рефлексии в пределах этих двух эпох был совер-
шенно разным. Советский эпос уже на самых ранних стадиях существова-
ния опирался не на текстовые реликты постепенно уходящего из памяти
мифа и ритуала, а на мощную литературную традицию, которая сама по
себе во многом была плодом переработки и переосмысления ранних эпи-
ческих традиций более поздними, ориентированными на индивидуального
автора и индивидуального потребителя (в первую очередь романтической
и постромантической). Советский эпос во многом формировался со-
знательно и целенаправленно, выполняя определенный политический и
социальный заказ. Но именно наличие этого заказа, а также то сочетание
сознательной «эпизации» и бессознательного следования давно забытым
ритуальным схемам, те методы, которыми осуществлялась эта «творческая
работа», дают веские основания для подобных сопоставлений.
Первое и наиболее заметное сходство - та скорость, с которой происхо-
дила институционализация подконтрольного новой власти пространства, а
затем и сакрализация вновь созданных институтов. Суть большевистской
партии как маргинальной «стаи» (связанной сугубо стайным, основанным
на специфической магичности комплексом взаимоотношений между «те-
лом» стаи и ее «головой», вождем12) практически не изменилась - разве что
в сторону «укрепления внутристайной дисциплины». Изменился, как и в
раннем Средневековье, статус самой стаи, сумевшей захватить в качестве
добычи огромную населенную территорию, в результате чего она встала
перед непростой с магической точки зрения задачей осмысления собствен-
ной новой роли и новой системы «потребления территории».
Начальный, «наивный» период, когда «кормление» происходило по
нормальным «волчьим» законам (продразверстка13, экспроприации, рек-
визиции и т. д.), очень быстро привел к осознанию двух немаловажных
факторов. Во-первых, маргинализирована - во многом стараниями тех
же большевиков - была весьма значительная часть неподконтрольного
новой власти населения, причем населения вооруженного. Первая миро-
вая война с ее унаследованными от наполеоновских времен и отчасти
усовершенствованными на протяжении «мирного» XIX в. тотальными
методами выбросила в маргинально-магическое пространство огромную
массу бывших крестьян, которые за четыре года вполне успели распробо-
вать вкус «крови и свободы»14. Эта масса, разбредшись по городам и весям,
представляла на местном уровне все более и более серьезную угрозу для
новой власти, поскольку не желала признавать ее исключительных прав
на «землепользование». Во-вторых, как только истинная природа новой
власти стала очевидна для большей части рефлексирующего населения,
признавшие было свое поражение политические противники большевиков
обрели почву для объединения и начала борьбы с общим врагом его же
методами: началась Гражданская война.
Реформирование «волчьей» стаи в «песью» в случае с тоталитарными
режимами XX в. происходит темпами еще более быстрыми, чем в раннем
Средневековье. Вместо двух-трех поколений речь идет о двух-трех годах;
«лихорадка декретов» начинается практически сразу и в куда больших
масштабах (благо не всем нужно на ходу учиться грамоте); темпы «адми-
нистративного строительства» ужасают порой даже самих строителей15;
Смерть героя I со
Совэпос
сакрализация режима, обретение новой религии при усиленных гонениях
на «волхвов и идолов» производится буквально «с колес». К «первооче-
редным задачам советской власти», осознавшей уже к началу 1918 г. соб-
ственную слабость и отсутствие реальной военной силы, относится прежде
всего выживание любыми средствами, а уже затем - приращение по мере
сил соседних, также маргинализированных территорий16.
Удивительно быстро происходит и формирование мифологизирован-
ной нормативной эпохи, и начинается оно практически в ее же собственных
рамках - причем сознательно, как широкомасштабная, осуществляемая
на самых разных уровнях пропагандистская акция. Противопоставление
«красных героев» и «героической Красной армии» откровенно хтониче-
ской «гидре контрреволюции» становится основой официальной стайной
риторики; гениально задуманное обмундирование с «варяжскими шлема-
ми»17 и шинелями «с разговорами» прямо снабжает «красных героев» бы-
линными коннотациями18. Можно было бы привести сколь угодно много
весьма показательных цитат из «красных» песен и заодно проанализиро-
вать не только их вполне осознанную связь с традиционной эпической ге-
роикой, но и куда более интимную и абсолютно неотрефлексированную - с
героикой блатного романса. Впрочем, «песенный» в современном смысле
слова уровень героики, никогда не остававшийся без внимания советской
пропаганды, сам по себе явно недостаточен. Нужна устойчивая эпическая
___ традиция с общеизвестными, базовыми циклами сюжетов и всем прочим
ЗЮ арсеналом крупной эпической формы.
Любая группа, осознающая себя элитой, прежде всего нуждается во
внятных стратегиях легитимации как для утверждения собственной вну-
тригрупповой идентичности, так и для выстраивания отношений с дру-
гими социальными группами. «Новые» элиты озабочены этим в гораздо
большей степени, чем элиты традиционные, устоявшиеся, которым для
охранения status quo нужно лишь регулярно поддерживать и обновлять
уже имеющиеся, проработанные и встроенные в налаженный культурный
уклад символические капиталы и механизмы их репрезентации. Новые
элиты, не обладающие собственными устойчивыми и адекватно вписанны-
ми в культурную среду символическими капиталами, которые можно было
бы задействовать в создании легитимационной базы, обречены на отработ-
ку одной из двух противоположных символических стратегий: они должны
либо присвоить уже имеющиеся символические капиталы, «изъяв» их у
традиционного пользователя, либо создать новый символический капитал
и обосновать его преимущественную ценность по сравнению с уже имею-
щимися. Эта дихотомия кажущаяся, поскольку чаще всего символические
капиталы, выдаваемые за новые, являют собой всего лишь более или менее
складно сшитые лоскутные одеяла из старых, которые по тем или иным
причинам невозможно присвоить. То же касается и «носителей» - средств
и способов репрезентации и трансляции «новых» или «присвоенных»
социальных капиталов. Новое вино не просто вливается в старые мехи:
устоявшиеся в рамках прежних традиций дискурсивные (в частности, ли-
тературные) жанры присваиваются и наделяются статусом «нового кано-
на», который подавляет и вытесняет каноны прежние. Потребность новой
советской элиты в легитимирующей литературной традиции просто была
Смерть героя
обязана - в силу сложившейся в Европе еще со времен Августа привыч-
ки - реализоваться в крупной эпической форме.
По унаследованной от XIX в. традиции такой формой считается в пер-
вую очередь роман, «буржуазный эпос», который должно теперь очистить
от всего буржуазного и вернуть в незамутненный статус эпоса. Уже в пер-
вой половине - середине 1920-х годов появляется, «как по заказу», немалое
количество подобных «де-романизированных» романов, претендующих на
роль «красного эпоса». И почти сразу же эстафету подхватывает новый
носитель эпического начала - кинематограф, в особенности после того как
«великий немой» обретает голос.
«Де-романизация», разрушение «буржуазного» романного начала за-
ключается, в частности, в ликвидации либо существенной модификации
любовного сюжета. Показательно, что в фадеевском «Разгроме» «роман-
ная» любовная тема подана в тесной связи с двумя откровенно отрицатель-
ными персонажами, Чижом и Мечиком, «примазавшимися» к революции
«интеллигентами», она плоть от плоти связанной с ними культурной тра-
диции, и автору в конечном счете куда симпатичнее простой натуралисти-
ческий секс в исполнении Морозки и прочих периодических обладателей
единственной на весь отряд женщины. В фурмановском «Чапаеве» данный
элемент сюжета присутствует исключительно на латентном уровне - в
качестве общедидактической темы «женщины на фронте». К этой теме из
раза в раз назойливо возвращается автор; позже, при переработке откровен- _
но слабого романа в сценарий культового фильма19, она отольется в образ 311
«валькирии-пулеметчицы» Анки. В наиболее раннем (и наиболее близком
к традиционным натуралистическим канонам) «Железном потоке» Сера-
фимовича эта тема всплывает только в самом начале романа как некая не
подлежащая воплощению возможность. Позже, в «Как закалялась сталь»,
Островский наконец окончательно расставит все точки над «i».
Как закалялась сталь
Роман Николая Островского «Как закалялась сталь» - произведение
по-своему гениальное. Не в плане художественных достоинств, поскольку
роман написан неровно, шит на живую нитку и носит следы неряшливой и
весьма поспешной редактуры: в нем то и дело (особенно во второй части)
появляются персонажи и обстоятельства, о которых читатель явно должен
знать из предшествующего повествования, - но нет, не знает. Гениален этот
текст по той незамутненной уверенности, с которой он жонглирует оскол-
ками иных дискурсивных традиций и встраивает их - где-то вполне (под-
черкнуто!) осознанно, где-то по наитию - в свою собственную структуру
и фактуру. Этот текст - мечта антрополога, и, честно говоря, я несколько
удивлен тем обстоятельством, что до меня никто, насколько мне известно,
не попытался подойти к нему с антропологическим инструментарием: воз-
можно, просто в силу того, что антропология в отечественном гуманитар-
ном знании до сих пор остается дисциплиной откровенно маргинальной.
Первые же главы романа вводят исследователя с минимальным фило-
логическим багажом во искушение попытаться натянуть романный текст
го I Совэпос
на выделенную В.Я. Проппом структуру волшебной сказки. Стартовая
ситуация «недостачи» прописана в романе со всей душещипательной прон-
зительностью, которая досталась русскому XX веку в наследство от двух
неразлучных, как Кастор и Полидевк, литературных близнецов века XIX -
романтической и натуралистической традиций. Протагонист являет собой
классическую фигуру «замарашки», младшего и социально неадаптивного
сына из сказочной традиции, от которого сам жанр настоятельно рекомен-
дует ожидать путешествий, подвигов и финального «воцарения». Однако
прагматика этого текста совсем иная, и если героя действительно ожида-
ют впереди странствия, инициационные процедуры и обретение более
высокого статуса, то строится эта сюжетная логика совершенно в другом
семантическом ключе. Перед нами не герой «крестьянской» волшебной
сказки, у которого собственный путь к иному социальному бытию совме-
щен с восстановлением нарушенного в самом начале повествования обще-
го равновесия. Перед нами герой эпический, т. е. ориентированный - вне
зависимости от собственной принадлежности к ранним, сугубо воинским
или к поздним, «романным», прошедшим через формирующее воздействие
«игривой» культуры эпическим жанрам - исключительно на собственную
судьбу.
Первый же сюжетный эпизод демонстрирует нам эту «волчью» при-
роду персонажа со всей очевидностью. У него, у единственного во всем
классе церковно-приходской школы, нет карманов. Герою, рожденному на
свет с единственной, все и вся затмевающей целью - сподобиться воистину
героической смерти - карманы ни к чему. Он по определению гол как со-
кол, он ничего не должен и не может накапливать, ибо цель его - тотальное
саморазрушение, и память о себе он должен оставить не «в ряде цветущих
детей», а «в молве и песне».
Дальнейшая презентация персонажа построена на ряде эпизодов, ста-
рательно демонстрирующих его принципиальный отказ от включения в
сколько-нибудь «статусную» жизнь. Любые другие персонажи, имеющие
какой бы то ни было статус, условно возвышающийся над «социальным
нулем», являются частью «системы» и как таковые пребывают с протаго-
нистом в непрерывном и бескомпромиссном антагонизме. Официанты в
станционном буфете, в который устраивается на работу исключенный из
школы Павел Корчагин, принадлежащие к промежуточному слою «при-
мазавшихся к барам», все как один - мерзавцы. Крайне неприятны и гим-
назисты, принадлежащие к одному с Павлом возрастному классу, но также
включенные в «систему».
Причем уже на этом, начальном, этапе развития сюжета выявляется
одна весьма примечательная особенность авторской позиции по отноше-
нию к персонажу. Автор никогда не оставляет протагониста в проигрыше: в
полном соответствии со сказочными и эпическими моделями и в противо-
речии с «жалостной» моделью нравоописательного романа. Протагонист,
принципиальный разрушитель, при этом никогда не виноват в столкновении
с «системой» - неизменно выходит так, что «они сами начали», после чего
протагонист обязательно оказывается на коне. Так, причиной, по которой
Павел теряет работу в станционном буфете, становится, выражаясь языком
протокола, «халатность, повлекшая за собой порчу личного имущества пас-
сажиров»: он забывает закрыть кран, и хлынувший кипяток заливает стан-
ционный зал и стоящий на полу багаж. Сам мальчик, естественно, ни в чем
не виноват - он просто устал и уснул. Зато мерзавцу-официанту Прохошке,
который избивает Павла за эту провинность, приходится плохо: старший
брат героя Артем избивает, в свою очередь, обидчика несовершеннолетних.
В столкновении с гимназистами у пруда Павел и вовсе никого не трогает и
ловит себе рыбу на глазах у заинтересованной девушки. Гимназист Сухарь-
ко, сын начальника депо и, следовательно, ярый классовый враг, ведет себя
по отношению к Корчагину нагло до крайности и всячески демонстрирует
презрение к «быдлу». Он старше Павла на два года и имеет репутацию
«первого драчуна и скандалиста» (НО, 42). И до чего же кстати буквально
за три страницы до этого только что появившийся в романе матрос Жухрай
учит малолетнего правонарушителя началам английского бокса! Павел по-
казательно расправляется с зарвавшимся хамом на глазах у своей будущей
пассии, реакция которой на происходящее выглядит крайне странно для
девочки из приличной семьи:
А на берегу безудержно хохотала Тоня.
- Браво, браво! - кричала она, хлопая в ладоши. - Это замечательно! (НО, 45)
Не менее странно, в полном противоречии с вечными законами стай-
ной подростковой этики с ее святым «наших бьют», реагирует на избиение
товарища и приятель Сухарько, еще один неприятный гимназист, Виктор
Лещинский - он просто стоит в сторонке и фактически представляет даме
победителя, снимая тем самым с последнего необходимость проявлять ини-
циативу при последующем знакомстве: «Это самый отъявленный хулиган,
Павка Корчагин» (НО, 45). Впрочем, о странностях авторской позиции по
отношению к протагонисту чуть ниже, а пока о странностях иного рода - в
трактовке центральной темы всей европейской романной традиции - темы
любовной.
Среди канонических советских романов 1920-1930-х годов «Как за-
калялась сталь» в отношении метаморфоз этой темы является в каком-то
смысле эталонным текстом. В отличие от «Чапаева», «Разгрома» и «Желез-
ного потока» он пишется не по свежим следам недавних революционных
событий, а как раз тогда, когда в результате ожесточенной борьбы между
различными группировками внутри пришедшей к власти большевистской
«стаи» начинает в полной мере формироваться «единственно верная» точ-
ка зрения на произошедшие в стране перемены. И партия «начинает по-
нимать», чего она хочет от своей литературы - когда наступает время фор-
мирования легитимационного канона правящей элиты. Текст Островского
занимает в формировании этого канона вполне определенную нишу: это не
только роман воспитания, но и воспитательный роман, он ориентирован на
молодежь и создает образ не просто «борца революции», но «молодого бор-
ца революции», который должен стать эталоном для колоссальной целевой
аудитории.
В традиционно-романном начале текста любовный сюжет подан как
некое искушение, через которое главному герою необходимо пройти, дабы
отринуть его как помеху на пути героического становления: к 30-м годам
Смерть героя
313
д I Совэпос
термин «становление» применительно к героям советского эпоса вполне
закономерен, ибо опыт романтического Bildungsroman уже не вызывает
отторжения, а подлежит «творческой переработке». В 20-е годы, слишком
близкие к собственно героической эпохе, герой воспринимается почти так
же, как герой традиционной эпической традиции - как заранее «ставшее»
целое, неотделимое от собственной героической сути/смерти, а потому не
подлежащее какому бы то ни было «становлению».
Впрочем, и «искушение любовью», списанное с романтически-
революционной европейской сюжетики образца XIX в. («Пармская
обитель», «Ванина Ванини» и прежде всего, конечно, «Овод»), подается
в весьма специфическом ракурсе. Герой Островского настолько плотно
и без остатка вписывается в давно забытые эпические поведенческие ма-
трицы, что романтические персонажи здесь «рядом не стояли». Однако
по порядку.
Начнем с проблемы рецепции романа той самой целевой аудиторией,
для которой он, собственно, и был предназначен. С потрясающим едино-
душием опрошенные мной мужчины, читавшие «Как закалялась сталь»
в советском школьном детстве, - вне зависимости от того, приходилось
это детство на 60-е, 70-е или 80-е годы - сходились в оценке этого текста
как наделенного мощной эротической составляющей. И действительно, в
романе, посвященном революционной борьбе и последующим годам ста-
новления советской власти, в романе, герой которого без остатка положил
свою жизнь на алтарь революции и до самых последних страниц остается
неженатым и, судя по всему, девственником, удивительно много сцен,
связанных с сексуальными аспектами человеческой жизни. Нет, кажется,
ни одного законченного смыслового эпизода, который в той или иной
степени не содержал бы эротического элемента - идет ли речь о службе
несовершеннолетнего Павла в станционном буфете, о взятии города пет-
люровцами, об истории героического освобождения Павлом матроса Жух-
рая из-под стражи, о налаживании комсомольской работы в городе или в
деревне или о лечении тяжело больного героя в Крыму. Причем эротика
эта носит откровенно подростковый, «волчий» характер, не имеет никакого
отношения к статусному, прокреативному сексу и выводит на весьма за-
нятные моральные аспекты оценки персонажей романа. Любой мужской
персонаж, проявляющий какую бы то ни было самостоятельность и/или
активность в общении с женщинами, непременно либо враг, либо мерзавец.
Напротив, положительные герои (и прежде всего сам протагонист) явля-
ются объектами активного, порой до назойливости, женского внимания.
В сравнительно небольшом по объему романе имеется семь (!) сцен,
связанных с изнасилованием или попыткой изнасилования. Занявшие го-
род петлюровцы насилуют еврейских женщин и девушек во время погрома
(НО, 77-79) и крестьянскую девушку Христину (НО, 103-104), белопо-
ляки - арестованных комсомолок (НО, 159), уголовники пытаются изна-
силовать на глазах у Павла товарища Анну Борхарт (НО, 267-272). Это
враги. Характеристика «примазавшихся к своим» также зачастую дается
именно через такого рода сцены: красноармейцы (естественно, из прибив-
шихся к «нашим частям» махновцев) насилуют жену польского офицера,
после чего их показательно карают красные латышские стрелки (НО,
153); один карьерист и приспособленец, краском с говорящей фамилией
Чужанин, пытается изнасиловать первую любовь Павла Тоню Туманову,
а другой, комсомольский активист с не менее показательной фамилией
Развалихин, - комсомольскую активистку Лиду (НО, 290-291). Впрочем,
даже простая демонстрация мужским персонажем откровенного интереса к
противоположному полу в целом или к отдельным его представительницам
четко свидетельствует о том, что это персонаж отрицательный: либо априо-
ри (гимназисты, петлюровцы, завокрнархозом Файло), либо со временем
проявит свою истинную сущность (Чужанин, Дубава, Цветаев). И даже
подчеркнутый акцент на «привлекательности» мужчины (опрятность,
красивое лицо и т. д.) есть недвусмысленная моральная характеристика:
если при первом знакомстве с персонажем читатель получает подобную
информацию, значит, человечишка окажется дрянь20.
При этом сам протагонист, а также некоторые другие положительные
персонажи романа (например, Сережа Брузжак) буквально окутаны - от
эпизода к эпизоду - эротической аурой, всплескивающей подчас неожи-
данно, но зато более чем внятно: вплоть до той зыбкой границы, которая
отделяет эротику от порнографии. Причем, как и было сказано выше, эро-
тическая инициатива здесь никогда не исходит от мужского персонажа.
Вот самое начало романа. Возле дома Павла Корчагина собирается
окрестная молодежь; Павел - гармонист и, понятное дело, центр компании:
Собралась на бревнах, у дома, где жил Павка, молодежь смешливая, а звонче
всех - Галочка, соседка Павкина. Любит дочь каменотеса потанцевать, попеть
с ребятами. Голос у нее - альт, грудной, бархатистый.
Побаивается ее Павка. Язычок у нее острый. Садится она рядом с Павкой на
бревнах, обнимает его крепко и хохочет:
- Эх ты, гармонист удалой! Жаль, не дорос маленько парень, а то бы хороший
муженек для меня был. Люблю гармонистов, тает мое сердце перед ними.
Краснеет Павка до корней волос - хорошо, вечером не видно. Отодвигается от
баловницы, а та его крепко держит - не пускает.
- Ну, куда же ты, миленький, убегаешь? Ну и женишок, - шутит она.
Чувствует Павка плечом ее упругую грудь, и от этого становится как-то тре-
вожно, волнующе, а кругом смех будоражит обычно тихую улицу.
Павка упирается рукой в плечо Галочки и говорит:
- Ты мне мешаешь играть, отодвинься (НО, 32).
Галочка - то самое ружье, которому так и не суждено будет выстрелить
в этом тексте, одно из великого множества подобных ружей. Читатель
встречается с ней в первый и в последний раз (если не считать случайного
упоминания: НО, 235), и если этот персонаж нужен не для создания пре-
цедента упомянутой выше эротической поведенческой матрицы, тогда не-
понятно - зачем вообще он понадобился автору.
Первый и единственный скроенный по классическим романным образ-
цам любовный сюжет Павла Корчагина - история юношеской влюблен-
ности в дочь лесничего Тоню Туманову - начинается буквально через
несколько страниц, и инициатором, как и следовало ожидать, выступает
барышня. Начало третьей главы - образец неоднократно применяемого
Смерть героя
315
Совэпос
далее в романе приема: повествовательная точка зрения на какое-то время
совмещается с точкой зрения женского персонажа; далее повествование
выходит на протагониста, маркируя новый этап становления последнего;
как только это произошло, автор возвращается к привычной манере изло-
жения21. Скучающая девушка с романом в руках выходит из дома и сада,
идет прогуляться - и замечает юного парию, который удит рыбу. Она пер-
вая заводит разговор, наталкивается на подчеркнуто «сердитую» (НО, 41)
реакцию со стороны Корчагина; засим следует сцена драки с гимназистом
Сухарько. Следующий эпизод завязывающегося понемногу романа на-
чинается с того, что Тоня подглядывает из кустов за Павлом: тот плавает
в озере, голый. После короткого разговора именно девушка предлагает
пройтись, вернее, пробежаться до города вместе и провоцирует молодого
человека на игру в догонялки.
Стояли оба, запыхавшиеся, с колотившимися сердцами, и выбившаяся из сил
от сумасшедшего бега Тоня чуть-чуть, как бы случайно, прижалась к Павлу и
от этого стала близкой. Было это одно мгновение, но запомнилось.
- Меня никто догнать не мог, - говорила она, освободившись от его рук (НО, 58).
Общий романтический колорит этой сюжетной линии то и дело подчер-
кивается явными отсылками к соответствующей традиции. Павел, вернув-
___ шись в тот же день в кочегарку и проделав необходимые производственные
316 процедуры, достает из ящика 62-й выпуск «сериала» «Джузеппе Гарибаль-
ди» и читает фразу: «Посмотрела она на герцога своими прекрасными си-
ними глазами...» (НО, 59). Тоня, едва расставшись с молодым человеком,
актуализирует несколько иной контекст - романтическую мифологему о
благородном дикаре, эротический22 потенциал которой испокон обильно
использовался и используется игривой и просто массовой культурой: «Его
можно приручить, - думала она, - и это будет интересная дружба» (НО, 59).
Если принять во внимание семантическую маркированность про-
странства, то и дальнейшее поведение героини без остатка укладывается
в предложенную выше логику. Она настойчиво - следуя едва ли не ска-
зочной логике последовательного нанизывания значимых иниционных
эпизодов - затягивает сопротивляющегося Павла сперва к себе в сад, потом
в дом, а потом и в собственную комнату.
Кульминационной точки «литературный» роман Павла и Тони дости-
гает после того, как Павлу, арестованному за нападение на часового, удает-
ся по счастливой случайности выйти из петлюровской тюрьмы. Дома ему
появляться нельзя, и в полном соответствии с канонами романтической
литературы убежище герою предоставляет возлюбленная. Эпизод этот
совершенно нелеп с точки зрения бытовых поведенческих мотиваций, и
подростковыми эротическими «рассказками» от него веет за версту.
Тоня упрашивает мать оставить незнакомого той молодого человека,
принадлежащего к значительно более низкой социальной страте, на ночлег.
Глаза дочери умоляюще посмотрели на мать.
Та испытующе смотрела в глаза Тоне:
- Хорошо, я не возражаю. А где же ты устроишь его?
Тоня зарделась и смущенно, волнуясь, ответила:
- Я устрою его у себя в комнате на диване. Папе можно будет пока не говорить
(НО, 118).
В доме есть и другие комнаты, но мать принимает совершенно всерьез
глубоко продуманную мотивацию насчет «не говорить папе» и укладывает
беглого арестанта спать в одной комнате с собственной дочерью. Может
быть, я чего-то не знаю о нравах, царивших в интеллигентских семьях го-
рода Шепетовки в 1918 г., но за пределами Шепетовки подобное поведение
показалось бы крайне странным даже и в семье фабричного.
После этого следует «игривая» сцена с переодеванием: Павла не-
обходимо искупать, переодеться ему не во что, и Тоня предлагает ему
собственный маскарадный матросский костюм. После купания и обеда
одетый в матросский костюмчик борец за счастье трудового народа на-
пряженно думает... о Гарибальди!
- О чем ты думаешь? - спросила, нагнувшись над ним, Тоня.
Ее глаза кажутся ему бездонными в своей темной синеве23.
- Тоня, хочешь, я расскажу тебе о Христинке?..
- Рассказывай, - оживленно сказала Тоня (НО, 120).
И далее следует рассказ о еще более нелепом и еще более надсадном
подростково-эротическом эпизоде, который Павел пережил в тюрьме. Кре-
стьянская девушка, которую петлюровцы арестовали вместо ушедшего к
красным брата, оказывается в той же камере, что и Павел, и, естественно,
делится с соседкой своей нелегкой судьбой. Корчагин подслушивает -
впрочем, ему еще придется получать эротическую информацию именно та-
ким образом: в этом романе эротические по содержанию сцены достаточно
часто подаются через подглядывание/подслушивание/чужие воспомина-
ния. Петлюровский комендант уговаривает девушку отдаться, угрожает, а
потом, получив отказ, обещает отправить ее в караулку к казакам. Однако
вместо того чтобы выполнить угрозу немедленно, зачем-то отправляет
девушку на ночь в общую камеру, поближе к Корчагину, к которому она
и подползает ночью - за участием и поддержкой (при том что историю
свою она рассказывала не ему, а соседке-спекулянтке), а потом проявляет
неожиданную инициативу:
Рыдания девушки стихли. ... Крепко спит дедка. Медленно ползли неощути-
мые минуты. Не понял, когда крепко обняли руки и притянули к себе.
- Слухай, голубе, - шепчут горячие губы, - мени все равно пропадать: як не
офицер, так те замучат. Бери мене, хлопчику милый, щоб не та собака дивич-
ность забрала.
- Что ты говоришь, Христинка?
Но крепкие руки не отпускали. Губы горячие, полные губы, от них трудно уйти.
Слова дивчины простые, нежные, - ведь он знает, почему эти слова.
И вот убежало куда-то в сторону сегодняшнее. Забыт замок на двери, рыжий
казак, комендант, звериные побои, семь душных, бессонных ночей, и на миг
остались только горячие губы и чуть влажное от слез лицо.
Смерть героя I со
col Совэпос
Вдруг вспомнилась Тоня.
«Как можно ее забыть? ... Чудные, родные глаза».
Хватило сил оторваться. Как пьяный, поднялся и взялся рукой за решетку.
Руки Христины нашли его.
- Чего же ты?
Сколько чувства в этом вопросе! Он нагибается к ней и, крепко сжимая руки,
говорит:
- Я не могу, Христина. Ты - хорошая... - и еще что-то говорил, чего сам не
понял.
Выпрямился, чтобы разорвать нестерпимую тишину, шагнул к нарам. Сев на
краю, затормошил деда:
- Дедунь, дай закурить, пожалуйста.
В углу, закутавшись в платок, рыдала девушка (НО, 104).
Мотивация, что и говорить, совершенно логичная для девушки, которую
назавтра ждет групповое изнасилование. Больше всего ее, как выясняется,
заботит, кто будет ее первым мужчиной24. Шепетовские нравы поворачи-
ваются к нам еще одной неожиданной стороной - еще более неожиданной
оттого, что Павел первым делом считает необходимым рассказать об этом
случае Тоне Тумановой и обретает весьма заинтересованного слушателя.
Стоит ли удивляться, что еще парой страниц ниже эротическая линия
возобновляется — все в том же регистре: женская инициатива плюс отсут-
ствие финальной разрядки. Стилистика говорит сама за себя:
Юность, безгранично прекрасная юность, когда страсть еще непонятна, лишь
смутно чувствуется в частом биении сердец; когда рука испуганно вздрагивает
и убегает в сторону, случайно прикоснувшись к груди подруги, и когда дружба
юности бережет от последнего шага! Что может быть роднее рук любимой, об-
хвативших шею, и - поцелуй - жгучий, как удар тока!
За всю дружбу это второй поцелуй25. Корчагина, кроме матери, никто не ла-
скал, но зато били много. И тем сильнее чувствовалась ласка. <...>
Он чувствует запах ее волос и, кажется, видит ее глаза.
- Я люблю тебя, Тоня! Не могу я тебе этого рассказать, не умею...
Прерываются его мысли. Как послушно гибкое тело! ... Но дружба юности
выше всего.
- Тоня, когда кончится заваруха, я обязательно буду монтером. <...>
И, боясь заснуть обнявшись, чтобы не увидела мать и не подумала нехорошее,
разошлись.
Уже просыпалось утро, когда они уснули, заключив крепкий договор не забы-
вать друг друга (НО, 123).
Этот эпизод - переломный в отношениях протагониста со своей первой
любовью: в дальнейшем отыгравшая свою роль, а потому быстро обуржуа-
зившаяся Тоня станет помехой на пути становления героя, которого не-
терпеливо ожидают другие, не менее инициативные женщины, по одной на
каждом значимом этапе. И везде схема будет одной и той же - бесплодная
и надсадная «волчья» эротика, по определению лишенная возможности
вылиться во что-то устойчивое и созидательное. Герои ремарковско-
хемингуэевского «потерянного» образца в этом отношении - младшие
братья Павла Корчагина, чуть более мастеровито выписанные и потому не
настолько нелепые. Неслучайно именно «трагический героизм потерянно-
го поколения» показался таким родным и знакомым советскому читателю
1950-1960-х годов, усердно читавшему в школе Николая Островского, и
породил длинную череду отечественных подражаний, вплоть до штандар-
тенфюрера СС М.М. Исаева.
Впрочем, вернемся к героям Островского. На инициативных женщин
везет не только Павлу Корчагину: есть в романе и другие положительные
персонажи. Сережа Брузжак, друг детства Павла Корчагина и секретарь
местного комсомольского райкома, испытывает симпатию к начальнице
агитпропа стоящей в городе красной дивизии Рите Устинович. Первая же,
совершенно детская попытка выказать интерес к «товарищу Рите» натал-
кивается на жесткий отпор:
Поздно ночью, провожая ее на станцию, где жили работники подива, Сережа
неожиданно для себя спросил:
- Почему, товарищ Рита, мне всегда хочется тебя видеть? - И добавил: - С то-
бой так хорошо! После встречи бодрости больше и работать хочется без конца.
Устинович остановилась:
- Вот что, товарищ Брузжак, давай условимся в дальнейшем, что ты не будешь
пускаться в лирику. Я этого не люблю.
Сережа покраснел, как школьник, получивший выговор.
- Я тебе, как другу, сказал, - ответил он, - а ты меня... Что я такого контрре-
волюционного сказал? Больше, товарищ Устинович, я, конечно, говорить не
буду! (НО, 140)
Через несколько дней Устинович еще раз выговаривает молодому че-
ловеку - уже за то, что он «в мещанское самолюбие ударился» и «личный
разговор переводит на работу», но при попытке последнего пожать ей руку
снова осаживает его (НО, 141). А еще через какое-то время окончательно
проявляет свою валькирическую сущность, вступив с героем (пассивно
принимающим любую ее инициативу) в сексуальную связь после инициа-
ции на оружии'.
- На, - передавая ему револьвер, сказала Рита насмешливо, - посмотрим, как
ты стреляешь.
Из трех выстрелов Сережа промазал один. Рита улыбалась:
- Я думала, у тебя будет хуже.
Положила револьвер на землю и легла на траву. Сквозь ткань гимнастерки вы-
рисовывалась ее упругая грудь.
- Сергей, иди сюда, - проговорила она тихо.
Он придвинулся к ней.
- Видишь небо? Оно голубое. А ведь у тебя такие же глаза. Это нехорошо.
У тебя глаза должны быть серые, стальные. Голубые - это что-то чересчур
нежное.
И, внезапно обхватив его белокурую голову, властно поцеловала в губы
(НО, 144).
Смерть героя I со
о I Совэпос
Итак, положительные герои романа, и в первую очередь сам протаго-
нист, строго совместимы с таким устойчивым литературным типом, как
reluctant lover («сопротивляющийся любовник»), - в свою очередь, четко
выводимым на длинную цепочку мифологических персонажей (Адонис,
Ипполит, Дафнис и т. д.), связанных - исходя из представленной здесь
точки зрения - с вполне конкретным мужским социально-возрастным
статусом и с соответствующими группами сюжетов и культурных кодов.
Актуализация этого культурного багажа в довольно примитивном в плане
общего культурного бэкграунда романе Островского представляет собой
отдельную проблему - в отношении как возможных источников, так и ме-
ханизмов подобного «припоминания». Не доверяя теориям, исходящим из
имманентности семантических структур («архетипов», «символов», «ми-
фологем» и т. д.), я склоняюсь к мысли о наличии значимой связи между
массовой актуализацией маргинальных форм и норм человеческого по-
ведения в периоды масштабных социальных кризисов, подобных кризису
середины 1910 - начала 1920-х годов в России, способами культурной ле-
гитимации новых, маргинальных по происхождению элит и конкретными
семантическими комплексами, «удобными» для использования в «новых»
репрезентативных, меморативных и легитимационных стратегиях. Эти се-
мантические комплексы могут казаться довольно архаичными с точки зре-
ния существующей культурной традиции просто в силу того, что, будучи
связанными с давно утратившими актуальность формами поведения, либо
вовсе не рефлексировались культурой, либо рефлексировались в сильно
сглаженной и искаженной - «игривой» - форме: так, ритуальное противо-
стояние «волка» и «пса» трансформируется в сюжетную основу любовного
романа. Они могут сохраняться в культурной памяти сообществ на самых
разных уровнях - от «высокой» письменной культуры, которая вполне
осознанно воспринимается новыми элитами как значимый символический
ресурс, подлежащий экспроприации у прежних элит, и до бытовых пове-
денческих и дискурсивных стратегий, обычно не осознаваемых носителями
как самостоятельный ресурс культурной памяти. Но приходит пора, и они
вдруг оказываются удивительно актуальными, что воспринимается носи-
телями «новой» культуры либо как симптом действительной радикальной
«новизны», либо как симптом глубинной интуитивной «мифологичности»
(при том что одно другого, собственно, не исключает). И пора эта, как пра-
вило, совпадает с масштабным процессом переформатирования элит и -
параллельным или чуть отстающим во времени - процессом выстраивания
в интересах свежесформированных элит уже упомянутых репрезентатив-
ных, меморативных и легитимационных стратегий.
Как раз процесс формирования новой элиты и есть вторая (после уже
проанализированной выше эротической) базовая тема романа «Как зака-
лялась сталь», если, конечно, иметь в виду только скрытые - осознанно или
неосознанно - авторские интенции, своего рода «скрытый учебный план»,
таящийся за интенциями прямыми. Роман самым показательным образом
разделен на две части, первая из которых посвящена периоду до 1921 г., т. е.
до окончания Гражданской войны, а вторая - периоду становления новой
власти. Совершенно логичной выглядит и смена базового пафоса: в первой
части это пафос «волчий», разрушительный, во второй - «песий», охрани-
тельный. Сюжетная схема советского нормативного романа воспитания
про «начало времен» обретает свою каноническую форму. «Неявная» тема
формирования новой элиты, естественно, становится базовой темой вто-
рой части романа.
Первая, «волчья», часть фактически заканчивается символической
смертью главного героя: врачи ставят его на ноги после тяжелого ранения,
но к строевой службе он уже не годен (эпизод из второй части романа с
прикомандированием Павла к одной из частей Красной армии только под-
твердит этот факт). Погибает за несколько страниц до окончания первой
части и инициированный валькирией Устинович в героический статус
Сергей Брузжак. Еще один персонаж второго плана, Иван Жаркий, закан-
чивает свою красноармейскую карьеру в Крыму, перейдя Сиваш и получив
орден Красного Знамени. Площадка расчищена для следующего акта -
превращения маргинальной «волчьей» стаи в новую правящую элиту.
Правда, речь идет об элите специфической: «Как закалялась сталь» -
роман про комсомол. Впрочем, сама эта специфичность весьма показа-
тельна. Герои «начала времен» должны остаться вечно молодыми - даже
и после того как вросли в новый истеблишмент, способы формирования
которого показаны автором порой настолько наивно, что выглядят едва ли
не пародией.
Вот перед нами - описанная еще в первой части - сцена формирования
райкома комсомола в занятой красными Шепетовке:
В ревком направляется товарищ Игнатьева. Она обращает внимание на моло-
денького красноармейца и спрашивает:
- Сколько вам лет, товарищ?
- Пошел семнадцатый.
- Вы здешний?
Красноармеец улыбается:
- Да я только позавчера во время боя в армию вступил.
Игнатьева всматривается в него:
- Кто ваш отец?
- Помощник машиниста.
В калитку входит Долинник с каким-то военным. Игнатьева, обращаясь к
нему, говорит:
- Вот я заправилу в райком комсомола подыскала, он местный (НО, 130).
Лидером районной комсомольской организации становится случайно
выхваченный «ответственным товарищем» из толпы рядовой, который,
кстати, прибивается к красным буквально за день до этого и столь же слу-
чайно26. Однако он тут же вливается в работу, престижные символические
аспекты которой автор немедленно выставляет напоказ:
Он, Сережа Брузжак, - большевик. И в десятый раз вытаскивал из кармана по-
лосочку белой бумаги, где на бланке комитета КП(б)У было написано, что он,
Сережа, комсомолец и секретарь комитета. А если бы кто и подумал сомневать-
ся, то поверх гимнастерки, на ремне, в брезентовой кустарной кобуре, висел
Смерть героя I со
ю I Совэпос
внушительный «манлихер» ... Это убедительнейший мандат! <...> Он выбегает
на улицу. Работник политотдела ждет их у ревкома с автомашиной (НО, 130).
Самое забавное, что в последнюю очередь, уже проработав на новой
должности не один день («Сережа целыми днями бегал по поручениям рев-
кома» - НО, 130), новоиспеченный молодежный лидер получает еще одну,
как бы совершенно необязательную вещь. Товарищ Устинович в первый
раз принимает в его судьбе посильное участие:
На прощание она нагрузила его тюком литературы и, особо, маленькой кни-
жечкой - программой и уставом комсомола (НО, 131).
Но более всего скрытые авторские интенции в отношении «новых
советских» проявляются, конечно же, применительно к протагонисту.
В самом начале второй части романа помещен крайне показательный
эпизод. Павел Корчагин и Рита Устинович едут «на одну из уездных кон-
ференций». Ехать нужно поездом. На поезд сесть сложно - и вот здесь-то
кристальная, фанатическая принципиальность борца за дело революции
Павла Корчагина являет себя в истинном свете. Попасть на перрон прак-
тически невозможно, но нет таких крепостей, которые не могли бы взять
большевики, если уж они оказались у власти:
Павел видел, что сесть обычным порядком в этот поезд не удастся, но ехать
было необходимо, иначе срывалась конференция.
Отозвав Риту в сторону, посвятил ее в свой план действий: он проберется в
вагон, откроет окно и втянет в него Риту. Иначе ничего не выйдет.
- Дай мне свою куртку, она лучше любого мандата.
Павел взял у нее кожанку, надел, переложил в карман куртки свой наган, на-
рочито выставив рукоять со шнуром наружу. Оставив сумку с припасами у ног
Риты, пошел к вагону. Бесцеремонно растолкав пассажиров, взялся рукой за
перила.
- Эй, товарищ, куда?
Павел оглянулся на коренастого чекиста.
- Я из Особого отдела округа. Вот сейчас проверим, все ли у вас погружены с
билетами посадкома, - сказал Павел тоном, не допускающим сомнений в его
полномочиях.
Чекист посмотрел на его карман, вытер рукавом пот со лба и сказал безраз-
личным тоном:
- Что ж, проверяй, если влезешь.
Работая руками, плечами и кое-где кулаками, взбираясь на чужие плечи, под-
тягиваясь на руках... Павел все же пробрался в середину вагона (НО, 183).
Начало хорошее: безбилетный большевик Корчагин лжет товарищу-
большевику, чтобы попасть в поезд. Никаких особых прав у него нет, однако
сам он уверен в противном - он выше и значимее всех этих людей, которые
едут куда-то по каким-то своим мелким делишкам. Корчагин с товарищем
Ритой едут на одну из уездных конференций, говорить речи. И для дости-
жения этой, высшей с точки зрения мировой справедливости, цели хороши
любые средства. Показателен и символический код, к которому прибегает
Павел, чтобы произвести впечатление на чекиста: кожаная куртка и наган
выдают в нем «своего», члена захватившей власть «стаи», - следовательно,
ему по определению дозволено если не все, то почти все.
Пробравшись в вагон и втащив в окно попутчицу, Павел забывает было
о наведении справедливости («Кругом были чужие, похабные лица. Павел
пожалел, что Рита здесь, но надо было устраиваться» - НО, 185). Однако
классово чуждый элемент - т. е. собственно простые граждане, пытающие-
ся хоть как-то выжить, налаживая уничтоженную большевиками систему
продовольственного снабжения, - проявляет хамство, не желая мириться
с хамством большевистским, а это уже совершенно недопустимо. Срабаты-
вает устойчивая сюжетная схема: протагониста долго обижают, после чего
вдруг выясняется, что у него и у его спутницы в карманах по револьверу.
И обидчики получают по заслугам: мстительный автор не останавливает
протагониста на достигнутом. Освободив в битком набитом вагоне для
себя и Риты целую полку, Павел идет в Управление транспортной ЧК, где
командует его старый знакомый, и чекисты берутся за дело всерьез:
Отряд, состоявший из десятка чекистов, выпотрашивал вагон. Павел, по старой
привычке, помогал проверять весь поезд. Уйдя из ЧК, он не порвал связи со
своими друзьями, а в бытность секретарем молодежного коллектива послал
на работу в УТЧК немало лучших комсомольцев. Окончив проверку, Павел
вернулся к Рите. Вагон наполнили новые пассажиры - командированные и
красноармейцы (НО, 186).
Заканчивается эпизод очередной валькирической инициативой:
Из окна веяло свежестью ночи. От толчка Рита проснулась. Она заметила ого-
нек папироски Павла. «Он так до утра просидеть может. Ясно, не хочет меня
стеснять», - подумала Рита.
- Товарищ Корчагин! Отбросьте буржуазные условности, ложитесь-ка вы от-
дыхать, - шутливо сказала она. <...>
- Завтра нам работы уйма. Спи, забияка. - Ее рука доверчиво обняла друга, и у
самой щеки он почувствовал прикосновение ее волос (НО, 186).
Стайный принцип являет себя в этой и подобных сценах со всей очевид-
ностью. «Людьми» считаются только «свои» - большевистски ориентиро-
ванные пролетарии. У всего остального населения страны - чужие, похабные
лица. Если же речь заходит о крестьянстве, т. е. собственно о подавляющем
большинстве населения, автор начинает транслировать полноценную клас-
совую ненависть - отчетливую и бескомпромиссную, значительно более
отчетливую и бескомпромиссную, чем в отношении «настоящих» классовых
врагов. Еще бы: роман писался по свежим следам массовой коллективиза-
ции - пожалуй, самого страшного из реализованных тоталитарных больше-
вистских проектов, - и волчью ненависть к жертве ограбления нужно было
срочно переводить в «охранительную» моральную плоскость.
Так, старший брат Павла Артем на время сбивается с пути истинного,
женившись на крестьянской девушке. Описание короткого визита Павла
Смерть героя I со
^1 Совэпос
в гости к брату выполнено в стилистике весьма показательной: сквозь
«классовое задание», которое старательно отрабатывает автор, то и дело
проскальзывают отчетливые черты колониального дискурса:
Артем жил в семье своей жены, неприглядной молодухи Стеши. Семья была
захудалая крестьянская. Павел как-то зашел к Артему. На маленьком гряз-
ном дворике бегал раскосый мальчонка. Увидев Павла, он бесцеремонно впя-
лился в него глазенками и, сосредоточенно ковыряя в носу пальцем, спросил:
- Чего тебе надо? Может, ты воровать пришел? У ходи, а то у нас мамка сердитая!
Две девочки-подростка с куцыми косичками быстро взобрались на печь и с
любопытством дикарей выглядывали оттуда (НО, 234-235).
Общая неприглядность картины являет собой прямую иллюстрацию к
брошенной как-то Марксом фразе об «идиотизме деревенской жизни». Но
этого мало: бегающий по двору мальчик волею автора превращается едва
ли не в монголоида, который страницею ниже будет фантасмагорически
скакать по двору верхом на черной вислоухой свинье, а через девочек, вы-
глядывающих с печи, этнографический дискурс о «туземцах» являет себя
с полной силой. И если в начале романа Тоня Туманова, часть тогдашней
«образованной» элиты, прибегала к этому дискурсу применительно к Пав-
лу, то теперь ре-актуализирует его уже сам Павел, примешивая к нему эле-
мент большевистского классового чутья. По ленинской логике беднейшее
крестьянство должно было стать естественным союзником пролетариата в
борьбе за дело революции - но в Павле оно ничего, кроме отвращения, не
вызывает. И корень этого - чисто волчьего - отвращения в потенциаль-
но возможном «врастании» крестьянина «в статус»: через собственность,
через «правильных», зачатых и рожденных в браке детей, через соседские
договорные отношения с другими членами той же общины:
«Какая нелегкая затянула сюда Артема? Теперь ему до смерти не выбраться.
Будет Стеша рожать каждый год. Закопается, как жук в навозе. <...> А я было
думал в политическую жизнь втянуть его». <...> Неприятно было даже выхо-
дить днем гулять. Проходя мимо болтливых кумушек, сидевших на крылечках,
Павел слышал их торопливый переговор:
- Дывись, бабы, откуда цей страхополох?
- Видать, беркулезный, чихотка у него.
- А тужурка на ем богатая, не иначе - краденая... ,
И многое другое, от чего становилось неприятно (НО, 236-237).
Обращает на себя внимание - в контексте рассмотренных выше специ-
фических авторских отношений с «женским вопросом» - и тотальное
превалирование женских персонажей в этом, чужом для Корчагина, мире.
Артем в рассматриваемом эпизоде фактически не появляется (только
единожды мы слышим его голос из-за сцены), в доме вместе с ним живут
теща, жена, две невесть откуда взявшиеся «девочки-подростка» и один-
единственный представитель мужской половины человечества - «рас-
косый» мальчик. Весь эпизод подается через Павла, наблюдающего за
«старухой». «Провожают» Павла за пределы эпизода деревенские кумуш-
ки. И тоска по миру мужского воинского союза становится практически
непреодолимой. Не случайно сразу после этого эпизода, дойдя до «раз-
дорожья», Павел сворачивает туда, где во время войны погибли от рук
белополяков местные комсомольцы. И именно этот эпизод заканчивается
той самой авторской тирадой, из которой советская пропаганда сделала
едва ли не авторский бренд:
Здесь мужественно умирали братья, для того, чтобы жизнь стала прекрасной
для тех, кто родился в нищете, для тех, кому самое рождение было началом
рабства.
Рука Павла медленно стянула с головы фуражку, и грусть, великая грусть за-
полнила сердце.
Самое дорогое у человека - это жизнь. Она дается ему один раз, и прожить
ее надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы,
чтобы не жег позор за подленькое и мелочное прошлое и чтобы, умирая, смог
сказать: вся жизнь и все силы были отданы самому прекрасному в мире - борь-
бе за освобождение человечества. И надо спешить жить. Ведь нелепая болезнь
или какая-нибудь трагическая случайность могут прервать ее (НО, 237).
Действительный смысл этого прямого авторского высказывания мож-
но оценить только в контексте предшествующих сцен. Оно являет собой
сильную позицию, логическую точку в противопоставлении двух способов
существования и в связи с этим поднимается едва ли не на философскую
высоту. Выстраивающиеся анатагонистические ряды содержат элементы,
на первый взгляд разнородные, но - исходя из предложенной логики -
вполне обоснованно попадающие в два противоположных смысловых
поля. С одной стороны, это собственность, укорененность в мире, долгая/
семейная жизнь, дикость, невежество, деторождение, женщины, грязь,
неподвижность, домашние животные. С другой - смерть за идею, жизнь
как непрерывная битва, лихорадочный динамизм, мужчины (братья27),
политика как единственное реальное «дело», металл (машины), «бога-
тая тужурка» и выставленная напоказ рукоять револьвера. Дихотомия
этих двух семантических полей естественным образом не равновесна и
содержит сложную идеологическую подоплеку, в которой очевидные по-
литические приоритеты поддерживаются латентными, но от того не менее
действенными идеологемами, противопоставляющими позитивный образ
представителя элиты, с которым должен самоидентифицироваться потен-
циальный читатель, негативному образу «Другого», содержащему в себе
традиционный набор «колониальных» компонентов: грязь, пассивность,
женское начало и т. д.
Пожалуй, нигде в романе колониальный дискурс не проявляется настоль-
ко отчетливо, как в сцене «драки за межи». Корчагин, которого партийная
судьба и не менее прихотливая авторская воля на время делают секретарем
берездовского райкомола, узнает, что где-то неподалеку мужчины из двух
деревень бьются между собой насмерть, - и мчится разнимать неразумных
дикарей, не понимающих, как правильно устроить собственную жизнь. Да-
лее авторская стилистика говорит сама за себя:
Смерть героя I со
о>1 Совэпос
С тупой, звериной яростью бились здесь люди. <...> Не давая опомниться,
бешено крутил коня, наезжал им на озверелых людей и, чувствуя, что разнять
это кровавое людское месиво можно только такой же дикостью и страхом, за-
кричал бешено:
- Разойдись, гадье! Перестреляю, бандитские души!
Люди бросились от луга в разные стороны, скрываясь от ответственности и от
этого невесть откуда взявшегося, страшного в своей ярости человека с «холер-
ской машинкой», которая стреляет без конца (НО, 287).
Стальная воля и разум, воплощенные в фигуре колониального чинов-
ника, который в одиночку умудряется прекратить «звериное» дикарское
братоубийство, - это уже скорее к Киплингу, чем к Войнич. Благомыс-
ленная, ратующая за народ дореволюционная интеллигенция в своем
реальном отношении к «крестьянскому вопросу» расходилась с царскими
сатрапами разве что в частностях. Такие термины, как «кулак», «подкулач-
ник», «сознательное» и «несознательное» крестьянство, родились вовсе
не в большевистских головах и не в 1920-е годы. Большевики (те из них,
кто учился хотя бы в гимназиях) имели возможность вволю наслушаться
всего этого еще на школьной скамье. Необходимость тотального контроля
со стороны узкой «образованной» и «сознательной» страты над «темной
крестьянской массой», составлявшей более 80% населения страны, и ка-
тегорическое нежелание признавать за этой массой право на какую бы то
ни было экономическую и политическую самостоятельность (вплоть до
призывов к физическому уничтожению «кулака», «мироеда») были общим
местом «образованных» российских дискурсов второй половины XIX -
начала XX в., вне зависимости от конкретной политической ориентации28.
Крестьянин дик и туп, и вразумить его можно только «такой же дикостью и
страхом». Но самое забавное в приведенной цитате - это, конечно, «холер-
ская машинка». Украинские крестьяне начала 1920-х годов, как выясняет-
ся, в глаза не видели огнестрельного оружия и бросаются врассыпную при
одном только звуке выстрела: ну чем не папуасы...
Автор, правда, проговаривается невзначай про «бандитские души», по-
скольку политически актуальные компоненты тоже не остаются без внима-
ния. Крестьянин появляется в романе лишь эпизодически, но появляется
по большей части либо как «хозяин», сытый и аккуратный в противовес
оборванному и голодному «своему» борцу за дело революции, либо как
враг новой власти - коварный и безжалостный бандит. В деревни он врыва-
ется по ночам, естественно, на «сытых конях» (НО, 193) и всячески вредит
новой власти, а днем снова превращается в ненавистного «собственника»,
тупого и непроницаемого для логики революционного действия:
Бандит ночью - днем мирный крестьянин ковырялся у себя во дворе, под-
кладывая корм коню, и с ухмылкой посасывал свою люльку у ворот, провожая
мутным взглядом кавалерийские разъезды (НО, 193).
В том же неразрывном двуединстве показан крестьянин и в эпизодах
со строительством пресловутой корчагинской узкоколейки29. Оборванные,
больные, голодные, промороженные насквозь строители узкоколейки отча-
янно кладут свои молодые жизни за счастье мирового пролетариата, отбива-
ясь по ночам от бандитов. И потому фигура сытого рыжебородого крестья-
нина «в новеньких лаптях» (Корчагин как раз лишился обуви), «не спеша»
стаскивающего с розвальней поленья, которые он продает строителям под
шпалы, не может не вызывать у порядочного читателя приступа классовой
ненависти (НО, 217).
Впрочем, и у крестьянина есть свое светлое будущее. Эпизод с «дракой
за межи» заканчивается весьма показательно: из города приезжают суд
(чтобы вразумить неразумных) и землемер (чтобы все сделать по «пра-
вильным правилам»). И между Корчагиным и землемером происходит
весьма показательный разговор:
Корчагин улыбнулся:
- Через двадцать лет у нас ни одной межи не останется, товарищ землемер.
Старик снисходительно посмотрел на своего собеседника:
- Это вы о коммунистическом обществе говорите? Ну, знаете, это еще где-то в
далеком будущем.
- А про Будановский колхоз вы знаете?
- А, вы вот о чем!
- Да (НО, 288).
Давнюю мечту российских элит о тотальной общинной подконтрольно-
сти российского крестьянства большевики наконец-то сумели воплотить в
жизнь. Варварски истребив при этом такое количество крестьян, которое и
за сотни тысяч лет не полегло бы в драках за межи, представлявших собой,
кстати, традиционный, ритуализированный и вполне подконтрольный
обычному праву элемент междеревенских отношений.
Второй объект выраженной авторской ненависти - это священники.
Роман начинается со сцены с попом, которому Павка подсыпал махор-
ки в пасхальное тесто: по ходу дела выясняется, что мальчик вообще
отличается излишней инициативностью и любознательностью - за что
поп и выгоняет его из школы. На балу, устроенном захватившими город
петлюровцами, в центре внимания оказываются, естественно, поповны.
Среди организаторов несостоявшегося контрреволюционного мятежа в
Шепетовке первым назван «поп Василий». Как и в случае с крестьянами,
священники и члены их семей появляются в тексте нечасто, но никаких
позитивных коннотаций по определению не несут. Оголтелый больше-
вистский антиклерикализм первых лет советской власти, успевший на-
ложить отпечаток и на предшествующую романную традицию, конечно
же, дает о себе знать. Но он и сам по себе вписывается в иную, куда более
древнюю, чем большевизм, традицию. «Волчья стая», рвущаяся к власти,
отчаяннее всего - помимо конкурирующих «песьих» элит - борется с уже
сложившимися жреческими стратами и институциями. Укрепившись
на захваченной территории и перейдя от стратегии грабежа к стратегии
перманентного контроля, новая стая обзаводится и новым жречеством,
принимающим, как правило, самое деятельное участие в налаживании
механизмов ее легитимации.
Смерть героя I со
оо I Совэпос
Ярко выраженная антиклерикальная направленность романа является
одним из ключей к тому единственному источнику, связь с которым авто-
ром (авторами) «Как закалялась сталь» не только отчетливо осознается, но
и открыто демонстрируется, буквально навязывается читателю. К роману
Э.Л. Войнич «Овод», произведению также более чем среднему в отноше-
нии собственно литературных достоинств, но удивительно популярному в
начале XX в. среди «розовой» российской интеллигенции - в силу удач-
ного сочетания модных «трендов» (антиклерикального и революционно-
романтического) с должной мерой экзотической экстраполяции (Италия).
Назойливыми отсылками к «итальянской теме» роман буквально пере-
сыпан. О лубочном прозосериале «Джузеппе Гарибальди», которым по-
казательнейшим образом зачитывается будущий борец за дело мирового
пролетариата, уже упоминалось. Выздоравливающий после ранения Павел
обещает старушке-маме, что после скорой победы мировой революции она
непременно поедет отдыхать именно в Италию. Муж бывшей возлюблен-
ной революционера, явный «примкнувший спец из бывших», пытается
унизить оборванного строителя узкоколейки, назвав его нерусским словом
«лаццарони»:
... Как неприятно, что Корчагин так опустился. Видно, дальше рытья земли
кочегар в жизни не продвинулся.
Она в нерешительности стояла, заливаясь краской смущения. Путейца взбеси-
ло наглое, как ему казалось, поведение оборванца, не отрывавшего глаз от его
жены. Он швырнул на землю лопату и подошел к Тоне.
- Идем, Тоня, я не могу спокойно смотреть на этого лаццарони.
Корчагин знал из романа «Джузеппе Гарибальди», кто такой лаццарони.
- Если я лаццарони, то ты просто недорезанный буржуй, - глухо ответил он
путейцу и, переведя взгляд на Тоню, сухо отчеканил: -- Берите лопату, товарищ
Туманова, и становитесь в ряд. Не берите пример с этого откормленного буй-
вола (НО, 227).
Впрочем, слово это и не вполне итальянское: инженер-путеец, герой-
пролетарий, а с ними заодно и автор употребляют множественное число вме-
сто единственного: lazzarone30. Показательно, что столкновение двух элит,
старой и новой, волею автора происходит не только в сугробе, но и на общем
поле «итальянской» революционной романтики - на которую, совсем как на
любимую женщину, каждый из персонажей спешит предъявить права.
К чтению «Овода» Павел Корчагин переходит в более сознательном
возрасте: именно эта книга у него с собой в походном багаже, именно ее он,
судя по всему, успевает за один присест на привале прочесть однополчанам
вслух. На с. 151 Корчагин представляет роман («Эта книга, товарищи, на-
зывается “Овод”»), а на следующей, 152-й, даны уже результаты проведен-
ной политработы («Дочитав последние страницы, Павел положил книгу на
колени и задумчиво смотрел на пламя. <...> - Тяжелая история, - прервал
молчание Середа. - Есть, значит, на свете такие люди. Так человек не вы-
держал бы, но как за идею пошел, так у него все это и получается»).
Через аналогию с «Оводом» ставится точка и в центральном любовном
сюжете книги - в истории несостоявшейся любви между Павлом Корча-
гиным и Ритой Устинович. В полном соответствии с романтическим об-
разцом героиня выходит замуж, получив неверную информацию о гибели
героя, - и встречаются они, «когда уже слишком поздно что-то менять».
Личное счастье - неправильный удел для героя:
- В этом виноват не только я, но и «Овод», его революционная романтика.
Книги, в которых были ярко описаны мужественные, сильные духом и во-
лей революционеры, бесстрашные, беззаветно преданные нашему (курсив
мой. - В. М.) делу, оставляли во мне неизгладимое впечатление и желание
быть такими, как они. Вот я чувство к тебе встретил по «Оводу». Сейчас мне
это смешно, но больше досадно.
- Значит, «Овод» переоценен?
- Нет, Рита, в основном нет! Отброшен только ненужный трагизм мучитель-
ной операции с испытанием своей воли. Но я за основное в «Оводе» - за его
мужество, за безграничную выносливость, за тот тип человека, умеющего пере-
носить страдания, не показывая их всем и каждому. Я за этот образ революцио-
нера, для которого личное ничто в сравнении с общим.
- Уже немного поздно, товарищ Овод: - Рита улыбнулась своей шутке и объ-
яснила ее: - У меня крошечная дочурка. У нее есть отец, большой мой приятель
(НО, 328-329).
Надсадно романтический образ искалеченного, но горящего ярким
внутренним жаром инсургента, который, превозмогая нечеловеческие
муки, кладет жизнь на алтарь идеи, был, несомненно, крайне значим
для большевистских политтехнологов, обслуживавших уже сформи-
ровавшийся к началу 1930-х годов заказ на тотальную мобилизацию
людских ресурсов - причем не столько в военных, сколько в народно-
хозяйственных целях31. Роман, откровенно рассчитанный на молодого
читателя и сформировавший одну из базовых опор в школьном курсе
литературы, имел четко прописанную прагматическую задачу - создание
нормативной истории и нормативного персонажа, которые должны были
войти в золотой фонд советской мифологии. В этой прагматике и следует,
как мне кажется, искать ключ к тому сложному конгломерату культур-
ных матриц, который лег в основу романа. Если задача по созданию «со-
ветского “Овода”» - вне зависимости от того, кем и перед кем она была
поставлена - прочитывается сквозь текст романа невооруженным глазом,
то архаические модели маргинального мужского поведения, дублирую-
щие сюжетную логику раннесредневековых эпических текстов, оказались
задействованы просто в силу конгруэнтности исходных ситуаций и задач.
Герой, человек «длинной судьбы», живущий коротко, но ярко, задавая
при этом «высшую планку желанной маргинальной нормы», раз и навсег-
да приписан не только ко вполне определенным поведенческим моделям,
но и ко вполне конкретным дискурсивным жанровым комплексам.
Впрочем, роль интуитивно-бессознательного начала в творчестве ран-
несоветских политтехнологов преувеличивать все же не следует. А в случае
с «Как закалялась сталь» в особенности. «Как закалялась сталь» - это не
роман. Это проект. Проект, в котором даже сам автор - реальный или но-
Смерть героя I ео
о I Совэпос
минальный, не важно - является конститутивной частью общего замысла.
«Советский “Овод”» с самого начала подавался как «реальная история»,
как «слепок с самой жизни», и фигура Николая Островского, прикован-
ного к постели автора романа о прикованном к постели авторе романа о
пламенном революционере, наряду с лобовыми отсылками к «престижной
традиции» содержала еще более лобовой «автобиографический элемент»,
под который переписывалась даже биография автора - каноническая, вы-
строенная в полном соответствии с нарождающимся жанром советской
агиографии32.
И этот «проект Островский» был по-своему гениален. Марсель Пруст
обманывал в свое время рядового читателя, назвав протагониста своего
opus magnum именем Марсель. Читатель, привыкший принимать на веру
руссоистскую утопию личностной достоверности, глотал наживку, после
чего автор, старательно маскируя свое письмо под импрессионистическое,
обретал полную свободу игры с текстом. Авторы «проекта Островский»,
кем бы они ни были, пошли еще дальше - выпустив литературного персо-
нажа в «живую жизнь» и назначив его автором собственного текста. Впро-
чем, «живая жизнь» - это все же немного слишком. Николай Островский
должен был оказаться среди живущих на момент выхода романа в свет.
И - вскоре умереть, унеся с собой героическую - нормативную - эпоху
«нового начала времен». Эпическая дистанция, разделяющая время со-
бытия и время сказания непреодолимым временным рубежом, ликвиди-
ровалась здесь самим фактом наличия живого Ахилла, поющего о себе и
о собственной славе в присутствии публики, - совсем как в гениальной
гомеровской сцене с посольством к Ахиллу.
Но, «спев свою славу», Ахилл обречен умереть. Умирает и Николай
Островский 22 декабря 1936 г., через два года после выхода романа, на
тридцать третьем году жизни - не создав учения, но будучи причислен
к лику.
1 Островский Н. Как закалялась сталь.
М., 1977. С. 123 (далее везде - НО,
страница).
2 Михайлин В.Ю. Между волком и соба-
кой: героический дискурс в раннесред-
невековой и советской культурных тра-
дициях // Новое лит. обозрение. 2001.
Т. 47. № 1. С. 278-320; затем в составе:
Михайлин В.Ю. Тропа звериных слов:
Пространственно ориентированные
культурные коды в индоевропейской
традиции. М., 2005. С. 396-447.
3 В кельтских и наследующих кельтскую
традицию текстах это сюжеты, связан-
ные с Финном, Диармайдом и Грайне;
Конхобаром, Найси и Дейрдре; Этайн.
В германских - связанные с Хёгни,
Хедином и Хильд; Хёгни, Хельги и
Сигрун; неоднократно «возобновля-
ются» сходные мотивы также в много-
численных коллизиях, связанных с
Сигурдом, Гьюкунгами и т. д. В древ-
негреческой традиции «параллельные»
мотивы можно отследить в сюжетах,
связанных с Тесеем, Ипполитом и
Федрой/Ипполитой; Атридами, Пари-
сом и Еленой; Агамемноном, Ахиллом
и Хрисеидой/Брисеидой. В нартовском
эпосе - сюжет об отце Бедоху (Агунды,
Азаухан), Сослане и Бедоху. В «высо-
ком» Средневековье именно эта кол-
лизия становится (в соответствующей
интерпретации) одной из основ кур-
туазного кода; впрочем, сохраняет она
и сугубо сюжетообразующую при-
влекательность: ср. сюжеты с Марком,
Тристаном и Изольдой; Артуром, Лан-
селотом и Гвиневерой и т. д.
4 В самом общем виде: 1) «статусная»,
«домашняя», центральная зона, свя-
занная с представлениями о накопле-
нии и преумножении «семейного» бла-
га, о «правильных» мертвых, о «праве»
как об основе договорных отношений
между людьми и т. д.; 2) маргинальная
охотничье-воинско-пастушеская зона,
связанная с представлениями о судьбе
и удаче и со «стайными» поведенче-
скими моделями; 3) буферная, или
«женская», зона, связанная с магией
плодородия.
5 Каждая культурно маркированная
территория автоматически «включа-
ет» адекватные ей формы поведения
и «выключает» все остальные, с ней
не совместимые. Находясь в пределах
конкретной культурной зоны, индивид
адекватен ей постольку, поскольку
он не актуализирует иные, не совме-
стимые с ней модели поведения. При
переходе в иную пространственно-
магнетическую зону происходит мо-
ментальное «переключение» на иной
поведенческий код, моделирующий се-
мантику окружающей среды и, в свою
очередь, адекватный расставленным в
ней «культурным маркерам».
6 См. в связи с этим также более раннюю
работу: Михайлин В.Ю. Русский мат
как мужской обсценный код: проблема
происхождения и эволюция статуса //
НЛО. 2000. Т. 43. № 3. С. 347 393 (либо
в составе: Михайлин В.Ю. Тропа звери-
ных слов. С. 331-396.)
7 Придерживавшийся данной точки зре-
ния А.Я. Гуревич (Гуревич А.Я. Эдда и
сага. М., 1979. С. 41) опирался в этом от-
ношении на устойчивую академическую
традицию. См.: Боура С.М. Героическая
поэзия. М., 2002. С. 102-105.
8 Праздники, привязанные к выходу
«стаи» на вольные хлеба, вроде кель-
тского Бельтайна, 1 мая или нартовско-
го Стыр Тутыр.
9 Праздники, привязанные к «воскреше-
нию из мертвых» прошедших свой оче-
редной балц бойцов, вроде кельтского
Самайна, в ночь на 1 ноября.
10 Кстати, она «кладет на него глаз» в тот
момент, когда он разнимает дерущихся
псов.
11 Именно элементы, ибо сама по себе
тема маргинально- и ритуально-герои-
ческого начала в тоталитарной культуре
(как и в культуре, скажем, романтизма
или авангарда) заслуживает отдельного
монографического исследования.
12 Само то постоянство, с которым в XX в.
в разных культурах и в разных языках
возникало, казалось бы, давно забытое
и ушедшее в сугубо этнографические и
исторические контексты слово «вождь»
(фюрер, дуче, каудильо, лидер, босс
и т. д.), уже говорит само за себя.
13 Которая, какими бы декретами и ло-
зунгами она ни регламентировалась,
на деле выливалась в самое обычное
ограбление («потребление») деревни в
пользу стаи и отчасти в пользу «классо-
во близкого» городского пролетариата
и маргинализированной солдатской
массы.
14 Кстати, понятие свободы, наряду с «ра-
венством» и «братством» вброшенное
в массовое сознание заигравшимися в
буколический руссоизм французски-
ми масонами, заслуживает, как мне
кажется, серьезной де-романтизации и
переоценки в плане выявления исход-
ных «волчьих» корней. Большевизм,
фашизм, национал-социализм и т. д.
приходили к власти именно под лозун-
гом завоевания свободы и были в этом
смысле отнюдь не реакцией на буржу-
азный либерализм образца XIX в., но
его логическим продолжением.
См. соответствующие ленинские тек-
сты - за «положенной» вождю самоуве-
Смерть героя I со
ьо I Совэпос
ренностью и резкостью тона временами
ощутима едва ли не паника.
16 Этим, на мой взгляд, объясняются
и Брест-Литовский мир, и странная
уступчивость нетерпимого к «буржу-
азным националистам» Ленина по от-
ношению к отделившимся прибалтам и
финнам. Большевики откусили кусок,
который оказались не в состоянии
с ходу переварить, а потому были
вполне согласны удовольствоваться
той пищевой территорией, на какую
реально хватало сил («хоть на островке,
но с советской властью»). Как только
сил стало больше, «договоры», как и
следовало ожидать, стали нарушаться
один за другим. «Вернуть» Украину,
Закавказье, Туркестан и Дальний
Восток хватило сил практически сразу.
На Польше «красные герои» обломали
зубы, но ничего не забыли и при первом
же удобном случае, договорившись с
родственной по структуре немецкой
«стаей», взяли свое и в Польше, и в
Прибалтике, и в Бессарабии.
17 Задуманная и спроектированная на
волне имперского национализма на-
чала Первой мировой войны, эта форма
вряд ли сыграла бы значительную роль
в конце войны, в деморализованной и
разложившейся (во многом стараниями
тех же большевиков) царской армии.
Однако, почти случайно доставшись
большевикам, которым нужно было
спешно хоть во что-то одевать свои соб-
ственные части, она удивительно удачно
совпала с моментом формирования «но-
вой эпики».
18 Показательно, что «буденновская»
форма уже к 1930-м годам начинает
понемногу уходить в прошлое, оконча-
тельно обретая законный «былинный»
статус. А после того как в 1941 г. «крас-
ноармейская» героика была полностью
скомпрометирована, после позорного
провала весенне-летней кампании
1942 г. и в преддверии Сталинградского
контрнаступления следует структурно
равнозначный «имиджмейкерский»
ход в русле общей логики возвращения
к имперской великорусской идеоло-
гии, - в армии вводятся ненавистные
когда-то погоны.
19 И при создании профанной, десакрали-
зующей героическую традицию культу-
ры анекдотов «про Чапаева».
20 Первое знакомство с Чужаниным:
«Сквозь деревья он увидел на дороге
Тоню Туманову и военкома агитпоезда
Чужанина. Красивый, в щегольском
френче, перетянутый портупеей со мно-
жеством ремней, в скрипучих хромовых
сапогах, он шел с Тоней под руку, о
чем-то ей рассказывал» (НО, 142). То
же в отношении Цветаева: «Около него,
небрежно опершись локтем о крышку
пианино, сидел Цветаев - красивый
шатен с резко очерченным разрезом
губ» (НО, 248).
21 Иногда, отработав презентацию оче-
редного этапа Entwicklung главного
героя через заинтересованный женский
взгляд, женщина вообще бесследно ис-
чезает со страниц романа, как то проис-
ходит с некой Ниной Владимировной,
младшим врачом клинического во-
енного госпиталя, в котором после ге-
роического строительства узкоколейки
находится на излечении Корчагин.
22 И даже гомоэротический - заинтере-
сованные исследователи уже давно
присовокупили к подозрительной в
этом отношении Мелвилловской паре
Исмаэль Квикег целый фиванский
священный отряд предшественников и
последователей (Робинзон и Пятница,
Натти Бампо и Чингачгук, Мэрфи и
Вождь в «Полете над гнездом кукушки»
К. Кизи и т. д.).
23 Ср.: «Посмотрела она на герцога свои-
ми прекрасными синими глазами»
(НО, 59).
24 Интересно, что аналогичная мотивация
Цветаева в отношении Анны Борхарт,
пережившей попытку изнасилования
(успели - не успели?), воспринимается
Павлом как низкая и недостойная (НО,
271 272).
25 Автор (или группа авторов плюс не-
достаточно хорошо вычитавшие текст
редакторы?) постоянно «прокалыва-
ется» на значимых числительных. Так,
никакого «первого» поцелуя в романе
еще не было, но вот мы узнаем, что
этот - второй, что недвусмысленно
свидетельствует о выбывшем в силу тех
или иных причин эпизоде. Точно так же
во второй части романа Корчагин убьет
четвертого в своей жизни человека
(НО, 270), при отсутствии информации
как минимум о втором и третьем, и будет
плясать в третий и последний раз в своей
жизни, при том что свидетелем первых
двух его плясок читатель тоже не был.
26 Автору явно приходится задействовать
пресловутый «рояль в кустах»: Брузжака,
который до этого не покидал родного
города, нужно срочно влить в ряды - но
красные-то в город вошли только что!
И надо же такому случиться - во двор,
где прячется вместе с семьей Сережа,
вбегает петлюровец, бросает оружие и
убегает. В итоге вовремя подхвативший
«винтовку и патронташ» герой штур-
мует свой собственный город вместе с
красными, которые, естественно, тут же
признают в нем своего. А днем позже
на удивление проницательная товарищ
Игнатьева в первого взгляда опознает в
нем местного (НО, 125-126,129-130).
27 О погибших на том же месте «сестрах»,
издевательства над которыми ранее
составили вполне ожидаемую кон-
ститутивную часть эпизода, Корчагин
здесь показательнейшим образом не
вспоминает.
28 Подробнее об этом см: Коцонис Я. Как
крестьян делали отсталыми. М., 2006;
Горянин А. Мифическая община и ре-
альная собственность //Отечественные
записки. 2006. Т. 30. № 3. С. 299-320.
29 Кстати, сам по себе этот эпизод за-
служивает отдельного исследования
в контекстах: а) общеполитическом
(большевистская установка на
«сиюминутное потребление терри-
тории» классово близким городом) и
б) ситуативно-политическом (нешу-
точная война между территориальны-
ми и железнодорожными структурами
новой власти, разгоревшаяся в самом
начале 1920-х годов).
30 Путейцу и пролетарию это проститель-
но, они могут не знать итальянского.
Но вот когда отдыхающий в санатории
вместе с Корчагиным немецкий ре-
волюционер здоровается с ним: «Гут
морген, геноссен», начинают возникать
сомнения в том, что немцы знакомы
с основами собственного языка. По
большому счету и родным языком ав-
тор (авторы?) владеет не вполне. Вот
две цитаты: «Сквозь расцвет юности
смотрит эта картонажница на мир с
восемнадцатой ступеньки» (НО, 190);
«...с первого же дня второго приезда
Корчагина, дом разделился на две поло-
вины, враждебные и ненавистные друг
другу» (НО, 361).
31 Отсюда и «ключевой» эпизод с узкоко-
лейкой, приравненный логикой сюжета
к подвигам Гражданской войны и даже
превосходящий их - как по накалу
страстей, так и по количеству отведен-
ных страниц.
32 От незамысловатых историй про
«пионеров-героев» до более сложных
литературных разработок «на реаль-,
ностной основе» («Четвертая высота»,
«Повесть о Зое и Шуре» и т. д.).
Смерть героя I со
Александр Синицын
ДВЕНАДЦАТЬ ТЕЗИСОВ О ШТИРЛИЦЕ,
ИЛИ СОВЕТСКИЙ МИФ
О «ТРОЯНСКОМ КОНЕ»
(гомеровские приемы и мотивы
в кинокартине Татьяны Лиозновой
«Семнадцать мгновений весны»)’
Совэпос
Историй всего четыре. И сколько бы
времени нам ни осталось, мы
будем пересказывать их - в том
или ином виде.
Х.Л. Борхес
334 Введение: о коммуникативности текста
Согласно принципам герменевтики всякий текст’ целостен и много-
аспектен, а поэтому может быть прочитан каждым читателем по-своему2.
О способности классических источников к репродуктивности две сотни
лет назад один из немецких романтиков сказал, что каждый исследова-
тель древностей старается найти (и находит) в них «все нужное себе и
желательное для себя - прежде всего самого себя»3. Нет и не может быть
одинакового для всех взгляда на вещи. И дело здесь не в оригинальности
авторского подхода или поиске экстравагантных позиций. Каждый откры-
вает своего Гомера или своего Пушкина, своего Платона или В. С. Соловьева,
Ж.-Л. Годара или Андрея Тарковского. Так, некогда в одной из ранних ра-
бот А.Ф. Лосев заявлял:
Нам нужен свой Аристотель, и мы должны его дать. К ужасу всех
«объективистов»-историков, я объявляю, что нам нужен свой Аристотель, что
’Очерк посвящается 35-летию фильма «Семнадцать мгновений весны». Благодарю кол-
лег и друзей - специалистов-античников и людей, влюбленных в древнюю историю и
кинематограф, - за вопросы, направляющие идеи, критику и в целом интерес, проявлен-
ный кмоему «маргинальному» и чуточку провокационному материалу: И.Н. Авраменко,
А.В. Гладышева, В.Ю. Михайлина, А.В. Мосолкина, О.В. Орищенко, М.Л. Свердлова
(Саратов), А.В. Короленкова, О.И. Тогоеву (Москва), а также участников конференции
«Культурная память: механизмы и стратегии. Интерпретация культурных кодов-2007»
(СГУ, май 2007 г.), где впервые был прочитан доклад на эту тему.
есть единственно возможное толкование Аристотеля - то, которое только мы
можем дать... Нет никакой «объективной» истории философии или литерату-
ры. Это - миф...4
Читатель (слушатель или зритель), обращающийся к тексту, всегда
ухватывает только один из аспектов его многоплановости, отодвигая иные
или закрывая их, - такова природа человеческого мышления. Об этом же,
только по иному поводу, в одной из лекций по эстетике говорил М.К. Ма-
мардашвили:
...Истинное произведение искусства мы отличаем от неистинного на том
основании, что оно имеет содержание, способное рождать тысячекратно
родственные себе мысли в миллионах других голов. Эти мысли рождаются в
других головах, но принадлежат они этому произведению, как бы заложены в
нем. И поэтому оно, как, например, «Гамлет» Шекспира, живет дальше^.
Коммуникативное свойство классического художественного источника
заключается как раз в том, что он обладает повышенным устойчивым резо-
нансом, т. е. способностью бесконечное число раз порождать в читателе раз-
личные смыслы, которые заложены изначально в самом тексте. И всякий,
кто обращается к тексту источника, становится ему как бы сопричастным6'.
в акте понимания читатель реализуется в качестве соавтора, репродуци-
рующего свой творческий опыт - свой собственный текст.
Два источника
Каждый образованный человек знает о поэмах Гомера, каждому чело-
веку в нашей стране знаком многосерийный фильм «Семнадцать мгнове-
ний весны». Точно так же и я узнал из нашего советского кино о Нашей
Войне: одной из первых и самых ярких детских влюбленностей был фильм
о Штирлице. Вторым - уже юношеским увлечением - стал художествен-
ный мир гомеровской «Илиады». После многих лет чтения общих и спе-
циальных курсов и проведения семинаров по античной истории я ощутил
необходимость сопоставить оба этих значимых для меня произведения.
Первый источник - это героический эпос Гомера, поэмы «Илиада» и
«Одиссея», создание которых современные филологи и историки относят
к концу IX - началу VII в. до н. э. Оба произведения написаны по мотивам
Троянского цикла мифов - самого широкого и многосюжетного комплекса
греческих сказаний, главной темой которого является борьба греческих
героев за Илион (Трою).
Древний сказитель, поэмы которого эллины и римляне рассматривали
как свою «культурную сокровищницу» и относились к ним (за редким ис-
ключением критически настроенных античных интеллектуалов)7, в опреде-
ленной степени, как христиане к текстам Священного Писания, легендар-
ный Гомер был «божественным поэтом», «нашим всем» для античности. Его
сочинения являлись каноном эпического мастерства, и не только эпическо-
го, да и не только поэтического мастерства. Известный путешественник и
Двенадцать тезисов о Штирлице... 1со
о>| Совэпос
писатель III в. н. э. Павсаний считал, что «песни Гомера полезны людям во
все моменты их жизни» (IV. 28.8)8. И греки, и римляне заучивали наизусть
стихи Гомера и зачастую аргументировали собственные суждения, ссылаясь
на «поэта поэтов», даже не называя его имени: «как сказал Поэт...» «Отец
истории» Геродот, вероятно, выразил общее мнение современников, сказав,
что о своих богах эллины всё узнали от Гесиода и Гомера (II. 53). Но именно
Гомер всегда оставался для греков главным религиозным авторитетом:
...Гомер связывал всех греков общей олимпийской религией, общими мифами,
родословными, преданиями и т. д. Тем самым его эпос формировал этническое
самосознание греков и создавал идеологическое основание общеэллинского
мира9.
Античность не ведала другого столь славного творца, поистине на-
родного поэта10. И «больше чем поэта» для классической древности. Им
восхищались, ему подражали, а порой и состязались с ним в искусстве на
протяжении всей античности и во всех литературных жанрах11.
Гомер не только «первый поэт» античности, он родоначальник всей за-
падной литературы в целом. В широком смысле каждый художник Запада
является его наследником и подражателем. Феномен Гомера заключается
в том, что он абсолютен. Сменялись поколения людей, династии, народы,
цивилизации, а «божественный аэд» всегда был и остается показателем
культуры эпох.
В своей «провокационной» статье И.М. Нахов иронично заметил:
...У Гомера, как в Греции, «все есть». Даже предвосхищение стилистики «Эпи-
ческого кинематографа» Эйзенштейна12.
Второй источник - произведение сравнительно новое, возраст кото-
рого несоизмерим с возрастом Гомеровых сочинений. Их разделяет без
малого три тысячелетия - сто поколений! Как читатель уже догадался, это
кинокартина Т. Лиозновой «Семнадцать мгновений весны», поставленная
по одноименному роману Ю. Семенова13.
Этот многосерийный фильм уже более трети века любим зрителями; о
нем самом снимают документальное кино14 и создают пародии, цитируются
ироничные выражения и сентенции из «Мгновений», звучит музыка Микаэ-
ла Таривердиева к фильму, слагаются анекдоты о его главных действующих
лицах, Штирлице и Мюллере, ставших героями компьютерных игр и комик-
сов, кадры «Мгновений» используются в рекламных роликах и проч.
«Семнадцать мгновений весны» - это порождение советской культуры.
Однако сменились поколения, перестал существовать СССР, изменилась
система ценностей, а картину Т. Лиозновой, как и прежде, продолжают
смотреть, как и прежде продолжают о ней спорить. В юбилейном фильме
НТВ 1998 г. Л. Парфенов отметил (II серия):
25 лет спустя «Семнадцать мгновений» знают почти наизусть. Нынешним
блокбастерам такое признание и не снилось. Это прежде было только с филь-
мом «Чапаев», чтобы киноперсонажи стали героями анекдотов...
Но с определением феномена «Семнадцати мгновений весны» все
гораздо интереснее и, думается, значительнее. Вскрыть феномен «Мгно-
вений» попытаемся «от противного» - выяснением того, чем этот фильм
точно и исключительно не является.«Мгновения» - не историческая кар-
тина, поскольку все основные детали сюжета - и главный герой Макс Отто
фон Штирлиц, и десятки других второстепенных героев фильма, и задание
Штирлица, полученное от советского командования, и все перипетии его
выполнения, и сам факт присутствия русского разведчика в последние
годы войны едва ли не в высших эшелонах власти Третьего рейха - суть
художественный вымысел. Вся сюжетная часть произведения - это леген-
да, миф, в основе которого, как в мифе обычно и бывает, лежит действи-
тельный факт истории15: война, реальные исторические лица (Сталин,
Молотов, Даллес, Гитлер, Гиммлер, Борман, Шелленберг и др.). Историзм
в произведении, безусловно, присутствует, но он является только одним из
многих (и не самым значимым) аспектов этого фильма.
«Мгновения» - это не шпионское кино: они не похожи ни на классиче-
скую советскую картину «Подвиг разведчика» или пятисерийный «Вари-
ант Омега», ни на «Щит и меч» В. Басова или польскую сагу «Ставка боль-
ше, чем жизнь», ни на бесконечный американский шпионский детектив
«Агент 007», ни на «Красную капеллу» - новый и на удивление интересный
телесериал с сюжетной интригой и хорошей актерской игрой, ни на многие
другие. Замечание Л. Парфенова, что подготовка «Мгновений» была «ра-
ботой по созданию советского Джеймса Бонда», можно принять разве что
как метафору. В действительности это фильм не о шпионах, шпионаже и
шпионских хитростях (которые в «Мгновениях» - произведении про раз-
ведчика - конечно же, присутствуют), поскольку содержательно они не
являются определяющими деталями.
«Мгновения» - это не детектив, и даже не советский детектив (был
такой жанр, близкий «милицейскому/криминальному роману», когда чи-
тателю/зрителю о преступлении все изначально известно и разгадывать
нечего). В фильме НТВ режиссер Т. Лиознова не говорит об определении
жанра «Мгновений» - может, ей и вопроса о нем не задавали. Все опреде-
ления здесь принадлежат ведущему - Л. Парфенову. Сначала он называет
фильм Т. Лиозновой просто «детективом», позже - «самым дедуктивным
детективом», ибо в картине «преобладает не действие, а анализ действия»16,
а еще немного погодя - «приключенческим». Такая странная неопределен-
ность возникла, вероятно, потому, что авторы юбилейного фильма вовсе
не задавались вопросом о жанре «Мгновений». В английском языке, от-
куда было заимствовано слово «детектив» (detective), оно означает тот
вид авантюрной литературы или киноискусства, в котором показывается
раскрытие запутанных преступлений, где изображаются подвиги сыщиков
(собственно детективов) - специалистов по расследованию криминальных
преступлений (классические образцы в кино и литературе - Шерлок Холмс,
мисс Марпл, комиссар Мегрэ и др.). Но ни «индуктивно-дедуктивный» ме-
тод Штирлица, ни художественные интриги и остросюжетные перипетии
«Мгновений» отнюдь не делают эту картину детективом.
«Мгновения» - это не фильм-боевик'1. Боевик (англ, thriller) как жанр
по определению должен быть рассчитан на зрелищность и динамичное
Двенадцать тезисов о Штирлице...
337
Совэпос
действие18: каскадерские трюки, перестрелки с врагами, погони, драки,
использование оружия (боевику даже свойственна особая «эстетика»
оружия), всевозможные спецэффекты и проч. - все, что обеспечивает
популярность фильмов такого рода. Но в картине Т. Лиозновой ничего
этого нет или, точнее, почти нет19. В «Мгновениях» (и здесь следует со-
гласиться с Л. Парфеновым) на первый план выступает не действие, но
анализ действия. Переживания, воспоминания и логические умозаклю-
чения главных героев «Мгновений» занимают почти треть всего времени
кинокартины.
«Мгновения» - это не фильм о войне20. И никакие кино- и фотодокумен-
ты Второй мировой не делают эту картину фильмом о войне в чистом виде.
Хотя формально - это кино на военную тему, но все же это не военное кино,
поскольку сами военные события в «Мгновениях» не являются опреде-
ляющими. Здесь нет баталий, вообще нет изображений армий, атак, похо-
дов. И «поединки героев» «Мгновений» совершенного иного рода, чем в
произведениях на военную тематику. Тема войны представляется фоном и
только одним из многих (скорее, внешних, формальных) аспектов фильма.
Наконец, «Мгновения» - это и не сказка, хотя масса анекдотов, родив-
шихся за последние три с половиной десятилетия после выхода картины,
создали вокруг нее ауру «сказочности»: «Сказка про то, как один совет-
ский разведчик Третий рейх развалил». В самом конце фильма «Сем-
надцать мгновений весны. 25 лет спустя» культуролог Т. Чередниченко,
338 рассуждая о причинах успеха «Мгновений» у нескольких поколений
зрителей, замечает:
Ассоциации с историей реальной уже нет в этом фильме, она уже ушла. Это
уже, мне так кажется, чистая, чистая сказка (курсив мой. - А. С.), которая
отчасти ласкает наше национально-государственное чувство о том, что у нас
были такие герои, что с нами такие подвиги были...
Однако в фильме Т. Лиозновой нет ни чудес, ни волшебников, ни чаро-
деев, ни превращений, одним словом, нет ничего специфически сказочного,
фантастического. Конечно, как и всякое художественное произведение,
«Мгновения» являются выдумкой, большинство персонажей, их поступки,
речи суть вымысел автора (сценариста и режиссера). Исторические собы-
тия и действующие лица здесь стали конкретной реальностью по причине
того, что оказались приближенными к мифической модели:
Само по себе историческое событие, каким бы важным оно ни было, не удер-
живается в народной памяти, и воспоминание о нем воспламеняет поэтическое
воображение только в той мере, в какой это событие приближено к мифиче-
ской модели21.
А это имеет мало общего со сказкой. В дефиниции А.Ф. Лосева, сказка
отличается от мифа тем, что
...Изображает чудесное уже без веры в его полную реальность, но с оценкой
его как известного рода вымысла, преследующего чисто занимательные цели22.
Двенадцать тезисов о Штирлице...
Мало кто замечал некоторые формальные совпадения между гоме-
ровскими поэмами и кинокартиной Т. Лиозновой. При этом за такими
совпадениями обнаруживаются не только формальные (структурные),
но, как представляется, и глубинные (сущностные) соответствия этих
героико-эпических произведений. В данном очерке как раз и делается
попытка высветить некоторые формальные и содержательные стороны
фильма «Семнадцать мгновений весны» в сравнении с художественными
особенностями гомеровского эпоса в общем контексте мифологического
сознания двух разных эпох.
Двенадцать тезисов
о «Семнадцати мгновениях»
I. В «Семнадцати мгновениях весны» использован типичный эпический
прием: в произведении присутствует сказитель, рассказывающий зрителю
о происходящих событиях. В «Илиаде» и «Одиссее» это аэд, сам леген-
дарный эпический певец Гомер; в «Мгновениях» закадровый текст читает
Ефим Копелян. Использование эпических рецитаций является в картине
не просто формальным художественным приемом, но существеннейшей
чертой. Подобно эпическому поэту, повествователь «Мгновений» бес-
пристрастно рассказывает о деяниях героев, и это, несмотря на всеобщую ___
пестроту событий и трагические повороты судеб действующих лиц карти- 339
ны, придает произведению в целом эпическое спокойствие. В фильме пове-
ствователь не является автором произведения - творцом художественного
текста; он нигде не позиционирует свое «я» и не проводит личного анализа
происходящего. Как и творец эпоса, сказитель «Мгновений» только ведет
рассказ о «подвигах» героя (Штирлица) и всегда повествует как эпический
«очевидец» событий23.
II. Наличие эпического повествователя предполагает необходимый эпи-
ческий зачин произведения (греч. prooimion). В первых стихах гомеровских
поэм сообщается главная тема, они служат своеобразным предисловием
к последующему эпическому повествованию24. В «Илиаде» - это мольба
певца к богине: он просит ее помочь ему рассказать про гнев Ахилла, о при-
чине этого гнева и его последствиях для ахейцев, т. е. о том, чему посвящена
вся «военная» поэма Гомера:
Гнев, богиня, воспой Ахиллеса Пелеева сына,
Грозный, который ахеянам тысячи бедствий соделал:
Многие души могучие славных героев низринул
В мрачный Аид и самих распростер их в корысть плотоядным
Птицам окрестным и псам (совершалася Зевсова воля)...
(Гомер. Ил. 1.1-5)25
В зачине «Одиссеи» аэд обращается к музе за помощью, чтобы рас-
сказать о перипетиях возвращения Одиссея - о том, чему посвящена вся
поэма о герое-страннике:
Совэпос
Муза, скажи мне о том многоопытном муже, который,
Странствуя долго со дня, как святой Илион им разрушен,
Многих людей города посетил и обычаи видел,
Много и сердцем скорбел на морях, о спасенье заботясь
Жизни своей и возврате в отчизну сопутников...
... Скажи же об этом
Что-нибудь нам, о Зевесова дочь, благосклонная Муза. -
{Гомер. Од. I. 1-5,9-10)
Этим типичным приемом начинается большинство «Гомеровых гим-
нов», и обе поэмы Гесиода («Теогония» и «Труды и дни»), и псевдоге-
сиодов «Каталог женщин, или Эои», и уцелевшие фрагменты киклических
поэм («Малая Илиада», «Фиваида» и др.). Подобный зачин сохраняется и
в поздних образцах древнегреческого эпоса26.
Тот же самый художественно-эпический способ презентации главной
темы произведения использован в прологе фильма, когда повествователь
декламирует, обращаясь к зрителю под ностальгически-философскую
музыкальную тему «Мгновений» (естественно, без обращения к богине
или музе):
Мы расскажем вам о некоторых событиях последней военной весны. Послед-
ней весны Войны. Через три месяца фашизм будет разгромлен. А сейчас оже-
340 сточенные бои идут на Одере, под Будапештом, в Померании. Мы расскажем
вам лишь о семнадцати днях этой весны.
III. В фильме Т. Лиозновой используется принципиальный для эпоса
способ ввода в действие героя или предмета. Каждый вводимый в дей-
ствие персонаж в «Илиаде» и «Одиссее» имеет свою характеристику, ко-
торая дается через его личную историю. Это касается и многочисленных
сцен убийств: всякий раз, прежде чем герой-воин повергает противника,
дается краткая история жизни убитого. Может показаться, что такое вве-
дение героя у Гомера всегда «несвоевременно», является отвлеченным от-
ступлением от основного предмета повествования и разрывает действие.
Но каждое такое эпическое отступление всегда сюжетно и драматически
мотивировано. Оно является не просто справкой о персонаже, представ-
ление действующего лица придает конкретность и достоверность повест-
вованию27.
Этот эпический прием используется для того, чтобы, во-первых, со-
общить значимость акту смерти побежденного: погибает не какой-то без-
родный воин, но славный герой, имеющий имя и свою историю. Во-вторых,
этот прием служит тому, чтобы высветить мощь и силу самого героя-
победителя (будь то Аякс, Диомед, Ахилл, Гектор, Одиссей или кто-либо
другой). Герои Гомера сражаются не с десятками и сотнями безликих фи-
гур блокбастеров, изображающих «массовку»; эпические герои вступают в
бой с врагами, равными им духовной и физической силой, поэтому автор
говорит о них уважительно.
Например, в начале VI песни «Илиады» (одной из самых «батальных»
сцен поэмы) Диомед убивает героя Аксила (ст. 12-17):
Там же Аксила поверг Диомед, воеватель могучий,
Сына Тевфрасова: он обитал в велелепной Арисбе,
Благами жизни богатый и друг человекам любезный;
Дружески всех принимал он, в дому при дороге живущий;
Но никто из друзей тех его от беды не избавил,
В помощь никто не предстал...
Одну за другой, десятки героических смертей и историй героев мы на-
ходим в XVI песни «Илиады»:
Главк между тем, воевода ликиян воинственных, первый
Вспять обратяся, убил Вафиклея, высокого духом,
Сына Халконова: домом живущий в цветущей Гелладе, /
Счастием он и богатством блистал средь мужей мирмидонских;
Дротом его среди персей, не ждавшего, Главк поражает, S
Вдруг обратяся, как его самого настигал он, гоняся.
С шумом он пал, - и печаль поразила Данаев, узревших
Сильного мужа паденье; пергамлян же радость объяла;
Падшего тело они обступили толпой...
(Гомер. Ил. XVI. 593-601)
И сразу после этого представлена сцена гибели Лаогона:
Тут Мерион поразил Лаогона, доспешного мужа,
Сына Онетора, мужа, который жрецом в Илионе
Зевса Идейского был и как бог почитался народом:
Свергнул его, поразивши под челюсть и ухо; мгновенно
Кости оставила жизнь, и ужасная тьма окружила.
(Гомер. Ил. XVI. 603-607)
Краткая личная история персонажа у Гомера дается не только при опи-
сании смерти героя, но и всякий раз при введении в повествование нового
действующего лица. Классическим примером является история Диомеда
и Главка в VI песни «Илиады», когда ратники из противных войск узнают
друг друга (ст. 119-231). Чтобы придать значимость акту узнавания, Гомер
излагает историю ксенических отношений их предков, когда дед одного из
них, Диомеда, принимал у себя дома как ксена28 деда другого героя - Главка.
Герои в длинных речах выясняют историю своих предков и родов, а потом
клянутся в дружбе и обмениваются драгоценными дарами (ст. 232-236).
Введение героев в действие в гомеровском эпосе стандартно: отмеча-
ются их заслуги и доблести, дается краткая история рода, к которому при-
надлежит герой. Представление царю Приаму ахейских героев Еленой Ар-
гивской встречается в начале III песни «Илиады». Но, безусловно, самым
показательным примером презентации героев-вождей у Гомера, ставшим
koinos topos всей литературы эпического жанра, является хрестоматийный
«перечень кораблей» во второй песни.
В поэмах Гомера представлены не только герои, но и предметы, кото-
рые вводятся в действие. Каждый эпический артефакт имеет свое имя,
Двенадцать тезисов о Штирлице...
341
Совэпос
342
предназначение и личную историю. Вот, например, история скипетра Ага-
мемнона:
...Пастырь народа восстал Агамемнон
С царственным скиптром в руках, олимпийца Гефеста
созданьем.
Скиптр сей Гефест даровал молненосному Зевсу Крониду;
Зевс передал возвестителю Гермесу, аргоубийце;
Гермес вручил укротителю коней Пелопсу герою;
Конник Пелопе передал властелину нородов Атрею;
Сей, умирая, стадами богатому предал Фиесту,
И Фиест, наконец, Агамемнону в роды оставил,
С властью над тьмой островов и над Аргосом, царством
пространным.
{Гомер. Ил. II. 100—109)
Случаев, когда неодушевленные предметы в гомеровском эпосе имеют
свою легенду - множество; назову лишь некоторые: история лука Пандора
(Ил. IV. 105-111) и история Одиссеева лука (Од. XXI. 11-41), история до-
спеха Мегеса Филида (Ил. XV. 528-534) и знаменитое описание (в полто-
ры сотни стихов!) «изящно украшенного» щита, исполненного для Ахилла
олимпийским кузнецом Гефестом в XVIII песни «Илиады», щита, который
«предстает как космос в двойном значении этого слова, то есть как мир и
как украшение»29.
Тот же эпический прием использован в фильме: каждый новый персонаж,
участвующий в действии, вводится краткой характеристикой. Например, в
первой серии, впервые представляя Штирлица, повествователь рецитирует
curriculum vitae героя:
Совершенно секретно. Личное дело фон Штирлица Макса Отто, штандартен-
фюрера СС, VI отдел РСХА.
Характеристика на члена НСДАП с 1933 года фон Штирлица Макса Отто,
штандартенфюрера СС. Истинный ариец. Характер - нордический, вы-
держанный. С товарищами по работе поддерживает хорошие отношения.
Безукоризненно выполняет свой служебный долг. Беспощаден к врагам Рей-
ха. Отличный спортсмен: чемпион Берлина по теннису. Холост. В связях, по-
рочащих его, замечен не был. Отмечен наградами фюрера и благодарностями
рейхсфюрера СС.
И так же с Шелленбергом, Мюллером, Вольфом, Холтофом и десят-
ком других действующих лиц. Особый способ представления у верхушки
Рейха - Гиммлера, Геринга, Геббельса и Бормана: их истории сопрово-
ждаются кадрами кинохроники, цитатами из выступлений и суждениями
«товарищей по партии» об этих нацистских вождях30. Во второй-пятой
сериях краткие сведения из их биографий даются как «Информация к раз-
мышлению», когда Штирлиц приступает к анализу материала, собранного
им за долгие годы, чтобы выяснить, «кто из высших руководителей Рейха
ищет контактов с Западом».
Для чего нужен именно такой способ представления героев картины?
Возможно, для индивидуализации их характеров. Но, полагаю, смысл
«исторических биографий» не только в этом. Кроме нескольких граж-
данских лиц, которые вводятся в действие краткой характеристикой (на-
пример, агент Клаус и профессор Плейшнер), в основном повествователь
представляет нацистских офицеров СС и СД. Быть может, это краткий
ликбез для несведущего советского зрителя по истории Третьего рейха?
Однако более половины этих персонажей вымышленные (Рольф, Айсман,
фрау Барбара, сам Штирлиц и другие), а значит, биографии даются не для
того, чтобы придать достоверность рассказу.
Как представляется, и здесь авторы «Мгновений» использовали типич-
ный прием эпического изображения/повествования: все действующие лица
не могут быть случайными. Для того чтобы Штирлиц предстал настоящим
героем, ему надлежит вступать в агон не с безликой массой врагов - немым
фоном, на котором возвышается «супермен» современного кино, но, по-
добно эпическому герою, он должен сражаться с равными противниками31,
каждый из которых личность, потому что имеет свою историю.
IV. Выше было сказано, что «Семнадцать мгновений весны» - это не во-
енный фильм в привычном понимании, однако война, как и в гомеровской
«Илиаде», является его важной темой32:
Избрав темой «Илиады» Троянскую войну, Гомер берет только один ее эпи-
зод - раздор в ахейском лагере, через который раскрывает и вообще феномен
войны, и историю конкретной Троянской войны33.
Главный мотив «Илиады» - гнев героя Ахилла, «который ахеянам ты-
сячи бедствий соделал». Причина обиды Ахилла, последствия гнева героя
для ахейцев и удовлетворение его гнева в заключительной песни «Илиа-
ды» - вся эта история героя разворачивается на фоне Троянской войны:
Судьба Трои определяется войной, а значит, «Илиада» должна быть сказанием
о войне. Поэтому Гомер и описывает долгую цепь битв, венцом которых ста-
новится роковое возвращение Ахилла на поле брани и его победа в поединке с
Гектором...34
У Гомера множество батальных сцен: поединки героев и массовые сра-
жения воинов (у ахейских кораблей, при стенах Трои), где «человек пора-
жал человека в рассыпанной битве»; в другой плоскости эпического бытия
изображаются битвы богов35.
В «Илиаде» война представлена натурально и жестоко. Вот пример
описания в речи повествователя сцены боя:
...Снова герои сошлись на мечах: и Ликон упреждает,
В шлем коневласый у бляхи разит, и при черепе медный
Меч, сокрушась, разлетелся; ахеец ударил под ухом,
В выю весь меч погрузил, и, оставшись на коже единой,
Набок повисла глава, и разрушилась крепость Ликона...
Идоменей Эримаса жестокою медью уметил
Двенадцать тезисов о Штирлице... I со
Совэпос
Прямо в уста, и в противную сторону близко под мозгом
Вырвалась бурная медь: просадила в потырице череп,
Вышибла зубы ему; и у падшего, выпучась страшно,
Кровью глаза налились; из ноздрей и из уст растворенных
Кровь изрыгал он, пока не покрылся облаком смерти.
Так воеводы ахейские гордых врагов низлагали.
(Гомер. Ил. XVI. 337-341, 345-351)
Гомеровская героика зрелищна и кровава; герои, сеющие смерть на
поле брани, зачастую одержимы воинским бешенством, которое поэт срав-
нивает с животной страстью36. В самой кровавой XVI песни встречается
следующее сравнение мирмидонских воинов:
... Подобно как волки,
Хищные звери, у коих в сердцах беспредельная дерзость,
Кои еленя рогатого, в дебри нагорной повергнув,
Зверски терзают; у всех обагровлены кровию пасти;
После, стаею целой, к источнику черному рыщут;
Там языками их гибкими мутную воду потока
Лочут, рыгая кровь поглощенную; в персях их бьется
Неукротимое сердце, у всех их раздуты утробы...
(Гомер. Ил. XVI. 156-163)
344
В «Мгновениях» нет ни противостояния богов, ни поединков героев.
Война не изображается здесь «напрямую» - столь реалистично и близко,
как в «Илиаде». В кинохронике военных лет37 показаны сражения на ули-
цах городов, пикирующие бомбардировщики, артиллерийская канонада,
оружейная стрельба, залпы «катюш», танковые атаки. Но это все же фон,
и он мало что определяет в поэтике картины. В шестой серии Штирлиц
словно перелистывает в памяти страницы войны, и зритель видит кадры
военной хроники год за годом: 1942 - ужасы блокадного Ленинграда;
1943 - разрушенный и мертвый Сталинград; 1944 - тысячи и тысячи не-
мецких военнопленных на улицах Москвы - все то, что сам Штирлиц не
мог видеть.
В каждой серии имеется военная кинохроника, относящаяся примерно
к тому времени, о котором идет речь в фильме. Например, в пятой серии
повествователь информирует:
Сегодня, 8 марта, войска 53 армии Второго Украинского фронта в Чехословакии
освободили город Панека Штявница. Войска Третьего Украинского фронта про-
должали отражать атаки крупных сил танков и пехоты противника в районе озера
Балатон. В боях в районе озера Балатон командир отделения 1288 стрелкового
полка ИЗ стрелковой дивизии Третьего Украинского фронта гвардии сержант
Смышляев подорвал танк противника и погиб смертью героя. В боях в районе
озера Балатон командир орудия 239 отдельного истребительного противотанко-
вого дивизиона 113 стрелковой дивизии Третьего Украинского фронта младший
сержант Нелюбин подорвал танк противника и погиб смертью героя... Войска
Второго Белорусского фронта успешно развивают наступление на Данциг.
Или хроника военных действий с закадровым комментарием в седьмой серии:
Сегодня, десятого марта, войска Второго Белорусского фронта вели успешные
бои по разгрому Померанской группировки противника... (Хроника пока-
зывает пожары, орудийные залпы, танковую атаку. - А. С.) Войска Третьего
Украинского фронта северо-восточнее озера Балатон отражали ожесточенные
атаки крупных сил пехоты и танков противника. Ценой больших потерь вра-
жеским войскам на отдельных участках удалось вклиниться в нашу оборону.
Войска Четвертого Украинского фронта при участии чехословацких частей
начали Моравско-Остравскую наступательную операцию с целью овладения
Моравско-Остравским промышленным районом с последующим ударом на
Оломоуц и Прагу.
V. В картине Т. Лиозновой обыгрывается главная «илиадовская» тема:
герои бьются за Город, которому суждено быть разрушенным. Что Город
обречен, известно и его защитникам, и тем, кто стремится его завоевать.
А главный герой «Илиады», Ахилл, приближает день падения Трои. Но и
ему, первому среди ахейских героев, «рок здесь, под высокой стеною троян
благородных, погибнуть». Лейтмотив неминуемой гибели Трои неодно-
кратно звучит в «Илиаде». В VI песни это трагическое знание высказывает
троянский царевич Гектор:
Твердо я ведаю сам, убеждаясь и мыслью и сердцем,
Будет некогда день, и погибнет священная Троя,
С нею погибнет Приам и народ копьеносца Приама.
(Гомер. Ил. VI. 447-449)
Как подметил в свое время Х.Л. Борхес, во всей истории европейской
литературы есть классические - «вечные» - сюжеты, вокруг которых враща-
ется колесо повествования. Это сюжет с распятием и воскресением человека-
бога, Мессии; сюжет о герое, обреченном на «вечные» скитания, страстно
стремящемся домой, но по причине наказания, исходящего от богов, долго
не способного достичь родной земли; и, наконец, «самая старая» история - о
войне за Город, которому суждено погибнуть, за который годами сражаются
герои, но который долго им не сдается.
В новелле «Четыре цикла» из сборника «Золото тигров» (1972), цитата
из которого взята в качестве эпиграфа к этому очерку, Борхес называет
четыре вечные темы:
Историй всего четыре. Одна, самая старая, - об укрепленном городе, который
штурмуют и обороняют герои. Защитники знают, что город обречен мечу и
огню, а сопротивление бесполезно; самый прославленный из завоевателей,
Ахилл, знает, что обречен погибнуть, не дожив до победы. Века привнесли в
этот сюжет элементы волшебства... Гомеру доведется пересказать эту легенду
не первым...38 (курсив мой. - А. С.).
Использование в «Мгновениях» мотива об обреченном Городе концеп-
туально сближает кинокартину с героическим эпосом и является очевидной
Двенадцать тезисов о Штирлице... I со
Совэпос
отсылкой к одному из «вечных» мифологических преданий. Конечно, здесь
речь не идет в прямом смысле о битве за Берлин. Город здесь - устойчивый
троп, образ, воплощающий идею сопротивления, обреченного на гибель.
Как и читатель «Илиады», зритель «Мгновений» знает заранее о том, что
исход войны предрешен. В фильме об этом говорится неоднократно; судь-
бу Города предвидят десятки героев, в том числе и сам Штирлиц. В начале
второй серии сказитель передает его суждения:
...Он также понимал, что какие бы сепаратные переговоры ни начались, они
не могли изменить ход событий и отношений, сложившихся в результате этой
войны. Сила, мужество, наконец, сама победа были на стороне его Родины.
VI. В «Мгновениях», как и в «Илиаде», речь идет не о войне вообще -
ее причинах, ходе военных операций и потерях, победах и поражениях, но
только о последнем годе Великой Войны. В обоих случаях произведение не
заканчивается победой, а лишь изображаются события, связанные един-
ством действия и представленные в нескольких днях.
Здесь уместно поставить вопрос о самом названии картины - «Сем-
надцать мгновений весны». Почему в название взято слово весна? Конеч-
но, не только потому, что события происходят весной (даже формально
это не соответствует времени действия в картине, поскольку повество-
___ вание начинается с зимы - с 12 февраля). Здесь слово «весна» имеет
346 иносказательный смысл: речь идет о весне 1945, весне Победы. На это в
прологе - эпическом зачине - специально указывает повествователь, и
об этом в разговоре с господином Бользеном-Штирлицем говорит фрау
Заурих (первая серия):
Фрау Заурих. ...Как хорошо птицы поют. Как хорошо, что пришла весна.
Вы знаете, весна - это победа над голодом, победа над зимой, и даже, если
хотите знать, победа над смертью (курсив мой. - А. С.).
Ш т и р л и ц. Вы так думаете?
Фрау Заурих. А Вы?
Штирлиц. Пожалуй, Вы правы.
Фрау Заурих. Да, я права.
Определяющим в названии картины является слово мгновения. Ответ
о мгновениях раскрывается в песне на слова Р. Рождественского. Их зна-
чимость поэт сравнивает со свистом пуль у виска. Нельзя недооценивать
мгновения жизни, каждое из которых имеет свой смысл и значение:
У каждого мгновенья свой резон,
Свои колокола, своя отметина.
Мгновенья раздают: кому - позор,
Кому - бесславье, а кому - бессмертие.
Вся жизнь человека «соткана из крохотных мгновений», подобно тому
как дождь состоит из мириад отдельных капель. И в каждый момент жизни
решается все: быть иль не быть. И пафос строк Рождественского, как и пафос
картины в целом, заключается в том, что в любой ситуации следует поступать
так, чтобы в этом выборе - быть-не быть - не оставалось места для вопроса.
Как у Ю. Семенова, так и у Т. Лиозновой мгновениями названы событий-
но наполненные дни, которые избраны из почти полутора месяцев действий
картины39. Каждый из показанных эпизодов - это дни решений и поступков
Штирлица; все они, говоря словами песни, «резонные» моменты в судьбе
главного героя.
Наконец, в названии романа Ю. Семенова и одноименной картины
Т. Лиозновой указано число изображаемых эпизодов-«мгновений». На
внимание к датам, числам, точности времени в фильме указывается не-
однократно.
В кадре Штирлиц часто подводит часы. Он делает замечание молодой
рассеянной горничной:
Штирлиц. Который час?
Горничная. Около семи, господин Штирлиц.
Ш т и р л и ц. А точнее?
Горничная. Без четверти семь.
Повествователь. «Счастливая девочка. Она может себе позволить это:
“около семи”, - подумал Штирлиц» (первая серия).
В девятый серии повествователь указывает точную дату, хотя это не
имеет принципиального значения для развития событий.
...Прошло 45 дней, а точнее, 45 дней и 6 часов, и вот Штирлиц в разговоре снова
сказал Шелленбергу о том, как неразумно работают люди Мюллера с физиком,
арестованным месяца три назад (курсив мой. - А. С.).
В фильме строго выдержана хронологическая последовательность пове-
ствования40, которую фиксируют часы, многократно возникающие в кадре.
Все это указывает на то, что часы и даты имеют принципиальное значе-
ние для авторов картины. Но почему и Ю. Семенов, и Т. Лиознова избрали
именно семнадцать событийных дней, введя это число в название? Это
кажется загадкой. И здесь снова обнаруживается интересная параллель с
гомеровским эпосом.
А.Ф. Лосев, рассуждая о мифическо-эпическом времени «Илиады», за-
метил: «Так, у Гомера счет космического времени ведется по дням»41.
Деление на дни у Гомера умышленное, и оно имеет особое художествен-
ное значение, что отмечает Н.А. Чистякова:
...[В «Илиаде»] событийных дней насчитывается значительно меньше, созда-
вая тем самым эффект драматической напряженности^2 (курсив мой. - А. С.).
Немецкий филолог А. Хеубек писал о сжатом изображении событий в
«Илиаде»:
...Это факт, что в течение 50 дней в «Илиаде» все развитие троянских собы-
тий - в сжатом изображении (in gedrangter Gestaltung) и при нарушении зна-
Двенадцать тезисов о Штирлице... I со
Совэпос
чимой мифической традиции - некоторым образом еще раз разворачивается
перед нашими глазами в иной плоскости43.
Но то же самое можно сказать и о драматической напряженности,
которую в картине Т. Лиозновой создают показанные «мгновения» -
17 дней последней военной весны. Сама режиссер Т. Лиознова об избран-
ном ею художественном приеме говорит следующее в фильме НТВ:
Там у него (у Ю. Семенова. - А. С.) поделено все на дни, но под этим нет ни-
какого смысла, кроме как обострить немножко сюжет. А я читаю даты, и чем
дальше читаю, тем больше у меня мороз по коже. Потому что это даты не исто-
рии, которую я читала в книжке, а это история уже моей жизни, это история
войны, в которой я потеряла всех мужчин нашего рода...
В фильме Костина-Парфенова о числе 17 не сказано ни слова. Но
именно это совпадение когда-то подтолкнуло меня к поиску и определе-
нию эпических принципов «Мгновений».
В монографии о Гомере А.Ф. Лосев говорит о временном объеме
«Илиады»:
Для четкого и рельефного представления себе сюжета «Илиады» интересно
также проследить развитие в ней действия по дням. Читатель, взявши в руки
348 большой том «Илиады» и начавши ее читать, может быть введен в заблуждение
огромными размерами этой поэмы и будет думать, что здесь излагаются собы-
тия нескольких лет или, по крайней мере, нескольких месяцев. На самом же
деле то, о чем рассказывается в «Илиаде», захватывает всего только 51 день44;
да и то об однообразных событиях многих из этих дней имеются лишь краткие
упоминания45.
Событийно наполненных дней в «Илиаде» насчитывается семнадцать*6.
Это чисто формальное совпадение - равное количество описываемых «мгно-
вений» войны, представленных в обоих произведениях, - является косвенной
отсылкой «Семнадцати мгновений весны» к эпическому тексту - гомеров-
ской «Илиаде». Впрочем, отсылкой, очевидно, неосознанной и случайной.
VII. На уровне совпадения дат - в «Мгновениях» обнаруживаются не
только «илиадные», но и «одиссейные» черты. В третьей серии фильма
дважды говорится, что герой 20 лет не был дома, на Родине. Перед при-
ходом Штирлица к радистам в Кёпеник, на берегу Шпрее, повествователь
за кадром сообщает:
Приезжая сюда, Штирлиц нарушал законы конспирации, которым он вот уже
два десятка лет подчинялся неукоснительно и скрупулезно.
Тогда же в доме Эрвина и Кэтрин Кинн в беседе с Эрвином Штирлиц
высказывается по поводу полученного им сложного задания:
Там, вероятно, думают, что если я не провалился за эти двадцать лет, значит,
я всесилен... (курсив мой. - А. С.).
В «Одиссее» многократно указывается срок, в течение которого отсут-
ствовал на родине главный герой: XVI. 206; XXIX. 484; XXI. 208; XXIII.
102,170; XXIV. 322. Почти во всех случаях о себе говорит Одиссей47 (Гомер
употребляет для этого формульное выражение):
Волей богов возвратившийся в землю отцов через двадцать
Лет...
Двадцать лет отсутствия на родине - еще одно совпадение с гомеров-
ским («вечным») сюжетом. И это еще одна угаданная отсылка к Одиссею-
скитальцу, обреченному на долгие странствия вдали от дома, от родной
Итаки48. «Илиадные» и «одиссейные» черты обнаруживаются в самом
Штирлице: он, так сказать, и Ахилл и Одиссей одновременно. Он и герой-
воин, и герой-странник, оторванный от своей Родины. Но в отличие от го-
меровского Одиссея главному герою «Мгновений» не суждено вернуться
«в землю отцов» (espatrida gaian), на свою «Итаку».
VIII. Гомеровские поэмы принципиально не замкнуты на одном сюже-
те, им свойственны постоянные отступления от основной темы повество-
вания, что является характерной чертой эпоса. Разные «побочные линии»,
возникающие в «Илиаде» и «Одиссее», свидетельствуют об открытости
эпического текста.
Многочисленные отступления - боковые линии основного повествова-
ния - встречаются и в эпических «Мгновениях»; здесь все они разноплановы,
но всегда композиционно обоснованы. Например, сцены встреч инженера
Бользена с фрау Заурих и Габи в нескольких сериях фильма49, празднова-
ние Штирлицем Дня Красной армии (здесь через кинохронику в картине
делается отсылка к событиям 1941-1944 гг.), экскурс в историю рабочего
движения Германии (когда в четвертой серии главный герой вспоминает,
как он впервые увидел на демонстрации Э. Тельмана)50, в восьмой серии
присутствует отсылка к событиям 1940 г. во Франции (мотивация этого от-
ступления - в машине по дороге к швейцарской границе Штирлиц и пастор
Шлаг слушают песню в исполнении Эдит Пиаф)51, диалог Штирлица с не-
мецким генералом в купе поезда (седьмая серия) и другие.
Показателем открытости и объективности гомеровского эпического
стиля является употребление сентенций в речах повествователя и героев52.
В классической филологии функции сентенций у Гомера и в древнегрече-
ском эпосе в целом хорошо исследованы. Эта художественная особенность
эпического произведения - общезначимые высказывания по самым раз-
ным проблемам - является отличительной чертой «Мгновений».
Вот несколько сентенций в речах героев фильма, взятых буквально
наугад:
Пастор Шлаг: Пастырю очень трудно идти против паствы, но и идти за
паствой ему тоже не следует (II серия).
Агент Клаус: Среди рабов нельзя быть свободным. Так не лучше ли быть
самым свободным среди рабов (Там же).
Ш т и р л и ц (с печальной иронией по отношению к прослушиванию спецслужбу.
Человечество больше всего любит чужие тайны (III серия).
Двенадцать тезисов о Штирлице... I со
о I Совэпос
Профессор Плейшнер - Штирлицу: Меня научили спорить лишь
с теми, кому можно верить до конца (V серия).
Аллен Даллес: Главное в политике - это первый шаг, решимость; главное -
это твердость и ясность цели. Остальное нам простит будущее (Там же).
Мюллер: Отказ от своего мнения всегда дурно пахнет (IX серия).
Штирлиц - Мюллеру: Для того чтобы побеждать врага, надо знать его
идеологию. А учиться этому во время боя - обрекать себя на поражение
(X серия).
Мюллер - Штирлицу: Ясность - это одна из форм полного тумана
(Там же).
Многочисленные сентенции в речи повествователя «Мгновений» ни
в одном из случаев не являются способом выражения авторской позиции.
Характерная для эпического произведения объективизация не допускает,
как было сказано выше, авторского комментария к событиям, сторонней
оценки происходящего. Сентенции в речи повествователя служат для ха-
рактеристики действующих лиц картины и изложения суждений главного
героя. Например:
Самые счастливые люди на земле те, которые могут обращаться со временем,
ничуть не опасаясь за последствия (конец I серии).
Запоминается последняя фраза, - это Штирлиц вывел для себя словно матема-
тическое доказательство, - важно как войти в нужный разговор, но еще важнее
искусство выхода из разговора (VI серия).
Штирлиц никогда не торопил события. «Выдержка, - считал он, - оборотная
сторона стремительности. Все определяется пропорциями: искусство, разведка,
любовь, политика» (IX серия).
IX. Как и в «Илиаде», в «Мгновениях» Т. Лиозновой присутствуют,
условно говоря, лирические отступления. Классический пример лириче-
ского отступления от темы у Гомера - «Прощание Гектора с Андромахой»
в VI песни героической «военной» поэмы (ст. 390-502). Многие филологи-
классики (так называемые аналитики), обращавшиеся к «Илиаде», счита-
ли, что этот эпизод является позднейшей вставкой в гомеровский текст,
поскольку он не согласуется с предшествующими книгами и противоречит
последующим53. Споры по поводу возможной интерполяции оставим для
тонких знатоков классических древностей. Но прекрасен был тот антич-
ный художник (кем бы ни был этот аэд-сочинитель или аэд-собиратель
гомеровских песен), который включил его в конец первой четверти поэмы
(если мы воспринимаем «Илиаду» как «каноническое» целое). Принци-
пиально важно, что сцена прощания Гектора с Андромахой не нарушает
композицию поэмы в целом, но, напротив, служит тому, чтобы усилить
трагизм «Илиады» и четче обозначить героический образ Гектора, знающе-
го о трагической судьбе и своей и своего рода, об обреченной на разорение
Трое и об участи несчастной супруги. Этот эпизод в суровой военной поэме
Гомера считают «жемчужиной мировой лирики»54.
То же можно сказать об исключительной интимно-лирической сцене в
«Семнадцати мгновениях весны» - воспоминание Штирлица о встрече с
женой в кафе «Elephant» (III серия)55. Этот эпизод, помещенный в конце
первой четверти кинокартины (опять показательное формальное совпаде-
ние!), также является лирическим отступлением от основной линии пове-
ствования. Для чего служит в фильме эта вставка, прекрасно исполненная
музыкально и изобразительно? Чтобы оправдать, почему Штирлиц любил
и часто посещал именно это кафе (такое объяснение дает повествователь
«Мгновений»)? Но этому можно было бы найти и иное объяснение. Для
развития действия картины сцена встречи главного героя с женой никакой
смысловой нагрузки не несет. Роль жены Штирлица (как и вообще всё, что
касается его личной жизни) сведена к минимуму. Больше о ней не будет
ни одного упоминания до последних кадров картины56 (даже в праздник
8 Марта, вечер которого Штирлиц проводит в компании фрау Заурих и
Габи). Но воспоминание героя о встрече с женой (не сама встреча по ходу
повествования, но именно воспоминание о ней), и журавлиный клин в про-
логе фильма57, и русская песня «Ой, ты степь широкая, степь раздольная...»,
которую полковник Исаев исполняет праздничным вечером 23 февраля, в
День Красной армии (в финале четвертой серии), когда «по-русски» печет
картошку у себя в камине, сидя у стола, он пьет водку из фужера (за кадром
звучит русская гармонь), а потом, даже несколько ссутулившись и дважды
споткнувшись, выходит на крыльцо своего немецкого домика, ребячески
радуясь жизни - все это тропы, передающие духовную связь героя с дале-
кой Родиной.
X. Тема отчизны является центральной темой Гомеровой «Одиссеи».
Рассказывая царю феаков Алкиною о своих злоключениях, главный герой
выражает основную идею поэмы - любовь к родине:
Сладостней нет ничего нам отчизны и сродников наших,
Даже когда б и роскошно в богатой обители жили
Мы на чужой стороне, далеко от родителей милых.
(Гомер. Од. IX. 34-36)
«Одиссея» была одним из самых известных nostoix античности. Го-
меровский Одиссей стал символом возвращения всех греческих вождей
и воинов из-под Трои. Все лирические «одиссейные» пассажи связаны с
тоской героя, «разлукой с милой женой и отчизной крушимого» (Гомер.
Од. I. 12-13). Большинство из них содержится в заключительных песнях
поэмы (появление Одиссея на Итаке и его встреча с Пенелопой).
Главный герой «Семнадцати мгновений» в этом смысле тоже является
героем, который «много и сердцем скорбел на морях». Только у Т. Лиоз-
новой прямо не изображаются ни Корабль, ни Море, ни Дом. Но тоской о
Родине наполнено все содержание «Мгновений» - с самых первых кадров
(пролог) и до финальной сцены в последней серии. Как устойчивый троп
в фильме присутствуют и море, и томительно-желанный берег Родины. Эти
ключевые «одиссейные» образы выражены в лирических отступлениях
от главной героической тематики - в музыке М. Таривердиева и текстах
песен Р. Рождественского:
Совэпос
Берег мой, покажись вдали
Краешком, тонкой линией.
Берег мой, берег ласковый,
Ах, до тебя, родной, доплыть бы,
Доплыть бы хотя б когда-нибудь.
Герой «Мгновений» никуда не плывет. Но и Море, и Берег суть эпиче-
ские образы томительной разлуки с Отчизной, устойчивые образы, которые
использовали древние поэты. И это вторая отсылка к одному из «вечных»
художественных сюжетов, определенных Борхесом. В небольшой новелле
«Евангелие от Марка» из сборника «Сообщение Броуди» (1970) аргентин-
ский писатель выделяет этот типичный эпический сюжет:
...Ему пришло в голову, что люди поколение за поколением пересказывают все-
го лишь две истории: о сбившемся с пути корабле, кружащем по Средиземномо-
рью в поисках долгожданного острова, и о Боге, распятом на Голгофе59 (курсив
мой. - А. С.).
В фильме «Семнадцать мгновений весны» в стихах Р. Рождественского
звучит тема ностальгии60. Она передана через образ Дома, о котором вспо-
минает герой:
352 Где-то далеко идут грибные дожди,
Прямо у реки в маленьком саду
Созрели вишни, наклонясь до земли...
И песня «Где-то далеко» и музыкальная тема «Раздумье» передают
тоску героя по Родине - далекой и уже никогда не достижимой «Итаке».
Эта «одиссейная» тема в «Семнадцати мгновениях весны» скрыта (или,
вернее, лишь прикрыта) внешним действием, но именно она определяет
ностальгическо-лирический характер картины61.
XI. К числу идейно-художественных соответствий «Мгновений» и
«Илиады» можно отнести следующее. Гомеровская поэма проникнута
глубоким трагизмом62. И дело здесь не только в том, что чуть ли не каждая
сцена в «Илиаде» - это «великолепный ковер из воинов». Герои Гомера,
обреченные на гибель, - образы трагические (Агамемнон, Ахилл, Аякс,
Одиссей, Приам, Гекуба, Гектор, Андромаха, Парис, Елена и другие) - и
побежденные троянцы, и победители греки. Трагизм эпического героя в
том, что он знает о своей судьбе (Ахилл, Гектор) и сам делает свой выбора.
Обида Ахиллеса на Агамемнона за отнятую Брисеиду и его гнев после
смерти Патрокла - это лишь внешние трагические моменты в контексте
глубинного трагизма героя, который знает о своей неотвратимой гибели.
Известно, что выдающиеся философы античности Платон и Аристотель
считали «Илиаду» трагедией64.
Оттенки эпического трагизма проявляются в художественной эстетике
«Мгновений». Во-первых, события фильма разворачиваются на фоне все-
общей трагедии Второй мировой войны. Во-вторых, все положительные
герои фильма одиноки и трагичны (профессор Плейшнер, фрау Заурих,
Габи и сам Штирлиц). Это не касается, пожалуй, только пастора Шлага,
полного радостного спокойствия и жизнеутверждающей силы.
Хотя Штирлиц не гибнет в пределах «Мгновений», но события, пред-
ставленные в картине, происходят за несколько дней до его смерти. В филь-
ме НТВ Т. Лиознова рассказывает об ожидаемой дальнейшей судьбе героя:
...Война столько за собой жертв понесла, и он так долго ходил в счастливчиках,
на краю просто, что, естественно, это должно было иметь не самый веселый
конец.
В отличие от Штирлица по Семенову, образ главного героя лиозновских
«Мгновений» более трагичен65. Подобно Ахиллу, которому суждено быть
погребенным под стенами Трои, вдали от Фтии холмистой, Штирлиц не до-
живет до дня Победы:
Парфенов: Штирлиц, приехав в Берлин, погибнет. Лиознова это только под-
разумевает, не выдавая себя ни намеком. Но когда впору в литавры бить - зада-
ние Родины выполнено, Звезду Героя дали, - душу зрителя щемит расставание
перед неизвестностью...
Лиознова: Я при этом присутствовать не хочу и не хочу зрителя заставлять это
видеть. Ему так же, как нам, тяжело преодолеть эти 100 километров66. Потому
что, как мы убедились (поэтому и показываем кадры конца войны и Нюрн-
бергский процесс), он же никогда не видел этого. Мы как бы протягиваем руку
надежды на то, что дело сделано и не зря потрачены силы. Не зря в одиночестве
пройдены столько лет.
Спасши Кэтрин Кинн и выполнив задание «Центра» (разгадав
«Санрайз-кроссворд»), в финале фильма Штирлиц оказывается перед
роковым для него выбором: вернуться на Родину или снова отправиться
в Берлин, где его ждет неизвестность. Согласно закону жанра - «Гибель
героя - предлог для его бытия» (Р.-М. Рильке) - как герой эпический,
Штирлиц обречен на смерть. И он делает свой «ахиллесов» выбор.
XII. Но «Мгновениям» присуще и то, что классические филологи при-
менительно к гомеровской эстетике называют трагической иронией67. Не-
смотря на обреченность героев и Города, несмотря на трагическую напря-
женность действия, в художественном стиле Гомера присутствуют комизм
и ирония68. Уже первая песнь «Илиады» начинается со смешной сцены
ревности Геры к супругу Зевсу (ст. 536-570), а заканчивается песнь «гоме-
рическим хохотом» олимпийских богов, потешающихся над хроменьким
Гефестом:
Смех несказанный воздвигли блаженные жители неба,
Видя, как с кубком Гефест по чертогу вокруг суетится.
(Гомер. Ил. I. 599-600)
Большинство песен гомеровских поэм содержат комические сцены,
связанные зачастую с хитроумным и изворотливым Одиссеем, представ-
ляющие ссоры бессмертных богов или высмеивающие людские пороки.
Двенадцать тезисов о Штирлице...
353
Совэпос
Во II песни «Илиады» хрестоматийный пример с празднословным и без-
образнейшим мужем Терситом. Когда этому уродливому витии (который
косоглаз, хромоног, горбат, плешив да еще имеет голову в форме яйца) до-
сталось от Одиссея крепких тумаков, ахейские воины
Все, как ни были смутны, от сердца над ним рассмеялись.
(Гомер. Ил. II. 270)
В строгой «Илиаде» имеются комические сцены, которые А.Ф. Лосев
признавал как «черты грубого натурализма и комизма» и считал, что они
снижают общий эпически-возвышенный стиль поэмы69. С.М. Боура70, на-
против, находил, что такой своеобразный юмор ничуть не снижает возвы-
шенный стиль Гомера и служит «весьма характерным проявлением творче-
ской силы его искусства»71.
Герои «Илиады» и «Одиссеи» охотно и дерзко высмеивают друг друга
и часто сами становятся предметом насмешек Поэта. Гомеровский смех не
щадит никого из бессмертных богов или великих героев: ни Зевса и рев-
нивую Геру, ни Гефеста и Афину, ни Гектора и благомысленного старца
Нестора, ни Ахилла и Патрокла, ни Аякса и Одиссея, ни Главка и могучего
Диомеда, ни прочих персонажей. Но юмор Гомера ничуть не нарушает об-
щую картину величественности эпоса, даже если в нем присутствуют чер-
____ ты «грубого натурализма». Показательным примером такого рода является
354 сцена агона Одиссея и Аякса Оилида, которую поэт изображает детально
и очень натуралистично: незадачливый соперник Одиссея в решающий
момент состязания угождает в кучу бычачьего дерьма, а сам хитроумный
Лаэртид, как всегда, оказывается победителем в беге:
И уже добегали, чтоб только им прянуть к награде, -
Вдруг на бегу поскользнулся Аякс: повредила Афина -
В влажный ступил он помет, из волов убиенных разлитый,
Коих Патроклу в честь закалал Пелейон благородный;
Тельчим пометом наполнились ноздри и рот у Аякса.
Чашу, награду свою, подхватил Одиссей терпеливый,
Первый примчась; а вола захватил Оилид знаменитый;
Стал и, рукою держася за роги вола полевого,
Он выплевывал кал и так говорил аргивянам...
...Так произнес он, - и смех по собранью веселый раздался.
(Гомер. Ил. XXIII. 773-781, 784)
Говоря о поэтике Гомера, А.Ф. Лосев отмечал следующее парадоксаль-
ное качество:
Это мировоззрение (Гомера. - А. С.) насквозь трагично, трагично до последней
глубины, хотя это удивительным образом диалектически совмещается у Гоме-
ра с героическим и бодрым жизнеутверждением, с отсутствием всякого уны-
ния и безвыходности, с какой-то ликующей радостью и личным общественным
самопроявлением72.
Точно так же и в «Мгновениях» наряду с трагизмом определяющими в
поэтике произведения являются ирония, комизм и тонкий юмор. Не случай-
но именно иронические и комические нотки фильма были подхвачены на-
родной смеховой культурой, которая вышучивала главных героев картины,
многочисленные «безвыходные» ситуации, в которые попадает Штирлиц и
из которых он ловко выпутывается.
Оптимизм картины заключен в непобедимости главного героя, его
явном превосходстве над «чужими» (нацистами). Штирлиц представлен
идеальным героем: он во всем точен, всегда спокоен и уверен; строг в
одежде, в поступках, в логических рассуждениях; он пунктуален, смел,
рискован. Герой является не только дисциплинированным служакой и
непревзойденным «мастером разведигр», но он имеет высшее образова-
ние (в отличие от своего оппонента Мюллера) и знаком с новейшими
течениями в физике (в отличие от большинства других его «коллег»)73,
владеет несколькими языками, знает дыхательную гимнастику йогов
и обладает многими другими редкими достоинствами. Пожалуй, един-
ственным недостатком, в котором признается своему шефу Шелленбергу
сам Штирлиц (четвертая серия), это его «идиосинкразия к рифме», что
зритель опять же должен понимать сугубо как достоинство героя, «мужа
войны».
Штирлиц всюду показан как непревзойденный логик, и если использо-
вать гомеровское выражение, то он - «муж совета». Но поскольку Штирлиц
честен со всеми, кроме «товарищей по работе», то он ловко манипулирует
планами и действиями Шелленберга, Рольфа, Бормана и в финале даже
вербует главного своего соперника Мюллера, убеждая последнего в своей
преданности. Он добивается победы в «поединках», с серьезным видом
поучая своих соперников:
Штирлиц-Холтоффу. Нас всех губит отсутствие дерзости в перспек-
тивном видении проблем. Мы не можем себе позволить фантазировать. От
и до! И ни шагу в сторону. Вот в чем наша главная ошибка.
Штирлиц-Шелленбергу. Трудно стало работать. Столько развелось
идиотов, говорящих правильные слова (восьмая серия).
В «Мгновениях» присутствует ирония, но только это скрытая иро-
ния. Она строится на игре смыслов и почти всегда исходит от главного
героя. В диалогах с «чужими» речи Штирлица содержат двойной смысл:
один - внешний, понятный его собеседникам; другой - потаенный, до-
ступный только зрителю. Большинство «напряженных» эпизодов филь-
ма вызывают улыбку у зрителя, который знает действительное лицо
героя (полковника Красной армии М.М. Исаева), спрятанное под маской
штандартенфюрера СС:
Штирлиц-Мюллеру. Если Вы мне предложите изменить Родине, я это
сделаю (курсив мой. - А. С.).
Штирлиц.Я люблю открытые игры. Со своими, во всяком случае (10-я серия).
Говоря о юморе в героической поэзии, С.М. Боура отметил:
Двенадцать тезисов о Штирлице...
355
Совэпос
Можно посмеяться над противниками героя: самым подходящим будет случай,
когда герою удается перехитрить врага, проявляя предприимчивость и сме-
калку... Будучи вполне забавными, подобные эпизоды от этого не становятся
менее героичными, так как демонстрируют превосходство героя над его про-
тивниками и в смелости, и в смекалке74.
Несмотря на трагизм положения, Штирлиц в диалогической схватке с
Мюллером в подвале гестапо побеждает своего старшего - «и по званию и
по возрасту» - коллегу, так сказать, по всем статьям. Мюллер, таким об-
разом, постоянно оказывается «в куче бычачьего помета»:
Мюллер-Штирлицу. А Вы чувствовали за собой хвост? Вы остро ощу-
щаете опасность?.
Штирлиц. Любой болван на моем месте почувствовал бы хвост. А что каса-
ется опасности, то какая же опасность может угрожать дома? Если бы я был
за кордоном...
Штирлиц. ...Это объяснить очень трудно. И на Вашем месте я не поверил
бы ни одному моему объяснению. Я понимаю Вас, группенфюрер, я Вас от-
лично понимаю.
Мюллер. Мне бы очень хотелось получить от Вас доказательный ответ,
Штирлиц. Даю Вам честное слово, я отношусь к Вам с симпатией.
356 П1 т и р л и ц. Я верю Вам (начало 10-й серии).
Как героический тип персонажа, сам советский разведчик в «Мгно-
вениях» находится вне сферы юмора. Но в смеховой культуре Штирлиц
становится в определенном смысле «хитроумным Одиссеем», эдаким из-
воротливым трикстером советского кинематографа. Как в известном анек-
доте на эту тему:
Мюллер был на приеме у Кальтенбруннера. Вдруг в кабинет вошел Штирлиц,
вскрыл сейф, похитил все секретные документы и на глазах изумленного Каль-
тенбруннера скрылся.
- Немедленно разузнайте, кто это был, - закричал пораженный случившимся
Кальтенбруннер.
- Это был Штирлиц, русский разведчик Исаев, - спокойно ответил Мюллер.
- Так отыщите и поймайте его, - приказал шеф РСХА.
- Бессмысленно.
- Почему?
- Да он все равно выкрутится.
Об аллюзиях на античность в «Семнадцати мгновениях».
В юбилейном фильме НТВ ни сама Т. Лиознова, ни Л. Парфенов, ни
кто-либо другой из его участников вообще не говорят о вероятных антич-
ных параллелях, вернее, осознанно их не проводят. Один раз эта тема воз-
никает в самом начале первой серии, когда речь идет о консультантах из
КГБ, и Л. Парфенов отмечает, что им - в полном соответствии с их долж-
ностями разведчиков - в титрах были даны псевдонимы: «Цвигун станет
Мишиным, Пипия - Колхом, от названия Колхида»75 (курсив мой. - А. С.).
Дальше следует перебивка сюжета, показывают Грузию, звучит музыка
«Арго», в кадре плещут волны Черного моря, и голос Л. Парфенова за
кадром вещает: «Эта дорога - путь аргонавтов. Выйдя в отставку, генерал-
майор Георгий Пипия живет в родной Грузии...» Впрочем, эта нечаянная
«отсылка к античности» связана вовсе не с содержанием «Мгновений», а
только с обстоятельствами создания киноленты.
Встречаются и другие «античные» оговорки авторов фильма о филь-
ме. Например, по поводу назначения Вячеслава Тихонова на роль глав-
ного героя Штирлица Л. Парфенов заметил (вторая серия): «Уроженец
Павлова Посада, герой с римским профилем, Вячеслав Тихонов уже был
суперзвездой...»
Но и этот случайный «намек на античность», очевидно, касается не
самой картины, а исключительно актера В. Тихонова - его классической
романской (и вместе с тем романтической) внешности.
В целом же никакой рефлексии на тему античности в юбилейном филь-
ме НТВ - насколько мне известно, единственном на сегодня документаль-
ном исследовании «Мгновений» - нет.
В контексте поставленной мною проблемы резонен вопрос: встреча-
ются ли в картине Т. Лиозновой какие-либо намеки на античность? Да,
встречаются. Хотя их немного, но отсылки к древности в «Мгновениях»
все же есть. Например, на стенах в загородном домике Штирлица висят
несколько театральных масок и картины a la antique, здесь же на камине
блюда с росписью и классические статуэтки, тоже выполненные, очевидно,
в античном стиле.
В начале пятой серии, когда после смерти немецкого подпольщика Кар-
ла Плейшнера Штирлиц ищет нового помощника, он приходит в библио-
теку, где служит брат покойного - профессор Вернер Плейшнер. Стены и
стеллажи библиотечного зала украшают портреты греческих и римских
писателей, правителей и полководцев: Гесиода, Софокла, Геродота, Цезаря,
Августа, Нерона и других. Здесь есть фотоснимки фрагментов Пергамского
алтаря Зевса (из Музея Пергамон в Берлине)76 и репродукции других изо-
бражений античного искусства, которые оказываются в кадре на переднем
плане, когда главный герой проходит по залу за книжными стеллажами.
Штирлиц начинает произносить свой «провокационный» монолог о раз-
личии эстетических принципов греческого и римского искусства, глядя на
изображение Гесиода (фотография бюста из музея Неаполя), а продолжает
о героической римской эстетике, проходя мимо портретов императора Ка-
ракаллы и Гая Юлия Цезаря:
Штирлиц. Все-таки искусство греков чересчур гуманистично, расплывча-
то. Римляне жестче, видимо, они ближе нам, немцам. Недаром Муссолини
считает Юлия Цезаря первым фашистом (останавливается у бюста Цеза-
ря. - А. С.). Греков волнует человек, а римлян - идея, внутренняя логика.
Герой! Объект для подражания! В него дети должны играть... Нет? (Штир-
лиц обращается к Плейшнеру. - А. С.) Почему Вы молчите? Отчего Вы
мне не возражаете? Вы ведь не любите могучие торсы и гордо посаженные
тупоумные головы?..
Двенадцать тезисов о Штирлице...
357
Совэпос
Аллюзия на древность присутствует в 10-й серии. В подвале гестапо
Штирлиц, поправляя Мюллера, цитирует слова из Екклезиаста:
Время разбрасывать камни, и время собирать камни; время обнимать, и время
уклоняться от объятий... (Еккл. III. 5)
Но поскольку все эти скупые рефлексии на классическую древность
ничем не мотивированы, то, вероятнее всего, в фильме они неосознанны,
случайны, служат в качестве декораций или средства показать образован-
ность и эстетические вкусы главного героя. Кстати сказать, показательным
примером того, насколько авторы «Мгновений» далеки от древней истории
и древних текстов, может служить процитированный чуть выше пассаж из
Екклезиаста. В первой сцене 10-й серии Штирлиц, который всюду представ-
лен как идеальный герой, образованный интеллектуал, поправляя Мюллера,
сам допускает нелепую ошибку77:
Мюллер. Ну, ладно. Как там говорится в Библии: «Время собирать камни и
время кидать их...».
Штирлиц. Ау Вас было неважно с грамотой Божией. В книге пророка Ек-
клезиаста сказано... (курсив мой. - А. С.).
___ Неверно называть Екклезиаста «пророком», поскольку это название не
358 является именем автора Ветхозаветной книги78. В предисловии создатель
Екклезиаста называет себя сыном Давида, и, исходя из этого, многие бого-
словы до сих пор считают ее автором Соломона. Но текст Екклезиаста был
написан в Палестине, предположительно в III в. до н. э., и действительный
его автор неизвестен79.
Актуализация мифа о «Троянском коне»
На основе вышесказанного можно заключить, что «Семнадцать мгнове-
ний весны» являются примером эпического сказания о «веке героев», когда
для большей правдоподобности в качестве «оного времени»80 были взяты со-
бытия недавней истории, те события, которые по прошествии четверти века
еще были живы в народной памяти81. Создавался героический миф, который
подтверждался реальной историей - победой 1945 г. И посредством этого
мифа происходило возрождение героики исторического прошлого, только
уже по иным, мифическим, стандартам.
Полагаю, что источники «Мгновений» суть эпические, а именно «го-
меровские». Но слово источник здесь следует понимать, конечно, не в бук-
вальном смысле: речь как раз не идет о прямом заимствовании авторами
картины поэтики и сюжетов гомеровского эпоса. Напротив, отмеченные
совпадения показывают, что Ю. Семеновым, а еще в большей мере Т. Лиоз-
новой были точно угаданы эпические приемы и мотивы, способствовавшие
актуализации советского мифа о «Троянском коне», с помощью которого
был разрушен вражеский «Город». И опять же, слово «угаданы» в этом
случае не вполне удовлетворительно, поскольку авторы картины, как мне
представляется, создавая мифические модели, воплотили архетипические
образы (если использовать понятие К.Г. Юнга), в которых, как и в случае с
гомеровской «Илиадой», культурная память запечатлела великое событие
прошлого.
Всякий удачно сотворенный миф способствует осмыслению текущей
реальности через актуализацию прошлого. Миф актуален, поскольку он
наделен социальной силой82, он проходит межпоколенную трансмиссию и
становится частью народной памяти в силу того, что отвечает социальным
запросам времени83. В контексте «Мгновений» нашли отражение параметры
мифического самосознания советского человека: новый эпос утверждал па-
триотический миф о Великой войне, долге героя и его любви к Родине.
Принципиально важно, что эта кинокартина воплощала советский
миф, созданный в эпоху «холодной войны», в период активного противо-
стояния двух ведущих мировых держав - СССР и США. В «Мгновени-
ях» вина за «сделку» с нацистами возлагается на резидента Управления
стратегических служб США в Европе Аллена Даллеса. Он считает договор
с руководителями СС и СД «единственной возможностью спасти Европу
от большевизма». Переговоры о мире между немцами и американцами -
в лице Вольфа и Даллеса - предприняты для противодействия созданию
коммунистических режимов в Европе. Поэтому «актуальными» врагами
здесь показаны в первую очередь американцы. Именно против них ведет
борьбу вождь советского государства И. В. Сталин, приказывая начальни-
ку советской разведки решить сложный «кроссворд» (на этом строится
сюжетная завязка произведения, и выполнением этой операции заканчи-
вается картина); именно игру Шелленберга и Гиммлера (через генерала
Вольфа) с американскими «провокаторами», нарушающими договор
трех держав - СССР, США и Великобритании, разоблачает разведчик
М.М. Исаев-Штирлиц. Во всех сценах переговоров с американцами на-
цист Вольф показан более честным и принципиальным героем, нежели
представители американской стороны, готовые продаться за спасенные не-
мецким генералом шедевры мирового искусства84 (картины Тициана, Эль
Греко, Боттичелли, коллекцию монет короля Виктора Эммануила).
Здесь необходимо выделить еще один аспект функционального сход-
ства двух рассматриваемых эпических произведений. В гомеровской
«Илиаде» актуализируется идея противопоставления Запада - Востоку,
эллинства - варварству, своего мира - миру чужому:
Реальные причины «мифологической» Троянской войны лежат в социально-
экономической сфере, в напористой экспансии греков-ахейцев на Восток, со-
провождаемой жестокостями и варварским истреблением туземцев85.
Та же социально-культурная идея (только с измененным вектором)
постулируется в «Семнадцати мгновениях весны», где показано противо-
поставление своего мира миру чужому, освободительной миссии СССР -
захватнической политике капиталистических государств, и в каком-то
смысле противопоставление Востока - Западу.
Как известно, ни одна культура не может существовать, не культивируя
старые мифы и не создавая новые, зачастую на основе тех, что общеизвест-
Двенадцать тезисов о Штирлице...
359
о I Совэпос
ны и общезначимы. Говоря о принципах мифотворчества, Е.Г. Рабинович
отмечает:
...Так как наша цивилизация, пусть отличаясь от древнеклассической, находи-
лась с нею в отношениях родственного преемства, некоторые из этих мифов
транслируются до сих пор, отчетливо демонстрируя закономерности мифо-
творческого процесса86 (курсив мой. - А. С.).
В этом и состоит диалог культур - в непрерывном воспроизведении
тех сюжетов, что лежали в основе «истинной поэзии». А закономерности
мифотворческого процесса проявляются не в подражании и слепом копи-
ровании, но в реинтерпретации устойчивых тропов.
Если взглянуть на «Семнадцать мгновений весны» примерно под
тем же углом зрения, как мы смотрим на гомеровскую «Илиаду», то
обнаруживается много сходства прежде всего в функциях, которые оба
текста выполняли в обеих культурах: они были нацелены на то, чтобы
превратить исторический факт в мифическое событие, чтобы великое
прошлое актуализировать в настоящем. Главное там и здесь - сходство
мифологического мышления и сходство в мифах - как в их внутренней
морфологии, так и в их общественной интегрирующей роли. И поэтому
не удивительно, что за сходством функций поэм Гомера и «Семнадцати
мгновений» Т. Лиозновой следует и сходство в поэтике, которое, как
было показано, временами проявляется даже на уровне формальных со-
ответствий.
Заключение
Представленные здесь 12 тезисов о сюжетных и формальных совпаде-
ниях двух столь разных и разделенных десятками столетий произведений
не следует понимать совсем уж буквально. Мне хотелось лишь показать,
насколько значительнее предстает идейное и художественное содержание
«Мгновений», если фильм рассматривать через призму гомеровских поэм
как эпическое произведение.
Вероятно, многим мои методы покажутся спорными, а утверждения -
натянутыми. Предвижу, что некоторые из моих коллег, особенно ревност-
ные почитатели античной классики, скажут, будто подобное сопоставление
и избранный подход не достойны строгого ученого, что это mauvais ton и
«постмодернистские» приемы. Пожалуй, с проведенными здесь аналогия-
ми не согласились бы ни сами авторы картины (Ю. Семенов и Т. Лиозно-
ва), ни нынешние экзегеты киноискусства. Но, как всякое истинное произ-
ведение искусства, фильм «Семнадцать мгновений весны» многоаспектен
и обладает тем, что в начале очерка я назвал «повышенным резонансом» -
способностью источника порождать у читателя собственное понимание,
которое может не совпадать с тем, что было изначально заложено в текст
самим автором.
Точно так же и Л. Парфенов в конце своего фильма о фильме конста-
тирует:
Любой теперь вправе увидеть свое (в «Мгновениях». - А. С.), чего, может, авторы
в фильм и не вкладывали; и даже то, с чем авторы вовсе не согласны. Завидная
судьба: «Семнадцать мгновений» давно живут собственной жизнью, вне воли
своих творцов.
Быть может, колоссальный успех «Мгновений» вызван как раз тем, что
кинофильм оказался удачной попыткой «реинтерпретировать» «вечные»
топосы мировой культуры. А «вечных» историй, лежащих в основе миро-
вого искусства, как помним, всего четыре, две из которых впервые были
рассказаны Гомером87.
1 Понятие текст включает не только
литературно-художественный (и шире,
нарративный) памятник, но и всякий
предмет искусства, в частности кинема-
тографического.
2 См., например, статьи по философ-
ской герменевтике в сб.: Гадамер Г.Г.
Актуальность прекрасного. М., 1991.
3 Шлегель Ф. Фрагменты // Шлегель Ф.
Эстетика, философия, критика: В 2 т.
М., 1983. Т. 1. С. 298 (фрагм. 151).
4 Лосев А.Ф. Очерки античного симво-
лизма и мифологии / Сост. А.А. Тахо-
Годи; общ. ред. А.А. Тахо-Годи и
И.И. Маханькова. М., 1993. С. 710, 711.
3 Мамардашвили М.К. Эстетика мышле-
ния / Общ. ред. Ю.П. Сенокосова. М.,
2000. С. 43 (беседа третья).
6 См.: Гадамер Г.Г. О круге понимания //
Гадамер Г.Г. Актуальность прекрасного.
С. 79.
7 Об античных порицателях Гомера от
пифагорейцев и орфиков до Платона и
Эпикура см., например, у А.Ф. Лосева:
Лосев А.Ф. Гомер. 2-е изд., испр. М.,
2006. С. 47- 49.
8 О почитании Гомера в антично-
сти см.: Лосев А.Ф. Гомер. С. 48-50,
90-99; Strassburger Н. Homer und die
Geschichtsschreibung. Heidelberg, 1972;
Шталь И.В. Художественный мир го-
меровского эпоса / Отв. ред. А.А Тахо-
Годи. М., 1983. С. 15-33 (об «эпическом
синкретизме» гомеровских поэм);
Зайцев А.И. Формирование новаторских
тенденций древнегреческой литера-
туры в долитературной эпической
традиции // Зайцев А.И. Избр. ст. /
Под ред. Н.А. Алмазовой и Л.Я. Жмудя.
СПб., 2003. С. 191 и сл.; Der Traum von
Troia. Geschichte und Mythos einer ewi-
gen Stadt / Hrsg. von M. Zimmermann.
Munchen, 2006. См. также монографию
о Троянской войне в произведениях
Алкея, Сапфо, Стесихора, Геродота,
Фукидида и трех великих афинских
трагиков V в. до н. э.: Pallantza Е. Der
Troische Krieg in der nachhomerischen
Literatur bis zum 5. Jahrhundert v. Chr.
Stuttgart, 2005.
9 Тумане X. Рождение Афины. Афинский
путь к демократии: от Гомера до
Перикла (VIII-V вв. до н. э.). СПб.,
2002. С. 41.
10 Но «народный» не в том смысле, что
автор «Илиады» и «Одиссеи» проис-
ходил из «народной толщи» и отражал
интересы «простого народа»; не в том
смысле, что Гомер является «творя-
щим народом-индивидуумом» и «есть
сам греческий народ, подлинный кол-
лективный автор»; и вовсе не потому,
что эпос - это жанр, который «создан
самим народом и обращен к народу»
(идея «народа-индивидуума» как ав-
тора Гомеровых поэм была и остается
очень популярной среди гомероведов;
см., например: Толстой И.И. Статьи о
фольклоре. М.; Л., 1966. С. 187 и сл.;
Лосев А.Ф. Гомер. С. 61-67; критику
Двенадцать тезисов о Штирлице... I со
ro I Совэпос
этих взглядов, см.: Нахов И.М. Мой
Гомер. Субъективные заметки об «объ-
ективности» гомеровского эпоса //
STROMATEIS. Вопросы классической
филологии. Вып. 12. Сб. ст. в честь
Азы Алибековны Тахо-Годи / Под
ред. И.М. Нахова и В.П. Завьяловой.
М., 2002. С. 7 и сл., 12 и сл., 20 и сл.).
Понятие «народный» употребляется
здесь в смысле того духовного влияния
и всеобъемлющего значения, которое
оказал гомеровский эпос на становле-
ние языка и культуры эллинов.
11 В том числе и в таком «строгом» жанре,
как история; см.: Page D.L. History and
the Homeric Iliad. Los Angeles; Berkeley,
1959; Strassburger H. Op. cit.; Лосев А.Ф.
Гомер. С. 96 и сл.; Кузнецова Т.И.,
Миллер Т.В. Античная эпическая исто-
риография: Геродот. Тит Ливий / Отв.
ред. М.Л. Гаспаров. М., 1984; Mackie CJ.
Homer and Thucydides: Corcyra and
Sicily // Classical Quarterly. 1996.
Vol. 46. № 1. P. 103-113; Гаспаров МЛ.
Неполнота и симметрия в «Истории»
Геродота // Гаспаров М.Л. Избр. тр.:
В 3 т. М., 1997. Т. 1. С. 489; AllisonJu.W.
Homeric Allusions at the Close of
Thucydides’ SicilianNarrative //American
Journal of Philology. 1997. Vol. 118. № 4.
P. 499-516; PallantzaE. Op. cit. S. 124
174 (Геродот), 175-200 (Фукидид);
Суриков И.Е. «Несвоевременный»
Геродот (Эпический историк между
логографами и Фукидидом) // Вестник
древней истории. 2007. № 1. С. 143-151,
особ. С. 147 и сл.; Он же. Архаическая и
классическая Греция: проблемы исто-
рии и источниковедения. М., 2007. С. 26
и сл., 30.
12 Нахов И.М. Указ. соч. С. 4.
13 Семнадцать мгновений весны / Сце-
нарий Ю. Семенова; реж. Т. Лиознова;
оператор П. Катаев; художник-
постановщик Б. Дуленков. М.: Цент-
ральная киностудия детских и юноше-
ских фильмов им. М. Горького, 1973.
12 серий.
14 Десять лет назад к юбилею кинокар-
тины Т. Лиозновой был создан двух-
серийный документальный фильм:
Семнадцать мгновений весны. 25 лет
спустя / Ведущий Л. Парфенов; идея
Е. Киселева; сценарий С. Костина;
реж. С. Кожевников и А. Левин. М.:
«Телекомпания НТВ», 1998. 2 серии.
15 О диалектическом единстве мифа и
истории см.: Лосев А.Ф. Диалектика
мифа // Лосев А.Ф. Миф - Число -
Сущность / Сост. А.А. Тахо-Годи; общ.
ред. А. А. Тахо-Годи и И.И. Маханькова.
М., 1994. С. 144-151 (гл. X «Миф не
есть историческое событие как тако-
вое»), 192-194; Элиаде М. Миф о веч-
ном возвращении. Архетипы и повто-
ряемость. СПб., 1998; Вен П. Греки и
мифология: вера или неверие? Опыт о
конституирующем воображении / Пер.
В.П. Гайдамака. М., 2003; Апинян Т.А.
Мифология: теория и событие. СПб.,
2005.
16 По ходу замечу для точности, что
в большинстве случаев Штирлиц
пользуется индуктивным методом -
возводя логические построения от
частного к общему, поэтому, согласно
Л. Парфенову, «Мгновения» следовало
бы назвать «индуктивным детективом».
Но и такое определение неверно.
17 Ф. Раззаков несправедливо называет
картину «телевизионным блокбасте-
ром» {Раззаков Ф. Наше любимое
кино... о войне. М., 2005. С. 421); впро-
чем, к этому же виду кино писатель
относит, например, и «Войну и мир»
С. Бондарчука (Там же. С. 13).
18 Для названия этого жанра кино из ан-
глийского в наш лексикон вошло еще
одно новое словечко - «экшен» {action).
19 Главный герой единственный раз
стреляет из пистолета, когда в конце
второй серии расправляется с негодяем
Клаусом, завербованным осведоми-
телем контрразведки Шелленберга
(в руках главных героев картины
оружие вообще почти не появляется).
Лишь однажды Штирлиц применяет в
действии не логику, а физическую силу,
когда в начале восьмой серии разбивает
бутылку коньяка о голову Холтоффа.
А в пятой серии показан элемент по-
гони: Штирлиц на «Мерседесе» уходит
от «хвоста», который был установлен
Мюллером. Но во всех этих случаях
нет никакого «боевикового шарма»,
никакой псевдогероики современных
блокбастеров.
20 И уж, во всяком случае, «Мгновения» -
это не фильм «про фашистов». Хотя, по
замыслу режиссера, врагов-нацистов в
фильме играют «звезды» советского ки-
нематографа, хотя здесь явно присутст-
вует и эстетика «эсэсэвских» мундиров,
показаны тонкости этикета и проблемы
внутренних отношений верхушки рей-
ха, - все это служит скорее для того,
чтобы создать впечатление историч-
ности картины или, как заметила сама
Т. Лиознова, для воплощения «правды
жизни».
21 Элиаде М. Указ. соч. С. 69.
22 Лосев А.Ф. Гомер. С. 217 и сл. Об отно-
шении сказки к мифу и эпосу см. также:
Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. 3-е
изд., репр. М., 2000 (Исследования по
фольклору и мифологии Востока).
С. 262-276 (разд. «Миф, сказка,
эпос»), а также работы В.Я. Проппа:
1) Исторические корни волшебной
сказки. 2-е изд. М., 2000, особ. С. 13 и
сл.); 2) Морфология волшебной сказ-
ки. 2-е изд. М., 2001; 3) Сказка. Эпос.
Песня. 2-е изд. М., 2001.
23 Об объективности героической поэзии
см.: Боура С.М. Героическая поэзия /
Пер. Н.П. Гринцера и И.В. Ершовой.
М., 2002. С. 9 и сл., 44 и сл. и в гл. 11
«Певец» (С. 544 и сл.).
24 Об эпических зачинах в древнегре-
ческой литературе см. в новой книге:
Рабинович Е.Г. Мифотворчество клас-
сической древности: Hymni Homerici:
Мифологические очерки. СПб., 2007.
С. 36-56, особ. С. 41-47.
25 Здесь и далее «Илиада» цитируется в
переводе Н.И. Гнедича, а «Одиссея» -
В.А. Жуковского.
26 Подборку названных сочинений см.,
например, в издании: Эллинские поэты
VIII III вв. до н. э. Эпос, элегия, ямбы,
медика / Отв. ред. М.Л. Гаспаров. М.,
1999. См. также гл. «Гомеровы зачины»
в кн.: Рабинович Е.Г. Указ. соч. С. 41 и
сл., где исследовательница представ-
ляет обзор мнений относительно того,
считать ли сами «Гомеровские гимны»
зачинами-прологами к пространным
эпическим поэмам, которые не сохрани-
лись (Там же. С. 42-43 и примеч. 3, 4).
2' Ср.: Нахов И. М. Указ. соч. С. 14.
28 В древнегреч. слово xenos означало
«гость», «гостеприимен»; a xenia - «го-
степриимство» как процедура и «обы-
чай/право гостеприимства», по которо-
му чужеземец, находящийся в дружбе с
гражданином другого государства, мог
рассчитывать на радушный прием и со-
действие своего ксена - гостеприимна.
29 Юнгер Ф.Г. Греческие мифы. СПб.,
2006. С. 254. О щите Ахилла у Гомера
как эпической модели мира см. работы:
Schadewaldt W. Von Homers Welt und
Werk. 4. Aufl. Stuttgart, 1966. S. 352-374,
438-443; Reinhardt K. Die Ilias und ihr
Dichter. Gottingen, 1961. S. 401-411;
Marg W. Homer fiber die Dichtung. 2. Aufl.
Munster, 1971. S. 23-47; Taplin O. The
Shield of Achilles within the «Iliad» //
Greece and Rome. 1980. Vol. 27. P. 1-21;
Лосев А.Ф. История античной эстетики.
Ранняя классика. М., 1994. С. 175 и сл.;
Тумане X. Указ. соч. С. 43-46.
30 В фильме неоднократно представлен
«совет вождей», главным образом
вождей рейха (в ставке Гитлера в на-
чале картины; в середине пятой серии -
фрагмент совещания в подвале Гитлера,
когда Штирлиц дожидается встречи с
Борманом в зоологическом музее), не-
сколько раз произносятся речи нацист-
скими вождями (Гитлером, Геббельсом,
Гиммлером). В первой серии ветре-
Двенадцать тезисов о Штирлице... I со
I Совэпос
чаются кадры хроники с Ялтинской
конференции союзников в феврале
1945 г. (Сталин, Черчилль, Рузвельт).
Художественный образ И.В. Сталина ис-
пользуется дважды - в начале картины,
когда задумывается операция «Санрайз-
кроссворд», и в последней серии, когда
Сталин подводит итоги проведенной
Штирлицем операции.
31 Сравнение диалогических поединков
Штирлица с агоном, с единоборством
воинов встречается, например, в речи по-
вествователя в девятой серии картины:
...Теперь ему (Штирлицу. - А. С.) надо
было выиграть следующий этап сра-
жения. Он должен был доказать свою
правоту в этом деле. Он продумал свою
позицию. У него сильная позиция (кур-
сив мой. - А. С.).
32 Не случайно «Илиаду» Гомера часто
называют «поэмой о войне» или «поэ-
мой о силе»; см.: Вейль С. «Илиада», или
Поэма о силе // Новый мир. 1990. № 6.
С. 250-259. См. также: StrassburgerН.
Die Kleinen Kampfer in der Ilias.
Frankfurt a. M., 1954; Harrison F.E.
Homer and the Poetry of War // Greece
and Rome. 2nd. Ser. 1960. Vol. 7. № 1.
P. 9-19; Кравчук А. Троянская война:
Миф и история. М., 1991; Лосев А. Ф.
Гомер. С. 118-123 (о войне и антиво-
енных мотивах в «Илиаде»); Боура С.М.
Указ. соч. С. 487-490; Безрученко И.М.
Троянская война. М., 2007.
33 Дилите Д. Античная литература. М.,
2003. С. 50.
34 Боура С.М. Указ. соч. С. 489.
35 О неуместности «Битвы богов» (песнь
XX) в «илиадовом» контексте и позд-
ней интерполяции этой части поэмы
см., например: Клейн Л.С. Анатомия
«Илиады». СПб., 1998. С. 263 исл.
36 О воинской одержимости героя Дио-
меда см.: Шнапп-Гурбейон А. Диомед-
лев // Рус. антрополог, школа: Тр. М.,
2005. Вып. 3. С. 425-450.
37 В фильме Т. Лиозновой широко исполь-
зованы материалы Госфильмофонда
СССР и Центрального государственно-
го архива кинофотодокументов.
38 Борхес цитируется по изданию: Бор-
хес Х.Л. Соч.: В 3 т. 2-е изд., доп. М.,
1997. Т. 2. С. 255.
39 В целом действие «Семнадцати мгно-
вений весны» занимает ровно 41 день
(с 12.02.1945, 16 ч 30 мин до 24.03.1945,
16 ч 33 мин).
40 Как кажется, единственный пример,
в котором нарушена хронологическая
последовательность, встречается в за-
ключительной 12-й серии. 22 марта
в Берне Штирлиц приходит в отель
«Вирджиния», где он справляется
о шведском профессоре Сведеборге
(Плейшнере). Метрдотель отвечает
ему, что Сведеборг выбросился из окна
третьего этажа «позавчера утром», т. е.
19 марта. Однако, если учитывать при-
нятую в фильме хронологическую по-
следовательность изложения событий,
Плейшнер погиб не 19-го, а ранним
утром 16-го марта (девятая серия), т. е.
за шесть дней до того, как об этом узнал
Штирлиц.
41 Лосев А.Ф. Античная философия исто-
рии. М., 1977. С. 41.
42 Чистякова Н.А. История возникнове-
ния и развития древнегреческого эпоса:
Курс лекций. СПб., 1999. С. 30.
43 Heubeck A. Studien zur Struktur der Ilias
(Retardation-Motivubertragung) //
Homer: die Dichtung und ihre Deutung /
Hrsg. von J. Latacz. Darmstadt, 1991.
S. 450-474 (здесь - S. 461).
44 Cp.: Heubeck A. Op. cit. S. 461, где
указаны 50 событийных дней поэмы
(«50 Ilias-Tage»).
45 Лосев А.Ф. Гомер. С. 15.
461-й день (I. 9-53), 10-й (I. 54-476), 11-й
(I. 477 sqq.), 21-й (1.493-611), 22-й
(II-VII. 380), 23-й (VII. 381 sqq.), 24-й
(VII. 433 sqq.), 25-й (VIII-IX), 26-й
(X-XVIII), 27-й (XIX-XXIII. 108),
28-й (XXIII. 109-225), 29-й (XXIII.
226-XXIV. 3), 30-й (XXIV. 3 sqq.), 39-й
(XXIV. 31-694), 40-й (XXIV. 695 sqq.),
50-51-й (XXIV. 785-804). А.Ф. Лосев
также приводит расклад событий в
«Илиаде» по дням {Лосев А.Ф. Гомер.
С. 15-17), но он исключает дни 11-й,
23-24-й, 29-30-й, 39-40-й и 50-й по
причине «малоинформативности» ис-
точника об этих днях, в которые «со-
бытия не изображаются, о них только
упоминается» (Там же. С. 17).
47 Один раз об этом сообщает Телемах в
речи, обращенной к Пенелопе (XXIII.
102).
48 См.: Шталь И.В. «Одиссея» - героиче-
ская поэма странствий. М., 1978.
49 Эти женские образы отсутствовали и в
романе, и в сценарии Ю. Семенова. Они
были введены в картину Т. Лиозновой
для того, чтобы показать Штирлица
(господина Бользена) вне атмосферы
нацистских мундиров.
50 В фильме о фильме Костина-Парфе-
нова говорится, что идея с «отсыл-
кой» к истории рабочего движения
Германии была подсказана «заказчи-
ком» «Мгновений» руководителем
КГБ Ю.В. Андроповым.
51 В этом эпизоде есть ошибка. Песня
Эдит Пиаф, которая вызывает непри-
язнь пастора («это полное падение
нравов», «так говорят на рынках») и
которую защищает Штирлиц («эта
певица переживет себя, ее будут пом-
нить и после смерти»), в действитель-
ности появилась только в 1958 г., т. е.
спустя 13 лет после представленных
событий» (ср.: Раззаков Ф. Указ. соч.
С. 422-423).
52 Лосев А.Ф. Гомер. С. 239 и сл.: «Этими
сентенциями пересыпан буквально весь
Гомер. Они свидетельствуют о наличии
у Гомера огромного жизненного опыта,
глубокомысленных и вековых размыш-
лений и о тенденции обобщать свои на-
блюдения, фиксируя их в виде кратких,
острых и содержательных афоризмов».
53 Обзор мнений исследователей
(С.П. Шестакова, Б. Низе, У. фон Ви-
ламовица-Мёллендорфа, М. Круазе,
Г. Яхмана и др.) по поводу этого несо-
гласования см.: Клейн Л.С. Указ. соч.
С. 174-175.
54 Тумане X. Указ. соч. С. 90.
55 См.: Раззаков Ф. Указ. соч. С. 403-404.
56 В финале 12-й серии Штирлиц в швей-
царском кафе встречается со своим
связным, который соглашается передать
послание на Родину - жене полков-
ника М.М. Исаева. Здесь звучит та же
музыкально-лирическая тема, что и в
третьей серии в сцене «свидания» героя
с супругой.
57 Тот же эпизод-воспоминание, в кото-
ром присутствуют журавли, мы встре-
чаем в 10-й серии в самый тяжелый
для героя момент - в подвале гестапо
и в финале картины, перед возвраще-
нием Штирлица в Берлин (12-я серия).
Последний эпизод с журавлями, ле-
тящими на Родину, как бы повторяет
пролог картины и тем самым замыкает
рамку целостного эпического повество-
вания.
58 Древнегреч. nostos означает «возвра-
щение (домой)». «Постами» (nostoi)
Троянского цикла мифов назывались
сказания о возвращении ахейских геро-
ев из-под Трои.
59 Борхес ХЛ. Указ. соч. Т. 2. С. 244.
60 Слово «ностальгия», образованное со-
четанием греч. слов nostos («возвраще-
ние») и algos («боль», «печаль», «стра-
дание»), означает «тоска по родному
дому» или «тоска по родине».
61 В юбилейном фильме НТВ наиболее
точно к этому определению подошел
М. Таривердиев. Главное содержание
«Мгновений» композитор выразил в
ностальгически-философской теме
«тоски по далекой и близкой Родине».
Это же повторяют, говоря о музы-
кальных мотивах картины, музыковед
В. Таривердиева, режиссер Т. Лиознова
и ведущий Л. Парфенов.
62 См.: Лосев А.Ф. Гомер. С. 225-234.
63 См., например: Ярхо В.Н. Проблема
ответственности и внутренний мир
Двенадцать тезисов о Штирлице...
365
Совэпос
366
гомеровского человека // Вестник
древней истории. 1963. № 2. С. 46-64;
Зайцев А.И. Свобода воли и божествен-
ное руководство в гомеровском эпо-
се // Зайцев А.И. Избр. ст. С. 203-208;
Михайлин В.Ю. Дилемма Ахилла: муж-
ские жизненные стратегии в гомеров-
ском эпосе // Судьба. Интерпретация
культурных кодов: 2003 / Сост. и общ.
ред. В.Ю. Михайлина. Саратов, 2004.
С. 9-41; Он же. Тропа звериных слов:
Пространственно ориентированные
культурные коды в индоевропейской
традиции. М., 2005. С. 179-219.
64 Лосев А.Ф. Гомер. С. 227; Сахарный Н.Л.
Гомеровский эпос. М., 1976. С. 79 и сл.;
Нахов И.М. Указ. соч. С. 38. Последний
замечает: «Гомеровский эпос ошибоч-
но считают героическим, по сути он
трагический, как почти вся греческая
мифология, пронизанная крест-накрест
природными и социальными катаклиз-
мами» (Там же). Впрочем, как мне
представляется, здесь следует говорить
о синтетическом единстве героического
и трагического в поэтике Гомера.
65 Ю. Семеновым были написаны еще не-
сколько книг о дальнейшей судьбе со-
ветского разведчика М.М. Исаева (ро-
ман «Приказано выжить» и три романа
под общим названием «Экспансия»; в
последних рассказывается о том, как
после берлинского периода Штирлиц
отправляется с Борманом к золоту пар-
тии и продолжает работу в Латинской
Америке).
66 Сама режиссер здесь оговаривается: в
финале «Мгновений» Штирлиц оста-
новил свой «Мерседес» за 200 киломе-
тров до Берлина.
67 См.: Сахарный Н.Л. Указ. соч. С. 86-94
(гл. 7 «Ирония»),
68 Лосев А.Ф. Гомер. С. 234-239, 246 и сл.
69 Там же. С. 238, 239.
70 Боура С.М. Указ. соч. С. 666-677 (о юмо-
ре и чувстве смешного в героическом
эпосе), здесь - С. 672-677 (о юморе и
иронии у Гомера).
71 Там же. С. 677.
72 Лосев А. Ф. Гомер. С. 228 и сл., ср.: Там
же. С. 234.
'3 По замечанию Бормана, у Штирлица
«лицо профессора математики, а не
шпиона» (начало седьмой серии).
74 Боура С.М. Указ. соч. С. 666-667, 670-
672.
7э Один из действительных консультантов
«Мгновений» и «куратор» фильма от
Комитета госбезопасности Г.В. Пипия
был в начале 1970-х годов офицером
КГБ (в титрах он указан как канди-
дат исторических наук, полковник
Г.В. Колх). Спустя четверть века в юби-
лейном фильме НТВ генерал-майор в
отставке Г.В. Пипия является одним
из действующих лиц, рассказывающих
некоторые детали из истории создания
«Семнадцати мгновений весны».
76 Сцены гигантомахии: на одном стелла-
же - фигура богини Никты (с северной
стороны большого фриза алтаря); на
другом - фигура крылатого гиганта
Алкионея, умирающего от укуса змеи
Афины (с восточной стороны большо-
го фриза).
77 О других многочисленных ошибках
см.: Раззаков Ф. Указ. соч. С. 412, 413,
422-423. В фильме неверно атрибути-
рован серебряный шеврон на правом
рукаве кителя у нацистских офице-
ров. Эта нашивка не являлась знаком
форменной одежды эсэсовцев, но была
присвоена только членам НСДАП,
состоявшим в партии до ее прихода к
власти в 1933 г., поэтому большинство
действующих лиц картины не имели
права носить этот шеврон. На этот
«прокол» обратил внимание писатель
Т. Гладков в фильме НТВ, который
сам допустил неточность, назвав
Штирлица членом НСДАП с 1920-х го-
дов (Штирлиц состоял в партии только
с 1933 г.).
78 Древнегреческое слово ekklesiastes
имело значение «проповедник» и не
являлось именем собственным.
79 См.: Христианство: Энциклопед. слов.:
В 2 т. / Гл. ред. С.С. Аверинцев. М.,
1993. Т. 1. С. 527-528, ст. Екклезиаст.
80 О понятии «оное время» (illius tempo-
ns): Рабинович Е.Г. Указ. соч. С. 30-33;
ср. также похожее представление о
«мифическом первовремени» у Элиаде:
Элиаде М. Миф о вечном возвращении.
С. 58 и сл.; С. 114 и сл.
81 Как известно, фильм был заказан к
30-летию победы Советского Союза в
Великой Отечественной войне.
82 См.: Buxton R. The Complete World of
Greek Mythology. L., 2004. P. 18.
83 Рабинович Е.Г. Указ. соч. С. 31 и сл.
84 На вопрос Гюсмана: «Сколько это
может стоить по долларовому курсу?»
Вольф с явным упреком отвечает: «Они
не имеют цены. Эти картины бесцен-
ны». Показательно, что только после
этой выгодной «сделки» в разговор
вступает Даллес: «Я готов иметь с Вами
дело, генерал Вольф».
8; | Нахов И.М. У каз. соч. С. 36.
86 Рабинович Е.Г. Указ. соч. С. 28.
87 Уже после того, как текст очерка был
полностью завершен, в «Правде. Ру»
за 17 января 2008 г. мне встретилось
сообщение, что режиссер С. Урсуляк
готовится к съемкам многосерийного
фильма с рабочим названием «Исаев».
В этой картине, основанной на
трех произведениях Ю. Семенова
(«Нежность», «Бриллианты для дик-
татуры пролетариата» и «Пароль не
нужен»), С. Урсуляк собирается рас-
сказать «о молодых годах легендарного
советского разведчика В. Владимирова,
который более известен как М.М. Исаев
или Штирлиц» (http: //www.pravda.
ru/news/culture/ 17-01-2008 /252112-
kino-0). Что ж, появляются новые
исследования и создаются новые доку-
ментальные и художественные фильмы
о Штирлице. Миф о Троянском коне
продолжает жить.
Двенадцать тезисов о Штирлице...
367
i
и
Summaries
ИППП
Vladimir Rychka
“Askold Chronicle”: On Allegations of Sourceology
and Cases of Historiography
The article deals with the analysis of the “Askold Chronicle” as presented
in a “reconstruction” offered by M.Yu. Braichevsky. This fictitious chronicle -
“the reality given unto us in historiographical sensations” as the author put
it - became a vivid example of socio-political thought, only not that of the IXth
century but of the XXth. It was a courageous challenge of a talented scientist in
defiance of the Soviet official science.
Oleksiy Tolochko
How Was the Tithe Church in Kiev Destroyed?
The destruction of the Tithe Church in Kiev is probably the most celebrated
episode in the chronicle account of the Mongol invasion. It remains embedded in
the collective memory of the East Slavs as the high point of heroic resistance to
the invaders. As the story goes, the last defenders of the city assembled in the most
ancient of the Rus’ churches for the ultimate stand, but the vaults of the church
collapsed under the weight of the people gathered there. Both in scholarly literature
and in popular imagination, this symbolic event is treated as unique, and consider-
able effort was put into explaining of just why it happened and who was responsible:
the Mongols storming the church walls with assault machinery or the first builders
having committed a fatal engineering mistake while constructing the substructure.
Now it turns out that this long-standing debate was beside the point, for the
event is not unique. The Galician-Volhynian Chronicle, of which this episode is
but a part, reports of two other similar incidents (both taking place in Galich)
when the besieged people choose the church vaults as their last point of defense.
Worse till, the chronicle in this respect was influenced by the Slavonic transla-
tion of History of the Jewish War by Josephus Flavius, which supplied both the
very motif and its wording. It thus would appear that by adopting this theme,
the chronicler tried to liken the siege of Kiev to the siege of Jerusalem and the
destruction of the Tithe Church to that of the Temple.
The article proceeds by discussing implications of these findings for assessing
of the chronicle report’s authenticity and its value for historical reconstructions.
Vladimir Rudakov
«Н-hour» in the Ancient-Russian
Works about Mongol-Tatars
The article is devoted to the semantics of unauthentic chronological
information in Ancient-Russian works about Mongol-Tatars. The author
proceeds from the fact that people of the Middle Ages dated events according
Summaries
373
to other rules and had another purposes than our contemporaries. It can ex-
plain the fact why medieval dating often does not correlate with reality. The
article analyses three literary monuments: “Sermons” by Serapion, bishop of
Vladimir (the 1270-s), the tale about Batiy’s invasion from Lavrentievskaya
Chronicle (not later than 1377) and “The story about Mamay’s battle” (the
end of 15-th - the beginning of 16-th century). The conclusion of the inves-
tigation is the following: datings not always determined right the place of
events in real time. They were often used by medieval writers to show the
sacral sense of the events.
I Summaries
Alexander Osipian
Vocatio Armenorum, or What Happened
with the Cumans in Galician Rus’
This article is about the use of the past in the social conflict between
Armenian and Catholic communities in Lviv of the late 16th- 17th centuries.
Both sides used - and sometimes abused - written and oral evidences to win
a trial at the Royal court of Poland and to get more privileges in the economic
sphere. To obtain equal rights with the Catholic city-dwellers in Lviv, the
local Armenians stated their ancestors were invited by the Galician prince
Daniel or his son Leo for military service and then settled in Lviv (Leopolis,
Lemburg) together with the other “nations” at the time of the city’s foun-
dation in the mid-thirteenth century. Local Catholics admitted this vocatio
Armenorum as a real fact but accused those Armenian warriors in the hostile
incursions headed by the prince Leo together with the Mongol (Tatar) troops
in the 1250s-1280s against Poland. In such a way Catholic community won
the trial in 1600.
Interestingly, participation of Armenians in these invasions was not men-
tioned in the 13th century Polish as well as Ruthenian (Galician) chronicles. It
enabled author to suppose that both sides of conflict used certain local tradi-
tion about the city’s foundation and its first inhabitants. Through a detailed
analysis of the several late 16th - 17th centuries written sources the author
points out that the ancestors of the Lviv Armenians had true Tatar features -
language, clothes, and armories. Together with the Tatars they lived in Tataria
(that is in steppelands to the north of the Black Sea) and were settled in close
neighborhood in the new city of Lviv by prince Leo to whom they served to-
gether {in commilitio). Contemporaries witnessed that Lviv Armenians were
still speaking Tatar (Turkic, Cuman) language while Armenian was used only
by clergy in liturgy.
The author asserts these Armenians were of the Cuman origin. Actually
the Cumans (Qipchaqs) are mentioned in chronicles as warriors subjected
to prince Daniel. After the Mongol conquest of the Cuman steppeland some
Cumans left their homeland and went into the military service to the rulers
of Hungary, Byzantium, Bulgaria, and Galician Rus’. They also settled in the
Crimea and on the Lower Danube. During the late 13th - early 15th centuries
these Cumans were baptized and acculturated in their host societies. Others
mixed with the dominant Mongol minority, became Moslems and were known
as “Tatars”.
According to the author, Cumans, settled in the Galician principality were
baptized by the Catholic, Orthodox, and Armenian Churches and became
members of the respective religious communities (“nations”). These baptized
Cumans - “Armenians by faith” - together with the ethnic Armenians, mostly
merchants, constituted the core of the Armenian community in Lviv of the
13th - 14th centuries. Due to the active trade with the Oriental - mostly Turkic-
speaking - countries this community preserved its Cuman language till the 17th
century. According to the author the memories of these early “Armenian” set-
tlers as well as the ones of the local Catholics shaped local tradition then used
and abused in the trial.
Summaries
Tatiana Oparina
“The Conversion with Selfish Ends”.
The Law of the 1623
and his Traces in Judge Practice
The article is dedicated to the conversion of immigrants from Latin (Catho-
lic), Protestant and non-Moscow denominations to Russian Orthodox Church ___
in Russia in the first half of 17th century. Such conversion revealed many prob- 375
lems which were of ethical, as well as of canonical and juridical nature. The state
and the church refused to accept “false” conversions, realized by the aspirants in
a hope to obtain various privileges and facilities in Russia, and such conversion
was even prohibited by the secular law. The conversion attended by secular and
spiritual authorities had to be based on the internal inclination and personal
desire of the applicant and not on expectations of profit. The documents from
the archives of the court (preserved in the Russian state archive of ancient acts)
permit to compare juridical theory with the real practices of the application of
laws elaborated on conversion.
Oleg Budnitskij
Jews and the Cheka (1917-1921)
The article contemplates the “casus” of the time of the October revolu-
tion: the active participation of men of Jewish origin in the activities of the
Bolshevik secret political police - the All-Russia Extraordinary Commission
on fighting counter-revolution and sabotage (Cheka) in 1917-1922. The ar-
ticle is an attempt to determine and assess the quantitative and “qualitative”
representation of the Jews in the Cheka, the motives of their participation in
the activities of this repressive body. It also examines the sociocultural profile
of a Chekist Jew.
Summaries
Yuri Zaretskij
Who are Katskari?
In the evening of January 7, 2007 the Vremia news program of the all-Russia
ORT TV channel showed a reportage entitled “An unusual Christmas celebra-
tion in a village of Yaroslavl Region, where live Katskari." The camera showed
joyful peasants from a Russian remote place who according to the reporter’s
commentaries constitute a specific community, i.e. have specific customs, pe-
culiarities of language and history that distinguish them from other groups of
indigenous population of Central Russia. The commentaries insisted that it is
these cultural, linguistic and historical peculiarities that allow this populace to
name themselves Katskari.
Existing evidence about Katskari may be summed up in five statements:
At the beginning of 1990-s the inhabitants (or at least some of them) of
a few villages in the basin of river Kadka in Yaroslavl Region began to iden-
tify themselves as belonging to a specific Russian community of Katskari. The
nature of this community is generally defined as “ethnic”: “ethnic community,”
“ethnographical group,” “sub-ethnic group.”
In the background of self-identification of this populace as Katskari lays re-
cognition of shared customs, language, history and strong interest to these three
____ elements as to common “roots.”
376 The key role in the emergence (revival?) of Katskari identity and strength-
ening it has been played by a teacher of the local school Sergey Nikolaevich
Temnyatkin.
The two most important social tools that have inspired and supported this
identity are the periodical “Katskaya Chronicle” and the “Museum of Katskari.”
The Katskari identity (either revived or newly emerged) has brought con-
siderable advantages to the populace of Kadka river villages, both material (a
flood of tourists) and non-material (an unusual publicity for inhabitants of
distant villages).
The main questions discussed in the paper in the wider theoretical context
of contemporary ethnology are: How real/illusive Katskari are as an ethnic
group? What mechanisms brought Katskari into being? What is the role of
conscious individual activity in the emergence of this community? Can the case
with Katskari shed some new light on the concept of ethnicity?
Alexander Chudinov
Multifaced Gilbert Romme
The article deals with different aspects of activities of Gilbert Romme
(1750-1795) during his stay in Russia where this leading in future activist of
the French Revolution served as a gouverneur of the young count Paul Stroga-
noff. The archive documents studied by the author allow to see various sides of
Romme’s personality from a new angle that considerably differs from the one
predominant in historiography until now.
It turns out now that Romme’s “achievements” as a scientist were very mo-
dest and his title of a “mathematician” was attached to him mainly by misunder-
standing than due to his real scientific merits. The place of a teacher in one of
the richest families of Russia was accorded to him not because of his successes in
science which simply did not exist but due to his membership in the same Mason
lodge to which the father of his pupil belonged. Romme’s pedagogical achieve-
ments in education of young Stroganoff, as follows from the sources for the first
time given a real scientific scrutiny, also look not very fruitful and impressive
as they used to be maintained in scholar literature until now. It was Romme’s
activity in a capacity of secret agent providing the French government with
information about the Russian army that, on the contrary, appears to be very
successful; it led to the appearance of the most interesting documents about the
state of the Russian armed forces of that time.
Olga Bessmertnaya
A ‘Muslim Azef, or Playing the Other:
Metamorphoses of Maghomet-Bek Hadjetlache
The figure of Maghomet-Bek Hadjetlache, a.k.a. Akhmet-Bey-Bulat, a.k.a.
Yuri Kazi-Bek Akhmetukov, a.k.a. Akhmet-Bek Allaev, a.k.a. Grigoriy Ettinger
(ca 1870-1929), is considered by the present author in two perspectives: as
constituting a story to analyze, and a story to narrate. The protagonist was
nicknamed by his Muslim contemporaries (late 1911) a ‘Muslim Azef (after
a famous Russian Jewish ‘double agent’ Euno Azef) due to his simultaneously
writing as a Muslim, North-Caucasian mountaineer (Circassian), editing Mus-
lim periodicals “Musulmanin” (1908-1911, Paris) and “V Mire Musulmanstva”
(1911 - early 1912, St. Petersburg), and publishing anti-Islamic articles in the
Russian conservative press as well as collaborating with the Ministry of the In-
terior. He had in fact chosen such change of identities and superposing of social
roles contrary to each other as his life strategy: from an Adygh writer and radical
socialist revolutionary (or, according to a police statement, ‘a blackmailer on
revolutionary grounds’) mingling with the conservatives (the 1890s - 1907),
up to a fighter against the Bolshevik Regime, claiming membership of the higher
Russian aristocracy, suspected to be a Bolshevik agent, and sentenced for life
imprisonment in Sweden as a murderer killing for gain (1919).
The analysis seeking for ‘why’ and ‘how possible’, and intended to see the
individual against society and vice versa, puts the reactions of Hadjetlashe’s
different milieus to his activities - the causes of trust (an indicator of his being
accepted as ‘ours’) and distrust (alienation) - side by side with the resources
and means of deceit he used to gain trust. Both trust and distrust were based
on his ‘cultural’ compatibility with being Muslim and/or mountaneer, rooted
in race (‘Muslim culture’ being structured by the model of a national one) and
coinciding with the political frontiers, as well as with the moral one. By the
Muslim opposition, mainly Tatar, Hadjetlache having violated the ethic norms
and political belongings, was declared neither Muslim, nor a Mountaineer, but
a Jew; for the North-Caucasian participants less politicized and less engaged
Summaries
377
with Islam in defining their national identity, he much longer remained a true
Adygh ‘national’ writer expressing ethnic values and stance (a distinction that
nowadays still influences the memory of that figure).
Mirroring that perception of impenetrable and primordial ‘cultural fron-
tiers’, was Hadjetlache’s discovery of cultural belonging, as well as cultural
otherness (made use of when communicating with Russian government and
conservatives), to be a symbolic capital employed to implement his strategy
of “playing the Other” while crossing those frontiers. He was, perhaps, born
Jewish and, surely, brought up by an (adopted?) Jewish family (the Ettingers)
baptized to Orthodoxy (the conversion probably helping his estrangement
from the ‘roots’); the Muslim identity chosen served to keep his otherness
while overcoming Jewish marginality. Yet “playing the Other” became possible
due to the shared character of the discourse and stereotypes it was based on:
the basic categories and values of the modernist discourse, tracing back to the
‘Enlightenment project’ and the heritage of Romanticism, and the stereotypes
of a Muslim/ a Mountaineer, in a large part created by the Russian literary tra-
dition. Not only Hadjetlashe’s writings addressed to one or another audience,
but his everyday “real” images and social roles appear to be literary mystifica-
tions of a kind. His worth in the existing then society being of opposite values
(a “provocateur” strengthening the antagonism between the Government and
the liberal Muslims for the sake of his own authority, and a creator of the sig-
____ nificant part of the Adygh national literature of the time), his main role turns
378 out to be relativization of cultural boundaries and the Enlightenment ethics,
anticipating the crisis of the Enlightenment project, whose consequences are
so conspicuous today.
The narrative aspect of the article based on a detailed description and an
attempt to overcome the linear character of standard history writing (in par-
ticular, following various figures of Hadjetlashe’s different environments, partly
in footnotes) raises the question if a historian is really capable to see the world
in a nutshell, or it proves to be superfluous for a historical investigation.
Summaries
Vadim Mikhailin
The Death of a Hero
The paper starts from a parallel between one of the most prominent early
Medieval epic plots (“love triangle”, the king - the beauty - the hero), that is
interpreted as having deep roots in ritual and working out rather specific male
behaviour patterns - and a number of plot schemata used in early Soviet heroic
discourse, translating some closely corresponding behaviour patterns. “How the
Steel hardened” by Nikolay Ostrovsky, one of the school-canon Soviet texts, is
subject to a close anthropological analysis. The novel and it’s (official) author’s
biography are seen as parts of a mythmaking, normative hero creating project
that makes use of some rather archaic epic patterns - sometimes quite con-
sciously, sometimes not. Epic patterns already recycled by “romantic” (“bour-
geois”, “individualistic”) tradition are purposefully “cleansed” according to the
newly formatted elites’ legitimating strategies. At the same time, the detailed
text analysis reveals that sometimes the horse drives the rider when the archaic
“wolves pack” ethos revived in the revolutionary/Civil War tumulus and then
coming methods of Bolsheviks’ setting control over the seized territories form
the latently dominating ideology of the text.
Alexander Sinitsyn
Twelve Theses about Stierlitz, or The Soviet
Myth about the “Trojan horse”
(Homeric modes and motives in the film of T. Lioznova
“Seventeen instances of spring”)
If we look at the film “Seventeen instances of spring” from almost the same
point of view as we look at “Iliad”, we will find out a lot of similarities and first
of all in those functions, which these two texts discharged in two cultures. The
main point is a similarity of the mythological thinking and a similarity of the
myths, both in their intrinsic morphology and in their common integrative role.
And this is no surprise that after the similarity of functions in the Homer’s poem
and “Seventeen instances of spring” of T. Lioznova appears a similarity in their
respective poetics, which sometimes shows itself at the level of formal conformi-
ties: there is a narrator in the film, who tells the audience about the events; there
is a necessary epic beginning; the specific way of deployment of the hero or object,
crucial for epic, is also used in the film; event-trigger days in “Iliad” are also 17.
The traits specific for “Iliad” and “Odyssea” can also be seen in Stierlitz himself:
he is both Achilles and Odysseus at the same time, he is both a hero-soldier and
a hero-wanderer cut from his native land (he has been absent at home for 20
years - quite a cognate reference to Homeric Odysseus). Like in “Iliad” the im-
portant subject of “Seventeen instances of spring” is war, but like in Homer the
question is not about the war in general but about the last year of the Great War.
The main subject of “Iliad” is also played on: the heroes fight for “the City", which
in any case will be destroyed. There are maxims and aphorisms and this draws the
two works together artistically. Like in Homeric poems there are nuances of the
epic tragedy in the artistic aesthetics of “Seventeen instances of spring”. And at
last alongside the tragedy we see irony and fine humour as determinant for the
poetics of the film. And exactly the ironical and comic notes of the film were
picked up by the folk risorial culture, which laughed at the main heroes of the
film, numerous “desperate” situations, which Stierlitz smartly dealt with. The
above mentioned coincidences show that the authors of the film managed to
divine the settled epic ways and subjects, which promoted the actualization of
the Soviet myth about the “Trojan horse”, which helped to destroy the enemy’s
“City”. And this successful attempt to “re-interpret” one of “the eternal topoi”
satisfied the characteristic features of the mythological thinking in the Soviet
time. The characteristics of the Soviet mythological thinking were reflected
in “Seventeen instances of spring”, the Soviet hero-epic film, which strength-
ens the patriotic myth about the Patriotic War, hero’s duty and his love to his
Motherland.
Summaries
379
Наши авторы
380
Бессмертная Ольга Юрьевна - Институт Восточных культур и антич-
ности РГГУ. Сфера интересов: мусульмане России и государство, мусуль-
мане Западной Африки и Европа (кон. XIX - нач. XX в.), историографиче-
ские аспекты историко-культурных исследований.
Будницкий Олег Витальевич - Национальный исследовательский уни-
верситет «Высшая школа экономики». Сфера интересов: история поли-
тического экстремизма, Гражданской войны, русской эмиграции, история
восточноевропейского еврейства.
Зарецкий Юрий Петрович - Национальный исследовательский универ-
ситет «Высшая школа экономики». Сфера интересов: история культуры
Средних веков и раннего Нового времени, история автобиографии, теория
истории, современная историография.
Михайлин Вадим Юрьевич - Национальный исследовательский Сара-
товский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского. Лабо-
ратория исторической, социальной и культурной антропологии (ЛИСКА).
Сфера научных интересов: социальная мотивированность и социальные
аспекты функционирования литературного и изобразительного текстов;
интерпретация культурных кодов; культурная память, механизмы ее фор-
мирования и репрезентации; культурное пространство как система, регу-
лирующая кодирование и перекодирование человеческого поведения.
Опарина Татьяна Анатольевна - Государственная публичная исто-
рическая библиотека России. Сфера интересов: межконфессиональные
и внутриконфессиональные контакты и конфликты Московской церкви
с «чужими» христианскими церквами, история толерантности русского
общества XVII в., эсхатологические страхи в России XVII в.
Осипян Александр Леонидович - Краматорский экономико-
гуманитарный институт (Украина). Сфера интересов: армянские колонии
в Центральной и Восточной Европе в XIII-XVII вв.; армяне в Монгольской
империи; конструирование прошлого и его использование в настоящем.
Рудаков Владимир Николаевич - журнал «Профиль». Сфера интересов:
русская средневековая история и литература.
Рынка Владимир Михайлович - Институт истории Украины На-
циональной Академии наук Украины. Сфера интересов: история Древней
Руси, источниковедение, историография.
Синицын Александр Александрович - Национальный исследователь-
ский Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышев-
ского. Сфера интересов: история и культура Древней Греции.
Толочко Алексей Петрович - Институт истории Украины Националь-
ной Академии наук Украины. Сфера интересов: история Древней Руси,
источниковедение, историография.
Чудинов Александр Викторович - Институт всеобщей истории РАН.
Сфера интересов: Новая история Франции, Англии и России; история
общественной мысли; русско-французские связи в эпоху Просвещения;
история и историография Французской революции XVIII в.
Наши авторы I со
Казус: Индивидуальное и уникальное в истории - 2007-2009.
К14 Вып. 9 / Под ред. М.А. Бойцова и И.Н. Данилевского. М.: РГГУ, 2012.
382 с.
ISBN 978-5-7281-1151-1
Все сюжеты девятого выпуска альманаха связаны так или иначе с отече-
ственной историей. В первом разделе рассматриваются несколько харак-
терных примеров трудностей, испытываемых историками при понимании
событий и фигур мысли, относящихся к Киевской Руси. Во втором речь
идет о разного рода этнических меньшинствах и проблемах в их взаимоот-
ношениях с доминирующими сообществами. Третий раздел посвящен двум
ярким историческим персонажам, оказавшимся вовсе не теми людьми, за
которых они себя выдавали. Наконец, в четвертом разделе делается попытка
рассмотреть два классических произведения советской культуры - роман
Н. Островского «Как закалялась сталь» и фильм «Семнадцать мгновений
весны» - как эпические произведения и показать архетипические черты об-
разов их главных героев.
Для историков, культурологов и широкого круга читателей.
УДК 94(08)
ББК 63.3(2)-7я43
Научное издание
Казус:
Индивидуальное и уникальное
в истории
Вып. 9
Редактор
Т.Ю. Журавлева
Художественный редактор
М.К. Гуров
Технический редактор
Г.П. Каренина
Корректор
О.Н. Картамышева
Компьютерная верстка
Н.В. Москвина
Подписано в печать 07.12.2011.
Формат 70x1001/$.
Усл. печ. л. 31,0.
Уч.-изд. л. 28,5.
Тираж 500 экз.
Заказ № 229
Издательский центр
Российского государственного
гуманитарного университета
125993, Москва, Миусская пл., 6
Отпечатано в ППП«Типография «Наука»
121099, Москва, Шубинский пер., 6