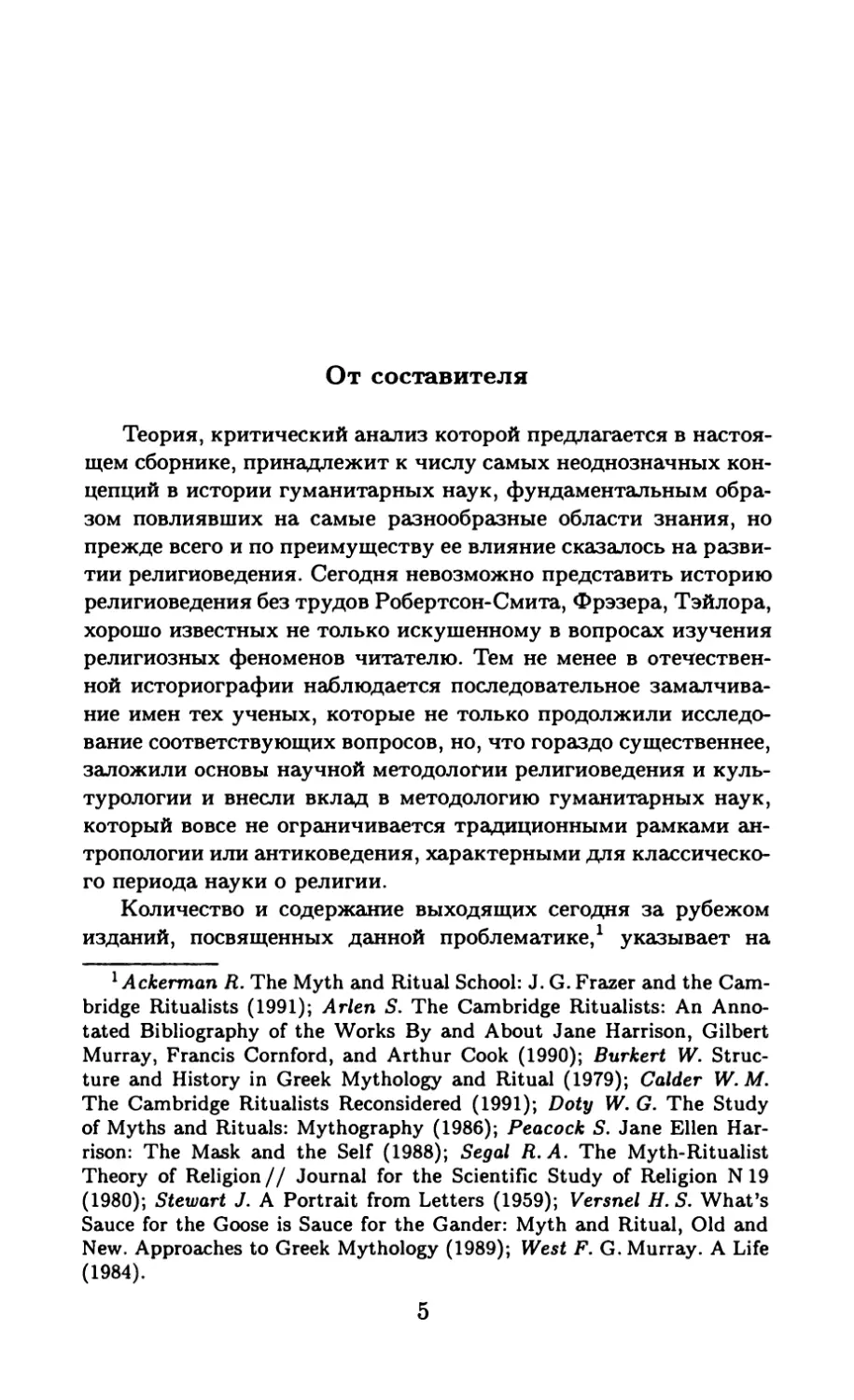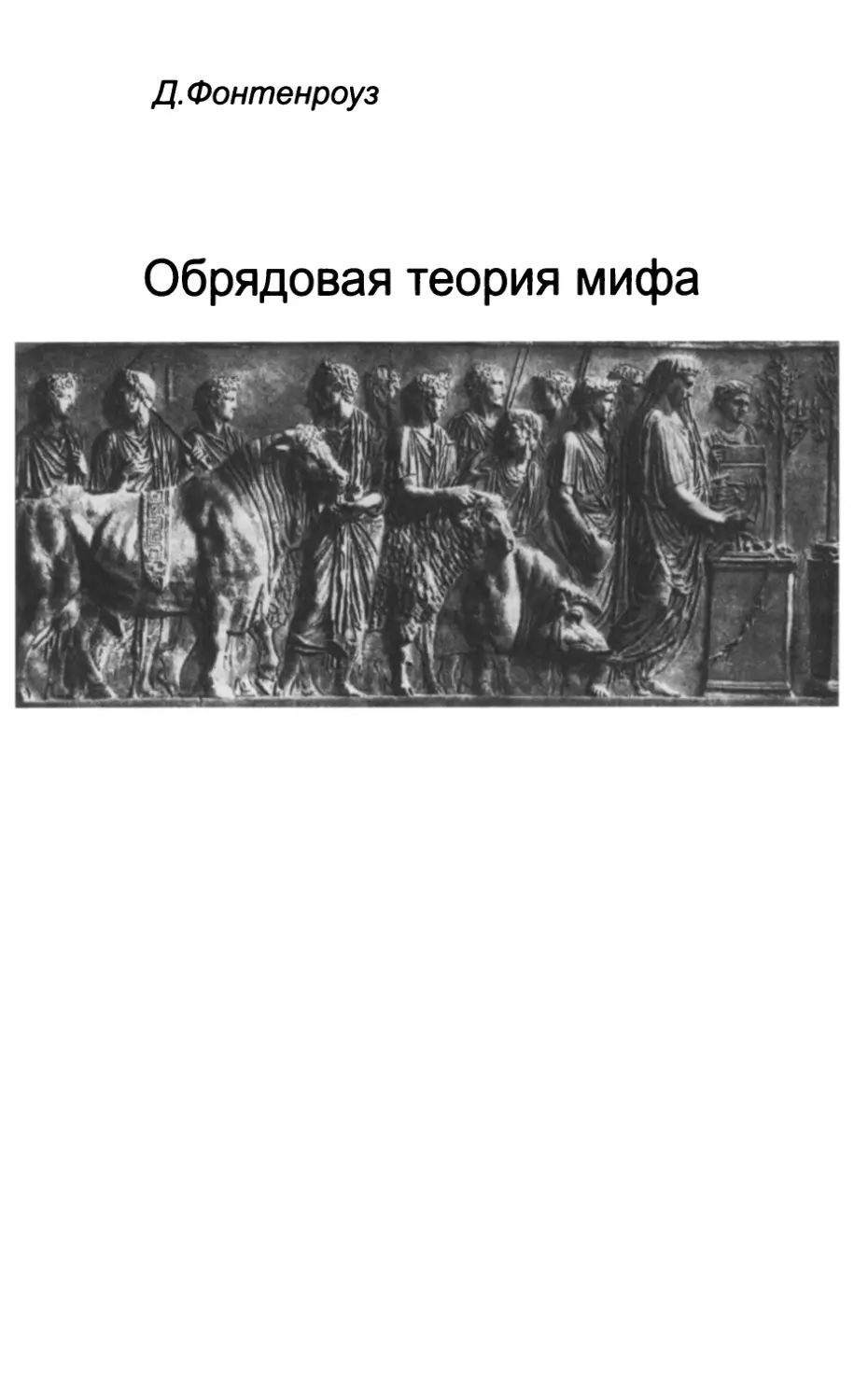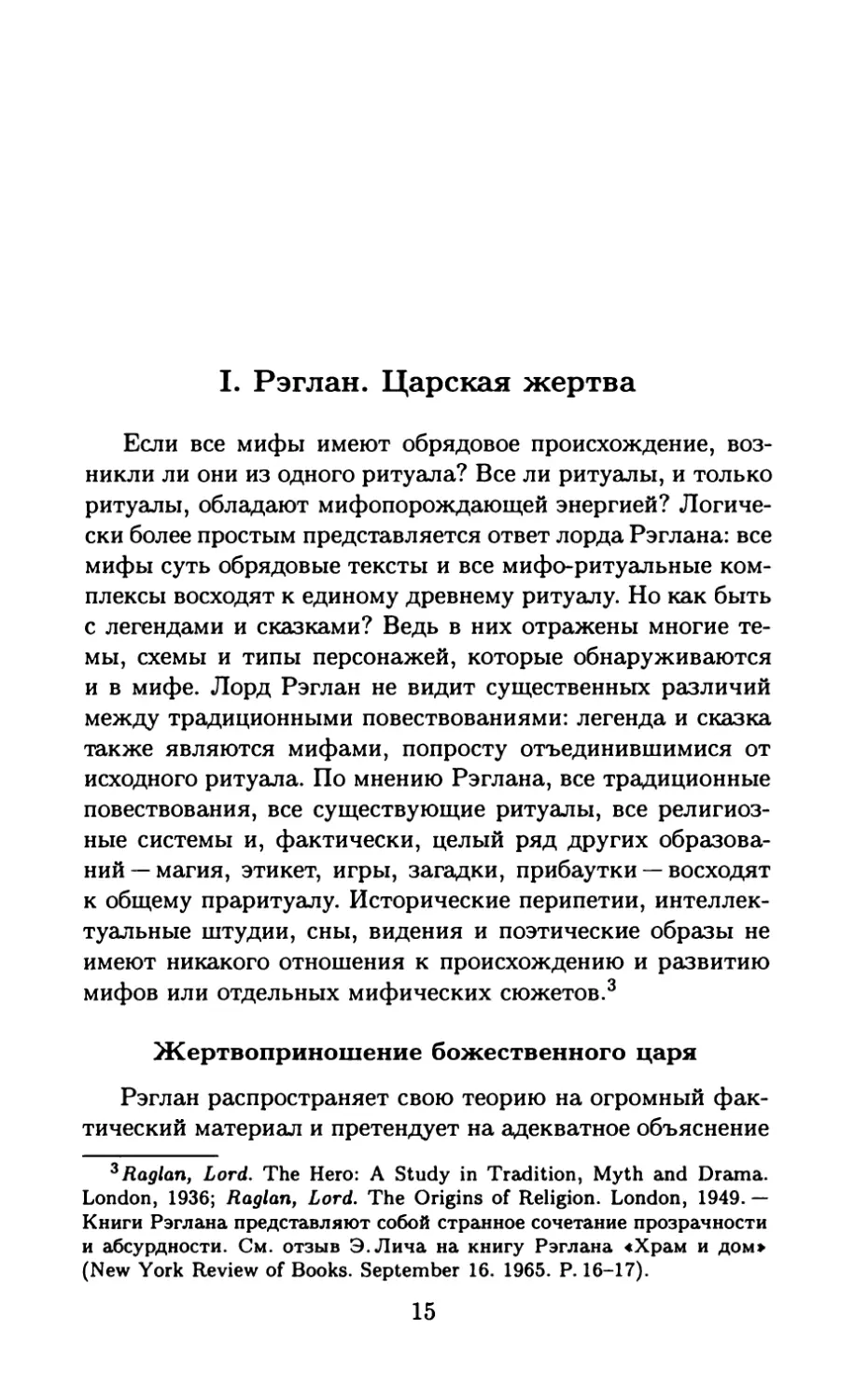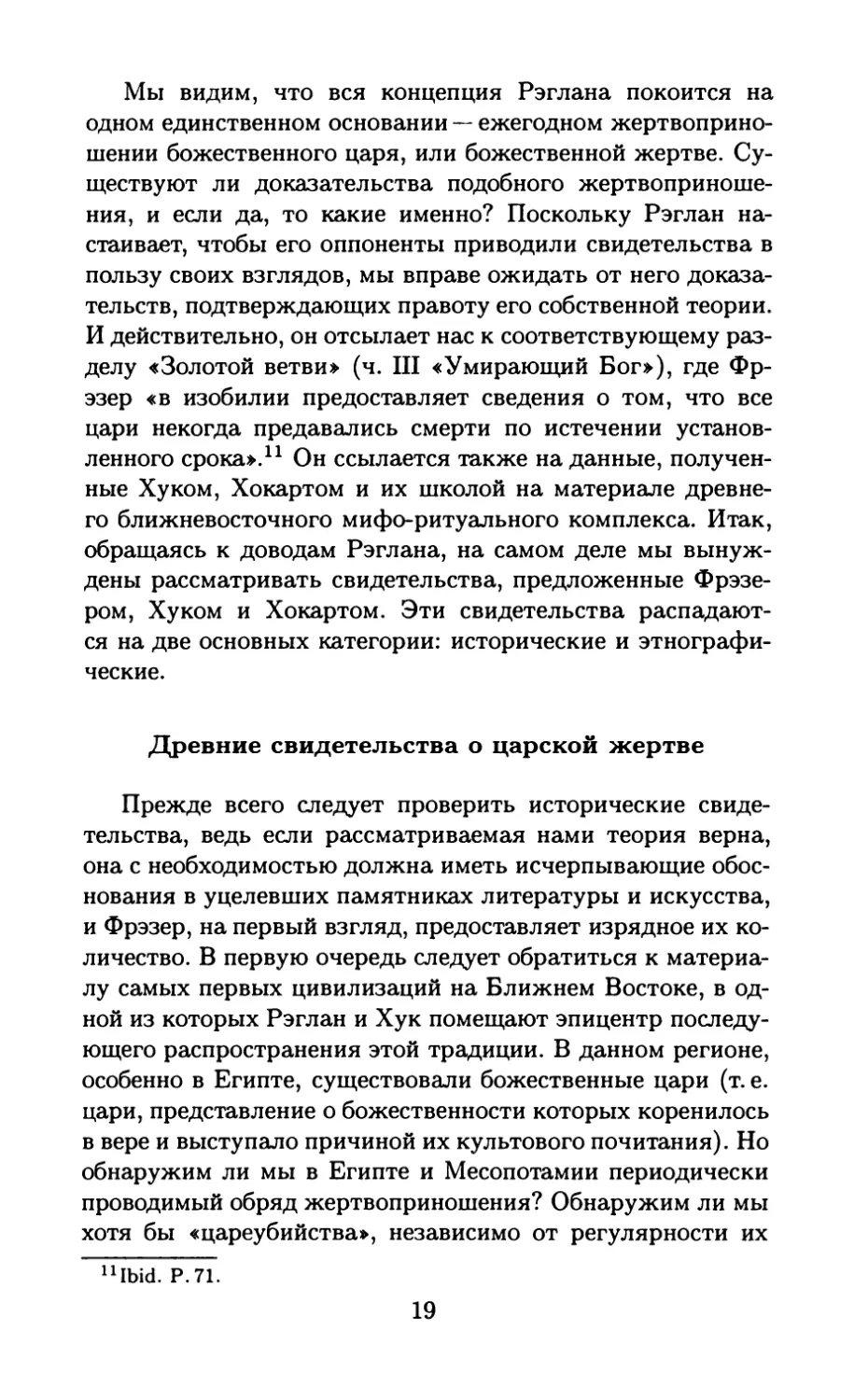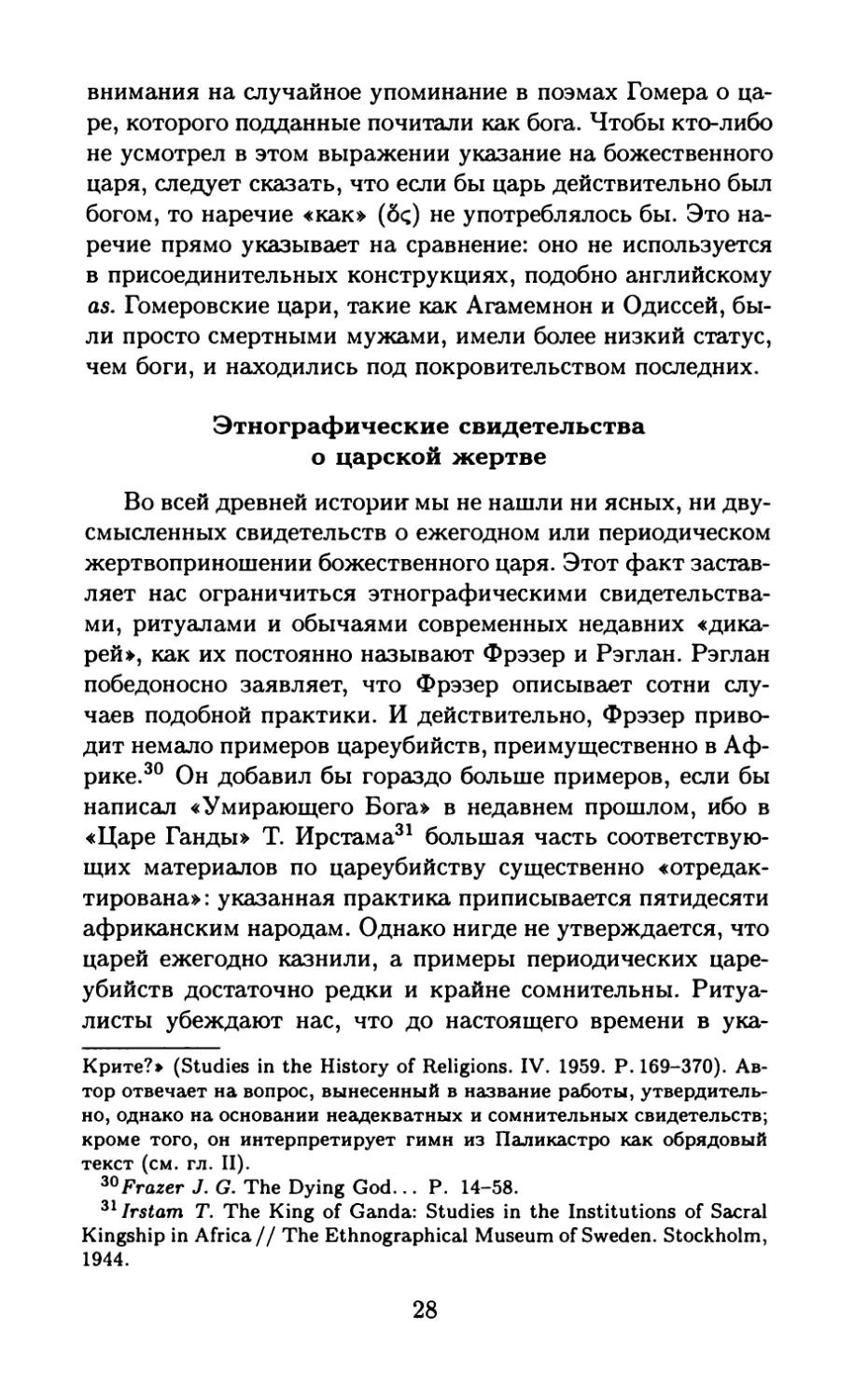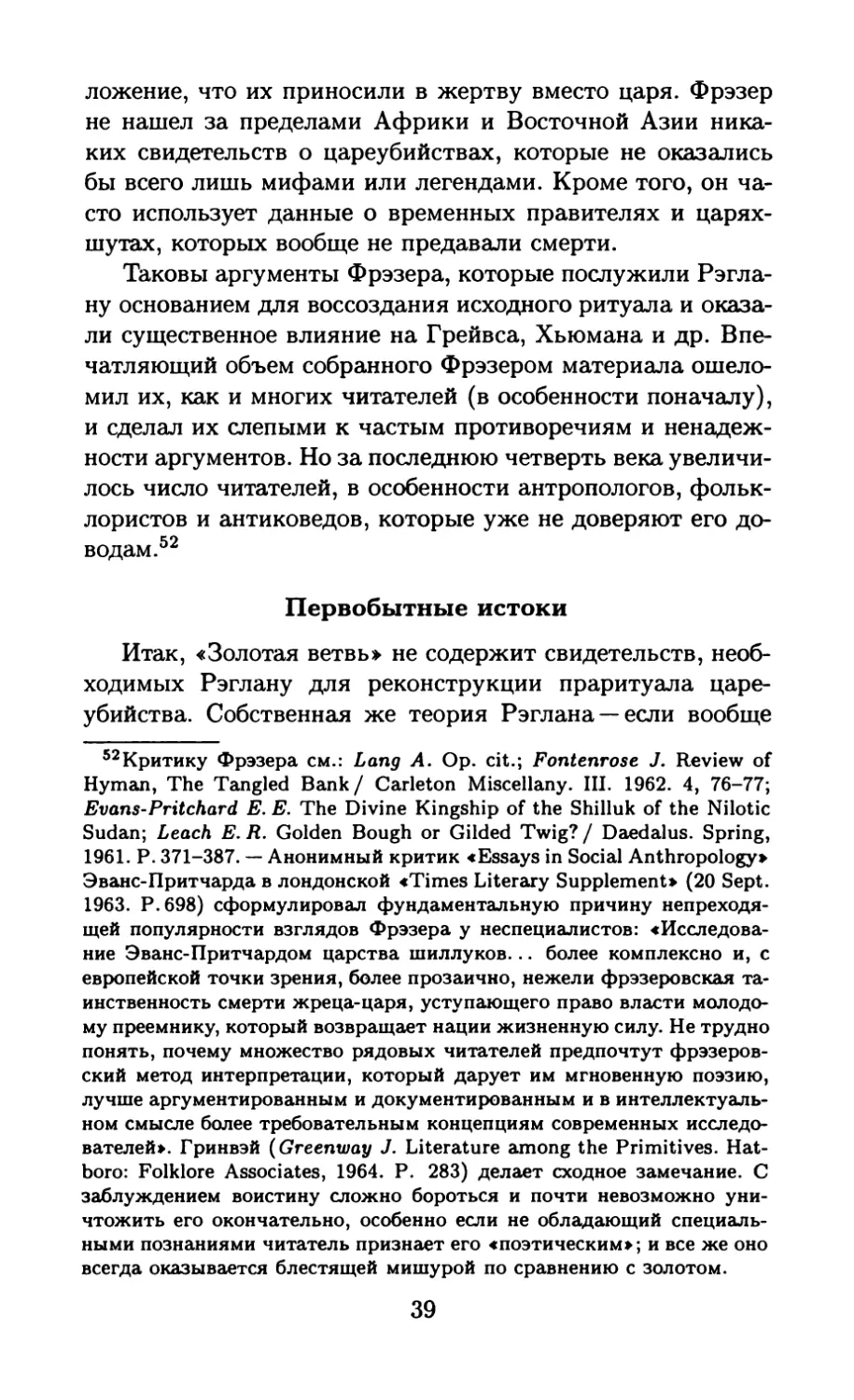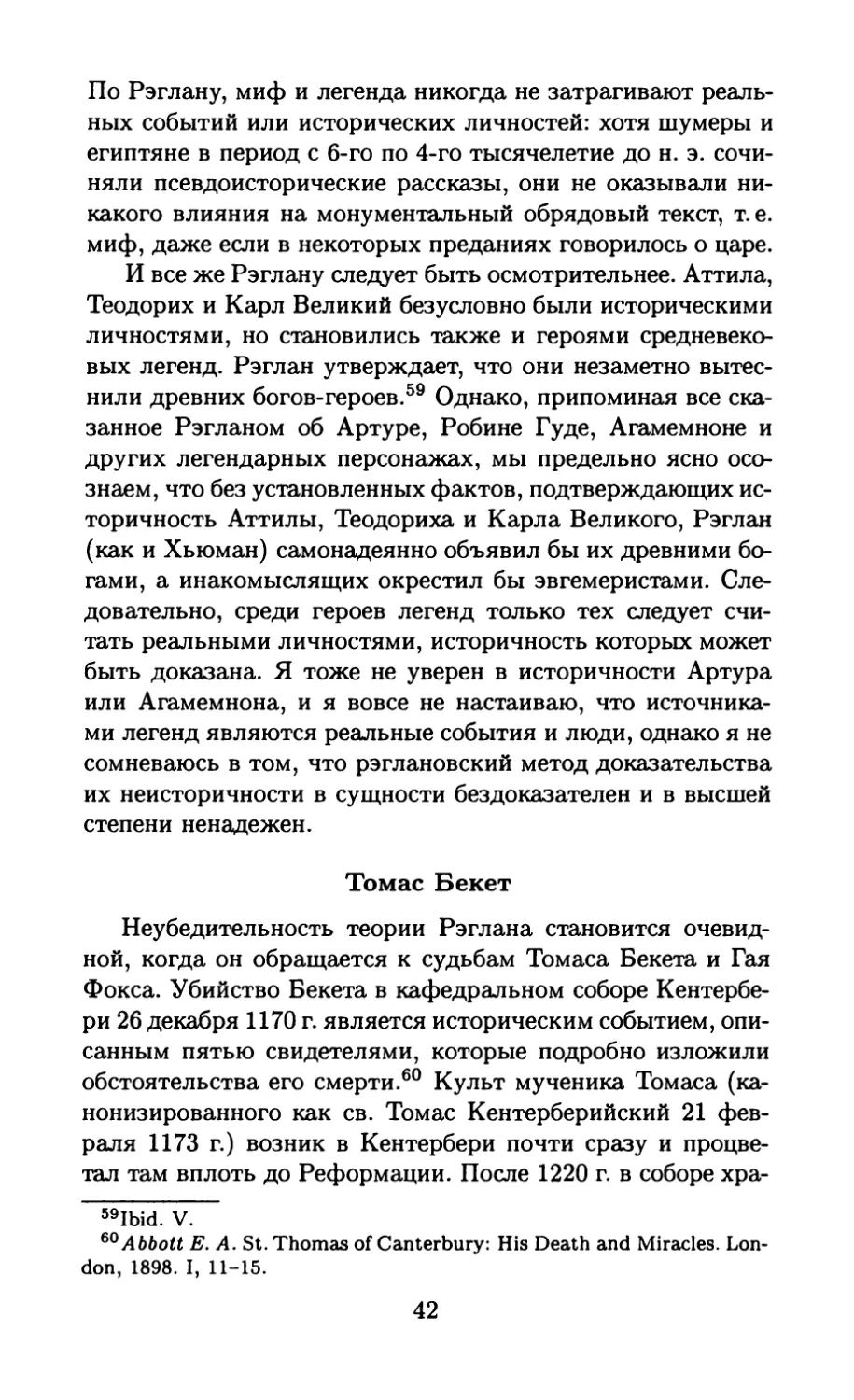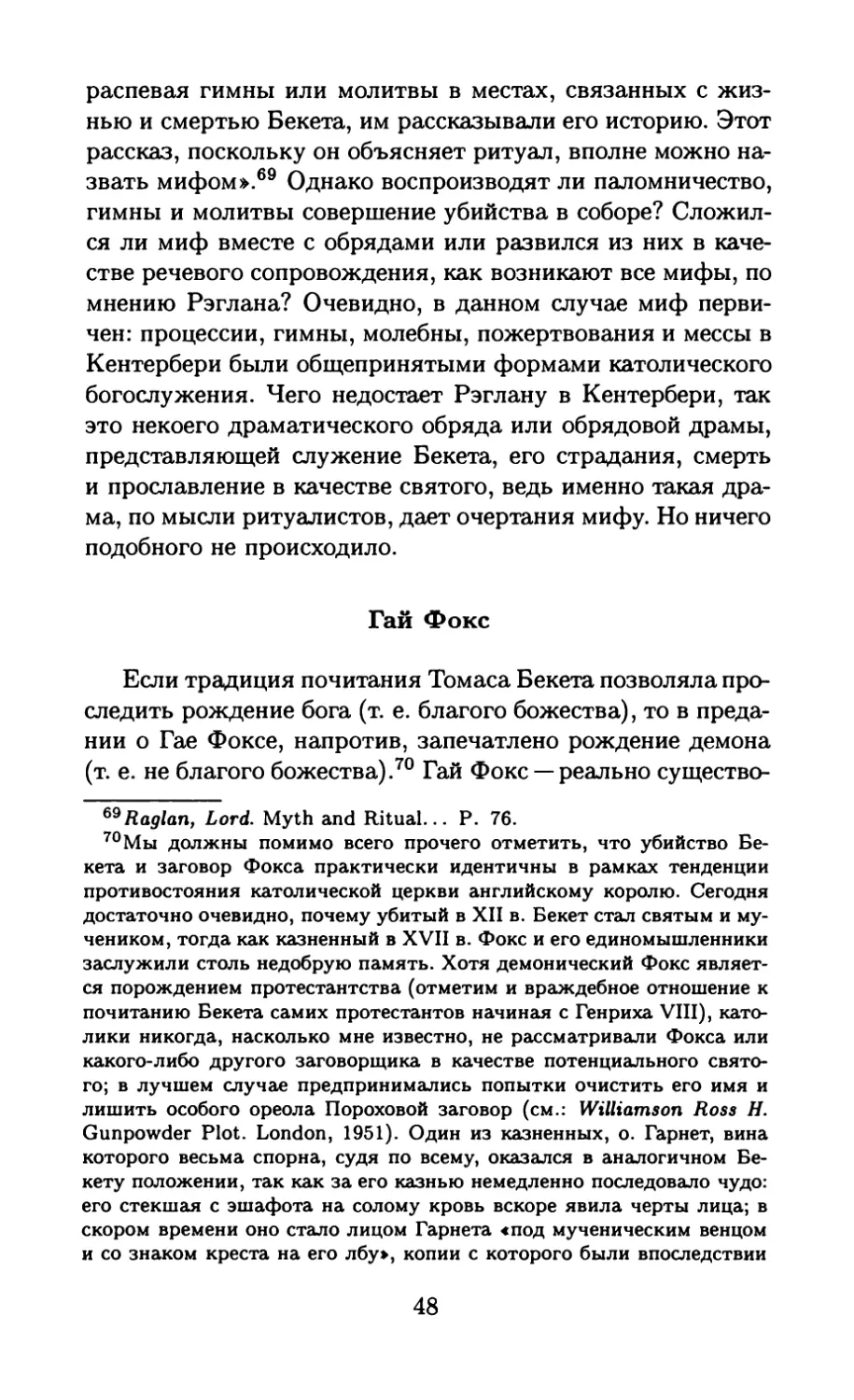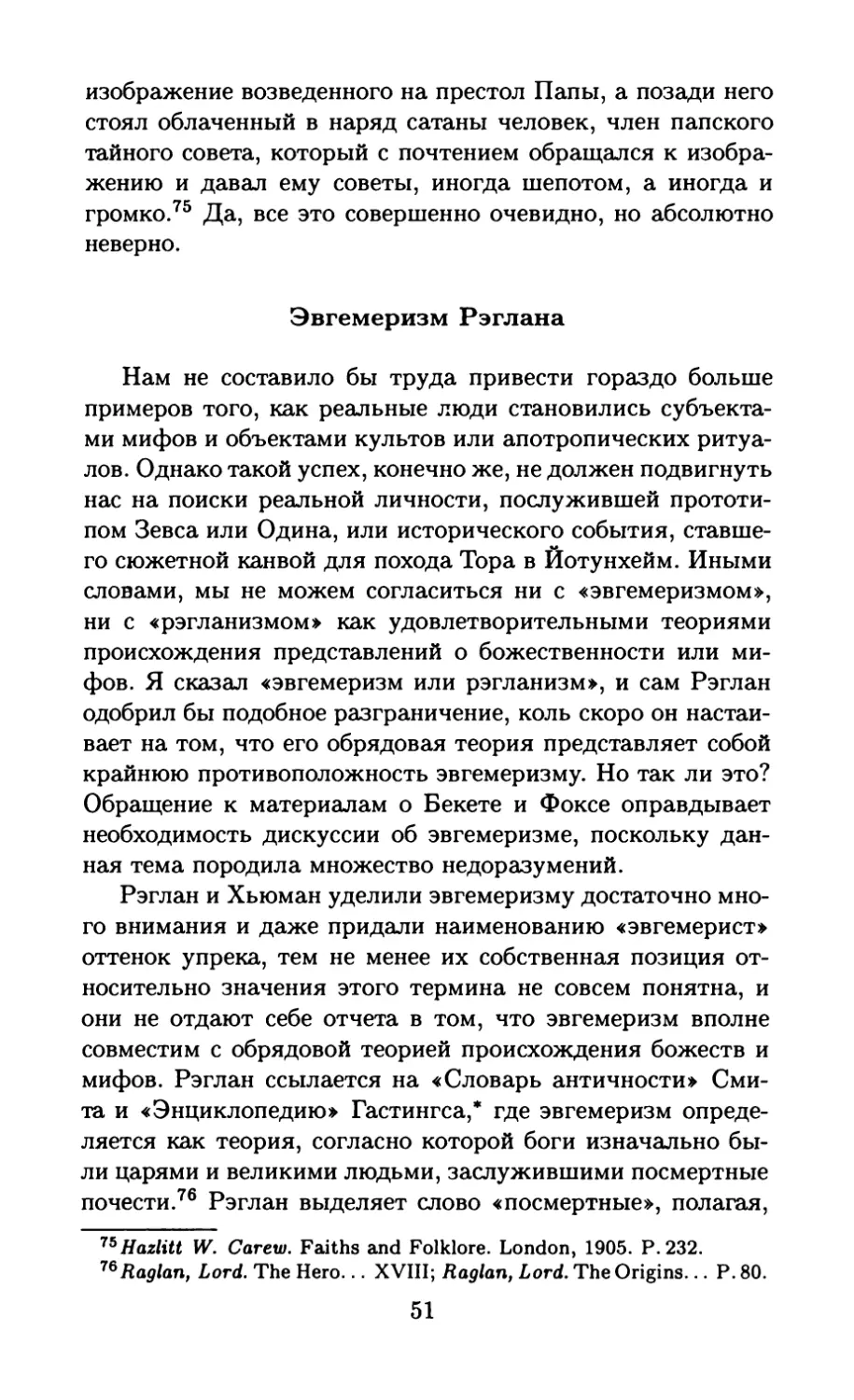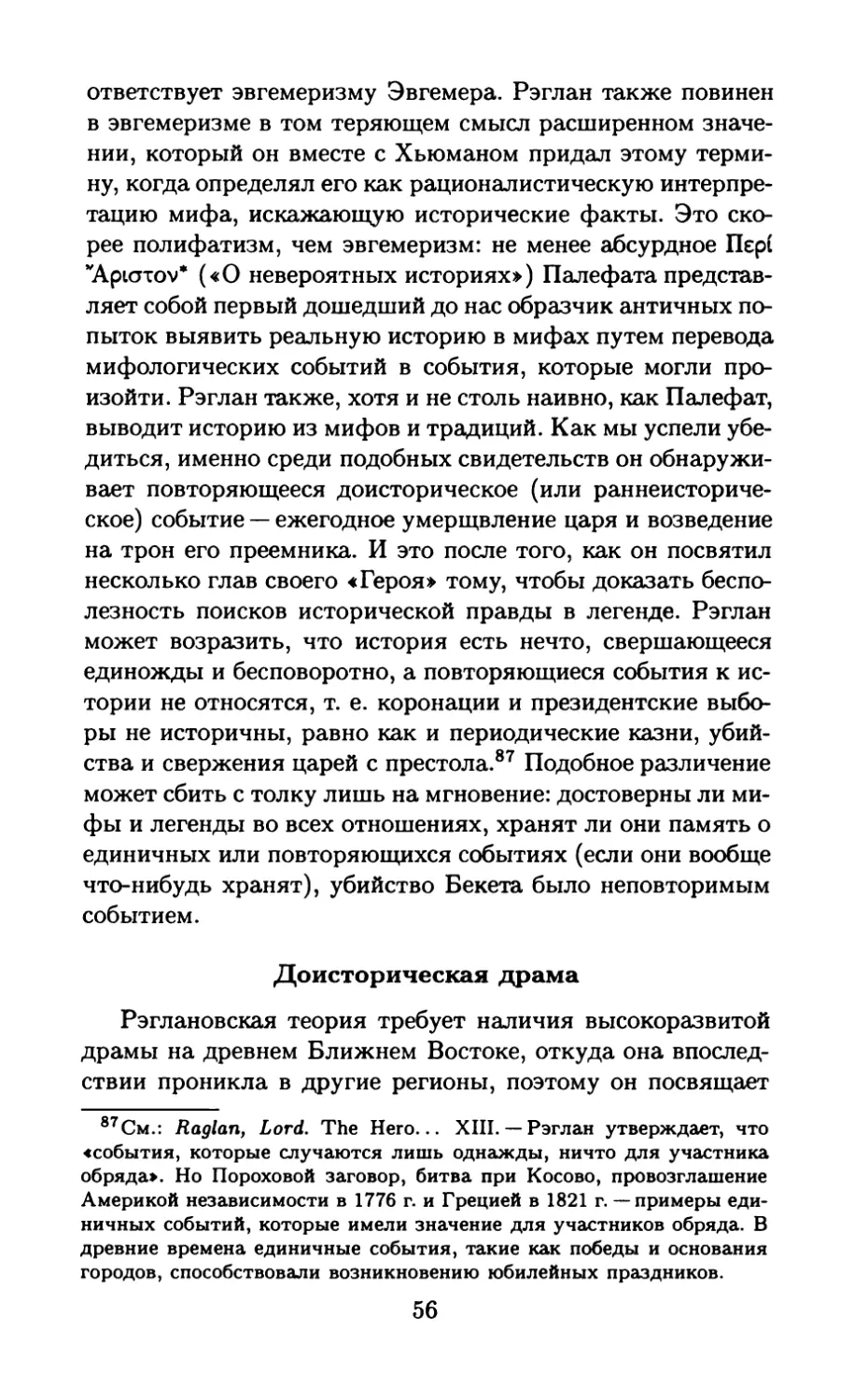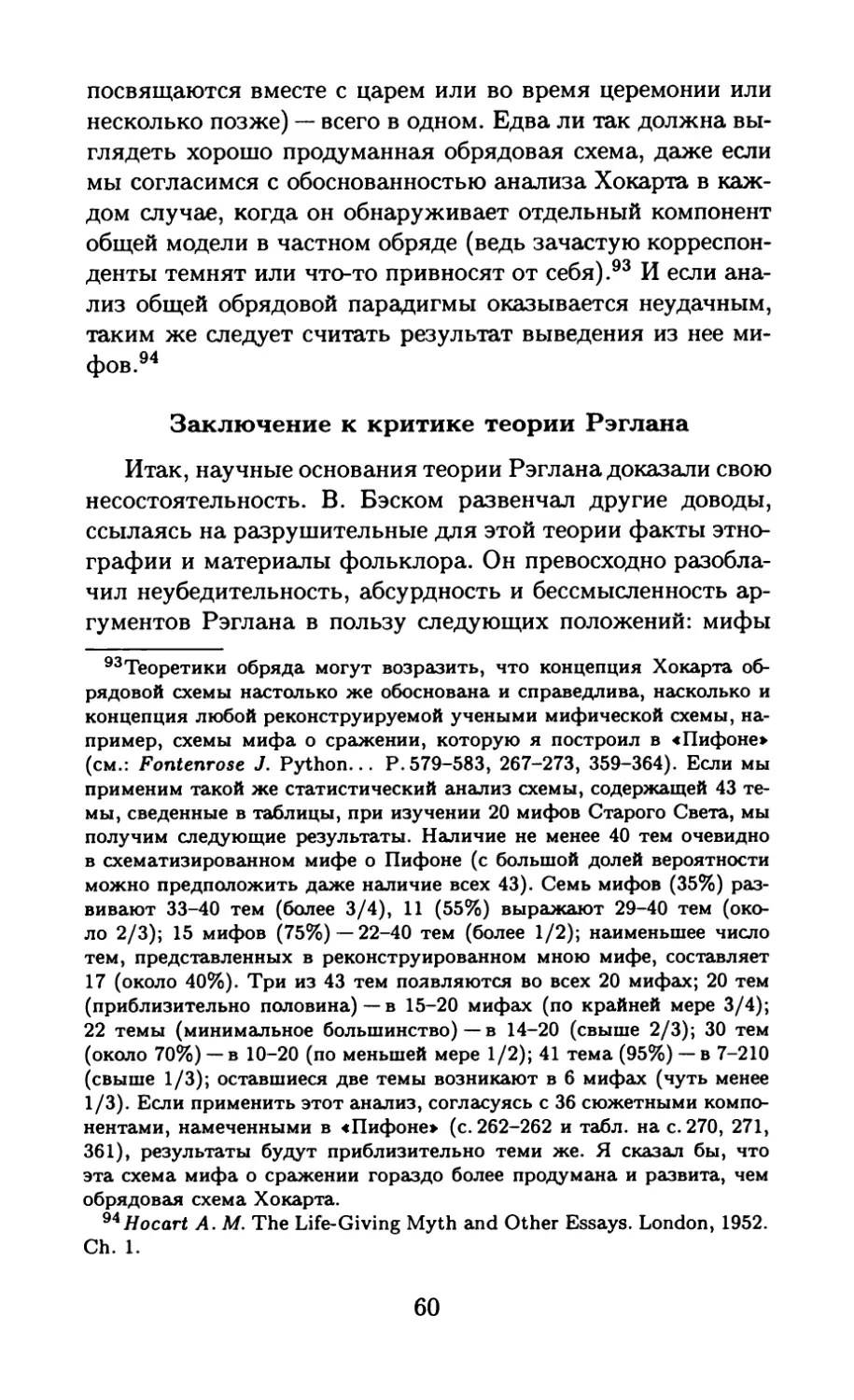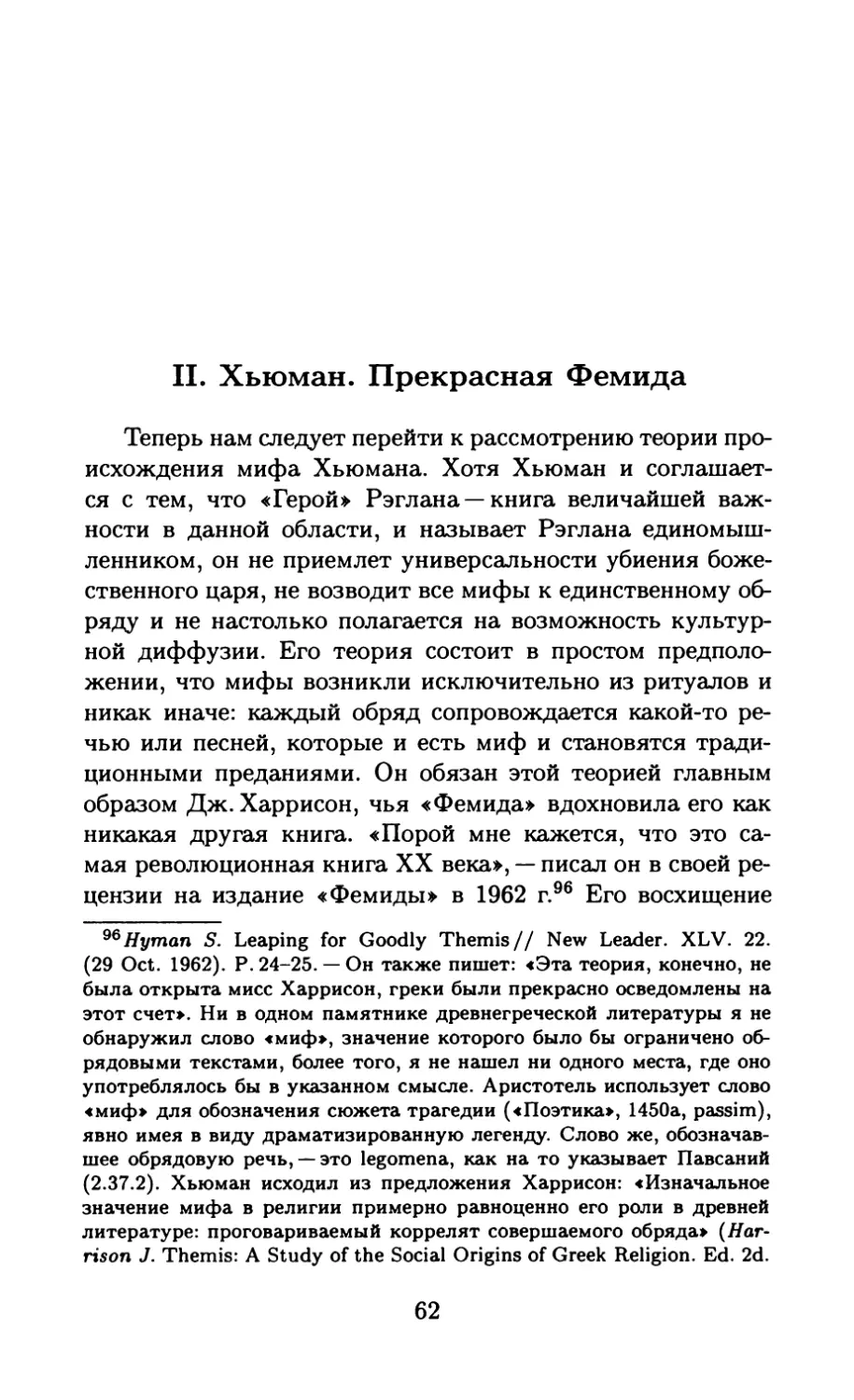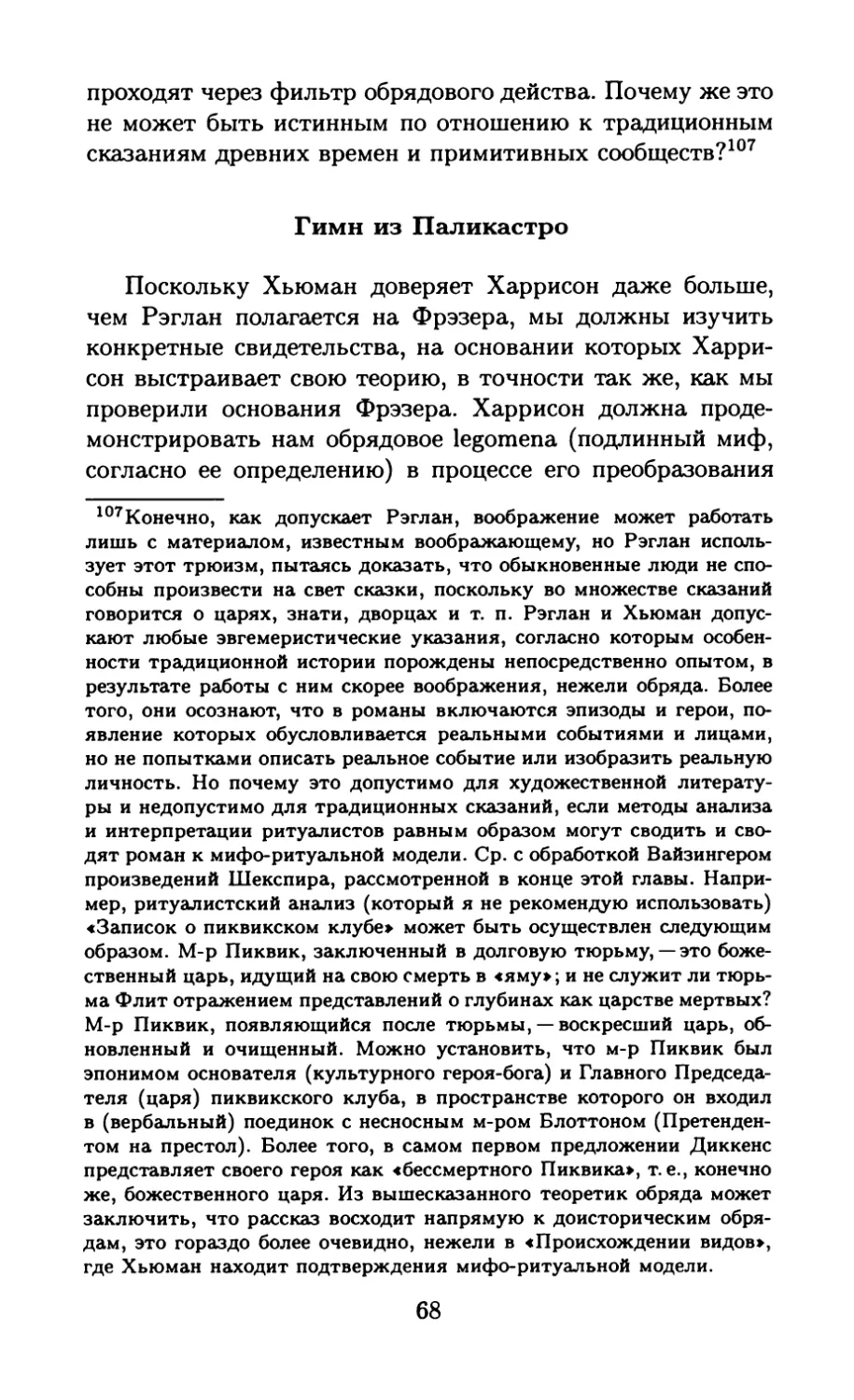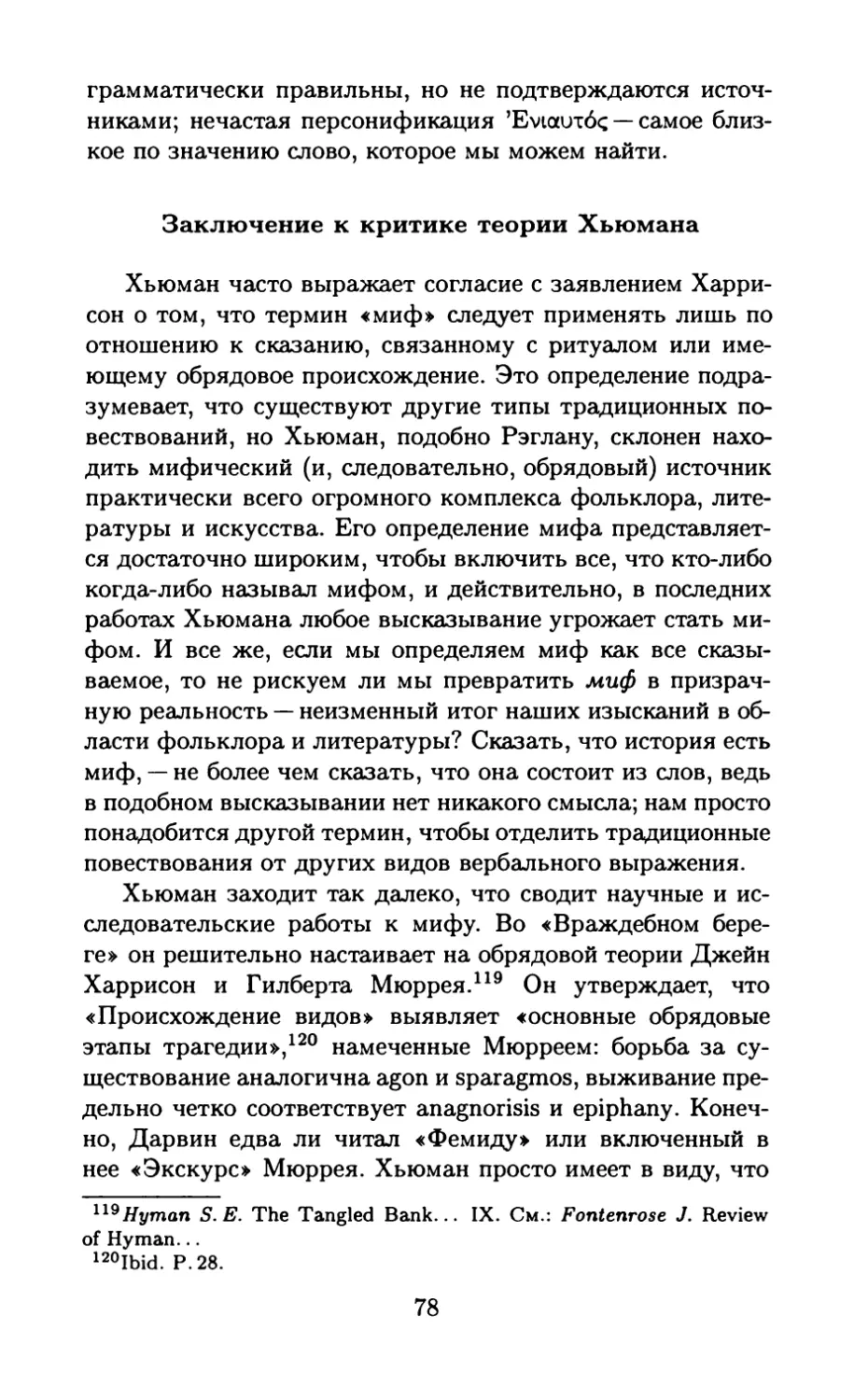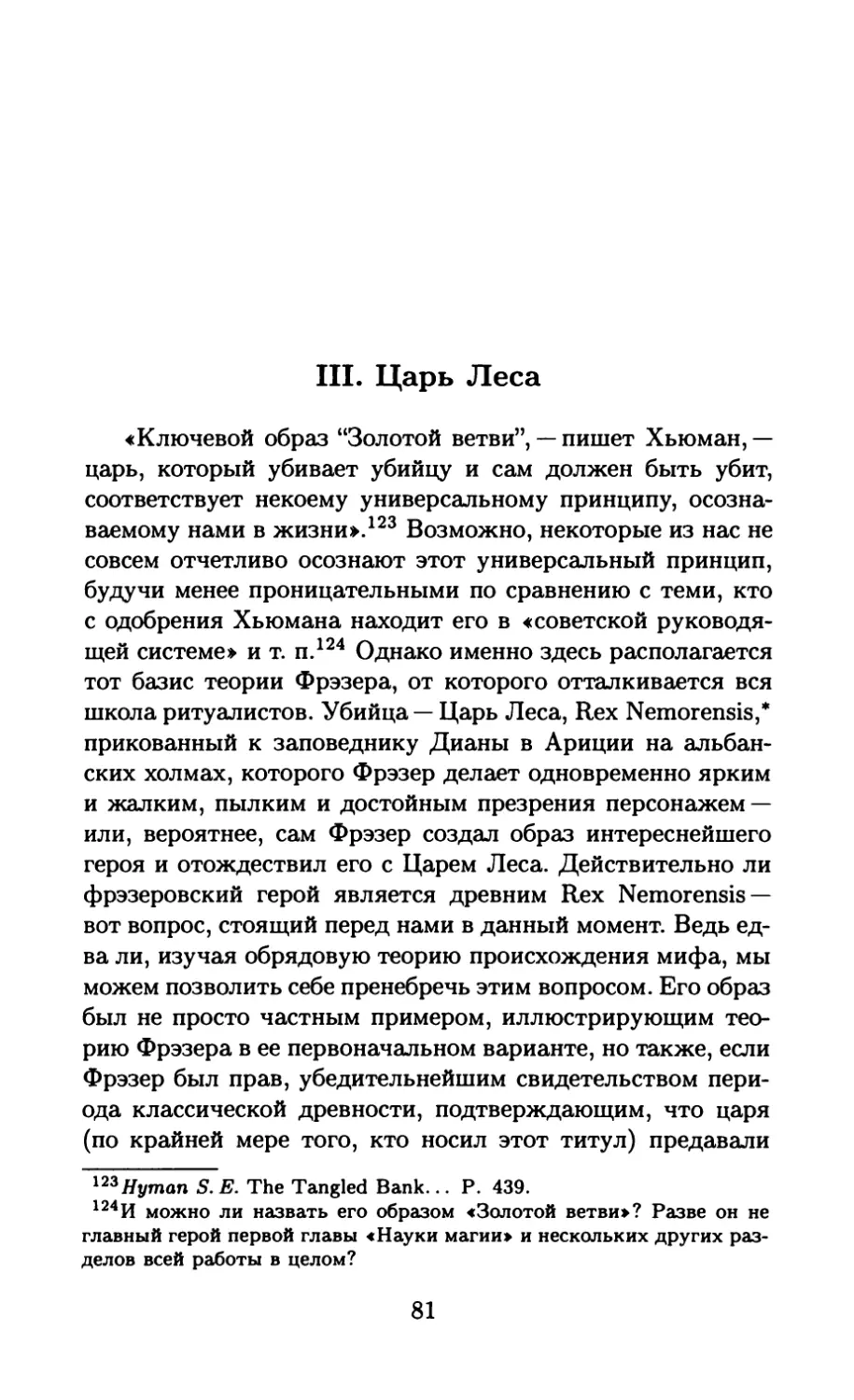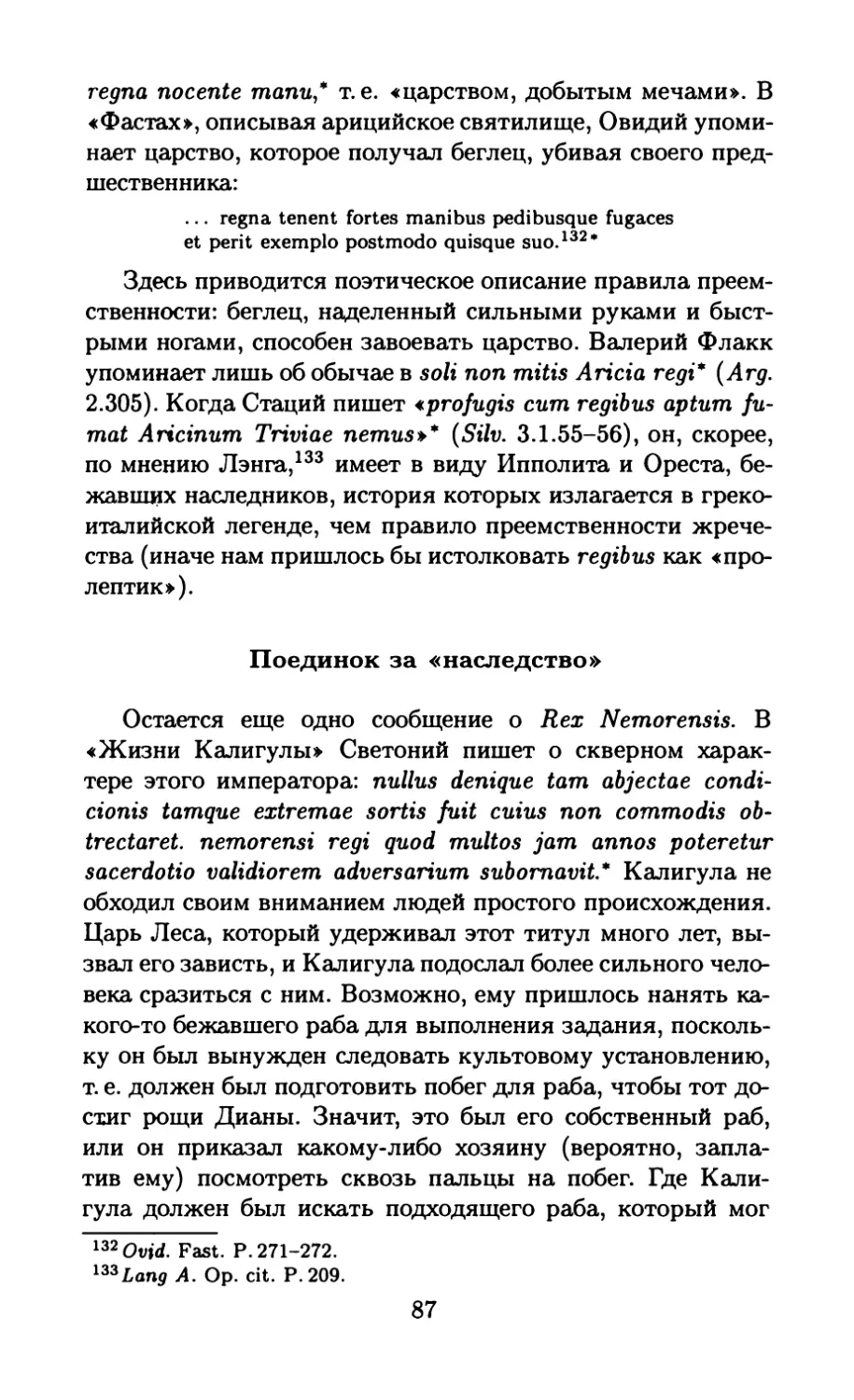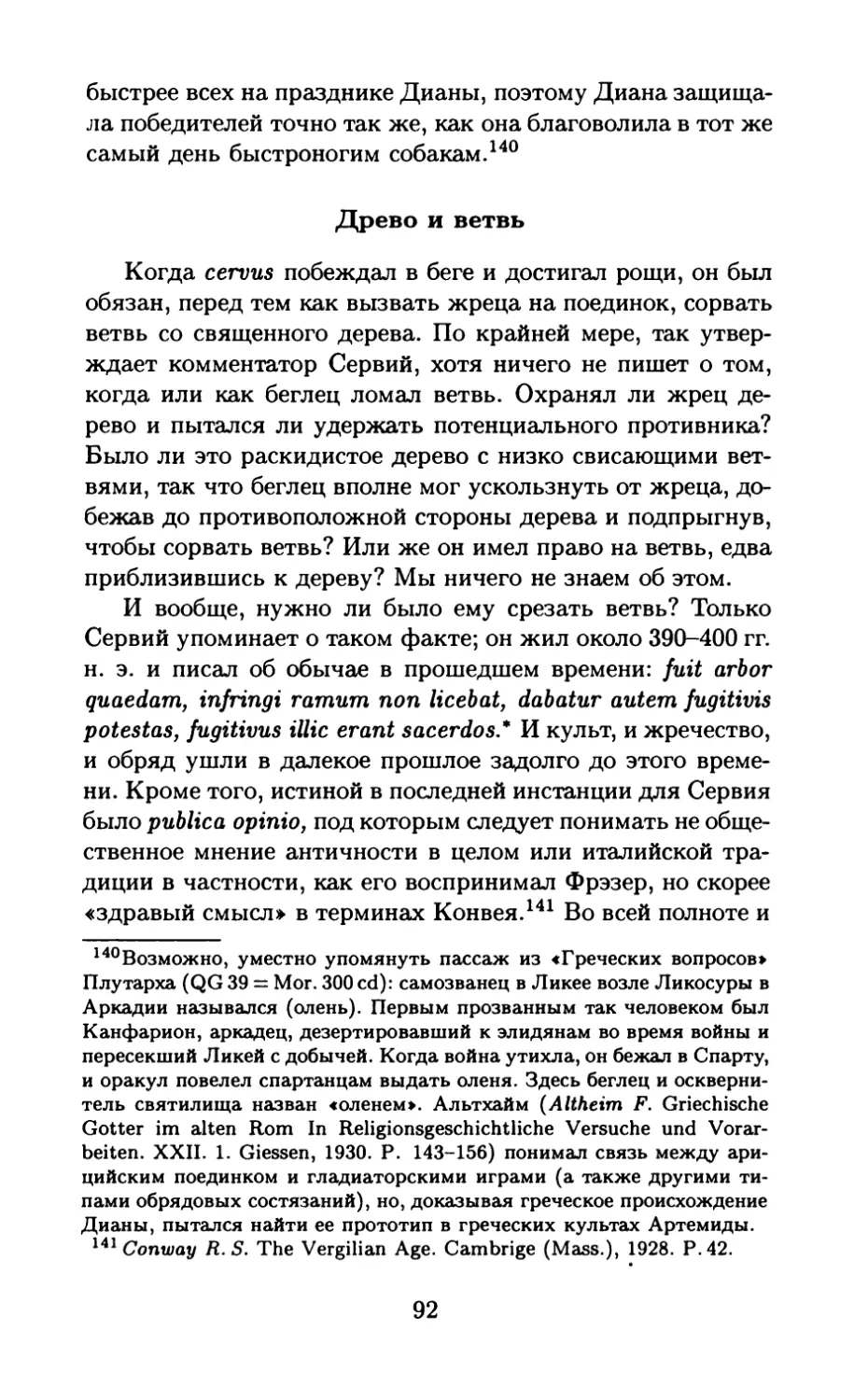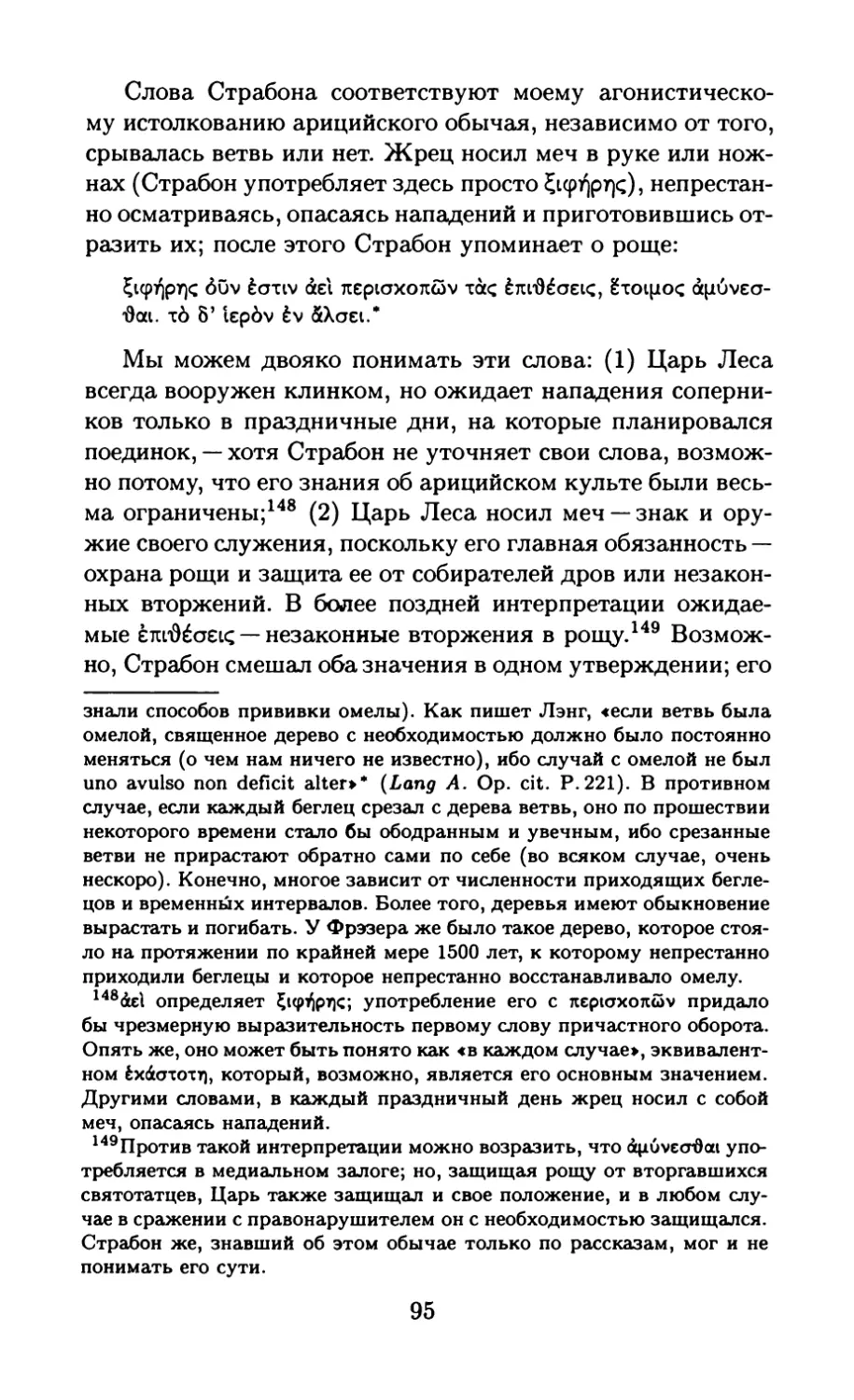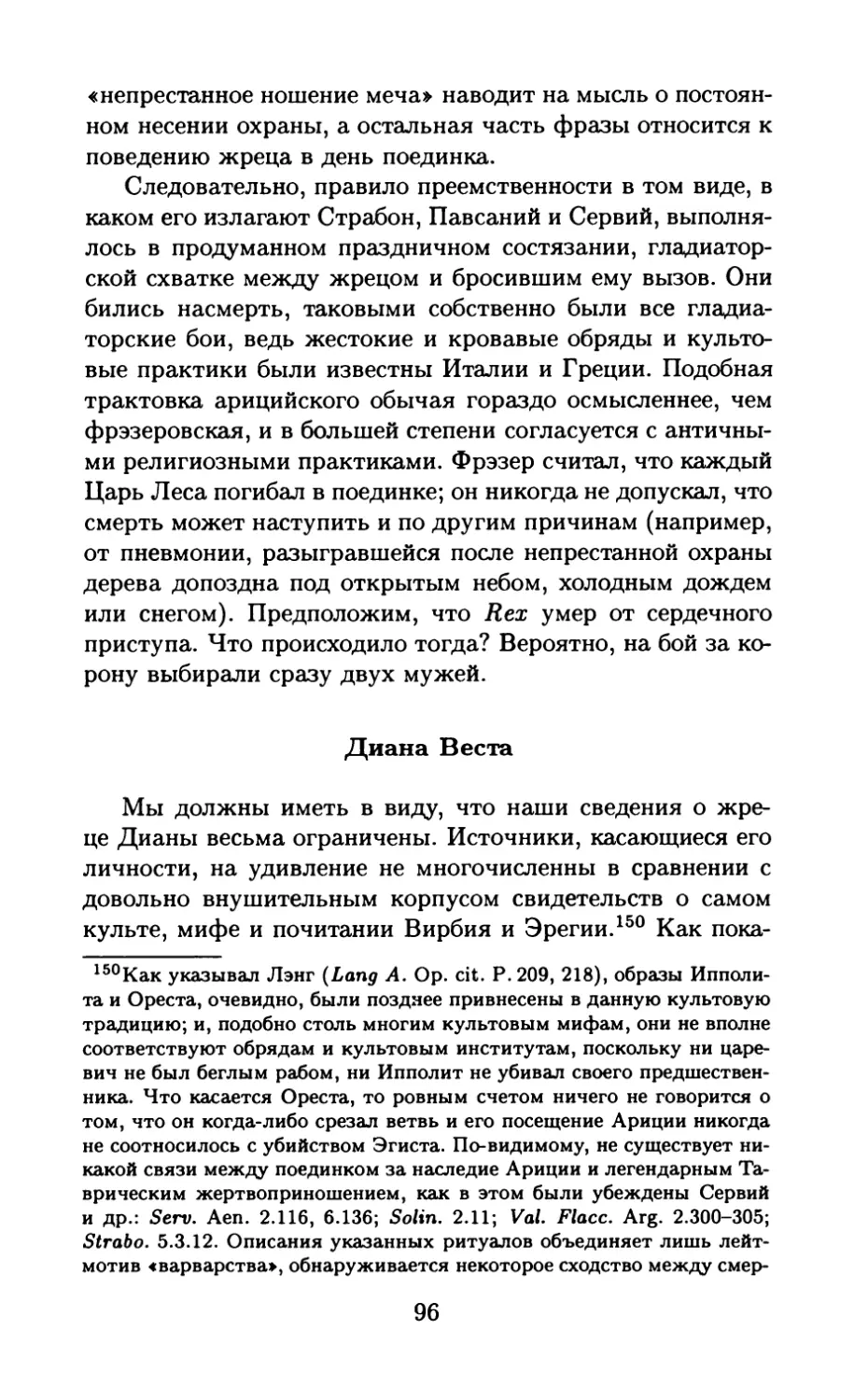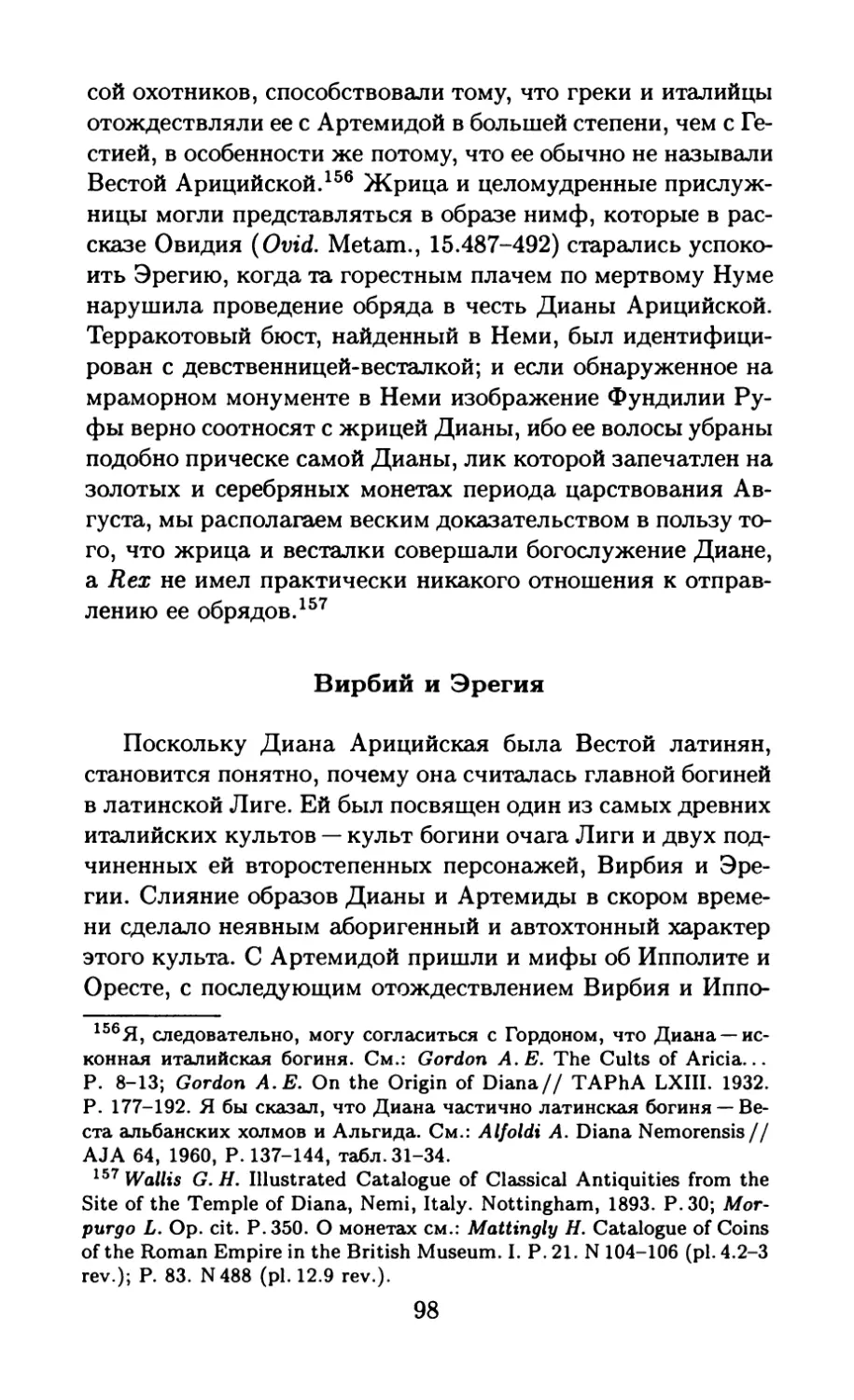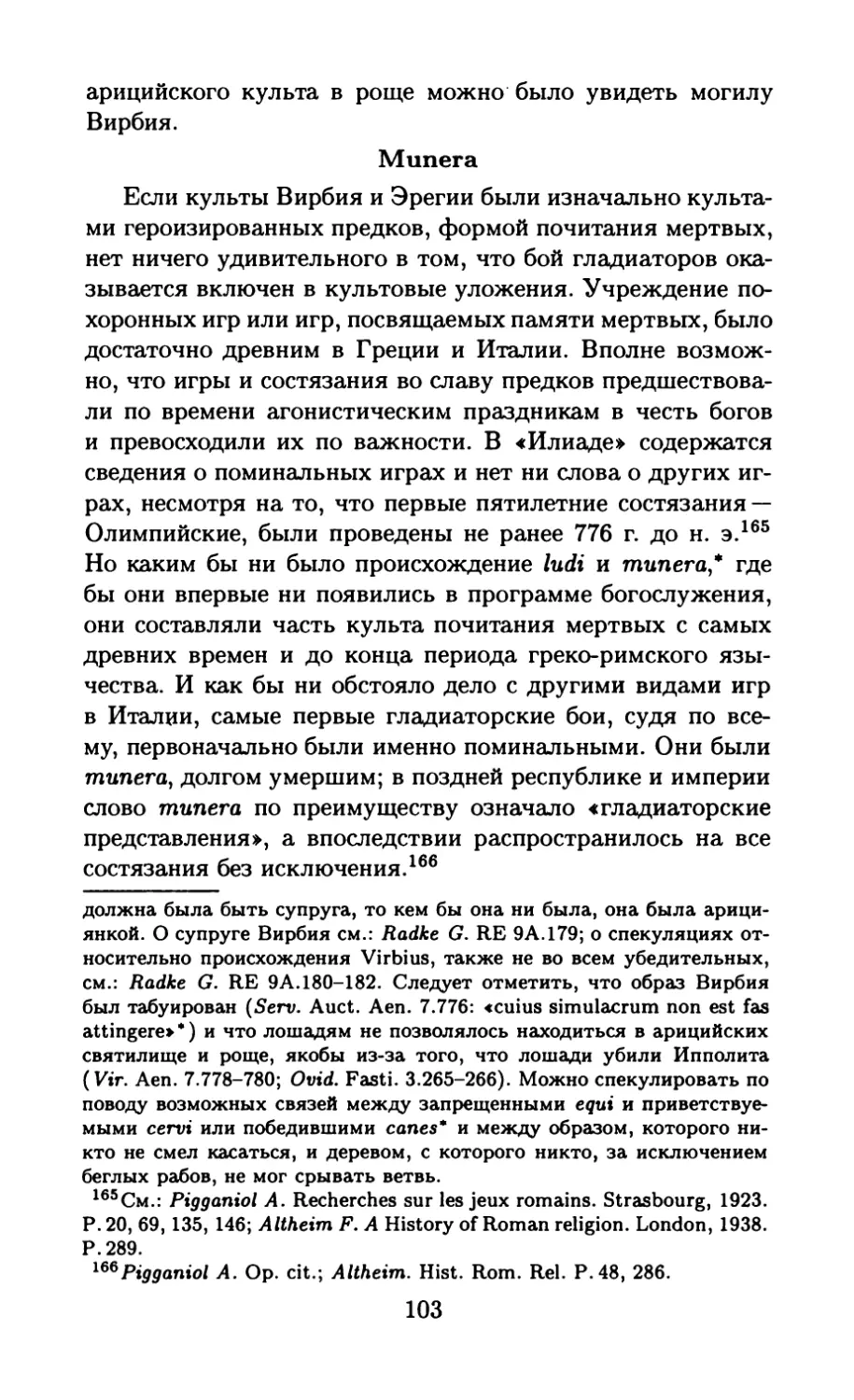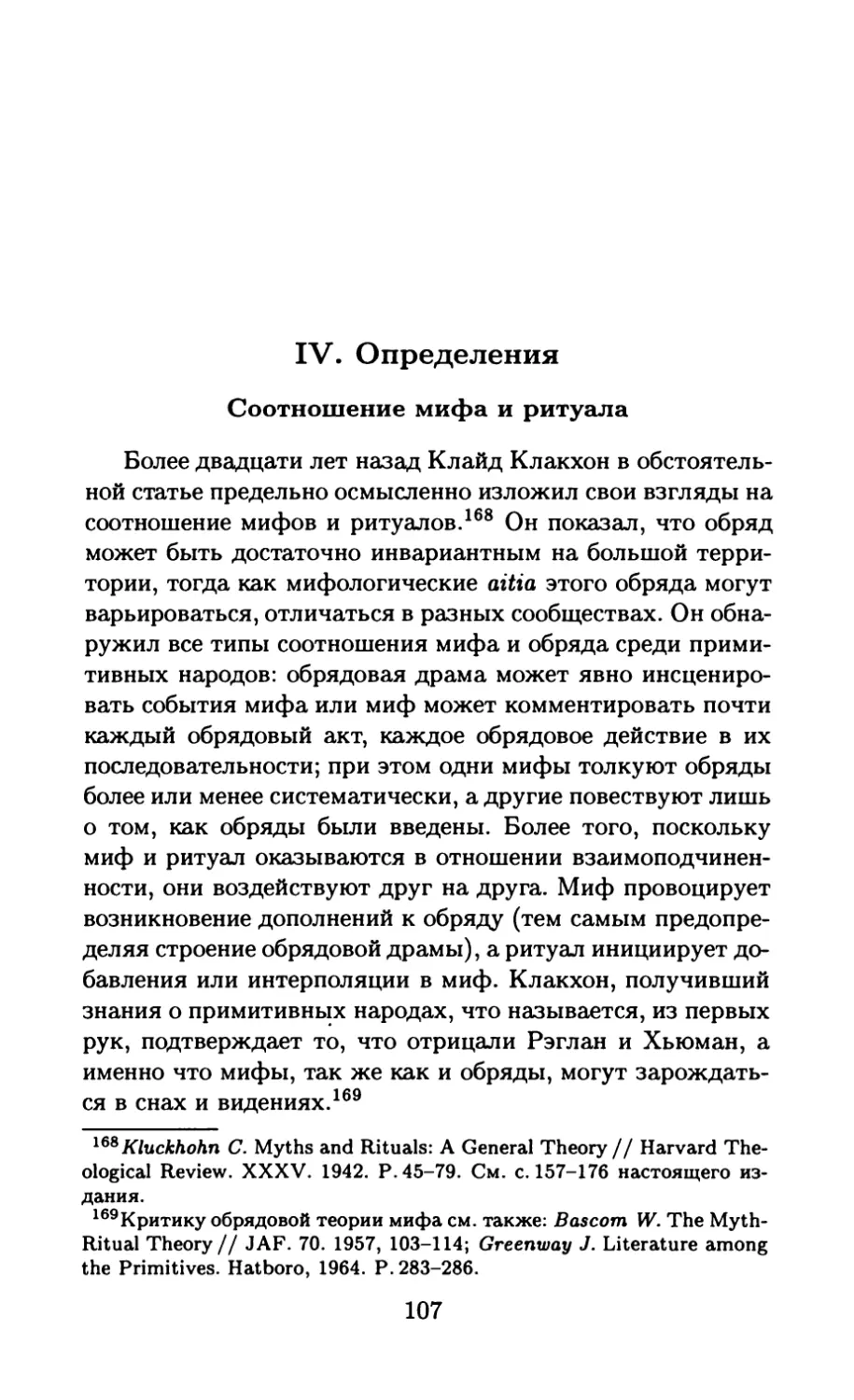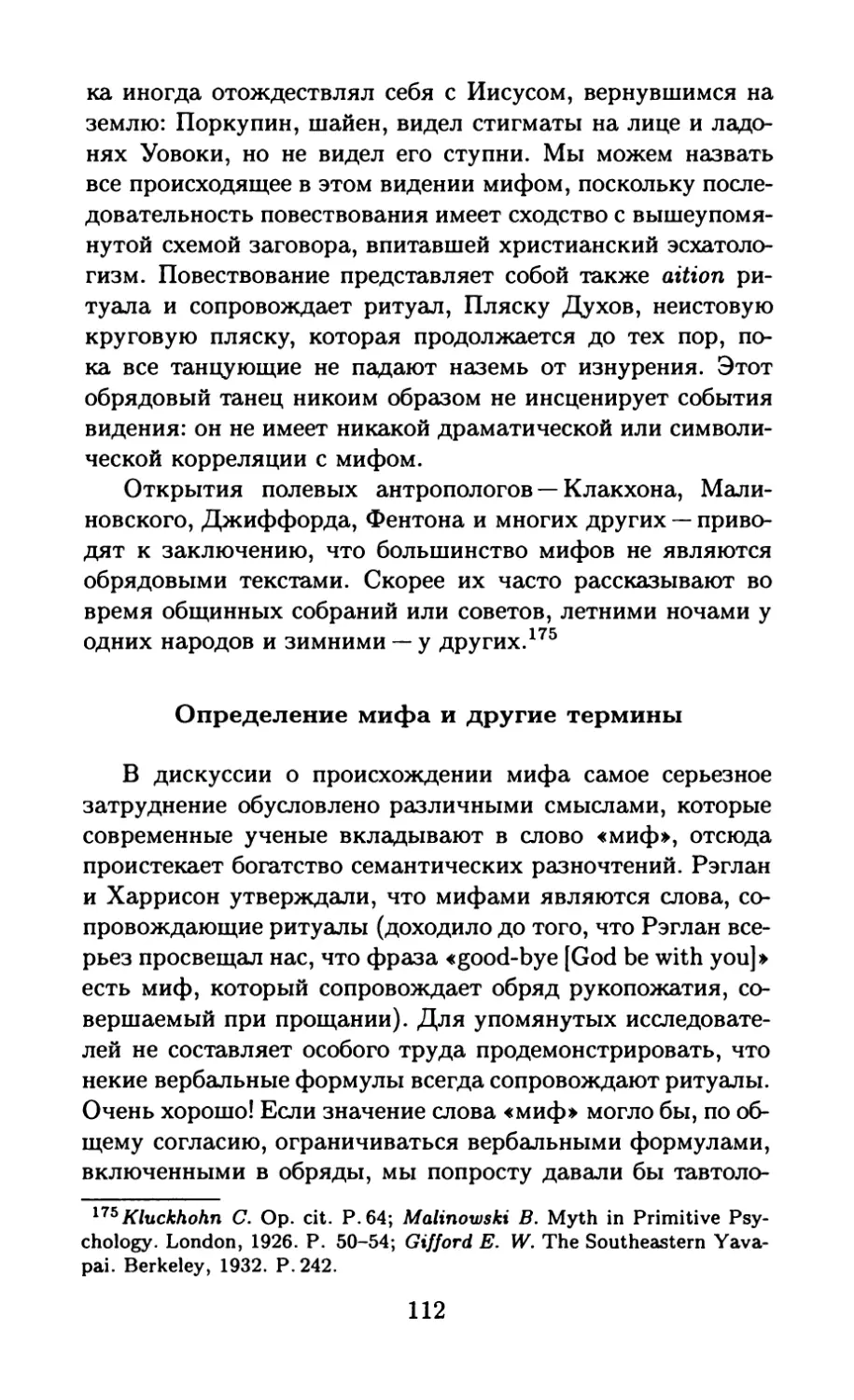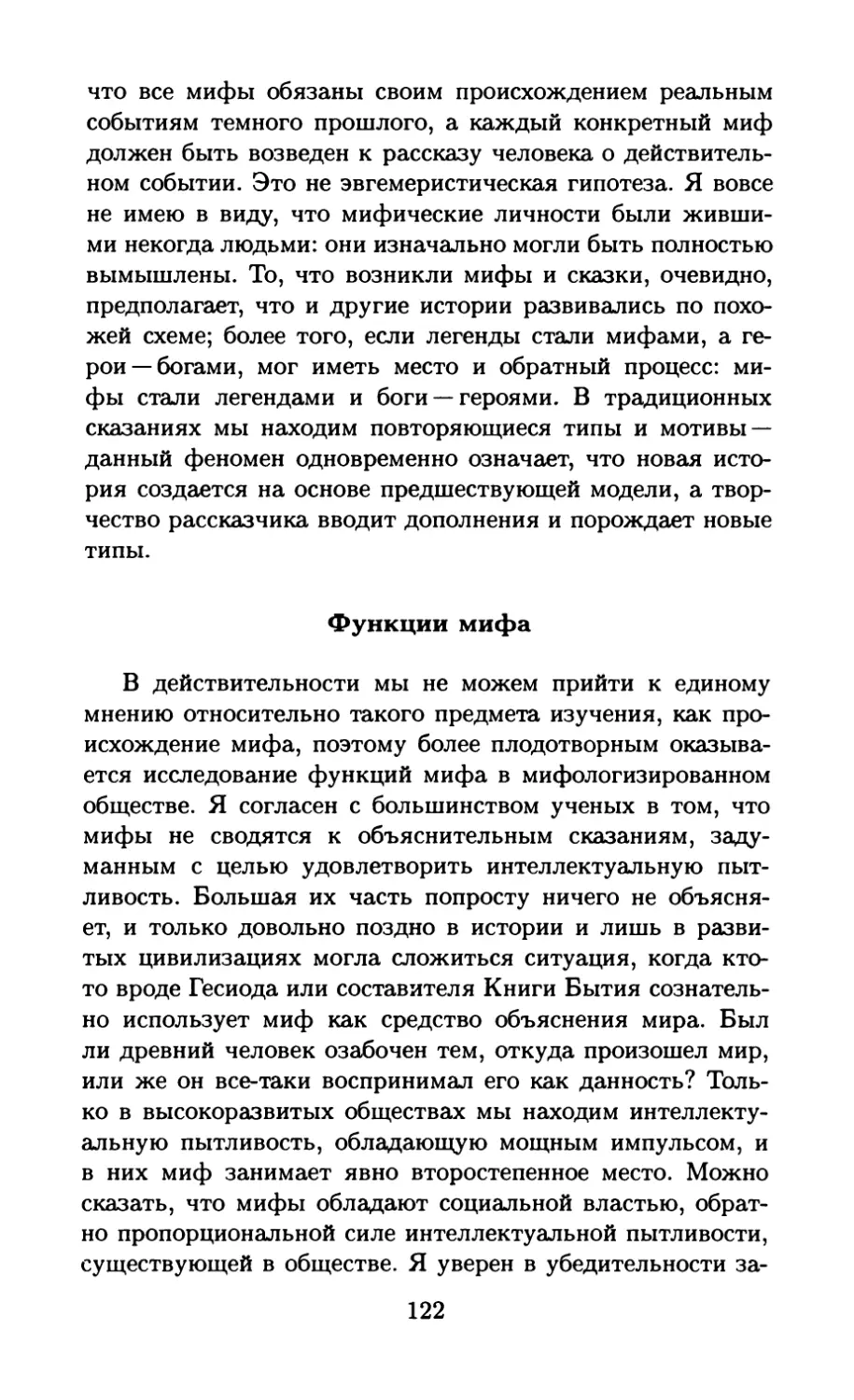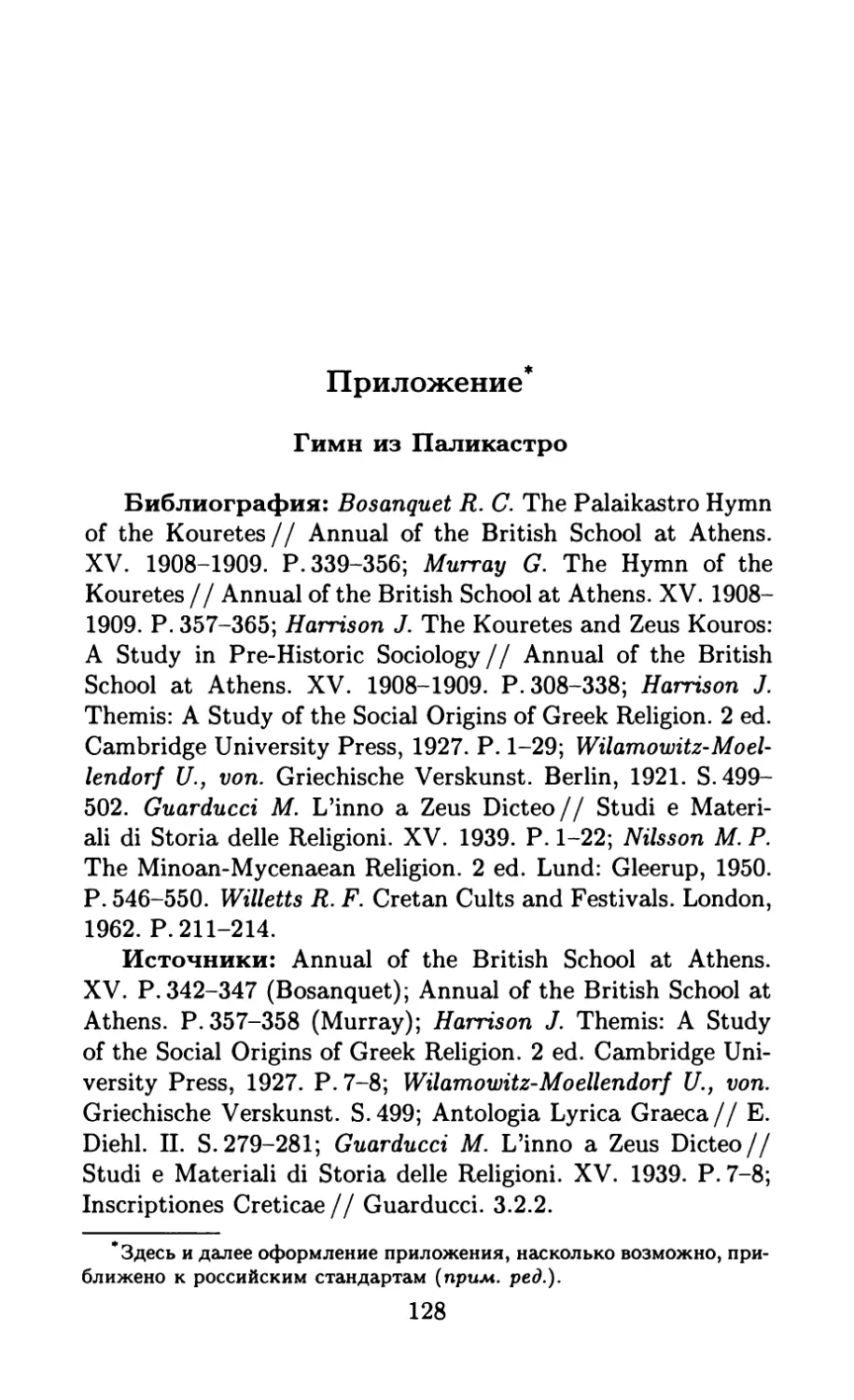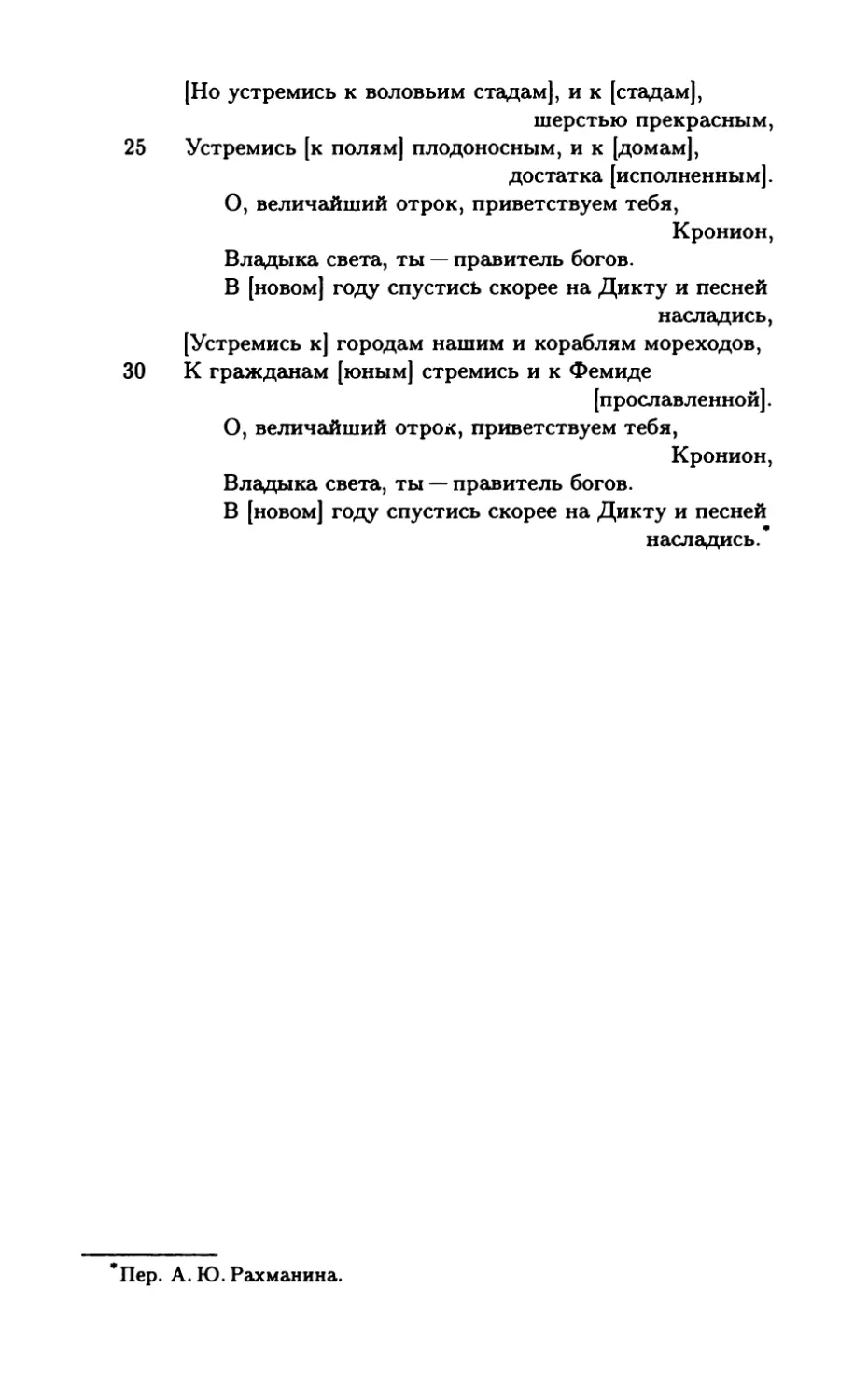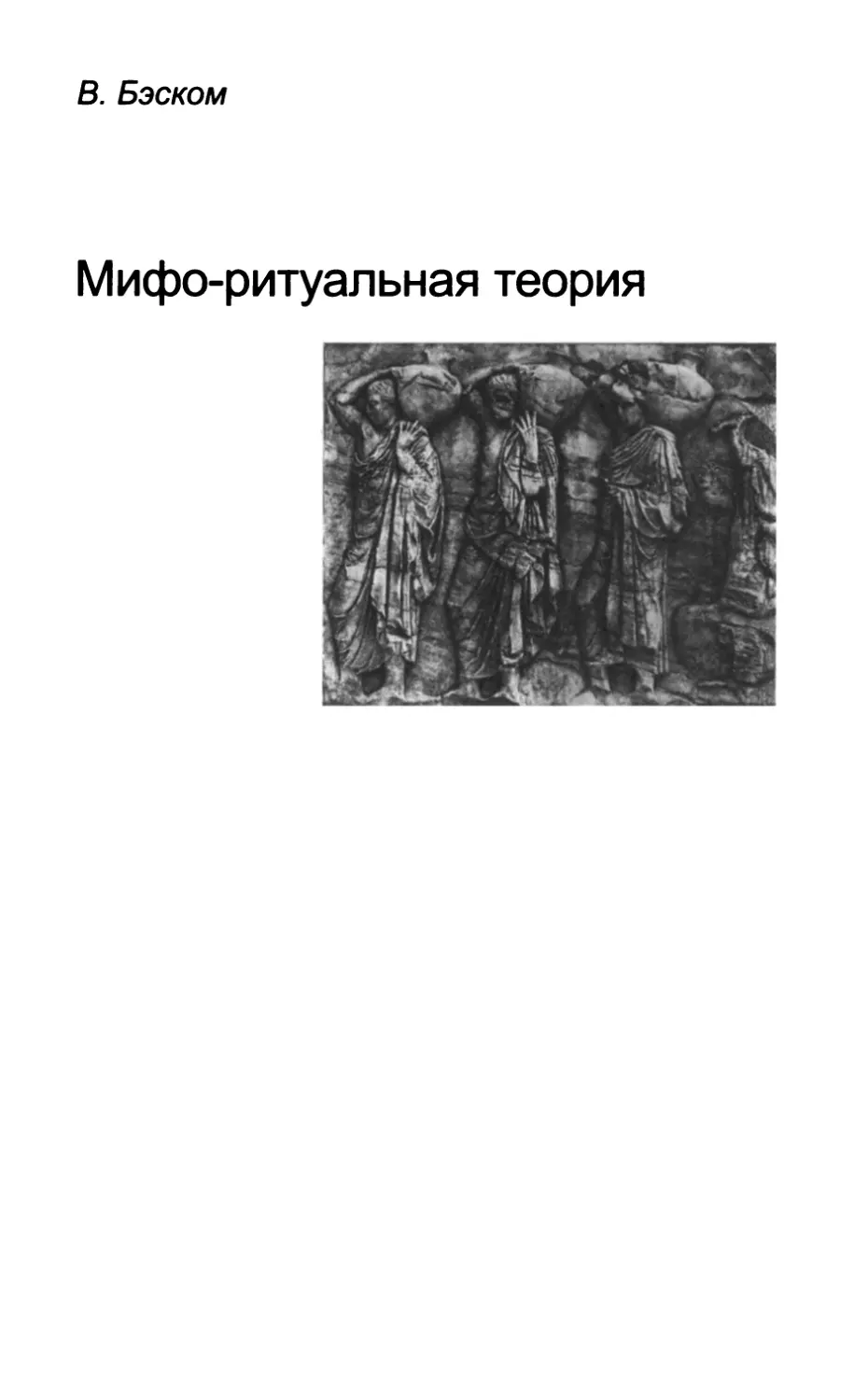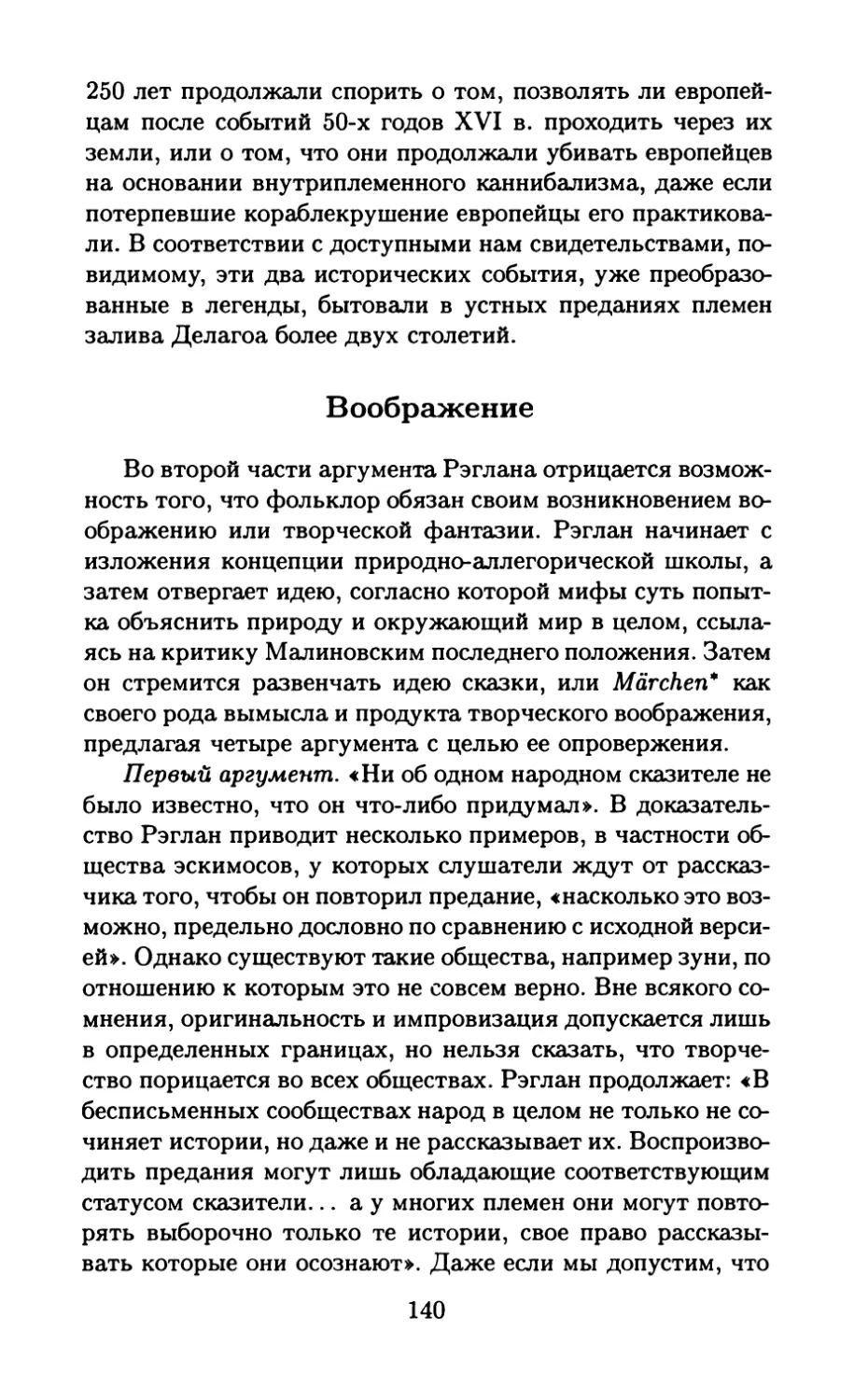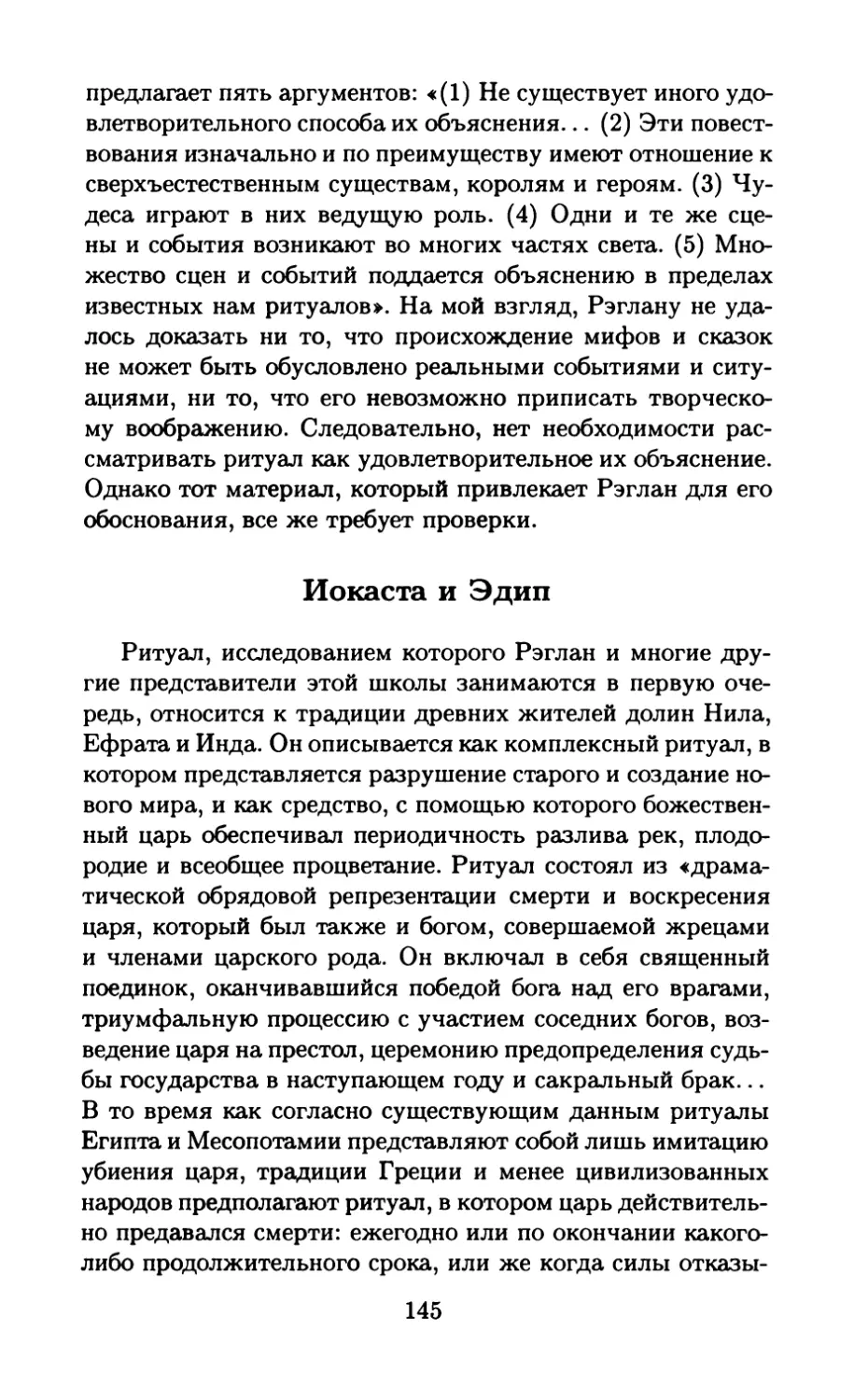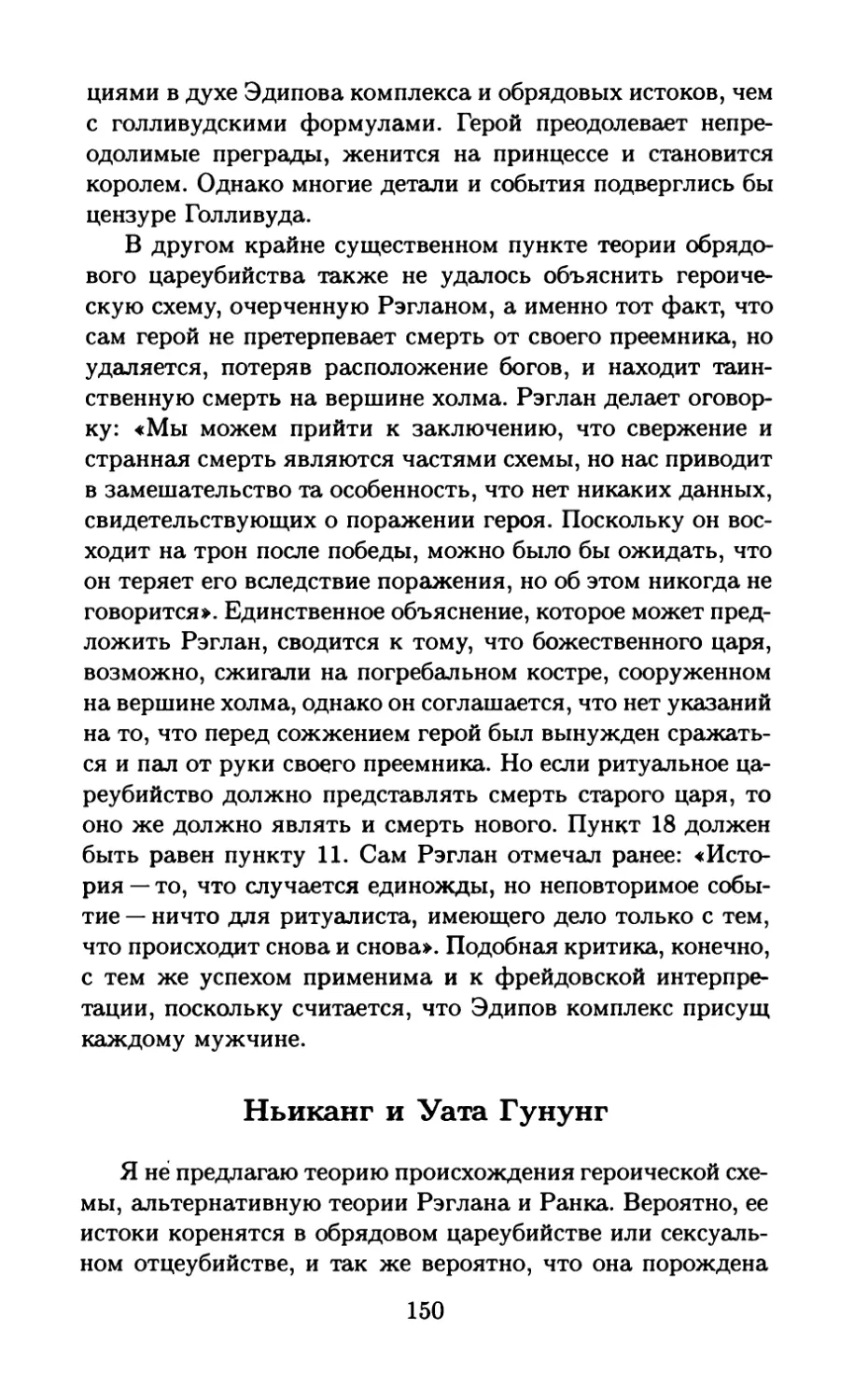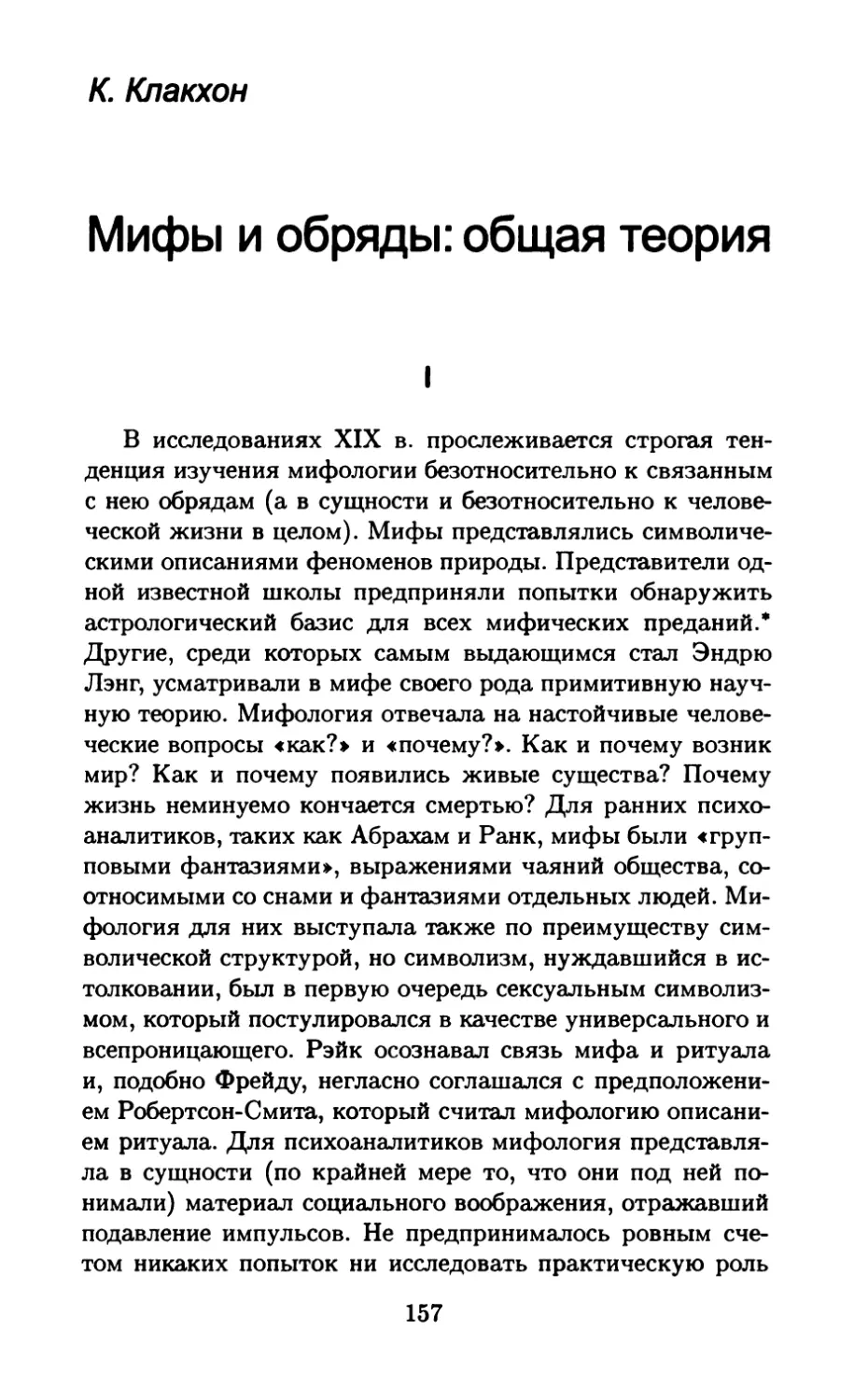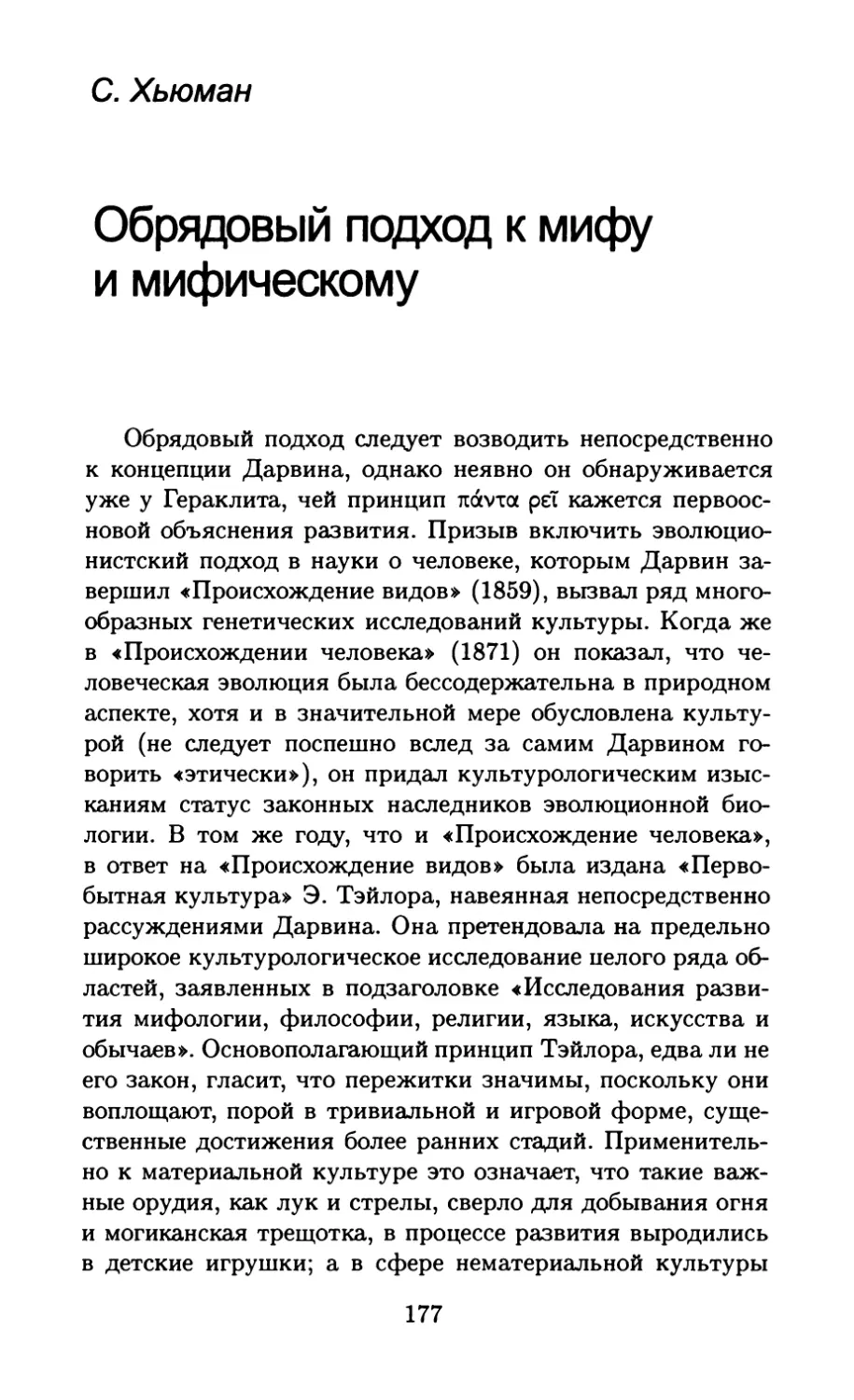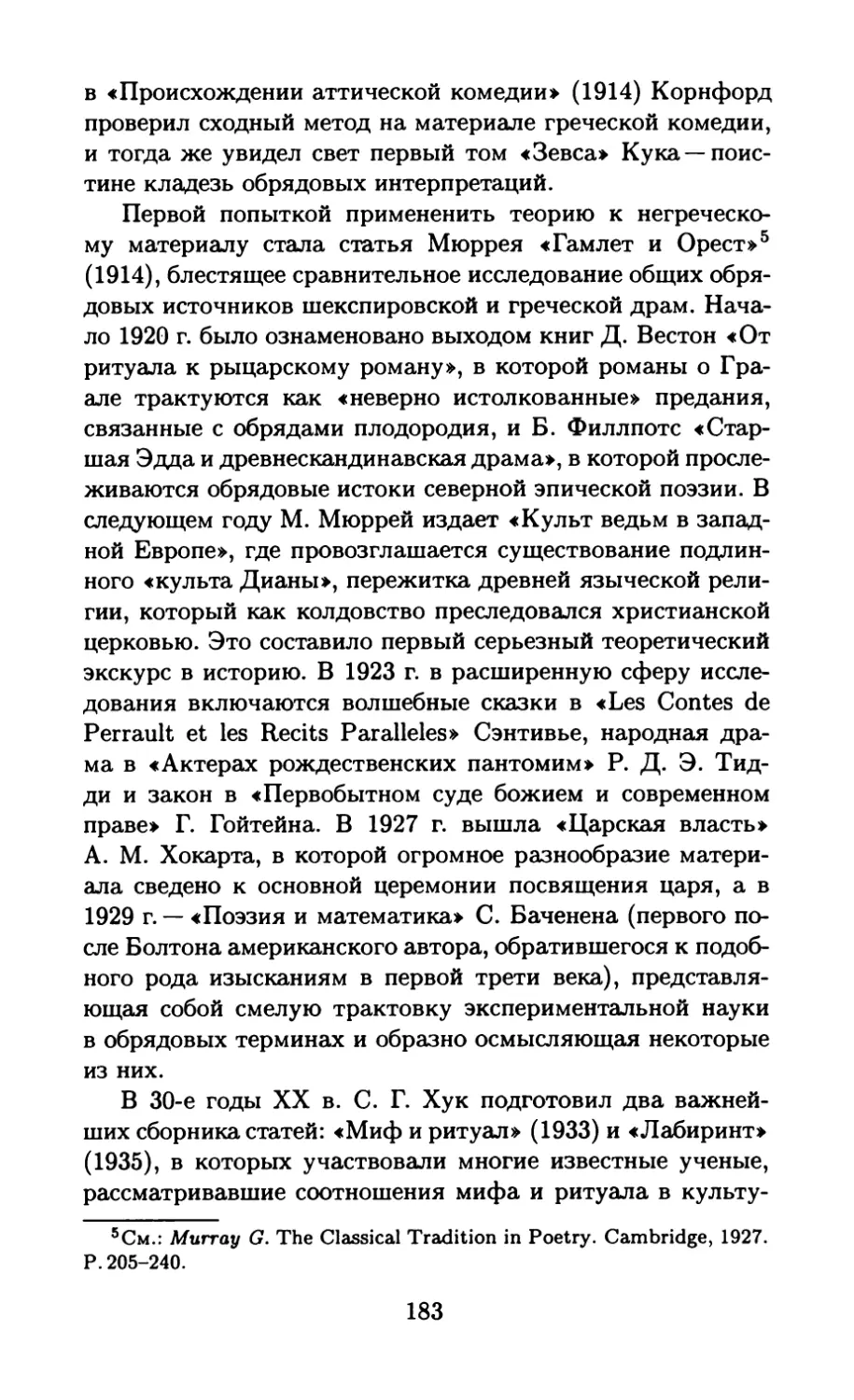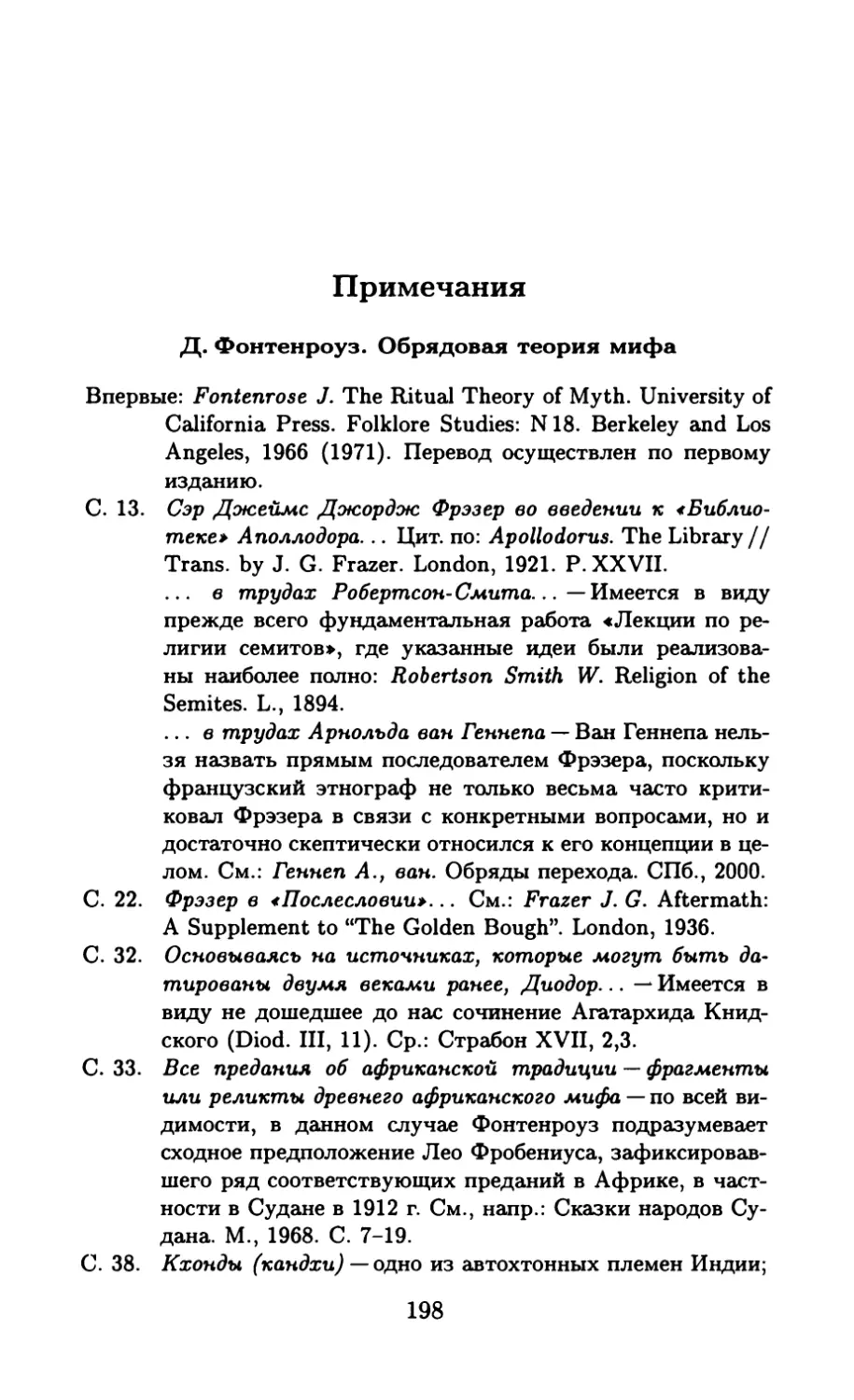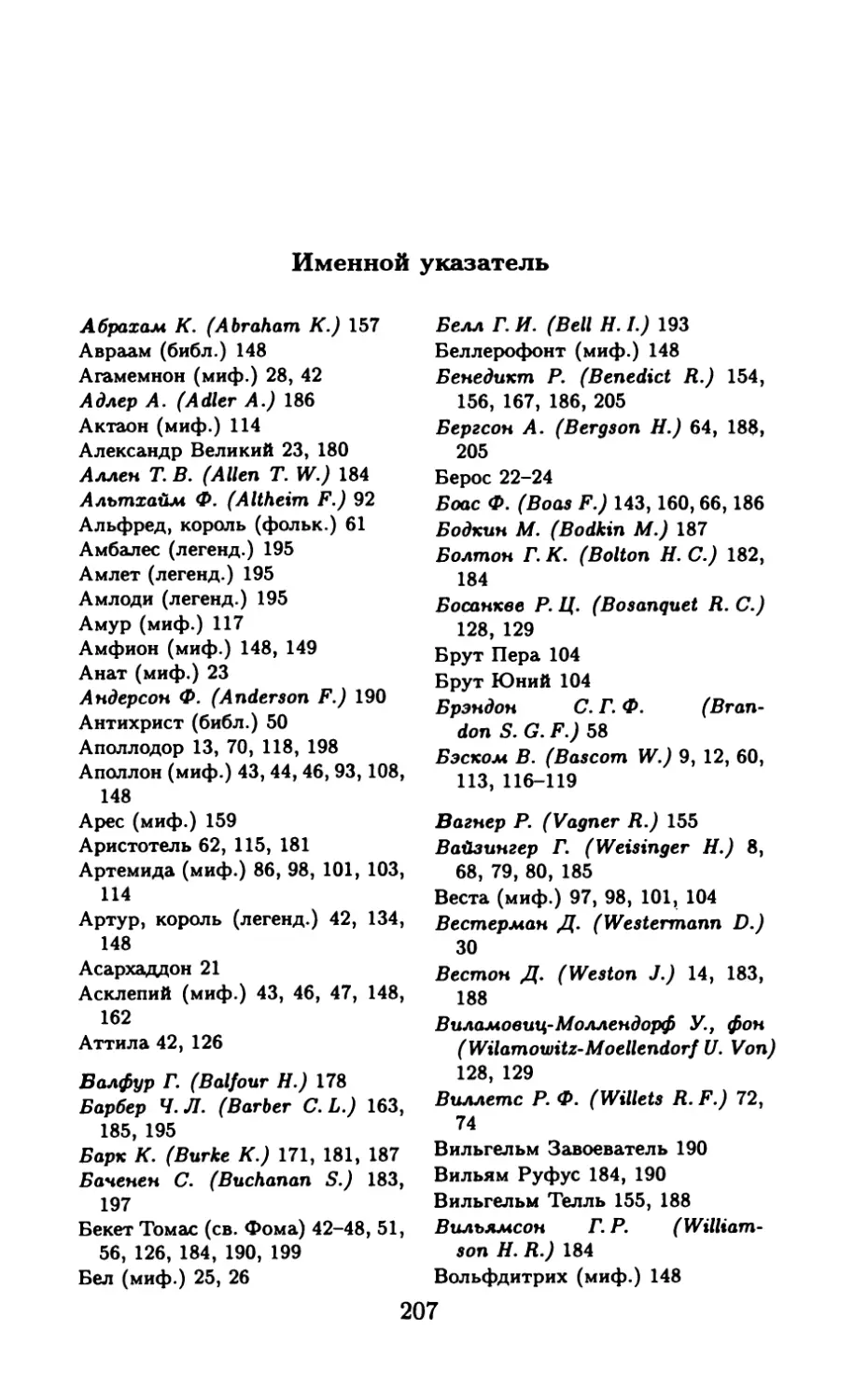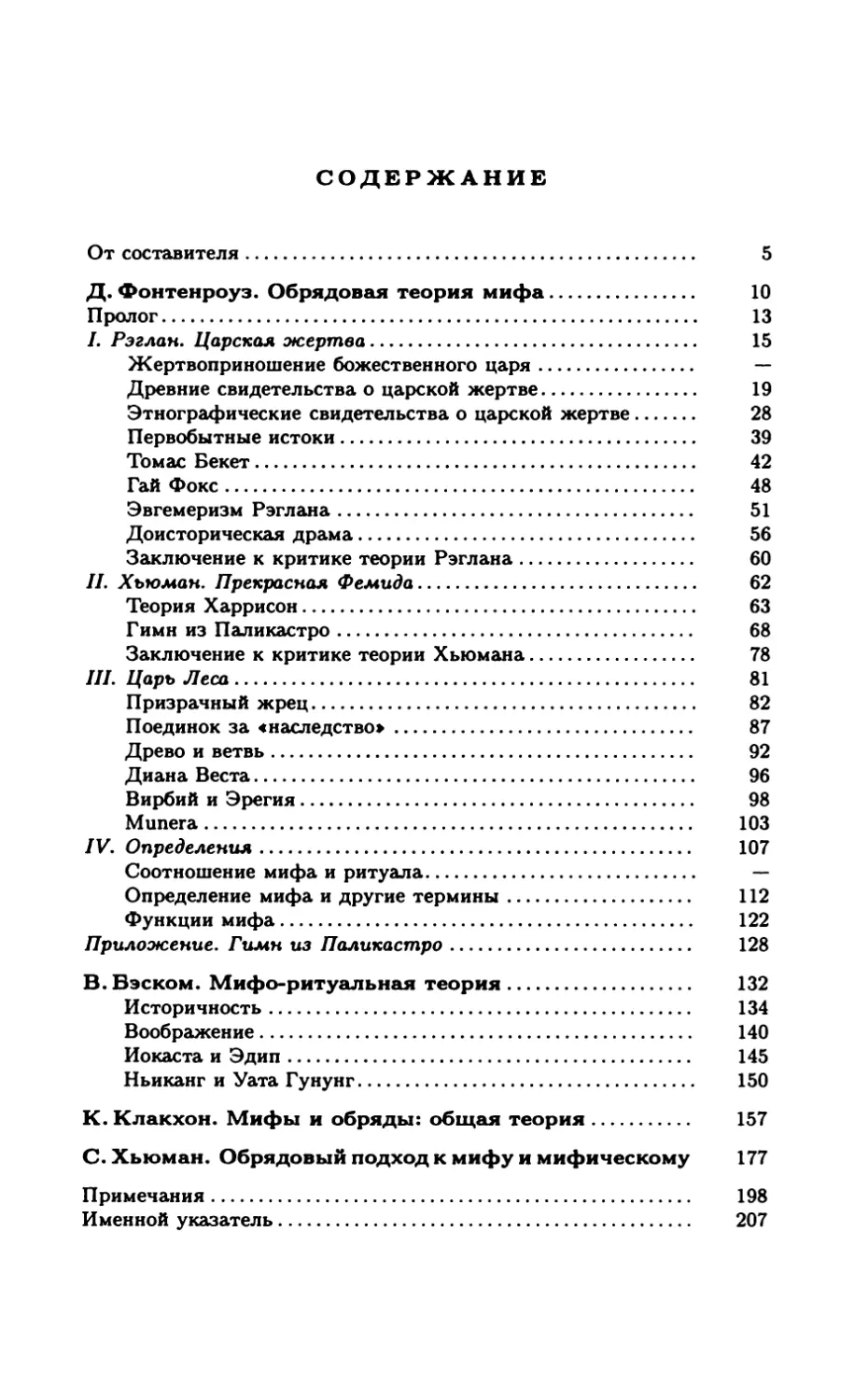Автор: Рахманин А.Ю. Бэском В. Клакхон К. Хьюман С.
Теги: первобытная религия ранние формы религии религия древнего мира религия мифы обряды религия первобытных людей обряды древних людей
ISBN: 5-288-03327-7
Год: 2003
Обрядовая теория мифа
Составление и перевод А. Ю. Рахманина
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2003
ББК 86.31
0-24
Рецензент д-р филос. наук проф. Р. В. Светлов (С.-Петерб. гос.
ун-т)
Обрядовая теория мифа: Сб. науч. тру-
0-24 дов / Составл., перевод, предисловие и
примечания А. Ю. Рахманина. — СПб.: Издательский дом
С.-Петерб. гос. ун-та, 2003. — 216 с.
ISBN 5-288-03327-7
В сборник включены наиболее известные работы Д. Фон-
тенроуза, В. Бэскома, К. Клакхона и С. Хьюмана, посвященные
критическому анализу обрядовой теории мифа —одной из
самых популярных и неоднозначных концепций в истории
гуманитарных наук XX в., влияние которой сказалось на развитии
антропологии, фольклористики, истории религии,
литературоведения, культурологии, истории философии и даже
математики. Дискуссии вокруг основных идей создателей и
сторонников обрядовой теории (Фрэзера, Робертсон-Смита, Харрисон,
Корнфорда и др.) малоизвестны русскоязычному читателю, и
данный сборник существенно восполняет эту серьезную
лакуну. Переводы, представленные в книге, выполнены впервые.
Книга содержит богатый фактический материал и будет
интересна не только специалистам в области религиоведения,
этнографии и культурологии, но и всем интересующимся
историей религиозных представлений.
©
©
©
ISBN 5-288-03327-7
ВВК 86.31
А. Ю. Рахманин, составл.,
перевод, предисловие,
примечания, 2003
Издательский дом
С.- Петербургского
гос. университета, 2003
Издательство
С.- Петербургского
гос. университета, 2003
Посвящается памяти
Евгения Алексеевича Торчинова
От составителя
Теория, критический анализ которой предлагается в
настоящем сборнике, принадлежит к числу самых неоднозначных
концепций в истории гуманитарных наук, фундаментальным
образом повлиявших на самые разнообразные области знания, но
прежде всего и по преимуществу ее влияние сказалось на
развитии религиоведения. Сегодня невозможно представить историю
религиоведения без трудов Робертсон-Смита, Фрэзера, Тэйлора,
хорошо известных не только искушенному в вопросах изучения
религиозных феноменов читателю. Тем не менее в
отечественной историографии наблюдается последовательное
замалчивание имен тех ученых, которые не только продолжили
исследование соответствующих вопросов, но, что гораздо существеннее,
заложили основы научной методологии религиоведения и
культурологии и внесли вклад в методологию гуманитарных наук,
который вовсе не ограничивается традиционными рамками
антропологии или антиковедения, характерными для
классического периода науки о религии.
Количество и содержание выходящих сегодня за рубежом
изданий, посвященных данной проблематике,1 указывает на
1 Ackerman R. The Myth and Ritual School: J. G. Frazer and the
Cambridge Ritualists (1991); Arien S. The Cambridge Ritualists: An
Annotated Bibliography of the Works By and About Jane Harrison, Gilbert
Murray, Francis Cornford, and Arthur Cook (1990); Burkert W.
Structure and History in Greek Mythology and Ritual (1979); Colder W.M.
The Cambridge Ritualists Reconsidered (1991); Doty W. G. The Study
of Myths and Rituals: Mythography (1986); Peacock S. Jane Ellen
Harrison: The Mask and the Self (1988); Segal R. A. The Myth-Ritualist
Theory of Religion // Journal for the Scientific Study of Religion N19
(1980); Stewart J. A Portrait from Letters (1959); Versnel H.S. What's
Sauce for the Goose is Sauce for the Gander: Myth and Ritual, Old and
New. Approaches to Greek Mythology (1989); West F. G. Murray. A Life
(1984).
5
вполне определенный интерес к обрядовой теорий, что
выражается прежде всего в переосмыслении исходных постулатов ри-
туалистов, включении их в более широкий методологический и
теоретический контекст. Последнее обстоятельство, в свою
очередь, чрезвычайно точно маркирует определяющую не только
современные попытки переосмысления классических подходов,
но и исходную интенцию практически всех построений риту-
алистов — создание предельно простой в своих основаниях,
если не аксиоматичной, исследовательской парадигмы, в рамках
которой и могло осуществиться отвечающее требованиям
научной последовательности исследование. Обрядовая гипотеза,
при всей кажущейся на первый взгляд простоте, представлялась
идеальной моделью, отвечавшей чаяниям исследователя,
работающего в области гуманитарных наук, — поиска точности и
последовательности, наличие которых прежде носило если не
стихийный, то явно искусственный характер. После выхода в свет
работ Корнфорда, Мюррея, Харрисон, Фрэзера и др. появилась
оправданная в методологическом отношении возможность
обнаружить в самом материале принципы классификации — первой
процедуры, знаменующей научное исследование. В связи с этим
показательно, что Макс Мюллер еще на заре религиоведения
выдвигал в качестве общего принципа сравнительного подхода
парафраз известной пословицы «классифицируй и овладевай»,
и во многом благодаря предельно четким принципам
классификации обрядовая теория приобрела столь высокий статус среди
прочих подходов к проблемам интерпретации культурных форм.
На первом этапе сторонники обрядового подхода применяли
данную теорию лишь для классификации и объяснения
динамики и статики всего того, что традиционно считается областью
науки о религии. Позднее она превратилась в поистине
универсальный метод исследования культуры в целом, а
сформулированные в качестве рабочей гипотезы принципы вышли за рамки
метода и стали определенным целостным «взглядом» на
культуру. Данная метаморфоза закономерна и обусловливается теми
тенденциями в развитии религиоведения, которые были
характерны для начала его формирования.
Основоположником обрядовой теории считается В. Роберт-
сон-Смит — исследователь, которого принято называть одним из
основателей подлинно научного религиоведения, что также
далеко не случайно. Вероятно, он первым предложил — не в форме
декларации, но на уровне общего методологического
принципа—исследовать ритуал как феномен, который наиболее пол-
6
но выявляет «подлинную сущность древних религий»,2
будучи при этом неразрывно связанным с верованием (мифом).
Таким образом, по выражению другого классика, Робертсон-Смит
сформулировал своеобразный «минимум определения религии».
Фундаментальное его отличие от концепций Тэйлора и Марре-
та, предлагавших с известными оговорками «минимумы»
примитивных форм религиозности, состоит в том, что и обряды, и
мифы, по мысли Смита, присущи не только древней, но в
принципе «любой религии», что существенно усложняет проблему,
так как она переносится в совершенно новый методологический
контекст. И если прежде предполагалось, что понятие религии
само по себе обладает определенной «презумпцией
самоочевидности», а потому его употребление, т. е. номинация некоего
феномена как религиозного, способно объяснить природу и
функцию самого феномена, то теперь классификации и объяснению
с необходимостью должна подвергаться не просто религия как
некая идеальная сущность, но каждая конкретная форма
религиозности, отличие которой от аналогичных ей форм состоит в
иной схеме взаимоотношений мифа и ритуала. Здесь как
нельзя более кстати слова И. Стренски о подходе Б. Малиновского:
«Назвав нечто "мифом", мы должны обозначить его
специфику, отграничить его от явлений, которым приписывается иная
природа. Это влечет за собой ответственность в применении
категориального аппарата, ибо тщетно тешить себя иллюзией, что
для оправдания любых наших теоретических изысков
достаточно одной лишь ссылки на некую объективную природу мифа
как данность».3 Безусловно, такое положение дел
способствовало не только выработке более точных методов исследования
и детальной аргументации, но и формированию представления
собственно истории религии как более детализированного и
вместе с тем «логически оправданного» процесса, что великолепно
иллюстрируется построениями ритуал истов, большинство из
которых работали в рамках классического эволюционизма,
восходящего в конечном счете к методологической системе Гегеля.
В свою очередь, сам эволюционизм требовал принятия
вполне жесткой исследовательской позиции уже не только и не
столько в рамках религиоведения или антропологии, сколько в
рамках культурологии, тем более что в указанную эпоху гра-
2 Robertson Smith W. Lectures on the Religion of the Semites. London,
1907. P. 17.
3 Стренски И. Почему мы по-прежнему читаем работы
Малиновского о мифах?/ Малиновский Б. Магия, наука и религия. М., 1998.
С. 14.
7
ницы между этими дисциплинами были совсем не очевидны.
И, как следствие, необходимость продемонстрировать процесс
прохождения «структуры» ритуала сквозь многообразие
культурных форм: эпическая традиция и современная литература
(Г. Мюррей, Г. Вайзингер), сказка и история (М. Мюррей, лорд
Рэглан), наука и философия (Ф. Корнфорд, А.Б.Кук),
искусство (Д. Харрисон), — предопределила преобразование
обрядовой теории из операциональной модели, оправданность которой
состояла в ее эвристичности, в некую онтологию.
Вышеупомянутая метаморфоза, происходившая со «структурой» ритуала,
в высшей степени сопоставима с превращением структурализма
из своего рода языка описания в онтологию структуры4 или с
натурализацией семиосферы, характерной для позднего этапа
творчества Ю. М. Лотмана. Иными словами, исследованию
подлежал не сам материал, но идеальный объект, выработанный в
процессе его описания. Именно поэтому Д. Фонтенроуз
выбирает объектом «уничтожающей», по выражению М. М. Стеблин-
Каменского, критики не столько саму по себе теорию
происхождения мифа и иных культурных форм из ритуала,
сколько метод аргументации ее сторонников, демонстрирующий
прежде всего универсализацию и онтологизацию
эпистемологической модели. На преемственность обрядовой теории и
структурализма также косвенно указывал Фонтенроуз, но данная
проблема—сопоставление предпосылок и принципов
ортодоксального структурализма и обрядовой теории, по крайней мере на
позднем этапе ее развития — требует более внимательного и
детального исследования.
Достижения теоретиков обряда, несмотря на критику,
представленную в настоящем сборнике, настолько внушительны, что
сегодня всякое сколько-нибудь серьезное исследование
религиозных явлений и культуры в целом неминуемо вовлекается в
круг построений, традиционных для данного подхода.
Действительно, если на протяжении столетия и более сохраняется
представление о религии как о совокупности верований и
культовых практик, то обрядовый подход можно считать наиболее
адекватным для изучения их взаимоотношений равным образом в
рамках эволюционизма, функционализма или структурализма.
Дело даже не столько в стиле аргументации, хотя во многом
именно стиль и тон работ Фрэзера, Харрисон или Корнфорда
были причиной их длительного господства в традиции
англоамериканской науки, сколько в необходимости допущения, на
4См.: Эко У. Отсутствующая структура. СПб., 1998.
8
основе которого возможно выстроить теорию религии.
Подобное допущение с неизбежностью должно быть простым, а
потому не удивительно, что Д. Фонтенроуз справедливо указывал
на логическую простоту ответа на вопрос о происхождении
ритуалов, данного Рэгланом, одним из наиболее видных и
последовательных сторонников обрядовой теории.5 Ритуал по мысли
всех ритуалистов (в первую очередь, «кембриджских») есть
простейшая в логическом отношении форма религиозного
сознания, следовательно, исследовать религию необходимо лишь на
ее основе. Это обстоятельство обусловило еще одно бесспорное
достижение обрядовой теории — внимательное и почтительное
отношение к обряду. Изучение обряда как такового, выделение
его существенных особенностей, классификации и
интерпретации, структуры и функции — всем этим в конечном счете мы
обязаны ритуалистам.
Публикация данного сборника должна, по нашему замыслу,
поместить сложившиеся в зарубежной традиции методы в
контекст современной отечественной науки, способствовать
переосмыслению классических подходов к анализу культуры и
формированию новых исследовательских парадигм, на
необходимость которых в последнее десятилетие все чаще указывают
российские ученые. Мы попытались возможно более полно осветить
проблему, включив в сборник работы специалистов в области
антиковедения (Д. Фонтенроуз), антропологии (К.Клакхон),
фольклористики (В.Бэском). Статья С. Хьюмана —апологета
обрядовой теории —не только дает представление об истории
формирования школы, но и позволяет взглянуть на проблему с
позиции представителя данного направления.
Составитель выражает глубокую признательность Л. В.
Рябовой, О. В. Творогову, Т. А. Шрадер за предоставление
материалов и Р. В. Светлову за неоценимую помощь, оказанную в ходе
работы над сборником.
5См. с. 15 настоящего издания.
9
Д.Фонтенроуз
Обрядовая теория мифа
1EJ^J-HJ3J-HJ^LJHJSJ-ELrSJ^J-SJ1£J-e^
Сегодня тема мифа необыкновенно популярна, и как
никогда более она популярна в современном литературоведении.
Некоторые критики видят миф повсюду, в особенности те, кто
пребывает под знаменем «мифо-ритуальной» школы.
Возможно, мне следовало бы даже сказать «под знаменами школ»,
ведь ритуалисты не образуют одну единственную школу и
не следуют одной единственной доктрине. Но большинство из
них сходятся в том, что все мифы производим от ритуалов
и что изначально они были речевым сопровождением
обрядового действа. В конечном счете, все ритуалисты обретают
покой под сенью «Золотой ветви», поэтому я рассмотрю не
только доктрины лорда Рэглана, Стенли Хьюмана и других
видных ритуалистов, но и все дерево, под которым они
расположились. Я исследую саму ветвь и подвергну испытаниям
таинственного жреца, который, как принято думать, ее охраняет;
я попытаюсь раскрыть смысл фрэзеровской царской жертвы,
чья несчастливая судьба — если правы ритуалисты —
непрестанно воздействует на нас самыми разными способами.
Обрядовая интерпретация мифа вовсе не ограничивается
литературной критикой; она получила широкое распространение и
стала чрезвычайно влиятельна во многих областях, хотя ряд
антропологов, фольклористов и антиковедов придают ей,
несмотря на их собственные утверждения и притязания,
противоположное значение. Классики и антропологи до сих пор
склонны к построению ритуалистских истолкований: сам Фрэзер был
и классиком, и антропологом; Джейн Харрисон, чьи
классические труды послужили главным научным основанием для
теории Хьюмана, испытала значительное влияние
антропологических открытий; данное утверждение равным образом истинно
по отношению к ее близким друзьям — Гилберту Мюррею и
11
Фрэнсису Корнфорду. Произведения Фрэзера и Харрисон
касаются столь многих областей знания и произвели сильное
впечатление на столь многих читателей, что они, бесспорно,
заслуживают нашего внимания.
Я хотел бы поблагодарить профессоров Вильяма Бэскома и
Льюис Маккэй за чтение первых набросков рукописи,
комментарии и критику, из которых я извлек немало полезного;
Эдвина Лойба за копию его труда «В феодальной Африке», ссылки
на книги и статьи и сведения о жизни африканских народов;
Вильяма Н. Фентона из Нью-Йоркского государственного
музея и научную службу за информацию об ирокезских мифах
и ритуалах. Также я признателен всем друзьям, которые
принимали участие в исследовании мифо-ритуальных отношений и
давали ценные советы, и, наконец, мисс Линде Спенс из
редакторского отдела издательства Калифорнийского университета
за тщательную редакторскую работу и внимание к
стилистическим особенностям текста.
12
Пролог
В 1921 г. сэр Джеймс Джордж Фрэзер* во введении к
переводу « Библиотеки» Аполлодора, изданному с его
комментариями, предлагал понимать мифы как «ошибочные объяснения
явлений человеческой жизни или окружающей природы». Это
определение мифа господствовало в XIX в., когда люди видели в
мифе результат врожденной интеллектуальной пытливости
человека по отношению к окружающему миру и считали его чем-
то вроде примитивной научной теории. Такой взгляд на миф до
сих пор имеет сторонников, хотя большинство современных
мифологов и фольклористов отмечают его излишнюю
рационалистичность. Действительно, фрэзеровский подход казался
устаревшим даже в 1921 г., ибо внимание и одобрение ученых уже
привлекла другая теория мифа, изложенная в «Золотой ветви»,
впервые опубликованной в 1890 г. Это была обрядовая теория
происхождения мифа, сформулированная в трудах Робертсон-
Смита* и Фрэзера, получившая последующую разработку в
первые десятилетия XX в. в трудах А. ван Геннепа, автора
«Обрядов перехода»,* и так называемой кембриджской школы —
Д. Харрисон, Г. Мюррея, Ф. Корнфорда, А. Б. Кука. Начиная с
1920 г. обрядовая теория обрела горячих приверженцев,
наиболее ревностными из которых до недавнего времени оставались
лорд Рэглан и С. Хьюман.
Лорд Рэглан находился под большим влиянием «Золотой
ветви», соглашаясь с изложенным фактическим материалом и
основополагающим тезисом, но не приемля фрэзеровского
эволюционизма; также его привлекала предложенная С. Г. Хуком
теория мифо-ритуальной схемы, превалировавшей в
древности на Ближнем Востоке, в которой центральной фигурой был
божественный царь. Хьюман полагался главным образом на
* Здесь и далее звездочкой отмечены примечания переводчика.
13
Фрэзера и Д. Харрисон, чья «Фемида», по его собственному
признанию, изменила его жизнь.1 Он открыто приемлет любые
положения теоретиков обрядовой концепции при всей их
несовместимости и противоречивости и в трех статьях перечисляет
имена наиболее авторитетных: Смит, Фрэзер, Харрисон, Мюр-
рей, Корнфорд, Робертсон, Вестон, Хук, Хокарт, Рэглан, Трои,
Рурк, Фергюссон и некоторые другие. При этом Хьюман весьма
категорично утверждал, что обрядовая теория предлагает
единственно верную интерпретацию мифа и недовольные ею
преднамеренно отворачиваются от истины, будучи наивны или, что
еще хуже, эвгемеристичны (каковым не пожелал бы прослыть
ни один уважающий себя мифолог).
Рэглан и Хьюман доводят обрядовую интерпретацию до
крайности и применяют ее более широко, чем другие ритуали-
сты. Скорее всего, антиковеды согласятся с тем, что концепции
названных исследователей менее приемлемы и менее почтенны,
чем те концепции ученых, от которых они отталкивались. В
целом они исходили из работ Фрэзера, Харрисон, Хука, Хокарта и
не предприняли самостоятельно ни одного значимого и
важного исследования. В своих взглядах они остаются верными
первоисточникам и предельно нетерпимыми, что, собственно, и
делает их подобающими знаменосцами всего лагеря ритуалистов.
Я уделю им центральное место в данном критическом разборе
теории обрядового происхождения мифа, а когда им
потребуется помощь, они будут взывать к своим «идолам» — Фрэзеру,
Харрисон и др. Ведь только Рэглан и Хьюман смело признают
все последствия ритуалистской позиции и вторгаются в такие
области, куда опасались вступать их более проницательные
наставники.2
1 Нутпап S. Е. The Tangled Bank: Darwin, Marx, Frazer and Freud as
Imaginative Writers. New York, 1962. P. 24.
2Cm.: Hyman S. E. The Armed Vision. New York, 1948. (Ch. 4, pt. 3);
Hyman S. E. Myth, Ritual, and Nonsense/ Kenyon Review. 1949. P.455-
475; Hyman S. E. The Ritual View of Myth and Mythic / Myth: A
Symposium. Philadelphia,1955. P. 84-94. — В каждом очерке Хьюман делает
одно и то же: предлагает беглый обзор истории обрядовой теории,
называя авторов и статьи, высказывая одобрение и утверждая, что
обрядовая теория является единственно верным взглядом на миф.
14
I. Рэглан. Царская жертва
Если все мифы имеют обрядовое происхождение,
возникли ли они из одного ритуала? Все ли ритуалы, и только
ритуалы, обладают мифопорождающей энергией?
Логически более простым представляется ответ лорда Рэглана: все
мифы суть обрядовые тексты и все мифо-ритуальные
комплексы восходят к единому древнему ритуалу. Но как быть
с легендами и сказками? Ведь в них отражены многие
темы, схемы и типы персонажей, которые обнаруживаются
и в мифе. Лорд Рэглан не видит существенных различий
между традиционными повествованиями: легенда и сказка
также являются мифами, попросту отъединившимися от
исходного ритуала. По мнению Рэглана, все традиционные
повествования, все существующие ритуалы, все
религиозные системы и, фактически, целый ряд других
образований—магия, этикет, игры, загадки, прибаутки — восходят
к общему праритуалу. Исторические перипетии,
интеллектуальные штудии, сны, видения и поэтические образы не
имеют никакого отношения к происхождению и развитию
мифов или отдельных мифических сюжетов.3
Жертвоприношение божественного царя
Рэглан распространяет свою теорию на огромный
фактический материал и претендует на адекватное объяснение
3 Raglan, Lord. The Него: A Study in Tradition, Myth and Drama.
London, 1936; Raglan, Lord. The Origins of Religion. London, 1949. —
Книги Рэглана представляют собой странное сочетание прозрачности
и абсурдности. См. отзыв Э.Лича на книгу Рэглана «Храм и дом»
(New York Review of Books. September 16. 1965. P. 16-17).
15
как религиозных систем и мифов доколумбовой Америки,
так и схожих с ними верований Старого Света.4 Какой же
праритуал столь властно движет человеческими эмоциями
и воображением и в самых разнообразных формах до сих
пор правит рассудком человека, будучи единственным
источником религий, мифологий и фольклора? Оказывается,
это не самый первый ритуал в истории: лорд Рэглан
допускает наличие ритуала у палеолитического человека, однако
сомневается в том, что он оказал непосредственное
влияние на известные нам обряды.5 «Исходный ритуал,
—пишет Рэглан, — насколько можно судить по общей схеме, был
основан на существовании царя, которого ежегодно
убивали и заменяли».6 Иными словами, исходный мифо-ритуаль-
ный паттерн возник из ежегодного жертвоприношения
царя и установления его преемника. Рэглан так описывает
эволюцию ритуала:
На начальной [стадии] периодически приносили в жертву
именно божественного царя; на второй — кого-то другого
вместо него. С развитием цивилизации наступила третья
стадия, когда человеческие жертвы приносились только в
особых случаях, а в остальное время над человеком
проводился мнимый обряд жертвоприношения, при котором на
его место подставлялась другая жертва. Наконец, на
четвертой стадии жертва никогда не была человеческой, хотя
жертвоприношение обычно обставлялось так, чтобы
всячески подчеркнуть его прежний смысл.7
В эпоху позднего неолита в некотором царстве на
Ближнем Востоке людям пришла на ум блестящая идея каждый
год убивать своего «божественного царя», и соседние
царства со всем возможным рвением переняли эту практику.
Так она распространялась все шире и шире, пока наконец
4 Рэглан почти игнорирует американский материал; но трижды
проводит параллели с Мексикой (Raglan, Lord. The Него... XV,
XVIII, XXI), один раз ссылается на Лэнга в связи с преданиями ал-
гонкинов и эскимосов (Ibid. XII) и один раз — на Мак-Каллоха также
в связи с алгонкинскими мифами (Ibid. XV).
5Raglan, Lord. The Origins... P.51.
6 Raglan, Lord. The Hero... XIII.
7Raglan, Lord. Myth and Ritual Myth: A Symposium. Philadelphia,
1955. P. 81.
16
не охватила весь мир —надо полагать, к всеобщему
удовлетворению за исключением, пожалуй, божественного
царя.8 Эта церемония была в такой степени насыщена
эмоциями, что впоследствии стала не только венцом, но и
условием всей мифо-религиозной структуры человеческого
общества.
Очевидно, уже на первой стадии древний ритуал
представлял собой тщательно продуманное и высоко
драматическое действо. Согласно Рэглану он состоял из шести актов:
1. Символическое разрушение старого мира потопом и огнем.
2. Убиение священной жертвы после театрализованного
поединка.
3. Расчленение жертвы и конструирование «нового мира» из
ее частей.
4. Создание пары человеческих существ из глины и
жертвенной крови.
5. Оживление образов в облике молодых мужчины и
женщины, которые были или считались братом и сестрой.
6. Священный брак между ними, после которого они
почитались как родители вновь сотворенного человечества.
Какими свидетельствами в пользу существования
данного праритуала мы располагаем? Рэглан утверждает: «На
это указывают мифы, а также записанные и до сих пор
практикуемые обряды», — но, судя по всему, этим и
исчерпываются положительные результаты его исследования
мифов о потопе, поединке, творении и обряда священного
бракосочетания. В действительности большую часть своих
положений он заимствовал у С. Г. Хука из программы
праздника, которую тот считал базовым ритуалом на древнем
Ближнем Востоке:
1. Драматическое представление смерти и воскресения бога.
2. Перечисление или символическая репрезентация творения
мира.
3. Ритуальный поединок, отображающий триумфальную
победу бога над врагами.
8 Рэглан располагает центр происхождения такой практики на
древнем Ближнем Востоке без каких-либо уточнений. Судя по
всему, он склоняется к Египту, с некоторыми оговорками объявляя себя
сторонником панегипетской теории Эллиота Смита. Позднее он,
вероятно, опирался на свой собственный опыт изучения Судана и
свидетельства африканского материала.
17
4. Священный брак.
5. Триумфальная процессия, в которой царь играл роль бога,
сопровождаемого свитой младших богов или
приглашенных божеств.9
Согласно Рэглану, здесь ритуал достигает четвертой
стадии развития. Как ни странно, Хук не упоминает
жертвоприношение в качестве самостоятельного элемента,
очевидно, считая его лишь частью первого действия. Прилагая
фрэзеровскую интерпретацию к модели Хука, Рэглан
выводит из нее всю первую стадию развития, за исключением
первого действия. Логика подсказывает, что старый мир
был разрушен прежде сотворения нового, и мифы о потопе
представляются Рэглану необходимым аргументом.
«Представление о божественной жертве трансформировалось в
образ божественного царя»,— писал Рэглан в 1949 г.10 В
первых обрядовых практиках царь не играл никакой
роли, и только процесс развития священной жертвы привел к
отождествлению царя и бога (первые цари не были
правителями). Но в 1955 г. Рэглан утверждал, что царя приносили
в жертву уже на первой стадии, а на второй его заменяли
любой человеческой жертвой. Возможно, это скорее не
проработанное положение, чем противоречие или смена точки
зрения. Рэглан представляет весь процесс следующим
образом: человеческая жертва > божественный царь >
замена человеческой жертвой > животное. Теперь мы видим,
как идея божественного царя развивается из идеи
человеческой жертвы (еще не царской) и снова сменяется идеей
человеческой жертвы (уже не царской). Мы вернулись к
самому началу, однако в дальнейшем человеческая жертва
не превращается в царскую, уступая место жертвенному
животному. Рэглан нисколько не проясняет связь между
бесправным божественным царем и последующими царями,
правившими как абсолютные монархи. Тогда следует ли
вообще называть его царем? Если первые правители
титуловались по факту происхождения от принесенных в жертву
царей, то какая между ними связь?
9Нооке S.H. Myth and Ritual. London, 1933. P. 8. См. также:
Raglan, Lord. The Него... XIV; Raglan, Lord. The Origins... P.67;
Hocart A.M. Kingship. London, 1927. P. 70-71.
10 Raglan, Lord. The Origins... P. 73.
18
Мы видим, что вся концепция Рэглана покоится на
одном единственном основании — ежегодном
жертвоприношении божественного царя, или божественной жертве.
Существуют ли доказательства подобного
жертвоприношения, и если да, то какие именно? Поскольку Рэглан
настаивает, чтобы его оппоненты приводили свидетельства в
пользу своих взглядов, мы вправе ожидать от него
доказательств, подтверждающих правоту его собственной теории.
И действительно, он отсылает нас к соответствующему
разделу «Золотой ветви» (ч. III «Умирающий Бог»), где
Фрэзер «в изобилии предоставляет сведения о том, что все
цари некогда предавались смерти по истечении
установленного срока».11 Он ссылается также на данные,
полученные Хуком, Хокартом и их школой на материале
древнего ближневосточного мифо-ритуального комплекса. Итак,
обращаясь к доводам Рэглана, на самом деле мы
вынуждены рассматривать свидетельства, предложенные
Фрэзером, Хуком и Хокартом. Эти свидетельства
распадаются на две основных категории: исторические и
этнографические.
Древние свидетельства о царской жертве
Прежде всего следует проверить исторические
свидетельства, ведь если рассматриваемая нами теория верна,
она с необходимостью должна иметь исчерпывающие
обоснования в уцелевших памятниках литературы и искусства,
и Фрэзер, на первый взгляд, предоставляет изрядное их
количество. В первую очередь следует обратиться к
материалу самых первых цивилизаций на Ближнем Востоке, в
одной из которых Рэглан и Хук помещают эпицентр
последующего распространения этой традиции. В данном регионе,
особенно в Египте, существовали божественные цари (т. е.
цари, представление о божественности которых коренилось
в вере и выступало причиной их культового почитания). Но
обнаружим ли мы в Египте и Месопотамии периодически
проводимый обряд жертвоприношения? Обнаружим ли мы
хотя бы «цареубийства», независимо от регулярности их
nIbid. Р.71.
19
осуществления? Если верить К.Н.Дидсу, одному из
представителей школы Хука, «реальное убийство царя-бога...
остается тайной египетской истории» просто потому, что
«никаких подтверждений его совершения до сих пор не
обнаружено». По-видимому, нет никакой тайны и
относительно материала Шумера, где, согласно Дидсу, «существуют
печати, датируемые приблизительно третьим
тысячелетием до новой эры, на которых несомненно отображено
реальное убийство царя».12 Блестящее свидетельство, но только
в том случае, если печати истолкованы корректно.
Ознакомившись с «Цилиндрическими печатями» Франкфорта, я
пришел к заключению, что на этих изображениях
солнечный бог Шамаш убивает своего врага; это не
жертвоприношение, и враг бога —не царь.13
В Месопотамии, как и в Египте, нет никаких записей о
ежегодном или периодическом убийстве царя, а в
некоторых месопотамских царствах даже существовал институт
shar-puhi — замены царя. Когда знамения указывали, что
царю или нации угрожает опасность, царь имитировал
отречение и передачу всех регалий своему преемнику,
который должен был занять трон.14 Замена была полной, иначе
она не достигала бы своей непосредственной цели. В
течение определенного периода двойник считался реальным
царем за одним важным исключением: он был обязан
покинуть трон сразу по провозглашении, что все опасности
позади; он не смел воспользоваться прерогативами своей
12Цит. по: Нооке S. Н. The Labyrinth. London; New York, 1935. P. 23.
См. также: Moret A. La mise à mort du dieu en Egypte. Paris, 1927. —
Автор отстаивает теорию Фрэзера и предпринимает попытку
обнаружения цареубийства в древнем Египте. Подобно Фрэзеру и Рэглану,
он может предложить лишь миф об Осирисе, легенду о царе Бок-
хорисе, сожженном заживо, обычай Мероэ (Diod. 3.5-7; см. ниже) и
ритуал праздника хеб-сед {Moret A. Op. cit. Р. 47-52). Свидетельств
явно недостаточно, и по сути они относятся скорее к области
фольклора, концепция далека от убедительности и обоснованности.
13Frankfort H. Cylinder Seals. London, 1939. P. 100; ill. XVIII h,i,j,
XIX b,c,d. Более того, Франкфорт относит их к аккадскому периоду.
Дидс не приводит никаких данных в поддержку своего утверждения.
14См.: Lab at R. Le caractère religieux de la royauté assy
го-babylonienne. Paris, 1939. P. 103-105; Frankfort H. Kingship and the Gods.
Chicago, 1948. P. 262-264.
20
власти, чтобы сохранить ее.15 Незамедлительный отказ от
трона в случае shar-puhi нисколько не соответствует
обрядовой гипотезе Фрэзера или Хука. Двойник не предавался
смерти по окончании срока правления, но абсолютно
невредимый возвращался к своей повседневной жизни.
Известные нам записи указывают, что едва ли не единственным
лишенным жизни shar-puhi был Дамки, заменявший позд-
неассирийского царя Асархаддона.16 В этом случае
знамения предвещали смерть царя, т. е. смерть грозила
человеку, занимавшему трон в данный момент; убивая shar-puhi,
пребывавшего на троне с атрибутами царской власти,
правящие круги попросту рассчитывали обмануть судьбу. Это
происшествие выявляет основную цель института: отвести
грозящие опасности от истинного царя на подставного, ведь
если зло непременно должно поразить, оно поразит
человека на троне (однако, как правило, с ним ничего не
происходило). Данный институт можно достаточно просто и
вполне удовлетворительно объяснить как магический
механизм защиты царя. Причем замена не была периодической
и не включалась в новогодний ритуал, а согласно Фрэзеру
и его преемникам предполагаемое жертвоприношение
знаменовало наступление нового года.
15Две летописные статьи повествуют об истории Энлиль-бани,
которого царь Эрра-имитти возвел на трон, вероятно для того, чтобы
тот служил shar-puhi, поскольку «династии не должно прерваться».
Эрра-имитти умер, пока Энлиль-бани заменял его, и последний
сохранил царствие. См.: King L. W. Chronicles Concerning Early Babylonian
Kings. London, 1907. Ch. II, 12-16,1, 62-68; Labat R. Op. cit. P. 103-104,
108-109. Как представляется, это история о Beleus и Beletaras,
упоминаемая Агафием (Hist. 2.25), который цитирует Биона и Александра
Полигистора. Согласно X. Р. Холлу (Hall H. R. The Ancient History of
the Near East. 10 ed. London, 1947. P. 191) Энлиль-бани царствовал в
Исине около 2184-2160 г. до н.э., но хроники были составлены
около 500 г. до н.э. Beletaras Агафия был отождествлен с Саргоном I,
прежде чем были написаны аккадские хроники. Ошибка скорее
всего указывает в правильном направлении: и Саргон, и Энлиль-бани
были узурпаторами, и история рассказывалась для того, чтобы
легитимировать их вступление на царствие. Повествование об Энлиль-
бани в существующем варианте едва ли может быть историческим,
поскольку обыкновенно shar-puhi должен был в любом случае
уступить трон. Мы можем при желании усмотреть здесь заговор Энлиля-
бани с целью обманом захватить трон Эрра-имитти.
16См.: Labat R. Op. cit. P. 103, 359-360.
21
Фрэзер не знал о shar-puhi, когда писал «Золотую
Ветвь»; и даже в последнем издании и «Послесловии»,*
возможно, уже располагая сведениями об этой практике, он
не упомянул о ней. Несомненно, он воспринял бы данный
обычай как наилучшее свидетельство в пользу
ежегодного жертвоприношения божественного царя в Месопотамии,
где ему очень хотелось бы найти подтверждение
существованию подобной традиции. Он отвел бы для него вторую
стадию в предполагаемом им развитии ритуала: реальный
царь > подставной царь > царь-шут. Фрэзеру приходилось
довольствоваться свидетельствами о существовании царя-
шута и такой обрядовой практикой, как унижение царя
во время новогоднего карнавала. Он нашел царя-шута в
празднестве Закеев,17 отмечавшемся в Вавилоне в период
персидского владычества, и даже в предшествующую
эпоху, ибо он настаивает на том, что Закеи и древний
вавилонский праздник Нового года (Акиту, который он
называет Загмуком) были, в сущности, одним и тем же.18 Мы
располагаем крайне ограниченным числом источников по
празднику Закеев — нет никаких свидетельств, кроме трех
упоминаний в трудах Страбона, Афинея (ссылающегося на
Бероса и Ктесия) и Диона Хрисостома.19 В присущей ему
манере Фрэзер сводит их в единое последовательное и со-
17Frazer J. G. The Dying God (The Golden Bough III). London, 1911.
P.113-117.
18Подразумевается, что Закеи отмечались в период весеннего
равноденствия, хотя Берос (15 Schanabel, ар. Ath. 14.639С) первым днем
торжеств называл 16-й день македонского месяца лооса. По
данному свидетельству, это был июль или сентябрь, летний месяц. Фрэзер
(Frazer J. G. The Dying God... P. 116) воспользовался
неопределенностью между июлем и сентябрем (он упоминает также август и
октябрь), чтобы оправдать свое размещение Закеев в марте-апреле, как
того требует его теория. Э.Лэнг (Lang Л. Magic and Religion.
London; New York; Bombay, 1901. P. 137-138, 144-146) прекрасно
продемонстрировал неубедительность концепции Фрэзера, которому
следовало привлечь гораздо больше материалов, чтобы остановиться на
сентябрьской дате и доказать, что некоторые месопотамские города
отмечали праздник Нового года во время весеннего равноденствия; он
должен был в таком случае трактовать Babylon Бероса (или Афинея)
как Вавилонию. Тщетно пытаться провести этимологическую
идентификацию Закеев с Загмуком.
19Berosos. Loc. cit.; Strabo. 11.8.5; Dion Chrys. 4.66-67. См. также:
Hesych. Σ 65; Steph. Byz. P. 296.
22
гласованное описание, пытаясь убедить читателя, что оно
подтверждается самим Беросом, который, «будучи
вавилонским жрецом, говорил с достаточным знанием дела».
Фрэзер рассказывает, что во время Закеев, когда господа и
рабы менялись ролями в сатурнальском веселье,
приговоренный к смерти преступник облачался в царские одежды,
восседал на троне и носил титул Zoganes. Пять дней он
по-царски ел и пил, наслаждался обществом царских
наложниц и отдавал любые приказы, какие только пожелает
(очевидно, за исключением отмены своего смертного
приговора), а к концу пятого дня его разоблачали, подвергали
бичеванию и повешению.
Берос, как сообщает Афиней, упоминает лишь дату и
продолжительность праздника, сатурнальское пиршество и
титул Zoganes, а местом празднования называет Вавилон,
но ничего не говорит ни о преступнике, ни о казни. Его
Зоган —просто один из домашних рабов (не обязательно
царских), управлявший домом на протяжении праздника и
временно носивший царские одежды. Сюжет, согласно
которому царствование преступника, царя-шута,
заканчивается смертью, восходит к Диону Хрисостому, вложившему
описание празднества в уста Диогена Киника при беседе с
юным Александром. Подозрения Эндрю Лэнга
относительно фантастичности картины, предлагаемой Дионом, вполне
оправданны, поскольку она не согласуется с данными ни
Бероса, ни Страбона. По Страбону, праздник зародился в
Зеле в честь богини Анат и впоследствии праздновался у
каждого ее святилища; Зела в большей степени, чем
Вавилон может претендовать на место проведения основных
торжеств. Страбон приводит две полностью
согласующихся между собой версии происхождения Закеев: (1) когда
скифы пировали в Зеле, персы, позарившись на богатую
добычу, напали на них ночью и истребили; (2) когда
скифы опустошали запасы пищи и вина, взятые из
захваченного лагеря персов, Кир и его люди захватили их врасплох
и почти всех уничтожили.20 Страбон ограничивает карти-
20Возможно, полнейший эвгемеризм соглашаться с мнением Лэнга
(Lang A. Op. cit., Р. 119, 194-195), что Закеи действительно
знаменовали победу в войне и были патриотическим праздником наподобие
23
ну праздника тем, что персидские мужчины и женщины,
разодетые в скифские наряды, изрядно выпивали и вообще
веселились по вакхическому обыкновению (ή των Σακαίων
εορτή Βακχεία τις). Однако его слова нисколько не
противоречат утверждениям Бероса у Афинея и вполне могут
совпадать также с мнением Диона, хотя Страбон ничего
не говорит о Вавилоне или осужденном преступнике,
представлявшемся царем и преданном смерти.
Лэнг весьма основательно продемонстрировал как
слабость свидетельства о Закеях в интерпретации Фрэзера, так
и явное искажение их смысла.21 Как указывает само
название, праздник был персидским по происхождению: Страбон
и Дион называют его персидским и умалчивают о
Вавилоне, который упоминается как место празднования только
в ссылке Афинея на «Вавилонику» Бероса; но ведь верно и
то, что персидские цари правили Вавилоном более двух
веков (538-331 гг. до н. э.).22 Найти же подтверждение тому,
Дня Независимости или Дня Гая Фокса. Следует также заметить, что
рассказ Страбона о том, как Кир оставил лагерь, полный прекрасных
яств и вина, скифам и впоследствии, застав их врасплох в разгар
безудержного веселья, уничтожил почти всех, повторяет рассказ
Геродота о том, как Кир перехитрил массагетов (скифский народ) перед
Араксом (1.211). У Страбона место действия переносится из
Туркестана на Понт, и за успехом Кира следуют его поражение и смерть.
Это историзированный миф о сражении, в котором пища и питье суть
средства, посредством которых Антагонист ли, победитель ли,
завлекается к своей погибели. У Полиэна (Strat. 8.28) Томирис — Юдифь,
которая заманивает Кира в лагерь на пиршество. См.: Fontenrouse J.
Python: A Study of Delphic Myth and Its Origins. Berkley; Los Angeles,
1959. P. 89, 124, 137, 139-140, 259-260, 488-490.
21 Lang A. Op. cit. P. 76-81, 118-160, 182-199. — Его критика
концепции Фрэзера уничтожающа. Он также показывает, что практически
невозможно установить происхождение Пурима или Пасхи из
персидского праздника или продемонстрировать какую-либо бесспорность
Закеев, Акиту, Пурима и Пасхи. Д. М. Робертсон пытался героически,
но не убедительно, отразить нападки Лэнга на гипотезу Фрэзера (см.:
Robertson J. M. Pagan Christs. London, 1911. P. 144-147), будучи еще
одним сторонником обрядовой теории, предпринял попытку выявить
происхождение истории Иисуса из иудейской мистериальной драмы.
22Титул Зоган (которым Дион не наделяет лжецаря Закеев),
возможно, не поддается этимологии, однако несомненно представляет
собой греческую передачу персидского понятия. Попытка связать его с
семитскими словами, например с еврейским sagan (означающим
«полководец», «заместитель», «знатный человек»), весьма сомнительны.
24
что иранские цари когда-либо предавались смерти
ежегодно или периодически, неизмеримо сложнее, чем доказать
проведение ритуальных убийств месопотамских царей, а
ведь подтверждений последних нет вовсе, если только не
допустить достоверность рассказа Диона.
Наряду с Закеями лучшее доказательство своей теории
Фрэзер усматривает в программе праздника Акиту. На
пятый день царь в сопровождении свиты шел к Эсагильско-
му храму: там перед образом Бела верховный жрец
принимал у него корону, скипетр и меч, бил по щеке и
принуждал склониться перед Белом. Тогда царь
провозглашал, что не совершил никаких несправедливых действий в
старом году, после чего жрец возвращал ему царские
регалии. Жрец вновь бил царя по щеке: если у царя выступали
слезы, считалось, что Бел благосклонен, если нет
—надвигались опасности.23 По утверждению Фрэзера и Рэглана,
это означает, что в прежние времена царя действительно
предавали смерти и его преемник всходил на трон. Но в
отсутствие подтверждений подобная интерпретация данной
церемонии представляется несколько надуманной. Можно
гораздо проще истолковать ее как церемониальный
пережиток ежегодного испытания верховного правителя
(наподобие тех, что проходили афинский архонт или римский
консул), чтобы установить срок правления, который
продлевался еще на один год (в отличие от консульства), если
правитель мог доказать, что правил справедливо и
мудро. Это предположение всего лишь догадка, но оно не
более гипотетично, чем фрэзеровское, и, кроме того,
сохраняет в целостности сам феномен. Вероятно, данная
церемония была по существу исключительно магической и
служила целям очищения царя от всей скверны,
накопленной за истекший год; в обрядовом тексте ничто не
указывает на иное ее предназначение, чем выполнение
функции очищения и обновления. И столь же существен для
Фрэзера тезис, согласно которому царь был Белом;
однако здесь, как мы отметили, царь держит ответ перед Бе-
См., напр.: Robertson J. M. Op. cit. P. 159-160.
23См.: Ancient Near Eastern Texts/ Ed. J. B. Pritchard. Princeton,
1950. P.331-334; Fontenrose J. Python... P.436-446.
25
лом как перед другим лицом. Он явно не сам Бел, а его
слуга.
Подобное заключение можно сделать и в отношении
египетского праздника хеб-седа, традиционно отмечавшегося
по прошествии 30 лет правления и затем повторявшегося
с интервалом в три года до самой смерти царя. На этом
празднике инсценировалась коронация царя. Очевидно,
церемония имела целью восстановить его силы, вдохнуть в
него новую жизненную энергию, ибо ничто в проведении
праздника не напоминает выхолощенный пережиток
ритуала, в котором царь предавался смерти.24 Море25 делает
преувеличенные выводы из данного свидетельства,
интерпретируя обрядовые действия при проведении хеб-седа как
смерть и возрождение царя.
И все же Рэглан, главным образом полагаясь на
Фрэзера, заявляет, что материал ранней Греции
предоставляет исчерпывающие свидетельства в пользу периодического
убийства царей. Он пишет: «Тогда как, согласно
существующим данным, ритуалы Египта и Месопотамии
представляют собой лишь имитацию убиения царя, традиции
Греции и менее цивилизованных народов предполагают
ритуал, в котором царь действительно предавался смерти: или
ежегодно, или по окончании какого-либо
продолжительного срока, или же когда силы отказывали ему».26 Он
считает обыкновенным для Греции восьмилетний срок, хотя все
его доказательства сводятся к указанию того раздела
«Золотой ветви», где Фрэзер исследует восьмигодичные
циклы в греческих обрядах, обычаях и мифах.27 В лучшем
случае они подтверждают восьмилетний срок правления,
но в подавляющем большинстве носят легендарный
характер или о них свидетельствуют обрядовые практики.
Однако ранее Рэглан строго-настрого запрещал нам полагаться
на легенды как исторические источники, поэтому ничем не
подкрепленные предположения заводят наше рассуждение
24О празднике хеб-сед см.: Frankfort H. Kingship and the Gods.
Chicago, 1948. P. 79-88; Cerny J. Ancient Egyptian Religion. London,
1952. P. 122-123.
25Moret A. Op. cit. P. 51.
26Raglan, Lord. The Hero... XIV.
27Frazer J. G. The Dying God... P. 58-60, 68-83, 87-92.
26
в замкнутый круг. Не существует ни одной исторически
верной записи ни об одном греческом царе, претерпевшем
ритуальную смерть в конце восьмилетнего или какого-либо
другого срока, и нет абсолютно никаких исторических или
археологических данных о том, что в доисторической
Греции «царь должен был умереть». Фактически невозможно
отыскать мифологический материал, хотя сколько-нибудь
подтверждающий наличие данной практики. Фрэзер
ссылается на восьмигодичные циклы в мифах и традициях,
в которых и вовсе отсутствовали упоминания о
цареубийствах, а также на мифические убийства царей, которые не
совершались периодически и вообще не были
жертвоприношениями. Он создает видимость наличия огромного числа
свидетельств о восьмилетних сроках царствования,
пускаясь в длительные отступления о падающих звездах,
превращениях животных и т. п.
Более того, не обнаруживается ни одного
документированного свидетельства существования предствлений о
божественном происхождении царей в древней Греции. Как
превосходно продемонстрировал Г. Д. Роуз в своем
исследовании доводов Кука, которые тот привел в «Зевсе» в
пользу фрэзеровской гипотезы о существовании божественных
властителей в ранней Греции,28 нет ничего, помимо
двусмысленных намеков в мифах и легендах, встречающихся
крайне редко; а тот факт, что греческие цари исполняли
жреческие функции, ровным счетом ничего не
доказывает, коль скоро жрецы не были богами.29 Роуз не обращает
28 Rose H. J. The Evidence fop Divine Kings in Greece. The Sacral
Kingship // Contributions to the Central Theme of the VHIth International
Congress for the History of Religions (Rome, April, 1955). Studies in the
History of Religion IV. Leiden, 1959. P. 371-378.
29Cook A. B. Zeus: A Study in Ancient Religion. Cambridge University
Press, 1914-1940. I, 12-14, 79-81; II, 794, 1073-1077, 1087-1089, 1121-
1137, 1159-1160; III, 733-734. См. также: Marlow A. N. Myth and Ritual
in Early Greece// John Rylands Library Bulletin. XLH. 1961. P.373-
402. — Автор не находит ни одного ясного свидетельства в пользу ми-
фо-ритуальной схемы Хука—Рэглана, как не находит он и
существования божественных царей в ранней Греции. Он опровергает теорию
Рэглана и его сторонников, согласно которой гомеровский эпос был
обрядовым текстом, сопровождавшим обрядовое действо, называемое
«Троянской войной». Мне следует также упомянуть Эрни Фьюмарка
и его работу «Существовали ли Сакральные Царства на Минойском
27
внимания на случайное упоминание в поэмах Гомера о
царе, которого подданные почитали как бога. Чтобы кто-либо
не усмотрел в этом выражении указание на божественного
царя, следует сказать, что если бы царь действительно был
богом, то наречие «как» (δς) не употреблялось бы. Это
наречие прямо указывает на сравнение: оно не используется
в присоединительных конструкциях, подобно английскому
as. Гомеровские цари, такие как Агамемнон и Одиссей,
были просто смертными мужами, имели более низкий статус,
чем боги, и находились под покровительством последних.
Этнографические свидетельства
о царской жертве
Во всей древней истории мы не нашли ни ясных, ни
двусмысленных свидетельств о ежегодном или периодическом
жертвоприношении божественного царя. Этот факт
заставляет нас ограничиться этнографическими
свидетельствами, ритуалами и обычаями современных недавних
«дикарей», как их постоянно называют Фрэзер и Рэглан. Рэглан
победоносно заявляет, что Фрэзер описывает сотни
случаев подобной практики. И действительно, Фрэзер
приводит немало примеров цареубийств, преимущественно в
Африке.30 Он добавил бы гораздо больше примеров, если бы
написал «Умирающего Бога» в недавнем прошлом, ибо в
«Царе Ганды» Т. Ирстама31 большая часть
соответствующих материалов по цареубийству существенно
«отредактирована» : указанная практика приписывается пятидесяти
африканским народам. Однако нигде не утверждается, что
царей ежегодно казнили, а примеры периодических
цареубийств достаточно редки и крайне сомнительны. Ритуа-
листы убеждают нас, что до настоящего времени в ука-
Крите?» (Studies in the History of Religions. IV. 1959. P. 169-370).
Автор отвечает на вопрос, вынесенный в название работы,
утвердительно, однако на основании неадекватных и сомнительных свидетельств;
кроме того, он интерпретирует гимн из Паликастро как обрядовый
текст (см. гл. II).
30Frazer J. G. The Dying God... P. 14-58.
31 Irstam T. The King of Ganda: Studies in the Institutions of Sacral
Kingship in Africa// The Ethnographical Museum of Sweden. Stockholm,
1944.
28
занном регионе существует традиция предавать смерти
царей, когда их покидает былая сила, и этот обычай
сохраняет исходное значение обряда; древняя жестокая
непреклонность и чрезмерная предосторожность
периодического жертвоприношения сменяются более рациональной
иррегулярностью. А поскольку обычай цареубийства
преобладает именно в Африке, то он, по их заключению, либо
распространился на юг из Египта, либо получил
происхождение из того же источника, что и предполагавшийся
египетский обычай (хамитский, по Селигмену32). И
действительно, наиболее примечательный случай
засвидетельствован среди шиллуков нильского Судана. На теорию Фрэзера
оказали влияние первые исследования шиллуков,
предпринятые К. Г. Селигменом, который жил среди них и сообщал,
что они до сих пор практикуют цареубийство, хотя при нем
не происходило ничего подобного. Согласно Селигмену, бог
Ньиканг воплощен в каждом царе шиллуков, и, по их
верованиям, болезнь и немощность царя способны заразить
людей, скот и урожай, поэтому, «несомненно, шиллуки
совершали церемонию предания смерти царя, как только он
проявлял признаки старения или недомогания».33 Селиг-
мен утверждал также, что в современной практике
избранные вожди и знать, обрекая царя (reth) на смерть,
извещали его об ожидающей его участи, отводили в специально
построенную хижину и душили. Селигмен отвергает
сообщения других информантов, согласно которым казнь
осуществляли царские жены. По истечении двух месяцев
цареубийцы разбирали хижину, хоронили царские кости и
только тогда впервые объявляли народу о смерти царя. Люди
оплакивали его, резали скот и приносили в жертву
мужчину и женщину, которых топили. Шиллуки рассказывали,
что пять поколений тому назад они отказались от обычая
32Seligman С. G. Egypt and Negro Africa: A Study in Divine Kingship.
London,1934.
3ZSeligman C. G. Pagan Tribes of the Nilotic Sudan. London, 1932.
P. 90-93. — Эта книга была написана позднее «Умирающего Бога»,
однако повторяет результаты исследования Селигмена, которые
использовал Фрэзер. Отметим прошедшее время в цитируемом
предложении, а также слова «Цари шиллук предаются (или предавались)
смерти», которые выявляют сомнение относительно существования
этого обычая в современной практике.
29
замуровывать царя вместе с «достигшей брачного возраста
девственницей» в хижине без воды и пищи.34
Предположим на мгновение, что шиллуки убивают (и
убивали прежде) своих царей вышеупомянутыми
способами. Но где же сложный, разработанный ритуал, описанный
Рэгланом в мельчайших подробностях? Где символическое
разрушение старого мира потопом или пламенем,
ритуальный поединок, творение нового мира и человечества из
плоти и крови царя, священный брак? В данном случае нельзя
говорить ни о каком ритуале: престарелого или немощного
правителя запирали в хижине (по-видимому, ночью) и
душили. Все делалось в строжайшей тайне, какие бы то ни
было публичные фанфары, как того требует теория Фрэзера
или Рэглана, были исключены. Последующие забой скота
и убийство двух человек, которых связывали, сажали в
каноэ, заполняли его различными предметами и затопляли в
реке, едва ли соответствует предполагаемому обряду. Более
того, Селигмен обязан сведениями о жертвоприношении не
своим собственным информантам, а коллекции
фольклора шиллуков, собранной Вестерманом. После смерти
царя проходит год междуцарствия, и его преемник восходит
на трон, принимая великие почести. Коронация всегда
сопровождается пышными торжествами, и едва ли в данном
случае ее воспринимали как узаконивание воскресения или
нового творения, как того требует обрядовая схема
Рэглана. Весь воссозданный им обряд исполняется во время
одного праздника, а у шиллуков смерть прежнего царя,
человеческие жертвоприношения (если верить сообщениям)
и возведение нового царя на трон чрезвычайно
растянуты во времени и занимают с начала до конца целый год.
Селигмен также упоминает предания о еще более древнем
обычае, в котором мы можем усмотреть поединок в
борьбе за престол между царем и претендентом. Царский сын
имеет право совершить покушение на жизнь царя и, если
34 Относительно данного жертвоприношения Селигмен цитирует
текст Дитриха Вэстермана (Westernmann D. The Shilluk People
(Philadelphia): Board of Foreign Missions, United Church; Berlin, 1912.
P. 136), продиктованный ему информантом-шиллуком. Согласно
этому тексту двух девочек замуровывали в хижине с мертвым телом
царя (причина его смерти не указывается), и там они умирали.
30
оно оказывается удачным, править вместо него. Царские
сыновья предпринимали подобные попытки только ночью,
когда царь оставался один и был почти беззащитен в своем
гареме; однако подобно фрэзеровскому Царю Леса, он
бодрствовал всю ночь во всеоружии, готовый к появлению
претендента. Если данное сообщение представляет собой нечто
большее, чем просто традиционное знание, оно может быть
отголоском цареубийств и захватов власти, не имеющих
ничего общего с жертвоприношением царя; в любом случае
мы не наблюдаем никакого обряда периодического
обновления, реконструированного Хуком и Рэгланом.
Фрэзер и его предшественники, Селигмен, Ирстам и
другие исследователи, отмечают точно такие же или
похожие практики среди многих африканских народов: динка,
конде, бакитара, баньеро, кибанга, зулу и еще более чем у
сорока.35 Оказывается, во всех частях континента при
проявлении царями малейших признаков слабости их душили
или принуждали выпить яд; как и у шиллуков, после
смерти царя, скрывавшейся от народа, проходило несколько
месяцев безвластия, пока не завершался выбор преемника.
Таким образом, мы располагаем исчерпывающими
свидетельствами об убиении царей в Африке, хотя они едва ли могут
служить подтверждением обрядовой теории Фрэзера, Хука
и Рэглана. Вероятно, читатель уже заметил постоянно
повторяющийся вывод вышеупомянутых ученых, сделанный
на основании материала об умерщвлении божественного
царя в Африке. Во всех примерах, за исключением
шиллуков, информанты говорили, что царя некогда убивали и что
данная практика прекратилась в неопределенном прошлом,
два-три или более поколений назад. Если эти сведения
достоверны, мы вправе предполагать, что африканские
божественные цари претерпевали обрядовую смерть всего два-
три столетия назад, и путешественники могли стать
свидетелями цареубийств или, по крайней мере, слышать об
их совершении. Но даже самым первым европейцам, побы-
35Frazer J. G. The Dying God. P. 14-41; Seligman C. G. Egypt and
Negro Africa. P. 21-39; Irstam T. The King of Ganda. P. 142-146; Frobe-
nius L. Und Afrika Sprach... Berlin, 1913. P.84-87, 113, 140-143, 147,
255; Krige E. J., Krige J. D. The Realm of a Rain-Queen. Oxford, 1943.
P.165-166.
31
вавшим в Африке, сообщали, что цареубийства случались
лишь в древности. Португалец Дос Сантос, посетивший в
XVI в. племена банту в Мозамбике, писал о царе Софалы,
что «по обычаям этой земли цари кончали жизнь
самоубийством, принимая яд, когда на них обрушивались какие-либо
бедствия или телесные недуги, например, импотенция или
заразная болезнь».36 На самом деле, мы можем перенестись
в прошлое еще на шестнадцать веков и обратиться к Ди-
одору Сицилийскому. Фрэзер и ритуалисты использовали
его рассказ об эфиопских царях в качестве важного
связующего звена между древнеегипетскими и современными
африканскими цареубийствами. Описания царей и жрецов
Мероэ, сделанные им, подводят нас довольно близко к
традициям шиллуков и динка. Основываясь на источниках,
которые могут быть датированы двумя веками ранее,* Ди-
одор сообщает о том, что всякий раз, когда жрецы Мероэ
наблюдали знамение, они отправляли царю послание с
приказанием убить себя, ибо того желали боги. Каждый царь
подчинялся божественному повелению вплоть до времени
египетского Птолемея II, когда эфиопский царь Эргамен
отказался выполнить требование и вместо этого убил
жрецов. Мы снова видим, что обычай некогда практиковался, а
рассказ содержит легенду о том, как эта практика
прекратила свое существование. Далее Диодор переходит к
изложению дворцового этикета эфиопов. Когда царь утрачивал
какую-либо часть тела, его подданные символически
возмещали этот недостаток. Это предание, достоверно оно или
нет, совершенно противоположно описанному выше
обычаю убийства царей с ослабленным здоровьем. Очевидно,
слепой, беззубый или хромой царь оказывал
неблагоприятное воздействие на свои земли, и его следовало принести
в жертву как можно скорее. По рассказам же Диодора, у
народа, который, как предполагается, убивал своих царей,
и в той области Африки, где цареубийство по слухам
было повсеместным, увечные цари доживали до естественной
смерти без протестов, вызванных их частичным
отстранением от исполнения своих обязанностей.
Постоянство сообщений об убийстве царей «некогда» и
36Seligman С. G. Egypt and Negro Africa... P. 30.
32
бездоказательность редких сведений о современных
цареубийствах позволяют заключить, что все предания об
африканской традиции — фрагменты или реликты древнего
африканского мифа.* К этому выводу я пришел еще до
обращения к книге Эванс-Притчарда «Божественное царство
шиллуков нильского Судана»,37 в которой обнаружил ему
подтверждение. Хотя Селигмен нисколько не сомневается
в существовании у шиллуков традиции умерщвления
ослабевших царей, Эванс-Притчард пишет: «Должен признать,
что я склонен рассматривать интересующие нас
заявления шиллуков скорее как показатель мифической природы
царства в целом, чем как подтверждение реальных
цареубийств, совершавшихся когда-либо упомянутыми
способами или по указанным причинам».38 Автор не нашел
убедительных доказательств в пользу того, что шиллукам
доводилось наблюдать подобные деяния; следовательно,
добавляет он, «в отсутствие других свидетельств, помимо
преданий, о казнях царей в истории шиллуков и ввиду
противоречивости приведенных источников я заключаю, что
церемониальное цареубийство, вероятно, является
вымыслом».39 Конечно, цари шиллуков погибали в обычных
светских войнах, от рук наемников или мятежников. И если
предположение о цареубийствах у шиллуков не
оправдалось, оно a fortiori несправедливо и для других
африканских народов. Нам представляются бесполезными любые
попытки отыскать достоверный факт жертвоприношения
царя, реального или подставного, убитого посредством
удушения или отравления, либо пораженного в поединке от
руки претендента на престол. И даже если предания
соответствуют действительности, для нас все же не очевидны
ни рэглановская обрядовая схема, ни какая бы то ни было
связь с ритуалами древнего Ближнего Востока. Насколько
нам известно, нет ни одного африканского мифа,
сложившегося на основании описанных цареубийств. В
действительности африканские мифы о царствовании совершенно
отличны от ближневосточных.
37Evans-Pritchard Ε. Ε. The Divine Kingship of the Shilluk of the
Nilotic Sudan. Cambrige, 1948.
38Ibid. P. 20.
39Ibid. P. 21.
33
Сегодня мы знаем об африканском царстве гораздо
больше, чем знал Фрэзер полвека назад. Совсем недавно
вышли в свет несколько книг, написанных выдающимися
антропологами и посвященных африканским племенным
формам правления.40 В них предоставлена
исчерпывающая информация о могуществе, сроках правления,
привилегиях и обязанностях наследных царей и вождей
африканских обществ, изученных квалифицированными
исследователями, но тщетно было бы искать в них какое-либо
упоминание об институте, которому Фрэзер, Рэглан и их
сторонники придавали особое значение. Из книги «
Политические системы Африки»41 мы узнаем, что Мугабэ, царь
округа Анкола, выпил яд, когда его физические силы
пошли на убыль (случай, не известный Фрэзеру). Причем
подобная кончина правителя истолковывается как старинный
обычай. Умерщвление ритуального царя у ньякьюса
(Южная Танзания) и убийство царя-шута в церемониях
вступления на престол в Ниоро также названы отжившими
обычаями.42 Фрэзер слишком некритично использовал
записи, составленные неискушенными наблюдателями, поэтому
он и ошибся в интерпретации нескольких случаев,
например, в отношении зулу. Он полагал, что зулусскому королю
Чаке была предназначена ритуальная смерть, когда силы
его оставили;43 но в действительности зулусы убили его не
«ритуально», а как угнетателя народа, что
свидетельствует о политическом восстании и цареубийстве, а не
обрядовом умерщвлении божественного царя. Можно добавить
еще ряд похожих примеров. Согласно М. Глакмэну, даже
обычное цареубийство — чрезвычайная редкость среди
африканских народов, ибо «только после длительного перио-
40African Political Systems/ Ed. N. Fortes, Ε. Ε. Evans-Pritchard.
Oxford, 1940; Mair L. Primitive Government. Baltimore, 1962; Schapera I.
Government and Politics in Tribal Societies. London, 1956. — Шапера
ограничивается материалом южноафриканских племен, а Мэир
—восточных.
41 African Political Systems... P. 137.
42См.:Mair L. Op. cit. P. 224-227. — О человеческих
жертвоприношениях в Ниоро, церемониях вступления на царствие в Ганде и
перерывах в царствовании с целью приращения царской силы также
обычно отзываются как о вышедших из употребления обычаях.
43Frazer J. G. The Dying God... P. 36-37.
34
да страданий народ выступает против своих правителей».44
Как видим, банту и нилоты ничем не отличаются в этом
смысле от французов и русских: разве Людовик XVI и
Николай II претерпели ритуальную смерть?
Если отвлечься от недавних антропологических
изысканий в области африканских племенных форм правления и
обратиться к исследованиям племенных религий, мы
также не найдем ни одного более или менее убедительного
доказательства в пользу концепции Фрэзера. В своей работе
«Традиционная религия Африки» Д. Пэрриндер
упоминает лишь «свержение с престола» вождей у ашанти и дагоме-
ев, а также обычай йоруба «подносить вождю яйца попугая
в знак того, что он должен совершить самоубийство».
Пэрриндер считает эти случаи не примерами обрядовой смерти,
а политическими механизмами смены царей. Таким
образом, западноафриканские институты укладываются в
схемы Фрэзера ничуть не лучше, чем институты Восточной и
Южной Африки.
Мисс Мэир посвящает несколько страниц своей
монографии45 разбору фрэзеровской теории и утверждает, что
«ни один властитель Восточной Африки не
соответствует полностью фрэзеровскому образу божественного царя»,
и мы вправе распространить ее суждение на весь
африканский материал. В Африке есть божественные цари и
обрядовые цари; африканские цари исполняют обрядовые
функции; африканцы верят, что здоровье царя тесно
связано с благосостоянием всего народа. Но нет никаких
свидетельств о совершении ритуала умерщвления божественного
царя.
Мисс Мэир готова допустить, что в прошлом у ньякьюса
существовала традиция убивать обрядового царя незадолго
до его естественной смерти. Старейшины обстоятельно
объясняли мотивацию этого действия: «Когда царь ньякьюса
умирал, советники затыкали отверстия его тела, чтобы его
душа не могла исчезнуть и унести с собой плодородие
земли».46 Как подчеркивает Мэир, «так поступали, когда он
44 African Political Systems... P. 42.
45Mair L. Primitive Government. P. 229-233.
46Ibid. P. 226-227, 232.
35
действительно умирал, а не тогда, когда он просто казался
уже не таким сильным, как прежде». Мэир поясняет, что
происходящее с обрядовым царем у ньякьюса хорошо
согласуется с широко распространенным африканским
обычаем не позволять умирающему царю сделать последний
выдох. Э. Лойб сообщает о существовании подобного
обычая у кунама: когда царь близок к «естественному концу»,
верный слуга душит его, по возможности в самый
последний момент. В сущности, это соответствует древней
практике ньякьюса в интерпретации Мэир: советники
препятствуют побегу царской души, отождествляемой с плодородием
земли. Согласно Лойбу, ньякьюса отождествляют
последний вздох царя с его душой; если они не удержат душу
царя, его преемник не будет могущественным: «Если
наследник убивал умирающего царя, он овладевал его душой
и становился, подобно своим предшественникам,
воплощением Калунги, Верховного Бога. Если же царю
позволяли умереть совершенно естественной смертью, его душа не
вселялась в преемника».47 Данная практика ожидания
последнего вздоха царя едва ли подкрепляет теорию
Фрэзера. Царя умерщвляли не при первых проявлениях
слабости, а когда он был почти мертв; здесь нет ни
периодичности, ни ритуальности. Слуги строго соблюдают правила
этикета, и царь должен быть задушен предписанным
образом: например, куаньяма используют кусок овчины. Все
описанное разительно отличается от обряда
жертвоприношения в представлении Фрэзера, Хука или Рэглана. Даже
об умерщвлении умирающего царя сообщается как о
древнем обычае, хотя Лойб и другие ученые уверены в том, что
он до сих пор господствует среди некоторых племен.
Допуская исконно африканское происхождение этого обычая,
мы можем выявить в нем источник традиций,
засвидетельствованных или восстановленных Селигменом, Фрэзером,
Ирстамом и др.48 Другим источником могут быть убийства
47Loeb M. In Feudal Africa. Bloomington, 1962. P. 28.
48У меня возникают серьезные сомнения в том, что убиение
божественного царя, на которое так часто ссылаются, является или
являлось реальным обычаем — данное предположение ничем не
подтверждается. Я склонен считать сообщения об этом обычае также частью
африканского фольклора, тем фрагментарным мифом о цареубий-
36
и захваты власти, когда человек, бросающий вызов
правящему царю и побеждающий в поединке, способен завоевать
народное признание и стать его преемником. Названные
традиции суть мифы и верования, которые оправдывают
убийство царя, совершенное любым способом и по любому
поводу, и придают ему законную силу. Именно они и
породили те фантастические сообщения, которыми пестрят
страницы «Умирающего Бога».
Если мы предпримем поиски свидетельств о
цареубийствах за пределами Африки, это не спасет теорию Фрэзера.
Поистине там почти нечего искать. Фрэзер, полагаясь на
рассказы ранних путешественников, побывавших в южной
Индии, упоминает царей Квилакара и Каликута как
правителей, вынужденных покончить с собой в конце
двенадцатилетнего правления.49 Португальский путешественник
начала XVI в. сообщал, что царь Квилакара после двенадцати
лет правления созвал брахманов, в их присутствии взошел
на помост, стал отрубать от своего тела члены и плоть и,
уже теряя сознание от потери крови, перерезал себе горло,
после чего помост сожгли вместе с трупом. Сам
путешественник не присутствовал при этой церемонии, а
рассказывал только услышанное им от других.50 Англичанин
Гамильтон, побывавший в Малабаре в 1695 г., утверждал, что
подобное самоубийство царя некогда было принято в Кали-
куте, а по современному ему обычаю там через каждые 12
стве, существование которого мы предполагали выше. В Гане,
например, смерть царя аканов означала, что космос стал жертвой,
поддался хаосу; при этом был ли царь старым или больным, его смерть не
играла роли предотвращения опасности. К ложу умирающего царя
приводили хранителя кладбища, ибо аканы верили, что это поможет
царю умереть быстрее; хранитель только мягко прикасался к царю и
произносил слова утешения. Подробнее см.: Meyerowitz E.L.R. The
Divine Kingship in Ghana and Ancient Egypt. London, 1960. P. 186-196.
49Frazer J. G. The Dying God... P. 46-51. Фрэзер опирался на кн:
Magalhaes F. de. A Description of the Coasts of East Africa and Malabar.
London, 1866. См. также: Logan W. Malabar. Madras, 1887.
50Мы можем отметить, что португальский путешественник говорит
о царях Квилакара, тогда как Гамильтон и Логан говорят о царях
Каликута. В Каликуте располагалась резиденция правителя провинции,
который был подвластен царю Колама. По-видимому, царь,
занимавший более высокое положение, не подвергался обрядовому
умерщвлению.
37
лет проводился праздник, продолжавшийся 10-12 дней. В
конце празднования четверо вызвавшихся мужчин могли
попытаться убить царя в его палатке и захватить царство.
Несмотря на то, что царская палатка охранялась сорока
или пятидесятью тысячами воинов, в тот день всегда
находилось несколько человек, готовых погибнуть при
нападении на царскую стражу. Гамильтон хотя и был в то время
неподалеку, сам не наблюдал это состязание. Логан
обнаружил в царских архивах Каликута записи, согласно
которым последний раз оно было засвидетельствовано в 1743 г.
Однако Логан не упоминает о более ранних самоубийствах
царей, которые явно относятся к соблюдавшимся «некогда*
обычаям и почти несомненно являются вымыслом. Нельзя
быть уверенными в достоверности даже упомянутого
события, ведь записи в царских архивах не могут служить
гарантией его реальности, поскольку Логан изучал
архивы спустя более столетия после его совершения. И пусть, в
конце концов, все сообщения будут настолько истинны,
насколько вы того пожелаете; но где же здесь ритуал Хука,
Хокарта и Рэглана? Мы видим лишь торжества, которые
устраивались после публичного царского самоубийства, а
завершались кремацией мертвого тела и выборами нового
царя. В позднем обычае остается только безуспешное
нападение на царских телохранителей.
Куда бы мы ни обратили свой взор, мы придем к тем
же результатам. Так, Фрэзер ссылается на царя пассиеров
на Суматре, которого также «б давние времена*
умерщвляли после недолгого правления.51 Фрэзеровский пример
царского правления в Бенгалии свидетельствует скорее о
политических убийствах, чем об обрядовой смерти, ведь
далеко не всех царей предавали смерти, равно как и
сообщения о характере царствования у пассиеров больше
напоминают рассказы о заговорах и политических переворотах.
В любом регионе убийцу, преуспевшего в захвате власти,
царедворцы и чиновники, как правило, признавали царем.
Другие жертвы, упомянутые Фрэзером (например, мэриах
у кхондов*), не были царями, вождями, жрецами или
заклинателями дождя, как не подтверждается и то предпо-
51Frazer J. G. The Dying God. P. 51-52.
38
ложение, что их приносили в жертву вместо царя. Фрэзер
не нашел за пределами Африки и Восточной Азии
никаких свидетельств о цареубийствах, которые не оказались
бы всего лишь мифами или легендами. Кроме того, он
часто использует данные о временных правителях и царях-
шутах, которых вообще не предавали смерти.
Таковы аргументы Фрэзера, которые послужили Рэгла-
ну основанием для воссоздания исходного ритуала и
оказали существенное влияние на Грейвса, Хьюмана и др.
Впечатляющий объем собранного Фрэзером материала
ошеломил их, как и многих читателей (в особенности поначалу),
и сделал их слепыми к частым противоречиям и
ненадежности аргументов. Но за последнюю четверть века
увеличилось число читателей, в особенности антропологов,
фольклористов и антиковедов, которые уже не доверяют его
доводам.52
Первобытные истоки
Итак, «Золотая ветвь» не содержит свидетельств,
необходимых Рэглану для реконструкции праритуала
цареубийства. Собственная же теория Рэглана —если вообще
52Критику Фрэзера см.: Lang A. Op. cit.; Fontenrose J. Review of
Hyman, The Tangled Bank/ Carleton Miscellany. III. 1962. 4, 76-77;
Evans-Pritchard E. E. The Divine Kingship of the Shilluk of the Nilotic
Sudan; Leach E. R. Golden Bough or Gilded Twig? / Daedalus. Spring,
1961. P. 371-387. — Анонимный критик «Essays in Social Anthropology»
Эванс-Притчарда в лондонской «Times Literary Supplement» (20 Sept.
1963. P. 698) сформулировал фундаментальную причину
непреходящей популярности взглядов Фрэзера у неспециалистов:
«Исследование Эванс-Притчардом царства шиллуков... более комплексно и, с
европейской точки зрения, более прозаично, нежели фрэзеровская
таинственность смерти жреца-царя, уступающего право власти
молодому преемнику, который возвращает нации жизненную силу. Не трудно
понять, почему множество рядовых читателей предпочтут фрэзеров-
ский метод интерпретации, который дарует им мгновенную поэзию,
лучше аргументированным и документированным и в
интеллектуальном смысле более требовательным концепциям современных
исследователей». Гринвэй (Greenway J. Literature among the Primitives. Hat-
boro: Folklore Associates, 1964. P. 283) делает сходное замечание. С
заблуждением воистину сложно бороться и почти невозможно
уничтожить его окончательно, особенно если не обладающий
специальными познаниями читатель признает его «поэтическим»; и все же оно
всегда оказывается блестящей мишурой по сравнению с золотом.
39
можно говорить о его теории помимо фрэзеровской, —
согласно которой все мифы и религии возводятся к единому
источнику на древнем Ближнем Востоке, тем не менее
сталкивается с затруднениями, которых сумел избежать
Фрэзер. Проблема относится к эпохам, предшествовавшим
зарождению первобытного ритуала Рэглана, а именно:
произошел ли он из еще более ранних ритуалов? Рэглан
допускает существование древних обрядов, например у
палеолитического человека, «однако обряды известных нам
религиозных систем не производны от них».53 До сих пор
единственный аргумент в пользу интерпретации колдуна,
изображенного в пещере Труа фрэр (мужчина под
личиной оленя или лося), как участника некоего обряда
состоит в том, что подобным образом облаченные
представители примитивных народов исполняют известные нам
ритуалы, которые, по Рэглану, должны быть заимствованы из
ближневосточной практики. Но позволим Рэглану
выстроить свою концепцию. Его теория требует, чтобы на древнем
Ближнем Востоке отсутствовали какие-либо мифы или
ритуалы до того, как была принесена первая божественная
жертва. Судя по всему, это жертвоприношение
осуществлялось в уже централизованном царстве.54 Следовательно,
данная практика не могла возникнуть ранее 4-го
тысячелетия до н. э.55 Если же мы допустим, что
жертвоприношение царя зародилось в монархическом городе-государстве,
датировку следует сдвинуть до 6-го тысячелетия до н. э.
(намного раньше). Теперь мы вынуждены предположить,
что в предшествующие века и тысячелетия люди не
рассказывали друг другу никаких историй, поскольку, в
соответствии с гипотезой Рэглана, все известные предания
производны исключительно от указанного им праритуала.
Если же традиции устного творчества уже сложились, можно
ли отрицать, что они оказывали некоторое влияние на
содержание мифов, возникших из ритуала? Мог ли человек,
обладая речью, не слагать никаких повествований? Когда
люди научились говорить? Безусловно, пещерные худож-
53Raglan, Lord. The Origins... P.51.
54Raglan, Lord. The Hero... XIII.
55Raglan, Lord. The Origins... P.68.
40
ники обладали речью; также обнаружено множество
артефактов времен палеолита, создатели и владельцы которых
давали указания в словесной форме.56 Мы можем с
уверенностью утверждать, что магделийские охотники говорили
уже в 12-м тысячелетии до н. э. Итак, если мы примем
наиболее подходящие для гипотезы Рэглана датировки верхней
и нижней границы, останутся шесть тысячелетий, в течение
которых люди умели говорить, но никогда не рассказывали
друг другу никаких историй.57
Я полагаю, Рэглан согласился бы с тем, что люди
сообщали о важных событиях друзьям, которые повторяли
эти повествования другим соплеменникам, и в процессе
передачи они изменялись и искажались. Рэглан пишет, что
подобное положение дел вполне могло иметь место:
«искаженное сообщение искажается все больше и больше при
каждом новом повторении»; «истории о жизни королевской
семьи, бытующие в наши дни, всегда неточны и почти
всегда далеки от истины».58 Вероятно, он допустил бы, что
сверхъестественные детали также включались в подобные
повествования. Но в таком случае нельзя ли назвать их
легендами, происхождение которых Рэглан возводит
исключительно к мифам? Нет, отвечает Рэглан: некоторые люди
называют их легендами, но на самом деле они
псевдоисторичны и исчезают в устной традиции спустя примерно
столетие, никогда не становясь частью мифа или ритуала.
Оказывается, миф и псевдоистория суть реальности
взаимоисключающие, никогда не проникающие друг в друга.
56См.: Hawkes J. History of Mankind I: Prehistory. New York, 1963.
P. 108-113; Clark G. World Prehistory: An Outline. Cambrige University
Press, 1961. P. 28-29, 33.
57Рэглан также выстраивает и обрядовую теорию языка (Raglan L.
The Origins... P. 44, 45-46). Ритуалисты в обоснование своей позиции
скорее всего воспользуются жестовой теорией происхождения языка;41
следовательно, они идентифицируют все жесты с обрядом точно так
же, как они иногда склонны идентифицировать всю речь с мифом. Но
ведь очевидно, что если все жесты являются ритуалами и вся речь —
мифом, термины «ритуал» и «миф» теряют смысловое различие, и
обрядовая теория, охватывая все, превращается в бессмыслицу. В
таком случае мы просто вынуждены изучать церемониальные акты в
отличие от других актов и традиционные повествования о богах и
героях β отличие от других форм речи.
58Raglan, Lord. The Него... I.
41
По Рэглану, миф и легенда никогда не затрагивают
реальных событий или исторических личностей: хотя шумеры и
египтяне в период с 6-го по 4-го тысячелетие до н. э.
сочиняли псевдоисторические рассказы, они не оказывали
никакого влияния на монументальный обрядовый текст, т.е.
миф, даже если в некоторых преданиях говорилось о царе.
И все же Рэглану следует быть осмотрительнее. Аттила,
Теодорих и Карл Великий безусловно были историческими
личностями, но становились также и героями
средневековых легенд. Рэглан утверждает, что они незаметно
вытеснили древних богов-героев.59 Однако, припоминая все
сказанное Рэгланом об Артуре, Робине Гуде, Агамемноне и
других легендарных персонажах, мы предельно ясно
осознаем, что без установленных фактов, подтверждающих
историчность Аттилы, Теодориха и Карла Великого, Рэглан
(как и Хьюман) самонадеянно объявил бы их древними
богами, а инакомыслящих окрестил бы эвгемеристами.
Следовательно, среди героев легенд только тех следует
считать реальными личностями, историчность которых может
быть доказана. Я тоже не уверен в историчности Артура
или Агамемнона, и я вовсе не настаиваю, что
источниками легенд являются реальные события и люди, однако я не
сомневаюсь в том, что рэглановский метод доказательства
их неисторичности в сущности бездоказателен и в высшей
степени ненадежен.
Томас Бекет
Неубедительность теории Рэглана становится
очевидной, когда он обращается к судьбам Томаса Бекета и Гая
Фокса. Убийство Бекета в кафедральном соборе
Кентербери 26 декабря 1170 г. является историческим событием,
описанным пятью свидетелями, которые подробно изложили
обстоятельства его смерти.60 Культ мученика Томаса
(канонизированного как св. Томас Кентерберийский 21
февраля 1173 г.) возник в Кентербери почти сразу и
процветал там вплоть до Реформации. После 1220 г. в соборе хра-
59Ibid. V.
60 Abbott Ε. A. St. Thomas of Canterbury: His Death and Miracles.
London, 1898. I, 11-15.
42
нились четыре святыни (картины мученичества, гробница
в склепе, венец и усыпальница).61 На протяжении трех с
половиной веков туда стекались тысячи паломников. Кен-
терберийское паломничество послужило Чосеру сюжетной
канвой для «Кентерберийских рассказов», и поэт позволяет
воочию увидеть, как
... со всех концов родной страны
Паломников бессчетных вереницы
Мощам заморским снова поклониться
Стремились истово; но многих влек
Фома Бекет, святой, что им помог
В беде иль исцелил недуг старинный,
Сам смерть приняв, как мученик безвинный.62
Почитание Томаса сразу превратилось в культ
исцеления; первыми сотворенными им чудесами, о которых стало
известно вскоре после его смерти (самое первое произошло
уже на следующий вечер после убийства), стали чудесные
исцеления. Подобно Асклепию, он являлся больным во снах
и предписывал им лекарства. По рассказам, тысячи людей
исцелялись, испив воды св. Томаса, обладавшей
удивительной силой; она текла из родника св. Томаса в склепе и
была слегка окрашена тем, что все считали его кровью. Не
уступая в могуществе Асклепию, Томас даже воскрешал
людей из мертвых, как свидетельствуют Вильям Кентер-
берийский и др.63 Он был также спасителем и
покровителем моряков, и здесь его культ сближается с культами
Аполлона и Гемифеи Кастабосской, которым люди тоже
доверялись и в целительстве, и в мореплавании.64
Подобно Посейдону, Томас мог сотрясать землю своим посохом и
61 Wall С. J. The Four Shrines of St. Thomas at Canterbury. London,
1932; Morris J. The Life and Martyrdom of Saint Thomas Beket. London;
New York, 1885. P. 473-476.
62 Чосер Д. Кентерберийские рассказы. Пролог. 12-19 (здесь в пер.
И.Кашкина).
63См.: Abbott Ε. Л. Op. cit. I, 250-251; И, 18, 44, 51, 55. О
свидетельствах культа Асклепия в Эпидавре см.: Edelstein Ε. J., Edelstein L.
Asclepius I: Testimonies. Baltimore, 1945.
64Гемифея (Полубогиня) — имя или титул эгейской богини моря,
обычно называемой Левкофеей (Белая Богиня); см.: Fontenrose J.
White Goddes and Syrian Goddes. University of California Publications
in Semitic Philology, XI. Berkeley; Los Angeles, 1951. P. 125-148; Diod.
5.62. — Мы можем рассматривать Аполлона в качестве божественного
патрона трех дочерей Стафила, которые были превращены в богинь
43
приносить весну. Подобно языческим божествам моря и це-
лительства, он обладал даром прорицания: считалось, что
он предвидел свою насильственную смерть, а после смерти
часто пророчествовал во снах. Культ св. Томаса Кентер-
берийского (или Акра) распространился по всей Англии,
Франции, Италии, Фландрии, и повсюду в его честь
возводились церкви. Мощи св. Томаса были выставлены на
обозрение повсеместно, а некоторые доступны и по сей день:
четыре гробницы в Кентербери хранят его кости, в
женском монастыре в Лиссабоне находятся его руки, а в
церквях Монса и Флоренции сберегаются частицы его рук.65
моря. Фактически более поздний миф (или его вариант) сохранился
в ряде кентерберийских историй о чудесах, а именно в тех, в которых
молодая девушка замещает образ Гемифеи. См., напр.: Abbott Ε. А.
Op. cit. Π, 237-256: Салерна из Ифилда украла сыр из кладовой
матери и, испугавшись наказания, бросилась в колодец. Дочери Стафила
уснули, охраняя отцовское вино (возможно потому, что отведали его),
а пока они спали, свинья разбила сосуд, пролив вино; в страхе
наказания они бросились в море; Св. Томас явился Салерне и защитил ее,
пока не подоспела помощь; Аполлон явился дочерям Стафила в море
и невредимыми перенес их на сушу. В чудесных сказаниях о людях,
которые были погребены под землей или оказывались под толщей
воды, мы можем обнаружить мужского спутника Гемифеи-Левкофеи,
сына или брата, почитавшегося как Палим он, или Тенес, или Аний,
и имеющего непосредственное отношение к Дионису, Аттису,
Адонису. Спуск под землю или в море в языческих мифах символизирует
смерть, которую сменяют воскресение и обожествление. Вильям из
Глостера, погребенный обвалившейся землей с десятого часа одного
дня до третьего часа другого (два дня по архаическому исчислению),
остался живым и невредимым благодаря св. Томасу, после того как
священник уже провел заупокойные обряды (Abbott Ε. A. Op. cit. II,
259-270); подобно Гераклу, получившему прозвище Палимон,
вышедшему из пещеры немейского льва, чтобы найти царя Молорха,
отдававшего заупокойные почести мертвому Гераклу (См.: Fontenrose J.
Python... P.357). Джон из Роксбро, сброшенный лошадью в Твид,
опустился в пучины потока и попал в образованную в камне
пустоту: in quoddam concavum lapideum quod vel natura construxerat vel
suo naufrago martyr excavaverat intrusus est* (Вильям из
Кентербери); пробыл внизу много часов, его посещали видения, и, наконец, он
был чудесным образом выброшен на землю; он также был обречен
на смерть (Abbott Ε. A. Op. cit., II, 259-270). Только в виде подобных
набросков мне удается в данном контексте обрисовать параллели;
корреляции деталей этих историй о чудесах и обозначенных языческих
мифов многочисленны и заслуживают тщательного исследования.
65Латинские тексты и переводы рассказов о чудесах, собранные
Бенедиктом и Вильямом из Кентербери, входят во второй том изда-
44
Хотя культ св. Томаса пошел на убыль после того, как
Генрих VIII разрушил святыни и уничтожил реликвии в
Кентербери в 1538 г.,* он не исчез вовсе, но
поддерживался в лоне Римской католической церкви: так, в
церкви св. Томаса в Кентербери хранится репродукция главной
гробницы. Англиканская церковь тоже не отказалась
полностью от его почитания: 37 англиканских церквей
сохранили свои посвящения св. Томасу Кентерберийскому
(например, в Лапфорде, Девон), и ныне церковный служитель
сопровождает посетителей к местам прежних святынь. В
нескольких английских городках и округах День св. Томаса,
7 июля, до сих пор отмечается как праздник, сопряженный
с особыми обычаями и фестивалями, в тот же самый день
или в следующее воскресенье либо понедельник.66 В скором
времени скопилось огромное количество мифов и легенд о
св. Томасе. В изобилии были представлены не только
истории о чудесах и исцелениях; удивительные и непостижимые
события проникли в биографию святого, даже в
современные vitae.* Чудеса сопровождали его рождение, все этапы
жизни и смерть; очевидно некоторые биографы подчинили
vita Томаса канонам церковного предания. История
убийства в XIII в. достигла Исландии и стала основной темой
«Саги о Томасе» — факт в высшей степени неприятный для
лорда Рэглана, который настаивал на том, что сюжеты всех
ния Эббота. Наиболее характерные примеры см.: Abbot Ε. A. Op. cit.
P.76-79, 80-102, 128-143, 146-160, 160-169. О чудесах в целом см.:
Abbot Ε. A. Op. cit. Vol. I. P. 223-333, Vol.11. P. 3-75; Morris J. Op.
cit. P. 454-465; Watt F. Canterbury Pilgrims and Their Ways. London,
1917. P. 24-34; Ward Snowden H. The Canterbury Pilgrimages. London,
1927. P. 85-92. О реликвиях, паломниках и культе см.: Morris J. Op.
cit. P. 466-477, 510-519; Watt F. Op. cit. P. 35-46, 160-174; Ward
Snowden H. Op. cit. P. 100-107.
660 современном культе см.: Watt F. Op. cit. P. 274-276; Ward
Snowden H. Op. cit. P. 103-107; Wright A. R., Lones Т.Е. British Calendar
Customs, England III: Fixed Festivals. London, 1940. P. 30-32. — Райт
описывает Бодмин-Ридиг, праздновавшийся в Бодмине в Корнуолле
в воскресенье и понедельник после 7 июля, сопровождавшийся
верховой процессией, приносящей цветы к монастырю, и употреблением
«ридинг-эля», который разносили по городу двое молодых людей в
сопровождении музыкантов. Обряд не проводился в XIX в., однако
был возрожден позднее, подобно другим обычаям в наши дни.
45
древнескандинавских саг восходят к «Саге о Вёльсунгах».67
Итак, на примере традиции Томаса Бекета мы ясно
видим, как историческая личность стала объектом
поклонения и героем мифов и легенд. Несомненно, что если бы
жизнь и деятельность Томаса Бекета не были
неопровержимы, Рэглан исключил бы его из исторической реальности,
отнеся к средневековым аналогам Асклепия или Аполлона.
Заостряя внимание на этом моменте, я вовсе не склонен
доказывать, что боги и герои изначально были
смертными людьми и мы должны искать источник мифов и легенд
в реальной истории. Я не отстаиваю позицию «эвгемериз-
ма», но лишь указываю на то, что исторические личности
порой становятся объектами культов, а исторические
события — эпизодами легенд. Если мы отмахнемся от преданий
о чудесах как от очевидных вымыслов, мы все же найдем
легендарные искажения повествования об убийстве.
Например, согласно Вильяму Фицстефену, когда четыре рыцаря
пытались вытащить Томаса из собора, он отчаянно
сопротивлялся, а его спутники тащили его обратно, поэтому
рыцарям пришлось убить его прямо на месте. Эдвард Грим
вспоминает, что Томас держался за колонну с такой силой,
что убийцы не могли сдвинуть его с места, и, если верить
анонимному сообщению, Эдвард Грим тянул Томаса назад,
не позволяя наемникам вытащить его из собора. Но в
«Саге о Томасе» рыцарям не удалось вытащить Томаса потому,
что Святой Дух сделал мраморный пол мягким как снег и
его ступни немедленно вросли в мрамор, а доказательством
этого чуда служат отпечатки ступней, которые до сих пор
показывают и разрешают целовать бесчисленным
паломникам. Первый удар рыцаря, как рассказывает Рэджинальд
Фитцурс, пришелся на руку Эдварда Грима, и она была
отрублена. Ни о каком восстановлении руки современники
не сообщают, однако согласно псевдо-Гриму она чудесным
образом выросла год спустя, когда мученик явился во сне
отчаявшемуся в исцелении страдальцу. В саге рука Грима
была чудесным образом «восстановлена еще до того, как
тело Архиепископа охладело на полу».68
67Raglan, Lord. The Него... V.
68Abbott Ε. A. Op. cit. P. 101-104, 107, 114-115, 128, 245, 288.
46
В этих свидетельствах мы наблюдаем тот самый
процесс, который отрицали и Рэглан, и Хьюман, а именно —
легендарное искажение реального события и введение в
историческое повествование сверхъестественных подробностей.
В действительности все материалы о Бекете отсылают нас
всего к двум базовым источникам. Во-первых, чудеса и
видения, не имеющие никакого основания в реальных
событиях, были смоделированы по образцу христианских
мифов и легенд: предания о Христе и жития святых оказали
самое непосредственное воздействие на историю о Томасе.
Опосредованно же на нее повлияли древние языческие
мифы об Асклепии, Левкофее-Гемифее и Дионисе, задолго до
того инкорпориванные христианскими легендами. Но тем
самым еще не опровергнуто предположение о том, что ряд
мифов имеет обрядовое происхождение, — этот главный
вопрос и стоит теперь перед нами. Во-вторых, большинство
легенд о жизни и смерти Бекета явно восходят к реальным
событиям, равно как и некоторые предания о чудесах
связаны с конкретными фактами. Кентерберийское
духовенство предприняло ряд попыток подтвердить ранние случаи
исцеления, однако перед ним встала проблема
достоверности, характерная для всех случаев исцеления верой. Мы
можем допустить, что исторические повествования
постепенно принимали форму преданий; но мы должны также
учитывать, что именно реальный факт или
последовательность событий сделали Томаса Бекета героем легенды и
окружили центральную тему его смерти более
легендарными, чем историческими обстоятельствами.
Трудно переоценить значение материала о Бекете для
изучения мифа и религии: он позволяет нам стать
свидетелями рождения и развития божества, его культа и мифа.
Но разве случай Томаса уникален? Едва ли ничего
подобного не происходило в древние времена. Как видим, хотя
культ и миф возникли одновременно, между обрядами
почитания Томаса и мифическим сюжетом нет никакого
соответствия. Мы можем закрыть глаза на противоречивость
гипотезы Рэглана, позволяющей ему считать, что в данном
конкретном случае миф повествует об историческом
событии: «Пока паломники совершали обряд, обходя собор и
47
распевая гимны или молитвы в местах, связанных с
жизнью и смертью Бекета, им рассказывали его историю. Этот
рассказ, поскольку он объясняет ритуал, вполне можно
назвать мифом».69 Однако воспроизводят ли паломничество,
гимны и молитвы совершение убийства в соборе?
Сложился ли миф вместе с обрядами или развился из них в
качестве речевого сопровождения, как возникают все мифы, по
мнению Рэглана? Очевидно, в данном случае миф
первичен: процессии, гимны, молебны, пожертвования и мессы в
Кентербери были общепринятыми формами католического
богослужения. Чего недостает Рэглану в Кентербери, так
это некоего драматического обряда или обрядовой драмы,
представляющей служение Бекета, его страдания, смерть
и прославление в качестве святого, ведь именно такая
драма, по мысли ритуалистов, дает очертания мифу. Но ничего
подобного не происходило.
Гай Фокс
Если традиция почитания Томаса Бекета позволяла
проследить рождение бога (т. е. благого божества), то в
предании о Гае Фоксе, напротив, запечатлено рождение демона
(т. е. не благого божества).70 Гай Фокс —реально существо-
69Raglan, Lord. Myth and Ritual... P. 76.
70Мы должны помимо всего прочего отметить, что убийство
Бекета и заговор Фокса практически идентичны в рамках тенденции
противостояния католической церкви английскому королю. Сегодня
достаточно очевидно, почему убитый в XII в. Бекет стал святым и
мучеником, тогда как казненный в XVII в. Фокс и его единомышленники
заслужили столь недобрую память. Хотя демонический Фокс
является порождением протестантства (отметим и враждебное отношение к
почитанию Бекета самих протестантов начиная с Генриха VIII),
католики никогда, насколько мне известно, не рассматривали Фокса или
какого-либо другого заговорщика в качестве потенциального
святого; в лучшем случае предпринимались попытки очистить его имя и
лишить особого ореола Пороховой заговор (см.: Williamson Ross H.
Gunpowder Plot. London, 1951). Один из казненных, о. Гарнет, вина
которого весьма спорна, судя по всему, оказался в аналогичном Бе-
кету положении, так как за его казнью немедленно последовало чудо:
его стекшая с эшафота на солому кровь вскоре явила черты лица; в
скором времени оно стало лицом Гарнета «под мученическим венцом
и со знаком креста на его лбу», копии с которого были впоследствии
48
вавший человек, приговоренный к повешению за соучастие
в заговоре с целью взрыва парламента в 1605 г. вместе с
другими заговорщиками. С 1607 г., когда в Бристоле
впервые был отпразднован провал Порохового заговора, 5
ноября в Англии стали отмечать как День Гая Фокса, накануне
которого изготавливают изображения казненных, а
вечером этого дня сжигают их в огромных кострах (см. начало
«Возвращения на Родину» Харди). Чучела и костры были
неизменными атрибутами праздника, а в остальном
каждый английский город устанавливал свои традиции.
Наиболее широкое распространение получили фейерверки,
колокольные звоны, приготовление в качестве угощения
пирогов и пряников из овсяной муки, стрельба, песни и
проказы, которые повсюду (и в Англии тоже)
ассоциируются с праздником Хеллоуин: ряжение в гротескные наряды
и маски, воровство ворот и заборов, нередко сжигаемых в
тех же кострах, битье окон и вымогательство.71 Очевидно,
этот патриотический праздник принял форму древних
религиозных обрядов, исполнявшихся примерно в то же
время года. Рэглан пишет, что «5 ноября было датой древнего
праздника огня», и считает сожжение человеческой жертвы
его важной особенностью. При этом Рэглан почему-то
обходит стороной более простое объяснение, а именно что люди,
знакомые с таким видом казни, как сожжение, могли
додуматься сжигать изображения преступников. Против такого
истолкования Рэглан мог бы возразить — и он
действительно обращает на это внимание — что Фокс был не сожжен,
а повешен. До сих пор повешение чучел также остается
хорошо известной особенностью праздников, приуроченных к
сбору урожая и др.72 Сожжение же предназначено просто
для уничтожения изображений в конце праздника.
После упоминания о подлинном способе казни Фокса
Рэглан неожиданно утверждает, опровергая свой основной
проданы на континент (см.: Williamson Ross H. Op. cit. P. 242-243).
Гораздо менее изучен вопрос, почему Фокс стал еще большим «
архизлодеем», чем Катесби, Винтер и др.
71См.:Wright A.R., Lones Т.Е. Op. cit. P. 145-156.
72 Об обрядах повешения или сожжения изображений см.:
Frazer J. G. The Dying God... P. 220-233; Frazer J. G. Adonis Attis
Osiris. Golden Bough. Vol. IV. London, 1914. I. P. 288-297.
49
тезис, что «его история была воспринята в качестве мифа
данного обряда».73 Теперь он склонен считать истинное и
неизменное историческое повествование «мифом»,
производным от ритуалов 5 ноября. Он принимает ту точку
зрения, что миф содержит скорее достоверный рассказ, чем
искаженное представление о действительности. Тем не менее
традиция, согласно которой Фокс был сожжен, стала
поистине народным «мифом» об обрядах 5 ноября. Здесь мы
вновь сталкиваемся с неоспоримо реальной личностью,
превратившейся в мифический персонаж и объект апотропиче-
ских обрядов, которые имеют очень мало общего с
историей Фокса, истинной или искаженной. Вновь произошло то,
что, по утверждению Рэглана и Хьюмана, ни в коем случае
произойти не может. Они вынуждены признать реальность
Гая Фокса, но мы отдаем себе отчет, что в отсутствие
записей о Пороховом заговоре, они указывали бы на древние
праздники огня, приуроченные ко времени сбора урожая,
на сожжение и повешение изображений, и решительно
отрицали бы, что Фокс был кем-либо иным, а не просто
древним божеством (надо полагать, духом урожая в обличье
лисы), а Пороховой заговор — чем-либо иным, а не древним
мифом, производным от обряда жертвоприношения
божественного царя.74 Для них было бы совершенно очевидным
следующее: Фокс был слугой Антихриста в общепринятом
понимании (Старого года, Зимы, Засухи, Смерти, Зла и,
наконец, поверженного царя), посланным убить царя
(наместника Христа) и его приближенных (в древности это
случалось также и в правление нового царя), но царя
вовремя спасли его верные слуги, задержавшие и убившие
врага на благо всего царства. В подтверждение они указали
бы на характер процессии в День Гая Фокса: повозка везла
73 Raglan, Lord. Myth and Ritual... P. 76.
74 В критическом разборе фрэзеровской теории Альфред Лаэл,
указывая на ритуалы, посвященные Гаю Фоксу, и сходные с ними
обряды Хасана и Хусейна мусульман-шиитов, пишет: «Эти и многие
другие подобные им церемонии избегают присоединения к
мифологической стране грез благодаря бытованию в регионе, имеющем
общепринятую историю. Пока все они пребывают по эту сторону
границы, они, как представляется, могут быть ясным объектом успешного
анализа... » — Lyall А. С. Asiatic Studies Religious and Social. London,
1907. P. 209.
50
изображение возведенного на престол Папы, а позади него
стоял облаченный в наряд сатаны человек, член папского
тайного совета, который с почтением обращался к
изображению и давал ему советы, иногда шепотом, а иногда и
громко.75 Да, все это совершенно очевидно, но абсолютно
неверно.
Эвгемеризм Рэглана
Нам не составило бы труда привести гораздо больше
примеров того, как реальные люди становились
субъектами мифов и объектами культов или апотропических
ритуалов. Однако такой успех, конечно же, не должен подвигнуть
нас на поиски реальной личности, послужившей
прототипом Зевса или Одина, или исторического события,
ставшего сюжетной канвой для похода Тора в Йотунхейм. Иными
словами, мы не можем согласиться ни с «эвгемеризмом»,
ни с «рэгланизмом» как удовлетворительными теориями
происхождения представлений о божественности или
мифов. Я сказал «эвгемеризм или рэгланизм», и сам Рэглан
одобрил бы подобное разграничение, коль скоро он
настаивает на том, что его обрядовая теория представляет собой
крайнюю противоположность эвгемеризму. Но так ли это?
Обращение к материалам о Бекете и Фоксе оправдывает
необходимость дискуссии об эвгемеризме, поскольку
данная тема породила множество недоразумений.
Рэглан и Хьюман уделили эвгемеризму достаточно
много внимания и даже придали наименованию «эвгемерист»
оттенок упрека, тем не менее их собственная позиция
относительно значения этого термина не совсем понятна, и
они не отдают себе отчета в том, что эвгемеризм вполне
совместим с обрядовой теорией происхождения божеств и
мифов. Рэглан ссылается на «Словарь античности»
Смита и «Энциклопедию» Гастингса,* где эвгемеризм
определяется как теория, согласно которой боги изначально
были царями и великими людьми, заслужившими посмертные
почести.76 Рэглан выделяет слово «посмертные», полагая,
75Hazlitt W. Carew. Faiths and Folklore. London, 1905. P. 232.
76Raglan, Lord. The Hero... XVIII; Raglan, Lord. The Origins... P. 80.
51
что сущность эвгемеризма состоит в почитании умерших
царей и покровителей. Он впадает в распространенное
заблуждение относительно сути эвгемеризма, ибо сам Эвге-
мер считал первых богов не умершими, а живущими
царями. Рэглан и Хьюман не обращались к «Священной
истории» Эвгемера, чтобы ознакомиться с ее содержанием.
Подлинный трактат был утерян, но в «Истории» Диодора
приводится его краткое изложение: в нем описывалось
воображаемое путешествие через Индийский океан в
утопическую страну Панхайу, где Эвгемер прочел некую надпись
и ему открылась великая тайна, что Кронос и Зевс некогда
были земными царями и, еще будучи царем, «Зевс
прославился среди всех народов и был наречен богом (θεός)».
Эвгемер утверждает также, что «богами на земле стали те,
чьи благодеяния стяжали им вечные честь и славу».
Иначе говоря, Зевс и другие люди стали богами при жизни на
земле. Оказывается, эта концепция есть не что иное, как
упрощенная форма теории Рэглана. Ибо Рэглан, подобно
Эвгемеру, заявлял, что первые боги были живущими
царями: «Если моя точка зрения верна, то самые первые боги
были не невидимыми сущностями, но людьми»;77 «из
представлений о божественных царях по прошествии
длительного периода времени возникла идея бога как такового».78
Эвгемера отличает от Рэглана лишь вера в то, что царь
по имени Зевс стал одноименным богом; Рэглан, отчасти
менее наивно, полагал, что бог является обожествленным
царствованием (царством как таковым) и имя бога вовсе не
должно быть именем какого-либо правящего царя. Рэглан
обнаруживает свой собственный эвгемеризм, когда
утверждает, что «невидимые боги суть души умерших, однако
не отдельных людей, как считают эвгемеристы, но царских
династий».79 Он предельно небрежен в выражениях, возра-
77Raglan, Lord. The Origins... P. 73.
78Ibid. P. 70.
79Ibid. P. 90, 73. — Согласно Рэглану, нам следует допустить, что
первые боги были людьми, а не невидимыми сущностями, «ведь если
бы боги изначально предполагались духовными и невидимыми,
трудно вообразить, каким образом люди могли прийти к вере в то, что
человек есть бог; ибо уже сам факт, что он видим, мог сделать
очевидным и то, что он не есть бог». Рэглан в данном случае упускает
52
жая оппонентам, которым боги представляются
обожествленными умершими людьми, но он проводит различие
между древним и современным типами эвгемеризма. Сущность
эвгемеризма исчерпывается положением о происхождении
богов из людей, давно мертвых, и такова же позиция Рэгла-
на: «Царю воздавалось почтение при жизни, его не
переставали почитать и после смерти, но не потому, что он умер, а
потому, что люди верили, что он каким-то образом
продолжает жить».80 Все без ислючения эвгемеристы согласятся с
Рэгланом, даже те, кто склонен отождествлять первых
богов с умершими царями, тогда как Рэглан считал первыми
богами умирающих царей.
Самым отъявленным эвгемеристом в глазах Рэглана
был Вильям Риджуэй, обнаруживший истоки драмы в
почитании мертвых, т.е. в культах героев и первопредков.81
Риджуэй также полагал, что некоторые боги и герои
были реальными личностями. Рэглану и Хьюману не удалось
осознать тот факт, что теория Риджуэя объясняет
происхождение ритуала в той же степени, что и их собственные.
Риджуэй утверждает, что «торжественные песни и танцы бы-
из виду веру в то, что богам по силам принимать телесную форму
или исчезать (т. е. принимать форму, стремящуюся к нулю), когда
они только пожелают; однако, пренебрегая этим опущением, отметим,
что он посвящает всю следующую главу тому, что боги, духи и
призраки всегда считались материальными и видимыми. Тогда почему
первые боги не могли быть более совершенными формами видимых
призраков? Я не говорю, что они таковыми являлись; я только делаю
вывод, что альтернативы, выдвинутые Рэгланом, не
взаимоисключающи. Боги и духи видимы, если предполагается их присутствие, но
поскольку чаще всего они присутствуют где-то в другом месте, они
невидимы.
80Ibid. Р. 80.
81 Raglan, Lord. The Него... Ill, VIII, XVIII. Хьюман {Нутап S. Ε.
The Tangled Bank: Darwin, Marx, Frazer and Freud as Imaginative
Writers. New York, 1962. P. 242) усвоил мнение Рэглана относительно
позиции Риджуэя. См.: Ridgeway W. The Origin of Tragedy with Special
Reference to the Greek Tragedians. Cambridge, 1910. I—II; Ridgeway W.
The Dramas and Dramatic Dances of Non-European Races in Special
Reference to the Origin of Greek Tragedy. Cambrige, 1915. I. — Я не вижу
существенных различий между взглядами Риджуэя и Кука, который
также возводил мифы к обрядам, совершавшимся над мертвыми
царями, хотя Рэглан и Хьюман и соглашались с концепцией Кука,
принадлежавшего к традиции Джейн Харрисон.
53
ли частью поминовений, которые совершались на могилах
героев, защитников народа, чтобы земля при их
благожелательном посредничестве могла приносить плоды».82 Далее
он пишет, что как в Греции, так и повсеместно подобные
ритуалы превратились в драматические представления: «Я
охотно допускаю, что ряд античных ритуалов
присутствует в греческих трагедиях, ибо и раньше настаивал на том,
что их содержание происходит из похоронных обрядов и
периодических празднований в честь всего благого и
достойного или с целью успокоения злых сил».83 Безусловно,
Риджуэй рассуждает о происхождении драмы, но ведь для
Рэглана и Хьюмана источник мифа во многом совпадает с
источником драмы. Хьюман, например, постоянно
смешивает трагические и мифические источники. Скорее всего
Риджуэй не стал бы возражать против интерпретации
мифа как обрядового текста; пожалуй, ему не понравились
бы только теория происхождения божеств из проекций
обрядов и эмоций почитателей, истолкование их как
вегетативных духов и времен года, а также возведение всей
обрядовой драмы к жертвоприношениям царей и поединкам
за престол. Риджуэй наивно принимал правдоподобные
части легенд за истинную историю, полагая, что каждый бог
или дух непременно был ранее человеком, носившим
такое же имя. Поистине его теория есть обрядовая теория
происхождения мифа, ибо нет никаких разногласий между
эвгемеризмом, независимо от его определений, и обрядовой
теорией; они вовсе не полностью противоположные
концепции, как кажется Рэглану и Хьюману.84 В действительно-
82Ridgeway W. The Origin of Tragedy... P. 108.
83Ridgeway W. The Dramas and Dramatic Dances... P. 62.
84Хьюман (Hyman S. E. Review of Fontenrose, Python // Carleton
Miscellany. I. 4. 124-127. P. 127) настаивает на том, что эвгемерист-
ская теория ввергает мифы в «тривиальную ложь», тогда как мифы
воплощают «глубочайшие и наиболее основательные истины»
общества, выражают «глубокую общественную и психологическую
истину». Опровергая это мнение, можно сказать, что если мифы берут
свое начало в реальных событиях (я не утверждаю, что так и есть),
они будут содержать некоторую истину, и суть заключается в том,
что неистинные части не были преднамеренной выдумкой, но
результатом постепенно накапливающихся ошибок. Что касается глубинных
истин в мифах, Хьюман и ритуалисты никогда не утверждали, что
54
сти аргументы Рэглана подтверждают заявление Риджуэя,
согласно которому в легендах содержатся довольно точные
предания о деяниях предков. Ведь Рэглан настаивает на
том, что никакие сведения не сохраняются в устной
традиции (в лучшем случае) дольше 150 лет вне обрядовых
рамок: ритуалы, совершаемые периодически, обеспечивают
неизменность прикрепленных к ним устных текстов.85
Если подвиги воина прославлялись в контексте посвященных
ему обрядов поминовения, он становился героем или богом
со своим культом, осуществлявшимся с определенной
периодичностью (например, ритуалы повторялись каждый год)
и обряды воспроизводили его победы, на что указывает и
сам Рэглан, то память о реальных исторических деяниях
могла сохраниться в устной традиции. Я не согласен с Ри-
джуэем в том, что легенды довольно часто содержат
исторические факты, а с Рэгланом — что только
непосредственно связанные с ритуалом повествования не утрачиваются
при устной передаче. Известно множество сказок,
дошедших до нас через огромные расстояния и периоды времени
без какого-либо обрядового сопровождения и претерпевших
лишь поверхностные изменения. Для Рэглана сказки
являются мифами, потерявшими связь с обрядом; но едва ли он
станет отрицать, что и после их обособления они остаются
практически неизменными в народных преданиях. В любом
случае теории Рэглана и Риджуэя прекрасно совпадают во
многих отношениях.
Итак, Хьюман с большим основанием мог бы включить
Риджуэя в «святцы» ритуалистов, а не в черный список
эвгемеристов.86 Он запросто отнес бы и Рэглана к числу
мошенников, возводящих богов к реальным царям, что со-
они там вообще содержатся. Положения мифа, как правило,
неистинны в отношении реальности (в миф может быть случайно включено
правильное астрономическое или географическое положение). Бели
они и истинны в каком-либо смысле, то только в пиквикском.
Истина и ложь никак не сказываются на их ценности для нас: это просто
хорошие истории.
85 Raglan, Lord. The Него... I, XI, XIII.
86Хьюману следовало включить в «святцы» также Роберта Грейвса,
применяющего в качестве метода своих «Греческих мифов»* ритуа-
листскую интерпретацию, центральной интенцией которой является
матриархат; но она содержит и немало «эвгемеризма».
55
ответствует эвгемеризму Эвгемера. Рэглан также повинен
в эвгемеризме в том теряющем смысл расширенном
значении, который он вместе с Хьюманом придал этому
термину, когда определял его как рационалистическую
интерпретацию мифа, искажающую исторические факты. Это
скорее полифатизм, чем эвгемеризм: не менее абсурдное Περί
"Αριστον* («О невероятных историях») Палефата
представляет собой первый дошедший до нас образчик античных
попыток выявить реальную историю в мифах путем перевода
мифологических событий в события, которые могли
произойти. Рэглан также, хотя и не столь наивно, как Палефат,
выводит историю из мифов и традиций. Как мы успели
убедиться, именно среди подобных свидетельств он
обнаруживает повторяющееся доисторическое (или раннеисториче-
ское) событие — ежегодное умерщвление царя и возведение
на трон его преемника. И это после того, как он посвятил
несколько глав своего « Героя» тому, чтобы доказать
бесполезность поисков исторической правды в легенде. Рэглан
может возразить, что история есть нечто, свершающееся
единожды и бесповоротно, а повторяющиеся события к
истории не относятся, т. е. коронации и президентские
выборы не историчны, равно как и периодические казни,
убийства и свержения царей с престола.87 Подобное различение
может сбить с толку лишь на мгновение: достоверны ли
мифы и легенды во всех отношениях, хранят ли они память о
единичных или повторяющихся событиях (если они вообще
что-нибудь хранят), убийство Бекета было неповторимым
событием.
Доисторическая драма
Рэглановская теория требует наличия высокоразвитой
драмы на древнем Ближнем Востоке, откуда она
впоследствии проникла в другие регионы, поэтому он посвящает
87См.: Raglan, Lord. The Hero... XIII. —Рэглан утверждает, что
«события, которые случаются лишь однажды, ничто для участника
обряда». Но Пороховой заговор, битва при Косово, провозглашение
Америкой независимости в 1776 г. и Грецией в 1821 г. —примеры
единичных событий, которые имели значение для участников обряда. В
древние времена единичные события, такие как победы и основания
городов, способствовали возникновению юбилейных праздников.
56
несколько глав88 выяснению драматических особенностей
мифов: точности речи, пророчеств, неизменности героев,
единства времени и места и т. д. Едва ли он прав
относительно всех традиционных преданий, поскольку образы
Пелея, Пелия, Тифона и Эдипа весьма древнего
происхождения, и греческие легендарные циклы не завершаются
внезапно, как утверждает Рэглан. В любом случае данные
особенности суть повествовательные условности, принятые
во всем мире; Рэглан непрестанно демонстрирует их
первоначально драматический характер и происхождение всех
форм повествования из драмы — подобно тому, как один
человек рассказывает другому сюжет пьесы, которую он
видел; тем более, что подобное следствие выводится
другим путем: роман довольно часто драматизирован, тогда
как пьеса редко принимает форму повести, разве только в
разговоре и непреднамеренно. Однако нет никаких
свидетельств того, что уже в глубокой древности на Ближнем
Востоке существовала хорошо развитая драма: программы
праздников и обрядовые тексты сохранились, но в них нет
ничего действительно драматического, а египетская
коронация не является драмой в подлинном смысле слова. Мы
вправе говорить о драматизированных ритуалах, но едва
ли о ритуализованных драмах в древней Месопотамии,
Ханаане или Египте: в этом заключается различие между
массовым представлением и мистерией. Мы готовы
согласиться с Рэгланом в том, что афинская трагедия не возникла
совершенно внезапно в 534 г. до н. э.,89 однако никто и не
утверждает, что все было именно так. Напротив, у нас есть
достаточные основания считать, что в ряде греческих
областей проводились ранние драматические представления,
правда, не слишком ранние: разве было что-нибудь
похожее на истинную драму до 700 г. до н. э.? Исходя из теории
Рэглана, мы должны предположить, что театр
распространился по всему Ближнему Востоку по меньшей мере за две
тысячи лет до 600 г. до н. э. Получила ли драма
развитие в Месопотамии или Египте? Об этом также ничего не
известно.
88Raglan, Lord. The Него... XX-XXVII.
89Ibid. XXVII.
57
Допустим, что в Вавилоне и Египте был создан ряд
искусных пьес, исчезнувших без следа, но тогда почему
греческая драма в VI в. оставалась столь примитивной и
неразвитой? Напомним, что Рэглан не допускает никаких
независимых очагов возникновения: все обрядовые драмы и мифы
распространились из одного центра. Мы наблюдаем
развитие подлинной драмы в Греции, Индии, Китае, Японии и в
позднее средневековье в Европе, но нигде больше.
Конечно, их спонтанное и независимое появление в каждом
регионе было невозможно, ведь взаимопроникновение и
культурные влияния всегда имели место. Но оказывается, они
возникли повсюду сравнительно поздно, а Рэглану
необходим расцвет драмы на Ближнем Востоке в незапамятные
времена.
Далее, возможно ли, что в древности некий
тщательно разработанный мифо-ритуальный комплекс
передавался в неизменном виде из одного ареала в другой, как того
требует теория Рэглана? В очерке, который был
неожиданно включен в третье собрание трудов Хука, посвященных
ближневосточной мифо-ритуальной модели (и нанес
завершающий удар по теории, последовательно выстроенной во
всех трех собраниях), С. Д. Ф. Брэндон показывает, что
проникновение подобного комплекса в иные культурные
традиции совершенно невероятно:90 если такое простое
приспособление, как символ крылатого солнечного диска,
утратил свое значение в процессе миграции от Египта до
Ассирии, как мы можем предполагать, что обряд
жертвоприношения царя мог сохранить не только полную программу
проведения, но и первоначальное значение? Да и с кем он
передавался? Даже Хук и его школа не осмелились
предположить, что это была своего рода прозелетическая
религия, насаждавшаяся подобно христианству или исламу
проповедниками; они приписывают территориальное
перемещение данного обычая торговле, войне и колонизации.
Но, спрашивает Брэндон, похожи ли торговцы, солдаты и
колонисты на людей, заинтересованных в распространении
частного культа? Наконец, он показывает, что Хук
разрабатывает свою мифо-ритуальную модель по преимуществу
90Нооке S.H. Myth, Ritual, and Kingship. Oxford, 1958. P. 261-291.
58
на материале обрядовой программы праздника Акиту,
который вовсе не был типическим. Я также показал в
«Пифоне», что вавилонский космогонический миф, по крайней
мере как он излагается в «Энума Элиш»,
декламировавшийся на празднике Акиту, не включался в обрядовый
сценарий.
Хокарт построил модель обряда коронации из 26
элементов, которую он считал допустимым применять и к
другим торжественным случаям, так что практически все типы
обрядов (например, свадьба или инициация) производны
от него.91 Он добавляет, что «нам не известно о
существовании обряда с полным набором элементов».92 В
древнеиндийском обряде коронации выявлены 18 элементов или
актов, в фиджийской церемонии выборов вождя — 17; в
целом, из 25 древних мировых ритуалов,
проанализированных автором, остальные содержат даже менее 16-17
компонентов. Фактически индийский обряд коронации,
содержащий не менее 18 действий, важнее для Хокарта, чем обряд
Акиту для Хука. 11 обрядов (44%) состоят из 13 и более
действий (и составляют половину от полного ритуала); 18
обрядов (72%) —из 9 и более (около одной трети); а 7
обрядов (28%) выявляют менее одной трети схемы Хокарта
(малайский свадебный обряд вообще включает всего два
компонента). Компонент А, который на самом деле
является не действием, а поверьем (царь умирает и
возрождается в качестве бога) возникает в 22 обрядах, F — в 20
(«царя увещевают править справедливо, и он дает обещание»);
Е —в 19 («царь должен сразиться в ритуальном поединке
с помощью оружия или церемоний и выйти победителем»).
Только эти три компонента (менее 1/8) выявляются более
чем в 3/4 обрядов; 6 (менее 1/4) — в 17 или более (больше
2/3); 9 (чуть больше 1/3) — в 13 или более (больше 1/2); 15
(менее 3/4) —в 9 или более (больше 1/3). 10 компонентов
(почти 2/5) очевидны в менее чем 9 обрядах (менее 1/3), и
четыре из этих десяти — в менее чем 6 обрядах. Компонент
S (царь делает три шага, имитируя восходящее солнце)
возникает только в двух обрядах, a W (подданные и чиновники
91См.: Hocart A.M. Kingship. London, 1927.
92Ibid. P. 70.
59
посвящаются вместе с царем или во время церемонии или
несколько позже) — всего в одном. Едва ли так должна
выглядеть хорошо продуманная обрядовая схема, даже если
мы согласимся с обоснованностью анализа Хокарта в
каждом случае, когда он обнаруживает отдельный компонент
общей модели в частном обряде (ведь зачастую
корреспонденты темнят или что-то привносят от себя).93 И если
анализ общей обрядовой парадигмы оказывается неудачным,
таким же следует считать результат выведения из нее
мифов.94
Заключение к критике теории Рэглана
Итак, научные основания теории Рэглана доказали свою
несостоятельность. В. Бэском развенчал другие доводы,
ссылаясь на разрушительные для этой теории факты
этнографии и материалы фольклора. Он превосходно
разоблачил неубедительность, абсурдность и бессмысленность
аргументов Рэглана в пользу следующих положений: мифы
93Теоретики обряда могут возразить, что концепция Хокарта
обрядовой схемы настолько же обоснована и справедлива, насколько и
концепция любой реконструируемой учеными мифической схемы,
например, схемы мифа о сражении, которую я построил в «Пифоне»
(см.: Fontenrose J. Python... P.579-583, 267-273, 359-364). Если мы
применим такой же статистический анализ схемы, содержащей 43
темы, сведенные в таблицы, при изучении 20 мифов Старого Света, мы
получим следующие результаты. Наличие не менее 40 тем очевидно
в схематизированном мифе о Пифоне (с большой долей вероятности
можно предположить даже наличие всех 43). Семь мифов (35%)
развивают 33-40 тем (более 3/4), 11 (55%) выражают 29-40 тем
(около 2/3); 15 мифов (75%) —22-40 тем (более 1/2); наименьшее число
тем, представленных в реконструированном мною мифе, составляет
17 (около 40%). Три из 43 тем появляются во всех 20 мифах; 20 тем
(приблизительно половина)—в 15-20 мифах (по крайней мере 3/4);
22 темы (минимальное большинство) — в 14-20 (свыше 2/3); 30 тем
(около 70%) — в 10-20 (по меньшей мере 1/2); 41 тема (95%) — в 7-210
(свыше 1/3); оставшиеся две темы возникают в 6 мифах (чуть менее
1/3). Если применить этот анализ, согласуясь с 36 сюжетными
компонентами, намеченными в «Пифоне» (с. 262-262 и табл. на с. 270, 271,
361), результаты будут приблизительно теми же. Я сказал бы, что
эта схема мифа о сражении гораздо более продумана и развита, чем
обрядовая схема Хокарта.
94Hocart Л. М. The Life-Giving Myth and Other Essays. London, 1952.
Ch. 1.
60
должны иметь обрядовое происхождение, поскольку они
не имеют исторического или творческого источника; если
часть легенды с очевидностью не исторична (а это именно
так, если мы называем историю легендой), то ни одна из
ее частей не может иметь историческое происхождение; ни
один народный сказитель никогда ничего не сочинял; если
волшебные сказки, бытующие в одном регионе, не
зародились в народе, а заимствованы из другого ареала, они нигде
не имеют народного происхождения; сказания повествуют
о предметах, о которых народ не имеет никакого
представления (например, царское домашнее хозяйство).95 Рэглан
заставил нас воздерживаться от « вчитывания» истории в
легенды — это его единственное обоснованное требование.
95 В научных трудах Рэглана довольно часто подает голос Лорд
Тори. Согласно Рэглану, только считанные единицы человеческих
существ изобретательны и находчивы и вообще мыслят: это члены
королевской семьи, знать или высшее духовенство; все другие не
способны даже повторить что-либо правильно, но обязательно искажают его
(хотя они, как представляется, должны передавать сказание всегда в
одинаковых формах, избегая каких-либо вариаций). Я знал бедного
рудокопа, который сочинил балладу с припевом и простейшей
мелодией. Д. X. Лоуренс был явно находчив и изобретателен, выдумав, что
он был сыном рудокопа. Рэглановское предубеждение проявляется и
в его замечаниях к истории о короле Альфреде и пирогах. История не
может быть истинной, твердит он, потому что, «даже если старушка
отважилась бы прошептать ее своим близким, они ей не поверели бы,
и король никогда не узнал бы об истории, в которой его выставили
на посмешище и усомнились в его престиже, а значит, и успехе». Но,
конечно, старушка рассказала бы ее друзьям, и те с готовностью
поверили бы ей и распространили историю, и добрый король Альфред
непременно сам рассказал бы эту историю, от души посмеявшись над
собой, коль скоро он воспринимал царствие не так серьезно, как лорд
Рэглан. Возможно, история не истинна, но не по тем причинам,
которые выдвигает Рэглан. Более того, заявление, что никто, подвластный
верованиям о сверхъестественном, не может «дать волю своему
воображению» в отношении божеств только потому, что «свобода
воображения человека должна сдерживаться природой его верований», не
обосновано применительно не только к Древней Греции, но и ко
всякой другой культуре. Рэглан рассуждает о христианском вероучении
и о «тридцати девяти статьях»; но мифы не вероучения, и
рассказчики мифов вносили в них изменения по собственному желанию. То
же самое относится к его утверждению, что ни один атеист не мог
бы рассказать миф, полностью вымышленный. Атеист может
отказывать богам в существовании (аргумент Рэглана), но ему знакомо само
понятие бога, и он вполне может с наслаждением слушать и даже сам
рассказывать мифы.
61
II. Хьюман. Прекрасная Фемида
Теперь нам следует перейти к рассмотрению теории
происхождения мифа Хьюмана. Хотя Хьюман и
соглашается с тем, что «Герой» Рэглана — книга величайшей
важности в данной области, и называет Рэглана
единомышленником, он не приемлет универсальности убиения
божественного царя, не возводит все мифы к единственному
обряду и не настолько полагается на возможность
культурной диффузии. Его теория состоит в простом
предположении, что мифы возникли исключительно из ритуалов и
никак иначе: каждый обряд сопровождается какой-то
речью или песней, которые и есть миф и становятся
традиционными преданиями. Он обязан этой теорией главным
образом Дж. Харрисон, чья «Фемида» вдохновила его как
никакая другая книга. «Порой мне кажется, что это
самая революционная книга XX века», — писал он в своей
рецензии на издание «Фемиды» в 1962 г.96 Его восхищение
96Нутап S. Leaping for Goodly Themis// New Leader. XLV. 22.
(29 Oct. 1962). P. 24-25. —Он также пишет: «Эта теория, конечно, не
была открыта мисс Харрисон, греки были прекрасно осведомлены на
этот счет». Ни в одном памятнике древнегреческой литературы я не
обнаружил слово «миф», значение которого было бы ограничено
обрядовыми текстами, более того, я не нашел ни одного места, где оно
употреблялось бы в указанном смысле. Аристотель использует слово
«миф» для обозначения сюжета трагедии («Поэтика», 1450а, passim),
явно имея в виду драматизированную легенду. Слово же,
обозначавшее обрядовую речь, — это legomena, как на то указывает Павсаний
(2.37.2). Хьюман исходил из предложения Харрисон: «Изначальное
значение мифа в религии примерно равноценно его роли в древней
литературе: проговариваемый коррелят совершаемого обряда»
(Harrison J. Themis: A Study of the Social Origins of Greek Religion. Ed. 2d.
62
Джейн Харрисон распространяется на все ее окружение —
Мюррея, Корнфорда и Кука. Представители
«кембриджской школы», в свою очередь, были многим обязаны
Фрэзеру, также кембриджскому исследователю, поэтому
«Золотая ветвь» занимает второе место по воздействию на
обрядовую теорию Хьюмана. Хьюман сильно преувеличивает
влияние, оказанное кембриджской группой исследователей
на антропологов и антиковедов, настаивая на том, что
обрядовая теория мифа вытеснила все другие теории.97 Данное
утверждение весьма далеко от истины, ибо почти ни один
современный мифолог не исповедует эту доктрину, и она
сама изрядно устарела после распространения
структуралистской теории Леви-Строса.98
Теория Харрисон
Миф для Харрисон есть «то, что говорится при том, что
делается», — legomena, сопровождающее dromena, обряды.
Миф и ритуал развивались в неразрывной связи, как две
части единого целого. По словам Хьюмана, миф — это
«устная корреляция, которая естественным образом совершен-
Cambrige, 1927. Р. 328). Это в лучшем случае вводит в заблуждение.
« Древняя литература» — это гомеровский эпос, где έργον как
антитезис μυΌος ни в коем случае не обозначал обрядовое действие. См.:
Fontenrose J. Some Observations on Hyman's Review of Python Carleton
Miscellany II, 3. P. 122-125.
97Хьюман позволяет себе следующее замечание: «Исследования
мисс Харрисон в области античности в подавляющем большинстве
случаев обращали в ее сторонников других ученых, что она с
радостью отмечала в предисловии в 1927 г.». Это не только далеко от
истины, поскольку немногие антиковеды «обратились» в таковых, но в
целом предисловие неверно понято: она была рада тому, что В. Г. Р. Ри-
верз согласился с нею относительно ряда частных вопросов. Риверз
не был антиковедом, и Харрисон ни словом не обмолвилась о том,
что повлияла на него именно в этом аспекте. Она также упоминает
принятие У. Лифом ее концепции «Eniautos-Daimon'a как
интегрирующего фактора пре- и постгомеровской религии». Лиф не работал «в
области античности» и En i au tos-Dai mon — всего лишь одна из гипотез
Харрисон.
98См.: Lévi-Strauss С. The Structural Study of Myth Myth: A
Symposium... P. 50-66; Levi-Strauss C. Mythologiques: Le cru et le cuit.
Paris, 1964.*
63
ствовалась при исполнении обряда, подобно лепету
играющего ребенка».99 Согласно Харрисон, обряды имеют
магическое происхождение и первоначалально совершались
публично. Участники оглашали свои желания; действуя и
говоря согласованно, они достигали высшей степени
эмоционального напряжения и воодушевления. Коллективные
эмоции проецируются вовне и воплощаются в некоей
личности, daimon'e или боге.100 Как признает сама
Харрисон во «Введении»,101 понятие коллективных
представлений она заимствовала у Дюркгейма и главные
составляющие ее теории были почерпнуты из трудов Дюркгейма,
Бергсона и Фрэзера.
Согласно данной концепции, обряд, миф и бог
возникают и развиваются в единстве: «само существование
[бога] зависит от обряда, его призывающего».102 Слова,
проговариваемые в обрядах, являются мифом и
употребляются в формах повелительного или желательного
наклонения. Однако когда смысл обрядов забывается, человек
находит aition, причину их исполнения в мифе (legomena),
который впоследствии приобретает форму изъявительного
наклонения, становится повествованием. Такое
повествование—этиологический миф; Харрисон отделяла его от
мифов в подлинном смысле, представляющих собой некую
последовательность слов или историю, которая сопровождает
ритуал, и сожалела, что слово миф не может применяться
только к этой последовательности. В таком случае
представляется, что сказительский инстинкт уже «работал»:
"Нутап S.E. Review of Fontenrose, Python// Carleton Miscellany.
I960. I, 4. P. 126. — Если это так, то каким образом формируются
статичные вербальные формулы, сопровождающие обряды? Дети не
повторяют свой лепет; один и тот же вид игры может порождать новые
присказки на следующий день. Если онтогенез дублирует и
повторяет филогенез и в данном отношении (что я охотно допускаю), в
таком случае мы должны ожидать, что подобный лепет
эволюционирует в фиксированные, статичные речитативы, каждый из которых
должен сопровождать установленную последовательность действий.
Но находим ли мы это? Не может ли бормотание играющего
ребенка повторять приговаривания древнего человека, занятого каким-то
трудом?
100Harrison J. Themis... P. 16, 45-47, 327-331, 485-490.
101Ibid. XIII.
102Ibid. P. 10.
64
бог, порожденный однажды, должен иметь историю
жизни (серии παΌη, по Харрисон).
Возникает вопрос, как целое сообщество,
исповедовавшее некий культ, могло забыть значение обрядов, коль
скоро с ними соотносятся определенные слова, проясняющие
само их стремление? Ведь ритуалисты всегда утверждали,
что при совершении обряда его участники должны
повторять формулы без изменений, слово в слово так, как было
завещано, и именно поэтому лишь непосредственно
связанные с ритуалом традиции сохраняются в народной
памяти. Нам следует спросить также, могли ли слова,
сопровождавшие обрядовые действия, составлять в большинстве
случаев этиологические мифы: так ли явно мифические
повествования выдают свое происхождение в мольбах,
молитвенных гимнах и магических формулах? Мы можем
отметить и тот факт, что Харрисон использует «сказительский
инстинкт», чтобы обеспечить структурность описания
жизни божества. Такое жизнеописание также является мифом
согласно ее определению; в данном аспекте она
устанавливает происхождение бога из ритуала, а его
жизнеописания — из инстинкта.103 Дело в том, что ее ритуализм не был
таким всеобъемлющим, как ритуализм Хьюмана. Позднее,
в « Фемиде», она проводит различие между обрядовым
мифом и героической легендой. В ранних греческих
обществах, пишет Харрисон, обожествленным выражением
эмоций участников обряда был Дух Года (Eniautos Daimon),
возможно, получивший разные имена в различных
обществах. Вероятнее всего, его отождествляли с другими
богами или же его образ поглощался либо Дионисом, либо
«героем саги», подобно тому как в Афинах древний
«племенной eponym,* Фитал, постепенно был вытеснен личностью
героя Тезея... В дальнейшем Тезей, герой саги,
псевдоисторическая личность, обрел жизнеописание, ежегодную
историю daimon'a плодородия».104 Таким образом, как это
видится Харрисон, греческая драма получила свои формы
103Harrison J. Themis... P.47: «Процесс проектирования,
обожествления во многом обусловлен тем, что мы, вероятно, можем назвать
сказительским инстинктом. Бог, подобно его почитателю, должен
иметь жизнеописание».
104Ibid. Р. 327.
65
от «древних даймонических, магических ритуалов», а свое
содержание — из легенд гомеровского и других циклов.105
Хьюман никогда не принимал во внимание подобное
различение (как и Рэглан).* Он обращается к трудам Гилберта
Мюррея,106 единомышленника Харрисон, за
подтверждением того факта, что страсть каждого героя, поскольку
она отображается в трагедии, взята из схемы
«ежегодного мифа», где существует последовательность: agon, pathos,
angelos, threnos, anagnorisis, theophaneia.* Тогда герой
оказывается просто претерпевшим развитие, персонификацию
и исторификацию Духом Года.
Безусловно, мифо-ритуальная теория Харрисон
согласуется с теорией Рэглана во многих отношениях. Для
обоих миф и боги являются эманациями обрядов; и Дух Года
в концепции Харрисон, ежегодно умирающий и
возрождающийся (который способен приобретать функции как
претерпевающего уничтожение Старого года, так и
наследующего ему Нового года), может представать или
воплощаться в божественном царе. Однако огромное различие
названных концепций состоит в том, что Рэглан был
радикальным диффузионистом, сводившим все мифы и
ритуалы к одному источнику, в то время как по Хьюману и
Харрисон (если я правильно понимаю) хотя и возможны
некоторые проникновения частных схем ритуала и мифа,
тем не менее коллективные эмоции любого сообщества, как
предполагает теория Дюркгейма, способны породить
ритуал, а следовательно, и миф. Обряды и только обряды,
согласно Хьюману, обладают мифотворческим потенциалом;
подобно Рэглану, он подводит под термин «миф» все
народные повествования. Так, с точки зрения Хьюмана, во всех
частях света и во все времена возникали новые обряды, и
в этом процессе создавались божества и мифы. Его самое
опрометчивое утверждение состоит в отрицании того
факта, что какой-либо элемент мифа или другого
традиционного повествования может быть непосредственно порожден
опытом, снами и фантазиями: каждый элемент мифа пред-
105Ibid. Р. 339.
106Murray G. Excursus in Harrison// Harrison J. Themis... P. 341-
363.
66
ставляет часть обрядовой схемы. Например, если кто-то
решится допустить, что многорукие чудовища в преданиях
приморских народностей возникли по ассоциации с
осьминогом, Хьюман с ним не согласится, по-видимому, на том
основании, что подобные мифические персонажи
произошли от обрядовой одежды ряженых. Мы можем спросить,
чем обусловлено участие в обряде многоруких персонажей.
По мысли Хьюмана, их вовлекали в магические обряды,
направленные на увеличение числа головоногих; таким
образом, реальный осьминог остается причиной
возникновения мифического чудовища. Приведем другой пример:
если кто-то полагает, что мифические и легендарные войны
отражают соответствующий опыт человечества, Хьюман,
напротив, настаивает на том, что они представляют собой
осмысление обрядовых поединков и инсценируемых
сражений. Как идея поединка оказалась привнесена в ритуалы?
Хьюман, судя по всему, склонен предполагать, что
обрядовые детали в той или иной форме выражают коллективный
опыт, но не уверен в том, что подобный опыт может
напрямую включаться в традиционные сказания, даже
передаваемые независимо от ритуала. Если он допустит хотя бы
ничтожную возможность того, что какая-либо черта или
эпизод известного нам мифа или легенды взяты
непосредственно из опыта, пусть даже после того они были
присоединены к ритуалу (а мы чаще всего сталкиваемся с
мифами, не связанными с соответствующими обрядами), всей
его концепции обрядового происхождения наносится
существенный удар. Ведь в этом случае мы вправе спросить,
почему любая часть повествования должна иметь обрядовое
происхождение. На сегодняшний день очевидно, что
истории, устные или записанные, отражают именно опыт —
события, сны, фантазии, и воображение перерабатывает то,
что получено из опыта. Фактически современные обряды не
порождают практически никаких вымыслов. Хотя Хьюман
и уверен в том, что базовая схема всей художественной
литературы отсылает к древним мифо-ритуальным моделям,
он не может отрицать тот факт, что надстройка в основном
имеет иное происхождение. Иначе говоря,
беллетристические сюжеты списываются непосредственно с жизни и не
67
проходят через фильтр обрядового действа. Почему же это
не может быть истинным по отношению к традиционным
сказаниям древних времен и примитивных сообществ?107
Гимн из Паликастро
Поскольку Хьюман доверяет Харрисон даже больше,
чем Рэглан полагается на Фрэзера, мы должны изучить
конкретные свидетельства, на основании которых
Харрисон выстраивает свою теорию, в точности так же, как мы
проверили основания Фрэзера. Харрисон должна
продемонстрировать нам обрядовое legomena (подлинный миф,
согласно ее определению) в процессе его преобразования
107Конечно, как допускает Рэглан, воображение может работать
лишь с материалом, известным воображающему, но Рэглан
использует этот трюизм, пытаясь доказать, что обыкновенные люди не
способны произвести на свет сказки, поскольку во множестве сказаний
говорится о царях, знати, дворцах и т. п. Рэглан и Хьюман
допускают любые эвгемеристические указания, согласно которым
особенности традиционной истории порождены непосредственно опытом, в
результате работы с ним скорее воображения, нежели обряда. Более
того, они осознают, что в романы включаются эпизоды и герои,
появление которых обусловливается реальными событиями и лицами,
но не попытками описать реальное событие или изобразить реальную
личность. Но почему это допустимо для художественной
литературы и недопустимо для традиционных сказаний, если методы анализа
и интерпретации ритуал истов равным образом могут сводить и
сводят роман к мифо-ритуальной модели. Ср. с обработкой Вайзингером
произведений Шекспира, рассмотренной в конце этой главы.
Например, ритуалистский анализ (который я не рекомендую использовать)
«Записок о пиквикском клубе» может быть осуществлен следующим
образом. М-р Пиквик, заключенный в долговую тюрьму,— это
божественный царь, идущий на свою смерть в «яму» ; и не служит ли
тюрьма Флит отражением представлений о глубинах как царстве мертвых?
М-р Пиквик, появляющийся после тюрьмы,— воскресший царь,
обновленный и очищенный. Можно установить, что м-р Пиквик был
эпонимом основателя (культурного героя-бога) и Главного
Председателя (царя) пиквикского клуба, в пространстве которого он входил
в (вербальный) поединок с несносным м-ром Блоттоном
(Претендентом на престол). Более того, в самом первом предложении Диккенс
представляет своего героя как «бессмертного Пиквика», т.е., конечно
же, божественного царя. Из вышесказанного теоретик обряда может
заключить, что рассказ восходит напрямую к доисторическим
обрядам, это гораздо более очевидно, нежели в «Происхождении видов»,
где Хьюман находит подтверждения мифо-ритуальной модели.
68
в этиологический миф (миф, как его знаем мы, т.е.
история, рассказываемая независимо от обрядов). Она
убеждена, что нашла его в «Гимне Куретов», вырезанном на
камне, который был обнаружен во время раскопок
Британской школы в Паликастро на Крите в 1904 г.108 Часть
текста не дошла до нас, но сохранившиеся фрагменты
явно представляют собой гимн, исполнявшийся в Хелейе на
восточной оконечности острова во время совершения
обряда, адресованного Зевсу. Почитатели призывали Зевса как
μέγιστος κούρος Κρόνειος прийти на Дикту на год (ες ενι-
αυτόν) и насладиться вместе с ними песней, которую они
пели перед его алтарем; ибо именно там щитоносцы Куре-
ты взяли у Реи Зевса-младенца и спрятали его (некоторые
слова стерты, и имя Куретов не читается). После пропуска
в тексте двустишия и рефрена следует оглашение певцами
благодеяний, предположительно сопутствующих спасению
Зевса и вступлению его на царствование: Хоры ('Ωραι но
в этом месте часть текста уничтожена, и полной
уверенности у нас нет), Справедливость (Δικά) и благостный Мир
(φίλολβος Ειρήνη). Наконец, певцы призывают богов
снизойти к их селам и городам (Όόρ ες ποίμνια). Харрисон
перевела это заключение так: «К нам же поспешите для
наполнения кувшинов, сделайте обильными шерстью стада,
плодородными поля и роящимися пчел... Поспешите же в
наши города и поспешите к нашим ... ». Перевод отчасти
предположителен, поскольку в тексте есть несколько
лакун. Если мы согласимся с прочтением Диля и Гвардуччи
(более поздним, чем тот, который использовала Харрисон),
«к нам» должно быть опущено, «полные кувшины»
становятся стадами скота, «пчелы» —домами, а Фемида скорее
прославлена (κληνάν), чем прекрасна (καλάν).
Предложенный Харрисон перевод ες как for («для») вводит в
заблуждение: в призыве «поспеши для обильных шерстью стад»
читатель вынужден понимать «для» как «ради», т. е. для
их возрастания и благоденствия — именно так понял это
место Хьюман. Между тем действительно ες иногда может
передаваться в английском переводе как for, но только в
108Harrison J. Themis.. .P. 1: «Он позволяет нам видеть миф и
ритуал в процессе их создания».
69
соответствующем контексте. Его основное значение—
«вовнутрь», и после глагола движения ΰρώσκειν он может
означать только «в» или «к».109 Таким образом, певцы
призывают Зевса явиться в Новом году к стадам, пастбищам,
полям, домам, городам, кораблям, гражданам и Фемиде. В
переводе Харрисон искажается смысл гимна в соответствии
с ее интерпретацией.
Харрисон видела в этом гимне «миф и ритуал в процессе
их развития», что служило доказательством выдвинутого
ею тезиса. Певцы, танцевавшие и певшие одновременно, в
ее истолковании предстают юношами, κούροι или κούρητες,
танец которых (или их предков) возник как магический
обряд, направленный на преумножение скота и урожая. Из
самих себя, своих коллективных эмоций, они создали
великого Κούρος и обращались к нему в своей песне. Так
появились δαίμονες. Солист хора может представлять
Куроса в каждом проводимом обряде. Песня — подлинный миф;
legomena сопровождает ритуал и употребляется
преимущественно в повелительном наклонении. Почитатели
призывали Зевса подражать им, он являлся и танцевал вместе
с ними. Постепенно образ Куроса окружался преданиями,
пока, в конце концов, его жизнеописание не отъединилось
от ритуалов. Оно передавалось устно в прозаической
форме (близкой к разговорной речи) и превратилось в
этиологический миф, который рассказывали в изъявительном
наклонении: то, о чем некогда просили бога, представало
как уже сделанное им. Так из гимна, певшегося Курета-
ми в рамках критских обрядов Куроса, возник тот миф о
рождении Зевса, который мы читаем в «Теогонии» Гесиода
и «Библиотеке» Аполлодора. Такова интерпретация
Харрисон.
Если она права, то в данном случае мы располагаем
109Nilsson M. P. The Minoan-Mycenaean Religion. Lund, 1950. P. 550;
Willetts R.F. Cretan Cults and Festivals. London, 1962. P. 214. — Ниль-
coH уверен в том, что глагол, кроме своего буквального значения —
«предстать», может означать «покрывать», как в животном
сексуальном союзе. Таким образом, участники обряда приглашали Зевса
принести изобилие стадам, полям, городам и гражданам. Гвардуч-
чи предпочитала интерпретировать «явись» метафорически, хотя и в
обычном значении глагола.
70
мифом в зародыше, в примитивном состоянии, почти
буквально в виде запечатленного в камне ископаемого. Но
настолько ли этот миф примитивен, как все перечисленное?
Надпись датируется примерно 200 г. н. э. или позднее.
Стихи несомненно относятся к более раннему периоду, но,
судя по стилю и грамматике, не могли быть составлены
ранее 300 г. до н. э. Харрисон с этим соглашается. Однако
она настаивает на том, что гимн содержит « первобытный»
материал, который невозможно датировать, поскольку он
попитой.* Она указывает на древность Критского культа
Зевса Диктейского, которому, предположительно, и
адресован гимн, призывающий явиться на Дикту (название горы);
также нам известно из ряда надписей и сообщений Стра-
бона, что этеокритяне были приверженцами культа Зевса
Диктейского. Хелейа (Паликастро) была этеокритским
городом, и среди археологических находок, датируемых
периодом VII-V вв. до н. э., обнаружено святилище, имевшее
в те времена большое значение; поскольку надпись была
найдена неподалеку от местонахождения храма, археологи
и другие антиковеды склонны считать его святилищем
Зевса Диктейского. Харрисон была уверена, что гимн из
Паликастро непосредственно передает в более поздней
метрической форме примитивное содержание более древних
гимнов. Она подразделяет гимн на три части.
Первая часть — повторение действенного заклинания;
бога именуют различными титулами, ему наказывают, как,
когда и куда прийти.
Далее в простой передаче следует изложение
совершаемого обряда. Бога умоляют насладиться танцем и песней,
исполняемыми для него. Следом за этим
устанавливается причина, точнее повод, их появления. Фактически мы
имеем здесь то, что обычно называется «этиологическим»
мифом. Исполнители танцуют вокруг алтаря Куроса,
потому что «здесь щитоносцы Кормильцы приняли
Куроса, бессмертное дитя, у Реи и под шум шагов спрятали
его».
Далее, к сожалению, следует пропуск. Когда текст
возобновляется, мы попадаем сразу в третью фазу —
перечисление благодеяний, приведших к описываемым в мифе со-
71
бытиям, благодеяний, которые, как ожидается, будут в
точности возрождены в ежегодном повторении и обрядовом
узаконивании мифа. Приходящие Хоры обязаны быть
плодородными, Дика —править человечеством, Курос,
спешащий объединиться со своими почитателями, должен
принести изобилие стадам и полям, процветание городам,
морским кораблям и юным гражданам.110
Именно Харрисон и Мюррей назвали эту надпись «
Гимном Куретов». Согласно теории Харрисон певцы
изображают Куретов и танцуют, будто бы подражая танцу
мифических Куретов вокруг младенца-Зевса, но в
действительности повторяя древний магический ритуал,
придавший очертания мифу. Она настолько убедительно
представила свою интерпретацию в «Фемиде», что многие ученые
согласились с ее названием и без каких-либо уточнений
допустили, что певцы изображали Куретов. Однако
внимательный читатель не найдет в гимне никаких указаний на
то, что певцы считали себя Куретами или танцевали. На
самом деле они ясно говорят, что не танцуют, και στάντες
αεί δόμε ν τεόν άμφι βομόν έυερκη, они поют, стоя вокруг
алтаря, с самого начала заняв это положение. Харрисон
обходит это затруднение так: «Они заняли место возле его
искусно отгороженного алтаря. Очевидно, что перед нами
обрядовый танец, сопровождающий песню». Но нам
очевидно, что здесь нет ничего подобного. Кроме того, певцы
извлекали музыку из лир и флейт.111 Если бы они
играли роль Куретов, они били бы копьями и мечами в
щиты, как рассказывали этот миф сами греки.112 Если при-
110Harrison J. Themis... P.9-10.
ιηπακτ(σι μείξαντες δμ' άυλοΐσιν — первое слово может означать здесь
как свирели, так и арфы. Харрисон и Виллетс воспринимали их как
обозначение струнных инструментов, но это может быть и что-то
напоминающее язычковый инструмент, отличный от αυλός, или
видоизмененный άυλοΐσιν.
112Apollod. 1.1.7. — Нильсон (Nilsson M. P. Op. cit. P. 547) также
выявляет, что певцы не изображали Куретов и не танцевали: «Певцы...
представляли собой обыкновенный священный хор, который пел гимн,
окружив алтарь... Слова, говорящие об этом, не могут ввести в
заблуждение», хотя он допускает ассоциацию певцов с Куретами и
интерпретирует μεγίστος κούρος в стиле Харрисон. Гвардуччи отвергает
интерпретацию певцов как танцующих Куретов.
72
зываемый был Зевсом κούρος, он мог быть только Зевсом-
младенцем, вокруг которого танцевали Куреты. Но Хар-
рисон не согласилась бы с этим: она была уверена в том,
что κούρος мог означать лишь взрослого юношу,
«проекцию» танцующих юношей, названных Куретами. Она
читает μέγιστε κούρε во вступлении как «самый старший
среди повзрослевших юношей», «совершеннолетний юноша».
Может показаться, что это прочтение работает против ее
же теории соотношения мифа и ритуала. Но в танце Куре-
тов она усматривает «обряд мнимой смерти и воскресения,
практикуемый в церемонии инициации».* Следовательно,
мнимое перерождение способно ввести Зевса-младенца в
миф.
Недоумение Харрисон по поводу того, что она
обнаружила Зевса в подростковом возрасте, хотя в литературе
его всегда представляли взрослым или ребенком,
обусловлено применением дюркгеймовского метода при
построении мифо-обрядовой теории. Но вопреки ее утверждению,
что κούρος не может означать «сын» или «дитя» и не
должно иметь оттенка отношения к родителю, в поэзии это слово
использовалось в указанных смыслах начиная с
гомеровского эпоса (в сноске Харрисон допускает, что κούρος
могло быть «грубым эквивалентом» παις или υιός). Оно даже
употребляется по отношению к нерожденному младенцу в
«Илиаде»: δντινα γαστέρι μήτηρ / κουρον έόντα φέροι (6.59).
В «Одиссее» κουρον Ζήϋοιο ανακτος (19.253) означает «сын
царя Зета», а в «Филоктете» Софокла δι τε Θησέως κόροι
(562) — «сыны Тезея» как совершеннолетние мужчины.
Таким образом, этим словом могли передаваться родственные
отношения, как выражение «мальчики Джона» в
английском означает «сыновья Джона» какого угодно возраста.
Более того, κουροτρόφος не является воспитателем
взрослых мальчиков (что Харрисон сознавала, когда
исследовала образ богини Κουροτρόφος в своих «Пролегоменах к
изучению греческой религии»). Поскольку мы
обнаружили, что κούρος может означать «сын» или «дитя», мы
считаем, что певцы не призывали Зевса Куроса, иначе его
называли бы Κρονεϊος (Κρόνιαν — прилагательное в генетиве),
как предполагала Харрисон, но κούρος Κρονεϊος, мальчик
73
Крона (как Κρόνιος παις —сын Крона).113 Итак, κούρος не
имел никакого отношения к Зевсу-юноше или даже Зевсу-
младенцу, которого упоминают только потому, что певцы
призывают Зевса на Дикту:
ενΦα γάρ σε παϊδ' δμβροτον άσπί[δεσσι Κουρήτες]
παρ Ρέας λαβόντες πόδα κ[υκλώντες άπέκρυψαν.] (9-10).
«Ведь здесь тебя, бессмертное дитя, от Реи взяв [тебя
и обступив], щитами сокрыли [Куреты]». Это место
рождения Зевса, и что еще нужно, чтобы он покровительствовал
родине своим благоволящим присутствием? Следует
отметить, что слово Κουρήτες в этой строфе реконструировано:
оно нигде не встречается в сохранившемся тексте, и Хар-
рисон читает вместо него τροφηες — «Кормильцы». Если
догадка верна, то певцы не соотносили себя с Куретами, но
принимали роль Куретов в мифе: они высказываются о них
в третьем лице, отличая их от себя.
Но действительно ли певцы в припеве обращались к
самим себе, когда пели: βέβακες δαιμόνων άγώμενος? То есть
представляли ли они группу δαίμονες, называемых
Куретами, предводителем которых был μέγιστος κούρος Зевс? Хар-
рисон, соглашаясь с Мюрреем, переводит: «Ты пришел во
главе твоих даймонов». В ил лете переводил так: «Здесь и
сейчас ты управляешь своими Духами». Но не могут ли
эти слова означать: «Ты поставлен (занимаешь пост)
правителем богов», т.е. «Ты правитель богов»? Это основное
значение перфекта βαίνειν, более того, в указанных
переводах Зевс присутствует с самого начала, прежде чем певцы
призывают его прийти. Уже начиная с гомеровского эпоса,
δαίμονες были синонимом Όεοί, и употребление причастия
ηγούμενος (аттическая форма) в значении
существительного «правитель», «хозяин», «господин» было
общепринятым.114 Более того, генитив δαιμόνων подтверждает мою
113 Guarducci M. L'inno a Zeus Dicteo // Studi e Materiali di Storia délie
Religioni. 1939. XV. P. 10-11.
1140 значении «правитель» см.: Herod. 9.1.1, Aesch. Ag. 1363, Soph.
Phil. 386. — Слово используется по отношению к римскому правителю
у Лукиана (Alex. 44); в христиаской Греции оно означало
«настоятель». См. дионисийский гимн у Софокла (Ant. 1115-1121):
призывание бога сменяется провозглашением его правительства: «[Ты], кто
правит долиной элевсинских богов».
74
интерпретацию; ибо когда этот глагол означает «править»,
он управляет генитивом, а когда означает «возглавлять» —
дативом.
Певцы призывают Зевса на Дикту. Однако точно не
установлено, какая именно гора называлась Диктой. Хар-
рисон отождествляет ее с упоминаемой Гесиодом Αΐγιον,
находящейся приблизительно в 50 милях от Хелейи; такое
расстояние создает некоторую трудность для
истолкования, которую Харрисон снова обходит, указывая на
длительное развитие культа Зевса Диктейского среди этеокри-
тян восточного Крита. Она приветствовала бы более
поздние заключения Нильсона, Гвардуччи и других, что Дик-
та — гора неподалеку от Хелейи. На самом деле могло быть
несколько гор на Крите, называемых Диктой, и, конечно,
не только она славилась как место рождения Зевса (одной
из них была Ида).115 Следует заметить, что Зевса
никогда не называют в гимне Диктейским, его лишь
призывают на Дикту. Не существует никаких данных, помимо
местонахождения надписи, подтверждающих, что гимн был
этиокритским сочинением, созданным специально для
почитания Зевса в Хелейе. С тем же успехом он мог
исполняться на всем Крите и быть записанным в IV в. поздним
поэтом в честь Критского Зевса, рожденного и укрытого в
пещере одной из гор Крита. Мифическая aition песни, на
которую Харрисон обращала особое внимание, это просто
его рождение; она упомянута только в одном предложении
(2.2) и вводится посредством союза γαρ, который
подчиняло Дикте см.: Harrison J. Op. cit. P. 2-5; Nillsson M. P. Op. cit.
P. 458-460; Guarducci M. Op. cit. P. 3-7; Willetts R.F. Op. cit. P. 215-
216. — Гесиод упоминает Ликтос и Вел. Эгейн (Theog. 477-484),
современные Лазиты. Замечание относительно того (см.: Willetts R. F.
Op. cit.), что Гея послала Рею в Ликтос, куда та перенесла ее сына,
которого Гея затем взяла и отправилась сначала на Ликтос (где он
уже бывал), а после в пещеру в Великом Эгейне, кажется мне
ошибочным и совершенно бессмысленным. Τον μέν ός έδέξατο γαία πελώρη
/ Κρήτη èupeifl τραφέμεν άτιταλλέμενατε. В указанном отрывке (Theog.
479-480) попросту говорится о том, что Рея отнесла своего сына на
Критскую землю, где он мог бы вырасти. Здесь γαία используется в
расширительном значении. Тогда Рея —субъект ίκτο φέρουσα (481),
и это предложение поясняет предыдущее. Рея также субъект κρύψεν
(482) и έγγυάλιξεν (482); и не должен ли был Крон усомниться, если
бы Гея, а не Рея пришла показать ему новорожденное дитя?
75
ет ее призывам припева; в данном предложении однозначно
констатируется причина призывания Зевса на Дикту. Что
же касается «установления совершаемого обряда», для
которого миф выступает «причиной, точнее поводом», о нем
ничего не говорится, отмечается лишь пение вокруг алтаря
в качестве музыкального сопровождения.
При создании мифа, столь кратко упомянутого, поэт
мог иметь в виду в большей степени «Теогонию» Гесиода,
чем древние культовые традиции Крита. И в «Теогонии»,
и в гимне Рея оставила младенца-Зевса на воспитание на
Крите, ребенок был спрятан, и это событие, наконец, дало
жизнь Хорам (сезонам), в которые включались
Справедливость и Мир. Очевидно, последнее положение (4-я
строфа) было навеяно «Теогонией» (901-902). Зевс сочетался с
Фемидой, родившей Эвномию (благозаконие),
Справедливость и Мир. Эвномия в гимне пропущена, однако
остальные названы в том же порядке, что и у Гесиода.
Перечисление дочерей Зевса и Фемиды предопределяет
заключительную фразу последней строфы: «[устремись] к Фемиде
[прославленной]». Бог должен снова посетить Фемиду,
дабы возродить блага справедливости, мира и закона. Только
упоминание в гимне Куретов как укрывателей малыша
Зевса (если вставка корректна) не взято из «Теогонии», хотя
Гесиод безусловно знал о танце Куретов (Rzach, fr. 198), и
данная особенность мифа, по-видимому, упрочилась в
традиции и поэзии задолго до 300 г. до н. э.116
Подведем итоги: певцы гимна не были танцорами, не
изображали Куретов и не представляли солиста в образе
«Величайшего Куроса». Они не мыслили Зевса
предводителем Όίασος δαίμονες, Куретов мифа и культа, а приглашали
его прийти на гору Дикту и благословить землю Крита.117
n6Eur. Bacch. 120-129.
117Прочитав и самостоятельно изучив произведение, интерпретацию
которого я здесь предлагаю, я обнаружил, что во многом ее
подтверждают Нильсон и Гвардуччи. Оба исследователя тем не менее
уверены в том, что Зевс руководил группой на Дикте и не замечают
зависимость поэта от Гесиода. О распространенном дорическом языке без
примесей локального критского диалекта см.: Guarducci M. Op. cit.
P. 8. Гимн относительно поздний и представляет собой произведение
высокого поэтического искусства.
76
Гимн перекликается с «Теогонией» Гесиода и составлен в
высокоразвитых ритме и форме.
Как всякий hymnos kletikos (призывающий гимн), этот
гимн являет все особенности гимнов такого рода, как
считает и Харрисон, называя его «гимном-призывом
довольно известного обрядового типа» наподобие Дионисийского
гимна элейских женщин, Дионисийского гимна Филодама
и некоторых трагедийных хоров.118 Однако нам следует
видеть в этих гимнах не пережитки обрядовых форм, но
развитый жанр поэзии. Призывание бога в город или на
землю исполнителей гимна, испрашиваемые у него
благодеяния, намек на миф, который связывает бога с данным
местом, представление певцами своей песни и
сопровождающей ее музыки, припев —все эти особенности мы
находим в каждом гимне. Следует также отметить, что гимн
написан на дорическом литературном koine, а не местном
диалекте этеокритян.
Итак, правильно истолкованный гимн из Паликастро не
подтверждает теорию Харрисон; он не представляет собой
настолько прочное основание, насколько ей хотелось бы.
Он не восходит к речитативу, сопровождавшему исходный
ритуал Зевса Диктейского или Зевса Куроса, это не
«соответствующее высказывание исполняемого обряда».
Предложенная Харрисон интерпретация гимна в целом как
выражения проекциии бога из эмоций участников ритуала
надуманна и основана на поздних классических произведениях.
Нет необходимости углубляться в «Фемиду», чтобы
показать неубедительность теории Харрисон и в случае
обращения к Осхофории, Буфонии и другим праздникам
(хотя книга имеет множество достоинств, доказательна во
многих частных вопросах, и чтение ее доставляет
удовольствие). Eniautos Daimon —плод воображения
Харрисон: данное словосочетание попросту отсутствует в
древнегреческой литературе или надписях; на самом деле оно
невозможно уже потому, что о ε'νιαυτός не является именем
прилагательным. Ενιαύσιος δαίμων или о δαίμων' Ενιαυτός
118Элейский гимн: Plut. Мог. 299В. Гимн Филодама: Diehl. Ant. Lyr.
Gr. II, 252-256. Дельфийские гимны: Fouilles de Delphes 3.2.137, 138.
Трагические хоры: напр., Soph. Ant. 1115-1154; Eur. Bacch. 977-1023.
77
грамматически правильны, но не подтверждаются
источниками; нечастая персонификация Ένιαυτός — самое
близкое по значению слово, которое мы можем найти.
Заключение к критике теории Хьюмана
Хьюман часто выражает согласие с заявлением Харри-
сон о том, что термин «миф» следует применять лишь по
отношению к сказанию, связанному с ритуалом или
имеющему обрядовое происхождение. Это определение
подразумевает, что существуют другие типы традиционных
повествований, но Хьюман, подобно Рэглану, склонен
находить мифический (и, следовательно, обрядовый) источник
практически всего огромного комплекса фольклора,
литературы и искусства. Его определение мифа
представляется достаточно широким, чтобы включить все, что кто-либо
когда-либо называл мифом, и действительно, в последних
работах Хьюмана любое высказывание угрожает стать
мифом. И все же, если мы определяем миф как все
сказываемое, то не рискуем ли мы превратить миф в
призрачную реальность — неизменный итог наших изысканий в
области фольклора и литературы? Сказать, что история есть
миф, — не более чем сказать, что она состоит из слов, ведь
в подобном высказывании нет никакого смысла; нам просто
понадобится другой термин, чтобы отделить традиционные
повествования от других видов вербального выражения.
Хьюман заходит так далеко, что сводит научные и
исследовательские работы к мифу. Во «Враждебном
береге» он решительно настаивает на обрядовой теории Джейн
Харрисон и Гилберта Мюррея.119 Он утверждает, что
«Происхождение видов» выявляет «основные обрядовые
этапы трагедии»,120 намеченные Мюрреем: борьба за
существование аналогична agon и sparagmos, выживание
предельно четко соответствует anagnorisis и epiphany.
Конечно, Дарвин едва ли читал «Фемиду» или включенный в
нее «Экскурс» Мюррея. Хьюман просто имеет в виду, что
и9Нутап S.E. The Tangled Bank... IX. См.: Fontenrose J. Review
of Ну man...
120Ibid. P. 28.
78
все представления, созданные человеческим разумом,
обязаны подпадать под данную схему. Даже если
предположить, что теория Хьюмана вполне обоснованна, говорит
ли она нам что-нибудь положительное вообще? Базовая ми-
фо-ритуальная схема становится просто синонимом сюжета
или структуры. Метод Хьюмана в критическом отношении
имеет слишком много от a priori.
Ученикам чаще всего удается превзойти наставника, так
и Честертон в первой главе «Наполеона из Ноттинг Хил-
ла» писал, что каждое современное движение порождает
восторженного и увлеченного апологета, доводящего
доктрину до самых крайних последствий. Например,
движение вегетарианцев породило человека, который осуждал
употребление в пищу даже растений и, отказываясь
проливать «зеленую кровь безмолвных животных», требовал
ограничить рацион солью. Подобным образом дело
обстоит с Гербертом Вайзингером, учеником Хьюмана, который
реализовывал мифо-ритуальную схему при анализе
трагедий Шекспира.121 Опираясь на Мюррея, Хука и Рэгла-
на, он конструирует модель из девяти составляющих. При
этом четыре из девяти давно исчезли и не представлены в
трагедиях Шекспира, а две присутствуют в неявной
форме (обязательная роль божественного царя и установление
судьбы). В конечном счете остаются лишь три: поединок,
страдание и воскресение. Но ведь очевидно, что
трагический герой просто не может воскреснуть: Гамлет, Отелло
или Макбет кажутся в конце пьесы «смертельно
мертвыми». Вайзингер запросто обходит это затруднение:
«реальный протагонист трагедии — закон Божий, против которого
восстает трагический герой»; протагонист допустил
ошибку, соединив себя с антагонистом «в едином вызове закону
Бога». Вайзингер считает «Отелло» хотя и не
совершенной, но все же лучшей трагедией Шекспира, поскольку она
лучше всего удовлетворяет условиям сокращенной схемы;
«элементы мифа и обряда не были реализованы [в "Гам-
121 Weisinger H. The Myth and Ritual Approach to Shakespearean
Tragedy // The Centennial Review, 1957. P. 142-166; Weisinger H. An
Examination of the Myth and Ritual Approach to Shakespeare // Myth
and Mythology. New York, 1960. P. 132-140. О прозаическом стиле
школы Хьюмана см.: Fontenrose J. Op. cit. P. 77-78.
79
лете"]», имеющем неверную концовку. «Король Лир» еще
более несовершенен, ибо Шекспир расположил «миг
просветления» Лира в неподходящем месте повествования и
плохо разработал сплетения судеб. А «Макбет» — «сказка,
ровным счетом ничего не значащая». Остальные трагедии
Шекспира полностью «провалились» (так сообщает Вай-
зингер); ни одна, даже «Отелло», не прошла «успешно»,
ибо несчастному Уиллу не удалось построить свои пьесы
по единственно правильному образцу.122 Это
беспристрастный пример использования мифо-ритуальной теории в
качестве инструмента литературной критики.
122 В более позднем очерке Вайзингер несколько раскаялся в своей
статье «Centennial Review», приписывая ее неумеренность и
крайность «эйфории, сопровождающей обращение». Теперь же, как
оказывается, никто не знает, «что же действительно представляют собой
мифическая и обрядовая схемы», поскольку ничего подобного «не
существует или никогда не существовало в подлинном смысле слова;
она по существу есть современная научная реконструкция»
классификации разнообразного материала (т. е. это инструмент критики
a priori). Он допускает, что на него воздействовала «догматическая
форма, преодолевающая материал ради сохранения основной
теоретической идеи», т. е. он признает, что был несколько несправедлив по
отношению к Шекспиру. Он по-прежнему уверен в обоснованности
своего «подхода», который, впрочем, нужно применять осторожно, а
любая критическая система является результатом подобных
злоупотреблений. Однако придерживались и отстаивали ли великие критики
«крититическую систему»?
80
III. Царь Леса
«Ключевой образ "Золотой ветви", — пишет Хьюман, —
царь, который убивает убийцу и сам должен быть убит,
соответствует некоему универсальному принципу,
осознаваемому нами в жизни».123 Возможно, некоторые из нас не
совсем отчетливо осознают этот универсальный принцип,
будучи менее проницательными по сравнению с теми, кто
с одобрения Хьюмана находит его в «советской
руководящей системе» и т. п.124 Однако именно здесь располагается
тот базис теории Фрэзера, от которого отталкивается вся
школа ритуал истов. Убийца — Царь Леса, Rex Nemorensis,*
прикованный к заповеднику Дианы в Ариции на альбан-
ских холмах, которого Фрэзер делает одновременно ярким
и жалким, пылким и достойным презрения персонажем —
или, вероятнее, сам Фрэзер создал образ интереснейшего
героя и отождествил его с Царем Леса. Действительно ли
фрэзеровский герой является древним Rex Nemorensis —
вот вопрос, стоящий перед нами в данный момент. Ведь
едва ли, изучая обрядовую теорию происхождения мифа, мы
можем позволить себе пренебречь этим вопросом. Его образ
был не просто частным примером, иллюстрирующим
теорию Фрэзера в ее первоначальном варианте, но также, если
Фрэзер был прав, убедительнейшим свидетельством
периода классической древности, подтверждающим, что царя
(по крайней мере того, кто носил этот титул) предавали
123Нутап S. Е. The Tangled Bank... P. 439.
124И можно ли назвать его образом «Золотой ветви»? Разве он не
главный герой первой главы «Науки магии» и нескольких других
разделов всей работы в целом?
81
смерти, когда силы отказывали ему или, точнее, когда
слабость и неповоротливость позволяли другому мужу убить
его. Но был ли Фрэзер прав относительно этого персонажа?
Корректно ли он интерпретировал данное свидетельство?
Призрачный жрец
Фрэзер истолковал это свидетельство следующим
образом: жрец великого заповедника Дианы возле озера Неми,
поблизости от Ариции, ранее был беглым рабом и обрел
высокий статус, совершив убийство своего предшественника.
Беглец должен был первым сорвать ветвь с
определенного дерева в священной роще Дианы, чтобы получить право
бросить вызов жрецу и сразиться с ним. Если он его убивал,
то принимал на себя исполнение жреческих обязанностей
и носил титул Rex Nemorensis. Но невелико было
удовольствие от этого служения, как его описывал Фрэзер:
Должность эта, обладание которой было столь зыбким,
приносило с собой царский титул. Ήο ни одну коронованную
особу не мучили более мрачные мысли, чем Немийского
жреца. Из года в год, зимой и летом, в хорошую и плохую
погоду, одиноко нес он свою вахту и только с риском для
жизни урывками погружался в беспокойную дрему.
Малейшее ослабление бдительности, проявление телесной немощи
и утрата искусства владеть мечом ставили его жизнь под
угрозу; седина означала для него смертный приговор. От
одного его вида прелестный пейзаж мерк в глазах кротких
и набожных паломников. С суровой и зловещей фигурой
Немийского жреца плохо сочетались мечтательная
голубизна итальянского неба, игра светотени в летних лесах и блеск
125
волн на солнце.
И так далее во фрэзеровском пышном красочном
стиле.126 Фрэзер отождествляет сорванную ветвь с золотой
ветвью, которая была необходима Энею, чтобы проникнуть
в царство мертвых; он считал золотую ветвь омелой, и в
125 Фрэзер Д. Д. Золотая ветвь. М., 1998. С. 8.
1260 стиле Фрэзера см.: Fontenrose J. Review of Hyman... P. 77. —
Его модель, очевидно, сходна с моделью Раскина. Стоит отметить,
что «Наука магии» начинается с отсылки к живописи Тернера и его
«божественному духу».
82
роще Дианы (по-видимому, дубовой) он помещал тот дуб
(ilex), с которого Эней сорвал ветвь. Царь Леса
олицетворял Вирбия (которого римляне отождествляли с
Ипполитом), низшее, но главное (или единственное) мужское
божество в арицийском заповеднике; в качестве Вирбия Царь
был супругом самой Дианы. И, наконец, Диана была
воплощена в дубе, на котором росла золотая ветвь.127
Эти соответствия по общему признанию в высшей
степени надуманны и не выдерживают никакой критики. Лэнг,
Конвей и другие ученые блестяще свели на нет все связи
между арицийской ветвью и золотой ветвью Энея, а
также между ними обеими и омелой.128 Очевидно, Эней не
проходил весь путь от Кумы до альбанских холмов, чтобы
сорвать золотую ветвь, что явствует даже из беглого
чтения «Энеиды» (6.133-211). с(ней срезал ветвь в том самом
лесу, где троянцы рубили деревья, готовясь к тризне по
Мисену, — уже одно это показывает, что события не могли
происходить в священной роще Дианы, и дерево, с которого
была сорвана ветвь, не могло находиться слишком далеко
от fauces grave olentis Averni* (6.201). Более того, Эней не
127Frazer J. G. The Dying God. I, 1. См. также: Frazer J. G. Lectures
on an Early History of the Kingship. London, 1905. I.
128Lang E. Op. cit. XI; Conway R.S. The Vergilian Age. Harvard
University Press, 1928. III. — Как выявили Лэнг и другие ученые, образ
омелы возникает только по подобию (Аеп. 6.205-207), и даже
Вергилий не говорит, что золотая ветвь была похожа на омелу. Он говорит
лишь, что она блестела среди ветвей дуба, подобно тому, как желтые
цветы омелы появляются (но едва ли блестят или сияют) среди ветвей
множества деревьев. Она была не отдельным и отличимым от других
объектом, который сразу же бросался в глаза,— нужно было
внимательно вглядываться, чтобы заметить цвет, почти затерянный среди
ветвей и листвы. Для отождествлений, проведенных Фрэзером,
гораздо более разрушительны изыскания Конвея, чем Лэнга, ибо Конвей
лучше понимал Сервиевы publica oponio и istum inde sumpsit colorem
(к Аеп. 6.136), нежели Фрэзер. Предыдущая фраза не означает, что
общественное мнение времени Сервия идентифицировало ветвь Энея
с арицийской: скорее она означает «здравый смысл». В следующей
фразе colorem означает не цвет ветви, но «внешний вид», как
указывает Конвей: арицийская ветвь была похожа на золотую ветвь,
которую Эней должен был сорвать, чтобы сойти в нижний мир; ибо ветвь
давала Энею право подарить мертвого человека, Мисена, подземным
силам, а сам Эней, посетив царство мертвых, мог возвратиться
живым в верхний мир. Так я понимаю Сервия, и это типичная
интерпретация самого Сервия.
83
был беглым рабом (хотя и profugus), ветвь не давала ему
никакого права сразиться за титул (он уже был царем), она
произрастала на дереве, посвященном Juno Inferna (не
Диане), она послужила пропуском Энея в царство мертвых и
даром Прозерпине {Juno Inferna).129
Что мы действительно знаем о «призрачном жреце» в
Неми? Выясняется, что явно преследовавший Фрэзера
образ выводится по преимуществу из предложения Страбона,
который, описывая святилище Дианы в Ариции, упоминает
господствовавший там варварский «скифский» обычай:
καθίσταται γαρ Ιερεύς ό γενη-θείς άυτόχειρ του Ιερωμένου
πρότερον δραπέτης άνήρ· ξιφήρης όυν έστιν αεί περισκοπών τας
επιθέσεις έτοιμος άμύνεσθαι.*
Страбон не утверждает, что видел жреца. Он пишет
лишь о носящем меч муже, готовом защитить себя от
ожидаемых нападений, предположительно от возможного
преемника. Фрэзер же раздувает его образ до недремлющего
стража дерева:
В священной роще росли деревья, вокруг которых в любое
время дня и, вероятно, далеко за полночь можно было
увидеть крадущуюся зловещую фигуру. В руке он сжимал
обнаженный меч и непрестанно осторожно озирался вокруг
себя, как будто в каждое мгновение ожидал появления врага,
который его сразит. Он был жрецом и убийцей; и муж,
которого он высматривал, должен был рано или поздно убить
его и принять жречество в свою очередь.
Но Страбон ничего не пишет о том, что жрец
охранял дерево. Фрэзер же имеет в виду то дерево, с
которого беглый раб срывал ветвь. Только Сервий (Аеп. 6.136)
упоминает конкретное дерево и конкретную ветвь: In huius
templo... fuit arbor quaedam de qua infringi гатит non lice-
129Как убедительно показал Лэнг (Lang A. Op. cit. Р.211), золотая
ветвь могла быть сорвана только избранным человеком и никем иным.
Но любой человек имел власть сорвать арицийскую ветвь, хотя
только беглый раб мог сделать это безнаказанно. Сервий (к Аеп. 6.136)
говорит, что арицийская ветвь была ветвью дерева как такового,
любой ветвью этого дерева; его слова не содержат даже намека на иное
понимание.
130Frazer J. G. The Dying God. I, 8-9.
84
bat. dabatur autem fugitivis potestas ut siquis exinde ramum
potuisset auferre monomachia cum fugitivo templi sacerdote
dimicaret: nam fugitivus illic erat sacerdos.* Удивительно,
почему жрецу приходилось быть столь бдительным, неся
свою стражу? Срывая ветвь, беглец получал лишь
право на поединок (monomachia) с человеком, исполнявшим
функции жреца. Фрэзер скорее всего предполагает, что
человек, сломавший ветвь, был вправе убить даже спящего
жреца. Но если, как говорит Сервий, срывание ветви
позволяло беглецу только бросить вызов, почему Царь Леса не
мог расслабиться и пойти наконец спать? Возможно,
Фрэзер возразил бы, что жрецу хотелось избежать поединка,
особенно когда он начинал стареть и становился
немощным, хотя бдить под открытым небом дождливой холодной
зимней ночью едва ли было лучшим выбором. И как не
удивляться, почему жрец не расположился
непосредственно вблизи дерева, — эту возможность Фрэзер
проигнорировал. Но могло ли непрестанное бдение с обнаженным мечом
в руке предотвратить поединок?
Рассмотрим ситуацию подробнее, как ее представляет
себе Фрэзер. Глухой ночью жрец с оружием наготове вдруг
сталкивается с беглым рабом — доведенным до отчаяния,
безрассудным человеком, который, вооружившись мечом,
пришел к дереву, намереваясь сорвать с него ветвь.
Кроме них там никого нет (мы просто обязаны предполагать,
что жрец затаился в слабоосвещенном месте в безлунную
ночь, поскольку роща погружена в кромешную мглу; хотя
именно этот свет и подскажет беглецу, где стоит заветное
дерево). Жрец нападает на пришельца. Что же предпримет
человек, подвергшийся нападению? Не станет ли он
обороняться, хотя и носит меч только потому, что еще не успел
сломать ветвь? Очевидно, он будет защищаться, коль скоро
единственная альтернатива для него — смерть от руки
жреца; если он отступит и оставит святилище, ему не избежать
поимки, ведь он беглец. Если же ему удастся убить жреца,
он может сломать ветвь, а наутро сказать, что сломал ее до
поединка. Можем ли мы предполагать, что подобный
человек будет чересчур разборчивым? И что терял беглец,
даже среди бела дня вторгшийся в рощу, защищая себя, если
85
он приблизился к дереву и увидел устремившегося на него
жреца с поднятым мечом? Когда у него нет выбора между
смертью и защитой, он станет отчаянно обороняться, даже
если его ждет поражение, а если он выйдет победителем,
за победой немедленно последует наказание за незаконное
убийство жреца. Таковы были правила игры.
Следовательно, жрец находился в самом выгодном положении в любом
случае; непрестанное бодрствование не избавляло его от
поединка, даже если согласиться с предположениями
Фрэзера. Разве жрец не осознавал этого? Так зачем же ждать под
открытым небом всю зимнюю ночь напролет, дождливую
и холодную?
Сервий не упоминает о том, что жрец охранял дерево.
Страбон пишет, что он поджидал επιθέσεις, т.е. нападения
или натиска, предположительно на него (но
необязательно), ибо всегда был «готов защищаться». Можем ли мы
быть уверены в том, что он имел право помешать беглому
рабу сломать ветвь или что беглецу не дозволялось
защищаться, если жрец нападал на него, когда он приближался
к дереву?131 Павсаний проливает на это обстоятельство не
больше света. Он приводит миф, согласно которому
Ипполит пришел в Арицию после своего воскресения и правил
там как царь, посвятив τέμενος Артемиде:
£νθα άχρι έμου μονομαχίας &θλα ήν και ΙεράσΦαι τη -θεω τον
νικώντα· ό δε άγων ελευθέρων μέν προέκειτο όυδενί όικεταις δέ
άποδρασι τους δέσποτας.*
Павсаний подтверждает monomachia Сервия: поединок
проводился между бросающим вызов и жрецом, оба
пришли в Арицию беглыми рабами; победитель становился или
по-прежнему оставался служителем Дианы.
За одним исключением (Светоний), мы располагаем
лишь поэтическими свидетельствами об арицийском
жречестве. В «Науке любви» (1.259-260) Овидий называет
лесное святилище провинциальной Дианы partaque per gladios
131 Сервий, правда, утверждает: «dabatur autem fugitivis potestas ut
siquis exinde ramum potuisset auferre»,* и т. д. Это может означать, что
кто угодно мог попытаться помешать беглецу приблизиться к дереву;
но эти слова могут относиться и к удаче раба, сбежавшего к дереву,
где он мог сорвать ветвь.
86
régna nocente manu* т.е. «царством, добытым мечами». В
«Фастах», описывая арицийское святилище, Овидий
упоминает царство, которое получал беглец, убивая своего
предшественника:
... régna tenent fortes manibus pedibusque fugaces
et périt exemplo post modo quisque suo.132*
Здесь приводится поэтическое описание правила
преемственности: беглец, наделенный сильными руками и
быстрыми ногами, способен завоевать царство. Валерий Флакк
упоминает лишь об обычае в soli поп mitis Aricia regt* (Arg.
2.305). Когда Стаций пишет «profugis сит regibus aptum
fumât Aricinum Triviae nemus»* (Silv. 3.1.55-56), он, скорее,
по мнению Лэнга,133 имеет в виду Ипполита и Ореста,
бежавших наследников, история которых излагается в греко-
италийской легенде, чем правило преемственности
жречества (иначе нам пришлось бы истолковать regibus как «про-
лептик»).
Поединок за «наследство»
Остается еще одно сообщение о Rex Nemorensis. В
«Жизни Калигулы» Светоний пишет о скверном
характере этого императора: nullus denique tarn abjectae condi-
cionis tamque extremae sortis fuit cuius non commodis ob-
trectaret. nemorensi regi quod multos jam annos poteretur
sacerdotio validiorem adversarium subornavit* Калигула не
обходил своим вниманием людей простого происхождения.
Царь Леса, который удерживал этот титул много лет,
вызвал его зависть, и Калигула подослал более сильного
человека сразиться с ним. Возможно, ему пришлось нанять
какого-то бежавшего раба для выполнения задания,
поскольку он был вынужден следовать культовому установлению,
т. е. должен был подготовить побег для раба, чтобы тот
достиг рощи Дианы. Значит, это был его собственный раб,
или он приказал какому-либо хозяину (вероятно,
заплатив ему) посмотреть сквозь пальцы на побег. Где
Калигула должен был искать подходящего раба, который мог
132 Ovid. Fast. P. 271-272.
133Lang A. Op. cit. P. 209.
87
стать validior adversarius?* Очевидно, среди гладиаторов,
большинство которых были рабами: Калигула нашел
своего царя-избранника в ludus.* Здесь перед нами
свидетельство огромной важности для интерпретации «призрачного
жреца».
Контекст сообщения Светония очевиден: Rex Nemoren-
sis — один из трех людей низкого происхождения,
привлекший враждебное внимание и вызвавший ненависть
Калигулы. Другим был Эзий Прокул, прозванный Колоссеро-
том, высокий и статный муж, которого Калигула выволок
на арену и принудил сражаться с двумя гладиаторами;
когда же Колоссерот нанес поражение обоим, Калигула
связал его, унизил, а затем задушил. В третий раз Калигула
не стерпел рукоплесканий в честь Пория, essedarius*
когда после победы тот отпустил раба. И Коллосерот и По-
рий, как оказывается, были свободными людьми (или
отпущенниками): но Порий был гладиатором, а Колоссерот, не
будучи сам гладиатором (возможно он был miles,* сыном
primipilaris*), сражался в гладиаторских боях первый и
последний раз в своей жизни — свободный гражданин крайне
редко принимал в них участие. Таким образом, все три
примера (Kaligula, 35) имеют отношение к гладиаторским
боям, и Rex каким-то образом связан с двумя остальными.
Можем ли мы предполагать, что поединок за
«наследство» Ариции был гладиаторским боем или чем-то очень
похожим на него? Другими словами, был ли это бой между
гладиаторами, между рабами, сражавшимися на клинках?
Был ли он заранее намеченным публичным
мероприятием, проходившим во время религиозного праздника? Важно
и то обстоятельство, что, согласно Теренцию Лукану,
первые гладиаторские бои устраивались в роще Дианы (слова
in nemorе Dianae134* могут означать только рощу вблизи
Ариции) : ведь богиня покровительствовала гладиаторским
поединкам. Если поединок между жрецом и беглым рабом
был гладиаторским, то он мог состояться только в
назначенный день, как часть праздника.
Единственный день, когда жреца Дианы могли вызвать
на бой, это, конечно, Иды (13 августа), праздник Дианы
134Plin. NH 35.33.52.
88
в Ариции и на Авентинском холме, где арицийский культ
получил римскую линию развития.135 Этот день был
также праздником рабов, как пишет Плутарх в «Римских
вопросах»: все рабы и рабыни отмечали его и были
свободны от работ.136 Он добавляет, что и рабыни, и свободные
женщины в этот день мыли головы, и предполагает, что
обычай перешел от рабынь к свободным женщинам.
Сообщение Плутарха о соблюдении всеми женщинами
обряда, который он приписывает проводившемуся в тот же
самый день празднику рабов, убеждает нас в том, что это
был праздник Дианы, отмечавшийся рабами 13 августа,
хотя он и не упоминает ни о каком божестве, ведь
праздник Дианы считался также женским праздником. Согласно
Овидию
... saepe potens voti, frontem redimita coronis,
femina lucentes portât ab urbe faces.137*
Поскольку поединок за титул был битвой между
рабами и победитель становился жрецом Дианы, скорее всего
это состязание включалось в праздник рабов, посвященный
Диане. Данное предположение согласуется с известными
нам программами античных праздников, поэтому мы
можем заключить, что поединок был неотъемлемой частью
праздника Дианы на Идах и, возможно, главным
событием дня. Тогда же устраивались собачьи бега, и даже сама
Диана вознаграждала победивших псов в этот день.
Охотничьи дротики начищались, но не использовались, ибо ди-
135q культе Дианы на Авентине см.: CIL 6.2298; Varro Lingua
Latina, 5.43; Festus, p. 467, Lindsay. О празднике в Ариции см.: Stat.
Silv. 3.1.55-60. Культ Дианы Арицийской на Авентине не имел Rex
Nemorensis.
136QR 100=Мог. 287EF Ср.: Festus. P. 460, 467, Lindsay.
137 Овидий. Фасты. 3.269-270. См. также: Овидий. Наука любви.
1.259-260.— Стаций упоминает факелы женщин: et face multa/ con-
scius Hippolyti splendet lacus* (Silv. 3.156-57). Фестий (p. 67, Linsday)
упоминает, что беременные женщины совершали в Ариции
жертвоприношения Эрегии. О культе и святилище Дианы в Ариции см.:
Morpurgo L. Nemus Aricinum// Monumenti Antichi XIII: 297-368;
Gordon A. E. The Cults of Aricia// University of California Publications
in Classical Archaeology. Vol.2. N1. Berkeley, 1934. О Диане в
латинских городах см.: Latte К. Romische Religionsgeschichte. (Munich: Beck,
1960.) P. 169-173.
89
ким зверям дозволялось бродить свободно (так же, как и
рабам):
... ipsa coronat
emeritos Diana canes et spicula terget
et tutas sinit ire feras, omnisque pudicis
Itala terra focis Hecateidas excolit idus.138*
Как мы можем заключить из замечания Светония,
поединок за «наследство» готовился заблаговременно: ему
казалось необычным непредоставление противника Rex
Nemorensis, а тот факт, что император Калигула уделял
завидное внимание таким пустяковым предметам, как
гладиаторские занятия и т. п., это было ниже императорской
dignitas* и что он сам занимался поисками более
сильного противника, способного одержать победу над жрецом.
Следовательно, обычно противника находили (а
возможно, и не одного), но никаких специальных усилий отыскать
именно победителя не прилагалось: люди желали честного
сражения, и если побеждал прежний жрец, они
соглашались с таким исходом поединка. Возможно, каждый боец
имел своих сторонников; вполне вероятно, что Калигула
проигрывал пари, делая ставку на претендента несколько
лет подряд, и на этот раз хотел быть уверен в победе.
Мою интерпретацию подкрепляют еще несколько
упоминаний. Павсаний использует технический словарь игр:
жречество было наградой (αθλα), которую получал
победитель (τον νικώντα) в поединке (μονομαχία), и состязание
(άγων) не предназначалось для свободных людей, но
было установлено (προέκειτο, т. е. в страдательном залоге προ-
τίΰηται, технический термин для состязания или награды)
только для беглых рабов. Partaque per gladios régna no-
cente manu* (1.260) в «Науке любви» Овидия указывает
скорее на гладиаторский поединок, в котором награда —
régna, чем на случайную, непредусмотренную стычку,
которую жрец должен был ожидать в любое мгновение. И régna
tenent fortes manibus pedibusque fugaces* (3.271) в «Фастах»
Овидия обозначает предварительно подготовленное
состязание в беге: претендент, бросающий вызов, обязан был
иметь не только сильные руки, но и быстрые ноги. Мужчи-
138Statius. Silv. 3.1.57-60.
90
на, вызвавшийся участвовать в подобном состязании,
уподобляется рабу-гладиатору в качестве претендента. В
надлежащий день, августовские Иды (а возможно, и в другие
священные дни), его посылали в рощу Дианы.
По-видимому, ему давалось указание добежать до рощи из
определенного места; люди преследовали его, и если он достигал рощи
раньше, чем они, то вступал в убежище и выигрывал
состязание (не ясно только, имели ли к этому бегу какое-либо
отношение псы-победители и охотничьи дротики). Таким
образом, формально он представал в роли беглого раба: хотя
он и был свободен от работы в августовские Иды, его никто
не освобождал от рабства. В пределах рощи он скорее
всего мог затаиться и распорядиться полученной передышкой,
чтобы решить вопрос поединка по своему усмотрению; ибо
Страбон говорит, что жрец был начеку, озираясь по
сторонам (περισκοπών) и ожидая нападения, или же задача
жреца состояла в том, чтобы воспрепятствовать
проникновению беглеца в рощу, что представляло огромную опасность
для последнего, поскольку жрец не знал, с какой стороны
тот появится.
Относительно частных деталей мы можем лишь строить
предположения, привлекая для их подкрепления обычаи
других культов. Но нам необязательно полагаться на ped-
ibus fugaces Овидия (обычно интерпретируемые как просто
указание на беглого раба) в качестве свидетельства того,
что состязание в беге предшествовало поединку. Из слов
Фестия,139 возможно, ссылающегося на Варрона,
следует, что опередивший своих преследователей раб назывался
cervus\ причем Фестий упоминает об этом именно в связи
с праздником Дианы: Servorum dies festus vulgo existimatur
Idus Aug., quod eo die Ser. Tullius, natus servus, aedem Di-
anae dedicaverit in Aventino, cuius tutelae sint cervi; a quo
celeritate fugitivos vocent cervos.* Праздник рабов
отмечался 13 августа, поскольку в этот самый день царь Сервий
Туллий посвятил Диане храм на Авентине (чтобы
представить арицийский культ богини в Риме); Диана выступала
защитницей оленей, отчего беглых рабов называли
оленями за быстроту ног. Прозвище cervi давали тем, кто бежал
139Festus. Р. 460, Lindsay.
91
быстрее всех на празднике Дианы, поэтому Диана
защищала победителей точно так же, как она благоволила в тот же
самый день быстроногим собакам.140
Древо и ветвь
Когда cervus побеждал в беге и достигал рощи, он был
обязан, перед тем как вызвать жреца на поединок, сорвать
ветвь со священного дерева. По крайней мере, так
утверждает комментатор Сервий, хотя ничего не пишет о том,
когда или как беглец ломал ветвь. Охранял ли жрец
дерево и пытался ли удержать потенциального противника?
Было ли это раскидистое дерево с низко свисающими
ветвями, так что беглец вполне мог ускользнуть от жреца,
добежав до противоположной стороны дерева и подпрыгнув,
чтобы сорвать ветвь? Или же он имел право на ветвь, едва
приблизившись к дереву? Мы ничего не знаем об этом.
И вообще, нужно ли было ему срезать ветвь? Только
Сервий упоминает о таком факте; он жил около 390-400 гг.
н. э. и писал об обычае в прошедшем времени: fuit arbor
quaedam, infringi гатит non licebat, dabatur autem fugitivis
potestas, fugitivus illic erant sacerdos.* И культ, и жречество,
и обряд ушли в далекое прошлое задолго до этого
времени. Кроме того, истиной в последней инстанции для Сервия
было publico opinio, под которым следует понимать не
общественное мнение античности в целом или италийской
традиции в частности, как его воспринимал Фрэзер, но скорее
«здравый смысл» в терминах Конвея.141 Во всей полноте и
140Возможно, уместно упомянуть пассаж из «Греческих вопросов»
Плутарха (QG 39 = Мог. 300 cd): самозванец в Ликее возле Ликосуры в
Аркадии назывался (олень). Первым прозванным так человеком был
Канфарион, аркадец, дезертировавший к элидянам во время войны и
пересекший Ликей с добычей. Когда война утихла, он бежал в Спарту,
и оракул повелел спартанцам выдать оленя. Здесь беглец и
осквернитель святилища назван «оленем». Альтхайм (Altheim F. Griechische
Gotter im alten Rom In Religionsgeschichtliche Versuche und
Vorarbeiten. XXII. 1. Giessen, 1930. P. 143-156) понимал связь между ари-
цийским поединком и гладиаторскими играми (а также другими
типами обрядовых состязаний), но, доказывая греческое происхождение
Дианы, пытался найти ее прототип в греческих культах Артемиды.
141 Conway R.S. The Vergilian Age. Cambrige (Mass.), 1928. P. 42.
92
по своей сущности таким opinio была легенда об Оресте,
который пришел в Арицию и принес с собой культ Дианы
Таврической и варварский обряд, позднее преобразованный в
поединок за наследие. В данном контексте Сервий и
упоминает дерево и ветвь. Но обязаны ли мы придавать значение
указанию на дерево и ветвь? Ведь само их существование
покоится на крайне зыбком и малоубедительном
свидетельстве. И все же зададим вопрос: из каких источников Сервий
извлек это особенное дерево, если ничего подобного
никогда не существовало? Ошибки и неверные отождествления
всегда имели и имеют место, и publica opinio, и Сервий ни в
коем случае не застрахованы от них; но все же нам не
следовало бы легко соглашаться с наличием ошибки в данном
случае. Ответ может заключаться в представлении о
неприкосновенности всей священной рощи, ибо несомненно, что
нанесение вреда священным деревьям было наказуемо для
всех, лишь жрец мог срезать ветвь в соответствии со
строжайшими ограничениями и только в предписанных
обрядами целях. Культовые уложения Италии и Греции
жестоко карали рубку деревьев и их вынос за пределы
священных рощ, предписывая суровые наказания за их нарушение;
например, пятьдесят плетей для раба, штраф в пятьдесят
драхм для свободного человека.142 Мы даже можем найти
сведения о смертельной казни, хотя они не
подтверждаются источниками в целом: Элиан рассказывает, что афиняне
убивали всякого, кто осмеливался срубить дуб в ήρωον.143*
Фестий пишет: Capitalis lucus, иЫ siquid violatum est caput
142См.: IG2 1362 = Michel 686, надпись (около 300 г. до н. э.)
предписания, касающегося temenos* Аполлона в Афинах и
запрещающего причинять вред деревьям или уносить дрова, хворост и даже
опавшую листву из temenos: раб, преступавший предписание,
должен был получить пятьдесят плетей, а свободный человек — уплатить
пятьдесят драхм. См. также: IG 5.1390 = Michel 694, 78-80 (91 г. до
н. э.) — закон, регламентирующий культ и мистерии богини в Анда-
нии: вновь раб-преступник наказывался плетьми, со свободного
человека взыскивался штраф. Об Италии и священной роще в Сполето
см.: CIL 11.4766 = Dessau 4911; исключение составляют только
случаи сбора дров для совершения жертвоприношений. О святости рощ
см.: Frazer G.J. The Dying God. II. P. 121-123; Morpurgo L. Nemus
Aricinum// Monumenti Antichi XIII. 1903. P. 364-365.
143VH 5.57.
93
violatons expiatur.144* Роща Дианы Немейской несомненно
была capitalis lucus.
Предположим, что главная задача жреца Дианы
состояла в охране священной рощи от посягательств возможных
нарушителей, это мнение уже неоднократно высказывалось
учеными.145 Тогда на августовских Идах, празднике рабов,
бежавший раб, согласно обычаю, срывал в роще ветвь с
дерева, тем самым преступая табу; и в обязанности
жреца входило наказать того, кто это сделал. Таким образом,
срывание ветви служило вызовом на поединок со жрецом,
и обязанность жреца наказать или схватить преступника
выступала предлогом или оправданием праздничного
поединка. Данное объяснение обычая согласуется с моей
интерпретацией поединка за право наследия как кульминации
праздника Дианы.146 Как мы можем заключить из
сообщения Светония, все подготавливалось заранее: выбирался
гладиатор, который на Идах бежал в рощу Дианы, ломал
ветвь и, таким образом, имел возможность сразиться с
поджидавшим его жрецом. К эпохе Сервия, когда культ Дианы
и поединок за наследие более не существовали, «дерево в
роще», с которого беглец срывал ветвь, преобразовалось в
традиции в особое дерево.147
144Festus. Р. 57, Lindsay.
145Лэнг предполагает, что Rex был хранителем особого дерева
(поскольку он соглашается с сообщением Сервия об особенном дереве).
Гордон допускает, что Rex охранял нищих, которые заполняли clivus
Aricinus.* См.: Lang A. Op. cit. P. 220; Gordon A. E. The Cults of Ari-
cia// University of California Publications in Classical Archaeology. 1934.
Vol.2. N 1. P. 18-19. Morpurgo L. Op. cit. P.366.
146Написав этот раздел, я обратился к Морпурго (Morpurgo L. Op.
cit. P. 364-366), которая пришла к похожему заключению
относительно срывания ветви: беглец целенаправленно ломал ветвь с тем, чтобы
бросить вызов жрецу, и если жрец не убивал его сразу же, то
преемник убивал его самого. Несколько позднее нанесение вреда стало «для
этого ритуала вторичной необходимостью, значение которого было
исключительно символическим». По Морпурго, подобно Фрэзеру и др.,
ветвь должна была быть сорвана с особого, не любого дерева в роще.
Она также полагала, что Сервий заблуждался.
147Недопустимо предполагать, что одно и то же дерево, от коего
беглец должен был взять ветвь или омелу, оставалось на протяжении
веков священным. В скором времени дерево должно было быть
очищено от омелы, тем более если кандидаты на жречество были столь
многочисленны, как предполагал Фрэзер (если только италийцы не
94
Слова Страбона соответствуют моему агонистическо-
му истолкованию арицийского обычая, независимо от того,
срывалась ветвь или нет. Жрец носил меч в руке или
ножнах (Страбон употребляет здесь просто ξιφήρης),
непрестанно осматриваясь, опасаясь нападений и приготовившись
отразить их; после этого Страбон упоминает о роще:
ξιφήρης όυν έστιν αεί περισκοπών τας επιθέσεις, έτοιμος άμύνεσ-
Όαι. τό δ' ιερόν έν &λσει.*
Мы можем двояко понимать эти слова: (1) Царь Леса
всегда вооружен клинком, но ожидает нападения
соперников только в праздничные дни, на которые планировался
поединок, — хотя Страбон не уточняет свои слова,
возможно потому, что его знания об арицийском культе были
весьма ограничены;148 (2) Царь Леса носил меч — знак и
оружие своего служения, поскольку его главная обязанность —
охрана рощи и защита ее от собирателей дров или
незаконных вторжений. В более поздней интерпретации
ожидаемые έπιΰέσεις — незаконные вторжения в рощу.149
Возможно, Страбон смешал оба значения в одном утверждении; его
знали способов прививки омелы). Как пишет Лэнг, «если ветвь была
омелой, священное дерево с необходимостью должно было постоянно
меняться (о чем нам ничего не известно), ибо случай с омелой не был
uno avulso non deficit alter»* (Lang A. Op. cit. P.221). В противном
случае, если каждый беглец срезал с дерева ветвь, оно по прошествии
некоторого времени стало бы ободранным и увечным, ибо срезанные
ветви не прирастают обратно сами по себе (во всяком случае, очень
нескоро). Конечно, многое зависит от численности приходящих
беглецов и временных интервалов. Более того, деревья имеют обыкновение
вырастать и погибать. У Фрэзера же было такое дерево, которое
стояло на протяжении по крайней мере 1500 лет, к которому непрестанно
приходили беглецы и которое непрестанно восстанавливало омелу.
148αεί определяет ξιφήρης; употребление его с περισκοπών придало
бы чрезмерную выразительность первому слову причастного оборота.
Опять же, оно может быть понято как «в каждом случае»,
эквивалентном έκάστοτη, который, возможно, является его основным значением.
Другими словами, в каждый праздничный день жрец носил с собой
меч, опасаясь нападений.
149Против такой интерпретации можно возразить, что άμύνεσθαι
употребляется в медиальном залоге; но, защищая рощу от вторгавшихся
святотатцев, Царь также защищал и свое положение, и в любом
случае в сражении с правонарушителем он с необходимостью защищался.
Страбон же, знавший об этом обычае только по рассказам, мог и не
понимать его сути.
95
«непрестанное ношение меча» наводит на мысль о
постоянном несении охраны, а остальная часть фразы относится к
поведению жреца в день поединка.
Следовательно, правило преемственности в том виде, в
каком его излагают Страбон, Павсаний и Сервий,
выполнялось в продуманном праздничном состязании,
гладиаторской схватке между жрецом и бросившим ему вызов. Они
бились насмерть, таковыми собственно были все
гладиаторские бои, ведь жестокие и кровавые обряды и
культовые практики были известны Италии и Греции. Подобная
трактовка арицийского обычая гораздо осмысленнее, чем
фрэзеровская, и в большей степени согласуется с
античными религиозными практиками. Фрэзер считал, что каждый
Царь Леса погибал в поединке; он никогда не допускал, что
смерть может наступить и по другим причинам (например,
от пневмонии, разыгравшейся после непрестанной охраны
дерева допоздна под открытым небом, холодным дождем
или снегом). Предположим, что Rex умер от сердечного
приступа. Что происходило тогда? Вероятно, на бой за
корону выбирали сразу двух мужей.
Диана Веста
Мы должны иметь в виду, что наши сведения о
жреце Дианы весьма ограничены. Источники, касающиеся его
личности, на удивление не многочисленны в сравнении с
довольно внушительным корпусом свидетельств о самом
культе, мифе и почитании Вирбия и Эрегии.150 Как пока-
150Как указывал Лэнг (Lang A. Op. cit. Р. 209, 218), образы
Ипполита и Ореста, очевидно, были позднее привнесены в данную культовую
традицию; и, подобно столь многим культовым мифам, они не вполне
соответствуют обрядам и культовым институтам, поскольку ни
царевич не был беглым рабом, ни Ипполит не убивал своего
предшественника. Что касается Ореста, то ровным счетом ничего не говорится о
том, что он когда-либо срезал ветвь и его посещение Ариции никогда
не соотносилось с убийством Эгиста. По-видимому, не существует
никакой связи между поединком за наследие Ариции и легендарным
Таврическим жертвоприношением, как в этом были убеждены Сервий
и др.: Serv. Aen. 2.116, 6.136; Solin. 2.11; Val. Flacc. Arg. 2.300-305;
Strabo. 5.3.12. Описания указанных ритуалов объединяет лишь
лейтмотив «варварства», обнаруживается некоторое сходство между смер-
96
зали в своих исследованиях Морпурго151 и Гордон,152 Rex
не упоминается ни в одной из надписей Неми или Ариции.
Возможно, он был реальным жрецом не более, чем
реальным царем. Он звался sacerdos, поскольку был
служителем Дианы; его титул Rex обличал в нем последнего
победителя в гладиаторском состязании, составлявшем часть
культа Дианы; он был борцом-победителем.153 Добавление
Nemorensis указывало на его обязанности: он был
хранителем рощи. Царский титул, возможно, изначально
дававшийся в шутку, стал священным благодаря обычаю и
длительной традиции.
Совершенно справедливо, что ни надписи, ни
литература не сообщают о каком-либо другом жреце или
жрице Дианы Немейской. Традиционно богине должна была
служить жрица.154 Вероятнее всего, культ Дианы Ариций-
ской поддерживала жрица, поскольку в немейской надписи
Диана отождествлялась с Вестой.155 Фрэзер предположил
наличие в храме Дианы Весты очага, в котором горел
незатухающий огонь. Подтверждений этому нет, однако огонь
в целом играл известную роль в почитании Дианы Весты
(Овидий «Фасты», 3.270; Statius. Silv. 3.1.56-57); Стаций
завершает описание праздника Дианы словами omnisque ри-
dicis Itala terra focis Hecateidas excolit idus.* Если на Идах
Дианы возжигалось пламя в домашних очагах, то это
происходило, судя по всему, вследствие огромного значения
очага в данном культе —она была в первую очередь
богиней очага, прозванной Дианой на Альбанских холмах. В
таком случае ей служила жрица-девственница, которой
помогали весталки, следившие за очагом. Целомудренность
служительниц культа Дианы, ее покровительство
беременным женщинам и родам, почитание богини в роще, где она
защищала дичь и деревья и в то же время была патронес-
тельным единоборством и жертвоприношением любого чужестранца,
ступившего на чужую землю.
151Morpurgo L. Op. cit. Р. 353.
152 Gordon А. Е. The Cults of Aricia... P. 19.
153Lang A. Op. cit. P. 222.
154Latte К. Op. cit. P. 171.
155CIL 14.2213: Dianae nemorensi Vestae sacrum diet. Imp. Nerva Tra-
iano Aug. Germanico.*
97
сой охотников, способствовали тому, что греки и италийцы
отождествляли ее с Артемидой в большей степени, чем с Ге-
стией, в особенности же потому, что ее обычно не называли
Вестой Арицийской.156 Жрица и целомудренные
прислужницы могли представляться в образе нимф, которые в
рассказе Овидия (Ovid. Metam., 15.487-492) старались
успокоить Эрегию, когда та горестным плачем по мертвому Нуме
нарушила проведение обряда в честь Дианы Арицийской.
Терракотовый бюст, найденный в Неми, был
идентифицирован с девственницей-весталкой; и если обнаруженное на
мраморном монументе в Неми изображение Фундилии Ру-
фы верно соотносят с жрицей Дианы, ибо ее волосы убраны
подобно прическе самой Дианы, лик которой запечатлен на
золотых и серебряных монетах периода царствования
Августа, мы располагаем веским доказательством в пользу
того, что жрица и весталки совершали богослужение Диане,
a Rех не имел практически никакого отношения к
отправлению ее обрядов.157
Вирбий и Эрегия
Поскольку Диана Арицийская была Вестой латинян,
становится понятно, почему она считалась главной богиней
в латинской Лиге. Ей был посвящен один из самых древних
италийских культов — культ богини очага Лиги и двух
подчиненных ей второстепенных персонажей, Вирбия и Эре-
гии. Слияние образов Дианы и Артемиды в скором
времени сделало неявным аборигенный и автохтонный характер
этого культа. С Артемидой пришли и мифы об Ипполите и
Оресте, с последующим отождествлением Вирбия и Иппо-
156Я, следовательно, могу согласиться с Гордоном, что Диана
—исконная италийская богиня. См.: Gordon Α. Ε. The Cults of Aricia...
P. 8-13; Gordon A.E. On the Origin of Diana// TAPhA LXIII. 1932.
P. 177-192. Я бы сказал, что Диана частично латинская богиня
—Веста альбанских холмов и Альгида. См.: Alfoldi Α. Diana Nemorensis//
AJA 64, 1960, P. 137-144, табл. 31-34.
157 Wallis G. H. Illustrated Catalogue of Classical Antiquities from the
Site of the Temple of Diana, Nemi, Italy. Nottingham, 1893. P. 30; Mor-
purgo L. Op. cit. P. 350. О монетах см.: Mattingly H. Catalogue of Coins
of the Roman Empire in the British Museum. I. P. 21. N 104-106 (pi. 4.2-3
rev.); P. 83. N488 (pi. 12.9 rev.).
98
лита, а также включением Эрегии в свиту
прислуживающих богине нимф. Эта пара, Вирбий и Эрегия, занимает в
источниках (не ранее периода империи) промежуточное
положение между божествами и смертными: он — герой
Ипполит, ставший богом в роще Дианы, даже отождествляемый
с Sol* (Serv. Auct. Aen. 7.776), но в то же время он bis vir* в
качестве спутника Дианы в Неми (Serv. Auct. 7.761); она —
нимфа и богиня (Овидий «Фасты», 3.275), а также жена
царя Нумы. Они представляют собой род
сверхъестественных существ, достаточно часто встречающийся в Италии
и Греции, которые могут быть названы героями,
полубогами, кумирами, даймонами или духами, — как и мы, древние
были не уверены в сущности их природы. Следует также
отметить, что огромное число типичных местных
италийских божеств, подобных Вирбию, соотносилось с
персонажами легенд: Mater Matuta — с Ино, Karmenta — с матерью
Эвандра, Bona Dea — с Фауной, Anna Регеппа — с Анной,
сестрой Дидона, Quirinus — с Ромулом. Я уверен, что ни
один из этих легендарных персонажей не был реальным
историческим лицом (мне хотелось бы сразу отмежеваться от
эвгемеризма), но древние италийцы верили в то, что все эти
божества жили на земле как смертные люди. Столь
устойчивы были эти поверья, а данный феномен так
распространен по всему Средиземноморью, где культ святых
продолжает ту же тенденцию, — что у нас есть веские основания
предполагать, что такие персонажи изначально возникли в
качестве героев, т. е. властительных духов. Герой или
святой становится локальной силой, т.е. местным божеством,
благоприятствующим урожаю, исцелению или навигации,
присутствующим в деревьях, камнях, родниках, как,
например, Эрегия —в роднике Неми (Овидий «Фасты», 3.275,
«Метаморфозы», 15.550-551). На данной стадии культ
героев представляет собой просто культ мертвых, общинный
культ могущественных предков в отличие от обычного
личностного почитания умерших членов рода или
всенародного почитания Манов, мертвых вообще. Может быть, никто
из живших на земле людей никогда не носил имя героя,
но ведь служители культа верили в то, что ранее он был
смертным человеком. Однажды породив героев, святых и
99
божеств, люди создают новые формы на основе старых
моделей (т. е. далеко не каждый бог происходил из образа
героя, а некоторые боги, наоборот, понижались в статусе
до положения героя).
Некогда в Лации жила женщина по имени Эрегия:
каждая женщина эрегейского племени (gens) носила такое имя.
Человек, посвятивший Диане рощу в Ариции, происходил
из того же рода. Катон Цензор называет его Eregius Baebius
(или Laevius) из Тускула, dictator Latinis; согласно Фестию,
это был Manius Eregius, от которого произошли многие
прославленные мужи.158 Manius Eregius Baebius (Laevius)
может быть абсолютно легендарной фигурой, но тогда
довольно трудно объяснить эпитет Tusculanus,
присоединенный к его имени Катоном: почему он происходит из
Тускула, а не из Ариции, что кажется более оправданным?159 И
если он всего лишь легендарная фигура, почему традиция
приписывает ему только посвящение рощи, а не святилища
и культа в целом?
Если Егедга — родовое имя, может ли Virbius также
быть легендарным эпонимом рода латинян? Указание на
это содержится в «Энеиде»:
Ibat et Hippoliti proles pulcherimma bello,
Virbius, insignem quern mater Aricia misit,
eductum Egeriae lucis umentia circum
litora, pinguis ubi et placabilis ara Dianae.160*
15SCato Cens. Αρ. Prise. Inst. 4.21 (I 129 Hertz); Festus, P. 128 Lindsay.
Катон называет cognomen (Baebius), Фестий — praenomen (Manius).
159Об историчности Эрегия Лэвия (Бэбия) см.: Morpurgo L. Op. cit.
P. 342-343. — Имя Eregius также появляется как агномен Тарквиния
Арунта, которого его дядя, Тарквиний Прискус, сделал правителем
Коллатии. Поскольку он испытывал недостаток в наследниках, был
прозван Эрегием, т.е. Нуждающимся. См.: Dion Hal. Ant. Rom. 3.50.3,
Livy 1.34.2-3. Коллатия находилась в 12 милях от Тускуллума.
Согласно Dion. Hal. римляне давали имя Eregius беднякам и бродягам,
хотя в целом латинские тексты не подкрепляют его утверждение; но
данное замечание перекликается со сведениями о том, что бродяги
(возможно, прозываемые Manii, предположительно после praenomen
Тускулана Эрегия) наводняли clivus Virbi в Ариции. См.: Pers. 6.55-
60; Juv. 4.116-118; Festus, p. 128 Lindsay. Однако мы знаем очень
немного и о Тускулане, и об Эрегии Этрусском, чтобы устанавливать
связи между ними. См.: Altheim F. Op. cit. P. 130.
160Aen. 7.761-764.
100
Среди вождей латинян, собравшихся на Троянскую
войну, был Вирбий, сын Ипполита-Вирбия (и, вероятно, Ари-
ции). Большинство вождей — особенно не игравших
существенной роли в эпосе — эпонимы: Aventinus, Coras, Messa-
pus, Clausus, Halaesus, Ufens, Umbro. Это преимущественно
эпонимы городов и земель, но среди них появляется один
родовой эпоним— Clausus:
Claudia nunc a quo diffunditur et tribus et gens
Per Latinum, postquam in partem data Roma Sabinis.161*
Можно возразить, что если здесь подразумевался род
Вирбия, владелец эпонима должен был носить не родовое
имя как таковое, в форме прилагательного, тогда Вирбий не
был бы прародителем всех вирбиев, — а имя наподобие
Virbus, от которого предположительно произошло обозначение
племени. Род Клавдиев, название которого, по-видимому,
производно от Клавса, иллюстрирует обычное отношение
эпонима к родовому имени: более поздней считается
адъективированная форма, происшедшая из предшествующей
(реально или согласно традиции: часто владелец эпонима —
более поздняя конструкция, производная от родового адъ-
ектива). Но существуют и другие имена, помимо родовых,
которые оканчиваются на -ius, например Mezentius, Мап-
tius, Appius. И поскольку в « Энеиде» Вирбий выступает
отцом вирбиев, нам становится ясно, что в данном случае
эпоним тождествен по своему названию племени,
предположительно производному от него. Вероятно, бог-герой
Вирбий первоначально был проекцией племени вирбиев.
Вождь латинян был сыном Вирбия и Ариции
(причем Ариция была или матерью, или родиной). Это было
арицийское племя. Вирбий и Эрегия, как божества рощи,
репрезентировали племена, основавшие и обслуживавшие
святилище: согласно Павсанию (2.27.4) Вирбий-Ипполит
основал τέμενος Артемиды. Нет необходимости
предполагать существование реального Вирбия и реальной Эрегии,
которые некогда жили и умерли, а после смерти обрели
славу героев и стали объектами культового почитания в
роще Дианы-Весты. Главное, что их почитатели видели в
161 Аеп. 7.708-709.
101
них исторические личности. Каждый из них
репрезентирует целое племя, включая всех умерших.162 При этом ни
один, как оказывается, не имел места захоронения: Вирбий
скрылся в роще, а мертвая Эрегия превратилась в родник,
роща и родник стали, в сущности, их могилами.163
Отождествление Вирбия с Ипполитом сказалось и на его культе:
он стал целомудренным спутником Артемиды, воскресшим
после смерти, по-видимому, к бессмертной жизни в
качестве бога. Но у Вергилия изображен исходный италийский
Вирбий, имевший жену и сына.164 Вероятно, на рассвете
162Может показаться удивительным, почему племя Эрегиев
представляла женщина. Она не могла считаться прародительницей gens
Eregia, подобно тому как Вирбий мог быть прародителем gens Virbia,
равно как не могла она быть супругой Вирбия (кроме Sil. Ital. 4.380 —
возможно, неверной интерпретации Виргилия (Аеп. 7.761-763)), что
могло бы быть осмыслением союза этих племен: в легенде она была
женой царя Ну мы. Ее имя —это адъективированная форма,
определяющая gens; она носила имя как таковое, отделенное от какого-либо
его члена. Так, она, вероятно, была духом племени, вариантом
материнского духа (но не прародительницы), в которой племя воплощало
свои надежды на богатое потомство. Отметим слова Фестия (р. 67,
Lindsay): «Eregiae nymphae sacrifïcabant praegnantes quod earn puta-
bant facile conceptum alvo egerere» *. Из племенного духа она стала
защитницей всех женщин. Об Эрегии как Gentilgottheit см.: Altheim
F. Op. cit. P. 94. Вероятно, жрицей Дианы первоначально всегда была
Эрегия, и в связи с этим обычаем была спроектирована богиня
Эрегия; возможно, потому что это племя уже исчезло к тому времени,
когда, как мы видим, Фундилия Руфа была жрицей в царствование
Траяна.
163Только «Метаморфозы» Овидия предлагают несколько рассказов
о родниках (например, Библисе, Аретузе) и деревьях (например,
Филемоне и Баукисе, Дриопе), в которые были превращены человеческие
существа. Такой смертью умирали смертные люди (относительно их
исторического существования сразу отпадали все вопросы), которые
по этой причине не имели другого захоронения. Идентификация
деревьев и родников с умершими представляет собой общее место (см.:
Frazer G.J. The Magic Art... II. P.29-33). В романе Д. Стейнбека
«Богу неизвестному» образно осмысляются примитивные чувства и
концепции, в соответствии с которыми мертвый отец становится
духом дерева. См.: Fontenrose J. John Steinbeck: An Introduction and
Interpretation. New York, 1963. P. 13, 16-18.
164Виргилиево quern mater Aricia mesit может означать лишь то,
что город Ариции, родина юного Вирбия, послал его на войну. Или
же mater Aricia может быть Дианой (арицийской матерью), но
предполагал ли Вергилий бракосочетание между Ипполитом-Вирбием и
Артемидой-Дианой? Поскольку у старшего Вирбия, ставшего отцом,
102
арицийского культа в роще можно было увидеть могилу
Вирбия.
Munera
Если культы Вирбия и Эрегии были изначально
культами героизированных предков, формой почитания мертвых,
нет ничего удивительного в том, что бой гладиаторов
оказывается включен в культовые уложения. Учреждение
похоронных игр или игр, посвящаемых памяти мертвых, было
достаточно древним в Греции и Италии. Вполне
возможно, что игры и состязания во славу предков
предшествовали по времени агонистическим праздникам в честь богов
и превосходили их по важности. В * Илиаде» содержатся
сведения о поминальных играх и нет ни слова о других
играх, несмотря на то, что первые пятилетние состязания —
Олимпийские, были проведены не ранее 776 г. до н. э.165
Но каким бы ни было происхождение ludi и munera* где
бы они впервые ни появились в программе богослужения,
они составляли часть культа почитания мертвых с самых
древних времен и до конца периода греко-римского
язычества. И как бы ни обстояло дело с другими видами игр
в Италии, самые первые гладиаторские бои, судя по
всему, первоначально были именно поминальными. Они были
munera, долгом умершим; в поздней республике и империи
слово munera по преимуществу означало « гладиаторские
представления», а впоследствии распространилось на все
состязания без исключения.166
должна была быть супруга, то кем бы она ни была, она была арици-
янкой. О супруге Вирбия см.: Radke G. RE 9Α. 179; о спекуляциях
относительно происхождения Virbius, также не во всем убедительных,
см.: Radke G. RE 9А.180-182. Следует отметить, что образ Вирбия
был табуирован (Serv. Auct. Aen. 7.776: «cuius simulacrum non est fas
attingere»*) и что лошадям не позволялось находиться в арицийских
святилище и роще, якобы из-за того, что лошади убили Ипполита
(Vir. Aen. 7.778-780; Ovid. Fasti. 3.265-266). Можно спекулировать по
поводу возможных связей между запрещенными equi и
приветствуемыми cervi или победившими canes'" и между образом, которого
никто не смел касаться, и деревом, с которого никто, за исключением
беглых рабов, не мог срывать ветвь.
165См.: Pigganiol A. Recherches sur les jeux romains. Strasbourg, 1923.
P. 20, 69,135, 146; Altheim F. A History of Roman religion. London, 1938.
P.289.
166Pigganiol A. Op. cit.; Altheim. Hist. Rom. Rel. P. 48, 286.
103
Варрон (ар. Serv. Auct. Aen. 3.67) считает, что
традиция проведения гладиаторских боев восходит к похоронам
Юния Брута в 509 г. Согласно обычаю, пишет он, на
похоронах приносились в жертву животные и люди. Когда
же соседние племена прислали слишком много пленников,
дабы родственники совершили массовое убиение в память
Брута, его внука осенила мысль заставить их попарно
биться друг с другом: et quod muneri missi er ant inde munus
apelatum.* Пленников прислали, исполняя «долг», поэтому
и бой был назван «долгом». Мы не можем полностью
полагаться на это свидетельство. Гораздо более вероятно, что
первые гладиаторские бои имели место в Риме в 264 г. во
время консульства Аппия Клавдия и Квинта Фульвия на
поминках по Бруту Пере (скорее всего, путаница в именах и
привела к тому, что их появление традиционно соотносят с
похоронами Юния Брута). Сыновья покойника
осуществили их на Forum Boarium: nam gladiatorum munus primum
Romae datum est in foro boario App. Claudio Q. Fulvio con-
sulibus. dederunt Marcus et Decimus filii Bruti Ferae fune-
bri memoria patris cineres honorando* (Val. Max. 2.4.7).
Напомним, что, согласно описанию Плиния Старшего, первые
гладиаторские игры проводились в роще Дианы Ариций-
ской. В таком случае достаточно очевидно, что жертва
Терентия Лукана имела непосредственное отношение к
культу Дианы: ее роща служила ареной для поединка
гладиаторов. Этот бой был праздничным событием, входившим в
культовое почитание родовых божеств, Вирбия и Эрегии,
связанных с Дианой-Вестой, общим очагом объединенных
латинских племен. Он мог зародиться на поминальных
играх в честь великого представителя латинских племен,
вероятно, Вирбия или Эрегии, когда двое вторгшихся в
рощу людей, оба беглые рабы, противостояли друг другу.
Латиняне установили правило, согласно которому победитель
не мог покинуть оскверненную им рощу, он должен был
оставаться там в качестве хранителя вплоть до
следующего происшествия или юбилея, когда будет вынужден
схватиться с соперником-беглецом. Несмотря на то, что данная
реконструкция происхождения поединка в высшей
степени гипотетична, она кажется мне намного правдоподобнее,
104
чем фрэзеровская, по которой поединок в Неми был
пережитком поединка за получение реального божественного
царствия.
Поскольку празднества Дианы, августовские Иды,
были днем отдыха для рабов и поскольку хранителем рощи
должен быть раб, мысль Эндрю Лэнга о том, что роща
служила убежищем для беглецов, кажется вполне
убедительной.167 Гораздо менее убедительна гипотеза Лэнга в целом,
хотя он и признает, что она не претендует на безусловную
истинность, к тому же в отличие от теории Фрэзера она
не нуждается во введении чуждого и инородного
элемента. Лэнг предполагает, что «неограниченный приток
беглых рабов делал место их прибежища чересчур
беспокойным соседством для Ариции», поэтому было принято
правило «ограничивать число беглецов одним рабом», который
был вынужден охранять особое дерево (Лэнг соглашается с
концепцией существования особого дерева); любой беглый
раб, желавший получить здесь приют, должен был
устранить обладавшего этим правом хранителя и, чтобы вызвать
последнего на поединок, срывал с дерева ветвь. Однако,
скорее всего, убежище для беглецов было неограниченным
во все времена (подобно всем другим убежищам). Беглый
раб по закону не мог быть убит или ранен в роще либо
выброшен из нее. Но принимал ли кто-либо на себя
обязательство кормить его и предоставлять кров в ненастье?
Слишком уж он зависел от культовых служителей, близких
или друзей, которые могли принести пищу и все
необходимое. Ведь если гонимый беглец, как только он пересекал
границы рощи, где его поджидали преследователи, не мог
добыть пищу, голод заставил бы его убить в роще оленя
или зайца и наломать сучьев для костра. Раз он был
вынужден нанести вред роще, его могли схватить. На этом
основании, как я уже предположил выше,
регламентировался поединок на клинках между двумя вторгшимися в
рощу беглецами.
Выдвигая любые предположения относительно Царя
Леса, мы должны отдавать себе отчет в том, насколько
167Lang A. Op. cit. Р. 218-223. — О Диане Арицийской как защитнице
рабов см.: Altheim F. Griechichte Gotter... P. 143-145.
105
этот институт был уникален для Италии и всего
Средиземноморья, насколько он отличается от всех известных
нам реалий —нечто подобное найти крайне сложно.
Африканские и индийские параллели, приводимые Фрэзером,
сомнительны и в лучшем случае разнородны. Ближайшая
параллель — бой за титул в боксе.
Ничто не иллюстрирует фрэзеровский метод анализа
источников и умозаключений лучше, чем посвященная
Царю Леса вводная глава «Золотой ветви». Фрэзер
предлагает совершенно ненадежные истолкования и выводы: когда
ему не удается правильно трактовать отдельные слова и
даже сообщения, он усматривает в свидетельстве меньше
того, что оно позволяет, и в то же время он
усматривает в нем гораздо больше, заполняя лакуны измышлениями
и непродуманными аналогиями. Претерпевали цари когда-
либо обрядовую смерть или нет, скромная должность Царя
Леса безусловно не имела ничего общего с этой практикой.
106
IV. Определения
Соотношение мифа и ритуала
Более двадцати лет назад Клайд Клакхон в
обстоятельной статье предельно осмысленно изложил свои взгляды на
соотношение мифов и ритуалов.168 Он показал, что обряд
может быть достаточно инвариантным на большой
территории, тогда как мифологические aitia этого обряда могут
варьироваться, отличаться в разных сообществах. Он
обнаружил все типы соотношения мифа и обряда среди
примитивных народов: обрядовая драма может явно
инсценировать события мифа или миф может комментировать почти
каждый обрядовый акт, каждое обрядовое действие в их
последовательности; при этом одни мифы толкуют обряды
более или менее систематически, а другие повествуют лишь
о том, как обряды были введены. Более того, поскольку
миф и ритуал оказываются в отношении
взаимоподчиненности, они воздействуют друг на друга. Миф провоцирует
возникновение дополнений к обряду (тем самым
предопределяя строение обрядовой драмы), а ритуал инициирует
добавления или интерполяции в миф. Клакхон, получивший
знания о примитивных народах, что называется, из первых
рук, подтверждает то, что отрицали Рэглан и Хьюман, а
именно что мифы, так же как и обряды, могут
зарождаться в снах и видениях.169
168Kluckhohn С. Myths and Rituals: A General Theory// Harvard
Theological Review. XXXV. 1942. P. 45-79. См. с. 157-176 настоящего
издания.
169 Критику обрядовой теории мифа см. также: В as с от W. The Myth-
Ritual Theory// JAF. 70. 1957, 103-114; Greenway J. Literature among
the Primitives. Hatboro, 1964. P. 283-286.
107
Клакхон выдвинул совершенно справедливое
требование «детального анализа действующих связей» мифа и
обряда. Несомненно, если правы ритуалисты, мы могли
бы наблюдать точное соответствие или некоторое подобие
между обрядовым сценарием и нарочито объединявшимся
с ним мифом всякий раз, когда мы располагали бы как
мифическим текстом, так и обрядовой
последовательностью (из текста или непосредственного наблюдения).
Такой род исследований в систематическом виде ритуалисты
не осуществляли. Нет ни одной работы, в которой Фрэзер
или Харрисон, Рэглан или Хьюман произвели бы
детальное аналитическое сравнение. Теодор Гастер пытался
продемонстрировать данный подход в «Фетиде», 170 однако на
самом деле довольствовался абстрактным уровнем,
указывая на то, что обряды и мифы представляют одну и ту же
последовательность «подавления», «очищения»,
«вдохновения» и «возрождения». Как бы там ни было, в любой
истории герой должен упасть, прежде чем он сможет подняться.
В «Пифоне» я предпринял попытку аналитического
сравнения программы праздника вавилонского Нового года с
текстом «Энума элиш», который на протяжении
праздника читался дважды, обрядовых положений египетского
драматического Папируса Рамсеса с содержащимися в нем
мифическими положениями и обрядов дельфийских Септерий
с мифом Аполлона-Пифона (это те редкие случаи, когда
мы достаточно осведомлены относительно и мифа, и
ритуалов). В итоге мне не удалось найти почти никаких
соответствий, неким «общим знаменателем» служило лишь
указание на то, что обряды напоминают о мифических
событиях. Так я пришел к следующему выводу: каким бы ни
было происхождение данных мифов, оно не было
детерминировано этими ритуалами. Ибо, как мне представляется,
если миф был бы обрядовым текстом, мифические события
должны были бы узнаваться в обрядовых действиях.
Конечно, мы находим явные и строгие соответствия
мифов и ритуалов, как в Старом, так и в Новом Свете. Где бы
ни происходили события, ритуал по существу представля-
170 Gaster Т. Thespis: Ritual, Myth and Drama in the Ancient Near
East. New York, 1950. P. 6-72.
108
ет собой обрядовую драму, и в любом случае мы можем
предположить, что он был преднамеренно сконструирован
таким образом, чтобы разыгрывать, инсценировать миф.
Совершенно верно, что древнегреческая трагедия,
мистерия, миракли и японские пьесы не были созданы на
основании оформленных прежде мифов. Мы не можем точно
установить, возникали их сюжеты наряду с обрядами или
в результате совершаемых действий. Я уверен, что это
заключение в равной степени справедливо и по отношению к
обрядовой драме в примитивных сообществах. Тогда
ученые могут реконструировать отсутствующие части текстов
обряда-драмы независимо от того, развивались ли миф и
ритуал вместе, или миф производен от обряда.
Обрядовая интерпретация, если она верна, должна предоставить
возможность установить происхождение обряда из мифа и
мифа из обряда. Некоторые ритуалисты утверждают, что
именно такая работа проводилась, например в изучении
мифов и ритуалов американских индейцев. Но я не могу найти
ни одного случая, в котором было сделано что-либо
большее, помимо реконструкции, дополнения одного текста или
программы другим, уже упомянутым. Более того, в
основном на материале американских индейцев мы
обнаруживаем скорее драматические обряды, нежели обрядовые
драмы: ни одна история не инсценируется и ни одну историю
невозможно убедительно вывести из ритуальных текстов.
Например, песни или песнопения ирокезов,
сопровождающие обряды Траурного совета,* не содержат никакого
мифического повествования, и обрядовые действия не
инсценируют историю, они являются обрядами, исполняемыми
при установлении нового вождя в совете лиги после смерти
старого. Песни посвящены созданию лиги, и первая часть
обрядов представляет собой перечисление ее основателей.
Даже если усомниться в историчности Гиаватхи, Деганове-
ды и остальных, они упоминаются только как основатели
лиги и обрядов; мифические и легендарные темы
совершенно отсутствуют. Цель обряда — воссоединение, омогуществ-
ление общества ирокезов.171
171 См.: Haie H. The Iroquois Book of Rites. Toronto, 1963. P. 116-145
(о текстах). Ch. Ill—VII (обсуждение Хэйлом обрядов). P.XXIII-XXV
109
Если мы обратимся к церемонии, посвященной богу
дождя Тэве пуэбло Сан Хуан в Нью Мехико, мы вновь
обнаружим череду обрядовых действий, сопровождаемых
песнопениями и декламациями, но не миф. Несмотря на
то, что В. Ласки называет эту последовательность драмой,
«историей народа и его богов», на самом деле она не
содержит ничего исторического. Это драматический обряд,
при котором некая общность людей призывает богов
дождя. Главные актеры —шуты и качина,* изображающие
богов дождя; кацики, жрицы и вся община принимают в
нем участие. Шуты вольны импровизировать в
определенных пределах, но подавляющее большинство речей и песен
заданы заранее. Это магический ритуал; его цель —
принести дождь. Для чего же еще призывать богов дождя?172
(введение к примечаниям к обряду Фентона). См. также: Fenton W. N.
The Roll Call of the Iroquois Chiefs. Washington, 1950; American Indian
and White Relations to 1830. Chapel Hill, 1957. P. 22-24; An Outline
of Seneca Ceremonies at Coldspring Longhouse // Yale University
Publications in Anthropology. N 9. New Haven, 1936. — В письме, которое я
цитирую с любезного разрешения м-ра Фентона, автор известил меня
о том, что его наблюдения за ритуалами соболезнования, после того
как он проработал обрядовые тексты и сообщения
информантов-ирокезов, были бессценны для его понимания и перевода той части эпоса о
Дегановеде, которая повествует о происхождении лиги ирокезов; ибо,
говорит он, эпос «содержит от начала до конца огромное количество
построений на основе обрядового материала»; ирокезы проектируют
в свои мифы события и элементы повседневности, и если миф (или
эпос) нуждается в обрядовом эпизоде, они включают в него
известный обряд. Это свидетельство не подтверждает утверждения ритуа-
листов. Напротив, эпический обрядовый материал, очевидно, отделен
от основного повествования; эпос как целое не является обрядовым
текстом, и «Книга обрядов» не составляет часть эпоса. Более того,
м-р Фентон не уверен, что все мифы ирокезов имеют обрядовые
истоки, утверждая, что те, которые «включают в себя обряды, содержат
огромную часть материала, который вновь возвращается в миф из
представления-церемонии», — в точности как я показал этот процесс
в «Пифоне» (гл. XV).
172Laski V. Seeking Life. Philadelrhia, 1958. P. 34-59 (текст Драмы
бога дождя), 60-74 (интерпретация). — В данной работе очевидно
влияние, оказанное на автора Фрэзером и школой ритуалистов в целом,
что частично сказывается на интерпретации церемонии бога дождя
как драмы (р. 60-63): она допускает, что церемония — не трагедия, но
все же ей присущ оттенок шекспировских трагедий: «Как все
серьезные драмы, как сама жизнь, она основана на жертвоприношении»,
но все, что автор сумела показать, — это символическое предложение
по
Заговоры соседних навахов — также драматические
ритуалы. «Заговоры используются, чтобы излечить от
недуга», —утверждает К. Спенсер, т. е. они тоже по самой своей
цели являются магическими. Каждый заговор
сопровождается мифом, но обряд не инсценирует миф. В мифе
рассказывается история о происхождении того или иного
заговора: герой, пройдя через испытания и совершив подвиги,
попадает на небо или же неожиданно встречает
сверхъестественное существо, от которого узнает заговор; он
приносит этот заговор на землю и обучает ему людей, после чего
возвращается к духам.173
Модель мифа о заговоре широко распространена на
западе Америки. В определенной степени ей соответствует
опыт мистического видения Уовоки, сознательно
поставившего себя на место мифического героя. Каталептический
транс неожиданно настиг Уовоку в момент полного
солнечного затмения 1 января 1889 г. в долине Мэйсон, Невада.174
Как он рассказывал впоследствии, его душа вознеслась на
небеса и говорила с Богом, возложившим на него земную
миссию. Бог дал ему власть над дождем, снегом и
солнцем; назначил его своим заместителем, дабы тот
властвовал на Западе; посвятил в Пляску Духов и приказал ему
научить ей свой народ; открыл ему моральные
наставления и пророчества о будущем. Очень скоро, сказал Бог, все
индейцы, живые и мертвые, воссоединятся на
преображенной земле, они будут вести счастливую жизнь, свободную
от смерти, болезней и трудностей; диким животным
суждено вернуться в эти земли, а белым людям предстоит
исчезнуть из Америки; Иисус уже пребывает на земле в виде
облака. При этом, однако, создается впечатление, что Уово-
девой своей девственности. Сопоставление обрядов пуэбло и элевсин-
ских мистерий малоубедительно (р. 66), ибо впоследствии автор
целиком и полностью полагалась на Фрэзера, привнесшего в свои
свидетельства, извлеченные из ограниченного круга источников, изрядную
долю фантазии. Ей следовало просмотреть: Mylonas G. Ε. Eleusis and
Eleiisian Mysteries. Princeton, 1961. Ch. IX.
173См.: Spencer K. Mythology and Values. Philadelphia, 1957. P. 11-12,
18-30 (об определении и схеме), 100-218 (об абстракциях мифов).
174Устные сообщения Уовоки и движение Пляски Духов см.:
Mooney J. The Ghost-Dance Riligion and the Sioux Outbreak of 1890.
Washington, 1896. P. 771-791.
Ill
ка иногда отождествлял себя с Иисусом, вернувшимся на
землю: Поркупин, шайен, видел стигматы на лице и
ладонях Уовоки, но не видел его ступни. Мы можем назвать
все происходящее в этом видении мифом, поскольку
последовательность повествования имеет сходство с
вышеупомянутой схемой заговора, впитавшей христианский эсхатоло-
гизм. Повествование представляет собой также aition
ритуала и сопровождает ритуал, Пляску Духов, неистовую
круговую пляску, которая продолжается до тех пор,
пока все танцующие не падают наземь от изнурения. Этот
обрядовый танец никоим образом не инсценирует события
видения: он не имеет никакой драматической или
символической корреляции с мифом.
Открытия полевых антропологов — Клакхона,
Малиновского, Джиффорда, Фентона и многих других —
приводят к заключению, что большинство мифов не являются
обрядовыми текстами. Скорее их часто рассказывают во
время общинных собраний или советов, летними ночами у
одних народов и зимними — у других.175
Определение мифа и другие термины
В дискуссии о происхождении мифа самое серьезное
затруднение обусловлено различными смыслами, которые
современные ученые вкладывают в слово «миф», отсюда
проистекает богатство семантических разночтений. Рэглан
и Харрисон утверждали, что мифами являются слова,
сопровождающие ритуалы (доходило до того, что Рэглан
всерьез просвещал нас, что фраза «good-bye [God be with you]»
есть миф, который сопровождает обряд рукопожатия,
совершаемый при прощании). Для упомянутых
исследователей не составляет особого труда продемонстрировать, что
некие вербальные формулы всегда сопровождают ритуалы.
Очень хорошо! Если значение слова «миф» могло бы, по
общему согласию, ограничиваться вербальными формулами,
включенными в обряды, мы попросту давали бы тавтоло-
175Kluckhohn С. Op. cit. Р. 64; Malinowski В. Myth in Primitive
Psychology. London, 1926. P. 50-54; Gifford E. W. The Southeastern
Yavapai. Berkeley, 1932. P. 242.
112
гическое определение, и ничего более. Но ведь Рэглан
переносит утверждения, которые, возможно, и истинны
применительно к обрядовым формулам, на традиционные
повествования в целом, которые всегда называли (и
называют) мифом, настаивая на том, что его определение равным
образом приемлемо и для них. Внезапно простая
формула прощания становится равнозначна потопу Девкалиона и
походу Тора в Йотунхейм просто потому, что мы
употребили один и тот же термин по отношению к обеим реалиям.
Это первая и важнейшая семантическая ошибка. И когда
Рэглан и Хьюман пытаются перебросить мост над
пропастью, разделяющей формулы и повествования, они
сталкиваются с серьезными затруднениями.
Как писал Вильям Бэском,176 очевидно, что мифологам
и фольклористам необходимо договориться об определении
мифа. Это вовсе не платоновский вопрос «что есть миф?»,
предполагающий существование некоей идеальной
сущности, которая является подлинным мифом и которую
ограниченное видение смертных не способно ясно воспринять.
Это скорее вопрос: «Какой феномен мы обозначаем, когда
используем термин "миф"?». И в научном, и в
повседневном словоупотреблении «миф» приобретает разнообразные
значения; мы смешиваем традиционные предания, магико-
религиозные верования, теологию, суеверия,
предрассудки, вымыслы, обрядовые формулы, литературные образы и
символы, социальные идеалы в общем тигле и называем эту
смесь мифологией. Ритуалисты, такие как Рэглан и
Хьюман, умышленно культивировали подобное положение дел;
они не приемлют никаких различий: мы живем в
производном от ритуала и ритуально обусловленном мире. Но если
предания возникли как обрядовые тексты, если боги суть
проекции обрядовых действий и эмоций, тогда религия,
верования, пантеон и миф имеют идентичное основание и по
сути представляют собой различные аспекты одной
реальности.
Ученые, не принадлежащие к лагерю ритуалистов,
используют термин «мифология» настолько широко, что под
176Bascom W. The Myth-Ritual Theory // JAF 70: 103-114. См. с. 155-
156 настоящего издания.
113
него подпадает вся совокупность знаний,
повествовательных или нет, о богах и духах. Заглянув в «Азиатскую
мифологию» (Д. Хэкин и др.) или недавние «Мифологии»
Larousse* под редакцией Пьера Грималя, мы обнаружим
пантеон, формы богослужения, поверья о богах и
посмертном существовании — все, что мы понимаем под религией и
богословием, включенными в собирательный термин
«мифология». В сущности данный способ употребления
термина отсылает к устаревшему, но все еще находящему
сторонников определению мифологии как донаучных
попыток человека объяснить окружающий мир и его начала.
Иными словами, те, кто определяет миф подобным
образом, подразумевают утверждения типа: «Бог создал мир»,
«Зевс посылает дожди» и т. п. Они, как правило, не
имеют в виду повествования, которые мы называем мифами.
Их определение удовлетворительно по отношению к
космогоническим мифам (хотя оно не приносит никакой пользы
в интерпретации повествовательных эпизодов и не
проясняет, почему начала «объяснялись» в форме рассказа). Но
насколько такое определение соответствует мифам о
путешествии Тора в Йотунхейм, Орфее и Эвридике,
Артемиде и Актаоне, приключениях Ориона? Абсурдно было бы
утверждать, что весь цикл об Орионе был задуман,
чтобы объяснить определенные небесные знаки; хотя некогда
Орион был идентифицирован с созвездием, его звездный
характер мог обратным образом войти в миф и предварять
такой эпизод, как поиски Плеяд. Смешение мифов с
изложением космологических представлений предопределило
стандартный рационалистический подход к природе мифа,
который ритуалисты поспешили опровергнуть, не понимая,
что в нем действительно не корректно, коль скоро они
соглашаются со своими оппонентами относительно
содержания мифологии и не сходятся лишь в вопросе о ее
происхождении. Безусловно, обряды, магия, верования, мифы —
родственные феномены в том смысле, что все они имеют
отношение к различного рода проявлениям
сверхъестественных сил или даже непосредственно направлены на их
вызывание; но неразличение их подобно подведению всех
дисциплин естествознания под термин «физика» или «натур-
114
философия», приводящему к смешению физиологии,
механики или химии. Мы испытываем необходимость в едином
удовлетворительном термине, который охватил бы все
знания о сверхъестественном как таковые; таким термином
могло бы стать понятие * демонология», но скорее всего
оно останется непонятым (возможно, следует принять во
внимание греческое произношение и говорить «даймоноло-
гия»).
Нам не следует уделять чрезмерное внимание
обыденному словоупотреблению, но каким бы ни было соотношение
мифа с другими феноменами, закрадывается подозрение,
что ученые называют «мифами» те традиционные
предания, которые всегда были известны как мифы и
применительно к которым каждый соглашается с названием «миф»,
не взирая на любые другие феномены, которые он склонен
включить в данное понятие. Это традиционные сказания о
деяниях даймонов: богов, духов и всех типов
сверхъестественных и сверхчеловеческих существ. Иначе говоря,
когда мы произносим слово «миф», мы скорее всего имеем в
виду рассказ определенного рода: он является частью
традиции (и передавался устно, прежде чем был записан, если
он вообще существует в письменной форме), он повествует
о героях вполне конкретного класса (хотя существа других
видов, например люди и животные, также могут
принимать в нем участие), и у него есть сюжет (который
Аристотель и называл μυΌος), т.е. начало, середина и конец.
Все это предельно четко соответствует классическому
греческому употреблению слова μυΌος: в гомеровском эпосе
оно означало «речь» и заключало в себе то же
многообразие значений, что и классическое λόγος, однако в
аттическом диалекте и позднегреческом языке, когда понятие
λόγος стало использоваться главным образом для
обозначения речи, значение μυΌος было сужено до простого
рассказа. Таким образом, серьезный мифолог всегда должен
следовать правилу «нет повествования — нет мифа». Мы
будем использовать термин «миф» только по отношению
к традиционным повествованиям или включенным в них
эпизодам, а прилагательное «мифическое» —только по
отношению к событиям и отличительному содержанию
подобно
ных повествований. Такой подход предполагает, что мы не
будем высказываться о божестве как о * мифическом»,
поскольку тогда бог представляется героем предания и не чем
иным; но ведь, как правило, бог выступает объектом культа
задолго до того, как он становится героем предания:
указанная роль и действия бога в предании являются
мифическими. Назвать Зевса мифической личностью все равно,
что назвать мифической персоной Карла Великого
только потому, что он стал действующим лицом вымышленных
историй (возможно, Зевс никогда не существовал, но
люди верили в его реальность и обращались к нему в
обрядах).
Мое определение согласуется с определением В.Бэско-
ма, данным в его недавней статье «Формы фольклора»:
«Мифы суть прозаические повествования, которые в
сообществе, где они рассказываются, принимаются за истинные
рассказы о событиях далекого прошлого» (я опускаю
авторский курсив).177 Здесь также подчеркивается повествова-
тельность и предполагается устная передача. Оба
определения со всей очевидностью отсылают к одному типу
рассказов. Но слова Бэскома: «принимаются за истинные
рассказы» — могут склонить к превращению предания о деяниях
богов из мифа в сказку, поскольку такое сказание считается
совершенно неправдоподобным.
Бэском предлагает также определения легенды и
сказки, с которыми я готов согласиться с некоторыми
оговорками. «Легенды — прозаические повествования, которые,
подобно мифам, принимаются за истинные как рассказчиком,
так и слушателями, но посвящены периоду менее
отдаленному, когда мир был уже очень похож на современный».
Проводимое Бэскомом различие между отдаленным
прошлым мифов и недавним прошлым легенд,178
сопоставление которых он дает в таблицах, может вызвать
определенные затруднения в изучении материала греческой,
скандинавской, индийской и многих других мифологий,
поскольку в них довольно часто прошлое легенд невозможно строго
177Bascom W. The Forms of Folklore: Prose Narratives// JAF. 78.
1965. P. 3-20.
178Ibid. P. 5, 6.
116
отделить от прошлого мифов (таковы завершенные в самих
себе предания, например, ряд мифов об увлечениях Зевса
женщинами, которые стали впоследствии матерями таких
героев, как Геракл или Персей). Возможно, лучше было бы
сказать «давние дни мира» применительно к мифам,
«давние дни народа (или человечества)» применительно к
легендам, хотя это различие не удовлетворяет всему
мифологическому материалу (предания о любовных похождениях
Зевса повествуют о древней истории греков, а
скандинавский миф о Рагнареке — о будущей истории). Бэском
определяет сказки как «прозаические рассказы, которые
заведомо признаются за вымысел». Это приемлемое определение,
при условии, что мы не включаем сюда мифы и легенды,
вера в которые уже угасла.
Достоинство определений Бэскома состоит в том, что
они позволяют правильно классифицировать материал. Их
дополняют мои собственные определения, которые вносят
в них ясность за счет отделения мифа от легенды в
соответствии с природой главных героев. К мифам я склонен
относить традиционные предания о деяниях даймонов, а к
легендам — традиционные предания о деяниях героев,
людей далекого прошлого. Герои могут быть воинами,
царями, предками, демиургами, искателями или даже
разбойниками и пиратами. Причем не имеет значения,
сохраняется ли смутная память о легендарном герое как
историческом лице либо утратившем культовое значение боге, или
же с самого начала он предстает как вымышленный
персонаж: в легенде он смертный человек, который был рожден
и умер, хотя и совершал сверхчеловеческие подвиги с
помощью богов. Дать определение сказок, пользуясь критерием
природы персонажей, сложнее. Мы согласны с Бэскомом в
том, что они представляют собой традиционные предания
о воображаемых событиях и деяниях (воображаемых для
рассказчиков и слушателей, каковыми не должны
восприниматься мифы и легенды). Персонажи могут
принадлежать к любым видам существ: божествам, людям,
животным; главные герои не должны быть героями мифов или
легенд, хотя последнее правило не универсально
(например, «Амур и Психея», странствия Одиссея).
117
Рассматривая мифы, легенды и сказки, мы касались
лишь тех традиционных преданий, которые описывают
сверхъестественных героев и события (включая говорящих
животных и их действия), хотя они могут быть вовсе не
главными и не основными. Устные предания, не имеющие
таких особенностей, — апокрифические предания об
исторических личностях, псевдоистория, непристойные
рассказы, анекдоты, которым не чужда реалистичность,
должны быть исключены из категории легенд и сказок, во
всяком случае когда они исследуются в связи с мифологией и
религией. Традиционные повествования о
сверхъестественных личностях и событиях — мифы, легенды и сказки, в
нашем определении, — по сути связывались в традиции,
хотя в некоторых сообществах устанавливались достаточно
жесткие границы между жанрами повествований в
зависимости от рассказчика и обстоятельств их изложения
(островитяне тропиков имеют три термина, которые почти
соответствуют мифу, легенде и сказке, как мы их
определили179). Из Древней Греции они дошли до нас
неразделенными под родовым понятием «мифология»: Аполлодор,
Овидий и Гигин не проводят никаких различий между тем, что
они называют μυΦοι или fabulae. И мифология может точно
так же остаться термином, охватывающим все
традиционные предания сверхъестественного содержания. Для
любого частного предания, безотносительно к классификации, я
предлагаю латинский термин fabula. Повторяющуюся
схему или тип фабулы мы можем назвать мифологемой.
Поскольку, как пишет Бэском,180 одни и те же сюжеты и темы
возникают и в мифах, и в легендах, и в сказках,
антропологам и фольклористам нередко сложно найти
существенные различия между ними. И все же эти три типа фабулы
не являются всецело одним и тем же; существуют
внешние различия в функционировании, внутренние различия
в природе главных героев (боги в мифах, герои в легендах)
и часто в выборе места, где разворачиваются события
(космос или другой мир в мифе, земли народа или конкретная
местность в легенде, вымышленное событийное простран-
179Malinowski В. Op. cit. Р. 24-36.
180Bascom W. The Myth-Ritual... P. 114.
118
ство в сказке); но некоторые предания в этом отношении
переходны.181
181Бэском соглашается с обоснованностью включения уточнения
♦прозаические повествования» в определение традиционных
сказаний. Предлагаемый им термин удовлетворителен, ибо позволяет
понять, что относится к традиционным повествованиям, и не позволяет
исключать такие его формы, как народные песни или стихотворения.
Я уверен, в ряде случаев история создается вместе с песней, а
сказание бытует уже в прозаической форме. Но песня или
стихотворение зачастую — лишь привходящая форма сказания, и она не должна
препятствовать нашей классификации сказания как мифа, легенды
или сказки. Предлагаемый Бэскомом критерий веры применительно
к мифам и легендам порождает вопросы и проблемы, поскольку в
классической Греции и Италии не всякий рассказывающий и
слушающий мифы (напр., Пиндар, Платон, Овидий) верил в то, что это
правда. Легенды более универсально воспринимались как ранняя
история народа, и множество современных греков до сих пор верят в
их историчность (напр., в легенды о Троянской войне), за
исключением, возможно, чудесных событий. Но в отношении веры в мифы
и легенды должно спросить о природе этой веры: она была
идентична вере в Апостольский символ веры или в положения истории
и науки, которые становятся известны из достоверного источника?
Мне кажется неудовлетворительным использование словосочетания
«священные сказания» по отношению к мифам как отделенным от
других типов традиционных сказаний (см., напр.: Malinowski В. Ор.
cit. Р. 36; В as com W. The Forms of Folklore... P. 5, 6). Термин явно
вводит в заблуждение, поскольку подразумевает, что мифы народов
наделены сакральностью и формой священного канона. Это истинно
по отношению к некоторым народам, судя по всему — тробриандцам,
но явно неправильно по отношению к грекам, римлянам, индийцам
и многим другим. Простое присутствие богов в сказаниях не делает
их «сакральными», как считал Литтлтон, который в одной из статей
(A Two-Dimensional Scheme for the Classification of Narratives // JAF.
78 (21-27)) непосредственно следует положениям Бэскома. Основной
недостаток схемы Литтлтона состоит в том, что легенда должна быть
«основана на фактах» минимум на 25% и максимум на 75%. Принцип
исчисления в двух измерениях, легендарно-фактическом и священно-
вечном, тоже слишком субъективный критерий. Что касается
литературоведческого использования слова «миф» (миф является
предметом всеобщего увлечения в современном литературоведении), оно
подчас столь неуловимо и туманно, сколь и бесполезно, и довольно
часто мне, например, попросту сложно понять, что же под ним
подразумевается. Возможно, «Reflections sur la violence» Сореля является
превоисточником, содержащим ключ к использованию слова «миф»
в значении «образ, обладающий огромной властью и воздействием»
и т. п. Было бы небесполезно показать то общее, что символы и
образы имеют с мифами, правда, я уверен, что даже «полезная» цель не
приведет литераторов в замешательство.
119
Желающие сгладить различия между мифами и
религиозными верованиями выступят (и выступают) против
предлагаемых определений мифов и мифологии. Но
очевидно, что в данном случае мы имеем различные
референты. Предания носят конкретный, частный, персональный и
событийный характер, боги, духи, люди, животные
совершают и претерпевают специфические действия в
определенное время и в определенном месте. Верования и
вероучения, как правило, формулируются и излагаются в
предельно общих и абстрактных выражениях: «Боги правят
миром», «Зевс насылает бури», «конский волос,
брошенный в бочку с водой, обернется змеей». Эти положения не
являются мифическими, по крайней мере пока мы не
получим веских доказательств в пользу того, что они
возникли из некоего сказания, т.е. что они суть фрагменты
мифа или его элементы (источником путаницы выступает
уравнение «мифическое = нереальное»). Разумеется,
наличествует частичное совпадение. Некоторые верования
действительно обнаруживают свое происхождение в мифах и
выражаются в весьма конкретных терминах: Апостольский
символ веры осознается (если мы вообще вправе называть
какую-либо часть его содержания мифическим) в качестве
положения религиозной веры, которая воплощена в
повествовательном утверждении, хотя даже в данном случае
следует отметить тенденцию вероучения к обобщению и
универсализации.
Итак, подвергая сомнению теорию, согласно которой все
мифы производны от обрядов, я подразумеваю, что
ставится под вопрос обрядовое происхождение всех
традиционных сказаний; но я вовсе не оспариваю утверждение, что
обрядовые формулы, религиозные вероучения и суеверия
имеют обрядовое происхождение — это является предметом
другого исследования и достаточно самоочевидно в случае
формул и суеверий. Если же мы не должны называть
традиционные повествования мифом, тогда нам понадобится
другой термин для их обозначения.
Предложенное мною определение мифа не содержит
предположений относительно его истоков. Проблема
заключается в том, что мы не имеем никакого представле-
120
ния о том, как возникли мифы. Вероятно, появление мифов
было вызвано зарождением рассказов вообще, и они имеют
отношение к истокам речи. Вполне возможно, что речь
возникла скорее в трудовых ритмах (которые
воспроизводились в самых ранних ритуалах), нежели в обрядах.182 Нет
веских оснований предполагать, что самый первый язык,
в нашем понимании этого термина, какими бы ни были
его истоки, не использовался подобно современному
языку прежде всего в качестве средства коммуникации. Это
означает, как я отмечал выше, что уже самые первые
носители языка (языка в подлинном смысле) сообщали друг
другу о происходящих событиях; в такие рассказы
включались захватывающие приключения, сражения, охотничьи
походы и т. п. Они были повествованиями,
рассказывающими о реальных событиях, во всяком случае первоначально.
На каком-то этапе человек стал рассказывать
вымышленные истории, сочиненные на основе реальных
повествований или в качестве их продолжения. В такие сказания,
которые мы можем назвать сказками и легендами, он вводил
все, с чем соотносил себя или во что верил. Если он верил в
духов или демонов (возможно, представления о богах еще
не сформировались), тогда именно духи и демоны
становились персонажами его историй. Подобные предания, если
они сохранялись в традиции (а сказания действительно
сохранялись в традиции, не будучи связаны с ритуалом),
были первыми фабулами, которые впоследствии обусловили
формирование первых мифологем.183 Эта гипотеза о
происхождении и раннем развитии сказительства не означает,
182См.: Bucher К. Arbeit und Rhythmys. Leipzig, 1924. P. 245-248;
Thomson G. Studies in Ancient Greek Society I: The Prehistoric Aegean.
London, 1949. P. 438-451.
183To, что люди примитивных или долитературных обществ
действительно информировали друг друга относительно необычных и
экстраординарных событий и что такие повествования удерживались в
памяти традиции (что отрицали Рэглан и Хьюман), великолепно де-
монстируется племенным знанием, почерпнутым у информантов. См.,
напр.: Nye W. S. Bad Medicine and Good: Tales of the Kiowas. Norman,
1962 (об аутентичных источниках реальных приключений,
реалистичных и не имеющих сверхъествественных и чудесных особенностей,
некоторые из которых вполне верифицируемы); Fontenrose J. Some
Observations on Ну man's Review... P. 124.
121
что все мифы обязаны своим происхождением реальным
событиям темного прошлого, а каждый конкретный миф
должен быть возведен к рассказу человека о
действительном событии. Это не эвгемеристическая гипотеза. Я вовсе
не имею в виду, что мифические личности были
жившими некогда людьми: они изначально могли быть полностью
вымышлены. То, что возникли мифы и сказки, очевидно,
предполагает, что и другие истории развивались по
похожей схеме; более того, если легенды стали мифами, а
герои—богами, мог иметь место и обратный процесс:
мифы стали легендами и боги — героями. В традиционных
сказаниях мы находим повторяющиеся типы и мотивы —
данный феномен одновременно означает, что новая
история создается на основе предшествующей модели, а
творчество рассказчика вводит дополнения и порождает новые
типы.
Функции мифа
В действительности мы не можем прийти к единому
мнению относительно такого предмета изучения, как
происхождение мифа, поэтому более плодотворным
оказывается исследование функций мифа в мифологизированном
обществе. Я согласен с большинством ученых в том, что
мифы не сводятся к объяснительным сказаниям,
задуманным с целью удовлетворить интеллектуальную
пытливость. Большая их часть попросту ничего не
объясняет, и только довольно поздно в истории и лишь в
развитых цивилизациях могла сложиться ситуация, когда кто-
то вроде Гесиода или составителя Книги Бытия
сознательно использует миф как средство объяснения мира. Был
ли древний человек озабочен тем, откуда произошел мир,
или же он все-таки воспринимал его как данность?
Только в высокоразвитых обществах мы находим
интеллектуальную пытливость, обладающую мощным импульсом, и
в них миф занимает явно второстепенное место. Можно
сказать, что мифы обладают социальной властью,
обратно пропорциональной силе интеллектуальной пытливости,
существующей в обществе. Я уверен в убедительности за-
122
ключения Малиновского, согласно которому миф
выполняет скорее оправдательную или законодательную, чем
объяснительную функцию:184 миф повествует о первобытном
событии, которое создало прецедент для появления
некоего института. Таковыми могут быть обрядовое
установление или культ; социальное, политическое или
экономическое установление; естественное «установление», процесс
или феномен, важный для экономики общества. Это
далеко не то же самое, что назвать мифы объяснениями,
которые предполагают выполнение единственной функции —
давать ответы на вопросы о происхождении чего бы то ни
было.
Какими бы ни были происхождение мифотворчества
и его цели, мифы приобретают идеологический характер:
они часто предоставляют собой обоснование установлений
и обычаев.185 Верования и суеверия служат той же цели. В
высокоразвитых обществах идеология обладает
тенденцией воплощаться скорее в выдержанной, описательной
форме вероучительных установлений, чем в повествовательной
форме мифа, хотя верования, безусловно, не прекращали
существования начиная с самых древних обществ. При
изменении установлений изменяются мифы и верования:
возникает необходимость в новых оправдывающих,
наделенных законодательной властью повествованиях;
конкурирующие группировки и слои общества порождают
конфликтующие между собой и мифы, и верования. Сэр Эдвард
Грей, занимавший пост генерал-губернатора Новой
Зеландии около 1850 г., по-видимому, был первым человеком,
имевшим возможность оценить данную функцию мифа.
Вожди маори приходили к нему с вопросами войны и мира,
приносили жалобы племен и начинали переговоры.
Позднее он писал:
К своему удивлению... я обнаружил, что эти вожди в
обращенных ко мне речах или письмах часто ссылались, объ-
184Malinowski В. Op. cit. Р. 35-59.
185Я не думаю, что слово «rationale» должно включать в себя
значение объяснения или попытки объяснения: оно может подразумевать
оправдание, придание силы закону и прецедент. Мы можем отметить,
что идеологии на протяжении истории скорее что-либо оп рады вал и,
нежели объясняли.
123
ясняя свои взгляды и устремления, на фрагменты древних
стихотворений или притч либо проводили сравнения,
основанные на древней системе мифологии... Было ясно, что
наиболее важные части их сообщений заключались в этих
образных, метафорических формах.186
Это верно в отношении всего мира. В недавнем прошлом
африканские племена пересмотрели свои мифы, чтобы они
соответствовали новым учреждениям.187 Это равным
образом справедливо и для древнегреческой мифологии:
легенда о Тезее претерпела изменения в целях афинской
демократии. Как показал ряд ученых, формы, которые
древние мифы и легенды берут в афинской трагедии,
отражают политические события и движения V в. до н.э.188 В
«Эвминиде» Эсхила эпизоды судебных процессов в
Афинах введены в легенду об Оресте для оправдания и
подтверждения предшествовавшего ограничения юрисдикции
суда Ареопага при рассмотрении случаев убийства.189 Со-
186 Grey G. Polynesian Mythology and Ancient Traditional History of
the New Zelanders. London, 1855.
187Cm.: Middleton J. Lugbara Religion. Oxford, 1960. P. 232-238, 264-
270 (об отношении мифологии лугбара к социополитическим
изменениям).—Интересна заметка в «Daily Californian» (24 Febr. 1964 г.):
Вольфрам Эберхард, профессор социологии Калифорнийского
университета, поведал аудитории, что китайские коммунисты
используют традиционные китайские сказания в целях пропаганды.
188См.: Thomson G. Aeschilus and Athens. London, 1946. P. 231, 276-
297; Little A. Myth and Society in Attic Drama. New York, 1942. P. 7-9,
33, 37-42; Webster T. B. L. Political Interpretations in Greek Literature.
Manchester, 1948. P. 35-40.
189Я сомневаюсь в целесообразности утверждения, что Эсхил
сфабриковал (легендарный) эпизод о суде над Орестом до заседания
Ареопага; все же, если я прав относительно введения этого эпизода в
легенду в указанное время, он должен был возникнуть между 462 и 458 гг.
до н. э. Фактически, миф и легенды могут измениться за одну ночь,
и новая форма вдруг предстанет в образе древней традиции, о
происхождении которой никто не знает. Одиссей (3.307) уже связал Ореста
с Афинами: поскольку он был в Афинах до того, как убил мать,
почему он не вернулся в Афины на судебный процесс и не стремился к
оправданию? В афинском фольклоре также существовал Орест, см.:
Fontenrose J. The Cult and Myth of Pyrros at Delphi // University of
California Publications in Classical Archeology, 1960. Vol.4. N3.
Berkeley; Los Angeles. P. 231. — В этих традициях лежат основания эпизода
об Ареопаге. Это был не единственный миф, возникший для оправда-
124
вершенно новые мифы иногда возникают во времена
революционных изменений, хотя обыкновенно они появляются
незаметно под видом седой старины. Что такое «мифы»
Платона, как не сознательное и умышленное
использование данной функции мифа? Они представляют собой плод
творчества известного автора, не традиционные предания,
а потому не являются мифами в определенном нами
подлинном смысле; однако Платон с полным основанием
называл их μυΰοι, и хотя это слово обычно использовалось для
обозначения некоего рассказа, он применял его, выражая
политическое завещание своего идеального государства (и
поистине протрептическое завещание его философии). Это
государство отбросит старые мифы, унижающие богов, и
усвоит вместо них новые, например, будет узаконено
«мифом» тройственное разделение граждан.
Выявляя социально-политическую функцию мифа, я не
считаю ее единственной функцией, поэтому она не входит
в мое определение мифа. Также я не говорю и об истоках
мифа. Мы не должны смешивать определение мифа или
функции мифа с вопросом о его происхождении.
Согласно данному мной определению мифы суть
истории. Но почему всем историям надлежит иметь
единственный источник? И где именно следует его искать? В той
структуре, которую мы называем сюжетом? Должны ли мы
ориентироваться исключительно на обряды, не принимая
во внимание человеческую речь, сообщающую о
последовательности событий? Или желательно усмотреть
единственный источник содержания и тематики мифа: божественных
и человеческих героев и совершающихся чудес? Ритуали-
сты не проясняют, что именно они имеют в виду. Рэглан
утверждает: «На мой взгляд, предполагать, что сходные
мифы [а для него все мифы похожи] имеют несходные
источники, все равно, что думать, будто яблоки могут расти
также и на фиговых деревьях», — и Хьюман заимствует эту
аналогию.190 Этот аргумент, сдобренный изрядным
высокомерием, предполагает, что миф является объектом того
ния ограничения юрисдикции суда: другим было сказание о суде над
Аресом за убийство Галлиротия (Apollod. 3.14.2).
190Raglanf Lord. JAF. N70. 1957. P. 173; Hyman S. E. The Tangled
Bank... P. 276.
125
же рода, что и яблоко, и что мы можем с легкостью
согласиться с данным референтом. Слово «яблоко» наделено
четким ботаническим и садоводческим определением,
благодаря обозначению денотата никто не спутает с ним
фигуральное употребление слова (например «глазное яблоко»).
В определение яблока входит, что оно произрастает на
яблоне (также имеющей четкое определение). Но «миф», со
всей очевидностью, принадлежит к иному типу слов. Он
отсылает к невидимому, недоступному для ощущения
объекту; как мы уже заметили, и в повседневной речи, и в
научных трудах оно употребляется в нескольких значениях.
Рэглан и Хьюман не принимают во внимание изменчивость
значения слова «миф», а воспринимают все его оттенки как
действительно тождественные; в поисках мифического
древа, на котором произрастают мифы, они нашли его в
ритуале. Так что это они пытаются собрать плоды разных
видов с одного дерева. Мы смотрим на их дерево и находим
под ним обрядовые формулы — мольбы и т. п. Они
заявляют, что эти формулы созревают в мифологических
преданиях, но никогда не демонстрируют сам процесс
«созревания».
В современном лагере ритуалистов налицо преизбыток
теоретизирования и недостаток тщательной научной
работы. Необходимо аналитическое исследование мифов, легенд
и сказок, чтобы определить наиболее часто
встречающиеся темы и типы, и не в вакууме, но во всем
многообразии их непосредственного окружения. Нам также следует,
по возможности, проводить историческое изучение
сказаний, устанавливая пути их проникновения и определенное,
ясное и точное отношение, если таковое существует, к
историческим событиям; ибо в случаях Томаса Бекета, Гая
Фокса, Карла Великого и Аттилы мы видим, что
легенды имеют некоторую связь с историческими событиями и
в то же время последние заключаются в традиционные
темы. Мы должны изучать процесс преобразования мифов
в легенды и сказки, богов —в героев, принцев и фей. И
vice versa мы должны изучать, каким образом легенды
становятся мифами, а герои или цари —богами. Мы
должны изучать актуальные ассоциации, связи между мифами
126
и обрядами. Подобные исследования осуществлялись, но
необходимо продолжать их, пока не будет получен
окончательный вывод, позволяющий преодолеть гипотезу ритуа-
191
листов/
191 Среди некоторых недавно вышедших ценных исследований,
кроме исследований Фентона, Ласки и Спенсера (см. прим. 171-173),
укажем: Greenway J. Literature among Primitives... ; Bowra С M.
Primitive Song. London, 1962; Jacobs M. The Content and Style of an Oral
Literature: Clackamas Chinook Myths and Tales. Chicago, 1959. На
интересную книгу: Jensen A. E. Myth and Cult among Primitive Peoples.
Chicago, 1963 (перевод его «Mythos und Kult bei Naturvolken»
(Wiesbaden, 1951)), я обратил внимание совсем недавно. В этой книге круг
замыкается: мифы первичны и порождают культ и ритуал; в
конечном счете мифы первичны, хотя Йенсен и говорит, что они связаны с
ритуалами почти ab initio. Но Йенсен включает в миф все
религиозные верования, и его книга в целом представляет собой скорее
классификацию сверхъестественных сущностей, нежели сказаний как
таковых. Его разделение между подлинными и изначальными мифами
(р. 64-76) сомнительно и субъективно; он допускает, что «они
принадлежат к одному типу повествования» (р. 74) и рассуждает о
«континууме».
127
Приложение*
Гимн из Паликастро
Библиография: Bosanquet R. С. The Palaikastro Hymn
of the Kouretes// Annual of the British School at Athens.
XV. 1908-1909. P. 339-356; Murray G. The Hymn of the
Kouretes // Annual of the British School at Athens. XV. 1908-
1909. P. 357-365; Harrison J. The Kouretes and Zeus Kouros:
A Study in Pre-Historic Sociology// Annual of the British
School at Athens. XV. 1908-1909. P. 308-338; Harrison J.
Themis: A Study of the Social Origins of Greek Religion. 2 ed.
Cambridge University Press, 1927. P. 1-29; Wilamowitz-Moel-
lendorf U., von. Griechische Verskunst. Berlin, 1921. S.499-
502. Guarducci M. L'inno a Zeus Dicteo// Studi e Materi-
ali di Storia delle Religioni. XV. 1939. P. 1-22; Nilsson M. P.
The Minoan-Mycenaean Religion. 2 ed. Lund: Gleerup, 1950.
P. 546-550. Willetts R. F. Cretan Cults and Festivals. London,
1962. P. 211-214.
Источники: Annual of the British School at Athens.
XV. P. 342-347 (Bosanquet); Annual of the British School at
Athens. P. 357-358 (Murray); Harrison J. Themis: A Study
of the Social Origins of Greek Religion. 2 ed. Cambridge
University Press, 1927. P. 7-8; Wilamowitz-Moellendorf U., von.
Griechische Verskunst. S. 499; Antologia Lyrica Graeca// E.
Diehl. II. S.279-281; Guarducci M. L'inno a Zeus Dicteo//
Studi e Materiali di Storia delle Religioni. XV. 1939. P. 7-8;
Inscriptiones Creticae// Guarducci. 3.2.2.
Здесь и далее оформление приложения, насколько возможно,
приближено к российским стандартам (прим. ред.).
128
Две части гимна были высечены на стеле,
обнаруженной в 1904 г. в Паликастро на о. Крит в ходе раскопок,
проводимых Британской школой в Афинах. Три
фрагмента стелы сохранились, более половины текста утеряно.
Надпись датируется периодом не ранее 200 г. н. э.
Нижеследующий текст составлен из обеих копий.
Ίώ μέγιστε κούρε, χαΐρέ μοι, Κρόνειε,
πανκρατές γάνους, βέβακες δαιμόνων άγώμενος.
Δίκταν ές ένιαυτόν έρπε καΐ γέγαύι μολπα,
τάν τοι κρέκομεν πακτίσι μείξαντες αμ' άυλοΐσιν
5 καΐ στάντες άείδομεν τεόν άμφι βωμόν εύερκη.
Ιώ μέγι[στε] κούρε, ... μολπα. (6~8)
ΙνΌα γαρ σε παΐδ' αμβροτον άσπι[δεσσι Κουρήτες]
10 παρ 'Ρέας λαβόντες πόδα κ[υκλώντες άπέκρυψαν.]
[ίώ μέγιστε κοορε, ... μολπα.] (11-13)
ι ι
15 [ τά]ς καλας Άος.
[ίώ μέγιστε κούρε,] ... μολπα. (16-18)
Ρ Ωραι δέ β]ρύον κατητος καΐ βροτός Δίκα κατήχε
20 [καΐ πάντα δι]ηπε ζώ' α φίλολβος Είρήνα.
[ίώ μέγιστε κούρε, ... μολπα.] (21-23)
ά[λλα βών Όόρ' ές ποί]μνια και -θόρ' ευποκ' έ[ς πώεα]
25 [κές λάι]α καρπών Όόρε κα\ τελεσ[φόρος οίκος.]
ίώ μέγιστε κοορε, ... μολπα. (26-28)
[Φόρε κές] πόληας άμών, ΰόρε κές ποντοφόρος ναας,
30 ύόρε κές ν[έος πο]λείτας, -θόρε κές Θέμιν κλ[ηνάν]
[Ιώ μέγιστε] κούρε, ... μολπα. (31-33)
Предлагаемые прочтения
В = Bosanquet D = Diehl G = Guarducci
H = Harrison M = Murray W = Wilamowitz
I = сторона I стелы (лучшая копия) II = сторона II стелы
1 κώρε W Κρόνιε ΜΗ 2 γάνος W 3 (8, 18, 23, 28, 33) μολπα Ι
(8, 18, 33) μολπάν II 7 πανκρα[τές γάνους βέβακες] 8 ένι[αυτόν έρπ]ε
9 текст G: άσπί[δεσσι Κώρητες] WD: άσπι[δηφόροι τροφηες
(Κουρήτες Β)] ΒΜΗ 10 κ[υκλώντες] WDG κ[ρούοντες] ΒΜΗ 11-13 —
утеряно 14 —утеряно (15 слогов) 15 —утеряно (10 первых
слогов) άώς W 16 [... χαρέ μοι Κ]ρόνειε 17 γάν[ους βέβακες δαιμόνω]ν
18 έ νι [αυτόν έρπε κα]1 είς II19 восстанавливается Β Μ 20 [και πάντα
δι]ηπε WDG: [πάντα τ' αγρί άμφε]πε ΒΜΗ 21 утеряно 22 γάν[ους
129
βέβακες δαιμόνων άγώ]μενος 23 είς II έ[νιαυτόν ερπε και γέ]γαΌι 24
восстанавливается W(DG): α[μιν Όόρε κές στα]μνία ... έ[ς ποίμνια]
ΒΜΗ 25 (29,30) κής W 25 [λήι]α ΒΜΗ: τελεσ[φόρος οϊκος] WGD:
τελεσ[φόρους σίμβλους (άγους Β)] ΒΜΗ: [... ώρας] конъектура
Μ 26 Κρ[όνειε] 27 [δαιμό]νων 28 [ένιαυτόν] 29 ποντο(π)όρος G 30
ν[έους] ΒΜΗ κλ[ηνάν] WDG: κ[αλάν] ΒΜΗ: κλ[ειτάν] Β 32 βέβακ[ες
δαιμόνων άγώ]μενος 33 ένι[αυτόν ϊρπε καΐ γέγαΌι]
О, величайший отрок, приветствуем тебя,
Кронион,
Владыка света, ты — правитель богов.
В [новом] году спустись скорее на Дикту и песней
насладись,
Что тебе, великий, играя на арфах и флейтах,
5 Мы поем, твой алтарь окружив.
О, величайший отрок, приветствуем тебя,
Кронион,
Владыка света, ты — правитель богов.
В [новом] году спустись скорее на Дикту и песней
насладись,
Ведь здесь тебя, бессмертное дитя,
10 От Реи взяв [тебя и обступив], щитами сокрыли
[Куреты]
О, величайший отрок, приветствуем тебя,
Кронион,
Владыка света, ты — правитель богов.
В [новом] году спустись скорее на Дикту и песней
насладись,
ι ι
15 [ ] прекрасной Зари.
О, величайший отрок, приветствуем тебя,
Кронион,
Владыка света, ты — правитель богов.
В [новом] году спустись скорее на Дикту и песней
насладись,
[Ведь Хоры] изобиловали крепко, Дике творила власть
над смертными
20 [и всем живым] волила благословенная Эйрена.
О, величайший отрок, приветствуем тебя,
Кронион,
Владыка света, ты — правитель богов.
В [новом] году спустись скорее на Дикту и песней
насладись,
130
[Но устремись к воловьим стадам], и к [стадам],
шерстью прекрасным,
25 Устремись [к полям] плодоносным, и к [домам],
достатка [исполненным].
О, величайший отрок, приветствуем тебя,
Кронион,
Владыка света, ты — правитель богов.
В [новом] году спустись скорее на Дикту и песней
насладись,
[Устремись к] городам нашим и кораблям мореходов,
30 К гражданам [юным] стремись и к Фемиде
[прославленной].
О, величайший отрок, приветствуем тебя,
Кронион,
Владыка света, ты — правитель богов.
В [новом] году спустись скорее на Дикту и песней
насладись.*
*Пер. А. Ю. Рахманина.
В. Бэском
Мифо-ритуальная теория
-HJeLTHJ-SJ-HJ-SJIBJ^XSJ^J-aj^LrBJIELr^^
Теория, согласно которой разнообразные формы
фольклора и литературы, в конечном итоге восходят к ритуалу,
на протяжении довольно долгого времени излагалась
весьма активным коллективом ученых,1 однако явно не
привлекла должного внимания американских фольклористов.
Некоторые наши коллеги, работающие в соответствующих
областях, признавали и признают свое согласие с обрядовой
теорией, по-видимому, без всяких колебаний, и часто
удивляются, обнаружив, что дело обстоит по-другому. Иначе,
почему американские фольклористы до сих пор не
критиковали и не подвергали сомнению работы таких авторов,
как лорд Рэглан и С. Э. Хьюман, и наконец не бросили
вызов их энергичному натиску? Единичным случаем
является внесение С. Томпсоном нескольких крайне осторожных
оговорок в свой недавний очерк, опубликованный в «
Journal of American Folklore», с которым, кстати, сотрудничали
и Рэглан, и Хьюман. Цель настоящей статьи — анализ
обрядовой теории, как она представлена в « Герое» Рэглана,
широчайшем по охватываемому материалу труде и
наиболее интересном для фольклористов по привлекаемым в нем
работам.
обстоятельный обзор трудов, принадлежащих этим авторам,
представлен Стэнли Эдгаром Хьюманом в статье «Обрядовый подход
к мифу и мифическому» (Journal of American Folklore. 1955. LXVII.)
и в предшествовавшем обзоре (Journal of American Folklore. 1954.
LXVII). См. с 177-197 настоящего издания.
133
Историчность
В целом аргумент Рэглана сводится к тому, что мифы
и предания должны выводиться из ритуала, ибо их
невозможно возвести ни к реальной истории, ни к воображению
народа. Едва ли не половина « Героя» посвящена нападкам
на тех ученых, которые допускают, что мифы и легенды
основаны на истории, и используют их для дополнения или
истолкования имеющихся в их распоряжении письменных
источников. Он яростно оспаривает историчность древних
родословных, местных традиций, Робина Гуда, Северных
саг, короля Артура, Хенгеста и Хорсы, Кухулина,
преданий о Трое и сказаний других народов. Во многом данный
вывод базируется на демонстрации исторических
неточностей, присущих устному творчеству. С этим трудно
спорить, за исключением вопроса о степени подобных
неточностей, которую Рэглан явно преувеличивает: «Традиция
никогда не сохраняет исторические факты»; «Нет никаких
достоверных оснований верить в историчность традиции»;
«Как приходится признать, нет никаких веских причин
верить в то, что миф или любое другое традиционное
повествование когда-либо содержало исторические факты».2
Основной недостаток этого аргумента состоит в том, что
большая часть исторических неточностей, содержащихся в
фольклоре, перечисление которых не сложно продолжить,
не опровергает самой вероятности существования его
исторических истоков. Если ряд мифов и преданий может
возникать благодаря социальным ситуациям, в которых
оказывается человек, или другим историческим событиям, с
какой бы степенью неточности о них не сообщалось,
необходимость искать их истоки в ритуале скорее, чем в
естественных феноменах, все же представляется излишней. Тот
факт, что устная традиция не представляет собой
подробный и точный исторический отчет, еще не означает, что она
не может основываться на исторических событиях. Тем не
менее Рэглан утверждает: «Если одно традиционное
предание, которое рассказывается с целью изложить
исторический факт, при этом совершенно лишено фактичности,
2Цит. по: Raglan, Lord. The Него. London, 1949. P. 36, 120-121.
134
уверенность в том, что подобные истории должны иметь
исторические корни, абсолютно необоснованна». Даже то,
что некое предание полностью противоречит историческим
документам, не доказывает, что это или любое другое
предание не имеет ровным счетом никакого основания в
исторической действительности. Учитывая, что прежде Хью-
ман обвинил меня в «неоэвгемеризме»,3 я вынужден
пояснить, что я вовсе не настаиваю ни на том, что все предания
историчны, ни на том, что хотя бы одно из них совершенно
достоверно. Но я нисколько не сомневаюсь, что
происхождение некоторых преданий может быть обусловлено
социальными ситуациями или другими историческими
событиями и что некоторые факты истории передаются устной
традицией.
Рэглан упорствует в том, что крестьяне и
бесписьменные народы не располагают концепцией истории как
таковой и, более того, не проявляют к ней интереса.
«История... есть изложение в хронологической
последовательности событий, относительно которых известно, что
они действительно происходят. Без точной хронологии не
может быть никакой истории, ибо сущностью истории
является расположение событий в правильной
последовательности». Хронология же не может существовать в отсутствие
письменности. «Поскольку история зависит от письменной
хронологии, а дикарь таковой не обладает, он не может
обладать и историей. И поскольку интерес к прошлому
вызывается единственно книгами, дикарь не проявляет
интереса к прошлому, фактически события прошлого совершенно
утеряны».
Прежде всего приходят на ум полинезийские генеалогии
и сказания об освоении земель, а также предания о
миграциях американских индейцев, африканские рассказы о
войнах, преемственности царей и другие легенды.
«Большинство бесписьменных сообществ, разумеется, имеют
традиционные предания, которые могут показаться
воспоминаниями об исторических событиях. Они повествуют о
странствиях и победах героев, а после некоторой рационализа-
3Нутап S.E. Dissent on a Dictionary// Kenyon Review. 1950. XII.
P.726.
135
ции и обработки эти странствия и победы могут
превратиться в представления об исторических переселениях
народов и завоеваниях. Но на самом деле эти истории суть
мифы». Рэглан ссылается на Альфреда Натта, который
задавал подобный вопрос в 1891 и 1901 гг.: «Да и
существует ли что-нибудь подобное историческому мифу?
Почитают ли люди скитания своего племени, битвы,
завоевания, покорение врагов, создание новых форм культуры
или любые другие события коллективной жизни народа в
форме рассказов о конкретных мужчинах и женщинах? Я
не отрицаю, возможно, это и так; все, о чем я прошу,—
фактически это подтвердить».4 Рэглан добавляет: «Мне не
известно, что кто-либо когда-либо предоставил м-ру Нат-
ту подобное подтверждение, без сомнения, по той
простой и веской причине, что таких фактов просто не
существует».
Ван Геннеп утверждал, что французское крестьянство
полностью забыло обстоятельства жизненного пути
Наполеона по прошествии 50 лет после его смерти,5 и
высказывал уверенность в том, что событие, не
зафиксированное письменно, не может удерживаться в памяти народа
более 200 лет. Рэглан же настаивает, что это даже
слишком много. «После целого ряда исследований я
остановился на максимальном пределе в 150 лет. Я пришел к этой
цифре, конечно, весьма приблизительной, разными
способами. Внимательное исследование того, что знают мои
бабушка и дедушка, а также их родители, уверило меня, что
любой факт, касающийся некоей личности и не
записанный через 100 лет после ее смерти, безвозвратно утерян.
Учитывая, что предел активной жизни человека
составляет около 50 лет, мы получаем не более 150 лет. Мы по-
разному записываем имена умерших, но я уверен, что в
бесписьменных обществах любой умерший 100 лет назад
полностью забыт. Кроме того, мне известны случаи, когда
старикам удавалось изложить своим детям перипетии
собственной жизни так, что последние помнят их, однако они
4Raglan, Lord. The Него. P. 121; Nuit Л. History, Tradition, and
Historic Myths// Folk-Lore. 1901. XII. P.339.
5Raglan, Lord. The Hero. P. 8.
136
не могли бы рассказать столь выразительно о событиях,
которые не произвели на них самих сильного впечатления.
Таким образом, отдельные сведения, не составляющие
традиции всего общества, отмирают уже во втором
поколении».
Конечно, это нисколько не доказывает, что дети, на
которых происшествия из жизни их предков произвели
неизгладимое впечатление, не могут, в свою очередь,
пересказать их своим детям. Следовательно, напрашивается
вопрос, как быть со всем тем, что именно в силу
последнего обстоятельства становится частью устной традиции и
не отмирает во втором, третьем или четвертом
поколениях? Позиция Рэглана ясна, этого попросту не существует:
«Фактически, вся история в целом, за исключением того
немного, что было записано или может быть
реконструировано археологами, совершенно утеряна... Итак, те данные,
которые мне удалось собрать, свидетельствуют о том, что,
во-первых, сохранившиеся в локальной традиции факты,
которым приписывается историчность, вовсе не являются
фактами, и, во-вторых, реальные исторические факты
никогда не сохраняются в локальной традиции».
Большинство антропологов, предпринимавших
попытки этноисторической реконструкции прошлого, вероятно,
согласились бы с тем, что хотя получаемые от информанта
сведения о происходивших на протяжении его жизни
событиях могут быть приняты к рассмотрению с обычными в
таких случаях поправками, рассказы о более отдаленных во
времени событиях вызывают вопросы, но нередко
подтверждаются историческими документами, однако сообщения,
относящиеся к событиям, происшедшим столетие или два
назад, в высшей степени подозрительны, и часто их
невозможно верифицировать вследствие отсутствия письменных
источников. Проблема заключается в том, могут ли
сведения о реальных событиях, произошедших ранее указанного
срока, сохраняться в устных преданиях.
В этом состоит основное затруднение
антиисторического аргумента Рэглана. Он настаивает на том, что память
об исторических событиях не может сохраняться дольше
150 лет, а если она живет меньше установленного срока,
137
предания не являются в подлинном смысле
традиционными. Рэглан приписывает обрядовое происхождение знанию,
которое считает традиционным. Не трудно отыскать
легендарные рассказы о войнах, миграциях и других
исторически достоверных событиях, но основная их масса
относится к сравнительно недавнему времени. Рэглан
имплицитно допускает, что формы, именуемые мною легендами и
преобладающие в фольклоре множества сообществ, имеют
историческую основу. Но искать действительный ответ на
поставленный им вопрос следует в каждом историческом
событии, увековеченном устной традицией либо
преобразованном в миф, легенду или сказку, возраст которых
насчитывает более 150 лет.
Ответ можно найти в недавно опубликованном
диссертационном исследовании Чарльза Эдварда Фаллера,
построенном на сравнении ранних исторических записей,
касающихся гвамбе, с современной культурой гвамбе в
Мозамбике. Гвамбе, называющие территорию своего
нынешнего обитания «Вутонга», утверждают, «что их предки
пришли в Вутонгу из страны Каранга в период царствования
Гамбы, их древнего вождя, или несколько ранее». Диего
де Коуто в 1589 г. писал по рассказам уцелевших после
крушения корабля «Св. Томас»: «Они пошли к городу
упомянутого царя Гамбы, который должен был находиться на
расстоянии полутора лиг от реки. Будучи осведомленным
об их приходе, тот отдал приказ хорошо принять и
развлекать их. Царь и его дети были христианами, обращенными
в веру о. Гонсало де Сильвейрой, принадлежащим к
ордену иезуитов, который в 1560-1561 гг. путешествовал по
этим землям, проповедуя среди варваров закон
Священного Писания». Сын царя Гамбы принял крещение в порту
Мозамбика в 1559 г. и готовился к прибытию о. Гонсало де
Сильвейры и его спутника о. Андре Фернандеса в земли
гвамбе, где они почти два года гостили у вождя Гамбы. В
письмах они сообщают, что люди гвамбе были макаранга
с гор в глубине страны... Формулировка сообщения
указывает на то, что принимавший их вождь Гамба
действительно возглавлял группу соплеменников, покинувших Ка-
рангу после того, как его отец потерпел поражение от бо-
138
лее сильного вождя Каранги».6 В соответствии с принятой
системой родства в данном описании мог упоминаться не
биологический отец Гамбы, а другой человек, однако
письменные источники подтверждают тот факт, что Гамба был
реальным вождем гвамбе 400 лет назад и что предание об
исходе из Каранги существует уже четыре столетия.
Гвамбе также периодически рассказывают легенды о
ранних контактах с европейцами, вероятно,
заимствованные от тембе, мапуто, иньюака или других соседних
племен побережья. В одной из них повествуется о
разногласии между вождями района залива Делагоа: следует ли
предоставить право пройти через их земли европейцам,
которые столь грязны, разносят заразу и доставляют
множество хлопот. Другая легенда, согласно сообщению,
полученному мною лично от Фаллера, повествует об убийствах
и поспешных захоронениях белых каннибалов в районе к
югу от залива Делагоа. Обе эти легенды находят
подтверждение в португальских записях, относящихся к
историческим событиям четырехвековой давности. «Когда
галеон "Св. Йоао" потерпел крушение 25 мая 1553 г. у
побережья Наталя, спаслось более пятисот человек, среди
которых были как рабы, так и европейцы. Их бесчинства по
отношению к африканским благодетелям, совершенные по
пути на север, обратились бедами, погубившими многих...
Разнесшиеся повсюду вести о каннибализме португальских
моряков, искавших спасения от голодной смерти,
потрясли туземцев, и те стали убивать преступников, съевших их
соплеменников. Весть о случившемся преодолела огромные
расстояния, и даже спустя много лет об этом узнали другие
путешественники, потерпевшие кораблекрушение... Когда
выжившие после крушения "Св. Бенто" в 1554 г. проходили
по тому же берегу, они обнаружили, что африканцы помнят
зло, причиненное им раньше».7 Легендарные отчеты о
бесчинствах или кабальных договорах, заключенных
европейцами, могли возникнуть и позже. Но совершенно
невероятно само предположение, что вожди прибрежных народов
6Fuller СЕ. An Ethnohistoric Study of Continuity and Change in
Gwambe Culture. Northwestern University, 1955. P. 12, 19, 16-17.
7Ibid. P. 17.
139
250 лет продолжали спорить о том, позволять ли
европейцам после событий 50-х годов XVI в. проходить через их
земли, или о том, что они продолжали убивать европейцев
на основании внутриплеменного каннибализма, даже если
потерпевшие кораблекрушение европейцы его
практиковали. В соответствии с доступными нам свидетельствами, по-
видимому, эти два исторических события, уже
преобразованные в легенды, бытовали в устных преданиях племен
залива Делагоа более двух столетий.
Воображение
Во второй части аргумента Рэглана отрицается
возможность того, что фольклор обязан своим возникновением
воображению или творческой фантазии. Рэглан начинает с
изложения концепции природно-аллегорическои школы, а
затем отвергает идею, согласно которой мифы суть
попытка объяснить природу и окружающий мир в целом,
ссылаясь на критику Малиновским последнего положения. Затем
он стремится развенчать идею сказки, или Märchen* как
своего рода вымысла и продукта творческого воображения,
предлагая четыре аргумента с целью ее опровержения.
Первый аргумент. «Ни об одном народном сказителе не
было известно, что он что-либо придумал». В
доказательство Рэглан приводит несколько примеров, в частности
общества эскимосов, у которых слушатели ждут от
рассказчика того, чтобы он повторил предание, «насколько это
возможно, предельно дословно по сравнению с исходной
версией». Однако существуют такие общества, например зуни, по
отношению к которым это не совсем верно. Вне всякого
сомнения, оригинальность и импровизация допускается лишь
в определенных границах, но нельзя сказать, что
творчество порицается во всех обществах. Рэглан продолжает: «В
бесписьменных сообществах народ в целом не только не
сочиняет истории, но даже и не рассказывает их.
Воспроизводить предания могут лишь обладающие соответствующим
статусом сказители... а у многих племен они могут
повторять выборочно только те истории, свое право
рассказывать которые они осознают». Даже если мы допустим, что
140
сочинение представляет собой индивидуальное, а не
групповое действие, доказывает ли это, что оно вовсе
отсутствует? И даже если это утверждение истинно по отношению ко
всем обществам, что далеко не так, оно нисколько не ведет
к положению, которое должно обосновать.
Второй аргумент. «Не только события, отраженные в
сказках, одинаковы во всем мире, но и в одном языковом
ареале они, как правило, рассказываются одними и теми
же словами». Рэглан показывает, что «волшебные сказки
Англии и Франции содержат не только рассказы об одних
и тех же событиях, но и одинаковые или сходные имена»,
как, например, Bluebeard и Barbe-bleu или Little Red Riding
Hood и Le Petit Chaperon Rouge.* «Мы вынуждены
заключить, — пишет он, — что некоторые сказки представляют
собой перевод», подразумевая тем самым, что все
французские и английские сказки были заимствованы из другого
региона. «Кажется, этого достаточно, чтобы утверждать,
что волшебные сказки одной страны не народного
происхождения, поэтому у нас нет никаких оснований считать
народными сказки другой страны». Признаюсь, здесь я вновь
не в силах следовать ходу его рассуждения. Если
некоторые (или даже все) английские сказки были заимствованы
из Франции, это никоим образом не доказывает, что
некоторые из них (или даже все) не возникли во Франции. И
все же Рэглан настаивает: «Если нам покажется резонным
верить в то, что сказка была заимствована, пусть даже из
соседней деревни, ее народное происхождение вызовет
подозрения, поскольку если одно сообщество заимствует
сюжет вместо того, чтобы его сочинить, другое может делать
то же самое, и если одна составляющая фольклора
заимствована, возможно, что заимствовано и целое».
Диффузия, разумеется, является наиболее важным
процессом, но каждый элемент культуры, каждый сюжет и
действие фольклора должны в конце концов когда-то, где-
то и кем-то быть изобретены. Показать, что сюжет или
мотив распространился благодаря диффузии (даже столь
широко, как магический полет), еще не значит доказать, что
он не мог иметь секулярное происхождение или возникнуть
в воображении неизвестной личности.
141
Третий аргумент. «Как правило, сказки повествуют о
предметах, знаниями о которых народ не обладает». Они
повествуют, утверждает Рэглан, о сверхъестественных
существах, королях и королевах, принцах и принцессах;
события разворачиваются во дворцах и замках, а не на скотном
дворе или пашне. Если бы сказки действительно
сочинялись в народе, настаивает Рэглан, содержание их
относилось бы к повседневности, например ухаживанию и
свадьбе, посеву и жатве или охоте и рыболовству, что народу
гораздо ближе, чем боевые подвиги героев и
преемственность царей. «Даже когда в качестве героев выступают
крестьяне, ситуации и события совершенно нереальны», как в
истории о Красной Шапочке. Этому можно дать два
вероятных объяснения, ни одно из которых не предполагает
обрядовых истоков. Согласно первому европейские предания
зародились в замках и дворцах и со временем проникли
к крестьянам. Согласно второму крестьяне находили
такое же удовлетворение в преданиях об августейших
особах, какое американцы находят в кинофильмах о
романтике и успехе. Сплетни о делах замка, возможно, были столь
же интересны, сколь для сегодняшних американцев более
поздние романтические истории и скандалы, связанные с
Голливудом или членами королевской семьи. Нет ничего
удивительного в том, что людям доставляет удовольствие
обсуждение вещей, которых у них никогда не будет, или
событий, которые никогда с ними не произойдут.
Рэглан продолжает: «Кажется само собой
разумеющимся, хотя я нигде не встречал четкой формулировки
своего предположения, что крестьянин и дикарь, даже будучи
великими мастерами выдумывать истории, все же не
способны выдумать простейшую историю о деяниях человека
обыкновенного и заурядного, отчего вынуждены прибегать
к помощи великанов-людоедов, чар, говорящих животных
и людей, наделенных сверхъестественными способностями
и мощью, представлениям о которых они обязаны некой
таинственной, но универсальной силе. Неоднократно
говорилось, что эта сила действует посредством снов и
галлюцинаций, но выдвигающие это предположение не
осознавали, что сны и галлюцинации не могут привнести в мыш-
142
ление новые идеи». Рэглан высказывается вполне
определенно лишь о том, что, хотя крестьянин и дикарь
искусны в изобретении ритуала, все же они не способны
выдумать даже простейшую форму фольклора. По выражению
С. Томпсона, «ни один из этих авторов не поведал нам,
как развивался сам ритуал и почему процесс изобретения,
перенесенный с ритуала на истории о богах и героях,
следует считать более простым, чем какой-либо другой вид
изобретения».8 Как не поведал Рэглан и о том, почему
сочинение мифа или сказки требует большей гениальности,
чем составление комплекса ритуалов, от которого они, как
утверждается, производны.
Следует также отметить, что данный аргумент
обосновывается материалом исключительно европейского
фольклора. Тот факт, что короли и замки не обнаружены
в фольклоре североамериканских индейцев, не вызывает
удивления, однако здесь он наиболее уместен. Несмотря
на то, что в их фольклор вовлечено все многообразие
достойных удивления событий, в нем можно также
обнаружить и описания охоты, помола муки, плаваний, миграций
и других обыкновенных явлений человеческой
деятельности. Фактически в большей части корпусов живого
фольклора можно найти достаточно описаний технологии,
экономики, социальной и политической организации наряду с
религией и ритуалом, чтобы вычленить описание
повседневной жизни, как это делал Боас, исследуя мифы цимшиан.
Четвертый аргумент. «Задача воображения состоит
не в творении чего-либо из ничего, но в преобразовании
предмета, уже наличествующего в мышлении». Согласно
аргументу, представленному здесь, сказитель, подобно
архитектору, конструирующему дом, или поэту и прозаику,
по большей части перерабатывает уже известный
материал. Я могу согласиться с данным предположением, но не
с выводом Рэглана о том, что гений и подлинная
оригинальность присущи исключительно литераторам и
абсурдно предполагать в неграмотном и простоватом
человеке способность сочинить историю о Золушке. «Для каж-
8 Thompson S. Myths and folktales // Journal of American Folklore.
1955. LXVIII. P. 483.
143
дого сообщества, обладающего письменностью, характерен
определенный набор типов историй, выйти за пределы
которого не может отважиться никто, кроме выдающегося
гения. Народ же способен лишь допускать незначительные
изменения, как правило, только во вред созданным поэмам,
историям или пьесам, но он никогда не сочиняет их сам».
Если аборигены Америки могли изобрести иглу,
снегоступы, тоббоган, курение, концепцию нуля и многое другое,
что же мешало им преуспеть в словесном творчестве?
В заключение Рэглан констатирует: «Итак, полученные
нами результаты свидетельствуют, что сказка никогда не
имеет народного происхождения, являясь скорее одной из
форм традиционного повествования; что традиционное
повествование не имеет никакого основания ни в истории, ни
в философских спекуляциях, но производно от мифа; и что
миф есть повествование, связанное с ритуалом». Ничто не
считается традиционным, пока оно не просуществует
более 150 лет, и миф по определению— «повествование,
связанное с обрядом». Рэглан цитирует определение мифа как
«проговариваемой части ритуала, истории, которую
ритуал воплощает в действии», данное Хуком и Джейн Хар-
рисон, которая писала, что μυΌος «первоначально был для
грека просто чем-то проговариваемым, произносимым
изустно. Его антитеза или, скорее, коррелят есть нечто
совершаемое, воплощаемое в действии... Изначальное значение
мифа в религии примерно равноценно его роли в древней
литературе: проговариваемый коррелят совершаемому
обряду».9 Как и С. Томпсон, я отказываюсь верить в то, что
Рэглан сознательно стремился к допущению логического
круга, порождаемого его аргументацией, когда он в начале
своей недавней статьи назвал миф просто повествованием,
связанным с ритуалом, а затем предложил «приступить к
доказательству того, что миф (т. е. повествование,
связанное с ритуалом) действительно связан с ритуалом».10
В обоснование теории, в соответствии с которой все
традиционные повествования связаны с ритуалом, Рэглан
9Raglan, Lord. The Него... P. 128; Hook S. H. Myth and Ritual.
Oxford, 1933. P.3; Harrison J.E. Themis. Cambridge, 1912. P. 328.
10 Thompson S. Op. cit. P. 484.
144
предлагает пять аргументов: «(1) Не существует иного
удовлетворительного способа их объяснения... (2) Эти
повествования изначально и по преимуществу имеют отношение к
сверхъестественным существам, королям и героям. (3)
Чудеса играют в них ведущую роль. (4) Одни и те же
сцены и события возникают во многих частях света. (5)
Множество сцен и событий поддается объяснению в пределах
известных нам ритуалов». На мой взгляд, Рэглану не
удалось доказать ни то, что происхождение мифов и сказок
не может быть обусловлено реальными событиями и
ситуациями, ни то, что его невозможно приписать
творческому воображению. Следовательно, нет необходимости
рассматривать ритуал как удовлетворительное их объяснение.
Однако тот материал, который привлекает Рэглан для его
обоснования, все же требует проверки.
Иокаста и Эдип
Ритуал, исследованием которого Рэглан и многие
другие представители этой школы занимаются в первую
очередь, относится к традиции древних жителей долин Нила,
Ефрата и Инда. Он описывается как комплексный ритуал, в
котором представляется разрушение старого и создание
нового мира, и как средство, с помощью которого
божественный царь обеспечивал периодичность разлива рек,
плодородие и всеобщее процветание. Ритуал состоял из
«драматической обрядовой репрезентации смерти и воскресения
царя, который был также и богом, совершаемой жрецами
и членами царского рода. Он включал в себя священный
поединок, оканчивавшийся победой бога над его врагами,
триумфальную процессию с участием соседних богов,
возведение царя на престол, церемонию предопределения
судьбы государства в наступающем году и сакральный брак...
В то время как согласно существующим данным ритуалы
Египта и Месопотамии представляют собой лишь имитацию
убиения царя, традиции Греции и менее цивилизованных
народов предполагают ритуал, в котором царь
действительно предавался смерти: ежегодно или по окончании какого-
либо продолжительного срока, или же когда силы отказы-
145
вали ему».11 Существенной и равно убедительной
составляющей данного ритуала была рецитация мифа, в общих
чертах намечавшего сам ритуал.
Рэглан рассматривал этот ритуал не только как
вероятную основу мифов о потопе, но также как базис мифа
об Эдипе. Эдип, убив отца Лая, женится на своей
матери, Иокасте, и воцаряется на престоле, — новый царь,
который обязан нанести поражение своему предшественнику
в сражении или шутовском состязании, быть возведенным
на престол и вступить в сакральный брак. Теория Рэглана
подменяет цареубийство, обоснованное древним ритуалом,
фрейдовским отцеубийством, основанным на врожденном
сексуальном влечении.
И все же в книге совершенно отсутствует критика
фрейдистской интерпретации этого мифа. В «Герое» Эдипов
комплекс даже не упоминается, поскольку все копья
были сломаны о древнюю теорию Эвгемера. Позднее, в
«Преступлении Иокасты»,12 Рэглан посвящает несколько
страниц критике «двух различных и поистине
взаимоисключающих теорий табу на инцест», представленных в «Тотеме и
табу» Фрейда, включая пространное обсуждение Эдипова
комплекса. Рэглан пишет: «Не должен вызывать сомнений
тот факт, что этот комплекс встречается среди невротиков-
европейцев и в известной степени может присутствовать у
вполне нормальных европейцев; но даже ревностные
последователи Фрейда не смогли обнаружить его следы у
дикарей и были вынуждены постулировать вытеснение,* чтобы
хотя бы отчасти оправдать его явное отсутствие... В тех
случаях, из которых Фрейд черпал свои сведения,
женщины часто сохраняли сексуальную привлекательность до тех
пор, пока их сыновья не достигали половой зрелости... У
дикарей, напротив, женщины стареют быстро, и, как
результат, в сочетании с низкой рождаемостью и высокой
детской смертностью, к тому времени, когда мальчик
достигает половой зрелости, его мать, как правило, уже
увядшая старуха». Помимо единственного предложения о снах и
11 Raglan, Lord. The Него. P. 153; Нооке S. H. The Labyrinth. London,
1935.
12Raglan, Lord. Jocasta's Crime. London, 1933. P. 70-75.
146
галлюцинациях из «Лероя», приведенного выше, я отыскал
только одну отсылку к фрейдовской интерпретации мифов:
в * Преступлении Иокасты»13 Рэглан замечает, что
«психоаналитики, извлекающие мифы из бессознательного, во
многом подобны фокусникам, извлекающим кроликов из
шляпы».
Это не имеет большого значения не столько потому, что
преступление Иокасты и Эдипов комплекс принадлежат к
одному мифологическому циклу, но скорее потому, что весь
последующий анализ мифов Рэглана находится в точном
соответствии с более ранним анализом Ранка,
предпринятым в «Мифе о рождении героя».14 Не позднее 1908 г. Ранк
составил следующую схему, которую он толковал в
терминах Фрейда: «Герой является ребенком весьма знатных
родителей, обычно сыном царя. Его рождению предшествуют
различные трудности, такие как воздержание, долгое
бесплодие, тайная, из-за внешних препятствий или запретов,
близость родителей. До рождения героя или перед
зачатием имеет место пророчество через сновидение или
оракул, предостерегающее о нежелательности его рождения и
обычно таящее угрозу для отца или лица, его
представляющего. Как правило, младенца предают воде в корзине,
сундуке, бочке. Затем его спасают животные или люди
низкого происхождения (пастухи) и вскармливает звериная
самка или женщина-простолюдинка. Выросший герой находит
своих знатных родителей самыми разнообразными
способами; с одной стороны, он мстит своему отцу, а с другой —
получает признание других и в конце концов добивается
высокого положения и почета».15
В 1936 г. Рэглан сравнил миф об Эдипе с двадцатью
другими и результаты обобщил в схеме, состоящей из
двадцати двух элементов, из которых первые тринадцать по-
13Ibid. Р. 136.
14 Rank О. The Myth of the Birth of the Hero// Nervous and Mental
Decease. 18. New York, 1914. — Ссылки даются на это издание. В
оригинале: Rank О. Der Mythus von der Geburt des Hekden // Schriften
zur Angewanden Seelenkunde. V. / Ed. S. Freud. 1908; расширенное
переиздание было предпринято в 1922 г. Перевод на английский язык
был опубликован Р.Бруннером (New York, 1952); на русском языке
см.: Ранк О. Миф о рождении героя. М., 1997
15Ранк О. Миф... С.216.
147
разительно схожи с итогом анализа Ранка. «(1) Мать
героя — царская дева, (2) его отец — царь и (3) часто близкий
родственник его матери, (4) но обстоятельства его зачатия
необычны, (5) поэтому он также слывет сыном бога, (6)
предпринимается попытка убить новорожденного, обычио
отцом или дедом по материнской линии, (7) но он тайно
похищается (8) и воспитывается приемными родителями в
далекой стране, (9) нам ничего не рассказывается о его
детстве, (10) но по достижении зрелости он возвращается или
отправляется в свое будущее царство, (11) после победы над
царем и / или великаном, драконом или чудовищем, (12) он
женится на принцессе, часто дочери его предшественника,
(13) и становится царем, (14) некоторое время его
правление проходит без значительных событий, (15) он
предписывает законы, (16) но позже лишается милости богов и / или
признания подданных, (17) свергается с трона и изгоняется
из города, (18) после чего встречает таинственную смерть,
(19) часто на вершине холма, (20) его дети, если таковые
были, не наследуют ему, (21) его тело не погребается, (22)
но при этом он имеет одну или более священных могил».
Рэглан применяет эту схему к мифу об Эдипе и
обнаруживает, что все 22 элемента находят в нем соответствия.
В сказаниях о таких героях классической мифологии, как
Тезей, Ромул, Геракл, Персей, Ясон, Беллерофонт, Пелоп,
Асклепий, Дионис, Аполлон и Зевс, насчитывается от 11
до 20 сходных пунктов; о таких, как ветхозаветные Илия,
Иосиф и Моисей — от 9 до 20; в европейском фольклоре в
сказаниях о Зигфриде, Ллеу Ллогифесе, Робин Гуде и
короле Артуре —от 11 до 19; у африканских шиллуков в
мифах о Ньиканге, культовом герое, —14; о герое Явы Уате
Гунунге —18.
В своем анализе Ранк, на которого Рэглан не
ссылается вовсе, привлек шесть из этих мифов. Ранк исследовал
примеры Эдипа, Ромул а, Геракла, Персея, Париса, Теле-
фа, Кира, Карны, Саргона, Гильгамеша, Моисея, Иисуса,
Зигфрида, Тристана и Лоэнгрина, наряду со
вспомогательным анализом образов Ионы, Амфиона и Зета, Дараба,
Кай Хусроу, Заля, Феридуна, Зороастра', Авраама,
Исаака, Иуды, Св. Григория, Артура, Тристрама, Вольфдитри-
148
ха, Хорона, Вайланда, Хеля и Скифа. Ранк истолковывает
образы этих героев Европы, Ближнего Востока и Индии в
рамках Эдипова комплекса и избавления от ребенка,
оставленного в ящике, корзине или пещере, которое
символизирует не возвращение в лоно, но процесс рождения.16
Эти два анализа подтверждают саму схему, но,
по-видимому, ни одну из двух предельно далеких друг от друга
интерпретаций. В фрейдистском истолковании герой
женится на своей матери только в четырех из 48 мифов: сам
Эдип, Иуда, Св. Григорий и Уата Гунунг, который женился
на матери и сестре. Зевс вступает в брак с сестрой, Тезей —
с несколькими царевнами. Св. Григорий родился «от
кровосмесительной связи любовников из царствующего рода»,
Дараб — от инцеста дочери и отца, а родители Геракла
были двоюродными братом и сестрой, что свидетельствует о
нарушении табу, но не об Эдиповом комплексе. Сам Ранк
замечает, что мифы особенно подчеркивают враждебность
по отношению к отцу или заместителю отца, но не
сексуальное влечение к матери: «В мифе о рождении героя мать и ее
отношения с героем оказываются отодвинутыми на задний
план».17
Точно так же только в четырех из 48 мифов об
Эдипе, Иуде, Тезее и Ромуле, герой действительно убивает
отца или является причиной его смерти. Это не подкрепляет
ни теорию отцеубийства, ни теорию цареубийства. Персей
и Кай Хусроу убили отца матери, Ясон —брата отца,
Геракл — приемного отца, Ромул — единоутробного брата, но
Амфион и Зет убили жену брата отца матери, Илия
спровоцировал сожжение матери отца, а Карна был убит своим
братом. Затруднительно трактовать всех их как
заместителей отца. В других случаях герой убивает или побеждает
чудовищ, совершает подвиги, преодолевает смерть,
одерживает боевые или магические победы или, в случае
Иосифа, побеждает в «состязании в толковании снов и
предвидении погоды».18 Предложенная Рэгланом и Ранком
абстрактная схема кажется менее сопоставимой с интерпрета-
16Там же. С. 225-226.
17Там же. С. 243.
16Raglan, Lord. The Него. P. 184.
149
циями в духе Эдипова комплекса и обрядовых истоков, чем
с голливудскими формулами. Герой преодолевает
непреодолимые преграды, женится на принцессе и становится
королем. Однако многие детали и события подверглись бы
цензуре Голливуда.
В другом крайне существенном пункте теории
обрядового цареубийства также не удалось объяснить
героическую схему, очерченную Рэгланом, а именно тот факт, что
сам герой не претерпевает смерть от своего преемника, но
удаляется, потеряв расположение богов, и находит
таинственную смерть на вершине холма. Рэглан делает
оговорку: «Мы можем прийти к заключению, что свержение и
странная смерть являются частями схемы, но нас приводит
в замешательство та особенность, что нет никаких данных,
свидетельствующих о поражении героя. Поскольку он
восходит на трон после победы, можно было бы ожидать, что
он теряет его вследствие поражения, но об этом никогда не
говорится». Единственное объяснение, которое может
предложить Рэглан, сводится к тому, что божественного царя,
возможно, сжигали на погребальном костре, сооруженном
на вершине холма, однако он соглашается, что нет указаний
на то, что перед сожжением герой был вынужден
сражаться и пал от руки своего преемника. Но если ритуальное
цареубийство должно представлять смерть старого царя, то
оно же должно являть и смерть нового. Пункт 18 должен
быть равен пункту 11. Сам Рэглан отмечал ранее:
«История — то, что случается единожды, но неповторимое
событие — ничто для ритуалиста, имеющего дело только с тем,
что происходит снова и снова». Подобная критика, конечно,
с тем же успехом применима и к фрейдовской
интерпретации, поскольку считается, что Эдипов комплекс присущ
каждому мужчине.
Ньиканг и Уата Гунунг
Я не предлагаю теорию происхождения героической
схемы, альтернативную теории Рэглана и Ранка. Вероятно, ее
истоки коренятся в обрядовом цареубийстве или
сексуальном отцеубийстве, и так же вероятно, что она порождена
150
творческой фантазией или реальными ситуациями в
человеческом обществе. Я не считаю какое-либо из этих
объяснений ни вполне доказанным, ни вовсе невозможным.
Однако следует отметить, что все герои Ранка и почти
все, кроме двух, Рэглана принадлежат сообществам
Индии, Ближнего Востока и Европы, которые на протяжении
длительной истории часто вступали в культурные
контакты. Сходные черты в этих преданиях могут объясняться
распространением из одного центра, как указывал Рэглан,
что в равной степени может относиться к Ньикангу и Уате
Гунунг. Шиллуки не слишком отдалены от мусульман, и,
возможно, это предание распространилось на Яве вместе с
буддизмом или исламом. Но если все сходства вызваны их
появлением из одного источника, есть ли какой-либо смысл
объяснять их обрядовыми истоками? Простое обнаружение
сходств не доказывает их происхождения из ритуала,
истории или фантазии, ни во фрейдистском понимании, ни в
любом другом.
В своей недавней статье Лесса исследовал предания
эдиповского типа, распространенные на островах
Суматра, Ява, Ломбок и в отдельных районах, находящихся вне
досягаемости буддийского и исламского влияний, на Ули-
ти, Трук, Понпей, Кусаие, Капингамаранги, Новой Гвинее,
Маршалловых и Маркизских островах.19 В
космогоническом мифе маори, где описывается, как Танемахута
разрывает отца и мать, Лэнг усматривает явную параллель с
мифом о Кроне20 и, проводя другие аналогии, ссылается
на индийский миф, в котором Индра разъединяет Дьяу-
са и Притхиви, и китайский миф о Пуанг-ку, ранее
упомянутый Тэйлором.21* Лесса приходит к выводу, что
истории эдиповского типа передавались из патриархальных
обществ Евразии к океаническим обществам, в жизни
которых примеры эдиповых ситуаций не столь многочисленны.
И хотя я сам пока не смог найти никаких ее следов в Бирме,
на Сиаме, в Индокитае или на Малайском архипелаге, эта
гипотеза в конечном счете имеет право на существование.
19Lessa W. Л. Oedipus-Type Tales in Oceania// Journal of American
Folklore. 1956. LXIX. P. 63.
20Lang A. Custom and Myth. New York, 1885. P. 45-51.
21 Tylor E. B. Primitive Culture. London, 1871. I, 294.
151
Лесса пишет: «Мы видим, что зона бытования подобных
историй ограничена поясом, протягивающимся от Европы
до Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, а оттуда к
островам Тихого океана. Судя по всему, она отсутствует в
таких обширных ареалах, как Африка, Китай,
Центральная и Северо-Восточная Азия, Северная и Южная
Америки, Австралия».22
Ранк и другие фрейдисты-классики истолковали бы эти
соответствия в рамках врожденных Эдиповых импульсов.
Но если эти импульсы являются врожденными и
универсальными, отчего существование подобных мифов не
находит подтверждения во всех обществах? И почему мифы,
подобные мифу об Эдипе и созданные в контексте близко
расположенных друг к другу культур, схожи в большей
степени, нежели те, что разделены временем, пространством
и культурными различиями?
Рэглан не утверждает с полной убежденностью, что все
мифы происходят из одного ритуала. «Рискуя
злоупотребить терпением читателя, вновь повторим, — пишет он,—
что если бы все мифы восходили к царскому ритуалу
регионов Нила и Инда, то все они должны были обнаруживать
значительное сходство. Действительно, множество мифов
чрезвычайно широко распространены, что признавали
почти все ученые, за исключением сторонников «арийской»
теории, но приписывали данный факт сходству
механизмов человеческого мышления. Однако эта концепция
терпит крах, когда становится очевидным, что как бы
широко ни были распространены определенные особенности
мифа и ритуала, другие мифы и ритуалы получили распро-
22Lessa W.A. Oedipus-Type Tales. P. 68. — Ли Гуэй перечисляет 51
миф о потопе, бытующий на территории Формосы, Южного Китая,
Индокитайского полуострова, Малайского архипелага и западнее к
Центральной Индии, в которых брат и сестра переживают потоп в
«деревянном ящике или т. п.». Будучи единственными живыми
существами, они сочетались браком и породили предков человечества. См.:
Li Ян/et. The Deluge Legend of the Sibling-Mating Type in Aboriginal
Formosa and Southeast Asia// Bulletin of the Ethnographical Society.
Taiwan. 1955. I. 205-206. — Несмотря на то, что эти мифы не
являются мифами эдиповского типа, они могли бы быть использованы в
любом исчерпывающем исследовании, поскольку частично совпадают
по ареалу распространения и в конечном счете содержат один мотив.
152
странение, сравнимое хотя бы с мусульманской религией.
Никто не утверждает, что, поскольку на Яве и в Нигерии
мужчины имеют четырех жен и молятся пять раз в день,
человеческому мышлению в целом свойственно
естественное устремление к формированию представления о четырех
женах и пяти молитвах. Ни одно верование или
практику нельзя считать естественными, пока не установлена их
всеобщность, чего нельзя приписать даже наиболее
распространенным мифам и обрядам».
И все же он продолжает настаивать, что «миф
расходится с ритуалом, и обе формы, в особенности у бесписьменных
народов, тяготеют к отражению политических и
экономических условий. Ритуал, получивший развитие у племени,
занимавшегося скотоводством и земледелием, мог перейти
либо к пастухам-кочевникам, либо к оседлым
земледельцам, которые не держали скота вовсе. Тогда одна часть
обряда отмерла бы, и, поскольку это была бы именно та часть,
которая оказалась бы воспринята другим народом,
вероятнее всего оба ритуала стали достаточно независимы...
Исходный ритуал, насколько можно судить по общей
схеме, был основан на существовании царя, которого ежегодно
убивали и заменяли. Сотни мифов описывают его смерть и
установление его преемника». Я могу лишь заключить, что
Рэглан, даже подразумевая наличие одного источника всех
мифов, явно не подтвердил его наличие.
В одной из своих последних статей Рэглан приводит
положение Парсонса, согласно которому миф о Выходе хопи*
призван объяснить церемониальную жизнь людям, ее
лишенным.23 Хотя в том же абзаце Парсонс называет его
недостаточно эзотерическим по сравнению с заговорами
пуэбло, цитата все же свидетельствует, что в мифе
рассказывалось о событиях, представляемых в ритуалах. Из
приведенного отрывка неясно, сходна ли в данном отношении
история Выхода, версии которой у зуни заметно
отличаются друг от друга в деталях,24 с тем, что Парсонс25
определяет как археологические или топографические легенды.
23Raglan, Lord. Myth and Ritual// JAF. 1955. LXVIII. P.461;
Parsons E. C. Pueblo Indian Religion. Chicago, 1939. Vol.1. P. 216.
24Benedict R. Zuni Mythology. New York, 1935. I, XXX.
25Parsons E. С Op. cit. I, 215.
153
«Это легендарное полотно расшито множеством
повествований и песен, сопровождающих ритуалы или
используемых в назидательных целях. Версии разнятся, ибо в
каждой их них обыгрывается миф, относящийся к церемонии
или организации, с которыми себя соотносит каждый
конкретный рассказчик». При воспроизведении подобных
сказаний у зуни, Бенедикт называет их «мифами», рассказчик
волен включать в сказания детали ритуалов, особенно
хорошо известные ему из личного опыта. Ясно, что
отношение между мифами зуни и ритуалом второстепенно: хотя
эти детали производны от обрядов и разыгрываются в них,
сами мифы не производны от обрядов. Приведенный Рэгла-
ном отрывок не доказывает, что ничего подобного не может
быть и в случае мифа о выходе.
Для подтверждения обрядовых связей лучше
обратиться к предыдущему абзацу в работе Парсонса: «До сих пор
записи обрядовых речитативов или заговоров крайне
скудны, и в большинстве своем они относятся к зунийскому
материалу. Такие версии известны лишь самим
исполнителям обрядов; далее воспроизводимые в присутствии
узкого круга зрителей, подобно мифам о Шалако и Саяташе,*
они не предназначены для посторонних, а являются
просто частью церемонии. В данном отношении уникальные
речитативы зуни отсылают к всенощным песенным мифам
индейцев Мохаве, составляют их церемонию, или к
песенным мифам атапасков, также церемониальным по своему
предназначению. В целом мифы и церемонии пуэбло
намного далее отстоят друг от друга, чем песенные мифы и
церемонии навахов-апачей».26
Не трудно выявить роль других мифов, взятых даже в
специфическом понимании Рэглана, — как связанных с
ритуалом повествований, получивших распространение в
обществах, не принадлежащих к западному полушарию. То-
темические мифы мурнгин Австралии в описании Уорне-
ра также полностью подпадают под определение Харрисон
и Хука. «Фундаментальная концептуальная схема
пронизывает все церемонии; различные драматические действия
живописуют миф посредствам танца и песни. Для Восточ-
26Parsons Ε. С. Op. cit. I, 215.
154
ной Европы это целостное тотемическое церемониальное
поведение сравнимо с оперой Вагнера, где роль мифа
выполняет либретто; мотивы (например, змея проглатывает
женщину) вводятся одной-двумя фразами, а затем
получают дальнейшее развитие; причем на некоторые мотивы,
тщательно разработанные в одних церемониях, в других
дается лишь намек. В данном случае мы видим, что те
церемонии, которые туземцам кажутся независимыми, тем
не менее осознаются ими как составляющие нечто большее,
некую тотальность. Данное построение можно, без
чрезмерного преувеличения, сопоставить с «Кольцом Нибелунгов».
Существенное отличие состоит в том, что такая история
есть для них не миф, но догмат, и обладает той же
церемониальной значимостью для мурнгин, какой обладает месса
для верующих католиков».27
Приведенные примеры и другие возможные доводы
делают для антропологов очевидной необходимость более
пристально исследовать взаимоотношения мифа и
ритуала и более тщательно проверить на материале различных
культур предпосылки обрядовой школы, за которыми
зачастую скрываются или ее собственные догмы или неподтвер-
ждаемые гипотезы.28 Действительно ли то, что ритуалисты
определяют как миф, универсально для всех обществ?
Другими словами, возвращаясь к поставленному ранее вопросу,
все ли мифы (в самом общем определении) связаны с
ритуалом? Я сомневаюсь в этом, но прежде чем нам представится
возможность ответить на эти вопросы, самим ритуалистам
следует достичь определенного согласия в представлении о
том, что такое миф: (1) повествование, рассказываемое в
процессе проведения ритуала; (2) повествование, события
которого разыгрываются в ритуале; (3) повествование,
которое и рассказывается, и разыгрывается в ритуале; (4)
повествование, которое лишь косвенно и вторичным образом
связано с ритуалом.
Не менее важно, чтобы антропологи и фольклористы в
целом условились, что именно они понимают под мифом,
27 Warner W. L. A Black Civilization. New York; London, 1937. P. 260.
28 Например, рэглановская интерпретация Вильгельма Телля и
сказки о Верной Собаке (см.: Raglan, Lord. Myth and Ritual. P. 459).
155
и провели подтверждаемые конкретным материалом
различия между терминами «миф», «легенда» и «сказка». В
традициях американских индейцев провести подобные
границы особенно сложно, на что указывают сообщения Пар-
сонса о легендах и отсылки Бенедикт к мифам, которые
она периодически называет «сказками». Уточнение Уорне-
ра, что названное им «мифом» есть «не миф, но догмат»,
и определение Бидни, согласно которому миф есть нечто
«неистинное», лишь увеличивают путаницу. Мы лишены
возможности представить здесь свою систему
классификаций, но следует отметить, что в ней мифы по определению
есть то, что принимают за истину в обществах, в которых
их рассказывают. Подобно легендам и в отличие от сказок
их считают скорее реальностью, чем вымыслом.
К. Клакхон
Мифы и обряды: общая теория
ι
В исследованиях XIX в. прослеживается строгая
тенденция изучения мифологии безотносительно к связанным
с нею обрядам (а в сущности и безотносительно к
человеческой жизни в целом). Мифы представлялись
символическими описаниями феноменов природы. Представители
одной известной школы предприняли попытки обнаружить
астрологический базис для всех мифических преданий.*
Другие, среди которых самым выдающимся стал Эндрю
Лэнг, усматривали в мифе своего рода примитивную
научную теорию. Мифология отвечала на настойчивые
человеческие вопросы «как?» и «почему?». Как и почему возник
мир? Как и почему появились живые существа? Почему
жизнь неминуемо кончается смертью? Для ранних
психоаналитиков, таких как Абрахам и Ранк, мифы были
«групповыми фантазиями», выражениями чаяний общества,
соотносимыми со снами и фантазиями отдельных людей.
Мифология для них выступала также по преимуществу
символической структурой, но символизм, нуждавшийся в
истолковании, был в первую очередь сексуальным
символизмом, который постулировался в качестве универсального и
всепроницающего. Рэйк осознавал связь мифа и ритуала
и, подобно Фрейду, негласно соглашался с
предположением Робертсон-Смита, который считал мифологию
описанием ритуала. Для психоаналитиков мифология
представляла в сущности (по крайней мере то, что они под ней
понимали) материал социального воображения, отражавший
подавление импульсов. Не предпринималось ровным
счетом никаких попыток ни исследовать практическую роль
157
мифологии в повседневном поведении членов общества, ни
выявить особенности взаимодействия мифов и церемоний.
Интерес был сосредоточен на общечеловеческих, как
предполагалось, символических значениях, а не на отношении
рассматриваемого мифа или его фрагмента к
специфическим культурным формам или частным социальным
ситуациям.
Исчерпывающий ответ на поставленный вопрос об
отношении мифа и церемонии безусловно зависит от того,
насколько широкий или, напротив, узкий и ограниченный
смысл мы вкладываем в слово «мифология». Так, в
повседневном словоупотреблении история Эдипа —это «миф»,
но лишь немногие психоаналитики уверены в том, что она
описывает непосредственно некий ритуал! Хорошо
известные рассказы в «Государстве» вполне определенно
названы μυΰος, и хотя отдельные антиковеды предполагают, что
в некоторых случаях Платон подразумевал орфические
и/или элевсинские мистерии, также несомненно и
отсутствие малейшего намека на то, что бессмертные «мифы»
Платона являются «описаниями ритуалов». Вероятно,
будет вполне оправданным сузить круг проблем, указав на
то, что в операциональном смысле они представляют собой
«легенды», и, кроме того, подчеркнув, что от «мифов»
следует отличать «легенды», «волшебные сказки» и
«фольклорные предания». Но даже если согласиться с Дюркгей-
мом в том, что «миф» связан с «сакральным» и
противопоставлен «профанному», все же указанное различие не
менее затруднительно проводить в каждом конкретном
случае. Как быть с мифами о творении? В отдельных случаях
(как у зуни) они действительно излагались на протяжении
обрядового действа (с некоторыми отклонениями в
различных церемониях). В других случаях даже при повторении в
«обрядовом порядке», они не входят в какую-либо
церемонию. Однако «привкус священного» в них определенно
сохраняется. Более того, существуют (примером снова могут
послужить зуни) экзотерические и эзотерические
варианты одного и тот же мифа. У навахов многим старикам, не
участвующим в церемониях, известна та часть мифа,
которая повествует о подвигах героя или героев, но не та, кото-
158
рая предписывает обрядовые особенности заговоров. Если
допустить также и то, что довольно часто встречается
сосуществование мирской и священной версий одного
предания, и то, что каждый частный случай обращения к мифу
порождает дополнительные сложности, все же кажется
возможным использовать в качестве дополнительного отличия
«мифа» от остальных форм фольклора значение
сакрального. Наконец, подобное определение оказывается
приемлемым даже в первом приближении и прослеживается на
протяжении всей статьи.
Однако строгое определение «мифа» как «священной
истории» еще не дает оснований предполагать, что мифы
являются лишь описаниями коррелирующих с ними
ритуалов. Роуз справедливо утверждает, что «среди мифов
есть множество таких, связь которых с ритуалом
нуждается в доказательстве, а не простом предположении». Что
действительно необходимо, так это детальный
сравнительный анализ реально существующих связей. В целом,
скорее всего мы действительно обнаружим и богатство
ритуалов, и богатство мифов. Но в некоторых случаях
(например, у тода) обширный свод церемоний не находит столь
же пространного мифологического подкрепления, а в
других (например, в классической Греции) разветвленная
мифология существует более или менее независимо от
сравнительно скудной обрядовой системы. Так, несмотря на
множество мифов об Аресе, связанные с ним ритуалы
выглядят весьма немногочисленными, существовавшими недолго
и ограниченными в пространстве. А древние римляне,
судя по всему, вообще прекрасно обходились без мифологии.
Бедность ритуалов, сопровождающих чрезвычайно
развитый комплекс мифологии Мохаве, также хорошо известна.
Как справедливо указывает Крёбер, «нельзя сказать, что
публичные церемонии или ритуалы в том виде, в каком
они практикуются почти всеми индейцами, существуют у
Мохаве».1 Сходным образом бушмены располагают
большим количеством мифов и очень небольшим числом
ритуалов. Можно привести прямо противоположные примеры
1 Kroeber A.L. Handbook of the Indians at California. Washington,
1925. P. 755.
159
обществ: подобных эскимосам центральной Аляски, у
которых каждая деталь мифа о Седне имеет свой обрядовый
аналог в исповедальных и других обрядах или охотничьих
табу, и, напротив, подобных племенам американских
индейцев (в особенности некоторых калифорнийских), где миф о
творении никогда не воплощается в церемониальных
формах. Даже в различных регионах одной культуры (папа-
го) представлены все перечисленные возможные варианты.
Некоторые мифы никогда не представлены в церемониях.
В отдельных церемониях в качестве основного выделяется
содержание, не имеющее никакого отношения к мифу.
Отдельные церемонии, в которые входят только песнопения,
занимают весьма неопределенное положение в
мифологическом мире: между ними и мифами «несомненно существует
незначительная связь, которая может быть
рационализацией, предпринятой ради единства».2
В антропологии предшествующего поколения
наблюдалась тенденция яростно отмежевываться от любого рода
обобщающих истолкований. Одержимые идеей сложности
исторического опыта любого народа, антропологи
(вероятно, слишком упорно) воздерживались от выводов о
периодичности и систематичности психологических реакций,
которые выходили бы за пределы фактов культурного
взаимопроникновения и общественных связей. Особое значение
придавалось распространению мифов и мифологических
образцов, преобладавших в различных культурах и
культурных ареалах. Изучение особенностей этого
распространения привело к обобщению иного порядка, прямо
противоположному гипотезе большинства антиковедов XIX в.,
согласно которому ритуал есть инсценировка мифа.
Согласно Боасу, «единообразие множества обрядов на огромных
территориях и разнородность мифологических толкований
ясно указывают на то, что ритуал сам по себе является
стимулом для происхождения мифов... Обряды
существовали, и предания возникали благодаря стремлению
объяснить их».3
Хотя это предположение о первичности обряда по срав-
2Устное сообщение д-ра Рут Андерхилл.
3Boas F. et al. General Anthropology. New York, 1938. P. 617.
160
нению с мифом, возможно, представляет собой
статистически валидное заключение и обоснованную
формулировку ведущей тенденции человеческого опыта, оно кажется
мне таким же вызывающим возражения своей простотой
и унитарностью объяснением (позволим себе зайти так
далеко), как в целом пересмотренные и опровергнутые
теории XIX в. Как мы можем убедиться, Хокарт
непрестанно вопрошает: «Если существуют мифы, породившие
обряды, откуда возникли сами эти мифы?»4 Вскоре мы
представим ряд кратких примеров, которые ясно и
недвусмысленно свидетельствуют в пользу того, что мифы
действительно порождают обряды. Здесь я лишь позволю себе
отметить, что для беспристрастного взгляда, христианская
месса в истолковании христиан представляет собой
характерный пример обряда, обоснованного священной историей.
В любом случае безусловно, что на поставленный Хокар-
том вопрос можно ответить достаточно просто: мифы
возникли из снов, фантазий или привычного образа жизни
некой личности, входящей в некое сообщество. Основные
психологические механизмы, включенные в этот процесс,
как представляется, не отличаются от тех, с помощью
которых представители нашей и других культур
придумывают свои собственные ритуалы или системы гаданий:
например, загадывание и отгадывание перед боем часов,
попытка добраться до установленной точки (скажем, до
светофора) раньше, чем произойдет какое-то предполагаемое
событие. Как указывал Дюбуа, «объяснением может служить
тот факт, что личные ритуалы были восприняты и
узаконены группой».5 Эти «личные ритуалы» могли
зародиться в характерных наборах привычек (схожих с теми,
которые присущи одержимым невротикам в нашей культуре),
во снах или мечтах. Мисс Селигмен убедительно
заявляла, что внезапная диссоциация личности — часто
встречающийся механизм инноваций обряда. Литература
изобилует примерами «снов», в которых людей призывают
сверхъестественные существа, сопровождают их в путешествиях
4Hocart А. М. Myth and Ritual// Man. 1936. XXXVI. P. 167.
5DuBois С. Some Anthropological Perspectives on Psychoanalysis//
Psychoanalytic Review. 1937. XXIV. P. 254.
161
и испытаниях и наконец приказывают учредить
определенные обряды (часто символически повторяющие их
подвиги).
Более того, известен ряд документально подкрепленных
реальных случаев, когда исторические личности, по
воспоминаниям других исторических лиц, действительно
вводили новые ритуалы, что замечательно иллюстрирует
включение Пляски Духов в обряды американских индейцев и
другие туземные культы Нового Света. Здесь сны и
фантазии, рассказанные еще до реального осуществления
церемонии, стали важной составляющей обрядовых мифов,
воспринимаемых в качестве традиционных. Линкольн
предоставил правдоподобное свидетельство того, что сны могут
служить источником * новых» ритуалов. Морган,
основываясь на материале навахов, пишет:
Иллюзии и сны... настолько живы и убедительны, что
любая попытка судить о них впоследствии на основании
здравого смысла тщетна. Подобного рода опыты глубоко
обусловливают все индивидуальное, порой настолько, что если опыт
расходится с верованиями всего племени или ближайших
соседей, человек отдаст предпочтение своей версии. Не может
быть никаких сомнений в том, что в этом состоит самый
значимый способ видоизменения культуры.6
Ван Геннеп утверждает, что сон в эпидаврском
святилище служил источником новых обрядов в культе Асклепия.
Обретение церемонии во сне, конечно, само по себе
является образцовым, обусловленным традицией механизмом
получения церемонии или власти. Мне не известны примеры
других сообществ, в которых сон пользуется вообще столь
дурной славой, как у зуни, однако и у них церемония
доказуемо проистекает из сновидения. Но если сон и
воспринимается как откровение, не следует из этого заключать, что
содержание (или даже структура в целом) нового мифа и
основанная на нем церемония будут всецело обусловлены
предшествовавшими формами культуры. Как отмечал Ло-
уи, «тот факт, что сновидения частично отражают
преобладающие в фольклоре сюжеты в конечном счете ничего
6Morgan W. Human Wolves Among the Navaho. New Haven, 1936.
P. 40.
162
не объясняет».7 Антропологи должны быть предельно
осторожны с тем, что Коржибский называет
«саморефлектирующими системами»,— именно отсюда следует, что «только
культура влияет на культуру».
Структура новых культурных форм (неважно, мифа
или ритуала) бесспорно будет обусловлена
предшествующей культурной матрицей. Но возникновение новых
культурных форм почти всегда вызвано факторами, внешними
для данной культуры: воздействиями других сообществ,
биологическими обстоятельствами, такими как эпидемии
или изменения в природе. Совсем недавно Барбер
показал, что Пляска Духов и культ Пейота* суть
альтернативные реакции различных племен американских
индейцев на потерю самостоятельности, связанную с
вторжением белых колонистов. Пляска Духов была адаптивной
реакцией на раннее внешнее давление, однако под
воздействием позднейших обстоятельств культ Пейота стал
более адаптивной мерой, и Пляска Духов претерпела то, что
бихевиористы назвали бы «угасанием без подкрепления».
Во всяком случае в ряде племен Пляска Духов перестала
существовать, а в других она, вероятно, угасла лишь
частично.
В любом сообществе всегда есть люди, соблюдающие
свои особые ритуалы, всегда есть мечтатели, стремящиеся
возместить недостатки реальности фантазиями. При
нормальном развитии событий они олицетворяют просто де-
виантные типы поведения, которые осмеиваются или
игнорируются большинством членов общества. Причем,
вероятно, не следует называть их «девиантными» — таковыми
они становятся, лишь будучи доведенными до крайности
относительно небольшой группой людей, ибо каждый
человек, судя по всему, располагает набором своих
собственных ритуалов и компенсаторных фантазий. Но когда
изменяющиеся обстоятельства складываются таким образом,
что частный тип навязчивого поведения или особый тип
фантазии оказывается подходящим для группы в целом,
личный ритуал социализируется группой, а индивидуаль-
7Lowie R. H. The History of Ethnological Theory. New York, 1937.
P. 264.
163
ная фантазия претворяется в миф общества, к которому
индивид принадлежит. Действительно, некоторые данные
свидетельствуют: когда воздействия превышают
привычную степень интенсивности и становятся повсеместными,
значительное число разных людей может почти
одновременно породить близкие по существу фантазии, после чего
последние становятся общепринятыми.
Если же верование (миф) или поведение (ритуал)
изменяются, первое будет зависеть и от культурной традиции,
и от внешних обстоятельств. Если бросить очень беглый
взгляд на предмет, действительно создается впечатление,
что поведенческие модели изменяются чаще, чем
верования. В культуре, подобной нашей, развитие которой
протекает медленно, многие идеальные модели в той же мере,
что и характерные для предшествующего поколения,
соответствуют поведенческим моделям. Здесь мы находим
дополнительное подтверждение тому, что определенные
идеальные модели (к примеру, определяющие статус
женщины) изменяются медленно, подстраиваясь под
поведенческие реалии и действуя в качестве их осмысления. Тем не
менее пример нацистской Германии является великолепной
иллюстрацией того, как идеальные модели («миф»)
нисходят сверху, пронизывая почти всю ткань существования,
и того, как государство посредством различных
организаций направляет все свои силы к тому, чтобы сообразовать
поведенческие модели со стандартами поведения,
установленными нацистской мифологией.
Одни культуры и субкультуры относительно
безразличны к верованиям, другие —к поведению. Преобладающая
практика христианской церкви на протяжении всех
периодов ее долгой истории состояла в придании особого
значения верованию, а это, если взглянуть на данный факт с
культурологической точки зрения, наиболее необычно. В
основном решающим испытанием исповедания
христианства выступала готовность новообращенного открыто
признать свою веру в определенные догматы. Термин
«верующий» был почти синонимичен термину «христианин».
Вполне вероятно, что именно из-за подобной культурной
«завесы» подавляющее большинство европейских ученых
164
вплоть до настоящего столетия высказывались в пользу
первичности мифа.
II
В известной мере сам по себе вопрос о первичности
церемонии или мифа имеет не больше смысла, чем все
вопросы о «яйце или курице». Что действительно важно, так
это столь блистательно показанная Малиновским сложная
взаимосвязь мифа, одной из форм идеологии, и ритуала
наряду со многими другими формами поведения. Я отдаю
себе отчет в том, что могу добавить очень немного
концептуального к исследованию Малиновского «Миф в
примитивной психологии», в котором он рассматривал мифы не
как пережитки, изъятые из целостного контекста, но как
реальные и жизненно важные элементы повседневного
существования населения Тробрианских островов,
переплетенные со всеми возможными типами интеллектуальной
деятельности. Очевидно, что все они (или почти все)
содержат долю истины. Одни черты могут показаться
объяснением феноменов природы. В других чертах
открываются своеобразные формы исполнения желаний, характерных
для культурного поиска (включая выражение
запрещенного культурой, но неосознанно желаемого). Наконец,
существуют как мифы, которые тесно связаны с обрядами и
могут быть их описанием, так и мифы, стоящие особняком.
Если эти последние суть описания ритуалов как таковые,
они являются, как считал Дюркгейм (а впоследствии Рэд-
клифф-Браун и др.)> описаниями обрядов социальной
организации. Иными словами, они представляют собой
символические системы, которые воспроизводят преобладающие
конфигурации данной конкретной культуры.* Таким
образом, мифы могут выражать скрытое содержание не
только обрядов, но и других культурно организованных типов
поведения. Малиновский, безусловно, заблуждался, когда
писал, что миф оказывается «не символическим, а прямым
выражением своего содержания».8 Дюркгейм и Мосс вы-
8Malinowski В. Myth in Primitive Psychology. London, 1926. P. 19;
цит. по: Малиновский Б. Миф в примитивной психологии //
Малиновский Б. Магия, наука и религия. М., 1998. С. 99 (прим. пер.).
165
явили, каким образом различные бесписьменные общины
(особенно это заметно на примере зуни и ряда племен юго-
восточной Австралии) включают природный мир в схему
своей социальной организации посредством мифов,
классифицирующих природные явления, четко сообразуясь с
принципами, доминирующими в структуре общества.
Позднее подобный тип истолкования получил развитие у Уор-
нера.
Боас, с присущей ему осторожностью, весьма
скептически относился ко всякому намерению создать
систематическое истолкование мифологии. Однако, соглашаясь с его
утверждением о том, что «мифологические повествования
и мифологические представления не следует уравнивать,
ибо психологические, социальные и исторические условия
отражаются и в них по-разному», 9 мы не должны
оправдывать необходимостью тщательного исследования
исторических и иных условий любой отказ от попыток исследовать
важнейшие символические процессы в культуре. Во
всяком случае приведенная цитата абсолютно недвусмысленна
в одном отношении: мы не можем постулировать
«первичность» ни ритуалов, ни мифов.
Это положение нашего исследования очень важно, и
достойно сожаления, что Хук и его коллеги, внесшие весьма
значительный вклад в изучение соотношения мифа и
ритуала в культурах Ближнего Востока, придавали особое
значение лишь одному аспекту сложной взаимосвязанной
системы, наличие которой показали Малиновский и Рэд-
клифф-Браун. Когда Хук указывает на то, что мифы
используются исключительно для объяснения ритуалов, это
наблюдение можно признать состоятельным и
подкрепленным фактами во многих культурах. Действительно, все эти
данные позволяют сделать более общий вывод: человек,
будучи «животным символизирующим», явно
испытывает необходимость не только в том, чтобы исполнять, но
равным образом и в том, чтобы предпосылать словесные
или иные символические «причины» своим действиям. Хук
справедливо говорит о «жизненном значении мифа как
чего-то воздействующего», но он добавляет, что «вследствие
9Boas F. Race, Language, and Culture. New York, 1940. P. 450.
166
этого миф отмирает от своего ритуала»,10 по-видимому,
предполагая, что мифы не могут существовать отдельно
от ритуалов, а это, как уже доказано, противоречит
документированным свидетельствам. Важнейшая теорема была
высказана гораздо точнее Рэдклифф-Брауном: «Ив случае
мифа, и в случае ритуала выражаемые в них чувства
значимы для существования сообщества».11 Эту теорему можно
считать непреложной на уровне обобщения, однако нам все
же необходимы детальные наблюдения над изменениями в
мифах, соответствующие изменениям в ритуалах и
культуре в целом. Материал по навахам свидетельствует о том,
что когда культура в целом интенсивно преобразуется, так
же целостно и быстро трансформируются ее мифы.
Итак, факты не позволяют делать какие-либо
обобщения относительно того, является ли ритуал «причиной»
мифа или наоборот. Скорее между ними существует своего
рода сложная взаимозависимость, по-разному
структурированная в различных культурах и, вероятно, на разных
этапах развития одной культуры. Как показала Бенедикт,
можно выделить множество степеней обусловленности
религиозного комплекса мифологией <... > И миф, и
ритуал удовлетворяют нуждам общества, и относительное
положение того или другого будет зависеть от
индивидуальных нужд (осознанных и неосознанных) конкретных людей
в данном обществе и в данное время. Этот принцип
распространяется и на те свидетельства, которые
показывают, что обряды заимствуются без связанных с ними мифов,
а мифы — без какого-либо сопутствующего ритуала.
Ритуал может подкрепляться мифом (или наоборот) в исходной
культуре, но для носителей воспринимающей его культуры
он может выступать исключительно формой деятельности
(или подвергнуться рационализации другим мифом,
который лучше соответствует их эмоциональному настрою).
Таким образом, единственная закономерность, которую
можно установить, состоит в существовании строгой тенденции
к определенным взаимоотношениям между мифом и цере-
10Нооке S. Н. The Labyrinth. New York, 1935. P. IX.
11 Radcliffe-Brown A. R. The Andaman Islanders. Cambridge, 1933.
P.405.
167
монией, которые зависят, насколько можно судить по
представленным материалам, от инвариантной функции и
мифа, и ритуала — удовлетворения (чаще в негативной форме
снятия тревоги) большинства членов сообщества.
Если бы интерпретации Малиновского, Рэдклифф-Бра-
уна и их последователей проливали свет на особенности
человеческих чувств и побуждающие их импульсы так же,
как на культурные и социальные абстракции, можно было
бы считать, что их работы представляют собой в
известной степени завершенную и адекватную итоговую теорию
мифа и ритуала. С замечанием Малиновского о мифе как
«живой силе», которая тесно связана со всеми остальными
аспектами культуры, мы можем лишь согласиться. Когда
он пишет: «Миф является своего рода постоянным
побочным продуктом живой веры, которая нуждается в чудесах;
социальных устоев, которые требуют прецедента;
морального закона, который требует оправдания», 12 — мы можем
лишь рукоплескать. Французским социологам, Рэдклифф-
Брауну и Уорнеру мы обязаны ясной формулировкой
принципа символизма. Те сферы поведения и опыта, которые
человек обнаруживает за пределами сферы, подлежащей
рациональному и технологическому контролю, поддаются
воздействию посредством символов. И миф, и ритуал —это
символические процедуры, и они переплетены между
собой, наряду с другими, гораздо теснее именно в данном
отношении. Миф —система словесных символов, тогда как
ритуал — система символических объектов и действий. Оба
суть символические процессы, касающиеся ситуаций одного
типа, преодолеваемых одинаково аффективно.
Однако французские социологи Рэдклифф-Браун и
отчасти Малиновский были настолько озабочены
формулировкой принципов соотношения концептуальных элементов
в теории, что подчас упускали из виду реальные
человеческие чувства. Действительно, «функционалисты», как
правило, начинают с описания неких единичных форм
обрядового поведения. При этом их не только не интересуют
исторические источники подобного частного
поведенческого комплекса; сосредоточившись на условиях, создаваемых
12Малиновский Б. Миф в примитивной психологии. С. 143.
168
ритуалами для социальной системы, они упускают из виду
мотивы и подтверждения, которыми руководствуется
человек. Таким образом, значимость конкретных особенностей
теряется, и мы говорим скорее о мифе в целом и
ритуале в целом. Если исходить из концепции
«функционалистов», конкретные особенности столь же произвольны, что
и феномены вербального языка по отношению к
«содержанию» сообщения.* Отсюда, в свою очередь, по меткому
выражению Долларда, «то, что мы рассматриваем с
культурологической точки зрения, есть драма жизни, во многом
подобная кукольному спектаклю, где за сценой "культура"
дергает за нитки».13
В связи с этим нам кажутся более предпочтительными
некоторые психоаналитические истолкования мифа и
ритуала. Мы считаем малоубедительной приведенную Рохай-
мом трактовку мифов как исторических документов,
отражающих филогенез и онтогенез, хотя не без оснований
полагаем, что многие психоаналитические изыскания
латентного содержания мифологии хаотичны и экстравагантны.
Формулировка Кейси, подытоживающего
психоаналитические взгляды на религию следующим образом: «Ритуал
есть сублимированное подавление; догма и миф суть
сублимированные неврозы навязчивых состояний», 14 поражает
своей чрезмерной упрощенностью и излишним изяществом.
Но в конечном счете обращает на себя внимание связь
между культурными формами и существами, действующими
благодаря импульсам и мотивациям. Кардинер,
занимающий относительно спокойную и умеренную позицию,
«указывает на личность, тело и богатую и бурную
биологическую жизнь», хотя жизнь, по общему признанию,
обусловлена социальной наследственностью: социальной
организацией, культурно предопределенными символическими
системами и т. п.15 <... >
13Dollard J. Culture, Society, Impulse and Socialization// American
Journal of Sociology. 1939. XLV. P. 52.
14Casey R. P. The Psychoanalytic Study of Religion// Journal of
Abnormal and Social Psychology. 1938. XXXIII. P. 449.
15Kardiner A. The Individual and His Society. New York, 1939. P. 182-
194, 268-270.
169
IV
Мы установили необоснованность любого рода
упрощенных формулировок принципов, по которым строятся
взаимоотношения мифа и ритуала. Мы также утвердились во
мнении, что наиболее правильным выводом будет не
суждение в терминах первичности какой-либо из этих
культурных форм, но скорее принятие общей для них обеих
тенденции взаимозависимости. Мы пришли к этому
выводу путем индукции: двигаясь от отвлеченных понятий
к уровню культуры. Другими словами, завершив
исследование материалов различных культур, мы получили
возможность увидеть, что в некоторых случаях мифы
разъясняют ритуалы и, судя по всему, существуют «по факту»
ритуала, в других — новые мифы порождают новые
ритуалы. Итак, первый вывод, который мы можем сделать на
основании собранных фактов, состоит в том, что мифам
и обрядам присуща тенденция к внутренней взаимосвязи
и взаимовлиянию. Как же установленное свойство можно
объяснить?
По-видимому, объяснение должно исходить из того, что
миф и ритуал удовлетворяют ряду тождественных или
соотносимых друг с другом человеческих нужд. Прежде мы
лишь изредка и зачастую косвенно ссылались на мифы
и ритуалы как на культурные формы, определяющие
индивидуальный образ поведения и являющиеся
адаптивными и регулятивными реакциями индивида.16 Мы видели,
как мифы и ритуалы способствуют социальной интеграции,
поддерживают сплоченность, усиливают чувство единения,
упрочивая в формальных утверждениях предельные
ценности социума, предоставляют средства для культурного
взаимообмена, при котором утрачивается лишь небольшая
часть содержания, и сохраняют благодаря всему перечис-
16Этой полезной дистинкцией я обязан моему коллеге д-ру Хоберту
Моуреру. Адаптация — исключительно дескриптивный термин,
описывающий тот факт, что в результате воспроизведения нескольких
типов поведения возникает пережиток. Регуляция используется по
отношению к тем реакциям, которые снимают мотивацию,
стимулирующую индивидуума. Так, самоубийство есть регуляция, но не
адаптация.
170
ленному культурную непрерывность и устойчивость
общественных отношений. Однако каким образом миф и ритуал
обретают такую ценность для отдельных людей в их
повседневной жизни, что те склонны сохранять их в
неприкосновенности, продолжая отдавать им предпочтение перед
более разумными реакциями? <... >
Вернемся к такой функции мифа, как исполнение
ожидаемого. И миф, и ритуал предоставляют здесь
выработанные культурой способы разрешения проблем, с которыми
сталкиваются все люди. По замечанию Барка,
«взволнованно приговаривая, люди строят здания своих культур
на краю бездны». Перед лицом нужды, смерти,
разрушения все люди совершенно беззащитны. В некоторой
степени культура представляет собой титаническую
попытку скрыть данное положение дел, придать будущему
видимость и подобие безопасности, превратив деятельность
в повторяющуюся и спланированную, — «сделать будущее
предсказуемым, согласовав его с прошлым». Судя по всему,
научная мифология так же, как и предмет нашего
рассмотрения, мотивирована принудительной тенденцией,
таящейся за всякой организованной мыслью.
Если бы у певцов-навахов спросили, почему такая-то
церемониальная деятельность осуществляется таким-то
образом, скорее всего они ответили бы так: «Потому что святые
люди делали так в начале». Ultima ratio бесписьменных
народов имеет предельно строгое определение: это так, ибо
предки говорили, что так было. Эскимос сказал Расмуссе-
ну: «Мы, эскимосы, не беспокоим себя решением всех
загадок. Мы повторяем старые истории так, как их
рассказывали нам, и теми словами, которые помним мы сами».17
Высказывание эскимосов: «Мы храним старые заветы, чтобы
жить спокойно», — хорошо известно. Таким образом,
навахи и эскимосы смутно осознают принцип,
сформулированный Харви Фергюсоном следующим образом:
Человек страшится и спонтанности, и перемен... Он
служитель привычки во всех ее проявлениях. Только
условности и институты организованы, в большей или меньшей сте-
17 Rasmus sen К. Intellectual Culture of the Hudson Bay Eskimos.
Copenhagen, 1938. P. 69.
171
пени санкционированы привычками. Существуют реальные
боги человеческого общества, превосходящие и
переживающие всех других богов. Все они появляются в качестве
групповых уловок, которые некоторое время сохраняют
социальную ценность, но они долго остаются объектами страстного
поклонения после того, как исчерпали свою полезность.
Люди сражаются и умирают за них. Они имеют своих высших
жрецов, мучеников, свои ритуалы. Это действующие боги,
какими бы формальными и мнимыми они ни были.18
Эти принципы равно приложимы как к
стандартизированным внешним действиям, так и к стандартизированным
формам слов. Именно поэтому Парето высказал
предположение о господстве ритуала во всех человеческих
культурах, вероятно, в качестве великолепного эмпирического
оправдания своего тезиса о важности нелогической
деятельности. Мертон пишет:
Тип деятельности, изначально задуманный как
вспомогательный, преобразовывается в деятельность, конечные цели
которой лежат в ней самой. Исходные цели забыты, и ритуа-
листское строгое соблюдение институционально
предписанного поведения становится поистине навязчивым...
Подобный ритуализм может связываться с мифологией, которая
рационализирует эти действия, так что они по видимости
сохраняют статус лишь средств, но преобладающее
направление принуждения состоит в точном ритуалистическом
подчинении и соответствии, которые не зависят от результатов
подобного осмысления. В этом смысле ритуал продолжает
развиваться, даже когда такие рационализации не требуют-
ся.19
Невролог Голдштейн, осознавая неврологические
причины устойчивости подобных систем привычек, пишет:
«Организм функционирует привычным способом в
соответствии с прежней тенденцией до тех пор, пока этот способ
позволяет достаточно эффективно достигать результата».20
Следует рассмотреть и опровергнуть ряд недостатков
приведенного положения, хотя бы тех, что очевидны на се-
18Ferguson H. Modern Man. New York, 1936. P. 20.
19Merton R.K. Social Structure and Anomie// American Sociological
Review. 1938. III. P. 673.
20 Goldstein K. The Organism. New York, 1939. P. 57.
172
годняшний день. Прежде всего следует учесть, что
суждение «Человек страшится и спонтанности, и перемен»
нуждается в определении. Если выражаться более мягко,
«большинство людей в большинстве случаев страшатся
спонтанности и перемен в большинстве форм деятельности». В
данной формулировке учитываются наблюдаемые нами
факты: большинство из нас время от времени устает от
рутины или наше поведение затрагивает ряд областей, в
которых мы последовательно склонны к проявлению
спонтанности. Но пристальное рассмотрение поведения в целом
любого индивида, который с одной стороны, не всецело
ограничен институтом, с другой — напротив, не совсем лишен
участия в обществе, покажет, что в подавляющем большинстве
поведение даже величайших борцов с традиционными
верованиями вполне привычно. Иначе и не может быть, ибо
общество, по определению, есть организм, который ведет
себя по преимуществу предсказуемо. Даже в такой
культуре, как культура современной Америки, провозгласившей
изменения узаконенной ценностью (и для отдельной
личности, и для общества), следование старым нормам все же
представляется великой добродетелью. В некоторой
степени это выражается в следовании самой последней моде, но
американцы остаются, в общем, даже большими
конформистами, нежели подавляющая часть европейцев.
Существование в организованном сообществе будет
оставаться нерефлектируемым, пока люди ведут себя
чаще всего предсказуемо. Исполнение обрядов гарантирует,
что в нескольких формах организованного социумом
поведения, затрагивающих «области неведения», которые
являют собой «чувствительные места» всех человеческих
существ без исключения, люди могут рассчитывать на
повторяющуюся природу явлений. Например, в обществе зу-
ни, где ритуалы имеют ярко выраженный календарный
характер, человек, которого покинула жена или чей
урожай был уничтожен проливными дождями, все же
ожидает проведения церемонии шалако* как чего-то
неизменного и непреложного. Подобным образом личное горе
набожного и благочестивого христианина в определенной мере
смягчается ожиданием великих праздников Рождества и
173
Пасхи. Вероятно, даже повторение недельного цикла,
начинающегося воскресной службой, и еженедельные
молебны создают надежную периодичность, к которой
христианин склоняется даже больше в несчастии и горести.
Многим людям ежедневная молитва и исповедь дают
необходимое чувство защищенности. Мифы также создают для
человека «точку опоры». Христианин легче переносит
капризы переменчивых обстоятельств и крушение своих
планов, когда во время службы слышит: «Возрадуется
сердце ваше!»* Обряды и мифы возмещают недостаток
надежности в мире неожиданных изменений и
разочарований.
Если почти все поведение человека — это нечто
привычное, как получается, что мифы и ритуалы сохраняют
тенденцию к воспроизведению предельной устойчивости?
Прежде всего они относятся к тем сферам опыта, которые не
слишком поддаются рациональному контролю, и,
следовательно, именно в них человек более всего испытывает
чувство опасности. Та самая требовательность к деталям
обрядового действа, к сохранению каждой буквы мифа,
которая характеризует религиозное поведение, должна
рассматриваться как «реактивная формация»* (во
фрейдистском смысле), компенсирующая действительную
неотложность хода тех событий, которые пытается контролировать
религия.
Здесь могут возникнуть следующие возражения:
общепринятые системы привычек сохраняют такое
удивительное постоянство просто потому, что их повторяют столь
часто и скрупулезно; мифы и ритуалы конституируют
повторяющееся поведение, не столько выступая в качестве
«реактивных формаций», сколько в силу устойчивости
следования привычкам; возможно, мифы и ритуалы неизменны по
«принципу функциональной автономии» Олпорта,* о чем
уже неоднократно писали. Нет, обрядовые действа должны
подкрепляться ситуациями в повседневной жизни их
участников. Абсолютное повторение в себе и для себя
нисколько не гарантирует неизменность той или иной привычки.
Иначе ни мифы, ни ритуалы никогда не исчезали бы, за
исключением тех случаев, когда вымирало бы все сообще-
174
ство. Нам важно хотя бы отчасти понять особые условия
побуждения к деятельности и ее подкрепления, которые
обеспечивают мифы и ритуалы.
Нетрудно понять, почему организм питается.
Нетрудно понять, почему невооруженный человек бежит,
спасаясь от нападающего тигра. Физиологические основания
деятельности, представленной мифами и ритуалами, менее
очевидны. Некоторый свет на них проливают заключения,
сделанные недавно психологом-бихевиористом: «Принятое
нами допущение состоит в том, что человеческие существа
(а также в большей или меньшей степени и другие
живые организмы) побуждаются к действию или постоянно
воспринимаемыми органическими воздействиями, или
простым ожиданием таковых. Эти привычки, в свою очередь,
имеют тенденцию к накоплению и сохранению, что
способствует снижению степени воздействия какого-либо из этих
типов мотивации».21 Иначе говоря, мифы и ритуалы
поддерживаются, поскольку они снижают напряжение от
ожидания бедствия. Человек еще не умер, — но он уже видел,
как умирают другие. Мы видим, как с людьми происходят
ужасные вещи и они могут нисколько нас не заботить, но по
опыту нам известно, что они представляют потенциальную
угрозу нашему счастью или здоровью. <... >
V
<... > Представляемые мифом и ритуалом
специфические адаптивные и регулятивные реакции получают
различное выражение в различных обществах, в соответствии
с их историческим опытом (включая частные случаи
заимствования опыта других культур), господствующими
формами в остальных аспектах культуры, а также давлением,
оказываемым другими обществами и окружающей
обстановкой. Но основной принцип адаптивных и регулирующих
реакций, осуществляемых мифом и ритуалом,
по-видимому, почти идентичен во всех человеческих группах.
Несмотря на то, что степень значимости мифа и ритуала суще-
21 Mowrer О. H. A Stimulus-Response Analysis of Anxiety and its Role
as a Reinforcing Agent// Psychological Review. 1939. XLVI. P.561.
175
ственно варьируется, оба феномена взаимосвязаны некой
неизменной закономерностью.
Миф и ритуал имеют общий психологический базис.
Ритуал есть навязчивая повторяющаяся деятельность, часто
символически драматизирующая основные «нужды»
сообщества, неважно, «экономические», «биологические»,
«социальные» или «сексуальные». Мифология представляет
собой рационализацию тех же самых нужд, независимо от
того, отражены они явным образом в церемонии или нет.
Говорят, «каждая культура располагает своим типом
конфликта и соответствующим типом его разрешения».
Церемонии тяготеют к представлению символического
разрешения конфликтов, которые характерны для данного
общества в силу окружающей среды, исторического опыта и
селективного распределения типов личности. Поскольку в
различных обществах складываются различные
конфликтные ситуации, «нужды», типичные для одного общества,
в другом могут оказаться «нуждами» лишь индивидов с
определенными отклонениями. Способы узаконенного
удовлетворения осознаваемых культурой нужд, наиболее
яркими примерами которых являются миф и ритуал,
предельно варьируются от одного общества к другому.
Выражение «осознаваемые культурой нужды», разумеется,
достаточно отвлеченный термин. В действительности,
«нужды» возникают и существуют лишь для реального
человека, о чем мы никогда не должны забывать. Не менее важно
и то, что мифы и ритуалы, даже если они существуют в
качестве функциональных аспектов единой культуры только
до тех пор, пока отвечают «нуждам» определенного
числа конкретных людей, все же в некотором смысле носят
«сверхличностный» характер. Как правило, они
представляют собой синкретические образования и без труда
инкорпорируют инновации многих поколений, а также
разночтения, к которым приводят заимствования из других культур
или внутрикультурные перемены, навязанные различными
группами в целом и отдельными деятелями. Итак, как
мифы, так и ритуалы суть продукты культуры, часть
социальной наследственности общества.
С. Хьюман
Обрядовый подход к мифу
и мифическому
Обрядовый подход следует возводить непосредственно
к концепции Дарвина, однако неявно он обнаруживается
уже у Гераклита, чей принцип πάντα ρε! кажется
первоосновой объяснения развития. Призыв включить
эволюционистский подход в науки о человеке, которым Дарвин
завершил «Происхождение видов» (1859), вызвал ряд
многообразных генетических исследований культуры. Когда же
в «Происхождении человека» (1871) он показал, что
человеческая эволюция была бессодержательна в природном
аспекте, хотя и в значительной мере обусловлена
культурой (не следует поспешно вслед за самим Дарвином
говорить «этически»), он придал культурологическим
изысканиям статус законных наследников эволюционной
биологии. В том же году, что и «Происхождение человека»,
в ответ на «Происхождение видов» была издана
«Первобытная культура» Э. Тэйлора, навеянная непосредственно
рассуждениями Дарвина. Она претендовала на предельно
широкое культурологическое исследование целого ряда
областей, заявленных в подзаголовке «Исследования
развития мифологии, философии, религии, языка, искусства и
обычаев». Основополагающий принцип Тэйлора, едва ли не
его закон, гласит, что пережитки значимы, поскольку они
воплощают, порой в тривиальной и игровой форме,
существенные достижения более ранних стадий.
Применительно к материальной культуре это означает, что такие
важные орудия, как лук и стрелы, сверло для добывания огня
и могиканская трещотка, в процессе развития выродились
в детские игрушки; а в сфере нематериальной культуры
177
это означает, что мифы основывались на обрядах, причем
подобно большинству рационалистов Тэйлор был уверен,
что они вполне сознательно предназначались для
объяснения.
Эволюционистская антропология Тэйлора, получившая
дальнейшее развитие в трудах его преемников Р. Р. Мар-
рета и Г. Б ал фура, стала центральным течением в
британской антропологии, однако при изучении акцент
постепенно смещался с верований и обычаев — основных объектов
исследования Тэйлора — на более осязаемые области
социальной организации, экономики и материальной культуры.
Тем не менее кембриджский антиковед Джеймс Дж.
Фрэзер воспринял «Первобытную культуру» как откровение,
а его пристальный интерес к античным пережиткам был
поддержан и воспринят его другом В.Робертсон-Смитом,
который распространил область исследования также и на
религии, для чего он применял сравнительный метод,
открытый Монтескье и разработанный школой германской
филологии. Объединив две основных научных традиции,
т.е. теорию пережитков Тэйлора и сравнительный метод
Смита, в 1885 г. Фрэзер опубликовал в периодике ряд
статей, посвященных обычаям. Когда же в одной из них,
посвященной необычной форме жречества в Неми в Италии,
наметилась связь с идеей страдающего бога Смита и
исследование вышло за рамки статьи, он продолжил работу и
в 1890 г. опубликовал посвященное Смиту первое издание
«Золотой ветви» в двух томах. Тогда для Фрэзера миф,
в соответствии с рационалистическими взглядами
Тэйлора, все еще представлял собой «вымысел, задуманный для
объяснения старого обычая, подлинное значение и истоки
которого были забыты»,1 и эволюция обычая объяснялась
как тэйлоровское «вырождение торжественного и важного
ритуала в явно показное зрелище и развлечение».2 Однако
Фрэзер постоянно исходит, избегая каких-либо оговорок, из
синтеза указанных представлений, причем мифы
рассматриваются не как сознательно придуманные объяснения, но
как подлинная выродившаяся или поздняя форма обряда.
lFrazer J. G. The Golden Bough. Vol. IV. London, 1915. P. 153.
2Ibid. P. 214.
178
Синтез был завершен задолго до 1915 г., когда увидело свет
третье и последнее издание «Золотой ветви».
Начиная с 1882 г. Джейн Эллен Харрисон, коллега
Фрэзера по Кембриджу, писала о греческой мифологии и
искусстве, а в 1903 г., обнаружив глиняную печать в Кноссе
и придя к неожиданному открытию, что под маской
Минотавра скрывается царь Крита, она опубликовала
«Пролегомены к изучению греческой религии», где с полной
ясностью установила первичность ритуала сравнительно с
мифологией или богословием. Ее книга послужила началом
совместной работы Г. Мюррея и Э. Тэйлора из Оксфорда,
а также Д. Д. Фрэзера, Ф. М. Корнфорда и А. Б. Кука из
Кембриджа. Начало публикации в периодических изданиях
отрывков из книги Кука «Зевс» также приходится на это
десятилетие, а в его важном цикле «Зевс, Юпитер и дуб» в
«Classical Review» (1903) применен метод, близкий к
методу Харрисон. Спустя некоторое время Мюррей
опубликовал монографию «Возникновение греческого эпоса» (1907),
в которой доказывал, что такие мифические персонажи,
как Елена и Ахилл, являются персонификациями
конкретных обрядов, вероятно, частично позаимствовав
кембриджские наработки, повлиявшие на его ранние труды. После
1908 г., когда Оксфордский комитет антропологии
выделил средства на издание шести статей, опубликованных
под редакцией Маррета под общим названием
«Антропология и антиковедение»,3 с целью заинтересовать
«примитивной культурой» исследователей гуманитарных
факультетов, сотрудничавшие с ними ученые из других
университетов обращались к низшим культурам на протяжении
двух десятилетий, и зерно, посеянное Тэйлором, взошло
повсюду.
Своеобразным водоразделом стал 1912 г., когда Джейн
Харрисон опубликовала «Фемиду», исчерпывающее и
блестящее исследование, в котором выявлялись хтонические
истоки греческой мифологии. В данное издание были
включены также экскурс Мюррея (которому была посвящена
книга) в область обрядовых форм, лежащих в основе
греческой трагедии, глава об обрядовом происхождении Олим-
3Anthropology and the Classics/ Ed. R. R. Marret. Oxford, 1907. P.5.
179
пийских игр, написанная Корнфордом, и обширный
материал из готовящейся к печати книги Кука. (Интересно,
что замысел этой книги тоже возник во время поездки на
Крит, где Харрисон обнаружила «Гимн Куретов», который
свидетельствовал о том, что обрядовая магия, в
особенности обряд годового даймона, была центральным элементом
ранней греческой религии.) В «Фемиде» Харрисон с
достойной восхищения ясностью сделала три важных вывода:
1) миф возникает скорее из обряда, чем наоборот; 2) миф
есть «проговариваемое сопровождение обрядового действа;
это legomenon, противоположное или, скорее,
корректирующее dromenon» (греческое определение мифа τα λεγόμενα
επί ταΐς δρώμενοις переводится как «то, что говорится при
том, что делается»); 3) миф не является ничем другим и не
имеет никакого иного основания.4
Харрисон признает, что ее подход обоснован
динамической или эволюционистской теорией процесса, в ходе
которого обряды отмирают, а мифы продолжают существовать
в религии, литературе, искусстве и различных
символических формах, распространяя далекое от истины понимание
древнего обряда и внося дополнительные изменения,
обеспечивающие вразумительность в новых рамках. Миф
никогда не был по сущности преданием об исторических
событиях или лицах, но, выходя за рамки обрядового
источника, мог включать исторические события или личности.
Так, древние верили, что Александр является или должен
быть богом и сыном змеи, поскольку мифические греческие
цари, например Кекроп, были обрядовыми змеиными
богами. Кроме того, миф никогда не возникает в качестве
наукоподобного или этиологического объяснения природы, но,
выходя за рамки своего обрядового источника, может
использоваться в качестве такового — подобно тому, как
звезды находятся на небе, поскольку мифический герой бросил
их туда, но их происхождение принадлежит сфере обряда,
а не примитивной астрономии.
Таким образом, обрядовый подход к мифологии или
любой другой форме повествования, основанной на мифе, не
может ограничиваться эволюционистскими соображения-
4Harrison J. Ε. Themis. Cambridge, 1912. P. 13, 328, 331.
180
ми. Согласно искусственному разграничению, которое
кажется мне наиболее удобным, следует решить три тесно
связанных между собой проблемы, а именно проблемы
происхождения, структуры и функции мифа. Если источник
его происхождения обнаруживается в древнем анонимном
коллективном ритуале, то структура мифа по своей
сущности глубоко драматична — dromenon} или действие,
однако эта форма непрерывно преобразуется в процессе
трансмиссии. В данном случае рассуждения не имеют
отношения к истории или антропологии, но остаются в пределах
формальных построений литературной композиции,
принципов образного построения и критериев развития сюжета.
В процессе трансмиссии « работа народа» включает в
себя действия, сравнимые с теми, которые Фрейд обнаружил
в «работе сновидения» — расщепление, замещение,
мультипликация, проекция, рационализация, вторичная
обработка и интерпретация, а также с такой эстетической
составляющей, как принцип Кеннета Барка — принцип
«завершения» или исполнения ожиданий, справедливый как
для действующих лиц, так и для зрителей. Относительно
функции мифа следует отметить следующее: подобно тому
как миф или текст преображается вместе с изменениями
социальных функций, а работа удовлетворяет разнообразные
нужды общества, точно так же, по мнению Малиновского,
существует и неизменная, неотъемлемая функция,
наилучшим образом описанная в «Поэтике» Аристотеля и
фрейдистской психологии, отягощенная своим собственным
контекстом, проводящим нас через обряды, заключенные в его
структуре. Иначе говоря, чтение «Книги Ионы»
удовлетворяет нашу потребность в перерождении «в чреве большой
рыбы» так же эффективно, как обряды инициации, к
которым этот сюжет, по-видимому, восходит, удовлетворяли
сходную потребность в посвящении. Даже если они
остаются «воображаемым удовлетворением», они и сегодня
предстают перед нами как завораживающие свершения
великого искусства, в роли которых они выступали прежде в
естественной религии.
За относительно короткое время обрядовый подход в
фольклористике принес замечательные плоды. Конечно,
181
отдельные исследования обрядов проводились в различных
областях задолго до 1912 г. Большая их часть проводилась
в связи с исследованием проблем детского развития,
существование в котором обрядовых пережитков, после того
как Тэйлор привлек к ним внимание, стало несомненным
и очевидным. Среди самых первых результатов можно
назвать «Игры и песни американских детей» Вильяма Вэллса
Ньюэла (1883), «Изучение детских рифмовок» Генри Кар-
рингтона Болтона (1888), «Традиционные игры Англии,
Шотландии и Ирландии» Элис Гомми (1894) и
«Сравнительные исследования детских стишков» Лины Экенштейн
(1906). Большая часть этих работ никогда не теряла
своего значения, равно как и обрядовые исследования Библии,
предпринятые на пороге XX столетия и оставившие
наиболее глубокий след: Ветхому Завету посвящена «Легенда
о Ионе» Вильяма Симпсона (1899), а Новому —серия книг
Джона М. Робертсона о мифическом Иисусе, которую
открыло исследование «Христианство и мифология» (1900).
Судя по всему, упомянутые исследователи работали в
относительной изоляции и достаточно независимо друг от
друга вплоть до получения выводов, сделанных на основании
собственных материалов, ничего не зная о происходящем в
других областях и не осознавая преимуществ своих
заключений.
С появлением «Фемиды» в основном сформировалось
фундаментальное положение теории, поддержанной
благодаря исключительной учености ее авторов и их
осведомленности в чрезвычайно сложных вопросах греческой
культуры, которое стали называть «кембриджским» или
«обрядовым» подходом. Всего за несколько лет данный подход к
греческому материалу получил широкое распространение:
в работе «От религии к философии» (1912) Корнфорд
выявляет обрядовые истоки некоторых базовых философских
идей, в «Древнем искусстве и ритуале» (1913) Харрисон
применяет эту теорию к греческой скульптуре и
изобразительному искусству, в «Еврипиде и его эпохе» (1913) Мюр-
рей рассматривает ритуальные формы на примере
творчества одного трагика (две последних работы написаны
для популярной Домашней университетской библиотеки),
182
в «Происхождении аттической комедии» (1914) Корнфорд
проверил сходный метод на материале греческой комедии,
и тогда же увидел свет первый том «Зевса» Кука
—поистине кладезь обрядовых интерпретаций.
Первой попыткой примененить теорию к
негреческому материалу стала статья Мюррея «Гамлет и Орест»5
(1914), блестящее сравнительное исследование общих
обрядовых источников шекспировской и греческой драм.
Начало 1920 г. было ознаменовано выходом книг Д. Вестон «От
ритуала к рыцарскому роману», в которой романы о
Граале трактуются как «неверно истолкованные» предания,
связанные с обрядами плодородия, и Б. Филлпотс
«Старшая Эдда и древнескандинавская драма», в которой
прослеживаются обрядовые истоки северной эпической поэзии. В
следующем году М. Мюррей издает «Культ ведьм в
западной Европе», где провозглашается существование
подлинного «культа Дианы», пережитка древней языческой
религии, который как колдовство преследовался христианской
церковью. Это составило первый серьезный теоретический
экскурс в историю. В 1923 г. в расширенную сферу
исследования включаются волшебные сказки в «Les Contes de
Perrault et les Récits Paralleles» Сэнтивье, народная
драма в «Актерах рождественских пантомим» Р. Д. Э. Тид-
ди и закон в «Первобытном суде божием и современном
праве» Г. Гойтейна. В 1927 г. вышла «Царская власть»
А. М. Хокарта, в которой огромное разнообразие
материала сведено к основной церемонии посвящения царя, а в
1929 г. — «Поэзия и математика» С. Баченена (первого
после Болтона американского автора, обратившегося к
подобного рода изысканиям в первой трети века),
представляющая собой смелую трактовку экспериментальной науки
в обрядовых терминах и образно осмысляющая некоторые
из них.
В 30-е годы XX в. С. Г. Хук подготовил два
важнейших сборника статей: «Миф и ритуал» (1933) и «Лабиринт»
(1935), в которых участвовали многие известные ученые,
рассматривавшие соотношения мифа и ритуала в культу-
5См.: Murray G. The Classical Tradition in Poetry. Cambridge, 1927.
P.205-240.
183
pax древнего Ближнего Востока. Лорд Рэглан опубликовал
«Преступление Иокасты» (1933) —обрядовую теорию
табу, — и существенно повлиявшую на всю дальнейшую
традицию книгу «Герой» (1937), в которой обобщил обрядовые
истоки всех мифов, противостоящих всему историческому.
Э. Уэлсфорд выявил источники архетипического
персонажа в «Дураке» (1935), Аллен, Хэлидэй и Сайке
опубликовали «Гомеровские гимны» (1936), распространив результаты
предыдущих исследований греческого эпоса и
драматической поэзии на священную поэзию. Во второй половине 30-х
годов В. Трои начал издавать разнородные обрядовые
исследования таких авторов, как Лоуренс, Манн и Фипдже-
ральд.
К 40-м годам появилась возможность вновь
обратиться к прежним предметам изучения, привлекая всю
совокупность приобретенных знаний. Д. Томпсон объединил
обрядовый и марксистский методы в «Эсхиле и Афинах»
(1941) и «Исследованиях в области древнегреческого
общества», первый том которого вышел в 1941 г. Р. Карпентер
дополнил более раннюю трактовку Гомера, предпринятую
Мюрреем в «Сказке, вымысле и саге в гомеровском
эпосе» (1946). Д. Спенс отчасти обобщил концепции Ньюэла,
Болтона и леди Гомми в «Мифе и ритуале в танце, игре и
детских стишках» (1947). Г. Р. Вильямсон подробнее
остановился на обстоятельствах смерти Томаса Бекета и
Вильяма Руфуса, ранее кратко рассмотренных М. Мюррей в
«Боге ведьм» (1933), и истолковал их как
жертвоприношения, входящие в культ Дианы в «Стреле и мече» (1947).
Отважившись обратиться к новым областям, Г. Р. Леви
во «Вратах рога» (1948) усмотрела некоторые обрядовые
источники культуры еще в каменном веке, уделяя
значительное внимание скульптурному и изобразительному
искусству. В 1949 г. вышли в свет два важных труда, в
которых обрядовая теория распространяется на область
литературоведения: в «Идее театра» Ф. Фергюссона предлагается
прочтение современной драмы на основании обрядовых
моделей, представленных в «Царе Эдипе» Софокла, а «Сэр
Говейн и Зеленый Рыцарь» Д. Спайрса, опубликованный
в журнале «Scrutiny» зимой 1949 г., стал первым шагом в
184
столь важных обрядовых исследованиях средневековой
английской литературы.
Наконец, в 50-х годах было открыто и в известной
степени освоено полдюжины новых областей. В «Тефиде» Т. Га-
стера (1950) обобщается обрядовое происхождение всего
корпуса священной литературы Ближнего Востока; в
статьях Г. Кьюрэт о танце, вошедших в «Словарь
фольклора» (Funk & Wagnals) того же года издания, описывается
сущность архаических и традиционных форм танца в
рамках данного подхода; «Обрядовый базис Теогонии Гесиода»
Корнфорда был опубликован посмертно в «Неписаной
философии» в 1950 г., но создавался еще в 1941 г.; Ч. Л. Бар-
бер опубликовал претенциозное истолкование Шекспира в
журнале «The Sewanee Review» осенью 1951 г. «Сатурна-
лийская модель в комедии Шекспира». Позже вышли
второй том «Меча из камня» (1953) Леви, посвященный
обрядовому генезису эпоса, «Трагедия и парадокс
счастливого падения» Г. Вайзингера (1953) —близкое по смыслу
истолкование трагедии, и третья книга М. Мюррей о ди-
аническом культе «Божественный царь в Англии» (1954).
Приводя этот список, я не задавался целью придать ему
завершенность, ограничиваясь произведениями тех авторов,
с которыми я лучше всего знаком, и выбирая только по
1-2 работы (Мюррей, Корнфорд и Харрисон написали
около десятка книг каждый). Однако широта и разнообразие
даже столь краткого очерка должны сделать очевидным,
что «кембриджский» подход выходит далеко за рамки
исключительно греческой мифологии и продолжает
приносить плоды и сегодня.
Поскольку обрядовый подход к мифу и литературе не
претендует на значение общей теории, а является
методом исследования в терминах со специфическими
значениями, он вполне может сосуществовать с огромным
числом других подходов. Если его антропологическая
составляющая исторически была связана с Фрэзером —
сравнительное обобщение на материале целого ряда культур, то
большая часть наиболее успешных работ этого
направления, от «Фемиды» до книги Спайрса о Говейне, имела
весьма узкую специализацию. В том же, что относится
185
к социальной функции, более оправданным выглядит
направление Малиновского, пусть даже понятое не вполне
традиционно. Принцип традиции Боаса в американской
антропологии, отрицающий правомерность
межкультурного обобщения и эволюционистской теории, наряду с
особой расположенностью к эмпирическим
культурологическим исследованиям известной истории, в данных
ключевых пунктах часто кажется несовместимым с обрядовым
подходом. Однако многое из того, в чем Боас был
непреклонен, оказалось переосмыслено спустя десятилетие после
его смерти: новая антропология культуры и личности* от
«Моделей культуры» Р. Бенедикт (1934) до «Права
первобытного человека» Э. Адамсона Хёйбла (1954),
очевидно, представляет собой сравнительные исследования,
подобные «Золотой ветви». Вместе с тем все мы
неоэволюционисты, и «Первобытное наследие» (1953), антология
Маргарет Мид и Николаса Кал аса призывают к
«реставрации чуда», а применяемые средства, судя по всему,
заставляют нас воспринимать Фрэзера и Кроули более
серьезно. Если из этого проистекает неофрэзерианская
комплексная антропология, основывающаяся не на сомнительном
материале, искаженном и истолкованном вне его
контекста, но на детальных и тщательных полевых
исследованиях, осуществленных со всей строгостью и педантичностью
Боаса, ритуалисты всегда будут приветствовать подобные
опыты.
Что касается психологии, то обрядовый подход может
заимствовать преимущественно фрейдистский
психоанализ, обогащенный новым знанием и менее ограниченный
этноцентрическими моделями. В свою очередь, он требует
модернизации, но без утраты основополагающего
воззрения Фрейда: трагического в том, в чем мятежники
(подобно Адлеру и Юнгу) и ревизионисты (подобно Фромму и
Хорни) суть радостные вероцелители, твердого в том, что
они отбрасывают как нежелательное и одиозное,
убежденно материалистичного в том, в чем они идеалисты и
мистики, динамичного, внимательного к процессу,
происходящему в том, что для них статично и затрагивает тот или иной
тип вневременного elan vital.* Лишь обосновав фрэзериан-
186
скую антропологию «Тотема и табу» и вернув «концепции»
первобытной орды,* в терминах Барка, исходное для нее
значение скорее «сущности», нежели «истока», мы
сохраним в книге наиболее полезное и конструктивное для нас
сопоставление примитивного обряда и невротического
поведения, и, следуя далее, переход к «символическому
действию» самого Барка — частному индивидуальному
символическому эквиваленту древнего коллективного ритуала.
Психоаналитическая теория выявляет в форме
«символического действия» другое измерение функции, исполнение
желания или фантазийное его удовлетворение, и таким
образом может ответить на некоторые наши вопросы о начале
начал.
По мере того как деятельность Юнга все больше
отдалялась от аналитической психологии в сторону мистической
религии, она оказывалась все менее приемлемой для
сравнительного и генетического подходов. В своей монолитной
психологии Юнг настаивал на универсальной идентичности
мифа и символа, однако предлагаемое им объяснение этой
идентичности в терминах коллективного бессознательного
и врожденного сознательного препятствует любым
попыткам изучить специфические формы, посредством которых
эти характерные черты бытуют и передаются в культуре
(как «мнесические следы»* Фрейда). В гораздо большей
степени нашим целям удовлетворяет то, как используют
работы Юнга М. Бодкин6 или Д. Кэмпбелл (в качестве
источника мыслепробуждающих инсайтов), что дает нам
неоспоримое право заимствовать концепцию
универсального «великого мифа», или «мономифа»* Кэмпбела,
производную от идеи обрядов перехода ван Геннепа: «отделение
от мира, приобщение к некоему источнику силы и...
возвращение».7* Прежде всего нам следует вернуть юнгиан-
ский миф к его основаниям, будь то специфический миф
и текст (литературоведение) или специфическая
культурная традиция и обряд (антропология). Обрядовый подход,
6См.: Bodkin M. Archetypal Patterns in Poetry. London, 1934;
Bodkin M. Studies of Type-Images in Poetry, Religion, and Philosophy.
London, 1951.
7 Campbell J. The Hero with a Thousand Faces. New York, 1949.
P. 10, 35.
187
вне всяких сомнений, может соседствовать с разного рода
мистицизмом, как об этом дают возможность заключить
«От ритуала к рыцарскому роману» Вестон или
«Пролегомены к изучению греческой религии» (1921) Харрисон,
тем более, что сама Харрисон чаще обращалась к Юнгу,
чем к Бергсону. Однако, несмотря на приведенные
примеры и даже мнение столь блистательного и выразительного
обрядового поэта, как В. Б. Йитс, работа в области
анализа мифа все же, как представляется, нуждается в базовом
для нее рациональном материализме и непрестанном
продвижении в направлении науки и научности от мистицизма
и оккультизма. Лишь в рамках натурализма и на
фундаменте подобного доминирующего отношения к ритуалу вся
совокупность возможного знания и подходов к мифу — от
самых детальных и тщательных классификаций до
наиболее спекулятивной реконструкции пратекста — могут быть
продуктивны, несомненно, наряду с плюрализмом
методологических предпочтений.
Я думаю, есть только две концепции, с которыми
обрядовый подход не может сосуществовать. Первая —эвге-
меризм, основная идея которого состоит в том, что мифы
основаны на исторических событиях или описывают
исторические лица. Эту теорию оспаривали снова и снова на
протяжении многих эпох, однако она упорно держит
оборонительную позицию по отношению ко всему новому:
если она вынуждена отказать в историчности Вильгельму
Теллю, она ретируется к историческому Робину Гуду;
если представление об историчности Орфея, допускавшееся
даже в «Пролегоменах» Харрисон в 1903 г., уже не
кажется здравым, возможно, историчен Мусей; если не было ни
Леды, ни яйца, не могла ли существовать реальная Елена?
К настоящему времени нам известно, что в великих
мифах ни один из перечисленных вариантов невозможен,
даже в отношении таких ключевых сюжетов, как Троянская
война, или таких личностей, как Иисус. Что же касается
неоспоримо выдуманных историй, повествующих о
реальных людях, будь то анекдоты о Наполеоне или шутки об
Элеоноре Рузвельт, то проблема, в свою очередь, сводится
к содержанию определения, и если уважаемые эвгемери-
188
сты различных школ желают называть подобные истории
мифами, это их право. На наш взгляд, все же более
уместным выглядит использование другого термина, поскольку
различие между мифом и историей является реальным и
основопол агающи м.8
Другой подход к мифологии, который не имеет точек
пересечения с обрядовым, состоит в когнитивизме,
согласно которому мифы являются результатом познавательных
поисков. В теориях XIX в., сводящих мифы к
персонификациям природы, стихий, солнца и луны, она
представлялась по существу отвергнутой; в различных же неявных
теориях XX в. она до сих пор находит приверженцев. В
соответствии с этими теориями мифы изобретены и
предназначены для того, чтобы давать ответы на
этиологические вопросы «Как в мир пришла смерть?» и «Как кролик
приобрел маленький пушистый хвостик?». Согласно этим
теориям провозглашается, что табу отражают
примитивную гигиену или первобытную генетику. Вновь все
сводится к тому, что мифы не возникают по указанным
причинам, что люди примитивных сообществ безусловно
обладают способностями к спекуляции и протонауке, однако при
этом знание, которое они передают от поколения к
поколению, принципиально отлично от знания в нашем
понимании. Если бы они знали, что табуированная пища содержит
личинки Trichinella Spiralis и может вызвать трихинеллез
и что табуированный инцестуальный брак приводит к
вырождению рода, они не сохранили бы первую в сакральных
празднествах и второй среди правителей. Более того,
желание наших апологетов познания называть мифом
бесспорные зачатки примитивной протонауки (например, техники,
предохраняющие от растрескивания горшок в огне очага,
или календарные сроки посева и сбора урожая)
составляет их привилегию. Эскимос Аляски, принимавший русских
первопроходцев за каракатиц «из-за пуговиц на их одежде»,
как пишет Фрэзер,9 очевидно, обладая спекулятивным рас-
8Миф следует отличать также от всех иных реалий, к которым мы
произвольно применяем этот термин: от легенды, сказки, фантазии,
массового заблуждения, популярного поверья, иллюзии и явной лжи.
9Frazer J. G. Some Primitive Theories of the Origin of Man // Darwin
and Modern Science/ Ed. A. C. Seward. Cambridge, 1909. P. 159.
189
судком и осознавая генетическую преемственность между
животным и человеком, высказывает нечто подобное
постулатам теории Дарвина, однако различие между его мифом
о «Великой Каракатице, ходящей как человек» (даже если
таковой существовал), и «Происхождением видов»
субстанциально.
Если мы ясно осознаем тот факт, что миф
рассказывает историю, санкционированную обрядом, станет
очевидно, что он ничего не означает и ничего не объясняет; это
не наука, а форма независимого опыта, аналогичная
литературе. Поиски следов познания в мифе или фольклоре
привели к целому ряду наихудших примеров
спекулятивного изыскания — политических лозунгов и событий,
скрытых в детских стишках и «обнаруженных» К. Томас в
«Реальных персонажах Матушки Гусыни» (1930),
посланий мудрости, осмотрительно зашифрованных древними
в нерасчлененное целое и декодированных Р. Грейвсом в
«Белой Богине» (1948),* или тайного почитания огня,
стоящего за каждым мифом, выявленного в самое
последнее время и исследованного Ф. Андерсон в «Тайне
древних» (1953).
К числу наиболее серьезных проблем, стоящих на
данный момент перед обрядовым подходом, относится
адекватное детальное изучение соотношения ритуала,
анонимного регулярного повторяющегося действия, и истории,
уникального единичного опыта во времени. Самым
драматичным образом проблема обнажилась в последней книге
М. Мюррей, одного из пионеров обрядовых исследований.
Изданная под названием «Божественный царь в Англии»,
она является третьей в серии работ автора о дианическом
культе и, как нетрудно заключить, самой сумасбродной.
Если в «Культе ведьм в Восточной Европе» добровольными
жертвами культового жертвоприношения названы два
исторических лица, Джон из Арка и Жиль де Рэй, а в «Боге
ведьм» к ним прибавляются еще два, Томас Бекет и
Вильям Руфус, то в новой книге делается смелое заявление об
английской истории, состоящее в том, что «каждое
правление от Вильгельма Завоевателя до Джеймса I завершалось
жертвоприношением Бога, воплощенного или в самом царе
190
или в его заместителе»,1" как правило, по истечении
регулярного семигодичного цикла. Поскольку мне уже
приходилось рецензировать книгу более подробно для
предстоящего выпуска «Midwest Folklore», я позволю себе лишь
кратко обобщить проблему. Историографический экскурс
Мюррей представляет собой не просто сомнительную
историю (что выявили обозреватели, указывая на ошибки в
датах и сроках правления, на основе которых она пришла
к заключению о семилетних жертвоприношениях, и на ряд
искажений фактов, из которых она сделала вывод о
сборищах тринадцати), —это вообще излишняя история. Автор
безусловно права, когда утверждает существование
пережитков древней религии в современности, однако
глубоко заблуждается относительно способа их существования,
смешивая истоки и события. Древние обряды отмирают в
письменной практике, но их неверное понимание и
трансформированная запись переходят в миф и символ, —ту
самую форму, в которой они существуют и которой
окрашивают историю, не будучи при этом событиями истории. На
протяжении всей истории Англии, если допустить вслед за
автором, что в первобытном обществе божественного царя
предавали смерти каждые семь лет, монарх и его
подчиненные при приближении каждого семилетнего срока вполне
могли чувствовать угрозу и приветствовать смерть царя
или некоего высшего существа, однако шаг от этого
предположения к идее, согласно которой умерший был
добровольной жертвой культового заклания, неправомочен по
своему существу. Культ ведьм, описанный Мюррей,
происходил от поклонения древним божествам, позже
выродившимся и принявшим искаженные формы, но ее
Царские сборища — попросту пародия на историческую
ученость.
Осознав ложность исторического довода, мы тем самым
подходим к ложности этиологического довода. В «Фемиде»
в 1912 г. Харрисон писала:
Миф не в первую очередь этиологичен, он не возникает
ради объяснения; миф репрезентативен, это иная форма
высказывания, выражения. Когда эмоция, породившая ритуал,
10Murray Μ. Л. The Divine King in England. London, 1954. P. 13.
191
увядает, а ритуал, пусть и освященный традицией, кажется
бессмысленным, именно в мифе узнается причина его
исполнения, и он бытует в форме этиологии.11
Так, А. М. Хокарт в своей последней книге
«Оживляющий миф» (1952), изданной после его смерти лордом
Рэгланом, демонстрирует процесс, посредством которого
миф как объяснение ритуала становится объяснением
феноменов природы, функционируя, таким образом, в
качестве итоговой и основной этиологии. На Фиджи, сообщает
он, особенности ландшафта острова, где есть лишь один
небольшой участок плодородной почвы, объясняет миф,
повествующий о том, как Мберауалаки, культурный герой,
пришел в ярость от человеческой глупости и швырнул всю
принесенную им землю в кучу вместо того, чтобы
распределить ее должным образом. Приключения Мберауалаки
производны, подобно всей мифологии, от обрядового
действия, и большую часть знаний информантов Хокарта
составляют такие обрядовые мифы. Когда их интересует
топография острова или их об этом спрашивают,
свидетельствует Хокарт, они действуют подобно нам, т. е. ищут ответ
на вопрос в совокупности своих знаний. Наши знания могут
включать суть геологического процесса, и мы будем
выискивать объяснение, соотносясь с ним; в их знаниях нет и
намека на геологию, но они помнят повествования о
действиях и гневе Мберауалаки, и они схожим образом ищут
и соотносят свое объяснение с ними. Я думаю, вполне
достаточно даже одного примера, чтобы упразднить
последний пережиток теорий космологического происхождения —
этиологический миф —если только речь не идет о
категории его функции.
После того как мы рассмотрели отношение ритуала к
истории и научному познанию, нам остается рассмотреть
отношение обрядовой теории к верованиям. Для Харри-
сон, как и для Фрэзера, обрядовые изыскания были
частью сравнительного религиоведения, и желаемый
результат, если не предельная цель, состоял в обнаружении
схемы, в которую мог верить человек чувства или
восприятия. Харрисон заключает свою статью в сборнике, по-
11 Harrison J. Themis. P. 16.
192
священном 100-летию со дня рождения Дарвина, словами:
«То, что религиозный дух, пусть слепо, но все же
настойчиво, движется в ходе своей эволюции от древней магии
к современному мистицизму, смею полагать, относится к
способности понимания подобных мистерий не только
разумом, но всем существом человека».12 В ходе своих
исследований Дарвин во многом утратил веру, но, согласно
А. Грей и некоторым другим ученым-дарвинистам,
доктрина эволюции знаменует и прославляет могущество Бога и
укрепляет веру христианина. Для Д. М. Робертсона
развенчание историчности Иисуса было ударом, направленным
на христианство во имя свободомыслия; для У. Б. Смита
и А. Дрювса это было своего рода очищением
христианства путем его освобождения от легендарных
напластований. В. Симпсон сосредоточился на идее сюжета,
связанного с Ионой, как ритуале инициации, будучи поглощен
таким предметом, как масонство. По-видимому, не
существует необходимой корреляции между знанием и верой;
знать все —значит верить или всему, или чему-то, или
ничему.
Большинство современных обрядовых исследователей
мифа, как я могу предположить, не являются людьми
верующими (как и я сам), и кажется гораздо сложнее
последовательно продвигаться к осознанию сущностной
идентичности религиозных мифов, их развития из акта
почитания самого по себе, появления бога из некоего механизма,
продолжая при этом верить в «истинность» какого-либо из
подобных утверждений (или во все, за исключением того,
к которому может привести оголтелая и самая что ни на
есть юнгианская манера). Тем не менее на примере
«Культов и суеверий греко-римского Египта» (1953) мы видели,
как сэр Гарольд Идрис Белл, профессиональный египтолог,
осуществил квалифицированное и блистательное
исследование прагматической конкуренции религий в
эллинистическом Египте, при этом постоянно оговаривая, что одна
из этих систем — христианство — не только превосходила в
моральном отношении все другие, но и была богодухновен-
12Harrison J. The Influence of Darwinism on the Study of Religion//
Darwin and Modern Science. P. 511.
193
ной истинной верой. Так что, вероятно, знать все —значит
и верить во все.
Наконец, остается ряд технических проблем. Как
можно судить по приведенной краткой истории обрядового
подхода, его сторонники осветили почти всю греческую
культуру включая религию, философию, искусство, различные
жанры литературы и т. п. Исследованию подверглись
также игры, песни и детские стихи, Книги Ветхого и Нового
Заветов, эпос и рыцарские романы, эдды и саги,
народные драмы и танцы, сказки и легенды, религии
Ближнего Востока, современная драматургия и литература, даже
проблемы истории, права и науки. Однако несколько форм
фольклора все еще не получили должного освещения с
ритуал истской точки зрения, и наиболее интересны из них
английские и шотландские народные баллады (автор этой
статьи предпринял предварительные шаги в данном
направлении)13 и американские негритянские блюзы.
Обрядовое происхождение баллад предполагает наличие
корпуса ранней народной драмы, из которой они развиваются в
качестве повествовательных песен и которая, в свою
очередь, восходит к обряду жертвоприношения. Едва ли она
существовала за исключением нескольких поздних и весьма
скудных фрагментов, подобных представлениям о Робине
Гуде, но должна быть последовательно восстановлена.
Подобная процедура не невозможна, однако это нелегкая
работа, требующая глубокой уверенности в непрочном
фундаменте аналогии, и она все еще ждет своего исследователя.
Изучение блюзов порождает не менее серьезные проблемы.
Если они представляют собой подлинные народные песни
древнего анонимного коллективного ритуала, а не
подхваченные народом песни современного сочинения, тогда их
возникновение предшествует всем американским реалиям,
приобретенным неграми, и они должны иметь африканский
источник. Ничего подобного никогда не было обнаружено
в Африке, возможно потому, что никогда и не
существовало, а возможно и потому, что блюзы выглядят слишком
необычно и никто до сих пор не смог их идентифицировать.
13Нутап S.B. The Raggle-Taggle Ballads О// The Western Review.
1951. XV. P. 305-313.
194
В любом случае обрядовое происхождение блюзов хотя и
не подкреплено строгим и непротиворечивым
доказательством, формирует весьма интересное проблемное поле
(обрядовая теория выработала слишком много в высшей
степени убедительных интерпретаций, чтобы ее можно было
опровергнуть частным примером). Обрядовая оценка
баллад и блюзов восполнила бы два больших пробела и
смогла убедить в корректности подхода в целом даже завзятых
скептиков.
Отношение ритуала и обрядового мифа к литературе до
сих пор едва ли затрагивалось. Блестящей работой,
которую следовало бы назвать инициировавшей подобное
движение в литературоведении, была статья Мюррея
«Гамлет и Орест» (1914), в которой автор продемонстрировал
сущностное сходство двух драматических героев,
обусловленное не непосредственной связью между ними, но тем,
что «Гамлет» Шекспира продолжает длительную северную
традицию Амлета, Амлоди и Амбалеса и восходит к тому
же мифу и ритуалу Царя Зимы — холодного,
сумасшедшего, убийственного, жестокого и развращенного, к аналогу
которого, сложившемуся в южной стране, восходит Орест.
Драмы не являются мифами и обрядами, подчеркивает
Мюррей, они представляют собой произведения
литературного творчества, но миф и ритуал лежат в основе их форм,
сюжетов и персонажей. Греческая драма сама по себе — это
слияние двух разделенных во времени производных
ритуала. Формы аттической трагедии возникают из
дионисических обрядов жертвоприношений тавроформ или эгиформ,
сюжеты аттической трагедии восходят по преимуществу к
Гомеру, и, как это лучше всего показал Р. Карпентер,
кровавые сюжеты полностью соответствуют обрядовой форме,
поскольку сами гомеровские сказания производны от тех
же обрядов жертвоприношения, далеких от олимпийского
культа. Лишь четыре десятилетия спустя
литературоведение обратилось к этой проблеме. Д. Спенс, последователь
Мюррея, опубликовал «Исследование отношения
Шекспира к традиции» (1916), которым я сам не располагаю, но
Барбер цитирует его с серьезными оговорками, и до его
собственных изысканий в данном направлении практиче-
195
ски никакая работа не проводилась. Трои и Фергюсон
работали с горсткой романов и пьес в обрядовых терминах,
К. Коллинс написал несколько статей о Фолкнере, а я
обратился к Торье и некоторым другим авторам, но помимо
этого достигнуто очень немного.
Основное затруднение, как представляется, состоит в
необходимости осознания взаимосвязи литературы и
народной традиции и в то же время отчетливого и строгого
их разграничения, как писал Мюррей. Мы настаиваем на
том, что литературное произведение аналогично мифу, но
не есть сам миф. В связи с этим было много
недоразумений, что лучше всего иллюстрируется работами Р. Чейза
«Поиск мифа» и «Герман Мелвилл» (1949). Чейз
попросту отождествляет оба феномена, в первой работе
определяя миф как «эстетическую деятельность
человеческого разума»,14 а во второй экстраполируя на произведения
Мелвилла многочисленные мифы или мифические
структуры. Здесь мы должны уяснить себе наличие ряда базовых
различий. Миф и литература — различные и независимые
явления, хотя изолированное существование мифа
немыслимо, и ни один конкретный записанный текст мифа или
даже зафиксированный устный текст нельзя справедливо
назвать фольклорным. В литературном творчестве все
мифы различаются, независимо от того, в какой степени их
можно возвести к одному — мономифу или прамифу —по
сущности или происхождению. Произведения таких
современных авторов, как Мелвилл или Кафка, —не мифы, но
частные фантазии, выражающие символическое действие,
эквивалентные и связанные с экспрессией мифа
публичного обряда, но никто, даже Мелвилл (кроме М. Йагендор-
фа), не в силах сочинять мифы или творить фольклор.
Писатель может использовать традиционные мифы, что
осознается им с разной степенью ясности (в наше время,
вероятно, наиболее полно отдают себе в этом отчет Джойс
и Манн), и зачастую он работает без заранее
продуманного плана, привлекая символические эквиваленты из своего
собственного бессознательного. В связи с этим другие
формы искусства, менее отдаленные от своего источника, на-
14 Chase R. Quest for Myth. Baton Rouge, 1949. P. VII.
196
пример танец, в котором ритуал или символическое
поведение отображается физически, могут оказаться глубоко
поучительными. Как существуют различные степени ясности
осознания этого факта, так существуют и различные
степени плодотворности подобного использования
традиционных моделей — от грубого мошенничества до
проницательных иронических фантазий в поэзии.* Целью ритуалист-
ского литературоведения следовало бы считать
исследование всех этих отношений наряду с миссионерской
деятельностью, осуществляемой наиболее плодотворными из них.
Таким образом, поначалу скромная и сдержанная
генетическая теория происхождения нескольких мифов уже
предъявляет притязания на выявление сущностных форм
культуры в целом. Если, как показывает Шрёдингер в
«Природе и греках» (1954), модели греческого мифа и
ритуала были буквально вмурованы во все наше существо
вплоть до последних десятилетий, обряд все же является
важным предметом. Рэглан и Хокарт настаивают на том,
что формы социальной организации возникают именно из
ритуала, Гойтейн подходит к процессам права, Корнфорд
и Баченен добавляют к этому формы философского и
научного мышления. Ведь, возможно, и наше мышление
повторяет обрядовую схему: состязания, терзания, открытия
и явления новой идеи. Даже сам язык во многих
аспектах намекает на свое обрядовое происхождение. Из
обрядов возникают структуры вплоть до конкретных сюжетов
и персонажей в литературе, магического устройства
живописи, пробуждения и исполнения надежд в музыке —
вероятно, таков общий источник всех искусств. Если
именно обрядовой теории суждено стать обобщающей теорией
культуры, то и наши изыскания должны приобрести
большую эмпиричность, точность и определенность соразмерно
нашим притязаниям, которые становятся все более
грандиозными. В данном случае мы должны проводить различия
еще отчетливее, знать неизмеримо больше и использовать
все доступные фрагменты фактов или теорий. Начиная с
объяснения мифа о Сфинксе мы в силах, скромно работая
в сотрудничестве с каждым, кто хочет и может
сотрудничать, прийти к решению его непростой загадки.
Примечания
Д. Фонтенроуз. Обрядовая теория мифа
Впервые: Fontenrose J. The Ritual Theory of Myth. University of
California Press. Folklore Studies: N18. Berkeley and Los
Angeles, 1966 (1971). Перевод осуществлен по первому
изданию.
С. 13. Сэр Джеймс Джордж. Фрэзер во введении к *Виблио-
теке* Аполлодора... Цит. по: Apollodorus. The Library//
Trans, by J. G. Frazer. London, 1921. P. XXVII.
... β трудах Робертсон·Смита...— Имеется в виду
прежде всего фундаментальная работа «Лекции по
религии семитов», где указанные идеи были
реализованы наиболее полно: Robertson Smith W. Religion of the
Semites. L., 1894.
... β трудах Арнольда ван Геннепа — Ван Геннепа
нельзя назвать прямым последователем Фрэзера, поскольку
французский этнограф не только весьма часто
критиковал Фрэзера в связи с конкретными вопросами, но и
достаточно скептически относился к его концепции в
целом. См.: Геннеп Α., ван. Обряды перехода. СПб., 2000.
С. 22. Фрэзер в 4Послесловии*... См.: Frazer J. G. Aftermath:
A Supplement to "The Golden Bough". London, 1936.
C. 32. Основываясь на источниках, которые могут быть
датированы двумя веками ранее, Диодор... —' Имеется в
виду не дошедшее до нас сочинение Агатархида Книд-
ского (Diod. Ill, 11). Ср.: Страбон XVII, 2,3.
С. 33. Все предания об африканской традиции — фрагменты
или реликты древнего африканского мифа — по всей
видимости, в данном случае Фонтенроуз подразумевает
сходное предположение Лео Фробениуса,
зафиксировавшего ряд соответствующих преданий в Африке, в
частности в Судане в 1912 г. См., напр.: Сказки народов
Судана. М., 1968. С. 7-19.
С. 38. Кхонды (кандхи) — одно из автохтонных племен Индии;
198
мэриах (meriah) — обряд человеческого
жертвоприношения.
С. 41. ... жестовой теорией происхождения языка —
Сторонники обрядовой теории неоднократно ссылались в
доказательство тех или иных тезисов на концепции в первую
очередь XIX в. (Л.Гейгер, В.Вундт), согласно которым
вербальный язык восходит к «мимическому языку» или
напрямую, или опосредовано (через уподобление
зафиксированным графическим знакам). Из теорий,
принадлежащих XX в., наибольшим успехом среди ритуалистов
пользовалась теория Пиаже.
С. 44. ... in quoddam concavum lapideum quod vel natura con-
struxerat vel suo naufrago martyr excavaverat intrusus
est.. (лат.) — очутился в некоей каменной полости,
которую или природа создала, или выдолбил мученик для
несчастного.
С. 45. Генрих VIII разрушил святыни и уничтооюил реликвии
... — Король Генрих VIII, находясь в противостоянии с
католической церковью, объявил Бекета виновным в
предательстве, после чего приказал ему явиться в суд. Бекет
не смог выполнить данное требование и был признан
виновным; по приказу короля гробница была разрушена, а
мощи уничтожены.
Vita (лат.) —здесь житие.
С. 51. 4Словарь античности* Смита — Словарь
классической мифологии и биографии (Smith W. Dictionary of
Classical Mythology and Biography). Упрек состоит в том,
что указанный словарь увидел свет в 1844 г. и содержит
сведения не только устаревшие, но и исходно неточные.
См. также: Encyclopaedia of religion and ethics // Ed. by
J. Hastings. New York, 1908-1927. 13 v.
С 55. Роберта Грейвса, применяющего в качестве метода в
своих 4Мифах древней Греции*. —См.: Грейвс Р. Мифы
древней Греции. М., 1992.
С. 56. Περί νΑριστον (др.-греч.)— доел.: о достойном
[упоминания].
С. 63. См.: Леви-Строс К А) Структура мифов // Вопросы
философии. 1970. №7; 2) Мифологики. Т. I. Сырое и
приготовленное. М.; СПб., 1999.
С. 65. Эпоним (др.-греч.) —основатель города.
С. 66. Хьюман никогда не принимал во внимание подобное
различие — ср. с. 195 настоящего издания.
С. 66. άγων, πάΌος, άγγελος, -θρήνος, άναγνώρισις, Όεοφάνια
199
(др.-греч.)— состязание, претерпевание, вестник, плач,
узнавание, богоявление. Схема празднования Нового
года, извлекаемая Мюрреем из трагедий (в
частности, пример самого Мюррея из «Вакханок» Еврипида),
предполагает следующую последовательность:
состязание Старого года (зимы, засухи, мрака) с Новым
(летом, жизнью, светом), обрядовое умирание,
провозглашение смерти неким вестником (скрытым, ибо часто
просто сообщается сам факт смерти), оплакивание,
узнавание убиенного и преобразовавшегося даймона,
воскресение или теофания (см.: Murray G. Excursus on the Ritual
Forms Preserved in Greek Tragedy// Harrison J. Themis.
Cambridge, 1912. P. 413-414).
C. 73. ... в церемонии инициации. — Для перевода Харрисон
также был существен тезис, согласно которому « юноша»,
проходивший инициацию (сопровождавшуюся
исполнением этого гимна), служил жертвой «щитоносцам»,
выказывавшим желание убить и съесть его.
С. 71. потгтоп (от др.-греч. το νόμιμον, установленный
обычаем) — здесь имеет статус священного (а вследствие этого
не подлежащего изменению) установления.
С. 81. Rex Nemorensis (лат.) — Немейский царь.
С. 83. fauces grave olentis Averni... (лат.) — смрадных устий
Аверна... (пер. С. Ошерова).
С. 84. καθίσταται γαρ ίερευς о γενηΰεις άυτόχειρ του Ιερωμένου
πρότερον δραπέτης άνήρ· ξιφήρης όυν έστιν αεί περισκοπών
τας επιδέσεις έτοιμος άμύνεσθαι — Жрецом ее выбирают
только беглого раба, своей рукой убившего прежнего
жреца. Поэтому жрец всегда опоясан мечом, ожидая
нападений и готовый защищаться. См.: Страбон.
География. 5.3.12 (пер. Г. А. Стратановского).
С. 85. In huius templo... fuit arbor quaedam de qua infringi
гатит non licebat. dabatur autem fugitivis potestas ut siquis
exinde ramum potuisset auferre monomachia cum fugi-
tivo templi sacerdote dimicaret: nam fugitivus illic erat
sacerdos... (лат.) — В святилище том... росло некое
дерево, с которого не позволялось срывать ветвь.
Сомнительно, однако, что беглец смог бы унести ветвь, ибо ему
предстоял бы поединок со жрецом святилища, ведь
беглец тотчас становился жрецом...
С. 86. ένθα αρχι έμου μονομαχίας αΌλα fjv καΐ ΙερασΌαι τη Όεω
τον νικώντα. ό δε αγών ελευθέρων μέν προέκειτο όυδενι
όι κείταις δε άποδρασι τους δέσποτας... — где и до мое-
200
го времени наградою для победителя при состязании
в единоборстве была жреческая должность при храме
богини; но участие в состязании не разрешалось
никому из свободных, а только рабам, бежавшим от своих
господ... См.: Павсаний. Описание Эллады. 2.27.24 (пер.
СП. Кондратьева).
... dabatur autem fugitivis potestas ut siquis exinde гатит
potuisset auferre... — См. прим. к с. 85 настоящего
издания.
С. 87. ...partaque per gladios régna nocente manu... (лат.) —
царство, где ставит царя меч в смертоносной руке (пер.
М. Гаспарова).
... régna tenent fortes manibus pedibusque fugaces / et
périt exemplo postmodo quisque suo (лат.) — беглые
царствуют здесь, предшественников убивая, / а победивший
царя также бывает убит (пер. Ф. Петровского).
... soli non mitis Aricia regt (лат.) — К одному лишь царю
Ариция неблагосклонна.
Profugis сит regibus aptum/ fumât Aricinum Triviae ne-
mus... (лат.) — Беглецами и царями устроенная, / Ари-
цийской Тривии роща курится.
... nullus denique tarn abjectae condicionis tamque extre-
mae sortis fuit cuius non commodis obtrectaret. nemorensi
regi quod multos jam annos poteretur sacerdotio validiorem
adversarium subomavit (лат.).— Поистине не было
человека такого безродного и такого убогого, которого он не
постарался бы обездолить. К царю озера Неми, который
был жрецом уже много лет, он подослал более сильного
соперника (пер. М. Л. Гаспарова).
С. 88. Validior adversarius (лат.) — более сильный соперник.
Ludus (лат.) —состязание, игра, зрелище.
Essedarius (лат.) —здесь колесничный гладиатор.
Miles (лат.) — солдат.
Primipilaris (лат.) —здесь старший центурион.
In nemore Dianae (лат.) —в роще Дианы.
С. 89. ... s а ере pot ens voti, frontem redimita coronis, / femina lu-
centes portât ab urbe faces (лат.) — Факелы жены в венках
за своих исполненье желаний/ часто приносят сюда, в
городе их запалив (пер. Ф. Петровского).
Et face multa/ conscius Hippolyti splendet lacus... (лат.) —
Факелом весьма / освещено Ипполита славное озеро.
С. 90. ... ipsa coronat /emeritos Diana canes et spicula terget/ et
tutas sinit ire feras, omnisque pudicis / Itala terra focis He-
201
cateidas excolit idus (лат.) —Сама награждает венками/
Диана собак победивших и дротики чистит/ и диким
зверям дозволяет бродить безопасно; / и у чистых
костров славит земля Гекатовы иды.
Dignitas (лат.) —здесь достоинство.
Partaque per gladios régna nocente manu (лат.) — Царство,
где ставит царя меч в смертоносной руке (пер. М. Га-
спарова).
Régna tenent fortes manibus pedibusque fugaces... (лат.) —
Беглые царствуют здесь, предшественников убивая...
(Пер. Ф.Петровского). Доел, —царство держат сильные
и быстроногие.
С. 91. Servorum dies festus vulgo existimatur Idus Aug., quod eo
die Ser. Tullius, natus servusf aedem Dianae dedicaverit in
Aventino, cuius tutelae sint cervi; a quo celeritate fugitivos
vocent cervos (лат.) — Праздничным днем рабов простой
народ считал августовские Иды, ибо в этот день Сервий
Туллий, урожденный раб, воздвиг на Авентине храм
Дианы, покровителями которого были олени, а за быстроту
ног и беглецов называли оленями.
С. 92. fuit arbor quaeddam, infringi ramum non licebat, dabatur
autem fugitivis potestas, fugitivus illic erant sacerdos... См.
прим. к с. 85 настоящего издания.
С. 93. ήρωον (др.-греч.) — центр культового почитания героя.
Temenos (τέμενος (др.-греч.)) —святилище.
С. 94. Capitalis lucus, ubi siquid violatum est caput violatoris ex-
piatur (лат.) — Смертью грозит священная роща, где за
любое насилие совершивший его расплачивается своей
головой.
Clivus Aricinus (лат.) — арицийский холм.
С. 95. ξιφήρης όυν έστιν αεί περισκοπών τάς έπιΌέσεις, έτοιμος άμ-
ύνεσθαι. το δ' Ιερόν έν αλσει —Жрец всегда опоясан
мечом, ожидая нападений и готовый защищаться.
Святилище стоит в священной роще... — Страбон. География.
5.3.12 (пер. Г. А. Стратановского).
Uno avulso поп deficit alter (лат.) —от одной сорванной
ветви не убудет.
С. 97. ... omnisque pudicis/ Itala terra focis Hecateidas excolit
idus... (лат.) — И у чистых костров славит земля
Гекатовы иды.
Dianae nemorensi Vestae sacrum diet. Imp. Nerva Tra-
iano Aug. Germanico (лат.) — жертвоприношение Диане
202
немейской Весте по повелению императора Нервы Тра-
яна Августа Германика.
С. 99. Sol (лат.) — Бог Солнца.
Bis vir (лат.) — второй муж.
С. 100. Ibat et Hippoliti proles pulcherimma bello,/ Virbius, in-
signem quern mater Aricia misit,/ eductum Egeriae lucis
umentia circum/ litora, pinguis ubi et placabilis ara Di-
anae (лат.) —Шел сражаться и ты, Ипполита отпрыск
прекрасный, / Вирбий. Ариция в бой тебя послала
родная, / В ней ты рос, где шумит Эрегии роща, где
влажен/ Берег, где тучный алтарь благосклонной Дианы
дымится (пер. С. Ошерова).
С. 101. Claudia nunc a quo diffunditur et tribus et gens/ Per
Latinum, postquam in partem data Roma Sabinis (лат.) —
Клавдиев племя и род от него пошли и проникли / В Ла-
ций, когда уделил место в Риме сабиянам Ромул (пер.
С. Ошерова).
С. 102. Eregiae nymphae sacrificabant praegnantes quod earn puta-
bant facile conceptum alvo egerere (лат.) — Нимфе Эрегии
приносили жертву беременные, ибо полагали, что она
разродилась быстро и легко.
С. 104. Ludi и типега (лат.): hidi — состязания, игры, зрелища;
munera —долг, обязанность.
cuius simulacrum поп est fas attingere (лат.) — ... образа,
которого не дозволено касаться.
equi... cervi... canes... (лат.) — кони... олени... собаки.
... et quod muneri missi erant inde munus apelatum
(лат.) — ... и поскольку были введены по долгу, был
[гладиаторский поединок] прозван «долгом».
nam gladiatorum munus primum Romae datum est in foro
boario App. Claudio Q. Fulvio consulibus. dederunt Marcus
et Decimus filii Bruti Perae funebri memoria patris cineres
honorando (лат.) — «Долг» гладиаторов впервые прошел
в Риме на Коровьем рынке в консульство Аппия
Клавдия и Квинта Фульвия. Марк и Децим, сыновья Брута
Перы, провели погребальные игры дабы почтить память
отца.
С. 109. Траурный совет — в лиге ирокезов: обряд поминовения
предков.
С. 110. Качина — у зуни духи, здесь —актеры, исполняющие в
ритуале роль богов.
С. 114. 4Азиатскую мифологию* (Дэ*с. Хэкин и др.) или
недавние 4Мифологии* (Larousse)... См.: Hackin J. Asiatic
203
Mythology. New York, 1932; Larousse World Mythology/
Ed. by Pierre Grimai. London, 1965.
В. Вэском. Мифо-ритуальная теория
Перевод осуществлен по изданию: Bascom W. The Myth-
Ritual Theory// Journal of American Folklore. 1957. N70.
P.103-114.
C. 140. Märchen (нем.)—здесь волшебная сказка.
С. 141. Bluebeard и Barbe-bleu или Little Red Riding Hood и Le
Petit Chaperon Rouge... — Синяя Борода и Красная
Шапочка.
С. 146. Вытеснение. — Здесь под repressed repression
подразумевается не процесс (или сам психологический механизм
защиты), но его результат.
С. 151. Миф о Пуанг-ку, ранее упомянутый Тэйлором. — См.:
Тайлор Э. Первобытная культура. М., 1939. С. 226. Более
распространено написание Пань-гу.
С. 153. Миф о выходе хопи — миф о выходе (из земли), антро-
погонический миф ряда племенных групп пуэбло, в том
числе хопи.
С. 154. МидЬам о Шалако и Саяташе... — Шалако — у зуни
вестники богов дождя, в ритуале, как правило,
предстают в образе огромных птиц. Саяташа — верховный Бог
ритуала Шалако, Бог дождя севера.
К. Клакхон. Мифы и обряды: общая теория
Впервые: Kluckhohn С. Myths and Rituals: A General Theory//
Harvard Theological Review. 1942. XXXV. P. 45-79.
-Характер сборника и год издания делают оригинальный
текст практически недоступным в отечественных
библиотеках, поэтому перевод осуществлен по
сокращенному изданию, в котором опущены полностью гл. III,
фрагменты других глав, а также ряд авторских
примечаний: Kluckhohn С. Myths and Rituals: A General Theory //
Myth and Literature: Contemporary Theory and Practice.
Lincoln, 1966. P. 33-44.
C. 157. Представители одной известной тколы предприняли
попытки обнаружить астрологический базис для всех
мифических преданий. — Имеются в виду так
называемые астральная и солярно-метеорологическая
школы мифологии (вторая половина XIX —начало XX в.;
А. Кун, В. Шварц, М. Мюллер).
С. 163. Культ Пейота — культ кактуса («кактусовый культ») —
204
религиозный комплекс племенных объединений
Калифорнии, а также Центральной и Южной Америки.
С. 165. Конфигурации культуры — В данном случае автор
подразумевает популярную в традиции американской
антропологии того времени (Бенедикт, Крёбер, Беннет,
Линтон) теорию, согласно которой в обыкновенной
деятельности человека проявляется ведущая тенденция
культуры, сопротивление которой составляет
патологическую реакцию.
С. 169. Конкретные особенности столь otce произвольны, что
и феномены вербального языка по отношению к <содер-
жанию* сообщения... — Вероятнее всего, это
несколько произвольная интерпретация одного из центральных
положений семиологии Ф. де Соссюра: « Связь,
соединяющая означающее с означаемым, произвольна» (Сое-
сюр Ф. де. Труды по языкознанию. М., 1977. С. 100).
С. 173. Шалако — см. прим. к с. 154 настоящего издания.
С. 174. Возрадуется сердце ваше... (Ин. 16, 22.)
С. 174. 4Реактивная формация* — по Фрейду, один из
защитных механизмов, перенос одного импульса
(преимущественный источник психической энергии) на ему
противоположный.
4Принцип функциональной автономии* Олпорта. — По
Олпорту, который был крупнейшим представителем
психологии личности, детские впечатления функционально
не сказываются на мотивациях зрелого человека.
С. Хьюман. Обрядовый подход
к мифу и мифическому
Впервые: Нутап S. Е. The Ritual View of Myth and the Mythic //
Myth: A Symposium/ Ed. T. A. Sebeok. Bloomington, 1958.
P. 84-94. Второе издание: Myth and Literature:
Contemporary Theory and Practice. Lincoln, 1966. P. 47-58.
C. 186. Антропология культуры и личности — направление в
американской антропологии, на представителей
которого на разных этапах оказывали влияние методы как
традиции Боаса, так и неофрейдизма. Одним из основных
постулатов школы было предположение о том, что для
каждой культуры характерен определенный тип
личности.
Elan vital (φρ.) — «жизненный порыв», одно из
ключевых понятий философии эволюции А. Бергсона,
согласно которому жизнь развертывается в трех основных на-
205
правлениях (растительном, инстинктивном, разумном)
в форме порыва, проходящего последовательность
качественных преобразований.
С. 187. Первобытная орда. — Фрейд исходил из концепции Ат-
кинсона—Дарвина о первобытной орде, состоящей из
детей и женщин, возглавляемых патриархом. Только он
один имел право вступать в связь с женщинами, причем
достигшие половой зрелости юноши изгонялись.
Объединившись, юноши убивают и съедают отца, однако
позднее раскаявшись, создают различные нормы и
установления в форме табу (в частности, запрет на контакты
мужчин с женщинами их группы); обряд поминовения
отца, предка, ставшего объектом почитания,
реализуется в тотемической трапезе (см.: Фрейд 3. Тотем и
табу). Фрейд неоднократно подчеркивал (в частности, см.:
Фрейд 3. История одной иллюзии// Сумерки богов. М.,
1990. С. 11), что в данном случае он предлагал
объяснение исключительно тотемизма, но его последователи
подчас были склонны искать в этой концепции
объяснение происхождению религии как таковой.
<Мнесические следы* (англ. memory traces) — по Фрейду,
следы в памяти, запечатлевшие детские впечатления.
4 M оно миф р. — Кэмпбелл заимствует термин у
Джойса {Joyce J. Finnegans Wake. New York, 1939;
Кэмпбелл Дою. Тысячеликий герой. M., 1997. С. 55), понимая
под ним некий идеальный миф, прототип и обоснование
всех частных мифов.
<г Отделение от мира, приобщение к некоему источнику
силы и... возвращение*. — «Герой отваживается
отправиться из мира повседневности в область удивительного
и сверхъестественного, там он встречается с
фантастическими силами и одерживает решающую победу. Из этого
исполненного таинств приключения герой возвращается
наделенным способностью нести благо своим
соплеменникам» (Кэмпбелл Дою. Тысячеликий герой. М., 1997.
С. 37-38).
С. 190. Р.Грейвсом в <Белой Богине» (1948)... —Сокр. изд.:
Грейвс Р. Белая богиня. СПб., 2000.
С. 197. ... проницательных иронических фантазий в поэзии —
здесь прежде всего имеются в виду Йитс, Грейвс, Элиот
и Фрэзер.
Именной указатель
Абрахам К. (Abraham К.) 157
Авраам (библ.) 148
Агамемнон (миф.) 28, 42
Адлер А. (Adler А.) 186
Актаон (миф.) 114
Александр Великий 23, 180
Аллен Т. В. (Allen T. W.) 184
Альтхайм Ф. (Altheim F.) 92
Альфред, король (фольк.) 61
А м бал ее (легенд.) 195
Амлет (легенд.) 195
Амлоди (легенд.) 195
Амур (миф.) 117
Амфион (миф.) 148, 149
Анат (миф.) 23
Андерсон Ф. (Anderson F.) 190
Антихрист (библ.) 50
Аполлодор 13, 70, 118, 198
Аполлон (миф.) 43, 44, 46, 93, 108,
148
Apec (миф.) 159
Аристотель 62, 115, 181
Артемида (миф.) 86, 98, 101, 103,
114
Артур, король (легенд.) 42, 134,
148
Асархаддон 21
Асклепий (миф.) 43, 46, 47, 148,
162
Аттила 42, 126
Валфур Г. (Balfour H.) 178
Барбер Ч.Л. (Barber CL.) 163,
185, 195
Барк К. (Burke К.) 171, 181, 187
Баненен С. (Buchanan S.) 183,
197
Бекет Томас (св. Фома) 42-48, 51,
56, 126, 184, 190, 199
Бел (миф.) 25, 26
Белл Г. И. (Bell Я. /.; 193
Беллерофонт (миф.) 148
Бенедикт P. (Benedict R.) 154,
156, 167, 186, 205
Бергсон A. (Bergson H.) 64, 188,
205
Берос 22-24
Боас Ф. (Boas F.) 143,160, 66,186
Бодкин M. (Bodkin M.) 187
Болтон Г. К. (Bolton H. С.) 182,
184
Б о сапке е Р. Ц. (Bosanquet R. С.)
128, 129
Брут Пера 104
Брут Юний 104
Брэндон С. Г. Ф.
(Brandon S. G. F.) 58
Бэском В. (Bascom W.) 9, 12, 60,
113, 116-119
Вагнер P. (Vagner R.) 155
Вайзингер Г. (Weisinger H.) 8,
68, 79, 80, 185
Веста (миф.) 97, 98, 101, 104
Вестерман Д. (Westermann D.)
30
Вестон Д. (Weston J.) 14, 183,
188
Виламовиц-Моллендорф У., фон
(Wilamowitz-Moellendorf U. Von)
128, 129
Виллетс Р. Ф. (Willets R. F.) 72,
74
Вильгельм Завоеватель 190
Вильям Руфус 184, 190
Вильгельм Телль 155, 188
Вильямсон Г. P.
(Williamson Я. R.) 184
Вольфдитрих (миф.) 148
Гамильтон Л. (Hamilton Л.) 37,
38
Гамлет (лит.) 79, 195
Гарнет, о. 48
Гастер T. (Gaster Т.) 108, 185
Гвардуччи М. (Guarducci M.) 69,
72, 75, 76
Гемифея Кастабосская (миф.) 43,
47
Геннеп Α., ван (Gennep A.f Van)
13, 136, 162, 187, 198
Геракл (миф.) 44, 117, 148, 149
Гераклит 177
Гесиод 70, 75-77, 122, 185
Гестия (миф.) 98
Гиаватха (легенд.) 109
Гигин 118
Гильгамеш (миф.) 148
Глакмэн M. (Gluckman M.) 34
Говейн (лит.) 184, 185
Гойтейн Г. (Goitein H.) 183, 197
Голдштейн К. (Goldstein К.) 172
Гомми Э. (Gomme А.) 182, 184
Гонсало де Сильвейра 138
Гордон А.Э. (Gordon Α. Ε.) 94,
97, 98
Грей Э. (Grey Ε.) 123
Грейвс P. (Graves R.) 39, 55, 190,
199, 206
Грим, Эдвард 46
Грималь П. (Grimai Р.) 114
Гринвей Д. (Greenway J.) 39
Дараб (эпич.) 148, 149
Дарвин Ч. (Darwin Ch.) 78, 177,
190, 193, 206
Дегановеда (легенд.) 109, ПО
Джиффорд Э. В. (Gifford Ε. W.)
112
Джойс Д. (Joyce J.) 196, 206
Джон из Арка 190
Диана (миф.) 82-84, 86-89, 91, 93,
94, 96-102, 104, 105, 184, 202
Дидс С. Я. (Deedes S. Ν.) 20
Диего де Коуто 138
Дика (миф.) 69, 72
Диккенс Ч. (Dickens Ch.) 68
Диль Э. (Diehl Ε.) 69
Диодор Сицилийский 32, 52
Дионис (миф.) 44, 47, 65, 148
Доллара Д. (Dollard J.) 169
Дос Сантос 32
Дрювс A. (Drews А.) 193
Дьяус (миф.) 151
Дюбуа К. (DuBois С.) 161
Дюркгейм Э. (Durkheim Ε.) 64,
66, 158, 165
Елена (миф.) 179, 188
Жиль де Рэй 190
Заль (эпич.) 148
Зевс (миф.) 27, 51, 69-77, 114,
116, 117, 120, 148, 149
Зет (миф.) 73, 148, 149
Зигфрид (эпич.) 148
Золушка (фольк.) 143
Зороастр (миф.) 148
Иисус (библ.) 24, 111, 112, 148,
188, 193
Илия (библ.) 148, 149
Ино (миф.) 99
Иокаста (миф.) 145, 146
Иона (библ.) 148, 193
Иосиф (библ.) 148, 149
Ипполит (миф.) 83, 87, 96, 98, 99,
101-103, 203
Ирстам T. (Jrstam Т.) 28, 31, 36
Исаак (библ.) 148
Иуда (библ.) 148, 149
Йагендорф М. (Jagendorf M.) 196
Йенсен А. Э. (Jensen А. Е.) 127
Йитс В. Б. (Yeats W. В.) 188, 206
Кай Хусроу (эпич.) 148, 149
Калас H. (Calas Ν.) 186
Калигула 87, 88, 90
Кардинер A. (Kardiner Α.) 169
Карл Великий 42, 116, 126
Кармента (миф.) 99
Карна (эпич.) 148, 149
Карпентер P. (Carpenter R.) 184,
195
Катон 100
Кафка Ф. (Kafka F.) 196
Качина (миф.) ПО
Квирин (Quirinus) (миф.) 99
Кейси Р. П. (Casey R. P.) 169
Кекроп (миф.) 180
208
Кир (легенд.) 23, 24, 148
Клакхон К. (Kluckhohn С.) 9,
107, 108, 112
Коллинс К. (Collins С.) 196
Колоссэрот (Эзий Прокул) 88
Конвей Р. С. (Conway R. S.) 83,
87, 92
Коржибский A. (Korzybski Α.)
163
Корнфорд Φ. (Comford F.) 6, 8,
12, 14, 63, 179, 180, 182, 183,
185, 197
Красная Шапочка (фольк.) 142
Крёбер А. Л. (КгоеЬег A. L.) 159,
205
Крон (миф.) 52, 74, 75, 151
Кроули Дж. У. (Crawley J. W.)
186
Кук А. Б. (Cook A.B.) 8, 13, 27,
53, 63, 179, 180, 183
Куреты (миф.) 69, 70, 72-74, 76
Куротропос (миф.) 73
Кухулин (эпич.) 134
Кьюрэт Г. (Kurath G.) 185
Кэмпбелл Д. (Campbell J.) 187,
206
Лай (лит.) 146
Ласки В. (Laski V.) 110, 127
Латте К. (Latte К.) 89
Лаэл А. К. (Lyall А. С.) 50
Леей Г. P. (Levy G. R.) 184, 185
Леей-Строе К. (Lévi-Strauss С.)
63, 199
Левкофея (миф.) 43, 47
Леда (миф.) 188
Лесса В. A. (Lessa W.A.) 151
Ли Гуэй (Li Hwei) 152
Линкольн Дж. С. (Lincoln J. S.)
162
Лир, король (лит.) 80
Ллеу Ллогифес (миф.) 148
Лойб Э. (Loeb Ε.) 12, 36
Лоуи Р. Г. (Lowie R. H.) 162
Лоуренс Д. (Lawrence D.) 61, 184
Лоэнгрин (лит.) 148
Лэнг Э. (Lang А.) 16, 22-24, 83,
84, 87, 96, 105, 151, 157
Людовик XVI 35
Макбет (лит.) 79
Малиновский Б. (Malinowski В.)
7, 112, 123, 140, 165, 166, 168,
181, 186
Манн T. (Mann Т.) 184, 196
Маны (миф.) 99
Марлоу A. H. (Marlow Α. N.) 27
Маррет P.P. (Marret R. R.) 7,
178, 179
Мберауалаки (миф.) 192
Мейеровиц Э. Л. Р. (Меуего-
witz Ε. L. R.) 37
Мелвилл Г. (Melville G.) 196
Мертон P. К. (Merton R. К.) 172
Mud M. (Mead M.) 186
Минотавр (миф.) 179
Мисен (лит.) 83
Моисей (библ.) 148
Монтескье (Montesquieu) 178
Морган В. (Morgan W.) 162
Море A. (Moret А.) 20, 26
Морпурго Л. (Morpurgo L.) 94, 97
Мосс М. (Mauss M.) 165
Мусей (миф.) 188
Мэир Л. (Mair L.) 34-36
Мюррей Г. (Murray G.) 6, 8, 11,
13, 14, 63, 66, 72, 74, 78, 79, 179,
182, 184, 185, 195, 196, 200
Мюррей M. (Murray M.) 8, 183,
185, 190, 191
Наполеон (ист.) 188
Hamm A. (Nutt Α.) 136
Николай II 35
Нильсон M. П. (Nilsson M. P.) 72,
75, 76
Нума (лит.) 98, 99, 102
Ньиканг (миф.) 29, 148, 151
Ньюэл В. У. (Newell W. W.) 82,
184
Одиссей (миф.) 28, 117, 124
Олпорт Г. (Allport G.) 174
Орест (миф.) 87, 93, 96, 98, 124,
195
Орион (миф.) 114
Орфей (миф.) 114, 188
Отелло (лит.) 79
Палефат 56
Парето У. (Pareto V.) 172
209
Парис (миф.) 148
Парсонс Э. К. (Parsons Ε. С.)
153, 154, 156
Пелей (миф.) 57
Пелий (миф.) 57
Пелоп (миф.) 148
Персей (миф.) 117, 148, 149
Пифон (миф.) 59, 108
Платон 119, 125, 158
Плеяды (миф.) 114
Посейдон (миф.) 43
Притхиви (миф.) 151
Прозерпина (миф.) 84
Психея (фольк.) 117
Пуанг-ку (Пань-гу) (миф.) 151,
204
ПэрриндерД. Г. (Parrinder D. G.)
35
Ранк О. (Rank О.) 147-152, 157
Расмуссеи К. (Rasmussen К.) 171
Рея (миф.) 69, 71, 75, 76
Риджуэй В. (Ridgeway W.) 53-56
Робертсон Д. М.
(Robertson J. M.) 14, 24, 182, 193
Робертсон-Смит В. (Robertson
Smith W.) 5-7, 13, 14, 157, 178,
198
Робин Гуд (фольк.) 42, 134, 148,
188, 194
Ромул (миф.) 99, 148, 149, 203
Роуз Г.Д. (Rose H.J.) 27, 159
Рохайм Г. (Roheim G.) 169
Рурк К. (Rourke С.) 14
Рэглан, лорд (Raglan, Lord) 8, 9,
11, 13-20, 25-28, 30, 31, 34, 36,
38, 39-42, 45-56, 58, 60-62, 66,
68, 78, 107, 108, 112, 113, 121,
125, 126, 133-138, 140-154, 184,
192, 197
Рэдклифф-Браун A. (Radcliffe-
Brown Α.) 165-168
Рэйк T. (Reik T.) 157
Сайке Э. (Sikes Ε.) 184
Саргон 21, 148
Саяташа (миф.) 154, 204
Св. Григорий (лит.) 148, 149
Седна (миф.) 160
Селигмен С. Г. (Seligman С. G.)
29-31, 33, 36
Сервий Туллий 91, 202
Симпсон В. (Simpson W.) 182,
193
Синяя Борода (фольк.) 204
Скиф (миф.) 149
Смит В. (Smith W.) 51, 199
Софокл 73, 74, 184
Спайрс Дж. (Speirs J.) 184, 185
Спенс Д. (Spens J.) 184, 195
Спенсер К. (Spencer К.) 111, 127
Стейнбек Д. (Steinbeck J.) 102
Страбон 22, 23, 24, 71, 84, 86, 91,
95, 96, 198
Сэнтивье П. (Saintyves Р.) 183
Тезей (миф.) 65, 73, 124, 148, 149
Телеф (миф.) 148
Теодорих 42
Тидди Р.Дж. Э. (Tiddy R. J. Ε.)
183
Тифон (миф.) 57
Томас К. Э. (Thomas К. Е.) 190
Томпсон С. (Thompson S.) 133,
143, 144
Тор (миф.) 51, 113, 114
Торье Д. (Thoreau D.) 196
Тристан (лит.) 148
Трои В. (Troy W.) 14, 184, 196
Тэйлор Э. (Tylor Ε.) 5, 7, 151,
177, 179, 180, 183, 204
Уата Гунунг (миф.) 148, 149, 151
Уовока 111, 112
Уорнер В. Л. (Warner W. L.) 155,
156
Уэлсфорд Э. (Welsford Ε.) 184
Фаллер Ч.Э. (Fuller CE.) 138,
139
Фауна (миф.) 99
Фемида (миф.) 69, 70, 76
Фентон В. H. (Fenton W. Ν.) 12,
110, 112, 127
Фергюсон X. (Ferguson Η.) 171,
196
Фергюссон Φ. (Fergusson F.) 14,
184
Феридун (миф.) 148
210
Фернандес Андре (Femandes Α.)
138
Филлпотс Б. (Philipotts В.) 183
Фитал (миф.) 65
Фитцжералъд С. (Fitzgerald S.)
184
Фитцурс, Рэджинальд 46
Фицстефен, Вильям 46
Фокс, Гай 24, 42, 48-51, 126
Фолкнер В. (Faulkner W.) 196
Франкфорт Г. (Frankfort H.) 20
Фрейд 3. (Freud S.) 146, 147, 157,
181, 186, 187, 205, 206
Фромм Э. (Fromm Ε.) 186
Фрэзер Дэн:. Дэн:. (Frazer J. G.)
5, 6, 11-14, 19-22, 24-32, 34-
40, 64, 68, 81-86, 92, 94-96, 105,
106, 108, 110, 111, 178, 179, 185,
186, 189, 192, 198, 206
Фундилия Руфа 98, 102
Xapdu T. (Hardy T.) 49
Харрисон Дэн:. (Harrison J.) 6, 8,
11-14, 53, 62-66, 68-75, 77, 78,
108, 112, 144, 179, 180, 182, 185,
188, 191, 192, 200
Хёйбл Э.А. (Hoebel Ε. Α.) 186
Хель (миф.) 149
Хенгест (миф.) 134
Хокарт A.M. (Hocart A.M.) 14,
19, 38, 59, 60, 161, 183, 192, 197
Хорни К. (Homey К.) 186
Хорон (миф.) 149
Хорса (миф.) 134
Хоры (миф.) 69, 72, 76
Хэйл Г. (Haie Η.) 109
Хук С. Г. (Hooke S. Н.) 13, 14, 17-
21, 27, 31, 36, 38, 58, 59, 79, 144,
155, 166, 183
Хьюман С. (Нутап S.) 9, 11, 13,
14, 39, 42, 47, 50-56, 62, 63, 65-
69, 78, 79, 81, 107, 108, 113, 121,
125, 126, 154, 199
Хжин Дэн:. (Hackin J.) 114, 203
Хэлидэй В. P. (Halliday W.R.)
184
Чака, царь 34
Чейз P. (Chase R.) 196
Честертон Г. К.
(Chesterton G. К.) 79
Чосер Д. (Chaucer G.) 43
Шалако (миф.) 154, 173, 204
Шекспир В. (Shakespeare W.) 68,
79, 80, 185, 195
Шрёдингер Э. (Schroedinger Ε.)
197
Эббот Э.А. (Abbot Ε. А.) 45
Эванс-Притчард Э. Э. (Evans-
Pritchard Ε. Ε.) 33, 39
Эвгемер 52, 56, 146
Эвномия (миф.) 76
Эвридика (миф.) 114
Эдип (лит.) 57, 145-150, 152, 158
Эйрена (миф.) 69
Экенштейн Л. (Eckenstein L.)
182
Эней (лит.) 82-84
Эргамен 32
Эрегий Бэбий, Лэвий 100
Эрегия (миф.) 89, 96, 98-104, 203
Эсхил 124
Юпитер (миф.)
Юнг К. Г. (Yung К. G.) 186-188
Ясон (миф.) 148, 149
Anna Регеппа (миф.) 99
Iuno Inferna (миф.) 84
Mater Matuta (миф.) 99
Rex Nemorensis, титул 81, 82, 87-
90, 94, 96-98
Sol (миф.) 99, 203
211
СОДЕРЖАНИЕ
От составителя 5
Д. Фонтенроуз. Обрядовая теория мифа 10
Пролог 13
/. Рэглан. Царская жертва 15
Жертвоприношение божественного царя —
Древние свидетельства о царской жертве 19
Этнографические свидетельства о царской жертве 28
Первобытные истоки 39
Томас Бекет 42
Гай Фокс 48
Эвгемеризм Рэглана 51
Доисторическая драма 56
Заключение к критике теории Рэглана 60
//. Хьюман. Прекрасная Фемида 62
Теория Харрисон 63
Гимн из Паликастро 68
Заключение к критике теории Хьюмана 78
///. Царь Леса 81
Призрачный жрец 82
Поединок за «наследство» 87
Древо и ветвь 92
Диана Веста 96
Вирбий и Эрегия 98
Munera 103
IV. Определения 107
Соотношение мифа и ритуала —
Определение мифа и другие термины 112
Функции мифа 122
Приложение. Гимн из Паликастро 128
B. Бэском. Мифо-ритуальная теория 132
Историчность 134
Воображение 140
Иокаста и Эдип 145
Ньиканг и Уата Гунунг 150
К. Клакхон. Мифы и обряды: общая теория 157
C. Хьюман. Обрядовый подход к мифу и мифическому 177
Примечания 198
Именной указатель 207
Научное издание
Обрядовая теория мифа
Составление и перевод А. Ю. Рахманина
Зав. редакцией И. П. Комиссарова
Редактор М. В. Николаева
Художественный редактор Е. И. Егорова
Обложка художника Е. А. Соловьевой
Корректор И. А. Симкина
Компьютерная верстка А. М. Вейшторт
Лицензия ИД Λ* 05679 от 24.08.2001
Подписано в печать 29.10.2003. Формат 84x108 ι/ζ2·
Бумага офсетная. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 11,34. Заказ №111.
Издательство СПбГУ.
199034, С.-Петербург, Университетская наб., 7/9.
Тел. (812) 328-77-63; факс (812) 328-44-22
E-mail: books@dk2478.spb.edu
www.unipress.ru
Типография Издательства СПбГУ.
199061, С.-Петербург, Средний пр., 41.
Издательский Дом
Санкт-Петербургского государственного университета
Издательство
Санкт-Петербургского государственного университета
в 2003 году выпустило в свет
Жак Ле Гофф. Интеллектуалы в Средние века
/ Перевод с французского А. М. Руткевича. 2-е изд.
«От Абеляра до Оккама, от Альберта Великого до Жана Жерсе-
на, от Сигера Брабантского до Виссариона — сколько
темпераментов, характеров, различных и противоположных
интересов!» — заметил знаменитый французский историк Ж. Ле Гофф в
своей первой книге, предлагаемой вниманию читателей.
С очерка истории интеллектуалов, людей, посвятивших себя
умственной деятельности, — ученых (монахов и клириков) и
мирян (богословов и философов), Ле Гофф начинает свою
экспансию в мир духовности и психологии человека Средних
веков. Как и в последующих своих работах — «Другое
Средневековье», «Людовик IX Святой», нашумевшей в 1960-е годы
«Цивилизации средневекового Запада» и др., он остается верен
культурно-антропологическому подходу «Новой исторической
науки», у истоков которой стояли Марк Блок и Люсьен Февр.
Необычный для историков интерес к ментальности,
коллективному сознанию, духовному миру латентной системе
ценностей людей прошлого как неотъемлемой части их социального
поведения позволяет понять побудительные факторы их
поступков, найти новые ракурсы старых проблем, поставить
новые, наполняет абстракции социологического анализа
историческим содержанием.
Книга адресована историкам, философам, культурологам,
филологам, а также самому широкому читателю,
интересующемуся прошлым европейской культуры.
Заявки направляйте по адресу:
199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., 7/9
Издательство СП6ГУ, отдел «Книга—почтой»
Тел. (812) 328-77-63; факс (812) 328-44-22
E-mail: books@dk2478.spb.edu
nrww.unipress.ru
Издательский Дом
Санкт-Петербургского государственного университета
Издательство
Санкт-Петербургского государственного университета
подготовило к выпуску в свет
М. Элиаде. Йога: бессмертие и свобода
/ Перевод с английского С. В. Пахомова. 2-е изд.
Книга выдающегося румынского историка и феноменолога
религии Мирчи Элиаде (1907-1986) «Йога: бессмертие и свобода»
давно считается классическим исследованием горизонтов
индийского духа. Автор создает представление о йоге как о
целостном, универсальном духовном мире, разные элементы
которого соответствуют разным культурным уровням, состояниям
сознания и даже слоям траднционого общества. Именно в среде
автохтонного, доарийского населения Индии М. Элиаде
прослеживает истоки йоги, акцентируя свое внимание в основном
на ее «неклассическнх» образцах. Йога из конкретной
ортодоксальной школы индуистской философии становится у него ннн-
цнатнческим пространством, в котором ищущий, проходя через
испытания, приобщается к ценностям бессмертия и свободы и
обретает статус джнванмукты — «освобожденного при жизни».
Для всех, интересующихся духовной культурой Индии
Заявки направляйте по адресу:
199034, Санкт-Петербургу Университетская наб., 7/9
Издательство СПбГУ, отдел «Книга—почтой»
Тел. (812) 328-77-63; факс (812) 328-44-22
E-mail: books@dk24 78.spb.edu
xmuw.unipress.ru