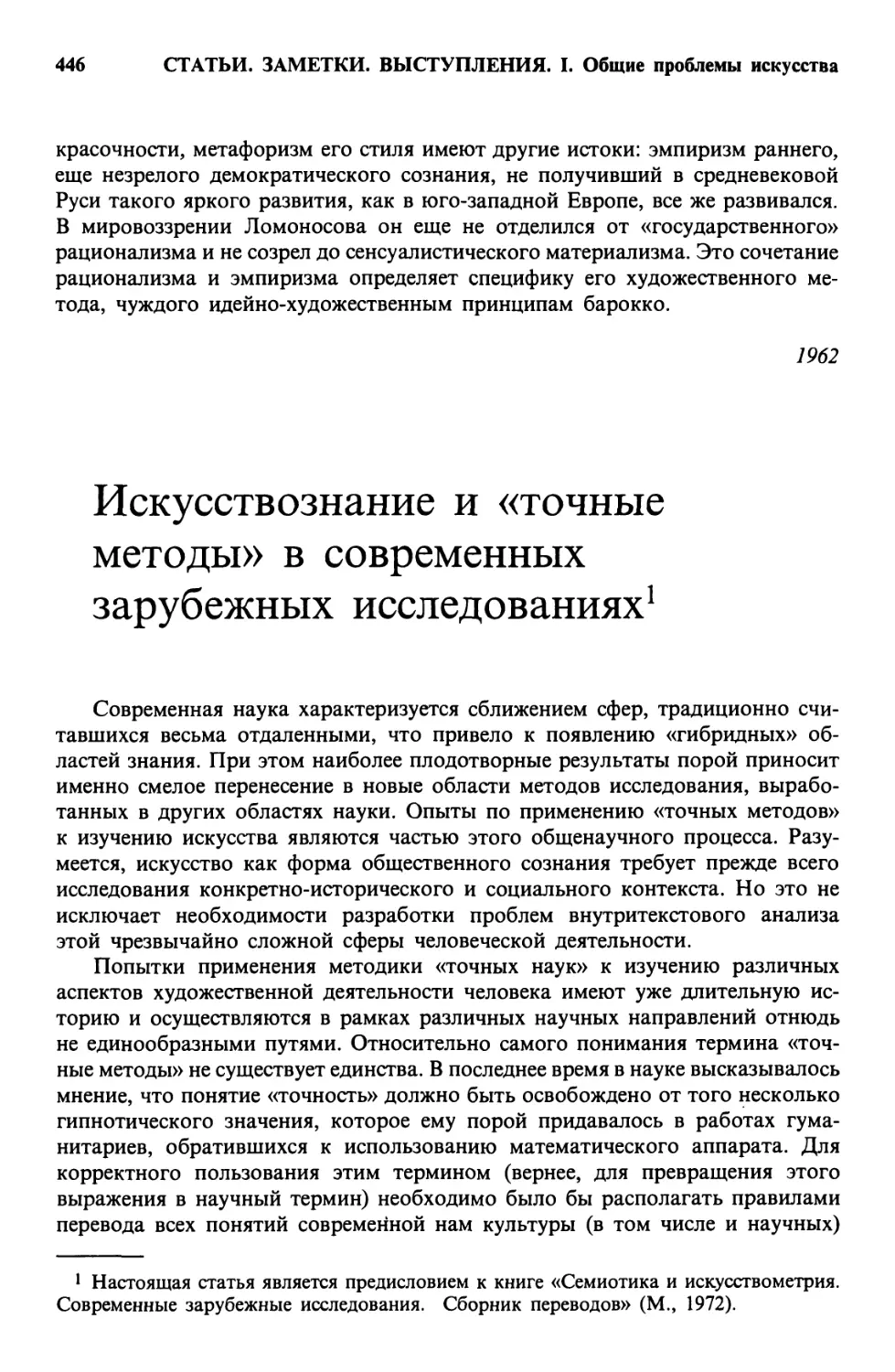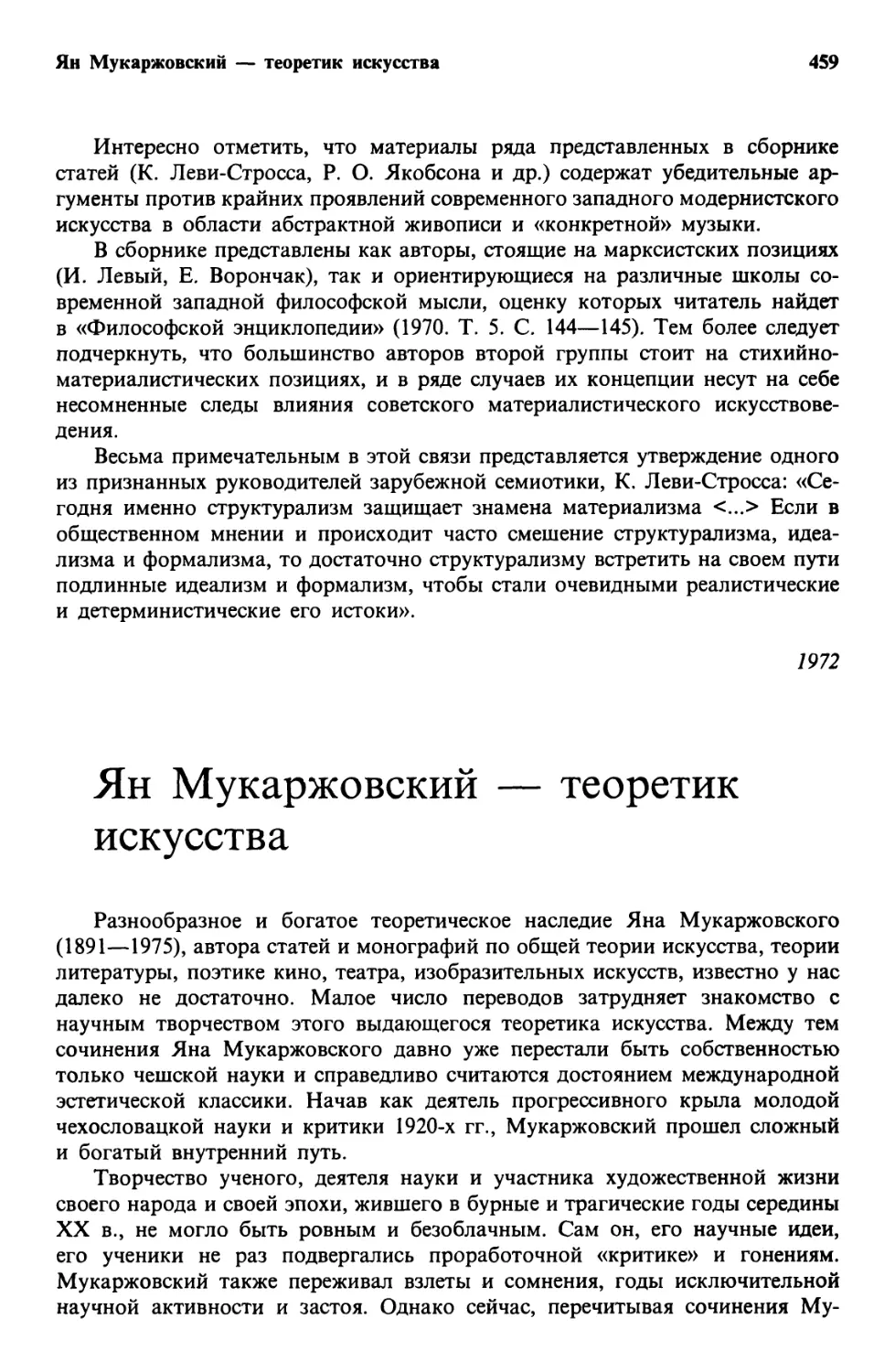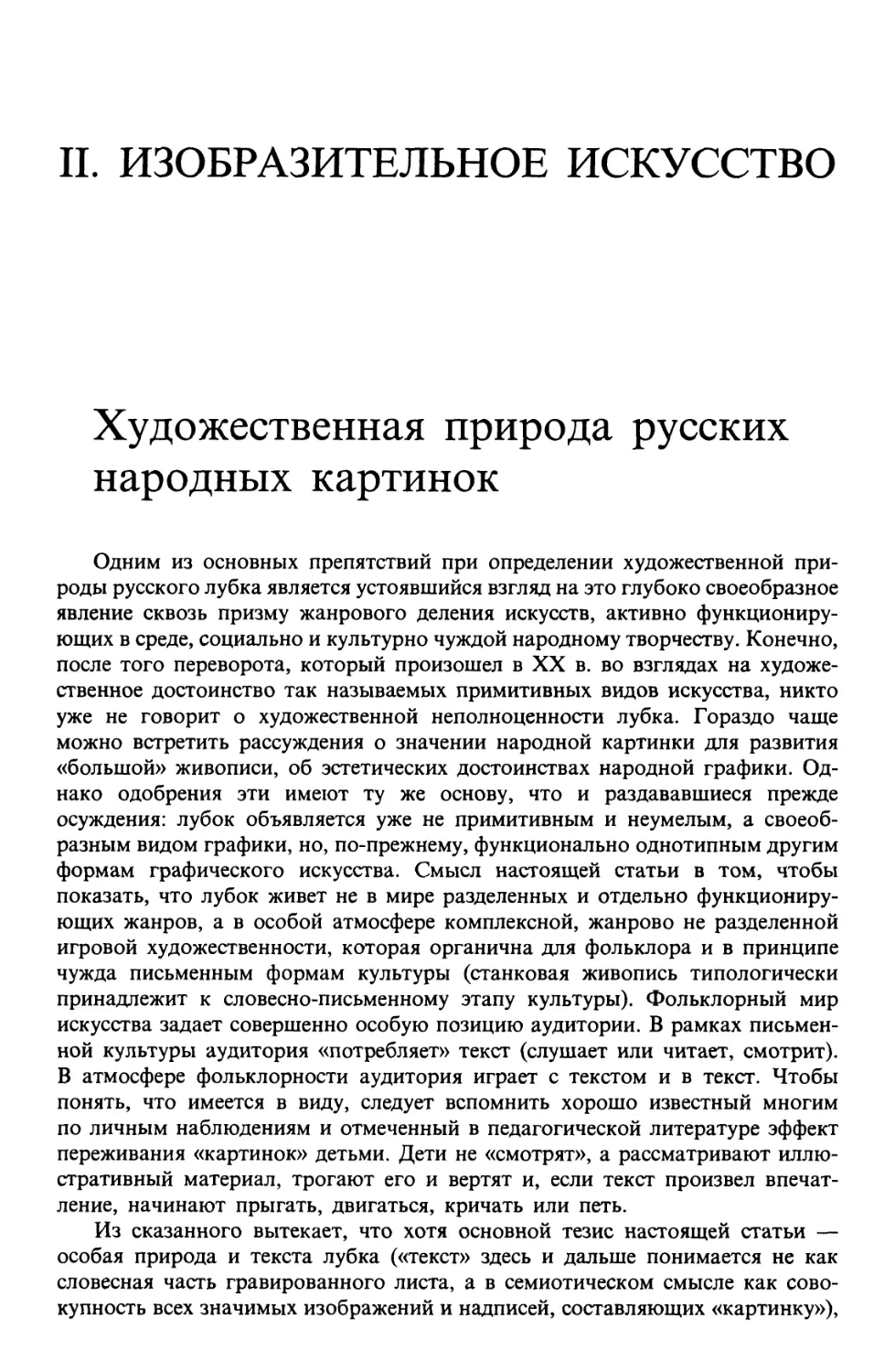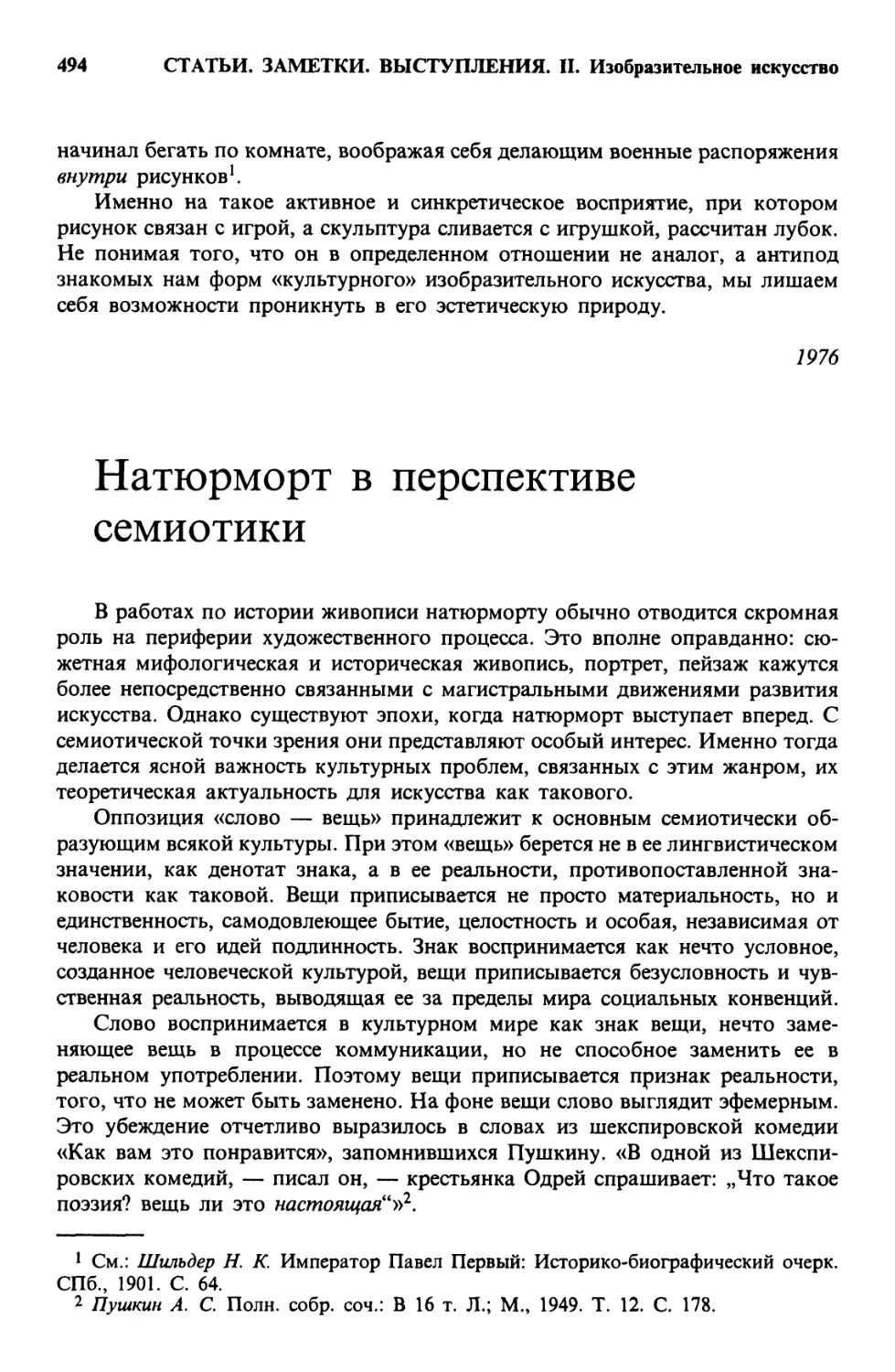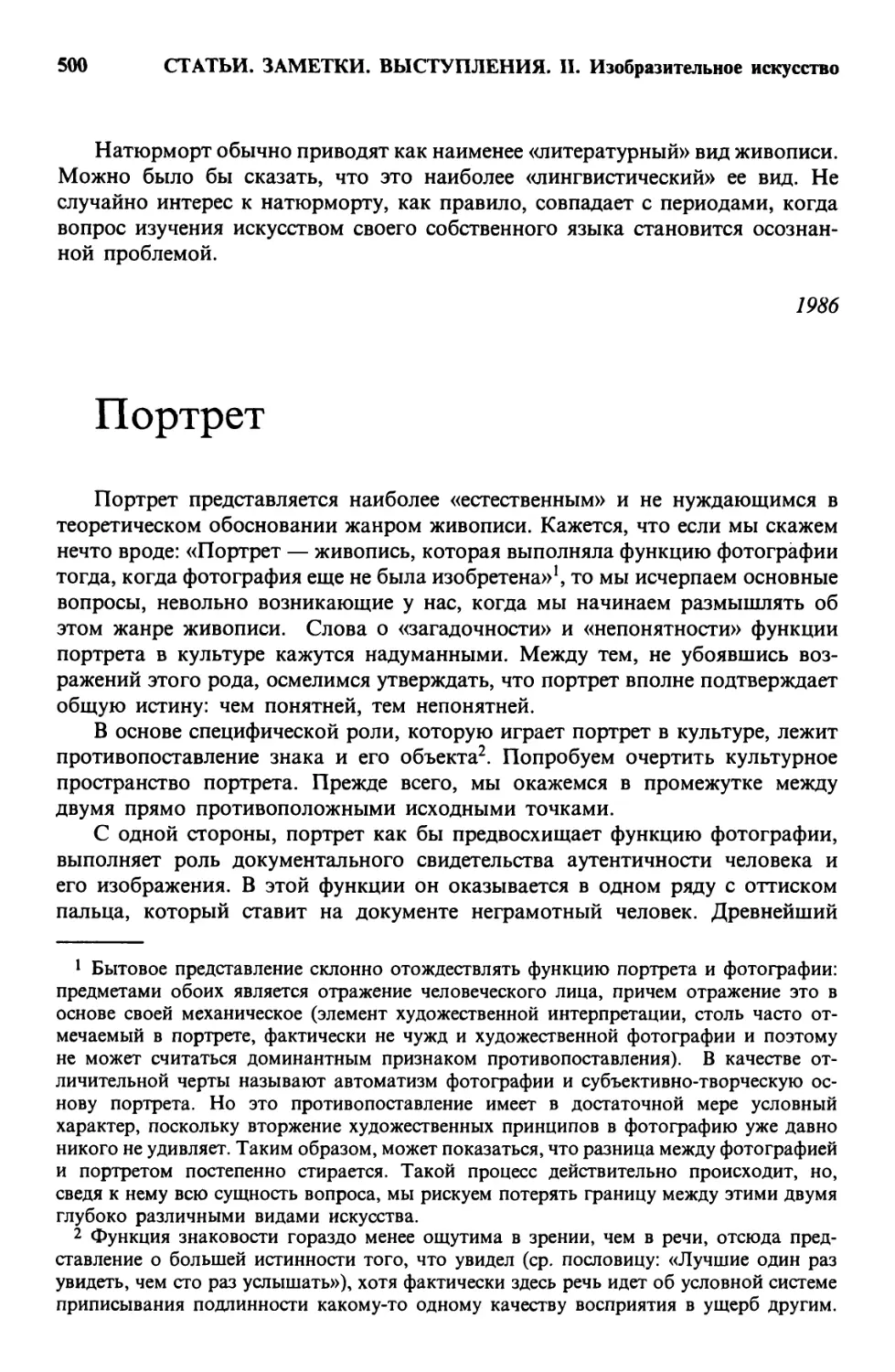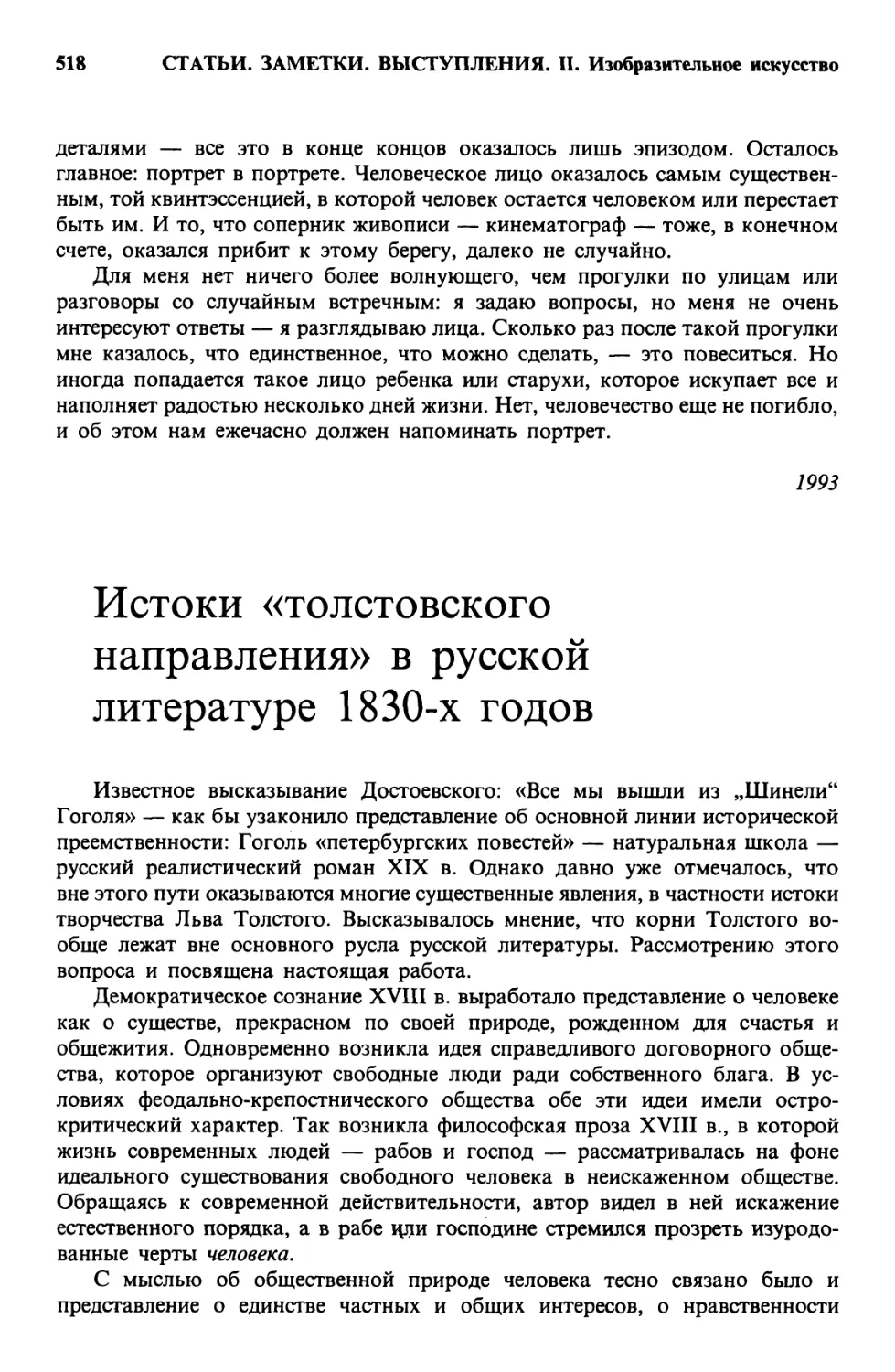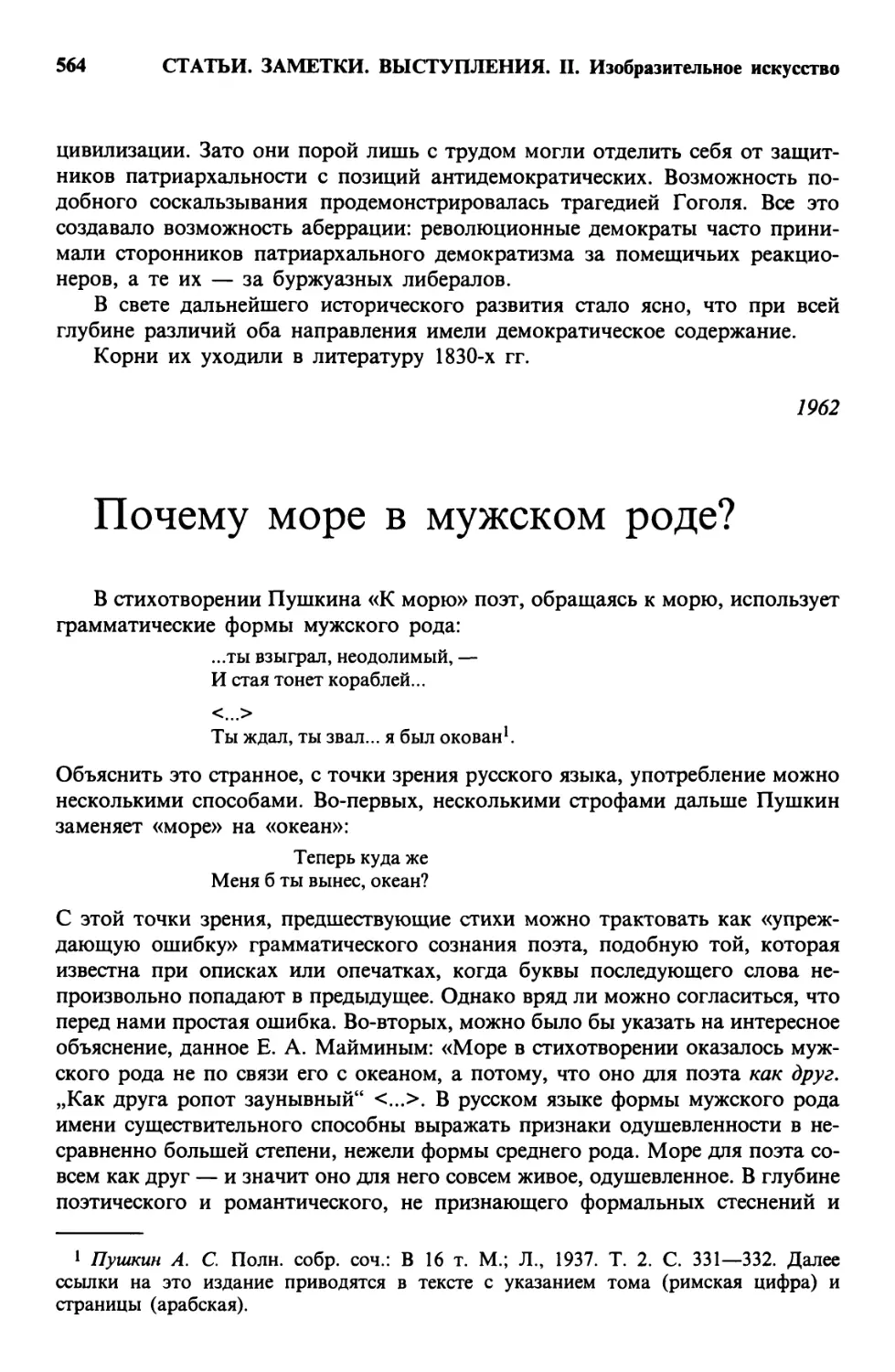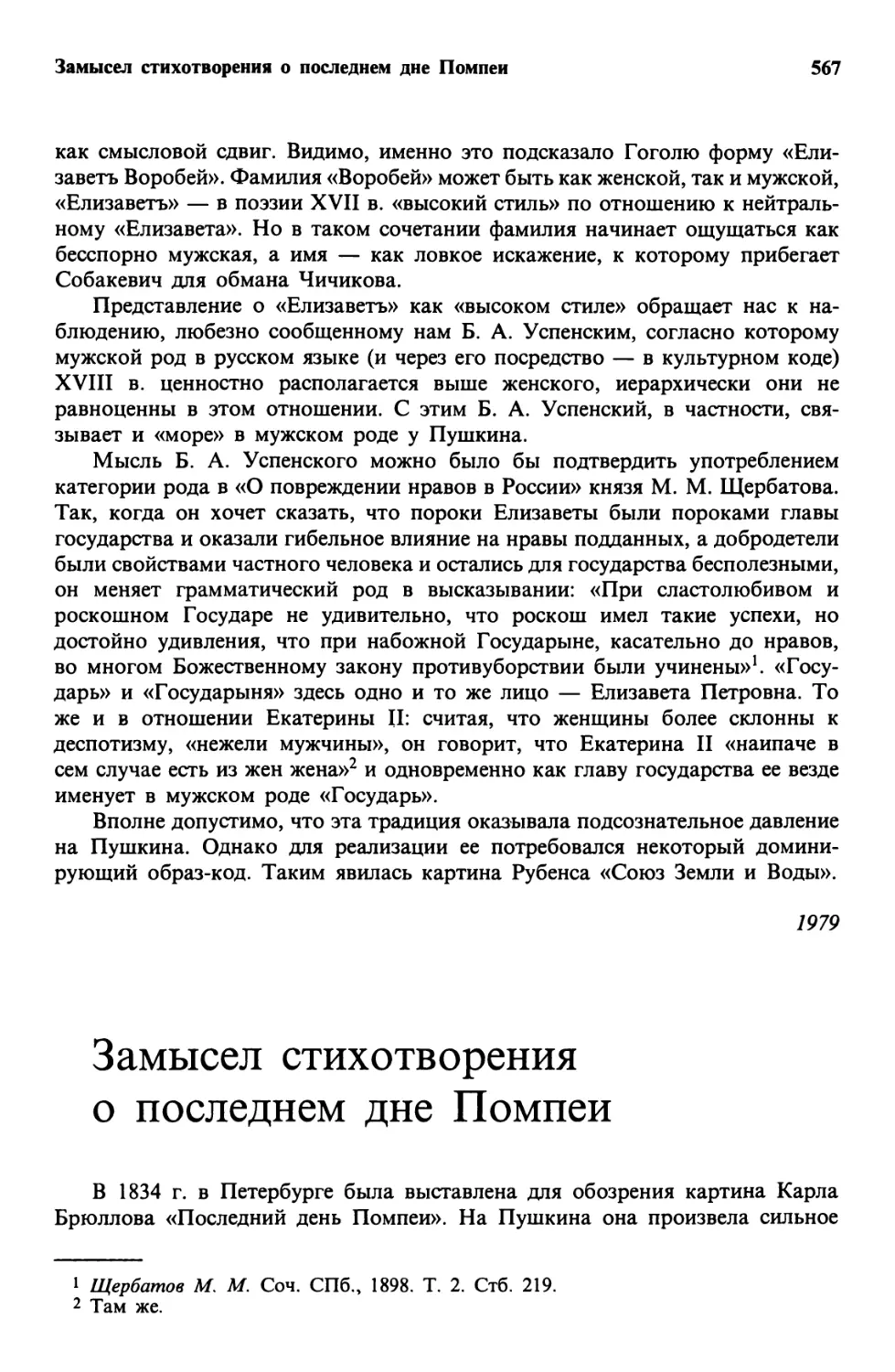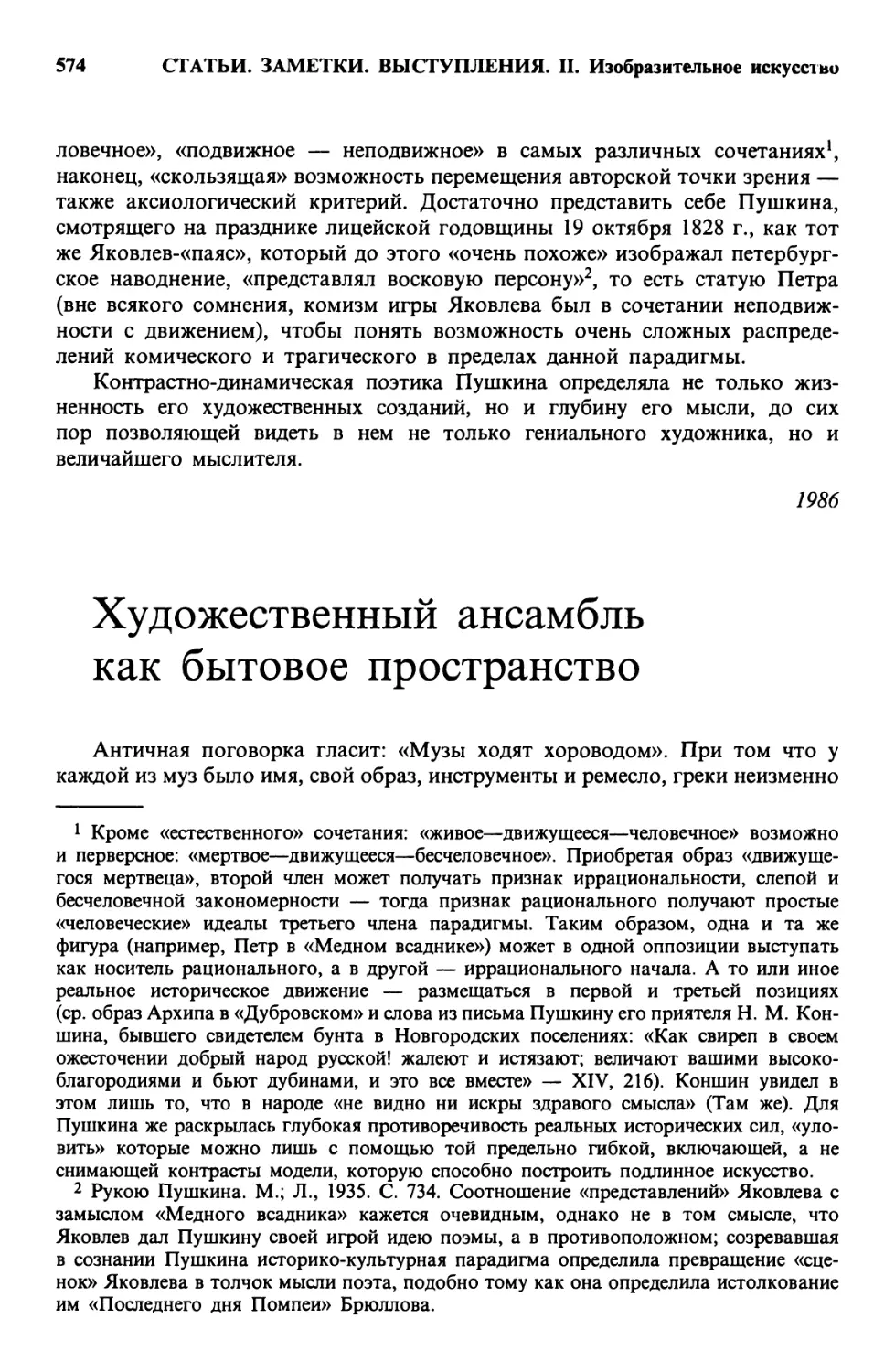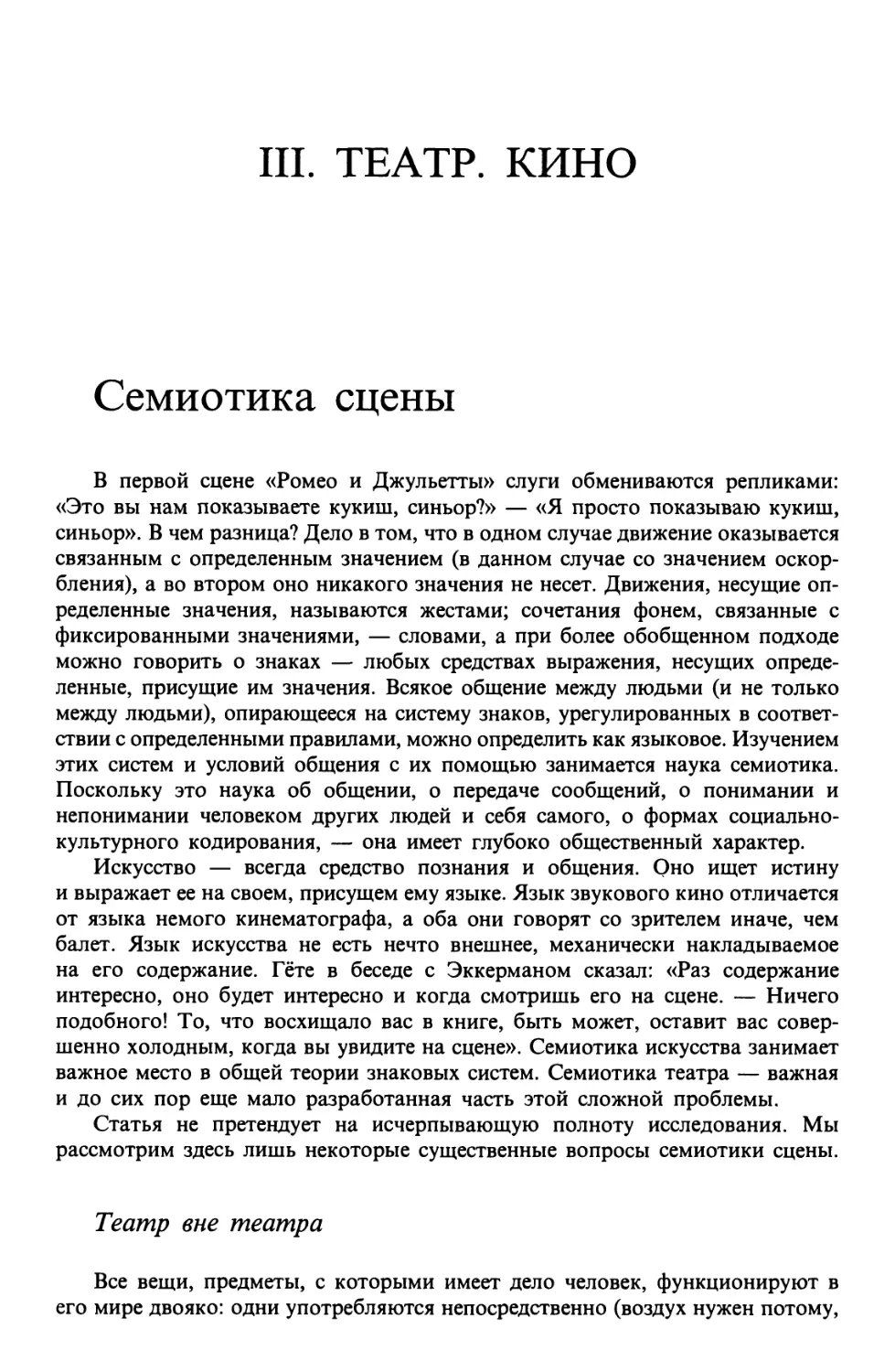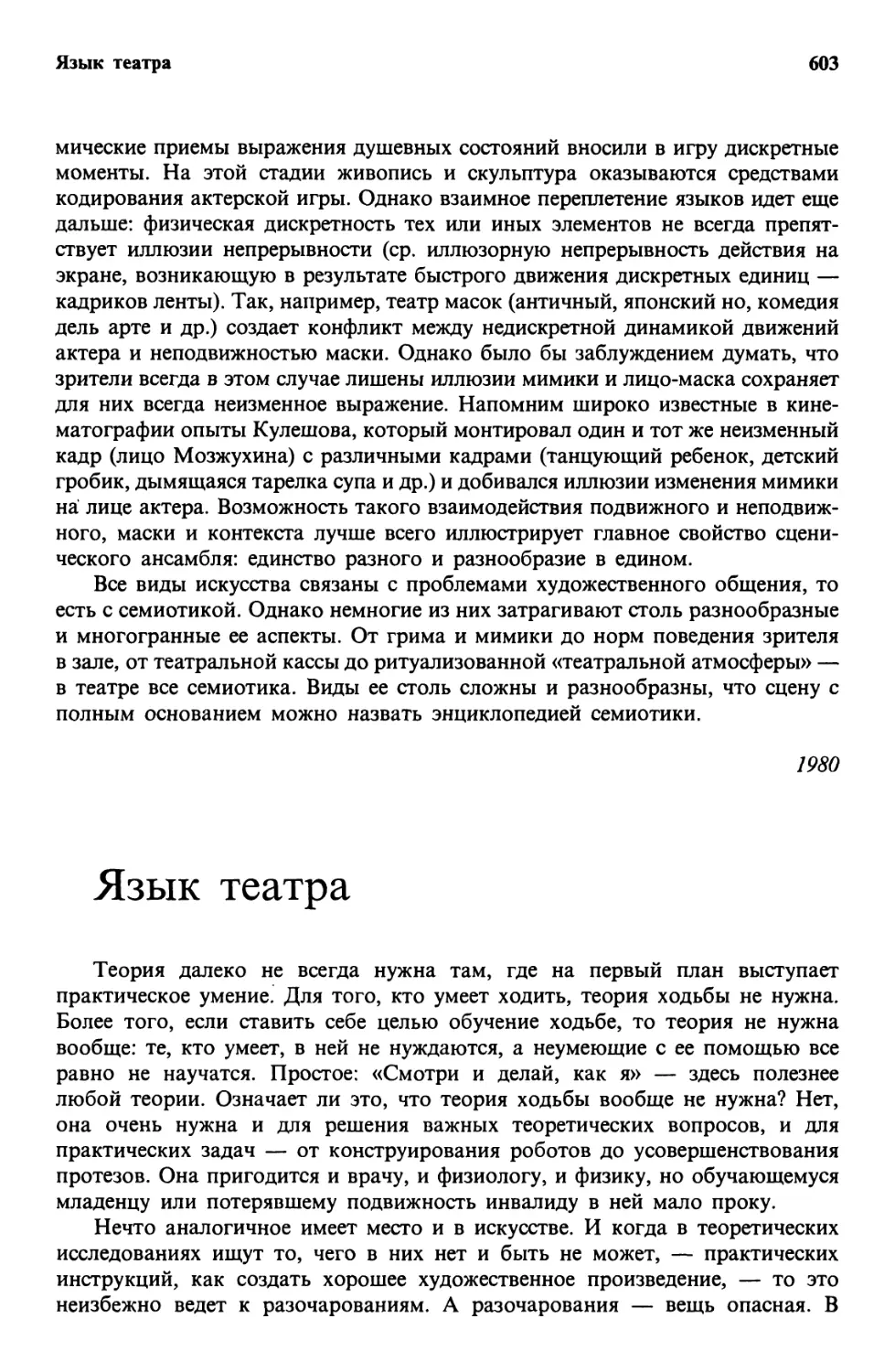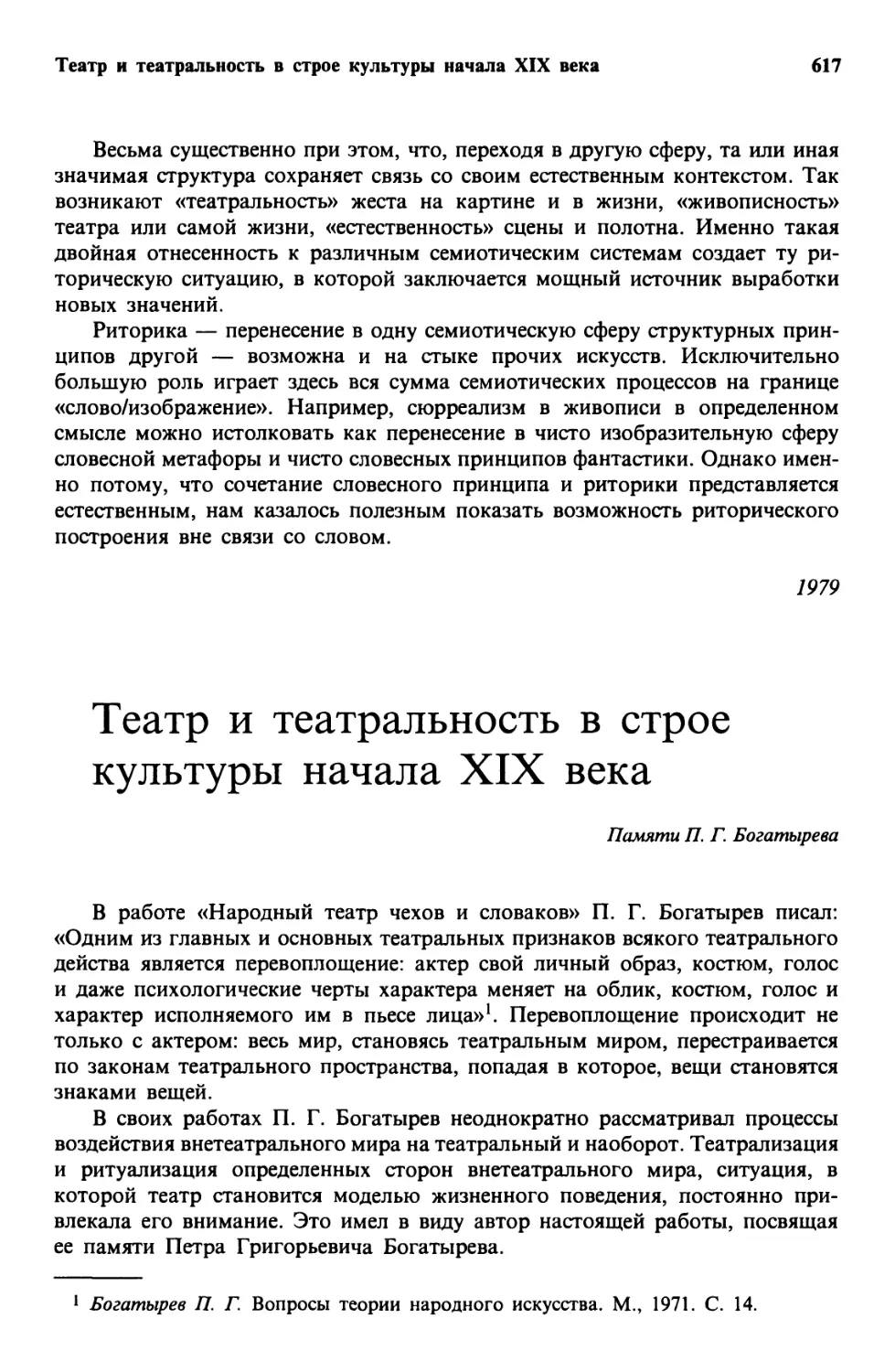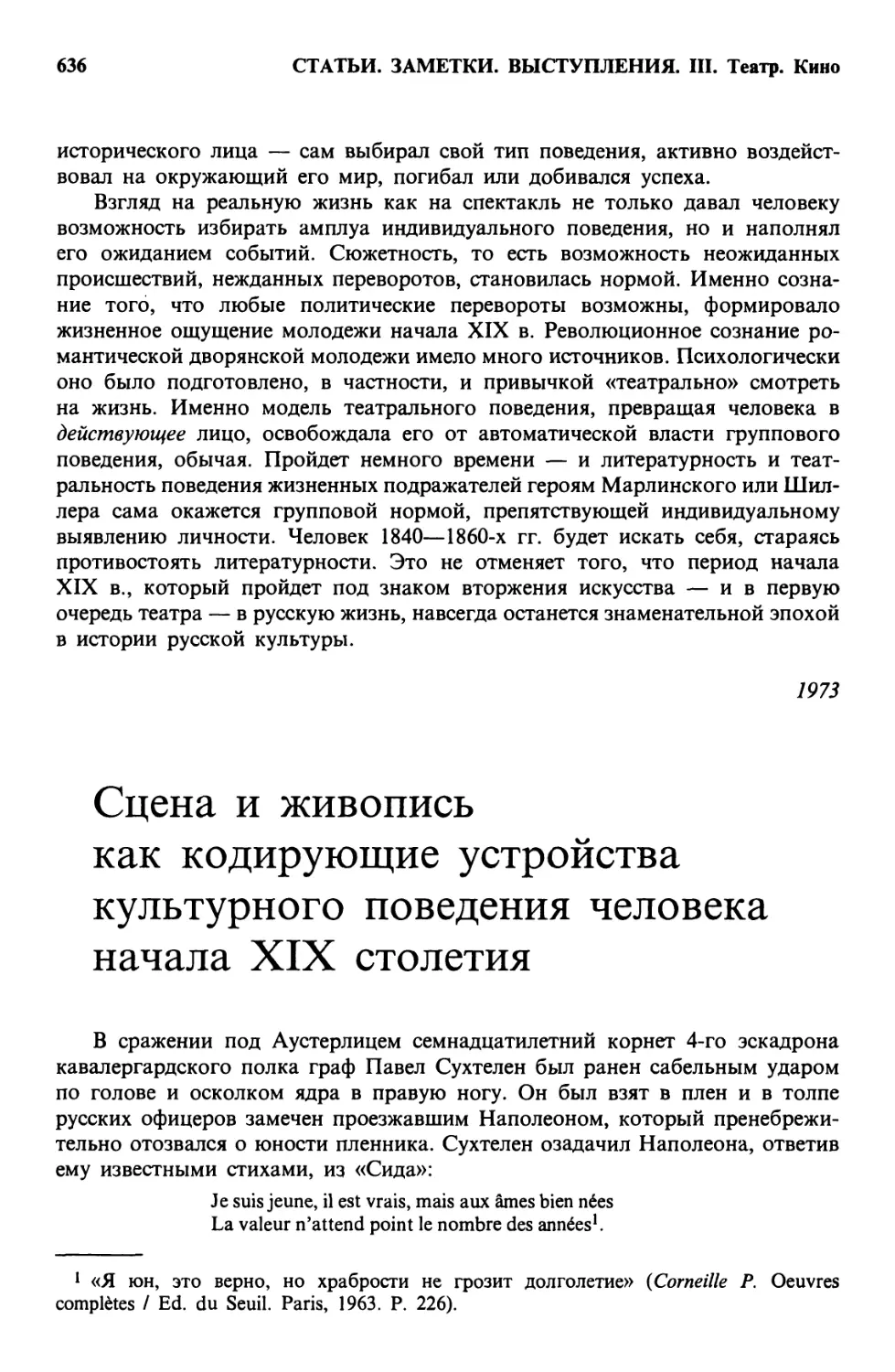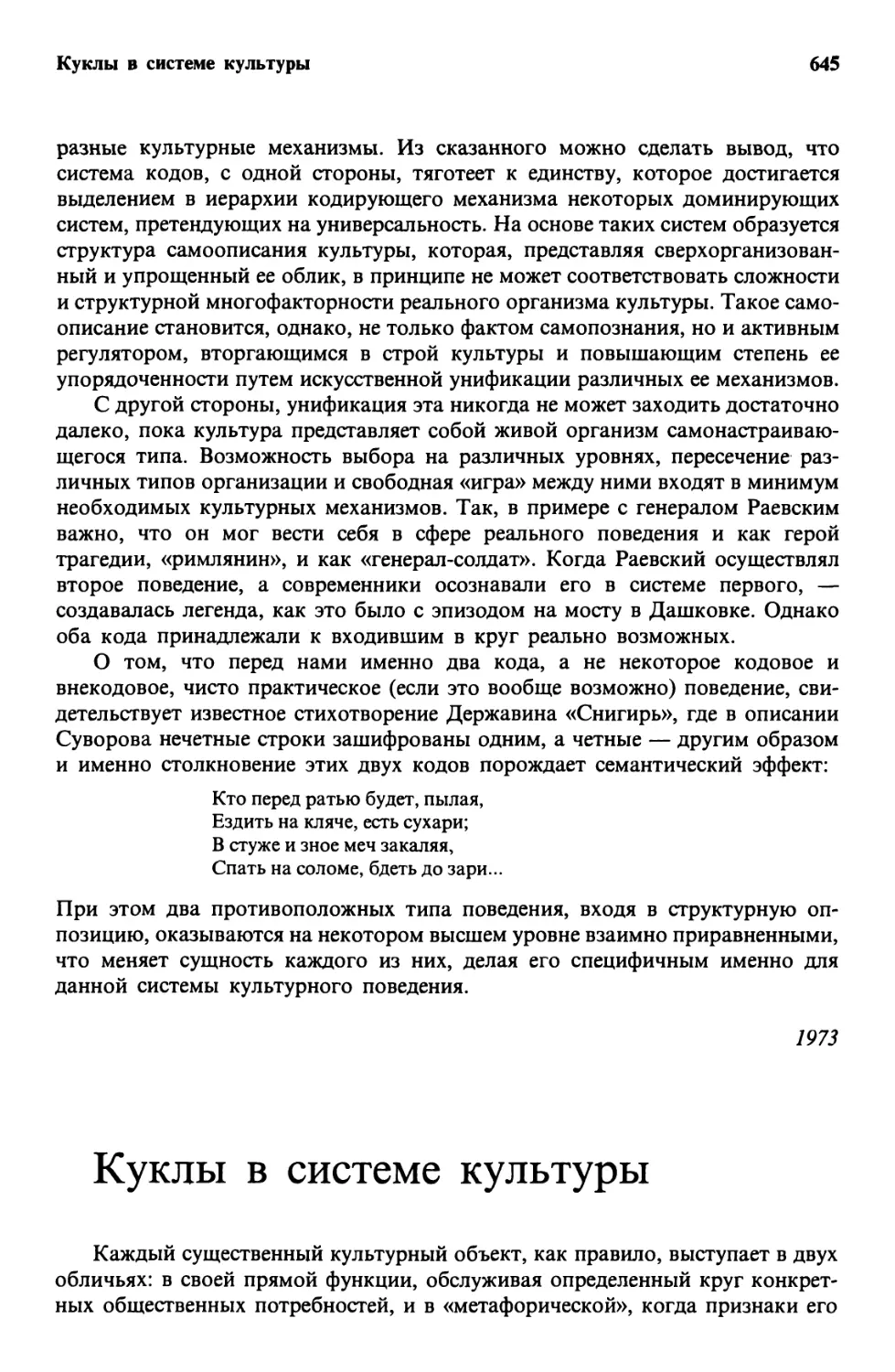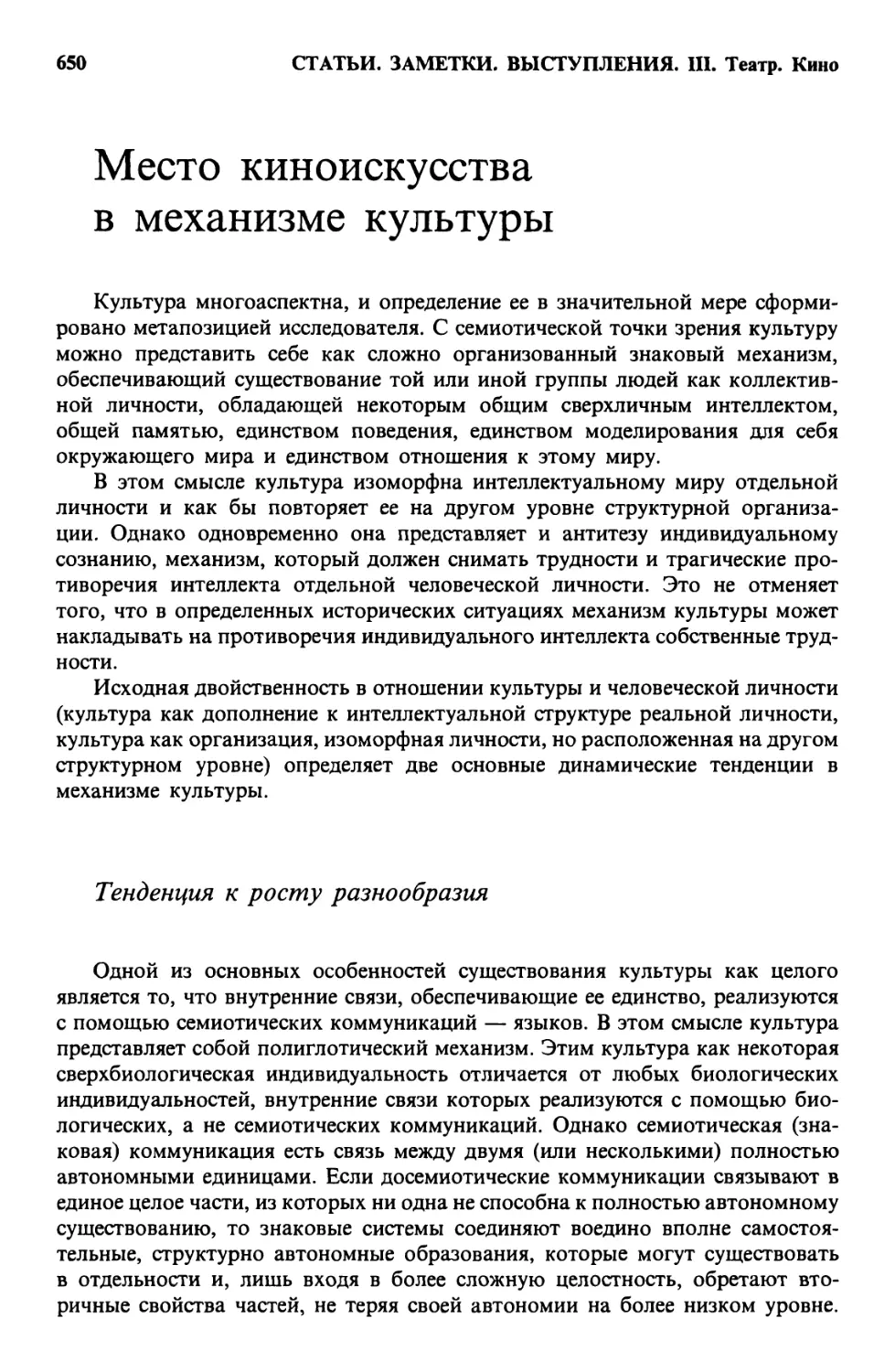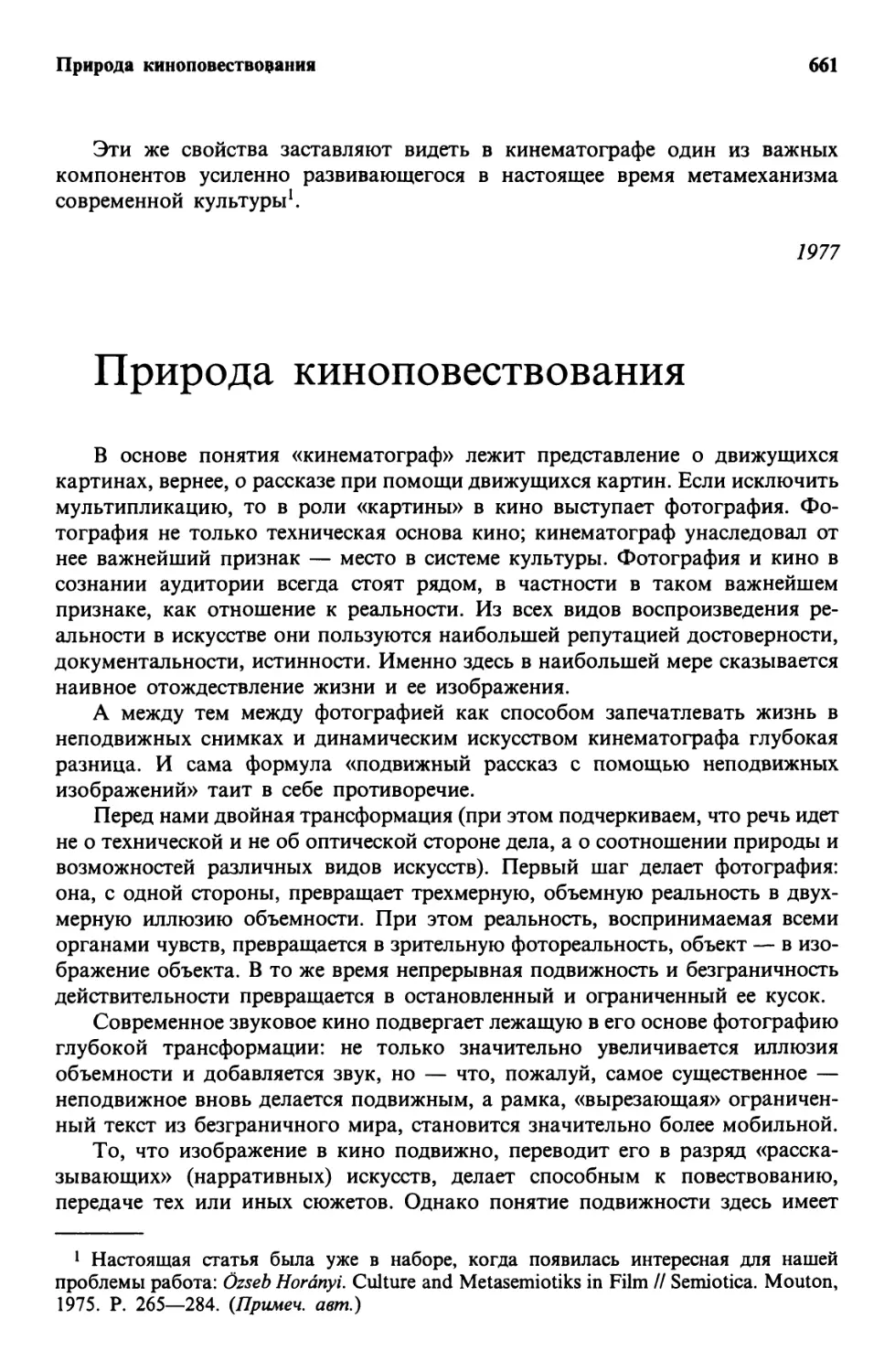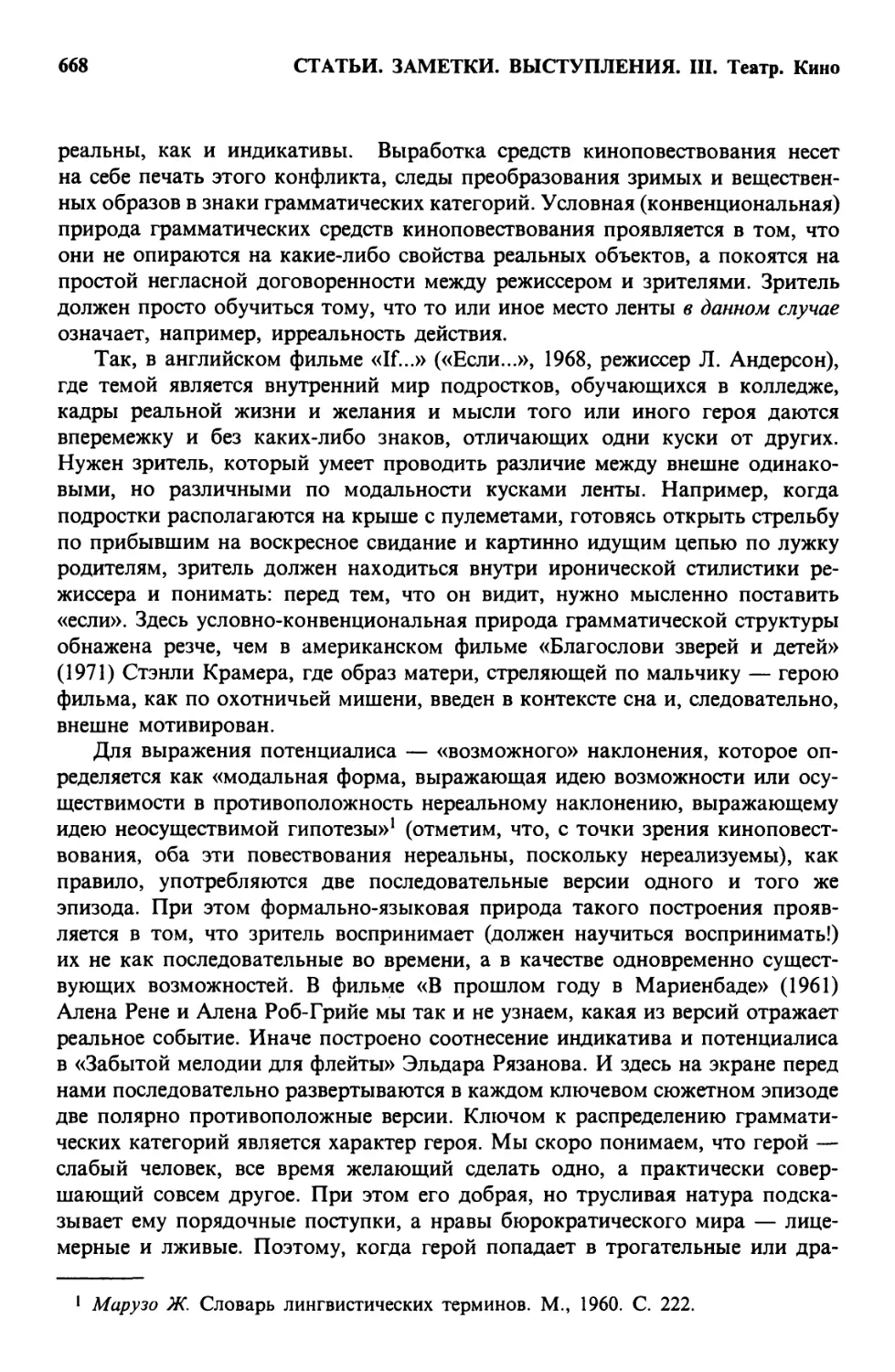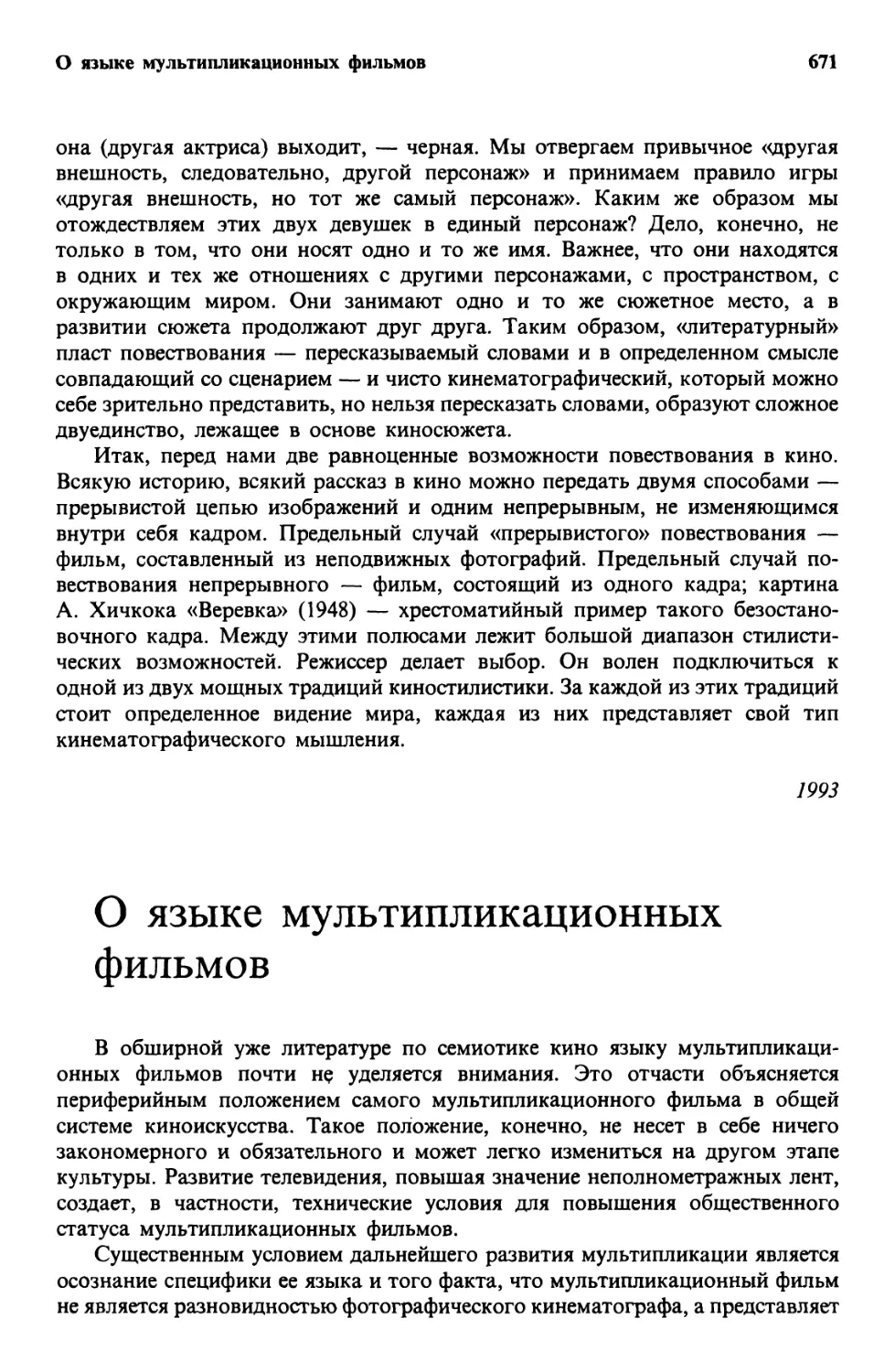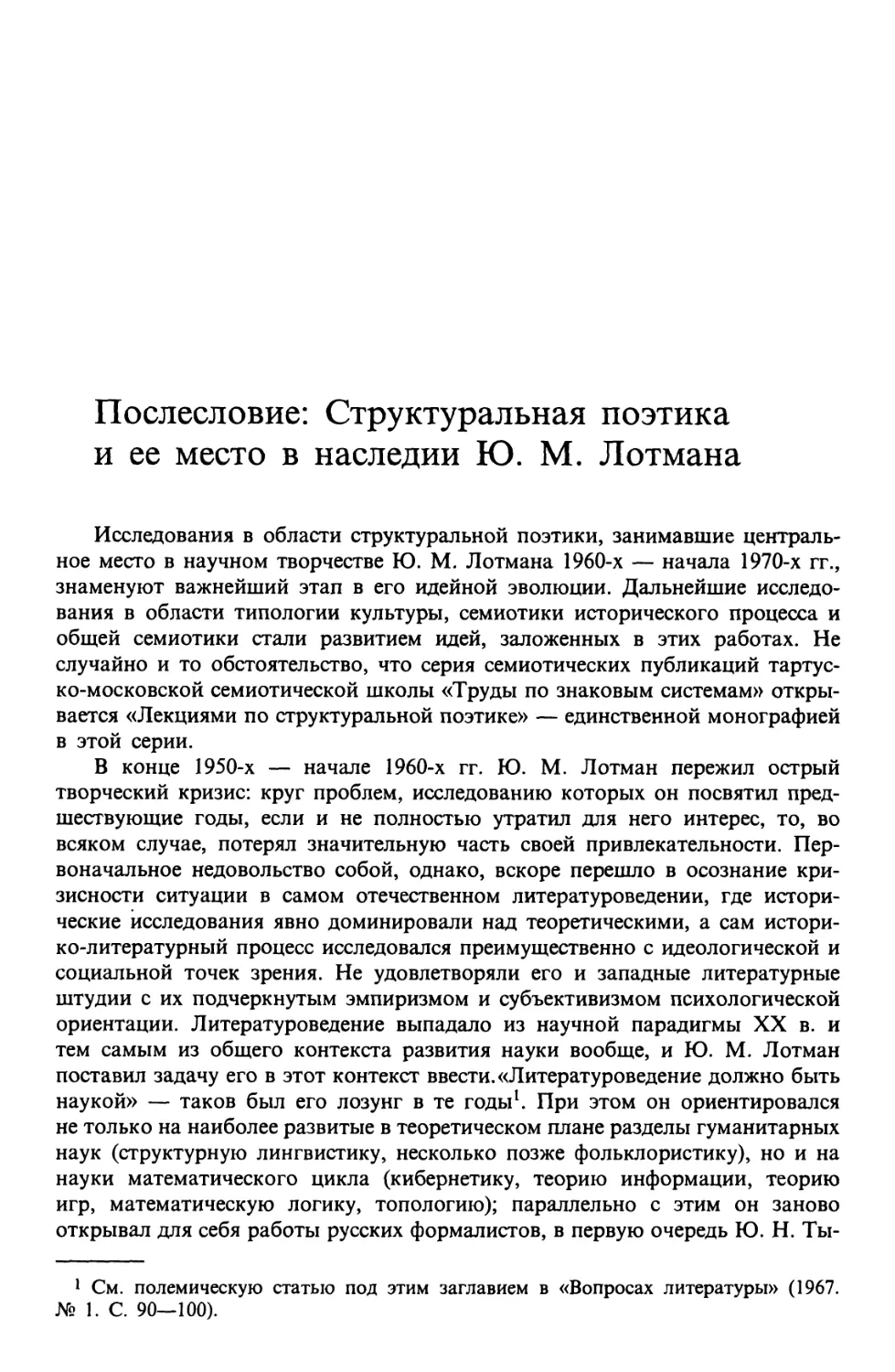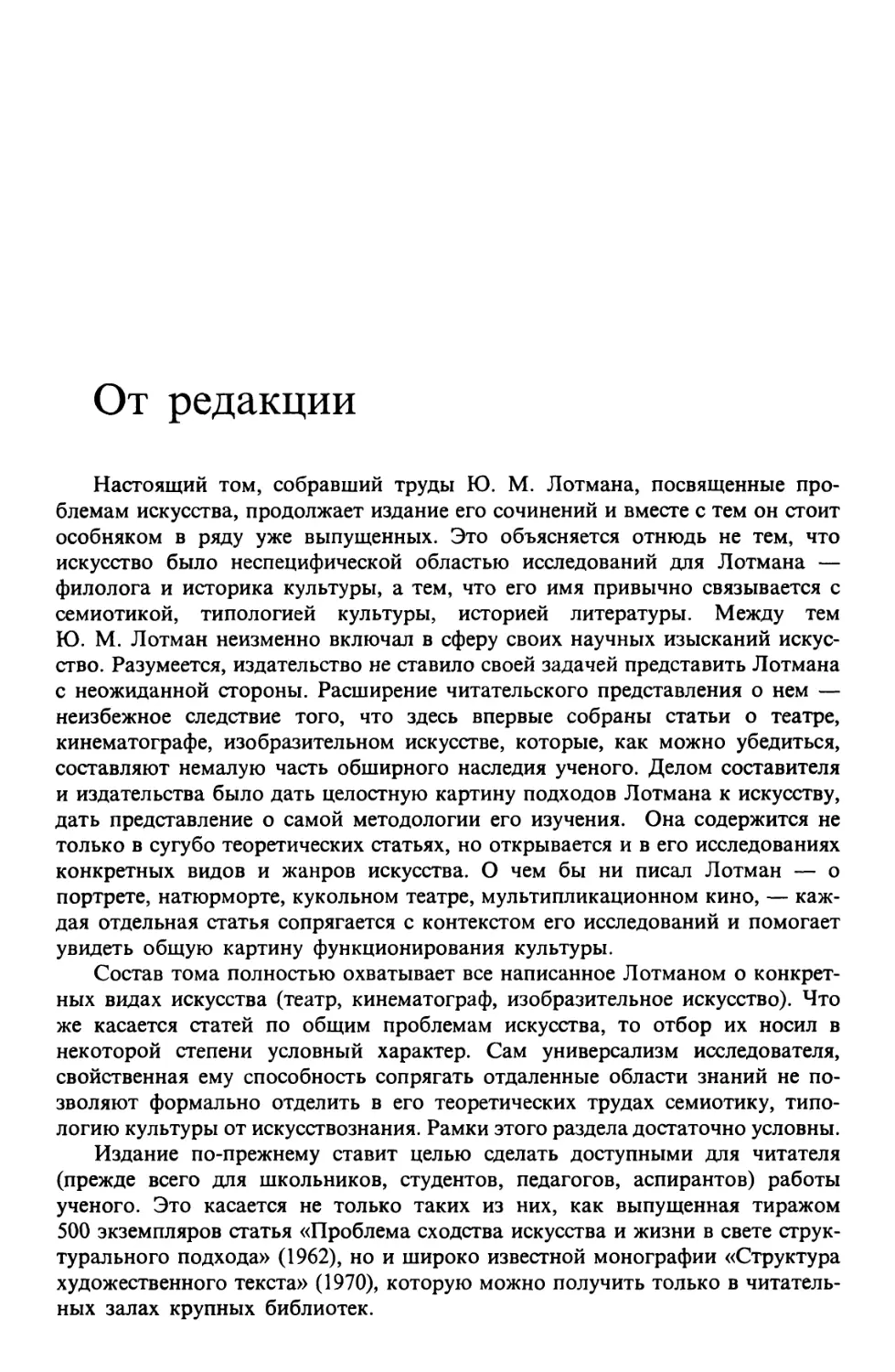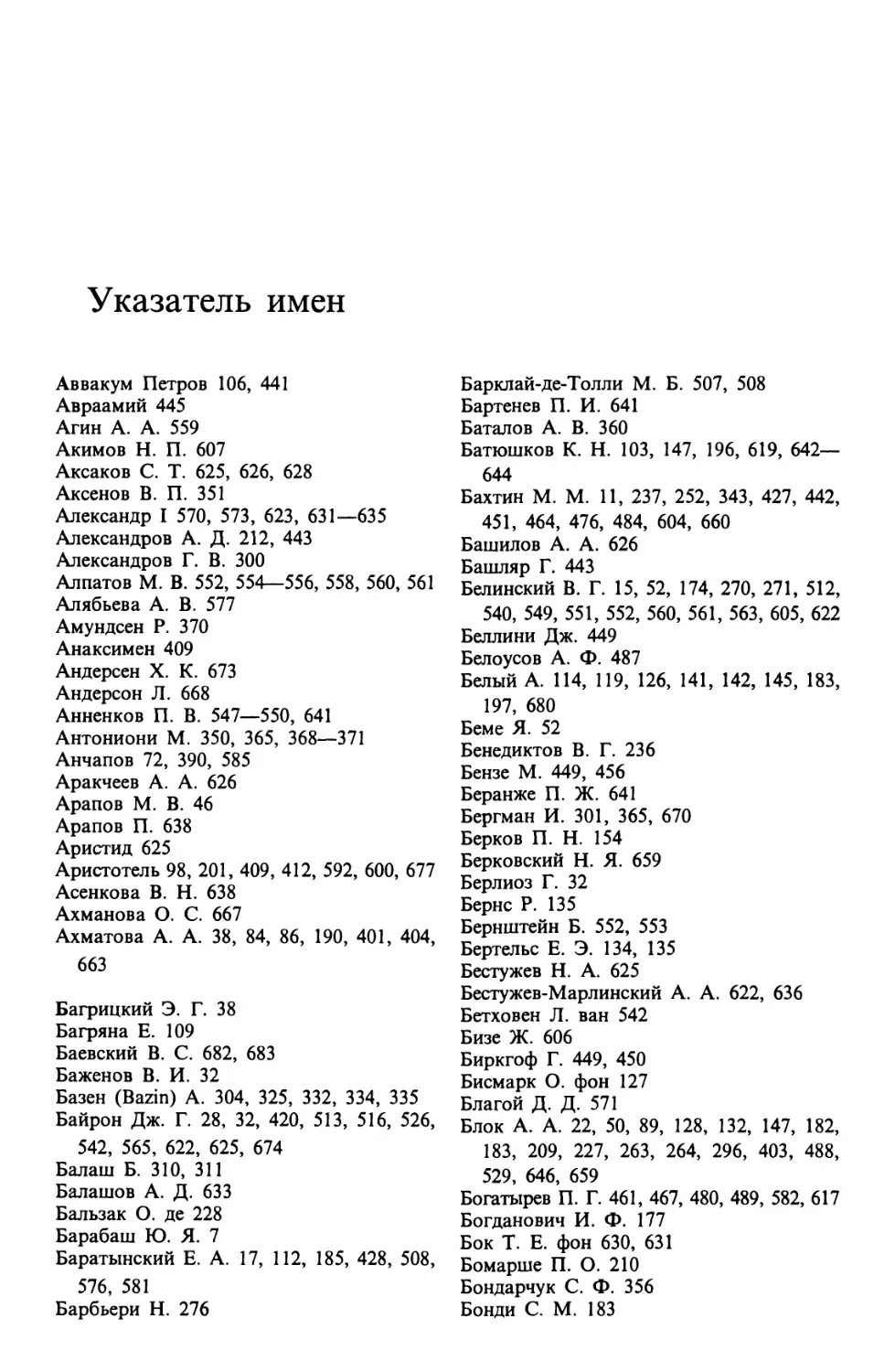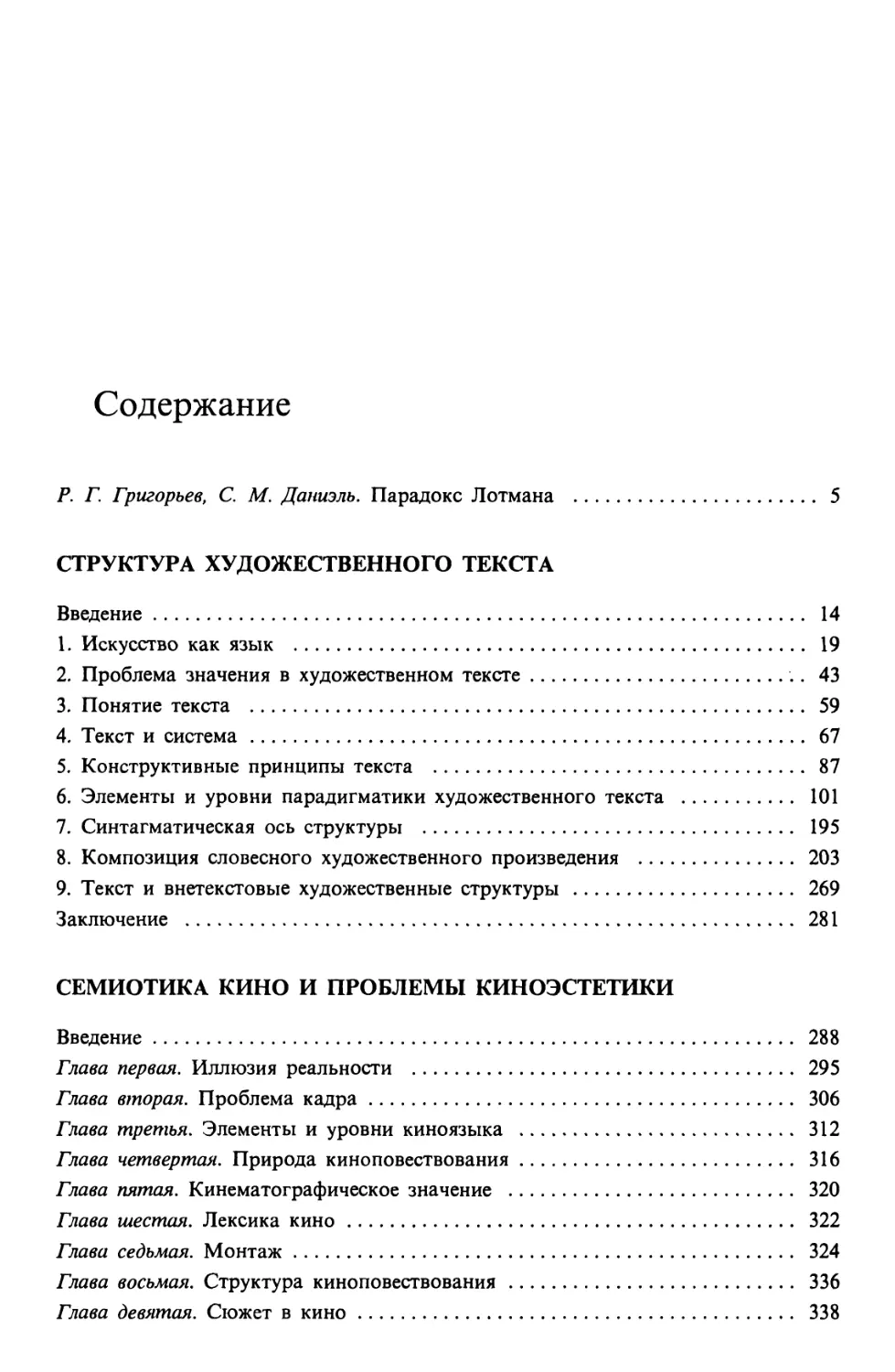Автор: Лотман Ю.М.
Теги: искусство искусствоведение кино театр история изобразительного искусства общеэстетические проблемы
ISBN: 5-210-01523-8
Год: 1998
Текст
I ю. м. лотман]
l Об
искусстве
Структура 1
художественного 1
текста 1
π5^=Ξ)
Семиотика кино 1
и проблемы 1
киноэстетики 1
rÇ^S)
Статьи. Заметки. 1
Выступления 1
(1962—1993)
Санкт-Петербург 1
«Искусство—СПБ» 1
ББК 85
Л80
Издание выпущено в свет при содействии
Государственного комитета Российской Федерации по печати.
Издательство благодарит руководство «Санкт-Петербургского Дома кит
за поддержку в выпуске этого издания.
Вступительная статья Р. Г. Григорьева, С. М. Даниэля
Послесловие М. Ю. Лотмана
Составители Р. Г. Григорьев, М. Ю. Лотман
Составитель альбома иллюстраций И. Г Ландер
Составитель указателя А. Ю. Балакип
Художник Д. М. Плаксип
Л
4901000000-008
025(01)-98
ISBN 5-210-01523-8
без объявл.
© М. Ю. Лотман, текст, послесловие, 1998 ι
О Р. Г. Григорьев, М. Ю. Лотман, состав,
1998 г.
© Р. Г. Григорьев, С. M Даниэль,
вступительная статья, 1998 г.
© И. Г. Ландер, составление альбома
иллюстраций, 1998 г.
© Д. М. Плаксин, оформление, 1998 г.
© Издательство «Искусство—СПБ», 1998 г.
Парадокс Лотмана
О, сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель.
А. С. Пушкин
Очень нелегко ответить на простой, казалось бы, вопрос: кем, собственно,
был Юрий Михайлович Лотман? Филологом, историком, искусствоведом,
культурологом, семиотиком, философом?.. Безусловно, это тот случай, когда
перечисление не только грозит оказаться неполным, но и вообще теряет
смысл. Он был мыслителем универсального размаха, что, впрочем, не мешало
ему быть специалистом в особо избранных областях. Его личность как бы
олицетворяет принцип дополнительности, а научная деятельность соизмерима
с работой целого института ученых разного профиля.
Парадоксально, но факт, что в эпоху узкой специализации науки в
творчестве одного человека мог осуществиться познавательный проект
поистине ренессансного масштаба.
Вспоминаются имена, символизирующие эту фантастическую способность
к анализу всевозможных явлений при неизменно ясном видении того, что их
объединяет: Леонардо да Винчи, Паскаль, Лейбниц, Валери, Флоренский,
Вернадский... Не случайно один из самых вдумчивых комментаторов Лотмана
прибегнул к известному эссе Валери «Введение в систему Леонардо да Винчи»,
взяв в качестве эпиграфа следующее: «Я намерен вообразить человека, чьи
проявления должны казаться столь многообразными, что, если бы удалось
мне приписать им единую мысль, никакая иная не смогла бы сравниться с
ней по широте. Я хочу также, чтобы существовало у него до крайности
обостренное чувство различения вещей, коего превратности вполне могли
бы именоваться анализом. Я обнаруживаю, что все служит ему ориентиром:
он всегда помнит о целостном универсуме — и о методической строгости»1.
1 Цит. по: Чернов И. Опыт введения в систему Ю. М. Лотмана // Таллин. 1982.
№ 3.
6
Парадокс Лотмана
Можно было бы припомнить из Паскаля: «...поскольку все скреплено
природными и неощутимыми узами, соединяющими самые далекие и непохожие
явления, мне представляется невозможным познание частей без познания
целого, равно как познание целого без досконального познания всех частей»1.
А вот Флоренский: «Что я делал всю жизнь? — Рассматривал мир как единое
целое, как единую картину и реальность, но в каждый момент или, точнее,
на каждом этапе своей жизни, под определенным углом зрения. Я
просматривал мировые соотношения на разрезе мира по определенному направлению,
в определенной плоскости и старался понять строение мира по этому, на
данном этапе меня занимающему признаку. Плоскости разреза менялись, но
одна не отменяла другой, а лишь обогащала. Отсюда — непрестанная диа-
лектичность мышления (смена плоскостей рассмотрения), при постоянстве
установки на мир, как целое»2.
Сколь бы различны ни были условия, в которых осуществляли себя
упомянутые мыслители разных эпох и культур, основание аналогии проступает
вполне отчетливо.
Представителю «нормальной науки» (в терминах Томаса Куна3) предмет
исследования видится как бы заведомо данным, сложившимся в результате
предшествующей научной практики. Так, скажем, литературоведу,
специализирующемуся на изучении творчества Пушкина, казалось бы, нет нужды
задаваться вопросом, что такое поэзия, — подобный вопрос представляется
избыточным и даже парадоксальным, как если бы под сомнение ставилась
принадлежность Пушкина поэтическому роду. Но для того, кто наделен
даром философского удивления, сама презумпция «поэтичности» становится
предметом рефлексии, и, размышляя над пушкинскими стихами, он
размышляет над природой поэзии, языка и текста. Исследуемый предмет воссоздается
заново, а тем самым перестраивается вся совокупность знаний о нем. Такие
ученые потрясают основы науки и выступают создателями новых парадигм.
Внешним образом эволюция Лотмана выглядит как постепенное
расширение познавательного горизонта — от специальных историко-литературо-
ведческих штудий к семиотике искусства и культуры. Но по существу каждое
конкретное исследование сопровождалось глубинным переосмыслением всей
системы категорий гуманитарного знания и трансформацией самого предмета,
который представлялся все более сложным по своему устройству и функциям.
Язык искусства и структура художественного текста — такова
проблематика, обозначающая центр исследовательских интересов Лотмана. Он писал
о поэзии, прозе, живописи, театре, архитектуре, лубке куклах, игровом и
мультипликационном кино и, как никто другой, может быть, способствовал
преодолению удручающе стойкого дуализма «формы» и «содержания» (ср.
тыняновскую ироническую аналогию «стакан + вино») в искусствознании,
внедряя диалектический принцип мышления в саму ткань исследования. «Идея
1 Цит. по: Ларошфуко Ф. де. Максимы. Паскаль Б. Мысли. Лабрюйер Ф. де.
Характеры. М., 1974. С. 125.
2 Флоренский П. А. Иконостас. М., 1995. С. 18.
3 См.: Кун Т. Структура научных революций. М., 1977.
Парадокс Лотмана
7
не содержится в каких-либо, даже удачно подобранных, цитатах, а выражается
во всей художественной структуре. Исследователь, не понимающий этого и
ищущий идею в отдельных цитатах, похож на человека, который, узнав, что
дом имеет свой план, начал бы ломать стены в поисках места, где этот план
замурован. План не замурован в стену, а реализован в пропорциях здания.
План — идея архитектора, структура здания — ее реализация. Идейное
содержание произведения — структура. Идея в искусстве — всегда модель,
ибо она воссоздает образ действительности. Следовательно, вне структуры
художественная идея немыслима». И далее: «Измененная структура донесет
до читателя или зрителя иную идею. Из этого следует, что в стихотворении
нет „формальных элементов" в том смысле, который обычно вкладывается
в это понятие. Художественный текст — сложно построенный смысл. Все
его элементы суть элементы смысловые»1.
Лотман — прирожденный диалектик, он осознавал себя таковым и развил
этот дар до степени высокого искусства. Официальная советская критика
немало постаралась, чтобы дискредитировать ученого именно в этом качестве,
но преуспела только в глазах начальства. Сейчас вряд ли кто вспомнит имена
критиков Лотмана. Если же заглянуть в критические опусы некогда
влиятельных методологов советской науки, то защита Моцарта от посягательств
новой генерации сальерианства — структуралистов и семиотиков (прежде
всего тартуской школы) — не может вызвать ничего, кроме смеха . Ведь одно
дело — декларировать заученные формулы диалектики (из которых, если
они заучены, сразу уходит жизнь), чтобы затем преспокойно вернуться к
привычному для пассивного мышления ползанию по вещам, и совсем другое —
постоянно удерживать в мыслительном поле единство многоразличного, вести
напряженный диалог с текстами как сложно построенными смыслами,
обладать той познавательной страстью, которая не знает окончательных ответов.
Бережно относясь к традиции, Лотман никогда не удовлетворялся
формулами предшественников. Приведем один лишь пример. Согласно
В. М. Жирмунскому, стихотворный ритм есть «результат взаимодействия
метрического задания с естественными свойствами речевого материала»3 —
дефиниция, ставшая классической. Несомненно, Лотман имел ее в виду в
своих «Лекциях по структуральной поэтике». Однако столь же очевидно, что
его собственное рассуждение гораздо глубже вскрывает диалектическую
природу ритма: «Ритмичность стиха — цикличное повторение разных элементов
в одинаковых позициях с тем, чтобы приравнять неравное и раскрыть сходство
в различном, или повторение одинакового с тем, чтобы раскрыть мнимый
характер этой одинаковости, установить отличие в сходном»4. Число
подобных примеров легко увеличить.
1 Наст. изд. С. 24.
2 См., например, статьи М. Б. Храпченко «Семиотика и художественное творчество»
и Ю. Я. Барабаша «Алгебра и гармония» в сборнике «Контекст-1972» (М., 1973).
3 Жирмунский В. Теория стиха. Л., 1975. С. 15.
4 Цит. по: Ю. М. Лотман и тартуско-московская семиотическая школа. М., 1994.
С. 92.
8
Парадокс Лотмана
Безусловная научная честность побуждала Лотмана оспоривать
утверждения даже ближайшего круга ученых. Так обстояло дело и с лингвоцент-
ризмом — крылом отечественной структурно-семиотической школы, и с
концепцией «вторичных моделирующих систем». Отдав должное полезному на
первых порах упрощению предмета исследования, Лотман отнюдь не утратил
видения его реальной сложности, но постоянно расширял и углублял поле
зрения. Эволюция его представлений о соотношении языка и текста
свидетельствует об этом вполне определенно1.
Лотман мыслил парадоксально и любил парадоксы не столько в силу
оригинальности своего интеллектуального дарования, сколько в силу
парадоксальности избираемого им предмета исследования, и прежде всего —
искусства. Именно искусство опровергает общераспространенные презумпции,
противоречит устоявшемуся во имя становления, неизменно уклоняясь от
окончательных ответов. Там, где другим ученым все представлялось «от века
ясным», Лотман видел проблему. Такова его предельно сжатая статья
«Каноническое искусство как информационный парадокс» — маленький научный
шедевр. Существование искусства, ориентированного на соблюдение правил,
настолько очевидный факт, что от сознания исследователей уклоняется
парадоксальность поведения такого рода художественных систем. «С одной
стороны, мы действительно имеем засвидетельствованную огромным числом
текстов систему, очень напоминающую естественный язык, систему с
устойчивым канонизированным типом кодировки, а с другой стороны, эта система
ведет себя странным образом — она не автоматизирует свой язык и не
обладает свободой содержания»2. Уже в принципиально новой формулировке
проблемы состоит высокая научная заслуга; читатель может оценить,
насколько дальновидной оказалась выбранная Лотманом стратегия ее изучения.
Одной из особенностей работ Юрия Михайловича является то, что он
писал об изобразительном искусстве с точки зрения более обшей, чем
искусствоведы. Это иногда позволяло ему замечать сущностные
характеристики изобразительных текстов, ускользавшие от внимания историков
искусства просто в силу использования иной «исследовательской оптики».
1 См. об этом, например: Лотман М. Ю. За текстом: заметки о философском фоне
тартуской семиотики (Статья первая) // Лотмановский сборник-1. М., 1995. В
частности: «Одно из любимых библейских изречений Ю. М. Лотмана гласит: „камень,
который отвергли строители, соделался главою угла" (Псал. 117, 22). Текст был
„отброшенным камнем" структурализма; Ю. М. Лотман делает его краеугольным
камнем тартуской школы» (с. 217). И далее: «Если формировавшиеся в 1960-е годы
исходные положения тартуской школы, касающиеся статики семиотических систем,
строятся на кантианском фундаменте, то развитие их в 1970-е годы, ставящее во главу
угла их динамику, обнаруживает уже иные философские основания. Концепция,
согласно которой текст оказывается нетождественным самому себе — включаясь
(например, в процессе коммуникации) во все новые внетекстовые связи, его структура
постоянно усложняется, а семантика обогащается, — заставляет вспомнить о
самовозрастающем логосе у Гераклита» (с. 219).
2 Цит. по: Проблема канона в древнем и средневековом искусстве Азии и Африки.
М., 1973. С. 17.
Парадокс Лотмана
9
Художественное произведение и его аудитория — стихи и читатель,
изображение и зритель, музыка и слушатель, — эта одна из наиболее
захватывающих проблем истории искусства и — шире — культуры вообще,
занимала воображение Лотмана постоянно. Он посвятил ей серию работ как
исторического, так и сугубо теоретического характера начиная с 1960 г.,
когда в одном из первых выпусков тартуских «Трудов по русской и славянской
филологии» была опубликована его заметка «„Бедная Лиза" Карамзина в
пересказе крестьянина», и до напечатанной в девятом сборнике тартуских
«Трудов по знаковым системам» (1977) замечательной обобщающей статьи
«Текст и структура аудитории».
Лотмана всегда интересовала «грамматика восприятия» — то есть
выяснение тех особых, присущих тексту чужой культуры правил, по которым он
должен читаться (восприниматься), — при четком осознании того, что правила
эти совершенно не обязательно совпадают с правилами чтения таких же, на
первый взгляд, текстов, функционирующих в современной (родной)
исследователю культуре (убеждение, явно перекликающееся с одним из знаменитых
«Тезисов» Пражского лингвистического кружка — научного сообщества,
сыгравшего исключительную роль в передаче живой исследовательской
традиции от русских формальной школы к отечественной семиотике).
Это можно описать и как уважительное отношение к другому — другому
слову, другому изображению, другому тексту. Юрию Михайловичу было
присуще глубокое понимание того, что, упустив из виду неактуальные сегодня
особенности организации и восприятия текста (будь то стихотворение, пьеса
или гравюра), историк культуры не сможет себе представить, как этот текст
воспринимался современниками, и, следовательно, не сможет выполнить свою
задачу. В этом, в сущности, и состоит пафос его статьи «О художественной
природе русских народных картинок» (1976)1 — восстановление контекста (в
данном случае «прагматического»), необходимого для корректной
реконструкции «грамматики восприятия» русского светского лубка XVIII в. (религиозная
народная картинка, имеющая свои специфические законы создания и
восприятия, Лотманом в этой статье не рассматривается).
Целостность взгляда на объект исследования, в сочетании с глубоко
присущей Лотману как исследователю способностью отстраниться от давно
и хорошо известного, казалось бы, произведения, бережно развернуть
знакомое и привычное неожиданной гранью, воплотилась здесь с вызывающим
восхищение совершенством. Нетрадиционность подхода к русской народной
картинке состояла в попытке воссоздать процесс восприятия лубка тем
зрителем, для которого он и предназначался, то есть выявить «правила чтения»
русской народной картинки, органичные для той среды, в которой и для
которой эти картинки создавались.
1 Основой статьи послужил доклад, прочитанный на «Випперовских чтениях»
1975 г., посвященных Д. А. Ровинскому, в Государственном музее изобразительных
искусств им. А. С. Пушкина (Москва). Далее цитаты из этой статьи даются со ссылкой
на страницы настоящего издания.
10
Парадокс Лотмана
Постановка во главу угла вопроса прагматики народной картинки
выявила то, на что обычно не обращалось внимания в работах, посвященных
народной гравюре, — «правила восприятия» лубка в корне отличаются от
способов прочтения произведений, условно говоря, академической печатной
графики. Лубок и «академическое» искусство (подобно фольклору и
письменной литературе) функционируют в хотя и постоянно общающихся, но
принципиально различных культурных сферах, различающихся типом
общения аудитории и художественных текстов. Между тем вопрос о
функционировании лубка оказывается достаточно сложен, и Лотман четко разделяет
две ситуации. Первая — когда лубок, передвинутый в изначально чуждый
ему «культурно-художественный контекст, функционирует в ряду обычной
графики (восприятие лубка „культурным" зрителем)», — добавим от себя,
что таким же образом лубок традиционно рассматривался в отечественном
искусствоведении. Обратная ситуация (практически не привлекающая
внимания исследователей и до сих пор) — когда «нелубочное изображение, попав
в среду, ориентированную на активное „вхождение в текст", функционирует
как разновидность „народной картинки"» (с. 483).
Вопрос функционирования лубочных листов оказывается исключительно
важен, поскольку лубок «живет не в мире разделенных и отдельно
функционирующих жанров, а в особой атмосфере комплексной, жанрово не
разделенной игровой художественности, которая органична для фольклора и в
принципе чужда письменным формам культуры» (с. 482). Констатация этого
последнего положения — общее место всех работ по русской народной
картинке и до и после опубликования рассматриваемой статьи Лотмана.
Однако, как правило, на этом исследователи и останавливались, не делая
следующего, кажущегося совершенно очевидным теперь, логического шага.
Из этой посылки вытекает парадоксальный и трудно воспринимаемый
традиционным искусствоведением тезис: художественный текст в сфере
изобразительного фольклора, к которому относится русский лубок, имеет
принципиально другое материальное воплощение, чем в сфере
изобразительного искусства, ориентирующегося на европейскую эстетику Нового времени,
привычно воспринимаемого нами сегодня как естественная норма. Народная
картинка, которую сегодня можно увидеть на выставке в музее или
воспроизведенной в специальных изданиях, «не самый тот текст, который эстетически
воспринимается, а материал для реконструкции такого текста в сознании
аудитории» (с. 490).
«Фольклорный мир искусства задает совершенно особую позицию
аудитории», где художественный текст не пассивно «потребляется», а, напротив,
«в атмосфере фольклорности аудитория играет с текстом и в текст» (с. 482).
Этот тезис обосновывается не просто общими представлениями о
воспроизведении русским светским лубком особого «праздничного шутовского пове-
1 Характерно, что идея подхода к анализу лубочной картинки через ее прагматику
является, в сущности, продолжением традиции XIX в., — одна из первых книг по
русскому лубку, написанная Иваном Снегиревым, так и называлась: «Лубочные
картинки русского народа в московском мире» (М., 1861).
Парадокс Лотмана
11
дения» (здесь отчетливым научным фоном выступает круг идей M. М.
Бахтина о народной смеховой культуре), что подтверждается «речениями» героев
лубочных гравюр: аудитория ориентирована на динамическое, разыгрываемое
восприятие лубочного текста. «На это указывают не только позы лубочных
шутов и дур», дураков типа Фомы и Еремы, но и сниженные детали: «в
известном листе „Шут Гонос" облако у задней части фигуры с надписью
„Дух из заду своего испущаю, тем ся от комаров защищаю"». Игровая,
«карнавальная природа этой детали подчеркивается еще и тем, что слово
„дух" в надписи дается под титлом как сакральное, но и сама надпись, хотя
и воспроизводит слова Гоноса, выходит не изо рта <...> а с противоположной
стороны» (с. 484).
Для доказательства тезиса о специфической активности потреблявшей
лубок аудитории Лотман приводит и менее очевидные доказательства,
внимательно анализируя изобразительную организацию лубочных листов,
например таких, в которые самим построением изображения изначально задана
активность зрителя, причем активность в самом прямом, физическом смысле.
Это лубок «Любовь крепка яко смерть», изображение в котором
ориентировано так, что верх и низ меняются местами, — следовательно, зритель, чтобы
воспринять все части изображения, должен последовательно поворачивать
гравюру в плоскости вокруг ее центра. Существуют и другие примеры —
назидательные лубочные гравюры с изображением, напечатанным на обеих
сторонах листа, также требующие переворачивания в процессе чтения и
рассматривания (ср. лист «Маловременная красота мира сего»). Глубокие
отличия такого рода изображений и того типа художественной коммуникации,
который задан их изобразительной организацией, от привычного нам образа
рассматривания неподвижной картины (гравюры), висящей в раме на стене, —
самоочевидны.
Обостренное внимание к морфологии листа как единства текста и
изображения позволило Лотману аргументировать и многократно (но не очень
доказательно) выдвигавшийся тезис о близости театрального действия и
процесса восприятия лубочной картинки. Этот тезис Лотман обосновывает
в двух направлениях, опираясь как на анализ изобразительной части листа
(воспроизведение в некоторых лубках пространства гравюры как пространства
театрального представления; ср. гравюру на меди «Ах, черной глаз, поцелуй
хоть раз»), так и рассматривая речи персонажей лубка, выясняя, что «стих
лубка относится к наиболее архаическим пластам русской театральной речи»
(с. 489).
Определение отношения лубочного листа и процесса его восприятия как
«темы и ее развертывания» (с. 484) позволяет, например, четко отделить
лубочную картинку от книжной иллюстрации уже не на основании
формальном (тем более что это два взаимопересекающихся множества), а на основании
описания самого коммуникативного акта — процесса восприятия народной
картинки.
Лотман неоднократно высказывал мысль о том, что устоявшийся взгляд
на произведения искусства как источники эстетического воздействия
нуждается в дополнительном, менее привычном воззрении: художественные тексты
12
Парадокс Лотмана
обладают уникальными свойствами для хранения и передачи информации,.—
ничего подобного в других информационных системах, созданных до сих
пор человеком, мы не находим. Будет ли только фантазией предположить,
что когда-нибудь возникнет «наука, изучающая законы художественных
конструкций для „прививки" некоторых их свойств системам по передаче и
хранению информации»? Но, более того, разве сам Лотман не заложил
фундамент для построения такой науки?
Этот познавательный оптимизм не может не вызвать восхищения,
особенно в эпоху лихорадочной смены интеллектуальных мод и жестоких
гносеологических разочарований. Опять на ум приходят ренессансные аналогии,
вспоминается исполненный великого человеческого достоинства завет
Леонардо: «Скорее смерть, чем усталость».
Обладая фантастической памятью (знал почти всего Пушкина наизусть!),
Лотман вел непрерывный мысленный диалог с художниками, учеными и
философами разных эпох, заражался их идеями, вступал в спор, развивал их
концепции. Нам еще предстоит оценить плодотворность его путешествий в
огромном пространстве семиосферы.
В последние годы он особенно напряженно размышлял о роли случайных
факторов в творческом процессе и в истории культуры. Вдохновляющим
стимулом послужили идеи Ильи Пригожина и его сотрудников2, хотя сам
Лотман по существу уже сформулировал аналогичный принцип в рамках
семиотического искусствознания и культурологии. Вот еще одно свидетельство
того, насколько глубоко он понимал единство мира.
Любопытно поразмышлять — в духе Лотмана — о том, что было бы,
если бы случай, «бог изобретатель», уготовил ему иное место в жизни. Его
одаренность, наверное, проявилась бы при любом стечении обстоятельств,
при любом повороте событий. Но безусловно ясно одно: без того, что он
сделал, мировая наука об искусстве была бы совсем другой.
Р. Г. Григорьев,
С. М. Даниэль
1 По аналогии с бионикой Лотман называет эту гипотетическую науку «артистикой»
(см.: Лотман Ю. Люди и знаки // Вышгород. 1998. № 3. С. 138).
2 «Мы подробно обсуждаем понятия, позволяющие описывать образование дисси-
пативных структур, например понятия теории бифуркаций. Следует подчеркнуть, что
вблизи точек бифуркации в системах наблюдаются значительные флуктуации. Такие
системы как бы „колеблются" перед выбором одного из нескольких путей эволюции,
и знаменитый закон больших чисел, если понимать его как обычно, перестает
действовать. Небольшая флуктуация может послужить началом эволюции в совершенно
новом направлении, которое резко изменит все поведение макроскопической системы.
Неизбежно напрашивается аналогия с социальными явлениями и даже с историей»
(Пригожим #., Стенгерс И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой.
М., 1986. С. 56).
Структура
художественного
текста
Введение
На протяжении исторически зафиксированного существования
человечества ему сопутствует искусство. Занятый производством, борющийся за
сохранение своей жизни, почти всегда лишенный самого необходимого, человек
неизменно находит время для художественной деятельности, ощущает ее
необходимость. На разных этапах истории периодически раздавались голоса
о ненужности и даже вреде искусства. Они шли и от ранней средневековой
церкви, боровшейся с языческим фольклором, с традициями античного
искусства, и от иконоборцев, выступавших против церкви, и из рядов многих
других общественных движений разных эпох. Иногда борьба с теми или
иными видами художественного творчества или с искусством в целом велась
широко и опиралась на мощные политические институты. Однако все победы
в этой борьбе оказывались химеричными: искусство неизменно воскресало,
переживая своих гонителей. Эта необычайная устойчивость, если вдуматься
в нее, способна вызвать удивление, поскольку существующие эстетические
концепции по-разному объясняют, в чем же состоит необходимость искусства.
Оно не является составной частью производства, и существование его не
обусловлено потребностью человека в непрерывном возобновлении средств
удовлетворения материальных нужд.
В ходе исторического развития каждое общество вырабатывает
определенные формы присущей ему социально-политической организации. И если
нам совершенно ясна их историческая неизбежность, если мы можем
объяснить, почему общество, обладающее нулевой формой внутренней организации,
не могло бы существовать, невозможность существования общества, не
имеющего искусства, значительно труднее объяснима. Объяснение здесь обычно
заменяется ссылкой на факт, указанием на то, что истории человечества не
известны (или известны лишь как редкие аномалии, данные своего рода
социальной тератологии, лишь подтверждающие своей исключительностью
общую норму) общества, не имеющие своего искусства. При этом следует
иметь в виду и то, что отличает в этом отношении искусства от иных видов
идеологических структур. Организуя общество, те или иные структуры
неизбежно охватывают всех его членов: каждый человек в отдельности, самим
фактом принадлежности историческому коллективу, поставлен перед жесткой
Введение
15
необходимостью быть частью той или иной группировки, входя в одно из
наличных подмножеств данного социального множества. Например, человек
предреволюционной Франции XVIII в., для того чтобы быть политической
личностью, мог принадлежать к одному из трех сословий, но не мог не
принадлежать ни к какому. Но общество, накладывая порой очень жесткие
ограничения на искусство, никогда не предъявляет своим членам
ультимативного требования заниматься художественной деятельностью. Ритуал
обязателен — хоровод доброволен. Исповедовать ту или иную религию, быть
атеистом, входить в какую-либо политическую организацию, принадлежать
определенной юридической группе — каждое общество представляет своим
членам обязательный список подобных признаков.
Производить или потреблять художественные ценности — всегда признак
факультативный. «Этот человек ни во что не верит» и «этот человек не
любит кино (поэзию, балет)» — ясно, что мы имеем дело с нарушением
общественных норм совершенно разной степени обязательности. Если в
нацистской Германии равнодушие к официальному искусству воспринималось
как признак нелояльности, то очевидно, что речь шла совсем не о нормах
отношения человека к искусству.
И тем не менее, не являясь обязательным ни с точки зрения
непосредственных жизненных нужд, ни с точки зрения облигаторных общественных
связей, искусство всей своей историей доказывает свою насущную
необходимость.
Давно уже было указано на то, что необходимость искусства родственна
необходимости знания, а само искусство — одна из форм познания жизни,
борьбы человечества за необходимую ему истину. Однако, будучи
прямолинейно истолковано, это положение порождает ряд трудностей. Если понимать
под искомым познанием логические положения, однотипные результаты
научных изысканий, то нельзя не согласиться с тем, что человечество обладает
и более прямыми путями для их получения, нежели искусство. И если
придерживаться такой точки зрения, то придется согласиться, что искусство
дает некое знание низшего типа. Об этом, как известно, со всей
определенностью писал Гегель: «Вследствие своей формы искусство ограничено также
и определенным содержанием. Лишь определенный круг и определенная
ступень истины могут найти свое воплощение в форме художественного
произведения». Из этого положения с неизбежностью вытекал вывод о том,
что дух современной культуры «поднялся, по-видимому, выше той ступени,
на которой искусство представляет собой высшую форму осознания
абсолютного. Своеобразный характер художественного творчества и создаваемых
им произведений уже больше не дают полного удовлетворения нашей высшей
потребности»1.
Несмотря на то, что это положение Гегеля неоднократно подвергалось
критике, например Белинским, оно настолько органично для
охарактеризованного выше понимания задач искусства, что снова и снова возникает в
1 Гегель Г. В. Ф. Соч.: В 14 т. М.; Л., 1938. Т. 12. С. 10.
16
СТРУКТУРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
истории культуры. Проявления его многообразны — от периодически
оживающих толков о ненужности или устарелости искусства до убеждения в том,
что критик, ученый или любой другой человек, являющийся носителем
логико-теоретической мысли или претендующий на это, уже тем самым имеет
право учить и наставлять писателя.
Это же убеждение проявляется в слабых сторонах школьной методики
изучения литературы, настойчиво убеждающей учеников в том, что несколько
строк логических выводов (предположим, вдумчивых и серьезных) составляют
всю суть художественного произведения, а остальное относится к
второстепенным «художественным особенностям».
Итак, существующие концепции культуры объясняют нам необходимость
существования производства и форм его организации, необходимость науки.
Искусство же может показаться факультативным элементом культуры. Мы
можем определить, какое влияние оказывает на него нехудожественная
структура действительности. Однако если вопрос: «Почему невозможно общество
без искусства?» — остается открытым, а реальность исторических фактов
заставляет его снова и снова ставить, то с неизбежностью напрашивается
вывод о недостаточности наших концепций культуры человечества.
Мы знаем, что история человечества не могла сложиться без производства,
социальных конфликтов, борьбы политических мнений, мифологии, религии,
атеизма, успехов науки. Могла ли она сложиться без искусства? Отведена ли
искусству второстепенная роль вспомогательного орудия, к которому
прибегают (но могут и не прибегнуть) более субстанциональные потребности
человеческого духа? У Пушкина есть заметка: «В одной из шекспировых
комедий крестьянка Одрей спрашивает: „Что такое поэзия? вещь ли это
настоящая!"»1. Как ответить на этот вопрос? Действительно ли поэзия —
«вещь настоящая», или, по выражению Державина, она
...любезна,
Приятна, сладостна, полезна,
Как летом вкусный лимонад.
К сожалению, чисто эмоциональный ответ, основанный на любви к
искусству, привычке к каждодневным эстетическим впечатлениям, не будет
обладать окончательной убедительностью. Слишком часто науке приходится
отвергать убеждения, привычность и житейская очевидность которых
составляют самую сущность нашего бытового опыта. Как легко было бы ученому,
весь опыт которого замыкался бы в кругу европейской культуры, доказать,
что музыка дальневосточного типа не может существовать или не может
считаться музыкой. Возможно, конечно, и обратное рассуждение.
Привычность или «естественность» той или иной идеи не есть доказательство ее
истинности.
Вопрос о необходимости искусства не составляет предмета настоящей
книги и не может быть рассмотрен здесь всесторонне. Уместно будет
остановиться на нем лишь в такой мере, в какой он связан с внутренней
1 Пушкин А. С. Поли. собр. соч.: В 16 т. М; Л., 1949. Т. 12. С. 178.
Введение
17
организацией художественного текста и с его общественным
функционированием.
Жизнь всякого существа представляет собой сложное взаимодействие с
окружающей его средой. Организм, не способный реагировать на внешние
воздействия и к ним приспособляться, неизбежно погиб бы. Взаимодействие
с внешней средой можно представить себе как получение и дешифровку
определенной информации. Человек оказывается с неизбежностью втянутым
в напряженный процесс: он окружен потоками информации, жизнь посылает
ему свои сигналы. Но сигналы эти останутся неуслышанными, информация —
непонятой и важные шансы в борьбе за выживание упущенными, если
человечество не будет поспевать за все возрастающей потребностью эти потоки
сигналов дешифровать и превращать в знаки, обладающие способностью
коммуникации в человеческом обществе. При этом оказывается необходимым
не только увеличивать количество разнообразных сообщений на уже
имеющихся языках (естественных, на языках различных наук), но и постоянно
увеличивать количество языков, на которые можно переводить потоки
окружающей информации, делая их достоянием людей. Человечество нуждается
в особом механизме — генераторе все новых и новых «языков», которые
могли бы обслуживать его потребность в знании. При этом оказывается, что
дело не только в том, что создание иерархии языков является более
компактным способом хранения информации, чем увеличение до бесконечности
сообщений на одном.
Определенные виды информации могут храниться и передаваться только
с помощью специально организованных языков, — так, химическая или
алгебраическая информация требуют своих языков, которые были бы
специально приспособлены для данного типа моделирования и коммуникации.
Искусство является великолепно организованным генератором языков
особого типа, которые оказывают человечеству незаменимую услугу,
обслуживая одну из самых сложных и не до конца еще ясных по своему механизму
сторон человеческого знания.
Представление о том, что мир, окружающий человека, говорит многими
языками и что свойство мудрости — в том, чтобы научиться их понимать,
не ново. Так, Баратынский устойчиво связывал понимание природы с
овладением ее особым языком, употребляя для характеристики познания глаголы
языкового общения («говорил», «читал»):
С природой одною он жизнью дышал:
Ручья разумел лепетанье,
И говор древесных листов понимал,
И чувствовал трав прозябанье;
Была ему звездная книга ясна,
И с ним говорила морская волна.
Непонимание — забвение или незнание языка:
...Храм упал,
А руин его потомок
Языка не разгадал.
18
СТРУКТУРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
Еще более интересен случай с пушкинскими «Стихами, сочиненными
ночью во время бессонницы». В них Пушкин говорит об обступившей его
темной и суетливой жизни, требующей, чтобы ее разгадали:
Я понять тебя хочу,
Смысла я в тебе ищу...
Стихотворение это при жизни поэта опубликовано не было. Жуковский
опубликовал его в посмертном Собрании сочинений Пушкина в 1841 г.,
заменив последний стих на:
Темный твой язык учу...
Нам не известны его соображения, и в современных изданиях этот стих, как
отсутствующий в автографах Пушкина, устраняется. Однако трудно
допустить, чтобы Жуковский, при явном отсутствии здесь каких-либо внешних
причин цензурного характера, стал заменять пушкинские стихи своими,
«очевидно, для улучшения рифмы» (мнения комментаторов академического
издания). Вполне возможно, что у Жуковского — постоянного собеседника
Пушкина в 1930-е гг. — были достаточно веские, хотя и неизвестные нам
основания изменить этот стих, не считаясь с хорошо известным ему
автографом. Но для нас важно другое: кто бы ни сделал это изменение — Пушкин
или Жуковский, — но для него стихи:
Смысла я в тебе ищу...
и
Темный твой язык учу —
были семантически эквивалентны: понять жизнь — это выучить ее темный
язык. И во всех этих — и многих других — случаях речь идет не о поэтических
метафорах, а о глубоком понимании процесса овладения истиной и — шире —
жизнью.
Для классицизма поэзия — язык богов, для романтизма — язык сердца.
Эпоха реализма меняет содержание этой метафоры, но сохраняет ее характер:
искусство — язык жизни, с его помощью действительность рассказывает о
себе.
Мысль о безъязыком мире, обретающем в поэзии свой голос, в разных
формах встречается у многих поэтов. Без поэзии
улица корчится безъязыкая —
ей нечем кричать и разговаривать.
(В. В. Маяковский)
Устойчивость сопоставления искусства и языка, голоса, речи свидетельствует
о том, что связь его с процессом общественных коммуникаций — подспудно
или осознанно — входит в самую основу понятия художественной
деятельности.
Но если искусство — особое средство коммуникации, особым образом
организованный язык (вкладывая в понятие «язык» то широкое содержание,
которое принято в семиотике, — «любая упорядоченная система, служащая
средством коммуникации и пользующаяся знаками»), то произведения искус-
1. Искусство как язык
19
ства — то есть сообщения на этом языке — можно рассматривать в качестве
текстов.
С этой позиции можно сформулировать и задачу настоящей книги.
Создавая и воспринимая произведения искусства, человек передает,
получает и хранит особую художественную информацию, которая неотделима
от структурных особенностей художественных текстов в такой же мере, в
какой мысль неотделима от материальной структуры мозга. Дать общий
очерк структуры художественного языка и его отношений к структуре
художественного текста, их сходства и отличий от аналогичных лингвистических
категорий, то есть объяснить, как художественный текст становится носителем
определенной мысли — идеи, как структура текста относится к структуре
этой идеи, — такова общая цель, в направлении к которой автор надеется
сделать хотя бы некоторые шаги.
1. Искусство как язык
Искусство — одно из средств коммуникации. Оно, бесспорно,
осуществляет связь между передающим и принимающим (то, что в известных случаях
оба они могут совместиться в одном лице, не меняет дела, подобно тому
как человек, разговаривающий сам с собой, соединяет в себе говорящего и
слушающего)1. Дает ли это нам право определить искусство как особым
образом организованный язык?
Всякая система, служащая целям коммуникации между двумя или многими
индивидами, может быть определена как язык (как мы уже отмечали, случай
автокоммункации подразумевает, что один индивид выступает в качестве
двух). Часто встречающееся указание на то, что язык подразумевает
коммуникацию в человеческом обществе, строго говоря, не является обязательным,
поскольку, с одной стороны, языковое общение между человеком и машиной
и машин между собой в настоящее время является уже не теоретической
проблемой, а технической реальностью2. С другой стороны, наличие опре-
1 Классификацию разных типов текста в зависимости от соотношения передающего
и принимающего см. в статье А. М. Пятигорского «Некоторые общие замечания
относительно рассмотрения текста как разновидности сигнала» (в сб.: Структурно-
типологические исследования. М., 1962).
2 У. Бухгольц в статье «Выбор языка команд» показывает, что «система команд -г-
промежуточная стадия между языком программиста и языком элементарных
управляющих тактов внутри машины» (Кибернетический сборник. [Вып.] 2. М., 1961.
С. 235).
20
СТРУКТУРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
деленных языковых общений в мире животных также не подвергается уже
сомнению. Напротив того, системы коммуникаций внутри индивида
(например, механизмы биохимической регулировки или сигналов, передаваемых по
сети нервов организма) языками не являются1.
В этом смысле мы можем говорить как о языках не только о русском,
французском или хинди и других, не только об искусственно создаваемых
разными науками системах, употребляемых для описания определенных групп
явлений (их называют «искусственными» языками, или метаязыками данных
наук), но и об обычаях, ритуалах, торговле, религиозных представлениях. В
этом же смысле можно говорить о «языке» театра, кино, живописи, музыки
и об искусстве в целом как об особым образом организованном языке.
Однако, определив искусство как язык, мы тем самым высказываем некие
определенные суждения относительно его устройства. Всякий язык пользуется
знаками, которые составляют его «словарь» (иногда говорят «алфавит», для
общей теории знаковых систем эти понятия равнозначны), всякий язык
обладает определенными правилами сочетания этих знаков, всякий язык
представляет собой определенную структуру, и структуре этой свойственна
иерархичность.
Такая постановка вопроса позволяет подойти к искусству с двух различных
точек зрения.
Во-первых, выделить в искусстве то, что роднит его со всяким языком, и
попытаться описать эти его стороны в общих терминах теории знаковых систем.
Во-вторых, — на фоне первого описания — выделить в искусстве то, что
присуще ему как особому языку и отличает его от других систем этого типа.
Поскольку мы в дальнейшем будем пользоваться понятием «язык» в том
специфическом значении, которое ему придается в работах по семиотике и
существенно расходится с привычным словоупотреблением, определим
содержание этого термина. Под языком мы будем понимать всякую
коммуникационную систему, пользующуюся знаками, упорядоченными особым образом.
Рассмотренные таким образом языки будут отличаться:
во-первых, от систем, не служащих средствами коммуникации;
во-вторых, от систем, служащих средствами коммуникации, но не
пользующихся знаками;
в-третьих, от систем, служащих средствами коммуникации и пользующихся
совсем или почти не упорядоченными знаками.
Первое противопоставление позволяет отделить языки от тех форм
человеческой деятельности, которые не связаны непосредственно и по своей
целевой установке с накоплением и передачей информации. Второе позволяет
ввести следующее разделение: знаковое общение происходит в основном
1 С этим, видимо, можно связать и то, что у низших животных с более резко
выраженной коллективной индивидуальностью вида значительное место занимает
внеязыковая сигнальная связь типа импульсов внутри организма, связывающая
отдельные особи. По мере совмещения индивидуальности с каждым отдельным
организмом возрастает роль знаков, хотя, видимо, остаются не до конца заглушёнными
первичные коммуникации, например в виде парапсихологии у людей.
1. Искусство как язык
21
между индивидами, внезнаковое — между системами внутри организма.
Однако вернее, видимо, было бы истолковать это противопоставление как
антитезу коммуникаций на уровне первой и второй сигнальных систем,
поскольку, с одной стороны, возможны внезнаковые связи между организмами
(особенно значительные у низших животных, но сохраняющиеся и у человека
в виде явлений, изучаемых телепатией), с другой — возможно и знаковое
общение внутри организма. Имеется в виду не только самоорганизация
человеком своего интеллекта при помощи тех или иных знаковых систем,
но и те случаи, когда знаки вторгаются в сферу первичной сигнализации
(человек «заговаривает» словами зубную боль; действуя сам на себя при
помощи слов, переносит страдания или физическую пытку).
Если с этими оговорками принять положение о том, что язык есть форма
коммуникации между двумя индивидами, то придется сделать еще некоторые
уточнения. Понятие «индивидуум» удобнее будет заменить «передающим
сообщение» (адресантом) и «принимающим его» (адресатом). Это позволит
ввести в схему те случаи, когда язык связывает не два индивидуума, а два
других передающих (принимающих) устройства, например телеграфный
аппарат и подключенное к нему автоматическое записывающее устройство. Но
важнее другое — нередки случаи, когда один и тот же индивид выступает
и как адресант и как адресат сообщения (заметки «на память», дневники,
записные книжки). Информация тогда передается не в пространстве, а во
времени и служит средством самоорганизации личности. Следовало бы
считать, что данный случай — лишь малозначительная частность в общей массе
социальных общений, если бы не одно соображение: можно рассматривать
в качестве индивида отдельного человека, тогда схема коммуникации А—>В
(от адресанта к адресату) будет явно преобладать над А-»А' (адресант сам
же является адресатом, но в другую единицу времени). Однако стоит
подставить под «А», например, понятие «национальная культура», чтобы схема
коммуникации А -> А' получила по крайней мере равноправное значение с
А -> В (в ряде культурных типов она будет главенствовать). Но сделаем
следующий шаг — подставим под «А» человечество в целом. Тогда
автокоммуникация станет (по крайней мере, в пределах исторически реального
опыта) единственной схемой коммуникации.
Третье противопоставление отделит языки от тех промежуточных систем,
которыми в основном занимается паралингвистика, — мимики, жестов и т. п.
Если понимать «язык» предложенным выше образом, то понятие это
объединит:
а) естественные языки (например, русский, французский, эстонский,
чешский);
б) искусственные языки: языки науки (метаязыки научных описаний),
языки условных сигналов (например, дорожных знаков) и т. п.;
в) вторичные языки (вторичные моделирующие системы) —
коммуникационные структуры, надстраивающиеся над естественно-языковым уровнем
(миф, религия). Искусство — вторичная моделирующая система. «Вторичный
по отношению к языку» следует понимать не только как «пользующийся
естественным языком в качестве материала». Если бы термин имел такое
22
СТРУКТУРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
содержание, то включение в него несловесных искусств (живописи, музыки
и других) было бы явно неправомерно. Однако отношение здесь более
сложное: естественный язык — не только одна из наиболее ранних, но и
самая мощная система коммуникаций в человеческом коллективе. Самой
своей структурой он оказывает мощное воздействие на психику людей и
многие стороны социальной жизни. Вторичные моделирующие системы (как
и все семиотические системы) строятся по типу языка. Это не означает, что
они воспроизводят все стороны естественных языков. Так, музыка резко
отличается от естественных языков отсутствием обязательных семантических
связей, однако в настоящее время очевидна уже полная закономерность
описания музыкального текста как некоторого синтагматического построения
(работы М. М. Ланглебен и Б. М. Гаспарова). Выделение синтагматических
и парадигматических связей в живописи (работы Л. Ф. Жегина, Б. А.
Успенского), кино (статьи С. М. Эйзенштейна, Ю. Н. Тынянова, Б. М. Эйхенбаума,
К. Меца) позволяет видеть в этих искусствах семиотические объекты —
системы, построенные по типу языков. Поскольку сознание человека есть сознание
языковое, все виды надстроенных над сознанием моделей — и искусство в
том числе — могут быть определены как вторичные моделирующие системы.
Итак, искусство может быть описано как некоторый вторичный язык, а
произведение искусства — как текст на этом языке.
Доказательству и объяснению этого тезиса будет посвящена значительная
часть предлагаемого вниманию читателей исследования. Пока ограничимся
несколькими цитатами, подчеркивающими неотделимость поэтической идеи
от особой, ей соответствующей структуры текста, особого языка искусства.
Вот запись А. Блока (июль 1917 г.): «Ложь, что мысли повторяются. Каждая
мысль нова, потому, что ее окружает и оформляет новое. „Чтоб он, воскреснув,
встать не мог" (моя), „Чтоб встать он из гроба не мог" (Лермонтов — сейчас
вспомнил) — совершенно разные мысли. Общее в них — „содержание", что
только доказывает лишний раз, что бесформенное содержание само по себе
не существует, не имеет веса»1.
Рассматривая природу семиотических структур, можно сделать одно
наблюдение: сложность структуры находится в прямо пропорциональной
зависимости от сложности передаваемой информации. Усложнение характера
информации неизбежно приводит и к усложнению используемой для ее
передачи семиотической системы. При этом в правильно построенной (то
есть достигающей цели, ради которой она создана) семиотической системе
не может быть излишней, неоправданной сложности.
Если существуют две системы А и В и обе они полностью передают
некий единый объем информации при одинаковом расходе на преодоление
шума в канале связи, но система А значительно проще, чем В, то не вызывает
никаких сомнений, что система В будет отброшена и забыта2.
1 Блок А. Записные книжки. М., 1965. С. 378.
2 Говоря это, мы отвлекаемся от проблемы избыточности, которая в художественных
структурах решается резко специфически.
1. Искусство как язык
23
Поэтическая речь представляет собой структуру большой сложности. Она
значительно усложнена по отношению к естественному языку. И если бы
объем информации, содержащейся в поэтической (стихотворной или
прозаической — в данном случае не имеет значения) и обычной речи был
одинаковым1, художественная речь потеряла бы право на существование и,
бесспорно, отмерла бы. Но дело обстоит иначе: усложненная художественная
структура, создаваемая из материала языка, позволяет передавать такой объем
информации, который совершенно недоступен для передачи средствами
элементарной собственно языковой структуры. Из этого вытекает, что данная
информация (содержание) не может ни существовать, ни быть передана вне
данной структуры. Пересказывая стихотворение обычной речью, мы
разрушаем структуру и, следовательно, доносим до воспринимающего совсем не
тот объем информации, который содержался в нем. Таким образом, методика
рассмотрения отдельно «идейного содержания», а отдельно —
«художественных особенностей», столь прочно привившаяся в школьной практике, зиждется
на непонимании основ искусства и вредна, ибо прививает массовому читателю
ложное представление о литературе как о способе длинно и украшенно
излагать те же самые мысли, которые можно сказать просто и кратко. Если
идейное содержание «Войны и мира» или «Евгения Онегина» можно изложить
на двух страничках, то естествен вывод: следует читать не длинные
произведения, а короткие учебники. Это вывод, к которому толкают не плохие
учителя нерадивых учеников, а вся система школьного изучения литературы,
которая, в свою очередь, лишь упрощенно и потому наиболее четко отражает
тенденции, ясно дающие себя чувствовать в науке о литературе.
Мысль писателя реализуется в определенной художественной структуре
и неотделима от нее. Л. Н. Толстой писал о главной мысли «Анны
Карениной»: «Если же бы я хотел сказать словами все то, что имел в виду выразить
романом, то я должен был написать роман тот самый, который я написал
сначала. И если критики теперь уже понимают и в фельетоне могут выразить
то, что я хочу сказать, то я их поздравляю <...> И если близорукие критики
думают, что я хотел описывать только то, что мне нравится, как обедает
Облонский и какие плечи у Карениной, то они ошибаются. Во всем, почти
во всем, что я писал, мною руководила потребность собрания мыслей,
сцепленных между собой для выражения себя; но каждая мысль, выраженная
словами особо, теряет свой смысл, страшно понижается, когда берется одна
и без того сцепления, в котором она находится». Толстой необычайно ярко
сказал о том, что художественная мысль реализует себя через «сцепление» —
структуру — и не существует вне ее, что идея художника реализуется в его
модели действительности. И далее Толстой пишет: «...нужны люди, которые
показали бы бессмыслицу отыскивания отдельных мыслей в художественном
произведении и постоянно руководили бы читателей в том бесчисленном
1 Предположим, что сравниваются два текста на одном языке, составленные из
одинаковых лексем й одинаковых синтаксических конструкций, но один из них является
частью художественной структуры, а другой — нет.
24
СТРУКТУРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
лабиринте сцеплений, в котором состоит сущность искусства, и по тем
законам, которые служат основанием этих сцеплений»1.
Определение «форма соответствует содержанию», верное в философском
смысле, все же недостаточно точно отражает отношение структуры и идеи.
Еще Ю. Н. Тынянов указывал на ее неудобную (применительно к искусству)
метафоричность: «Форма + содержание = стакан + вино. Но все
пространственные аналогии, применяемые к понятию формы, важны тем, что только
притворяются аналогиями: на самом деле в понятие формы неизменно
подсовывается при этом статический признак, тесно связанный с пространствен-
ностью»2. Для наглядного представления отношения идеи к структуре удобнее
вообразить себе связь жизни и сложного биологического механизма живой
ткани. Жизнь, составляющая главное свойство живого организма, немыслима
вне его физической структуры, она является функцией этой работающей
системы. Исследователь литературы, который надеется постичь идею,
оторванную от авторской системы моделирования мира, от структуры
произведения, напоминает ученого-идеалиста, пытающегося отделить жизнь от той
конкретной биологической структуры, функцией которой она является. Идея
не содержится в каких-либо, даже удачно подобранных цитатах, а выражается
во всей художественной структуре. Исследователь, не понимающий этого и
ищущий идею в отдельных цитатах, похож на человека, который, узнав, что
дом имеет свой план, начал бы ломать стены в поисках места, где этот план
замурован. План не замурован в стену, а реализован в пропорциях здания.
План — идея архитектора, структура здания — ее реализация. Идейное
содержание произведения — структура. Идея в искусстве — всегда модель,
ибо она воссоздает образ действительности. Следовательно, вне структуры
художественная идея немыслима. Дуализм формы и содержания должен быть
заменен понятием идеи, реализующей себя в адекватной структуре и не
существующей вне этой структуры.
Измененная структура донесет до читателя или зрителя иную идею. Из
этого следует, что в стихотворении нет «формальных элементов» в том смысле,
который обычно вкладывается в это понятие. Художественный текст — сложно
построенный смысл. Все его элементы суть элементы смысловые.
Искусство в ряду других знаковых систем
Рассмотрение искусства в категориях коммуникационной системы
позволяет поставить, а частично и разрешить ряд вопросов, остававшихся вне
поля зрения традиционной эстетики и теории литературы.
Современная теория знаковых систем обладает хорошо разработанной
концепцией коммуникации, позволяющей наметить общие черты
художественного общения.
1 Толстой Л. Н. Поли. соб. соч.: В 90 т. М., 1953. Т. 62. С. 269—270.
2 Тынянов Ю. Проблема стихотворного языка. Л., 1924. С. 9.
1. Искусство как язык
25
Всякий акт коммуникации включает в себя отправителя и получателя
информации. Но этого мало: хорошо известный нам факт непонимания
свидетельствует о том, что не всякое сообщение воспринимается. Для того
чтобы получатель понял отправителя сообщения, необходимо наличие у них
общего посредника — языка. Если взять сумму возможных сообщений на
одном языке, то легко будет заметить, что некоторые элементы этих
сообщений будут выступать как в тех или иных отношениях взаимоэквивалентные
(например, между вариантами фонемы, в одном отношении, фонемой и
графемой, в другом, будет возникать отношение эквивалентности). Нетрудно
заметить, что отличия будут появляться за счет природы материализации
того или иного знака или его элемента, а сходства — как результат одинакового
места в системе. Общее для различных взаимоэквивалетных вариантов будет
выступать как их инвариант. Таким образом, мы получим два различных
аспекта коммуникационной системы: поток отдельных сообщений,
воплощенных в той или иной материальной субстанции (графической, звуковой,
электромагнитной при разговоре по телефону, телеграфных знаках и т. п.),
и абстрактную систему инвариантных отношений. Разделение этих двух начал
и определение первой как «речи» (parole), а второй как «языка» (langue)
принадлежит Ф. де Соссюру. При этом очевидно, что, поскольку носителями
определенных значений выступают единицы языка, то процесс понимания
состоит в том, что определенное речевое сообщение отождествляется в
сознании воспринимающего с его языковым инвариантом. При этом одни
признаки элементов речевого текста (те, которые совпадают с инвариантными
им признаками в системе языка) выделяются как значимые, а другие
снимаются сознанием воспринимающего как несущественные. Таким образом, язык
выступает как некоторый код, при помощи которого воспринимающий
дешифрует значение интересующего его сообщения. В этом смысле, позволяя
себе известную степень неточности, можно отождествлять разделение системы
на «речь» и «язык» в структурной лингвистике и «сообщение» и «код» в
теории информации1. Однако если представлять себе язык как определенную
систему инвариантных элементов и правил их сочетания2, то станет очевидной
справедливость высказанного Р. Якобсоном и другими учеными положения,
что в процессе передачи информации фактически используются не один, а
два кода: один — зашифровывающий и другой — дешифрующий сообщение.
В этом смысле говорят о правилах для говорящего и правилах для
слушающего. Разница между ними стала очевидной, как только возникла задача
искусственного порождения (синтеза) и дешифровки (анализа) текста на
1 См.: Иванов В. В. Код и сообщение // Бюллетень объединения по проблемам
машинного перевода. М, 1957. № 5; Гольдман Г. Теория информации / Пер. с англ.
М., 1957.
2 Ср.: «Так как язык состоит из правил или норм, то он в противоположность речи
является системой или, лучше сказать, множеством частных систем» (Трубецкой Н. С.
Основы фонологии. М., 1960. С. 9). «Всякий код представляет собой некоторый
алфавит и систему фиксированных ограничений» (Гольдман Г. Теория информации.
С. 30).
26
СТРУКТУРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
каком-либо естественном языке с помощью электронно-вычислительных
устройств.
Все эти вопросы имеют непосредственное отношение к определению
искусства как коммуникационной системы.
Первым следствием из общего положения о том, что искусство
представляет собой одно из средств массовой коммуникации, является утверждение:
чтобы воспринимать передаваемую средствами искусства информацию, надо
владеть его языком. Сделаем еще одно необходимое отступление. Представим
себе некоторый язык. Возьмем, например, язык химических знаков. Если мы
выпишем все употребляемые в нем графические значки, то легко убедимся,
что они разделяются на две группы: одни — буквы латинского алфавита —
обозначают химические элементы, другие (знаки равенства, плюсы, цифровые
коэффициенты) будут обозначать способы их соединения. Если мы выпишем
все знаки — буквы, то получим некоторое множество имен химического
языка, которые в своей совокупности будут означать всю сумму известных
к этому моменту химических элементов.
Теперь предположим, что мы членим все обозначаемое пространство на
определенные группы. Например, мы будем описывать все множество
содержания при помощи языка, имеющего только два имени: металлы и неметаллы,
или будем вводить какие-либо другие системы записи, пока не дойдем до
членения на элементы и обозначения их отдельными буквами. Ясно, что
каждая система записи будет отражать определенную научную концепцию
классификации обозначаемого. Таким образом, каждая система химического
языка есть вместе с тем и модель определенной химической реальности. Мы
пришли к существенному выводу: всякий язык есть не только
коммуникативная, но и моделирующая система, вернее, обе эти функции неразрывно
связаны.
Это справедливо и для естественных языков. Если в древнерусском языке
(XII в.) «честь» и «слава» оказываются антонимами, а в современном —
синонимами1, если в древнерусском «синий» — иногда синоним «черного»,
иногда — «багрово-красного», «серый» означает наш «голубой» (в значении
цвета глаз), «голубой» же — наш «серый» (в значении масти животного и
птицы)2, если небо никогда не называется в текстах XII в. голубым или
синим, а золотой цвет фона на иконе, видимо, для зрителя той поры вполне
правдоподобно передает цвет небес, если старославянское: «Кому сини очи,
не пребывающим ли в вине, не назирающим ли кьде пирове бывають»3 —
следует переводить: «У кого же багровые (налитые кровью) глаза, как не у
пьяницы, как не у того, кто высматривает, где бывают пиры», — то ясно,
1 Лотман Ю. М. Оппозиция «честь — слава» в светских текстах киевского периода //
Лотман Ю. М. О русской литературе. СПб., 1997.
2 Unbegaun В. О. Les anciens russes vus par eux-mêmes // Annali, sezione slava, VI.
Napoli, 1963.
3 Цитата из рукописного Пандекта Антиоха по списку XI в. приведена И. И.
Срезневским в т. 3 «Материалов для словаря древнерусского языка» (СПб., 1903. С. 356).
1. Искусство как язык
27
что мы имеем дело с совсем иными моделями этического или цветового
пространства.
Но очевидно вместе с тем, что не только «знаки-имена», но и «знаки-
связки» играют моделирующую роль, — они воспроизводят концепцию связей
в обозначаемом объекте.
Итак, всякая коммуникативная система может выполнять моделирующую
функцию и, обратно, всякая моделирующая система может играть
коммуникативную роль. Конечно, та или иная функция может быть выражена более
сильно или почти совсем не ощущаться в том или ином конкретном
социальном употреблении. Но потенциально присутствуют обе функции1.
Это чрезвычайно существенно для искусства.
Если произведение искусства что-либо мне сообщает, если оно служит
целям коммуникации между отправителем и получателем, то в нем можно
выделить:
1) сообщение — то, что мне передается;
2) язык — определенную, общую для передающего и принимающего
абстрактную систему, которая делает возможным самый акт коммуникации.
Хотя, как мы увидим в дальнейшем, отвлечение каждой из названных сторон
возможно лишь в порядке исследовательской абстракции, противопоставление
этих двух аспектов в произведении искусства, на определенной стадии
изучения, совершенно необходимо.
Язык произведения — это некоторая данность, которая существует до
создания конкретного текста и одинакова для обоих полюсов коммуникации
(в дальнейшем в это положение будут введены некоторые коррективы).
Сообщение — это та информация, которая возникает в данном тексте. Если
мы возьмем большую группу функционально однородных текстов и
рассмотрим их как варианты некоего одного инвариантного текста, сняв при этом
все «внесистемное» с данной точки зрения, то получим структурное описание
языка данной группы текстов. Так построена, например, классическая
«Морфология волшебной сказки» В. Я. Проппа, дающая модель этого
фольклорного жанра. Мы можем рассмотреть все возможные балеты как один текст
(так, как мы обычно рассматриваем все исполнения данного балета как
варианты одного текста) и, описав его, получим язык балета, и т. д.
Искусство неотделимо от поисков истины. Однако необходимо
подчеркнуть, что «истинность языка» и «истинность сообщения» — понятия
принципиально различные. Для того чтобы представить себе эту разницу,
вообразим, с одной стороны, высказывания об истинности или ложности решения
той или иной задачи, логической правильности того или иного утверждения,
а с другой — рассуждения об истинности геометрии Лобачевского или
четырехзначной логики. О каждом сообщении на русском или любом другом из
естественных языков можно задать вопрос: истинно оно или ложно? Но этот
1 Подробное изложение этого вопроса см.: Зализняк Α. Α., Иванов Вяч. Вс,
Топоров В. Н. О возможности структурно-типологического изучения некоторых
моделирующих семиотических систем // Структурно-типологические исследования. М, 1962.
28
СТРУКТУРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
вопрос совершенно теряет смысл применительно к какому-либо языку в
целом. Поэтому часто встречающиеся рассуждения о художественной
непригодности, неполноценности или даже «порочности» каких-либо
художественных языков (например, языка балета, языка восточной музыки, языка
абстрактной живописи) заключают в себе логическую ошибку — результат
смешения понятий. Между тем очевидно, что суждению об истинности или
ложности должно предшествовать внесение ясности в постановку вопроса,
что оценивается: язык или сообщение. Соответственно и будут работать
различные критерии оценки. Культура заинтересована в своеобразном поли-
глотизме. Не случайно искусство в своем развитии отбрасывает устарелые
сообщения, но с поразительной настойчивостью сохраняет в своей памяти
художественные языки прошедших эпох. История искусств изобилует «ренес-
сансами» — возрождением художественных языков прошлого,
воспринимаемых как новаторские.
Расчленение этих аспектов существенно и для литературоведа (как и
вообще искусствоведа). Здесь дело не только в постоянном смешении
своеобразия языка художественного текста и его эстетической ценности (с
постоянным утверждением «непонятное — плохое»), но и в отсутствии
сознательного расчленения исследовательской задачи, в отказе от постановки
вопроса о том, что изучается — общий художественный язык эпохи
(направления, писателя) или определенное сообщение, переданное на этом языке.
В последнем случае, видимо, целесообразнее описывать массовые,
«средние», наиболее стандартизованные тексты, в которых общая норма
художественного языка обнажена отчетливее всего. Нерасчленение этих двух аспектов
приводит к тому смешению, на которое указывало еще традиционное
литературоведение и избежать которого на интуитивном уровне оно пыталось,
требуя различать «массовое» и «индивидуальное» в литературном
произведении. Среди ранних и весьма далеких от совершенства опытов изучения
массовой художественной нормы можно назвать, например, известную
монографию В. В. Сиповского по истории русского романа. В начале 1920-х гг.
вопрос этот уже был поставлен как совершенно отчетливая задача. Так,
В. М. Жирмунский писал, что при изучении массовой литературы «по
существу поставленной задачи приходится, отвлекаясь от индивидуального,
улавливать распространение некоторой общей тенденции»1. Вопрос этот
отчетливо ставился в работах Шкловского и Виноградова.
Однако, осознав различие этих аспектов, нельзя не заметить, что
отношение между ними в художественных и нехудожественных коммуникациях
глубоко отлично, и самый факт настойчивого отождествления проблем
специфики языка того или иного вида искусства с ценностью передаваемой на
нем информации настолько широко распространен, что не может оказаться
случайным.
Всякий естественный язык состоит из знаков, характеризуемых наличием
определенного внеязыкового содержания, и синтагматических элементов, со-
1 Жирмунский В. Байрон и Пушкин. Л., 1924. С. 9.
1. Искусство как язык
29
держание которых не только воспроизводит внеязыковые связи, но и в
значительной мере имеет имманентный, формальный характер. Правда, между
этими группами языковых фактов существует постоянное
взаимопроникновение: с одной стороны, значимые элементы становятся служебными, с
другой — служебные постоянно семантизируются (осмысление грамматического
рода как содержательно-половой характеристики, категория одушевленности
и т. д.). Однако процесс диффузии здесь настолько незаметен, что оба аспекта
вычленяются весьма четко.
Иное дело в искусстве. Здесь, с одной стороны, проявляется постоянная
тенденция к формализации содержательных элементов, к их застыванию,
превращению в штампы, полному переходу из сферы содержания в условную
область кода. Приведем единственный пример. Б. А. Тураев в своем очерке
истории египетской литературы сообщает, что настенные изображения
египетских храмов знают особый сюжет: рождение фараонов в виде строго
повторяющихся эпизодов и сцен. Это «галерея изображений,
сопровождаемых текстом и представляющих древнюю композицию, составленную,
вероятно, для царей V династии и потом в стереотипной форме передававшуюся
официально из поколения в поколение». Автор указывает, что «этой
официальной драматической поэмой в ряде картин особенно охотно пользовались
те, права которых на престол оспаривались»1, как, например, царица Хат-
шепсут, и сообщает замечательный факт: желая укрепить свои права, Хат-
шепсут приказала поместить на стенах Дейр-эль-Бахри изображение своего
рождения. Но при этом изменение, соответствующее полу царицы, было
внесено лишь в подпись. Само же изображение осталось строго традиционным
и представляло рождение мальчика. Оно полностью формализовалось, и
информационной была не отнесенность изображения ребенка к реальному
прототипу, а сам факт помещения или непомещения в храме художественного
текста, связь которого с данной царицей устанавливалась лишь посредством
подписи.
С другой стороны, стремление осмыслить все в художественном тексте
как значимое настолько велико, что мы с основанием считаем, что в
произведении нет ничего случайного. И мы еще будем неоднократно обращаться
к глубоко обоснованному Р. Якобсоном2 утверждению о художественном
значении грамматических форм в поэтическом тексте, равно как и к другим
примерам семантизации формальных элементов текста в искусстве.
Конечно, соотношение двух этих начал в разных исторических и
национальных формах искусства будет различным. Но их наличие и взаимосвязь
постоянны. Более того, если мы допустим два высказывания: «В произведении
искусства все принадлежит художественному языку» — и: «В произведении
искусства все является сообщением», противоречие, в которое мы впадаем,
будет только кажущимся.
1 Тураев А. Б. Египетская литература. М., 1920. Т. 1. С. 43—44.
2 Якобсон Р. Грамматика поэзии и поэзия грамматики // Poetics. Poetyka. Поэтика.
I. Warszawa, 1961. С. 397—417.
30
СТРУКТУРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
При этом естественно возникает вопрос: нельзя ли отождествить язык с
формой художественного произведения, а сообщение — с содержанием и не
отпадает ли тогда утверждение, что структуральный анализ снимает дуализм
рассмотрения художественного текста с точки зрения формы и содержания?
Видимо, подобного отождествления не следует делать. Прежде всего потому,
что язык художественного произведения — совсем не «форма», если
вкладывать в это понятие представление о чем-то внешнем по отношению к
несущему информационную нагрузку содержанию. Язык художественного
текста в своей сущности является определенной художественной моделью
мира и в этом смысле всей своей структурой принадлежит «содержанию» —
несет информацию. Мы уже отмечали, что модель мира, создаваемая языком,
более всеобща, чем глубоко индивидуальная в момент создания модель
сообщения. Сейчас уместно сказать о другом: художественное сообщение
создает художественную модель какого-либо конкретного явления —
художественный язык моделирует универсум в его наиболее общих категориях,
которые, будучи наиболее общим содержанием мира, являются для
конкретных вещей и явлений формой существования. Таким образом, изучение
художественного языка произведений искусства не только дает нам некую
индивидуальную норму эстетического общения, но и воспроизводит модель
мира в ее самых общих очертаниях. Поэтому с определенных точек зрения
информация, заключающаяся в выборе типа художественного языка,
представляется наиболее существенной.
Выбор писателем определенного жанра, стиля или художественного
направления — тоже есть выбор языка, на котором он собирается говорить с
читателем. Язык этот входит в сложную иерархию художественных языков
данной эпохи, данной культуры, данного народа или данного человечества
(в конце концов, с необходимостью возникает и такая постановка вопроса).
При этом следует отметить одну существенную черту, к которой мы еще
вернемся: язык данной науки является для нее единственным, связанным с
особым, ей присущим предметом и аспектом. Чрезвычайно плодотворная в
большинстве случаев и возникающая в связи с интердисциплинарными
проблемами перекодировка с одного языка на другой или раскрывает в одном,
как прежде казалось, объекте объекты двух наук, или ведет к созданию новой
области познания, с новым, ей присущим метаязыком.
Естественный язык в принципе допускает перевод. Он закреплен не за
объектом, а за коллективом. Однако внутри себя он уже имеет определенную
иерархию стилей, позволяющую содержание одного и того же сообщения
изложить с разных прагматических точек зрения. Построенный таким образом
язык моделирует не только определенную структуру мира, но и точку зрения
наблюдателя.
В языке искусства с его двойной задачей одновременного моделирования
и объекта и субъекта происходит постоянная борьба между представлением
о единственности языка и о возможности выбора между в какой-то мере
адекватными художественными коммуникативными системами. На одном
полюсе стоит размышление, волновавшее еще автора «Слова о полку Иго-
реве»: петь ли песнь «по былинам сего времени» или «по замышлению Баяна»,
1. Искусство как язык
31
на другом — утверждение Достоевского: «Я даже верю, что для разных форм
искусства существуют и соответственные им ряды поэтических мыслей, так
что одна мысль не может никогда быть выражена в другой, не
соответствующей ей форме»1.
Противоположность и этих высказываний, в сущности, мнимая: там, где
существует лишь один возможный язык, не возникает проблемы
соответствия — несоответствия его моделирующей сущности авторской модели мира.
Моделирующая система языка в этом случае не обнажена. Чем больше
потенциальная возможность выбора, тем более информации несет в себе сама
структура языка и тем резче обнажается соотнесенность ее с той или иной
моделью мира.
И вот потому, что язык искусства моделирует наиболее общие аспекты
картины мира — ее структурные принципы, — в целом ряде случаев именно
он и будет основным содержанием произведения, может стать его
сообщением — текст замкнется на себе. Так бывает во всех случаях литературных
пародий, полемик — в тех случаях, когда художник определяет самый тип
отношения к действительности и основные принципы его художественного
воспроизведения.
Таким образом, язык искусства не может быть отождествлен с
традиционным понятием формы. Более того, используя тот или иной естественный
язык, язык искусства делает его формальные стороны содержательными.
Наконец, необходимо рассмотреть еще один аспект отношения языка и
сообщения в искусстве. Представим себе два портрета Екатерины II:
парадный, кисти Левицкого, и бытовой, изображающий императрицу в
царскосельском парке, написанный Боровиковским. Для современников-царедворцев
чрезвычайно существенным было сходство портрета с известной им
внешностью императрицы. То, что на обоих портретах изображено одно и то же
лицо, составляло для них основное сообщение, разница в трактовке, специфика
художественного языка — волновала только людей, посвященных в тайны
искусства. Для нас навсегда утрачен интерес, который имели эти портреты
в глазах людей, видавших Екатерину II, зато на первый план выдвигается
разница художественной трактовки. Информационная ценность языка и
сообщения, данных в одном и том же тексте, меняется в зависимости от
структуры читательского кода, его требований и ожиданий.
Однако подвижность и взаимосвязь этих двух начал особенно резко
проявляется в другом. Прослеживая процесс функционирования
художественного произведения, мы не можем не отметить одну особенность: в момент
восприятия художественного текста мы склонны ощущать и многие аспекты
его языка в качестве сообщения — формальные элементы семантизируются,
то, что присуще общекоммуникационной системе, войдя в специфическую
структурную целостность текста, воспринимается как индивидуальное. В
талантливом произведении искусства все воспринимается как созданное ad
hoc. Однако в дальнейшем, войдя в художественный опыт человечества,
1 Достоевский Ф. М. Письма. М.; Л., 1934. Т. 3. С. 20.
32
СТРУКТУРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
произведение, для будущих эстетических коммуникаций, все становится
языком, и то, что было случайностью содержания для данного текста, становится
кодом для последующих. Н. И. Новиков еще в середине XVIII в. писал:
«Меня никто не уверит и в том, чтобы Мольеров Гарпагон писан был на
общий порок. Всякая критика, писанная на лицо, по прошествии многих лет
обращается в критику на общий порок; осмеянной по справедливости Кащей
со временем будет общий подлинник всех лихоимцев»1.
Понятие языка словесного искусства
Если пользоваться понятием «язык искусства» в том значении, которое
мы ему условились придавать выше, то очевидно, что художественная
литература, как один из видов массовой коммуникации, должна обладать своим
языком. «Обладать своим языком» — это значит иметь определенный
замкнутый набор значимых единиц и правил их соединения, которые позволяют
передавать некоторые сообщения.
Но литература уже имеет дело с одним из типов языков — естественным
языком. Как соотносятся «язык литературы»2 и тот естественный язык, на
котором произведение написано (русский, английский, итальянский или
любой другой)? Да и есть ли этот «язык литературы», или достаточно
разделить содержание произведения («сообщение»; ср. наивный
читательский вопрос: «Про что там?») и язык художественной литературы как
функционально-стилистический пласт общенационального естественного
языка?
Чтобы уяснить себе этот вопрос, поставим перед собой следующую весьма
тривиальную задачу. Выберем следующие тексты: группа I — картина
Делакруа, поэма Байрона, симфония Берлиоза; группа II — поэма Мицкевича,
фортепианные пьесы Шопена; группа III — поэтические тексты Державина,
архитектурные ансамбли Баженова. Теперь зададимся целью, как это уже
неоднократно делалось в различных этюдах по истории культуры, представить
тексты внутри каждой из. групп как один текст, сводя их к вариантам
некоторого инвариантного типа. Таким инвариантным типом для первой
группы будет «западноевропейский романтизм», для второй — «польский
романтизм», для третьей — «русский предромантизм». Само собой
разумеется, что можно поставить перед собой задачу описать все три группы как
единый текст, введя абстрактную модель инварианта второй ступени.
1 Сатирические журналы Н. И. Новикова. М.; Л., 1951. С. 137. Кащей — А. И.
Бутурлин, шурин А. П. Сумарокова, осмеянный им в комедии «Лихоимец».
2 Из данных выше определений уже ясно, что речь идет не Ό том значении термина
«язык литературы», которое придается ему при изучении литературного языка той
или иной эпохи, а о том, которое параллельно понятиям «язык живописи», «язык
скульптуры», «язык танца».
1. Искусство как язык
33
Если мы поставим перед собой такую задачу, то нам, естественно, придется
выделить некоторую коммуникативную систему — «язык» — сначала для
каждой из этих групп, а затем и для всех трех вместе. Предположим, что
описание этих систем будет производиться на русском языке. Ясно, что в
данном случае он выступит как метаязык описания (оставляем в стороне
вопрос о некорректности подобного описания, поскольку неизбежно
моделирующее влияние метаязыка на объект), но сам описываемый «язык
романтизма» (или любой из частных его подъязыков, соответствующий указанным
трем группам) не может быть отождествлен ни с одним из естественных
языков, поскольку будет пригоден для описания и несловесных текстов.
Между тем полученная таким образом модель языка романтизма будет
приложима и к литературным произведениям и на определенном уровне
сможет описывать систему их построения (на уровне, общем для словесных
и несловесных текстов).
Но необходимо рассмотреть, как относятся к естественному языку те
структуры, которые создаются внутри словесных художественных
конструкций и не могут быть перекодированы на языки несловесных искусств.
Художественная литература говорит на особом языке, который
надстраивается над естественным языком как вторичная система. Поэтому ее
определяют как вторичную моделирующую систему. Конечно, литература — не
единственная вторичная моделирующая система, но рассмотрение ее в этом
ряду увело бы нас слишком далеко в сторону от нашей непосредственной
задачи.
Сказать, что у литературы есть свой язык, не совпадающий с ее
естественным языком, а надстраивающийся над ним, — значит, сказать, что
литература имеет свою, только ей присущую систему знаков и правил их
соединения, которые служат для передачи особых, иными средствами не
передаваемых сообщений. Попробуем это доказать.
В естественных языках сравнительно легко выделяются знаки —
устойчивые инвариантные единицы текста — и правила синтагматики. Знаки
отчетливо разделяются на планы содержания и выражения, между которыми
существует отношение взаимной необусловленности, исторической конвенци-
ональности. В словесном художественном тексте не только границы знаков
иные, но иное и само понятие знака.
Нам уже приходилось писать, что знаки в искусстве имеют не условный,
как в языке, а иконический, изобразительный характер1. Положение это,
очевидное для изобразительных искусств, применительно к словесным влечет
за собой ряд существенных выводов. Иконические знаки построены по
принципу обусловленной связи между выражением и содержанием. Поэтому
разграничение планов выражения и содержания в обычном для структурной
лингвистики смысле делается вообще затруднительным. Знак моделирует свое
содержание. Понятно, что в этих условиях в художественном тексте проис-
1 Лотман Ю. Лекции по структуральной поэтике // Учен. зап. Тартуского гос. ун-та.
1964. Вып. 160. С. 39—44. (Труды по знаковым системам. Т. 1.)
34
СТРУКТУРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
ходит семантизация внесемантических (синтаксических) элементов
естественного языка. Вместо четкой разграниченности семантических элементов
происходит сложное переплетение: синтагматическое на одном уровне иерархии
художественного текста оказывается семантическим на другом.
Но тут следует напомнить, что именно синтагматические элементы в
естественном языке отмечают границы знаков и членят текст на семантические
единицы. Снятие оппозиции «семантика — синтактика» приводит к
размыванию границ знака. Сказать: все элементы текста суть элементы
семантические — означает сказать: понятие текста в данном случае идентично
понятию знака.
В определенном отношении это так и есть: текст есть целостный знак, и
все отдельные знаки общеязыкового текста сведены в нем до уровня элементов
знака.
Таким образом, каждый художественный текст создается как уникальный,
ad hoc сконструированный знак особого содержания. Это на первый взгляд
противоречит известному положению о том, что только повторяемые
элементы, образующие некоторое замкнутое множество, могут служить передаче
информации. Однако противоречие здесь кажущееся. Во-первых, как мы уже
отмечали, созданная писателем окказиональная структура модели
навязывается читателю уже как язык его сознания. Окказиональность заменяется
универсальностью. Но дело не только в этом. «Уникальный» знак оказывается
«собранным» из типовых элементов и на определенном уровне «читается»
по традиционным правилам. Всякое новаторское произведение строится из
традиционного материала. Если текст не поддерживает памяти о
традиционном построении, его новаторство перестает восприниматься.
Образующий один знак, текст одновременно остается текстом
(последовательностью знаков) на каком-либо естественном языке и уже поэтому
сохраняет разбиение на слова — знаки общеязыковой системы. Так возникает
то характерное для искусства явление, согласно которому один и тот же
текст при приложении к нему различных кодов различным образом
распадается на знаки.
Одновременно с превращением общеязыковых знаков в элементы
художественного знака протекает и противоположный процесс. Элементы знака
в системе естественного языка — фонемы, морфемы, — становясь в ряды
некоторых упорядоченных повторяемостей, семантизируются и становятся
знаками. Таким образом, один и тот же текст может быть прочтен как
некоторая образованная по правилам естественного языка цепочка знаков,
как последовательность знаков более крупных, чем членение текста на слова,
вплоть до превращения текста в единый знак, и как организованная особым
образом цепочка знаков более дробных, чем слово, вплоть до фонем.
Правила синтагматики текста также связаны с этим положением. Дело
не только в том, что семантические и синтагматические элементы оказываются
взаимообратимыми, но и в другом: художественный текст выступает и как
совокупность фраз, и как фраза, и как слово одновременно. В каждом из
этих случаев характер синтагматических связей различен. Первые два случая
не нуждаются в комментариях, зато на последнем следует остановиться.
1. Искусство как язык
35
Будет ошибочным полагать, что совпадение границ знака с границами
текста снимает проблему синтагматики. Рассмотренный таким образом текст
может распадаться на знаки и соответственно синтагматически
организовываться. Но это будет не синтагматика цепочки, а синтагматика иерархии —
знаки будут связаны, как куклы-матрешки, вкладываемые одна в другую.
Подобная синтагматика вполне реальна для построения художественного
текста, и если она непривычна для лингвиста, то историк культуры легко
найдет ей параллели, например в структуре мира, увиденного глазами
средневековья.
Для мыслителя средневековья мир — не совокупность сущностей, а
сущность, не фраза, а слово. Но это слово иерархически состоит из отдельных,
как бы вложенных друг в друга слов. Истина не в количественном накоплении,
а в углублении (надо не читать много книг — много слов, — а вчитываться
в одно слово, не накоплять новые знания, а толковать старые).
Из сказанного вытекает, что словесное искусство хотя и основывается на
естественном языке, но лишь с тем, чтобы преобразовать его в свой —
вторичный — язык, язык искусства. А сам этот язык искусства — сложная
иерархия языков, взаимно соотнесенных, но не одинаковых. С этим связана
принципиальная множественность возможных прочтений художественного
текста. С этим же, видимо, связана не доступная никаким другим —
нехудожественным — языкам смысловая насыщенность искусства. Искусство —
самый экономный и компактный способ хранения и передачи информации.
Но искусство обладает и другими свойствами, которые вполне достойны
привлечь внимание специалиста-кибернетика, а со временем, может быть, и
инженера-конструктора.
Обладая способностью концентрировать огромную информацию на
«площади» очень небольшого текста (ср. объем повести Чехова и учебника
психологии), художественный текст имеет еще одну особенность: он выдает
разным читателям различную информацию — каждому в меру его понимания,
он же дает читателю язык, на котором можно усвоить следующую порцию
сведений при повторном чтении. Он ведет себя как некоторый живой
организм, находящийся в обратной связи с читателем и обучающий этого читателя.
Вопрос о том, какими средствами это достигается, должен волновать не
только гуманитара. Достаточно себе представить некоторое устройство,
построенное аналогичным образом и выдающее научную информацию, чтобы
понять, что раскрытие природы искусства как коммуникационной системы
может произвести переворот в методах хранения и передачи информации.
О множественности художественных кодов
Художественная коммуникация обладает одной интересной особенностью:
обычные виды связи знают только два случая отношений сообщения на входе
и выходе канала связи — совпадение или несовпадение. Второе
приравнивается ошибке и возникает за счет «шума в канале связи» — разного рода
36
СТРУКТУРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
обстоятельств, препятствующих передаче. Естественные языки страхуют себя
от искажений механизмом избыточности — своеобразным запасом
семантической прочности1.
Вопрос о том, как обстоит дело с избыточностью в художественном
тексте, пока не является предметом нашего рассмотрения. В данной связи
нас интересует другое: между пониманием и непониманием художественного
текста оказывается очень обширная промежуточная полоса. Разница в
толковании произведений искусства — явление повседневное и, вопреки часто
встречающемуся мнению, проистекает не из каких-либо привходящих и легко
устранимых причин, а органически свойственно искусству. По крайней мере,
видимо, именно с этим свойством связана отмеченая выше способность
искусства коррелировать с читателем и выдавать ему именно ту информацию,
в которой он нуждается и к восприятию которой подготовлен.
Здесь прежде всего следует остановиться на одном принципиальном
различии между естественными языками и вторичными моделирующими
системами художественного типа. В лингвистической литературе получило
признание положение Р. Якобсона о разделении правил грамматического синтеза
(грамматика говорящего) и грамматики анализа (грамматика слушающего).
Аналогичный подход к художественной коммуникации раскрывает ее
большую сложность.
Дело в том, что воспринимающему текст в целом ряде случаев приходится
не только при помощи определенного кода дешифровывать сообщение, но
и устанавливать, на каком «языке» закодирован текст.
При этом приходится различать следующие случаи:
I. а) Воспринимающий и передающий пользуются одним общим кодом —
общность художественного языка безусловно подразумевается, новым
является лишь сообщение. Таковы все художественные системы «эстетики
тождества». Каждый раз ситуация исполнения, тематика и другие внетекстовые
условия безошибочно подсказывают слушателю единственно возможный
художественный язык данного текста.
б) Разновидностью этого случая будет восприятие современных массовых
штампованных текстов. Здесь также действует общий код для передающего
и принимающего текст. Но если в первом случае — это условие
художественной коммуникации и в качестве такового подчеркивается всеми средствами,
то во втором случае автор стремится замаскировать этот факт — он придает
тексту ложные признаки другого штампа или сменяет один штамп другим.
В этом случае читателю, прежде чем получить сообщение, предстоит выбрать
из имеющихся в его распоряжении художественных языков тот, которым
кодирован текст или его часть. Сам выбор одного из известных кодов создает
дополнительную информацию. Однако величина ее незначительна, поскольку
список, из которого делается выбор, всегда сравнительно невелик.
1 Описание избыточности в естественных языках см.: Глиссон Г. Введение в
дескриптивную лингвистику. М., 1959. Гл. 19. Популярное изложение проблемы
избыточности с точки зрения теории информации см.: Росс Эшби У. Введение в кибернетику.
М„ 1959. § 9—16.
1. Искусство как язык
37
II. Иным является случай, когда слушающий пытается расшифровывать
текст, пользуясь иным кодом, чем его создатель. Здесь также возможны два
типа отношений.
а) Воспринимающий навязывает тексту свой художественный язык. При
этом текст подвергается перекодировке (иногда даже разрушению структуры
передающего). Информация, которую стремится получить
воспринимающий, — это еще одно сообщение на уже известном ему языке. В этом случае
с художественным текстом обращаются как с нехудожественным.
б) Воспринимающий пытается воспринять текст по уже знакомым ему
канонам, но методом проб и ошибок убеждается в необходимости создания
нового, ему еще неизвестного кода. При этом происходит ряд интересных
процессов. Воспринимающий вступает в борьбу с языком передающего и
может быть в этой борьбе побежден: писатель навязывает свой язык читателю,
который усваивает его себе, делает его своим средством моделирования
жизни. Однако практически, видимо, чаще в процессе усвоения язык писателя
деформируется, подвергается креолизации с языками, уже имеющимися в
арсенале сознания читателя. Тут возникает существенный вопрос: у этой
креолизации, видимо, есть свои избирательные законы. Вообще теория
смешения языков, существенная для лингвистики, видимо, должна сыграть
огромную роль при изучении читательского восприятия.
Интересен и другой случай: отношение между случайным и системным
в художественном тексте для передающего и принимающего имеет различный
смысл. Получая некоторое художественное сообщение, по тексту которого
еще предстоит выработать код для его дешифровки, воспринимающий строит
определенную модель. При этом могут возникать системы, которые будут
организовывать случайные элементы текста, придавая им значимость. Так,
при переходе от передающего к принимающему количество значимых
структурных элементов может возрастать. Это один из аспектов такого сложного
и до сих пор еще мало изученного явления, как способность художественного
текста накапливать информацию.
О величине энтропии художественных языков автора
и читателя
Проблема соотношения синтетического художественного кода автора и
аналитического — читателя имеет еще один аспект. И тот и другой коды
представляют собой иерархическое построение большой сложности.
Дело усложняется еще и тем, что один и тот же реальный текст может
на разных своих уровнях подчиняться различным кодам (этот достаточно
чистый случай мы для простоты в дальнейшем изложении вообще не
рассматриваем).
Для того чтобы акт художественной коммуникации вообще произошел,
необходимо, чтобы код автора и код читателя образовывали пересекающиеся
38
СТРУКТУРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
множества структурных элементов, — например, чтобы читателю был понятен
естественный язык, на котором написан текст. Непересекающиеся части кода
и составляют ту область, которая деформируется, креолизуется или любым
другим способом перестраивается при переходе от писателя к читателю.
Желательно указать на одно обстоятельство: в последнее время
предпринимаются попытки подсчета энтропии художественного текста и,
следовательно, определения величины информации. При этом следует указать на
следующее: в популяризаторских работах порой возникает смешение
количественного понятия величины информации и качественного — его ценности.
Между тем это вещи глубоко различные. Вопрос: «Есть ли Бог?» — дает
возможность выбора одного из двух. Предложение выбрать блюдо в меню
хорошего ресторана даст возможность исчерпать значительно большую
энтропию. Свидетельствует ли это о большей ценности полученной вторым
способом информации?
Видимо, вся поступающая в сознание человека информация организуется
в определенную иерархию, и подсчет количества ее имеет смысл лишь внутри
уровней, ибо только в этих условиях соблюдается однородность составляемых
факторов. Вопрос же о том, каким образом образуются и как
классифицируются эти ценностные иерархии, относится к типологии культуры и должен
быть исключен из настоящего изложения.
Таким образом, подходя к подсчетам энтропии художественного текста,
следует избегать смешения:
а) энтропии авторского и читательского кода,
б) энтропии различных уровней кода.
Интересующая нас проблема была впервые выдвинута академиком
А. Н. Колмогоровым, заслуги которого в деле построения современной
поэтики вообще исключительно велики. Ряд высказанных А. Н. Колмогоровым
идей лег в основу работ его учеников и, в основном, обусловил современное
направление лингво-статистических изучений в советской поэтике наших
дней1.
Школа А. Н. Колмогорова прежде всего поставила и решила задачу
строго формального определения ряда исходных понятий стиховедения. Затем
на обширном статистическом материале были изучены вероятности появления
определенных ритмических фигур в непоэтическом (нехудожественном) тексте,
равно как и вероятности различных вариаций внутри основных типов русской
1 См.: Колмогоров А. Н., Кондратов А. М. Ритмика поэм Маяковского // Вопросы
языкознания. 1963. № 3; Колмогоров А. И., Прохоров А. В. О дольнике современной
русской поэзии // Там же. № 6; Колмогоров А. К, Прохоров А. В. О дольнике
современной русской поэзии (статистическая характеристика дольника Маяковского,
Багрицкого, Ахматовой) // Там же. 1964. № 1. Изложение общих принципов подхода
А. Н. Колмогорова к поэтическому языку дано в обзорах: Иванов В. В. Лингвистика
математическая // Автоматизация производства и промышленная электроника. М.,
1963. Т. 2; Ревзин И. И. Совещание в г. Горьком, посвященное применению
математических методов к изучению языка художественной литературы //
Структурно-типологические исследования. М., 1962.
1. Искусство как язык
39
метрики. Поскольку эти метрические подсчеты неизменно давали двойные
характеристики: явлений основного фона и отклонений от него (фон
общеязыковой нормы и поэтическая речь как индивидуальный случай;
среднестатистические нормы русского ямба и вероятности появления отдельных
разновидностей и т. п.), появлялась возможность оценить информационные
возможности той или иной разновидности стихотворной речи. Этим, в отличие
от стиховедения 1920-х гг., ставился вопрос о содержательности метрических
форм и одновременно делались шаги к измерению этой содержательности
методами теории информации.
Это, естественно, привело к задаче изучения энтропии поэтического языка.
А. Н. Колмогоров пришел к выводу, что энтропия языка (Н) складывается
из двух величин: определенной смысловой емкости (hi) — способности языка
в тексте определенной длины передать некоторую смысловую информацию,
и гибкости языка (Ьг) — возможности одно и то же содержание передать
некоторыми равноценными способами. При этом именно hi является
источником поэтической информации. Языки с hi = 0, например искусственные
языки науки, принципиально исключающие возможность синонимии,
материалом для поэзии быть не могут. Поэтическая речь накладывает на текст
ряд ограничений в виде заданного ритма, рифмы, лексических и
стилистических норм. Измерив, какая часть способности нести информацию
расходуется на эти ограничения (она обозначается буквой ß), А. Н. Колмогоров
сформулировал закон, согласно которому поэтическое творчество возможно
лишь до тех пор, пока величина информации, расходуемой на ограничения,
не превышает ß < hi — гибкости текста. На языке с ß ^ hi поэтическое
творчество невозможно.
Применение А. Н. Колмогоровым теоретико-информационных методов
к поэтическому тексту открыло возможность точных измерений
художественной информации. При этом следует отметить чрезвычайную осторожность
исследователя, многократно предостерегавшего от чрезмерного увлечения
пока еще довольно скромными результатами математико-статистического,
теоретико-информационного, в конечном итоге — кибернетического изучения
поэзии. «Большинство приводимых в кибернетических работах примеров
моделирования на машинах процессов художественного творчества поражает
своей примитивностью (компилирование мелодий из отрывков по четыре-пять
нот, взятых из нескольких десятков введенных в машину известных мелодий,
и т. п.). В некибернетической литературе формальный анализ художественного
творчества уже давно достиг высокого уровня. Внесение в эти исследования
идей теории информации и кибернетики может принести большую пользу.
Но реальное продвижение в этом направлении требует существенного
повышения уровня гуманитарных интересов и знаний в среде работников в
области кибернетики»1.
1 Колмогоров А. Н. Жизнь и мышление как особые формы существования материи //
О сущности жизни. М., 1964. С. 54.
40
СТРУКТУРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
Выделение А. Н. Колмогоровым трех основных компонентов энтропии
словесного художественного текста: разнообразия возможного в пределах
данной длины текста содержания (исчерпание его создает общеязыковую
информацию), разнообразия различного выражения одного и того же
содержания (исчерпание его создает собственно художественную информацию) и
формальных ограничений, наложенных на гибкость языка и уменьшающих
энтропию второго типа, имеет самое фундаментальное значение.
Однако современное состояние структуральной поэтики позволяет
предположить, что отношения между этими тремя компонентами значительно
более диалектически сложны. Во-первых, следует отметить, что представление
о поэтическом творчестве как о выборе одного из возможных вариантов
изложения заданного содержания с учетом определенных ограничивающих
формальных правил (а именно это представление чаще всего кладется в
основу кибернетических моделей творческого процесса) страдает известной
упрощенностью. Предположим, что поэт творит именно этим способом. Как
известно, это далеко не всегда так1. Но и в этом случае если для создателя
текста исчерпывается энтропия гибкости языка (Иг), то для воспринимающего
дело может обстоять совсем иным образом. Выражение для него становится
содержанием — он воспринимает поэтически^ текст не как один из
возможных, а как единственный и неповторимый. Поэт знает, что он мог написать
иначе, — для читателя в тексте, воспринимаемом как художественно
совершенный, случайного нет. Читателю свойственно считать, что иначе не могло
быть написано. Энтропия h2 воспринимается как hi, как расширение круга
того, о чем можно сказать в пределах данной длины текста. Читатель,
ощущающий необходимость поэзии, видит в ней не средство сказать в стихах
то, о чем можно сообщить и прозой, а способ изложения особой истины, не
конструируемой вне поэтического текста. Энтропия гибкости языка
переходит в энтропию разнообразия особого поэтического содержания. А формула
H = hi + hi приобретает вид: Н= hi + ΚΊ (разнообразие общеязыкового
содержания плюс специфически поэтическое содержание). Попытаемся объяснить,
что это значит.
Понимая, что модель А. Н. Колмогорова не имеет целью воспроизводить
процесс индивидуального творчества, который, конечно, протекает
интуитивно и многими, трудноопределяемыми путями, а дает лишь общую схему
тех резервов языка, за счет которых происходит создание поэтической
информации, попытаемся интерпретировать ее в свете того бесспорного факта,
что структура текста с точки зрения адресанта по типу отличается от подхода
к этому вопросу адресата художественного сообщения.
Итак, предположим, что писатель, исчерпывая смысловую емкость языка,
строит некоторую мысль, а за счет исчерпания гибкости языка выбирает
1 Изучение черновиков различных поэтов убеждает нас в том, что составление
связного и распространенного прозаического текста, определяющего содержание
стихотворения с последующим «переложением в стихи», хотя и встречается в отдельных
случаях (ср. работу Пушкина над планами стихотворений), — все же достаточно
редко.
1. Искусство как язык
41
синонимы для ее выражения. При этом писатель действительно обладает
свободой замены слов или частей текста другими, семантически адекватными
им. Достаточно взглянуть на черновики многих писателей, чтобы увидать
этот процесс замены слов их синонимами. Однако с точки зрения читателя
картина представляется иной: читатель считает, что предложенный ему текст
(если речь идет о совершенном произведении искусства) единственно
возможный — «из песни слова не выкинешь». Замена в тексте того или иного
слова дает для него не вариант содержания, а новое содержание. Доводя эту
тенденцию до идеальной крайности, можно сказать, что для читателя нет
синонимов. Зато для него значительно расширяется смысловая емкость языка.
Стихами можно говорить о том, для чего у нестихов нет средств выражения.
Простое повторение слова несколько раз делает его неравным самому себе.
Таким образом, гибкость языка (I12) переходит в некую дополнительную
смысловую емкость, создавая особую энтропию «поэтического содержания».
Но поэт и сам является слушателем своих стихов и может писать их,
руководствуясь сознанием слушателя. Тогда для него возможные варианты текста
перестают быть адекватными с точки зрения содержания: он семантизирует
фонологию, рифму, созвучия слов подсказывают избираемый вариант текста,
развитие сюжета приобретает самостоятельность, как кажется автору, не
зависимую от его воли. Это побеждает читательская точка зрения,
воспринимающая все детали текста содержательно. Читатель, в свою очередь, может
встать на «авторскую» точку зрения (исторически это часто бывает в культурах
с массовым распространением поэзии, когда и читатель — поэт). Он начинает
ценить виртуозность и склонен к hi -> I12 (воспринимать и общеязыковое
содержание текста лишь как предлог преодоления поэтических трудностей).
Можно сказать, что в предельном случае в поэтическом языке любое
слово может стать синонимом любого. Если у Цветаевой в стихе «Там нет
тебя — и нет тебя» «нет тебя» не синоним, а антоним своему повторению,
то у Вознесенского синонимами оказываются «спасибо» и «спасите». Поэт
(как и вообще художник) не только «описывает» какой-то эпизод, который
является одним из множества возможных сюжетов, в совокупности
составляющих вселенную, — все универсальное множество тем и аспектов. Этот
эпизод становится моделью всего универсума, заполняет его своей
единственностью, и тогда все другие возможные сюжеты, которые автор не избрал, —
это не рассказы о других уголках мира, а другие модели той же вселенной,
то есть сюжетные синонимы реализованного в тексте эпизода. Формула
приобретает такой вид: H = \νι + Ьг. Но как разделенные в своей сущности
«грамматика говорящего» и «грамматика слушающего» реально сосуществуют
в сознании каждого носителя речи, так точка зрения поэта проникает в
читательскую аудиторию, а читательская — в сознание поэта. Можно было
бы даже наметить приближенную схему типов отношений к поэзии, в которых
побеждает та или иная модификация исходной формулы.
Для автора в принципе возможны лишь две позиции («своя» и «читателя»
или «зрителя»). То же самое можно сказать и об аудитории, которая может
занимать лишь одну из двух позиций — «свою» или «авторскую». Следова-
42
СТРУКТУРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
тельно, все возможные здесь ситуации можно свести к матрице из четырех
элементов.
Ситуация № 1. Писатель в позиции: H = ti2 + h2; читатель: H = hi+tii.
Адресат (читатель или критик) разделяет в произведении «содержание» и
«художественные приемы». Ценит выше всего нехудожественную
информацию, содержащуюся в художественном тексте. Писатель оценивает свою
задачу как художественную, читатель видит в нем в первую очередь
публициста и оценивает его произведение по «направлению», журналу, в котором
опубликовано произведение (ср. восприятие «Отцов и детей» Тургенева в
связи с опубликованием их в «Русском вестнике»), или вне данного текста
проявившейся общественной позиции писателя (ср. отношение к поэзии Фета
в среде передовой молодежи 1860-х гг. после появления его реакционных
публицистических статей). Яркое проявление ситуации № 1 — «реальная
критика» Добролюбова.
Ситуация № 2. Писатель в позиции: H = hi + Ьг; читатель: H = hi + Кг.
Возникает в эпохи утонченной художественной культуры (например,
европейское Возрождение, определенные эпохи культуры Востока). Массовое
распространение поэзии: почти каждый читатель — поэт. Поэтические
конкурсы и состязания, известные античности и многим средневековым
европейским и восточным культурам. В читателе развивается эстетство.
Ситуация № 3. Писатель в позиции: H = hi + hr, читатель: H = hi + h'i.
Писатель смотрит на себя как на естествоиспытателя, поставляющего
читателю факты в правдивом описании. Развивается «литература факта»,
«жизненных документов». Писатель тяготеет к очерку. «Художественность» —
уничижительный эпитет, равнозначный «салонности» и «эстетству».
Ситуации № 4. Писатель в позиции: H = hi + hi; читатель: H = h2 + hi.
Писатель и читатель парадоксально поменялись местами. Писатель
рассматривает свое произведение как жизненный документ, рассказ о подлинных
фактах, а читатель настроен эстетски. Предельный случай: нормы искусства
накладываются на жизненные ситуации — бой гладиаторов в римском цирке;
Нерон, оценивающий пожар Рима по законам театральной трагедии;
Державин, повесивший, по словам Пушкина, пугачевца «из пиитического
любопытства». (Ср. ситуацию в «Паяцах» Леонкавалло — жизненная трагедия
воспринимается зрителем как театральная.) У Пушкина:
Холодная толпа взирает на поэта,
Как на заезжего фигляра: если он
Глубоко выразит сердечный, тяжкий стон,
И выстраданный стих, пронзительно-унылый,
Ударит по сердцам с неведомою силой, —
Она в ладони бьет и хвалит, иль порой
Неблагосклонною кивает головой.
Все охарактеризованные ситуации представляют крайние случаи и
воспринимаются как насилие над некоторой интуитивно данной нормой
читательского отношения к литературе. Нас они интересуют как заложенные в
самой основе диалектики «писательского» и «читательского» взгляда на
литературный текст, в самих своих крайностях проясняющие его конструк-
2. Проблема значения в художественном тексте
43
тивную природу. Нормой же является другое: «писательская» и «читательская»
системы различны, но каждый владеющий литературой как неким единым
культурным кодом совмещает в своем сознании оба этих различных подхода,
подобно тому как всякий владеющий тем или иным естественным языком
совмещает в своем сознании анализирующие и синтезирующие языковые
структуры.
Но один и тот же художественный текст при взгляде на него с позиции
адресанта или адресата выступает как результат исчерпания разной энтропии
и, следовательно, носитель разной информации. Если не учитывать тех
интересных изменений в энтропии естественного языка, которые связаны с
величиной ß и о которых речь еще будет идти, то формулу энтропии
художественного текста можно будет выразить так:
Η = Ηι + Н2, где Hi = hi + hi, а Н2 = h2+ hi
Но поскольку Hi и Н2 в предельном случае, грубо говоря, охватывают
всю лексику данного естественного языка, то становится объяснимым факт
значительно большей информативности художественного текста по сравнению
с нехудожественным.
2. Проблема значения
в художественном тексте
Существует весьма распространенное предубеждение, согласно которому
структуральный анализ призван отвлечь внимание от содержания искусства,
сго общественно-нравственной проблематики ради чисто формальных штудий,
статистического учета «приемов» и тому подобного. У неподготовленного
читателя, заглянувшего в работу, выполненную на достаточно высоком уровне
формализации, создается впечатление, что живое тело художественного
произведения только подвергается разъятию ради подведения тех или иных его
сторон под абстрактные категории. А поскольку сами эти категории
определяются в терминах странных и незнакомых, то невольно возникает чувство
тревоги. Каждому мерещится свое привычное пугало: одним — убийство
искусства, другим — проповедь «чистого искусства», злокозненная
безыдейность. Самое забавное, что эти два обвинения часто предъявляются
одновременно.
При этом, иногда с добросовестным непониманием, а иногда в жару
полемики, уводящей за пределы корректных приемов научного спора,
ссылаются на высказывания как сторонников формальной школы 1920-х гг., так
44
СТРУКТУРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
и современных структуралистов о необходимости изучать искусство как
совершенно замкнутую, имманентную систему.
Утверждение, что структурно-семиотическое изучение литературы уводит
от вопроса содержания, значения, общественно-этической ценности искусства
и его связи с действительностью, основано на недоразумении.
Само понятие знака и знаковой системы неотрывно связано с проблемой
значения. Знак выполняет в культуре человечества функцию посредника. Цель
знаковой деятельности — передача определенного содержания.
Уход от значения не может быть результатом того метода, который в
центр ставит исследование самой проблемы семиозиса. Именно изучение
того, что же означает «иметь значение», что такое акт коммуникации и
какова его общественная роль, — составляет сущность семиотического
подхода. Однако для того, чтобы понять содержание искусства, его общественную
роль, его связь с нехудожественными сторонами человеческой деятельности,
мало доброго желания, мало и бесконечного повторения общеизвестных и
слишком общих истин. Вряд ли кто-нибудь сейчас будет спорить с тем, что
общественная жизнь определяет облик искусства. Но разве, еще раз повторив
этот ни у кого не вызывающий сомнений тезис, мы можем компенсировать
неумение объяснить, чем текст Достоевского отличается от текста Толстого?
И почему одинаковые условия порождают различные художественные
произведения?
Но почему же сторонники структурального подхода говорят о
необходимости изучения произведения как синхронно замкнутой структуры, о
закономерности интереса к имманентному анализу текста? Разве это не уход
от проблемы внеэстетического значения произведения?
Позволим себе прибегнуть к примеру. Перед вами книга. Книга эта
содержит очень важные для вас истины, но написана на незнакомом языке.
Вы не лингвист и специально вопросами языкознания не интересуетесь,
изучение языка как самоцель вас тоже не интересует. Что вас привлекает к
книге? Желание узнать ее содержание. Вы будете, конечно, правы, когда
скажете, что, кроме него, вам вообще ни до чего в этой книге дела нет.
Таков естественный подход всякого, обращающегося к любой знаковой
системе.
Однако представим себе человека, который бы сказал: я хочу знать
содержание этой книги, но не хочу понимать языка, на котором она написана.
Ему, естественно, сообщили бы, что это невозможно. Для того чтобы получить
сообщение, надо владеть языком, на котором оно написано. А если уж
человек решился овладеть языком, ему неизбежно придется отвлечься от
содержания тех или иных предложений и изучить их форму. Известно, что
учебники иностранного языка не отличаются особенной глубиной
развиваемых в них идей, — у них другая задача: научить владению языком как
определенной системой, способной служить средством передачи любого
содержания. Если считать это формализмом, то придется признать в качестве
образца борьбы с этим злокозненным подходом утверждение Митрофана о
том, что дверь — прилагательное, «потому что она приложена к своему
месту. Вон у чулана шеста неделя дверь стоит еще не навешана: так та
2. Проблема значения в художественном тексте
45
покамест существительна». Мы часто предполагаем, что это глупость, между
тем слова Митрофана нечто совсем иное — это здравый смысл, который не
признает абстракций и желает решать вопросы с точки зрения существа, а
не с точки зрения метода. Еще ярче это проявляется в известном замечании
Простаковой по поводу того, как разделить найденные «триста рублев» троим
поровну: «Врет он, друг мой сердечный! Нашел деньги, ни с кем не делись.
Все себе возьми, Митрофанушка. Не учись этой дурацкой науке». Не будем
смеяться над Простаковой, а проанализируем ее слова. Права ли она?
Бесспорно, если смотреть на задачу с точки зрения здравого смысла, а не
стремления овладеть формальными правилами арифметики (не касаемся
моральной стороны высказывания Простаковой), с точки зрения математика,
то есть извращенного человека, привыкшего глядеть не на «сущность»
явления, а на правильность производимых операций, «альтруистический» ответ:
«Все отдай, Митрофанушка, не учись этой эгоистической науке!» — не менее
нелеп. Но Цыфиркин учит Митрофана совсем не тому, как нравственно,
полезно или выгодно поступать, а тому, как осуществлять деление целых
чисел. Можно по-разному относиться к обучению арифметике или грамматике,
но нельзя опровергнуть того, что для овладения этими науками их следует —
на определенном этапе — представить как имманентные, замкнутые
структуры знаний.
Из этого не следует, что, изучив язык как имманентную систему, мы не
будем им в дальнейшем пользоваться для получения определенных — уже
содержательных — сообщений. Наш интерес к содержательной стороне будет
столь велик, а владение формальным механизмом языка столь автоматично,
что мы вообще сможем о нем забывать, вспоминая, что мы пользуемся
определенным механизмом лишь в общении с иностранцами или детьми, то
есть тогда, когда этот аппарат будет нарушаться.
Итак, имманентное изучение языка — путь (и существенный) л*
содержанию того, что на нем написано.
Но тогда сразу же выдвигается две стороны одного общего вопроса: как
построен художественный текст в своей внутренней, имманентной
(синтагматической) конструкции и какое он имеет значение, то есть каковы его
семантические связи с внеположенными ему явлениями.
Но прежде чем говорить об этом, следует поставить вопрос: что же значит
«иметь художественное значение»? Ответить на него труднее, чем это может
показаться вначале. Что значит вообще «иметь значение»? Б. А. Успенский,
вслед за К. Шенноном, определяет значение «как инвариант при обратимых
операциях перевода»1. Это определение выражает, видимо, наиболее точно
понятие значения. Рассмотрим некоторые специальные аспекты понятия
значения во вторичных моделирующих системах.
Проблема значений — одна из основных для всех наук семиотического
цикла. В конечном итоге, целью изучения любой знаковой системы является
1 Успенский Б. А. О семиотике искусства // Симпозиум по структурному изучению
знаковых систем. М., 1962. С. 125.
46
СТРУКТУРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
определение ее содержания. Особенно остро это ощущает исследователь
вторичных моделирующих систем: изучение культуры, искусства, литературы
как знаковых систем в отрыве от проблемы содержания теряет всякий смысл.
Однако нельзя не видеть, что именно содержание знаковых систем, если
только не удовлетворяться чисто интуитивными представлениями о значениях,
наиболее сложно для анализа. В этой связи будет полезно вообще уточнить
представление о природе знака и его значении.
Несмотря на то, что понятие системности знаков лежит в самой основе
структурального понимания этого вопроса, практически широко
распространено значительно более упрощенное толкование. Часто приходится
сталкиваться с атомарным пониманием природы знака. Единство обозначаемого и
обозначающего подчеркивается гораздо чаще, чем неизбежность включения
знака в более сложные системы. А между тем это первое свойство
представляется лишь проявлением второго. При рассмотрении той стороны знака,
которую связывают с планом выражения, системность подчеркивается чаще.
Возможность перекодировки одной системы выражения в другую (например,
звуковой в графическую) — очевидный факт, который не дает оспорить
мысль о том, что материальность знака реализуется прежде всего через
создание определенной реляционной системы. Из этого вытекает, что в плане
выражения существование отдельного, атомарного, внесистемного знака
просто невозможно.
Однако необходимо признать, что и содержания знаков могут мыслиться
лишь как связанные определенными отношениями структурные цепочки.
Сущность каждого из элементов ряда содержания не может быть раскрыта
вне отношения к другим элементам. Факт, который не может быть ни с чем
сопоставлен и не включается ни в один класс, не может составить содержания
языка. Из сказанного следует, что значение возникает в тех случаях, когда
мы имеем хотя бы две различные цепочки-структуры. В привычных терминах
одну из них можно определить как план выражения, а другую — как план
содержания. При перекодировке между определенными парами элементов,
разными по своей природе, будут устанавливаться соответствия, причем один
элемент в своей системе будет восприниматься как эквивалентный другому
в его системе. Подобное пересечение двух цепочек структур в некоей общей
двуединой точке мы будем называть знаком, причем вторая из цепочек —
та, с которой устанавливается соответствие, — будет выступать как
содержание, а первая — как выражение. Следовательно, проблема содержания
есть всегда проблема перекодировки1. Правда, само разделение двух планов —
содержания и выражения — обладает известной условностью (аналогичную
мысль высказывал Л. Ельмслев), поскольку установление эквивалентности
1 О связи проблемы значения и перекодировки см.: Топоров В. Н. О
трансформационном методе // Трансформационный метод в структурной лингвистике. М., 1964;
Розенцвейг В. Ю. Перевод и трансформация // Там же; Шрейдер Ю. Α., Арапов М. В.
Семантика и машинный перевод // Проблемы формализации семантики языка: Тезисы
докладов I МГПИИ. М., 1964; Jakobson R. On Linguistik Aspekts of Translation // On
Translation. Cambridge, 1959.
2. Проблема значения в художественном тексте
47
между элементами двух разных систем — наиболее частый, но не
единственный случай образования значений. Можно указать на семиотические системы,
претендующие на универсальность, которые принципиально не допускают
подстановки значений из структуры другого рода. Здесь мы будем иметь
дело с реляционными значениями, возникающими в результате выражения
одного элемента через другие внутри одной системы. Этот случай можно
определить как внутреннюю перекодировку.
Попутно следует заметить, что подобный подход ослабляет абсолютность
противопоставления планов содержания и выражения, в принципе допуская
их обратимость. Конечно, коммуникационные цели предъявляют к каждому
из этих планов особые требования и практически делают их связь
однонаправленной. Однако в сфере теории таких ограничений не существует. Так, на
уроке языка, разговаривая с учениками, не владеющими русской речью,
учитель показывает на стол и говорит «стол». В этом случае вещи будут
выступать в качестве знаков метаязыка, содержание которых будут составлять
слова.
Вторичные моделирующие системы представляют собой структуры, в
основе которых лежит естественный язык. Однако в дальнейшем система
получает дополнительную, вторичную структуру идеологического, этического,
художественного или какого-либо иного типа. Значения этой вторичной
системы могут образовываться и по способам, присущим естественным
языкам, и по способам других семиотических систем. Таким образом,
представляется целесообразным указать на некоторые теоретически возможные
способы образования значений, а затем проследить, какие из них и каким
образом могут реализовываться в конкретном историко-литературном
материале.
Значение образуется путем внутренней перекодировки. Возможны
семиотические системы, в которых значение образуется не путем сближения двух
цепочек структур, а имманентно, внутри одной системы. Приведем пример
простого алгебраического выражения а = Ь + с. Очевидно, что знак «а»
имеет здесь определенное содержание. Однако это содержание не вытекает
из каких-либо связей с внеположенными этому равенству системами. Мы
можем приписать ему внешнее значение, подставив под «а», например,
определенный численный показатель, но отсюда отнюдь не вытекает, что при
отказе от подобных подстановок эти знаки не будут иметь значений. Их
значение будет иметь реляционную природу — оно будет выражать
отношение одних элементов системы к другим. Содержанием «а» является в нашем
примере «Ь + с». В общесемиотическом смысле вполне можно представить
себе системы с именно такой природой содержания знаков. К ним, видимо,
можно отнести математические выражения, а также непрограммную и не
связанную с текстом музыку. Конечно, вопрос о значении музыкального
знака сложен и, видимо, всегда включает связи с экстрамузыкальными
реальными и идейно-эмоциональными рядами, но безусловно, что эти связи
носят значительно более факультативный характер, чем, например, в языке,
и мы можем себе представить, хотя бы условно, чисто музыкальное значение,
образуемое отношениями звучащих рядов, вне каких-либо экстрамузыкальных
48
СТРУКТУРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
связей1. В том случае, когда перед нами, как это имеет место в музыке,
значение образуется соотнесенностью ряда элементов (или цепочек элементов)
внутри структуры, можно говорить о множественной внутренней
перекодировке.
Значения образуются путем внешней перекодировки. Этот случай кажется
нам более привычным, ибо он представлен в естественных языках.
Устанавливается эквивалентность между двумя цепочками — структурами разного
типа и их отдельными элементами. Эквивалентные элементы образуют пары,
объединяемые в знаки. Следует подчеркнуть, что эквивалентными
оказываются разнотипные структуры. Хотя трудно установить принципиальную
разницу между такими видами перекодировки, как перевод звуковой формы в
графическую или с одного языка на другой, с одной стороны, и дешифровка
содержания, с другой, однако очевидно, что чем дальше отстоят взаимоу-
равниваемые в процессе перекодировки структуры друг от друга, чем отличнее
их природа, тем содержательнее будет сам акт переключения из одной системы
в другую.
Сближение двух рядов — наиболее распространенный случай образования
значений в естественных языках. Его можно определить как парную внешнюю
перекодировку.
Однако во вторичных моделирующих системах мы будем сталкиваться и
со множественными внешними перекодировками — сближением не двух, а
многих самостоятельных структур, причем знак будет составлять уже не
эквивалентную пару, а пучок взаимоэквивалентных элементов разных систем.
Можно заметить, что планы выражения и содержания (если не касаться
вопроса об их обратимости) более или менее естественно выделяются при
перекодировках третьего типа. Остальные же случаи (внутренние и
множественные внешние перекодировки), по сути дела, не поддаются подобной
интерпретации.
Все перечисленные выше виды образования значений присутствуют во
вторичных моделирующих системах, проявляясь с той или иной степенью
полноты. Имманентно-реляционные значения будут особенно ярко выявляться
в тех вторичных семиотических системах, которые претендуют на
всеобщность, монопольный охват всего мировоззрения, систематизацию всей данной
человеку действительности. Ярким примером системы с доминирующей
внутренней перекодировкой во вторичных моделирующих системах
художественного типа является литературный романтизм.
1 В этой связи следует отметить, что классификация искусств, предложенная М. Вал-
лисом в его содержательной статье «Swiat sztuk i swiat znakow» (Estetyka. Rocznik II.
Warszawa, 1961), может быть оспорена. Автор делит искусства на семантические и
несемантические, относя к последним музыку и абстрактные искусства, включая
современную архитектуру. Справедливо утверждая, что знаки должны нести
представления о «предметах, иных, чем сами», автор, однако, полагает, что постройка
Корбюзье или прелюд Шопена знаками не являются (с. 39), т. е. не имеют значений.
Видимо, правильнее было бы говорить не об отсутствии значений в художественных
структурах этого типа, а о реляционной природе этих значений.
2. Проблема значения в художественном тексте
49
Если мы возьмем значение такого понятия в системе романтизма, как
«гений», «великий дух», то содержание его легко можно будет получить,
определив отношение этого понятия к другим понятиям системы. Укажем на
некоторые из оппозиций, которые позволяют раскрыть содержание понятия
«гений — толпа». Эта антитеза накладывается на оппозиции: «величие —
ничтожество», «необычность, исключительность — пошлость, заурядность»,
«духовность — материальность», «творчество — животность», «мятеж —
покорность» и т. п. Все первые понятия этих двучленных оппозиций, с одной
стороны, и все вторые, с другой, выступают как варианты некоего
архизначения, которое тем самым дает нам с определенной приближенностью
содержание этого понятия в рамках структуры романтического сознания.
Однако мы можем еще более уточнить его значение, если вспомним, что в
системе романтического мышления «гений» включается и в иные антитезы.
Таковыми будут, например, противопоставление его свободному и
прекрасному патриархальному народу (здесь понятие будет включаться в оппозиции:
эгоизм — альтруизм; своеволие — вера в предания и заветы отцов; мертвая
душа — сила чувства; рационализм — жизнь сердца; безверие —
религиозность) или идеальному женскому образу (возникают оппозиции: трагическая
разорванность — гармоническая цельность; безобразие как выражение
дисгармонии — красота; принадлежность миру трагического зла — добро и
др.). Как мы видим, архитип1 понятия «гений» в этих случаях весьма различен.
И все же они входят в одну систему и, следовательно, все эти архитипы
воспринимаются как варианты одного архитипа второго ряда, между
различиями устанавливается отношение эквивалентности. Так образуется значение.
Таким образом, мы можем получить достаточно ясное представление о
понятии «гений», изучив его отношение к другим понятиям системы и всей
системе в целом. Однако выхода за пределы этой системы, с точки зрения
романтика, не требуется. Вопрос об объективном значении, о том, что те
или иные понятия означают на языке иного мышления, в пределах
романтического сознания принципиально не возникает. Зато в реалистической
художественной системе вопрос о соотношении значения понятия в структуре
(идей или стиля) с внесистемным значением сразу же занимает первостепенное
место. Средством выявления этого значения выступает внешняя
перекодировка, демонстративное обнажение возможности переключения из одной
системы (идей или стиля) в другую. Так, Пушкин, уже смотрящий на
романтическую структуру глазами реалиста, стремился раскрыть значение
романтической системы стиля, перекодируя его в иной стилистический регистр:
Он мыслит: «Буду ей спаситель.
Не потерплю, чтоб развратитель
Огнем и вздохом и похвал
Младое сердце искушал;
1 Термин «архитип» и подобные ему («архисема», «архиструктура») образованы по
аналогии с «архифонемой» Н. С. Трубецкого и употребляются в значении
совокупности дифференциальных признаков, общих двум элементам данного уровня
нейтрализующегося бинарного противопоставления.
50
СТРУКТУРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
Чтоб червь презренный, ядовитый
Точил л ил ей стебелек;
Чтобы двухутренний цветок
Увял еще полураскрытый».
Все это значило, друзья:
С приятелем стреляюсь я.
Показательно, что романтическая фразеология Ленского выступает как
выражение, а авторская речь — как ее объективное содержание. Структура
неромантического повествования воспринимается здесь не как один из многих
возможных способов выражения1, а как содержание, структура самой
действительности.
Более сложен случай, когда автор не сопоставляет два стиля, подразумевая,
что один из них — ложный, неестественный и напыщенный, а другой —
правдивый, воплощающий самое истину, а стремится проникнуть в сущность
действительности, поняв ограниченность любой из кодирующих систем. Здесь
мы сталкиваемся с множественной внешней перекодировкой. Значение
возникает из уравнивания различного, из установления эквивалентности
нескольких, очень непохожих семантических систем первого ряда. Многократность
перекодировки позволяет построить общее для разных систем семантическое
ядро, которое воспринимается как значение, выход за пределы знаковых
структур в мир объекта.
При этом необходимо подчеркнуть, что множественность внешней
перекодировки получает различный смысл в разных структурах. В одних она
может служить цели построения из ряда субъективных систем объективного
их инварианта — действительности. Так построен «Герой нашего времени».
Автор дает некую множественность субъективных точек зрения, которые,
взаимопроектируясь, раскрывают свое общее содержание —
действительность. Но возможно и обратное, например в комедиях Тика или некоторых
драмах Пиранделло: многократные перекодировки утверждают отсутствие
объективной действительности. Реальность, которая распадается на
множество интерпретаций в такой системе, — мнимая. С точки зрения автора,
действительность — лишь знак, содержанием которого являются бесконечные
интерпретации2. В первом случае интерпретация — знак, а
действительность — содержание: во втором — действительность — знак, а
интерпретация — сущность, содержание.
Не следует забывать, что теоретически различные системы образования
значений в реальных вторичных моделирующих системах часто сосуществуют.
1 Таким образом можно истолковать цитату:
Покоится в сердечной неге,
Как пьяный путник на ночлеге,
Или, нежней, как мотылек,
В весенний впившийся цветок.
2 Ср. ремарку А. Блока в пьесе «Балаганчик»: «Прыгает в окно. Даль, видимая в
окне, оказывается нарисованной на бумаге. Бумага лопнула. Арлекин полетел вверх
ногами в пустоту».
2. Проблема значения в художественном тексте
51
Мы можем выделить в одной и той же системе, например, значения,
возникающие в результате внутренней и внешней перекодировки. Так, анализируя
идеи Руссо, мы можем пойти по пути выявления содержания отдельных
понятий или системы в целом, раскрывая связи их с определенными рядами
действительности, например, изучая объективное экономическое значение
идеалов Руссо, связь его представлений с социальной практикой тех или
иных общественных сил его эпохи. Мы можем пойти по пути определения
значения идей (напомню, что мы определяем в данном случае не значение
слов, а значение идей, выраженных словами) Руссо, сопоставив их с идеями
других структурных рядов, например, сравнивая понятие «народ» у Руссо с
соответствующими представлениями Вольтера, Мабли, Радищева, Гоббса и
других. Однако можно пойти и по иному пути, пытаясь определить значение
элемента путем выяснения его отношения к другим элементам этой же
системы. Такое имманентное значение мы получим, например, если изучим
отношение понятия «народ» у Руссо к понятиям «человек»», «разум»,
«нравственность», «власть», «суверенитет» и др. Правда, имманентность значений
здесь будет, конечно, не столь безусловна, как, например, в математическом
выражении, ибо, выясняя реляционное семантическое содержание, мы не
можем отвлечься и от множественных внесистемных, с точки зрения
мировоззрения Руссо, значений этих терминов. Однако внесистемные значения,
неизбежно присутствуя, не составляют в данном случае главного, а порой
могут даже становиться источниками заблуждений1.
Все эти соображения чрезвычайно существенны для решения вопроса о
природе содержания вторичных моделирующих систем. Попытаемся
проиллюстрировать их на примере анализа некоторых сторон стиля Лермонтова.
Романтическая лирика Лермонтова дает весьма последовательную
моностилистическую структуру. Это является следствием всеобъемлющего
характера романтического субъективизма. Мир авторского «я» — единственный.
Он не соотносится ни с миром реальности, ни с миром какой-либо другой
личности. Поэтому, с точки зрения романтика, возможность эквивалентности
его поэтического мира и реальности или мира, наблюдаемого другим,
например более прозаическим, человеком, — исключается. Романтическая
система как целое принципиально (с точки зрения романтизма) не подлежит
перекодировке. Как целое она единственна, составляет собой универсум
данного поэта, и, следовательно, семантического значения (выражения в
1 Таковы случаи, когда читатель, утративший чувство авторской системы,
непроизвольно переключает текст в иную, более ему понятную структуру. Так,
распространенное заблуждение, якобы Пушкин стихами «Восстаньте, падшие рабы» в оде
«Вольность» призывал крестьян к восстанию, основано на переключении слов «восстание»,
«восстать» из структурной оппозиции: «торжественные речения — просторечия» (про-
тивочленом слову «восстаньте», выделяющим его значение, будет: «поднимитесь») в
структурную оппозицию: «революция — реформа» или «революция — сохранение
существующего» (противочленами будут: «действуйте в рамках закона» или «терпите»).
Ясно, что замена пушкинской системы какой-либо иной приводит к искажению
значения.
52
СТРУКТУРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
другой системе) не имеет. На заре русского предромантизма А. М. Кутузов
сочувственно цитировал слова Якоба Бёме: «Ангелы и диаволы находятся
неподалеку друг от друга; однако же Ангел, быв посреди Ада, находится в
Раю и не видит Ада, тако же и диавол, быв посреди Рая, находится в Аду
и не видит Рая»1.
В системе, которая строится на подобных принципах, значения будут
возникать не за счет установления эквивалентности ее элементов элементам
другой системы, а в их внутреннем отношении друг к другу. Так,
гармонический душевный мир героини романтической поэмы — антитеза трагической
разорванности героя, ее доброта противопоставлена его демонизму, ее вера —
бездне его безверия, ее любовь — его ненависти, а ее красота — часто —
его безобразию. Таким образом, героиня не имеет ни самостоятельного
характера, ни самостоятельного значения. Она — дополнительная величина
по отношению к образу героя, его идеал, его идеальное инобытие (поэтому
разница пола иногда здесь совершенно не обязательна, и, переводя «Сосну»
Гейне, Лермонтов снял этот дифференцирующий признак: сосна и пальма у
него — обе женского рода)2. Значение элементов возникает в их отношении.
То же можно сказать о семантике романтического пейзажа. С этим связано
стилистическое единство романтического творчества Лермонтова3.
Выход писателя за пределы романтического сознания определил новый
подход к проблеме значений. Возникает вопрос об объективном значении
знаков и структур. Лермонтов начинает допускать возможность увидеть одно
и то же явление с двух точек зрения. Это приводит к появлению произведений,
в которых демонстративно пересказывается одно и то же содержание в разных
семантических ключах и в разных стилистических тональностях. Такая
двузначность характерна для поэмы «Сашка»:
Луна катится в зимних облаках,
Как щит варяжский или сыр голландской.
«Щит варяжский» и «сыр голландской» (можно отметить антитезу не только
лексическую, но и грамматико-стилистическую — торжественное «ий» и
разговорное «ой») взаимоэквивалентны, так как имеют общее значение на
уровне реальности (луна). Причем отношение между ними не адекватно
снижению романтического стиля в приведенном нами выше примере из
«Евгения Онегина». Там романтический стиль выступает как ложная
вычурность (не случайно определение романтизма Белинским — «век
фразеологии» — или лермонтовская антитеза «ложной мишуры» и «правды голоса
благородного»), противопоставленная простой истине. Таким образом,
соотношение было единонаправленным, напоминая отношение содержания и
1 Цит. по: Труды по русской и славянской филологии. Т. 6. Тарту, 1963. С. 319.
2 Иное решение: «кедр — пальма» в переводе А. Майкова и Ф. Тютчева. Ср.:
Щерба Л. В. Избранные работы по русскому языку. М., 1957. С. 97—100.
3 Мы сознательно отвлекаемся от того, что любая вторичная моделирующая система
использует язык (следовательно, в основе ее лежат двуединые знаки), и рассматриваем
лишь те значения, которые возникают на сверхъязыковом уровне и принадлежат
собственно вторичным системам.
2. Проблема значения в художественном тексте
53
выражения в языке. В «Сашке» система иная: перед нами две равноправные
точки зрения, а значением является не одна из них, а их отношение. Связь
цепочек-структур здесь не одно-, а взаимонаправленная. Это подчеркивается
устойчивым приемом: введением параллельных по реальному содержанию,
но резко противопоставленных по стилю строф:
Он был мой друг. С ним я не знал хлопот,
С ним чувствами и деньгами делился;
Он брал на месяц, отдавал чрез год.
Но я за то ни мало не сердился
И поступал не лучше в свой черед;
Печален ли, бывало, тотчас скажет,
Когда же весел, счастлив — глаз не кажет.
Не раз от скуки он свои мечты
Мне поверял и говорил мне ты;
Хвалил во мне, что прочие хвалили,
И был мой вечный визави в кадрили.
Он был мой друг. Уж нет таких друзей...
Мир сердцу твоему, мой милый Саша!
Пусть спит оно в земле чужих полей,
Не тронуто никем, как дружба наша,
В немом кладбище памяти моей.
Ты умер, как и многие, без шума,
Но с твердостью. Таинственная дума
Еще блуждала на челе твоем,
Когда глаза сомкнулись вечным сном;
И то, что ты сказал перед кончиной,
Из слушавших не понял ни единый.
Еще пример:
Москва — не то: покуда я живу,
Клянусь, друзья, не разлюбить Москву.
Там я впервые в дни надежд и счастья
Был болен от любви и любострастья.
Москва, Москва!., люблю тебя как сын,
Как русский, — сильно, пламенно и нежно!
Люблю священный блеск твоих седин...
Приведенные примеры показывают, что пласт «романтического» стиля
(«щит варяжский») — не только предмет снижения и пародирования. Ни тот
ни другой пласт не представляют собой значения в чистом виде: оно возникает
в результате их взаимопроекции.
Подобное построение отражало усложненный образ действительности.
Из представления, согласно которому действительность — это то, что дано
обыденному, простому взгляду, вырабатывается другое: действительность —
это взаимопересечение различных точек зрения, позволяющее выйти за пре-
54
СТРУКТУРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
делы ограниченности каждой из них. Носителем значения становится не
какой-либо стилистический пласт, а пересечение многих контрастных стилей
(точек зрения), дающее некое «объективное» (надстилевое) значение.
Блестящим примером такого построения является стиль «Героя нашего времени».
Лермонтов постоянно пользуется приемом перекодировки, показывая, как
наблюдаемое с одной точки зрения выглядит с другой. Действительность
раскрывается как взаимоналожение аспектов. Так, характер Печорина дан
нам глазами автора, Максима Максимовича, самого Печорина и других
героев. Суждения каждого из них, начиная с Максима Максимовича,
считающего, что англичане «ввели моду скучать», так как «они всегда были
отъявленные пьяницы», ограниченны. Но каждое суждение содержит и ту
часть истины, которая выявляется от их пересечения.
В основе стиля «Героя нашего времени» — сложная система
перекодировок, раскрывающая родство внешне различных точек зрения и отличие
сходных. Так, романтическая антитеза кавказского («экзотического») и
русского («обыденного») этноса снимается утверждением единства народной
(наивной) точки зрения. Это структурно раскрывается легкостью и
естественностью, с какой непереводимые идиомы языка и обычаев народов Кавказа
перекодируются в формы русского народного сознания: «Эй, Азамат, не
сносить тебе головы, — говорил я ему, — яман будет твоя башка!» «— Как
же у них празднуют свадьбу?» — в этом вопросе автора Максиму
Максимовичу звучит ожидание экзотики, но ответ демонстративно переводит
этнографическую необычность в стиль обыденной повседневности и
подчеркнутых русизмов: «— Да обыкновенно. Сначала мулла прочитает им что-то
из Корана; потом дарят молодых...» Эти «обыкновенно» и «молодые» дают
стилевой ключ всей картине, рисующей полную обратимость понятий.
Пирующие черкесы — «честная компания», певец-акын — это «бедный
старичишка», который «бренчит на трехструнной... забыл, как по-ихнему... ну, да
вроде нашей балалайки». Черкесские танцы перекодированы в формы
русского деревенского пляса: «Девки и молодые ребята становятся в две шеренги,
одна против другой, хлопают в ладоши и поют»1. Полное понимание
Максимом Максимовичем мира горцев («Хотя разбойник он, а все-таки был
моим кунаком». Или — о Казбиче, убившем отца Бэлы: «Конечно, по-ихнему
<...> он был совершенно прав») и полное непонимание им Печорина весьма
показательны. Понятия Печорина не перекодируются в системе Максима
Максимовича. Он для него «с большими странностями». «Исполнив долг
свой, сел я к нему на кровать и сказал:
— Послушай, Григорий Александрович, признайся, что нехорошо.
— Что нехорошо?
— Да то, что ты увез Бэлу... <...>
— Да когда она мне нравится?..
Ну, что прикажете отвечать на это?.. Я стал в тупик»2.
1 Лермонтов М. Ю. Соч.: В 6 т. М.; Л., 1957. Т. 6. С. 210. Курсив мой. — Ю. Л.
2 Там же. С. 219.
2. Проблема значения в художественном тексте
55
Очень сложно соотношение Печорина с персонажами, окружающими его,
в «Княжне Мери». Разными сторонами своего характера он проецируется на
разных персонажей. Лермонтов демонстративно заставляет противоположных
по характеру героев пользоваться одной и той же фразеологией.
Печорин: «Жены местных властей <...> привыкли на Кавказе встречать
под нумерованной пуговицей пылкое сердце и под белой фуражкой
образованный ум»1.
Грушницкий: «И какое им дело, есть ли ум под нумерованной фуражкой
и сердце под толстой шинелью»2.
Печорин (пародируя стиль речи «русской барышни»): «Года через два
выйдет замуж за урода, из покорности к маменьке и станет себя уверять,
что она несчастна, что она одного только человека и любила <...> но что
небо не хотело соединить ее с ним, потому что на нем была солдатская
шинель, хотя под этой толстой, серой шинелью билось сердце страстное и
благородное»3.
Между Печориным и Грушницким устанавливается особая система
отношений: одинаковые выражения раскрывают разницу характеров. Но
разница не может снять того, что все же они говорят одно и то же и,
следовательно, в определенном отношении эквивалентны. Мы получаем
возможность увидеть Печорина глазами Грушницкого и Грушницкого глазами
Печорина. Вокруг Печорина — целая система героев, которые как бы
переводят его сущность на язык другой системы и тем самым эту сущность
выявляют. Причем здесь дается целая гамма от наиболее далеких типов
сознания до тождественных. Формула «другой, но тождественный» тоже
может рассматриваться как частный случай перекодировки (с нулевым
изменением) — средство сделать систему явной для себя. Такую роль играет
дневник Печорина — инобытие его личности — и образ доктора Вернера.
Причем если Печорин и Грушницкий настолько далеки, что автор может
дать им произносить сходные речи, то Печорин и Вернер настолько
тождественны, что всякое словесное общение между ними делается бесполезным;
бессмысленные реплики, которыми они обмениваются, — лишь знаки полного
тождества невысказанных мыслей: «Мы часто сходились вместе и толковали
вдвоем об отвлеченных предметах очень серьезно, пока не замечали оба, что
мы взаимно друг друга морочим. Тогда, посмотрев значительно друг другу
в глаза, как делали римские авгуры, по словам Цицерона, мы начинали
хохотать и, нахохотавшись, расходились, довольные своим вечером». Или:
«...Вернер взошел в мою комнату. Он сел в кресла, поставил трость в угол,
зевнул и объявил, что на дворе становится жарко. Я отвечал, что меня
беспокоят мухи, — и мы оба замолчали»4. Мы получаем ряд оценок Печорина:
«Славный был малый», «немножко странен», человек, с которым «непременно
должно соглашаться», «глупец я или злодей?», «видно, в детстве был ма-
1 Лермонтов М. Ю. Соч. Т. 6. С. 261.
2 Там же. С 265.
3 Там же. С. 277.
4 Там же. С. 270.
56
СТРУКТУРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
менькой избалован», «странный человек», «опасный человек», «...есть минуты,
когда я понимаю Вампира... А еще слыву добрым малым...», «одни скажут:
он был добрый малый, другие — мерзавец», странствующий офицер «да еще
с подорожной по казенной надобности», «герой нашего времени». Но
одновременно мы получаем сведения и о системах, в терминах которых герой
так описывается, и о характере отношения этих систем к описываемому
объекту (Печорину).
Мы видим, что структура, значение которой образуется в результате
взаимной перекодировки многих систем-цепочек, позволяет в наибольшей
мере выходить вообще за пределы каждой конкретной системности. Это
соответствует природе значений в некоторых типах реалистического
искусства.
Перекодировка органически связана с проблемой эквивалентности. Вопрос
этот приобретает особое значение в связи с тем, что эквивалентность
элементов на различных уровнях является одним из основных организующих
принципов поэзии и, шире, художественной структуры вообще. Ее можно
проследить на всех уровнях, от низших (тропы, ритмика) до высших
(композиционная организация текста). Однако сложность вопроса в значительной
мере состоит в том, что само понятие эквивалентности во вторичных
моделирующих системах художественного типа имеет иную природу, чем в
структурах первичного (лингвистического) типа. В этом случае эквивалентными
(на семантическом уровне) считаются элементы, однозначные по отношению
к общему денотату, ко всей семантической системе в целом и к любому ее
элементу, ведущие себя одинаково в одинаковом окружении и, как следствие,
поддающиеся взаимной перестановке. При этом необходимо учитывать, что
значительно чаще, чем полная семантическая эквивалентность, с которой в
основном будет иметь дело переводчик, а не человек, производящий
семантические трансформации в пределах одного языка, встречается семантическая
эквивалентность на определенном уровне. Рассмотрим слова: «есть» —
«жрать» и «спать» — «дрыхать». Взятые на уровне сообщения, которое
безразлично к стилистической окраске, первые два (равно как и два вторые)
слова будут эквивалентными. Но для сообщения, включающего, например,
информацию об отношении говорящего к действиям объекта, они не будут
эквивалентными. И наконец, мы можем представить себе сообщение с
доминирующей стилистической нагрузкой, в котором первое и третье и второе
и четвертое слова будут попарно эквивалентными.
Эквивалентность семантических единиц художественного текста
реализуется иным путем: в основу кладется сопоставление лексических (и иных
семантических) единиц, которые на уровне первичной (лингвистической)
структуры могут заведомо не являться эквивалентными. Более того, часто
писатель стремится положить в основу художественного параллелизма
наиболее удаленные значения, явно относящиеся к денотатам разного типа. Затем
строится вторичная (художественная) структура, в которой эти единицы
оказываются в положении взаимного параллелизма, и это становится сигналом
того, что в данной системе их следует рассматривать в качестве эквивалентных.
Происходит нечто, прямо противоположное явлению семантической эквива-
2. Проблема значения в художественном тексте
57
лентности в языке, но возможное только на основе устойчивого опыта
языкового общения.
Эквивалентность семантических элементов художественной структуры не
подразумевает ни одинакового отношения к денотату, ни тождественности
отношений к остальным элементам семантической системы естественного
языка, ни одинакового отношения к общему окружению. Напротив, все эти
отношения на языковом уровне могут быть отличными. Однако, поскольку
художественная структура устанавливает между этими различными элементами
состояние эквивалентности, воспринимающий начинает предполагать
существование иной, отличной от общеязыковой семантической системы, в составе
которой эти элементы оказываются в одинаковом отношении к смысловому
окружению. Так создается особая семантическая структура данного
художественного текста. Но дело не ограничивается этим: эквивалентность
неэквивалентных элементов заставляет предполагать, что знаки, имеющие на
языковом уровне разные денотаты, на уровне вторичной системы обладают
общим денотатом. Так, «сыр» и «щит», имеющие на языковом уровне
различные денотаты, в поэтическом тексте Лермонтова получили общий —
«луна». Вместе с тем ясно, что «луна» как общеязыковый денотат не может
обозначаться знаками «сыр» и «щит», тем более одновременно. Так может
обозначаться лишь луна как элемент особой картины мира, созданной
Лермонтовым. Следовательно, необходимо отказаться от традиционного
представления, согласно которому мир денотатов вторичной системы тождествен
миру денотатов первичной. Вторичная моделирующая система
художественного типа конструирует свою систему денотатов, которая является не копией,
а моделью мира денотатов в общеязыковом значении.
Классифицируя различные типы значений, следует различать два случая
эквивалентности рядов-цепочек в пределах знаковых систем: перекодировку
в сфере семантики и перекодировку в сфере прагматики. «Щит варяжский
или сыр голландской» следует рассматривать как семантическую
перекодировку, так как здесь эквивалентными становятся семантически различные
элементы1. Прагматическая перекодировка возникает тогда, когда реализуется
возможность стилистически различного повествования об одном и том же
объекте. Изменяется не модель объекта, а отношение к ней, то есть
моделируется новый субъект.
Приведем пример прагматической перекодировки:
Насмешкой горькою обманутого сына
Над промотавшимся отцом.
(М. Ю. Лермонтов. «Дума»)
1 Однако, если брать этот пример как проявление определенного стиля,
моделирующего не две разные картины действительности, как средство проникнуть в
«подлинную», внезнаковую реальность, а два возможных авторских отношения к одному
и тому же реальному миру, то перекодировку можно будет рассматривать как
прагматическую.
58
СТРУКТУРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
Мы — продукты атомных распадов.
За отцов продувшихся —
расплата.
(А. А. Вознесенский. «Отступление в ритме рок-н-ролла»)
«Промотавшиеся отцы» и «продувшиеся отцы» — и объект-понятие и объект-
денотат — демонстративно совпадают. Изменяется прагматика. Причем, если
в стихотворении Вознесенского художественное значение семантического типа
образуется рядом сложных звуковых оппозиций внутри текста («расплата» —
«распадов», «продукты» — «продувшихся» и др.), то прагматическое значение
раскрывается в определенной мере внетекстовым сопоставлением со стихами
Лермонтова1.
В этом смысле наиболее ранним в пределах русской литературы примером
образования новых значений на прагматическом уровне может служить
размышление автора «Слова о полку Игореве», о том, как строить повествование:
«по былинам сего времени» или «по замышлению Бояню». Показательны
образцы того, как воспел бы Боян поход Игоря Святославича, и
противопоставление ему своего стиля.
Следует, однако, подчеркнуть, что разделение перекодировок на
семантические и прагматические в художественном тексте чаще всего возможно
лишь в порядке исследовательской абстракции. На самом деле перед нами,
как правило, сложные сочетания обеих систем. Более того, одни и те же
сближения в одних структурных связях могут выступать как семантические,
а в других — как прагматические.
Сказанное подтверждает, что, рассматривая содержание художественного
текста только на уровне языкового сообщения, мы проходим мимо сложной
системы значений, создаваемых собственно художественной структурой.
Можно высказать предположение, что классификация значений вторичных
моделирующих систем художественного типа по способу установления
эквивалентности между смысловыми элементами может оказаться полезной при
построении структуральной теории тропов и — шире — художественных
значений вообще, а разделение на семантический и прагматический типы
перекодировки — при изложении проблем стилистики в свете семиотических
идей.
Значения, образуемые в результате внешних перекодировок, можно
определить как парадигматические, внутренних — как синтагматические. В
дальнейшем мы еще вернемся к этим важнейшим принципам образования
художественных значений. Сейчас отметим лишь одну сторону их соотнесен-
1 Следует отметить, что эквивалентность взаимосоотнесенных стихов Лермонтова
и Вознесенского достигается не только их общим значением на уровне семантики,
но и функционально сходным положением в системе двух различных стилей. «Отцы»
у Вознесенского, как понятие, не равнозначны «отцам» Лермонтова, но в обоих
случаях мы имеем дело с обозначением чего-то высокого, кровно близкого и
традиционно уважаемого. «Промотавшиеся» и «продувшиеся» — функционально
однозначны, так как выражают идею банкротства в максимально оскорбительной в пределах
данной стилистической системы форме.
3. Понятие текста
59
ности. Системы, построенные только на основе синтагматических или только
парадигматических значений, в реальных художественных текстах, видимо,
невозможны. Чаще всего встречается доминирование одного типа значений
над другим. При этом можно отметить одну закономерность: чем жестче
организована одна из этих систем, тем свободнее в пределах данной структуры
построение другой. Так, непрограммная (и не вокальная) музыка строится
на основе очень жесткой синтагматики — главным элементом значения будет
отношение сегментов текста к их текстовому окружению. Зато семантика
каждого элемента — отношение его к любым экстрамузыкальным рядам —
представляет тот свободный структурный резерв, который упорядочивается
каждым слушателем в процессе его восприятия. Чем жестче задано отношение
порядка сегментов текста, тем свободнее семантическое отнесение элементов
музыкального текста к внемузыкальным представлениям.
В противоположной структуре — психологическом романе XIX в. —
основные значения образуются за счет внешних перекодировок
(парадигматическая система). Последовательность эпизодов и любых других сегментов
текста образует определенные значения, однако стоит нам прибегнуть к
пересказу, как мы тотчас же убеждаемся, что синтагматику сегментов текста
нам гораздо легче изменить, чем парадигматику. Нам гораздо легче спутать
последовательность глав в «Войне и мире», чем отношение характера Пьера
к характеру Андрея Болконского.
Показательно, что стоит обратиться к жанрам с более строгой
синтагматической структурой — например, к приключенческому или детективному
роману, — как жесткость парадигматической организации заметно ослабевает.
А если взять такой текст, как лирическое стихотворение, и рассматривать
его в качестве одного структурного сегмента (при условии, что стихотворение
не входит в цикл), то синтагматические значения — например, отнесение
текста к другим произведениям того же автора или его биографии —
приобретут такой же характер структурного резерва, какой в музыке имела
семантика.
3. Понятие текста
Текст и внетекстовые структуры
Определение понятия «текст» затруднительно. Прежде всего, приходится
возражать против отождествления «текста» с представлением о целостности
художественного произведения. Весьма распространенное
противопоставление текста как некоей реальности концепциям, идеям, всякого рода осмыс-
60
СТРУКТУРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
лению, в которых видится нечто слишком зыбкое и субъективное, при всей
своей внешней простоте, малоубедительно.
Художественное произведение, являющееся определенной моделью мира,
некоторым сообщением на языке искусства, просто не существует вне этого
языка, равно как и вне всех других языков общественных коммуникаций.
Для читателя, стремящегося дешифровать его при помощи произвольных,
субъективно подобранных кодов, значение резко исказится, но для человека,
который хотел бы иметь дело с текстом, вырванным из всей совокупности
внетекстовых связей, произведение вообще не могло бы быть носителем
каких-либо значений. Вся совокупность исторически сложившихся
художественных кодов, делающая текст значимым, относится к сфере внетекстовых
связей. Но это вполне реальные связи. Понятие «русский язык» не менее
реально, чем «текст на русском языке», хотя это реальности разного типа и
методы изучения их будут тоже различны.
Внетекстовые связи произведения могут быть описаны как отношение
множества элементов, зафиксированных в тексте, к множеству элементов, из
которого был осуществлен выбор данного употребленного элемента.
Совершенно очевидно, что употребление некоторого ритма в системе, не
допускающей других возможностей; допускающей выбор из альтернативы одной
или дающей пять равновероятных способов построения стиха, из которых
поэт употребляет один, — дает нам совершенно различные художественные
конструкции, хотя материально зафиксированная сторона произведения —
его текст — останется неизменной.
Следует подчеркнуть, что внетекстовая структура так же иерархична, как
и язык художественного произведения в целом. При этом, включаясь в разные
уровни иерархии, тот или иной элемент текста будет вступать в различные
внетекстовые связи (то есть получать различную величину энтропии).
Например, если мы определим некоторый текст как произведение русской поэзии,
то возможность употребления в нем любого из размеров, одинаково
свойственных русскому стиху, будет равновероятна. Если мы сузим хронологические
границы внетекстовой конструкции, в которую будем вписывать данный
текст, до категории «произведение русского поэта XIX в.» или сделаем то
же самое с жанром («баллада»), вероятности будут изменяться. Но текст в
равной мере принадлежит всем этим структурам, и это следует учитывать,
определяя величину его энтропии.
То, что принадлежность текста к разным жанрам, стилям, эпохе, автору
и тому подобное меняет величину энтропии отдельных его элементов, не
только заставляет рассматривать внетекстовые связи как нечто вполне
реальное, но и показывает некоторые пути для измерения этой реальности.
Следует дифференцировать внетекстовые связи на уровне художественного
языка и на уровне художественного сообщения. Примеры первых мы привели
выше. Вторые — это случаи, когда неупотребление того или иного элемента,
значимое отсутствие, «минус-прием», становится органической частью
графически зафиксированного текста. Таковы, например, пропуски строф,
отмеченных номерами в окончательном тексте «Евгения Онегина», замена
Пушкиным готового окончания стихотворения «Наполеон» обрывком стиха:
3. Понятие текста
61
«Мир опустел...», равно как и все другие случаи внесения в окончательный
текст незавершенных построений, употребление безрифмия на фоне
читательского ожидания рифмы и т. п. Соотнесенность неупотребленного элемента —
минус-приема — со структурой читательского ожидания, а его, в свою
очередь, с величиной вероятности употребления в данном конструктивном
положении текстуально зафиксированного элемента делает и информацию,
которую несет минус-прием, величиной вполне реальной и измеримой. Вопрос
этот является частью более общей проблемы — конструктивной роли
значимого нуля («zéro-problème»)1, семантического значения паузы, измерения
той информации, которую несет художественное молчание.
Непременным условием его, как мы видели, является то, чтобы на месте,
которое в тексте того или иного уровня занято минус-приемом, в
соответствующей ему кодовой структуре находился значимый элемент или некоторая
множественность синонимичных в пределах данной конструкции значимых
элементов. Таким образом, художественный текст обязательно включается в
более сложную внетекстовую конструкцию, составляя с ней парную
оппозицию.
Вопрос осложняется еще одним обстоятельством: внетекстовые структуры
меняют величину вероятности тех или иных своих элементов в зависимости
от того, относятся ли они к «структурам говорящего» — авторским или
«структурам слушающего» — читательским, со всеми вытекающими
последствиями сложности этой проблемы в искусстве.
Понятие текста
В основу понятия текста, видимо, удобно будет положить следующие
определения.
1. Выраженность. Текст зафиксирован в определенных знаках и в этом
смысле противостоит внетекстовым структурам. Для художественной
литературы это в первую очередь выраженность текста знаками естественного
языка. Выраженность в противопоставлении невыраженности заставляет
рассматривать текст как реализацию некоторой системы, ее материальное
воплощение. В де-соссюровской антиномии языка и речи текст всегда будет
принадлежать области речи. В связи с этим текст всегда будет обладать
наряду с системными элементами и внесистемными. Правда, сочетание
принципов иерархичности и множественной пересеченности структур приводит к
тому, что внесистемное с точки зрения одной из частных подструктур может
оказаться системным с точки зрения другой, а перекодировка текста на язык
художественного восприятия аудитории может перевести любой в принципе
1 См.: Frei M. Cahiers Ferdinand de Saussure. XI. P. 35; Barthes R. Le degré zéro de
récriture. Paris. P. 151—152; Lissa Z. Estetyczne funkcje ciszy i pauzy w muzyce // Estetyka.
Rocznik II. 1961.
62
СТРУКТУРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
элемент в класс системных. И все же наличие внесистемных элементов —
неизбежное следствие материализации, равно как и ощущение того, что одни
и те же элементы могут быть системными на одном уровне и внесистемными
на другом, — обязательно сопутствуют тексту.
2. Отграниченность. Тексту присуща ограниченность. В этом отношении
текст противостоит, с одной стороны, всем материально воплощенным знакам,
не входящим в его состав, по принципу включенности — невключенности.
С другой стороны, он противостоит всем структурам с невыделенным
признаком границы — например, и структуре естественных языков, и
безграничности («открытости») их речевых текстов. Однако в системе естественных
языков есть и конструкции с ярко выраженной категорией отграниченности —
это слово и в особенности предложение. Не случайно они особенно важны
для построения художественного текста. Об изоморфности художественного
текста слову в свое время говорил А. А. Потебня. Как показал А. М.
Пятигорский, текст обладает единым текстовым значением и в этом отношении
может рассматриваться как нерасчленимый сигнал. «Быть романом», «быть
документом», «быть молитвой» — означает реализовывать определенную
культурную функцию и передавать некоторое целостное значение. Каждый
из этих текстов определяется читателем по некоторому набору признаков.
Поэтому передача признака другому тексту — одно из существенных средств
образования новых значений (текстовой признак документа придается
художественному произведению и пр.).
Понятие границы по-разному манифестируется в текстах различного типа:
это начало и конец текстов со структурой, развертываемой во времени (о
специфической моделирующей роли «начала» и «конца» в текстах этого типа
см. дальше), рама в живописи, рампа в театре. Отграниченность
конструктивного (художественного) пространства от неконструктивного становится
основным средством языка скульптуры и архитектуры.
Иерархичность текста, то, что его система распадается на сложную
конструкцию подсистем, приводит к тому, что ряд элементов, принадлежащих
внутренней структуре, оказывается пограничным в подсистемах разного типа
(границы глав, строф, стихов, полустиший). Граница, показывая читателю,
что он имеет дело с текстом, и вызывая в его сознании всю систему
соответствующих художественных кодов, находится структурно в сильном
положении. Поскольку одни из элементов являются сигналами одной какой-либо
границы, а другие — нескольких, совпадающих в общей позиции в тексте
(конец главы является и концом книги), поскольку иерархия уровней позволяет
говорить о доминирующем положении тех или иных границ (границы главы
иерархически доминируют над границей строфы, граница романа — над
границей главы), открывается возможность структурной соизмеримости роли
тех или иных сигналов отграничения. Параллельно с этим насыщенность
текста внутренними границами (наличие «переносов», строфичность или аст-
рофичность построения, разбиение на главы и т. п.) и отмеченность внешних
границ (степень отмеченности внешних границ может понижаться вплоть до
имитации механического обрыва текста — «Сентиментальное путешествие»
Стерна) также создают основу для классификации типов построения текста.
3. Понятие текста
63
3. Структурность. Текст не представляет собой простую
последовательность знаков в промежутке между двумя внешними границами. Тексту
присуща внутренняя организация, превращающая его на синтагматическом
уровне в структурное целое. Поэтому для того, чтобы некоторую совокупность
фраз естественного языка признать художественным текстом, следует
убедиться, что они образуют некую структуру вторичного типа на уровне
художественной организации.
Следует отметить, что структурность и отграниченность текста связаны1.
Иерархичность понятия текста
Следует подчеркнуть, что, говоря о материальной выраженности текста,
мы имеем в виду одно, в высшей мере специфическое, свойство знаковых
систем. Материальной субстанцией в них выступают не «вещи», а отношения
вещей. Соответственным образом это проявляется и в проблеме
художественного текста, который строится как форма организации, то есть
определенная система отношений составляющих его материальных единиц. С этим
связано то, что между различными уровнями текста могут устанавливаться
дополнительные структурные связи — отношения между типами систем. Текст
раскладывается на подтексты (фонологический уровень, грамматический
уровень и т. п.), из которых каждый может рассматриваться как самостоятельно
организованный. Структурные отношения между уровнями становятся
определенной характеристикой текста в целом. Именно эти устойчивые связи
(внутри уровней и между уровнями) придают тексту характер инварианта.
Функционирование текста в социальной среде порождает тенденцию к
разделению текста на варианты. Это явление хорошо изучено для фольклора и
средневековой литературы. Обычно предполагается, что техника печатания,
навязавшая свой графический язык новой культуре, привела к исчезновению
вариантов литературного текста. Это не совсем так. Стоит только записать
на ленту чтение одного и того же стихотворения различными чтецами, чтобы
убедиться, что печатный текст дает лишь некоторый инвариантный тип текста
(например, на уровне интонации), а записи — его варианты. Если изучать
современную литературу не с позиции писателя, как мы привыкли, а с
позиции читателя, сохранение вариативности станет очевидным фактом.
Наконец, проблема текста и его вариантов в полной мере существует для
текстологов.
То, что текст — инвариантная система отношений, со всей очевидностью
проявляется при реконструкции дефектных или утраченных произведений.
1 Подробнее о понятии «текст» см.: Пятигорский А. М. Некоторые общие замечания
относительно рассмотрения текста как разновидности сигнала //
Структурно-типологические исследования. М., 1962; Лотман Ю. М., Пятигорский А. М. Текст и
функция // 3-я летняя школа по вторичным моделирующим системам: Тезисы. Доклады.
Тарту, 1968.
64
СТРУКТУРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
Причем, хотя этим с успехом занимаются фольклористы1, хотя задача эта
для медиевистики может считаться традиционной2, однако в той или иной
мере она регулярно возникает перед исследователями новой литературы. Так,
можно было бы указать на многочисленные, особенно в пушкинистике, опыты
реконструкции замыслов и творческих планов поэта, на интересные попытки
восстановления утраченных текстов. Если бы текст не представлял собой
некоторой константной в своих пределах структуры, сама постановка
подобных задач была бы неправомерна.
Однако ясно, что при таком подходе к вопросу можно, взяв группу
текстов (например, русскую комедию XVIII в.), рассмотреть ее как один
текст, описав систему его инвариантных правил, а все различия отнеся к
вариантам, порождаемым в процессе его социального функционирования.
Подобная абстракция может быть построена на очень высоком уровне.
Вероятно, вполне возможна задача рассмотреть понятие «художественная
литература XX в.» как некоторый подлежащий описанию текст со сложным
отношением вариантных и инвариантных, внесистемных и системных связей.
Из сказанного вытекает, что если взять группу изоморфных в каком-либо
отношении текстов и описать их как один текст, то подобное описание будет
по отношению к описываемым текстам содержать только системные элементы,
а сами тексты по отношению к нему будут выступать как сложное сочетание
организованных (системных, релевантных) и неорганизованных
(внесистемных, нерелевантных) элементов. Следовательно, текст высшего уровня будет
выступать по отношению к текстам низшего уровня как язык описания. А
язык описания художественных текстов, в свою очередь, в определенном
отношении изоморфен этим текстам. Другим следствием является то, что
описание самого высокого уровня (например, «художественный текст»),
которое будет содержать только системные отношения, будет являться языком
для описания других текстов, но само текстом не будет (согласно правилу
о том, что текст, являясь материализованной системой, содержит внесистемные
элементы).
На основании этих положений можно вывести полезное правило.
Во-первых: язык описания текста представляет собой иерархию. Смешение описаний
разных уровней недопустимо. Необходимо точно оговаривать, на каком (на
каких) уровне производится описание. Во-вторых: в пределах данного уровня
1 Сошлюсь на крайне поучительный опыт реконструкции праславянских текстов.
См.': Иванов В. В., Топоров В. Н. К реконструкции праславянского текста //
Славянское языкознание. V: Международный съезд славистов. М., 1963.
2 Блестящие реконструкции летописного текста А. А. Шахматовым еще ждут
тщательного анализа в свете методов современной науки (разбор методики реконструкций
см. в кн.: Лихачев Д. С. Русские летописи. М.; Л., 1947). С критикой предпосылок
метода шахматовских реконструкций выступали И. П. Еремин («Повесть временных
лет». Л., 1947) и Н. С. Трубецкой (в ранней, утраченной работе, специально
посещенной этой проблеме). Как бы ни оценивалась методика Шахматова в дальнейшем,
она останется ярким примером раннего опыта применения стихийно-структурных
методов к задаче реконструкции текстов.
3. Понятие текста
65
описание должно быть структурным и полным. В-третьих: метаязыки разных
уровней описания могут быть различными.
Следует, однако, подчеркнуть, что реальность исследовательского
описания не до конца совпадает с реальностью читательского восприятия: для
описывающего исследователя реальна иерархия текстов, как бы вкладываемых
друг в друга. Для читателя реален один-единственный текст — созданный
автором. Жанр можно представить себе как единый текст, но невозможно
сделать его объектом художественного восприятия. Воспринимая созданный
автором текст как единственный, получатель информации все надстраиваемое
над ним рассматривает как иерархию кодов, которые выявляют скрытую
семантику одного реально данного ему произведения искусства.
В связи с этим очевидно, что без дополнительной классификации в аспекте
«адресант — адресат» определение художественного текста не может быть
полным. Так, разные исполнительские трактовки роли, музыкальной пьесы,
одного и того же сюжета в живописи (например, «Мадонна с младенцем»)
и т. п. могут с одной позиции восприниматься как повторения одного текста
(разница не фиксируется — ср. замечание неподготовленной аудитории, что
в Эрмитаже «все одно и то же», что «все иконы одинаковы», что «поэтов
XVIII в. невозможно отличить друг от друга» и т. п.), как варианты одного
инвариантного текста или же — с другой — как разные и даже взаимопро-
тивопоставленные тексты.
Словесный изобразительный знак (образ)
Свойство художественных текстов превращаться в коды — моделирующие
системы — приводит к тому, что некоторые признаки, специфические именно
для текста как такового, в процессе художественной коммуникации
переносятся в сферу кодирующей системы. Например, отграниченность становится
не только признаком текста, но и существенным свойством художественного
языка.
Мы сейчас не будем останавливаться на значении отграниченное™ как
конструктивного принципа композиции, а остановимся на том, какие это
имеет последствия для языка искусства.
Словесное искусство начинается с попыток преодолеть коренное свойство
слова как языкового знака — необусловленность связи планов выражения и
содержания — и построить словесную художественную модель, как в
изобразительных искусствах, по иконическому принципу. Это не случайно и
органически связано с судьбой знаков в истории человеческой культуры.
Знаки естественного языка с их условностью в отношении обозначаемого
к обозначающему, понятные только при отнесении их к определенному коду,
легко могут стать непонятными, а там, где кодирующая семантическая система
оказывается вплетенной в социальную жизнь, — и лживыми. Знак как
источник информации не менее легко становится и средством социальной
дезинформации. Тенденция борьбы со словом, осознания того, что возмож-
66
СТРУКТУРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
ность обмана коренится в самой его сущности, — столь же постоянный
фактор человеческой культуры, как преклонение перед мощью слова. Не
случайно высшая форма понимания для многих типов культур
укладывается в форму «понятно без слов» и ассоциируется с внесловесными
коммуникациями — музыкой, любовью, эмоциональным языком
паралингвистики.
Изобразительные знаки обладают тем преимуществом, что, подразумевая
внешнее, наглядное сходство между обозначаемым и обозначающим,
структурой знака и его содержанием, они не требуют для понимания сложных
кодов (наивному адресату подобного сообщения кажется, что он вообще не
пользуется в данном случае никаким кодом). Приведем пример
комбинированного дорожного знака, состоящего из двух элементов: запретительной
полосы и лошадиной морды. Первый элемент имеет условный характер:
чтобы понять его значение, надо владеть специфическим кодом дорожных
знаков. Второй — иконический и кодируется только предшествующим
жизненным опытом (человек, никогда не видавший лошади, его не поймет).
Проделаем, однако, другой мысленный эксперимент: соединим
запретительный знак с цифрой или словом. Оба элемента будут конвенциональными,
однако степень условности их различна. На фоне автодорожного знака,
расшифровываемого с помощью специального и известного лишь узкому
кругу кода, слово и цифра будут выделяться своей общепонятностью и
функционально приравняются лошадиной голове и любому другому икони-
ческому элементу. Этот пример того, как условный знак может функционально
приравниваться к изобразительному, очень интересен для литературы. Из
материала естественного языка — системы знаков, условных, но понятных
всему коллективу настолько, что условность эта на фоне других, более
специальных «языков» перестает ощущаться, — возникает вторичный знак
изобразительного типа (возможно, его следует соотнести с «образом»
традиционной теории литературы). Этот вторичный изобразительный знак обладает
свойствами иконических знаков: непосредственным сходством с объектом,
наглядностью, производит впечатление меньшей кодовой обусловленности и
поэтому — как кажется — гарантирует большую истинность и большую
понятность, чем условные знаки.
У этого знака существует два неразделимых аспекта: сходство с
обозначаемым им объектом и несходство с обозначаемым им объектом. Оба эти
понятия не существуют друг без друга.
4. Текст и система
67
4. Текст и система
Системное и внесистемное в художественном тексте
И в читательском, и в исследовательском подходе к художественному
произведению издавна соревнуются две точки зрения: одни читатели считают,
что главное — это понять произведение, другие — испытать эстетическое
наслаждение; одни исследователи считают целью своей работы построение
концепции (чем более всеобщей, то есть абстрактной, — тем более ценной),
а другие подчеркивают, что любая концепция убивает самую сущность
художественного произведения и, логизируя, обедняет и искажает его.
Непримиримость исходных позиций неоднократно уже приводила
исследователей к взаимным обвинениям: в абстрактном логизировании, с одной
стороны, и агностическом отрицании самой основы научного познания —
права на абстрактную теорию, с другой.
Парадоксальность положения заключается в том, что каждая сторона
может привести весьма веские соображения в пользу своей позиции. В самом
деле, вряд ли кто-либо станет спорить с тем, что восприятие произведения
искусства представляет собой акт познания и что восприятие произведения
искусства доставляет чувственное наслаждение. Однако сложность вопроса
в том, что эти утверждения не только противоположны, но и, по сути дела,
несовместимы.
Всякое познание можно представить себе как дешифровку некоторого
сообщения. С этой точки зрения процесс познания будет делиться на
следующие моменты: получение сообщения; выбор (или выработка) кода;
сопоставление текста и кода. При этом в сообщении выделяются системные
элементы, которые и являются носителями значений. Внесистемные
воспринимаются как не несущие информации и отбрасываются.
Таким образом, процесс познания неизбежно подразумевает возведение
текста до уровня абстрактного языка.
После того как сообщение дешифровано, текст понят, с ним уже более
нечего делать. Однако мы продолжаем видеть, слышать, чувствовать и
получать от этого радость или страдание, независимо от того, поняли мы, что
это значит, или нет, столь долго, пока внешние раздражители действуют на
наши органы чувств. При этом является данный элемент текста системным
или внесистемным с точки зрения определенного кода, он, в силу своей
физической материальности, может действовать на наши органы чувств и
доставлять нам чувство радости или страдания. Таким образом, создается
впечатление, что разница между наслаждением интеллектуального понимания
и наслаждением физического употребления не только очень велика, но и
принципиально не позволяет свести эти две реально существующие в искусстве
стороны воедино, что заведомо обрекает искусствоведа на двойственность
подхода к объекту изучения.
68
СТРУКТУРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
Однако посмотрим на проблему несколько с иной стороны. Нельзя не
признать, что всякий процесс чувственного освоения также можно представить
как получение информации. Вероятно, с определенной степенью огрубления,
чувственное наслаждение можно было бы определить как получение
информации из несистемного материала (в отличие от интеллектуального —
получения информации из системности).
Но «получение информации из несистемного материала» представляет
собой противоречие в терминах, поскольку информация (по определению)
может заключаться только в определенной системе, в определенном типе
структурных отношений. Дело здесь в том, что любой процесс чувственного
освоения представляет собой длительное и многократное приложение к тексту
различных, часто взаимонесвязанных кодов с целью введения в систему
предельного круга внесистемных элементов. Человек получает информацию
не только из знаков и знаковых систем. Любой контакт с внешней средой,
любое биологическое усвоение представляет собой получение информации и
может быть описано в терминах теории информации. Система чувственных
рецепторов или биохимический механизм могут быть представлены как
организации кодов, декодирующих определенную информацию. Это не
противоречит утверждению о том, что языки осуществляют коммуникации между
индивидуумами. Теория информации шире семиотики — она изучает не
только такой частный случай, как пользование социальными знаками в
определенном коллективе, а все случаи передачи и хранения информации,
понимая последнюю как величину организации — противоположность
энтропии. Представим, например, в качестве текста кусок съедаемой нами пищи.
Весь процесс его употребления может быть разбит на этапы взаимодействий
с нервными рецепторами, кислотами, ферментами. При этом на каждом этапе
нечто из того, что на предшествующем не усваивалось, то есть не несло
информации, было внесистемным, нейтральным, включается в активный
процесс обмена с человеческим организмом, становится системным и отдает
заключенную в себе информацию.
Таким образом, интеллектуальное наслаждение дается в результате
приложения к сообщению одного или небольшого числа логически связанных
кодов (это наслаждение в том и состоит, чтобы массу пестрого материала
свести к одной системе)1. Учитывая скорость работы головного мозга
человека, следует отметить, что время интеллектуального наслаждения —
понимания, — если не включать в него предшествующего времени «непонимания»,
ничтожно мало. Человеком оно осознается как «мгновенное».
Чувственное наслаждение подразумевает применение многократных и
разных кодов. Оно длительно и может продолжаться, пока есть определенная
реальность, подлежащая чувствам, пока есть внесистемный материал, который
подлежит ввести в различные системы.
1 Принимая широкое толкование информации как любой структуры —
противоположности энтропии, — наслаждение можно определить как эмоциональный подъем,
напряжение и разрешение, связанные с получением необходимой, но труднодоступной
информации.
4. Текст и система
69
Но из сказанного следует не только различие между интеллектуальным
и чувственным наслаждением, но и их принципиальное единство с точки
зрения антиномии: информация — энтропия.
При интеллектуальном наслаждении использование материальной
стороны знака мгновенно: выражение, как оболочку ореха, раскалывают, чтобы
отбросить. Физическое наслаждение стремится быть продолжительным,
поскольку имеет дело с внезнаковой информацией, в которой самое выражение
(воздействие на чувства) содержательно. Искусство, с одной стороны,
превращает незнаковый материал в знаки, способные доставлять
интеллектуальную радость, а с другой — строит из знаков мнимофизическую реальность
второго ряда, превращая знаковый текст в квазиматериальную ткань,
способную доставлять физическое наслаждение.
Таким образом, те непримиримые, казалось бы, точки зрения, о которых
мы говорили в начале этого параграфа, по сути дела, сводятся к соотношению
информационной нагрузки системного и несистемного материала в
художественном тексте.
И здесь легко ощутимы два подхода: «в художественном произведении —
все системно» (все не случайно, имеет цель) и «все представляет собой
нарушение системы».
Для того чтобы разобраться в этой антиномии, необходимо сделать
несколько предварительных замечаний более общего характера.
Многоплановость художественного текста
Из приведенных выше рассуждений следует, что художественный текст
можно рассматривать как текст многократно закодированный. Именно это
свойство его имеют в виду, когда говорят о многозначности художественного
слова, о невозможности пересказать поэзию прозой, художественное
произведение — нехудожественным языком. Для того чтобы понять, что из этого —
совершенно справедливого — утверждения не вытекает часто делаемого
вывода о том, что наука о литературе, строя общие модели текста, бессильна
уловить его единичное своеобразие, в котором и состоит сущность
произведения искусства, — необходимы некоторые добавочные рассуждения.
Единичное, конкретное в жизни и моделирующее его единичное,
конкретное в искусстве имеют различную природу.
Единичным в природе для меня является то, что, с моей точки зрения,
внесистемно, не присуще данной структуре как таковой. Художественная
литература имитирует реальность, создает из своего, системного, по самой
своей сути, материала модель внесистемное™. Чтобы выглядеть как
«случайный», элемент в художественном тексте должен принадлежать по крайней
мере двум системам, находиться на их пересечении. То, что в нем системно
с точки зрения одной структуры, будет выглядеть как «случайное» при взгляде
с точки зрения другой.
70
СТРУКТУРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
Таким образом, «случайные», «единичные», «конкретные» факты в жизни
не входят для меня ни в одну систему, абстрактно-логические — целиком
принадлежат одной, а вторично-конкретные в искусстве — не менее чем
двум. Эта способность элемента текста входить в несколько контекстных
структур и получать соответственно различное значение — одно из наиболее
глубинных свойств художественного текста.
В связи с этой особенностью произведений искусства раскрывается их
специфика среди других аналогов действительности (моделей), которыми
пользуется человек в процессе познания.
Предположим, что человек, осуществляющий какую-либо деятельность,
встал перед необходимостью обратиться к ее модели для приобретения
какого-либо знания. Например, турист, прокладывающий себе маршрут,
прекращает передвижение по местности, совершая передвижение по карте, а
затем продолжает практически путешествие. Не определяя сущности каждого
из этих поведений, отметим лишь их четкую разграниченность. В одном
случае реализуется практическое поведение, в другом — условное. Первое
имеет целью достижение практических результатов, второе — получение
определенных знаний, необходимых для их достижения. В первом — человек
находится в реальной ситуации, во втором — в условной.
Отличительной особенностью поведения, реализуемого при пользовании
научно-познавательными моделями, является его отграниченность от
обычного, практического. Никто из пользующихся географической картой не
воображает, что в это время он тем самым совершает реальное путешествие.
Между этими двумя планами существует отношение семантической
соотнесенности, без чего исследование знаков и моделей не могло бы служить
средством познания. Однако одновременно проявляется стремление четко
разграничивать оба вида поведения и, соотнося их результаты, не
осуществлять операцию семантической интерпретации для каждой отдельной детали.
Глеб Успенский в цикле «Живые цифры» может раскрыть семантику тех или
иных статистических данных (ср. его очерки «Четверть лошади» или «Ноль
целых», показывающие, какая реальность скрывается за статистическим
показателем типа 0,25). Однако нельзя признать такое обращение с данными
экономической статистики обычным. Как правило, имеет место нечто совсем
иное: пользующийся подобным справочником совсем не стремится за каждой
цифрой увидеть явление жизни: он изучает статистическую модель
определенных экономических процессов и семантически интерпретирует лишь
результаты своего изучения.
Вряд ли кто-нибудь содрогнется от ужаса, глядя на нанесенный на карту
план сражения, хотя и бесспорно знает, что рассматриваемой им карте
соответствует в реальности поле, усеянное трупами. Когда Твардовский
говорит про Теркина, что был
...рассеян он частично
И частично истреблен, —
а сам Теркин заявляет, что у него «частично есть» вши, то комизм здесь
возникает именно в результате того, что нарушается относительная самосто-
4. Текст и система
71
ятельность условного, знакового образа мира (в данном случае — армейской
сводки) в результате непредусмотренных сопоставлений с миром реалий.
Итак, в сфере поведения практическая деятельность и «работа с моделью»
резко разделены, хотя и взаимосоотносятся.
Однако существует моделирующая деятельность, которой подобное
разграничение не свойственно: это игра.
Противопоставление игры познанию лишено оснований. Игра занимает
очень большое место в жизни не только человека, но и животных1. Бесспорно,
что игра является одной из серьезных и органических потребностей психики
человека. Разные формы игры сопровождают человека и человечество на
всех стадиях его развития. Беззаботное отмахивание от этого факта вряд ли
принесет науке пользу. И что особенно важно, игра никогда не противостоит
познанию — наоборот, она является одним из важнейших средств овладения
различными жизненными ситуациями, обучения типам поведения. Высшие
животные обучают своих детенышей всем видам поведения, не заложенным
автоматически в генетической программе, только при помощи игры. Игра
имеет огромное значение при обучении типу поведения, так как позволяет
моделировать ситуации, включение в которые неподготовленного индивида
грозило бы ему гибелью, или ситуации, создание которых не зависит от воли
обучающего. При этом безусловная (реальная) ситуация заменяется условной
(игровой). Это представляет большие выгоды. Во-первых, обучаемый получает
возможность останавливать ситуацию во времени (исправить ход,
«переходить»). Во-вторых, он обучается моделировать в своем сознании эту ситуацию,
так как некую аморфную систему действительности он представляет в виде
игры, правила которой могут и должны быть сформулированы. С этим
связано еще одно важное свойство: игра дает человеку возможность условной
победы над непобедимым (например, смерть) или очень сильным (игра в
охоту в первобытном обществе) противником. Это определяет и ее магическое
значение, и чрезвычайно важное психологически-воспитательное свойство:
она помогает преодолеть ужас перед подобными ситуациями и воспитывает
необходимую для практической деятельности структуру эмоций. «Сквозная
атака» Суворова — упражнение, превращавшее ситуацию боя в игровую
(условную) и состоявшее в том, что два строя (иногда конный и пеший)
стремительно сближались, проходя через взаимные интервалы, — имела
целью преодоление ужаса перед аналогичной ситуацией в действительности
и строила эмоциональную модель победы. Аналогичное значение в
воспитании человека имеет спорт, который по отношению к трудовой деятельности
также выступает как игра.
Игра — особого типа модель действительности. Она воспроизводит те
или иные ее стороны, переводя их на язык своих правил. С этим связано
обучающее и тренировочное значение игры, давно уже осознанное
психологией и педагогикой. Боязнь ряда эстетиков заниматься (во избежание
обвинений в кантианстве) проблемами игры и их глубокое убеждение в том, что
1 См.: Gross К. Die Spiele der Thiere. Jena, 1896.
72
СТРУКТУРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
всякое сопоставление игры и искусства ведет к проповеди «чистого искусства»,
отрицанию связи творчества и общественной жизни, отражает глубокую
неосведомленность в вопросах смежных наук (психологии, педагогики).
Игра подразумевает реализацию особого — «игрового» — поведения,
отличного и от практического и от определяемого обращением к научным
моделям. Игра подразумевает одновременную реализацию (а не
последовательную смену во времени!) практического и условного поведения. Играющий
должен одновременно и помнить, что он участвует в условной (не подлинной)
ситуации (ребенок помнит, что перед ним игрушечный тигр, и не боится),
и не помнить этого (ребенок в игре считает игрушечного тигра живым).
Живого тигра ребенок — только боится; чучела тигра ребенок — только не
боится; полосатого халата, накинутого на стул и изображающего в игре
тигра, — он побаивается, то есть боится и не боится одновременно.
Искусство игры заключается именно в овладении навыком двупланового
поведения. Любое выпадение из него — в одноплановый «серьезный» или
одноплановый «условный» тип поведения — разрушает его специфику.
Таково, например, обычное в детском коллективе смешение игрового поведения
с реальным: дети не могут отличить двуплановых эмоций игры от однопла-
новых житейских, и игра часто превращается в драку. В качестве примера
можно привести эпизод, записанный Пушкиным со слов Крылова: дети,
затеявшие вскоре после подавления восстания Пугачева «игру в пугачевщину»,
«разделились на две стороны, городовую и бунтовскую, и драки были
значительные». Игра перешла в подлинную вражду. «Жертвой оной чуть было
не сделался некто Анчапов (живой доныне). Мертваго, поймав его, в одной
экспедиции, повесил его кушаком на дереве. — Его отцепил прохожий
солдат»1.
К этому же примеру относятся все весьма распространенные сюжеты о
том, как маска, надетая человеком, становится его сущностью. Сюжет этот
(например, типа «Лорензаччо» А. де Мюссе), весьма популярный в искусстве
XIX в., сравнительно недавно был положен в основу итальянского фильма
Росселлини «Генерал Делла Ровере»: подонок, мелкий жулик, но человек
незлой и глубоко артистичный, попадает в руки гестапо. Под угрозой
расправы ему предлагают сыграть в тюрьме роль аристократа и героя
Сопротивления генерала Делла Ровере, чтобы, введя в заблуждение арестованных
подпольщиков, заставить их демаскироваться. На протяжении фильма герой,
начинающий с легкомысленной, хотя и блестящей игры-имитации,
превращается в того, кого он изображает. На глазах у зрителей и изумленного
гестаповца он становится аристократом и патриотом, личина генерала Делла
Ровере делается его подлинным лицом, и он добровольно идет на казнь,
поддерживая дух тех, кто его считает героем и вождем Сопротивления.
В данном случае вопрос о том, как игра превращается в реальность,
маска — в действительность, дополняется и другим: зритель остается в
убеждении, что именно в конце фильма, став генералом Делла Ровере, герой
ι Пушкин А. С Поли. собр. соч. Т. 9. Кн. 2. С. 492.
4. Текст и система
73
нашел сам себя, подлинную сущность своей натуры, которая никогда не
выявилась бы в той жизни мелкого взяточника и мошенника, которую ему
навязала действительность. Не касаясь всей сложности художественных идей
фильма, отметим лишь его связь с реальной психологической проблемой.
Именно игра с ее двуплановым поведением, с возможностью условного
перенесения в ситуации, в действительности для данного человека
недоступные, позволяет ему найти свою собственную глубинную сущность. Забегая
несколько вперед, отметим, что в еще большей мере эту существеннейшую
для человека задачу выполняет искусство.
Создавая человеку условную возможность говорить с собой на разных
языках, по-разному кодируя свое собственное «я», искусство помогает
человеку решить одну из существеннейших психологических задач — определение
своей собственной сущности.
Противоположный случай нарушения двуплановости игрового
поведения — отказ принимать игру всерьез, однолинейное подчеркивание ее
условного, «ненастоящего» характера. Таково чисто утилитарное отношение
начальника гестапо к игре мнимого генерала, таково отношение к «чужим»
играм, например взрослых к играм детей. Человеку, не принимающему правил
игры, она представляется нелепостью, никакого отношения к «серьезной»
реальности не имеющей. В качестве примера можно привести эпизод из
повести Л. Н. Толстого «Детство»:
«Снисхождение Володи доставило нам очень мало удовольствия;
напротив, его ленивый и скучный вид разрушил все очарование игры. Когда мы
сели на землю и, воображая, что плывем на рыбную ловлю, изо всех сил
начали грести, Володя сидел сложа руки и в позе, не имеющей ничего схожего
с позой рыболова. Я заметил ему это; но он отвечал, что от того, что мы
будем больше или меньше махать руками, мы ничего не выиграем и не
проиграем и все же далеко не уедем. Я невольно согласился с ним. Когда,
воображая, что я иду на охоту, с палкой на плече, я отправился в лес, Володя
лег на спину, закинул руки под голову и сказал мне, что будто бы и он
ходил. Такие поступки и слова, охлаждая нас к игре, были крайне неприятны,
тем более, что нельзя было в душе не согласиться, что Володя поступает
благоразумно.
Я сам знаю, что из палки не только что убить птицу, да и выстрелить
никак нельзя. Это игра. Коли так рассуждать, то и на стульях ездить нельзя
<...> Ежели судить по-настоящему, то и игры никакой не будет. А игры не
будет, что ж тогда остается?»1
Таким образом, если при использовании познавательной модели обычного
типа обращающийся к ней человек в каждую единицу времени практикует
какое-либо одно поведение, то игровая модель в каждую отдельную единицу
времени включает человека одновременно в два типа поведения —
практическое и условное.
ι Толстой Л. Н. Собр. соч.: В 14 т. М., 1951. Т. 4. С. 27—28.
74
СТРУКТУРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
То, что один и тот же стимул вызывает в одно и то же время более чем
одну обусловленную реакцию, один и тот же элемент вызывает две разные
структуры поведения, включаясь в каждую из которых он приобретает
различное значение и, следовательно, делается неравен самому себе, имеет
глубокий смысл и в значительной мере раскрывает общественное значение
игровых моделей. В игровой модели каждый ее элемент и вся она в целом,
будучи самой собой, является не только собой. Игра моделирует случайность,
неполную детерминированность, вероятность процессов и явлений. Поэтому
логико-познавательная модель удобнее для воспроизведения языка
познаваемого явления, его отвлеченной сущности, а игровая — ее речи, инкарнации
в случайном по отношению к языку материале.
Так, словесный текст пьесы выступает по отношению к спектаклю как
язык системы. Воплощение его связано с тем, что однозначное становится
многозначным благодаря внесению «случайных» по отношению к словесному
тексту моментов. Значения словесного текста не отменяются, но перестают
быть единственными. Спектакль — сыгранный словесный текст пьесы.
Игра — особое воспроизведение соединения закономерных и случайных
процессов. Благодаря подчеркнутой повторяемости (закономерности)
ситуаций (правил игры) отклонение делается особо значимым. Одновременно
исходные правила не дают возможности предсказать все «ходы», которые
предстают как случайные по отношению к исходным повторяемостям. Таким
образом, каждый элемент (ход) получает двойное значение, являясь на одном
уровне утверждением правила, а на другом — отклонением от него.
Двойная (или множественная) значимость элементов заставляет
воспринимать игровые модели по сравнению с соответствующими им
логико-научными как семантически богатые, особо значительные:
Сколько надо отваги,
Чтоб играть на века,
Как играют овраги,
Как играет река,
Как играют алмазы,
Как играет вино,
Как играть без отказа
Иногда суждено,
Как игралось подростку
На народе простом
В белом платье в полоску
И с косою жгутом.
(Б. Л. Пастернак)
Игровая модель воспринимается по отношению к гомоморфной ей
логической не в антитезе «истинное — ложное», а как «более богатое — более
бедное» (оба — истинные) отражение жизни. (Ср.: детерминированная
этическая модель поведения человека переживается как слишком правильная и
противопоставляется игровой (артистической) модели, допускающей неодно-
4. Текст и система
75
значные решения. Однако обе противостоят — как истинные — модели
аморального поведения.)
Например, в «Живом трупе» Толстой противопоставляет этический облик
Лизы и Каренина, с одной стороны, и Феди Протасова, с другой,
государственным установлениям. Это антитеза нравственности аморализму. Но
нравственность Лизы — слишком правильная, однозначная: «Главное, что мучало
меня, это то, что я чувствовала, что люблю двух. А это значит, что я
безнравственная женщина» (следует обратить внимание на логическую и
грамматическую правильность этого взволнованного монолога). Иное
решение воплощено в образе Феди Протасова: «Моя жена идеальная женщина
была. Она и теперь жива. Но что тебе сказать? Не было изюминки, —
знаешь, в квасе изюминка? — не было игры в нашей жизни. А мне нужно
было забываться. А без игры не забудешься»1.
Из контекста пьесы следует, что «забываться» — здесь означает получать
условное, игровое разрешение конфликтов, неразрешимых в практическом
поведении вообще или в пределах данной общественной системы.
Искусство обладает рядом черт, роднящих его с игровыми моделями.
Восприятие (и создание) произведения искусства требует особого —
художественного — поведения, которое имеет ряд черт общности с игровым.
Важным свойством художественного поведения является то, что
практикующий его одновременно как бы реализует два поведения: он переживает
все эмоции, какие вызвала бы аналогичная практическая ситуация, и в то
же время ясно сознает, что связанных с этой ситуацией действий (например,
оказания помощи герою) не следует совершать. Художественное поведение
подразумевает синтез практического и условного.
Рассмотрим стих Пушкина: «Над вымыслом слезами обольюсь». Это
блестящая характеристика двойной природы художественного поведения.
Казалось бы, сознание того, что перед нами вымысел, должно исключать слезы.
Или же обратное: чувство, вызывающее слезы, должно заставить забыть, что
перед нами вымысел. На деле оба эти — противоположные — типы поведения
существуют одновременно и одно углубляет другое.
Свойство это приобретает в искусстве особое значение: каждый элемент
художественной модели и вся она целиком оказываются включенными
одновременно более чем в одну систему поведения, при этом получая в каждой
из них свое особое значение. Значения А и А (каждого из элементов, уровней
и всей структуры в целом) не отменяют друг друга, а взаимосоотносятся.
Игровой принцип становится основой семантической организации.
Рассмотрим три рода текстов: пример в научном изложении, притчу в
религиозном тексте и басню. Пример в научном тексте однозначен, и в этом
его ценность. Он выступает как интерпретация общего закона и в этом
смысле является моделью абстрактной идеи.
Церковно-культовый текст очень часто строится по принципу многоярусной
семантики. В этом случае одни и те же знаки служат на разных структурно-
1 Толстой Л. Н. Собр. соч.: В 14 т. Т. 11. С. 255, 261—262.
76
СТРУКТУРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
смысловых уровнях выражению различного содержания. Причем значения,
которые доступны данному читателю в соответствии с его уровнем святости,
посвященности, «книжности» и т. д., недоступны другому, еще не достигшему
этой степени. Когда читателю «открывается» новый семантический уровень,
старый отбрасывается как уже не содержащий для него истины. По этому
принципу строится масонская символика и — через нее — публицистика
ранних декабристских обществ. Один и тот же текст мог содержать тайное
(конспиративное) значение для посвященного и несокровенное — для профана.
При этом каждому открывается истина — в меру его способности ее вместить.
Текст для профана содержит истину, которая для посвященного перестает ею
быть. В отношении к данному читателю он несет лишь одно значение.
Художественный текст построен иначе: каждая деталь и весь текст в
целом включены в разные системы отношений, получая в результате
одновременно более чем одно значение. Будучи обнажено в метафоре, это свойство
имеет более общий характер. В качестве примера проанализируем памятник
древнерусского духовного красноречия «Слово о законе и благодати» как
произведение церковной публицистики и как художественный текст.
Сочинение митрополита Илариона отличается четкой выделенностью
уровней. На первом уровне противопоставляются свобода и рабство как
положительное и отрицательное:
свобода Сарра Исаак
рабство Агарь Измаил
Затем вводится новый уровень оппозиции: «христианство — язычество»,
причем он подразумевает и новые знаки, и новое прочтение старых:
христианство Христос распятие христианские
земли
язычество Исаак пир у Авраама Иудея
(съедение тельца)
Третий уровень — оппозиция: «новое — старое»:
новое новые христиане Русь
старое старые христиане Византия
И все это вместе укладывается в антитезу «Благодать — Закон».
Таким образом, слушатель, который в притчах видел лишь
новеллистические сюжеты, мог и здесь уловить сообщение о соперничестве Сарры и
Агари. В этом случае каждое слово было бы знаком общеязыкового
содержания. Однако проведенное через весь текст противопоставление Закона —
Благодати настраивало на поиски сокровенного текста — «инословия», о
котором в «Изборнике Святослава» 1073 г. сказано: «Есть ино нечто глаго-
люшти, а ин разум указуюшти». В этом случае при восприятии текста на
первой семантической ступени закон получал синонимы: Агарь, Измаил (в
антитезе Исааку), Исаак (в антитезе Христу), Сарра (в антитезе деве Марии),
Иудея (в антитезе христианству), Ветхий завет (в антитезе Новому), Византия
4. Текст и система
77
(в антитезе Руси). Все эти — и другие — знаки имели содержанием рабство,
понятие, для Руси XI в. полное социального смысла и соотнесенное с
семиотикой отверженности, униженности, низшего состояния. Благодать имела
синонимы: Сарра (в антитезе Агари), Исаак (в антитезе Измаилу), дева
Мария, Христос, христианство, Новый завет, Русь. Все эти знаки имели
общее содержание: свобода, общественная полноценность, право на
социальную активность и духовное значение («Образ же закону и благодати — Агарь
и Сарра, работная Агарь и свободная Сарра <...> и родися благодать и
истина, а не закон; сын, а не раб»).
На втором уровне социально-знаковое противопоставление мужа и холопа
обретало новый поворот — оно приравнивалось оппозиции «христианство —
язычество». Христианство воспринималось как духовное освобождение,
придающее каждому правильно верующему человеку то нравственное значение,
которое в социальной иерархии имел лишь свободный человек.
Наконец, слушатель, посвященный в сложные отношения княжеского двора
Ярослава и Византии, улавливал антитезу «новых» и «старых» людей
(«работная прежде ти, потом свободная». Курсив мой. — Ю. Л.) и истолковывал
Благодать и весь ряд ее синонимов как символ Руси, а Закон — Византии.
Однако «Слово о законе и благодати» — художественное произведение,
и в данном случае это отражается в том, что все эти значения не отменяют
друг друга, воспроизводя последовательное погружение непосвященного в
тайный смысл, а присутствуют одновременно, создавая игровой эффект. Автор
как бы дает насладиться обилием смыслов и возможных истолкований текста.
Механизм игрового эффекта заключается не в неподвижном,
одновременном сосуществовании разных значений, а в постоянном сознании возможности
других значений, чем то, которое сейчас принимается. «Игровой эффект»
состоит в том, что разные значения одного элемента не неподвижно
сосуществуют, а «мерцают». Каждое осмысление образует отдельный синхронный
срез, но хранит при этом память о предшествующих значениях и сознание
возможности будущих.
Следовательно, строго однозначное определение значения художественной
модели возможно лишь в порядке перекодировки ее на язык нехудожественных
моделирующих систем. Художественная модель всегда шире и жизненнее,
чем ее истолкование, а истолкование всегда возможно лишь как приближение.
С этим же связан известный феномен, согласно которому при перекодировке
художественной системы на нехудожественный язык всегда остается «непере-
веденный» остаток — та сверхинформация, которая возможна лишь в
художественном тексте.
Перекодирование специфически художественной информации на язык
нехудожественных моделирующих систем, хотя в принципе не может быть
осуществлено без определенных потерь и неоднократно вызывало (порой
весьма обоснованные) протесты, бесконечное число раз практиковалось в
истории культуры и, видимо, будет практиковаться и в дальнейшем, поскольку
стремление соотнести эстетические модели с этическими философскими,
политическими, религиозными органически вытекает из самой общественной
роли искусства. Поэтому целесообразно будет указать на возможный путь,
78
СТРУКТУРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
следуя по которому мы сможем делать подобные сопоставления с
наименьшими утратами.
Семантическое истолкование — всегда установление соответствия между
двумя структурными рядами. Если оба эти ряда имеют одинаковую мерность,
соотношение это будет взаимно однозначным. Если же они имеют различное
количество измерений, то отношение взаимной однозначности не будет иметь
места, и точке в одном ряду будет соответствовать не точка, а группа точек,
определенный участок — в другом.
Как мы видели, художественные и нехудожественные модели обладают
разной величиной измерений. Перекодировка дву- или многоплановых
художественных текстов на любой одноплановый нехудожественный язык не даст
отношения однозначного соответствия.
Поэтому, видимо, следует говорить не об одном исключительном
(моральном или философском) истолковании «Гамлета», а о совокупности
допустимых истолкований. Вероятно, все исторически имевшие место
истолкования «Евгения Онегина», если к ним прибавить те, которые еще возникнут,
прежде чем это произведение перестанет привлекать читательский интерес,
будут составлять область значений пушкинского романа в переводе на
нехудожественный язык. Подобное суждение заставляет с гораздо большим
вниманием взглянуть на историю рецепции текстов в читательском сознании.
Все новые и новые коды читательских сознаний выявляют в тексте новые
семантические пласты.
Чем больше подобных истолкований, тем глубже специфически
художественное значение текста и тем дольше его жизнь. Текст, допускающий
ограниченное число истолкований, приближается к нехудожественному и
утрачивает специфическую художественную долговечность (что, конечно, не
мешает ему иметь этическую, философскую или политическую долговечность,
определяемую, однако, уже совсем иными причинами).
Отметив черты, роднящие эстетические и игровые модели, мы должны
подчеркнуть и глубокую, коренную разницу между ними.
Искусство не есть игра.
Реально зафиксированный этнографией факт генетической связи искусства
и игры, равно как и то, что иыработанная в игре дву(много-)значность стала
одним из основных структурных признаков искусства, не означает тождества
искусства и игры.
Игра представляет собой овладение умением, тренировку в условной
ситуации, искусство — овладение миром (моделирование мира) в условной
ситуации. Игра — «как бы деятельность», а искусство — «как бы жизнь».
Из этого следует, что соблюдение правил в игре является целью. Целью
искусства является истина, выраженная на языке условных правил. Поэтому
игра не может быть средством хранения информации и средством выработки
новых знаний (она лишь путь к овладению уже добытыми навыками). Между
тем именно это составляет сущность искусства.
Игра весьма далека, по сути, от искусства. И если сопоставление его с
игрой позволяет раскрыть некоторые стороны художественных моделей, то
противопоставление дает не менее важные результаты.
4. Текст и система
79
Научные модели представляют собой средство познания, организуя
определенным образом интеллект человека. Игровые модели, организуя
поведение, являются школой деятельности (в связи с этим понятно, насколько
безосновательна мысль о том, что тезис о наличии в искусстве игрового
элемента противостоит представлению об общественной деятельности, — на
самом деле имеет место прямо противоположное: игра есть один из путей
превращения отвлеченной идеи в поведение, деятельность).
Художественные модели представляют собой единственное в своем роде
соединение научной и игровой модели, организуя интеллект и поведение
одновременно. Игра выступает по сравнению с искусством как
бессодержательная, наука — как бездейственная. Из сказанного не вытекает того, что
в произведении искусства есть только искусство. Произведение искусства
может выполнять и многочисленные нехудожественные функции, которые
порой могут быть настолько существенными, что заслоняют для
современников узкоэстетическое восприятие текста. В определенные исторические
моменты текст, для того чтобы восприниматься эстетически, должен
обязательно иметь не только эстетическую (а, например, политическую,
религиозную) функцию. Этот аспект очевиден, но он не является предметом
рассмотрения в настоящей книге: мы рассматриваем не природу функционирования
текстов в коллективе, а систему их внутреннего устройства. Вопрос: «Как
устроены художественные тексты?» — не может претендовать на то, чтобы
заменить собой более обширные: «Что такое искусство?» — или: «Какова
общественная роль искусства?» Но это еще не означает, что он не имеет
права на внимание исследователя.
Вопросы об элементах научного моделирования в художественных текстах,
о нехудожественной функции искусства, интересные случаи художественного
функционирования нехудожественных текстов, закономерности
интерпретации художественных произведений на более абстрактных —
публицистическом, философском — уровнях составляют вполне самостоятельную научную
задачу и заслуживают отдельного рассмотрения.
Принцип структурного переключения
в построении художественного текста
Наблюдения, сделанные в предшествующих параграфах, имеют более
общий характер: принцип многоплановости, которая возникает в результате
вхождения одних и тех же элементов во многие структурные контексты,
исторически сделался одним из центральных свойств поэтической семантики.
Видимо, именно здесь кроется одно из наиболее глубоких отличий
структуры искусства от всех других моделирующих систем.
Мы уже говорили о том, что во всех моделирующих системах
внесистемный материал «снимается». В искусстве он, наряду с системным, является
носителем значений. Однако взглянем на вопрос и с другой стороны: в
80
СТРУКТУРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
нехудожественных коммуникативных системах «грамматика» любого
структурного уровня подразумевает, что для всего текста могут быть
сформулированы некоторые взятые в ахронном аспекте правила, нарушение которых
возможно лишь в порядке ошибки. Ошибка же — шум в канале связи, и
текст не только избыточностью своей структуры, но и системностью
построения противостоит случайным искажениям. Подчинение одного и того же
текста двум грамматикам одновременно — в нехудожественных системах
случай почти невозможный. В связи с этим, как только передающий и
принимающий информацию овладевают грамматикой коммуникативной
системы, она перестает для них быть информативной, становясь не содержанием
информации, а средством ее передачи.
Отношение художественного текста к «ошибкам» против правил
принципиально иное. Даже если отвлечься от сложной, но неоднократно
рассматривавшейся и во многом изученной проблемы — борьбы с установившимися
нормативами в историческом движении искусства — и говорить лишь о
каком-либо тексте, рассматриваемом с точки зрения его синхронного
построения, то нельзя не заметить, что, как бы точно мы ни сформулировали то
или иное структурное правило, нам тотчас же придется указать на отклонения
от него. Количество отклонений при любой характеристике любого уровня
столь велико, что уже это должно привлечь к себе внимание исследователя.
Однако дело, конечно, отнюдь не в количестве.
Можно возразить, указав, что отклонение от правил — закон не только
художественных структур. На уровне материального воплощения всякая
структура представляет собой лишь вариант идеального конструкта,
создаваемого как отвлечение от случайных отклонений каждого конкретного знака
или текста. В этом смысле может показаться, что нет принципиальной разницы
между фонемой, которая возникает как идеальный конструкт на основе
большого числа индивидуальных вариантов, и поэтическим метром,
возникающим как идеальное обобщение реально данных в тексте ритмических
отклонений. Однако разница здесь глубока и существенна. То, что фонема
представлена в конкретных текстах большим количеством вариантов,
объединенных иногда лишь общностью отношения к идеальному
фонологическому конструкту, определено физическими различиями в индивидуальном
строении органов речи и рядом иных внеструктурных моментов. Если бы
мы договорились считать звуковым коррелятом данной фонемы некий
акустический эталон, розданный всем носителям речи в механической записи, и
всегда включали бы его вместо произношения данной фонемы, если бы мы
искусственно удалили вариативность из области произношения так, как мы
удаляем полисемантизм из терминологии1, то язык как коммуникационная
система от этого бы не пострадал.
Однако если бы мы (что гораздо легче сделать, чем в случае с фонемами)
запретили ритмические варианты, структура стиха сразу же утратила бы
1 Повышение роли звукового общения человека с машиной может выдвинуть
подобное или близкое к нему требование.
4. Текст и система
81
жизненность. Приведем еще пример. В классической архитектуре в дорическом
и тосканском ордере линия ствола колонны, как известно, совсем не составляет
прямой, проведенной от капители к базе. Построить колонну с геометрически
безупречным стволом (по крайней мере в определенном приближении) уже в
античные времена не составляло технически невозможной задачи. Однако
вытесанная таким образом колонна производила бы отталкивающе мертвое
впечатление. На самом деле на ее стволе, приблизительно на расстоянии трети
от капители, имеется небольшая, незаметная глазу, но безошибочно нами
ощущаемая припухлость. Она-то и придает телу колонны жизненную упругость.
Таким образом, «неправильности» в искусстве получают структурный
смысл и этим резко отличаются от неправильностей в других моделирующих
системах.
Однако, основываясь на этом свойстве искусства, часто делают вывод, с
которым невозможно согласиться; именно на него ссылаются те, кто считает,
что искусствознание в силу бесконечной индивидуализованности его объектов
не может быть сферой применения научных аналитических методов. Для того
чтобы разобраться в этом вопросе, необходимо уяснить себе функцию и
происхождение внесистемных элементов в художественном тексте, того «чуть-
чуть», о котором писал Толстой.
Мы уже отмечали, что в коммуникативных системах нехудожественного
типа грамматика для участников передачи приема задана наперед и поэтому
не информативна. Поэтому, являясь мощным моделирующим средством
узуального типа, формирующим коллективное сознание всей социальной
группы — носительницы данной системы, структуры такого рода не создают
окказиональных моделей.
В художественных моделях, казалось бы, поскольку структура выделена
гораздо резче (не случайно говорят о том, что язык словесного искусства
можно определить как естественный язык с наложенными на него
дополнительными ограничениями), предсказуемость последующих элементов должна
быть более высокой и, следовательно, сама структура должна вести еще
меньшую, чем в естественном языке, информацию. Однако эксперименты
показали1, что здесь мы сталкиваемся с необъяснимым на первый взгляд
парадоксом: художественный текст угадывается хуже, чем связные виды
нехудожественного текста. Любопытно — к этому мы еще вернемся, — что
разные показатели угадываемости дают подлинные поэтические ценности и
эпигонские подражания. При этом существенно еще другое: по мере
восприятия слушателем нехудожественного текста предсказуемость его возрастает
так, что в конце предложения значительная часть структурных средств
делается избыточной. В художественном тексте этого не наблюдается: степень
«неожиданности» в следовании элементов или же приблизительно одинакова,
иЯи даже возрастает к концу (опять-таки в неэпигонских текстах). Все это —
следствие единой структурной особенности художественного текста.
1 См.: Fonagy I. Informationsgehalt von Wort und Laut in der Dichtung // Poetics.
Poetyka. Поэтика. I. Warszawa, 1961.
82
СТРУКТУРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
Для того чтобы общая структура текста сохраняла информативность, она
должна постоянно выводиться из состояния автоматизма, которое присуще
нехудожественным структурам. Однако одновременно работает и
противоположная тенденция: только элементы, поставленные в определенные
предсказываемые последовательности, могут выполнять роль коммуникативных
систем. Таким образом, в структуре художественного текста одновременно
работают два противоположных механизма: один стремится все элементы
текста подчинить системе, превратить их в автоматизованную грамматику,
без которой невозможен акт коммуникации, а другой — разрушить эту
автоматизацию и сделать самое структуру носителем информации1.
В связи с этим механизм нарушения системности получает в
художественном тексте особый вид. Противопоставленный данной художественной
системе как «индивидуальный», «внесистемный», факт на самом деле вполне
системен, но принадлежит другой структуре.
Внесистемный факт с точки зрения данной структуры просто незаметен,
как мы не замечаем всякого рода отдельные помехи, опечатки, оговорки
(разумеется, если сила их не такова, чтобы просто заглушить информацию),
пока не уловим в них системы.
Всякий «индивидуальный» факт, всякое «чуть-чуть» в художественном
тексте — результат осложнения основной структуры добавочными. Он
возникает как пересечение по крайней мере двух систем, получая в контексте
каждой из них особый смысл. Чем больше закономерностей пересекается в
данной структурной точке, тем больше смыслов будет получать этот элемент,
тем более индивидуальным, внесистемным он будет казаться. Внесистемное
в жизни отображается в искусстве как полисистемное. Вернемся к утолщению
на стволе колонны. Будучи случайным по отношению к прямой, проведенной
от капители к базе (мы эту прямую сразу же воспринимаем как структурный
закон, автоматически организующий ее форму, а припухлость — как
внесистемное «чуть-чуть»), оно одновременно вполне закономерно: подчиняется
точным расчетам и располагается во всех случаях единообразно. Пересечение
этих двух закономерностей воспринимается нами как внесистемная
индивидуализация. Важно подчеркнуть, что деавтоматизирующую роль новая
структурная подсистема сможет выполнить только в том случае, если она не
заменит (разрушит, отбросит) старую, а будет функционировать одновременно
с ней так, чтобы каждая из них выступала в качестве фона другой. Из этого
вытекает, что, хотя в отношении к действительности и нехудожественным
моделирующим системам художественная структура выступает как
синтагматическая, внутри себя она построена так, что каждый из уровней, каждая из
частных структур, кроме имманентно-синтагматического построения,
находится в определенных отношениях к другим уровням и подструктурам. Эффект
действия того или иного уровня не может быть понят из его изолированного
1 Вопрос о деавтоматизации структурных законов текста в искусстве был рассмотрен
в 1920-е гг. в трудах В. Шкловского и Ю. Тынянова, предвосхитивших тем самым
ряд существенных положений теории информации.
4. Текст и система
83
описания, без учета того, что можно назвать внутренней семантикой —
перекодировкой элементов одного структурного уровня средствами другого.
Здесь можно указать на два возможных случая:
1) внутренняя перекодировка (с точки зрения данного уровня). Ее можно
рассматривать как частный случай построения текста по синтагматической оси;
2) внешняя перекодировка (с точки зрения данного уровня) — частный
случай построения текста по парадигматической оси (оси эквивалентностей).
Первый случай, как и все построения на оси синтагматики, с точки зрения
адресата, подчинен временной последовательности. Воспринимаемые
адресатом первоначальные элементы текста кроме своего значения являются
сигналами определенных кодов или групп кодов (направлений, жанров, типов
сюжета, принадлежности к стихам или прозе и т. п.), уже существующих в
сознании воспринимающего.
Однако как только получатель информации утверждается в своем выборе
декодирующих систем1, он тотчас же начинает получать структурные знаки,
явно не декодируемые в избранном ключе. Он может захотеть отмахнуться
от них, как от несущественных, но повторяемость их и их внутри себя
очевидная системность не позволяют ему этого сделать. Тогда он строит
вторую систему, которая с определенного момента накладывается на первую.
К этим случаям принадлежит отношение ритма и метра. К ним же
относятся и point — иронические, просторечные, сатирические повороты в
тот момент, когда читатель воспринял лирическую интонацию, равно как и
все другие крутые сломы стиля.
Когда, стройна и светлоока,
Передо мной стоит она...
Я мыслю: «В день Ильи-пророка
Она была разведена!»
(А. С. Пушкин)
Первые два стиха — обнаженный сигнал кода: это дословная цитата из
стихотворения А. Подолинского «Портрет». Пушкин отсылает читателя к
определенному стилю, типу лирики, набору штампов. Однако вторые два
стиха явно не соответствуют этому демонстративно указанному, но
ошибочному адресу. Создается сложная коллизия между кодовой системой лирики
массового романтизма 1820-х гг. и бытовой иронической поэзией. Причем
каждый из этих кодов берется не сам по себе, а в отношении к другому —
не в своей имманентной синтагматике, а в семантических связях взаимной
перекодировки.
1 Всякая культура содержит некоторое множество кодов, и выбор из них уже несет
информацию, между тем как для человека, говорящего только на русском языке,
выбор русского языка не имеет информативного смысла, поскольку не является
выбором; но если два человека, владеющие лишь одним общим естественным языком,
представляют модель всякого языкового общения, то схемой культурного общения
будут два полиглота, из которых один выбирает, на каком языке лучше всего говорить
об избранном предмете, а другой начинает восприятие с установления: на каком из
известных ему языков с ним говорят.
84
СТРУКТУРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
В свете этой сложной системы кода резко усложняется семантика
сообщения — оценка А. П. Керн, которая одновременно и «стройна и
светлоока» — романтическая «она»1 и «разведенная жена» — фигура, в пушкинскую
эпоху вписывавшаяся в круг совсем не лирико-романтических культурных
представлений. Причем и оба эти кода и оба толкования текста
функционируют одновременно во взаимном наложении (хотя восприятию слушателя
были даны последовательно).
Иной случай связан с тем, что деавтоматизирующая система расположена
на другом структурном уровне, но таким образом, что в тот момент, когда
конструктивная природа того или иного из основных структурных уровней
делается слушателю до конца ясной, она теряет доминантность, а на первый
план выступает какой-либо прежде второстепенный уровень текста.
Классическим примером этого может быть соотношение ритмического и
фонологического уровней в стихе. Не случайно почти повсеместным законом является
то, что ритмическая заданность дается читателю в начале стиха, а центр
фонологической организации — рифма — расположен в конце. Эта разно-
направленность структурных уровней приводит к тому, что, несмотря на
большое число дополнительных ограничений, которые художественная
структура накладывает на общеязыковый текст, предсказуемость, как мы видели,
не возрастает, а иногда может и снижаться. При определении общей
предсказуемости следующего элемента художественного текста данные отдельных
уровней, видимо, следует в ряде случаев не складывать, а вычитать, поскольку
автоматизм одного уровня гасит автоматизм другого.
С этим связано и то, что между отдельными структурными уровнями
может возникать отношение дополнительности. Например, давно было
отмечено, что в пределах определенных поэтических структур ослабление
ограничений, наложенных на ритм, сопровождается усилением требований к
рифме, импровизационная свобода в общем построении текста комедии
del'arte дополняется жесткой стандартизацией масок, стиля их поведения,
ситуаций и т. д.
«Шум» и художественная информация
Шумом с точки зрения теории информации называют вторжение
беспорядка, энтропии, дезорганизации в сферу структуры и информации. Шум
гасит информацию. Все виды разрушения: заглушение голоса акустическими
1 В сознании современников имелся определенный тип интонации романтико-ли-
рического стихотворения, начинающегося с конструкции «Когда я — ты» с
факультативным распространением «то толпа...»: «Когда в объятия свои...», «Когда твои
младые лета...», «Когда так нежно, так сердечно...», «Когда любовию и негой
упоенный...» (Пушкин). Он отличался от торжественно-патетической интонации типа:
«Когда владыка Ассирийский» (Пушкин), повлиявшей на интонационный строй
стихотворения А. А. Ахматовой «Когда в тоске самоубийства...».
4. Текст и система
85
помехами, гибель книг под влиянием механической порчи, деформация
структуры авторского текста в результате цензорского вмешательства — все это
шум в канале связи. По известному закону всякий канал связи (от телефонного
провода до многовекового расстояния между Шекспиром и нами) обладает
шумом, съедающим информацию. Если величина шума равна величине
информации, — сообщение будет нулевым. Разрушительное действие энтропии
постоянно ощущается человеком. Одна из основных функций культуры —
противостоять наступлению энтропии.
Искусству в этом деле отведена особая роль. С точки зрения
нехудожественной информации, разницы между внесистемным фактом и фактом,
принадлежащим другой системе, нет. Для говорящих по-русски и не
понимающих французского языка разговор по-французски будет такой же помехой,
как и механический шум.
Искусство — ив этом проявляется его структурное родство с жизнью в
природе — обладает способностью преображать шум в информацию,
усложняет свою структуру за счет корреляции с внешней средой (во всех других
системах всякое столкновение с внешней средой может привести лишь к
затуханию информации).
Особенность эта связана, как мы видели, с тем структурным принципом,
который определяет многозначность художественных элементов; новые
структуры, входя в текст или во внетекстовой фон произведения искусства, не
отменяют старых значений, а вступают с ними в семантические отношения.
Разница между обогащающей информационное содержание текста и
разрушающей инородной структурой, видимо, состоит именно в этом: все
инородное, что может в том или ином отношении коррелировать со структурой
авторского текста, перестает быть шумом. Статуя, брошенная в траву, может
создать новый художественный эффект в силу возникновения отношения
между травой и мрамором. Статуя, брошенная в помойку, для современного
зрителя такого эффекта не создает: его сознание не может выработать
структуры, которая объединила бы эти две сущности во взаимосоотнесенном и
взаимопроектирующемся единстве. Но это еще не означает, что такое
объединение в принципе невозможно. Следовательно, вопрос о том, преобразуется
ли «шум» в художественную информацию, всегда подразумевает описание
типа культуры, который принимается нами за наблюдателя.
До сих пор мы говорили о том, что инородная система («внесистемная
система» с точки зрения данного текста) манифестирует себя определенной
повторяемостью своих элементов, что и заставляет слушателя1 улавливать в
них не случайность, а другую закономерность. Однако вопрос этот в
художественном тексте еще более усложняется. Мы можем указать на ряд случаев,
когда заведомо единичное, случайное, вторгаясь в текст, хотя и частично,
приводит к разрушению его семантики, само порождает ряд новых значений.
Отбитые руки Венеры Милосской, равно как и все случаи потемнения полотен
1 В этой связи мы все время говорим о точке зрения получателя информации. Иной
аспект будет рассмотрен в дальнейшем.
86
СТРУКТУРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
от времени, обветшания исторических памятников, с точки зрения внехудо-
жественной информации — тривиальный случай шума, наступления энтропии
на структуру. Однако в искусстве дело обстоит сложнее, и не в меру
решительная «реставрация», проведенная без необходимой осторожности и такта,
бессильная восстановить тот неизвестный облик, который виделся в памятнике
глазам его создателя и современников, соскабливает с него все последующие
культурные контексты и часто выступает в гораздо большей мере как
энтропия, чем удары, нанесенные памятнику временем (этого, конечно, нельзя
сказать о совершенно необходимой консервации и продуманной тактичной
и научно обоснованной реставрации).
Однако интерес заключен здесь в другом. Приведем еще два примера.
Первый — художник Михайлов из «Анны Карениной», который не мог найти
необходимой позы для фигуры на рисунке, пока ему не помогло случайное
пятно стеарина: «Вдруг он улыбнулся и радостно взмахнул руками. — Так,
так! — проговорил он и тотчас же, взяв карандаш, начал быстро рисовать.
Пятно стеарина давало человеку новую позу».
Второй — из «Поэмы без героя» А. А. Ахматовой:
...а так как мне бумаги не хватило,
Я на твоем пишу черновике.
И вот чужое слово проступает...
Стеариновое пятно, чужое слово — во всех случаях мы имеем дело с
однократным внесистемным вмешательством, которое не дает нам ряда по-
вторяемостей. И все же возникает усложнение структуры. Причина этого в
том, что мы сопоставляем этот факт с другими фактами, имеющимися в
нашем сознании, делаем его частью внетекстового ряда, однократно
столкнувшегося с текстом (таким рядом применительно к рукам Венеры Милосской
может быть «архаичность», «подлинность», «недосказанность» и т. д.). И
снова отдельный факт, часть материальной, вещной наличности текста,
оказывается художественной реальностью потому, что возникает на перекрестке
двух закономерностей.
Итак, мы вынуждены сделать вывод: реляционная структура — не сумма
вещественных деталей, а набор отношений, который первичен в произведении
искусства и составляет его основу, его реальность. Но набор этот строится
не как многоэтажная иерархия без внутренних пересечений, а как сложная
структура взаимопересекающихся подструктур с многократными вхождениями
одного и того же элемента в различные конструктивные контексты. Эти-то
пересечения и составляют «вещность» художественного текста, его
материальное многообразие, отображающее причудливую бессистемность
окружающего мира с таким правдоподобием, что у невнимательного зрителя
возникает вера в идентичность этой случайности, неповторимой
индивидуальности художественного текста и свойств отображаемой реальности.
Закон художественного текста: чем больше закономерностей пересекается
в данной структурной точке, тем индивидуальнее он кажется. Именно поэтому
изучение неповторимого в художественном произведении может быть реали-
5. Конструктивные принципы текста
87
зовано только через раскрытие закономерного при неизбежном ощущении
неисчерпаемости этого закономерного.
Отсюда и ответ на вопрос о том, убивает ли точное знание произведение
искусства. Путь к познанию — всегда приближенному — многообразия
художественного текста идет не через лирические разговоры о неповторимости,
а через изучение неповторимости как функции определенных повторяемостей,
индивидуального как функции закономерного.
Как всегда в подлинной науке, по этой дороге можно только идти. Дойти
до конца по ней нельзя. Но это недостаток только в глазах тех, кто не
понимает, что такое знание.
5. Конструктивные принципы
текста
Выше мы говорили о потенциальной возможности для поэтического текста
перевести любое слово из резерва смысловой емкости (hi) в подмножество,
определяющее гибкость языка (Ьг), и наоборот. С этим органически связано
построение текста по парадигматическим и синтагматическим осям1.
Сущность этого деления заключается в указании на то, что при порождении
правильной фразы на каком-либо естественном языке говорящий производит
два различных действия:
а) соединяет слова так, чтобы они образовали правильные (отмеченные)
в семантическом и грамматическом отношении цепочки;
б) выбирает из некоторого множества элементов один, употребляемый в
данном предложении.
Присоединение сегментов текста друг к другу, образование от этого
добавочных смыслов по принципу внутренней перекодировки и уравнение
сегментов текста, превращающее их в структурные синонимы и образовы-
1 Значение этого деления впервые было обосновано польским лингвистом Н. В. Кру-
шевским. На огромную роль взаимопроекции этих двух осей в структуре стиха указал
Р. О. Якобсон: «В поэтическом и только поэтическом языке мы видим проекцию оси
тождества на ось смежности». И далее: «Поскольку возникает проекция принципа
отождествления из области выбора в область сочетания... вопрос эквивалентности
неизбежно встает по отношению к любым языковым единицам, к любому речевому
плану» (IV Международный съезд славистов. Материалы и дискуссии. Т. I. М., 1962.
С. 620). Ср.: Jakobson R. Linguistics and poetics // Style in language. Cambridge, Mass.,
1960.
88
СТРУКТУРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
вающее дополнительные смыслы по принципу внешней перекодировки,
составляют основу механизма художественного текста. При этом:
1) уравнивание здесь имеет иной смысл, чем в естественных языках: в
результате со-противопоставления единиц текста в разном раскрывается
сходство, а в сходном — разница значений;
2) соединение и селекция оказываются возможными в тех случаях, в
которых нехудожественный текст этого решительно не допускает.
Таким образом, художественный текст строится на основе двух типов
отношений: со-противопоставления повторяющихся эквивалентных элементов
и со-противопоставления соседствующих (не эквивалентных) элементов.
Все разнообразие конструктивных построений текста можно свести к этим
двум началам.
Первый принцип соответствует переходу hi -> I12. Все элементы текста
становятся эквивалентными. Это принцип повтора, ритма. Он уравнивает то,
что в естественном языке не является уравненным.
Второй принцип соответствует переходу ti2 -» hi. Это принцип метафоры.
Он соединяет то, что в естественном языке не может быть соединено. Если
в первом случае понятие «ритм» трактуется расширительно, включая все
случаи эквивалентности в тексте (в том числе и, например, фонологическую),
то во втором — столь же расширительно понимается метафора как
возможность снятия любых ограничений на соединение «текстовых» элементов (в
том числе и грамматических: «смрадь», «руглив», «припарадясь» или «Зевс-
опровержец» в стихотворениях Маяковского в этом смысле — метафоры).
Тенденцию к повторяемости можно трактовать как стиховой
конструктивный принцип, к соединяемое™ — как прозаический. Последнее
утверждение может показаться парадоксальным. Поскольку для ряда европейских
литератур нового времени (в частности, для русской) торжество прозы совпало
с эпохой борьбы против романтизма, именно отказ от метафоричности языка
стал восприниматься как один из основных признаков прозаической
структуры. Однако следует подчеркнуть, что мы рассматриваем явление
«метафоры» более широко. Обычная трактовка метафоры-тропа войдет в нее как
часть наряду с другими видами соединения элементов, не соединяемых вне
данной конструкции текста.
При такой постановке вопроса улавливается общность обычной трактовки
метафоры с типично прозаическими структурными принципами —
прозаизмом на уровне стиля, сюжетностью на уровне композиции и т. д. На фоне
запрета на соединение слов с различной стилистической отмеченностью
пушкинские тексты 1830-х гг. потому и кажутся прозаическими, что снимают
это ограничение:
Он писан во весь рост. Чело, как череп голый,
Высоко лоснится, и, мнится, залегла
Там грусть великая...
Соединение «чело», «высоко», «великий», «мнится» с «череп голый»
(применительно к живой голове, то есть — лысине), «лоснится», самое соединение
«поэтического» образа героя и «антипоэтического» образа человека с блес-
5. Конструктивные принципы текста
89
тящей лысиной воспринимается как внесение прозы в поэзию. Если отказаться
от взгляда на прозаический текст как «непостроенный» и поставить перед
собой задачу раскрыть его структурность, то станет очевидно, что снятие
запретов на соединение по синтагматической оси составляет ведущий
конструктивный принцип прозы. Не случайно именно метафора (в узком
значении) с ее разрешением соединять семантически несоединимое легла в основу
той гигантской работы по прозаизации русского стиха, которая была
проделана Маяковским и Пастернаком. Метафоричность стиля этих поэтов столь
же очевидна, как и их ориентация на прозу. Характеристика, которую
Пастернак в своей автобиографии дает стилю поэзии Рильке, конечно, может
быть адресована и его собственным стихам: «У Блока проза остается
источником, откуда вышло стихотворение. Он ее не вводит в строй своих средств
выражения. Для Рильке живописующие и психологические приемы
современных романистов (Толстого, Флобера, Пруста, скандинавов) неотделимы от
языка и стиля его поэзии»1. Высказанная здесь мысль очень глубока и
достойна самого пристального внимания всех, размышляющих над структурой
прозы и стихового прозаизма.
Парадигматическая ось значений
Повторяемость равнозначна эквивалентности, возникающей на основе
отношения неполного равенства, — при наличии уровня (уровней), на
котором элементы равны, и уровня (уровней), на котором равенства нет.
Эквивалентность не есть мертвая одинаковость, и именно поэтому она
подразумевает и несходство. Подобные уровни организуют неподобные,
устанавливая и в них отношение подобия. Одновременно несходные
проделывают противоположную работу, обнаруживая разницу в сходном. Причем
поскольку конечной целью этой сложной самонастраивающейся системы
является образование новой, не существующей на уровне естественного языка
семантики, то роль элементов, которые в естественном языке являются
носителями семантических и формальных связей, будет различна. Фонолого-
грамматические элементы будут организовывать семантически разнородные
единицы в эквивалентные классы, внося в семантику различия элемент
тождества. При совпадении семантических элементов формальные категории
будут активизировать отношение различия, обнаруживая в семантически
однородном (на уровне естественного языка) смысловую дифференциацию
(на уровне художественной структуры). Можно сказать, что в отношении
эквивалентности формальные и семантические элементы естественного языка,
входя в поэтическую структуру, выступают как дополнительные множества:
совпадение одних влечет за собой несовпадение других.
Приведем пример:
1 Паапершк Б. Люди и положения // Новый мир. 1967. № 1. С. 216.
90
СТРУКТУРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
Могла бы — взяла бы
В утробу пещеры:
В пещеру дракона,
В трущобу пантеры.
(М. И. Цветаева)
Лексико-семантические единицы этого текста, если говорить об уровне
естественного языка, различны (исключение составляет дважды повторенное
слово «пещера»). Однако на других уровнях устанавливаются сложные
отношения эквивалентности.
На метрическом уровне текст распадается на изометрические единицы-
стихи (двустопные амфибрахии) с цезурой после первой стопы. Этим
устанавливается некая эквивалентность стихов между собой и полустиший между
собой.
Синтаксически первый стих не параллелен остальным трем, зато он
распадается на два полустишия, в которых неравные синтаксические
отношения (эллиптирована синтаксическая конструкция «если могла бы, то взяла
бы») выражены с помощью строго повторяющихся грамматических элементов.
Зато следующие три стиха (если брать их как самостоятельные) построены
строго параллельно. На фоне этого параллелизма активизируется находящее
выражение в авторской пунктуации их позиционное различие относительно
друг друга.
Грамматический уровень дает строгий параллелизм двух полустиший
первого стиха между собой, первых трех полустиший последующих между
собой и вторых трех полустиший второго — четвертого стихов. На основе
грамматического параллелизма возникает анафора, и две из трех рифм (равно
как и внутренняя составная рифма в первом стихе) имеют грамматическую
природу. Таково же происхождение внутренних рифм, связывающих три
первых полустишия второго — четвертого стихов.
Фонологический уровень резко делит текст на две неравные части: одна
включает первый стих, в котором фонология полностью организована
грамматическим уровнем, другая построена по конструктивным принципам,
составляющим вполне самостоятельный уровень. Рассмотрим для краткости
только вторую часть, исключив из нее по вертикали всю анафорическую
группу предлогов «в», которые на фонологическом уровне составляют
совершенно самостоятельное подмножество, — во всех этих трех стихах фонема
«в» в других позициях не встречается ни разу. Итак, рассмотрим
фонологический текст, выделенный курсивом:
Могла бы — взяла бы
В утробу пещеры:
В пещеру дракона,
В трущобу пантеры.
Представим себе каждое слово сегментом фонологического текста. Мы имеем
на это право — слова представляют здесь сегменты не только на
семантическом, грамматико-синтаксическом, ритмическом, но и на фонологическом
уровне, поскольку поразительно сгруппированы по количеству фонем (букв):
5. Конструктивные принципы текста
91
6, 6, 6, 7, 7, 7. Хотя в распределении «шесть или семь» раскрывается некоторая
дополнительная упорядоченность, но, оставляя ее в стороне (с точки зрения
первого приближения, это возможно), мы можем считать, что границы слов
дают количественно одинаковые группы фонем. Это упрощает задачу
сопоставления. Нам нужно выявить фонологическую упорядоченность текста. Для
этого представим себе все сегменты как некоторые эквивалентные множества
и выделим мощность их пересечения. Множества, где пересекающаяся часть
будет больше, чем непересекающаяся, назовем эквивалентными множествами
большой мощности. Рассматривая фонологический уровень, мы отвлекаемся
от последовательности фонем, обращая внимание лишь на их наличие (для
упрощения задачи). Мощность множества будут составлять общие для них
фонемы, не учитывая фактора порядка.
Наименьшую группу пересечения будет составлять фонема «р» — она
входит во все сегменты. Для четырех пар сегментов мощность будет
исчерпываться одной этой фонемой.
Группа с мощностью в одну фонему (р):
утробу — пещеры
пещеру — дракона
пещеры — дракона
Заметим, что в двух из трех случаев наименьшей фонологической
организованности текста встречается слово «дракон» (оно также стоит вне связи
по рифмам и вне связи по грамматическим категориям: «пещера», «пантера» —
женского рода, «дракон» — мужского, последнее обстоятельство окажется
семантически весьма весомым). Оно наименее «связанное» слово текста.
Группа с мощностью в две фанемы (два случая «р + гласный», один —
«р + согласный»):
тр
трущобу — пан/иера
УР
утробу — пещеру
ро
дркона. — трущобу
И в этой группе с низкой мощностью встречается «дракон».
Группа с мощностью в три фонемы:
ран
дракона. — пантеры
щру
пещеру — трущобу
пер
пещеру — пантеры
Группа с мощностью в четыре фонемы:
перы
пещеры—пантеры
Группа с мощностью в пять фонем:
92
СТРУКТУРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
пещер
пещеры — пещеру
Группа с мощностью в шесть фонем:
труобу1
трущобу — утробу
Рассмотрим, какие пары сегментов образуют множества большой
мощности, составив таблицу, в которой две крайние цифры будут обозначать
количество несовпадающих, а средняя — совпадающих фонем в сегменте2.
Располагаем по возрастанию мощности (левая цифра относится к левому,
правая — к правому слову):
утробу
пещеры
пещеру
утробу
утробу
утробу
пещеры
дракона
трущобу
дракона
пантеру
пещеру
пещеры
пещеры
трущобу
— пещеры
— дракона
— дракона
— пещеру
— дракона
— пантеры
— трущобу
— трущобу
— пантеры
— пантеры
— трущобу
— пантеры
— пантеры
— пещеру
— утробу
5 -
5 -
5 -
4 -
4 -
4 -
4 -
5 -
5 -
4 -
4 -
3 -
2 -
1 -
1 -
- 1 -
- 1 -
- 1 -
- 2 -
- 2-
- 2 -
- 2 -
- 2 -
- 2 -
- 3 -
- 3 -
- 3 -
- 4 -
- 5 -
- 6 -
- 5
- 6
- 6
- 4
- 5
- 5
- 5
- 5
- 5
- 4
- 4
- 4
- 3
- 1
- 0
В последней строке весь второй сегмент составлен из фонем первого.
Последние строки образуют множества с пересечением большой мощности.
Однако даже интуитивно чувствуется, что звучание предпоследней и последней
пары различно3. Для того чтобы выяснить причину этого, следует составить
аналогичные таблицы пересечений на грамматическом, лексико-семантиче-
ском уровнях (для других текстов необходимы были бы также интонационные,
1 В том случае, когда одна и та же фонема встречается в одном сегменте один раз,
а в другом — два, мы считаем в пересечении одну фонему, а когда в обоих сегментах
по два раза, — две.
2 Частотный фонологический словарь этого текста дает следующие показатели. В
тексте встречается 13 фонем, которые располагаются по убыванию следующим образом:
ρ — 6 раз, е — 5, у — 4, т, о, п, щ, а — 3, ы, н — 2, к — 1. Для показательности
эти микроданные должны быть наложены на фон частотного фонологического словаря
русского языка. Два «ы» и два «м» дают, конечно, разную степень преднамеренной
фонологической организованности текста.
3 Количественно эти два случая совпадают, но сочетание общей для всех слов
фонемы «р» с «т», видимо, дает большую степень организованности текста, чем «ро»,
в силу большей редкости этого сочетания в языке.
5. Конструктивные принципы текста
93
синтаксические и другие таблицы, однако в этом случае здесь наблюдается
полное тождество).
Отношение между этими данными можно было бы свести в общую
таблицу следующего уровня. При этом получилась бы наиболее объективная
картина связанности элементов в тексте. Видимо, наибольшая связанность
на одних уровнях и наименьшая на других создают наиболее выгодные
условия для возникновения вторичных значений. Этим мы, во-первых,
получаем критерии степени организованности текста (что может быть очень
полезным при определении эквивалентности перевода, поскольку величина
мощности перекрещивающихся подмножеств переводного текста неизбежно
будет расходиться с оригиналом, однако степень та же, что и в подлиннике,
связанности семантических сегментов может достигаться за счет регулировки
конструкции других уровней). Во-вторых, исследуя те смысловые связи,
которые образуются в результате объединения эквивалентных элементов в
семантические группы, мы получаем возможность выделить важнейшие.
Семантическая группа «В утробу — В пещеру — В трущобу» и группа
«В утробу пещеры — В трущобу пантеры» выделяет в качестве общего
семантического ядра (основания для сравнения) значение направленности в
закрытое, недоступное и темное пространство. Вводя
пространственно-семантические позиции «закрытое — открытое», «близкое — далекое», «в — вне»,
«доступное — недоступное» и вторичные: «защищенное — незащищенное»,
«темное — светлое», «теплое — холодное», «тайное — явное», эта
конструкция располагает группу на перекрестке данных семантических полей. Все
левые члены перечисленных оппозиций становятся синонимами. Правые
также. Они сводятся к ведущей оппозиции «субъект — объект» (например,
в варианте «свое — чужое») и к противопоставлению «я — ты».
Так выявляется семантика стремления к преодолению оппозиции «я —
ты» и инвариантная схема: «Взяла бы твое ты в мое я». В этом смысле не
случайна малая мощность эквивалентности групп, включающих «дракона», —
категория мужского рода, видимо, препятствует ему войти в качестве варианта
в инвариантную группу семантического субъекта текста. Однако выделение
семантического ядра активизирует значимость дифференциальных элементов.
В утробу пещеры
В пещеру дракона...
Двойная связь — совпадение корневой части слова, приводящее к резкой
семантизации формальной (разница в сходном), и выделение формального
элемента в качестве существенного дифференциального признака —
предельно повышают семантическое значение грамматической категории (в данном
случае — семантическую роль выраженных ею пространственных отношений)
и подготовляют один из заключительных стихов (уже вне нашего отрывка
текста):
В пещеру — утробу.
Могла бы — взяла бы.
Дальнейшая работа по рассмотрению семантической роли эквивалентных
сегментов могла бы вестись в двух направлениях:
94
СТРУКТУРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
во-первых, выявления семантической роли вариантных элементов
полученного инварианта (почему данный семантический инвариант выражен через
данные варианты). Отличие каждого из них от других, возникающее в
результате структурно приписанной им эквивалентности, позволяет
рассматривать каждый как выбранный из некоторого взаиморавноценного множества,
в результате чего выбор того, а не другого элемента делает их различия
носителями значений;
во-вторых, выявления отношения данного семантического инварианта к
семантическим инвариантам других частей текста, других текстов того же
автора. В этом случае семантические инварианты будут выступать как
варианты некоторого инварианта второй степени, снова образуя эквивалентное
множество, из которого автор осуществляет выбор. В данном случае это
будет отношение рассматриваемого текста к другим цветаевским текстам,
посвященным преодолению разрыва между «я» (во всех его проявлениях) и
«не-я» (также во всех его проявлениях).
Синтагматическая ось в структуре
художественного текста
Другой операцией построения любого текста (сообщения) является
соединение элементов. При этом, видимо, полезно будет различать два случая:
соединение одинаковых (или структурно эквивалентных) элементов и
соединение разных структурных элементов.
В первом случае не будет получаться конструкции фразового типа:
повторение одинаковых элементов, соединенных в целое, создает конструкцию
типа геометрического орнамента. Существенным различием между
конструкциями внутренне специализированной цепочки (фраза) и внутренне не
специализированной цепочки знаков (типа орнамента) будет наличие или
отсутствие конструктивно отмеченных конца и начала. С этим связано то, что
если в первом случае длина фразы в значительной мере задает ее конструкцию,
то во втором — текст имеет открытый характер.
Соединение одинаковых элементов в цепочки производится по иным
законам, чем соединение разнородных, — оно строится как присоединение
и в этом смысле воспроизводит основную черту надфразового построения
речевого текста. При этом существенно следующее: повторение одного и того
же элемента приглушает его семантическую значимость (ср. психологический
эффект многократного повторения одного и того же слова, превращающегося
в бессмыслицу)1. Зато вперед выдвигается способ соединения этих утративших
значение элементов. Так происходит одновременно формализация самих
элементов и семантизация их формальных связей. Подтверждением этого могут
1 На этом построен художественный эффект навязчивых повторений в литературном
тексте.
5. Конструктивные принципы текста
95
быть многочисленные случаи формализации орнаментов, превращения их из
значимых в геометрические. Одновременно геометрический орнамент
становится моделью всякой присоединительной связи, например схемой
нарративного текста. С этим, видимо, связана тенденция повествовательных жанров
к членению текста на эквивалентные сегменты (строфы для поэтического
текста, главы — для прозаического). В первом приближении можно сказать,
что внутри сегмента (стиха, строфы, главы) текст строится по принципу
фразы (соединение разных, но неэквивалентных элементов), а между
сегментами господствует присоединительная связь типа возникающей между
абзацами1, главами и т. п.
Большая структурная отмеченность границ сегментов (при отсутствии
структурно отмеченных категорий начала и конца текста) создает иллюзию
структуры, якобы воспроизводящей речевой (бесконечный) текст (например,
речевой текст действительности) и поэтому могущей быть оборванной и
продолженной в любой точке, как орнамент или бесконечный рассказ. Такие
тексты, как «Евгений Онегин», «Василий Теркин», «Певец во стане русских
воинов», всякого рода куплеты, ноэли и другие песни этого типа строятся
как принципиально открытые тексты. Пушкин неоднократно подчеркивал,
что работа над романом «Евгений Онегин» («собранье пестрых глав») строится
как «набирание» новых строф.
Однако при более внимательном рассмотрении абсолютное
противопоставление фразового и надфразового соединения элементов на
синтагматической оси построения художественного текста оказывается затруднительным.
Вводя понятие начала и конца текста как обязательно наличествующих
структурных элементов, мы даем возможность рассмотреть весь текст в виде
одной фразы. Но и составляющие его сегменты, имея свои начала и концы
и строясь по определенной синтагматической схеме, являются фразовыми.
Таким образом, любой значимый сегмент художественного текста может
быть истолкован и как фраза, и как последовательность фраз. И более: в
силу того, что Ю. Н. Тынянов называл «теснотой» словесного ряда в стихе,
а Р. О. Якобсон — проекцией оси селекции на ось соединения, поставленные
рядом слова образуют в художественном тексте, в пределах данного сегмента,
семантически нерасторжимое целое — «фразеологизм». В этом смысле любой
значимый сегмент (включая универсальный сегмент — весь текст
произведения) соотносится не только с цепочкой значений, но и с одним неразделимым
значением, то есть является словом. Эта возможность рассматривать текст и
любую его значимую часть как особое окказиональное слово была подмечена
Б. Л. Пастернаком (а до него — А. А. Потебней):
Что ему почет и слава,
Место в мире и молва
1 См.: Падучева Е. В. О структуре абзаца // Труды по знаковых системам. II. Тарту,
1965; Сеево И. П. Об изучении структуры связного текста // Лингвистические
исследования по общей и славянской типологии. М., 1966; Гаспаров Б. М. О некоторых
лингвистических аспектах изучения структуры текста // 3-я летняя школа по вторичным
моделирующим системам: Тезисы. Доклады. Тарту, 1968.
96
СТРУКТУРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
В миг, когда дыханьем сплава
В слово сплочены слова?
Однако положение осложняется тем, что хотя с точки зрения какого-либо
определенного уровня разделение на внутри- и надфразовые связи может
быть проведено очень четко, следует помнить, что любой текст может быть
рассмотрен с позиции нескольких уровней. При этом неизбежно межфразовые
связи станут внутрифразовыми, и наоборот.
Противопоставление метафоры (семантической связи, возникающей на
синтагматической оси) ритму (семантической связи, возникающей на оси
эквивалентности) не абсолютно хотя бы уже потому, что сопоставление двух
сегментов на оси смежности неизбежно подразумевает их выделенность.
Членение текста на сегменты, эквивалентные в каком-либо отношении (иначе
они несопоставимы), тем самым вносит ритмичность и в структуру
синтагматической оси. Видимо, имеет место следующее сложное переплетение
отношений. Некий изоморфизм элементов позволяет членить текст на
эквивалентные сегменты (отдельные и сопоставимые). Вслед за этим их значения
образуют эквивалентные множества определенной мощности и выделяют
дифференциальные семантические элементы.
Однако тот же текст может быть «прочитан» в свете иных связей. Каждый
сегмент может быть рассмотрен в качестве части некоторого предложения.
В этом случае он вступает в определенные, зависящие от типа предложения,
отношения с синтагматическим целым и его частями. Эти связи приводят к
тому, что каждый сегмент определенным образом предсказывает
последующий. «Очень часто, — замечает Е. В. Падучева, — законы сочетаемости
единиц можно свести к необходимости повторения каких-то составных частей
этих единиц. Так, формальная структура стиха основана (в частности) на
повторении сходно звучащих слогов; согласование существительного с
прилагательным — на одинаковом значении признаков рода, числа и падежа;
сочетаемость фонем часто сводится к правилу о том, что в смежных фонемах
должно повторяться одно и то же значение некоторого дифференциального
признака. Связность текста в абзаце основана в значительной мере на
повторении в смежных фразах одинаковых семантических элементов»1.
Художественный текст, снимая запреты, существующие на определенных уровнях
(грамматическом, семантическом, стилистическом, интонационном и т. д.),
на постановку рядом тех или иных сегментов текста, активизирует
структурную функцию тех элементов, совпадение которых — необходимое условие
для сочетаемости тех же сегментов в нехудожественном тексте.
Таким образом, в поэзии нарушается принцип соблюдения запретов на
сочетание тех или иных элементов текста. Вряд ли это можно считать
свойством только поэтического языка XX в. Не говоря о «сопряжении
далековатых идей», в котором Ломоносов видел существенный риторический
прием, на этом в значительной мере строится соединение больших сюжетных
кусков текста (эпизодов, «мотивов», «образов», глав).
1 Падучева Е. В. О структуре абзаца. С. 285.
5. Конструктивные принципы текста
97
Рассмотрим текст Тютчева:
Вечер мглистый и ненастный...
Чу, не жаворонка ль глас?..
Ты ли, утра гость прекрасный,
В этот поздний, мертвый час?..
Гибкий, резвый, звучно-ясный,
В этот мертвый поздний час,
Кагк безумья смех ужасный,
Он всю душу мне потряс!..
Стихотворение отчетливо построено так, чтобы соединить две семантически
несоединимые группы: ненастный вечер и песню жаворонка. Вместе с тем
на всех языковых уровнях он построен как реализующий определенные связи
в соответствии с действующими на них запретами — разрешениями.
Несоединимость выступает здесь на другом уровне — внеязыковой реальности.
Снятие запрета на сочетаемость совершается не в пределах какого-либо из
языковых уровней (включая семантический — здесь нет метафоры в узком
смысле), а в конструкции сообщения. «Вечер мглистый и ненастный» дает
определенную реальную ситуацию. Междометие «чу» заставляет ожидать,
что в продолжении будет сообщение о каких-либо звуках. Наличие этих двух
сообщений заставляет построить некоторый набор возможностей, из которых
должно быть выбрано следующее за ними (например: «крик совы», «скрип
сухого дерева», «стон», «лязг костей», «звон колокола»). Выбор любого из
этих (или других эквивалентных им) элементов, в свою очередь, позволил
бы построить поле возможного — невозможного для дальнейших сообщений.
Тютчев выбирает не из набора вероятных, а из набора невероятных
продолжений. При этом нарушение ожидания, как всегда, совершается лишь на
одном определенном уровне. «Чу» предсказывает звук, и далее речь идет
действительно о звуке. Если трансформировать стих «Чу, не жаворонка ль
глас?» в «Чу, не крик ли птицы?», то никакого нарушения накладываемых
на сообщение ограничений не происходит, хотя очевидно, что «глас
жаворонка» и «крик птицы» в определенных контекстах могут безболезненно друг
друга заменять. Таким образом, из всех семантических признаков жаворонка
активизируется один: «утренняя птица» (ср. далее «утра гость прекрасный») —
несоединимый с картиной, экспозированной в начале. Далее на этом
соединении несоединимостей строится все стихотворение: «утра гость
прекрасный — поздний, мертвый час», «гибкий, резвый, звучно-ясный — мертвый
поздний час» (обратим внимание на перестановку слов в повторяющихся
четвертом и шестом стихах — синтагматическая ось расподобляет повторы,
снижая предсказуемость). Все это венчает «безумья смех ужасный». Так
создается конструкция сообщения о непредсказуемости, хаотичности самой
природы, о беспорядке как космическом законе.
Возникает вопрос: поэтическое снятие ограничений на соединение единиц
того или иного уровня на синтагматической оси имеет ли само какие-либо
ограничения? На этот вопрос можно ответить только утвердительно: ряд с
полностью снятыми ограничениями на сочетаемость (после каждого из
элементов равновероятно появление любого из возможных последующих) не
98
СТРУКТУРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
является структурой. Видимо, условием возможности соединения является то,
чтобы множество дифференциальных признаков каждого из них образовывало
пересечение хотя бы в один элемент. По сути дела, на этом строится
остающееся до сих пор классическим определение метафоры Аристотелем:
«Метафора — перенесение слова с измененным значением из рода в вид, или из
вида в род, или из вида в вид, или по аналогии». Причем по
сформулированному еще Ломоносовым закону отмечается связь между поэтической
ценностью метафоры и минимальностью пересечения («сопряжение далековатых
идей»)1. Вместе с тем мы сами говорили о непрерывном процессе снятия
ограничений, и, как кажется, об этом же говорит исторический материал:
если мы возьмем средневековую литературу, то круг дозволенных метафор
строго ограничен и они могут быть заданы закрытым списком, — у
Пастернака же или Вознесенского метафорой могут считаться практически любые
два стоящих рядом слова.
Однако противоречие между тем, что поэтическая метафора по природе
своей стремится к минимальному пересечению дифференциальных признаков
каждого из составляющих ее членов, и тенденцией к дальнейшему уменьшению
этого пересечения мнимое: само понятие «минимального» пересечения
действительно и имеет смысл только в связи со всей определенной суммой
запретов и разрешений, присущих данной структуре в целом.
Разрушаемое звено синтагматики получает особую значимость —
выступает как дифференциальный признак данного типа соединения. Можно
предложить следующую классификацию несоединимых соединений.
I. Снятие запретов на уровне естественного языка на соединение элементов
внутри одной семантической единицы (слова или фразеологического
сочетания). К этому случаю относятся в большинстве лексические неологизмы в
поэзии, а также случаи переосмысления соединимых единиц как несоединимых
(обычное в языке слово становится неологизмом):
Что в мае, когда поездов расписанье
Камышинской веткой читаешь в пути,
Оно грандиозней святого писанья,
Хотя его сызнова все перечти.
(Б. Л. Пастернак)
В слове «расписанье» приставка «рас» осмыслена в значении придания
действию превосходной степени (типа «расхвалить», «расписать»), и тогда
естественно, что «расписание» грандиозней, чем просто «писание»2.
Кто из вас
из сел,
1 Современная физиология мозга усматривает связь между раздражением
топографически отдаленных в мозгу психических центров и эмоциональной возбужденностью.
2 Разумеется, что слова «писание» и «расписание» при этом не теряют своего
обычного в естественном языке значения, на уровне которого возникает
противопоставление стилистическое, создающее преодолеваемый текстом запрет на соединение.
Вторичное значение наслаивается на этот основной фон.
5. Конструктивные принципы текста
99
из кожи вон,
из штолен
не шагнет вперед?!
(В. В. Маяковский)
Скорей со сна, чем с крыш; скорей
Забывчивый, чем робкий,
Топтался дождик у дверей,
И пахло винной пробкой.
(Б. Л. Пастернак)
Фразеологизмы ставятся в положение, синтаксически эквивалентное
аналогично построенным свободным словосочетаниям. Необычный тип связи
придает составным частям фразеологизма не свойственные им (утраченные
уже в языке) синтаксическую самостоятельность и вещественное значение.
Но в этом вещественном значении соединение слов в естественном языке
невозможно. Рассмотренный случай фактически находится уже на грани
преодоления синтагматических запретов.
И. Снятие запретов на правила соединения значимых единиц естественного
языка (морфологические и синтаксические запреты).
Было мрачно и темно.
Было страшно и окно.
(А. И. Введенский)
Здесь «окно» употреблено в функции категории состояния. Минимальной
общностью, позволяющей подобное переосмысление, здесь является
параллелизм синтаксической позиции и фонологическая омонимия морфем.
III. Снятие ограничений на семантическую отмеченность предложения.
На этом строятся все традиционные тропы. Следует помнить, что правила
семантической отмеченности находятся в обратной связи с синтаксическими.
Там, где формально выраженных связей нет, смысловая соединимость
становится единственным критерием правильности построения. Поэтому
поэтический принцип соседства как смысловой связи представляет собой
перенесение вовнутрь фразы межфразовой синтагматики.
Следует отметить, что сведение обязательных в языке связей между
сегментами текста к минимуму компенсируется введением дополнительных упо-
рядочностей. В поговорке XVII в. «кому смех, а у нас и в лаптях снег»
(произносится «снех»), для того чтобы установить эквивалентность между
«смех» и «снег» (по схеме: «кому хорошо, а нам плохо») и соединить их в
семантически параллельную пару, необходимо ввести дополнительную
фонетическую и ритмическую упорядоченность.
Таким образом, на синтагматической оси действуют две упорядоченности.
Одна соответствует общеязыковым правилам соединения сегментов. На этом
уровне все время действует стремление к «разбалтыванию» связей,
возрастающей минимализации запретов. При этом, поскольку поэтический текст в
этом отношении проектируется на общеязыковой, как речь на язык, снятие
запрета становится высокозначимым семантическим элементом.
100
СТРУКТУРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
Однако сама эта возрастающая неупорядоченность ряда есть
одновременно возрастающая упорядоченность другой — поэтической — структуры. Оба
ряда взаимно выступают как дополнительные. С этим, видимо, связано и то
любопытное обстоятельство, что наиболее значимые элементы поэтической
структуры расположены на концах сегментов (стихов, строф, глав,
произведений). Текст как общеязыковая структура дает все возрастающую к концу
избыточность. Структурная предсказуемость резко возрастает по мере
движения в общеязыковом тексте от начала сегмента к концу. Так же построена
взятая сама по себе и поэтическая конструкция. Однако при взаимном
сложении в реальном тексте они позволяют снять ряд обязательных в
языковом тексте связей. Поэтическая конструкция гасит избыточность языковой.
При этом, поскольку поэтическая упорядоченность предстает с точки зрения
общеязыковой как неупорядоченность, возникает (при определении текста
как художественного) тенденция рассматривать любую неупорядоченность
текста как упорядоченность особого типа. С этим, видимо, связана и тенденция
осмыслять сообщение текста как язык, и особая информационная
насыщенность поэзии.
Механизм внутритекстового семантического анализа
Из сказанного следует, что для внутритекстового (то есть при отвлечении
от всех внетекстовых связей) семантического анализа необходимы следующие
операции.
1. Разбиение текста на уровни и группы по уровням синтагматических
сегментов (фонема, морфема, слово, стих, строфа, глава — для стихового
текста; слово, предложение, абзац, глава — для прозаического текста).
2. Разбиение текста на уровни и группы по уровням семантических
сегментов (типа «образы героев»). Эта операция особенно важна при анализе
прозы.
3. Выделение всех пар повторов (эквивалентностей).
4. Выделение всех пар смежностей.
5. Выделение повторов с наибольшей мощностью эквивалентности.
6. Взаимное наложение эквивалентных семантических пар с тем, чтобы
выделить работающие в данном тексте дифференциальные семантические
признаки и основные семантические оппозиции по всем основным уровням.
Рассмотрение семантизации грамматических конструкций.
7. Оценка заданной структуры синтагматического построения и значимых
от него отклонений в парах по смежности. Рассмотрение семантизации
синтаксических конструкций.
Перечисленные операции дадут лишь общий и сознательно огрубленный
семантический костяк, поскольку описание всех возникающих в тексте связей
и всех внетекстовых отношений, которые могут быть зафиксированы,
представляло бы по своей объемности слишком нереальную задачу. Таким
образом, сама грубость результатов предлагаемого анализа может быть не только
6. Элементы и уровни парадигматики художественного текста
101
недостатком, но и достоинством. Видимо, сразу же необходимо
сформулировать задачу: какой степени полноты описание требуется и какие уровни
будут рассмотрены как доминирующие, что и на каком основании не будет
рассматриваться, в каких случаях отбор доминирующих элементов
совершается на основании точно сформулированных критериев, а в каких эти понятия
рассматриваются как интуитивно данные.
6. Элементы и уровни
парадигматики художественного
текста
Поэзия и проза
В теории литературы общепринято утверждение, что обычная речь людей
и прозаическая речь — одно и то же и, вследствие этого, что проза по
отношению к поэзии — явление первичное, предшествующее. Выдающийся
знаток теории стиха Б. В. Томашевский, подытоживая многолетние
разыскания в этой области, писал: «Предпосылкой суждения о языке является
аксиома о том, что естественная форма организованной человеческой речи
есть проза»1. Отсюда следует и второе, не менее распространенное убеждение:
стиховая речь мыслится как нечто вторичное, более сложное по структуре,
чем проза. Зигмунд Черный, например, предлагает следующую лестницу
перехода от простоты структуры к ее усложненности: «Утилитарная проза
(научная, административная, военная, юридическая, торгово-промышленная,
газетная и т. д.) — бытовая проза — литературная проза — стихи в прозе —
ритмическая проза — vers libre — вольные строфы — вольный стих —
классический стих строгой урегулированное™»2.
Более вероятным представляется иное расположение. В иерархии движения
от простоты к сложности расположение жанров другое: разговорная речь —
песня (текст + мотив) — «классическая поэзия» — художественная проза.
Разумеется, схема эта имеет характер лишь грубого приближения (вопрос о
1 Томашевский Б. В. Стих и язык // IV Международный съезд славистов: Доклады.
М., 1958. С. 4. Перепечатано в кн.: Томашевский Б. В. Стих и язык. М.; Л., 1959.
Той же точки зрения придерживается и М. Янакиев в интересной книге «Българско
стихознание» (София, 1960. С. 11).
2 Czerny Ζ. Le vers libre français et son art structural // Poetics. Poetika. Поэтика. I.
С. 255.
102
СТРУКТУРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
vers libre будет оговорен отдельно). Вряд ли правильно, что художественная
проза представляет собой исторически исходную форму, совпадающую с
разговорной нехудожественной речью.
История свидетельствует, что стихотворная речь (равно как и распев,
пение) была первоначально единственно возможной речью словесного
искусства1. Этим достигалось «расподобление» языка, отделение его от обычной
речи. И лишь затем начиналось «уподобление»: из «расподобленного» — уже
резко «непохожего» — материала создавалась картина действительности.
Описательное стиховедение и описательная поэтика исходят из
представления о художественном построении как механической сумме ряда отдельно
существующих «приемов». При этом художественный анализ понимается как
перечисление и идейно-стилистическая оценка тех поэтических элементов,
которые исследователь обнаруживает в тексте. Подобная методика анализа
укрепилась и в школьной практике. Методические пособия и учебники пестрят
выражениями: «выберем эпитеты», «найдите метафоры», «что хотел сказать
писатель таким-то эпизодом?» и т. д.
Структурный подход к литературному произведению подразумевает, что
тот или иной «прием» рассматривается не как отдельная материальная
данность, а как функция с двумя или, чаще, многими образующими.
Художественный эффект «приема» — всегда отношение (например, отношение текста
к ожиданию читателя, эстетическим нормам эпохи, привычным сюжетным и
иным штампам к жанровым закономерностям). Вне этих связей
художественный эффект просто не существует. Любое перечисление приемов ничего
нам не даст (равно как и рассмотрение «приемов» вообще, вне текста как
органического единства), поскольку, входя в различные структуры целого,
один и тот же материальный элемент текста неизбежно приобретает
различный, порой противоположный, смысл. Особенно наглядно проявляется это
при использовании отрицательных приемов — «минус-приемов». Приведем
пример. Возьмем стихотворение Пушкина «Вновь я посетил...». С точки
зрения описательной поэтики, оно почти не поддается анализу. Если к
романтическому стихотворению еще можно применить подобную методику:
выбрать обильные метафоры, эпитеты и другие элементы так называемой
образной речи и на основании их дать оценку идейной системы и стиля, то
к произведениям типа пушкинской лирики 1830-х гг. она решительно непри-
ложима. Здесь нет ни эпитетов, ни метафор, ни рифм, ни подчеркнутого
«ритма», на каких-либо других «художественных приемов».
С точки зрения структурного анализа, «номенклатурный» подход к тексту
всегда неэффективен, поскольку художественный прием — не материальный
элемент текста, а отношение. Существует, к примеру, принципиальное раз-
1 Показательно, что для ребенка первая форма словесного искусства — всегда
поэзия, то есть речь, не похожая на обычную. Зрелое искусство приходит к стремлению
имитировать нехудожественную речь, сблизиться с ней, но начальная стадия всегда
состоит в отталкивании. Искусство осознает свою специфику в стремлении к
максимальному несходству с неискусством (поэтическая речь, фантастические сюжеты,
«красивые» герои).
6. Элементы и уровни парадигматики художественного текста 103
личие между отсутствием рифмы в стихе, еще не подразумевающем
возможности ее существования (например, античная поэзия, русский былинный стих
и т. п.) или уже окончательно от нее отказавшемся, когда отсутствие рифмы
входит в читательское ожидание, в эстетическую норму этого вида искусства
(например, современный vers libre), — с одной стороны, и стихом,
включающим рифму в число характернейших признаков поэтического текста, — с
другой. В первом случае отсутствие рифмы не является художественно
значимым элементом, во втором отсутствие рифмы есть присутствие нерифмы,
«минус-рифма». В эпоху, когда читательское сознание, воспитанное на
поэтической школе Жуковского, Батюшкова, молодого Пушкина, отождествляло
романтическую поэтику с самим понятием поэзии, художественная система
«Вновь я посетил...» производила впечатление не отсутствия «приемов», а
максимальной их насыщенности. Но это были «минус-приемы», система
последовательных и сознательных, читательски ощутимых отказов. В этом
смысле совершенно не парадоксальным, по существу, будет утверждение, что
в 1830 г. поэтический текст, написанный по общепринятым уже нормам
романтической поэтики, производил бы более «голое» впечатление, был бы
действительно в большей степени лишен элементов художественной
структуры, чем «Вновь я посетил...».
Представление о том, что сходство с нехудожественной действительностью
составляет достоинство или даже условие искусства, канонизированное
вкусами и эстетическими теориями XIX в., — очень позднее явление в истории
искусства. На начальных этапах именно «непохожесть», различие сфер
обыденного и художественного заставляет воспринимать текст эстетически. Для
того чтобы стать материалом искусства, язык сначала лишается сходства с
обыденной речью. И только дальнейшее движение искусства возвращает его
к прозе, но не к первоначальной «непостроенности», а лишь к ее имитации.
Так происходит наступление прозаизмов, «поэтической свободы» в поэзии и
прозе, в литературе в целом. Однако эта вторичная простота художественно
активна лишь на фоне большой и постоянно присутствующей в сознании
читателей поэтической культуры. Вряд ли случайно, что периоды господства
поэзии и прозы чередуются с определенной закономерностью. Так, выработка
мощной поэтической традиции в начале XIX в., приведшая после Пушкина
1820-х гг. к отождествлению поэзии с литературой в целом, послужила
исходной точкой для энергичного развития художественной прозы во вторую
половину столетия. Однако когда пушкинская традиция превратилась, как
это казалось в те годы, в историческую, не ощущаемую уже в качестве живого
литературного факта, когда проза победила поэзию настолько, что перестала
восприниматься в отношении к ней, произошел новый поворот к поэзии.
Начало XX в., как некогда начало XIX, в русской литературе прошло под
знаком поэзии. И именно она была тем фоном, на котором стал ощутим
происшедший в 1920-х гг. рост художественной активности прозы.
Охарактеризованная смена господствующего типа поэтической речи не
была не только причиной, но даже и основным фактором в развитии, истории
художественных форм русской литературы в эти годы. Это был резерв
художественной информации, из которого сложные и многофакторные про-
104
СТРУКТУРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
цессы исторического развития литературы черпали то, что соответствовало
их внутренним потребностям.
Сложное переплетение прозы и поэзии в единой функционирующей
системе художественного сознания оказывается тесно связанным с более общими
вопросами построения произведений искусства. Художественный текст
никогда не принадлежит одной системе или какой-либо единственной тенденции:
закономерность и ее нарушение, формализация, в конечном итоге —
автоматизация и деавтоматизация структуры текста постоянно борются друг с
другом. Каждая из этих тенденций вступает в конфликт со своим структурным
антиподом, но существует только в отношении к нему. Поэтому победа одной
тенденции над другой означает не уничтожение конфликта, а перенесение
его в другую плоскость. Победившая же тенденция теряет художественную
активность.
Так, противопоставление поэзии и прозы в русской литературе XIX в.
воспринималось на фоне общей антиномии построенного, искусственного,
ложного, с одной стороны, и природного, безыскусственного, истинного —
с другой. Выдвинутое в эту эпоху требование сближения искусства и жизни
не подразумевало, однако, замену одного другим. Художественный текст
именно потому максимально стремится приблизиться к жизни, что он согласно
самой исходной предпосылке жизнью не является. Таким образом, сначала
задается некоторая мера условности, некоторое исходное несходство, а затем
начинается борьба с ним — подчеркивание сходства. При этом теоретически
возможны два пути: движение к сходству внутри данной системы условности,
попытки перестройки ее изнутри и отбрасывание системы в целом, требование
замены ее другой. Принятие существующей системы за исходный
отрицательный фон приводит к тому, что новая система художественного языка
получает активность в отношении к старой как ее отрицание.
Применительно к интересующему нас примеру это будет означать два
пути преодоления той поэтической традиции, которая в конце первой трети
XIX в. воспринималась как пушкинская. С одной стороны, возможна
тенденция к прозаизации стиха (ритмико-интонационной, тематической и пр.);
с другой — речь может пойти об отказе от поэзии в принципе и обращении
к прозе, воспринимаемой на фоне стихотворной культуры как ее отрицание.
Таким образом, противопоставление «проза — поэзия» оказывается
частным выражением оппозиции «неискусство — искусство». Не случайно
параллельно с перемещением произведения в семантическом поле «поэзия —
проза» происходит непрерывное вовлечение «неискусства» в сферу
художественных текстов и «выталкивание» произведений искусств и целых жанров
в раздел «нехудожественных». Так, одновременно с отказом от поэзии как
основного средства литературной выразительности в 1830-е гг. традиционные
для XVIII — начала XIX в. произаические жанры — плутовской, семейный
и другие формы романа — были выведены за пределы искусства. Их место
заступил очерк, ценный своей документальностью и причислявшийся к
художественным жанрам именно потому, что не претендовал на
художественность. «Невыдуманность» очерка проявляется в первую очередь в его
бессюжетности, как свидетельстве достоверности, проникает в поэзию (стихотвор-
6. Элементы и уровни парадигматики художественного текста 105
ный фельетон, стихотворный очерк), драму (появление особого жанра —
«сцены»), живопись (победа «жанра» над «исторической живописью»,
распространение путевых зарисовок и т. п.). И в последующие эпохи широкое
движение к прозаизации художественной культуры, с одной стороны,
утверждает авторитет «неискусства» (действительности, быта, документа), а с
другой — возводит в норму воспроизведение жизни средствами искусства. Даже
непосредственная «сырая» действительность — документ, вмонтированный в
художественную прозу1 или киноповествование, — «материально» оставаясь
неизменным, функционально меняет свою природу коренным образом:
распространяя на другие участки текста вызываемое ею ощущение подлинности,
она получает от контекста признак «сделанности» и становится
воспроизведением самой себя. Аналогична и судьба повествовательной речи в искусстве:
художественная речь не идентична нехудожественной прозе, а относится к
ней как воспроизведение к объекту. При этом можно заметить многочисленные
и глубокие отличия, которые ускользают лишь от недостаточно пристального
взгляда. Самое существенное сводится к следующему: устная речь коренным
образом отличается от письменной. На всех уровнях, от фонемы до
сверхфразовых синтаксических единств, она строится как система редукций,
упущений и эллипсов. Однако воспроизведение устной речи в художественной
литературе строится по законам письменной. Элементы устной,
редуцированной структуры лишь местами вносятся в текст, выполняя роль
определенных сигналов: по ним мы узнаем, что денотатом нормализованного текста
является та значительно более сокращенная, обусловленная внесловесной
ситуацией, интонацией словесная ткань, которую представляет собой устная
речь. Устная речь может очень глубоко проникать в ткань повествования,
особенно в искусстве XX в. Однако никогда она не может полностью
вытеснить письменные структуры уже потому, что художественный текст и в
самых предельных случаях — не устная речь, а отображение устной речи в
письменной. Следует заметить, что даже когда дело идет не о письменных
формах словесного искусства, устная художественная речь — от
импровизации фольклорного певца до сценической речи — строится на основе
нормализованного и полного, а не сокращенного варианта речи. Но даже со сцены
нас не поражает эта разница, разумеется до тех пор, пока вся система
условностей, принятая в данном виде искусства, удовлетворяет нашему
художественному чувству. Читателю XVIII в. не бросалось в глаза языковое
неправдоподобие такого отображения устной речи: «Куда девалось прежнее
ваше спокойство, сердце ваше наслаждающее? Ах, любезный Камбер! —
жалостным Арисена возопила голосом. — Теперь понимаю, к горчайшему
моему мучению, что не надобно верить льстивым фортуны блистаниям»2.
Оно представлялось столь же правдоподобным, как различные виды сказа
1 Прием этот широко применяется писателями XX в., однако известен он был и
прежде: Пушкин применил его в «Дубровском», включив в текст романа подлинные
судебные документы.
2 Эмин Ф. Любовный вертоград, или Непреоборимое постоянство Камбера и Ари-
сены. СПб., 1763. С. 40.
106
СТРУКТУРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
или «поток сознания» современному читателю, хотя достаточно их
сопоставить с магнитофонной записью реальной разговорной речи, чтобы увидеть
коренное различие: любой современный сказ, любое отображение
«разорванности» бытового диалога строится так, чтобы воспроизвести все виды
контакта, в том числе и несловесные, при помощи слов. Поэтому он создает
целостную модель общения и понятен сам по себе. Записанная на
магнитофонную ленту и переведенная в графические знаки устная речь, теряя связи
с паралингвистикой и интонацией, остается частью общения и, взятая в
отдельности, может быть просто непонятной. Всякое «приближение к
разговорности», будь то нарочитые алогизмы и нарушения синтаксиса, которыми
Руссо имитирует «беспорядок страсти», затрудненные периоды Толстого,
воспроизводящие течение внутренней мысли, или распространенные в прозе
XX в. структуры типа «потока сознания», в гораздо большей мере
сигнализируют о неудовлетворенности писателей «условностью» предшествующей
литературной традиции, чем представляют собой натуралистическое
воспроизведение «сырой» речи. Процесс перехода от поэтических структур к
имитации обыденной речи средствами художественной прозы во многом
аналогичен переходу от непосредственно письменных форм языка к имитации
разговорности. В обоих случаях сначала задается некоторая сознательно
условная система, по природе своей отделенная от фактуры воспроизводимого
мира, а затем начинается их сближение.
С этим связано то, что некоторые исходные для данной культуры
художественные типы1 всегда представляют собой системы с максимально
выраженным числом ограничений. Дальнейшая же эволюция, как правило,
заключается в снятии определенных запретов или переводе их в разряд фа-
1 Понятие «исходного типа» можно пояснить следующим образом: каждый тип
культуры можно было бы представить в виде набора некоторых устойчивых форм.
В ходе исторической эволюции исходные типы могут существенно деформироваться,
однако сохраняют гомеостатическое стремление к единству: все последующие формы
воспринимаются в отношении к исходной, как ее варианты. Так, метрическая структура
русского стиха, сложившаяся в эпоху Тредиаковского и Ломоносова, до сих пор
остается «исходным типом» для всех последующих ритмических систем. Норма
русского жития, сложившаяся в киевскую эпоху, оставалась «исходным типом» для всех
дальнейших модификаций этого жанра, вплоть до сочинения протопопа Аввакума,
текст которого воспринимается как новаторский именно на фоне нормы, т. е. в
отношении к ней. Можно высказать предположение, что при всех театральных
революциях, потрясавших французскую сцену от романтиков до авангардистов, театр
Расина до сих пор остается «исходным типом» для всей французской драматургии.
И именно устойчивость этой, лежащей в самой основе данной культуры нормы делает
возможным столь далеко идущие художественные деформации. Вместо обычного
(«бытового») представления: «Чем дальше от традиции, тем смелее новаторство» —
структурный подход выдвигает иной принцип: «Чем дальше от традиции, в пределах
одного и того же культурного типа, тем ближе к ней». Разрыв с традицией в области
культуры — это ее воскрешение в изменившихся условиях. Разумеется, в данном
случае речь не идет о механическом перерыве, который вообще не есть факт культуры.
Подлинный разрыв с «исходным типом» начинается там, где его разрушение перестает
быть художественно значимым.
6. Элементы и уровни парадигматики художественного текста 107
культативных. Поэтому субъективно такая эволюция осознается как упрощение
исходного типа. Все художественные бунты против исходного типа протекали
под лозунгом борьбы за «естественность» и «простоту», против стеснительных
и «искусственных» ограничений предшествующего периода. Однако со
структурной точки зрения происходит усложнение конструкции текста, хотя
основные элементы построения выносятся за текст, реализуясь в виде «минус-
приемов». С этой точки зрения проза как художественное явление представляет
собой структуру более сложную, чем поэзия.
Однако вопрос этим не исчерпывается. В период создания исходных типов
художественных конструкций на разных уровнях наиболее активна тенденция
закрепления за отдельными участками содержания иерархии определенных
типов художественного языка. Так, за одним каким-либо жанром (например,
эпохи классицизма) закрепляется определенный стиль и размер, за
определенными сюжетами — фиксированные жанры, за определенными
персонажами — язык и тому подобное. Дальнейшее «расшатывание» исходных типов
может заключаться как в том, что внутри прежде единого типа художественной
структуры появляются значимые разграничения1, так и в том, что возникает
возможность нарушения границ первоначальной кодификации. Там, где
исходный тип давал одну структурную возможность, возникает выбор.
Проза и поэзия по-разному соотносятся между собой тогда, когда какой-
либо сюжет, тема, образ или жанр однозначно определяют, поэтическим или
прозаическим будет произведение, или когда возможен художественный выбор
одного из двух решений. Карамзин, в одно и то же время написавший повесть
в стихах «Алина» и «Бедную Лизу», Пушкин, назвавший «Евгения Онегина»
романом в стихах, а «Медный всадник» — «петербургской повестью»,
избравший для поэм «Граф Нулин» и «Домик в Коломне» подчеркнуто
новеллистические сюжеты, сознательно исходили из возможности рассматривать
стихи и прозу как в определенном отношении структурно равноценные.
Появление «Саши» Некрасова и «Рудина» Тургенева в одном номере
«Современника» в этом смысле не менее знаменательно. Однако уже романы
Толстого и Достоевского, сатиры Салтыкова-Щедрина, очерки Г. Успенского
однозначно определяли выбор прозы как конструктивной основы текста.
Вновь восстановилось существовавшее в XVIII в. положение: проза и поэзия
разделились (правда, по совершенно иным причинам) на две
непересекающиеся художественные сферы. Читатель точно знал, какой круг
художественных явлений закреплен за прозой, а какой отведен поэзии. Возможность
выбора, конфликта между ожиданием и реализацией была снята.
Процессы, протекавшие в прозе, начиная с Гаршина и Чехова, в поэзии —
с символистов, снова привели к тому «пушкинскому» уравниванию поэзии
и прозы, которое свойственно, например, Пастернаку. Так, публикуя в 1929 г.
прозаический отрывок «Повесть», Пастернак писал: «Вот уже десять лет
1 Так, для Ломоносова все, что может быть определено как «четырехстопный ямб»,
едино и внутри себя содержательных градаций не имеет. В дальнейшем на этой основе
возникает сложная система, в которой ритмические фигуры и словоразделы создают
возможности многочисленных семантических противопоставлений.
108
СТРУКТУРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
передо мною носятся разрозненные части этой повести, и в начале революции
кое-что попало в печать. Но читателю лучше забыть об этих версиях, а то
он запутается в том, кому из лиц какая, в окончательном розыгрыше,
досталась доля. Часть их я переименовал, что же касается самих судеб, то
как я нашел их в те годы на снегу под деревьями, так они теперь и останутся,
и между романом в стихах под названьем «Спекторский», начатым позднее,
и предлагаемой прозой разноречья не будет, — это одна жизнь»1.
Как видим, «быть стихами», «быть прозой» — это не только материальная
выраженность структурного построения какого-либо текста, но и
определенная всем типом культуры функция текста, которая далеко не всегда может
быть однозначно извлечена из его графически зафиксированной части2.
Итак, художественная проза возникла на фоне определенной поэтической
системы как ее отрицание.
Сказанное позволяет нам взглянуть диалектически на проблему границ
поэзии и прозы и эстетической природы пограничных форм типа vers libre.
Нельзя не отметить при этом следующий любопытный парадокс. Взгляд на
поэзию и прозу как на некие самостоятельные, обособленные друг от друга
конструкции, которые могут быть описаны без взаимной соотнесенности
(«поэзия — ритмически организованная речь, проза — обычная речь»),
неожиданно приводит исследователя к невозможности разграничить эти явления.
Столкнувшись с обилием промежуточных форм, исследователь вынужден
будет заключить, что определенной границы между стихами и прозой провести
вообще нельзя. К такому выводу пришел Б. В. Томашевский, писавший:
«Естественнее и плодотворнее рассматривать стих и прозу не как две области
с твердой границей, а как два полюса, два центра тяготения, вокруг которых
исторически расположились реальные факты <...> Законно говорить о более
или менее прозаических, более или менее стихотворных явлениях». И далее:
«А так как разные люди обладают различной степенью восприимчивости к
отдельным приметам стиха и прозы, то их утверждения: „это стих", „нет,
это рифмованная проза" — вовсе не так противоречат друг другу, как кажется
самим спорщикам. Из этого можно сделать вывод: для решения основного
вопроса об отличии стиха от прозы плодотворнее изучать не пограничные
явления и определять их не путем установления такой границы, быть может
мнимой; в первую очередь следует обратиться к самым типичным, наиболее
выраженным формам стиха и прозы»3.
Близкую точку зрения высказал и Борис Унбегаун в своем исследовании
по теории русского стиха4. Исходя из представления о том, что стих — это
упорядоченная, организованная, то есть «несвободная речь», он объявляет
само понятие vers libre логической антиномией. Он сочувственно цитирует
1 Пастернак Б. Повесть // Новый мир. 1929. № 7. С. 5.
2 Мы не останавливаемся на совершенно самостоятельном вопросе соотношения
текста и его функции. Некоторые соображения по этому поводу см. в указанной
статье Ю. Лотмана и А. Пятигорского.
3 Томашевский Б. В. Стих и язык. С. 7—8.
4 Vnbegaun В. La versification russe. Paris, 1958.
6. Элементы и уровни парадигматики художественного текста 109
слова английского писателя Г. Честертона: «Свободный стих, как и
свободная любовь, — противоречие в термине». К этой же точке зрения
присоединяется и М. Янакиев, пишущий: «Свободный стих» (vers libre) не может
быть предметом стиховедения, поскольку ничем не отличается от общей речи.
С другой стороны, стиховедению следует заниматься даже самым бездарным
«несвободным стихом», поскольку таким образом может быть вскрыта «пусть
неумелая, но осязаемая, материальная стиховая организация»1. Цитируя
стихотворение поэтессы Елизаветы Багряной «Клоун говорит», автор заключает:
«Общее впечатление как от художественной прозы <...> Рифмованное созвучие
местата — землята недостаточно, чтобы превратить текст в «стих». И в
обыкновенной прозе от времени до времени встречаются подобные созвучия»2.
Однако подобная трактовка «осязаемой, материальной стиховой
организации» оказывается в достаточной степени узкой. Она, как уже указывалось,
рассматривает только текст, понимаемый как «все, что написано». Отсутствие
того или иного элемента текста в том случае, когда он в данной структуре
невозможен и не ожидается, приравнивается к изъятию ожидаемого элемента,
отказ от четкой ритмичности в эпоху до возникновения стиховой системы —
к отказу от нее после. Элемент берется вне структуры и функции, знак —
вне фона. Если подходить так, то vers libre действительно можно приравнять
прозе.
Иной ответ на вопрос о природе vers libre мы получим, если будем
рассматривать стихи и прозу в их исторической и типологической
соотнесенности. К такому диалектическому подходу оказывается, к примеру, весьма
близок И. Грабак в статье «Замечания о соотношении стиха и прозы, особенно
в так называемых переходных формах». Автор исходит из представления о
прозе и стихах как об оппозиционном структурном двучлене (впрочем,
следовало бы оговориться, что соотношение оппозиции существует здесь отнюдь
не всегда, а также провести разграничение структуры обычной речи и
художественной прозы). Хотя И. Грабак, как будто отдавая дань традиционной
формулировке, пишет о прозе как о речи, «которая связана только
грамматическими нормами», однако далее он расширяет свою точку зрения, исходя
из того, что для современного читателя проза и поэзия взаимно
проектируются. Следовательно, считает он, невозможно не учитывать внетекстовых
элементов эстетической конструкции. Исходя из сказанного И. Грабак решает
вопрос о границе между прозой и поэзией. Считая, что в сознании автора
и читателя структуры поэзии и прозы резко разделены, он пишет: «В случаях,
когда автор подчеркивает в прозе типичные элементы стиха, эта граница не
только не ликвидируется, но, наоборот, приобретает наибольшую
актуальность»3. Поэтому: «Чем менее в стихотворной форме элементов, которые
отличают стихи от прозы, тем более ясно следует различать, что дело идет
не о прозе, а именно о стихах. С другой стороны, в произведениях, написанных
1 Янакиев М. Българско стихознание. С. 10.
2 Там же. С. 214.
3 Hrabâk J. Remarques sur les correlations entre le vers et la prose, surtout les soi-disant
formes de transition // Poetics. Poetyka. Поэтика. I. С. 241, 245.
по
СТРУКТУРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
свободным стихом, некоторые отдельные стихи, изолированные и вырванные
из контекста, могут восприниматься как проза»1. Именно вследствие этого
граница, существующая между подобным свободным стихом и прозой, должна
быть резко различима, и именно поэтому свободный стих требует особого
графического построения, чтобы быть понятым как форма стиховой речи.
Таким образом, метафизическое понятие «прием» заменяется здесь
диалектическим — «структурный элемент и его функция». А представление о
границе стиха и прозы начинает связываться не только с реализацией в тексте
тех или иных элементов структуры, но и с их значимым отсутствием.
Современная молекулярная физика знает понятие «дырка», которое совсем
не равно простому отсутствию материи. Это отсутствие материи в
структурном положении, подразумевающем ее присутствие. В этих условиях «дырка»
ведет себя настолько материально, что можно измерить ее вес, — разумеется,
в отрицательных величинах. И физики закономерно говорят о «тяжелых» и
«легких» дырках. С аналогичными явлениями приходится считаться и
стиховеду.
Из сказанного следует, что понятие «текст» для литературоведа
оказывается значительно более сложным, чем для лингвиста. Если приравнивать
его понятию «реальная данность художественного произведения», то
необходимо учитывать и «минус-приемы» — «тяжелые» и «легкие дырки»
художественной структуры. Чтобы в дальнейшем не слишком отходить от
привычной терминологии, мы будем понимать под текстом нечто более
привычное — всю сумму структурных отношений, нашедших лингвистическое
выражение (формула «нашедших графическое выражение» не подходит, так
как не покрывает понятия текста в фольклоре). Однако при таком подходе
нам придется наряду с внутритекстовыми конструкциями и отношениями
выделить внетекстовые как особый предмет исследования. Внетекстовая часть
художественной структуры составляет вполне реальный (иногда очень
значительный ) компонент художественного целого. Конечно, она отличается
большей зыбкостью, чем текстовая, более подвижна. Ясно, например, что
для людей, изучавших Маяковского со школьной скамьи и принимающих
его стих за эстетическую норму, внетекстовая часть его произведений
представляется совсем в ином виде, чем самому автору и его первым слушателям.
Текст (в узком смысле) и для современного читателя вдвинут в сложные
общие структуры — внетекстовая часть произведения существует и для
современного слушателя. Но она во многом уже иная. Внетекстовые связи
имеют много субъективного, вплоть до индивидуально-личного, почти не
поддающегося анализу современными средствами литературоведения. Но они
имеют и свое закономерное, исторически и социально обусловленное
содержание и в своей структурной совокупности вполне могут уже сейчас быть
предметом рассмотрения.
Мы будем в дальнейшем рассматривать внетекстовые связи в их
отношении к тексту и между собой. При этом залогом научного успеха будет
1 См.: Hrabak J. Uvod do teorie verse. Praha, 1958. С. 7 и след.
6. Элементы и уровни парадигматики художественного текста
111
строгое разграничение уровней и поиски четких критериев границ доступного
современному научному анализу.
Свидетельством в пользу сравнительно большей сложности прозы, чем
стихов, является вопрос о трудности построения порождающих моделей.
Здесь совершенно ясно, что стиховая модель будет отличаться большей
сложностью, чем общеязыковая (вторая войдет в первую), но не менее ясно,
что моделировать художественный прозаический текст — задача несравненно
более трудная, чем стихотворный.
И. Грабак, бесспорно, прав, когда наряду с другими стиховедами,
например Б. В. Томашевским, подчеркивает значение графики для различения
стихов и прозы. Графика выступает здесь не как техническое средство
закрепления текста, а как сигнал структурной природы, следуя которому наше
сознание «вдвигает» предлагаемый ему текст в определенную внетекстовую
структуру. Можно лишь присоединиться к И. Грабаку и тогда, когда он
пишет: «Могут возразить, например, что П. Фор или М. Горький писали
некоторые из своих стихов сплошь (in continuo), но в этих двух случаях дело
шло о стихах традиционной и стабильной формы, о стихах, заключающих
произносимые ритмические элементы, что исключало возможность смешения
с прозой»1.
Принцип повтора
В естественном языке наряду с упорядоченностями на уровне языка,
имеющими смыслоразличающий характер, спорадически возникают
определенные упорядоченности на уровне речи. Мы их не замечаем, поскольку в
акте языковой коммуникации они не несут никакой структурной нагрузки.
Когда мы имеем дело с художественным текстом, положение резко
меняется. Получателю сообщения еще предстоит на основании текста
восстановить тот специфический язык, на котором осуществляется акт
художественной коммуникации. При этом, как мы отмечали, свойства сообщения
переходят в свойства кода и любая упорядоченность текста начинает
осмысляться как структурная, как носительница значения. И если поэт находит в
создаваемом им тексте дополнительные упорядоченности по отношению к
естественному языку, то читатель вправе поступать так же и обнаруживать
в создании поэта некие дополнительные упорядоченности второй степени.
Выше было показано, что упорядоченности эти могут быть сведены к двум
классам: упорядоченности по эквивалентности и упорядоченности по порядку.
К первому классу принадлежат все виды повторов в художественном тексте.
Разделяя упорядоченности по эквивалентности и упорядоченности по
порядку, мы относим к первым отношения между одинаковыми элементами
вне отношения к синтагматике текста, а ко вторым — отношения между
1 Hrabak J. Uvod do teorie verse. С. 245.
112
СТРУКТУРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
разными элементами на синтагматической оси. При этом следует подчеркнуть,
что самое определение того, с каким из двух аспектов структуры мы имеем
дело, получает смысл лишь в связи с указанием на определенный уровень.
И в берег бьет волной безумной
(Е. Л. Баратынский)
На уровне фонем чередование «в» и «б» создает повторы, позволяющие
рассматривать определенные сегменты текста как эквивалентные. Но
одновременно на грамматическом уровне цепочка «в берег бьет» может быть
рассмотрена как разделенная на группы, упорядоченные по порядку. В этом
случае в признаки такой упорядоченности можно включить наряду с
определенным глагольным управлением наличие анафорического фонемного
элемента «б» (по типу грамматического согласования). Одновременно между
группами «И в берег бьет» «волной безумной» устанавливается параллелизм,
базирующийся на ритмической эквивалентности и наличии в каждой группе
анафорических фонем «в — б» (начальное «и» с внутренней организацией
стиха не коррелирует, анафорически связывая его с другими стихами). Если
«в — б» первого полустишия относительно «в — б» второго —
упорядочивания их по эквивалентности, то между собой они образуют отношение по
порядку.
Поскольку всякий текст образуется как комбинаторное сочетание
ограниченного числа элементов, наличие повторов в нем неизбежно. Однако эти
повторы в нехудожественном тексте могут не осознаваться как некоторая
упорядоченность относительно семантического уровня текста.
Возьмем стихи Грибоедова:
Орган мои создали руки,
Псалтырь устроили персты.
Относительно общеязыковой, фонологической или грамматической,
структуры текст этот отличается определенной упорядоченностью, но относительно
семантического строя текста эти упорядоченности проявляются лишь в одном:
нам достаточно знать, что строй текста способен передавать некоторое
содержание, то есть что он правилен. Как только мы устанавливаем, что
текст построен правильно, его формальная упорядоченность нас перестает
интересовать. С точки зрения общеязыкового содержания повторение
определенных фонем является совершенно случайным. В первом стихе:
Орган — создали (о-а — о-а)
Во втором стихе:
Псалтырь — персты (п-с-т-ы-р — п-р-с-т-ы)
Между первым и вторым стихами:
Орган создали руки
Псалтырь устроили персты
То же самое можно сказать и о параллелизме грамматических форм между
парно соотнесенными членами первого и второго стихов. Более того, если
рассматривать текст как внехудожественное сообщение, то придется или
6. Элементы и уровни парадигматики художественного текста 113
предположить, что под органом и псалтырью подразумеваются разные
предметы, или считать сообщение второго стиха полностью избыточным. Та
особая упорядоченность, которая создается обычным в библейской поэзии
повтором содержания стихов («я был меньший между братьями моими и
юнейший в доме отца моего <...> Руки мои сделали орган, персты мои
настраивали псалтырь») и которую Д. С. Лихачев определил термином
«стилистическая симметрия», указав, что «стилистическая симметрия может
рассматриваться как своеобразное явление синонимии»1, с точки зрения
общеязыкового сообщения также выступает как чистая избыточность.
Однако стоит нам определить текст как художественный, чтобы вступила
в строй презумпция об осмысленности всех имеющихся в нем упорядочен-
ностей. Тогда ни один из повторов не будет выступать как случайный по
отношению к структуре. Исходя из этого, классификация повторов становится
одной из определяющих характеристик структуры текста.
Повторяемость на фонологическом уровне
Фонологические повторяемости составляют низший структурный уровень
поэтического текста. Не будем пока рассматривать тех случаев, когда
фонологическая повторяемость выступает как неизбежное следствие повторов
более высоких уровней (грамматические повторы, рифмы и т. п.).
Фонологические повторяемости впервые были отмечены О. Бриком и с
той поры неоднократно привлекали внимание исследователей. Место их в
поэтической структуре велико — в этом сейчас никто не сомневается. Вопрос
состоит в другом: каково отношение их к содержательной структуре текста?
Очевидно, что никакой отдельно взятый звук поэтической речи
самостоятельного значения не имеет. Осмысленность звука в поэзии не вытекает из
его особой природы, а дедуктивно предполагается. Аппарат повторов
выделяет тот или иной звук в поэзии (и вообще в художественном тексте) и не
выделяет его в каждодневном языковом общении. Как только понятие о
полностью урегулированном тексте возникает — складывается представление
об оппозиции: «урегулированный текст — неурегулированный текст»2, и
1 Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы. Л., 1967. С. 173.
2 При этом текст, урегулированный только по правилам данного естественного
языка, воспринимается как неурегулированный, а понятие «полной урегулированности»
всегда реализуется на определенном уровне. Урегулированность на фонологическом,
грамматическом, ритмическом и других уровнях может не входить в идеальный
максимум урегулированности, нормы которого складываются под влиянием общего
контекста культуры и находятся вне любого отдельного художественного текста. В
этом случае та или иная урегулированность не замечается ни поэтом, ни читателем
и никакой семантики ей не приписывается. Следовательно, понятие «полностью
урегулированный» хотя в логическом пределе относится к некоторому максимуму
языковых элементов, но исторически-реально неизменно соотносится с определенным
условным эстетическим нормативом.
114
СТРУКТУРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
поэтический текст начинает восприниматься в свете этой антитезы как
полностью урегулированный. Создается возможность дополнительного
осмысления. Читатель начинает замечать прежде спонтанные упорядоченности. Но
писатель — также читатель, и он, вооруженный исходным представлением
о том, что звуковая организация имеет значение, начинает организовывать
ее по своему особому структурному плану. Читатель же продолжает эту
работу и доорганизовывает текст в соответствии со своими представлениями.
С того момента, как звуковые повторы становятся предметом внимания
поэта, возникает стремление приписать им некоторое объективное значение.
Очевидно, что все рассуждения о значениях, которые якобы имеют фонемы,
взятые вне слов, не несут никакого общеобязательного смысла и покоятся
на субъективных ассоциациях. Однако сама устойчивость этих попыток —
от Ломоносова до Андрея Белого — знаменательна и не дает просто отбросить
все утверждения об эмоциональной, цветовой или какой-либо иной
значимости той. или иной фонемы. Здесь, видимо, происходит два процесса. Во-
первых, предполагается, что фонема может иметь самостоятельное значение,
то есть она возводится в ранг знака и, повышаясь по ярусам языковой
иерархии, приравнивается отдельному слову. Во-вторых, она как бы
становится «пустым словом», то есть единицей, осмысленность которой составляет
презумпцию1, но значение которой еще предстоит установить. Затем эти
фонемы заполняются теми значениями, которые создает данная текстовая
или внетекстовая структура, становясь особыми «окказиональными словами».
Наличие подобных «пустых слов» составляет неотъемлемую особенность
художественного текста. Именно потому, что фонемы лишены в языке
собственного значения (и лексического и грамматического), они являются
основным резервом при конструировании «пустых слов» — резерва для
семантического дорегулирования текста2.
Однако звуковые повторы имеют и другой семантический смысл,
значительно более поддающийся объективному анализу. Звуковые повторы могут
устанавливать дополнительные связи между словами, внося в семантическую
организацию текста ^противопоставления, менее ясно выраженные или
вообще отсутствующие на уровне естественного языка.
Сопоставим два текста из стихотворений Лермонтова. Они удобны не
тем, что звуковая организация в них дана с особой подчеркнутостью, — в
этом смысле можно было бы найти и более яркие примеры. В данном случае
они возбуждают интерес иного типа: если понимать под содержанием
непосредственное сообщение на уровне естественного языка, то в обоих этих
текстах содержание одинаково. Между тем ясно, что они несут различную
художественную информацию. Причем, поскольку конструкция тропов в этих
1 О «презумпции осмысленности» в языке см.: Ревзин И. И. Модели языка, М.,
1962. С. 17; он э/се. Отмеченные фразы, алгебра фрагментов, стилистика //
Лингвистические исследования по общей и славянской типологии. М., 1966. С. 3—4.
2 Вопрос о дорегулировании текста читателем подробно рассмотрен в кандидатской
диссертации Б. А. Зарецкого «Семантика и структура словесного художественного
образа» (1965).
6. Элементы и уровни парадигматики художественного текста 115
текстах однотипна, основная часть сверхъязыковой семантики возникает за
счет фонологической упорядоченности поэтического типа.
Как небеса твой взор блистает
Эмалью голубой,
Как поцелуй звучит и тает
Твой голос молодой.
Она поет — и звуки тают,
Как поцелуи на устах,
Глядит — и небеса играют
В ее божественных глазах.
Эти тексты, если бы они не были художественными, можно было бы свести
к следующей общей для них семантической параллели:
Твой <ее> голос — тает как поцелуи,
Твои <ее> глаза — как небо.
Однако непосредственное чувство каждого читающего не позволяет ему
увидеть в этих текстах простое тавтологическое повторение одного и того
же сообщения. Рассмотрим звуковое построение текста, отвлекшись от всех
других уровней анализа (хотя абсолютное отделение фонологического уровня
от просодического или грамматического бывает затруднительно). Стихи
Как небеса /твой взор/ блистает
Как поцелуй /звучит/ и тает —
отчетливо делятся на три взаимно изометрические группы. Если не касаться
синтаксико-грамматического параллелизма, то изометрические части стихов
образуют в фонологическом отношении соотнесенные пары.
Как небеса — как поцелуй
Группа «как» образует единый анафорический фонологический сегмент —
основание для сопоставления, а «небеса» и «поцелуй» — дифференцирующие
элементы фонологической группы. Вторая ритмическая группа дает
обращенный звуковой повтор:
твой взор — звучит
твз— звт
Третья ритмема фонологически противопоставлена первой как рифма
анафоре, а второй — тем, что повторяющаяся группа построена на гласных и
на согласных:
блистает — и тает
иае — иае; тт — тт
В результате этой сложной системы фонологических упорядоченностей,
совершенно случайных для нехудожественного текста (они будут уничтожены
любым семантически точным переводом, так как с точки зрения
общеязыковых норм принадлежат плану выражения), возникают специфические
данному тексту семантические оппозиции. «Небеса» и «поцелуй» из слов
различных семантических полей становятся антонимами. Это требует создания
особой семантической конструкции. Понятия описываются в позиции «близ-
116
СТРУКТУРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
кое — далекое», «теплое — холодное», «доступное — недоступное»,
«внутреннее (интимное) — внешнее (чужое)», «человеческое — нечеловеческое».
Семантика слова «поцелуй» воспринимается (в своем дополнительном
окказиональном значении) как расположенная на перекрестке значений левых
членов этих оппозиций, а «небо» — правых (поэтому «эмаль» получает,
кроме цветового признак температурный — холодности). На этом уровне
семантической конструкции намечается противопоставление «взора» и
«голоса», весьма обычное в романтическом портрете «загадочного» человека1.
Однако если отношение первых ритмем утверждает эту антитезу, то
вторые две ее снимают (в художественной конструкции, в отличие от
логической, выдвинуть и снять утверждение не равнозначно невыдвижению его).
«Твой взор — звучит» обладают резко обозначенной общностью
консонантной группы. Группа гласных противопоставлена: «о-о — у-и». Однако
эта антитетичность гласных (они становятся основным признаком
дифференциации между лексикой семантической группы зрения и слуха), подчеркивая
их самостоятельность, выделяет новые связи:
голубой — поцелуй — звучит2
оуо<й> — оеу<й> — уи
твой взор — голос — молодой
0<Й>0 — 00 — 000<Й>
Во всех этих связях выделяется одно: группа «неба» и группа «поцелуя»
уравниваются. Для этого они превращаются в две различные, но сопоставимые
сферы одного семантического поля — сенсорного: зрительную (небо — взор)
и слуховую (поцелуй — голос). Звуковой параллелизм, приближенно говоря,
уравнивает сегменты «твой взор» и «звучит» (на самом деле обращенность
повтора «твз — звт» создает несколько более сложное семантическое
отношение между значениями этих групп). Разница между звуком и взглядом
оказывается менее существенной, чем семантическая общность. Не случайно
конструкция сближает «твой взор» с группой «голос — молодой». А в ряду
<<голубой — поцелуй — звучит» дифференциация звуковых и цветовых
атрибутов снята как внесистемная. Рифмованная концовка «блистает — и
тает» приводит к тому, что дифференциальный в первой ритмеме элемент
«небо — поцелуй» в его синонимической замене «сияет — тает» уравнивается
и тем самым становится общим семантическим ядром обоих стихов.
Второй и четвертый стихи дополняют эту структуру:
Эмалью голубой
Твой голос молодой
1 Ср.: «Лишь очи печально глядели, а голос так дивно звучал...» (А. К. Толстой).
2 В приводимых примерах целесообразно рассматривать русский j (й) в ряду
организации гласных фонем. Мы на это имеем тем большее право, что на фонетическое
сознание поэта сильное влияние оказывает система графики. Ср., например, влияние
графики на фонологическое сознание Лермонтова в стихах: «Я без ума от тройственных
созвучий и влажных рифм, как, например, на „ю"». «Ю» и «у» для Лермонтова не
сливаются.
6. Элементы и уровни парадигматики художественного текста 117
На консонантном уровне они дают повторы:
м — л — г — л
г — л — м — л
На вокалическом уровне:
о — о<й>
о<й> — о — о — о — о — о<й>
Уравнивание «эмали голубой» и «голоса молодого» в семантическом
единстве соединяется с перекрестным фонетическим уподоблением:
«эмалью — л*олодой» и «голос — голубой». При этом следует отметить, что все
эти дополнительные упорядоченности активизируют и дополнительные
дифференциации, которые надстраиваются над ними. Такова постпозиция
прилагательного в первом и во втором случае. Разбираемый пример позволяет
подчеркнуть и другое: всякая упорядоченность художественно активна, если
она проведена не до конца и оставляет определенный резерв
неупорядоченности. Так, в вокализме анализируемых двух стихов, с точки зрения звуковых
повторов, не организованы фонемы, взятые в квадратные скобки:
[е — а — ю] — о — [у] — о<й>
о<й> — о — о — о — о — о<й>
Только безусловная доминанта фонемы «о» во втором стихе делает первый
упорядоченным относительно нее.
Таким образом, принадлежащая в естественном языке плану выражения
фонологическая структура переходит в поэзии в структуру содержания,
образуя неотделимые от данного текста семантические позиции.
Сочетания «звучит и тает» и «звуки тают» представляются настолько
близкими и семантически и фонологически, что, казалось бы, трудно
обнаружить ощутимую смысловую разницу между ними. Так оно и было бы,
если бы перед нами были не стихи. Однако в поэтическом тексте
незначительные, казалось бы, звуковые отличия изменяют ткань смысловых
сцеплений. Вокалическая группа в словах «звучит и тает»: «уи» и «ае».
Характеристика этих групп звуков своеобразна. С одной стороны, перед нами
различные фонемы. Ни одна из принадлежащих одной группе не повторяется
во второй. С другой — устанавливается некоторый параллелизм: мы можем
построить сочетание: «гласный заднего или среднего ряда + гласный
переднего ряда». Активизируется именно дифференциальный признак ряда,
поскольку не только устанавливается эта закономерность, но и в пределах ее
можно отметить некоторую деавтоматизирующую вариантность: в первом
случае берутся крайние гласные (самая задняя и самая передняя), а во втором —
примыкающие к середине. Этим устанавливается и самостоятельность слов
«звучит» и «тает», их семантическая «отдельность» и параллелизм этих
значений, принадлежащих вне контекста к принципиально разным рядам.
Синтаксическое (союз «и») уравнивание этих противоположных значений
(«звучит» и «тает») создает новый («монтажный») смысл.
«Звуки тают» (та j ут) дает иное построение: у-и-а-у. Создается
фонологическое кольцо — не уравнивание двух самостоятельных систем, а единая
118
СТРУКТУРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
структура (параллельно им так же строятся и грамматические формы: в
первом случае две однородные, во втором — связанная согласованием
унифицированная конструкция).
Построим схему вокализма этого четверостишия (выделены ударные
фонемы):
аоу а
— у —а
и — аа
— е — а
Первые два стиха имеют общую, отчетливо двоичную организацию —
они строятся вокруг двух фонемных центров: «а» и «у». Каждый из них
лексически окрашен, заимствуя семантику от слов «она» и «звджи». Кроме
того, есть группа слов, синтезирующих обе звуковые темы: «тают» (та j ут),
«на устах»; совпадение «у» превращает «звуки» и «поцелуи» в окказиональные
синонимы.
Группа «а-у» создает цепь значений, связывающих «ее» с цепочкой слов,
объединенных общим семантическим признаком страстности: «поет»,
«поцелуи», «уста». Под влиянием этого ряда определенным образом сдвигается и
«тают».
Ср. у Пушкина:
И, полный страстным ожиданьем,
Он тает сердцем и горит.
Восторги быстрые восторгами сменялись,
Желанья гасли вдруг и снова разгорались;
Я таял...
Вторая половина четверостишия построена на сочетании «аи/ае». Она
образует цепочку слов иного значения: «небеса», «божественных». «Глядит» в
сочетании с «небеса», приобретает значение устремленности снизу вверх,
приобщения «верхнему миру» и начинает восприниматься как окказиональный
антоним слову «поет» с его «страстным» значением. Антонимические
отношения возникают между «уста» и «глаза» (следует отметить, что архаическая
окраска первого и противоположная второго в лермонтовском тексте, видимо,
не значима в силу отсутствия сколь-либо системного употребления
славянизмов). Так создается образ некоторого двуединства: земной и небесной
прелести.
На семантический строй текста бесспорное влияние оказывают такие его
черты, как менее значимая упорядоченность консонант, чем вокализма, и
обилие зияний, создающих определенный звуковой эффект.
Мы убедились, что сопоставляемые тексты весьма близки семантически —
явление неизбежное при общности их лексического состава. Однако даже
если не обращать внимания на разницу их ритмического строя, различные
сближения, возникающие на фонемном уровне в каждом стихотворении,
создают неповторимую ткань значений.
6. Элементы и уровни парадигматики художественного текста 119
Ритмические повторы
Явления ритма и метра, современная стадия изучения которых начинается
с трудов Андрея Белого, рассматривались неоднократно. В стиховедении
накопился чрезвычайно обширный материал, главным образом
статистического порядка.
Одним из наименее ясных вопросов до сих пор остается проблема
содержательной интерпретации собранного материала. В этом смысле интересно
напомнить заключительную реплику глубокой по мыслям и увлекательно
написанной статьи В. В. Иванова «Ритмическое строение „Баллады о цирке"
Межирова». Приводя обширное маргинальное замечание акад. А. Н.
Колмогорова на тексте рукописи своей статьи, В. В. Иванов попутно с
основанием отмечает: «Может представить интерес и то, что специалисты в области
ритмического анализа сходятся по всем основным пунктам, кроме
семантической интерпретации его результатов»1.
Именно в силу этого представляется целесообразным поставить вопрос
о метрических повторах не только в классификационной и статистической,
но и в функциональной плоскости. Какова их структурная роль? Какую
функцию несут они в общем построении текста? Уместно поставить не только
вопрос: «как организован текст в ритмическом отношении?», но и: «зачем
он так организован?»
Мы говорили о том, что в поэтическом тексте общеязыковая синонимика
получает дополнительное расширение, предельным случаем которого является
возможность рассматривать любое слово словаря в качестве эквивалентного
любому другому. Однако этот предельный случай существует лишь в
тенденции. Каждый тип реально данных текстов имеет свою, ему лишь присущую
степень расширения синонимии. В этом отношении ритмическая структура
оказывает на текст своеобразное влияние.
Если признаком окказиональной синонимии считать взаимозаменяемость
слов в пределах некоторого одинакового текстового окружения2, то черновики
поэтов, сохраняющие следы замены слов в пределах некоторого общего
окружения, можно рассматривать как ценный материал для изучения
специфики синонимов в поэтическом тексте.
Рассмотрим с этой точки зрения работу Пушкина над поэтическим
текстом. Черновики поэта неопровержимо свидетельствуют, что, с одной стороны,
изометризм двух слов — необходимое условие для их взаимозаменяемости.
Замена слова другим, неизометричным, влечет изменение всего стиха, снимая,
1 Иванов В. В. Ритмическое строение «Баллады о цирке» Межирова // Poetics.
Poetyka. Поэтика. IL Warszawa, 1966. С. 299.
2 В поэтическом тексте отношение синонимии необязательно возникает при наличии
всех непременных в языке признаков. Оно приписывается определенным словам текста,
чаще всего в силу их позиции в стихе. Поэтому отношение симметрии
(взаимозаменяемости) оказывается достаточным для возникновения окказиональной семантической
эквивалентности.
120
СТРУКТУРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
таким образом, вопрос об одинаковом окружении; следовательно,
неизометрические слова не могут быть в стихотворном тексте вторичными —
поэтическими — синонимами. С другой стороны, он часто оказывается
достаточным основанием для того, чтобы два очень далеких в языке слова
воспринимались как эквивалентные.
В результате количество окказиональных «синонимов», свойственных
данному поэтическому тексту, резко возрастает.
Обычно представляется, что выбор слов поэтом подчинен тем же
ограничениям, которые накладываются языком на каждого, желающего выразить
ту или иную мысль в нестиховой форме, к чему прибавляются добавочные
ограничения, необходимые для соблюдения поэтической конструкции. С этой
точки зрения становится решительно непонятным, зачем необходима поэзия
и во имя чего следует столь резко повышать избыточность текста. Непонятно
и то, почему накладывание дополнительных ограничений не облегчает (в
случае, когда речь идет о высокой поэзии) угадывания текста1.
Рассмотрим некоторые аспекты работы поэта над текстом произведения.
Если мы имеем дело с традиционной силлабо-тоникой и в тексте наличествуют
рифмы, то следует различать поправку в первом из двух рифмующихся стихов
и во втором. Ясно, что в первом случае поэт обладает большей свободой
выбора. Следует также различать замены изоритмичных слов друг другом и
замены одного слова другим, не изометричным ему. Второй случай, строго
говоря, невозможен: здесь происходит замена не слова в стихе, а всего стиха
другим.
Таким образом, правило: «Всякая замена в стихе возможна лишь при
соблюдении принципа изометризма» — остается непоколебимым, изометрич-
ной единицей лишь оказывается не слово, а стих2.
1 См.: Fonagy I. Informationsgehalt von Wort und Laut in der Dicthung // Poetics.
Poetyka. Поэтика. I.
2 С этим связано и то, что всякий декламатор стихов, забыв слово, не пропускает
его, а заменяет другим, изометричным, или в крайнем случае равностопным
«мычанием». Этим, в частности, опровергается предположение Л. И. Тимофеева о том,
что «Слово о полку Игореве» было некогда написано урегулированным размером,
ощущение которого утрачено в результате ошибок при переписке (Тимофеев Л.
Ритмика «Слова о полку Игореве» // Русская литература. 1963. № 1). Утверждение это
содержит логическое противоречие: забвение ритмики не может произойти в результате
ошибок при переписке, поскольку первопричиной таких ошибок является утрата
переписывающим чувства метричности текста. Изучение традиции рукописной поэзии
XVIII в. (поскольку древнерусская литература такой традиции не имеет) убеждает в
том, что метрическая организация текста представляет мощный механизм сохранения
его от искажений. При непонятности слова переписчик, как правило, заменяет его
изометричным. Если же это правило нарушается, то, как показывают многие
наблюдения, при дальнейшей переписке обнаруживается стремление к восстановлению
метрического строя. Таким образом, если Л. И. Тимофеев считает, что подлинный
ритмический строй «Слова» искажен переписчиками, то он должен сначала объяснить,
когда и по какой причине переписчики утратили то ощущение ритма, которое было
свойственно автору и его аудитории, поскольку именно утрата его должна была
предшествовать графическому искажению, а не наоборот.
6. Элементы и уровни парадигматики художественного текста
121
Рассмотрим один из эпизодов работы Пушкина над рукописью
стихотворения «Полководец». Стихи 7—10 в окончательном тексте звучат так:
Тут нет ни сельских нимф, ни девственных мадонн,
Ни фавнов с чашами, ни полногрудых жен,
Ни плясок, ни охот, — а всё плащи, да шпаги,
Да лица, полные воинственной отваги.
Анализ черновиков свидетельствует, что помимо общего смыслового
движения, упорядочивающего текст в определенном отношении, и тех
ограничений, которые накладывала заданность для всего стихотворения ритмики
и расположения рифм, у Пушкина на очень ранней стадии работы над текстом
сложилась синтаксическая схема, вносившая в это место текста
дополнительную упорядоченность:
1
иии
1. Тут нет ни
2. Ни
3. Ни
4. Да
II
II
II
II
II
иии
ни
ни
а все
II
<V>
да
(А)
(А)
-(В)
(В)
(// — знак цезуры, А — мужская, В — женская рифма)1.
Позиции Ii и Πι (в первом стихе) были заполнены почти сразу:
Тут нет ни сельских нимф, ни девственных мадонн
Колебания были лишь в выборе эпитета — вместо «сельских» первоначально
предполагалось «юных».
Для позиции h и позиции Ü2 определился ряд изоритмичных вариантов:
ни
юной красоты
фавнов Рубенса ни
плясок, ни богинь
сельских праздников
полногрудых жен
флорентийских жен
Рубенсовых жен
позиция 1з: позиция Из:
ι фавнов Рубенса
ни | фавнов с чашами а все плащи, да шпаги...
Легко заметить, что не только ритмические отрезки текста внутри каждой
позиции взаимозаменяемы, но и позиции h и 1з могут заменять друг друга
как ритмически эквивалентные. Действительно, так оно и происходит в
черновиках Пушкина. Здесь мы встречаем разнообразные комбинации этих
ритмических элементов:
2. Ни юной наготы, ни полногрудых жен
3. Ни сельских праздников. А всё плащи да шпаги...
1 Наличие такой схемы в сознании Пушкина подтверждено графически его
черновыми рукописями.
122
СТРУКТУРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
2. Ни плясок, ни богинь, ни Рубенсовых жен
3. Ни сельских праздников. А всё плащи да шпаги...
2. Ни плясок, ни богинь, ни флорентийских жен
3. Ни фавнов Рубенса. А всё плащи да шпаги...
2. Ни плясок, ни богинь, ни флорентийских жен
3. Ни фавнов с чашами. А всё плащи да шпаги...
2. Ни фавнов с чашами, ни полногрудых жен
3. Ни плясок, ни богинь, а всё плащи да шпаги...
Мы можем сделать вывод, что в поэтическом тексте возникает некоторая
вторичная «синонимия»: слова оказываются эквивалентными только лишь в
силу своего изометризма. Эпитеты «флорентийских», «Рубенсовых»,
«полногрудых» оказываются соединенными со словом «жен» как взаимозаменяющие,
хотя очевидно, что «Рубенсовы жены» и «полногрудые жены» действительно
обозначают одну и ту же картину, а про «флорентийских жен» этого нельзя
сказать. В равной мере «фавнов Рубенса» и «фавнов с чашами» имеют,
конечно, в виду одну картину — эрмитажного Вакха, «юная нагота», «пляски»
и «богини» — другие живописные произведения. Однако разница на уровне
денотата здесь ничего не означает: в поэтическом тексте эти слова выступают
как синонимы, что заставляет предположить, что речь идет о каком-то другом
денотате, инвариантном для всех этих эквивалентных сегментов текста
(например, «любое произведение небатальной живописи»). Так ритмическая
структура текста создает некоторую вторичную синонимию, а эта синонимия
конструирует особый мир денотатов. Поэзия не описывает иными средствами
тот же мир, что и проза, а создает свой мир.
Как глупо унижать себя...
Притворством унижать себя...
Смирять и унижать себя...
В этих набросках из первой главы «Евгения Онегина» сегменты «как глупо»,
«притворством», «смирять и» выступают как способные к взаимной замене.
Конечно, в данном случае речь идет об определенной смысловой константе,
в пределах которой варьируются избираемые элементы, хотя следует отметить,
что трудно себе представить, чтобы эти сегменты вне данной ритмической
конструкции кем-либо воспринимались как эквивалентные в любом
отношении.
Сравнивая работу поэта и прозаика над черновиками, мы убеждаемся в
глубоком отличии этих двух видов отбора нужного писателю материала.
Прозаик имеет две возможности: уточнить мысль, пользуясь выбором в
пределах общеязыковой синонимики, или изменить мысль. Поэт находится
в иных условиях: четкая вычлененность сегмента текста делает его более
независимым по отношению к целому. Коренное изменение смысла сегмента
в целом воспринимается как адекватное уточнению, которое в непоэтическом
тексте является результатом замены слова на его синоним.
Любви нас не природа учит,
А первый пакостный роман...
6. Элементы и уровни парадигматики художественного текста 123
Любви нас не природа учит,
А Сталь или Шатобриан...
Взятые в отдельности, вторые стихи дают резкий перелом в содержании, но
в составе IX строфы первой главы «Евгения Онегина» это воспринимается
лишь как уточнение. Гибкость языка (Ьг), по терминологии акад. А. Н.
Колмогорова, резко возрастает с разбиением текста на ритмически эквивалентные
сегменты. Видимо, это один из резервов, компенсирующих затраты
информации на ограничения поэтического текста.
Ритмическое членение текста на изометричные сегменты создает целую
иерархию сверхъязыковых эквивалентностей. Стих оказывается соотнесенным
с другим стихом, строфа со строфой, глава с главой текста. Эта повторяемость
ритмических членений создает ту презумпцию взаимной эквивалентности всех
сегментов текста внутри данных уровней, которая составляет основу
восприятия текста как поэтического.
Однако эквивалентность не есть тождественность. То, что семантически
различные в непоэтическом тексте отрезки выступают как эквивалентные, с
одной стороны, заставляет строить для них общие (нейтрализующие)
архисемы', а с другой — превращает их отличия в систему релевантных
противопоставлений.
Таким образом, в первом приближении создается впечатление, что
семантика слова в стихе отступает на второй план: вперед выдвигаются
звуковые, ритмические и иные повторы. Можно привести яркие примеры того,
как поэт меняет слова, но сохраняет фонологическую или ритмическую
конструкцию. Ограничусь одним.
В черновиках к стихотворению Пушкина «Два чувства дивно близки
нам...» во II строфе есть стих
Самостоянье человека.
Он построен по особой метрической разновидности русского четырехстопного
ямба (иииииии). Эта разновидность (4-я) принадлежит к сравнительно
редким. По данным К. Тарановского, в лирике 1828—1829 гг. она составляет
9,1 процента от всех четырехстопных ямбов, в 1830—1833 гг. — 8,1 процента1.
Интересующее нас стихотворение Пушкин писал в 1830 г. Вся II строфа была
отброшена, выпал и стих «Самостоянье человека». Но в новом варианте
строфы появилось:
Животворящая святыня... —
с той же ритмической схемой.
Объяснить это случайностью невозможно: два стиха, совершенно
различных с точки зрения лексико-семантической, оказались в поэтическом сознании
Пушкина эквивалентными в силу общности метрической фигуры.
Однако стоит выйти за пределы одного стиха, и становится очевидно,
что перед нами не другая мысль, а вариант той же мысли — результат
1 См.: Тарановский К. Руски дводелни ритмови. I—И. Београд, 1953. Приложение
(таблица).
124
СТРУКТУРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
увеличения гибкости языка. Приведем, чтобы это стало нагляднее, I строфу
и два варианта II строфы:
I строфа Два чувства дивно близки нам —
В них обретает сердце пищу —
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
Первый вариант На них основано от века
II строфы Начало всего
Самостоянье человека
И счастье
Второй вариант Животворящая святыня!
II строфы Земля была <б> без них мертва
Как пустыня
И как алтарь без божества.
Таким образом, отодвигание семантики на задний план — лишь
кажущееся. Значение отдельного слова отступает перед конструкцией. А
конструкция строит вторичное значение, выдвигая в этом же отдельном слове порой
неожиданные релевантные элементы вторичного смысла.
Повторяемость и смысл
В стихе на низшем уровне можно выделить позиционные (ритмические)
и эвфонические (звуковые) эквивалентности. Пересечение этих двух классов
эквивалентностей определяется как рифма. Однако мы уже говорили о том,
что все типы вторичных эквивалентностей вызывают в тексте образование
добавочных семантических единств. Явление структуры в стихе всегда, в
конечном итоге, оказывается явлением смысла. Особенно ясно это на примере рифмы.
Школа фонетического изучения стиха (Ohrphilologie) утвердила
определение рифмы как звукового повтора: совпадение ударного гласного и
послеударной части слова есть рифма. В дальнейшем определение рифмы
стремились расширить, учитывая опыт поэзии XX в., возможность совпадений
предударных звуков, консонантизма и т. д. В. М. Жирмунский в своей книге
«Рифма, ее история и теория» впервые указал на роль рифмы в ритмическом
рисунке стиха. Он писал: «Должно отнести к понятию рифмы всякий звуковой
повтор, несущий организующую функцию в метрической композиции
стихотворения»1. Справедливость соображений В. М. Жирмунского была
очевидна, и его определение стало общепринятым. Так, Б. В. Томашевский
следующим образом характеризует природу рифмы: «Рифма — это созвучие двух
слов, стоящих в определенном месте ритмического построения стихотворения.
1 Жирмунский В. Рифма, ее история и теория. Пг., 1923. С. 9.
6. Элементы и уровни парадигматики художественного текста 125
В русском стихе (впрочем, не только в русском) рифма должна находиться
в конце стиха. Именно концевые созвучия, дающие связь между двумя стихами,
именуются рифмой. Следовательно, у рифмы есть два качества: первое
качество — ритмическая организация, потому что она (рифма) отмечает концы
стихов; второе качество — созвучие»1. Сходное определение дают Г. Шен-
гели, Л. И. Тимофеев, В. Е. Холшевников2, который полемизирует с
Б. В. Томашевским об обязательности положения рифмы в конце стиха, но
не меняет определения по существу.
Таким образом, рифма характеризуется как фонетический повтор,
играющий ритмическую роль. Это делает рифму особенно интересной для общих
наблюдений над природой ритмических повторов в поэтическом тексте.
Хорошо известно, что поэтическая речь обладает другим звучанием, чем
прозаическая и разговорная. Она напевна, легко поддается декламации.
Наличие особых, присущих лишь стиху, интонационных систем позволяет
говорить о мелодике поэтической речи. Поэтому создается впечатление — и
оно весьма распространено — о присутствии в стихе двух самостоятельных
стихий: семантической и мелодической, причем одна из них иногда
отождествляется с рациональным, а другая — с эмоциональным началом. И если
одни авторы придерживаются мнения о корреляции семантической и
мелодической сторон стиха, то весьма многие убеждены в их разделенности и
даже противопоставленности.
До сих пор можно прочесть в тех или иных критических статьях упреки
некоторым поэтам в увлечении бездумной мелодичностью, штукарской игрой
звуками без смысла и тому подобное.
Однако опасения критиков вряд ли оправданны.
И как бы мы ни поступали, отделяя звук от содержания: превозносили
бы или поносили автора, подозреваемого в отрыве звучания стихов от их
смысла, — мы предполагаем невозможное. В искусстве, использующем в
качестве материала язык, — словесном искусстве — отделение звука от
смысла невозможно. Музыкальное звучание поэтической речи — тоже способ
передачи информации, то есть содержания, и в этом смысле он не может быть
противопоставлен всем другим способам передачи информации, свойственным
языку как семиотической системе. Этот способ — «музыкальность» —
возникает лишь при самой высокой связанности словесной структуры — в
поэзии, и его не следует путать с элементами музыкальности в системе
естественного языка, например с интонацией. Ниже мы постараемся показать,
в какой мере звучность, «музыкальность» рифмы зависит от объема
заключенной в ней информации, от ее смысловой нагруженности. Одновременно
это прольет известный свет и на функциональную природу рифмы вообще.
В числе других классификационных принципов стиховедческой
литературы можно встретить деление рифмы на богатые и бедные. Богатыми назы-
1 Томашевский Б. В. Стилистика и стихосложение. Л., 1959. С. 406.
2 См.: Шенгели Г. Техника стиха. М., 1960. С. 241—242; Тимофеев Л. И. Основы
теории литературы. М., 1959. С. 250; Холшевников В. Е. Основы стиховедения. Русское
стихосложение. Л., 1962. С. 125.
126
СТРУКТУРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
ваются рифмы с большим числом повторяющихся звуков, бедными — с
малым, причем подразумевается, что богатые рифмы суть рифмы звучные,
в то время как бедные рифмы звучат плохо, постепенно, по мере уменьшения
числа совпадающих звуков, приближаясь к нерифмам. При подобном
истолковании понятий музыкальность, звучность рифмы оказывается зависящей
от фонетических, а не от смысловых признаков стихотворной речи. Вывод
этот кажется настолько очевидным, что обычно принимается на веру. Между
тем достаточно войти в ближайшее рассмотрение вопроса, чтобы убедиться
в ложности подобного решения.
Возьмем две пары фонетически тождественных рифм — омонимическую
и тавтологическую. Легко убедиться, что звучность, музыкальность рифмы
будет в этих случаях совершенно различной. Приведем примеры, первый из
которых составлен в целях демонстрационной наглядности, а второй
заимствован из «Опытов» В. Я. Брюсова:
1
Ты белых лебедей кормила,
А после ты гусей кормила.
2
Ты белых лебедей кормила...
...Я рядом плыл — сошлись кормила.
В обоих случаях рифма фонетически и ритмически тождественна, но звучит
она по-разному. Тавтологическая рифма, повторяющая и звучание, и смысл
рифмующегося слова, звучит бедно. Звуковое совпадение при смысловом
различии определяет богатое звучание. Проделаем еще несколько опытов,
переводя рифму из омонимической в тавтологическую, и убедимся, что при
этой операции, не касающейся ни фонетической, ни ритмической грани стиха,
постоянно «тушится» звучание рифмы:
Море ждет напасть —
Сжечь грозит синица,
А на Русь напасть
Лондонская птица.
(П. А. Вяземский)
Все озираясь слева, справа,
На цыпках выступает трус,
Как будто под ногами лава
Иль землю взбудоражил трус.
(П. А. Вяземский)
Лысеет химик Каблуков —
Проходит в топот каблуков.
(А. Белый)
Достаточно в любом из приведенных примеров (напасть — напасть, трус —
трус, Каблуков — каблуков) заменить омоним тавтологическим повторением,
как звучность рифмы исчезнет. Звучность слов в рифме и физическое по
6. Элементы и уровни парадигматики художественного текста 127
своей природе звучание слов в языке — совсем не одно и то же. Один и тот
же комплекс физических звуков речи, реализующих одни и те же фонемы
языка, может производить в рифме впечатление и очень богатого, и крайне
бедного звучания.
В этом смысле очень показателен следующий пример:
Бог помощь вам, графу фон Булю!
Князь сеял: пришлось вам пожать!
Быть может, и другу Джон Булю
Придется плечами пожать.
(77. А. Вяземский)
Произведем два эксперимента. Первый: изменим в первом стихе «фон» на
«Джон». Ни фонетическая, ни ритмическая природа рифмы «Булю — Булю»
не изменится. Между тем решительно изменится степень звучности. Второй
эксперимент еще более любопытен. Не будем менять ничего в
рассматриваемом тексте. Вообразим только, что он читается в присутствии двух
слушателей, из которых один знает, что фон Буль в первом стихе — австрийский
дипломат XIX в., под князем разумеется Бисмарк, а Джон Буль —
нарицательное имя англичан. Другой этого не знает и представляет себе, что в
первом и третьем стихах речь идет об одном и том же, неизвестном ему
лице, скажем некоем графе Джоне фон Буле. Степень звучности стихотворного
текста для этих слушателей будет различной. Все сказанное свидетельствует
о том, что само понятие звучности не абсолютно и имеет не только физическую
(или физико-ритмическую) природу, но и относительную, функциональную.
Оно связано с природой заключенной в рифме информации, со смыслом
рифмы. Первый слушатель воспринимает рифму «Булю — Булю» как
омонимическую, второй — как тавтологическую. Для первого она звучит богато,
для второго — бедно.
Во всех приведенных примерах фонетически рифмы абсолютно одинаковы,
и ритмически они находятся в одной и той же позиции. Между тем одни из
них кажутся звучными, звонкими, музыкальными, а другие не производят
такого впечатления. Что же различно в этих как будто бы совпадающих
рифмах? Семантика. В таких случаях, когда рифма звучит богато, мы имеем
дело с омонимами: совпадающие по звуковому составу слова тлеют различное
значение. В бедно звучащих рифмах — тавтологических — повторяется все
слово полностью: не только его звуковая форма, но и смысловое содержание.
Из сказанного можно сделать два существенных вывода.
Первый: музыкальное звучание рифмы — производное не только от
фонетики, но и от семантики слова.
Второй: определение рифмы в первой степени приближения можно было
бы сформулировать так: рифма есть звуковое совпадение слов или их частей
в отмеченной относительно ритмической единицы позиции при смысловом
несовпадении. Определение это охватит и тавтологическую рифму, поскольку,
в отличие от разговорной речи, поэтическая речь не знает абсолютного
семантического повтора, так как та же лексическая или та же семантическая
единица при повторении оказывается уже в другой структурной позиции и,
128
СТРУКТУРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
следовательно, приобретает новый смысл. Как мы увидим в дальнейшем, для
демонстрации полного смыслового повтора нам отнюдь не случайно пришлось
пользоваться искусственными примерами: полное смысловое повторение в
художественном тексте невозможно.
Мы убедились, что звуковое совпадение лишь оттеняет смысловое
различие. Совпадающая часть сходных, но различных семантических единиц в
данном случае становится «достаточным основанием» для сопоставления: она
выносится за скобки, подчеркивая отличие в природе явлений, обозначаемых
рифмующимися словами.
Механизм воздействия рифмы можно разложить на следующие процессы.
Во-первых, рифма — повтор. Как уже неоднократно отмечалось в науке,
рифма возвращает читателя к предшествующему тексту. Причем надо
подчеркнуть, что подобное «возвращение» оживляет в сознании не только созвучие,
но и значение первого из рифмующихся слов. Происходит нечто глубоко
отличное от обычного языкового процесса передачи значений: вместо
последовательной во времени цепочки сигналов, служащих цели определенной
информации, — сложно построенный сигнал, имеющий пространственную
природу — возвращение к уже воспринятому. При этом оказывается, что уже
раз воспринятые по общим законам языковых значений рады словесных
сигналов и отдельные слова (в данном случае — рифмы) при втором (не
линейно-речевом, а структурно-художественном) восприятии получают новый смысл.
Второй элемент семантического восприятия рифмы — сопоставление
слова и рифмующегося с ним, возникновение коррелирующей пары. Два
слова, которые как явления языка находятся вне всех видов связей —
грамматических и семантических, в поэзии оказываются соединенными рифмой
в единую конструктную пару.
Твой очерк страстный, очерк дымный
Сквозь сумрак ложи плыл ко мне,
И тенор пел на сцене гимны
Безумным скрипкам и весне...
(А. Блок)
«Дымный» и «гимны», если мы прочтем предлагаемый текст как обычную
информацию, игнорируя поэтическую структуру, — понятия столь различные,
что соотнесение их исключается. Грамматическая и синтаксическая структуры
текста также не дают оснований для их сопоставления. Но взглянем на
текст как на стихотворение. Мы увидим, что «дымный — гимны» оказывается
связанным двуединым понятием «рифма». Природа этого двуединства такова,
что оно включает и отождествление, и противопоставление составляющих
его понятий. Причем отождествление становится условием
противопоставления. Рифма укладывается в чрезвычайно существенную вообще для искусства
формулу «то — и одновременно не то».
Сопоставление в данном случае имеет в первую очередь формальный, а
противопоставление — семантический характер. Отождествление
принадлежит плану выражения (на фонетическом уровне), противопоставление —
плану содержания. «Дымный» в позиции рифмы требует созвучия так же,
6. Элементы и уровни парадигматики художественного текста 129
как определенная синтаксическая связь (например, согласование) требует
определенных окончаний. Звуковое совпадение становится здесь исходной
точкой для смыслового противопоставления.
Однако сказать, что рифма представляет собой лишь звуковое совпадение
при смысловом несовпадении, было бы упрощением вопроса. Ведь и в звуковом
отношении рифма, как правило, — не полное, а частичное совпадение. Мы
отождествляем разнозвучащие, но имеющие общие фонологические элементы
слова и пренебрегаем различием ради установления сходства. А затем
используем установленное сходство как основание для противопоставления.
Но более сложно обстоит дело и со смысловой стороной рифмующих
слов, поскольку весь опыт эстетического общения приучает нас к тому, что
определенные формы выражения раскрывают определенные элементы
содержания. Наличие между рифмующимися словами связи в плане выражения
заставляет подразумевать и присутствие определенных связей содержания,
сближает семантику. Кроме того, как мы постараемся показать в дальнейшем,
если в языке нераздробимой единицей лексического содержания является
слово, то в поэзии фонема становится не только смыслоразличающим
элементом, но и носителем лексического значения. Звуки значимы. Уже поэтому
звуковое (фонологическое) сближение становится сближением понятий.
Таким образом, можно сказать, что процесс со- и противопоставления,
разные стороны которого с различной ясностью проявляются в звуковой и
смысловой гранях рифмы, составляет сущность рифмы как таковой. Природа
рифмы — в сближении различного и раскрытии разницы в сходном. Рифма
диалектична по своей природе.
В этом смысле далеко не случайным оказывается возникновение культуры
рифмы именно в момент созревания в рамках средневекового сознания
схоластической диалектики — ощущения сложной переплетенности понятий как
выражения усложненности жизни и сознания людей. Любопытно, что, как
отмечал В. М. Жирмунский, ранняя англосаксонская рифма связана со
стремлением к со- и противопоставлению тех понятий, которые прежде
воспринимались просто как различные: «Прежде всего рифма появляется в некоторых
постоянных стилистических формулах аллитерационного эпоса. Сюда
относятся, например, так называемые „парные формулы", объединяющие союзом
„и" („ond") два родственных понятия (синонимических или контрастных), в
параллельной грамматической форме»1.
Не случайно и в России рифма как элемент художественной структуры
вошла в литературу в эпоху «вития словес» — напряженного стиля московской
литературы XV в., несущего отпечаток средневековой схоластической
диалектики.
Вместе с тем следует отметить, что принцип построения рифмы в
средневековом искусстве отличается от современного. Это связано со специфичностью
форм средневекового и современного нам художественного сознания. Если
современное искусство исходит из представлений о том, что оригинальность,
1 Жирмунский В. Рифма, ее история и теория. С. 228.
130
СТРУКТУРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
неповторимость, индивидуальное своеобразие принадлежат к достоинствам
художественного произведения, то средневековая эстетика считала все
индивидуальное греховным, проявлением гордыни и требовала верности исконным
«богодохновенным» образцам. Искусное повторение сложных условий
художественного ритуала, а не собственная выдумка — вот что требовалось от
художника. Подобная эстетика имела свою социальную и идеологическую
основу, но нас в данном случае интересует лишь одна из сторон вопроса.
Эстетическое мышление определенных эпох (в каждую эпоху, в каждой
идейно-художественной системе это имело особый смысл) допускало эстетику
тождества — прекрасным считалось не создание нового, а точное
воспроизведение прежде созданного. За подобным эстетическим мышлением стояла
(применительно к искусству средневековья) следующая гносеологическая идея:
истина не познается из анализа отдельных частных явлений — частные
явления возводятся к некоторым истинным и наперед данным общим
категориям. Познание осуществляется путем приравнивания частных явлений к
общим категориям, которые мыслятся как первичные. Акт познания состоит
не в том, чтобы выявить частное, специфическое, а в процессе отвлечения
от частного, возведения его к общему и в итоге — к всеобщему.
Такое сознание определило и специфику рифмы. Бросается в глаза обилие
флективных «грамматических» рифм. С точки зрения поэтических
представлений, распространенных в искусстве нового времени, — это плохая рифма.
Невнимательный читатель объяснит обилие подобных рифм в средние века
слабой поэтической техникой. Речь, однако, должна, по-видимому, идти о
другом. Подбор ряда слов с одинаковыми флексиями воспринимался как
включение этого слова в общую категорию (причастие определенного класса,
существительное со значением «делатель» и т. д.), то есть активизировал
рядом с лексическим грамматическое значение. При этом лексическое значение
являлось носителем семантического разнообразия, суффиксы же включали
рифмующиеся слова в единые семантические ряды. Происходила
генерализация значения. Слово насыщалось дополнительными смыслами, и рифма
воспринималась как богатая.
Современное восприятие рифмы строится иначе. После установления
общности элементов, входящих в класс «рифмующиеся слова», происходит
дифференциация значений. Общее становится основанием для сопоставления,
различия — смыслоразличающим, дифференцирующим признаком. В тех
случаях, когда в совпадающих частях рифмующихся слов тождественны и
фонологическая и морфологическая стороны, семантическая нагрузка
перемещается на корневую часть, а повтор оказывается исключенным из процесса
дифференциации значений. Общая семантическая нагрузка уменьшается, и в
итоге рифма звучит обедненно (ср. «красой — душой» в балладе А, К.
Толстого «Василий Шибанов»). Особенно любопытно при этом, что та самая
структура, которая на фоне одних гносеологических принципов, одной
эстетической модели обеспечивала рифме полноту звучания, в другой системе
художественного познания оказывается обедненной. Это еще раз
подтверждает, сколь ошибочно представление об истории рифмы как о длинном ряде
6. Элементы и уровни парадигматики художественного текста 131
технических усовершенствований некоего «художественного приема» с одним
и тем же, раз навсегда данным стихотворным содержанием.
Вместе с тем нетрудно увидеть и функциональную общность рифмы в
искусстве различных эпох: рифма обнажает многие семантически нейтральные
в обычном языковом употреблении грани слова и делает их смыслоразличи-
тельными признаками, нагружает информацией, значением. Это объясняет
большую смысловую сконцентрированность рифмующихся слов — факт,
давно отмечавшийся в стиховедческой литературе.
Как видно из сказанного выше, именно на материале повторов
обнаруживается с наибольшей яркостью та более общая эстетическая
закономерность, что все структурно значимое в искусстве семантизируется. При этом
мы можем выделить два типа повторов: повторы элементов, семантически
разнородных на уровне естественного языка (повторяются элементы,
принадлежащие в языке плану выражения), и повторы элементов семантически
однородных (синонимов; предельным случаем здесь будет повторение одного
и того же слова). О первом случае мы уже достаточно подробно говорили.
Второй также заслуживает внимания.
Строго говоря, повторение, полное и безусловное, в стихе вообще
невозможно. Повторение слова в тексте, как правило, не означает механического
повторения понятия. Чаще оно свидетельствует о более сложном, хотя и
едином смысловом содержании.
Читатель, привыкший к графическому восприятию текста, видя на бумаге
повторяющиеся начертания слов, полагает, что перед ним — простое удвоение
понятия. Между тем обычно речь идет о другом, более сложном понятии,
связанном с данным словом, но усложненном совсем не количественно.
Вы слышите: грохочет барабан,
Солдат, прощайся с ней, прощайся с ней,
Уходит взвод в туман, туман, туман,
А прошлое ясней, ясней, ясней...
(Б. Ш. Окуджава)
Второй стих совсем не означает приглашения попрощаться дважды1. В
зависимости от интонации чтения он может означать: «Солдат, торопись
прощаться, взвод уже уходит». Или: «Солдат, прощайся с ней, прощайся
навсегда, ты ее больше никогда не увидишь». Или: «Солдат, прощайся с ней,
со своей единственной». Но никогда: «Солдат, прощайся с ней, еще раз
прощайся с ней». Таким образом, удвоение слова означает не механическое
удвоение понятия, а другое, новое, усложненное его содержание. «Уходит
взвод в туман, туман, туман» — может быть расшифровано: «Взвод уходит
в туман, все дальше, он скрывается из виду». Оно может быть расшифровано
и каким-либо другим образом, но никогда не чисто количественно: «Взвод
уходит в один туман, затем во второй и в третий». Точно так же и последний
стих может быть истолкован как: «А прошлое все больше проясняется», «а
1 Отвлекаемся от того, какую меру разнообразия привносит в этот пример движение
мелодии. В данном случае нас интересует информационная сущность повтора в поэзии.
132
СТРУКТУРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
прошлое все более понятно, и вот оно достигло ослепительной ясности», и
т. д. Но поэт не избрал ни одну из наших расшифровок именно потому, что
его способ выражения включает все эти понятийные оттенки. Достигается
это постольку, поскольку чем текстуально точнее повтор, тем значительнее
смыслоразличительная функция интонации, которая становится единственным
дифференциальным признаком в цепочке повторяющихся слов.
Но повторение слов имеет еще одну структурную функцию. Вспомним
стих из уже процитированного нами стихотворения А. Блока:
Твой очерк страстный, очерк дымный...
«Очерк страстный» и «очерк дымный» составляют два независимых
фразеологических сочетания, одно из которых основано на прямом, а второе — на
переносном употреблении. Сочетания «очерк страстный» и «очерк дымный»
создают два семантических целых, более сложных, чем механическая сумма
понятий «очерк + страстный» и «очерк + дымный». Однако повторение слова
уничтожает независимость этих двух сочетаний, связывая их в единое,
семантически еще более сложное целое. Два раза повторенное слово «очерк»
становится общим членом этих двух сочетаний, и столь далекие и
несопоставимые понятия, как «дымный» и «страстный», оказываются единой
контрастной парой, образуя высшее смысловое единство, отнюдь не разложимое
на смысловые значения входящих в него слов.
Рассмотрим с точки зрения функции повторов стихотворение Леонида
Мартынова «О земля моя!»:
О земля моя!
С одной стороны
Спят поля моей родной стороны,
А присмотришься с другой стороны —
Только дремлют, беспокойства полны.
Беспокойство —
Это свойство весны.
Беспокоиться всегда мы должны,
Ибо спеси мы смешной лишены,
Что задачи до одной решены.
И торжественны,
С одной стороны,
Очертания седой старины,
И, естественно, с другой стороны,
Быть не следует слугой старины.
Лишь несмелые
Умы смущены
Оборотной стороной тишины,
И приятнее им свойство луны —
Быть доступным лишь с одной стороны.
Но ведь скоро
И устройство луны
Мы рассмотрим и с другой стороны.
6. Элементы и уровни парадигматики художественного текста 133
Видеть жизнь с ее любой стороны
Не зазорно ни с какой стороны.
Вся система рифмовки в этом стихотворении построена на многократном
повторе одного и того же слова «сторона». Причем речь идет здесь о повторе
тавтологическом (хотя отдельные семантические «пучки» значений разошлись
здесь уже так далеко, что выражающие их слова воспринимаются как омонимы).
Так, уже в первой строфе трижды встречается слово «сторона», причем
в одном и том же падеже. Однако, по сути дела, все три раза это слово
несет разную нагрузку, синтаксическую и смысловую. Это становится
особенно ясным при сопоставлении первого и третьего случая («с одной стороны»,
«с другой стороны») — со вторым, в котором «сторона» (с эпитетом «родная»)
синонимична понятию «родина». Однако при внимательном рассмотрении
выясняется, что семантика слова в первом и третьем случаях тоже не
идентична: ясно, что вводное словосочетание «с одной стороны» не равнозначно
обстоятельству места действия «присмотришься с другой стороны». В
последнем случае речь идет о стороне как реальном понятии (точка, с которой
следует присмотреться) — в первом случае перед нами лишь служебный
оборот канцелярского стиля речи, намекающий на то, что мнимый сон родных
полей мерещится лишь невнимательному, казенному взгляду, а человек,
способный наблюдать действительность, видит даже в неподвижности полноту
непроявившихся сил.
Вторая строфа, раскрывающая тему «беспокойства» как важнейшего
признака живого, развивающегося мира и адекватной ему — подвижной,
диалектической точки зрения, построена на иных повторах («беспокойство —
беспокоиться»). Она лишь намеком возвращает читателя к рассматриваемой нами
семантической группе «сторона», выделяя из уже встречавшегося и
неоднократно повторяемого в дальнейшем сочетании «с одной стороны» слово «одна»
(«что задачи до одной решены»). Прием этот имеет своей функцией
интуитивное поддержание в читательском сознании интересующей нас темы1.
В третьей строфе «с одной стороны» и «с другой стороны» синтаксически
однозначны. Однако они не однозначны экспрессивно: второе окрашено в
тона иронии и звучит как пародирование, «перефразирование» первого.
Контрастность этого «с одной стороны» и «с другой стороны» определена
еще и тем, что они входят как часть в антитезу: «...торжественны, с одной
стороны» — «естественно, с другой стороны». «Торжественны» и
«естественно» по месту их в общеязыковой структуре не являются антитезами, так как
занимают синтаксически несопоставимые позиции. По контекстному смыслу
в наречии «естественно» реализуется лишь семантика типа «конечно».
Но поэтическая оппозиция имеет другую логику: «с одной стороны» —
«с другой стороны» воспринимается как нейтрализованная архисема, подчер-
1 Одновременно создается и новое повторяющееся семантическое поле «один
(единственный)». Оно противопоставлено понятию «многий», «любой» и отчетливо
окрашено в тона авторской иронии, высмеивающей все догматически непререкаемое, как
точку зрения «одного».
134
СТРУКТУРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
кивающая контрастную дифференциальную семантическую пару
«торжественны» — «естественно». В этом случае в наречии «естественно» раскрывается
новый смысл — простота как антитеза торжественности, что, в свою очередь,
делит всю строфу на две антитетичные полустрофы. А это, в конце концов,
выделяет различие и в прежде приравнивавшемся («с одной стороны» — «с
другой стороны»). В данном случае речь идет об интонационном различии:
легко заметить, что отрывки будут читаться в разном декламационном ключе.
Один должен нести информацию о бюрократической, мертвенной
помпезности, другой — о естественной жизни.
В следующей, четвертой строфе тот же фразеологический оборот вводится
с отчетливо новым значением. Канцелярскому «с одной стороны», «с другой
стороны» противополагается «оборотная сторона тишины» — еще
дремлющие, но уже пробуждающиеся силы жизни, которые смущают «несмелые
умы». Утверждению революционной динамики жизни «полей родной
стороны» «несмелые умы» противопоставляют мысль об односторонности и
неподвижности как законах природы:
Приятнее им свойство луны —
Быть доступным лишь с одной стороны.
При этом напряженное развитие интересующей нас темы естественно приводит
к тому, что в четвертой строфе «оборотная сторона» и «с одной стороны» —
не случайные, бедные собственным значением слова. Они — основа антитезы
динамики общества и неподвижности «вечной» природы, разносторонности
жизни и догматизма «несмелых умов».
Но следующая — итоговая — структура снимает и эту антитезу. Пятая
строфа утверждает новую мысль. Неподвижности нет и в природе: и она
подчиняется революционной динамике человеческой жизни. Между
убеждением, что и луна будет (тогда еще не была!) рассмотрена «с другой стороны»,
и призывом «видеть жизнь с ее любой стороны» устанавливается отношение
параллелизма. В итоге заключительное канцелярское «ни с какой стороны»
звучит как беспощадная насмешка — антитеза торжествующей канцелярскому
«с одной стороны» в начале стихотворения. Так раскрывается основная
художественная идея стихотворения — образ многогранной жизни,
требующей от художника многостороннего подхода.
Отсутствие в искусстве полных, абсолютных семантических повторов
особенно отчетливо выявляется при рассмотрении омонимических рифм.
Такая рифма хорошо известна поэзии, стремящейся раскрыть внутреннее
многообразие внешне единых явлений. Ярким примером здесь может служить
одна из форм средневековой поэзии Востока, газель, с ее редифом —
повторяющимся словом. Хотя в поэзии Хафиза и поэтов-схоластов XV в. роль
редифа не одинакова, однако он все время выполняет сходную эстетическую
функцию: раскрывает многообразие содержания одного и того же понятия.
Так, среднеазиатский поэт XV в. Катиби написал моралистическую поэму
«Дах баб», все рифмы которой — «теджнисы», то есть омонимы. Об
омонимических рифмах Мавлана Мухаммеда Ахли из Шираза (XV в.) Е. Э. Бер-
тельс пишет: «Омонимы крайне изысканные: хумор (похмелье) — хуммор
6. Элементы и уровни парадигматики художественного текста 135
(кувшин принеси), шароб (вино) — шар (р)-об (зло-вода)». По свидетельству
того же автора, другой поэт, Атаи, «широко пользуется в качестве рифмы
омонимами, что придает стихам особую остроту»1.
Нетрудно заметить, что, по сути дела, такова же природа излюбленного
повтора народной песни — рефрена (припева). Следуя за различными
куплетами, то есть входя в разные контексты, он приобретает все время новую
семантико-эмоциональную окраску. Повторение слов лишь способствует ее
выделению. Правда, такое отношение к рефрену — явление сравнительно
позднее. Архаическая песня, не знающая рифмы, имеет дело с действительно
безусловным повторением рефрена, но это — порождение специфической
эстетики, эстетики тождества. Современная народная, классическая и
современная литературная песня неизменно придают рефрену бесчисленное множество
оттенков. Так, например, в известной балладе Р. Бернса «Финдлей»
многократно повторенное «сказал Финдлей» звучит каждый раз по-иному. Точно
так же в балладе «Сватовство Дункана Грея» (перевод С. Я. Маршака) рефрен
«Вот это сватовство!» неизменно приобретает новый смысловой оттенок.
То же самое легко было бы показать на примере анафор2 (единоначатий),
а также разнообразных форм интонационного единства, присущих
поэтическому и риторическому тексту. Интонационный параллелизм стихов и
периодов становится здесь тем «основанием для сравнения», которое обнажает
семантическую противоположность или семантическое отличие. Таким
образом, мы убеждаемся, что достаточно общим законом структуры поэтического
текста будет не механическое повторение частей, а их соотнесенность,
органическая связь. Поэтому ни одна из частей поэтического текста не может
быть понята вне определения ее функции. Сама по себе она просто не
существует: все свои качества, всю свою определенность любая часть текста
получает в соотнесении (сравнении и противопоставлении) с другими его
частями и с текстом как целым. Характер этого акта соотнесения
диалектически сложен: один и тот же процесс соположения частей художественного
текста, как правило, является одновременно и сближением — сравнением, и
отталкиванием — противопоставлением значений. Сближение понятий
выделяет их различие, отдаленность — обнажает сходство. Поэтому выбрать те
или иные повторы в тексте — еще не значит что-либо сказать о нем.
Одинаковые (то есть «повторяющиеся») элементы функционально не
одинаковы, если занимают различные в структурном отношении позиции. Более
того: поскольку именно одинаковые элементы обнажают структурное
различие частей поэтического текста, делают его более явным, постольку бесспорно,
что увеличение повторов приводит к увеличению семантического
разнообразия, а не однообразия текста. Чем больше сходство, тем больше и разница.
Повторение одинаковых частей обнажает структуру.
Итак, повторы разного типа — это смысловая ткань большой сложности,
которая накладывается на общеязыковую ткань, создавая особую, присущую
1 Бертельс Е. Э. Навои: Опыт творческой биографии. М.; Л., 1948. С. 37, 58.
2 Об анафоре см.: Dluska M. Anafora // Poetics. Poetyka. Поэтика. И.
136
СТРУКТУРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
лишь стихам концентрацию мысли. Следовательно, ничего нет более
ошибочного, чем весьма распространенное представление, что хотя стихам
присуща особая внесмысловая музыкальность, но зато они в смысловом
отношении значительно беднее прозы. Мы уже могли убедиться в том, что высокая
структурная организованность стихов, создающая ощущение музыкальности,
есть вместе с тем и высокая смысловая усложненность, совершенно
недоступная аморфному тексту.
Такова же эстетическая природа повторов крупных единиц текста: стихов,
строф, элементов композиции («ситуаций», «мотивов» и т. п.). И здесь мы
можем выделить два различных, хотя и сходных в своих основах, случая.
Первый: в повторяющихся единицах имеет место частичное совпадение и,
следовательно, частичное несовпадение текста.
Дар напрасный, дар случайный...
Приведенный стих отчетливо распадается на два полустишия, в которых
одинаковы синтаксические конструкции и интонационный строй. Совпадают
полностью первый член параллельных двучленов (слово «дар») и грамматическая
форма второго. Различается лексико-семантическое содержание и звуковая форма
(за исключением ударного гласного и конечного — «ный») второго члена. Как
мы уже неоднократно отмечали, наличие совпадений приводит к выделению,
структурной активизации несовпадающей части. Семантика слов «напрасный»
и «случайный» образует контрастную пару, а сами эти слова становятся
смысловым центром стихотворения. При этом смысловая нагруженность зависит
от величины несовпадения, а эта последняя, в свою очередь, прямо
пропорциональна значимости совпадения в остальной части стиха. Чем больше
совпадающих элементов и аспектов в не полностью повторяющихся отрезках текста,
тем выше семантическая активность дифференцирующего элемента. Поэтому
ослабить степень совпадения полустиший, например, составив стих:
Дар напрасный и случайный —
(где не только исчезает повторяющееся слово «дар», но и разрушается син-
тагмо-интонационная параллельность частей), значит ослабить степень вы-
деленности слов «напрасный» и «случайный». То же самое произошло бы
при разрушении параллельности грамматической формы второго члена, равно
как и во всех отдельных случаях ослабления повтора. При этом следует
иметь в виду, что степень зависимости значения текста от его структуры в
рассматриваемом случае значительно выше, чем в тех, где семантически
сопоставляемые отрезки опираются на заведомо контрастные, вне зависимости
от их позиции в стихе, лексические единицы — антонимы («И ненавидим
мы, и любим мы случайно...»). В последнем примере сопоставление
«ненавидим» — «любим» подразумевается и вне какого-либо частного
художественного построения. Оно заведомо входит в общеязыковую семантику этих
слов, которые мало что получают от их той или иной структурной позиции.
Сопоставленная пара «напрасный» — «случайный» — порождение данной
конструкции. Семантика элементов здесь весьма индивидуальна и полностью
исчезнет с разрушением данной структуры. Семантика слов в этом примере
6. Элементы и уровни парадигматики художественного текста 137
окказиональна и целиком порождена не только значениями слов контекста,
но и их взаимоотношением в определенной структурной позиции.
Второй из возможных типов текстового параллелизма — такой, при
котором повторяющиеся элементы текстуально совпадают. Может показаться,
что здесь перед нами — полное совпадение. Однако это не так. Текстуальное
совпадение обнажает позиционное различие. Различное положение текстуально
одинаковых элементов в структуре ведет к различным формам соотнесенности
их с целым. А это определяет неизбежное различие трактовки. И именно
совпадение всего, кроме структурной позиции, активизирует позиционность
как структурный, смыслоразличающий признак. Таким образом, «полный»
повтор оказывается неполным и в плане выражения (различие позиции), и,
следовательно, в плане содержания (ср. сказанное выше о припеве)1.
От проблемы повторяемости крупных композиционных элементов текста
естественно перейти к рассмотрению вопроса о повторяемости всего текста.
Совершенно очевидно, что художественная структура не рассчитана на
однократную передачу содержащейся в ней информации. Тот, кто прочел и понял
информирующую заметку в газете, не станет перечитывать ее во второй раз.
Между тем ясно, что повторное чтение произведений художественной
литературы, слушание музыкальной пьесы, просмотр кинофильма в случае, если
эти произведения обладают, с нашей точки зрения, достаточным
художественным совершенством, — явление вполне закономерное. Как же объясняется
повторяемость эстетического эффекта в этом случае?2
1 Иной смысл будут иметь действительно полные повторы в произведениях,
связанных с так называемой эстетикой тождества (см. ниже).
2 Повторное чтение нехудожественного текста, если объем содержащейся в нем
информации уже доведен до потребителя (избыточность значительно превосходит шум), имеет
особую природу — текст не несет информацию, а выступает как эмоциональный
возбудитель. Так, отец Гринева, перечитывая придворный календарь, неизменно испытывал
гнев. Природа гнева или иной эмоции, переживаемой читателем художественного текста,
другая. Автор передает читателю свою модель мира, соответственно организуя саму
личность читателя. Следовательно, эмоции в художественном тексте передаются через
значения. Это подтверждается следующим: междометия в обычной речи — наиболее
эмоционально насыщены, междометия в художественном тексте воспринимаются как
эмоционально бедные, поскольку наименее способны передать информацию о структуре
личности — носительницы эмоций. Ср. из поэмы В. Каменского «Степан Разин»:
По царевым медным лбам
Бам!
Бам
Бам!
Бацк!
Буцк!..
и в том же тексте:
Бам!
Вам!
Дам!
Эмоциональность первого отрывка ниже, чем второго, именно потому, что он беднее
значением.
138
СТРУКТУРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
Во-первых, следует остановиться на моменте индивидуальной трактовки
(что всегда применимо к произведениям, в которых разделены акты создания
и исполнения). Повторное слушание произведения, подразумевающего
мастерство исполнения (искусство декламатора, музыканта, актера), дает нам
любопытную картину соотнесенности повторения и неповторения. Давно
замечено, что особенности индивидуальной трактовки исполнителя
обнажаются особенно резко при сравнении разного исполнения одинаковых
произведений, пьес или ролей. Увеличение элемента сходства до полного совпадения
текстуальной части увеличивает и различие несовпадения — в данном случае
индивидуальной трактовки.
Во-вторых, подлежит рассмотрению и другой случай — случай, казалось
бы, полного повтора. Мы неоднократно сталкиваемся с ним при вторичном
или многократном восприятии произведения, не нуждающегося в посредстве
исполнителя, — созданий изобразительного искусства, кино, музыки в
механической записи, произведений художественной литературы, читаемых
глазами. Для того чтобы понять этот случай повтора, следует помнить, что
художественное произведение не исчерпывается текстом («материальной
частью» в изобразительных искусствах). Оно представляет собой отношение
текстовых и внетекстовых систем. Как мы видели, без учета соотнесенности
с внетекстовой частью само определение того, что в тексте является
структурно-активным элементом (приемом), а что им не является, невозможно. В
соответствии с этим изменение внетекстовой системы — процесс,
происходящий в нашем сознании беспрерывно, процесс, в котором присутствуют
черты и индивидуально-субъективного, и объективно-исторического
развития, — приводит к тому, что в сложном комплексе художественного целого
для читателя постоянно изменяется степень структурной активности тех или
иных элементов. Не все объективно присутствующее в произведении
раскрывается всякому читателю и во все моменты его жизни. И подобно тому как
повторное исполнение одной и той же пьесы разными артистами рельефно
раскрывает специфику исполнения, разницу в исполнении, повторное
восприятие одного и того же текста обнажает эволюцию воспринимающего
сознания, разницу в его структуре, — отличие, которое легко ускользнуло
бы при восприятии различных текстов. Следовательно, и в этом случае речь
идет не об абсолютном, а об относительном повторе.
Таким образом, дифференцирующая, то есть смыслоразличающая функция
повтора связана с отличием построения или позиции повторяющихся
элементов и конструкций.
Однако эта существенная сторона вопроса не исчерпывает его. Тождество,
процесс уподобления, а не противопоставления, также играет большую роль
в повторе как элементе художественной структуры. Этот вопрос будет в
дальнейшем подвергнут специальному рассмотрению.
Из сказанного можно сделать один существенный вывод: коренным
моментом художественной синонимии является неполная эквивалентность.
Деление текста на структурно уравниваемые сегменты вносит в текст
определенную упорядоченность. Однако представляется весьма существенным
то, что эта упорядоченность не доведена до предела. Это не дает ей авто-
6. Элементы и уровни парадигматики художественного текста
139
матизироваться и стать структурно избыточной. Упорядоченность текста все
время выступает как организующая тенденция, строящая разнородный
материал в эквивалентные ряды, но не отменяющая одновременно и его
разнородности. Если оставить в стороне те художественные системы, которые
строятся согласно принципам эстетики тождества, то в неполной
эквивалентности ритмических рядов, равно как и всех иных видов художественной
синонимики, можно увидеть проявление достаточно общего свойства языка
искусства. Структура естественного языка представляет собой некоторое
упорядоченное множество, и для правильно говорящего сведения о ее построении
являются полностью избыточными. Она целиком автоматизируется. Все
внимание говорящих сосредоточено на сообщении — восприятие языка (кода)
полностью автоматизировано. В художественных системах современного типа
сама структура художественного языка информативна для участников акта
коммуникации. Поэтому она не может пребывать в состоянии автоматизма.
Некоторый заданный в данном тексте или группе текстов тип упорядоченности
должен все время находиться в конфликте с некоторым неупорядоченным
относительно него материалом. В этом — разница между метрической схемой:
ииии
и стихом:
Какой-то зверь одним прыжком...
(М. Ю. Лермонтов)
Первая представляет собой полностью упорядоченный ряд (чередование
тождественных элементов). Второй — борьбу упорядоченности и разнообразия
(необходимое условие информативности). Он может быть превращен в нестихи
(«Какой-то зверь одним прыжком выпрыгнул из чащи...»), полностью утратив
метрическую упорядоченность, и в абстрактную метрическую схему
(утраченным окажется элемент неупорядоченности). Но реальный стих существует
лишь как взаимное напряжение этих двух элементов. Здесь мы снова
сталкиваемся с существенным принципом: художественная функция структурного
уровня (в данном случае — ритмического) не может быть понята только из
синтагматического анализа его внутренней структуры — она требует
семантической соотнесенности с другими уровнями.
Принципы сегментации поэтической строки
Приступая к анализу стиха как ритмической единицы, мы исходим из
предпосылки, что стихотворение — это смысловая структура особой
сложности, необходимая для выражения особо сложного содержания. Поэтому
передача содержания стиха прозой описательно возможна лишь в такой мере,
в какой мы можем, разрушив кристалл, передать его свойства словами,
охарактеризовав форму, цвет, прозрачность, твердость, структуру молекулы.
140
СТРУКТУРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
Мы уже говорили, что основой структуры стиха является повторение.
Это не только справедливо, но и общеизвестно. Многочисленные теории
литературы утверждают, что стих строится на повторениях самого различного
типа: повторении определенных просодических единиц через правильные
промежутки (ритм), повторении одинаковых созвучий в конце ритмической
единицы (рифма), повторении определенных звуков в тексте (эвфония).
Однако ближайшее рассмотрение убеждает нас в том, что эта
элементарная, казалось бы, истина не столь проста.
Прежде всего, так ли уж одинаковы эти повторяющиеся элементы? Мы
уже видели, что рифма — совсем не фонетическое явление повторения звуков,
а смысловое явление сочетания повторения звуков и несовпадения понятий.
Еще сложнее вопрос ритма.
Я памятник себе воздвиг нерукотворный...
Принято считать, что здесь происходит правильное повторение ударений.
Но ведь совершенно очевидно, что никакие ударные и безударные слоги и
звуки в отвлечении от качества этих звуков, в «чистом виде», нигде, кроме
как в схемах стиховедов, не существовали. Если не касаться проблем акустики,
а говорить о языке, то есть лишь реальные звуки, которые бывают в ударном
и безударном положении.
Реальные ударные и безударные звуки, а не «чистые» ударные и безударные
слоги, не только акустическая данность — они и данность
структурно-фонологическая. После того как Р. Якобсон установил связь структуры стиха
с фонологическими элементами1, ясно, что элементами ритмической структуры
выступают на этом уровне элементы структуры фонологической, а никак не
отвлеченные признаки этих элементов.
Перед нами в приведенном примере — последовательность ударных
гласных: а — е — и — о. Где же здесь полное повторение? В реальном стихе
звучат совершенно различные звуки, различные смыслоразличающие
элементы. Где же здесь «систематическое, мерное повторение в стихе определенных,
сходных между собой единиц речи», как определяет ритм «Краткий словарь
литературоведческих терминов»2? Для слушателя здесь реально заметно
именно различие этих звуков. То, что у них есть одна общая черта — ударность,
создает основу именно для их противопоставления.
Ударение в интересующем нас случае и будет тем «основанием для
сравнения», которое позволит выделить смыслоразличительные признаки этих
фонем. Различие между поэтической речью и обычной в данном случае
состоит в том, что в последней фонемы а, е, и, о не имеют этой общей черты
и, следовательно, не могут быть сопоставлены. Таким образом, вместо ме-
1 См.: Якобсон Р. О чешском стихе, преимущественно в сопоставлении с русским //
Сб. по теории поэтического языка. 1923. Вып. V. С. 37 и далее. Новейшие возражения
де Гроота были опровергнуты В. В. Ивановым (см. его статью: Лингвистические
вопросы стихотворного перевода // Машинный перевод. М., 1961. Вып. 2. С. 378—379).
2 Тимофеев Л., Венгров Н. Краткий словарь литературоведческих терминов. М.,
1955. С. 117.
6. Элементы и уровни парадигматики художественного текста 141
ханического «повторения одинаковых элементов» — сложный, диалектически
противоречивый процесс: выделение различия через обнаружение сходства,
с одной стороны, и раскрытие общего в глубоко отличном, казалось бы, с
другой. Результатом ритмического построения текста оказывается сопроти-
вопоставимость звуков, которые образуют коррелирующие ряды с
дифференцирующим признаком — общим положением относительно ударности
(положения ударности, предударности первой, второй, послеударности первой,
второй и т. д.). Это включает слова, составляющие стихи, в добавочные,
сверхграмматические связи.
Значение этого обстоятельства резко возрастает в связи с различием
семантической нагрузки звуков в обычной и поэтической речи. Предельной,
нераздробимой единицей лексической системы языка является слово.
Поскольку передающий и воспринимающий информацию вынуждены
пользоваться ограниченным числом звуков, которыми располагает речь, для
передачи значительного числа понятий возникла необходимость в комбинациях
звуков. При этом, как известно, фонемы в естественном языке — смысло-
различительные элементы, носители содержания: достаточно изменить хотя
бы одну из них, и воспринимающий уже может не понять значения переданной
ему информации или понять его искаженно. Однако носителем лексического
значения является именно слово в целом — сочетание данных фонем и в
данной последовательности. При этом подразумевается, что пауза — знак
словораздела — может быть расположена в связной речи только перед и
после этого сочетания фонем. Постановка паузы посередине слова (например,
«стол» и «сто л») меняет его лексическое значение.
В поэтической речи дело обстоит иначе. Для того чтобы прояснить одну
из существенных граней природы ритма, остановимся лишь на одном частном
вопросе — скандовке. Среди признанных авторитетов русского стиховедения
вопрос этот вызвал весьма разноречивые суждения. Так, Б. В. Томашевский
считал, что скандовка «вещь совершенно естественная и не представляющая
каких-либо затруднений. Скандовка для правильного стиха есть операция
естественная, так как она является не чем иным, как подчеркнутым
прояснением размера». И далее: «Скандовка аналогична счету вслух при
разучивании музыкальной пьесы или движению дирижерской палочки»1. Иной точки
зрения придерживался такой знаток русского стиха, как А. Белый: «Скандовка
есть нечто, не существующее в действительности, ни поэт не скандирует
стихов во внутренней интонации, ни исполнитель, кем бы он ни был, поэтом
или артистом, никогда не прочтет строки „Дух отрицанья, дух сомненья"
как „духот рицанья, духсо мненья", от сих „духот", „рицаний" и „мнений" —
бежим в ужасе»2.
Кто же прав — А. Белый или Б. В. Томашевский? Отметим попутно, что
они акцентируют разные, хотя и тесно связанные, стороны вопроса. Б. В. То-
1 Томашевский Б. В. Стилистика и стихосложение. С. 354—355.
2 Белый А. Ритм как диалектика и «Медный Всадник». М., 1929. С. 55. А. Белый
полемизирует с нашумевшей в свое время «Сдвигологией» А. Крученых.
142
СТРУКТУРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
машевский подчеркивает в скандовке появление добавочных ударений, а
А. Белый — пауз, нарушающих единство слова как лексической единицы.
Ближайшее рассмотрение убеждает нас в том, что оба исследователя в
определенном отношении правы, из чего следует, что относительно к проблеме
в целом оба они не правы.
Скандовка действительно выявляет реально существующий ритмический
рисунок стиха (как мы увидим, отсутствующие ударения, которые мы при
скандовке заменяем действительными, — вполне реальный элемент ритма).
Ритмический же рисунок действительно делит текст стиха на отрезки, не
совпадающие со смысловыми. И тогда, произносим ли мы:
Дух отрицанья, дух сомненья,
или:
Духот рицанья, духсо мненья,
или, вернее:
Духот рицань ядух сомненья —
мы во всех случаях имеем дело со стиховой реальностью. В первом случае
паузы проясняют структуру лексических единиц, во втором и третьем —
ритмических. В современном поэтическом восприятии стих рассчитан на
первое произнесение. Ритмические паузы реализуются негативно, через
непроизнесение. Однако отсутствие паузы в месте, где мы ее ждем (ритмическая
пауза в стихе), и при отсутствии подобного ожидания — вещи глубоко
различные. Если описательная поэтика, рассматривая каждый
художественный элемент как отдельно существующий, лишь механически примыкающий
к другим, имеет дело только с реализованными «приемами», то структуральное
стиховедение, понимая художественный элемент как отношение, ясно видит,
что отрицательная величина столь же реальна, как и положительная, что
нереализованный элемент — величина не нулевая и что он столь же явственно
ощущается, как и реализованный. Если мы обозначим реальные паузы знаком
V, а «минус-паузы», ощущаемые, но нереализованные места для пауз, —
знаком Л, то реальное произнесение стиха будет выглядеть так:
Дух V от Л рицань Ля V дух V Л1 сомнень Л я.
Но фактически текст разбит на еще более дробные единицы. Сопротивопо-
ставляемость звуков по отношению к ударности (вопрос: реализована
ударность, то есть имеет место «плюс-ударность», или не реализована — «минус-
ударность», — в данном случае не существен; это подтверждается тем, что
в отношении к слогу в неударной позиции ударный слог в ударной позиции
и неударный слог в ударной позиции ведут себя абсолютно одинаково)
пронизывает стих паузами по слогам. Это, как правило, «минус-паузы», но
тем не менее они вполне реальны. Следует отметить, что любая «минус-пауза»
может быть при декламации легко переведена в реальную. Реализованные и
1 Ритмическая и лексическая паузы совпали.
6. Элементы и уровни парадигматики художественного текста 143
нереализованные паузы свободно взаимопереходят друг в друга. Если чтец
в порядке усиления интонации прочтет:
Дух отрица V нья, дух сомненья —
то это, бесспорно, не прозвучит для аудитории как нечто абсурдное. На
рисунок пауз лексических накладывается рисунок пауз ритмических. При
этом если, говоря о ямбе, мы обозначим неударный слог как 0, а ударный
как 1, то ямбический (4-стопный с мужским окончанием) скелет ритма будет
выглядеть так:
0,±1,0±1,0±1,0+1,[0]
Подобная схема охватит все комбинации ямбов и пиррихиев, и именно она
отражает ритмическую реальность1.
Но раздробление стиха не заканчивается на уровне слога. Как мы увидим
из дальнейшего изложения, звуковая организация стиха довершает
размельчение словесных единств до отдельных фонем. Таким образом, может
показаться, что сумма структурных граней стиха раздробляет составляющие стих
слова на фонологические единицы, превращает стих в звукоряд. Но в том-то
и дело, что все это представляет собой только одну сторону процесса, которая
существует лишь в единстве с противонаправленной ей второй.
Специфика структуры стиха состоит, в частности, в следующем: поток
речевых сигналов, будучи раздроблен на фонологически элементарные
частицы, не утрачивает связь с лексическим значением: слова уничтожаются и
не уничтожаются в одно и то же время.
Любое расчленение стиха не приводит к разрушению составляющих его
слов. Разнообразные ритмические границы накладываются на слово, дробят
его, но не раздробляют. Слово оказывается раздробленным на единицы и
вновь сложенным из этих единиц. В пушкинском стихе
Я утром должен быть уверен —
пауза после первого «у» больше, чем перед ним. Реально произносится:
Яутром
Но никто никогда не ошибется в делении этого текста на лексические единицы.
Опасения А. Крученых, что «сдвиги» затемняют значение, были явно лишены
оснований. Он отыскивал «икание и за-ик-анье „Евгения Онегина":
И к шутке с желчью пополам...
И кучера вокруг огней...
(Ср. и „кущи роз" Лермонтова — икущи, по образцу идущий). Или „Икра
â la Онегин":
Партер и кресла, все кипит...
И край отцов и заточенья...
Пером и красками слегка...
1 Если учитывать возможность спондеев, которые следует рассматривать как
нереализованные неударные слоги, то придется ввести знак ± 0.
144
СТРУКТУРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
И крыльями трещит и машет...
И круг товарищей презренных...»1
Но именно эти примеры лучше всего убеждают в незыблемости лексических
границ внутри стиха.
Никакие паузы, реализованные или нереализованные, которые стиховая
структура помещает внутри лексической единицы, не разрушают ее в нашем
сознании. Дело в том, что само понятие словораздела отнюдь не в первую
очередь определено паузами. Основным признаком является иное: мы владеем
лексикой данного языка, в нашем сознании существует — в потенциальном,
непроизнесенном виде — вся его лексика, и с ней мы отождествляем те или
иные реально произносимые ряды звуков, придавая им лексическое значение.
«Возможность недоразумений, как правило, крайне незначительна, главным
образом потому, что при восприятии любого языкового выражения мы
обычно уже заранее настраиваемся на определенную, ограниченную сферу
понятий и принимаем во внимание только такие лексические элементы,
которые принадлежат этой сфере. Если все же каждый язык имеет особые
фонологические средства, которые в определенном пункте непрерывного
звукового потока сигнализируют о наличии или отсутствии границ
предложения, слова или морфемы, то эти средства играют всего лишь подсобную
роль. Их можно было бы сравнить с сигналами уличного движения. Ведь
еще совсем недавно таких сигналов не было даже в больших городах, да и
теперь они введены далеко не всюду. Можно ведь и вообще обходиться без
них: надо быть только более осторожным и более внимательным!» —
справедливо замечал Н. С. Трубецкой2.
Активное владение лексикой не допускает никакой «сдвигологии». При
любых, самых утрированных формах скандирования ощущение единства
лексических единиц не теряется, между тем как в случаях, когда слушатель
имеет дело с незнакомой лексикой, легко возникают возможности «сдвигов»,
при которых ритмическая пауза начинает восприниматься как конец слова.
При этом показательно, что имеет место нечто аналогичное народной
этимологии. «Сдвиг» возникает потому, что незнакомая и непонятная лексика,
рассеченная паузами, осмысляется на фоне другой — знакомой и понятной,
потенциально присутствующей в сознании говорящего. Так возникает
знаменитое
Шуми, шуми, волна Мирона...
вместо:
Шуми, шуми волнами, Рона...
Незнакомое «Рона» осмысляется через понятие «Мирона». Несколько иной
случай описан Феликсом Коном в его мемуарах. Он рассказывает, как ученики
русифицированных школ в дореволюционной Польше, не понимая выражения
1 500 новых острот и каламбуров Пушкина / Собрал А. Крученых. М., 1924.
С. 30—31.
2 Трубецкой Н. С. Основы фонологии. М., 1960. С. 300.
6. Элементы и уровни парадигматики художественного текста 145
«дар Валдая», воспринимали его как деепричастие от глагола «дарвалдать»1.
В данном случае лексическая непонятность привела к невозможности
осмыслить грамматическую форму, и ряд звуков был спроектирован на
потенциально имеющуюся в сознании слушателя форму деепричастия. Таким образом,
и редкость, почти уникальность, нарушения правильного членения текста
при скандовке, и анализ причин и характера ошибок убеждает в том, что,
разделенные ритмическими паузами сколь угодно протяженной длительности,
слова стихотворного текста не перестают быть словами. Они сохраняют
ощутимые признаки границ — морфологических, лексических и
синтаксических. Слово в поэзии напоминает «красную свитку» Гоголя: его режут
ритмические паузы (и иные ритмические средства), а оно срастается, ни на
минуту не теряя лексической целостности.
Итак, стих — это одновременно последовательность фонологических
единиц, воспринимаемых как разделенные, отдельно существующие, и
последовательность слов, воспринимаемых как спаянные единства фонемосоче-
таний. При этом обе последовательности существуют в единстве, как две
ипостаси одной и той же реальности — стиха. Они составляют
коррелирующую структурную пару.
Отношение слова и звука в стихе существенно отличается от их
соотношения в нехудожественном языке, где связь слова и составляющих его фонем
носит, как известно, историко-конвенциональный характер. Слова в стихе
разделяются на звуки, получающие благодаря паузам и другим ритмическим
средствам известную автономию в плане выражения, что создает предпосылку
для семантизации звуков. Но, поскольку это разделение не уничтожает слов,
которые существуют рядом с цепью звуков и с точки зрения естественного
языка являются основными носителями семантики, лексическое значение
переносится на отдельный звук. Фонемы, составляющие слово, приобретают
семантику этого слова. Опыт подтверждает тщетность многочисленных
попыток установить «объективное», независимое от слов, значение звуков
(разумеется, если речь не идет о звукоподражании). Однако столь же очевиден
перенос значений слов на составляющие их звуки. Приведем пример:
Там воеводская метресса
Равна своею степенью
С жирною гадкою крысой.
(А. П. Сумароков)
Не слышим ли в бою часов
Глас смерти, двери скрып подземной...
(Г. Р. Державин)
Искусство воскресало
Из казней и из пыток
1 Этот же случай упомянут в поэме А. Белого «Первое свиданье»:
Так звуки слова «дар Валдая»
Балды, над партою болтая, —
Переболтают в «дарвалдая»...
146
СТРУКТУРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
И било, как кресало,
О камни Моабитов.
(А. А. Вознесенский)
Однотипные фонетические сочетания «крыс», «скры», «крес» в каждом из
трех отрывков звучат совершенно по-разному, получая различную семантику
от лексических единиц, в которые входят.
Каждый звук, получающий лексическое значение, приобретает
независимость, самостоятельность, которая отнюдь не сродни «самовитости», ибо
целиком определена связью с семантикой слова. И вот эти семантически
нагруженные фонемы становятся кирпичами, из которых снова строится это
же слово. Таким образом, уже простое включение слова в стихотворный
текст решительно меняет его природу: из слова языка оно становится
воспроизведением слова языка и относится к нему, как образ действительности
в искусстве к воспроизводимой жизни. Оно становится знаковой моделью
знаковой модели. По семантической насыщенности оно резко отличается от
слов языка нехудожественного.
Так вновь оказывается, что особая музыкальность, звучность поэтического
текста — производное от сложности структурного построения, то есть от
особой смысловой насыщенности, совершенно незнакомой структурно
неорганизованному тексту. В этом легко убедиться при помощи простейшего
эксперимента: ни одна самым искусным образом составленная строка
бессмысленного набора звуков (звуков вне лексических единиц) не обладает
музыкальностью обычной поэтической строки. При этом следует иметь в
виду, что слова «заумного языка» совсем не лишены лексического значения,
в строгом смысле этого слова1. «Заумные слова» в поэзии не равнозначны
бессмысленному набору звуков в обычной речи. Поскольку мы воспринимаем
издаваемые речевым аппаратом звуки как язык, им приписывается
осмысленность. Некая единица речи, осмысляемая как слово по аналогии с другими,
значащими, но лишенная собственного значения, будет представлять
абсурдный случай выражения без содержания, обозначения без обозначаемого.
Слово в поэзии вообще, и в частности «заумное» слово, складывается из
фонем, которые, в свою очередь, получились в результате раздробления
лексических единиц и не утратили с ними связи. Но если в обычном
поэтическом слове связь звука с определенным лексическим содержанием раскрыта
и общезначима, то в «заумном языке» поэзии, в соответствии с общим
субъективизмом позиции автора, она остается неизвестной читателю.
«Заумное» слово в поэзии не лишено содержания, а наделено столь личным,
субъективным содержанием, что уже не может служить цели передачи
общезначимой информации, к чему автор и не стремится.
При этом надо учитывать, что на уровне морфологии оно, как правило,
не отличается от отмеченных слов языка.
1 См.: Янакиев М. Българско стихознание. С. 13—16; Ревзин И. И. Модели языка.
С. 21; Томашевский Б. В. Стилистика и стихосложение. С. 181—183.
6. Элементы и уровни парадигматики художественного текста 147
Для того чтобы сопоставить с точки зрения «музыкальности»
экспериментальный бессмысленный текст с осмысленным, звуки человеческой речи
не годятся — мы неизбежно будем их наделять значениями. Нам надо знать,
что воспринимаемый поток звуков — не речь. Для этой цели удобнее
механические звуки. Но и механические звуки могут быть носителями информации
(уже музыкальной), если они структурно организованы (структура —
потенциальная информация). Абсолютно случайное, не структурное ни для
создателя, ни для слушателя скопление звуков не может нести информации, но
оно не будет иметь и никакой «музыкальности». Красота есть информация.
Но в этом-то и различие «музыкальности», «красоты звучания» в поэзии от
музыки, что здесь упорядоченность несет информацию не о «чистом»
отношении единиц (которые в отдельности не значат ничего, а в структуре
образуют модель эмоций личности), но об отношении значимых единиц,
каждая из которых на лингвистическом уровне составляет знак или
осмысляется как знак. Мы можем не знать значения слова «аониды» или слова
«Байя» в стихе Батюшкова:
Ты пробуждаешься, о, Байя, из гробницы...1
Но мы не можем не знать, что «Байя», «аониды» — слова, знаки содержания,
и соответственно их не воспринимать. Слово, не имеющее содержания (вообще
или для меня, например в силу незнания), не адекватно бессмысленному
набору звуков. Бессмысленный набор звуков имеет на лексическом уровне
нулевое значение, непонятное слово — «минус-значение».
Однако ритмические единицы, образующие систему соотнесений,
свойственную лишь поэтической речи, делят стих (и составляющие его лексемы)
не на фонемы, а на слоги. Деление, доводящее слово до раздробления на
уровне фонем, происходит в результате звуковых повторов.
Явление звуковых повторов в стихе — факт, хорошо изученный.
Значительно более сложна проблема связи этого явления с вопросами семантической
структуры. Ритмическая структура приводит к сопротивопоставлению
элементов, носителей лексического смысла, и образованию смысловых
оппозиций, которые не были бы возможны в обычной речи и которые складываются
в систему связей, совершенно автономную от синтаксической, но, подобно
ей, организующую лексемы в структуру более высокого уровня. Звуковые
повторы образуют свою, аналогично функционирующую систему. Взаимное
наложение этих систем и приводит к раздроблению слова до фонемы.
В стихах:
Я утром должен быть уверен,
Что с вами днем увижусь я —
слова «утром», «уверен», «увижусь» находятся в определенной связи, не
зависящей от обычных синтаксических и иных, чисто языковых связей. Звук
1 Ср. в воспоминаниях Н. А. Павлович: «Полузакрыв глаза, спускается Мандельштам
и бормочет: „Зиянье аонид... зиянье аонид..." Сталкивается со мной: „Надежда
Александровна, а что такое «аониды»?"» (Блоковский сборник. Тарту, 1964. С. 492).
148
СТРУКТУРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
«у» (вопреки утверждению В. Шкловского в одной из его ранних работ),
конечно, сам по себе никакого значения не имеет. Но повторение его в ряде
слов заставляет выделить его в сознании говорящего как некую
самостоятельную единицу. При этом фонема «у» осознается и как самостоятельная,
и как несамостоятельная по отношению к слову «утром». Будучи отделена
и не отделена, она получает семантику от слова «утром», но потом повторяется
еще в других словах ряда, приобретая новые лексические смыслы. Это
приводит к тому, что слова «утром», «уверен», «увижусь», которые в
непоэтическом тексте составляли бы самостоятельные и несопоставимые единицы,
начинают восприниматься в семантическом взаимоналожении.
Происходящее при этом сопоставление слов приводит к необходимости раскрыть в их
разности нечто единое. При таком семантическом наложении огромная часть
понятийного содержания каждого слова окажется отсеченной, подобно тому
как контекст отсекает полисемию. Но зато возникнет значение, невозможное
вне этого сопоставления и единственно выражающее сложность авторской
мысли. В данном случае подобная единица содержания — результат
нейтрализации слов «утро», «уверен», «увижусь», их «архисема», включающая
пересечение их семантических полей.
Сложность, однако, в том, что вся нестиховая структура языка, все
синтаксические связи, все определенные контекстом этой фразы,
воспринимаемой как явление непоэзии, значения слов сохраняются. Но одновременно
возникают и другие связи и другие значения, которые не отменяют первых,
а сложно с ними коррелируют.
Однако в реальном поэтическом тексте мы имеем дело не только со
спорадическими повторениями одного какого-либо звука, а с тем, что вся
звуковая система стиха оказывается полем сложных соотнесений.
Фонемы, наделенные лексической значимостью, вступают с другими
фонемами в оппозиции
1) по признаку одинакового отношения к ударности — неударности;
2) по признаку повторения одинаковых фонем;
3) по признаку семантизации языковых фонологических оппозиций,
поскольку сам факт принадлежности текста к поэзии приводит к семантизации
всех его элементов.
Одновременно имеет место сопротивопоставление фонем:
1) в ряду одного стиха;
2) в различных стихах.
Но реально это означает не сопротивопоставление фонем, а образование
крайне сложной системы сопротивопоставления значений, выделение черт
общности и различия в понятиях, не сопоставимых вне стиха, образование
«архисем», которые, в свою очередь, вступают между собой в оппозиции.
Так возникает та понятийная структура большой сложности, которую мы
именуем стихом, поэзией.
Термин «архисема» образован по аналогии с «архифонемой» Трубецкого
для определения на уровне значений единицы, включающей все общие
элементы лексико-семантической оппозиции. «Архисема» имеет две стороны:
она указывает на общее в семантике членов оппозиции и одновременно
6. Элементы и уровни парадигматики художественного текста
149
выделяет дифференцирующие элементы каждого из них. «Архисема» не дана
в тексте непосредственно. Она возникает как конструкт на основе
слов-понятий, образующих пучки семантических оппозиций, а эти последние
выступают по отношению к ней как инварианты. При этом надо иметь в виду
одну особенность.
Языковые «архисемы» типа:
противоположные
стороны света
(«не запад — восток») —
в рамках той или иной культуры абсолютны, они вытекают из самой системы
принятых значений. В поэзии мы сталкиваемся с иным: структурная
поэтическая оппозиция воспринимается как смысловая. Ее элементами оказываются
слова, решительно не соотносимые вне данной структуры, что раскрывает в
самих этих словах такую общность (различие), такое окказиональное
содержание, которое вне данной оппозиции оставалось бы решительно невыяв-
ленным. Возникающие при этом архисемы специфичны именно данной
поэтической структуре. В дальнейшем семантическая структура строится уже на
уровне архисем, которые, включаясь в оппозиции, раскрывают сопротиво-
поставленность своего содержания, образуя архисемы второго и высших
уровней, что, в конечном итоге, ведет нас к постижению одного из аспектов
структуры произведения. Поясним это конкретным примером на материале
стихотворения А. Вознесенского «Гойя».
Я — Гойя!
Глазницы воронок мне выклевал ворог,
слетая на поле нагое.
Я — Горе.
Я — голос
Войны, городов головни
на снегу сорок первого года.
Я — голод.
Я горло
Повешенной бабы, чье тело, как колокол,
било над площадью голой...
Я — Гойя!
О грозди
Возмездья! Взвил залпом на Запад —
я пепел незваного гостя!
И в мемориальное небо вбил крепкие звезды —
Как гвозди.
Я — Гойя.
Повторы в этом стихотворении построены по принципу рифмы и
убедительно подтверждают мысль о принципиальной соотнесенности ритмического
и эвфонического аспектов стиха.
Через все стихотворение проходит цепь коротких, анафористических, с
параллельными синтаксическими конструкциями, стихов. Начинающее их
местоимение «я» — одно и то же во всех стихах — выступает как общий
север
юг
150
СТРУКТУРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
член, «основание для сравнения». В этой связи вторые члены двучленов
(«Гойя», «Горе», «голод» и др.) взаимно противопоставлены: подчеркнуто их
неравенство, специфичность. Отличие первого стиха от третьего, четвертого
и других сосредоточено именно во втором члене двучлена, и это отличие в
первую очередь семантическое. Но слова, составляющие второй член,
воспринимаются не только в их отношении к одному и тому же первому, но и
в их взаимной соотнесенности. Основанием служит единство их ритмической
и синтаксической позиции и звуковые повторы в словах «Гойя», «Горе»,
«голод». Но и внутри этого взаимосоотнесенного ряда раскрываются и силы
притяжения и силы отталкивания, которые касаются и семантического, а не
только звукового плана. С одной стороны, раскрывается семантическое
различие (чего мы коснулись, говоря о рифме). Совпадение отдельных фонем в
несовпадающих словах лишь подчеркивает отличие слов в первую очередь
по содержанию, ибо, как мы уже видели, там, где полное совпадение звучания
сопровождается и совпадением значения, музыкальность рифмы пропадает.
Но имеет место и другой процесс: слова «Гойя», «Горе», «голос», «голод»,
«горло» выделяют общую группу «го», а сопоставление типа «голос» и
«голод» приводит к выделению и других фонем. Создается система, в которой
одни и те же звуки в одинаковых или сознательно различных комбинациях
повторяются в разных словах. И тут-то проявляется коренное отличие
природы слова в обычном языке и в художественном (в частности, поэтическом)
тексте. Слово в языке отчетливо распадается на план содержания и план
выражения, установить прямые связи между которыми не представляется
возможным. Близость плана содержания двух слов может не находить
отражения в плане выражения, а близость плана выражения (звуковые повторы,
омонимы и т. д.) может не иметь никакого отношения к плану содержания.
С этим связано и то, что установить отношения элементов слова (например,
на уровне фонем) к плану содержания в обычной речи невозможно1.
Я — Гойя! —
начальный стих устанавливает тождество двух членов — «я» и «Гойя», причем
специфическое для данного текста значение слов нам еще не известно. «Я» —
это «я» вообще, «я» словарное; «Гойя» — семантика имени не выходит за
пределы общеизвестного. Вместе с тем уже этот стих дает нечто новое по
отношению к общесловарному, внеконтекстному значению составляющих его
слов. Ясно, что, даже взятая сама по себе, вне соотнесения с другими стихами,
конструкция «Я — Гойя» не однотипна, например «Я — Вознесенский».
Вторая конструкция утверждала бы единство понятий, тождественных с точки
зрения автора и читателя, и вне данного текста. Одно из них («я») было бы
лишь местоименным обозначением второго. Стих «Я — Гойя» строится на
отождествлении двух заведомо неравных понятий («Я <поэт> есть Гойя»; «Я
1 Ср.: «Знак и обозначаемое связываются произвольно. Любой знак можно связать
с любым обозначаемым и любое обозначаемое с любым знаком» (Жинкин Н. И. Знаки
и системы языка // Zeichen und System der Sprache. Bd I (серия «Schriften zur Phonetik,
Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung»). Berlin, 1961. S. 159.
6. Элементы и уровни парадигматики художественного текста 151
<не Гойя> есть Гойя»). Уже взятый сам по себе, этот стих свидетельствует,
что и «я» и «Гойя» употреблены здесь в каком-то особом значении, что
каждое из них должно представлять собой некую особую понятийную
конструкцию для того, чтобы их можно было приравнять. Эта специфическая
конструкция понятий раскрывается через систему семантических оппозиций,
особых, сложно построенных значений, которые возникают в результате
структуры поэтического текста.
Уже первый стих выделяет сочетание фонем «го» как основной носитель
значения в имени «Гойя».
В произношении стиха: «я — го — я» фонетическое тождество первого
и последнего элементов воспринимается в силу неразделимости в поэзии
планов выражения и содержания как семантическая тавтология (я — я).
Носителем основного семантического значения становится элемент «го».
Конечно, смысловое значение фонологической организации первого стиха
реализуется лишь в отношении к другим стихам, а выделенность группы «го»
в пределах отдельно взятого «я — Гойя» существует лишь потенциально.
Однако это выделение отчетливо реализуется в сопоставлении с
последующими стихами:
Я — Горе.
Я — голод.
Мы можем отметить, что между словами «Гойя», «Горе», «голод»
устанавливается состояние аналогии. Они приравниваются, каждое порознь, общему
элементу «я». При этом очень существенно, что все три стиха образуют
однотипные синтаксические конструкции, в которых роль второго члена
уравнена. Не только синтаксическое положение, но и фонологический
параллелизм (повторение группы «го») заставляет воспринимать эти слова как
взаимосоотнесенные семантически. Из объема этих значений выделяется общее
семантическое ядро — архисема. Значение ее усложнено параллелизмом со
стихами:
Я — голос
Войны, городов головни
на снегу сорок первого года...
Я — горло
Повешенной бабы, чье тело, как колокол,
било над площадью голой...
Вторая часть каждого из этих стихов функцией предикативности приравнена
к «горе» и «голод» из названных выше стихов. Интересен звуковой повтор —
«голос», «городов головни», «года», «горло», «года,». К тому же словосочетание
«голос войны», поддержанное той выделенностью фонемы «в», которая
получается в результате повтора:
Глазницы воронок мне выклевал ворог,
слетая на поле нагое... —
устанавливает между словами, модулирующими «в» и «г», отношение
семантической соотнесенности. Следует отметить, что «г» в слове «ворог» особенно
152
СТРУКТУРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
структурно подчеркнуто, поскольку вся семантика слов и фразеологизмов
«выклевал глазницы», «слетая» подводит к слову «ворон» (фонетически оно
подготовлено словом «воронок»). Неназванное «ворон» и существующее
«ворог» образуют соотнесенную пару, в которой семантическое различие
выделяет фонемы «н — г», а совпадение группы «воро» устанавливает
общность значений. Так образуется сложная конструкция содержания: «Горе»,
«голод», «голос войны, «городов и головни», «глазницы воронок», «горло
повешенной бабы», «поле нагое» образуют взаимосоотнесенную структуру. Она,
с одной стороны, возводится к архисеме — семантическому ядру,
возникающему на пересечении полей значений каждой из основных семантических
единиц. С другой стороны, происходит активизация признаков, отделяющих
каждую из выделенных групп от общего для всех значения архисемы. То,
что каждая из семантических единиц воспринимается в отношении к
семантическому ядру, диктует в ряде случаев совершенно иное восприятие значения,
чем если бы мы столкнулись с нею, изолированной от всего ряда.
Необходимо указать на еще одно соотношение. В разбираемом отрезке
текста отчетливо выделяются две группы стихов.
Первая:
Я — Горе.
Я — голод.
Вторая:
Я — голос
Войны, городов головни
на снегу сорок первого года.
Я — горло
Повешенной бабы, чье тело, как колокол,
било над площадью голой.
К этой группе примыкает стих:
Глазницы воронок мне выклевал ворог,
слетая на поле нагое.
Обе группы стихов уравнены, как мы отмечали, параллельностью
синтаксической конструкции (распространенность во втором случае предикативной
группы лишь подчеркивает родство их синтаксических структур). Мы уже
установили также и соотнесенность звуковой организации элементарных
лексических единиц обеих групп.
Однако, с другой стороны, общность лишь подчеркивает отличие,
существующее между этими группами стихов. Короткие строки требуют
совершенно иного дыхания, следовательно, темпа и интонации, чем длинные. Но
разница не только в этом: «горе» и «голод» — существительные отвлеченные.
Приравненное к ним «я» выступает как нечто значительно более конкретное,
единичное. «Длинные» стихи в этом отношении сложнее. Предикат здесь не
только конкретен — он представляет собой обозначение части, причем именно
части человека, его тела (ср.: «горло», «голос», «глазницы»). В соотношении
с ним субъект «я» выступает как нечто более общее и абстрактное. Но
6. Элементы и уровни парадигматики художественного текста 153
одновременно предикат оказывается включенным в метафорический ряд —
«голос войны» (ср.: «глазницы воронок»; рядом с ними и «горло повешенной
бабы» воспринимается как символический знак более обобщенного
содержания). Создается антропоморфный метафорический образ («голос»,
«глазницы», «горло»), одновременно составленный из деталей военного пейзажа —
«воронки», «поле нагое», «городов головни на снегу сорок первого года».
Эти два ряда синтезируются в образе «площади голой» и повешенной над
ней бабы. Все эти образно-семантические ряды сходятся к одному центру:
они приравнены «я», авторскому субъекту. Однако это равенство —
параллелизм, а не тождество. Поскольку предикаты в каждой из групп стихов, и
в каждом стихе в отдельности, не тождественны, а лишь параллельны,
включают и общность и различие, поскольку не равны и эти, следующие друг за
другом «я»: «я» каждый раз приравнивается новой семантической структуре,
то есть получает новое содержание. Раскрытие сложной диалектики
наполнения этого «я» — один из основных аспектов стихотворения. Предикат
выступает здесь как модель субъекта, и ^противопоставление предикатов,
конструирующее очень сложную систему значений — образ трагического
мира войны, — одновременно моделирует образ авторской личности. И когда
А. Вознесенский подводит итог первой части стихотворения стихом «Я —
Гойя!», то субъект его вбирает все «я» предшествовавших стихов со всеми
их различиями и пересечениями, а предикат суммирует все предшествующие
предикаты. Это делает стих «Я — Гойя!» в середине текста отнюдь не простым
повторением первой строки, а, скорее, ее антитезой. Именно в сопоставлении
с первым стихом, в котором и «я» и «Гойя» имеют лишь общеязыковые
значения, раскрывается та специфическая семантика этих слов, которую они
получают в стихотворении Вознесенского, и только в нем.
Аналогичный анализ можно было бы проделать и со второй половиной
стихотворения, показав, как рождается значение итогового стиха «Я — Гойя».
Можно было бы, в частности, отметить, что все элементы различия при
повторе (например, то, что первые два стиха «Я — Гойя» даны с
восклицательной интонацией, а последний — без нее) становятся носителями значений.
Сейчас достаточно подчеркнуть более частную мысль: звучание в стихе
не остается в пределах плана выражения — оно входит как один из элементов
в сопротивопоставление слов в поэзии по законам не языкового, а
изобразительного знака, то есть в построение структуры содержания.
Образование архисем не есть процесс противологического характера. Он
вполне поддается точному научному анализу. Но, изучая его, необходимо
постоянно иметь в виду, что в поэтическом тексте в силу отмеченной раз-
дробленности-нераздробимости слова на фонемы отношение выражения к
содержанию складывается решительно иначе, чем в нехудожественном. Во
втором случае никакой связи, кроме историко-конвенциональной, установить
нельзя. В первом случае (поэтический текст) устанавливается определенная
связь, в силу которой само выражение начинает восприниматься как
изображение содержания. В этом случае знак, оставаясь словесным, приобретает
черты изобразительного (иконографического) сигнала.
154
СТРУКТУРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
Следует особо подчеркнуть, что раздробление слов на фонемы, равно
как и образование окказиональных значений слов в результате сопротиво-
поставления фонем и просодических единиц, осуществляется не только в
случаях, когда текст нарочито инструментован. Сама природа ритмической
структуры делит текст на единицы, не совпадающие с семантическими, но
приобретающие в стихе семантику. Скандовка как реальность или как
возможность, на фоне которой воспринимается поэтическая реальность,
постоянно присутствует в сознании читателя. Не случайно дети начинают чтение
(и восприятие) стихов со скандовки. В таком виде стихи им кажутся более
звучными. Показательны и данные истории стиха.
Для русской силлабики характерно чтение «по слогам». Все слоги читались
как ударные, а вдох должен был совпадать с одной из межслоговых пауз.
Б. В. Томашевский, анализируя рифмовку русских силлабиков, приходит к
выводу: «Подобные явления объяснимы только крайней ослабленностью
противопоставления ударного слога неударному, то есть при условии „чтения
по слогам". В дальнейшем, несомненно, манера чтения должна была
измениться, откуда и идея тонического стиха, противополагающего ударный слог
неударному»1.
Таким образом, в силлабике ударность не могла стать дифференцирующим
признаком именно потому, что все слоги были ударными2. Это вызывало
неизбежные паузы между слогами, но одновременно практически отменяло
словоразделяющие паузы. Стихи Симеона Полоцкого читались следующим
образом (знак || — пауза и вдох): фи — ло — соф — вху — дых — ри —
зах || о — быч — но — хо — жда — ше || Ε — му — же — во — двор —
цар — ский || нуж — да — не — ка — бя — ше.
(Философ в худых ризах обычно хождаше,
Ему же во двор царский нужда нека бяше)
Та же тенденция на иной основе проявляется и у некоторых поэтов XX в.
(Маяковский, Цветаева). В поэзии Цветаевой стремление подчеркнуть
слогораздел находит порой и графическое выражение:
...Бой за су — ще — ство — ванье...
...Без вытя — гивания жил!..
...Право — на — жительственный свой лист
Но — гами топчу!
Однако дело не в том, выявлена или нет в скандовке ритмическая природа
стиха. Когда мы скандируем стихи, границы лексических единиц, не
выявленные в произношении, отчетливо существуют в сознании и коррелируют
с реальными паузами, дробя звукоряд. Когда мы читаем стихи, руководствуясь
лексико-смысловыми паузами, в сознании сохраняются ритмические паузы,
которые сохраняют свою реальность «минус-приемов».
1 Томашевский Б. В. Стих и язык. С. 101.
2 Дискуссию по проблеме декламации силлабического стиха см. в статьях П. Н. Бер-
кова и А. М. Панченко в сб. «Теория стиха» (Л., 1968).
6. Элементы и уровни парадигматики художественного текста 155
Наконец, следует оговориться, что случай, при котором мы в качестве
примера соотнесенности фонем взяли повторяемость одного и того же звука
или групп звуков («Гойя» Вознесенского), избран нами лишь из соображений
наглядности. Все фонемы языка воспринимаются во взаимной соотнесенности,
в системе, которая в стихе становится структурой содержания, национального
своеобразия, как план выражения в языке. Поскольку
национально-своеобразная фонологическая структура текста становится в поэзии основой
конструкции понятий, непереводимо-национальная природа сознания выражается
в поэзии с значительно большей силой, чем в нехудожественном тексте или
даже прозе.
Знак в литературе остается словесным. Он не воспринимается человеком,
не владеющим данной языковой структурой. И все же по принципу
соотношения содержания и выражения он приближается к изобразительным знакам.
Слова естественного языка как коммуникативной структуры составлены из
элементов низших уровней, которые лишены собственного лексического
значения. В поэтическом тексте структура выражения становится в силу
продемонстрированной выше лексико-семантической значимости фонем (и морфем)
структурой содержания. Вследствие включения элементов низших уровней в
процесс смыслообразования возникают окказиональные семантические
оппозиции, окказиональные «архисемы», невозможные вне данной текстовой
структуры выражения. (Поэтому, кстати, самый точный перевод поэтического
текста воспроизводит структуру содержания лишь в той ее части, которая
обща у поэтической и непоэтической речи. Те же семантические связи и
противопоставления, которые возникают в результате семантизации
структуры выражения, заменяются иными. Они непереводимы, как непереводимы
идиомы в структуре содержания. В силу сказанного применительно к
поэтическому тексту правильнее говорить не о точном переводе, а о стремлении
к функциональной адекватности.)
Необходимо отметить еще одно обстоятельство. При «передаче»
лексического смысла составляющим слово фонемам и — вследствие этого — при
образовании сложной системы внутритекстовых семантических оппозиций не
все фонологические элементы, образующие данную лексику, ведут себя
одинаково.
Известно, что вопрос звукового состава слова решается принципиально
различно с точки зрения «языка» и «речи». В первом случае мы имеем дело
со структурой, которой безразлична физическая природа реально
осуществляемого сигнала, и поэтому такие явления, как, например, редукция, будут
интересовать лишь исследователя речевого аспекта. В связи со сказанным
возникают, в частности, вопросы о природе отгадываемости текста и о
распределении информации в слове. При этом выясняется, что контекстная
письменная и устная речь не знают ровного распределения информации в
слове. Экспериментальные данные для русской речи (анализировалась
информационная нагрузка слова «хорошо» в контексте) показали, что в
письменной речи «информация целиком сконцентрирована в первой половине
слова, в то время как вторая его половина оказывается избыточной», в устной
же «информационно нагруженным оказывается конец слова, опирающийся
156
СТРУКТУРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
на ударный слог. Начало слова [χ Л р] оказывается в этом случае
избыточным»1. Таким образом, в речевом потоке, сегментируемом на слова,
семантическая нагрузка распределяется весьма неравномерно.
Специфика поэтического текста, в частности, состоит и в том, что
неструктурные, свойственные речи, а не языку, элементы приобретают в нем
структурный характер. В результате не все звуковые элементы стиха
оказываются одинаково нагруженными семантически. Одни из них семантически
редуцируются, другие подчеркиваются, вступая в различные оппозиционные
соотношения. Однако поэтическая структура не просто возводит речь в ранг
языка, придавая неструктурным элементам характер структурных. Она
решительно меняет соотношение степени информативности элементов внутри
речи: те из них, которые в нехудожественном сообщении избыточны, в стихе
могут стать семантически нагруженными. Семантически бедные элементы
речи (например, конец слова в письменном тексте) в особом структурном
положении (например, при появлении рифмы, которая — явление письменной
поэзии и архаическому фольклору неизвестна) получают несвойственную им
информационную нагруженность. Отсюда еще одна важная особенность
поэзии. Поэтическая речь не является письменной, как полагали сторонники
буквенной филологии. Но это и не устная речь, как считали сторонники
фонетического метода. Поэтическая структура современной поэзии, в отличие
от фольклора, — отношение устного текста к письменному, устный на фоне
письменного. Поэтому, в частности, графическая природа текста отнюдь не
безразлична для его понимания.
Проблема метрического уровня стиховой структуры
Ритмико-метрическая сторона стиха традиционно считается его
важнейшим признаком: до сих пор это основная и наиболее разработанная область
стиховедческих штудий.
Выше мы старались показать, что определенная — весьма значительная —
доля художественного эффекта поэтической речи в том, что относится за
счет ритма, но ему не принадлежит. Ритм — метр выступает в значительной
мере лишь как средство сегментации текста на единицы, меньшие, чем слово.
Из сказанного не вытекает, разумеется, что метрическая структура стиха
не имеет собственного значения. Однако вопрос об этом значении остается
весьма затуманенным.
Говоря о значении ритма, следует разграничивать две стороны вопроса.
Первая: метр как построение данного текста в связи с определенной
словесно-семантической тканью. В этом случае метр не знак, а средство
построения знака. Он «режет» текст и участвует в образовании семантических
1 Пиотровский Р. Г. О теоретико-информационных параметрах устной и письменной
форм языка // Проблемы структурной лингвистики. М., 1962. С. 57.
6. Элементы и уровни парадигматики художественного текста 157
оппозиций, о чем речь шла выше, то есть является средством образования
той специфической смысловой структуры, которая и составляет сущность
стиха.
Вторая сторона вопроса состоит в создании отвлеченных ритмических
схем, которые могут быть получены в результате абстракции системы
ударений и пауз. Она-то обычно и привлекает стиховедов. Подобная система
тоже реальна — она существует в сознании поэта и его слушателей. Однако
природа ее иная, чем это обычно полагают. И здесь мы снова в нашем
изложении сталкиваемся с внетекстовыми связями.
Для того чтобы предлагаемый слушателю текст воспринимался как поэзия,
то есть чтобы слушатель воспринимал все избыточное в обычной речи как
смыслоразличительное и улавливал ту сложную ткань возвращений и сопро-
тивопоставлений, которая специфична поэзии (вернее, в разной степени —
всякому художественному тексту), ему необходимо знать, что перед ним не
обычная, а художественная, поэтическая речь. Он должен получить на этот
счет определенный сигнал, который обусловит соответствующее восприятие.
Система подобных сигналов весьма разветвлена. На ранней стадии
словесного искусства в нее войдут и специфическая обстановка исполнения (ср.
табу на рассказывание сказок днем), поэтический ритуал зачинов, фантастика
сюжетов, особый стиль поэтической речи и «необычное» ее произношение
(декламация). Все это сигнализирует слушателю, что предлагаемый текст
должен восприниматься как художественно построенный, то есть «вдвинутый» в
определенную идеальную структуру и существующий лишь в отношении к ней.
Но ритм — сигнал о принадлежности воспринимаемого текста не только
к «поэзии как таковой». Он проясняет не только те грани поэтической речи,
которые раскрываются оппозициями «поэзия — проза» и «поэзия —
нехудожественный текст».
Внетекстовым связям полностью принадлежат и семантические
ассоциации, вызываемые теми или иными конкретными размерами. В силу
разнообразных причин определенный размер связывается с жанром,
фиксированным кругом тем и лексики. Возникает свойственный ему в данной поэтической
традиции «экспрессивный ореол» (выражение В. В. Виноградова, сходное
содержание А. Н. Колмогоров вкладывает в термин «образ ритма»). Кирилл
Тарановский в работе «О взаимоотношении стихотворного ритма и тематики»
заключает: «Отметим, что стихотворный ритм, хотя он и лишен автономного
значения, все же является носителем определенной информации,
воспринимаемой вне когнетивного плана»1.
Названная работа К. Тарановского блестяще подтверждает положение о
том, что семантическое истолкование ритмики принадлежит внетекстовым
отношениям. Прослеживая историю русского пятистопного хорея, автор
показывает, как складывается интонационно-семантическая его характеристика
(в основном под влиянием лермонтовского употребления этого стиха).
1 Тарановский К. О взаимоотношении стихотворного ритма и тематики // American
Contributions to the Fifth International Congress of Slavists. Sofia, 1963.
158
СТРУКТУРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
Как внутритекстовая структура, размер выполняет основную функцию:
членит текст на сегменты — стихи и су б- и суперстиховые отрезки. Членение
текста на отрезки, уравненные в ритмическом отношении, создает между
ними отношение эквивалентности (стих эквивалентен стиху, стопа — стопе).
Неповторяющиеся элементы эквивалентных частей текста (например,
семантические) становятся смысловыми дифференциаторами.
Однако в тех случаях, когда на фоне метрической константы возникает
возможность ритмических «фигур», ритмическое членение оказывается
способным выполнять двойную функцию: уподобления семантически несходных
отрезков текста (членение на эквивалентные куски) и расподобления их
(членение на ритмические варианты). Возможность прибегать в пределах
одной и той же метрической системы к различным ритмическим подсистемам
и разная вероятность употребления каждой из них создают возможность
дополнительных упорядоченностей, которые в конкретных текстовых
построениях тем или иным образом семантизируются.
Множественность и взаимная пересеченность этих упорядоченностей
приводит к тому, что закономерное и предсказуемое на одном уровне выступает
как нарушение закономерности и снижающее предсказуемость — на другом.
Так и на ритмическом уровне возникает определенная «игра»
упорядоченностей, создающая возможность высокой семантической насыщенности.
Приведем один пример, заимствованный из маргинальных помет
А. Н. Колмогорова на рукописи статьи Вяч. Вс. Иванова «Ритмическое
строение „Баллады о цирке" Межирова». А. Н. Колмогоров приводит примеры
употребления редкой «пятой формы» (в терминологии К. Тарановского —
«седьмой фигуры») четырехстопного ямба и заключает: «Более свободное
употребление пятой формы в современной русской поэзии, по-видимому,
начато Пастернаком. В „Высокой болезни":
И по водопроводной сети...
За железнодорожный корпус,
Под железнодорожный мост...
Здесь во всех трех стихах побочное ударение на третьем, а не на втором или
четвертом слоге! Много примеров форм с безударными первой и второй
стопой в пятистопном ямбе в „Спекторском"»1.
Нельзя не заметить, что здесь выбор малоупотребительной (К. Таранов-
ский отмечал, что в русской поэзии XVIII—XIX вв. эта форма практически
не встречается)2 ритмической фигуры компенсирует подчеркнутую
обыденность речи. Но одновременно лексическая обыденность, «антипоэтичность»
фразеологизмов «водопроводная сеть» и «железнодорожный корпус» в поэзии
не обыденна, а экзотична, и редкая (поэтому — неожиданная) ритмическая
фигура под влиянием лексики также получает значение «антипоэтизма»,
передачи средствами стиха прозаической структуры речи.
1 Иванов В. В. Ритмическое строение «Баллады о цирке» Межирова // Poetics.
Poetyka. Поэтика. И. С. 280.
2 Тарановский К. Руски дводелни ритмови. I—II. С. 86.
6. Элементы и уровни парадигматики художественного текста 159
Однако ритмические варианты стихов могут в сознании поэта получать
определенные самостоятельные эмоциональные характеристики, независимые
от лексической «наполненности» стиха и создающие дополнительные
семантические возможности. Это подтверждается наблюдаемым в черновых
рукописях поэтов фактом полного изменения всей лексики стиха при сохранении
в ряде случаев ритмической (порой очень редкой) фигуры.
Грамматические повторы в поэтическом тексте
Грамматическая структура текста, подобно фонологической и другим
рассмотренным выше упорядоченностям, выполняет в поэтическом
произведении дополнительные функции, решительно не свойственные ей вне
литературы. Поэт, как правило, не может изменять норм грамматической
организации текста. Однако из этого не следует еще, что грамматическая структура
нейтральна в своей художественной функции1.
С одной стороны, с точки зрения слушателя, тут срабатывает презумпция
полной художественной значимости текста. Слушатель склонен считать все
элементы произведения искусства результатом умышленных действий поэта,
поскольку знает о присутствии в них некоторого умысла, но не знает еще,
в чем этот умысел состоит.
С другой — с точки зрения автора, в силу языковой избыточности, всегда
имеется возможность определенного выбора между теми или иными формами
грамматического выражения для адекватного семантического содержания.
Значение грамматических повторов двояко. Во-первых, возникает
ощутимая дополнительная организованность текста, который оказывается
пронизанным эквивалентными или антитетичными грамматическими позициями.
Как ясно показал Р. О. Якобсон, изучение художественной функции
грамматических категорий равнозначно в определенных отношениях игре
геометрических структур в пространственных видах искусства. Если представление
о том, что эстетическое в тексте монопольно закреплено за «образами»,
заставляет полагать, что лишь незначительный слой произведения является
художественно организованным, то раскрытие эстетической функции
грамматической структуры позволяет увидеть всю толщу текста как эстетически
активную. Грамматические повторы, подобно фонологическим, сближают
разнородные в неорганизованном художественном тексте лексические
единицы в сопротивопоставленные группы, распределяя их по колонкам синонимов
или антонимов.
Во-вторых, грамматические повторы выводят определенные
грамматические элементы текста из состояния языковой автоматизации: они начинают
1 О художественной функции грамматической структуры текста наиболее подробно
см.: Якобсон Р. О. Грамматика поэзии и поэзия грамматики // Poetics. Poetyka.
Поэтика. I. Ср.: Linguistics and Poetics // Stil and Language. New York, 1960.
160
СТРУКТУРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
привлекать внимание. А поскольку все заметное в художественном тексте
неизбежно воспринимается как осмысленное, несущее определенную
семантическую нагрузку, то и выделенные грамматические элементы с
неизбежностью семантизируются. Приписываемая им семантика может нести
информацию об определенных отношениях, близких к реляционным связям
грамматики. Так, система глагольных времен часто организует темпоральную
сторону художественной картины мира, категории числа включаются в
оппозиции типов «единичное, уникальное — множественное» и т. п. В этом
случае между грамматической структурой текста и ее семантической
интерпретацией складывается система безусловных связей иконического типа.
Однако нередко имеет место и другой случай: грамматическая структура задает
отношение между сегментами текста, а интерпретация этих отношений
определяется ее соотнесенностью с другими подклассами общей художественной
системы и ее организацией в целом.
Проиллюстрируем это положение одним примером: рассмотрим
глагольные формы, встречающиеся в тексте стихотворения В. А. Жуковского на
смерть Пушкина.
<А. С. Пушкин>
1. Он лежал без движенья, как будто по тяжкой работе
2. Руки свои опустив. Голову тихо склоня,
3. Долго стоял я над ним, один, смотря со вниманьем
4. Мертвому прямо в глаза; были закрыты глаза,
5. Было лицо его мне так знакомо, и было заметно,
6. Что выражалось на нем, — в жизни такого
7. Мы не видали на этом лице. Не горел вдохновенья
8. Пламень на нем; не сиял острый ум;
9. Нет! Но какою-то мыслью, глубокой, высокою мыслью
10. Было объято оно: мнилося мне, что ему
11. В этот миг предстояло как будто какое виденье,
12. Что-то сбывалось над ним, и спросить мне хотелось:
что видишь?
Построение глагольных форм в этом тексте отличается такой
последовательностью, что предположить случайность здесь невозможно. Глагольные
противопоставления проведены по двум линиям: «личные формы — безличные
формы». Так, стихи 1—2 являются двумя отчетливо параллельными
конструкциями личного и активного характера:
Он лежал — опустив руки.
Я стоял — склоня голову.
Они вводят два субъектно-объектных центра текста («он — я») в их сопро-
тивопоставлении (параллелизм грамматических форм выделяет семантическое
различие характеристик «лежал — стоял»). Стихи 3—4 дают
противопоставление: антитеза «я — он» получает параллель в оппозиции «актив — пассив»:
«Я»
стоял, смотря в глаза —
6. Элементы и уровни парадигматики художественного текста
161
«Он»
были закрыты глаза.
Стихи 5—6 дают пассив для обоих семантических центров, противостоя
стихам 1—3.
«Мы не видали» в стихе 7 открывает новую группу глагольных форм (в
7—10). С одной стороны, активная форма глагола дана с отрицанием «не»,
а с другой — замена «я» на «мы» придает категории лица оттенок
обобщенности, выступая в данном контексте как среднее между личными и
безличными конструкциями. Стихи 7—10 дают антитезу:
не горел
не сиял
было объято
Противопоставление осуществляется по линии «актив — пассив». Но это
противопоставление имеет иной характер, чем в начале стихотворения,
благодаря тому, что действие в левом члене оппозиции дано с отрицанием как
нереальное. Активу приписывается качество нереализованное™, а пассиву —
реализованное™. Стихи 10—12 начинают новый отрезок, построенный на
нагнетании безличных форм глагола: «мнилося мне» — «предстояло ему». В
паре «Что-то сбывалось над ним» — «спросить мне хотелось» левый член
формально не является безличным. Однако Жуковский воспринимал
пассивную форму (в сочетании с неопределенным местоимением «что-то») как
адекватную безличной, что отчетливо видно из всей конструкции этой части
текста.
Заключительное «что видишь?» снова возвращает нас к активным и
личным глагольным формам начала стихотворения, но с заменой оппозиции
«я — он» на «я — ты» и повествовательной интонации на вопросительную.
Таким образом, мы получаем некоторое совершенно бесспорное членение
текста на сегменты, различно организованные в отношении глагольных групп.
Какая же грамматическая семантика активизируется подобным членением?
Вначале субъект и объект поэтического мира («я — он») наделены признаками
личными и активными, затем личными и пассивными и, наконец, безличными.
Конечно, в общеязыковом употреблении, в котором использование тех
или иных глагольных категорий упорядочено относительно грамматики и не
упорядочено (или не обязательно упорядочено) относительно семантики (одну
и ту же систему значений можно передать в пределах одного или нескольких
языков различными способами), те же глагольные категории могли бы
восприниматься как полностью формальные. Так, в предложении: «Было принято
решение действовать энергично» — пассивная конструкция не создает
значения пассивности. Иное дело в поэтическом тексте. Но и здесь мы имеем
дело со вторичным явлением — семантизацией формальной структуры. Се-
мантизация эта (ср. аналогичные факты так называемой народной
этимологии) может идти путями более общими, «естественными» для всего коллектива,
пользующегося данным языком. Таково осмысление признаков
грамматического рода как пола, актива — пассива как активности — пассивности и т. д.
Однако в подобном вторичном осмыслении всегда присутствует и
окказиональный элемент, создаваемый в данном тексте.
162
СТРУКТУРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
Упорядоченность грамматических категорий создает для них презумпцию
осмысленности — мы знаем, что у них есть семантическое значение. Но
каково это значение, мы узнаем лишь из конструкции данного текста. Всегда
остается известный структурный резерв и на чисто индивидуальное
истолкование.
И в разбираемом нами тексте грамматическая упорядоченность
семантизируется двумя способами: за счет «естественной» интерпретации категории
«актив — пассив», «личные формы — безличные формы» и в связи с другими
конструктивными уровнями данного текста.
Большое значение для интерпретации семантики грамматических форм
имеет лексика текста.
1. Он лежал без движенья, как будто по тяжкой работе
2. Руки свои опустив; голову тихо склоня,
3. Долго стоял я над ним...
Грамматическая конструкция дает осмысление этих стихов в
противопоставлении пассивным и безличным построениям. «Я» и «он» выступают здесь
как два субъекта в двух параллельных предложениях. Им приписаны
одинаковые с точки зрения грамматической формы предикаты (личные и активные);
категория глагольного времени в стихотворении не значима, так как весь
текст выдержан в одном прошедшем, за исключением последнего стиха, о
котором речь будет идти особо. Однако переход к анализу на лексическом
уровне позволяет сделать ряд уточнений.
«Он» и «я» не только уравниваются, но и противопоставляются. Прежде
всего, следует отметить своеобразный синтаксический палиндром:
12 3 4
субъект предикат обстоятельство деепричастный
образа действия оборот
он лежал без движенья руки свои опустив
4 3 2 1
голову тихо долго стоял я
склоня
Конструкции, в которые включены «я» и «он», не только подобны, но и
зеркально противоположны. Но еще резче противопоставление на уровне
семантики.
Глаголы «лежал — стоял», единые в грамматической антитезе их второй
и третьей частям стихотворения, семантически антонимичны. Причем ан-
тонимичность эта особого рода: из нее еще не следует с очевидностью, имеем
ли мы дело с противопоставлением только положений и действий этих «я»
и «он» («он лежал, а я стоял» — типа: «Кто кивер чистил весь избитый, кто
штык точил, ворча сердито»), или же «стоял» и «лежал» являются
метонимической заменой другой антитезы: «я был жив — он был мертв».
Противопоставление построено так, что оба эти, весьма различные, понимания
6. Элементы и уровни парадигматики художественного текста 163
могут иметь место. «Он» и «я» выступают как равноправные. То, что их
двое, заставляет предположить равную степень одушевленности (сочетание:
«нас было двое — я и труп» семантически невозможно). Состояние «лежал
без движенья» сопровождается уточнением «как будто по тяжкой работе руки
свои опустив». Все это подчеркивает семантику жизни в глаголе «лежал»,
хотя читатель не только из-за сравнительного с оттенком условности союза,
«как будто», но также из посвящения покойному поэту знает о подлинном
смысле противопоставления. Однако с третьего стиха двузначность резко
снимается:
3. Долго стоял я над ним, один, смотря со вниманьем
4. Мертвому прямо в глаза; были закрыты глаза.
«Он» из второго субъекта, равноправного с «я», превращается в объект,
выраженный местоимением в косвенном падеже: «я стоял над ним». Не
случайно именно в этом месте появляется «один», а «он» превращается (из
«второго») в «мертвого». Эта однонаправленность действия выражена двумя
способами: 1) грамматически — антитезой: «активное действие — пассивное
действие» — «я смотрел в глаза — были закрыты глаза» и 2) лексически:
вместо взаимного отношения «я» и «он» в 1—2 стихах — одностороннее. «Я
смотрел ему в глаза, но его глаза не смотрели на меня»: «были закрыты
глаза».
Далее происходит новое уравнивание «я» и «он», но уже не как
равноправно-активных, а в качестве равноправно-пассивных:
Было лицо его мне так знакомо...
Было заметно, что выражалось на нем...
При этом если в лично-активной грамматической конструкции центром
действия было «я», то в безлично-пассивной «я» становится лишь созерцателем
сопричастного основному действию «его». Стихи 7, 8, 9, 10 дают
грамматическую антитезу: действия, выраженные глаголами в активной форме,
отвергаются (они даны в отрицательной форме) — реально происходящее
выражается пассивным оборотом:
Не горел вдохновенья пламень...
Не сиял острый ум...
«Горел» и «сиял» выступают в определенном плане как синонимы, выделяя
общий семантический признак пламени и света, метафорически
приписываемый «вдохновенью» и «уму», которые понимаются как синонимы. Не разбирая
во всем объеме характера того семантического сдвига, который порождается
этим вторичным синонимизмом, отметим лишь, что под влиянием
грамматической антитезы ум и вдохновение воспринимаются как личностно-активные
качества, блеск и яркость активной индивидуальности. Им противостоит
мысль, которой и грамматическая структура, и семантика пассивной
конструкции «было объято» придают значение сверхличностного,
выражающегося в человеке, но не создаваемого человеком.
Далее следует группа безличных глаголов (или структурно им
приравненных форм), которые охватывают оба центра текста:
164
СТРУКТУРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
«я» «он»
мнилось мне предстояло ему
спросить мне хотелось сбывалось над ним.
«Он» оказывается участником некоторого безличного и сверхличностного
действия, хотя и принимает в нем участие страдательно. Семантика глаголов
заставляет истолковывать эти грамматические конструкции как выражение
акта приобщения.
Заключительное «что видишь?» и грамматически и семантически
возвращает нас к 3—4 стихам. Там «я» смотрит «со вниманьем», а «он» — мертв,
у него «закрыты глаза», и «он» не видит. Здесь «он» («ты») видит нечто,
невидимое для «я».
Однако заключительный стих получает особое значение не только в силу
семантической антитезы (закрытые глаза мертвого видят то, что скрыто от
зрения живого), не только потому, что в силу грамматического
противопоставления пассивное состояние истолковывается как причастность к
подлинному действию, а активное действие — к мнимому. Не меньший смысл
получает противопоставление грамматических времен: все стихотворение
написано в прошедшем, а заключительное полустишие — в настоящем времени.
В контексте стихотворения эта организация семантизируется как антитеза
реального времени (в прошедшее включены и «я» и «он») некоторому
«невремени» (в настоящее включен, приобщен ему только «он — ты»).
Так раскрытие сложной картины отношения жизни и смерти, «я» и «не-я»
в стихотворении Жуковского в значительной мере дается через глагольную
структуру текста.
Грамматические категории, как указал Р. О. Якобсон, выражают в поэзии
реляционные значения. Именно они в значительной степени создают модель
поэтического видения мира, структуру субъектно-объектных отношений.
Ясно, сколь ошибочно сводить специфику поэзии к «образности», отбрасывая
то, из чего поэт конструирует свою модель мира.
Реляционные отношения выражаются всеми грамматическими классами.
Весьма существенны, например, союзы:
В тревоге пестрой и бесплодной
Большого света и двора...
Рядом, в форме подчеркнутого параллелизма, поставлены два союза «и», две
как будто тождественные грамматические конструкции. Однако они не
тождественны, а параллельны, и сопоставление их лишь подчеркивает различие.
Во втором случае «и» соединяет настолько равные члены, что даже теряет
характер средства соединения. Выражение «большой свет и двор» сливается
в одно фразеологическое целое, отдельные компоненты которого утрачивают
самостоятельность. В первом случае союз «и» соединяет не только
разнородные, но и разноплановые понятия. Утверждая их параллельность, он
способствует выделению в их значениях некоего общего семантического пятна —
архисемы, а понятия эти, в свою очередь, поскольку явно ощущается разница
между архисемой и каждым из них в отдельности, бросают на семантику
союза отсвет противительного значения. Это значение отношения между
6. Элементы и уровни парадигматики художественного текста 165
понятиями «пестрый» и «бесплодный» могло бы пройти неощутимым, если
бы первое «и» не было параллельно второму, в котором этот оттенок начисто
отсутствует и, следовательно, выделяется в акте сопоставления.
Примеры того, что грамматические элементы приобретают в поэзии
особый смысл, можно было бы привести для всех грамматических классов.
Таким образом, система грамматических отношений составляет важный
уровень поэтической структуры. Вместе с тем она органически связана со
всей конструкцией текста и не может быть понята вне ее.
Структурные свойства стиха
на лексико-семантическом уровне
При всей важности каждого из выделяемых в художественном тексте
уровней для построения целостной структуры произведения основной
единицей словесного художественного построения остается слово. Все структурные
слои ниже слова (организация на уровне частей слова) и выше слова
(организация на уровне цепочек слов) получают значение лишь в отношении к
уровню, образуемому словами естественного языка. Нарушение этого
принципа в заумных текстах, равно как и необходимость «пустых слов» — единиц,
заполняемых семантикой ad hoc, не опровергает этого основного положения,
а, наоборот, подтверждает его, так же как явления афазии не опровергают,
а подтверждают структурность языка.
Как известно, определение слова вызывает у лингвистов большие
затруднения. Однако это не может заставить нас отказаться от какого-либо рабочего
определения элементов этого основного уровня текста — верхней границы
всех единиц парадигматической оси и нижней — синтагматической.
То, что лингвистическая наука затрудняется в определении слова, нас не
должно обескураживать, поскольку параллельно с этим существует и другое:
всякий, пользующийся языком, убежден, что он знает, что такое слово. Если
определять слово по признакам, проявляющимся внутри связанного с ним
структурного уровня, то оно выступит как низшая единица синтагматического
(композиционного) уровня. Если за основу брать отношение его к другим
уровням, то тут вперед выдвинется семантическая нерасчлененность.
Для того чтобы понять это, сопоставим словесный текст с несловесным —
картиной или балетом — и постараемся найти некий общий структурный
инвариант, который манифестировался бы в литературном тексте словом, а
в нелитературном — ощутимыми его коррелятами. Ясно, что в балетной
сцене мы сможем говорить о композиции, имея в виду соотношение фигур
и поз (мы легко выделим «имена», их действия и предикаты), но отношение
величины руки к величине ноги танцора уже не будет являться элементом
композиции (синтагматики) в силу нерасчленимости человеческого тела.
Нечто подобное можно сказать и о живописи: пока расчленение предмета
на аспекты и плоскости не входило в арсенал возможностей художника,
166
СТРУКТУРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
композиция включала размещение изображений предметов как некоторых
нерасчленимых сущностей.
Однако вычленение этого элементарного уровня композиционной
структуры — не конец, а начало выяснения понятия слова в искусстве. Как мы
видели, в силу постоянной для искусства игры уровней ни один из них не
имеет абсолютного, всегда наперед заданного и отдельного существования,
а непрерывно, оставаясь собой, перекодируется в единицы других уровней.
Это приводит к тому, что слово, оставаясь словом, имеет тенденцию быть
равным более мелким единицам (быть частью самого себя — каждая часть
слова стремится получить самостоятельность, стать нерасчлененной единицей
композиционного целого). Но одновременно слово стремится распространить
свои границы, превратить весь текст в одно нерасчленимое целое — одно
слово.
Одновременное функционирование всех этих структурных типов
разграничения текста (основные семантические границы то переносятся внутрь
слова, то выносятся к пределам текста) и создает то богатство семантической
игры, которое присуще произведениям искусства.
Стихотворная форма родилась из стремления поставить различные по
значению слова в максимально эквивалентное положение. Используя все
виды эквивалентности: ритмической, фонологической, грамматической,
синтаксической, — поэтическая структура подготавливает восприятие текста как
построенного по закону взаимной эквивалентности частей даже в том случае,
когда это не выражено ярко в наличной структуре (доминирует
«минус-структура»).
Поэтому в поэтическом тексте, по сути дела, невозможно выделить слово
как отдельную семантическую единицу. Каждая отдельная в нехудожественном
языке семантическая единица в поэтическом языке выступает лишь как
функтив сложной семантической функции.
«Связанность» слова в поэтическом тексте выражается в том, что слово
оказывается соотнесенным с другими словами, поставленным в параллельное
положение к ним. Если контекстные связи естественного языка определяются
механизмом грамматического соединения слов в синтагмы, то основным
механизмом поэтического языка будет параллелизм1. Разные слова
оказываются в положении эквивалентности, благодаря чему между ними возникает
сложная семантическая соотнесенность, выделение общего семантического
ядра (в обычном языке не выраженного) и контрастной пары
дифференцирующих семантических признаков.
Гляжу на будущность с боязнью,
Гляжу на прошлое с тоской
И, как преступник перед казнью,
Ищу кругом души родной...
(М. Ю. Лермонтов)
1 Сказанное не отменяет, разумеется, значимости для поэзии и общеязыковых
принципов возникновения контекстных связей.
6. Элементы и уровни парадигматики художественного текста 167
В приведенном примере мы легко обнаруживаем, что слова, составляющие
эти четыре стиха, оказываются во многих отношениях парно параллельными.
Общий параллелизм первых двух стихов, опирающийся на анафорический
повтор тождественного элемента ритмической и синтаксической конструкции
(«гляжу на»), выделяет две лексические пары: «будущность — прошлое» и
«с боязнью — с тоской». Природа этих оппозиций различна: «будущность»
и «прошлое» — антонимы, и их внутритекстовые значения близки к
общеязыковым; «боязнь» и «тоска» не образуют в нехудожественном языке
лексической пары и скорее близки, чем отличны по своей внетекстовой семантике.
Таким образом, акт параллелизма имеет здесь различный смысл. В паре
«будущность — прошлое» он, в основном, выделяет общее в
противоположном («будущность» и «прошлое» противоположны, но, вызывая у поэта одно
и то же отношение — «боязнь», «тоска» — выступают как тождественные).
В паре «боязнь» — «тоска» отдельные значения становятся
оппозиционно-соотнесенными и в близком выделяется различное.
В первом стихе намечены и другие группировки:
Гляжу на будущность на будущность с боязнью
Сходные отношения, устанавливающиеся и между словами второго стиха,
воспринимаются слушателем как семантические. Звуковой повтор здесь,
однако, недостаточно резко подчеркнут, и следовательно, смысловые отношения
между этими словами выражены менее резко, чем, скажем, у Маяковского в
сочетании: «Стиснул торс толп», где ярко выделены две пары («стиснул торс»
и «торс толп») с отчетливо выраженным, общим для каждой группы
семантическим ядром. Вместе с тем здесь подчеркнуто и фонетическое несовпадение:
тис — торс, свидетельствующее, что в данном случае имеет место смысловое
сближение, а не тождество. Любопытно, что звуковое отличие в парах
«стиснул торс» и «торс толп» резче выделено, чем в гораздо менее, казалось
бы, сближенном «гляжу на будущность». Таким образом, возникает
необходимость не только констатировать наличие связи, но и ввести понятие ее
интенсивности, которое будет характеризовать степень связанности элемента
в структуре. Мы полагаем, что степень интенсивности поэтических связей
слов относительно измерима. Для этого необходимо будет составить матрицу
признаков параллелизма и учитывать количество реализованных связей. (Для
упрощения вопроса, видимо, в первом приближении придется отвлечься от
проблемы внетекстовых связей.)
Возвращаясь к отрывку лермонтовского текста, отметим, что если
анафорическая симметрия первых двух стихов подсказывает мысль об их
параллелизме, то их явная ритмическая неэквивалентность и, напротив,
эквивалентность первого и второго стихов становится признаком
противопоставления.
Ритмическая эквивалентность подсказывает смысловой параллелизм
первого и третьего стихов. Это подкрепляется наличием в них рифмующейся
пары «боязнью — казнью», где основой для сравнения оказывается
грамматический элемент (флексия), однако и корневая часть — главный носитель
семантики — не полностью противопоставлена. Повторяемость фонем основы
168
СТРУКТУРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
(«азн») и явная семантическая близость дают основание для возникновения
внутритекстовой смысловой взаимозависимости рифмующихся слов.
В третьем стихе можно обнаружить еще одно сложное семантическое
построение. Логически эта строка построена как сравнение: «я как
преступник». Однако образ поэта, составляющий идейный центр стихотворения, не
назван в тексте. Отсутствует даже личное местоимение «я». Грамматическим
носителем идеи субъекта здесь является лишь флексия первого лица
единственного числа — «у» («гляжу»). Семантическая нагруженность фонемы «у»,
ее роль в цитированном четверостишии, определена именно грамматической
функцией как роль носителя идеи субъекта. Любопытно, что в продолжении
текста, одновременно с появлением личного местоимения «я», фонема «у»
почти исчезает. В отождествлении же «я как преступник» в пределах третьего
стиха субъект не назван, но подчеркнутое ударное «у» в слове «преступник»
воспринимается как слияние с субъектом. Иной характер соотношений — в
четвертом стихе, в паре «ищу — души» («души» фразеологически связано с
«родной», которая, в свою очередь, образует пару «родной — с тоской»).
«Ищу — души» дает перевернутый параллелизм — фонологический
палиндром (типа цветаевского: «Ад? — Да»). Между «ищу» и «души» синтаксически
установлены субъектно-объектные отношения, как будто разделяющие их, но
фонологический параллелизм раскрывает ту систему взаимоотношений,
которая поясняется эпитетом «родная», объединяющим оба синтаксических
центра фразы (субъект и объект «родные»). Параллелизм, отличный и от
тождества и от состояния несопоставимости, раскрывает сложную диалектику
отношений поэтического «я» и «души родной». На анализе дальнейшего
текста можно было бы показать сложную соотнесенность его
структурно-семантических планов — поэтического субъекта, враждебного ему мира Бога,
которому он бросает упрек, и готовности к «жизни иной», — важной для
Лермонтова ноты социального утопизма.
Разумеется, подобная «связанность» слов художественного текста не есть
некая абсолютная величина. Характерное для восприятия текста как
поэтического возникновение презумпции связанности делает и «минус-связанность»
(несвязанность) структурно-активным элементом. Вместе с тем текст
существует на фоне многочисленных внетекстовых связей (например, эстетического
задания). Поэтому структурная простота (низкая связанность) может
выступать на фоне сложной структуры внетекстовых отношений, приобретая в
этой связи особую смысловую наполненность (такова типологически поэзия
зрелого Пушкина, Некрасова, Твардовского). Только при отсутствии сложных
внетекстовых связей ослабление структурных отношений внутри текста
превращается в признак примитивности, а не простоты.
Таким образом, установление всеобщих соотнесений слов в поэтическом
тексте лишает их самостоятельности, присущей им в общеязыковом тексте.
Все произведение становится знаком единого содержания. Это проницательно
почувствовал А. Потебня, высказавший (в свое время показавшееся
парадоксальным, но на самом деле чрезвычайно глубокое) мнение о том, что весь
текст художественного произведения является, по существу, одним словом.
6. Элементы и уровни парадигматики художественного текста 169
Однако, несмотря на справедливость всего сказанного, в целостной
структуре художественного текста именно уровень лексики является тем основным
горизонтом, на котором строится все здание его семантики. Превращение
слова в поэтическом тексте из единицы структуры в ее элемент не может
уничтожить общеязыкового его восприятия как основной единицы
соотнесения обозначаемого и обозначающего. Более того: многочисленные отношения
параллелизма между словами в поэтическом тексте не только подчеркивают
общее между ними, но и выделяют семантическую специфику каждого. Отсюда
вытекает, что связанность слов в поэтическом тексте приводит не к стиранию,
а к выделению их семантической «отдельности». Мы уже говорили о том,
что ритмическая сегментация стиха приводит не к стиранию, а к обострению
чувства границы слова. Приобретает значение и вся грамматическая сторона
слова, которая вне искусства в силу автоматизма речи стирается в сознании
говорящего. Эта гораздо большая, чем в нехудожественной речи,
«отдельность» поэтического слова особенно проявляется в служебных словах,
имеющих в естественном языке чисто грамматическое значение. Стоит поставить
в поэтическом тексте местоимение, предлог, союз или частицу в позицию, в
которой она, благодаря метрическим стиховым паузам, приобрела бы
«отдельность», свойственную в обычном языке значимому слову, как сейчас же
у нее образуется добавочное уже лексическое значение, в ином тексте ей
несвойственное:
...\\пъеще
Москвич в Гарольдовом плаще
{Л. С. Пушкин)
Вот,
хотите,
из правого глаза
выну
целую цветущую рощу?!
(В. В. Маяковский)
Ложи, в слезы! В набат, ярус!
Срок, исполнься! Герой, будь!
Ходит занавес — как — парус,
Ходит занавес — как — грудь.
(М. И. Цветаева)
Показательно, что стоит изменить ритмическую структуру последнего текста
(берем два заключительных стиха):
иииии
иии"
на более обычную (для двух последних стихов это возможно):
Ходит занавес как парус,
Ходит занавес как грудь
иииии
ииии
170
СТРУКТУРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
и, таким образом, убрать стоящее на «как» ударение и паузу после него,
чтобы необычная его смысловая многозначительность исчезла. Высокая се-
мантичность этого «как» объясняется, в частности, тем, что оба метрических
рисунка, на которые может быть наложен текст, коррелируют, образуя
определенного рода оппозицию.
Итак, семантика слов естественного языка оказывается для языка
художественного текста лишь сырым материалом. Втягиваясь в сверхъязыковые
структуры, лексические единицы оказываются в положении своеобразных
местоимений, получающих значение от соотношения со всей вторичной
системой семантических значений. Слова, которые в системе естественного языка
взаимно изолированы, попадая в структурно эквивалентные позиции,
оказываются функционально синонимами или антонимами друг другу. Это
раскрывает в них такие семантические дифференциаторы, которые не
обнаруживаются в их смысловой структуре в системе естественного языка. Однако
эта способность превращать разные слова в синонимы, а одно и то же слово
в разных структурных положениях — в семантически неравное самому себе
не отменяет того, что художественный текст остается текстом и на
естественном языке. Именно это его двойное существование, напряженность между
этими двумя семантическими системами, определяет богатство поэтических
значений.
Рассмотрим стихотворение М. Цветаевой для того, чтобы проследить,
как структурные повторы членят текст на взаимоэквивалентные семантические
сегменты, а эти последние вступают между собой в сложные вторичные
отношения. Выбор текста именно М. Цветаевой не случаен. Подобно
Лермонтову, она принадлежит к поэтам с обнаженно четкой расчлененностью
текста на эквивалентные куски.
Для демонстрации семантической парадигматики поэтического текста
стихи ее столь же удобны, как произведения Маяковского и Пастернака —
для семантической синтактики.
О слезы на глазах!
Плач гнева и любви!
О Чехия в слезах!
Испания в крови!
О черная гора,
Затмившая — весь свет!
Пора — пора — пора
Творцу вернуть билет.
Отказываюсь — быть.
В бедламе нелюдей
Отказываюсь — жить.
С волками площадей
Отказываюсь — выть.
С акулами равнин
Отказываюсь — плыть —
Вниз — по теченью спин.
6. Элементы и уровни парадигматики художественного текста
171
Не надо мне ни дыр
Ушных, ни вещих глаз.
На твой безумный мир
Ответ один — отказ.
75 марта — 11 мая 1939
Все четыре стиха первой строфы отчетливо уравнены и одинаковой
интонацией, и синтаксическим и семантическим параллелизмом. Первый стих:
О слезы на глазах!
Упоминаемые здесь «слезы» пока еще не имеют для читателя никакой иной
семантики, кроме общесловарной. Однако в тексте стихотворения это
общесловарное значение — лишь местоимение, замена, указание на то
специфическое вторичное значение, которое строится семантической структурой
текста.
«Гнев» и «любовь» в общесловарном значении антонимы, но здесь они
структурно уравнены (синтаксически и интонационно)1. Одновременное
функционирование антитезы на уровне общеязыковой семантики и синонимии на
уровне поэтической структуры делает активными и те признаки, которые
объединяют эти два слова в архисему, и те, которые противопоставляют их
как полярные. Противопоставление этих понятий заставляет воспринимать
«гнев» как «антилюбовь», а «любовь» как «антигнев», уравнивание —
раскрывает в них единое содержание: «сильная страсть».
Архисема
Сематические
единицы
В сочетании с такой семантической группой «плач» не воспринимается
как выражение пассивной эмоции: грусти, бессилия. Он не противоположен
деятельности. В этом смысле между первым стихом с его еще общесловарным
значением слова «слезы» и вторым неизбежно возникает семантическое
напряжение, которое усложняется соотнесенностью с двумя последними стихами.
сильная
страсть
гнев
любовь
1 Ср. у Тютчева другой тип синонимичного уравнивания:
Но кто в избытке ощущений,
Когда кипит и стынет кровь,
Не ведал ваших искушений —
Самоубийство и Любовь!
«Кипит и стынет», «Самоубийство и Любовь» попарно уравнены, что только
активизирует разницу, превращая отличие в противопоставление. Сопоставление
тютчевской и цветаевской конструкций убеждает, что одно и то же слово («любовь»)
наполняется различной семантикой в зависимости от предписанного ему
синонимического ряда.
172
СТРУКТУРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
«Чехия» и «Испания» синонимичны как два героических символа
антифашистской борьбы (сходство и разница судеб Испании и Чехословакии в
1939 г. были настолько злободневной темой, что простое упоминание их
рядом сразу же обнажало целую систему семантических сопротивопоставле-
ний. Одновременно возникала цепь антитез — от кровавого удушения
свободы до «украденной битвы», включая и географическую
противопоставленность).
Роль географических названий в поэтическом тексте — особая тема.
Интересно в этом смысле высказывание Хемингуэя об отношении к
географическим терминам во время первой мировой войны: «Было много таких
слов, которые уже противно было слушать, и в конце концов только названия
мест сохранили достоинство. Некоторые номера тоже сохранили его, и
некоторые даты, и только их и названия мест можно было еще произносить
с каким-то значением. Абстрактные слова, такие, как „слава, подвиг, доблесть"
или „святыня", были непристойны рядом с конкретными названиями деревень,
номерами дорог, названиями рек, номерами полков и датами»1. Функция
таких географических названий, как «высота с отметкой 101» или «высота
Безымянная», в речи военного времени соприкасается не только с термином
научного языка, но и с окказиональным словом в поэзии. Это слово, лишенное
внеконтекстного значения и получающее его от данной ситуации. Такое слово
может сделаться «главным словом» ситуации и мгновенно потерять всякое
значение.
С другой стороны, соположение географически далеких имен в тексте
производит тот же эффект, что и «сопряжение далековатых идей»:
От потрясенного Кремля
До стен недвижного Китая...
(А. С. Пушкин)
В этой цитате — не только антиномия «потрясенный — недвижный», но и
пространственное противопоставление «очень близкий, свой» — «очень
далекий, чужой». Эффект уравнивания крайних точек пространства однотипен
риторическому уравниванию далеких понятий. Это делает географию в поэзии
(особенно сопоставление географически отдаленных пунктов) чаще всего
признаком высокого стиля. Показательно, что Вяземский,
охарактеризовавший стиль пушкинского «Клеветникам России» как «географическую
фанфаронаду», увидал в ней не только политический, но и поэтический анахронизм,
образец одического стиля XVIII в.
Смысл сближения географически далеких понятий как своеобразной
метафоры имеет и противопоставление «Испании» и «Чехии» в стихах
Цветаевой. Одновременно возникает оппозиция: «кровь — слезы» (слезы и кровь
не только противопоставлены, но и уравнены).
«Чехия — слезы»
«Испания — кровь»
1 Хемингуэй Э. Избр. произведения: В 2 т. М., 1959. Т. 1. С. 311.
6. Элементы и уровни парадигматики художественного текста
173
Первые два стиха и третий — четвертый взаимно сопротивопоставлены (это
подчеркнуто параллелизмом анафорического «о»). Первые два говорят о
поэте, последние — об окружающем его мире. И с этим миром — миром
жертв — поэта связывает единство чувств.
Вторая строфа параллельна первой по структурной схеме «поэт — мир»1.
Однако решение здесь совершенно иное. Если в уравнивании Испании и
Чехии подчеркивается не конкретно-географическое, а
политико-символическое содержание, то в антитезе:
Чехия
Испания
весь свет
левый член выступает как географически конкретный, а правый — как
предельно обобщенный, причем обобщенность эта — пространственная
(свет = мир). Зато в оппозиции:
черная
затмившая
свет
он уже раскрывается, как несущий световую семантику2. Антитеза «гора,
затмившая — свет» придает «свету» новый семантический признак —
включает его в некоторую пространственную ограниченность, за пределами
которой — «не свет», типа «не весь в окошке белый свет» (Твардовский). Кроме
того, этот стих вводит некоторую характеристику поэтического субъекта, его
пространственной точки зрения: черпая гора находится между поэтом и светом
(световой признак) и черная гора находится между поэтом и всем светом
(пространственный признак).
Фонологическое сближение гора — пора включает семантику «горы» в
совершенно не свойственный ей ряд временных явлений и придает
«затмившей» горе (в сочетании с семантизацией приставки «за») признак действия,
развивающегося во времени и пространстве, — паползапия.
Троекратное повторение «пора» при полном словарном лексико-семан-
тическом совпадении слов раскрывает единственный дифференциатор —
интонацию. А зафиксированная таким образом интонация позволяет включать
в значение слова не присущий ему в естественном языке модальный признак
категоричности, энергии утверждения, который не только введен, но и
количественно градуирован по восходящей линии.
Творцу вернуть билет.
Стих представляет собой двойную цитату, и семантика его раскрывается из
внетекстовых связей. В первую очередь, Цветаева, конечно, имеет в виду
1 Едва возникший автоматизм этого членения сразу же коррегируется перестановкой:
первые два стиха — о мире, последние — о поэте.
2 Ср. оживление семантической оппозиции «свет — тьма» во фразеологизме «белый
свет» у Пастернака:
Я больше всех удач и бед
За то тебя любил,
Что пожелтелый белый свет
С тобой — белей белил.
174
СТРУКТУРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
слова Ивана Карамазова: «Да и слишком дорого оценили гармонию, не по
карману нашему вовсе столько платить за вход. А потому свой билет на
вход спешу возвратить обратно. <...> Не Бога я не принимаю, Алеша, а
только билет Ему почтительнейше возвращаю»1.
Но слова Ивана Карамазова — вольная переделка знаменитого места из
письма Белинского к Боткину от 1 марта 1841 г.: «Благодарю покорно, Егор
Федорович, — кланяюсь вашему философскому колпаку; но со всем
подобающим вашему философскому филистерству уважением честь имею донести
вам, что если бы мне и удалось влезть на верхнюю ступень лестницы
развития, — я и там попросил бы вас отдать мне отчет во всех жертвах
условий жизни и истории, во всех жертвах случайностей, суеверия,
инквизиции, Филиппа II и пр., и пр.: иначе я с верхней ступени бросаюсь вниз
головою»2.
Сопоставление стиха Цветаевой с ее источниками убеждает нас не только
в совпадении, но м в знаменательном расхождении мысли.
Следующие две строфы, связанные единством значений, анафорическим
началом «отказываюсь» и параллелизмом синтаксических структур,
построены как трансформации первого — и центрального — стиха:
Отказываюсь — быть.
И лексическое, и грамматическое (инфинитив) значение слова «быть»
подчеркивает признак универсальности. Слово «быть» в своей семантической
обобщенности и всеобщности становится почти местоимением: оно заменяет
все глаголы существования и деятельности. Антитеза первого лица
«отказываюсь» и инфинитива «быть» дает наиболее общую формулу отношения «я
и мир»3.
Однако это не просто отказ от мира, а отказ от мира, в котором
торжествует фашизм. Поэтому «быть», оставаясь обобщенно-философским,
развертывается во все более конкретную и распространенную цепь значений
отказываюсь — быть:
В Бедламе нелюдей — жить
С волками площадей — выть
С акулами равнин — плыть —
Вниз — по теченью спин.
Вся эта цепь синонимов (вертикальный столбец) раскрывает общность и
специфику смысловых ступеней. «Бедлам» — мир сумасшедший и нечелове-
1 Достоевский Ф. М. Собр. соч.: В 10 т. М., 1958. Т. 9. С. 308.
2 Белинский В. Г. Поли. собр. соч. М., 1956. Т. 12. С. 22—23. Длительное знакомство
М. Цветаевой в Праге с Е. Ляцким, издателем и комментатором писем Белинского,
на которое мне любезно указал Г. Г. Суперфин, делает вполне вероятным
предположение о знакомстве ее с этой цитатой. Он же обратил мое внимание на цитату: «The
poem paraphrases the famous Schiller — Dostoevskij formula» (Karlinsky S. Marina
Cvetaeva: Her Life and Art. Los Angeles, 1966. P. 98).
3 Безусловно значимо нетекстовое отношение к гамлетовскому вопросу: «Быть или
не быть?»
6. Элементы и уровни парадигматики художественного текста 175
ческий, а отказ «жить» в нем — простая невозможность существовать в этом
мире.
Следующий синонимический ряд дает гораздо более конкретную в
социальном смысле характеристику окружения действия. «Волки площадей» —
сочетание этих лексических единиц активизирует признаки хищности и улицы.
Но глагольный инфинитив находится уже в ином отношении к этой группе
(ср. внетекстовое «с волками жить — по-волчьи выть») — это не простое
соприсутствие, а соучастие. Теперь «быть» уже означает уподобляться волкам.
«Быть» последовательно уравнивается с «жить в Бедламе нелюдей»
(выделяется признак пассивного сосуществования), «выть с волками площадей»
(выделяется признак совместного действия) и «плыть с акулами равнин» «вниз
по теченью спин» (выделяется признак повиновения). При этом происходит
последовательное распространение характеристики места и обстоятельств
действия. В первом случае она выражена пустой клеткой — «быть» не имеет
относящихся к нему слов, затем следуют обстоятельственные группы по два
слова (не считая предлогов) и, наконец, группа в четыре слова.
Эквивалентными оказываются не только глаголы «быть — жить —
выть — плыть», но и обстоятельственные группы: «Бедлам нелюдей — волки
площадей — акулы равнин... вниз по теченью спин». Однако эквивалентность
не только подчеркивает семантическое равенство («нелюди — волки —
акулы» воспринимается как синонимический ряд), но и выделяет различие.
«Бедлам нелюдей» в сопоставлении с «волками площадей» выделяет ряд
семантических дифференциаций:
мир безумный — мир хищный
нелюди — антилюди.
Не случайно в первом случае мы имеем дело с обстоятельством места, а во
втором — образа действия. Вторая группа выделяет семантику злой
активности. Синонимический повтор «волки площадей — акулы равнин» выделяет
новую архисему «хищники городов и сел», а в зримом плане метафоры —
то, что общего у акулы и волка, — зубы (произведенный нами на ряде
семинарских занятий в Тартуском университете опрос: «Как вы зрительно
представляете этот образ?» — в 80 процентах случаев подтвердил
возникновение ассоциации с зубами).
Но далее выделяется дифференцирующая группа: рядом с акулами
появляется «теченье спин», вниз по которому автор отказывается плыть. Если
прежде отказ означал нежелание быть волком среди волков, то тут —
течением, по которому плывут акулы, безликостью (теченье спин), поощряющей
хищную активность. Но поскольку все эти характеристики уравнены с
универсальным «быть», создается модель мира, не дающая никаких иных
возможностей бытия.
Это делает все четыре повтора «отказываюсь — отказываюсь —
отказываюсь — отказываюсь» взаимно неравными. Они отличаются по объему
(количественному и качественному) отказа: первое можно сравнить с
обобщающим словом при перечислении, а остальные — с самим перечислением
(по схеме «все: и то, и то, и то»).
176
СТРУКТУРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
Текст членится и на более крупные сегменты, коснуться которых
необходимо для понимания семантики последнего слова стихотворения — «отказ».
Первые две строфы дают противопоставление «поэт — мир». Но
противопоставление это дано с какой-то третьей, объективной точки зрения,
наблюдающей оба смысловых центра извне. Не случайно старательное
уклонение от личных форм глагола, равно как и наличие вообще безглагольных
односоставных синтаксических структур.
В двух последующих строфах появляется структурно выраженное «я» в
качестве семантического центра текста. Правда, оно дано не в форме личного
местоимения, а глаголом первого лица. Тем самым сохраняется градационный
резерв для еще большей степени выраженности первого лица. Но понять,
что такое «я» этого текста, можно только проследив, что ему
противопоставляется.
В первом отрезке даются в одном ряду относительно точки зрения
повествования «слезы на глазах (субъект) — мир — Творец». Вторые два
построены на противопоставлении «я» — «мир». Творец не упоминается.
Заключительная последняя строфа все сводит к основной антитезе «я —
Творец». Последний полностью отождествлен с миром. Характерно введение
диалогической формы «я — ты». Однако, строя парадигму понятия «я»,
противопоставленного ему «ты», а также структуры их отношений, мы можем
сделать любопытные наблюдения над семантикой этих композиционных
центров текста. Если до сих пор мы наблюдали нарастание выраженности «я» и
противопоставленности его миру, то теперь происходит его расслоение. В
«я» выделяется некоторая сторона, которая связывается с чувством,
материальностью. То, что слух и зрение здесь только метонимия, вытекает из
уравнивания противоположных стилевых характеристик: грубого «дыры
ушные» и высокого «вещие глаза». Конечно, речь идет не о том, что слух
принадлежит к более низкой сфере, чем зрение. Смысл иной: «От высокого
до низкого, от слуха до зрения — все, что во мне служит окном в мир, мне
не нужно». То, что во мне что-то может быть мне не нужно, свидетельствует
о раздвоении этого «я». Одна часть его отождествляется с той парадигмой,
в которую Творец, его безумный мир, мое зрение и слух, сама я как часть
мира входят в качестве манифестирующих форм. Другая — составляет вторую
парадигму, которая определяется негативно, через отказы, как
противопоставление свойствам первой.
Но если материальная природа «я» вводит этот образ в мир Творца, то
и отказ — самоуничтожение — приобретает характер не только
богоборчества, но и богоубийства. Именно это делает анализируемый текст одним из
самых резких осуждений Бога человеком в русской поэзии и придает особую
семантическую весомость заключительному стиху:
Ответ один — отказ.
Аллитерация и изометричность уравнивают все три слова, превращая их как
бы в одно слово с комплексным значением возражения миру и Богу,
единственности (наличие каких-либо иных возможностей исключается) и полной
6. Элементы и уровни парадигматики художественного текста 177
негативности. Индивидуальное проявляется с наибольшей полнотой в
несуществовании.
Как мы имели возможность убедиться, вся сложность антифашистской и
богоборческой мысли Цветаевой реализуется лишь через структуру текста,
и в первую очередь (в данном случае) через систему лексико-семантических
эквивалентностей, образующих сверхъязыковые лексико-семантические
парадигмы.
Стих как мелодическое единство
В стиховедческих исследованиях неоднократно указывалось, что стих —
основная элементарная единица поэтической речи. При этом давно уже было
замечено, что найти четкое определение признаков этой единицы
затруднительно. Характеристика его как некоей ритмической константы противоречит
хорошо известным фактам из истории вольных и свободных размеров.
Широко распространенные в русской басне, комедии, а иногда и поэме
(«Душенька» И. Богдановича) XVIII — начала XIX в. вольные ямбические
размеры решительно уклонялись от деления текста на ритмически константные
(равностопные) единицы:
И сам
Летит трубить свою победу по лесам.
(Я. А. Крылов)
Аналогичные примеры можно привести и из области свободного стиха
XX в. и некоторых других разновидностей поэзии. Наличие или отсутствие
рифмы также не является в этом случае показателем, так как можно привести
многочисленные примеры и белого поэтического текста, не подлежащего
делению на изометрические единицы на уровне стиха (например, цикл
«Nordsee» Гейне). Хорошо известное явление enjambement не дает связать понятие
стиха с синтаксической или интонационной константой. Таким образом,
наличие в стихе определенного изоритмизма, изотоничности и синтаксической
соизмеримости представляет собой скорее определенный обычай,
распространенный весьма широко, чем закон, нарушение которого лишает стих права
именоваться подобным образом.
Перебрав все возможности, исследователь с изумлением обнаруживает,
что чуть ли не единственным безусловным признаком стиха является его
графическая форма. И все же трудно принять этот вывод без внутреннего
сопротивления не только потому, что существует такое в общем нетипичное
для современного бытования поэзии явление, как слуховое ее восприятие вне
какого-либо соотнесения с графическим текстом, но и в силу явно внешнего,
формального характера этого признака.
Сущность явления в другом. Стих — это единица ритмико-синтаксиче-
ского и интонационного членения поэтического текста. Это, казалось бы,
весьма тривиальное и не содержащее ничего нового определение подразуме-
178
СТРУКТУРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
вает, что восприятие отдельного отрезка текста как стиха априорно, оно
должно предшествовать выделению конкретных «признаков» стиха. В
сознании автора и аудитории должно уже существовать, во-первых, представление
о поэзии и, во-вторых, взаимосогласованная система сигналов, заставляющих
и передающего и воспринимающего настроиться на ту форму связи, которая
называется поэзией. В качестве сигналов могут выступать графическая форма
текста, декламационные интонации, ряд признаков, вплоть до позы
говорящего, названия произведения или даже определенная несловесная ситуация
(например, мы пришли на вечер стихов и знаем, что подымающийся на
эстраду человек — поэт).
Таким образом, представление о том, что воспринимаемый нами текст —
поэзия и что, следовательно, он распадается на стихи, — первично, а деление
его на конкретные стихотворные строки — вторично. Именно в силу
презумпции членения поэтического текста на стихи мы начинаем искать в тексте
определенный стиховой изометризм, переживая отсутствие какого-либо из
его признаков как «минус-наличие», не колеблющее самой системы. Так, в
частности, если отрезки текста ощущаются как стихи, то отсутствие
синтаксического изометризма (enjambement) принимается за отклонение от
определенного принципа, то есть за подтверждение самого этого принципа
(совершенно очевидно, что при отсутствии представления о синтаксическом изо-
метризме стихов не может идти речи о художественной значимости
enjambement).
Поэтому облигаторность тех или иных признаков стиха в той или иной
художественной системе оказывается явлением более частным и вторичным
по отношению к презумпции о делении поэтического текста на стихи. При
этом, конечно, следует различать признаки стиха как структурного явления
и сигналы, подаваемые аудитории о поэтической природе текста (например,
графика стиха). Правда, признак стиха может быть вместе с тем и сигналом
подобного рода. Такова, например, особая поэтическая интонация
декламации, которая, являясь для определенных систем поэзии существенным
признаком стиха (интонация свидетельствует о стиховой границе), служит и
сигналом о том, что текст следует воспринимать как поэзию.
На роль интонации первыми в советском стиховедении обратили внимание
Б. М. Эйхенбаум и В. М. Жирмунский в работах о мелодике русского стиха.
При этом Эйхенбаум отказался от рассмотрения интонации и мелодики,
возникающих в результате ритмической конструкции текста, сосредоточив
внимание на интонационной стороне синтаксических фигур. Хотя в статье
«Мелодика стиха» (1921) Б. М. Эйхенбаум говорит, что «мелодизация»,
«особый лирический напев», возникает «на основе ритмико-синтаксического
строя»1, но в своей книге, посвященной этому же вопросу, он не
останавливается на вопросах ритмики и соответственно формулирует свой основной
тезис так: «Я разумею под мелодикой только интонационную систему, то
1 Эйхенбаум Б. Сквозь литературу. Л., 1924. С. 214.
6. Элементы и уровни парадигматики художественного текста 179
есть сочетание определенных интонационных фигур, реализованное в
синтаксисе»1.
Иначе решает вопрос Л. И. Тимофеев, уделяющий интонации особое
внимание и склонный видеть в ней один из решающих элементов стиховой
структуры. Он находит в мелодике эмфатическое, эмоциональное начало,
отличающее, по его убеждению, стихи от прозы2.
Весьма плодотворно решается вопрос в работе Б. В. Томашевского «К
истории русской рифмы». Здесь мы находим стремление связать мелодику с
нормами декламации, а эти последние, в свою очередь, — с общим
историческим движением литературы. Все эти точки зрения нам необходимо учесть,
оценивая роль интонации в стихе.
Прежде всего, вопрос об интонации следует расчленить на два.
Первый: интонационный строй, присущий поэзии вообще и — более узко —
ее отдельным классам (например: все, написанное четырехстопным ямбом,
характеризуется некоей типовой интонацией) и жанрам.
Второй: роль в поэзии интонаций, присущих определенным
синтаксическим структурам (вопрос, рассмотренный Б. М. Эйхенбаумом и несколько
ранее, и в иной плоскости В. М. Жирмунским в книге «Композиция
лирического стихотворения»).
Разберем сначала первый случай в обеих его разновидностях. Как отметил
в свое время с большой тонкостью Б. В. Томашевский, «интонация стиха»
(в таком значении этого термина, дополнительной величиной к которому
будет «интонация нестиха») не есть величина, неизменная на всем протяжении
существования русской поэзии. Она исторична, то есть, входя в связи с
изменениями историко-социальных условий и мировоззренческих структур в
разные оппозиционные пары, получает различный смысл.
Первоначальный этап русской поэзии был связан с синкретизмом слов и
музыки. Речь идет не только об устной народной поэзии, но и о псалмах,
бесспорно входивших в сознание культурного человека русского
средневековья именно как поэзия. Псалмы же жили в художественном сознании
древнерусской литературной аудитории не в сочетании с той особой риторической
интонацией, которая была присуща церковной ораторской прозе, не с той
специфической, нарочито монотонной и вместе с тем резко отличной от
обычной речевой интонацией, которой читались жития, послания и другие
жанры церковной прозы3, а в неразрывном синкретизме с речитативным
распевом; этот распев и заставлял воспринимать псалмы как непрозу. Таким
образом, в момент возникновения русская силлабическая поэзия восприни-
1 Эйхенбаум В. Мелодика русского лирического стиха. Пг., 1922. С. 16. См.
возражения: Жирмунский В. М. Мелодика стиха // Мысль. 1922. № 3, а также в кн.: Вопросы
теории литературы. Л., 1928.
2 См.: Тимофеев Л. И. Очерки теории и истории русского стиха. М., 1958. С. 109—116
и др.
3 Можно с достаточным основанием предполагать, что древняя русская литература,
рассчитанная на чтение, имела для каждого жанра и определенную, лишь ему присущую
меру интонирования.
180
СТРУКТУРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
малась как величина, дополнительная к двум различным понятиям. Это была
не проза, с одной стороны, и не псалтырная поэзия — с другой.
Своеобразный структурный модус порождал и особую декламацию,
которая должна была быть не равна ни интонационной системе «чтений» —
русской средневековой прозы, ни речитативному распеву псалмов (само собой
разумеется, все эти системы входили в одну общую интонационную категорию,
противопоставленную интонациям «обычной» русской речи, что
соответствовало антитезе «словесное искусство — словесное неискусство»). Так возник
особый, резко подчеркнутый в своей декламационности метод чтения стихов,
который был, как отметил Б. В. Томашевский, присущ русскому силлабизму.
Им достигалось прежде всего свойственное стиху как таковому разделение
неделимого — членение слова на части, в смысловом отношении
эквивалентные целому. Происходило это потому, что пауза между слогами внутри слова
была равна по длительности паузе между словами. Другой эффект заключался
в возникновении специфической интонации, которая включала в себя высокую
торжественность, поскольку была перенасыщена ударениями (все слоги
ударные), а внеграмматическое ударение в русском языке воспринимается обычно
как ударение логическое — показатель смысловой значимости. В то же время
этой декламации свойственна была и напевность, необычная для иных стилей
звучащей речи, так как необходимость произносить все слоги как ударные
заставляла протягивать каждый из них. В результате создавалась
произносительная мелодика, имевшая очевидный знаковый смысл — смысл сигнала,
уведомлявшего о принадлежности текста к определенной структурной
категории.
Если рассматривать декламацию, пение (музыкальный мотив или
речитатив + слова) и интонации обычной, нехудожественной речи как два полюса,
то переход к экспираторно-напевной декламации силлабических стихов был
шагом от первого ко второму. Поэтому не следует забывать, что эта
кажущаяся нам верхом искусственности декламация современниками ощущалась
как стилистическое «упрощение». То, что знаком принадлежности к искусству
стала манера декламации более обыденная, чем церковное пение, отражало
новое представление об искусстве как явлении, в меньшей, чем прежде,
степени противопоставленном действительности. Это было связано с
отделением «высокой» культуры от церкви.
Новый этап в истории и мелодике русского стиха был связан с переходом
к силлабо-тонической системе Тредиаковского — Ломоносова.
Искусственный тонизм всех слогов был снят. Слова в стихе получили свое
естественное грамматическое ударение1. Это еще больше отдалило интонацию стиха
от музыкально-речитативного полюса и, в наложении на привычный фон
силлабической манеры декламации, опять-таки воспринималось как
упрощение.
1 Характерно, что нарушение Ломоносовым в отдельных случаях естественного
места ударения (рифма: химия — Россия) вызывало насмешки его литературных
оппонентов.
6. Элементы и уровни парадигматики художественного текста 181
Однако мелодика должна была не только приближаться к полюсу
разговорной интонации, но и отгораживаться от него. Эту функцию начали
выполнять двоякие средства.
Во-первых, построение поэзии (собственно, не поэзии в целом, а оды —
того жанра, который представлялся тогда ведущим и определял во многом
лицо поэзии в целом) осуществлялось по законам ораторского жанра1. Это
определило и специфику синтаксиса («фигур»), и, следовательно, появление
особых риторических интонаций, которые начали восприниматься как
специфически поэтические. Конечно, в поэзии существовала в эту пору и
нериторическая интонация (например, элегии), но она воспринималась как
«пониженная», то есть в отношении к одической как к норме. Вспомним описание
поэтической интонации XVIII в. человеком другой эпохи — И. С.
Тургеневым, герой которого, Пунин, «не читал, он выкрикивал их [стихи]
торжественно, заливчато, закатисто, в нос, как опьянелый, как исступленный, как
Пифия!» И далее: «Пунин произнес эти стихи размеренным, певучим голосом
и на „о", как и следует читать стихи»2. Вспомним, что «оканье» входило в
XVIII в. в произносительные нормы высокого штиля.
Во-вторых, установился определенный, очень константный, для каждого
размера свой тип интонации, поддерживавшийся тем, что ритмическая
единица — стих — и синтагма строго совпадали: поэзия русского XVIII в.
избегала enjambement. Поэтому ритмический изометризм стиха
поддерживается изометризмом интонации. Интонация разных форм ритмической речи
(например, интонация четырехстопного ямба, пятистопного хорея и т. д.)
производит впечатление полной автономии от лексики слов, составляющих
стих, то есть автономии от семантики стиха. Наивные попытки
семантизировать интонации ямба и хорея, проявившиеся, например, в споре между
Ломоносовым и Тредиаковским, способны убедить, скорее, в обратном. И
действительно, мнение о том, что семантика стиха и интонации ритмической
структуры представляют собой непересекающиеся и несоотнесенные сферы,
весьма распространено. Между тем оба эти взгляда вызывают возражения.
Исходной точкой для рассмотрения соотношения ритмической интонации
и семантики стиха должно быть убеждение, что этот ритмико-интонационный
строй представляет не самостоятельную структуру, а элемент, входящий в
ряд частных подструктур, которые, взаимодействуя, образуют единую систему
текста, называемую стихотворением и представляющую собой знак
определенного содержания и модель определенной действительности.
Интонационная константа стиха, во-первых, наряду с ритмической
усиливает представление о взаимной соотнесенности стихов, что в искусстве
неизбежно начинает восприниматься как соотнесенность их содержания:
Вам от души желаю я,
Друзья, всего хорошего.
1 См.: Тынянов Ю. Н. Архаисты и новаторы. Л., 1929.
2 Тургенев И. С. Собр. соч.: В 12 т. М., 1956. Т. 8. С. 198, 219.
182
СТРУКТУРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
А все хорошее, друзья,
Дается нам недешево!
(С. Я. Маршак)
Если отвлечься от связей, которые образуются за счет рифмы, то можно
отметить, что именно и ритмический, и интонационный изометризм второго
и четвертого стихов заставляет нас воспринимать их понятийные центры:
«всего хорошего» и «недешево» — как семантический параллелизм.
Во-вторых, константная интонация стиха неизбежно соотносится с
логическими интонациями текста. Она выступает в своей монотонности как фон,
на котором отчетливее выделяются синтактико-интонационные различия
предложений как «основание для сравнения», как общий элемент различных
смысловых интонаций. Например, противительная семантика двух последних
стихов из цитированного отрывка Маршака, непосредственным носителем
которой является союз «а», резко подчеркивает ритмико-интонационное
родство этих стихов, а также своеобразный лексический палиндром во второй
и третьей строках. Вместе с тем, если бы лексика второго и третьего стихов
была не совпадающей и переставленной, а просто различной, противительная
интонация не была бы так отчетливо значима.
Из представления о том, что нереализация элемента структуры есть
отрицательная его реализация, вытекает, что по существу функционально
однотипны два возможных чтения стихов. Можно подчеркнуть смысловую
интонацию, читать «выразительно». В этом случае интонационная кривая
«выразительного» (логического) чтения и ритмическая константа будут
выступать взаимосоотнесенно, как контрастная пара. Возможно, однако, и иное
чтение, подчеркнуто «монотонное», в котором выделяется мелодика самого
ритма. Именно так часто читают стихи сами поэты. Это наблюдение сделал
еще Б. М. Эйхенбаум, писавший: «Характерно, что большинство свидетельств
о чтении самих поэтов особенно подчеркивают его монотонно-напевную
форму»1. Известна монотонность и особая приглушенность голоса, которая
была присуща декламаторской манере Блока. Естественно, что такая манера
читать присуща стиху без enjambement, в котором самостоятельность
ритмических интонаций выражена особенно резко. Однако распространенное
представление о том, что в этом случае мы имеем дело с «чистой
музыкальностью», оторванной от значения, в высшей мере ошибочно. Дело в том,
что при подобном чтении смысловая интонация выступает как
нереализованный, но структурно ощутимый элемент — «минус-прием». Читатель,
воспринимающий значение стиха, ощущает и определенные — возможные, но
нереализованные — смысловые интонации. Стихи в этом плане тоже отличны
от обычной речи, где существует лишь одна возможная интонация —
смысловая, не имеющая альтернативы. В стихе же смысловую интонацию всегда
можно заменить парно с ней соотнесенной ритмической и тем резче ее
выделить. Следовательно, «монотонное» чтение в поэзии лишь подчеркивает
семантику. На фоне ритмической интонации смысловая выступает как нару-
1 Эйхенбаум Б. Мелодика русского лирического стиха. С. 19.
6. Элементы и уровни парадигматики художественного текста 183
шение ожидания, и обратно. Оба эти вида интонации образуют
коррелирующую оппозицию.
Следует обратить внимание еще на одно обстоятельство. Сама
ритмическая интонация есть результат нейтрализации оппозиции интонаций метра
и ритма. Следовательно, и здесь возникает добавочная по отношению к
обычной речи смысловая нагруженность. Замечательное свидетельство
понимания декламатором соотнесенности двух возможных «мотивов» стиха —
смысловой и ритмической интонаций — находим в письме близкого друга
А. А. Блока Е. П. Иванова: «Оказывается, я не совсем разучился читать
стихи. Только распев весь внутрь убрал, и получается лучше. Мотив скрыт
паузами. Это очень сближает с чтением самого Блока»1.
Как известно, историческое развитие интонационной структуры русской
поэзии не ограничилось переходом к силлабо-тонике. Картина усложнилась
возможностью замены ямбических и хореических стоп пиррихиями. Это
создало возможность появления альтернативных пар: реальная ритмическая
интонация с пиррихием в определенной стопе и выполняющая роль стопы
типовая метрическая интонация2. А поскольку наличие или отсутствие
ударения там, где оно ожидается по интонационной инерции, воспринимается
как логическое ударение, смысловая выделенность — вариативность русских
ямбов и хореев — открывает огромное богатство смысловых акцентов.
Следует напомнить, что это возможно только потому, что пиррихированная и
типовая интонации существуют соотнесенно.
Конкретные вопросы, возникающие в связи с вариациями типовых
ритмических и интонационных систем русского ямба и хорея, неоднократно и
тщательно изучались А. Белым, В. Я. Брюсовым, Б. В. Томашевским,
Г. А. Шенгели, С. М. Бонди, Л. И. Тимофеевым, Г. О. Винокуром,
М. Штокмаром, а в настоящее время К. Ф. Тарановским, А. Н.
Колмогоровым и А. М. Кондратовым. Хотелось бы лишь подчеркнуть, что любое
изучение этих систем вне реально противопоставленных им в стиховой
структуре альтернатив, вне проблемы фона, вне реализуемых и потенциальных
интонаций и ударений лишает нас возможности рассмотреть всю проблему
в связи с вопросами содержательной интерпретации стихотворных текстов,
что в значительной мере снижает степень научного интереса.
Новое резкое изменение интонационной системы русского стиха
произошло в связи с общей «прозаизацией» его, начавшейся с 1830-х гг. — периода
становления реализма. С этого времени образовался тот интонационный
строй, который Б. М. Эйхенбаум определил как «говорной». Элементами
создания подобной интонации в основном были различного типа «отказы»:
отказ от особого размеренного и обильно уснащенного
вопросительно-восклицательными конструкциями «поэтического» синтаксиса, отказ от особой
«поэтической» лексики (новая прозаическая потребовала и иной декламации)
1 Блоковский сборник. Тарту, 1964. С. 464. Курсив мой. — Ю. Л.
2 Соответственно, если учитывать появление спондеев, то возникнут альтернативные
пары иного типа: реальная ритмическая интонация со спондеем и типовая метрическая
интонация.
184
СТРУКТУРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
и изменение мелодической интонации в результате узаконения enjambement —
нарушения соответствия ритмической и синтаксической единиц. В результате
изменилось само понятие стиха. Уже из того, что в определении элементов
«говорной» интонации столько раз пришлось употребить слово «отказ»,
следует, что сама по себе она не составляет чего-то отдельного, а возникает
на фоне «напевной» как коррелирующая с ней контрастная система.
Развивая эту же мысль, следует указать, что следующий шаг в истории
русского стиха — переход к интонациям тонического стиха Маяковского,
представляющего собой нарушение норм русской ритмики XIX в., —
художественно мог существовать лишь на фоне представления об обязательности
этих норм. Вне фонового ощущения силлабо-тонической ритмики невозможно
и семантическое насыщение тонической системы.
Стих как семантическое единство
Хотя мы уже говорили, что знаком, «словом» в искусстве является все
произведение в целом, это не снимает того, что отдельные элементы целого
обладают разной степенью самостоятельности. Можно сформулировать некое
общее положение: чем крупнее, чем к более высокому уровню относится
элемент структуры, тем большей относительной самостоятельностью в ней
он отличается.
Стих в специфически поэтической структуре находится на уровне, начиная
с которого семантическая независимость отдельных элементов делается
ощутимой. Стих — не только ритмико-интонационное, но и смысловое единство.
В силу особой иконической природы знака в искусстве пространственная
соотнесенность элементов структуры значима, она непосредственно
связывается с содержанием. В результате связанность слов стиха значительно выше,
чем в такой же точно по размеру синтаксической единице вне стиховой
культуры. В известном смысле (понимая, что речь идет скорее о метафоре,
чем о точном определении) стих можно приравнять лингвистическому
понятию слова. Составляющие его слова теряют самостоятельность — они входят
в состав сложного семантического целого на правах «корней» (смысловая
доминанта стиха) или «окрашивающих» элементов, которые можно
метафорически уподобить суффиксам, префиксам и инфиксам. Возможны два или
несколько семантических центров (случай, аналогичный сложным словам).
Однако на этом параллель между стихом и словом заканчивается.
Интеграция смысловых элементов стиха в единое целое протекает по сложным
законам, в значительной степени отличающимся от принципов соединения
частей слова в слово.
Прежде всего, следует указать на то, что слово представляет собой
постоянный для данного языка знак с твердо фиксированной формой
обозначающего и определенным семантическим наполнением. Вместе с тем слово
составлено из элементов, также постоянных, имеющих определенное
грамматическое и лексическое значение и могущих быть перечисленными в срав-
6. Элементы и уровни парадигматики художественного текста 185
нительно не очень обширном списке. Обычные словари и грамматики их и
дают. Сравнивая стих со словом, следует помнить, что это «слово» — всегда
окказиональное.
Возможность уподобления стиха в языке поэзии слову в естественном
языке связана с тем, что языковое деление единиц на значимые (лексические)
и реляционные (синтагматические) в поэзии оказывается отнюдь не
безусловным. Чисто реляционные единицы языка, как уже говорилось, могут
приобретать в поэзии лексическое значение. Приведем элементарный пример:
Уделу своему и мы покорны будем,
Мятежные л*ечты смирим иль позабудем.
(Е. А. Баратынский)
Второй стих распадается на контрастные по семантике полустишия
(«мятежные мечты» «смирим иль позабудем»). Противопоставленные и по
общесловарному значению «мятеж» и «смирение» тем более контрастны, что основой
для их сопротивопоставления служит одна и та же фонема — «м». При этом
играющие чисто реляционную роль в обычном языке глагольные окончания
«смирил*», «позабудем» в стихе становятся равноценными нагруженному
лексическим значением корневому «м» в первом из этих слов1. Флексии благодаря
повтору на уровне фонем получают семантику корня, распространяя ее на
все второе полустишие и вместе контрастируя с первой половиной стиха:
У них не кисти,
А кистени.
Семь городов, антихристы,
Задумали они.
(А. А. Вознесенский)
Не кисти,
А кистени —
(в произношении «Ни кисти, а кистини»). Реляционный элемент — падежное
окончание «кисти» — в «кмстинм становится корневым, а отрицательная
частица превращается в падежное окончание. Звуковое совпадение
реляционных и «вещественных» элементов становится семантическим соотношением.
Как видим, в стихе служебные — реляционные, выполняющие грамма-
тико-синтаксические функции — слова и части слов семантизируются.
Правила соединения семантических элементов в целое — лингвистическое
слово или стих — весьма отличны. В первом случае мы имеем узуальные
элементы с наперед заданными значениями, во втором — окказиональные с
возникающим в данном тексте значением. Поэтому в первом случае частым
будет механическое суммирование смыслов, а во втором — сложное постро-
1 Одновременно возникает «игра» элементов низших уровней, поскольку корневым
сочетаниям «М+гласный»: Мы, Мятежные, Мечты, смирим — соответствуют
«перевернутые» аффиксально-флексивные сочетания «гласный+М»: «будем», «смирим»,
«позабудем» (исключение: «своему»).
186
СТРУКТУРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
ение семантической модели, образуемой отношением соединения
семантических полей элементов к их пересечению.
Сказанное, конечно, не отменяет того, что стих продолжает
восприниматься и в своем основном, общеязыковом значении как предложение или
его часть, поскольку вообще наличие сверхлингвистической структуры не
только не отменяет восприятия поэзии и как обычной речи, но, напротив,
подразумевает его. Эстетический эффект достигается наличием обеих систем
восприятия, их соотнесенностью. Естественно, что утрата восприятия поэзии
как элементарного речевого акта (то есть элементарная языковая непонятность
стиха) разрушит и восприятие собственно поэтической структуры1. Поэтому
стих, чаще всего содержащий отчетливую синтагму, бесспорно, сохраняет все
различия, которые отделяют синтаксическую единицу от слова. Интеграция
смыслов, возникновение новых значений происходит не на уровне языковой,
а на уровне стиховой, сверхъязыковой структуры.
Семантический центр стиха также определяется иначе, чем корень в слове.
Можно говорить о ритмическом центре стиха, который чаще всего тяготеет
к рифме. Он соотносится со смысловым центром фразы, который дан в
речевой материи стиха. Несовпадение этих центров приводит к явлению,
аналогичному enjambement, и служит дополнительным источником «игры
смыслов» в поэзии.
Наконец, существенное отличие стиха от слова состоит в том, что слово
может существовать отдельно, вне предложения. Стих в современном
поэтическом сознании не существует вне соотнесенности с другими стихами. Там,
где мы имеем дело с моностихом, он дается в отношении к нулевому члену
двустишия, то есть воспринимается как сознательно незаконченный или
оборванный2. Как обязательная форма реализации стихового текста, часть
текста, стих вторичен по отношению к тексту. Языковый текст складывается
из слов, поэтический делится на стихи.
Сверхстиховые повторы
Повторы сверхстиховых элементов текста строятся на более высоком
уровне по тем же конструктивным принципам, что и повторы низших единиц.
Раскрывая тождественное в противоположном и различное в сходном,
сверхстиховые повторы образуют между собой некоторую семантическую пара-
1 То, что мы имеем здесь дело с соотнесенными, но все же разными системами,
подтверждается наблюдениями над эстетическим восприятием стихотворения на
понятном, но чужом языке. Эта интересная проблема при постановке опытов с разной
степенью языковой осведомленности могла бы дать результаты, аналогичные тем,
которые дает современной лингвистике изучение разного типа речевых дефектов.
2 Моностих не просто тождествен тексту — он составляет часть, которая равна
целому, подмножество, которое равно универсальному множеству, имея дополнением
«пустое подмножество», нуль.
6. Элементы и уровни парадигматики художественного текста
187
дигму, вхождение в которую раскрывает смысл каждого из кусков текста
совершенно иначе, чем тот, который в нем обнаруживается при
изолированном рассмотрении. Например, две темы, два типа лексики, два семантических
поля: детский, школьный мир и страшный мир войны, оккупации и насилия,
казалось бы столь удаленные друг от друга, ^противопоставлены в
стихотворении Ю. Тувима «Урок», и именно неожиданность такого сближения
порождает новые смысловые возможности:
Обучайтесь польской речи...
Вот могилы недалече,
Вот стоят кресты погоста,
Видишь, мальчик, это просто...
Аналогичный смысловой эффект можно проиллюстрировать на примере
стихотворения Ф. И. Тютчева «Пошли, господь, свою отраду...»:
Пошли, господь, свою отраду
Тому, кто в летний жар и зной,
Как бедный нищий, мимо саду
Бредет по жаркой мостовой;
Кто смотрит вскользь через ограду
На тень деревьев, злак долин,
На недоступную прохладу
Роскошных, светлых луговин.
Не для него гостеприимной
Деревья сенью разрослись,
Не для него, как облак дымный,
Фонтан на воздухе повис.
Лазурный грот, как из тумана,
Напрасно взор его манит,
И пыль росистая фонтана
Главы его не освежит.
Пошли, господь, свою отраду
Тому, кто жизненной тропой
Как бедный нищий мимо саду
Бредет по знойной мостовой.
Стихотворение в композиционном отношении организуется параллелизмом
первой и последней строф. Полное совпадение первого, третьего и четвертого
стихов и частичное второго лишь выделяет дифференцирующую смысловую
группу «жаркий полдень — жизнь». Очень интересна композиционная
функция тех трех строф, которые составляют центральную часть стихотворения
и заключены между обрамлением параллельных строф. Нарочитая
диспропорция этого распространения первой строфы очевидна. Можно
предположить, что функция этой части такова.
1. Параллель между трудной дорогой и жизненным путем в достаточной
мере тривиальна, и, взятое само по себе, это сопоставление вряд ли могло
бы стать источником глубокой поэтической мысли. Построение Тютчева
таково, что активизируется не только совокупность общих семантических
188
СТРУКТУРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
признаков (трудность, протяженность во времени и т. д.), но и различие между
пешеходом и путником на жизненной тропе.
Основное семантическое различие между вторыми стихами первой и
последней строф состоит в противопоставлении прямого и переносного
употребления значений. Взятая сама по себе, первая строфа вполне вероятно
допускала бы противопоставление ей метафорического образа путника на
жизненном пути. Однако обилие вещественных деталей, а также описание
зримых подробностей («как облак дымный, фонтан на воздухе повис»), причем
именно таких, которые не поддаются прямолинейной расшифровке в свете
метафорического истолкования образа дороги, — все это должно убедить
читателя в том, что речь идет о реальном знойном дне и реальном путнике.
И тогда то сопоставление, которое (если бы Тютчев ограничился первой и
последней строфами) звучало бы довольно тривиально, производит
впечатление неожиданного и содержательного. Возможность такой последней
строфы вполне ощущается после первой и делается мало вероятной после
четвертой. Именно поэтому она и несет те значения, которых бы не имела, если
бы являлась второй.
2. Вторая, третья и четвертая строфы представляют собой распространение
первой — описание «сада», мимо которого идет «бедный нищий». Однако,
дочитав стихотворение до конца, мы узнаем, что образ был метафорой. Это
заставляет нас повторно осмыслить центральные строфы, теперь уже как
метафорические. Подобное двойное восприятие текста как неравного самому
себе осложняется еще и тем, что, как мы говорили, центральная часть
стихотворения не поддается дешифровке в духе аллегории. Создается
семантически сложная коллизия: дочитав текст, мы понимаем, что его надо
понимать метафорически, а само построение его оказывает сопротивление такому
толкованию. Таким образом и создается то смысловое напряжение, которое
гораздо богаче значением, чем если бы мы имели дело с текстом,
принадлежащим только первой строфе или только последней.
Но и повторение в «совпадающей» части первой и последней строф совсем
не столь безусловно. Если даже не иметь в виду замены «жаркой мостовой»
на «знойную», очевидно интонационное различие: итоговый, сентенционный
характер последней строфы резко противопоставлен первой именно тем, что,
с одной стороны, мы имеем дело с замкнутым синтаксическим целым, а с
другой — с частью, за которой следует продолжение. Таким образом, и на
сверхстиховом уровне мы сталкиваемся не с повтором как мертвенной
одинаковостью, а со сложной игрой сходств и различий, обусловливающих
богатство семантической структуры.
Энергия стиха
Понятие энергии художественной структуры, всегда ощущаемое читателем
и часто фигурирующее в критике, не упоминается в теориях литературы. В
нашем понимании, как это будет видно из дальнейшего изложения, оно
6. Элементы и уровни парадигматики художественного текста 189
родственно «функции» в толковании Ю. Н. Тынянова и чешских ученых —
Я. Мукаржовского и его учеников.
В организации стиха можно проследить непрерывно действующую
тенденцию к столкновению, конфликту, борьбе различных конструктивных
принципов. Каждый из этих принципов, который внутри системы, им создаваемой,
выступает как организующий, вне ее выполняет функцию дезорганизатора.
Так, словоразделы оказывают возмущающее действие на ритмическую
упорядоченность стиха, синтаксические интонации вступают в конфликты с
ритмическими и т. п. Там, где те или иные противопоставленные тенденции
совпадают, мы имеем дело не с отсутствием конфликта, а с частным его
случаем — нулевым выражением структурной напряженности.
Взятые в отдельности, те или иные структурные закономерности
порождают замкнутые, синхронные, лишенные внутренней динамики системы.
Изолированные одна от другой, эти системы хорошо поддаются структурному
описанию. Подобные частичные описания могут дать весьма полное
представление о той или иной конструкции, но очень часто совершенно не
касаются проблемы их соотнесенности. Так, две функционально
противоположные конструкции могут при изолированном описании выступить как
просто лишенные связи. Однако, взятые в единстве, они могут оказаться
противопоставленными по функции: то, что запрещается одной системой,
может предписываться другой.
Другой случай — когда две конструкции оказываются тем или иным
способом соподчинены. Тогда в результате их соотношения возникают в
пределах доминирующей структуры факультативные варианты. Так,
соотношение ритмических схем и словоударений, с одной стороны, или
словоразделов, с другой, создает в пределах того или иного ритма вариативность.
Возможность же выбора между несколькими вариантами той или иной
структурной схемы создает условия для дополнительной семантизации текста.
Взаимное напряжение различных подструктур текста, таким образом,
во-первых, увеличивает возможность выбора, количество структурных альтернатив
в тексте и, во-вторых, гасит автоматизм, заставляя различные закономерности
реализовываться посредством их многочисленных нарушений. Не нужно быть
глубоко осведомленным в законах передачи информации, чтобы понять, в
какой мере это увеличивает информационные возможности художественного
текста по отношению к нехудожественному. В этом — ценность структур,
построенных по принципу «игры», с точки зрения возможного объема
заключаемой в них информации.
Думается, что, глядя на стихи с этой точки зрения, мы, с одной стороны,
неизбежно придем к выводу о том, что любое явление структуры
художественного текста есть явление смысла, ибо художественная конструкция всегда
содержательна, а с другой, избегнем того поверхностного подхода к этому
вопросу, который, например, порождает дискуссии об абсолютном значении
фонемы «у» или четырехстопного ямба.
Говоря о том, что структура художественного текста всегда строится на
конфликте частных подструктур, из которых она складывается, необходимо
выделить одну из основных сторон этой ситуации.
190
СТРУКТУРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
Мы уже неоднократно отмечали, что в стихах благодаря пересечению
разнообразных структурных параллелизмов любое слово в принципе может
оказаться синонимом или антонимом любого другого. Помня это, рассмотрим
стихотворение А. А. Ахматовой «Двустишие»:
От других мне хвала — что зола,
От тебя и хула — похвала.
Легко можно выделить в этом тексте ^противопоставленные пары слов:
«от — от», «других — тебя», «хвала — хула»,
«хвала — похвала», «хвала — зола», «хула — зола»,
«хула — похвала», «зола — похвала».
Сразу же бросается в глаза, что основания для возникновения семантических
оппозиций в каждом случае различны и в равной мере различно отношение
окказиональной поэтической семантики к норме значений соответствующих
слов в системе естественного языка. Ведущее противопоставление «других —
тебя» основано на таком отношении между составляющими его словами,
которое совпадает со структурой значений этих слов в естественном языке.
Правда, и здесь оба слова не обозначают взаимно дополнительных понятий,
то есть не являются друг для друга исконными и единственно возможными
антонимами. Поэтому, когда «другие» получают в тексте значение «не ты»,
а «ты» — «не другие», происходит некоторый сдвиг в значении этих слов и
при этом активизируются оппозиционные значения «множественность (по-
вторимость) — единственность (неповторимость)», «отдаленность —
близость» (местоимения «я» и «ты» вместе противостоят всем остальным по
признаку интимности; в этом отношении «другие» — наиболее
противопоставленное по значению местоимение). Таким образом, это
противопоставление: 1) лежит в пределах общей структуры значений естественного языка;
2) связано с некоторым семантическим сдвигом; 3) целиком основано на
семантике этих слов.
Отношение «от — от» можно рассматривать как тождественное, как
анафористический зачин, составляющий основание для противопоставления
последующих местоимений. Однако возможно и восприятие этой части текста
как некоторого лексически не выраженного противопоставления. Тогда перед
нами не лишенный интереса случай: тождество выражения при содержании,
которое — не противопоставление двух каких-либо понятий, а модель
противопоставления в чистом виде.
Противопоставление «хвала — хула» построено на сочетании отношения
антонимии, заданного семантической структурой естественного языка, и
фонологическим параллелизмом «х-ла» — «х-ла». Значение и звучание разно-
направлены: одно утверждает противоположность, другое — совпадение.
Возникающий эффект напряжения здесь аналогичен тому, который мы наблюдали
в рифме. В паре «хвала — зола» — аналогичная картина: синтаксическое
построение и фонологический параллелизм утверждают близость, единство
значений этих слов, а их общеязыковая семантика — противоположность.
Снова одна закономерность сопротивляется другой. Аналогично построена
пара «зола — похвала». Пара «хвала — похвала» была бы тавтологичной,
6. Элементы и уровни парадигматики художественного текста 191
если бы: 1) не принадлежность их к синтаксически противопоставленным
позициям; 2) не то, что «похвала» в конструкции данного текста — совсем
не одобрение, а «хула», которая только кажется «хвалой». Таким образом,
словарное тождество значений и обилие звуковых повторов сталкивается с
позиционной противопоставленностью и прямо противоположным
контекстным, окказиональным смыслом слов. Аналогично семантическое напряжение
в паре «хула — зола».
Из сказанного вытекает существенное следствие: поэтическая конструкция
создает особый мир семантических сближений, аналогий, противопоставлений
и оппозиций, который не совпадает с семантической сеткой естественного
языка, вступает с ней в конфликт и борется.
Художественный эффект создается именно фактом борьбы. Полная победа
той или иной тенденции, незыблемость значений, существовавших в системе
до возникновения данного текста, и полное их разрушение, позволяющее
безо всякого сопротивления создавать любые текстовые комбинации, в равной
мере противопоказаны искусству. В первом случае мы будем иметь дело с
той нулевой «гибкостью языка», при которой, согласно А. Н. Колмогорову,
искусство невозможно. Во втором случае некоторые структурные правила
будут выполняться, не создавая, однако, произведения искусства. Приведем
пример:
То как Якобия оставить,
Которого весь мир теснит?
Как Лонгинова дать оправить,
Который золотом гремит?
(Г. Р. Державин)
«Якобий» и «Лонгинов» выполняют в державинском тексте роль антонимов.
Однако для современного читателя, который ничего не знает ни об иркутском
генерал-губернаторе И. В. Якоби, обвиненном в попытке вызвать военное
столкновение с Китаем, ни о петербургском купце И. В. Лонгинове, ни о
страстях и интригах, кипевших вокруг их процессов, совсем не однозначно
воспринимавшихся современниками, эти имена лишены собственного, вне
текста стихотворения лежащего значения. Державинское отождествление
«Якобия» с «гонимым праведником», а «Лонгинова» с «торжествующим злом»
ни с чем не совпадает и ничему не противостоит в сознании читателя
(напомним, что совпадение — частный случай конфликта). Поэтическое
напряжение, которое существовало в этом месте текста, утрачено.
Если мы опишем систему поэтических эквивалентностей, которая создана
была А. Вознесенским в «Мозаике» и «Антимирах», и сопоставим с
последующими текстами того же автора, то убедимся в интересном явлении: та
же самая — в изолированно-синхронном описании — система, которая в
определенные годы звучала новаторски, теперь воспринимается как
эпигонская (чаще всего как эпигонство по отношению к самому себе). В чем здесь
дело? Система одерэюала победу. То, что казалось необычным, стало
заурядным, «противосистема» прекратила сопротивление.
192
СТРУКТУРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
Таким образом, синхронное, внутренне стабильное описание структуры
текста, и в первую очередь его парадигматической структуры, составляя
необходимое условие сколь-либо точного представления о природе
художественного действия, само по себе еще недостаточно.
Дополняя описание системы картиной противоборствующих ей структур
(внутри- или внетекстовых), мы вводим в поле нашего внимания
энергетический момент. Текст функционирует в отношении к определенной системе
запретов, ему предшествующих и вне его лежащих. Однако запреты эти не
одинаковой силы. Одни обладают для данной системы абсолютным
характером и не могут быть преодолены. Тем самым снимается возможность
семантического эффекта от их преодоления. (Нарушение этих запретов не
создает новых значений, а ведет к распадению искусства.) На определенных
этапах в качестве таких абсолютных запретов могут выступать требование
несмешения жанров, ограничения на употребление определенной лексики,
запреты на нарушение грамматических норм языка и т. п.
На другом полюсе будут находиться факультативные ограничения,
нарушения которых столь обычны, что не могут создать активного
содержательного эффекта. Очень часто эти факультативные ограничения в
предшествующих системах имели гораздо более облигаторный характер, выступая в
качестве основных смыслообразующих границ.
Между этими двумя полюсами расположена присущая данному
художественному языку, данной эпохе, данной национальной культуре (и
естественному языку как ее существенному элементу) иерархия запретов. Нарушение
этих сильных для данной системы семантических оппозиций будет, с одной
стороны, возможно, а с другой — необычно, странно. В зависимости от
структурной маркированности запретов, как сильных или слабых, нарушение
их будет обладать различной структурной активностью, требовать различного
напряжения мысли, а вся система — соответственно получать различную
энергетическую характеристику.
Пушкин в одном из критических набросков 1827 г. писал: «Есть различная
смелость: Державин написал: „орел, на высоте паря", когда счастие „тебе
хребет свой с грозным смехом повернуло, ты видишь, видишь, как мечты
сиянье вкруг тебя заснуло".
Описание водопада:
Алмазна сыплется гора
С высот и проч.
Жуковский говорит о Боге:
Он в дым Москвы себя облек.
Крылов говорит о храбром муравье, что
Он даже хаживал один на паука.
Кальдерон называет молнии огненными языками небес, глаголющих земле.
Мильтон говорит, что адское пламя давало токмо различать вечную тьму
преисподней. Мы находим эти выражения смелыми, ибо они сильно и
необыкновенно передают нам ясную мысль и картины поэтические.
6. Элементы и уровни парадигматики художественного текста 193
Французы доныне еще удивляются смелости Расина, употребившего слово
pavé — помост.
Et baise avec respect le pavftde tes temples.
И Делиль гордился тем, что он употребил слово vache. Презренная
словесность, повинующаяся таковой мелочной и своенравной критике»1.
Высказывание Пушкина чрезвычайно интересно для определения природы
поэтических сверхзначений. Между словами устанавливаются семантические
связи, которые в одной системе — той новой системе, которую создает
текст, — представляются единственно истинными и наиболее точными, то
есть передают «ясную мысль». Однако в другой, также активно действующей
системе эти связи решительно запрещены. Именно поэтому преодоление
запрета получает энергетическую характеристику как «сильное» (оценка
создаваемой текстом картины связей как «необыкновенной» указывает на
господство в предшествующей традиции текстов, которые подчинялись этим
запретам). Для преодоления высокозначимых запретов необходимо то, что
Пушкин называет поэтической смелостью. Там же, где поэт направляет свою
энергию на сокрушение ничтожных преград, малозначимых запретов,
литература оценивается как «презренная». «Жалка участь поэтов, — писал
Пушкин, — если они принуждены славиться подобными победами»2.
Рассуждение Пушкина наглядно иллюстрирует мысль о художественном
эффекте как некотором усилии и позволяет поставить вопрос о его
относительной измеримости. По крайней мере уже сейчас можно говорить о том,
что легко выделяются следующие степени: полная невозможность преодолеть
исходные запреты, полное соблюдение исходных запретов, преодоление
сильного запрета, преодоление слабого запрета. Однако это же пушкинское
рассуждение подводит и к другому выводу — об исторической
относительности понятий сильных и слабых запретов. Противопоставление это всегда
имеет смысл лишь в отношении к той или иной исторически и национально
обусловленной структуре. Например, те самые запреты, которые Пушкин
приводит в качестве примеров ничтожных и легко преодолимых, совсем не
во всех художественных структурах выглядят такими. Стоит напомнить о
существовании типа культуры, для которого основным противопоставлением,
организующим всю систему значений, была оппозиция высокого и низкого,
абстрактного и конкретного, благородного и вульгарного, чтобы понять, что
введение вещественно-предметной лексики или упоминания бытовых реалий
в трагическом или трогательно-поэтическом тексте «ничтожно» лишь для
сознания, уже чуждого всем этим представлениям. Ведь и мы сейчас не
воспринимаем смелости выражения Державина, сказавшего «на высоте паря»
вместо «в вышине», или Крылова, применившего окрашенный лихостью и
принятый в среде охотников оборот «хаживал один» к муравью.
Запреты, на фоне которых функционирует текст, — в широком смысле
слова вся система построения художественного произведения. Но в узком и
1 Пушкин А. С. Поли. собр. соч. Т. 11. С. 60—61.
2 Там же.
194
СТРУКТУРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
наиболее ощутимом значении речь идет о том, что конечным итогом любых
художественных конструкций будет образование уравненных или
противопоставленных рядов значимых элементов. В словесном искусстве такими
элементами в конечном итоге почти всегда оказываются слова. Поэтому важным
результатом существования поэтической организованности текста является
возникновение новых, до него не существовавших рядов семантических
отождествлений и противопоставлений. Эти ряды окказионально-поэтических
синонимов и антонимов воспринимаются в отношении к семантическим
полям, активным во внешних для текста системах коммуникации. Так, в
сознании читателя существуют привычные для него сцепления понятий,
которые утверждены авторитетом естественного языка и присущей ему
семантической структуры, бытового сознания, понятийной структуры того
культурного периода и типа, к которым принадлежит истолкователь текста, и,
наконец, всей привычной для него структурой художественных построений.
Напомним, что системы отношения понятий — наиболее реальное
выражение модели мира в сознании человека. Таким образом, художественный
текст воспринимается на фоне и в борьбе со всем набором активных для
читателя и автора моделей мира. Описывая ту или иную модель этого типа
(например, модель бытового сознания определенной эпохи и культуры), мы
можем с достаточной точностью определить основные семантические ее
оппозиции и противопоставить их производным и факультативным.
Естественно, что текст, нарушающий первые, будет восприниматься как более
«сильный».
Кроме того, достаточно объективным будет указание на то, какая из
общих моделирующих систем находится в наиболее остром конфликте с
текстом. Здесь могут активизироваться и художественные, и внехудожествен-
ные системы. Так, «Борис Годунов» — конфликт с нормами построения
драматургического текста, а «желтая кофта» Маяковского — с нормами
мещанского представления о бытовом облике поэта.
Однако значимость тех или иных моделей мира в общей системе культуры
не одинакова. Учитывая качественный показатель (удельный вес в общей
концепции мира тех семантических структур, с которыми поэзия вступает в
конфликт) и количественный (задевается одна какая-либо привычная модель
мира или существенная часть всей их совокупности), мы можем получить
представление об объективных законах поэтической силы и художественного
бессилия и надеяться отделить энергию новатора от псевдоноваторских потуг
эпигона.
И с этой стороны мы вновь подходим к выводу о том, что без описания
типовых структур невозможен никакой сколь-либо обоснованный разговор
об индивидуальном своеобразии произведения искусства: сила, активность
новаторского текста в значительной мере определяется значимостью и силой
препятствий, стоящих на его пути. Торжественная победа эпигона над
вчерашним днем читательского сознания — это подвиг Фальстафа, убивающего
уже мертвого Генри Хотспера.
7. Синтагматическая ось структуры
195
7. Синтагматическая ось
структуры
Повторы разных уровней играют выдающуюся роль в организации текста
и издавна привлекают внимание исследователей. Однако сведение всей
художественной конструкции к повторениям представляется ошибочным. И
дело здесь не только в том, что повторы часто, особенно в прозе, охватывают
собой незначительную часть текста, а вся остальная остается вне поля зрения
исследователя как якобы эстетически не организованная и, следовательно,
художественно пассивная. Сущность вопроса состоит в том, что сами повторы
художественно активны именно в связи с определенными нарушениями
повторения (и обратно). Только учет обеих этих противонаправленных
тенденций позволяет раскрыть сущность их эстетического функционирования.
Соединение повторяющихся элементов и соединение неповторяющихся
элементов структуры основывается на различных лингвистических
механизмах. Первый имеет в основе своей те связи, которые возникают между
отрезками речи большими, чем предложение, вторые — внутри предложения.
В первом случае между соединяемыми частями существует отношение
формальной независимости и структурного равенства. Связь между ними — лишь
смысловая, и она выражается в форме простого примыкания. В самом
предельном случае и смысловая связь не обязательна:
На углу стоит аптека,
Любовь сушит человека.
Как по нашему по саду все летает белый пух —
Хуже нету той досады, когда милый любит двух.
Куски текста, которые в каком-либо отношении воспринимаются как равные,
соединяются при помощи примыкания или присоединения. Образцом такого
построения может служить орнамент.
Другой тип соединения связан с областью традиционного синтаксиса. Он
подразумевает соединение различных элементов, выдвигая при этом
дополнительные условия. 1) Все элементы должны складываться в структурное
целое — предложение, внутри которого получают некую конструктивную
специализацию. Таким образом, текст, мыслимый как предложение, должен
иметь конечную протяженность с разделением внутри нее на функционально
неравные элементы. 2) Связь между элементами должна иметь формальное
выражение, подразумевающее, в частности, что взаимно связываемым членам
должны приписываться некоторые одинаковые структурные признаки
(например, согласование и другие формы грамматической связи между членами
предложения).
Представляется существенным подчеркнуть, что связи между
однородными элементами создают повторяющуюся структуру принципиально безгра-
196
СТРУКТУРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
ничного характера, а связи между разнородными — структуру конечного
типа, о чем более подробно пойдет речь в дальнейшем.
Фонологические последовательности в стихе
Рассмотрим фонологическую структуру того отрывка из стихотворения
К. Н. Батюшкова «К другу», который вызвал замечание Пушкина: «Звуки
италианские! Что за чудотворец этот Батюшков».
Нрав тихий ангела, дар слова, тонкий вкус,
Любви и очи и ланиты,
Чело открытое одной из важных муз
И прелесть девственной Хариты
аииаеааоаоиу
уииоииаиы
еооыоеооиаыу
иееееоаиы
Легко заметить, что в конце каждого стиха резко меняется принцип
фонологического построения. Если отсчитать три-четыре фонемы от конца, то
мы получим разделение, в котором в левой половине будет явно выражаться
тенденция к фонологической унификации, в правой — к разнообразию.
Гласные фонемы, встречающиеся один раз, в левой половине единичны
и появление их — явная случайность, неизбежная при построении стихов из
материала осмысленной лексики. Окончания (три-четыре фонемы от конца)
сплошь состоят из единичных фонем (если повторяют какой-либо из гласных
первой половины, то это почти всегда единичный для левой группы).
Первое наблюдение, которое можно из этого сделать, это то, что в районе
окончания этих стихов сталкиваются фонологическая упорядоченность с
нарочитым «беспорядком».
Однако в ряде случаев мы имеем дело с противоположным переходом в
конце стиха к упорядоченности одинаковых фонем. Это свидетельствует о
том, что в первую очередь существенно сменить в конце структурной единицы
(стиха, строфы) конструктивный принцип в момент, когда возможность
предугадывания чрезмерно повышается. Приведем пример:
Уныло юноша глядел
На опустелую равнину
И грусти тайную причину
Истолковать себе не смел.
{Л. С. Пушкин)
Последний стих этого отрывка, представляющего собой законченное синтак-
тико-интонационное целое, с точки зрения фонологии гласных выглядит так:
иооаееее
Принцип перехода от соединения различных гласных к повтору очевиден.
7. Синтагматическая ось структуры
197
Однако свести структурное значение соединения разных элементов только
к контрасту с принципом повторения было бы неверно. Он имеет вполне
самостоятельное значение:
Окна запотели.
На дворе луна.
И стоишь без цели
У окна.
(А. Белый)
Последний стих создает цепочку гласных: у — о — а. Гласные эти качественно
различны и одновременно связаны определенной структурной
последовательностью. Это приводит к тому, что не имело бы места при повторении
одинаковых структурных элементов: раздроблению каждого элемента на
дифференциальные признаки более низкого уровня, на котором оказывается
возможным выделить общее и сопоставимо различное в интересующем нас
структурном ряду.
Цепочка у — о — а содержит определенное множество общи* для всех
входящих в нее элементов дифференциальных признаков: оппозиции
«гласность — негласность», «передний ряд — не передний ряд» выявляют их
общность. Зато по признаку «закрытость — открытость» они дадут
последовательно градационное возрастание. Фонологическая структура гласных
этого стиха активизирует признак «открытость — закрытость», повышая его
в ранг значимого структурного элемента:
Он к Иову из тучи рек.
(М. В. Ломоносов)
о— и — о — у — и — у — и — е
Если выключить «е» (появление внесистемной фонемы в конце ряда —
явление, нам уже понятное1), то мы можем проследить закономерную
последовательность в смене, на первый взгляд, неупорядоченных элементов.
Во-первых, весь стих можно себе представить как организованный с точки
зрения смены гласных переднего и заднего ряда (с этой точки зрения «о» и
«у» будут выступать как один элемент, равно как «и» и «е»). Если обозначить
гласные переднего ряда как +, а заднего как —, то картина получится
следующая:
— + +— + +
Некоторая неупорядоченность на фоне ожидаемой идеальной схемы
_ + + + (_)
только активизирует признак перехода от одного ряда к другому, не давая
ему сделаться автоматическим, незаметным.
1 Характерно, что нарушение (неожиданность) в фонологической структуре стиха
очень часто связано с рифмой: внесистемный элемент — элемент из другой системы.
Смешение двух закономерных (каждый внутри себя) уровней поддерживает
необходимую меру неожиданности.
198
СТРУКТУРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
Однако если разбить всю последовательность гласных фонем стиха на
данные в нем сочетания по три, то получим некоторые группы окружений
гласных фонем:
оио — иоу — оуи — уиу — иуи
Здесь будет интересна последовательная реализация всех возможностей. Звуки
оказываются в однородном и неоднородном окружении. Одни и те же
элементы выступают то как центральный член, то как обрамление. А каждое
из этих сочетаний активизирует новые дифференциальные признаки. Одна и
та же фонема «и» в окружении «оио» и «уиу» получает различное
содержание — вперед выступают различные дифференциальные признаки, по-разному
перераспределяются среди них «группа общности» и «группа различия». Если
мы с этой точки зрения вернемся к процитированным выше строкам из
«Цыган», то обнаружим небезынтересную картину.
Разбив гласные фонемы в группы по три (это оправдывается еще и тем,
что в данном тексте подобная граница почти везде будет совпадать со
словоразделами), мы получим следующее:
уыо уоа ае
аоу еу аиу
иуи ауу ииу
Напомним, что в последнем — четвертом — стихе «у» не встречается вообще.
Здесь же «у» встречается в самых различных сочетаниях (по качеству и
порядку). Рассмотрим «у» как везде одинаковый, самому себе равный элемент.
Тогда он станет повторяющимся элементом в некоторых неповторяющихся
единствах, условием их согласования. Потребности разлагать фонему «у» на
дифференциальные признаки не возникает. Более того, сама эта фонема будет
сведена на положение дифференциального признака в структуре, построенной
из элементов более высокого уровня. Если же обратить внимание на то, что
сочетание «о — у» активизирует признак открытости, «и — у» —
лабиализованное™, «е — у» — ряда и т. д., то станет очевидно, что в каждом из
этих «у» актуализованы различные стороны, а само единство складывается
не как некая физическая реальность (как это имело место в первом случае),
а как конструкт, соединение данных в тексте различных фонологических
противопоставлений. Таким образом, соединение одинаковых элементов
обращает нас к структурам более высоких уровней, а неодинаковых — более
низких. А поскольку элемент в художественной конструкции не равен себе —
любой уровень структуры оказывается, применяя слова Тютчева, «между
двойною бездной», — он переводится на язык более высоких и более низких
уровней структуры.
Следует отметить, что большинство случаев той вторичной семантизации,
которые обусловлены с приписыванием звукам языка поэзии
непосредственной значимости, в частности все случаи звукоподражания, связаны не с
фонемами, а с дифференциальными признаками, поскольку в них акустическая
природа выражена значительно более непосредственно. Знаменитое
«тяжелозвонкое скаканье», конечно, вызывает разного рода ассоциации с миром
реальных звуков не в силу повторения определенных фонем, а постольку,
7. Синтагматическая ось структуры
199
поскольку противопоставление «з — с» обнажает признак звонкости.
Оппозиции «в — к», «с — к», «н — к» активизируют разные дифференциальные
признаки фонемы «к». Так обнажаются звонкость, эксплозивность, смычность,
которые легко семантизируются как подражания реальным звукам.
Именно дифференциальные признаки фонем являются носителями
различных типов артикуляции и в связи с этим легко связываются с определенной
мимикой, что влечет за собой вторичную семантизацию.
Даже когда нам трудно уловить принцип фонологической организации,
в окончании стиха он обнаруживает себя сменой системы фонем. Реальность
тенденции к смене структуры вокализма в стихе в районе клаузулы хорошо
проверяется на текстах с обильным использованием экзотических имен или
заумной лексики (а также в «бессмысленных» текстах). Большая свобода
семантических сочетаний позволяет здесь законам фонологической
организации выявляться более непосредственно. Показательно, что наличие или
отсутствие рифмы делает этот закон более или менее явным, но не отменяет
его. Приведем два примера.
«Песнь о Гайавате» Лонгфелло в переводе Бунина. Отсутствие рифмы
делает особенно наглядным фонологический слом в конце стиха:
И опять они беседу
Продолжали: говорили
И о Вебоне прекрасном,
И о тучном Шавондази,
И о злом Кабибонокке;
Говорили о Веноне...
и о а о и е еу
ооаиооии
иоеоееао
иоуоаоам
и о о а и о ое
ООИ ИО£0£
«Конь Пржевальского» Хлебникова:
Чтоб, ценой работы добыты,
Зеленее стали чоботы,
Черноглазые, ее
Шепот, ропот, неги стон,
Краска темная стыда,
Окна, избы с трех сторон,
Воют сытые стада...
о е о а о ы о ы ы
ееееамооы
е о а ы е е о
ооооеио
а а е а а ы а
о а и ы е о о
о у ы ы е а а
200
СТРУКТУРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
Синтагматика лексико-семантических единиц
Общеязыковые элементы становятся художественно значимыми, если в
их употреблении можно обнаружить определенную преднамеренность: в
случае, если нарушается обязательная для нехудожественного текста норма
правильности, если частота или редкость употребления той или иной формы
ощутимо отклоняется от общеязыковых показателей, если для выражения
той или иной языковой функции имеются два равноценных механизма (или
более), из которых избирается один, и т. д. В результате существующих в
языке грамматических, семантических, стилистических связей возникают
определенные требования к «правильному» построению цепочек слов.
Нарушение какого-либо из этих правил (то есть нарушение какого-либо запрета)
приводит к тому, что оборванная связь (переведенная из разряда облигаторных
в факультативные) оказывается носителем тех или иных значений (в качестве
обязательных признаков они были семантически нейтральны).
Снятие тех или иных, обязательных в языке, запретов на соединение слов
в цепочки (предложения) составляет основу художественной синтагматики
лексических единиц.
Рассмотрим основной случай — снятие семантических запретов.
Соединение лексико-семантических единиц, запрещенное (неотмеченное)
в обычном языке и разрешенное в языке поэзии, лежит в основе тропов.
Рассмотрим с этой точки зрения основной вид тропа — метафору1.
Поскольку языковая метафора и метафора художественного текста
представляют собой явления совершенно различные — одна обладает
отмеченностью в общеязыковом контексте и в этом смысле может быть приравнена
узуальному слову, другая вне данного поэтического контекста равняется
бессмыслице и обладает лишь окказиональной семантикой, — то очевидно,
что избирать для анализа метафоры, употребление которых проникло уже
из поэзии в язык и стало отмеченным для нехудожественных контекстов
(типа «шепот лесов», «в траве брильянты висли»), — значит усложнять задачу,
работая с семантической структурой двойного функционирования. Именно
стремление начинать анализ с простых случаев заставляет нас рассматривать
такие метафоры, употребление которых вне данного текста превращает их
в бессмысленное сочетание слов.
Произведем некоторый эксперимент. Возьмем предложение: «Кресла
облиты в дамскую мякоть» — и предложим слушателям установить, является
эта фраза семантически отмеченной или нет. Автору этих строк приходилось
производить этот и аналогичные опыты. Если вычесть ответы тех, кто знал
источник цитаты, то результаты были, как правило, следующими: слушатели
не отличали этого предложения от других, произвольно составленных
(грамматически отмеченных, а семантически не отмеченных) цепочек слов. Наи-
1 О механизме метафоры см.: Левин Ю. И. Структура русской метафоры // Учен,
зап. Тартуского гос. ун-та. 1^65. Вып. 181. (Труды по знаковым системам. Т. 2);
Brook-Roose Ch. A Grammar of Metaphor. London, 1958.
7. Синтагматическая ось структуры
201
более распространенным был ответ: «В общеязыковом значении —
бессмысленно, но в поэтическом тексте может восприниматься как осмысленное»1.
Наиболее интересен был такой ответ: «Прежде чем решать вопрос о
семантической отмеченности, нужно знать, стихи это или не стихи». Этот ответ
подводит нас к самой сущности соединения семантических единиц в поэзии.
В нехудожественном тексте мы имеем дело с некоторыми семантическими
данностями и правильными способами соединения этих элементов в
семантически отмеченные фразы. В художественном тексте слова выступают (наряду
с общеязыковым своим значением) как местоимения — знаки для обозначения
еще не выясненного содержания. Содержание же это конструируется из их
связей. Если в нехудожественном тексте семантика единиц диктует характер
связей, то в художественном — характер связей диктует семантику единиц.
А поскольку реальный текст имеет одновременно и художественное
(сверхъязыковое) и нехудожественное (свойственное естественному языку) значение,
то обе эти системы взаимопроектируются и каждая на фоне другой
воспринимается как «закономерное нарушение закона», что и является условием
информационной насыщенности.
Обычная, восходящая еще к Аристотелю, классификация метафор с чисто
логической точки зрения (замены по смежности, аналогии и т. д.) описывает
лишь частный аспект проблемы.
Более общим, видимо, был бы следующий подход. Рассмотрим сочетания:
Волк растерзал ягненка
и
Волк растерзал камень
Грамматическая отмеченность обоих высказываний одинакова. Семантически
первое может считаться отмеченным, второе — нет. Видимо, если
рассматривать все три слова, входящие в это высказывание, в качестве определенных
наборов семантических дифференциальных признаков, то признак разрывания
на части будет входить в понятие «волк» в сочетании с грамматическим
признаком субъекта, а «ягненок» — объекта. Таким образом, для того чтобы
данные семантические единицы были сочетаемыми, они должны иметь общий
семантический дифференциальный признак.
В поэзии действует обратный порядок: факт сочетания определяет
презумпцию наличия семантической общности. Крайним и поэтому проясняющим
механизм случаем является тот, когда общим элементом, добавочным к
грамматической отмеченности, является вообще не смысловой, а, например,
фонологический:
...Тем часом, как сердце, плеща по площадкам,
Вагонными дверцами сыплет в степи...
(В. Л. Пастернак)
1 О лингвистическом понятии отмеченной фразы см.: Ревзин И. И. Модели языка.
С. 60—61.
202
СТРУКТУРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
«Плеща по площадкам» — общность фонологической группы плща
подсказывает поэту сочетаемость этих слов, а затем, исходя уже из этого как из
факта, создается тот вторичный смысл, для которого «плескать» и «площадка»,
взятые в отдельности, — лишь местоимения, заполняемые окказиональной
семантикой.
Однако возможны и не столь крайние случаи. Наиболее простой путь
образования вторичных значений — замена ожидаемого семантического
признака на противоположный. Так, в сочетании «проводить» или «скоротать
вечер» глагол «проводить» имеет значение деятельности, смысл которой в
заполнении конечной протяженности времени, а в «скоротать» — в
превращении длинного в короткое. В обоих случаях имеет место отнесенность к
некоторой временной отграниченное™. А во всех синонимах: «вечер», «час»,
«время» или любое другое обозначение отрезка времени — присутствует
значение измеряемой длительности1. Общий семантический
дифференциальный признак, входящий в оппозицию «измеримое — неизмеримое» как ее
первый член, делает слова семантически соединенными. Пушкин использует
это ожидание, но одновременно и обманывает его, заменяя первый член
оппозиции на второй (в диалоге в аду из наброска к замыслу о Фаусте):
[Ведь] мы играем не <из> <?> денег,
А только б вечность проводить!
Сочетание несочетаемого — «вечности» с ее отсутствием признака
измеримости и глагола «проводить» — активизирует неожиданные аспекты значения:
вечность предстает как неизмеримая цепь измеримых отрезков времени
(вечность, заполненная партиями в подкидного дурака!). В этом вторичном
семантическом ряду вечность уже не только антоним времени («времени
больше не будет»), но и его синоним (они взаимно заменимы в одинаковом
окружении).
В тексте Пастернака («Распад») — более сложный случай:
Куда часы нам затесать?
Как скоротать тебя, распад?
Поволжьем мира чудеса
Взялись, бушуют и не спят.
«Скоротать распад» — приписывает распаду признак временной
ограниченности, не свойственный ему ни в прямой, ни в негативной форме
(характерно, что когда в физике необходимо употребить это слово со значением
измеримой временной протяженности, то прибавляют «период», образуя
нерасторжимый фразеологизм-термин «период полураспада»). Это значение
слова «распад», видимо, навеяно словами Гамлета в конце первого акта о
распаде как промежутке между прежде связанными веками («распалась связь
времен»).
1 Ср. чрезвычайно интересную статью Гуннара Якобссона «Развитие понятия
времени в свете славянского £asb (Scandoslavica. IV. Munksgaard — Copenhagen, 1958),
раскрывающую семантику пространственной протяженности в общеславянском «час».
8. Композиция словесного художественного произведения
203
Таким образом, метафору (и шире — тропы) можно определить как
напряжение между семантической структурой языка искусства и естественного
языка. Характер тропов в значительной мере вводит нас в семантическую
структуру художественного языка поэзии как особой структуры. Из этого, с
одной стороны, вытекает то, что система тропов определяется общей
структурой художественного и идейно-философского мышления данного писателя,
с другой — тем, что система тропов функционально однородна с другими
типами художественной синтагматики. Не случайно в тех жанрах, где развит
метафоризм (например, в бессюжетной лирике), менее сильное развитие
получает сюжетная организация текста (синтагматика сверхфразовых единиц),
и обратно.
В этом смысле между часто сближаемыми метафорой, с одной стороны,
и аллегорией и символом, с другой, разница глубже, чем это, как правило,
представляют. Метафора строится как сближение двух самостоятельных
семантических единиц, аллегория и символ — как углубление в значение одной
единицы. Разница между ними — разница синтагматической и
парадигматической осей организации художественного текста.
8. Композиция словесного
художественного произведения
Рамка
Под композицией обычно понимают синтагматическую организованность
сюжетных элементов. Таким образом, парадигматическое вычленение
элементов данного уровня должно предшествовать изучению синтагматической их
согласованности.
Однако, как мы видели, вычленение сюжетных элементов зависит от
основных оппозиций, а эти последние, в свою очередь, могут быть выделены
только в пределах заранее ограниченного семантического поля (выделение
двух взаимно дополнительных подмножеств возможно лишь при наличии
заранее данного универсального множества). Из этого вытекает, что проблема
рамки — границы, отделяющей художественный текст от нетекста, —
принадлежит к числу основополагающих. Одни и те же слова и предложения,
составляющие текст произведения, станут по-разному члениться на сюжетные
элементы в зависимости от того, где будет проведена черта, отграничивающая
текст от нетекста. То, что находится по внешнюю сторону этой черты, не
входит в структуру данного произведения: это или не произведение, или
204
СТРУКТУРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
другое произведение. Например, в театре XVIII в. скамьи особо
привилегированных зрителей устанавливались на сцене так, что зрители в зале
одновременно видели на сцене и зрителей и актеров. Но в художественное
пространство пьесы, расположенное внутри ограничивающей его рамки,
попадали только актеры, поэтому зритель видел на сцене зрителей, но не
замечал их.
Рама картины может быть самостоятельным произведением искусства,
однако она находится по другую сторону ограничивающей полотно черты,
и мы ее не видим, когда смотрим на картину. При этом, стоит только нам
начать рассматривать раму как некоторый самостоятельный текст, чтобы
полотно исчезло из поля нашего художественного зрения — оно оказывается
по другую сторону границы. Занавес, расписанный специально для данной
пьесы, входит в текст, занавес не изменяющийся — нет. Занавес МХАТа с
летящей чайкой для каждой из пьес, ставившихся на сцене театра, в
отдельности — находится за пределами текста. Но стоит нам представить все
постановки театра как единый текст (это возможно при наличии
идейно-художественной общности между ними), а отдельные пьесы как элементы этого
единства, и занавес окажется внутри художественного пространства. Он станет
элементом текста, и мы сможем говорить о его композиционной роли.
Примером непроницаемости рамки для семантических связей является
знаменитая эрмитажная «Кающаяся Мария Магдалина» Тициана. Картина
вставлена в мастерской работы раму, изображающую двух полуобнаженных
мужчин с закрученными усами. Соединение сюжета картины и сюжета рамы
порождает комический эффект. Однако этого соединения не происходит,
поскольку, рассматривая картину, мы исключаем раму из своего
семантического поля — она лишь воплощенная граница художественного пространства,
которое составляет целостный универсум. Стоит нам обратить внимание на
раму в качестве самостоятельного текста, как картина превращается в ее
границу и в этом смысле не отличается от стены. Рама картины, рампа
сцены, границы экрана составляют границы художественного мира,
замкнутого в своей универсальности.
С этим связаны определенные теоретические аспекты искусства как
моделирующей системы. Будучи пространственно ограниченным, произведение
искусства представляет собой модель безграничного мира.
Рама картины, рампа в театре, начало и конец литературного или
музыкального произведения, поверхности, отграничивающие скульптуру или
архитектурное сооружение от художественно выключенного из него
пространства, — все это различные формы общей закономерности искусства:
произведение искусства представляет собой конечную модель бесконечного мира.
Уже потому, что произведение искусства в принципе является отображением
бесконечного в конечном, целого в эпизоде, оно не может строиться как
копирование объекта в присущих ему формах. Оно есть отображение одной
реальности в другую, то есть всегда перевод.
Приведем лишь единственный и извлеченный не из сферы искусства
пример, показывающий связь между проблемой границы и условностью языка
отображения объекта в некотором другом.
8. Композиция словесного художественного произведения
205
Исходное положение геометрии Лобачевского — отрицание пятого
постулата Эвклида, согласно которому через точку, не лежащую на данной
прямой, нельзя провести более одной прямой, параллельной данной. Обратное
предположение полностью разрывает с привычными наглядными
представлениями и, как кажется, средствами «употребительных» (по терминологии
Лобачевского) приемов геометрии на плоскости не может быть изображено.
Однако стоит, как это сделал немецкий математик Клейн, нанести на обычной
эвклидовой плоскости круг и начать рассматривать лишь его внутренность,
исключив из рассмотрения окружность и внележащую область, как окажется
возможным наглядно моделировать положения геометрии Лобачевского.
Достаточно взглянуть на чертеж, чтобы убедиться, что внутри окружности
(которая в своей отграниченности выступает в качестве отображения всего
пространства Лобачевского, а проведенные в нем хорды — заменители
прямых) положение Лобачевского о возможности проведения через одну точку
двух параллельных к третьей прямых (здесь — хорд) выполняется. Именно
характер отграниченности пространства позволяет обычную геометрию
внутри круга рассматривать как модель геометрии Лобачевского1.
Приведенный пример имеет прямое отношение к проблеме рамки в
искусстве. Моделируя безграничный объект (действительность) средствами
конечного текста, произведение искусства своим пространством заменяет не
часть (вернее, не только часть) изображаемой жизни, но и всю эту жизнь в
ее совокупности. Каждый отдельный текст одновременно моделирует и не-
1 На чертеже видно, что в промежутке между хордами BD и СЕ можно, в пределах
пространства круга, провести ряд хорд, которые удовлетворяли бы требованию
проходить через точку А и не пересекаться с хордой ВС, что было бы невозможно, если
бы мы имели дело с неограниченным пространством плоскости.
206
СТРУКТУРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
который частный и универсальный объект. Так, сюжет «Анны Карениной»,
с одной стороны, отображает некоторый сужающийся объект: судьбу героини,
которую мы вполне можем сопоставить с судьбами отдельных, окружающих
нас в каждодневной действительности, людей. Этот объект, наделенный
собственным именем и всеми другими приметами индивидуальности, составляет
лишь часть отображаемого в искусстве универсума. Рядом с судьбой героини
в этом смысле можно поставить бесчисленное множество других судеб. Однако
этот же сюжет, с другой стороны, представляет собой отображение иного
объекта, имеющего тенденцию к неограниченному расширению. Судьбу
героини можно представить как отображение судьбы всякой женщины
определенной эпохи и определенного социального круга, всякой женщины, всякого
человека. В противном случае перипетии ее трагедии возбуждали бы чисто
исторический интерес, а для читателя, далекого от специальных задач изучения
нравов и быта, уже ставших достоянием истории, просто были бы скучны.
Можно, таким образом, выделить в сюжете (и шире — во всяком
повествовании) два аспекта. Один из них, при котором текст моделирует весь
универсум, можно назвать мифологическим, второй, отображающий какой-либо
эпизод действительности, — фабульным. Можно отметить, что возможны
художественные тексты, относящиеся к действительности только по
мифологическому принципу. Это будут тексты, отображающие всё не через посредство
отдельных эпизодов, а в виде чистых сущностей, например мифы. Однако
художественные тексты, построенные только по фабульному принципу,
видимо, невозможны. Они не будут восприниматься в качестве модели
некоторого объекта, воспринимаясь как самый этот объект. Даже когда
«литература факта», хроника Дзиги Вертова или «cinéma-vérité» стремятся заменить
искусство кусками реальности, они неизбежно создают модели универсального
характера, мифологизируют действительность, хотя бы самим фактом
монтажа или же невключения определенных сторон объекта в поле зрения
кинокамеры. Таким образом, именно мифологизирующий аспект текста связан в
первую очередь с рамкой, в то время как фабульный стремится к ее
разрушению. Современный художественный текст строится, как правило, на
конфликте между этими тенденциями, на структурном напряжении между ними.
Практически этот конфликт чаще всего осознается как спор между
представлением о том, что произведение искусства есть условное отображение
объекта («обобщение»), как считали и романтики и реалисты XIX в., или
самый объект («вещь»), как считали, например, футуристы и другие, связанные
с авангардизмом, направления в искусстве XX в.
Обострение этих споров, то есть фактически споров о природе условности
в искусстве, неизменно будет обострять проблему границ текста. Статуя
барокко, не умещающаяся на пьедестале, «Сентиментальное путешествие»
Стерна, демонстративно оканчивающееся «не концом», пьесы Пиранделло
или постановки Мейерхольда, переносящие действие за рампу, «Евгений
Онегин», обрывающийся без сюжетной развязки, или «книга про бойца»
«Василий Теркин», которая противостоит канцелярским «делам» именно как
жизнь, своей бесконечностью:
8. Композиция словесного художественного произведения
207
Без начала, без конца —
Не годится в «дело»! —
все это разные формы конфликта между мифологическим и фабульным
аспектами текста.
Сказанное особенно существенно в связи с проблемой рамки в словесном
художественном тексте. Рамка литературного произведения состоит из двух
элементов: начала и конца. Особая моделирующая роль категорий начала и
конца текста непосредственно связана с наиболее общими культурными
моделями. Так, например, для очень широкого круга текстов наиболее общие
культурные модели будут давать резкую отмеченность этих категорий.
Для многих мифов или текстов раннего средневековья будет характерна
повышенная роль начала как основной границы. Это будет соответствовать
противопоставлению существующего как сотворенного несуществующему как
несотворенному. Акт творения — создания — есть акт начала. Поэтому
существует то, что имеет начало. В связи с этим утверждение своей земли
как культурно, исторически и государственно существующей в средневековых
хрониках часто будет оформляться в виде повествования о «начале» своей
земли. Так, киевское летописание следующим образом определяет самое себя:
«Се повести временных лет откуду есть пошла русская земля, кто в Киеве
нача первее княжити и откуду русская земля стала есть». Сама «Повесть
временных лет» — это рассказ о началах. Не только земли, но и роды,
фамилии существуют, если могут указать на своего первоначальника.
Начало имеет определяющую моделирующую функцию — оно не только
свидетельство существования, но и замена более поздней категории
причинности. Объяснить явление — значит указать на его происхождение. Так,
объяснение и оценка какого-либо факта, например убийства князем брата,
будет осуществляться в форме указания на то, кто первый совершил этот
грех. Подобную систему представлений воспроизведет Гоголь в «Страшной
мести», где всякое новое преступление выступает не как следствие
первоначального греха, а как сам этот, растущий первый акт убийства. Поэтому все
преступления потомков увеличивают грех основоположника событий. С этим
можно сопоставить утверждение Грозного, что Курбский своим бегством за
рубеж погубил души своих — уже умерших — предков. Показательно, что
речь идет не о потомках, а о предках. Текст обращен не к концу, а к началу.
Основной вопрос — не «чем кончилось», а «откуда повелось».
Не следует думать, что подобный тип «мифологизации» свойствен только
«Повести временных лет» или, скажем, «Повести о Горе-Злочастии», где
судьба «доброго молодца» предваряется таким вступлением:
...А в начале века сего тленного
Сотворил небо и землю,
Сотворил бог Адама и Еву...
...Ино зло племя человеческо:
В начале пошло непокорливо...
Стремление объяснить явление указанием на его истоки свойственно очень
широкому кругу вполне современных культурных моделей, например эволю-
208
СТРУКТУРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
ционно-генетическому этапу науки, заменявшему, скажем, изучение языка
как структуры историей языка, а анализ функций художественного текста в
коллективе — разысканиями о происхождении текстов. Сказанное не ставит
под сомнение важность подобных исследований, а только указывает на связь
их с определенными видами отграниченностей моделей культуры.
Модели культуры с высокой отмеченностью начала определенным
образом связаны с появлением текстов, отграниченных только с одной, начальной
точки зрения.
Можно назвать тексты, которые считаются «отграниченными», если имеют
начало. Конец же принципиально исключается — текст требует продолжения.
Таковы летописи. Это тексты, которые не могут кончиться. Если текст
оборвался, то или же должен найтись его продолжатель, или текст начинает
восприниматься как неполный, дефектный. Получая «конец», текст становится
неполным. Принципиально открытый характер имеют такие тексты, как
злободневные куплеты типа ноэлей, которые должны продолжаться по мере
развития событий. На этом же принципе построены «Певец во стане русских
воинов» Жуковского и «Дом сумасшедших» Воейкова. Можно было бы
указать также на произведения, публикуемые главами, выпусками, которые
продолжаются автором уже после того, как часть текста стала известна
читателю: «Евгений Онегин» или «Василий Теркин». Характерно, что в
момент превращения «собранья пестрых глав», публикуемых на протяжении
ряда лет, в книгу, единый текст, Пушкин не придал ему признаков
«оконченное™», но ослабил и функцию начала: дав в седьмой главе пародию на
классицистическое вступление в поэму («хоть поздно, а вступленье есть»),
Пушкин подчеркнул «безначальность» поэмы. Аналогичную трансформацию
пережил и «Теркин». Черты такого же конструктивного принципа можно
усмотреть и в композиции серий новелл, романов или кинофильмов,
продолжаемых потому, что авторы не могут решиться «убить» полюбившегося
уже читателю героя или эксплуатируют коммерческий успех начальных
произведений.
Поскольку бесспорно, что современный литературный журнал в
определенной мере воспринимается как единый текст, то и здесь мы имеем дело с
построением, дающим фиксированное начало и «открытый» конец.
Если начало текста в той или иной мере связано с моделированием
причины, то конец активизирует признак цели.
От эсхатологических легенд до утопических учений мы можем проследить
широкую представленность культурных моделей с отмеченным концом, при
резко пониженной моделирующей функции начала.
В связи с разной степенью отмеченности начала или конца в культурных
моделях разного типа вперед выдвигаются рождение или смерть как основные
моменты бытия, возникают сюжеты типа «Рождение человека», «Три смерти»,
«Смерть Ивана Ильича». Именно усиление моделирующей функции конца
текста (жизнь человека, равно как и ее описание, воспринимаются в качестве
особых текстов, заключающих в себе информацию большой важности)
вызывает протест против того, чтобы конец рассматривать в качестве основного
носителя значения. Возникает оксюморонное в,данной системе выражение
8. Композиция словесного художественного произведения
209
«бессмысленный конец», «бессмысленная смерть», сюжеты, посвященные
бессмысленной гибели, неразгаданному предназначению героев:
Спой о том, что не свершил он,
Для чего от нас спешил он...
{А. А. Блок)
У Лермонтова в письме М. А. Лопухиной от 28 августа 1832 г. рядом
помещены два стихотворения. В одном говорится о стремлении отказаться
от осмысленного и целенаправленного бытия человека ради стихийной жизни
природы:
Для чего я не родился
Этой синею волной? —
Не страшился б муки ада,
Раем не был бы прельщен;
Был бы волен от рожденья
Жить и кончить жизнь мою! —
В другом — открытая полемика с представлением о том, что осмысленность
жизни заключена в ее конце:
Конец! Как звучно это слово,
Как много — мало мыслей в нем!
С этим можно было бы сопоставить выделенность моделирующей функции
конца в каждой из новелл «Героя нашего времени» и приглушенность ее в
тексте романа как целом. Личная судьба Печорина «кончается» задолго до
конца текста: о смерти героя сообщается в «предисловии» к его «журналу»,
то есть в середине текста, а завершается роман как бы на полуслове: «Больше
я от него ничего не мог добиться: он вообще не любит метафизических
прений». Поэма «Сашка» сознательно создается как отрывок, не имеющий
конца.
Между тем очевидно, что, например, для современного бытового
мышления моделирующая функция конца очень значительна (ср. стремление читать
книги с конца или «подглядывать» в конец).
Это особенно существенно в связи с проблемой рамки в словесном
художественном тексте. Рамка литературного произведения состоит из двух
элементов — начала и конца. Приведем пример функции конца как текстовой
рамки. В литературном произведении нового времени с понятием «конца»
связываются определенные сюжетные ситуации. Так, Пушкин в отрывке «Вы
за „Онегина" советуете, други...» определил типичные «концевые» ситуации:
Вы за «Онегина» советуете, други,
Опять приняться мне в осенние досуги.
Вы говорите мне: он жив и не женат.
Итак, еще роман не кончен...
210
СТРУКТУРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
Это не исключает того, что текст может демонстративно кончаться
«неконцом» («Сентиментальное путешествие» Стерна) и что определенные типы
нарушений штампа могут, в свою очередь, превратиться в штампы.
Рассмотрим наиболее трафаретное представление о «конце» текста,
например happy end. Если герой умирает, мы воспринимаем произведение как
оканчивающееся трагически. Если же он женится, совершает великое открытие
или улучшает производственные показатели своего предприятия, — как
имеющее счастливый конец. При этом не лишено интереса, что переживание конца
текста как счастливого или несчастного включает в себя совершенно иные
показатели, чем если бы речь шла о подлинном событии. Если нам,
рассказывая о действительном историческом факте, имевшем место в прошлом веке,
сообщают, что главное действующее лицо в настоящее время уже скончалось,
мы не будем воспринимать это сообщение как печальное: нам заранее
известно, что человек, действовавший сто лет тому назад, сейчас не может не
быть мертв. Однако стоит избрать то же самое событие предметом
художественного произведения, как положение коренным образом меняется. Текст
заканчивается победой героя — и мы воспринимаем рассказ как имеющий
счастливый конец, текст доводит повествование до его смерти — и наше
впечатление меняется.
В чем же здесь дело?
В художественном произведении ход событий останавливается в тот
момент, когда обрывается повествование. Дальше уже ничего не происходит,
и подразумевается, что герой, который к этому моменту жив, уже вообще
не умрет, тот, кто добился любви, уже ее не потеряет, победивший не будет
в дальнейшем побежден, ибо всякое дальнейшее действие исключается.
Этим раскрывается двойная природа художественной модели: отображая
отдельное событие, она одновременно отображает и всю картину мира,
рассказывая о трагической судьбе героини — повествует о трагичности мира
в целом. Поэтому для нас так значим хороший или плохой конец: он
свидетельствует не только о завершении того или иного сюжета, но и о
конструкции мира в целом.
Показательно, что в случаях, когда конечный эпизод становится исходным
для нового повествования (конец жизни для христианина — начало
загробного существования; счастливый конец «Севильского цирюльника» становится
исходной драматической ситуацией для «Женитьбы Фигаро» и т. п.), он
отчетливо осознается как новая история. Не случайны частые концовки
повествовательных сюжетов типа: «но это уже совершенно другой рассказ»,
«но об этом в следующий раз».
Однако в современном повествовании категории начала и конца текста
играют и другую роль. Приступая к чтению книги, просмотру кинофильма
или пьесы в театре, читатель или зритель может быть не до конца осведомлен
или полностью не осведомлен в том, в какой системе закодирован
предлагаемый ему текст. Он, естественно, заинтересован в том, чтобы получить
максимально полное представление о жанре, стиле текста, тех типовых
художественных кодах, которые ему следует активизировать в своем сознании
для восприятия текста. Сведения об этом он черпает, в основном, в начале.
8. Композиция словесного художественного произведения
211
Конечно, вопрос этот, превращаясь порой в борьбу текста и штампа, может
растягиваться на все произведение, и очень часто конец выступает в роли
«антиначала», point'a, пародийно или каким-либо иным образом
переосмысляющего всю систему кодирования текста. Этим, в частности, достигается
постоянная деавтоматизированность применяемых кодов и предельное
снижение избыточности текста.
И все же кодирующая функция в современном повествовательном тексте
отнесена к началу, а сюжетно-«мифологизирующая» — к концу. Разумеется,
поскольку в искусстве правила существуют в значительной мере затем, чтобы
создавать возможность художественно значимого их нарушения, то и в данном
случае это типовое распределение функций создает возможности
многочисленных вариантных уклонений.
Проблема художественного пространства
Следствием представлений о художественном произведении как о
некоторым образом отграниченном пространстве, отображающем в своей
конечности бесконечный объект — внешний по отношению к произведению мир,
является внимание к проблеме художественного пространства.
Когда мы имеем дело с изобразительными (пространственными)
искусствами, то это делается особенно очевидно: правила отображения
многомерного и безграничного пространства действительности в двухмерном и
ограниченном пространстве картины становятся ее специфическим языком.
Например, законы перспективы как средства отображения трехмерного объекта
в двухмерном его образе в живописи становятся одним из основных
показателей этой моделирующей системы.
Однако не только изобразительные тексты мы можем рассматривать как
некоторые отграниченные пространства. Особый характер зрительного
восприятия мира, присущий человеку и имеющий результатом то, что денотатами
словесных знаков для людей в большинстве случаев являются некоторые
пространственные, зримые объекты, приводит к определенному восприятию
словесных моделей. Иконический принцип, наглядность присущи и им в
полной мере. Можно сделать некоторый мысленный эксперимент: представим
себе некоторое предельно обобщенное понятие, полностью отвлеченное от
каких-либо конкретных признаков, некоторое все, и попробуем определить
для себя его признаки. Нетрудно убедиться, что эти признаки для большинства
людей будут иметь пространственный характер: «безграничность» (то есть
отношение к чисто пространственной категории границы; к тому же в бытовом
сознании большинства людей «безграничность» — лишь синоним очень
большой величины, огромной протяженности), способность иметь части. Самое
понятие универсальности, как показал ряд опытов, для большинства людей
имеет отчетливо пространственный характер.
212
СТРУКТУРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
Таким образом, структура пространства текста становится моделью
структуры пространства вселенной, а внутренняя синтагматика элементов внутри
текста — языком пространственного моделирования.
Вопрос, однако, к этому не сводится. Пространство — «совокупность
однородных объектов (явлений, состояний, функций, фигур, значений
переменных и т. п.), между которыми имеются отношения, подобные обычным
пространственным отношениям (непрерывность, расстояние и т. п.). При
этом, рассматривая данную совокупность объектов как пространство,
отвлекаются от всех свойств этих объектов, кроме тех, которые определяются
этими принятыми во внимание пространственно-подобными отношениями»1.
Отсюда возможность пространственного моделирования понятий, которые
сами по себе не имеют пространственной природы. Этим свойством
пространственного моделирования широко пользуются физики и математики.
Понятия «цветовое пространство», «фазовое пространство» лежат в основе
широко используемых в оптике или электротехнике пространственных
моделей. Особенно существенно это свойство пространственных моделей для
искусства.
Уже на уровне сверхтекстового, чисто идеологического моделирования
язык пространственных отношений оказывается одним из основных средств
осмысления действительности. Понятия «высокий — низкий», «правый —
левый», «близкий — далекий», «открытый — закрытый», «отграниченный —
неограниченный», «дискретный — непрерывный» оказываются материалом
для построения культурных моделей с совсем не пространственным
содержанием и получают значение: «ценный — неценный», «хороший — плохой»,
«свой — чужой», «доступный — недоступный», «смертный — бессмертный»
и т. п. Самые общие социальные, религиозные, политические, нравственные
модели мира, при помощи которых человек на разных этапах своей духовной
истории осмысляет окружающую его жизнь, оказываются неизменно
наделенными пространственными характеристиками то в виде противопоставления
«небо — земля» или «земля — подземное царство» (вертикальная трехчленная
структура, организованная по оси верх — низ), то в форме некоторой
социально-политической иерархии с отмеченным противопоставлением «верхов»
«низам», то в виде нравственной отмеченности противопоставления «правое —
левое» (выражения: «наше дело правое», «пустить заказ налево»).
Представления о «возвышенных» и «унижающих» мыслях, занятиях, профессиях,
отождествление «близкого» с понятным, своим, родственным, а «далекого» с
непонятным и чужим — все это складывается в некоторые модели мира,
наделенные отчетливо пространственными признаками.
Исторические и национально-языковые модели пространства становятся
организующей основой для построения «картины мира» — целостной
идеологической модели, присущей данному типу культуры. На фоне этих
построений становятся значимыми и частные, создаваемые тем или иным текстом
1 Александров А. Д. Абстрактные пространства // Математика, ее содержание, методы
и значение. М., 1956. Т. 3. С. 151.
8. Композиция словесного художественного произведения
213
или группой текстов пространственные модели. Так, в лирике Тютчева «верх»
противостоит «низу», помимо общей для очень широкого круга культур
интерпретации в системе «добро — зло», «небо — земля», еще и как «тьма»,
«ночь» — «свету», «дню», «тишина» — «шуму», «одноцветность» —
«пестроте», «величие» — «суете», «покой» — «усталости».
Создается отчетливая модель мирового устройства, ориентированная по
вертикали. В ряде случаев «верх» отождествляется с «простором», а «низ» с
«теснотой» или же «низ» с «материальностью», а «верх» — с «духовностью».
Мир «низа» — дневной:
О, как пронзительны и дики,
Как ненавистны для меня
Сей шум, движенье, говор, клики
Младого, пламенного дня!
В стихотворении «Душа хотела б быть звездой» — интересная вариация этой
схемы:
Душа хотела б быть звездой,
Но не тогда, как с неба полуночи
Сии светила, как живые очи,
Глядят на сонный мир земной, —
Но днем, когда, сокрытые как дымом
Палящих солнечных лучей,
Они, как божества, горят светлей
В эфире чистом и незримом.
Противопоставление «верх» (небо) и «низ» (земля) получает здесь прежде
всего частную интерпретацию. В первой строфе единственный эпитет,
относящийся к семантической группе неба, — «живые», а земли — «сонный».
Если вспомнить, что «сон» для Тютчева — устойчивый синоним смерти,
например:
Есть близнецы — для земнородных
Два божества, — то Смерть и Сон,
Как брат с сестрою дивно сходных... —
то станет очевидно: здесь «верх» интерпретируется как сфера жизни, а «низ» —
смерти. Подобное истолкование устойчиво для Тютчева: крылья,
подымающие вверх, у него неизменно — «живые» («Ах, если бы живые крылья души,
парящей над толпой...» Или: «Природа-мать ему дала два мощных, два живых
крыла»). Для земли же обычно определение «прах»:
О, этот Юг, о, эта Ницца!..
О, как их блеск меня тревожит!
Жизнь, как подстреленная птица,
Подняться хочет — и не может...
Нет ни полета, ни размаху —
Висят поломанные крылья,
И вся она, прижавшись к праху,
Дрожит от боли и бессилья...
214
СТРУКТУРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
Здесь «блеск» — яркость, пестрота южного дня — оказывается в одном
синонимическом ряду с «прахом» и невозможностью полета.
Однако «ночь» первой строфы, распространяясь и на небо и на землю,
делает возможным определенный контакт между этими противоположными
полюсами тютчевской структуры мира. Не случайно в первой строфе они
связаны глаголом контакта, хотя и одностороннего («глядят на»). Во второй
строфе «день» на земле не распространяется на все мироздание. Он охватывает
лишь «низ» мира. Палящие солнечные лучи «как дымом» окутывают лишь
землю. Вверху же, недоступная для взоров («незримая» — и этим возможность
контактов оборвана), царит ночь. Таким образом, «ночь» — вечное состояние
«верха» — лишь периодически свойственное «низу», земле. И это лишь в те
минуты, когда «низ» лишается многих присущих ему черт: пестроты, шума,
подвижности.
Мы не ставим перед собой цели исчерпать тютчевскую картину
пространственного строения мира — нам интересно сейчас другое: подчеркнуть, что
пространственная модель мира становится в этих текстах организующим
элементом, вокруг которого строятся и непространственные его
характеристики.
Приведем пример из лирики Заболоцкого, в творчестве которого
пространственные структуры также играют очень большую роль. Прежде всего,
следует отметить высокую моделирующую роль оппозиции «верх — низ» в
поэзии Заболоцкого. При этом «верх» всегда оказывается синонимом понятия
«даль», а «низ» — «близость». Поэтому всякое передвижение есть, в конечном
счете, передвижение вверх или вниз. Движение, по сути дела, организуется
только одной — вертикальной — осью. Так, в стихотворении «Сон» автор
во сне оказывается «в местности безгласной». Окружающий его мир прежде
всего получает характеристику далекого («Я уплывал, я странствовал вдали»)
и отдаленного (очень странного).
Но дальше оказывается, что этот далекий мир расположен бесконечно
высоко:
Мосты в необозримой вышине
Висели над ущельями провалов...
Земля расположена далеко внизу:
Мы с мальчиком на озеро пошли,
Он удочку куда-то вниз закинул
И нечто, долетевшее с земли,
Не торопясь, рукою отодвинул.
Эта вертикальная ось одновременно организует и этическое пространство:
зло у Заболоцкого неизменно расположено внизу. Так, в «Журавлях»
моральная окраска оси «верх — низ» предельно обнажена: зло приходит снизу,
спасение от него — порыв вверх:
Черное зияющее дуло
Из кустов навстречу поднялось
8. Композиция словесного художественного произведения
215
И, рыданью горестному вторя,
Журавли рванулись в вышину.
Только там, где движутся светила,
В искупленье собственного зла
Им природа снова возвратила
То, что смерть с собою унесла:
Гордый дух, высокое стремленье,
Волю непреклонную к борьбе...
Совмещение высокого и далекого и противоположная характеристика
«низа» делают «верх» направлением расширяющегося пространства: чем выше,
тем безграничнее простор, чем ниже, тем теснее. Конечная точка низа
совмещает в себе все исчезнувшее пространство. Из этого вытекает, что движение
возможно лишь наверху и оппозиция «верх — низ» становится структурным
инвариантом не только антитезы <добро — зло», но и «движение —
неподвижность». Смерть — прекращение движения — есть движение вниз:
А вожак в рубашке из металла
Погружался медленно на дно...
В «Снежном человеке» привычная для искусства XX в. пространственная
схема: атомная бомба как смерть сверху — разрушена. Герой — «снежный
человек» — вынесен вверх, и атомная смерть приходит снизу, а погибая,
герой упадает вниз:
Говорят, что в Гималаях где-то,
Выше храмов и монастырей,
Он живет, неведомый для света
Первобытный выкормыш зверей.
В горные упрятан катакомбы,
Он и знать не знает, что под ним
Громоздятся атомные бомбы,
Верные хозяевам своим.
Никогда их тайны не откроет
Гималайский этот троглодит,
Даже если, словно астероид,
Весь пылая, в бездну полетит.
Однако понятие движения у Заболоцкого часто усложняется в связи с
усложнением понятия «низ». Дело в том, что для ряда стихотворений
Заболоцкого «низ» как антитеза верху — пространству — движению не конечная
точка опускания. Связанный со смертью уход в глубину, расположенную
ниже обычного горизонта стихотворений Заболоцкого, неожиданно вызывает
признаки, напоминающие некоторые свойства «верха». Верху присуще
отсутствие застывших форм — движение здесь истолковывается как
метаморфоза, превращение, причем возможности сочетаний здесь не предусмотрены
заранее:
Я хорошо запомнил внешний вид
Всех этих тел, плывущих из пространства:
216
СТРУКТУРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
Сплетенье форм, и выпуклости плит,
И дикость первобытного убранства.
Там тонкости не видно и следа,
Искусство форм там явно не в почете...
Это переразложение земных форм есть вместе с тем приобщение формам более
общей космической жизни. Но то же самое относится и к подземному,
посмертному пути человеческого тела. В обращении к умершим друзьям поэт говорит:
Вы в той стране, где нет готовых форм,
Где все разъято, смешано, разбито,
Где вместо неба — лишь могильный холм...
Таким образом, в качестве неподвижного противопоставления «верху»
выступает земная поверхность — бытовое пространство обыденной жизни.
Выше и ниже его возможно движение. Но движение это понимается
специфически. Механическое перемещение неизменных тел в пространстве
приравнивается неподвижности, подвижность — это превращение.
В связи с этим в творчестве Заболоцкого выдвигается новое существенное
противопоставление: неподвижность приравнивается не только
механическому передвижению, но и всякому однозначно предопределенному, полностью
детерминированному движению. Такое движение воспринимается как рабство,
и ему противопоставляется свобода — возможность непредсказуемости (в
терминах современной науки эту оппозицию текста можно было бы
представить как антиномию: избыточность — информация). Отсутствие свободы,
выбора — черта материального мира. Ему противостоит свободный мир
мысли. Такая интерпретация этого противопоставления, характерная для
всего раннего и значительной части стихотворений позднего Заболоцкого,
определила причисление им природы к низшему, неподвижному и рабскому
миру. Этот мир исполнен тоски и несвободы и противостоит миру мысли,
культуры, техники и творчества, дающим выбор и свободу установления
законов там, где природа диктует лишь рабское исполнение:
И уйдет мудрец, задумчив,
И живет, как нелюдим,
И природа, вмиг наскучив,
Как тюрьма, стоит над ним.
У животных нет названья.
Кто им зваться повелел?
Равномерное страданье —
Их невидимый удел.
Вся природа улыбнулась,
Как высокая тюрьма.
Те же образы природы сохраняются и в творчестве позднего Заболоцкого.
Культура, сознание — все виды одухотворенности сопричастны «верху»,
а звериное, нетворческое начало составляет «низ» мироздания. Интересно в
этом отношении пространственное решение стихотворения «Шакалы».
Стихотворение навеяно реальным пейзажем южного берега Крыма и на уровне
8. Композиция словесного художественного произведения
217
описываемой поэтом действительности дает заданное пространственное
размещение — санаторий находится внизу, у моря, а шакалы воют наверху, в
горах. Однако пространственная модель художника вступает в противоречие
с этой картиной и вносит в нее коррективы.
Санаторий принадлежит миру культуры — он подобен электроходу в
другом стихотворении крымского цикла, о котором сказано:
Гигантский лебедь, белый гений,
На рейде встал электроход.
Он встал над бездной вертикальной
В тройном созвучии октав,
Обрывки бури музыкальной
Из окон щедро раскидав.
Он весь дрожал от этой бури,
Он с морем был в одном ключе,
Но тяготел к архитектуре,
Подняв антенну на плече.
Он в море был явленьем смысла...
Поэтому стоящий у моря санаторий назван «высоким» (ср. электроход «над
бездной вертикальной»), а шакалы, хотя и находятся в горах, помещены в
низ верха:
Лишь там, наверху, по оврагам...
Не гаснут всю ночь огоньки.
Но, поместив шакалов в «овраги гор» (пространственный оксюморон!),
Заболоцкий снабжает их «двойниками» — квинтэссенцией низменной животной
сущности, — помещенными еще глубже:
И звери по краю потока
Трусливо бегут в тростники,
Где в каменных норах глубоко
Беснуются их двойники.
Мышление неизменно выступает в лирике Заболоцкого как вертикальное
восхождение освобожденной природы:
И я, живой, скитался над полями,
Входил без страха в лес,
И мысли мертвецов прозрачными столбами
Вокруг меня вставали до небес.
И голос Пушкина был над листвою слышен,
И птицы Хлебникова пели у воды.
И все существованья, все народы
Нетленное хранили бытие,
И сам я был не детище природы,
Но мысль ее! Но зыбкий ум ее!
Всем формам неподвижности: материальной (в природе и быту человека),
умственной (в его сознании) — противостоит творчество. Творчество осво-
218
СТРУКТУРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
бождает мир от рабства предопределенностей. Оно — источник свободы. В
этой связи возникает и особое понятие гармонии. Гармония — это не
идеальные соответствия уже готовых форм, а создание новых, лучших
соответствий. Поэтому гармония всегда создание человеческого гения. В этом смысле
стихотворение «Я не ищу гармонии в природе» — поэтическая декларация
Заболоцкого. Не случайно он ее поставил на первое место (нарушая
хронологический порядок) в сборнике стихов 1932—1958 гг. Творчество человека —
продолжение творческих сил природы.
В природе также присутствует большая и меньшая одухотворенность;
озеро гениальнее, чем окружающая его «трущоба», оно «горит устремленное
к небу ночному», «чаша прозрачной воды сияла и мыслила мыслью отдельной»
(«Лесное озеро»).
Таким образом, основная ось «верх — низ» реализуется в текстах через
ряд вариантных противопоставлений.
Верх: Низ:
далеко близко
просторно тесно
движение неподвижность
метаморфоза механическое движение
свобода рабство
информация избыточность
мысль (культура) природа
творчество отсутствие творчества
(создание новых форм) (застывшие формы)
гармония отсутствие гармонии
Такова общая система Заболоцкого. Однако художественный текст — не
копия системы: он складывается из значимых выполнений и значимых
невыполнений ее требований. Именно потому, что охарактеризованная система
пространственных отношений организует подавляющее большинство текстов
Заболоцкого, отклонения от нее делаются особенно значимыми. В
стихотворении «Противостояние Марса» — уникальном в творчестве Заболоцкого,
поскольку мир мысли, логики и науки выступает здесь как бездушный и
бесчеловечный, — мы обнаруживаем совершенно иную структуру
художественного пространства. Противопоставление «мысль, сознание — быт»
сохраняется (в равной мере как и отождествление первого с «верхом», а второго
с «низом»). Однако совершенно неожиданно для Заболоцкого «дух, полный
разума и воли» получает второе определение: «лишенный сердца и души».
Сознательность выступает как синоним зла и зверского, античеловеческого
начала в культуре:
И тень сознательности злобной
Кривила смутные черты,
Как будто дух звероподобный
Смотрел на землю с высоты.
Мир бытовой, домашний, представленный в облике привычных вещей и
предметов, оказывается близким, человечным и добрым. Уничтожение
вещей — чуть ли не единственный раз у Заболоцкого — оказывается злом.
8. Композиция словесного художественного произведения
219
Вторжение войны и других форм социального зла представляется не как
наступление стихии, природы на разум, а как бесчеловечное вторжение
абстрактного в частную, вещественную, бытовую жизнь человека. Не
случайна, как кажется, здесь пастернаковская интонация:
Война с ружьем наперевес
В селеньях жгла дома и вещи
И угоняла семьи в лес.
Персонифицированная абстракция войны сталкивается с миром вещественным
и реальным. При этом мир зла — это мир без частностей. Он преобразован
на основании науки, и из него удалены все «мелочи». Ему противостоит
«непреобразованный», запутанный, нелогичный мир земной реальности.
Сближаясь с традиционно-демократическими представлениями, Заболоцкий,
вопреки господствующим в его поэзии семантическим структурам,
употребляет понятие «естественный» с положительным знаком:
Кровавый Марс из бездны синей
Смотрел внимательно на нас.
Как будто дух звероподобный
Смотрел на землю с высоты.
Тот дух, что выстроил каналы
Для неизвестных нам судов
И стекловидные вокзалы
Средь марсианских городов.
Дух, полный разума и воли,
Лишенный сердца и души,
Кто от чужой не страждет боли,
Кому все средства хороши.
Но знаю я, что есть на свете
Планета малая одна,
Где из столетия в столетье
Живут иные племена.
И там есть муки и печали,
И там есть пища для страстей,
Но люди там не утеряли
Души естественной своей.
И эта малая планета —
Земля злосчастная моя.
Примечательно, что в этом столь неожиданном для Заболоцкого тексте резко
меняется система пространственных отношений. «Высокое», «далекое» и
«обширное» противостоит «низкому», «близкому» и «малому» как зло добру.
«Небеса», «бездна синяя» входят в эту модель мира с отрицательным
значением. Глаголы, значение которых направлено сверху вниз, несут негативную
семантику. Следовало бы отметить, что, в отличие от других текстов
Заболоцкого, «верхний» мир не представлен текучим и подвижным: он застыл,
зафиксировался в своей логической косности и неподвижности. Не случайно
220
СТРУКТУРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
именно ему приписана не только стройность, непротиворечивость,
законченность, но и жесткая цветовая контрастность:
Кровавый Марс из бездны синей.
Земной мир — мир переходов и цветовых полутонов:
Так золотые волны света
Плывут сквозь сумрак бытия.
Как видим, пространственная структура того или иного текста, реализуя
пространственные модели более общего типа (творчества определенного
писателя, того или иного литературного направления, той или иной
национальной или региональной культуры), представляет всегда не только вариант
общей системы, но и определенным образом конфликтует с ней, деавтома-
тизируя ее язык.
Наряду с понятием «верх — низ» существенным признаком, организующим
пространственную структуру текста, является оппозиция «замкнутый —
разомкнутый». Замкнутое пространство, интерпретируясь в текстах в виде
различных бытовых пространственных образов: дома, города, родины — и наделяясь
определенными признаками: «родной», «теплый», «безопасный», противостоит
разомкнутому «внешнему» пространству и его признакам: «чужое»,
«враждебное», «холодное». Возможны и противоположные интерпретации.
В этом случае важнейшим топологическим признаком пространства
сделается граница. Граница делит все пространство текста на два взаимно не
пересекающихся подпространства. Основное ее свойство — непроницаемость.
То, каким образом делится текст границей, составляет одну из существенных
его характеристик. Это может быть деление на своих и чужих, живых и
мертвых, бедных и богатых. Важно другое: граница, делящая пространство
на две части, должна быть непроницаемой, а внутренняя структура каждого
из подпространств — различной. Так, например, пространство волшебной
сказки отчетливо членится на «дом» и «лес». Граница между ними отчетлива —
опушка леса, иногда — река (битва со змеем почти всегда происходит на
«мосту»). Герои леса не могут проникнуть в дом — они закреплены за
определенным пространством. Только в лесу могут происходить страшные
и чудесные события.
Очень отчетливо закрепление определенных типов пространства за
определенными героями у Гоголя. Мир старосветских помещиков отгорожен от
внешнего многочисленными концентрическими защитными кругами («круг»
в «Вие»), долженствующими укрепить непроницаемость внутреннего
пространства. Не случайно многократное повторение слов с семантикой круга
в описании поместья Товстогубов: «Я иногда люблю сойти на минуту в
сферу этой необыкновенно уединенной жизни, где ни одно желание не
перелетает за частокол, окружающий небольшой дворик, за плетень сада,
наполненного яблонями и сливами, за деревенские избы, его окружающие...»1
Лай собак, скрип дверей, противопоставление тепла дома внешнему холоду,
1 Гоголь Н. В. Поли. собр. соч. М, 1937. Т. 2. С. 13. Курсив мой. — Ю. М.
8. Композиция словесного художественного произведения
221
окружающая дом галерея, защищающая его от дождя, — все это создает
полосу неприступности для враждебных внешних сил. Напротив того, Тарас
Бульба — герой разомкнутого пространства. Повествование начинается с
рассказа об уходе из дома, сопровождаемом битьем горшков и домашней
утвари. Нежелание спать в доме лишь начинает длинный ряд описаний,
свидетельствующих о принадлежности этих персонажей к миру незамкнутого
пространства: «...лишившись дома и кровли, стал здесь отважен человек...».
Сечь не имеет не только стен, ворот, оград — она постоянно меняет место.
«Нигде не видно было забора <...>. Небольшой вал и засека, не хранимые
решительно никем, показывали страшную беспечность»1. Не случайно стены
появляются лишь как враждебная запорожцам сила. В мире сказки или
«Старосветских помещиков» зло, гибель, опасность приходят из внешнего,
открытого мира. От него обороняются оградами и запорами. В «Тарасе
Бульбе» сам герой принадлежит внешнему миру — опасность приходит из
мира замкнутого, внутреннего, отграниченного. Это дом, в котором можно
«обабиться», уют. Самая безопасность внутреннего мира таит для героя этого
типа угрозу: она может его соблазнить, совлечь с пути, прикрепить к месту,
что равносильно измене. Стены и ограды выглядят не как защита, а как
угроза (запорожцы «не любили иметь дело с крепостями»).
Случай, когда пространство текста делится некоторой границей на две
части и каждый персонаж принадлежит одной из них, — основной и
простейший. Однако возможны и более сложные случаи: разные герои не только
принадлежат разным пространствам, но и связаны с различными, порой
несовместимыми типами членения пространства. Один и тот же мир текста
оказывается различным образом расчленен применительно к разным героям.
Возникает как бы полифония пространства, игра разными видами их членения.
Так, в «Полтаве» есть два непересекающихся и несовместимых мира: мир
романтической поэмы с сильными страстями, соперничеством отца и
любовника за сердце Марии и мир истории и исторических событий. Одни герои
(как Мария) принадлежат только первому миру, другие (как Петр) только
второму. Мазепа — единственный персонаж, входящий в оба.
В «Войне и мире» столкновение различных персонажей — одновременно
и столкновение присущих им представлений о структуре мира.
С проблемой структуры художественного пространства тесно связаны две
другие: проблемы сюжета и точки зрения.
Проблема сюжета
Мы убедились, что место действий — это не только описания пейзажа
или декоративного фона. Весь пространственный континуум текста, в котором
отображается мир объекта, складывается в некоторый топос. Этот топос всегда
1 Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. Т. 2. С. 46, 62.
222
СТРУКТУРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
наделен некоторой предметностью, поскольку пространство всегда дано
человеку в форме какого-либо конкретного его заполнения. В данном случае
несущественно, что иногда (как, например, в искусстве XIX в.) это заполнение
стремится максимально приблизиться к бытовому окружению писателя и его
аудиторий, в то время как в других случаях (например, в экзотических
описаниях романтизма или в современной «космической» научной фантастике)
принципиально удаляется от привычной «предметной» реальности1.
Важно другое — за изображением вещей и предметов, в окружении
которых действуют персонажи текста, возникает система пространственных
отношений, структура топоса. При этом, являясь принципом организации и
расстановки персонажей в художественном континууме, структура топоса
выступает в качестве языка для выражения других, непространственных
отношений текста. С этим связана особая моделирующая роль художественного
пространства в тексте.
С понятием художественного пространства тесно связано понятие сюжета.
В основе понятия сюжета лежит представление о событии. Так, Б. В. То-
машевский в классической по точности формулировок «Теории литературы»
пишет: «Фабулой называется совокупность событий, связанных между собой,
о которых сообщается в произведении. <...> Фабуле противостоит сюжет: те
же события, но в их изложении, в том порядке, в каком они сообщены в
произведении, в той связи, в какой даны в произведении сообщения о них»2.
Событие принимается за мельчайшую нерасторжимую единицу сюжетного
построения, которую А. Н. Веселовский определил как мотив. В поисках
основного признака мотива он обратился к семантическому аспекту: мотив —
это элементарная, нерасторжимая единица повествования, соотнесенная с
типовым целостным событием внележащего (бытового) плана: «Под мотивом
я разумею формулу, отвечавшую, на первых порах, общественности на
вопросы, которые природа всюду ставила человеку, либо закреплявшую
особенно яркие, казавшиеся важными или повторявшиеся впечатления
действительности. Признак мотива — его образный одночленный схематизм»3.
Отметим бесспорную глубину этого определения. Выделив в мотиве
двуединую — словесное выражение и идейно-бытовое содержание — сущность
и указав на его повторяемость, А. Н. Веселовский ясно подошел к
определению знаковой природы вводимого им понятия. Однако попытки применить
сконструированную таким образом модель мотива к дальнейшей работе по
1 Поскольку «невероятное» окружение создается на основе наиболее глубоких
представлений писателя о незыблемых основах окружающей его жизни, именно в
фантастике проявляются основные черты того повседневного сознания, которое стремятся
изгнать. Когда Хлестаков, описывая даваемые им в Петербурге балы, безудержно
фантазирует («Суп в кастрюльке прямо на пароходе приехал из Парижа»), он наиболее
точен в описании быта мелкого чиновника (суп подают на стол в кастрюле, обедающий
сам снимает крышку). По словам Гоголя, человек, говоря ложь, «выказывает себя
именно в ней таким, как есть». Само понятие фантастики, таким образом, относительно.
2 Томашевский Б. Теория литературы (Поэтика). Л., 1925. С. 137.
3 Веселовский А. Н. Историческая поэтика. Л., 1940. С. 494.
8. Композиция словесного художественного произведения
223
анализу текстов сразу же влекут за собой затруднения: ниже мы убедимся в
том, что одна и та же бытовая реальность может в разных текстах приобретать
или не приобретать характер события.
В. Б. Шкловский декларировал иное, чем Веселовский, чисто
синтагматическое выделение единицы сюжета: «Сказка, новелла, роман — комбинация
мотивов; песня — комбинация стилистических мотивов; поэтому сюжет и
сюжетность являются такой же формой, как и рифма»1. Правда, сам
Шкловский не выдержал этого принципа так последовательно, как это сделал
В. Я. Пропп в «Морфологии сказки»: фактически в основу его разборов
положена не синтагматика мотивов, а композиция приемов. Прием же
мыслится, в связи с общей концепцией «медленного восприятия» и деавтомати-
зации формы, как отношение ожидания к тексту. Таким образом, «прием»
у Шкловского — отношение элемента одной синтагматической структуры к
другой и, следовательно, включает семантический элемент. Поэтому
утверждение Шкловского: «В понятии „содержание" при анализе произведения
искусства, с точки зрения сюжетности, надобности не встречается»2 —
полемический выпад, а не точное истолкование позиции автора. В основе позиции
Шкловского — стремление понять тайну того, почему все автоматические
элементы текста в искусстве становятся содержательными. Здесь нельзя не
видеть выпада против той академической науки, которая устами А. Н. Ве-
селовского упрекнула Роде: «К поэтическим произведениям он относится
только как к поэтическим». И далее: «Поэтическое произведение есть такой
же исторический памятник, как и всякий другой, и я не вижу особой
необходимости в массе археологических и других подпорок и проверок, прежде
чем утвердить за ним этот прирожденный ему титул». Характерен следующий
далее наивный аргумент: «Ведь никто из современников не обличил
трубадуров в неправдоподобии»3. Никто из слушателей, эстетически переживающих
волшебную сказку, не обличает рассказчика в неправдоподобии — значит
ли это, что Баба-Яга и Змей-Горыныч составляли бытовую реальность? Ведь
именно из-за подмены верного тезиса о том, что произведение искусства
представляет собой исторический памятник, положением о том, что это такой
же памятник, «как и всякий другой», продолжаются в околонаучной
литературе попытки увидеть в мифологических чудовищах ископаемых
динозавров, а в легенде о Содоме и Гоморре — воспоминание об атомном взрыве
и космических перелетах4. Глубокие исходные принципы Веселовского не
1 Шкловский В. Теория прозы. М.; Л., 1925. С. 50.
2 Там же.
3 Веселовский А. Н. Избр. статьи. Л., 1939. С. 35.
4 Исходя из наивно-реалистического представления о соотношении литературы и
действительности, А. Н. Веселовский закономерно останавливается в недоумении
перед тем фактом, что «волосы светлорусые: это любимый цвет у греков и римлян;
все гомеровские герои белокуры, кроме Гектора» {Веселовский А. Н. Историческая
поэтика. С. 75). «Имеем ли мы дело с безучастным переживанием древнейших
физиологических впечатлений, или с этническим признаком?» — спрашивает он. Однако
вряд ли физиология зрения и этнический тип жителей Средиземноморья претерпели
за исторический период столь коренные изменения.
224
СТРУКТУРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
получили полной реализации в его трудах. Однако мысль А. Н. Веселовского
о знаке-мотиве как первоэлементе сюжета, равно как и синтагматический
анализ В. Я. Проппа и синтагмо-функциональный В. Б. Шкловского, с
разных сторон подготавливали современное решение этого вопроса.
Что же представляет собой событие как единица сюжетосложения?
Событием в тексте является перемещение персонажа через границу
семантического поля. Из этого вытекает, что ни одно описание некоторого
факта или действия в их отношении к реальному денотату или семантической
системе естественного языка не может быть определено как событие или
несобытие до того, как не решен вопрос о месте его во вторичном структурном
семантическом поле, определяемом типом культуры. Но и это еще не
окончательное решение: в пределах одной и той же схемы культуры тот же самый
эпизод, будучи помещен на различные структурные уровни, может стать или
не стать событием. Но, поскольку, наряду с общей семантической
упорядоченностью текста, имеют место и локальные, каждая из которых имеет свою
понятийную границу, событие может реализоваться как иерархия событий
более частных планов, как цепь событий — сюжет. В этом смысле то, что
на уровне текста культуры представляет собой одно событие, в том или ином
реальном тексте может быть развернуто в сюжет. Причем один и тот же
инвариантный конструкт события может быть развернут в ряд сюжетов на
разных уровнях. Представляя на высшем уровне одно сюжетное звено, он
может варьировать количество звеньев в зависимости от уровня текстового
развертывания.
Так понятый сюжет не представляет собой нечто независимое,
непосредственно взятое из быта или пассивно полученное из традиции. Сюжет
органически связан с картиной мира, дающей масштабы того, что является
событием, а что его вариантом, не сообщающим нам ничего нового.
Представим себе, что супруги поссорились, разойдясь в оценке
абстрактного искусства, и обратились в органы милиции для составления протокола.
Уполномоченный милиции, выяснив, что ни избиений, ни других нарушений
гражданских и уголовных законов не произошло, откажется составлять
протокол ввиду отсутствия событий. С его точки зрения, не произошло ничего.
Однако для психолога, моралиста, историка быта или, например, историка
живописи приведенный факт будет представлять собой событие.
Многократные споры о сравнительном достоинстве тех или иных сюжетов, имевшие
место на протяжении всей истории искусства, связаны с тем, что одно и то
же событие представляется с одних позиций существенным, с других —
незначительным, а с третьих вообще не существует.
Это относится не только к художественным текстам. Поучительно было
бы с этой точки зрения просмотреть раздел «Происшествия» в газетах разных
эпох. Происшествие — значимое уклонение от нормы (то есть «событие»,
поскольку выполнение нормы «событием» не является) — зависит от понятия
нормы. Из сказанного о событии как революционном элементе,
противостоящем принятой классификации, вытекает закономерность исчезновения в
газетах реакционных эпох (например, в «мрачное семилетье» конца
царствования Николая I) отделов происшествий. Поскольку происходят только пре-
8. Композиция словесного художественного произведения
225
дусмотренные события, сюжетность исчезает из газетных сообщений. Когда
Герцен в частном письме (ноябрь 1840 г.) сообщил отцу известие о городском
происшествии (полицейский убил и ограбил купца), он был немедленно по
распоряжению императора выслан из Петербурга «за распространение
необоснованных слухов». Здесь характерна и боязнь «происшествий», и вера в
то, что убийство, учиненное полицейским, есть событие и, следовательно,
признавать его существующим нельзя, а чтение агентами правительства
частных писем не есть событие (норма, а не происшествие) и, следовательно,
вполне допустимо. Вспомним возмущение по этому поводу Пушкина, для
которого вмешательство государства в личную жизнь представляло
вопиющую аномалию и было событием: «...какая глубокая безнравственность в
привычках нашего правительства! Полиция распечатывает письма мужа к
жене и приносит их читать царю (человеку благовоспитанному и честному),
и царь не стыдится в том признаться»1. Перед нами яркий пример того, что
квалификация факта как события зависит от системы (в данном случае —
нравственной) понятий и не совпадает для Пушкина и Николая I.
В равной мере и в исторических текстах отнесение того или иного факта
к событиям вторично по отношению к общей картине мира. Это можно
легко проследить, сопоставляя между собой различные типы мемуарных
текстов, различные исторические исследования, написанные на основании
изучения одних и тех же документов.
Это тем более справедливо для структуры художественных текстов. В
новгородской летописи XIII в. землетрясение описано так: «Трясеся земля
<...> в обед, а инии бяху отъобедали». Здесь землетрясение и обед в равной
мере являются событиями. Ясно, что для киевской летописи это невозможно.
Можно привести много случаев, когда смерть персонажа не является
событием.
В «Гептамероне» Маргариты Наваррской блестящее общество,
разделенное опасным путешествием через горную местность, залитую половодьем,
вновь благополучно собирается в монастыре. То, что при этом погибли слуги
(утонули в реке, съедены медведями и т. п.), событием не является. Это
только обстоятельство — вариант события. Л. Толстой в «Люцерне»
следующим образом определил историческое событие: «Седьмого июля 1857 года
в Люцерне перед отелем Швейцергофом, в котором останавливаются самые
богатые люди, странствующий нищий певец в продолжение получаса пел
песни и играл на гитаре. Около ста человек слушало его. Певец три раза
просил всех дать ему что-нибудь. Ни один человек не дал ему ничего, и
многие смеялись над ним <...> Вот событие, которое историки нашего
времени должны записать огненными неизгладимыми буквами. Это событие
значительнее, серьезнее и имеет глубочайший смысл, чем факты, записываемые
в газетах и историях»2. Любовь — событие с точки зрения романа, но не
является событием с точки зрения летописи, которая фиксирует государст-
1 Пушки/ί А. С. Поли. собр. соч. Т. 12. С. 329.
2 Толстой Л. Н. Собр. соч.: В Î4 т. Т. 3. С. 25.
226
СТРУКТУРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
венно важные браки, однако никогда не отмечает фактов семейной жизни
(в случае, если они не вплетаются в ткань политических событий).
Рыцарский роман не фиксирует изменений в материальном положении
героя — с его точки зрения это не является событием, а гоголевская школа
перестает фиксировать любовь. Любовь как «несобытие» становится основой
целой сцены в «Ревизоре»:
«Мария Антоновна (смотрит в окно). Что это там, как будто бы
полетело? Сорока или какая другая птица?
Хлестаков (целует ее в плечо и смотрит в окно). Это сорока»1.
Событиями оказываются не любовь, а действия, цель которых — «чин,
денежный капитал, выгодная женитьба». Даже смерть героя далеко не во
всяком тексте будет представляться событием. В рыцарских средневековых
текстах смерть — событие, если сопряжена со славой или бесславием. В этом
случае она соответственно и оценивается положительно или отрицательно
как хорошее или плохое событие. Сама же по себе она не рассматривается
в качестве «яркого впечатления действительности». «Дивно ли, оже муж
умерл в полку ти? Лепше суть измерли и рода наши», — писал Владимир
Мономах. Такого же мнения был и его сын: «Аще и брати моего убил еси,
то есть недивьно, в ратех бо и цари, и мужи погыбають»2. Мысль о том,
что событием является не смерть, а слава, отчетливо выразил Даниил Га-
лицкий в речи перед войском: «Почто ужасываетеся? Не весте ли, яко война
без падших мертвых не бываеть? Не весте ли, яко на мужи на ратные нашли
есте, а не на жены? Аще муж убьен есть на рати, то кое чюдо есть? Инии
же и дома умирають без славы, си же со славою умроша»3.
Последний пример подводит нас к сущности вопроса. Событие мыслится
как то, что произошло, хотя могло и не произойти. Чем меньше вероятности
в том, что данное происшествие может иметь место (то есть чем больше
информации несет сообщение о нем), тем выше помещается оно на шкале
сюжетности. Например, когда в современном романе герой умирает, то
предполагается, что он может не умереть, а, скажем, жениться. Автор же
средневековой хроники исходит из представления о том, что все люди
умирают, и поэтому сообщение о смерти не несет никакой информации. Но одни
умирают со славой, другие же «дома» — это и есть то, что достойно быть
отмечено. Таким образом, событие — всегда нарушение некоторого запрета,
факт, который имел место, хотя не должен был его иметь. Для человека,
мыслящего категориями уголовного кодекса, событием будет законопреступ-
ное деяние с точки зрения правил уличного движения — неправильный
переход улицы.
Если с этой точки зрения посмотреть на тексты, то легко будет разделить
их на две группы: бессюжетные и сюжетные.
Бессюжетные тексты имеют отчетливо классификационный характер, они
утверждают некоторый мир и его устройство. Примерами бессюжетных текс-
1 Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. Т. 4. С. 75.
2 Повесть временных лет. \4.; Л., 1950. Т. 1. С. 165, 169.
3 Полн. собр. русских летописей. СПб., 1908. Т. 2. С. 822.
8. Композиция словесного художественного произведения
227
тов могут быть календарь, телефонная книга или лирическое бессюжетное
стихотворение. Рассмотрим на примере телефонной книги некоторые
характерные черты этого типа текстов. Прежде всего, у этих текстов есть свой
мир. Мир денотатов на уровне общеязыковом эти тексты будут утверждать
в качестве универсума. Список имен будет претендовать на функцию
инвентарной описи вселенной. Мир телефонной книги составляют фамилии
телефонных абонентов. Все остальное — просто не существует. В этом смысле
существенным показателем текста является то, что с его точки зрения не
существует. Мир, исключаемый из отображения, — один из основных
типологических показателей текста как модели универсума.
Так, с точки зрения литературы определенных периодов не существует
низменной действительности (романтизм) или возвышенной, поэтической
действительности (футуризм).
Другим важным свойством бессюжетного текста будет утверждение
определенного порядка внутренней организации этого мира. Текст строится
некоторым определенным образом, и передвижения элементов его так, чтобы
установленный порядок подвергся нарушению, не допускается. Например, в
телефонной книге фамилии абонентов расположены в алфавитном порядке
(в данном случае порядок обусловлен удобством пользования; принципиально
допустим и ряд других принципов организации). Перемещения какой-либо
фамилии так, чтобы установленный порядок был нарушен, не допускается.
Если взять не телефонную книгу, а какой-либо художественный или
мифологический текст, то нетрудно доказать, что в основе внутренней
организации элементов текста, как правило, лежит принцип бинарной
семантической оппозиции: мир будет члениться на богатых и бедных, своих и чужих,
правоверных и еретиков, просвещенных и непросвещенных, людей Природы
и людей Общества, врагов и друзей. В тексте эти миры, как мы уже говорили,
почти всегда получают пространственную реализацию: мир бедняков
реализуется как «предместья», «трущобы», «чердаки», мир богачей — «главная
улица», «дворцы», «бельэтаж». Возникают представления о грешных и
праведных землях, антитеза города и деревни, цивилизованной Европы и
необитаемого острова, богемского леса и отцовского замка. Классификационная
граница между противопоставляемыми мирами получит признаки
пространственной черты — Леты, отделяющей живых от мертвых, адской двери с
надписью, уничтожающей надежду на возвращение, печати отверженности,
которую кладут на бедняка стоптанные подошвы, запрещающие ему
проникнуть в пространство богатых, длинные ногти и белые руки Оленина, не
дающие ему слиться с миром казаков.
Бессюжетный текст утверждает незыблемость этих границ.
Сюжетный текст строится на основе бессюжетного как его отрицание.
Мир делится на живых и мертвых и разделен непреодолимой чертой на две
части: нельзя, оставшись живым, прийти к мертвым или, будучи мертвецом,
посетить живых. Сюжетный текст, сохраняя этот запрет для всех персонажей,
вводит одного (или группу), которые от него освобождаются: Эней, Телемак
или Дант опускаются в царство теней, мертвец в фольклоре у Жуковского
или Блока посещает живых. Таким образом, выделяются две группы пер-
228
СТРУКТУРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
сонажей — подвижные и неподвижные1. Неподвижные — подчиняются
структуре основного, бессюжетного типа. Они принадлежат классификации и
утверждают ее собой. Переход через границы для них запрещен. Подвижный
персонаж — лицо, имеющее право на пересечение границы. Это Растиньяк,
выбивающийся снизу вверх, Ромео и Джульетта, переступающие грань,
отделяющую враждебные «дома», герой, порывающий с домом отцов, чтобы
постричься в монастыре и сделаться святым, или герой, порывающий со
своей социальной средой и уходящий к народу, в революцию. Движение
сюжета, событие — это пересечение той запрещающей границы, которую
утверждает бессюжетная структура. Перемещение героя внутри отведенного
ему пространства событием не является. Из этого ясна зависимость понятия
события от принятой в тексте структуры пространства, от его
классификационной части. Поэтому сюжет может быть всегда свернут в основной
эпизод — пересечение основной топологической границы в
пространственной его структуре. Вместе с тем, поскольку на основе иерархии бинарных
оппозиций создается ступенчатая система семантических границ (а сверх
того могут возникать частные упорядоченности, в достаточной мере
автономные от основной), возникают возможности частных пересечений
запретных граней, подчиненные эпизоды, развертываемые в иерархию сюжетного
движения.
Таким образом, бессюжетная система первична и может быть воплощена
в самостоятельном тексте. Сюжетная же — вторична и всегда представляет
собой пласт, наложенный на основную бессюжетную структуру. При этом
отношение между обоими пластами всегда конфликтное: именно то,
невозможность чего утверждается бессюжетной структурой, составляет содержание
сюжета. Сюжет — «революционный элемент» по отношению к «картине
мира».
Если толковать сюжет как развернутое событие — переход через
семантический рубеж, то тогда станет очевидной обратимость сюжетов: преодоление
одной и той же границы в пределах одного и того же семантического поля
может быть развернуто в две сюжетные цепочки противоположной
направленности. Так, например, картина мира, подразумевающая деление на людей
(живые) и нелюдей (боги, звери, мертвецы), или на «мы» и «они»,
подразумевает два типа сюжетов: человек преодолевает границу (лес, море),
посещает богов (зверей, мертвецов) и возвращается, захватив нечто, или бог
(зверь, мертвец) преодолевает границу (лес, море), посещает людей и
возвращается к себе, захватив нечто. Или же: один из «нас», преодолев границу
(перелез через стену, перешел границу, переоделся «по-ихнему», заговорил
«не по-нашему», «вскликнул Магмета», как советует Афанасий Никитин,
оделся французом, как Долохов), проникает к «ним», или один из «них»
проникает к «нам».
1 Об этом см.: Неклюдов С. Ю. К вопросу о связи пространственно-временных
отношений с сюжетной структурой в русской былине // Тезисы докладов во второй
летней школе по вторичным моделирующим системам. Тарту, 1966.
8. Композиция словесного художественного произведения
229
Инвариантное событие по отношению к развертке сюжета может
рассматриваться как язык, а сюжет — как некоторое на нем сообщение. Однако
сюжет как некоторый текст — конструкт, — в свою очередь, выступает по
отношению к текстам более низких уровней как своего рода язык. Сюжет
даже в пределах данного уровня дает тексту лишь типовое решение: для
определенной картины мира и определенного структурного уровня существует
единственный сюжет. Но в реальном тексте он проявляется лишь как
некоторое структурное ожидание, которое может выполняться или не выполняться.
Понятие персонажа
Таким образом, в основе построения текста лежит семантическая
структура и действие, представляющее всегда попытку преодоления ее. Поэтому
всегда даны два типа функций: классификационные (пассивные) и функции
действователя (активные). Если мы вообразим себе географическую карту,
то это будет хорошим примером классификационного (бессюжетного) текста.
Такими же примерами будут календарь, описание примет, тексты с
обозначением нормализованных, регулярных действий: расписание поездов, свод
законов, «Домострой»; в художественной литературе — идиллии или
знаменитая «Голубиная книга».
Однако стоит провести по карте стрелку, означающую, например, трассу
регулярных морских сообщений или возможного воздушного перелета, как
текст сделается сюжетным: будет введено действие, преодолевающее (в данном
случае — географическую) структуру.
В этом случае, отмечая по карте движение какого-либо конкретного судна,
мы получим нечто, напоминающее отношения, которые возникают в
сюжетном тексте: судно может выйти или нет, проехать точно по трассе или
отклониться от нее (в структурном смысле один и тот же путь по карте,
если он представляет выполнение или невыполнение какого-либо
нормативного задания или проделан вне всяких соотнесений с представлением о
типовом долженствовании, — совершенно различные вещи: в первом случае
каждый «шаг» продвижения получает значение выполнения или невыполнения
нормы, во втором он вообще значения не имеет).
С того момента, когда на карту нанесена не только общая трасса, но и
путь по ней одного корабля, вводятся новые координаты оценки. Карта и
типовая трасса — понятия пространственные и ахронные, но как только на
них отмечен путь корабля, оказывается возможным ставить вопросы о времени
его движения относительно времени наблюдателя (совершилось ли это
движение, совершается ли сейчас или совершится в будущем) и о степени его
реальности.
Пример с картой можно представить себе как модель сюжетного текста.
Он включает в себя три уровня: 1) уровень бессюжетной семантической
структуры; 2) уровень типового действия в пределах данной структуры и
3) уровень конкретного действования.
230
СТРУКТУРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
При этом взаимное отношение уровней меняется от того, в каком месте
мы проведем основное структурное противопоставление:
код — сообщение
1 — 2, 3
1, 2 — 3
Таким образом, уровень 2 может восприниматься как код и как сообщение,
в зависимости от точки зрения описывающего.
Начиная с «Морфологии сказки» В. Я. Проппа очевидно, что персонаж
представляет собой пересечение структурных функций. В. Я. Пропп наметил
и основные функции (герой, помощник, вредитель).
Из сказанного следует, что неизбежными элементами всякого сюжета
являются: 1) некоторое семантическое поле, разделенное на два
взаимодополнительных подмножества; 2) граница между этими подмножествами,
которая в обычных условиях непроницаема, однако в данном случае (сюжетный
текст всегда говорит о данном случае) оказывается проницаемой для героя-
действователя; 3) герой-действователь.
Каждый из этих элементов обладает некоторым набором признаков,
раскрывающихся по мере вступления их в сюжетные отношения с другими
элементами.
Так, исходным пунктом сюжетного движения является установление между
героем-действователем и окружающим его семантическим полем отношения
отличия и взаимной свободы: если герой совпадает по своей сущности со
своим окружением или не наделен способностью отделиться от него, —
развитие сюжета невозможно. Действователь может и не совершить действия:
корабль может не отплыть, убийца не убить. Печорин и Бельтов бездействуют.
Но характер их взаимоотношений с окружением свидетельствует, что это
бездействующие действователи. Неотплывший корабль и неотплывшая скала,
неубивший убийца и неубивший обыватель, Печорин и Грушницкий, Бельтов
и Круциферский — структурно не адекватны, хотя в равной мере не
совершают действий.
В отношении к границе сюжетного (семантического) поля действователь
выступает как преодолевающий ее, а граница в отношении к нему — как
препятствие. Поэтому все виды препятствий будут в тексте, как правило,
сконцентрированы на границе и структурно всегда представляют собой ее
часть. Не существенно, будут ли это «вредители» волшебной сказки,
враждебные Одиссею волны, ветры и морские течения, ложные друзья плутовского
романа или ложные улики в детективе: в структурном смысле все они несут
одинаковую функцию — делают переход от одного семантического поля в
другое крайне затрудненным, более того — невозможным для всех, кроме
действователя в данном единичном случае (возможен и другой частный
сюжетный случай: действователь погибает или по каким-либо иным причинам
«выходит из игры», не преодолев границы). Помощники действователя —
результат расслоения в некоторых текстах единой функции преодоления
границы.
8. Композиция словесного художественного произведения
231
Преодолев границу, действователь вступает в семантическое «антиполе»
по отношению к исходному. Для того чтобы движение остановилось, он
должен с ним слиться, превратиться из подвижного персонажа в неподвижный.
Если же этого не происходит, — сюжет не закончен и движение продолжается.
Так, например, герой волшебной сказки в исходной ситуации — не часть
того мира, которому он принадлежит: он гонимый, непризнанный, не
выявивший своей настоящей сути. Затем он преодолевает границу, отделяющую
«этот» мир от «того». Именно граница (лес, море) связана с наибольшими
опасностями. Но поскольку герой и в «том» мире не сливается с окружением
(в «этом» мире он был бедный, слабый, младший брат среди богатых, сильных
старших братьев, в «том» — он человек среди нелюдей), сюжет не
останавливается: герой возвращается и, меняя свое бытие, становится хозяином, а
не антиподом «этого» мира. Дальнейшее движение невозможно. Именно
поэтому, как только влюбленный женится, восставшие побеждают, смертные
умирают, развитие сюжета приостанавливается.
Приведем в качестве примера сюжет об инкарнированном боге: бог
обретает инобытие для того, чтобы снизойти из мира блаженства в земной
мир (обретает свободу относительно своего окружения), он рождается в мир
(переход границы), становится человеком (сыном человеческим), но не
сливается с новыми обстоятельствами (сюжет типа «Федор Кузьмич» на этом
исчерпывается: царь становится мужиком). В земном мире он — часть иного
мира. С этим связана его гибель (переход границы) и вознесение. Персонаж
сливается с окружением — действие останавливается.
Отождествление действователя и других сюжетных функций: окружения,
препятствий, помощи, «антиокружения» — с антропоморфными персонажами
представляется нам настолько естественным и привычным, что мы, обобщая
свой культурный опыт до степени закона, предполагаем, что всякий сюжет —
развитие отношений между людьми просто в силу того факта, что тексты
создаются людьми и для людей. Здесь нам будет полезно снова вспомнить
о карте и пути корабля. Действователем здесь оказался не человек, а корабль,
препятствиями — не люди, а бури, течения и ветры, границей — океан,
окружением и «антиокружением» — пункты отправки и прибытия. При
описании текста, отмечающего движение корабля по карте, как некоторого
события (сюжета), мы полностью были избавлены от необходимости
прибегать к антропоморфным персонажам. Почему? Объяснение скрыто в природе
той классификации, которая задает характер семантической оппозиции и
природы границы. Она обусловливает всю систему, в частности и то, в каком
облике будут реализованы сюжетные функции. Например, широко известны
китайские тексты, в которых действователями выступают лисы-оборотни, а
людям отведена роль обстоятельств действия (окружения, преграды, помощи).
Действователь может быть не антропоморфен, а границе или окружению
могут быть приданы черты антропоморфизма. Наконец, сама антропомор-
физация персонажей еще не означает их отождествления с нашим личностным,
бытовым представлением о человеке. Например, когда в наказание за убийство
мстят родственникам по мужской линии, то здесь очевидно не то стремление
отплатить убийце, причинив ему горе, которое склонен усматривать в по-
232
СТРУКТУРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
добной мести современный европеец, а убеждение в том, что действователем
(убийцей) является род, а непосредственный убийца — лишь орудием.
Поэтому безразлично, какому из представителей рода будет нанесен ответный
удар.
В древнерусских летописях рассказывается о поступках князей и других
исторических лиц (уже само членение их на исторических и неисторических
разделяет людей на «действователей» и «недействователей»). Однако при
ближайшем рассмотрении оказывается, что подлинными действователями
являются Бог, дьявол («сотона»), черти, ангелы, добрые и злые советники,
а исторические деятели или герои легенд — лишь орудийными средствами
в их руках: «Сотона же влезе в Каина и подстрекаше Каина убити Авеля».
Или: «Имена сим законопреступником Путьша и Талечь Еловить, Ляшько.
Отец же их сотона. Сици бо слуг беси бывают. Беси бо на злое посылаеми
бывают, ангели на благое посылаеми»1. Представление о пассивной,
орудийной роли человека с неизбежностью уравнивало Бога и дьявола как
действователей. Это смущало летописца и заставляло подчеркивать в добавочных
словесных характеристиках немощь сатаны и его подручных. «Яневи же
идущю домови в другую нощь, медведь влез, угрыз ею и снесть и тако
погыбнуста наущеньем бесовьскым <...> беси бо не ведять мысли
человеческое, но влагають помысл в человека тайны не сведуще. Бог един свесть
помышленья человеческая, беси же не сведають ничтоже, суть бы немощни
и худи взоромь». Действие в летописи развертывается, таким образом,
подобно «Илиаде», где осуществляется двойная борьба: между группами богов
и между ахейцами и троянами. С точки зрения религиозно-этического
членения, действователями являются боги и дьявол, а человек — лишь орудийное
условие действия. Это настолько очевидно для средневекового человека, что
он не видит противоречия в тексте типа: «В се же лето преставися Иван
митрополит. Бысть же Иван муж хытр книгам <...> смерен же и кроток,
молчалив, речист же книгами святыми»2. «Молчалив» и «речист» не суть
взаимопротиворечащие характеристики. Молчалив как действователь, «от
себя». Речист же не «от себя», а как носитель высшей мудрости, ее орудие.
С этим же связано представление о том, что человек — не автор всякой
истинной (святой) книги или иконы, а орудие для осуществления «богодох-
новенного» действия.
Однако персонажи летописи включены и в другие семантические поля с
иными — политическими — характеристиками (например: «русская земля —
нерусская земля», «правильное управление — неправильное управление»). В
этом окружении князья выступают уже как действователи, а молитвы, святые
или в (злых делах) черти — как помощники, персонифицированные
обстоятельства действия. Таким образом, персонификация сюжетных функций
зависит от природы семантической классификации.
Тип картины мира, тип сюжета и тип персонажа взаимообусловлены.
1 Поли. собр. русских летописей. М, 1962. Т. 1. С. 89, 135.
2 Там же. С. 178—179, 208.
8. Композиция словесного художественного произведения
233
Итак, мы установили, что среди персонажей — героев многочисленных
художественных и нехудожественных текстов, снабженных человеческими
именами и человеческой внешностью, мы можем выделить две группы:
действователей и условия и обстоятельства действия. Для того чтобы обе эти
группы сюжетных функций «очеловечились», требуется особый тип
осмысления мира — представление о том, что действующей силой является человек
и человек же составляет его препятствие.
Мы уже указывали, что персонажи первой группы отличаются от второй
подвижностью относительно своего окружения. Однако сама эта
подвижность — результат одного существенного свойства: подвижный персонаж
отличается от неподвижных тем, что обладает разрешением на некоторые
действия, для других запретные. Так, Фрол Скобеев обладает другой нормой
поведения, чем люди его окружения: они связаны определенными
нравственными нормами, от которых Фрол Скобеев свободен. С их точки зрения,
Фрол «плут», «вор» и его поведение — «плутовство» и «воровство». С его
(и читателей этой повести в XVII в.) точки зрения, поведение его жертв
обличает их глупость и это оправдывает его плутни. Действующий герой
ведет себя иначе, чем другие персонажи, и он единственный имеет на это
право. Право на особое поведение (героическое, безнравственное,
нравственное, безумное, непредсказуемое, странное — но всегда свободное от
обязательств, непременных для неподвижных персонажей) демонстрирует длинный
ряд литературных героев от Васьки Буслаева до Дон-Кихота, Гамлета,
Ричарда III, Гринева, Чичикова, Чацкого. Истолковать это положение лишь
как утверждение якобы обязательности конфликта героя со средой — значит
не только сузить, но и исказить вопрос в угоду привычной терминологии.
В качестве действователя могут выступать не лица, а группа, класс, народ
(ср., например, «Тараса Бульбу»), которые должны обладать свойствами
подвижности относительно некоторого более широкого окружения.
Для того чтобы понять закономерность превращения сюжетной функции
в персонаж — в образ с признаками человека, — надо иметь в виду еще
одно обстоятельство. Если мы сравним плутовскую новеллу с плутовским
романом, то заметим любопытное различие. Структура плутовской новеллы
строится по отчетливой схеме: герой-плут действует в семантическом поле
«богатство — бедность»1. Он — бедняк, но, в отличие от других персонажей
своего окружения, наделен подвижностью: умом, инициативой, правом
находиться вне моральных запретов. Граница между бедностью и богатством
непроницаема для «дурака», но не страшна для «плута». Таким образом,
сюжет плутовской новеллы — история счастливой плутни, делающей из
бедняка богача, из неудачного вздыхателя — счастливого любовника или
1 Вариантами этого противопоставления будут: «наслаждение — не наслаждение».
Им соответствует противопоставление: «плут — дурак». Синонимы плута: «умный»,
«ловкий», «молодой», синонимы дурака: «добряк», «старина», «лицемер».
«Лицемер» — чаще всего монах — единственный персонаж в плутовской новелле,
ссылающийся на требования нравственности. Впрочем, если в «лицемере» резко подчеркнуты
черты «плута», то он может вызывать симпатию.
234
СТРУКТУРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
мужа. Сюжет-событие может быть развернут в сюжет — цепочку событий,
как, например, в «Фроле Скобееве».
Однако в плутовском романе мы наблюдаем характерное усложнение.
Оно состоит не только в замене одного сюжетного эпизода нагромождением
многих. Если мы проанализируем «Молль Флендерс» или «Пригожую
повариху», то убедимся, что персонаж, являющийся в одних эпизодах
действователем, в других выступает как объект плутни, становясь для другого плута
воплощением «границы» — преграды на пути к богатству и счастью. То,
что одни и те же элементы текста попеременно выполняют различные
сюжетные функции, способствует их персонификации — отождествлению
функции и персонажа. Аналогичный эффект происходит в результате смены точки
зрения.
О специфике художественного мира
Все сказанное выше о событии и сюжете применимо в равной мере к
художественным и нехудожественным текстам. Не случайно мы старались
иллюстрировать основные положения и теми и другими примерами.
Специфика художественного сюжета, повторяя на ином уровне специфику метафоры,
состоит в одновременном наличии нескольких значений для каждого
сюжетного элемента, причем ни одно из них не уничтожает другого даже при
полной их противоположности. Но поскольку подобная одновременность
возникает лишь на определенном уровне, расслаиваясь в других на различные
однозначные системы или будучи «снятой» в каком-то абстрактном единстве
на высшем уровне, то можно заключить, что «художественность» текста
возникает на определенном уровне — уровне авторского текста.
Рассмотрим текст стихотворения Лермонтова «Молитва» (1829):
Не обвиняй меня, всесильный,
И не карай меня, молю,
За то, что мрак земли могильный
С ее страстями я люблю;
За то, что редко в душу входит
Живых речей твоих струя;
За то, что в заблужденье бродит
Мой ум далеко от тебя;
За то, что лава вдохновенья
Клокочет на груди моей;
За то, что дикие волненья
Мрачат стекло моих очей;
За то, что мир земной мне тесен,
К тебе ж проникнуть я боюсь,
И часто звуком грешных песен
Я, Боже, не тебе молюсь.
Но угаси сей чудный пламень,
Всесожигающий костер,
8. Композиция словесного художественного произведения
235
Преобрати мне сердце в камень,
Останови голодный взор;
От страшной жажды песнопенья
Пускай, творец, освобожусь,
Тогда на тесный путь спасенья
К тебе я снова обращусь.
Рассматривая текст стихотворения, очень легко заметить, что
семантическая система его расслаивается на два пласта:
I II
Бог земля
вечность мгновенность (тленность)
свет тьма
жизнь смерть
благо грех
реальность тень
Как исходный, отмеченный член оппозиции выступает левая колонка. Это
выражается, в частности, в том, что именно она избрана как точка зрения
(направление оценки) и как направление действия. Направление оценки
выражается прежде всего в пространственных категориях. «Я» «далеко от тебя»,
а не «ты», «далеко от меня» при одинаковой классификационной структуре
свидетельствует о том, что именно «ты» берется за точку семантического
отсчета. Определение земного мира как «мрака» ведет нас к представлению
об антитетическом ему «свете» и имеет классификационно-структурный
характер (связано с определенным типом культуры). Сопровождающий его
эпитет «могильный» имеет двойную семантику. Кодовая — влечет за собой
представление о земной жизни как смерти в противовес «животу вечному»
загробной жизни. Одновременно в нем есть пространственная семантика
«могилы» — глубокого и закрытого пространства (представление о том, что
мир — бездна по сравнению с раем, ад — бездна по сравнению с миром;
характерно, что у Данте мера греха соответствует мере глубины и закрытости,
мера святости — степени возвышенности и открытости). Но в этом же эпитете
есть и точка отсчета, поскольку земной мир — «бездна» лишь по отношению
к раю.
Определенная направленность есть и в глаголах действия. Слева направо
направлен активный «карать», справа налево — лишенный признака
активности «молить». Но уже стихи:
...мрак земли могильный
С ее страстями я люблю... —
меняют картину. Они еще укладываются в общую систему описанного выше
культурного кода, но придают тексту противоположную направленность: в
качестве точки зрения избирается ни «всесильный», а грешное «я». С этой
точки зрения «могильный мрак» земли и ее «страсти» могут оказаться
предметом любви.
Однако начиная с девятого стиха текст перестает дешифровываться в той
семантической системе, которая работала до сих пор. Решительно меняется
236
СТРУКТУРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
природа «я». В первой части стихотворения — это подвижный элемент,
ценность которого определена его отношением к окружению: принадлежа к
«земной» жизни, «я» становится мгновенным, смертным, блуждающим вдали
от истины — незначительным; войдя в свет и истину другого мира, это «я»
делается значительным, но не своей значительностью, а ценностью того мира,
частью которого оно становится.
Текст, начинающийся с девятого стиха, апеллируя к уже
стандартизованным в конце 1820-х гг. метафорам типа «лава вдохновенья», вызывал в
сознании читателей иной, тоже ему известный, культурный код —
романтический. В этой системе главной оппозицией выступало «я — не-я».
Все, что составляет, «не-я», взаимно уравнивается, земной и неземной
миры становятся синонимами:
земной мир,
Бог.
Это приводит к тому, что «я» становится не элементом в мире (окружении),
а миром, пространством (последовательно романтическая структура;
исключается сюжет). Сверх того, «я» становится не только неподвижным, но и
огромным, равным всему миру («В душе своей я создал мир иной»). «Я»
оказывается пространством для внутренних событий.
В свете этой системы понятий естественным представляется то, что «я»
растет пространственно: в стихах 9—10 оно уподобляется вулкану (в том
числе и пространственно, в отличие от метафоры Бенедиктова «В груди у
юноши вулкан»): «лава вдохновенья», «клокочет на груди» (ср. однотипное
«на груди утеса-великана»). Стихи 11—12 уподобляют уже глаза (часть)
поэта — бурному океану. А за этим следует «мир земной мне тесен» и
одновременный отказ от небесного мира. Если вначале «я» составляло часть
мира, противостоящего Богу, то теперь божественное «ты» — лишь часть
противостоящего «я» мира. В этом мире, составленном из моего «я» и на
него направленном, нет другого объекта, кроме «меня». Показательно, что
объект молитвы не назван («я, Боже, не тебе молюсь»).
«Грешный» в этом контексте перестает быть осудительным эпитетом, так
как мир «я» не судится внележащими законами религии или морали. В
романтической системе «грешный» — антоним «пошлого».
Стихи 17—20 воспринимаются как антитеза началу: там страсти —
принадлежность могильного мрака, здесь — «чудный пламень».
Но уже стих 20 содержит сигналы какой-то иной семантической системы,
чуждой романтизму. Они связаны с силой направленности «я» на объект. В
романтической системе «я» единственным непошлым объектом деятельности
имеет самое себя. И если «не каменное» («чувствительное») сердце и возможно
в романтической системе (хотя гораздо чаще «теперь уже каменное» —
«увядшее»), то «голодный взор» из нее решительно выпадает. Уже на заре
романтизма масоны говорили о человеке как о существе «с очами, внутрь
себя обращенными». Скорее всего, к этому тексту подойдет снова оппозиция
«земной мир» («я» — его часть) — «неземной мир». Но яркой, истинной,
вызывающей «страшную жажду» деятельности и привлекающей «голодный
Я-
8. Композиция словесного художественного произведения
237
взор» и, следовательно, не имеющей признаков мгновенности, смерти,
тленности, неяркости оказывается именно земная жизнь.
Наконец, последние два стиха снова возвращают нас (такими кодовыми
сигналами, как «телесный путь» и «спасение») к христианскому коду, но
одновременно «тесный» воспринимается как антоним «просторному», чем
семантизируется не так, как в христианской системе («просторный путь —
путь греха, путь жизни»), а как синоним свободы и ее рефлексов в
романтическом типе культурного кода.
Мы рассматривали не семантическую структуру текста, а то
общекультурное семантическое поле, в котором этот текст функционирует. При этом
мы убедились, что текст проецируется не на одно, а на три различных типа
семантической структуры. Что бы это означало, если бы текст был не
художественным, а, скажем, научным?
В научном тексте введение новой семантической системы означало бы
опровержение, «снятие» старой. Научный диалог состоит в том, что одна из
спорящих позиций признается неистинной и отбрасывается. Другая —
побеждает.
Как мы видели, семантическое поле стихотворения Лермонтова строится
иначе: оно возникает из отношения всех трех систем. Отрицающее не
уничтожает отрицаемого, а вступает с ним в отношение сопротивопоставления.
Поэтому научный спор — это доказательство того, что точка зрения
противника не имеет ценности. Художественный спор возможен только с
оппонентом, абсолютная победа над которым невозможна. Именно потому, что
религиозная структура сознания в «Молитве» сохраняет и притягательность,
и величие, опровержение ее поэтично.
Если бы «Молитва» представляла собой философский трактат, она
разделилась бы на несколько полемически противопоставленных отдельных
частей. Как стихотворение, она образует единую структуру, в которой все
семантические системы функционируют одновременно в сложной взаимной
«игре». Это та особенность художественного текста, на которую
проницательно указывал М. Бахтин.
Научная истина существует в одном семантическом поле,
художественная — одновременно в нескольких, в их взаимной соотнесенности. Это
обстоятельство резко увеличивает число значимых признаков каждого
элемента.
Мы видим, какие сложные противоречия создаются в системах,
возникающих в результате креолизации языков различных культур. Однако не следует
думать, что если текст вьщержан в одной семантической системе, то он не
может создать той сложной игры структурных элементов, которая и
обеспечивает ему семантическую емкость, свойственную искусству. Мы видели, что
и в пределах одной и той же системы кода культуры одни и те же
семантические элементы на одном уровне выступают как синонимы, а на другом —
как антонимы. Сказанное применимо и к построению сюжета художественного
произведения. Рассмотрим с этой точки зрения трилогию Сухово-Кобылина.
В «Свадьбе Кречинского» противопоставлены два лагеря: честные люди —
бесчестные люди. Муромский, его дочь Лидочка, Нелькин — «помещик,
238
СТРУКТУРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
близкий сосед Муромских, молодой человек, служивший в военной службе», —
разновидности типа честного человека; Кречинский, Расплюев —
разновидности бесчестного человека. Характер каждого из них представляет собой
набор дифференциальных признаков, раскрываемых в отношении к
персонажам одной с ними группы и персонажей другой группы. А поскольку каждая
из этих групп делится еще на подгруппы (например, подгруппа «Кречинский»
и подгруппа «Расплюев»), то характеристика складывается из дополнительных
дифференциальных признаков, возникающих в отношении к подгруппам.
Вторая часть трилогии — «Дело» — вводит новую оппозицию: частные
люди — бюрократия (не люди). Бюрократия состоит из персонажей,
наделенных различной внешностью (ср.: «Чибисов. Приличная презентабельная
наружность. Одет по моде», «Касьян Касьянович Шило. Физиономия
корсиканского разбойника», «Клокат. Одет небрежно»), но единых в
противопоставлении людям. Это «начальства», «силы», «подчиненности»
(терминология с элементом пародии ангельской иерархии) — и «колеса, шкивы,
шестерни бюрократии» (не люди, а части механизма). В этом
противопоставлении Кречинский оказывается в лагере людей и выступает как союзник
Муромцевых. Наконец, в третьей части — «Смерть Тарелкина» — оба члена
оппозиции принадлежат лагерю не людей, происходит столкновение негодяев
крупного и мелкого пошиба, но в равной мере принадлежащих
нечеловеческому, бюрократическому миру. Все три типа членения создают свои, только
им присущие смыслоразличительные признаки персонажей. Однако каждая
из этих систем не отменяет предшествующую, а функционирует на ее фоне.
Крепостной крестьянин — Сучок из «Льгова» Тургенева — предстает в
нашем сознании как некоторый набор смыслоразличительных признаков. Но
в антитезе помещику и в противопоставлении крестьянским детям в его
характере активизируются разные признаки. А сам образ живет как
включенный в оба эти (и ряд других) плана одновременно.
Художественный текст представляет собой сложную систему, построенную
как сочетание общих и локальных упорядоченностей разных уровней. Это
прямым образом влияет на построение сюжета.
Существенным свойством художественного текста является то, что он
находится в отношении двойного подобия: он подобен определенному
изображаемому им куску жизни — части всемирного универсума, — и он подобен
всему этому универсуму. Посмотрев фильм, мы говорим не только: «Таков
был Иван Петрович», но и: «Таковы эти иваны Петровичи», «Таковы
мужчины», «Таковы люди», «Такова жизнь».
При этом если в первом отношении разные тексты не гомеоморфны, то
во втором они находятся в отношении подобия. Но всякий сюжетный текст
более или менее легко распадается на сегменты. А это обстоятельство влечет
за собой интересные следствия.
Возьмем текст, наиболее легко, зримо членящийся на отрезки, —
театральную постановку пьесы. Театральная постановка наглядно иллюстрирует
одно существенное свойство искусства — парадоксальный гомеоморфизм
частей и целого.
8. Композиция словесного художественного произведения
239
Театральная пьеса отображает на своем языке определенные явления
внешнего мира, и вместе с тем она представляет собой замкнутый мир,
соотнесенный с внележащеи реальностью не в ее частях, а в универсальной
целостности. Граница вполне реального театрального пространства — рампа,
стены сценической коробки. Это театральный универсум, отображающий
реальный универсум. Именно в этом смысл явственно ощутимой границы
сценического мира. Он придает пьесе универсальность и не позволяет ставить
вопроса о чем-либо, лежащем вне театральной площадки, как равном ему
по реальности.
Однако театральный спектакль распадается на отчетливые сегменты —
сцены, которые составляют части текста постановки и одновременно
протекают в тех же пространственных границах, что и пьеса в целом. Они в
отдельности также гомеоморфны миру. Но и сцены — не последнее членение
текста пьесы: каждое явление, вводя новый персонаж, дает новую модель
мира, но в тех же пространственных рамках. Аналогичную роль играют в
кино границы экрана: они устанавливают для всех планов и точек зрения,
отраженных в отдельных кадрах, некий гомеоморфизм. Если экран заполнен
глазами, снятыми крупным планом, то мы не воспринимаем их как часть
огромного лица, границы которого выходили бы за пространственные рамки
кинотеатра. Киномир в пределах этого кадра — глаза. И относясь
определенным образом к синтагматике предшествующих кадров (в этой связи кадр
воспринимается как часть, и крупный план не выступает как релевантный
признак; он синонимичен словесным описаниям типа: «смотрит с ужасом»,
«смотрит внимательно»), он одновременно отнесен и к определенной
реальности — парциальной (глаза) и универсальной (мир). Во втором смысле он
выступает как самодовлеющее целое, значение которого можно выразить
приблизительно так: «Мир — это глаза». Глаза и их выражение,
зафиксированное в кадре, становится моделью универсума. И это достигается вычле-
ненностью на определенном уровне сегмента (кадра) из синтагматической
цепочки и «крупным планом» — отношением границы экрана к содержанию
кадра. Пьеса разбита сценами и явлениями на синхронные срезы, каждый
из которых особым образом делит персонажей на два лагеря (если мы имеем
дело со сценой-монологом, то герою противостоит пустое подмножество
элементов, и в рамках данной сцены он заполняет весь мир). Но каждый раз
эти группы различны по составу или соотношению элементов. Следовательно,
тем или иным способом проведенная граница определяет принцип
дифференциации подмножеств элементов, то есть выделяет их дифференциальные
признаки. Тогда пьеса (если отвлечься от ее синтагматической структуры)
будет представлять собой совокупность синхронных моделей универсума.
Но каждое членение — не только определенный принцип дифференциации.
Взаимоналожение этих бинарных членений создает пучки дифференциации.
Отождествляясь с какими-либо персонажами, эти пучки становятся
характерами. Характер персонажа — набор всех данных в тексте бинарных
противопоставлений его другим персонажам (другим группам), вся совокупность
включений его в группы других персонажей, то есть набор дифференциальных
признаков. Таким образом, характер — это парадигма.
240
СТРУКТУРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
В инвариантном виде он включен в основное сюжетное
противопоставление. Но те или иные частные оппозиции создают локальные
упорядоченности и дополнительные сюжетные возможности. С этой точки зрения
противопоставление «эстетики тождества» и «эстетики ^противопоставления»
можно было бы истолковать как разницу между текстами, в которых
локальные упорядоченности выделяют лишь один тип дифференциальных
различий, совпадающий с основной оппозицией, и текстами, в которых локальные
упорядоченности выделяют определенный набор дифференциаций.
Персонаж: и характер
Проблема характера — одна из основных в общей эстетике. Разработка
ее не входит в задачи настоящего исследования, тем более что вопросу этому
посвящена обширная специальная литература. С точки зрения интересующих
нас проблем, видимо, имеет смысл рассмотреть лишь один ее аспект —
вопрос о специфике художественного характера, в отличие от понимания
типической сущности человека в нехудожественной литературе.
Г. А. Гуковский — автор многих чрезвычайно глубоких работ по истории
русской литературы — посвятил ряд исследований проблеме типологии
характеров в системе классицизма, романтизма и реализма.
Характер реалистической типизации Г. А. Гуковский, в частности, связал
с идеей зависимости человека от социальной среды и с большой глубиной
проиллюстрировал этот тезис рядом примеров из творчества Пушкина и
Гоголя. Положение это широко повлияло на советскую науку о литературе
и отразилось во многих последующих работах, в частности и у пишущего
эти строки.
Однако нельзя не заметить, что, сформулированное таким образом, это
положение, раскрывая существенные типологические черты ряда
художественных текстов, подчеркивает в них именно то, что роднит их с философскими,
публицистическими, научными. Оно раскрывает типологические черты
понимания характера на определенном этапе культуры, но не касается того,
что внутри этого этапа отделяет художественные тексты от нехудожественных.
Игнорируя эту разницу, мы неизбежно придем к выводу, что писатель лишь
иллюстрирует и популяризирует философскую концепцию природы человека.
А поскольку идея зависимости человека от общественной среды была
выражена в философии еще в XVIII в., то есть задолго до того, как она проникла
в реалистическую литературу XIX в., и философы выразили ее с большей
полнотой, последовательностью и ясностью, чем это сделали
писатели-реалисты, то невольно напрашивается вывод, что для человека, уже знающего
о существовании этого философского тезиса, литература не прибавляла ничего
нового.
Видимо, наряду с определением зависимости художественной типизации
от некоторых идей, общих для всех явлений культуры данного периода,
8. Композиция словесного художественного произведения
241
уместно будет остановиться и на специфически художественных чертах
структуры характера.
Художественный образ строится не только как реализация определенной
культурной схемы, но и как система значимых от нее отклонений, создаваемых
за счет частных упорядоченностей. Эти отклонения, возрастая по мере того,
как выявляется основная закономерность, с одной стороны, делают
информативно значимым ее сохранение, с другой — на ее фоне снижают
предсказуемость поведения литературного героя.
Эти значимые отклонения образуют некоторый необходимый
вероятностный «разброс» поведения героя вокруг средней нормы, предписываемой
внехудожественным пониманием природы человека. Та сущность человека,
которая в культуре данного типа предстает как некоторая единственно
возможная норма поведения, в художественном тексте осуществляется как
определенный набор возможностей, лишь частично реализуемый в его пределах.
И это не только набор поступков, но и набор типов поведения, допустимых
в пределах более общей классификационной системы.
Степень, величина этого «разброса» — от почти полной, закрепленной
в формулах предписанности деталей поведения героев фольклора или
средневековых текстов до сознательной непредсказуемости поведения героев в
пьесах абсурда. Величина эта сама по себе — один из показателей
художественного метода писателя. При этом следует различать тот «разброс»,
который существует для читателя, владеющего нормой данной художественной
структуры, от непредсказуемости, возникающей при ее разрушении: поведение
святого в средневековом житии представляется современному читателю
необъяснимым, но для художника и его подлинной аудитории оно было строго
детерминировано.
Рассмотрим, как строятся характеры в «Каменном госте» Пушкина.
Каждая сцена дает только ей присущую систему оппозиций персонажей.
Сцена I
Дон Гуан — Лепорелло
Сцена II
Дон Карлос — Лаура
Дон Гуан — Лаура
Дон Гуан — Дон Карлос
Сцена III
Дон Гуан — Дона Анна
Сцена IV
Дон Гуан — Дона Анна
Дон Гуан — командор
Образ Дона Гуана все время вступает в новые противопоставления. И
более того: текст даже в пределах одного противопоставления легко
расслаивается на несколько синхронных срезов, в которых Дон Гуан выступает как
целый набор персонажей (в том числе и внешне: так, перед Доной Анной он
сначала является монахом, затем Доном Диего и, наконец, самим собой).
242
СТРУКТУРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
Образ Дона Гуана как некоторая парадигма складывается из отношения всех
этих и единых, и взаимопротиворечащих срезов.
Для того чтобы быть противоположными, характеры должны быть
сопоставимыми. Это расчленяет их на некое единое для них ядро (основание
для сравнения) и значимо противопоставленные элементы. Герои могут
проявлять свою противоположность в том, чтобы по-разному говорить об одном.
Например, в «Бригадире» Фонвизина:
«Советник. ...Сколько у нас исправных секретарей, которые экстракты
сочиняют без грамматики, любо-дорого смотреть! У меня на примете есть
один, который что когда напишет, так иной ученый и с грамматикою вовеки
того разуметь не может.
Бригадир. На что, сват, грамматика? Я без нее дожил почти до
шестидесяти лет, да и детей взвел. Вот уже Иванушке гораздо за двадцать,
а он — в добрый час молвить, в худой помолчать — и не слыхивал о
грамматике.
Бригадирша. Конечно, грамматика не надобна. Прежде нежели ее
учить станешь, так вить ее купить еще надобно. Заплатишь за нее гривен
восемь, а выучишь ли, нет ли — бог знает.
Советница. Черт меня возьми, ежели грамматика к чему-нибудь нужна,
а особливо в деревне. В городе по крайней мере изорвала я одну на папильоты.
С ы н. J'en suis d'accord, на что грамматика! Я сам писывал тысячу бильеду,
и мне кажется, что свет мой, душа моя, adieu, ma reine, можно сказать, не
заглядывая в грамматику»1.
Также Моцарт и Сальери у Пушкина высказывают одну и ту же мысль:
«Бомарше не мог быть отравителем» — и именно этим способом раскрывают
противоположность своих характеров:
Сальери
Не думаю: он слишком был смешон
Для ремесла такого.
Моцарт
Он же гений,
Как ты да я. А гений и злодейство —
Две вещи несовместные. Не правда ль?
Противоположные персонажи могут обладать сходством внешности (тема
двойничества, зеркального отражения), включаться в одинаковые ситуации
и т. д.
Наконец, чрезвычайно существенным элементом является то, что герой
может даваться в описании другого персонажа, «его глазами», то есть на
его языке. То, как трансформируется тот или иной персонаж, будучи переведен
на язык чужих представлений, характеризует и носителя языка, и того, о
ком он повествует. Так, характеристика Печорина Максимом Максимовичем,
Дона Гуана Лепорелло описывает и тех, кто говорит, и тех, о ком идет речь.
ι Фонвизин Д. И. Собр. соч.: В 2 т. М.; Л., 1959. Т. 1. С. 52—53.
8. Композиция словесного художественного произведения
243
На примере Печорина мы видели, что характер персонажа может строиться
по типу объединения подобных характеристик в единый пучок.
Сказать, что Дон Гуан противопоставлен Лепорелло по иным признакам,
чем Дону Карлосу, Лауре — иначе, чем Доне Анне, и всем им вместе —
иначе, чем командору, что в каждом из этих случаев можно составить вполне
определенный список дифференциальных признаков и что объединение всех
этих списков будет «характером» персонажа, — не значит сообщить что-либо
новое.
Существеннее другое: Дон Гуан не равен сам себе и художественная
последовательность его образа складывается как непоследовательность (с
точки зрения тех или иных оценок его на языках нехудожественных структур).
Он «развратный» и «бессовестный» не только в оценке монаха (религиозно-
моральное объяснение), но и для Лепорелло (народно-плебейское). Его
недостатки являются его же достоинствами, и Пушкин сознательно затрудняет
однолинейную оценку образа. И дело здесь не только в оксюморонных
характеристиках типа: «мой верный друг, мой ветреный любовник».
Постоянная неожиданность поведения героя достигается, во-первых, тем,
что характер строится не как одна заранее известная возможность
деятельности, а как парадигма, набор возможностей — единый на уровне идейной
структуры, вариативный — на уровне текста. Во-вторых, это связано с тем
что текст развертывается по синтагматической оси, и хотя в общей
парадигматике характера следующий эпизод так же закономерен, но читатель не
владеет еще всей парадигматикой языка образа, он ее «достраивает»
индуктивно из новых кусков текста. Однако дело не только в этой динамике,
возникающей за счет развертывания текста во времени и неполной известности
читателю языка образа. В определенные моменты рядом с существующей
парадигматической структурой образа начинает функционировать другая.
Поскольку образ не распадается в читательском сознании, эти две парадигмы
выступают как варианты парадигматической структуры образа второй
степени,, но все же они взаимно самостоятельны и, вступая в сложные
функциональные отношения, обеспечивают поступкам героя необходимую
непредсказуемость (а единство образа обеспечивает одновременно и необходимую
предсказуемость).
Так, различие между «мирным» старым цыганом и страстной Земфирой —
темпераментальная классификация героев по психологической оппозиции
«кроткие — своевольные» строится на иных основаниях, чем основное в
«Цыганах» противопоставление Природы и Культуры. Но пересечение этих
двух различных типов дифференциации персонажей создает их
«индивидуальность», неожиданность их поступков относительно каждой из этих
концепций, взятых в отдельности, то есть относительно внехудожественной
интерпретации.
Дон Гуан предстает перед нами не только разным в отношении к разным
персонажам, но и разным в отношении к самому себе. Являясь Доне Анне
в облике монаха, Дона Диего и своем собственном, он ведет себя по-разному.
При этом очень важно, что это не притворство: он действительно и совер-
244
СТРУКТУРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
шенно искренне перевоплощается в другого человека. Он сам верит своим
словам, когда говорит Доне Анне: «Ни одной доныне из них я не любил».
Образ, единый на одном достаточно абстрактном уровне, но на более
низких уровнях разделяющийся на некоторое количество пусть даже не
взаимопротиворечащих, но просто независимых и различных подструктур,
создает на уровне текста возможность поступков и закономерных и
неожиданных одновременно, то есть создает условия для поддержания
информативности и снижения избыточности системы.
Можно сделать и другое наблюдение: герои «Каменного гостя» Пушкина
делятся на две основные группы по признаку «подвижность —
неподвижность», «изменяемость — неизменяемость». В одном лагере оказываются
Лаура и Дон Гуан, во втором — Дон Карлос («У тебя всегда такие мысли?» —
спрашивает Лаура, изумленная его постоянной мрачностью) и командор —
даже не человек, а неподвижная статуя. Дона Анна переходит из второго
лагеря в первый. Быв в начале неизменной, она изменяется, совершая
супружескую измену (изменяет неизменности). Многоликость, протеизм,
артистичность Дона Гуана и Лауры утверждают единство любви и искусства («но и
любовь — мелодия...») как подвижной, многоликой сущности. Эта оппозиция
подвижного и неподвижного может по-разному интерпретироваться, в
зависимости от той системы культурного кода, которую использует
воспринимающий информацию. Г. А. Гуковский сводит ее к антитезам «счастье —
долг», «личность — неличность (род, обычай, закон)» и, в конечном итоге,
«Ренессанс — средневековье». Построенная таким образом абстрактная
модель будет, бесспорно, истинной (текст поддается такой интерпретации), но
вряд ли будет окончательной и единственно возможной. Так, например, стоит
сопоставить «Каменного гостя» с «Моцартом и Сальери», чтобы убедиться
в том, что черты изменчивости присущи Моцарту, а неизменности — Сальери.
Моцарт снимает оппозицию «поэзия — проза» (Дон Гуан — Лепорелло) в
архиструктуру персонажа, на уровне которой они оказываются синонимами
(не только совместимы в одном лице, но и совпадают: поэзия — истина —
проза).
При развертывании архиперсонажа в два персонажа-варианта эти
признаки не тождественны, а антитетичны и раскрываются через диалог, в
котором одно и то же содержание предстает как поэтическое для Дона Гуана
и прозаическое для Лепорелло:
Дон Гуан
(задумчиво)
Бедная Инеза!
Ее уж нет! Как я любил ее!
Лепорелло
Инеза! — черноглазая... о, помню.
Три месяца ухаживали вы
За ней; насилу-то помог лукавый.
8. Композиция словесного художественного произведения
245
Дон Гуан
В июле... ночью. Странную приятность
Я находил в ее печальном взоре
И помертвелых губах.
В равной мере Моцарт снимает антитезу «испанский гранд — простолюдин»
в архиструктуре «человек»1. Изменчивый как человек, он противостоит
Сальери, постоянному кок принцип. Г. А. Гуковский (со ссылкой на
неопубликованную работу Б. Я. Бухштаба) интерпретировал это как антитезу
классицизма и романтизма. Возможны и другие интерпретации:
противопоставление человека и догмы, живого человека и абстрактной идеи (открывается
возможность к построению абстракции более высокого уровня, объединяющей
этот конфликт с «Медным всадником»), искусства и теории и т. д. Вся эта
совокупность интерпретаций отделяет «Моцарта и Сальери» от «Каменного
гостя». Однако при построении модели более высокого уровня, которая бы
их соединяла в архиструктуру, оппозиция «изменчивое — неизменчивое»
может быть истолкована, например, как антитеза жизни и смерти. Не случайно
и Дон Карлос и командор противостоят Дону Гуану как мертвецы — живому
(Лаура: «Постой... при мертвом!»; Дона Анна: «О Боже мой! и здесь, при
этом гробе»), а Сальери Моцарту — как убийца. Если вариативность,
подвижность семантически интерпретируется как жизнь и лишь на более
конкретных уровнях расшифровывается как поэзия (вообще искусство), любовь,
истина, простор, человечность, веселость, то неподвижность соответственно
раскрывается как антижизнь с последующей интерпретацией: однозначность,
догматизм, величие, суровость, долг, бесчеловечность.
При такого рода соотношении основных семантических групп естественно,
что герои типа Дона Гуана подчинены структурной изменчивости. Гораздо
более показательно то, что этот закон построения словесного образа человека
распространяется и на тех персонажей, которых автор сознательно стремится
сделать однозначными, воплотить в них антитезу многоликому протеизму
жизни.
1 Возможность объединения Дона Гуана и Лепорелло в общей антитезе лагерю
командора вплоть до создания персонажей, для которых водораздел между этими
героями вообще не релевантен, не снимает того, что одновременно действуют и другие
типы ^противопоставлений: Дон Гуан и Дон Карлос вместе противопоставлены
Лепорелло как аристократы (об обоих подчеркнуто говорится, что они испанские
гранды) плебею и как храбрецы трусу. Интересно проследить структурную значимость
признака храбрости. В «Каменном госте» он не релевантен, так как присущ обеим
антагонистическим группам. В «Моцарте и Сальери» им наделен только персонаж
из «невариативной» группы — Сальери («хоть я не трус...»). При этом храбрость
связывается с таким кардинальным для него свойством, как угрюмость и предпочтение
смерти жизни («хоть мало жизнь люблю»). В характере Моцарта храбрость существует
не с отрицательным, а с нулевым признаком — о ней не упоминается. В «Пире во
время чумы» храбростью наделен только разносторонний герой — Вальсингам, а
сама храбрость — результат веселья, привязанности к жизни и ее полного
переживания.
246
СТРУКТУРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
В облике командора подчеркивается его стойкость, неизменность. Уже
то, что он не человек, а статуя, лишает его как будто возможности
раскрываться разными сторонами. Однако эта заданная неподвижность становится
фоном, на котором мельчайшие изменения приобретают не меньшую
относительную значимость, чем резкие сдвиги в характерах и поступках других
персонажей. Первое упоминание командора вводит подчеркнуто будничный
образ человека того же общественного круга, что Дон Гуан, но уже умершего.
Недаром же покойник был ревнив.
Он Дону Анну взаперти держал,
Никто из нас не видывал ее.
Далее он упоминается как «хладный мрамор», «этот гордый гроб». Именно
здесь, в сцене III, возникает новая проблема: образ командора разделяется
на обыденного человека — знакомца Дона Гуана, им убитого на поединке
(тоже дело очень обыденное)1, и статую. Прежде всего выдвигается тезис о
невозможности соединить их:
Каким он здесь представлен исполином!
Какие плечи! Что за Геркулес!..
А сам покойник мал был и щедушен,
Здесь, став на цыпочки, не мог бы руку
До своего он носу дотянуть.
Смысл шутки Дона Гуана состоит в том, что он, безбожник и вольнодумец,
знает, что статуя и командор — не одно лицо, и только в насмешку над
покойным врагом может играть в их отождествление. Первая неожиданность
в образе командора — срастание этих двух обликов.
Дон Гуан убежден, что командор умер, что статуя — это не он, статуя —
вещь и поступков совершать не может.
Лепорелло
А командор? что скажет он об этом?
Дон Гуан
Ты думаешь, он станет ревновать?
Уж верно нет; он человек разумный
И, верно, присмирел с тех пор, как умер.
Следующий сюжетный шаг обнаруживает единство этих двух образов и
способность статуи командора действовать.
1 Пушкин создает дополнительный семантический эффект, снова включая читателя
в два поля: заставляя его одновременно чувствовать обыденность убийства на поединке
и странность этой обыденности. Герои ведут себя как средневековые испанцы. Но
для самих средневековых испанцев сведение «быть средневековым испанцем» не несет
никакой информации. Для того чтобы оценить поэтичность обыденного изображения
средневековой Испании, надо помнить, что испанцем быть странно. Перенося зрителей
в культурную эпоху изображаемого, Пушкин одновременно оставляет их и в их
собственной (для современного зрителя двучлен превращается в трехчлен:
средневековая Испания — пушкинская эпоха — современность).
8. Композиция словесного художественного произведения
247
Лепорелло
...посмотрите на его статую.
Дон Гуан
Что ж?
Лепорелло
Кажется, на вас она глядит
И сердится.
Принимая приглашение, статуя командора решительно обнаруживает себя
не как изображение персонажа, а как персонаж. Однако это слияние —
решительная метаморфоза: бестелесное — дух облекается в наиболее
вещественное — камень, а самое неподвижное по своей природе, статуя,
приобретает признаки наиболее подвижного — призрака, не связанного
механическими законами, которым подвластны все люди и вещи.
Статуя командора, появляющаяся в конце пьесы, — это уже не только
та статуя, которая на кладбище испытывает ревность к своему живому
сопернику («глядит и сердится»). Не случайно она сразу же «снимает» все
человеческие отношения Дона Гуана — в том числе и его любовь к Доне
Анне — как слишком незначительные по сравнению с тем, что должно сейчас
произойти.
Дон Гуан
О Боже! Дона Анна!
Статуя
Брось ее,
Все кончено.
И то, что Дон Гуан проваливается с восклицанием «Дона Анна!»,
свидетельствует, что он не принимает взгляда, утверждающего незначительность любви
(то есть жизни) перед лицом смерти.
Странность в поведении статуи в сцене III в том, что она ведет себя как
человек, — ревнует. Странность ее поведения в последней сцене в том, что
она ведет себя одновременно и как человек (приходит на зов) и как не
человек, для которого все человеческое не имеет значения.
Итак, и «неподвижные» персонажи подчиняются закону внутренней
перестройки образа, иначе описание их поведения было бы полностью избыточным.
Однако эта изменчивость не нарушает определенных пределов,
превышение которых уже не дает возможности читателю идентифицировать различные
куски текста с одним персонажем, — он теряет целостность, как бы
распадается на отдельные персонажи.
Это происходит тогда, когда утрачивается система кода культуры:
современному зрителю трудно связать динамизм тела и неподвижную улыбку лица,
свойственные многим архаическим и неевропейским скульптурам, в один
образ, житие святого поражает современного читателя «нелогичностью» —
он не улавливает единства в поведении персонажа. Более того, граница между
персонажами может проходить иначе: подстрекатель и действователь в ере-
248
СТРУКТУРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
дневековых текстах могут иметь два имени, но составляют один персонаж.
В искусстве XX в. один герой может распадаться на много персонажей.
Таким образом, сведение разных упоминаний о том или ином лице в
тексте в единый парадигматический образ всегда зависит от некоторого кода
культуры и для автора текста, и для аудитории. Внутри этого контура
персонаж распадается на ряд взаимно не тождественных состояний, вне его
располагаются другие персонажи, признаки которых отнесены к его признакам
по принципу дополнительности, или сходства, или иного порядка.
В случае различия в культурном коде автора и аудитории границы
персонажа могут перераспределяться. Говоря о трудности современного
восприятия «Повести временных лет», И. П. Еремин писал: «Происходит уже
нечто совершенно фантастическое: Ярополк вдруг, без всяких к тому видимых
оснований, неожиданно перевоплощается под пером летописца в святого, в
„блаженного" <...> Читатель нашего времени с этим новым образом
„блаженного" Ярополка еще мог бы как-то примириться, при условии, что
летописец здесь имел в виду показать духовное „перерождение" Ярополка
на определенном этапе его жизненного пути. Но именно этого-то условия
как раз и нет: летописный текст не дает оснований для такого толкования.
Перед нами — загадка летописного рассказа в этом и заключается —
совершенно очевидно не один человек на разных этапах своего духовного роста,
а два человека, два Ярополка; взаимно исключая один другого, они тем не
менее у летописца сосуществуют рядом, в одном и том же контексте
повествования»1.
Разные типы художественного кода по-разному относятся к изменению
и неподвижности персонажей. Волшебная сказка или средневековая
агиография резко делят персонажей на две группы: одним приписывается чудесное
превращение — внешнее (урод обращается в красавца, зверь — в человека)
или внутреннее (грешник обращается в святого), а другим — неизменность.
Реализм XIX в. может предписывать одним героям эволюцию, другим —
опять-таки неизменность, классицизм — неизменность всем персонажам.
Однако это не означает неподвижности того или иного героя на уровне текста —
это было бы просто невозможно и делало бы избыточным не только всякое
сюжетное повествование, но и вообще весь текст. Герой воспринимается как
неподвижный, если разные текстовые состояния его отождествляются с общим
состоянием на уровне структуры наиболее абстрактного построения образа.
Так, Николай Ростов изменяется в тексте романа, возможно, не в меньшей
степени, чем Андрей Болконский или Пьер Безухов. Но эти изменения не
составляют эволюции — подвижному тексту соответствует неподвижная
структура персонажа на уровне общей художественной концепции романа.
Подвижный текст, относящийся к Андрею Болконскому или Пьеру,
соответствует определенной последовательности структур персонажей для каждого
из них. Изменяясь, Ростов не становится «другим человеком», то есть
совершает поступки, которых он прежде не совершал в тексте, но мог совершить
1 Еремин И. П. «Повесть временных лет». Л., 1947. С. 6—7.
8. Композиция словесного художественного произведения
249
в соответствии со структурой типа. Андрей или Пьер становятся каждый раз
«другим человеком», то есть совершают поступки, которые прежде были для
них невозможны. Структура их типа — это последовательность, которая
лишь на втором уровне абстракции складывается в единство «Андрей
Болконский», «Пьер Безухов».
Кинематографическое понятие «план»
и литературный текст
Рассмотрим специфику тех связей, которые возникают от членения текста
на функционально одинаковые части: строфы, главы и т. п. Для прояснения
этого вопроса обратимся к примерам из кинематографии. Вообще структура
киноповествования очень интересна именно тем, что обнажает механику
всякого художественного повествования, и мы еще будем обращаться к ней
в поисках наглядных примеров.
В кино очень легко выделяется единица последовательного членения.
Оставим пока в стороне интегрирующий вид связей, о котором С. Эйзенштейн
писал, что «два каких-либо куска, поставленные рядом, неминуемо соединяются
в новое представление, возникающее из этого сопоставления как новое
качество»1. Рассмотрим киноповествование как последовательность кумулятивно
соединенных кадров. Сама структура ленты дает нам на это бесспорное
право.
Кадры, членя ленту на отрезки, строго уравнивают их в отношении
рамки — границ экрана (подобно этому сцены, являясь частью пьесы, имеют
ту же границу, что и вся пьеса, — рампу). При этом проявляется любопытное,
чисто топологическое свойство части в художественном повествовании: она
имеет те же границы, что и целое. Данный принцип распространяется и на
прозу: главы имеют начало и конец и в этом отношении гомеоморфны
целому.
Однако это приводит, как мы уже неоднократно замечали, к повышению
структурной роли различий. И в связи с этим уместно будет сказать о том
композиционном приеме, который в технике кино именуется планом.
Оператор может приблизить камеру вплотную к снимаемому объекту или же
значительно ее удалить. Один и тот же экран может вместить в себя
многотысячную толпу или деталь лица. Японский фильм «Женщина в песках»
начинается с появления на экране груды медленно шевелящихся камней,
которые потом уменьшаются до гальки и после нескольких смен плана
оказываются песчинками, увлекаемыми ветром.
«План» — это не просто величина изображения, а отношение его к рамке
(величина плана на маленьком кадре пленки и на большом экране одинакова).
Показательно в этом смысле, что «план» не играл большой роли в живописи
1 Эйзенштейн С. Избр. произведения: В 6 т. М., 1964. Т. 2. С. 157.
250
СТРУКТУРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
с ее возможностью менять размеры полотна и относительной стабильностью
для каждого жанра отношения фигур и лиц к пространству картины.
Однако крупный и мелкий план существует не только в кино. Он отчетливо
ощущается в литературном повествовании, когда одинаковое место или
внимание уделяется явлениям разной количественной характеристики. Так,
например, если следующие друг за другом сегменты текста заполняются
содержанием, резко отличным в количественном отношении: разным количеством
персонажей, целым и частями, описанием предметов большой и малой
величины; если в каком-либо романе в одной главе описываются события дня,
а в другой — десятки лет, то мы также можем говорить о разнице планов.
Когда мы видим, что в части II третьего тома «Войны и мира» в XX главе
Пьер находится в гуще войск и в качестве действующих лиц выступают
«конный полк с песенниками впереди», «поезд телег с ранеными»,
«возчики-мужики» и т. п., а в XXII главе кроме упомянутых в одном месте
«блестящей свиты» Кутузова и толпы с иконой действующих лиц семь (Пьер,
Борис Друбецкой, Кутузов, Долохов, Паисий и Андрей Кайсаровы и Бенигсен;
правда, в одном месте упоминаются еще какие-то «знакомые» Пьера), в главе
XXIII — два: Пьер и Бенигсен (упомянуты солдаты и какой-то безымянный
генерал); в XXIV и XXV — два: Пьер и Андрей Болконский (упомянуты
Тимохин, два офицера полка Болконского, проезжающие Вольцоген и
Клаузевиц), то станет очевидна относительная укрупненность (приближенность)
и удаленность некоторых из этих планов.
Приведем другой пример — стихотворение Н. А. Некрасова «Утро»:
Ты грустна, ты страдаешь душою:
Верю — здесь не страдать мудрено.
С окружающей нас нищетою
Здесь природа сама заодно.
Бесконечно унылы и жалки
Эти пастбища, нивы, луга,
Эти мокрые сонные галки,
Что сидят на вершине стога;
Эта кляча с крестьянином пьяным,
Через силу бегущая вскачь
В даль, покрытую синим туманом,
Это мутное небо... Хоть плачь!
Но не краше и город богатый:
Те же тучи по небу бегут;
Жутко нервам — железной лопатой
Там теперь мостовую скребут.
Начинается всюду работа;
Возвестили пожар с каланчи;
На позорную площадь кого-то
Провезли — там уж ждут палачи.
Проститутка домой на рассвете
Поспешает, покинув постель;
8. Композиция словесного художественного произведения
251
Офицеры в наемной карете
Скачут за город: будет дуэль.
Торгаши просыпаются дружно
И спешат за прилавки засесть:
Целый день им обмеривать нужно,
Чтобы вечером сытно поесть.
Чу! из крепости грянули пушки!
Наводненье столице грозит...
Кто-то умер: на красной подушке
Первой степени Анна лежит.
Дворник вора колотит — попался!
Гонят стадо гусей на убой;
Где-то в верхнем этаже раздался
Выстрел! — кто-то покончил с собой...
Рассмотрим тексты лишь с одной, интересующей нас сейчас точки зрения.
Обе части — «деревенская» (начиная с первого стиха) и «городская» (со
стиха «Но не краше и город богатый...») — отчетливо членятся. В первой
половине синтаксический параллелизм делит текст на отрезки, которым
приписано структурное равенство. Но на уровне содержания (в общеязыковом
смысле) в один из наших отрезков попадают «пастбища, нивы, луга», а в
другой — «мокрые, сонные галки, что сидят на вершине стога». Чтобы
заполнить одинаковое семантическое пространство, галки должны быть
представлены более крупным планом, и это равенство их обширным картинам
пейзажа или «мутному небу» подчеркивает суггестивный характер образа:
мокрые галки на стогу, мутное небо, кляча «с крестьянином пьяным» — не
только предметные зарисовки, но и модели одной и той же жизни и в этом
смысле взаимно уравнены. Для того чтобы понять это, достаточно представить
каждый из этих синтаксически параллельных элементов в качестве кинокадра.
Та же структура сохраняется и для второй половины стихотворения.
Попробуем представить его себе в виде киносценария. Мы сразу же увидим, что
кадр: «Проститутка домой на рассвете / Поспешает, покинув постель» или
другой: «Дворник вора колотит — попался!» — по величине плана будет
отличаться от: «Кто-то умер: на красной / Подушке первой степени Анна лежит».
Представив текст как сценарий, мы обнажаем двойную роль его
синтаксических связей: каждая отдельная картина входит как часть в общую картину
столичной (и шире — русской) жизни некрасовской эпохи, а это целое
воспринимается как результат соединения частей. Но одновременно все
картины — разные лики одного и того же — это не части целого, а его
модификации. Жизнь в своей единой сущности видна в каждой из них, и
нагнетание их — нагнетание одного и того же на разные лады и с разными
оттенками. Мы снова убеждаемся в том, что синтагматические и
парадигматические связи осуществляются в художественном тексте в единстве и
взаимном переходе.
Сопоставление отдельных «кадров»-сегментов активизирует
многочисленность элементов плана содержания, придавая им значение дифференциальных
252
СТРУКТУРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
признаков и тем самым суггестируя смысловое содержание: антитеза звуковых
картин типа: «Жутко нервам — железной лопатой / Там теперь мостовую
скребут» и «Где-то в верхнем этаже раздался / Выстрел...» — всем другим
как зрительным, антитеза неподвижности («спешат... засесть») движению
(«провели», «поспешает», «скачут»), взаимная противопоставленность
величины плана различных «кадров» текста создают значительное количество
дополнительных смыслоразличительных элементов.
Именно подобная пересеченность данных типов конструкций и отношений
приводит к тому, что незначимое или избыточное в одной системе оказывается
значимым в другой (вернее, по-разному значимым в других). Этим достигается
неослабевающая информативность текста и та длительность его воздействия,
которая нами ощущается как эстетическое воздействие.
Точка зрения текста
Поскольку значимо только то, что имеет антитезу1, то любой
композиционный прием становится смыслоразличительным, если включен в
противопоставление контрастной системе. Там, где весь текст выдержан в
одинаковом типе плана, — план не ощутим вообще. Например, он не ощущается
в эпических повествованиях. «Быстрые переходы» (Пушкин) романтических
повестей значимы лишь в сочетании с кусками замедленного повествования.
Точно так же «точка зрения» становится ощутимым элементом
художественной структуры с того момента, как возникает возможность смены ее в
пределах повествования (или проекции текста на другой текст с иной точкой
зрения)2.
Понятие «точки зрения» аналогично понятию ракурса в живописи и кино.
Понятие «художественная точка зрения» раскрывается как отношение
системы к своему субъекту («система» в данном контексте может быть и
лингвистической, и других, более высоких, уровней). Под «субъектом
системы» (идеологической, стилевой и т. п.) мы подразумеваем сознание, способное
породить подобную структуру и, следовательно, реконструируемое при
восприятии текста.
Художественная система строится как иерархия отношений. Само понятие
«иметь значение» подразумевает наличие известной реляции, то есть факт
определенной направленности. А так как художественная модель в самом
общем виде воспроизводит образ мира для данного сознания, то есть
моделирует отношение личности и мира (частный случай — познающей личности
1 Ср. замечание Н. Бора о том, что отличительная черта нетривиальной истины в
том, что прямо противоположное ей утверждение не является явно абсурдным.
2 Понятие «точки зрения» восходит в русской науке к работам M. М. Бахтина. В
настоящее время эта проблема разрабатывается Б. А. Успенским, которому автор
выражает благодарность за предоставленную ему возможность ознакомиться еще в
рукописи с исследованием «Поэтика композиции» (М., 1970).
8. Композиция словесного художественного произведения
253
и познаваемого мира), то эта направленность будет иметь субъектно-объект-
ный характер.
Для русской поэзии допушкинского периода характерно было схождение
всех выраженных в тексте субъектно-объектных отношений в одном
фиксированном фокусе. В искусстве XVIII в., традиционно определяемом как
классицизм, этот единый фокус выводился за пределы личности автора и
совмещался с понятием истины, от лица которой и говорил художественный текст.
Художественной точкой зрения становилось отношение истины к
изображаемому миру. Фиксированность и однозначность этих отношений, их
радиальное схождение к единому центру соответствовали представлению о
вечности, единстве и неподвижности истины. Будучи единой и неизменной,
истина была одновременно иерархичной, в разной мере открывающейся
разному сознанию. Этому соответствовала иерархия художественных точек
зрения, лежащая в основе жанровых законов.
В романтической поэзии художественные точки зрения также радиально
сходятся к жестко фиксированному центру, а сами отношения однозначны
и легкопредсказуемы (поэтому романтический стиль свободно становится
объектом пародии). Центр этот — субъект поэтического текста —
совмещается с личностью автора, становится ее лирическим двойником1.
Однако возможна и такая структура текста, при которой художественные
точки зрения не фокусируются в едином центре, а конструируют некий
рассеянный субъект, состоящий из различных центров, отношения между
которыми создают дополнительные художественные смыслы. Приведем
пример:
Напрасно я бегу к сионским высотам,
Грех алчный гонится за мною по пятам;
Так ноздри пыльные уткнув в песок сыпучий,
Голодный лев следит оленя бег пахучий.
Ясно, что для выражения «ноздри пыльные» и «бег пахучий» нельзя подобрать
единой точки зрения; первая будет иметь субъектом человека, наблюдающего
льва, вторая — самого льва, поскольку человек не способен воспринимать
след оленя как обладающий запахом, тем более резким («пахучий»). Но и
сочетания «голодный лев» и «ноздри пыльные» также не имеют единого
субъектного центра, поскольку одно подразумевает наблюдателя, не
конкретизированного в пространстве, а другое — созерцание льва вблизи, на
расстоянии, позволяющем разглядеть пыль, покрывающую ноздри. Даже
оставаясь в пределах двух последних стихов, мы наблюдаем не один фокусный
центр точек зрения, а некоторую рассеянную область, в пределах которой
существует не одна, а ряд точек зрения. Отношения между ними становятся
дополнительным источником значений.
Каждый из элементов художественной структуры существует как
возможность в структуре языка и — шире — в структуре сознания человека. Поэтому
1 Явление это раскрыто на примере поэзии Жуковского Г. А. Гуковским (см.:
Гуковский Г. А. Пушкин и русские романтики. Саратов, 1946).
254
СТРУКТУРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
историю художественной эволюции человечества можно описать относительно
любого из них, будь то история метафоры, история рифмы или история того
или иного жанра. Если бы мы обладали достаточно полными описаниями
этого рода, то, синхронизируя их во взаимосвязанные пучки, мы могли бы
получить картину развития искусства. Однако редкий из элементов
художественной структуры так непосредственно связан с общей задачей построения
картины мира, как «точка зрения». Она непосредственно соотнесена с такими
вопросами во вторичных моделирующих системах, как позиция создателя
текста, проблема истинности и проблема личности.
«Точка зрения» придает тексту определенную ориентированность
относительно его субъекта (особенно это явно в случаях с прямой речью). Однако
всякий текст вдвинут в некоторую внетекстовую структуру, самый
абстрактный уровень которой можно определить как «тип мировоззрения», «картина
мира» или «модель культуры» (известная разница между этими понятиями
в данном случае несущественна).
Но у модели культуры есть своя ориентация, выражающаяся в
определенной шкале ценностей, в отношении истинного и ложного, верха и низа.
Если представить себе «картину мира» данной культуры как некоторый текст
достаточно абстрактного уровня, то эта ориентированность получит
выражение в точке зрения этого текста. Тогда возникает вопрос о возможных
соотношениях точки зрения текста культуры и точки зрения того или иного
конкретного текста (языкового или выраженного другими знаками того же
уровня, например рисунка).
При этом отношение «точка зрения — текст» есть всегда отношение
«создатель — созданное». Применительно к литературному тексту — это
проблема авторской позиции, «лирического героя» и т. п.; применительно к
модели культуры — это комплекс общефилософских вопросов, касающихся
происхождения мира и его разумности. Поскольку отношение
ориентированности текста культуры и точки зрения входящих в него конкретных текстов
воспринимается как отношение истинности или ложности, то сразу же
вырисовывается два возможных отношения: полное совпадение и диаметральная
противоположность.
Так, средневековая система мышления строила это отношение следующим
образом. Общая модель мира мыслилась как заранее существующая, данная
и имеющая создателя. Если взять сакральные тексты, как наиболее
авторитетные в этой системе, то единство выраженной в них точки зрения с общей
ориентированностью культуры достигалось общностью создающего.
Создатель мира был одновременно и творцом этих «богодохновенных текстов»
(или «нерукотворных образов»), а человек-автор был лишь посредником,
исполнителем, копиистом и переписчиком, вся заслуга которого сводилась к
верности повторения авторитетного текста. Этим достигалась и истинность,
это же был ответ на вопрос: «Откуда автор литературного произведения
знает о том, что он описывает?»
Хроника, летопись в средневековой иерархии текстов занимали менее
высокое место, чем агиографические произведения, но и здесь наблюдалась
сходная картина: имелся некий неподвижный континуум — модель идеальной
8. Композиция словесного художественного произведения
255
нормы истории человечества и поведения людей, в которую вписывался
реальный текст летописи. И снова единство точки зрения достигалось тем,
что летописец излагал не свою личную позицию, а полностью отождествлялся
с традицией, истиной и моралью. Только от их имени он мог говорить.
Истинным же считалось то, что не принадлежало его личной позиции: отсюда
стремление к использованию легенды, народной молвы, не своих рассказов.
Летописец приобщается к ним как к данности и, следовательно, к истине.
Представление о тексте как «несотворенном» заставляет автора вводить
в большом количестве «речи» от первого лица — выступать не как создатель,
а протоколист. Однако это не приводит к изобилию точек зрения. Все их
можно свести к двум: «правильной» — совпадающей с ориентацией всего
текста в целом, и «неправильной» — противоположной ему. Рассмотрим с
этой точки зрения евангельский текст: «И проходя увидел человека, слепого
от рождения. Ученики Его спросили у Него: Равви! кто согрешил, он или
родители его, что родился слепым? Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни
родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божий. Мне
должно делать дела Пославшего Меня, доколе есть день; приходит ночь,
когда никто не может делать. Доколе я в мире, я свет миру». После исцеления
слепого: «Тут соседи и видевшие прежде, что он был слеп, говорили: не
тот ли это, который сидел и просил милостыни? Иные говорили: это он, а
иные: похож на него. Он же говорил: это я» (Иоанн: 9, 1—9).
Несмотря на то, что в тексте фигурирует несколько персонажей и групп
персонажей, фактически, по самой его структуре, возможны лишь три позиции:
позиция истины, позиция неистины и позиция перехода от одной к другой
(«просветление» и «отступничество»), то есть «точек зрения» возможно лишь
две — истина и неистина. Это и видно в процитированном тексте.
В древнерусской летописи в связи с этим возникает двойная «истинность»
прямой речи. Летописец вводит в свой текст прямую речь как свидетельство
«невыдуманного». В этом смысле сам факт построения повествования в виде
прямой речи уже воспринимается как доказательство подлинности. Но
содержание этих высказываний также может быть двояким: оно может быть
истинным (совпадать по ориентации с общей «моделью мира» текстов) и
ложным (прямо противоположным).
Если в былине разбивка текста на высказывания от первого лица,
распределенные между противниками, не меняет ориентированности, единой для
всего эпоса точки зрения (князь Владимир называет Калина-царя «собакой»,
но и сам себя Калин-царь именует так же), то здесь возможны два типа
отношения прямой речи к истине: «аще есть право молвил» и «аще ли неправо
глагола»1. Именно это расхождение двух «точек зрения» — всего текста и
данного персонажа — создает возможность (только для отрицательных
героев) говорить о намерении, — которое всегда злонамерение — аналог
психологического анализа в текстах более позднего периода («бе бо ужасался и
лесть имея в сердци»).
1 Поли. собр. русских летописей. Т. 1. С. 260.
256
СТРУКТУРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
В дальнейшей истории повествовательного художественного текста мы
будем еще неоднократно сталкиваться с разными типами соотношения этих
двух видов ориентированности.
В качестве позиции, с которой ориентируется картина мира в целом,
могут выступать Истина (роман классицизма), Природа (просветительский
роман), Народ; наконец, эта общая ориентированность может быть нулевой
(это означает, что автор отказывается от оценки повествования). Так,
например, поступает Чулков, говоря о знаках горя, которые проявляет его
героиня, но отказываясь судить об истинности ее чувств, как и вообще о
внутреннем мире своих героев: «Владимира жалела ли об отце, об етом я
неизвестен; ибо мне сего не сказывала, а лжи писать я не намерен».
В романтическом повествовании точки зрения микро- и макротекста
совмещены в едином неподвижном центре повествования — авторской
личности. Унифицированность точки зрения становится синонимом
романтического субъективизма. Сознательная задача построения текста, который, выходя
за рамки любой отдельной точки зрения, строился бы по законам свободного
пересечения различных субъективных позиций, в русской литературе впервые
была поставлена в «Евгении Онегине». Субъективно это воспринималось как
движение от романтической поэмы к повествовательному жанру — роману.
Порабощение текста одной точкой зрения мыслится как господство
«выражения» над «содержанием», «поэзия». Ей противопоставляется «проза» как
царство «содержания», свободное от авторской субъективности. Но
показательно, что после того как «поэзия» романтизма обнажила проблему «точки
зрения» как стилистико-философского центра текста, движение к «простоте»
достигается не отказом от этого завоевания, а усложнением вопроса —
утверждением одновременной возможности многих точек зрения.
«Евгений Онегин» стал в творчестве Пушкина новым этапом в построении
текста. В 1822 г. в известной заметке, цитируемой под условным названием
«О прозе», Пушкин отчетливо противопоставил в чисто семиотическом плане
выражение и содержание.
Перефрастическая проза (в первую очередь школы Карамзина) осуждается
как неправдивая. При этом очень интересно, что строение текста по некоторым
(любым) условным правилам отвергается. Структурно организованному
тексту («блестящие выражения») противопоставляется «простое» содержание,
которое мыслится как сама жизнь. А «жизнь» в литературном произведении —
это неэстетизированная речь, текст, художественно не организованный и
поэтому истинный. Но естественно, что любой текст, входящий в
художественное произведение, есть художественный текст. Так возникает задача
построения художественного (организованного) текста, который имитировал
бы нехудожественность (неорганизованность), создания такой структуры,
которая воспринималась бы как отсутствие структуры. Для того чтобы вызвать
в читателе ощущение простоты, разговорной естественности языка, жизненной
непосредственности сюжета, безыскусственности характеров, потребовалось
значительно более сложное структурное построение, чем все известные
литературе тех лет. Эффект упрощения достигался ценой резкого усложнения
структуры текста. При всей очевидной связанности проблемы точки зрения
8. Композиция словесного художественного произведения
257
с истинностью функциональное их соединение произошло лишь на
определенном историческом этапе. Пока точка зрения текста мыслилась как
единственно возможная и зафиксированная на всем его протяжении, то есть
вообще не была художественно активной, истинность или ложность
высказывания не связывалась с определенной его направленностью.
Предполагалось, что некоторые персонажи способны создавать только истинные, в то
время как другие — только лишь исконно ложные тексты. Так, например,
«враг», «еретик», «иноверец» в средневековых текстах всегда лгут, независимо
от содержания того или иного высказывания. Дьявол всегда «льстец» (то
есть обманщик) — это его постоянное качество.
Соединение понятия истинности с некоторой единой, заранее
зафиксированной точкой зрения встречается и в современной литературе. Такое
построение допустимо в сатире и во всех подчеркнуто условных текстах, а
также в публицистике. В реалистической психологической прозе оно звучит
фальшиво. Приведем один весьма выразительный пример. В рассказе Л. Гу-
милевского «Фанатики» (1923) сталкиваются положительные герои —
рабфаковцы с отрицательным — директором столовой АРА мистером Хауером.
За мистером Хауером закреплен ломаный русский язык («Здэсь нэт мэсто
политикэ»). Однако неправильность речи свойственна не только монологам
героя, но и его мыслям. Внутренняя речь его передается так: «Затянув ремни,
он посмотрел в зеркало, вытер одеколоном запекшуюся на губах кровь,
подумал: „Этот страна достоин уважения!"»1. Неправильность (в данном
случае — неправильность речи в разговоре с самим собой) — не отношение
некоторых точек зрения, а исконное свойство отрицательного героя.
Проблема точки зрения выкристаллизовалась на пересечении нескольких
текстов от первого лица как нескольких систем, обладающих каждая внутри
себя истинностью. Не случайно наиболее рано возможность существования
нескольких точек зрения в словесном искусстве обнажилась в драме. В прозе
этот конфликт нескольких систем прямой речи как нескольких точек зрения
отчетливо выразился в эпистолярном романе XVIII в. Новаторским
произведением в этом смысле были «Опасные связи» Шодерло де Лакло2.
Взаимоналожение текстов писем создает принципиально новое представление об
истинности: она не отождествляется с какой-либо одной непосредственно
выраженной в тексте позицией, а создается пересечением всех их. Текстуально
зафиксированные письма образуют несколько групп, из которых каждая —
определенный мир, системный внутри себя, со своей внутренней логикой и
своим представлением об истине. Каждая из этих групп имеет свою,
определенно ей присущую точку зрения. Истина, с авторской позиции, возникает
как некоторый надтекстовый конструкт — пересечение всех точек зрения.
Заданность поведения (например, обольщение или самозащита от него),
1 Гумилевский Л. Избранное. М., 1964. С. 255.
2 На специфику чисто семиотической постановки вопроса истинности в этом романе
обратил внимание Г. А. Гуковский в 1948 г. в специальной лекции, прочтенной в
курсе, посвященном прозе Гоголя (в книгу о Гоголе не вошла). В настоящее время
вопрос детально рассмотрен в кн.: Todorov Tz. Literatur et signification. Paris, 1967.
258
СТРУКТУРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
предвзятость оценок мыслятся как нечто ложное. Истина же — в выходе
за ограниченность каждой из этих структур: она возникает вне текста как
возможность взглянуть на каждого из героев и на каждый, писанный от
первого лица текст с позиции другого (других) героя и других текстов.
Следующий этап в усложнении точки зрения повествования ярко
представлен в «Евгении Онегине»1. Вместо нескольких персонажей,
рассказывающих с разных позиций об одном и том же, как у Шодерло де Лакло,
появляется автор, который, оперируя разными стилями как замкнутыми,
наделенными фиксированной точкой зрения системами, излагает одно и то
же содержание с нескольких стилистических позиций2.
Рассмотрим стилистическую структуру двух строф из четвертой главы
романа:
XXXIV
Поклонник славы и свободы,
В волненье бурных дум своих,
Владимир и писал бы оды,
Да Ольга не читала их.
Случалось ли поэтам слезным
Читать в глаза своим любезным
Свои творенья? Говорят,
Что в мире выше нет наград.
И впрямь, блажен любовник скромный,
Читающий мечты свои
Предмету песен и любви.
Красавице приятно-томной!
Блажен... хоть, может быть, она
Совсем иным развлечена.
XXXV
Но я плоды моих мечтаний
И гармонических затей
Читаю только старой няне,
Подруге юности моей,
Да после скучного обеда
Ко мне забредшего соседа,
Поймав нежданно за полу,
Душу трагедией в углу,
Или (но это кроме шуток),
Тоской и рифмами томим,
Бродя над озером моим,
Пугаю стадо диких уток:
Вняв пенью сладкозвучных строф,
Они слетают с берегов.
1 См.: Лотман Ю. М. Художественная структура «Евгения Онегина» // Учен. зап.
Тартуского гос. ун-та, 1966. Вып. 184. С. 5—32. (Труды по рус. и славян, филологии.
Т. 9.)
2 См.: Виноградов В. В. Стиль Пушкина. М., 1941.
8. Композиция словесного художественного произведения
259
оды
творенья
мечты
плоды моих
мечтаний
трагедия
сладкозвучные
строфы
Ольга
любезные
предмет песен
и любви,
красавица
приятно-томная
старая няня
сосед
дикие утки
Строфы представляют собой многократное повторение одной и той же
ситуации: поэт читает свои стихи слушателю — в стилистически контрастных
системах. Каждый из трех членов ситуации («поэт», «стихи», «слушатель»)
может трансформироваться.
I Владимир
II Поэты слезные
III Любовник скромный
IV Я
V Я
VI Я
Соответственным образом действие по чтению стихов получает каждый раз
особое наименование: «читаю», «душу», «пугаю». Такой же «трансформации»
подвергается реакция объекта на чтение:
...Ольга не читала их.
...Говорят,
Что в мире выше нет наград...
Блажен... хоть, может быть, она
Совсем иным развлечена...
Вняв пенью сладкозвучных строф,
Они слетают с берегов.
Значение этих стихов строится по сложной системе: каждая отдельная
лексическая единица получает дополнительный стилистический смысл в
соответствии с характером структуры, в которую она включена. Здесь в первую
очередь будет играть роль ближайшее окружение данного слова. Действие
поэта в случаях III и IV охарактеризовано почти одинаково:
Читающий мечты свои...
...Плоды моих мечтаний
И гармонических затей
Читаю...
Но то, что в случае III это действие связывает «любовника скромного» и
«красавицу приятно-томную», а в IV — «я» и «старую няню», придает
одинаковым словам глубоко различное стилистическое значение. «Мечты» в
III включены в условно-литературную фразеологическую структуру и
соотносятся с IV по принципу ложного выражения и истинного содержания.
Точно так же «старая няня» оказывается в аналогичном отношении к
«красавице приятно-томной». Но антитеза «условная поэзия — истинная проза»
усложняется тем, что «старая няня» — одновременно «подруга юности», и
260
СТРУКТУРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
это сочетание дано не как иронический стык разных стилей, а в качестве
однозначной стилистической группы. Вместо антитезы «поэзия — проза»
появляется «ложная поэзия — истинная поэзия». «Поклонник славы и
свободы» и его «оды» получают особое значение оттого, что «Ольга не читала
их» (в данном случае возникает двунаправленное отношение: равнодушие
Ольги раскрывает книжный характер «волненья бурных дум» Ленского,
поскольку стих «Да Ольга не читала их» звучит как голос трезвой прозы,
который в структуре романа неизменно ассоциируется с истиной; но
одновременно безусловное поэтическое обаяние «славы и свободы» и «бурных
дум» подчеркивает житейскую заземленность Ольги). «Говорят, / Что в мире
выше нет наград» — сочетание двух эквивалентно уравненных единиц,
разговорной и условно-литературной, сопровождается «снижающим»
стилистическим эффектом. Однако значения в этих строфах образуются не только
синтагматической связью. Расположенные в вертикальных колонках слова
воспринимаются как варианты (парадигмы) единых инвариантных значений.
Причем ни одно из них не относится к другому как содержание к выражению:
они взаимонакладываются, образуя сложное значение. Сама отдаленность и
кажущаяся несовместимость таких понятий, как «предмет песен и любви»,
«старая няня», «сосед», «дикие утки», при их включенности в один
парадигматический ряд, оказывается важным средством семантической
интенсификации. Получается своеобразный семантический супплетивизм, при котором
разные и отдаленные слова одновременно ощущаются как варианты одного
понятия. Это делает каждый вариант понятия в отдельности трудно
предсказуемым и, следовательно, особо значимым. Необходимо отметить и другое:
не только отдаленные лексемы сближаются в сложной архиединице, но и
элементы различных (часто противоположных) стилистических систем
оказываются включенными в единую стилистическую структуру. Такое
уравнивание различных стилистических планов ведет к осознанию относительности
каждой из стилистических систем в отдельности и к возникновению иронии.
Доминирующее место иронии в стилевом единстве «Евгения Онегина» —
очевидный и отмечавшийся в литературе факт.
Механизм иронии составляет один из основных ключей стиля романа.
Проследим его на нескольких примерах.
XXXVI
И так они старели оба.
И отворились наконец
Перед супругом двери гроба,
И новый он приял венец.
Он умер в час перед обедом,
Оплаканный своим соседом,
Детьми и верною женой
Чистосердечней, чем иной.
Он был простой и добрый барин,
И там, где прах его лежит,
Надгробный памятник гласит:
Смиренный грешник, Дмитрий Ларин,
8. Композиция словесного художественного произведения
261
Господний раб и бригадир,
Под камнем сим вкушает мир.
XXXVII
Своим пенатам возвращенный,
Владимир Ленский посетил
Соседа памятник смиренный,
И вздох он пеплу посвятил;
И долго сердцу грустно было.
«Poor Yorickî» — молвил он уныло.
Здесь стилистические сломы образуются не системой трансформаций
одного и того же экстрастилистического содержания, а последовательной сменой
стилевых аспектов. Первый стих: «И так они старели оба» — демонстративно
нейтрален. В нем отмеченным является отсутствие признаков какого бы то
ни было поэтического стиля. В стилевом отношении это стих без точки
зрения. Последующие три стиха характеризуются хорошо выдержанной
высокой, в духе XVIII в., стилистикой, что конструирует и соответствующую
точку зрения: перифразы «отворились... двери гроба», «новый он приял венец»
(вместо «умер»), лексика — «супруг», «приял» — не могли вызвать у читателя
Пушкина никаких других художественных переживаний. Однако в следующем
стихе торжественные перифразы переведены в другую систему: «...он умер».
Стилистика последующих стихов совсем не нейтральна в своем прозаизме.
Она составлена из соединения точных прозаизмов, придающих стилю в
системе данного построения текста оттенок истинности и, следовательно,
поэтичности, которые сочетаются со снижающими стиль элементами.
Подробность «в час перед обедом» в сочетании с «отворились... двери гроба»
вносит несколько комический оттенок архаической деревенской наивности —
время смерти отсчитывается от времени еды:
...Мы время знаем
В деревне без больших сует:
Желудок — верный наш брегет.
Этот же комический эффект создается сочетанием торжественного
«оплаканный» и «своим соседом», поскольку облик деревенского соседа-помещика
был для читателя «Евгения Онегина» достаточно недвусмысленным и к тому
же был уже обрисован в других строфах той же главы. В свете этого «дети»
и «верная жена», оплакивающие покойника, воспринимаются как
архаически-торжественный штамп. Все это бросает свет на точку зрения стихов 2—4.
Высокая поэтика XVIII в. воспринимается как штамп, за которым стоит
архаическое и наивное сознание, провинциальная культура, простодушно
переживающая вчерашний день общенационального умственного развития.
Однако стих «чистосердечней, чем иной» обнаруживает в архаическом штампе
не ложную фразу, а содержание истины. Оставаясь штампом обязательного
в эпитафиях высокого стиля и одновременно неся печать неуклюжего
провинциализма, текст не теряет способности быть носителем истины. Стих «Он
был простой и добрый барин» вводит совершенно неожиданную точку зрения.
Семантическая направленность подразумевает наличие в качестве субъекта
262
СТРУКТУРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
этой системы крепостного крестьянина. Объект (Ларин) является для субъекта
текста барином. И с этой точки зрения Ларин выглядит как «простой и
добрый», — этим продолжает очерчиваться контур патриархальных
отношений, царящих в доме Лариных. Все эти многократные стилистико-семанти-
ческие переключения синтезируются в заключительных стихах — в тексте
эпитафии, одновременно и торжественной («смиренный грешник», «вкушает
мир») и комической («господний раб и бригадир», наивно уравнивающее
отношение к земной и небесной власти).
В следующей строфе мы сталкиваемся с новой группой переключений.
Условно-поэтическое (в традиции дружеского послания) «своим пенатам
возвращенный» сменяется известием о посещении Ленским могилы Ларина.
«Соседа памятник» выглядит «смиренным», то есть прозаическим («смиренная
проза»), для Ленского (с той наивной точки зрения, которая реализована в
эпитафии, он торжествен). «Вздох он пеплу посвятил» ведет нас в мир
представлений Ленского, что закономерно завершается репликой «Poor
Yorick!». Ленский строит свое «я» по образцу личности Гамлета и
перекодирует ситуацию в систему шекспировской драмы.
Мы убедились на этом примере (аналогичным образом можно было бы
проанализировать любые строфы романа), что последовательность
семантико-стилистических сломов создает не фокусированную, а рассеянную,
множественную точку зрения, которая и становится центром надсистемы,
воспринимаемой как иллюзия самой действительности. При этом существенным
именно для реалистического стиля, стремящегося выйти за пределы
субъективности семантико-стилистических точек зрения и воссоздать объективную
реальность, является специфическое соотношение этих множественных
центров, разнообразных (соседствующих или взаимонаслаивающихся) структур:
каждая из них не отменяет других, а соотносится с ними. В результате текст
значит не только то, что он значит, но и нечто другое. Новое значение не
отменяет старого, а коррелирует с ним. В итоге этого художественная модель
воспроизводит такую важную сторону действительности, как ее
неисчерпаемость в любой конечной интерпретации.
Из приведенных примеров видно, что уже в «Евгении Онегине» Пушкин
не только монтирует сложную структуру точек зрения, пользуясь приемом
рассказа об одном и том же с нескольких стилистических позиций, но и
прибегает к другим, более сложным средствам.
Прием многократного пересказа одного содержания с разных точек зрения
был удобен, поскольку обнажал для еще неподготовленного читателя
сущность писательского метода, но он был слишком полемичным,
демонстративным, чтобы сделаться основой стиля, когда он утвердится как норма.
Монтаж точек зрения в дальнейшем закрепился в повествовании как смена
и позиций, с которых ведется повествование, и описываемых объектов.
Наглядный пример такого построения — роман «Война и мир», вплотную
приблизившийся к монтажным приемам современного кинематографа.
Органичность подобного сближения видна на примере «Фальшивого купона» —
повести с отчетливо кинематографической структурой смены точек зрения,
монтажа планов и т. п.
8. Композиция словесного художественного произведения
263
Наконец, нельзя не остановиться на таком приеме построения точки
зрения, сущность которого яснее всего можно проиллюстрировать также
кинематографом. Предположим, что оператору надо снять мир глазами
какого-либо героя. Вопрос этот неоднократно ставился в кино и теоретически
и практически, включая нашумевшую попытку А. Хичкока в кинофильме
«Очарованный» снять самоубийство в субъективной точке зрения, повернув
сначала дуло револьвера прямо на зрителя, а затем дав смену красного,
белого и черного цвета на экране1.
Многократными опытами доказано, что съемка больших кусков ленты с
позиции какого-либо героя приводит не к увеличению чувства субъективности,
а, наоборот, к потере его: зритель начинает воспринимать кадры как обычную
панорамную съемку. Для того чтобы представить некоторый кинотекст как
реализующий точку зрения определенного героя, приходится перемежать
(монтировать) кадры, снятые с его субъективной пространственной точки, с
кадрами, фиксирующими героя извне, с пространственной точки зрения
зрителей («ничья» точка зрения) или других персонажей.
Подобно этому воспроизведение чьей-либо точки зрения в
повествовательном тексте послепушкинской прозы, как правило, строится в виде
некоторой амальгамы, где лингвистические средства выражения точки зрения
героя монтируются с точками зрения автора и других персонажей. Так, в
«Повестях Белкина» каждый рассказ имеет трех повествователей: лицо,
рассказавшее его Белкину (лица эти хотя и закодированы инициалами, но
социально и психологически конкретизированы2), сам Белкин и Пушкин.
Кроме того, в тексте фигурируют герои, которые своей прямой речью часто
очень существенно деформируют точку зрения повествования. Рассказ
строится так, что каждая из этих точек зрения, присутствуя в нем, по-разному
акцентируется в разных частях текста. В пределах одной и той же фразы
могут выступать различные точки зрения. Этим создается и акцентация
специфики субъективных позиций, и объективная «надпозиция» — конструкт
действительности.
В силу особой роли художественного пространства в создании текста —
модели отображаемого объекта — точка зрения очень часто получает в
произведении пространственное воплощение. Точка зрения выступает как
ориентированность художественного пространства. Одна и та же
пространственная схема: противопоставление внутреннего, замкнутого (конечного)
пространства внешнему разомкнутому (бесконечному) — может по-разному
интерпретироваться в зависимости от ориентации.
Нас мало избранных, счастливцев праздных... —
{А. С. Пушкин)
1 Попытка эта произвела шокирующее впечатление. Однако следует напомнить, что
в литературе стремление описать смерть с точки зрения умирающего — задача совсем
не новая. Ее решал Толстой в «Севастопольских рассказах», Хемингуэй в «По ком
звонит колокол», Владимов в «Большой руде» и др.
2 См.: Гиппиус В. В. От Пушкина до Блока. М.; Л., 1966.
264
СТРУКТУРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
совмещает точку зрения повествования с внутренним (замкнутым)
пространством.
Мильоны — вас. Нас — тьмы, и тьмы, и тьмы... —
(А. А. Блок)
конструирует систему, в которой говорящий совмещен с внешним,
разомкнутым миром. В этой связи становится ясно, что художественно активной точка
зрения может быть только до тех пор, пока обладает активностью ее
антисистема — диаметрально противоположная точка зрения.
Проблема точки зрения вносит в текст динамический элемент: каждая из
точек зрения в тексте претендует на истинность и стремится утвердить себя
в борьбе с противостоящими. Однако, доводя эту победу до уничтожения
противоположной системы, она художественно уничтожает себя. С
исчезновением романтизма художественно умерла и полемика с ним. Поэтому, борясь
с противосистемами, точка зрения не только уничтожает, но и воскрешает
их, активизирует. Так возникла та сложная «многоголосная» структура точек
зрения, которая составляет основу современного художественного
повествования.
Соположенностъ разнородных элементов
как принцип композиции
Синтагматическое построение художественного текста имеет
существенное отличие от привычных форм синтагматики первичных знаковых
систем.
В общелингвистических структурах мы имеем дело с
последовательностями знаков или элементов знаков в пределах того или иного уровня. Это
позволяет расслаивать общеязыковую структуру на отдельные уровни, из
которых каждый функционирует совершенно имманентно.
По аналогии с нехудожественными знаковыми системами возникает
тенденция выделять и в литературном тексте отдельные уровни: фонологический,
грамматический, лексико-семантический, микросинтаксический (фразовый) и
макросинтаксический (сверхфразовый). Это бесспорно необходимо, и без
предварительного описания этих уровней никакой точной модели
художественного текста построить невозможно. Однако необходимо понимать, что
это выделение уровней имеет только предварительный и эвристический смысл.
Реальное функционирование художественного текста связано с гораздо более
активным взаимодействием между уровнями, чем это имеет место в
нехудожественных структурах.
Композиция художественного текста строится как последовательность
функционально разнородных элементов, как последовательность структурных
доминант разных уровней.
Представим себе, что, анализируя ту или иную киноленту, мы можем
составить структурное описание величины планов, показав композицион-
8. Композиция словесного художественного произведения
265
ную организованность их смены. Ту же работу мы можем сделать
относительно последовательности ракурсов, замедленности и ускоренности кадров,
структуры персонажей, системы звукового сопровождения и т. п. Однако в
реальном функционировании текста куски, снятые укрупненным планом,
будут сменяться не только противоположными, но и такими, где основным
носителем значения будет ракурс. Но и план в этот момент не исчезнет,
а останется как почти неощутимый структурный фон. Таким образом, если
в обычном, нехудожественном тексте мы имеем дело с динамикой сообщения
в пределах одного и того же языка, то в художественном нам будут говорить
на нескольких языках, причем самый громкий голос будет все время
меняться. И сама последовательность и соотнесенность этих языков будет
составлять единую систему той художественной информации, которую несет
текст. Составляя на определенном уровне единую структуру, эта система
будет обладать определенной непредсказуемостью взаимопересечений, и это
будет обеспечивать ей неослабевающую информативность. Именно потому,
что, чем сложнее организован текст и каждый из его уровней, тем
неожиданнее точки пересечения частных подструктур; чем в большее количество
структур включен данный элемент, тем более «случайным» он будет
казаться, — возникает известный парадокс, свойственный лишь
художественному тексту-, увеличение структурности приводит к понижению
предсказуемости.
Но речь идет не только о соединении элементов разнородных уровней в
единое композиционное целое. И внутри каждого уровня последовательности
будут строиться по принципу соединения разнородных элементов таким
образом, чтобы, с одной стороны, создавались определенные, ощущаемые
структурные последовательности, а с другой — непрерывные их нарушения
в результате наложения на них других структур и их «возмущающего»
воздействия. Таким образом, создается механизм чрезвычайной гибкости и
неисчислимой семантической активности. Итак, заведомо неравные элементы
структуры, организованные относительно общеязыкового плана содержания
на разных его уровнях и плана выражения на разных его уровнях: «персонаж»
и рифма, нарушение ритмической инерции и эпиграф, смена планов и точек
зрения и семантический слом в метафоре и т. д. и т. п. — выступают как
равноправные элементы единого синтагматического построения. Видимо,
описание этого единого синтетического уровня структурных доминант и
должно выноситься на суд того круга читателей, которые интересуются тем,
как построено произведение, а не как построено исследование.
Предшествующий ему труд по возможно более полному описанию всех уровней остается
достоянием сравнительно небольшого круга специалистов, интересующихся
не столько результатами исследования, сколько его механикой. Это
необходимо подчеркнуть, поскольку выполненное с уже сейчас возможной полнотой
описание всех уровней сравнительно небольшого художественного текста
составило бы огромное число страниц, на которых могло бы затеряться
основное — функциональное единство текста.
Сказанное можно обобщить: одним из основных структурных законов
художественного текста является его неравномерность — соположение кон-
266
СТРУКТУРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
структивно разнородных сегментов1. Б. А. Успенский в работах по
принципам перспективы в русской иконе показал, что на периферии картины и в
ее центре, следуя структурным принципам русской средневековой живописи,
действуют разные перспективные точки зрения. Это наблюдение можно было
бы продолжить: в очень широком круге самых разнообразных текстов мы
можем отметить чередование сегментов, в которых одни и те же принципы
проявляются с разной степенью конденсированности или же сополагаются
по-разному организованные отрезки текста.
Это соположение разнородного проявляется на всех уровнях — от низших
уровней, связанных с планом выражения в структуре естественного языка,
до высших, принадлежащих в общелингвистической системе уровню
содержания. Так, например, в «Войне и мире» герои подчиняются не только
основному идейно-художественному противопоставлению (герои «роевой»
жизни — герои «света», статические герои — герои движения и т. п.), но и
более частным, однако очень существенным упорядоченностям. При этом
оказывается, что для разных героев, даже входящих в одну и ту же группу
при классификации на более абстрактном уровне, действуют разные нормы
поведения. Так, если описать поведение Долохова и Анатоля Курагина в
виде системы запретов и разрешений, то станет очевидно, что, хотя на
определенном уровне их можно представить как варианты одного типа, в
реальном тексте романа эти герои руководствуются разными нормами
поведения. Но не только переходя от персонажа к персонажу мы сталкиваемся
с разными нормами поведения — определенным пространствам свойственны
особые правила и нормы поведения. Николай Ростов ведет себя в полку не
так, как дома, а в деревне не так, как в Москве. Когда герой попадает на
бал или на поле боя, поведение его регулируется не только нормами его
характера, но и общими нормами места.
Столкновения разных точек зрения, разных типов поведения, разных
представлений о возможном и невозможном, важном и неважном пересекают
текст романа и заставляют ощущать в каждом куске его новый взгляд на
мир и новую конструкцию человеческих отношений. Андрей Болконский,
скачущий с донесением о победе над Мортье в Брюнн, где находится двор
австрийского императора, убежден в чрезвычайной важности этого события,
на которое он смотрит глазами непосредственного участника (под ним была
убита лошадь, и сам он оцарапан пулей) и с точки зрения русской армии.
Этот взгляд ему представляется единственно возможным, такого же отношения
к событию он ждет и от австрийцев: «Живо представились ему опять все
1 Интересный пример неравномерности структурной организации текста —
иллюстрации Боттичелли к «Божественной комедии» Данте. Рисунки выдержаны в
«реалистической» (применительно к эпохе Возрождения) манере. И фигуры Данте с Вергилием,
и фигуры фона выполнены в системе прямой трехмерной перспективы. Однако в
пределах одной и той же иллюстрации фигуры Данте и Вергилия повторяются
многократно по оси их движения на неповторяющемся фоне. Итак, в отношении фоновых
фигур зритель должен видеть всю иллюстрацию, а в отношении центральных
персонажей — лишь часть. «Густота» упорядоченности в разных местах рисунка различна.
8. Композиция словесного художественного произведения
267
подробности сражения уже не смутно, но определенно, в сжатом изложении,
которое он в воображении делал императору Францу». Однако в Брюнне он
столкнулся с другим взглядом — не армейским, а придворным, не русским,
а австрийским, не вплотную, а издали оценивающим событие. Неудивительно,
что при дворе императора Франца на события смотрят иначе, чем в штабе
Кутузова. Примечательно другое: князь Андрей не принимает этой, враждебной
ему, точки зрения. Но сам факт ее существования изменяет и его собственное
отношение к сражению: «Весь склад мыслей его мгновенно изменился; сражение
представилось ему давнишним, далеким воспоминанием»1.
Наташа на балу «ничего не заметила и не видала из того, что занимало
всех на этом бале. Она не только не заметила, как государь долго говорил
с французским посланником, как он особенно милостиво говорил с такою-то
дамой <...> она не видала даже государя и заметила, что он уехал, только
потому, что после его отъезда бал более оживился»2. У Наташи и у «других»
разные нормы оценки «важного» и «не важного», но именно их соседство
заставляет воспринимать каждую систему оценок в ее своеобразии. На этом
же балу — Наташе «весело, как никогда в жизни», а Пьер «в первый раз
почувствовал себя оскорбленным тем положением, которое занимала его
жена в высших сферах». Он «угрюм и рассеян». Сразу после сцены бала
следует эпизод посещения Болконским Сперанского, и те нормы, которые
регулировали поведение Наташи на балу, вступают в конфликт с
«государственным» поведением. Мы сможем наблюдать, как в развитии повествования
однолинейные сюжеты будут сменяться многолинейными, как многогерой-
ность и наличие нескольких сюжетных линий повлекут за собой построение,
при котором каждая глава будет перемещать читателя из одной сюжетной
линии в другую, как будет усложнено построение текста за счет смены точек
зрения. Все это будут различные проявления одного принципа: смежные
участки текста должны быть по-разному организованы. Это обеспечивает
художественной структуре постоянное сопротивление предсказуемости —
постоянную информативность3.
При этом, входя на уровне текста в разные конструктивные системы,
соседствующие текстовые сегменты на более высоком уровне включаются в
единую структуру (автор сосредоточивает внимание на первой стороне
вопроса, — читателю бросается в глаза прежде всего вторая). Это двойное
(вернее, многоступенчатое) включение элементов текста и в противоположные,
и в общие структуры, эта постоянная борьба тенденций к унификации и
расподоблению структурных принципов порождает постоянную
информационную активность художественной структуры на всем протяжении текста, —
факт в коммуникационных системах в достаточной мере редкий.
1 Толстой Л. Н. Собр. соч.: В 14 т. Т. 4. С. 186, 188.
2 Там же. Т. 5. С. 207—208.
3 Аналогичны в структурном отношении смена комического и трагического у
Шекспира и все многочисленные случаи приписывания разным частям текста разной
меры условности. Сходным образом могут быть интерпретированы и текстовые
«сломы», рассмотренные нами на примере «Евгения Онегина».
268
СТРУКТУРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
Эффект соположения (монтажный эффект, по терминологии Эйзенштейна)
органически связан с переключением в другую структуру. Следовательно, в
момент перехода от сегмента к следующему у автора (и у аудитории в
структуре ее ожидания) должны быть по крайней мере две возможности:
продолжение уже известной структурной организации или появление новой.
Именно в выборе и взаимопроекции текста и ожидания (инерции структуры)
заключается порождаемая при этом художественная информация. Например,
когда в кинематографе мы имеем дело с равномерно черно-белой или
равномерно цветной лентой, окраска каждого последующего кадра однозначно
предрешена окраской предшествующих, и альтернатива «черно-белый —
окрашенный» не может стать носителем значения. Но представим себе ленту,
некоторые кадры которой цветные, в то время как другие имеют черно-белую
окраску. Тогда выбор, ожидание и соположение тех или иных кадров по
принципу отношения цвета становится носителем значения. Современное
кино идет еще дальше. Вводится основная упорядоченность: двухцветные
кадры — многоцветные кадры, которые внутри себя делятся на подгруппы
(сине-голубые, коричнево-желтые и т. д. в первой, полихромность разной
колористической доминации во второй). Тогда возникает возможность
сложной системы соположений: бихромные — полихромные и разные типы тех
или других внутри каждой группы. Режиссер может связывать цвет с
определенным героем, создавая подобие музыкальной темы или идентифицируя
определенные окрашенности с «точками зрения» или эмоциональной
напряженностью (коррелят интонации), создавать дополнительную информацию.
При этом соположенные единицы, несовместимые в одной системе,
заставляют читателя конструировать дополнительную структуру, в которой эта
невозможность снимается. Текст соотносится с обеими, и это влечет
повышение семантических возможностей. Посмотрим с этой точки зрения на
соединение сегментов в поэзии Пастернака:
Может молния ударить, —
Вспыхнет мокрою кабинкой.
Или всех щенят раздарят...
Монтаж предположений о том, что «молния ударит» и «всех щенят раздарят»
как двух возможных и равноценных несчастий вскрывает смысловую их
несоизмеримость и поэтому «неправильность» (нелогичность) подобного
синтагматического построения. Однако на фоне этого чувства «неправильности»
(которое должно сохраняться для того, чтобы структура работала)
складывается другая упорядоченность: связь понятий, присущих детскому (и более
узко — «дачному») миру. В этом мире исчезновение щенков — огромное
несчастье, а силы, его причиняющие («взрослые»), так же могущественны и
непонятны, как силы природы. Но детский мир не только соположен
«логическому» (общей структуре содержания языка). В следующих стихах с ним
соседствуют уютное «хвалит домоводство», соединенное, в свою очередь, с
несоединимым «буря» («буря хвалит домоводство»!). Романтический «смерч
тоски» «рвется» к бытовому «колодцу», и все это соединяется с
фамильярно-интимным «Что тебе еще угодно?», которое оказывается эквивалентным
9. Текст и внетекстовые художественные структуры
269
романтико-ироническому: «Mein Liebchen, was willst du noch mehr?»,
вынесенному в заглавие стихотворения:
И когда к колодцу рвется
Смерч тоски, то мимоходом
Буря хвалит домоводство.
Что тебе еще угодно?
«Странные сближенья» (Пушкин) — закон синтагматики художественного
текста.
Увеличение информационности текста за счет того, что единственно
возможные в предшествующих структурах соединения получают альтернативу,
очень ясно проявляется в живописи: средневековая живопись дает строго
фиксированную систему поз и жестов, причем для каждого персонажа имеется
одна закрепленная за ним поза. Классицизм сохраняет фиксированность поз,
но расширяет их ассортимент. Для каждой фигуры художник получает
возможность выбрать из некоторого количества «приличных» ее месту и
значению трактовок одну. Реалистическая живопись XIX в. отвергает и эту
«условность». Ассортимент возможных поз, из которых выбирает художник,
определяется бытовым опытом зрительного наблюдения, играющего здесь ту
же роль, что и структура содержания естественного языка в поэзии. Конечно,
спорадически «правдоподобие» нарушается и в этой системе (метафора в
поэзии, сознательное нарушение принятой нормы перспективы, элементы
гротеска и т. п.). Живопись XX в., позволяя себе запрещенные бытовым
опытом соединения, подобно Маяковскому или Пастернаку в поэзии,
значительно расширяет информационную нагруженность текста.
Вероятно, в этой связи интересно было бы проследить конфликт языков
живописи и кино с их взаимными попытками подчинить себе друг друга в
единой структуре художественной культуры XX в. Взаимовлияние разных
искусств — это проявление на высшем уровне общего закона соположенности
различных структурных принципов в художественном творчестве.
9. Текст и внетекстовые
художественные структуры
Относительность противопоставления текста
и внетекстовых структур
После того, что нам уже известно о структуре текста, о том, что отсутствие
выраженности того или иного элемента в знаках данного уровня еще не
270
СТРУКТУРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
обязательно означает перерыв в тексте (для решения данного вопроса
необходимо установить, что соответствует этому участку в структурах других
уровней), делается ясно, что понятие текста не абсолютно. Оно соотнесено
с целым рядом других сопутствующих историко-культурных и
психологических структур.
Мы можем рассматривать в качестве текста отдельное стихотворение из
поэтического цикла. Тогда отношение его к циклу будет внетекстовым. Это
отношение текста к внешним структурам. Однако единство организации
цикла позволяет нам рассматривать на определенном уровне и его в качестве
текста. Равным образом мы можем представить себе подход, при котором в
качестве текста будут восприниматься все произведения-данного автора за
какой-либо четко выделенный отрезок времени («Болдинское творчество
Пушкина», «Статьи Белинского в „Современнике"», «Крымские сонеты
Мицкевича», «Голубой и розовый Пикассо»), произведения определенного,
улавливаемого нами единства (стилевого, тематического и т. п.). Возможны,
наконец, тексты типа: «Творчество Шекспира», «Художественное наследие
Древней Греции», «Английская литература» и, как предельное обобщение,
«Искусство человечества». Против утверждения о том, что любое из названных
понятий может быть рассмотрено как текст, по сути, никакого строгого
возражения выдвинуть невозможно.
Можно было бы привести много примеров, когда, созданные как
отдельные произведения, тексты в дальнейшем функционировали как части более
обширного текста того же автора, других авторов или анонимного. В
фольклоре это происходит постоянно. Главы «Героя нашего времени»
первоначально не только создавались, но и печатались как отдельные повести, однако
потом превратились (в первом отдельном издании) даже не в цикл повестей,
а в роман. Главы «Евгения Онегина» или «Василия Теркина» для
современников, читавших их в отдельных публикациях (они выходили порой с
большими хронологическими перерывами), обладали, конечно, большей
самостоятельностью, чем для последующих читателей, держащих в руках единую
книгу с общим заглавием и сквозной нумерацией глав и страниц. В этом
смысле публикация романа в журналах или даже газетах определенными
текстовыми порциями с пометкой «продолжение следует», конечно, порождает
особое чувство текста. Вряд ли можно спорить, что в этом случае возможно
двойное соотнесение текста: глава романа — часть романа и глава романа —
часть структурного и идейного единства книжки журнала. Но если оба эти
представления возможны, то все же нельзя не признать, что под текстом
здесь будут разуметься различные вещи.
Но не менее известны случаи, когда часть текста функционирует как
самостоятельная, вполне автономная художественная единица. Укажем хотя
бы на пример «Манон Леско». Ю. Н. Тынянов вычленил из огромной и
трудночитаемой поэмы Кюхельбекера «Давид» и опубликовал в качестве
отдельного стихотворения «Плач Давида по Ионафану» и тем самым создал
замечательное произведение, один из лучших памятников русской
политической лирики первой половины XIX в., прекратить самостоятельное
существование которого, «запихав» его обратно в поэму, уже невозможно.
9. Текст и внетекстовые художественные структуры
271
Однако спор: «текст или часть текста» — совсем не схоластический спор
о словах. Недоумение, которое возникло у современников: «Остров Борн-
гольм» Карамзина — повесть или часть повести? — определялось разницей
идейно-эстетических позиций и само по себе означало различное понимание
смысла и характера произведения. Вряд ли можно считать праздным вопросом
такой: первый том «Мертвых душ» — произведение или часть произведения?
Для Белинского чрезвычайно существенным было, чтобы публика восприняла
его как отдельный, законченный текст, но для Гоголя произведение в этом
случае страшно обеднялось.
Когда Николай I выразил пожелание, чтобы А. А. Иванов «дополнил»
«Явление Мессии» второй картиной в pendant «Крещение русских в Днепре»,
он, исходя и из определенных идейных соображений, и из привитого
казарменной симметрией убеждения в том, что на стенах должны висеть «парные»
украшения, рассматривал картину как часть текста. Но для Иванова этот
момент духовного преображения человечества, превращение эллина и иудея,
раба и патриция — в братьев был целостным текстом и никаким pendant
дополнен быть не мог.
Таким образом, мы подходим к выводу: необходимо учитывать
возможную разницу между тем, что автор понимает под текстом, что воспринимает
его аудитория в качестве первичной художественной целостности и, наконец,
точкой зрения исследователя, воспринимающего текст как некую полезную
абстракцию художественного единства.
Типология текстов и типология внетекстовых связей
Всякий художественный текст может выполнить свою социальную
функцию лишь при наличии эстетической коммуникации в современном ему
коллективе. Поскольку знаковое общение требует не только текста, но и
языка, художественное произведение, взятое само по себе, без определенного
культурного контекста, без определенной системы культурных кодов, подобно
«надписи надгробной на непонятном языке». Но поскольку акт
художественной коммуникации, как и всякой коммуникации, подразумевает
определенный, общающийся при помощи знаковых систем, коллектив, то возникает
вопрос о двух возможных видах отношения текста и кода: синтезе и анализе.
При этом речь, видимо, будет идти не только о случаях, воспроизводящих
ситуацию, аналогичную изучаемой лингвистами.
В естественном языке и говорящий и слушающий, несмотря на разницу
производимых операций, не выходят за пределы одной системы: например,
русского, английского, чешского и других языков. Конечно, и в
искусствоведении можно изучать такую же проблему, если оперировать искусственно
сконструированным получателем информации, культурно, интеллектуально
и эмоционально равным автору текста. Эта проблема, видимо существенная
для описания психологии творчества и психологии восприятия искусства, нас
сейчас не интересует. Мы имеем в виду гораздо более близкий к каждодневной
272
СТРУКТУРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
практике художественного общения и специфичный именно для данного вида
коммуникации случай, когда отправитель и получатель информации
пользуются неидентичными кодовыми системами. Вопрос этот особенно существен,
поскольку, как мы видели на примере поэзии и прозы, презумпция той или
иной организации часто является решающим структурным фактором,
поскольку после того, как мы приписали тексту ту или иную структуру,
отсутствие тех или иных признаков начинает восприниматься как «минус-прием»,
нарочитое умолчание. Поэтому, чтобы текст мог определенным образом
функционировать, мало того, чтобы он был определенным образом
организован, необходимо, чтобы возможность такой организации была
предусмотрена иерархией кодов культуры. Зададимся вопросом: какие тексты являются
художественными, а какие нет? Трудность всеобъемлющего ответа на него
общеизвестна. Стоит сформулировать любое правило, как тотчас же живая
история литературы предлагает столько исключений, что от него ничего не
остается. Попытка решения этого вопроса — самостоятельная, достаточно
сложная научная задача, и мы в рамках настоящей работы не можем пытаться
ее решить. Попробуем, однако, подойти к ней с другой стороны. Поставим
вопрос так: в каких случаях возможен акт художественной коммуникации?
Представим себе некоторую цивилизацию, не знающую, что такое искусство
(например, цивилизацию машин). Естественно, что в случае, если в такой
коллектив попадет и начнет в нем циркулировать художественный текст, он
может принести с собой некоторую информацию, но художественной она не
будет.
Если предположить возможным невероятное: существование культуры,
которая знала бы только художественное общение, то и здесь вопроса о
различении художественных и нехудожественных текстов встать бы не могло.
Таким образом, необходимым предварительным условием решения вопроса:
какой из текстов является художественным, а какой нет — будет наличие в
самом коде культуры противопоставления художественных и
нехудожественных структур. А тогда мы можем легко перечислить возможности
функционирования текстов относительно этого противопоставления.
Таких возможностей, очевидно, будет четыре:
1. Писатель создает текст как произведение искусства, и читатель
воспринимает его так же.
2. Писатель создает текст не как произведение искусства, но читатель
воспринимает его эстетически (например, современное восприятие сакральных
и исторических текстов древних и средневековых литератур).
3. Писатель создает художественный текст, но читатель не способен
отождествить его с каким-либо из тех видов организации, которыми для него
исчерпывается понятие художественности, и воспринимает его с точки зрения
нехудожественной информации.
4. Этот случай тривиален: нехудожественный текст, созданный автором,
воспринимается читателем как нехудожественный.
Элементарная прямолинейность предложенной схемы охватывает лишь
конечные, предельные случаи, что само по себе для определенных целей даже
удобно. Однако реальная картина, которую предлагает нам история литера-
9. Текст и внетекстовые художественные структуры
273
туры на разных этапах своего развития, дает картины значительно более
сложные. Граница между художественными и нехудожественными текстами
может проводиться столь непривычным для нашего современного восприятия
образом, что мы будем склонны ее вообще не улавливать, считая, что данному
типу культуры она не свойственна. Вообще, сам характер этой границы
является важным средством типологической характеристики культуры:
граница может быть незыблемой или крайне подвижной, она может самыми
различными способами относиться к другим границам, делящим тексты на
священные и светские, высокие и низкие, ценные и неценные. На крайних,
противоположных полюсах будут культурные системы, предписывающие
искусству и неискусству столь глубокую структурную разницу, что делается
невозможным пользование при создании этих текстов одними и теми же
стилями или даже естественными языками, и системы, рассматривающие это
противопоставление как чисто функциональное. Так, искусство XX в.
принципиально разрешает включать газетный текст в поэзию или иными способами
использовать нехудожественные тексты в функции художественных.
Однако вопрос отношения оппозиции «художественный —
нехудожественный текст» в сознании автора и читателя дает лишь первую характеристику
проблемы. Гораздо большую сложность представляют случаи, когда оба
участника художественной коммуникации воспринимают текст как
художественный, но сама структура этого понятия у них глубоко различна. Вопрос
этот стоит в центре отношения: текст — внетекстовые структуры.
Восприятие художественного текста — всегда борьба между слушателем
и автором (в этом смысле к изучению восприятия искусства применима
математическая теория игр). Восприняв некую часть текста, слушатель
«достраивает» целое. Следующий «ход» автора может подтвердить эту догадку
и сделать дальнейшее чтение бесполезным (по крайней мере, с точки зрения
современных эстетических норм) или опровергнуть догадку, потребовав со
стороны слушателя нового построения. Но следующий авторский «ход» вновь
выдвигает эти две возможности. И так до того момента, пока автор, «победив»
предшествующий художественный опыт, эстетические нормы и предрассудки
слушателя, не навяжет ему свою модель мира, свое понимание структуры
действительности. Этот момент и будет концом произведения, который может
наступить раньше, чем конец текста, если автор использует модель-штамп,
природа которого раскрывается слушателю в начале произведения. Понятно,
что читатель не пассивен, он заинтересован в овладении моделью, которую
предлагает ему художник. С ее помощью он надеется объяснить и тем самым
победить силы внешнего и внутреннего мира. Поэтому победа художника
доставляет побежденному читателю радость.
Приведем пример. Отправляясь в кино, вы уже имеете в своем сознании
определенное ожидание, которое складывается из внешнего вида афиши,
названия студии, фамилий режиссера и ведущих артистов, определения жанра,
оценочных свидетельств ваших знакомых, уже посмотревших фильм, и т. д.
Когда вы определяете еще не просмотренный фильм как «детектив»,
«психологическую драму», «комедию», «фильм производства Киевской киностудии
им. Довженко», «фильм Феллини», «фильм с участием Игоря Ильинского»,
274
СТРУКТУРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
«с участием Чарли Чаплина» и т. п., вы определяете контуры своего ожидания,
которое имеет ту или иную структуру, основанную на нашем предшествующем
художественном опыте. Первые кадры демонстрируемой ленты
воспринимаются вами в отношении к этой структуре, и если все произведение уложилось
в априорно заданную структуру ожидания, вы покидаете кинозал с чувством
глубокого неудовлетворения. Произведение не дало вам ничего нового,
авторская модель мира оказалась заранее заданным штампом. Но возможно
и другое: в определенный момент реальный ход фильма и ваше представление
о его долженствовании вступают в конфликт, который, по сути дела,
представляет собой разрушение старой модели мира, иногда ложной, а иногда
просто уже известной, представляющей завоеванное и превратившееся в
штамп познание, и создание новой, более совершенной модели
действительности. Неоднократно отмечавшееся нами свойство искусства моделировать
действительность приводит к тому, что каждый зритель будет проектировать
кадры киноленты не только на структуру своего художественного опыта, но
и на структуру своего жизненного опыта.
Таким образом, уместно будет ввести очень существенное для построения
порождающих моделей и вопросов, возникающих при проблеме перевода,
понятие отношения действительной структуры произведения (действительного
кода) к структуре, ожидаемой слушателем. Это и будет первый, наиболее
крупный уровень при построении моделей порождающего типа. Отношение
это может, очевидно, быть двух типов.
В данном случае мы можем разделить все виды литературных
произведений и произведений искусства на два класса, типологически соотнесенных,
хотя исторически здесь чаще всего существовало отношение
последовательности.
Первый класс составляют художественные явления, структуры которых
наперед заданы, и ожидание слушателя оправдывается всем построением
произведения.
В истории мирового искусства, если брать всю его толщу, художественные
системы, связывающие эстетическое достоинство с оригинальностью, скорее
составляют исключение, чем правило. Фольклор всех народов мира,
средневековое искусство, которое представляет собой неизбежный
всемирно-исторический этап, комедия дель арте, классицизм — таков неполный список
художественных систем, измерявших достоинство произведения не
нарушением, а соблюдением определенных правил. Правила отбора лексики, правила
построения метафор, ритуалистика повествования, строго определенные и
наперед известные слушателю возможности сюжетных сочетаний, loci com-
muni — целые куски застывшего текста — образуют совершенно особую
художественную систему. Причем, что особенно важно, слушатель вооружен
не только набором возможностей, но и парно противопоставленным ему
набором невозможностей для каждого уровня художественной конструкции.
Разрушение ожидаемой слушателем структуры, которое возникло бы, избери
автор «невозможную» с точки зрения правил кода ситуацию при данной
системе художественного воспитания, обусловило бы представление о низком
9. Текст и внетекстовые художественные структуры
275
качестве произведения, о неумении, невежестве или даже кощунственности и
греховной дерзости автора.
И все же при всем сходстве системы подобного искусства и языка нельзя
не отметить глубокой разницы между природой кода в языке и в
перечисленных выше художественных структурах. В языке в силу заданности наперед
кода употребление его автоматизируется. Он становится для говорящих
незаметным, и только нарушение правильности или недостаточное владение
кодом выводит его из состояния автоматизма, привлекает внимание к
структурной стороне языка.
В фольклоре и однотипных ему художественных явлениях отношение к
структурным правилам иное — они не автоматизируются. Объясняется это,
вероятно, тем, что правила автора и правила аудитории выступают здесь не
как одно явление, а как два явления в состоянии взаимного тождества.
В основе художественных систем этого типа лежит сумма принципов,
которую можно определить как эстетику тождества. Она основывается на
полном отождествлении изображаемых явлений жизни с уже известными
аудитории и вошедшими в систему «правил» моделями-штампами. Штампы
в искусстве — не ругательство, а определенное явление, которое выявляется
как отрицательное лишь в известных исторических и структурных аспектах.
Стереотипы (штампы) сознания играют огромную роль в процессе познания
и — шире — в процессе передачи информации.
Гносеологическая природа эстетики тождества состоит в том, что
разнообразные явления жизни познаются путем приравнивания их определенным
логическим моделям. При этом художник сознательно отбрасывает как
несущественное все, что составляет индивидуальное своеобразие явлений. Это —
искусство отождествлений. Сталкиваясь с различными явлениями: А7, А, X',
А... Ап, оно не устает повторять: Â есть А, X есть А, А есть А... Ап есть А.
Следовательно, повторение в этой эстетической системе не будет иметь
характера диалектически сложной аналогии — оно будет абсолютно и
безусловно. Это — поэзия классификации. На этой стадии будут возникать не
песенные рефрены, каждый раз поворачивающиеся по-новому, a loci com-
muni — сказочные зачины, эпические повторы. Не случайно наиболее
последовательная поэзия этого типа не знает рифмы.
Однако для того, чтобы существовало отождествление, необходимо и
разнообразие. Для того, чтобы неустанно можно было бы повторять: «Это
есть А», следует, чтобы Â сменялось X, и так до бесконечности. Сила
художественного познания проявится здесь в том, что абстрактная модель
А будет отождествляться художником с наиболее неожиданными, непохожими
на А для нехудожественного глаза явлениями жизни X, X, X и т. д.
Однообразие на одном полюсе тождества компенсируется самым необузданным
разнообразием на другом. Не случайно наиболее типичные проявления
эстетики тождества, выдвигая на одном полюсе застывшие системы персонажей,
сюжетных схем и других структурных элементов, на другом полюсе выдвигают
такую наиболее текучую и подвижную форму художественного творчества,
как импровизация. «Раскованность» импровизации и скованность правил
взаимообусловлены. Импровизация создает для этих видов искусства необ-
276
СТРУКТУРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
ходимую энтропию. Если бы мы имели дело только с жесткой системой
правил, каждое новое произведение представляло бы лишь точную копию
предыдущего, избыточность подавила бы энтропию и произведение искусства
потеряло бы информационную ценность. Рассмотрим это на примере комедии
дель арте. Комедия дель арте в структурном отношении представляет собой
весьма любопытное явление. В основу построения характеров положен
принцип тождества. Образы комедии — лишь стабильные маски. Художественный
эффект основан на том, что зритель еще до начала спектакля знает природу
характеров Панталоне, Бригеллы, Арлекина, Ковиелло, Капитана,
Влюбленных и т. п. Нарушение актером застывших норм поведения своей маски было
бы воспринято зрителем с осуждением, как признак отсутствия мастерства.
Искусство актера ценится за умелое исполнение канона поступков и действий
своей маски. Зритель не должен ни минуты колебаться в природе того или
иного героя, и для этого они не только наделены типовыми, каждой маске
присущими костюмами и гримом, но и говорят на различных диалектах,
каждый «своим» тембром голоса. Доносящийся из-за сцены венецианский
диалект, точно так же, как красная куртка, красные панталоны, черный плащ
и характерная горбоносая, бородатая маска, — сигналы зрителю, что действия
актера следует проецировать на тип Панталоне. Такую же роль играют
болонский диалект и черная мантия для Доктора, бергамский диалект для
Дзани и т. д.
Однако чтобы эстетитка тождества не теряла своей природы как средства
познания и информации, создания определенной модели мира, она должна
сочетать неколебимые штампы понятий с разнообразием подводимого под
них живого материала. В этом смысле показательно, что, имея на одном
полюсе строгий набор масок-штампов с определенными возможностями и
невозможностями для каждой, комедия дель арте на другом полюсе строится
как наиболее свободная в истории европейского театра импровизация1. Таким
образом, сама импровизация представляет собой не безудержный полет
фантазии, а комбинации знакомых зрителю элементов. Н. Барбьери в 1634 г.
так характеризовал искусство импровизатора: «Комедианты штудируют и
снабжают свою память большой смесью вещей, как-то: сентенции, мысль,
любовные речи, упреки, речи отчаяния и бреда; их они держат наготове для
всякого случая, и их выучка находится в соответствии со стилем
изображаемого ими лица»2. Это сочетание крайней свободы и крайней несвободы и
характеризует эстетику тождества. С разной степенью полноты эти же
принципы реализуются в большинстве фольклорных жанров, средневековом
искусстве3. В том, что подведение разнообразных явлений действительности
под некий единый штамп мышления есть акт познания, способный, ввиду
1 Основная литература о комедии дель арте приведена в кн.: Дживелегов А. К.
Итальянская народная комедия. М., 1954. С. 292—295.
2 Цит. по: Хрестоматия по истории западноевропейского театра / Сост. и ред.
С. Мокульского. М., 1953. Т. 1. С. 239.
3 О значении поэтического ритуала в русском средневековом искусстве см.:
Лихачев Д. С Человек в литературе Древней Руси. М.; Л., 1958.
9. Текст и внетекстовые художественные структуры
277
своей важности, вызвать большое эмоциональное напряжение, мог бы
убедиться всякий, кто взял бы на себя труд пронаблюдать, с каким восторгом
ребенок, подбегая к разным елкам, не устает повторять: «Это елка. И это
елка». Или, перебегая от березы к клену и елке, восклицает: «Это дерево! И
это дерево!» Тем самым он познает явление, отбрасывая все, что составляет
своеобразие данной елки или данного вида, и включая их в общую категорию.
По сути дела, с тем же явлением мы сталкиваемся, когда обнаруживаем в
фольклоре мотив называния.
Другой класс структур, если рассматривать их на этом уровне, будут
составлять системы, кодовая природа которых не известна аудитории до
начала художественного восприятия. Это эстетика не отождествления, а
противопоставления. Привычным для читателя способам моделирования
действительности художник противопоставляет свое, оригинальное решение,
которое он считает более истинным. Если в первом случае акт художественного
познания будет связан с упрощением, генерализацией, то во втором мы будем
иметь дело с усложнением. Однако эту сложность не следует отождествлять
с «украшенностью», декоративностью. Реалистическая проза проще, чем
романтическая, по внешним признакам стиля, но отказ от романтического
штампа, ожидаемого читателем «Повестей Белкина», создавал структуру более
сложную, построенную на «минус-приемах».
Субъективно автором и его аудиторией стремление разрушить систему
привычных правил может восприниматься как отказ от всяких структурных
норм, творчество «без правил». Однако творчество вне правил, структурных
отношений невозможно. Оно противоречило бы характеру произведения
искусства как модели и характеру его как знака, то есть сделало бы невозможным
познавать мир с помощью искусства и передавать результаты этого познания
аудитории. Когда тот или иной автор или то или иное направление в борьбе
с «литературщиной» прибегают к очерку, репортажу, включению в текст
подлинных, явно нехудожественных документов, съемок хроники, они
разрушают привычную систему, но не принцип системности, так как любая
газетная строка, дословно перенесенная в художественный текст (если он при
этом не теряет качества художественности), становится структурным
элементом. Восприятие подобного искусства с точки зрения математической
теории игр представляет собой не «игру без правил», а игру, правила которой
следует установить в процессе игры.
Эстетика противопоставления имеет свою давнюю историю.
Возникновение таких диалектически сложных явлений, как рифма, бесспорно, с нею
связано. Но наиболее яркое выражение она получает в искусстве реализма.
Как мы видим, деление явлений искусства на два класса: построенных
на эстетике тождества и на эстетике противопоставления — дает более
крупные единицы классификации, чем понятие «художественный метод». Однако
оно отнюдь не бесполезно. Ближайшим образом с ним придется сталкиваться
при попытках построения порождающих моделей художественных
произведений, а следовательно, при разработке ряда важных проблем.
Вопрос этот должен стать предметом специального рассмотрения. Однако
и сейчас, априорно, можно утверждать, что построение порождающих моделей
278
СТРУКТУРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
для произведения класса эстетики тождества не представляется делом столь
уж сложным, между тем как сама возможность подобного построения для
произведений класса эстетики противопоставлений должна еще быть доказана.
Наивно полагать, что описание всех возможных вариантов четырехстопного
ямба и вычисление статистической вероятности их чередования может стать
кодом для построения нового «Евгения Онегина». Не менее наивно
предположение, что самое детальное структурное описание «старого» «Евгения
Онегина» сможет стать генерационной моделью для написания нового.
Оценивать, сколько состояний должна иметь машина, могущая создать нового
«Евгения Онегина», — значит не больше чем размышлять о том, сколько
состояний должна иметь машина, которой предстоит сделать еще не сделанное
величайшее открытие.
Однако возможно двоякое практическое применение порождающих
моделей: воссоздание неизвестных нам текстов (например, недошедших частей
мифа, утраченных страниц средневекового текста) и воссоздание на одном
языке художественных текстов, существующих на другом языке. Ясно, что и
задача, и методика ее решения в этих случаях будут различны.
При работе с классом явлений эстетики противопоставления необходимо
различать случай, когда разрушаемая структура-штамп существует в сознании
читателя в силу его привычек, определенной инерции его сознания, но не
получила никакого выражения в тексте. Тогда конфликт эстетики штампа и
новой эстетики представит собой столкновение текстовых и внетекстовых
структурных построений. С подобными случаями мы будем встречаться,
например, в лирике Некрасова или в прозе Чехова. Это будут наиболее
трудно поддающиеся моделированию тексты.
Более прост случай, когда автор определенными элементами построения
своего произведения вызывает в сознании читателя ту структуру, которая в
дальнейшем подлежит уничтожению. Таковы, например, «Повести Белкина»
Пушкина. Таковы резкие стилистические сломы в «Евгении Онегине».
Наиболее показательным типом текста в этом отношении будет пародия. Правда,
пародия, разрушая структурный штамп, не противопоставляет ему структуры
другого типа. Эта истинная, с точки зрения автора, структура подразумевается,
но получает чисто негативное выражение. Пародия — любопытный и редкий
пример построения, при котором подлинная новаторская структура находится
вне текста и отношение ее к структурному штампу выступает как внетекстовая
связь, только как отношение автора к текстовой конструкции. Поэтому нельзя
согласиться с формальной школой, которая слишком широко толковала
понятие пародии, причисляя к ней и такие явления, как повести Гоголя или
пушкинский «Выстрел» — произведения с ярко выраженной в пределах текста
«позитивной» авторской структурой. Из сказанного ясно, что пародия никогда
не может выступать как центральный художественный жанр и что не она
начинает борьбу со штампами. Для того чтобы пародия могла быть
воспринята во всей своей художественной полноте, необходимо, чтобы в литературе
уже существовали и были известны читателю произведения, которые,
разрушая эстетику штампа, противопоставляли бы ей структуру большей
истинности, более правильно моделирующую действительность. Ибо только нали-
9. Текст и внетекстовые художественные структуры
279
чие в сознании читателя такой, новой, структуры позволяет ему деструкти-
рующий текст пародии дополнить внетекстовым конструктивным элементом,
дает угол зрения автора на пародируемую систему. Поэтому, будучи весьма
ярким и в известном смысле лабораторным жанром, пародия всегда играет
в истории литературы подсобную, а не центральную роль.
Введение понятия «класс эстетики тождества» и «класс эстетики
противопоставления» имеет еще один смысл. Оно, как кажется, позволит попытаться
ввести более точные критерии в такую наиболее субъективную сторону науки
об искусстве, как оценка качества того или иного произведения. Как мы уже
говорили, априорно можно утверждать, что для искусственного
моделирования произведений класса эстетики тождества требуется значительно меньше
данных (и сами эти данные значительно проще), чем для противоположного
класса. Сопоставим с этим тот общеизвестный факт, что соблюдение канонов,
норм и штампов, свойственное эстетике тождества, не раздражает нас и не
кажется нам художественным недостатком, когда мы читаем, например, текст
народного эпоса или волшебной сказки. Между тем, когда мы сталкиваемся
с этими же структурными особенностями в каком-либо социальном романе
из современной жизни, у нас возникает определенное ощущение
антихудожественности, нарушение жизненной правды. Формула: «Я предвидел всю
структуру заранее», убийственная для произведений второго типа, не влияет
на качественную оценку первого.
Явление это объясняется следующим: читатель определенным образом
настраивается на восприятие, и в эту настройку входит и ощущение
принадлежности произведения к классу эстетики тождества или противопоставления.
Сигналом о принадлежности текста к тому или иному классу может служить,
например, зачин, название, жанровая характеристика в заглавии и т. п.,
вплоть до репутации театра или издания, предлагающего произведение
аудитории. Ясно, когда зритель знает, что ему предстоит увидеть комедию
дель арте, а не пьесу Чехова, вся система оценок будет иной. Между тем,
когда мы имеем дело с плохим, трафаретным романом, происходит следующее:
говоря, что перед нами лежит роман в том специфическом понимании этого
термина, которое выработалось начиная с 1830-х гг.9 автор заставляет нас
ожидать новой структуры, нового объяснения действительности. Фактически
же произведение построено на эстетике тождества, на реализации трафаретов.
Это и создает ощущение низкой художественности. Следовательно, если
машинное создание хорошей поэзии класса эстетики противопоставления
весьма проблематично, то плохие произведения этого типа мы, вероятно,
сможем создавать весьма скоро. Возможность искусственного моделирования
стихотворения, относящегося к господствующему сейчас эстетическому классу,
и степень легкости, с которой это моделирование будет осуществляться,
может стать объективным — негативным! — критерием его художественного
качества. Могут спросить: зачем создавать искусственно плохие произведения,
когда недостатка в них не ощущается? Но вдумчивому читателю станет ясно,
что возможность моделировать штампованные плохие стихи и статьи
машинным методом сможет сослужить великую службу человеческой культуре.
Художественность и антихудожественность — дополнительные понятия.
280
СТРУКТУРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
Вводя точные критерии и научившись моделировать антихудожественные
явления, исследователь и критик получают инструмент для определения
подлинной художественности. Для известного этапа науки критерий
художественности современного искусства, возможно, придется сформулировать так:
система, не поддающаяся механическому моделированию. Ясно, что для
многих реально существующих и даже пользующихся успехом текстов он в
ближайшее время окажется роковым.
Созданный автором текст оказывается включенным в сложную систему
внетекстовых связей, которые своей иерархией нехудожественных и
художественных норм разных уровней, обобщенных опытом предшествующего
художественного творчества, создают сложный код, позволяющий
дешифровывать информацию, заключенную в тексте.
Однако специфика художественных коммуникаций, в частности, состоит
в том, что код воспринимающего всегда в той или иной степени отличается
от кода передающего. Это могут быть сравнительно небольшие отличия,
определенные, культурным опытом личности, спецификой психологической
структуры, но это могут быть и глубокие социально-исторические черты
культуры, которые или делают художественное восприятие текста
невозможным, или глубоко его переосмысливают. Читатель стремится втиснуть текст
в привычные представления, подбирая из уже имеющегося у него
художественного опыта те внетекстовые структуры, которые, как ему кажется, более
подходят для данного случая.
Особенности внетекстовых структур определены теми
социально-историческими, национальными и психолого-антропологическими причинами,
которые формируют художественные модели мира. Однако нельзя не отметить,
что коммуникационная природа искусства накладывает на него глубокий
отпечаток и что в тех текстовых и внетекстовых структурах, которые
определяют формы искусства, одни в большей мере соответствуют «интересам»
слушателя, его позиции в акте коммуникации, другие — автора1.
Можно априорно сказать, что те принципы построения художественного
кода, которые ближе структурным принципам естественного языка, «удобнее»
слушателю, противоположные — автору. Автор строит текст как
одновременно функционирующий в нескольких кодовых системах. Каждая новая
часть его должна оживлять в памяти уже известные коды, проецироваться
на них, получать от этого соотношения новые значения и придавать новые
значения уже известным и, казалось бы, понятным частям текста. Читатель
склонен смотреть на художественный текст как на обычное речевое сообщение,
извлекая из каждого эпизода отдельную информацию и сводя композиционное
построение к временной последовательности отдельных событий. Естественно,
что сюжетный текст тяготеет к «читательской» позиции, бессюжетный — к
авторской.
1 Мысль эта впервые была высказана и детально обоснована Б. А. Успенским в
курсе лекций, посвященных проблеме «точки зрения» в искусстве и прочитанных в
1966 г. в Тартуском гос. университете.
Заключение
281
Читатель заинтересован в том, чтобы получить необходимую информацию
с наименьшим расходом усилий (наслаждение продлением усилия — типично
авторская позиция)1. Поэтому если автор стремится к увеличению числа и
усложнению структуры кодовых систем, то читатель склонен редуцировать
их, сводя к достаточному, как ему кажется, минимуму. Тенденция усложнять
характеры — авторская тенденция, черно-белая, контрастная структура —
читательская.
Наконец, автор склонен увеличивать сложность внетекстовой структуры,
упрощая текст, создавать произведения, кажущаяся простота которых требует
для адекватной дешифровки сложнейших подразумеваний, богатства
внетекстовых культурных связей. Читателю удобно, чтобы максимальная часть
структуры была явлена в тексте. Нельзя не заметить, что «читательские» тенденции
побеждают в таких видах текстов, которые наиболее сюжетны, содержат явно
контрастные, обнаженные построения. Этими свойствами обладают тексты,
принадлежащие, например, фольклору, средневековому искусству,
плутовскому роману, романтической поэме. Следует признать, что — не как правило,
а как тенденция — позиция «слушателя» более свойственна массовым видам
искусства и особенно — так называемой массовой культуре.
Заключение
Художественный текст, как мы имели возможность убедиться, можно
рассматривать в качестве особым образом устроенного механизма,
обладающего способностью заключать в себе исключительно высоко
сконцентрированную информацию. Если мы сопоставим предложение из разговорной
речи и стихотворение, набор красок и картину, гамму и фугу, то легко
убедимся, что основное отличие вторых от первых в том, что они способны
заключать в себе, хранить и передавать то, что для первых остается за
пределами возможностей.
Полученные нами выводы вполне согласуются с основной идеей теории
информации, которая заключается в том, что объем информации в сообщении
следует рассматривать как функцию числа возможных альтернативных
сообщений. Структура художественного текста пронизана практически бесконеч-
1 Надо иметь в виду, что и «авторская» и «читательская» позиция — это схемы,
почерпнутые из анализа акта коммуникации. В реальной жизни она проявляется лишь
как более или менее спонтанная тенденция. В каждом реальном авторе и реальном
читателе есть в разных пропорциях и «автор» и «читатель», о которых идет речь.
282
СТРУКТУРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
ным числом границ, которые сегментируют этот текст на эквивалентные в
разных отношениях и, следовательно, альтернативные отрезки.
При этом писатель имеет возможность выбирать не только между теми
или иными альтернативными сегментами, но и между типами организации
альтернативностей, то есть не только между эквивалентными элементами
своего художественного языка, но и между типами художественных языков.
Там, где выбор сделан за писателя — естественным языком, на котором он
пишет, эпохой, уже осуществившей выбор тех или иных художественных
средств с жесткостью, не дающей альтернативных решений, обстоятельствами
его биографии, — во всех случаях, когда текст не реализует одну из хотя
бы двух возможностей, а автоматически следует за единственной, он теряет
способность передавать информацию. Поэтому увеличение возможностей
выбора — закон организации художественного текста. Все, что в естественном
языке дается как автоматическая неизбежность, в художественном тексте
реализуется как выбор одной из взаимоэквивалентных возможностей. В
аналогичном отношении находится к художественному тексту и внеположенный
ему жизненный материал: то, что в действительности реализуется в качестве
единственной возможности, становясь элементом сюжета, всегда предстает
как результат авторского выбора (писатель мог избрать и другой сюжет или
иной его вариант).
Но мы видели, что отношение «писатель — читатель» создает
дополнительные альтернативные возможности. При переходе от писателя к читателю
мера неопределенности возрастает (хотя некоторые чисто личные
альтернативы безвозвратно утрачиваются) и, следовательно, возрастает
информативность текста.
Внесистемный, структурно не организованный материал не может быть
средством хранения и передачи информации. Поэтому первый шаг к созданию
текста — создание системы. Там, где элементы взаимно не организованы
и появление любого равновероятно, то есть там, где нет структуры, а вместо
нее наличествует аморфная энтропическая масса, информация невозможна.
Поэтому, когда увлеченный литературной борьбой тот или иной писатель
осуждает предшествующее искусство за ограниченность его возможностей,
условность его языка и выдвигает новое — безграничное по возможностям,
то мы должны помнить, что имеем дело или с риторическим оборотом, или
с заблуждением, чаще всего вполне искренним. Безграничность возможностей,
отсутствие правил, полная свобода от ограничений, накладываемых
системой, — не идеал коммуникации, а ее смерть. Более того, как мы видели,
чем сложнее система правил, тем свободнее мы в передаче определенного
содержания: грамматика и словарь светофора проще, чем в естественном
языке, и это создает значительные трудности при передаче содержания, более
сложного, чем команды транспорту. Когда мы полагаем, что свобода и
разнообразие сообщения в реалистическом тексте связаны с отсутствием
правил в его языке («писатель свободен от условностей», «ничем не связан»,
«черпает из жизни не только содержание, но и форму»), то мы совершаем
обычную для наивного реализма ошибку, опровергаемую как историей
литературы, так и теорией информации.
Заключение
283
Однако создание структуры — это еще не акт коммуникации, а только
его условие. В нехудожественных текстах информативен не язык, а сообщение
на нем. Эта сторона коммуникации не отменяется, конечно, и в искусстве,
но вся система связи приобретает при этом значительно более сложный
характер.
Подчиненная единым конструктивным правилам, структура
неинформативна, поскольку все ее узлы однозначно предопределены системой
построения. Это связано с известным положением Витгенштейна о том, что в
логике не существует неожиданностей. Но в пределах художественного текста
язык тоже становится носителем информации. Это достигается следующими
путями:
1. Автор текста имеет возможность выбрать язык, на котором он строит
текст, причем характер этого выбора становится ясен читателю далеко не
сразу. Таким образом, в искусстве одновременно работают две тенденции —
к разграничению языков (языка поэзии и языка прозы, языков отдельных
жанров и т. п.) и к преодолению этих разграничений. В различных
исторически данных нам текстах может брать верх та или иная тенденция. Но брать
верх не означает уничтожать противоположное. Победа в таком смысле, в
структуре художественного текста, равнозначна поражению, поскольку
вычеркивает альтернативу предлагаемому решению. Проникновение же в
систему противоположных ей структурных элементов заставляет читателя
колебаться в выборе того или иного дешифрующего кода. А чем сложнее (в том
числе и эмоционально) выбор, тем большую информацию он несет. Положение
Витгенштейна бесспорно, если считать, что возможна только одна логика.
Если же допустить несколько эквивалентных систем этого типа, то каждая
из них, будучи внутри себя полностью предсказуема, в отношении к
соответствующим узлам параллельных структур создаст возможность выбора.
Структуре будет возвращена информативность.
2. Текст принадлежит двум (или нескольким) языкам одновременно. При
этом не только элементы текста получают двойную (или множественную)
значимость, но и вся структура становится носителем информации, поскольку
функционирует, проецируясь на нормы другой структуры.
3. Важным средством информационной активизации структуры является
ее нарушение. Художественный текст — это не просто реализация структурных
норм, но и их нарушение. Он функционирует в двойном структурном поле,
которое складывается из тенденций к осуществлению закономерностей и их
нарушению. И хотя каждая из этих тенденций стремится к монопольному
господству и уничтожению противоположной, победа любой из них гибельна
для искусства. Жизнь художественного текста — в их взаимном напряжении.
а) Структура художественного языка может нарушаться в тексте путем
неполной реализации — имитации незавершенности, оборванности,
отрывочности (пропущенные строфы «Евгения Онегина»). Портрет, у которого
тщательно вырисовано лицо и только набросаны руки, — текст с разной мерой
условности в центре и на периферии полотна. Однако хорошо известны
случаи, в которых незавершенность текста становится средством
художественной активизации его структуры. Чувство это настолько сильно, что оно
284
СТРУКТУРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
заставляет нас воспринимать тексты, не оконченные случайно, как особым
образом сознательно организованные.
б) Распространенный случай нарушения структуры с целью ее
активизации — введение в нее внеструктурного элемента. Этот внеструктурный
элемент может принадлежать другой структуре, и тогда мы имеем дело со
случаем, названным в пункте 2. Однако это может быть элемент из неизвестной
нам структуры. В этом случае нам еще предстоит выработать для него
соответствующую кодирующую систему.
4. Каждый тип культуры характеризуется определенным набором функций,
которые обслуживаются соответствующими им предметами материальной
культуры, идейными установлениями, текстами и т. п. Определенные наборы
функций присущи и искусствам разных эпох. В качестве подобных функций
разных уровней можно назвать: «быть художественной литературой», «быть
поэзией», «быть высоким искусством», «быть комичным» и т. п. Социальные
функции обслуживаются соответствующими им механизмами. Для
литературных — подобный механизм есть текст.
Однако не лишено интереса, что если в обычной ситуации наиболее
эффективным считается использование для данной функции специально для
нее предназначенного механизма и текста, то в определенные моменты
развития культуры возникает тенденция не пользоваться готовыми механизмами.
Так, богатырь побеждает не оружием: Илья Муромец
И ухватил-то богатыря за ноги
Да и начал он богатыря помахивати...
Самсон победил филистимлян ослиной челюстью. Конечно, не случаен образ
дубины — «не оружия», с точки зрения армейского снаряжения начала XIX в.,
которую Л. Толстой приравнивает народной войне.
В определенных историко-литературных ситуациях возникает тенденция
использовать тексты «не по назначению», чтобы функция и текст вступали
в противоречие. Так, поэтический текст может использоваться в функции
прозаического и, наоборот, детектив — в функции психологического романа
(Достоевский), а нехудожественные тексты (тексты, по внутренней структуре
противопоставленные художественным) — в функции произведений искусства.
Противоречие между текстом и функцией его во внетекстовой структуре
искусства делает структуру художественного языка носительницей
информации.
Одновременная включенность художественного текста во многие взаимно
пересекающиеся внетекстовые структуры, одновременное вхождение каждого
элемента текста во многие сегменты внутритекстовой структуры — все это
делает художественное произведение носителем многих чрезвычайно сложно
соотносящихся между собой значений. Высокая информативность
художественного текста связана, в частности, с такой его конструктивной
особенностью, как смена структурных доминант: в тот момент, когда тот или иной
структурный элемент приобретает черты автоматической предсказуемости,
он уходит на задний план, а структурная доминанта переходит на другой,
еще не автоматизированный, уровень. Не случайно именно в конце строки,
Заключение
285
то есть в конструктивной позиции наибольшего нарастания энтропии ритма,
появляется рифма (в этом же смысле показательно, что, чем «свободнее»
требования к размеру, тем строже — к рифме, и наоборот). Можно было
бы показать, что в определенных типах стихотворений метафора тяготеет к
концу стиха.
Рассмотрение художественного текста как структурного целого убеждает
нас в том, что, с одной стороны, индивидуальное, неповторимое в
произведении искусства не есть нечто непричастное никакой структуре и,
следовательно, доступное лишь импрессионистическому «вчувствованию», а не
точному анализу. Напротив, оно возникает на пересечении многих структур и
принадлежит им одновременно, «играя» всем богатством возникающих при
этом значений.
С другой стороны, всякое описание одного какого-либо структурного
плана неизбежно связано с утратой семантического богатства текста. Поэтому
следует отличать подобные описания как чисто эвристический этап в истории
изучения текста, порожденный совершенно законным стремлением сначала
выработать методы точного решения простых задач, а затем уже приступать
к более сложным структурным описаниям, от такого сведения
художественного текста к однозначным системам, которое претендует на конечное
истолкование произведения искусства.
Давно уже было пущено в ход сравнение искусства с жизнью. Но только
теперь становится явным, как много в этом когда-то звучавшем метафорой
сопоставлении точной истины. Можно с уверенностью сказать, что из всего
созданного руками человека художественный текст в наибольшей мере
обнаруживает те свойства, которые привлекают кибернетика к структуре живой
ткани.
Это делает изучение структуры художественного текста задачей
общенаучного значения.
Семиотика кино
и проблемы
киноэстетики
Введение
Лев Толстой, проявлявший большой интерес к первым шагам
современного ему дозвукового кинематографа, назвал его «великий немой».
Технические условия развития киноискусства сложились так, что стадии звукового
фильма предшествовал длительный период дозвукового, «немого» развития.
Однако глубоким заблуждением было бы считать, что кино заговорило,
обрело свой язык только с получением звука. Звук и язык не одно и то же.
Человеческая культура разговаривает с нами, то есть передает нам
информацию, различными языками. Одни из них имеют только звуковую форму.
Таков, например, распространенный в Африке «язык тамтамов» — система
упорядоченных ударов в барабаны, при помощи которой африканские народы
передают сложную и разнообразную информацию. Другие — только
зрительную. Такова, например, система уличной сигнализации (светофоры),
используемая для такой ответственной в современных условиях, в условиях
цивилизации больших городов, цели, как снабжение водителей транспорта
и пешеходов необходимой информацией для правильного поведения на улице.
Наконец, есть языки, имеющие и ту и другую форму. Таковы естественные
языки (понятие естественного языка в семиотике соответствует «языку» в
обычном употреблении этого слова; примеры естественных языков —
эстонский, русский, чешский, французский и др.). Они, как правило, имеют и
звуковую и зрительную (графическую) форму. Мы читаем книги и газеты,
получая информацию без помощи звуков, прямо из письменного текста. Да,
наконец, и немые разговаривают, используя для обмена информацией язык
жестов.
Следовательно, «немой» и «не имеющий языка» — понятия совсем не
идентичные. Имеет ли свой язык кино, всякое кино, и «немое», и звуковое?
Для того чтобы ответить на этот вопрос, следует сначала договориться о
том, что мы будем называть языком.
Язык — упорядоченная коммуникативная (служащая для передачи
информации) знаковая система. Из определения языка как коммуникативной
системы вытекает характеристика его социальной функции: язык обеспечивает
обмен, хранение и накопление информации в коллективе, который им
пользуется. Указание на знаковый характер языка определяет его как семиоти-
Введение
289
ческую систему. Для того чтобы осуществлять свою коммуникативную
функцию, язык должен располагать системой знаков. Знак — это материально
выраженная замена предметов, явлений, понятий в процессе обмена
информацией в коллективе. Следовательно, основной признак знака — способность
реализовывать функцию замещения. Слово замещает вещь, предмет, понятие;
деньги замещают стоимость, общественно необходимый труд; карта замещает
местность; военные знаки различий замещают соответствующие им звания.
Все это знаки. Человек живет в окружении двоякого рода предметов: одни
из них употребляются непосредственно и, ничего не заменяя, ничем не могут
быть заменены. Не подлежит замене воздух, которым человек дышит, хлеб,
который он ест, жизнь, любовь, здоровье1. Однако, наряду с ними, человека
окружают вещи, ценность которых имеет социальный смысл и не соответствует
их непосредственно вещественным свойствам. Так, в повести Гоголя «Записки
сумасшедшего» собачка рассказывает в письме своей подруге, как ее хозяин
получил орден: «...очень странный человек. Он больше молчит. Говорит
очень редко; но неделю назад беспрестанно говорил сам с собою: получу
или не получу? Возьмет в одну руку бумажку, другую сложит пустую и
говорит: получу или не получу? Один раз он обратился и ко мне с вопросом:
как ты думаешь, Меджи, получу или не получу? Я ровно ничего не могла
понять, понюхала его сапог и ушла прочь». Но вот генерал получил орден:
«После обеда поднял меня к своей шее и сказал: „А посмотри, Меджи, что
это такое". Я увидела какую-то ленточку. Я понюхала ее, но решительно не
нашла никакого аромата; наконец, потихоньку лизнула: соленое немножко».
Для собачки ценность ордена определяется его непосредственными
качествами: вкусом и запахом, и она решительно не может понять, чему же
обрадовался хозяин. Однако для гоголевского чиновника орден — знак,
свидетельство определенной социальной ценности того, кто им награжден.
Герои Гоголя живут в мире, в котором социальные знаки заслоняют,
поглощают людей с их простыми, естественными склонностями. Комедия
«Владимир третьей степени», над которой работал Гоголь, должна была завершиться
сумасшествием героя, вообразившего, что он превратился в орден. Знаки,
созданные для того, чтобы, облегчив коммуникацию, заменять вещи,
вытеснили людей. Процесс отчуждения человеческих отношений, замены их
знаковыми связями в денежном обществе был впервые проанализирован Карлом
Марксом.
Поскольку знаки — всегда замены чего-либо, каждый из них
подразумевает константное отношение к заменяемому им объекту. Это отношение
называется семантикой знака. Семантическое отношение определяет
содержание знака. Но поскольку каждый знак имеет обязательное материальное
1 На самом деле вопрос этот несколько более сложен: в обществе, культура которого
нацелена на повышенную семиотичность, любая, самая естественная потребность
человека может нагружаться вторичной, знаковой ценностью. Так, в системе
романтизма, как отмечал еще Чернышевский, болезнь и ее признаки: томность, бледность —
могут получать положительную оценку, поскольку выступают в качестве знаков
обреченности, романтической избранности, возвышения над земным.
290
СЕМИОТИКА КИНО И ПРОБЛЕМЫ КИНОЭСТЕТИКИ
выражение, двуединое отношение выражения к содержанию становится одним
из основных показателей для суждения как об отдельных знаках, так и о
знаковых системах в целом.
Однако язык не представляет собой механического набора отдельных
знаков: и содержание, и выражение каждого языка — организованная система
структурных отношений. Мы без колебаний уравниваем «а» произносимое
и «а» графическое не в силу какого-либо мистического сходства между ними,
а потому, что место одного в общей системе фонем данного языка адекватно
месту другого в системе графем. Представим себе светофор с одной
незначительной неисправностью: красный и желтый сигналы функционируют
нормально, а в зеленом выбито стекло и горит простая белая лампочка. Несмотря
на известные трудности, которые представит такой светофор для шофера,
все же передавать сигналы с его помощью можно, поскольку выражение
знака «зеленый» существует не как отдельный знак, а в качестве части
системы, означая «не красный» и «не желтый». Константность места в
трехчленной системе и наличие красного и желтого сигналов без труда
позволяет идентифицировать белый и зеленый как две разновидности
выражения для одного содержания. А при повторном пользовании этим
светофором шофер может не заметить разницы между белым и зеленым, как не
замечает он оттенков цветов у различных светофоров.
То, что знаки не существуют как отдельные, разрозненные явления, а
представляют собой организованные системы, является одной из основных
упорядоченностей языка.
Однако кроме семантических упорядоченностей язык подразумевает еще
и другие — синтаксические. К ним относятся правила соединения отдельных
знаков в последовательности, предложения, соответствующие нормам данного
языка.
При таком, достаточно широком, понятии языка оно охватит весь круг
функционирующих в человеческом обществе коммуникативных систем.
Вопрос о том, имеет ли кино свой язык, сведется к иному: «Является ли кино
коммуникативной системой?» Но в этом, кажется, никто не сомневается.
Режиссер, киноактеры, авторы сценария, все создатели фильма что-то нам
хотят сказать своим произведением. Их лента — это как бы письмо, послание
зрителям. Но для того, чтобы понять послание, надо знать его язык.
В дальнейшем нам придется касаться разных аспектов природы языка в
той мере, в какой они будут необходимы нам для понимания художественной
сущности кино. Сейчас остановимся лишь на одном: языку надо учиться.
Овладение языком, в том числе и родным, — всегда результат обучения. А
кто, где и когда обучает у нас миллионы посетителей кинематографа, самого
массового из всех искусств, понимать его язык? Но, могут сказать, зачем
нужно какое-то обучение, когда кино и так понятно? Все, кто изучил несколько
иностранных языков или занимался методикой языкового обучения, знают,
что овладение совершенно неизвестным, полностью чужим языком в
определенном отношении представляет меньшие трудности, чем изучение
родственного. В первом случае текст непонятен — ясно, что и лексика, и
грамматика подлежат изучению. Во втором создается мнимая понятность — и
Введение
291
много слов знакомых или похожих на знакомые, и грамматические формы
что-то напоминают. Но именно это сходство, внушающее мысль о том, что
и изучать-то нечего, бывает источником заблуждений. В русском и чешском
языках есть слово «черствый/cerstvy» — по-чешски оно означает «свежий».
В русском и польском — «урода/uroda», по-польски оно означает «красота».
Кинематограф похож на видимый нами мир. Увеличение этого сходства —
один из постоянных факторов эволюции кино как искусства. Но это сходство
обладает коварством слов чужого языка, однозвучных родному: другое
притворяется тем же самым. Создается видимость понимания там, где подлинного
понимания нет. Только поняв язык кино, мы убедимся, что оно представляет
собой не рабскую бездумную копию жизни, а активное воссоздание, в котором
сходства и отличия складываются в единый, напряженный — порой
драматический — процесс познания жизни.
***
Знаки делятся на две группы: условные и изобразительные. К условным
относятся такие, в которых связь между выражением и содержанием внутренне
не мотивирована. Так, мы договорились, что зеленый свет означает свободу
движения, а красный — запрет. Но ведь можно было бы условиться и
противоположным образом. В каждом языке форма того или иного слова
исторически обусловлена. Однако если отвлечься от истории языка и просто
выписать одно и то же слово на разных языках, то самая возможность одно
и то же значение выражать столь разнообразными по форме способами
убедительно покажет, что никакой обязательной связи между содержанием
и выражением в слове нет. Слово — наиболее типичный и культурно
значимый случай условного знака.
Изобразительный, или иконический знак подразумевает, что значение
имеет единственное, естественно ему присущее выражение. Самый
распространенный случай — рисунок. Если мы можем указать, что в славянских
языках обозначения понятий «стул» и «стол» взаимно смещались:
древнерусское «стол» на современный русский язык должно переводиться как «то, на
чем сидят» (ср. «престол» — трон), польское «stol» (произносится «stul»)
переводится русским «стол» (ср. эстонское «tool»), то невозможно представить
себе рисунок стола, про который было бы сказано, что в данном случае он
обозначает стул и именно так должен пониматься теми, кто его рассматривает.
На протяжении всей истории человечества, как бы далеко мы ни
углублялись, мы находим два независимых и равноправных культурных знака:
слово и рисунок. У каждого из них — своя история. Однако для развития
культуры, видимо, необходимо наличие обоих типов знаковых систем. В
рамках настоящей книги мы не можем касаться причин, обусловливающих
необходимость закрепления информации именно в двух противоположных
системах знаков. Укажем лишь на этот факт и перейдем к характеристике
специфических выгод, которые связаны с коммуникативным употреблением
каждого из этих видов знаков, а также с их неизбежными неудобствами.
292
СЕМИОТИКА КИНО И ПРОБЛЕМЫ КИНОЭСТЕТИКИ
Иконические знаки отличаются большей понятностью. Представим себе
дорожный сигнал: паровоз и три косые черты внизу (см. рис.).
Воспроизведенный знак состоит из двух частей: одна — паровоз — имеет
изобразительный характер, другая — три косые черты —
условный. Любой человек, знающий о существовании
паровозов и железных дорог, при взгляде на этот
знак догадается, что его предупреждают о чем-то,
имеющем отношение к этим явлениям. Знание
системы дорожных знаков для этого совершенно
необязательно. Зато для того, чтобы понять, что
означают три косые черты, надо непременно заглянуть
в справочник, если система дорожных знаков не
присутствует в памяти смотрящего. Для того чтобы
прочесть вывеску над магазином, надо знать язык,
но для того чтобы понять, что означает золотой
крендель над входом, или угадать по товарам,
выставленным в витрине (они играют в этом случае
роль знаков), что можно здесь купить, кажется, никакого кода не требуется.
Таким образом, сообщение, зафиксированное условными знаками, будет
выглядеть как закодированное, требующее для понимания владения
специальным шифром, между тем как иконические представляются «естественными»
и «понятными». Не случайно при общении с людьми, говорящими на
непонятном нам языке, мы прибегаем к иконическим знакам — рисункам.
Экспериментально доказано, что восприятие иконических знаков требует
меньшего времени, и хотя разница эта в абсолютных величинах ничтожна, ее
достаточно, чтобы предпочитать их для сигналов на дорогах и на кнопках
приборов, требующих предельной быстроты реакции.
Необходимо подчеркнуть (это нам потребуется в дальнейшем), что как
«естественный» и понятный иконический знак выступает именно в антитезе
условному. Сам же по себе, как таковой, он, конечно, тоже условен. Уже
сама необходимость при изображении заменять объемный, трехмерный объект
плоским, двумерным его образом свидетельствует об определенной
условности — между изображаемым и изображением устанавливаются условные
правила эквивалентности, например правила проекции. Так, в иконическом
изображении на нашем рисунке надо знать правила прямой проекции,
профильного изображения. Кроме того, легко заметить, что изображение
паровоза крайне схематично и является не воспроизведением всех деталей его
внешности, а условным знаком, который выглядел бы таковым, например,
рядом с фотографией паровоза, но осознается как иконический в сочетании
с полосами. Добавим, что здесь еще имеет место условность метонимического
характера: изображение паровоза в качестве содержания имеет не предмет
или понятие «паровоз», а «железная дорога», которая на знаке не изображена.
Таким образом, даже в этом простейшем случае мы сталкиваемся с тем, что
«изобразительность» — относительное, а не абсолютное свойство. Рисунок
и слово подразумевают друг друга и невозможны один без другого.
и
Введение
293
В какой мере условны иконические знаки, станет ясно, если мы вспомним,
что легкость чтения их — закон лишь внутри одного и того же культурного
ареала, за пределами которого в пространстве и времени они перестают быть
понятными. Так, европейская живопись импрессионистического типа для
китайского зрителя предстает как ничего не воспроизводящий набор цветовых
пятен, а культурный разрыв позволяет в архаических рисунках ошибочно
«разглядеть» человека в скафандре, а в ритуальном мексиканском
изображении — продольный разрез космической ракеты. В случае же проблематичного
общения с представителями внеземных цивилизаций рисунки столь же
непригодны, как и слова. Вероятно, исходной точкой для общения смогут стать
графические изображения математических отношений. Для существа,
находящегося вне земной культуры, разницы между «понятным» рисунком и
«непонятным» словом, видимо, не будет, поскольку сама эта разница целиком
принадлежит земной цивилизации.
Для того чтобы окончить разговор об этих двух типах знаков, следует
указать еще на одну особенность: изобразительные знаки воспринимаются
как «в меньшей степени знаки», чем слова. Поэтому они начинают
противопоставляться слову еще и в оппозиции: «способное быть средством
обмана — неспособное быть средством обмана». Известна восточная поговорка:
«Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». Слово может быть и
истинным, и ложным, рисунок противополагается ему в этом отношении в
той же мере, в какой для современного сознания фотография
противополагается рисунку.
***
Между изобразительными и условными знаками есть еще одна,
существенная для нас, разница: условные знаки легко синтагматизируются,
складываются в цепочки. Формальный характер их плана выражения оказывается
благоприятным для выделения грамматических элементов — элементов,
функция которых — обеспечивать правильное, с точки зрения данной системы
языка, соединение слов в предложения. Построить фразу из предметов,
выставленных в витрине магазина (каждый предмет в этом случае — икони-
ческий знак самого себя), определить природу связи ее элементов и ее
границы — задача весьма трудная. Между тем стоит заменить предметы
словами, их обозначающими, и фраза сложится сама собой. Условные знаки
приспособлены для рассказывания, для создания повествовательных текстов,
между тем как иконические ограничиваются функцией называния. Характерно,
что в египетском иероглифическом письме, которое можно рассматривать
как опыт создания повествовательного текста на иконической основе, очень
скоро выработалась система детерминативов — формальных значков
условного типа для передачи грамматических значений.
Миры иконических и условных знаков не просто сосуществуют — они
находятся в постоянном взаимодействии, в непрерывном взаимопереходе и
взаимоотталкивании. Процесс их взаимного перехода — один из существен-
294
СЕМИОТИКА КИНО И ПРОБЛЕМЫ КИНОЭСТЕТИКИ
ных аспектов культурного освоения мира человеком при помощи знаков.
Особенно ярко он проявляется в искусстве.
На основе двух видов знаков вырастают две разновидности искусств:
изобразительные и словесные. Разделение это очевидно и, казалось бы, ни
в каких дальнейших пояснениях не нуждается. Однако стоит приглядеться к
художественным текстам и вдуматься в историю искусств, как делается ясно,
что словесные искусства, поэзия, а позже и художественная проза стремятся
из материала условных знаков построить словесный образ, иконическая
природа которого наглядно обнаруживается хотя бы в том, что чисто
формальные уровни выражения словесного знака: фонетика, грамматика, даже
графика — в поэзии становятся содержательными. Из материала условных
знаков поэт создает текст, который является знаком изобразительным.
Одновременно происходит и противоположный процесс: рисунком, который по
самой своей знаковой природе не создан для того, чтобы служить средством
повествования, человек неизменно стремится рассказывать. Тяготение графики
и живописи к повествованию составляет одну из самых парадоксальных и
одновременно постоянно действующих тенденций изобразительных искусств.
В крайних случаях знак в живописи может приобретать свойственную слову
конвенциональность в отношении выражения и содержания. Таковы
аллегории в живописи классицизма. Зрителю надо знать (знание это он черпает из
вне живописи лежащего культурного кода), что означают маки, змея,
держащая хвост в зубах, орел, сидящий на книге законов, белая туника и
багряный плащ на портрете Екатерины II кисти Левицкого. В истории
живописи древнего Египта был жанр настенных росписей, воспроизводящих
жизнь фараона. Живопись осуществлялась в строго ритуализованных формах.
В случае, если фараоном была женщина, рисовался, как и всегда, мальчик,
а подлинный пол объекта изображения выяснялся из словесной подписи. В
этом случае рисунок, изображающий мальчика, был выражением,
содержанием которого была девочка, что в корне противоречит самой сущности
изобразительных знаков.
Между стремлением к преобразованию изобразительных знаков в
словесные и повествованием как принципом построения текста существует прямая
и непосредственная связь.
Если рассмотреть такие образцы повествования живописными средствами,
как иконы русского живописца XV в. Дионисия «Митрополит Петр» или
«Митрополит Алексей» (композиция икон однотипна), то нетрудно заметить,
что композиция их включает два основных элемента: центральную фигуру
святителя и серию расположенных вокруг этой фигуры изображений. Эта
вторая часть построена как рассказ о житии святого. Прежде всего, она
сегментирована на равные пространственные куски, каждый из которых
охватывает некоторый момент жизни центрального персонажа. Далее,
сегменты расположены в хронологическом порядке, который задает также
определенную последовательность чтения. То, что перед нами не простое
скопление разнообразных, не связанных между собою рисунков, а единое
повествование, определяется:
Глава первая. Иллюзия реальности
295
1. Повторением в каждом сегменте фигуры святителя, решенной сходными
художественными средствами и идентифицируемой, несмотря на изменение
внешнего облика (возраст святого меняется при переходе от эпизода к
эпизоду), при помощи знака — сияния вокруг головы. Это обеспечивает
живописное единство серии изображений.
2. Связью рисунков со схемой типичных узловых эпизодов жития святого.
3. Включением в живописные изображения словесных текстов.
Последние два пункта определяют включение изображений в словесный
контекст жития, что обеспечивает им повествовательное единство.
Нетрудно заметить, что построенный таким образом текст удивительно
напоминает построение ленты кино с его разделением повествования на
кадры и, если говорить о «немом» кинематографе, сочетанием
изобразительного рассказа и словесных титров (о функции графического слова в звуковом
кино будет сказано дальше).
Не механическое соединение двух типов знаков, а синтез, вырастающий
из драматического конфликта, из почти безнадежных, но никогда не
прекращающихся попыток добиться новых средств выразительности, употребляя
знаковые системы, казалось бы, вопреки их самым основным свойствам,
порождает разнообразные формы изобразительного повествования от
наскальных рисунков до живописи барокко и «Окон РОСТА». Народный лубок,
книжка-картинка, комикс входят как различные по исторической
обусловленности и художественной ценности моменты этого единого движения.
Появление кинематографа как искусства и явления культуры связано с
целым рядом технических изобретений и, в этом смысле, неотделимо от эпохи
конца XIX—XX в. В этой перспективе оно обычно и рассматривается. Однако
не следует забывать, что художественную основу кино составляет значительно
более древняя тенденция, определенная диалектическим противоречием между
двумя основными видами знаков, характеризующими коммуникации в
человеческом обществе.
Глава первая
Иллюзия реальности
Всякое искусство в той или иной мере обращается к чувству реальности
у аудитории. Кино — в наибольшей мере. В дальнейшем мы остановимся
на том, какую роль сыграла фантастика, начиная с фильмов Мельеса, в
превращении кинематографа в искусство. Но «чувство реальности», о котором
здесь идет речь, заключается в ином: каково бы ни было происходящее на
экране фантастическое событие, зритель становится его очевидцем и как бы
296
СЕМИОТИКА КИНО И ПРОБЛЕМЫ КИНОЭСТЕТИКИ
соучастником. Поэтому, понимая сознанием ирреальность происходящего,
эмоционально он относится к нему, как к подлинному событию1. С этим,
как мы увидим в дальнейшем, связаны специфические трудности передачи
кинематографическими средствами прошедшего и будущего времени, а также
сослагательного и других ирреальных наклонений в киноповествовании:
кино, по природе своего материала, знает лишь настоящее время, как, впрочем,
и другие пользующиеся изобразительными знаками искусства. Применительно
к театру это было отмечено Д. С. Лихачевым.
Эмоциональная вера зрителя в подлинность показываемого на экране
связывает кинематограф с одной из наиболее существенных в истории
культуры проблем.
Все технические усовершенствования — обоюдоострые орудия:
призванные служить социальному прогрессу и общественному добру, они столь же
успешно использовались и для противоположных целей. Одно из величайших
достижений человечества — знаковая коммуникация — не избежало той же
участи. Призванные служить информации, знаки нередко использовались с
целью дезинформации. «Слово» неоднократно выступало в истории культуры
как символ мудрости, знания и правды (ср. евангельское: «В начале было
слово») и как синоним обмана, лжи (гамлетовское: «Слова, слова, слова»,
гоголевское: «Страшное царство слов вместо дел»). Отождествление знака и
лжи и борьба с ними: отказ от денег, социальных символов, наук, искусств,
самой речи — постоянно встречаются в античном, в средневековом мире, в
различных культурах Востока, в новое время становятся одной из ведущих
идей европейской демократии, от Руссо до Льва Толстого. Процесс этот
протекает параллельно с апологией знаковой культуры, борьбой за ее
развитие. Конфликт этих двух тенденций — одно из устойчивых диалектических
противоречий человеческой цивилизации.
На фоне этого противоречия развивалось более частное, но весьма
устойчивое противопоставление: «текст, который может быть ложным, — текст,
который не может быть ложным». Оно могло проявляться как оппозиция
«миф — история» (в период, предшествовавший возникновению исторических
текстов, миф относился к разряду безусловно истинных текстов), «поэзия —
документ» и др. С конца XVIII в., в обстановке обострившихся требований
истины в искусстве, авторитет документа быстро рос. Уже Пушкин ввел в
«Дубровского» как часть художественного произведения подлинные судебные
документы той эпохи. Во вторую половину века место достоверного
документа — антитезы романтическому вымыслу поэтов — занял газетный
репортаж. Не случайно к нему в поисках истины обращались прозаики, от
Достоевского до Золя, на него ориентировались поэты, от Некрасова до
Блока.
В обстановке быстрого развития европейской буржуазной цивилизации
XIX в. газетный репортаж пережил апогей своего культурного значения и
1 «Реальность» кино в этом смысле исследована в кн.: Metz Ch. Essais sur la
signification au cinéma / Ed. Klincksieck. Paris, 1968. P. 13—24.
Глава первая. Иллюзия реальности
297
быстрый его закат. Выражение «Врет, как репортер» свидетельствовало, что
и этот жанр покинул «клетку» текстов, которые могут быть только истинными,
и переместился в противоположную. Это место заняла фотография, которая
обладала всеми данными безусловной документальности и истинности и
воспринималась как нечто противоположное культуре, идеологии, поэзии,
осмыслениям любого типа — как сама жизнь в своей реальности и
подлинности. Она прочно заняла место текста наибольшей документированное™ и
достоверности в общей системе текстов культуры начала XX в. И это было
признано всеми — от криминалистов до историков и газетчиков.
Кинематограф как техническое изобретение, еще не ставшее искусством,
в первую очередь, был движущейся фотографией. Возможность запечатлеть
движение в еще большей мере увеличила доверие к документальной
достоверности фильмов. Данные психологии доказывают, что переход от
неподвижной фотографии к подвижному фильму воспринимается как внесение
объемности в изображение. Точность воспроизведения жизни, казалось,
достигла предела.
Следует, однако, подчеркнуть, что речь идет не столько о безусловной
верности воспроизведения объекта, сколько об эмоциональном доверии
зрителя, убеждении его в подлинности того, что он видит собственными глазами.
Все мы знаем, как непохожи, искажающи бывают фотографии. Чем ближе
мы знаем человека, тем больше несходства обнаруживаем в фотографиях.
Для каждого человека, лицо которого нам действительно знакомо, мы
предпочтем портрет хорошего художника равной ему по мастерству фотографии.
В нем мы найдем больше сходства. Но если нам предоставят портрет и
фотографию неизвестного нам человека и попросят выбрать более
достоверное, мы не колеблясь остановимся на фотографии, — таково обаяние
«документальности» этого вида текста.
Казалось бы, напрашивается вывод о том, что документальность и
достоверность кинематографа предоставляют ему такие изначальные выгоды,
которые, просто в силу технических особенностей данного искусства,
обеспечивают ему большую реалистичность, чем та, которой довольствуются
другие виды художественного творчества. К сожалению, дело обстоит не
столь просто: кино медленно и мучительно становилось искусством, и
отмеченные выше его свойства были и союзниками, и препятствиями на этом
пути.
В идеологическом отношении «достоверность», с одной стороны, делала
кино чрезвычайно информативным искусством и обеспечивала ему массовую
аудиторию. Но, с другой стороны, именно это же чувство подлинности
зрелища активизировало у первых посетителей кинематографа те бесспорно
низшего порядка эмоции, которые свойственны пассивному наблюдателю
подлинных катастроф, уличных происшествий, которые питали
квазиэстетические и квазиспортивные эмоции посетителей римских цирков и сродни
эмоциям современных зрителей западных автогонок. Эту низменную зрелищ-
ность, питаемую знанием зрителя, что кровь, которую он видит, — подлинная
и катастрофы — настоящие, эксплуатирует в коммерческих целях современное
298
СЕМИОТИКА КИНО И ПРОБЛЕМЫ КИНОЭСТЕТИКИ
западное телевидение, устраивая репортажи с театра военных действий и
демонстрируя сенсационные кровавые драмы жизни.
Для того чтобы превратить достоверность кинематографа в средство
познания, потребовался длительный и нелегкий путь.
Не менее сложные проблемы возникали при попытках эстетического
освоения кинодостоверности. Как это ни покажется, может быть, странным,
но фотографическая точность кинокадров затрудняла, а не облегчала
рождение кино как искусства.
Обстоятельство это, хорошо известное историкам кинематографа,
получает достаточно ясное подтверждение в общих положениях теории
информации. Иметь значение, быть носителем определенной информации может
далеко не всякое сообщение. Если мы имеем цепочку букв: А — В — Си
заранее известно, что после А может последовать В и только В, а после В —
С и только С, весь ряд окажется полностью предсказуемым уже по первой
букве («полностью избыточным»). Высказывания типа «Волга впадает в
Каспийское море» для человека, которому это уже известно, никакой
информации не несут. Информация — исчерпание некоторой неопределенности,
уничтожение незнания и замена его знанием. Там», где незнания нет, нет и
информации. «Волга впадает в Каспийское море», «Камень падает вниз» —
оба эти высказывания не несут информации, поскольку являются единственно
возможными, им нельзя построить в пределах нашего жизненного опыта и
здравого смысла альтернативного высказывания (напомним слова Нильса
Бора о том, что нетривиальное высказывание — такое, обратное утверждение
к которому не есть очевидная бессмыслица). Но предположим, что мы имели
бы цепочку:
где после события В могли бы последовать С или D (предположим, что с
равной степенью вероятности). Тогда сообщение: «Имело место
заключало бы в себе известную минимальную информацию.
Таким образом, величина потенциальной информации зависит от наличия
альтернативных возможностей. Информация противоположна автоматизму:
там, где одно событие автоматически имеет следствием другое, информации
не возникает. В этом смысле переход от рисунка к фотографии, бесконечно
повышая точность воспроизведения объекта, резко понижал информативность
отображения: объект отражался в изображении автоматически, с
необходимостью механического процесса. Художник имеет бесконечное (вернее, очень
большое) количество возможностей выбора того, как отобразить объект,
нехудожественная фотография устанавливает здесь единую автоматическую
зависимость. Искусство не просто отображает мир с мертвенной автоматич-
Глава первая. Иллюзия реальности
299
ностью зеркала — превращая образы мира в знаки, оно насыщает мир
значениями. Знаки не могут не иметь значения, не нести информации. Поэтому
то, что в объекте обусловлено автоматизмом связей материального мира, в
искусстве становится результатом свободного выбора художника и тем самым
приобретает ценность информации. В нехудожественном мире, в мире объекта,
сообщение: «Земля находилась внизу, а небо наверху» (если описывается
впечатление земного наблюдателя, а не летчика) — тривиально и никакой
информации не несет, поскольку не имеет неабсурдной альтернативы. Но в
фильме Чухрая «Баллада о солдате», в момент, когда фашистский танк
преследует задыхающегося, бегущего из последних сил Алешу, изображение
на экране оборачивается: кадр перевернут и танк ползет вверх гусеницами
по верхнему краю экрана, нависая башней над упавшим вниз небом. Когда
кадр возвращается в нормальное положение и небо оказывается вверху, а
земля внизу, сообщение об этом оказывается уже далеко не тривиальным (у
зрителей вырывается вздох облегчения): мы знаем теперь, что нормальное
положение неба и земли — не автоматическое отражение фотографируемого
объекта, а результат свободного выбора художника. Именно поэтому
сообщение: «Небо сверху, земля снизу», которое в нехудожественном контексте
не значит ничего, здесь оказывается способным нести необычайно важную
информацию: герой спасся, в единоборстве с танком наступил перелом.
Переход к следующим кадрам — горящему танку — закономерен.
Цель искусства — не просто отобразить тот или иной объект, а сделать
его носителем значения. Никто из нас, глядя на камень или сосну в
естественном пейзаже, не спросит: «Что она значит, что ею или им хотели выразить?»
(если только не становиться на точку зрения, согласно которой естественный
пейзаж есть результат сознательного творческого акта). Но стоит
воспроизвести тот же пейзаж в рисунке, как вопрос этот сделается не только
возможным, но и вполне естественным.
Теперь нам становится ясно, что фотография и неподвижная, и
движущаяся, будучи великолепным материалом искусства, одновременно была
материалом, который надо было победить, материалом, самые выгоды
которого вызывали к жизни огромные трудности. Фотография сковывала
произведение искусства, подчиняя огромные области текста автоматизму законов
технического воспроизведения. Следовало их отвоевать у автоматического
воспроизведения и подчинить законам творчества. Не случайно каждое новое
техническое усовершенствование, прежде чем стать фактом искусства, должно
быть освобождено от технического автоматизма. Пока цвет определялся
техническими возможностями пленки и лежал за пределами художественного
выбора, он не был фактом искусства, на первых порах сужая, а не расширяя
гамму возможностей, из которой режиссер выбирал свое решение. Только
когда цвет стал автономен (ср. литературный образ «черного солнца»),
подчиняясь каждый раз замыслу и выбору режиссера, он был введен в сферу
искусства. Поясним нашу мысль примером из литературы. В «Слове о полку
Игореве» есть исключительно поэтический образ: в исполненном грозных
предвещаний сне князю наливают синее вино. Однако есть основания полагать,
что в языке XII в. «синее» могло означать «темно-красное» и в подлинном
300
СЕМИОТИКА КИНО И ПРОБЛЕМЫ КИНОЭСТЕТИКИ
тексте дан не поэтический образ, а простое указание на цвет. Очевидно, что
для нас это место сделалось художественно более значимым, чем для читателей
XII в. Произошло это именно потому, что семантика цвета сдвинулась и
«синее вино» стало сочетанием двух слов, соединение которых возможно
лишь в поэзии.
Не менее показательны трудности, которые поставило перед
кинематографом изобретение звука. Известно, что такие мастера, как Чаплин, отнеслись
к звуку в кино резко отрицательно. Стремясь «победить» звук, Чаплин в
«Огнях большого города» пустил речь оратора, открывающего памятник
Процветанию, с неестественной скоростью, подчинив тембр речи не
автоматизму воспроизводимого объекта, а своему замыслу художника (речь
превращалась в щебетанье), а в «Новых временах» исполнил песенку на
выдуманном — «никаком» языке: смешаны были слова английского, немецкого,
французского, итальянского и еврейского (идиш) языков. С более обоснованной
программой выступили еще в 1928 г. советские режиссеры Эйзенштейн,
Александров и Пудовкин. Они отстаивали тезис, согласно которому сочетание
зрительного и звукового образов должно быть не автоматическим, а
художественно мотивированным, указав, что именно сдвиг обнажает эту
мотивированность. Путь, указанный советскими режиссерами, оказался ведущим
при соотнесении не только изображения и звука, но и фотографии и слова.
Когда Вайда в «Пепле и алмазе» передает зрителям слова речи банкетного
оратора, камера уже покинула зал празднеству и на экране — общественная
уборная, в которой старуха-уборщица ждет первых пьяных. В «Хиросима,
любовь моя» героиня-француженка рассказывает своему
возлюбленному-японцу про долгие дни одиночества в подвале, где ее когда-то спрятали родители
от гнева сограждан, преследовавших ее за любовь к немецкому солдату.
Только кошка появлялась в темном подвале. Когда эти слова звучат в зале,
кошка не показывается на экране. Ее глаза засверкают в темноте позже,
когда рассказ героини уйдет далеко вперед. Техника обеспечила возможность
строгой синхронности звука и изображения и дала искусству выбор соблюдать
или нарушать эту синхронность, то есть сделала ее носителем информации.
Речь, таким образом, идет совсем не об обязательности деформации
естественных форм объекта (установка на постоянную деформацию, как правило,
отражает младенчество того или иного художественного средства), а о
возможности деформации и, следовательно, о сознательном выборе
художественного решения в случае ее отсутствия.
Фактически вся история кино как искусства — цепь открытий, имеющих
целью изгнание автоматизма из всех звеньев, подлежащих художественному
изучению. Кино победило движущуюся фотографию, сделав ее активным
средством познания действительности. Воспроизводимый им мир —
одновременно и самый объект и модель этого объекта.
Все дальнейшее изложение в значительной мере будет посвящено
описанию средств, которыми пользуется кинематограф в борьбе с «сырой»
естественностью во имя художественной правды.
И все же следует снова подчеркнуть, что, борясь с естественной схожестью
кинематографа и жизни, разрушая наивную веру зрителя, готового отожде-
Глава первая. Иллюзия реальности
301
ствить эмоции от кинозрелища с переживаниями, испытываемыми при взгляде
на реальные события, вплоть до вульгарной жажды острых переживаний
от подлинных трагических зрелищ, кино одновременно борется и за
сохранение наивного, пусть даже порой слишком наивного, доверия к своей
подлинности. Неискушенный зритель, не отличающий художественной ленты
от хроники, конечно, далеко не идеал, но он в большей мере «зритель кино»,
чем критик, фиксирующий «приемы» и ни на минуту не забывающий о
«кухне» кинодела.
Чем больше победа искусства над фотографией, тем нужнее, чтобы
зритель какой-то частью своего сознания верил, что перед ним только
фотографии, только жизнь, которую режиссер не построил, а подсмотрел. За
оживление этого чувства боролись именно те, кто одновременно строил
киномир по сложным идеологическим моделям, — от Дзиги Вертова и
Эйзенштейна до итальянских неореалистов, французской «новой волны» или
Бергмана.
Этому служит и включение в художественные фильмы кусков из
подлинных хроник военных лет. В кинофильме Бергмана «Персона» героиня смотрит
телевизор, передающий сцены самосожжения демонстранта. Сначала нам
показаны лишь отблески от телеэкрана на лице героини и выражение ужаса, —
мы находимся в мире игрового кино. Но вот экран телевизора совмещается
с киноэкраном. Мы знаем, что телевизор уводит нас из мира актеров, и
становимся свидетелями подлинной трагедии, которая длится мучительно
долго. Смонтировав подлинную жизнь и киножизнь, Бергман и подчеркнул
художественную условность изображаемого им мира, и — искусство умеет
это делать — заставил одновременно забыть об этой условности. Мир героини
фильма и мир телевизора — один мир, мир связанный и подлинный. Того
же эффекта добивались авторы «Пайзы», когда снимали в одном из эпизодов
освобождения Италии подлинный труп.
Как ни странно, с борьбой за доверие к экрану связано обилие сюжетов
о создании киноленты, о кино в кино. Повышая чувство условности, «чувство
кино» в зрителе, произведения этого типа как бы концентрируют
киноусловность в эпизодах, воспроизводящих экран на экране: они заставляют
воспринимать остальное как подлинную жизнь.
Это двойное отношение к реальности составляет то семантическое
напряжение, в поле которого развивается кино как искусство. Пушкин
определил формулу эстетического переживания словами: «Над вымыслом слезами
обольюсь...» Здесь с гениальной точностью указана двойная природа
отношения зрителя или читателя к художественному тексту. Он «обливается
слезами», то есть верит в подлинность, действительность текста. Зрелище
вызывает в нем те же эмоции, что и самая жизнь. Но одновременно он
помнит, что это «вымысел». Плакать над вымыслом — явное противоречие,
ибо, казалось бы, достаточно знания о том, что событие выдумано, чтобы
желание испытывать эмоции исчезло бесповоротно. Если бы зритель не
забывал, что перед ним экран или сцена, постоянно помнил о
загримированных актерах и режиссерском замысле, он, конечно, не мог бы плакать и
испытывать другие эмоции подлинных жизненных ситуаций. Но если бы
302
СЕМИОТИКА КИНО И ПРОБЛЕМЫ КИНОЭСТЕТИКИ
зритель не отличал сцены и экрана от жизни и, обливаясь слезами, забывал,
что перед ним вымысел, он не переживал бы специфически художественных
эмоций. Искусство требует двойного переживания — одновременно забыть,
что перед тобой вымысел, и не забывать этого. Только в искусстве мы можем
одновременно ужасаться злодейству события и наслаждаться мастерством
актера.
Двуплановость восприятия художественного произведения1 приводит к
тому, что чем выше сходство, непосредственная похожесть искусства и жизни,
тем, одновременно, обостреннее должно быть у зрителя чувство условности.
Почти забывая, что перед ним произведение искусства, зритель и читатель
никогда не должны забывать этого совсем. Искусство — явление живое и
диалектически противоречивое. А это требует равной активности и равной
ценности составляющих его противоположных тенденций. Многочисленные
примеры этого дает история кинематографа.
На заре кинематографа движущееся изображение на экране вызывало у
зрителей физиологическое чувство ужаса (кадры с наезжающим поездом) или
физической тошноты (кадры, снятые с высоты или при помощи
раскачивающейся камеры). Эмоционально зритель не различал изображения и реальности.
Но искусством киноизображение стало лишь тогда, когда комбинированные
съемки Мельеса позволили дополнить предельное правдоподобие предельной
фантастикой на уровне сюжета, а монтаж (практическое изобретение которого
исследователи приписывают то брайтонской школе, то Гриффиту, но
теоретическое значение которого было осознано лишь благодаря опытам и
исследованиям Л. Кулешова, С. Эйзенштейна, Ю. Тынянова, В. Шкловского и ряда
других советских кинематографистов и ученых 1920-х гг.) позволил обнажить
условность в сочетании кадров.
Более того, само понятие «похожести», которое кажется столь
непосредственным и исходно данным зрителю, на самом деле оказывается фактом
культуры, производным от предшествующего художественного опыта и
принятых в данных исторических условиях типов художественных кодов.
Например, окружающий нас реальный мир многокрасочен, поэтому отображение
его в черно-белой фотографии — условность. Только привычка к этому типу
условности, принятие связанных с нею правил дешифровки текста позволяет
нам, глядя на небо в кадре, воспринимать его без каких-либо затруднений
как безоблачно-синее. Различные оттенки серого мы воспринимаем в кадре,
изображающем летний солнечный день, как знаки синего и зеленого цвета
и безошибочно устанавливаем их эквивалентность определенным цветовым
денотатам (обозначаемым объектам).
При появлении цветного кино окрашенные кадры стали невольно
соотноситься зрителем не только с многоцветной реальностью, но и с традицией
«естественности» в кинематографе. Фактически более условное черно-белое
кино в силу определенной традиции воспринимается как исходная естественная
форма. Айвор Монтегю приводит поразительный факт: «Когда Питера Ус-
1 Подробнее см.: в наст. изд. тезисы «Искусство в ряду моделирующих систем».
Глава первая. Иллюзия реальности
303
тинова спросили на телевидении, почему он снял „Билли Бадда"1 черно-белым,
а не цветным, он ответил, что ему хотелось, чтобы фильм был
правдоподобнее». Любопытен и комментарий А. Монтегю: «Странный ответ, но еще
более странно, что никто не нашел в нем ничего странного»2. Как видим,
последнее не странно, а вполне закономерно.
Показательно, что в современных фильмах, использующих монтаж цветных
и черно-белых кусков ленты, первые, как правило, связаны с сюжетным
повествованием, то есть «искусством», а вторые представляют отсылки к
заэкранной действительности. Характерна в этом отношении сознательная
усложненность этой соотнесенности в фильме А. Вайды «Все на продажу».
Фильм построен на постоянном смешении рангов: один и тот же кадр может
оказаться отнесенным и к заэкранной реальности, и к сюжетному
художественному кинофильму об этой реальности. Зрителю не дано знать заранее, что
он видит: кусок действительности, случайно захваченной объективом, или
кусок фильма об этой реальности, обдуманного и построенного по законам
искусства. Перемещение одних и тех же кадров с уровня объекта на метауровень
(«кадр о кадре») создает сложную семиотическую ситуацию, смысл которой —
в стремлении запутать зрителя и заставить его с предельной остротой пережить
«поддельность» всего, ощутить жажду простых и настоящих вещей и простых
и настоящих отношений, ценностей, которые не являются знаками чего-либо.
И вот в этот зыбкий мир, где даже смерть превращается в дубль, вторгается
простая, «несыгранная» жизнь — похороны актера. Этот кусок, в отличие от
цветных кадров обоих уровней — событий жизни и их киновоспроизведения, —
дан в двухцветных тонах. Это сама жизнь, не воспроизведенная режиссером,
а подсмотренная; выхваченный кусок, где все захвачены врасплох и поэтому
искренни. Однако и здесь соотношение усложняется: камера отъезжает, и то,
что мы сочли за кусок жизни, оказывается кинематографом в кинематографе.
Обнажаются края экрана, показывается зал, в котором сидят те же люди, что
сняты на экране, и обсуждают, каким образом превратить эти события в
художественный фильм. Казалось бы, противопоставление снимается: игрой
оказывается все, и оппозиция «цветная лента — черно-белая» теряет смысл.
Однако это не так. Даже введенная как кинематограф в кинематографе,
двухцветная лента оказывается хроникальной, а не игровой. На фоне перепутанных
игры и жизни, ставшей игрой, она выполняет функцию простой реальности. И
не случайно именно в этом куске человек, стоящий вне киномира, зритель,
говорит о том, что покойный артист при жизни был легендой, мифом, да и мог
ли быть такой человек? Именно это высказывание (вместе с лицом говорящего)
становится той внетекстовой реальностью, которой эквивалентен весь сложный
кинотекст, то есть значением ленты. Без этого фильм остался бы чем-то средним
между лабораторным экспериментом по семиотике кино и сенсационным
разоблачением тайн личной жизни кинозвезд, вроде «Частной жизни» Луи Маля.
1 Питер Устинов — английский актер и режиссер. Фильм «Билли Бадд» (1962)
демонстрировался на III Московском международном кинофестивале.
2 Монтегю А. Мир фильма. Л., 1969. С. 88.
304
СЕМИОТИКА КИНО И ПРОБЛЕМЫ КИНОЭСТЕТИКИ
Интересно в этом смысле решение А. Тарковского, который в «Андрее
Рублеве» дал оригинальное художественное построение, воспринимаемое нами
и как очень неожиданное и как вполне естественное: сфера «жизни» решена
средствами черно-белого фильма, что воспринимается нами как нейтральное
кинематографическое решение. И вдруг в конце зрителю даются фрески,
окрашенные чарующим богатством красок. Это не только заставляет остро
пережить концовку, но и возвращает нас к фильму, давая альтернативу
черно-белому решению и тем самым подчеркивая его значимость.
Итак, стремление кинематографа без остатка слиться с жизнью и желание
выявить свою кинематографическую специфику, условность языка, утвердить
суверенитет искусства в его собственной сфере — это враги, которые
постоянно нуждаются друг в друге. Как северный и южный полюса магнита, они
не существуют друг без друга и составляют то поле структурного напряжения,
в котором движется реальная история кинематографа. Расхождения между
Дзигой Вертовым и С. Эйзенштейном, споры о «прозаическом» и
«поэтическом» кино в советском кинематографе 1920—1930-х гг., полемика вокруг
итальянского неореализма, статьи А. Базена о конфликте между монтажом
и «верой в действительность», легшие в основу французской «новой волны»,
снова и снова подтверждают закономерность синусоидного движения
реального киноискусства в поле структурного напряжения, создаваемого этими
двумя полюсами. Интересно в этом отношении наблюдать, как итальянский
неореализм двигался в борьбе с театральной помпезностью к полному
отождествлению искусства и внехудожественной реальности. Активные средства
его всегда были «отказами»: отказ от стереотипного киногероя и типичных
киносюжетов, отказ от профессиональных актеров, от практики «звезд», отказ
от монтажа и «железного» сценария, отказ от «построенного» диалога, отказ
от музыкального сопровождения. Такая поэтика «отказов» действенна лишь
на фоне памяти о киноискусстве другого типа. Без кинематографа
исторических эпопей, киноопер, вестерна или голливудских «звезд» она теряет
значительную часть художественного смысла. Свою внехудожественную роль
«крика о правде», о правде любой ценой, правде как условии жизни, а не
средстве достижения каких-либо преходящих целей это искусство могло
выполнить лишь постольку, поскольку язык его воспринимался зрителем как
беспощадный и бескомпромиссный. Тем показательнее, что, дойдя до апогея
«отказов» и утвердив свою победу, неореализм резко повернул в сторону
воссоздания разрушенной условности. Стремление Феллини к «метафиль-
му» — фильму о фильме, анализирующему самое понятие правды («8 V2»),
Джерми — к слиянию языка киноигры и национальной традиции комедии
масок глубоко показательно. Особенно же интересно движение Лукино
Висконти — именно потому, что в его творчестве теоретик всегда господствует
над художником. В 1948 г. Висконти создал фильм «Земля дрожит» — одно
из наиболее последовательных осуществлений поэтики неореализма. В этом
фильме все: от сицилийского диалекта, непонятного даже итальянскому
зрителю, но демонстративно данного режиссером без перевода (лучше
непонятная, но вызывающая безусловное доверие документальной подлинностью,
чем понятная, но подозреваемая в «художественности» лента), до типажей,
Глава первая. Иллюзия реальности
305
сюжета, структуры кинорассказа — протест против «искусственности
искусства». Но уже в 1953 г. он снял фильм «Чувство» — не бесспорный по
решениям, но крайне интересный по замыслу. Действие перенесено в 1866 г.,
в дни восстания в Венеции и итало-прусско-австрийской войны. Фильм
начинается музыкой Верди. Камера фиксирует сцену театра, на которой
идет представление оперы «Трубадур». Национально-героический ореол
музыки Верди обнаженно становится системой, в которой кодируются характеры
героев и сюжет. Оторванная от контекста, лента поражает театральностью,
открыто оперным драматизмом (любовь, ревность, предательство, смерть
сменяют здесь друг друга), откровенной примитивностью сценических
эффектов и архаичностью режиссерских приемов. Однако в контексте общего
движения искусства, в паре с «Земля дрожит», это получает иной смысл.
Искусство голой правды, стремящееся освободиться от всех существующих
видов художественной условности, требует для восприятия огромной
культуры. Будучи демократично по идеям, оно становится слишком
интеллектуальным по языку. Неподготовленный зритель начинает скучать. Борьба с
этим приводит к восстановлению прав сознательно-примитивного,
традиционного, но близкого зрителю художественного языка. В Италии комедия
масок и опера — искусства, традиционная система условности которых
понятна и близка самому массовому зрителю. И кинематограф, дойдя до предела
естественности, обратился к условной примитивности художественных языков,
с детства знакомых зрителю.
Фильмы Джерми («Соблазненная и покинутая» и в особенности «Развод
по-итальянски») шокируют зрителя безжалостностью, «цинизмом». Но следует
вспомнить язык театра кукол и комедии масок, в которых смерть может
оказаться комическим эпизодом, убийство — буффонадой, страдание —
пародией. Безжалостность итальянского (и не только итальянского) народного
театра органически связана с его условностью. Зритель помнит, что на сцене
куклы или маски, и воспринимает их смерть или страдания, побои или
неудачи не так, как смерть или страдания реальных людей, а в
карнавально-ритуальном духе. Фильмы Джерми были бы невозможно циничны, если
бы режиссер предлагал нам видеть в его персонажах людей. Но, переводя
содержание, обычное для социально-обличительного, гуманного фильма
неореализма, на язык буффонады, он предлагает видеть в героях карнавальные
маски, куклы. Плебейски грубый, ярмарочный язык его фильмов таит не
меньше возможностей социальной критики, чем более близкий
интеллигентному зрителю, восходящий к общеевропейской просветительной мысли стиль
очеловечивания актера и гуманизации сцены. Если Леонкавалло в «Паяцах»
перевел ярмарочную буффонаду на язык гуманистических представлений, то
Джерми сделал противоположное: языком народного балагана он
рассказывает о серьезных проблемах современности.
Висконти избрал путь другой национально-демократической традиции —
оперной. Только в отношении к этой традиции, с одной стороны, и к
художественному языку фильма «Земля дрожит», с другой, раскрывается
авторский замысел «Чувства».
306
СЕМИОТИКА КИНО И ПРОБЛЕМЫ КИНОЭСТЕТИКИ
Таким образом, чувство действительности, ощущение сходства с жизнью,
без которых нет искусства кино, не есть нечто элементарное, данное
непосредственным ощущением. Представляя собой составную часть сложного
художественного целого, оно опосредовано многочисленными связями с
художественным и культурным опытом коллектива.
Глава вторая
Проблема кадра
Мир кино предельно близок зримому облику жизни. Иллюзия реальности,
как мы видели, — его неотъемлемое свойство. Однако этот мир наделен
одним довольно странным признаком: это всегда не вся действительность, а
лишь один ее кусок, вырезанный в размере экрана. Мир объекта оказывается
поделенным на видимую и невидимую сферы, и как только глаз кинообъектива
обращается к чему-либо, сейчас же возникает вопрос не только о том, что
он видит, но и о том, что для него не существует. Вопрос о структуре
заэкранного мира окажется для кино очень существенным. То, что мир
экрана — всегда часть какого-то другого мира, определяет основные свойства
кинематографа как искусства. Не случайно Л. Кулешов в одной из своих
работ, посвященных практическим навыкам киноработы, советовал
тренировать свое зрение, глядя на предполагаемые объекты съемки через лист черной
бумаги, в которой вырезано окошко в пропорции кинокадра. Так возникает
существенное различие между зримым миром в жизни и на экране. Первый
не дискретен (непрерывен). Если слух членит слышимую речь на слова, то
зрение видит мир «одним куском». Мир кино — это зримый нами мир, в
который внесена дискретность. Мир, расчлененный на куски, каждый из
которых получает известную самостоятельность, в результате чего возникает
возможность многообразных комбинаций там, где в реальном мире они не
даны, становится зримым художественным миром.
В киномире, разбитом на кадры, появляется возможность вычленения
любой детали. Кадр получает свободу, присущую слову: его можно выделить,
сочетать с другими кадрами по законам смысловой, а не естественной
смежности и сочетаемости, употреблять в переносном — метафорическом и
метонимическом — смысле.
Кадр как дискретная единица имеет двойной смысл: он вносит
прерывность, расчленение и измеряемость и в кинопространство, и в киновремя.
Причем, поскольку оба эти понятия измеряются в фильме одной единицей —
кадром, они оказываются взаимообратимыми. Любую картину, имеющую в
реальной жизни пространственную протяженность, в кино можно построить
Глава вторая. Проблема кадра
307
как временную цепочку, разбив на кадры и расположив их последовательно.
Только кино — единственное из искусств, оперирующих зрительными
образами, — может построить фигуру человека как расположенную во времени
фразу. Изучение психологии восприятия живописи и скульптуры показывает,
что и там взгляд скользит по тексту, создавая некоторую последовательность
«чтения». Однако членение на кадры вносит в этот процесс нечто
принципиально новое. Во-первых, строго и однозначно задается порядок чтения,
создается синтаксис. Во-вторых, этот порядок подчиняется не законам
психофизиологического механизма, а целеположенности художественного
замысла, законам языка данного искусства.
Одним из основных элементов понятия «кадр» является граница
художественного пространства. Таким образом, еще до того, как мы определим
понятие кадра, мы можем выделить самое существенное: воспроизводя зримый
и подвижный образ жизни, кинематограф расчленяет его на отрезки. Это
членение многообразно: для создающих ленту это членение на отдельные
кадрики, которые при демонстрации фильма сливаются так же, как при
чтении стихов стопы сливаются в слова (стопы, метрические единицы стиха,
тоже не существуют для рядового слушателя как осознанные единицы). Для
зрителя это чередование кусков изображения, которые, несмотря на отдельные
изменения внутри кадра, воспринимаются как единые.
Границу кадра часто определяют как линию склейки режиссером одного
сфотографированного эпизода с другим. Фактически именно это утверждал
молодой С. Эйзенштейн, когда писал: «Кадр — ячейка монтажа». И дальше:
«Если уж с чем-нибудь сравнивать монтаж, то фалангу монтажных кусков —
„кадров" — следовало бы сравнить с серией взрывов двигателя внутреннего
сгорания, перемножающихся в монтажную динамику „толчками" мчащегося
автомобиля или трактора»1.
Однако при всем огромном значении монтажа (о нем будет дальше
специальный разговор) видеть границу кадра только в монтажном соединении
будет преувеличением. Вернее сказать, что развитие монтажа прояснило
понятие кадра, сделало явным то, что скрыто присутствовало в
художественной ленте любого типа.
Если сопоставить движение событий в жизни и на экране, то при
бросающемся в глаза и демонстративном сходстве внимательный наблюдатель
заметит и различие: события в жизни следуют непрерывным потоком, на
экране же, даже при отсутствии монтажа, действие будет образовывать как
бы сгустки, между которыми окажутся пустоты, заполняемые поступками-
связками. Уже на этом уровне киножизнь, в отличие от жизни действительной,
представляется цепочкой «рядом стоящих кусков» (Эйзенштейн). Но этим
сегментация не кончается: на то, что мы видим, накладывается сетка
осмысления. Зная, что перед нами художественный рассказ, то есть цепь знаков,
мы неизбежно расчленяем поток зрительных впечатлений на значимые
элементы.
1 Эйзенштейн С. Избр. произведения: В 6 т. М., 1964. Т. 2. С. 290, 291.
308
СЕМИОТИКА КИНО И ПРОБЛЕМЫ КИНОЭСТЕТИКИ
Позволим себе сравнение: возьмем некоторую фразу и запишем ее на
магнитофонную ленту и при помощи букв — на бумагу. Запись на ленте
будет состоять из вариантов фонем. Каждая фонема может быть нами
отчетливо выделена, но границы между ними будут незаметны, смазаны
(изучение осциллограмм речи убеждает, что на этом уровне вообще провести
четкую границу между тем, где кончается одна фонема и начинается другая,
практически невозможно). Иное дело написанная фраза: здесь границы между
буквами отчетливы и бесспорны. Наше сознание на «магнитофонную ленту»
мелькающего на экране изображения накладывает сетку осмысления. Это
внутренне присущее всякому кинематографу членение стало осознанным,
когда в результате работы ряда практиков и теоретиков кино было понято
значение монтажа. Огромную роль сыграла здесь советская кинематография
1920-х гг.
Естественное членение киноповествования на сегменты можно сопоставить
с членением текста театральной постановки. Театральный текст делится на
сегменты, отгороженные один от другого антрактами и занавесом, —
действия. Здесь сегментация явная, выраженная перерывами в художественном
времени. Современный кинематограф, с того момента, как он освободился
от театрального языка и выработал свой собственный, такого разделения не
знает (исключение составляет лишь членение кинотекста на серии; даже если
серии демонстрируются подряд, повторяющиеся в начале каждой новой серии
титры привносят перерыв времени художественного повествования,
аналогичный антракту). Однако театральный текст сегментируется не только на
действия, но и на явления. Переход от явления к явлению на сцене происходит
не скачком, а непрерывно, сохраняя видимость сходства с течением событий
в жизни. Но каждое новое явление приносит сгусток действия, представляя
собой организованное целое с явными структурными границами. И если на
сцене эти границы выражаются лишь понижением напряжения действия,
переходом к новому действию и т. д., то есть реализуются в категориях
содержания, то в печатном тексте пьесы (который выступает по отношению
к ней как метатекст, словесное описание несловесного действия) явления
разделены графически: пробелами, типографскими заглавиями и пр.
Аналогия с членением киноповествования здесь прямая. Сыгранная жизнь
(в интересующем нас аспекте) отличается от подлинной жизни ритмической
расчлененностью. Эта ритмическая расчлененность составляет основу деления
текста кино на кадры. Вместе с тем такая расчлененность имеет скрытый,
спонтанный характер. Только с того момента, как кино положило в основу
своего художественного языка монтаж, членение на кадры стало осознанным
элементом, без которого создатели фильма не могут строить свое сообщение,
а аудитория — восприятие. Однако монтаж играет в «языке кино» столь
большую роль, что ему следует посвятить специальное рассуждение.
Итак, во времени кадр отделен от последующего и предшествующего, и
стык их образует особый, присущий, в первую очередь, именно кино,
монтажный эффект. Но кадр — понятие не статическое, это не неподвижная
картина, смонтированная со следующей за ней, также неподвижной. Поэтому
кадр нельзя отождествить с отдельной фотографией, «кадриком» пленки.
Глава вторая. Проблема кадра
309
Кадр — явление динамическое, он допускает в своих пределах движение,
иногда весьма значительное.
Мы можем дать кадру различные определения: «минимальная единица
монтажа», «основная единица композиции киноповествования», «единство
внутрикадровых элементов», «единица кинозначения». Можно указать, что
для того, чтобы кадр не перешел в другой, новый кадр, динамика внутренних
элементов не должна выходить за определенный предел. Можно попытаться
определить допустимые соотношения изменяемого и неизменного в пределах
одного кадра. Каждое из этих определений раскроет некоторый аспект
понятия кадра, но не исчерпает его. Против каждого можно будет выдвинуть
обоснованные возражения.
Сочетание утверждений: «Кадр — одно из основных понятий киноязыка»
и «Точное определение кадра вызывает известные затруднения» — может
прозвучать обескураживающе. Однако напомним, что в аналогичном
положении находится, например, такая далеко продвинувшаяся сейчас наука, как
лингвистика, которая признала бы справедливость наших утверждений, если
бы мы поставили на место «кадр» — «слово». Совпадение это не случайно:
природа основных структурных элементов раскрывается не в описании их
статической материальности, а через функциональную соотнесенность их с
целым. Раскрывая функции кадра, мы получим и наиболее полное его
определение. Одна из основных функций кадра — иметь значение. Подобно
тому как в языке есть значения, присущие фонемам, — фонологические
значения, присущие морфемам — грамматические и присущие словам —
лексические, кадр — не единственный носитель кинозначений. Значения
имеют и единицы более мелкие — детали кадра, и более крупные —
последовательности кадров. Но в этой иерархии смыслов кадр — и здесь снова
напрашивается аналогия со словом — основной носитель значений киноязыка.
Семантическое отношение — отношение знака к обозначаемому им
явлению — здесь наиболее подчеркнуто.
Но кадр отграничен не только во временной последовательности.
Пространственно кадр имеет границей — для авторов — края пленки, для
зрителей — края экрана. Все, что находится за пределами этой границы, как
бы не существует. Пространство кадра обладает рядом таинственных свойств.
Только наша привычка к кинематографу заставляет нас не замечать, как
трансформируется привычный для нас зримый мир под влиянием того, что
вся его безбрежная безграничность вмещается в плоскую прямоугольную
поверхность экрана. Когда мы видим на экране снятые крупным планом
руки, руки, занявшие весь экран, мы никогда не говорим себе: «Это руки
великана, это огромные руки». Величина совсем не обозначает в данном
случае величину — она свидетельствует о значительности, важности этой
детали. Вообще, вступая в киномир, мы должны приучить себя к совершенно
особому отношению к размерам предметов. Глядя вокруг себя, мы не можем
сказать про дома размером в 10 сантиметров и в 5 метров: «Это один и тот
же дом», даже если в остальном их вид идентичен. Даже если мы будем
говорить не о реальных домах, а об их фотографиях, при различии в размере
перед нами будет одна фотография, в разной мере увеличенная. Но когда мы
310
СЕМИОТИКА КИНО И ПРОБЛЕМЫ КИНОЭСТЕТИКИ
смотрим фильм и проекция осуществляется на экраны различной величины,
мы не говорим, что тем самым создаются различные варианты каждого
кадра. Кадр остается самим собой, на какой бы величины экран его ни
проектировали. Это тем более примечательно, что на уровне
непосредственных ощущений разница, конечно, очень велика. Эйзенштейн в одной из своих
работ вспоминал, как во время заграничного турне авторы советских фильмов
были в 1920-е гг. буквально потрясены, увидав свои ленты на значительно
более крупных в ту пору зарубежных экранах. Дело здесь, конечно, еще и в
том, что зрителями были авторы, которые слишком хорошо помнили каждый
кадр и свое от него впечатление при просмотрах на относительно малых
экранах. Обычный же зритель быстро адаптируется к той системе размера
экрана, который ему предлагает данная демонстрация, и воспринимает не
абсолютную величину изображений, а лишь относительную — друг к другу
и к краям экранной поверхности. Такое восприятие величин предметов на
экране свидетельствует о выключенное™ экранного пространства из
окружающего его пространства реального мира.
Стремясь отождествить мир экрана со знакомым нам пространством
реального мира (ведь первый является для нас моделью второго и вне этого
предназначения утратил бы всякий смысл), мы истолковываем увеличение
или уменьшение размеров предмета на экране (смену плана) как увеличение
или уменьшение расстояния от предмета до наблюдателя, то есть до зрителя.
Это объяснение очень важно, и когда мы будем говорить о понятии плана
и художественной точки зрения в кино, мы на нем остановимся подробнее.
Однако сейчас для нас существенно другое: когда в реальной действительности
предмет резко надвигается на нас, верхний край его не отрезается концом
экрана. Увеличение предмета (приближение наблюдателя) не сопровождается
тем, что часть заменяет целое, как это случается в кино. Существенно и
другое: в жизни при приближении к предмету он увеличивается, но кругозор
наблюдателя, его поле зрения сужается, при удалении — обзор увеличивается.
В кинематографе — ив этом одна из основных особенностей его языка —
поле зрения представляет собой константную величину. Экранное
пространство не может уменьшиться или вырасти. Именно рост детали при
приближении к ней камеры в сочетании с неизменностью величины зримого
пространства (это приводит к тому, что части предмета оказываются
«отрезанными» краями кадра) составляет особенность крупных планов в кино. Это
раскрывает нам значение границ кадра как особой конструктивной категории
художественного пространства в кино.
Благодаря этой особенности смена величины изображения (плана) может
в кино быть выражением самых различных — непространственных значений.
Зритель, который не владеет языком кино и не ставит перед собой вопроса:
«Что значит изображение на экране только глаза, головы, руки?» — видит
куски человеческого тела и должен — как это и было с первыми зрителями
эпохи изобретения крупных планов — испытывать лишь отвращение и ужас.
Известный теоретик кино Бела Балаш вспоминал: «Один из моих старых
московских друзей рассказывал мне однажды о своей домработнице, которая
недавно приехала в город из какого-то сибирского колхоза. Это была умная
Глава вторая. Проблема кадра
311
молодая девушка, окончившая школу, но по разным причинам она никогда
не видела ни одного кинофильма. (Этот случай произошел очень давно.)
Хозяева отправили ее в кинотеатр, где показывали какую-то комедию.
Вернулась она бледная, с мрачным лицом.
— Ну, как тебе понравилось? — спросили ее.
Она все еще находилась под впечатлением увиденного и некоторое время
молчала.
— Ужасно, — сказала она наконец возмущено. — Не могу понять, как
это здесь, в Москве, разрешают показывать такие гадости.
— А что ты видела?
— Я видела людей, разорванных на куски. Где голова, где ноги, где
руки.
Известно, что в голливудском кинотеатре, когда Гриффит впервые показал
кадры, снятые крупным планом, и огромная „отрубленная" голова
заулыбалась публике, началась паника»1.
Таков результат восприятия пространства кино как натурального. И ведь
девушка, о которой пишет Бела Балаш, действительно видела отрезанные
головы, руки и ноги, видела их своими глазами. А поскольку изображение
на экране так похоже на сами предметы, то вполне логично было
предположить, что и здесь, как в жизни, зрительный образ вещи имеет значением
самоё вещь. Тогда крупный план руки на экране может быть обозначением
только отрезанной руки в жизни. Из этого вытекает существеннейший вывод:
при превращении безграничного пространства в кадр изображения становятся
знаками и могут обозначать не только то, зримыми отображениями чего они
являются. В дальнейшем мы остановимся на том, что могут обозначать
крупные или мелкие планы. Сейчас важно другое — их способность
становиться условными знаками, из простых отпечатков вещи превращаться в
слова киноязыка.
Условность киноизображения (а только это позволяет насыщать
изображение содержанием) определяется, однако, не только прямоугольной границей
экрана. Изображаемый мир трехмерен, а экран располагается в двух
измерениях. Двухмерность кадра создает еще одну его отграниченность.
Тройная отграниченность кадра (по периметру — краями экрана, по
объему — его плоскостью и по последовательности — предшествующим и
последующим кадрами) делает его выделенной структурной единицей. В
целостность фильма кадр входит, сохраняя самостоятельность носителя
отдельного значения. Именно эта выделенность кадра, поддерживаемая всей
структурой киноязыка, порождает встречное движение, стремление к
преодолению самостоятельности кадра, включению его в более сложные смысловые
единства или раздроблению на значимые элементы низших уровней.
1 Балаш Б. Становление и сущность нового искусства. М., 1968. С. 50—51. Ср.:
«Когда зрители увидели первый фильм с использованием крупного плана, они решили,
что стали жертвой издевательства. Появление на экране таких кадров сопровождалось
криками: „Покажите ноги!"» (Монтегю А. Мир фильма. С. 76).
312
СЕМИОТИКА КИНО И ПРОБЛЕМЫ КИНОЭСТЕТИКИ
Кадр преодолевает отдельность во временном движении благодаря
монтажу — последовательность двух кадров, как отмечали еще теоретики кино
1920-х гг., это не сумма двух кадров, а их слияние в сложном смысловом
единстве более высокого уровня.
Отграниченность художественного пространства рамкой также порождает
сложное художественное чувство целого, особенно в результате смены планов,
ставшей законом современного кино. Давно уже было замечено, что движение
на экране порождает иллюзию объемности (особенно движение по
перпендикулярной к плоскости экрана оси). Чешский теоретик искусства Я. Му-
каржовский еще в 1930-е гг. указал на аналогичную функцию звука. Звук,
смещенный относительно своего источника, порождает объемность. Мукар-
жовский предлагал показать на экране несущуюся на публику повозку, а в
звуке зафиксировать топот копыт лошади, которой на экране нет, для того
чтобы ясно почувствовать, что художественное пространство ушло с плоского
экрана, обрело третье измерение.
Так киноязык устанавливает понятие кадра и одновременно борется с
этим понятием, порождая новые возможности художественной
выразительности.
Глава третья
Элементы и уровни киноязыка
Великий швейцарский лингвист, основоположник структурной
лингвистики Фердинанд де Соссюр, определяя сущность языковых механизмов, сказал:
«В языке все сводится к различиям, но также все сводится к сочетаниям»1.
Обнаружение и описание механизма сходств и различий позволило
современной лингвистике не только глубоко проникнуть в сущность такого
сложного общественного явления, как язык, но и создать общую схему
коммуникации и общую теорию знаковых систем. Когда мы употребляем выражение:
«Кинематограф нам говорит» — и хотим проникнуть в сущность его
специфического языка, мы обнаруживаем своеобразную систему сходств и различий,
позволяющую видеть в киноязыке разновидность языка как общественного
явления.
Механизм различий и сочетаний определяет внутреннюю структуру языка
кино. Каждое изображение на экране является знаком, то есть имеет значение,
несет информацию. Однако значение это может иметь двоякий характер. С
одной стороны, образы на экране воспроизводят какие-то предметы реального
1 Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики. М., 1933. С. 125.
Глава третья. Элементы и уровни киноязыка
313
мира. Между этими предметами и образами на экране устанавливается
семантическое отношение. Предметы становятся значениями воспроизводимых
на экране образов. С другой стороны, образы на экране могут наполняться
некоторыми добавочными, порой совершенно неожиданными, значениями.
Освещение, монтаж, игра планами, изменение скорости и прочее могут
придавать предметам, воспроизводимым на экране, добавочные значения —
символические, метафорические, метонимические и т. д.
Если первые значения присутствуют в отдельно взятом кадре, то для
вторых необходима цепочка кадров, их последовательность. Только в ряду
сменяющих друг друга кадров раскрывается механизм различий и сочетаний,
благодаря которому выделяются некоторые вторичные знаковые единицы.
В киноязыке присутствуют две тенденции. Одна, основываясь на
повторяемости элементов, бытовом или художественном опыте зрителей, задает
некоторую систему ожиданий; другая, нарушая в определенных пунктах (но
не разрушая!) эту систему ожиданий, выделяет в тексте семантические узлы.
Следовательно, в основе кинозначений лежит сдвиг, деформация привычных
последовательностей, фактов или облика вещей. Однако только на первых
стадиях формирования киноязыка «значимый» и «деформированный»
оказываются синонимами. Когда зритель имеет уже определенный опыт получения
киноинформации, он сопоставляет видимое на экране не только (а иногда
не столько) с жизнью, но и со штампами уже известных ему фильмов. В
таком случае сдвиг, деформация, сюжетный трюк, монтажный контраст —
вообще насыщенность изображений сверхзначениями становится
привычной, ожидаемой и теряет информативность. В этих условиях возвращение к
«простому» изображению, «очищенному» от ассоциаций, утверждение, что
предмет не означает ничего, кроме самого себя, отказ от деформированных
съемок и резких монтажных приемов становится неожиданным, то есть
значимым. В зависимости от того, в каком направлении идет художественное
развитие эпохи, стремится ли кинематограф к максимальной кинематогра-
фичности или ориентируется на прорыв из мира искусства в сферу
непосредственной жизни, разные элементы киноязыка будут восприниматься как
значимые.
Прежде чем говорить о сложных функциональных использованиях тех
или иных элементов языка кино, остановимся на некоторых наиболее
типичных из них. Поскольку, как мы уже отмечали, значимый элемент — всегда
нарушение некоторого ожидания («механизм различий»), слева мы будем
давать нейтральную, ожидаемую, незначимую структуру, а справа —
значимое ее нарушение. При этом мы будем исходить из некоторого условного
зрителя, который ничего не знает о языке кино и ожидания которого
продиктованы его бытовым опытом (ему естественно ждать, чтобы отражения
предметов на экране вели себя так же, как эти знакомые ему предметы ведут
себя в знакомом ему мире) или сформированы опытом искусств,
пользовавшихся иконическими знаками до кинематографа: живописи, театра. Для
такого условного зрителя значимы будут только элементы, указанные в
правой колонке. Но для зрителя, сформированного всей историей кино, само
314
СЕМИОТИКА КИНО И ПРОБЛЕМЫ КИНОЭСТЕТИКИ
наличие бинарной оппозиции правой и левой колонок делает значимыми
обе.
Немаркированный
элемент
1. Естественная последовательность
событий. Кадры следуют в порядке
съемки.
2. Последовательные эпизоды
механически соседствуют.
3. Общий план (нейтральная степень
приближения).
4. Нейтральный ракурс (ось зрения
параллельна уровню земли и
перпендикулярна экрану).
5. Нейтральный темп движения.
6. Горизонт кадра параллелен
естественному горизонту.
7. Съемка неподвижной камерой.
8. Естественное движение кадров.
9. Недеформированная съемка кадра.
10. Некомбинированная съемка.
11. Звук синхронизирован
относительно изображения и не искажен.
12. Изображение нейтральное по
отчетливости.
Маркированный
элемент
События следуют друг за другом в
последовательности, предусмотренной
режиссером. Кадры переклеиваются.
Последовательные эпизоды монтируются
в смысловое целое.
Очень крупный план.
Крупный план.
Далекий план.
Выраженные ракурсы (различные виды
смещения оси зрения по вертикали и
горизонтали).
Убыстренный темп.
Замедленный темп.
Остановка.
Различные виды наклона.
Перевернутый кадр.
Панорамная съемка (вертикальная и
горизонтальная).
Обратное движение кадров.
Применение деформирующих объектов и
других способов сдвига пропорций.
Комбинированные съемки.
Звук сдвинут или трансформирован,
монтируется с изображением, а не
автоматически им определяется.
Размытое изображение.
13. Черно-белый кадр.
14. Позитивный кадр
Цветной кадр.
Негативный кадр и т. д.
Каждый из перечисленных выше уровней условен и фактически может
быть развернут в детализованное классификационное «дерево». Так,цветовые
возможности современного фильма подразумевают целую градацию в
пределах черно-белой ленты от резкой смены глубокой тени ярким светом до
многочисленных оттенков серого цвета разной глубины и мягкости (в этих
рамках цветовой язык кино напоминает аналогичные средства графики).
Выбор одной из этих возможностей может монтироваться с другими в
пределах фильма, соотносясь с содержанием отдельных мест, или
характеризовать ленту в целом, соотносясь с индивидуальным стилем автора. В любом
Глава третья. Элементы и уровни киноязыка
315
случае перед нами выбор из некоторого множества альтернативных
возможностей, образующих в сумме набор элементов данного уровня.
Черно-белому кадру могут противостоять двухцветные разной окраски
(может играть роль также интенсивность ее) и цветные, дающие внутри себя
различные и весьма богатые колористические возможности. Очевидно, что
различные комбинации этих возможностей, даже в пределах одного уровня,
дают режиссеру огромное количество выразительных средств.
Но список уровней киноязыка не может быть ограничен перечисленными
выше. Элементом киноязыка может быть любая единица текста
(зрительно-образная, графическая или звуковая), которая имеет альтернативу, хотя
бы в виде неупотребления ее самой, и, следовательно, появляется в тексте не
автоматически, а сопряэ/сена с некоторым значением. При этом необходимо,
чтобы как в употреблении ее, так и в отказе от ее употребления обнаруэюивался
некоторый уловимый порядок (ритм). Например, старая, истрепанная лента,
конечно, имеет не большее отношение к художественной структуре фильма,
чем порванный переплет и засаленные страницы к эстетической природе
«Дон-Кихота». Но стоит построить фильм как чередование старых, истертых
кусков ленты и новых (которые будут восприниматься как нейтральные, то
есть как «не-лента») и сделать это чередование повторяющимся в
определенном уловимом порядке, как плохая сохранность ленты из дефекта станет
элементом киноязыка. В одном фильме, снятом молодыми
кинематографистами, куски современной действительности перебиваются трагическими
детскими воспоминаниями военных лет. Авторы вмонтировали эти последние,
имитируя плохую ленту затертых, многократно прокручиваемых старых
фильмов. Конечно, не являются элементами киноязыка и номера частей, черные
кадры перед началом части или «хлопушки» с номером сцены и названием
фильма. Но в фильме «Все на продажу» они получают художественную
осмысленность и входят в язык фильма. То же можно сказать о чередовании
негативных и позитивных кадров. Хотя возможности такого выразительного
средства, видимо, весьма ограничены, а употребление его в некоторых
фильмах французской «новой волны» выглядит в достаточной мере искусственным,
теоретически оно любопытно как наглядное свидетельство возможности
расширения списка элементов киноязыка. Кроме того, нельзя отрицать, что в
моменты высшего и превосходящего пределы возможности напряжения
действия переход на негативный кадр может произвести на зрителя необходимое
впечатление удара. Такой эффект достигается, например, в фильме «В
прошлом году в Мариенбаде» (необходимая ритмическая инерция достигается
здесь еще и тем, что героиня появляется то в черном, то в белом платье
одинакового покроя, вырисовываясь в кадрах общего и дальнего плана то
как черное, то как белое пятно).
Самый факт существования элементов маркированного ряда (хотя бы
потенциально, в сознании зрителей) делает немаркированные элементы
художественно активными. И наоборот. Тяготение режиссера к «условному»
или «реальному» кинематографу определяет перенесение акцента на тот или
иной ряд. Но, вычеркивая один, мы подавляем художественную активность
другого.
316
СЕМИОТИКА КИНО И ПРОБЛЕМЫ КИНОЭСТЕТИКИ
В кинематографе создается своеобразная, в семиотическом отношении,
ситуация: система, к которой применимо классическое определение языка,
должна обладать замкнутым количеством повторяющихся знаков, которые
на каждом уровне могут быть представлены как пучки еще более
ограниченного числа дифференциальных признаков. Утверждение, что знаки
киноязыка и их смыслоразличительные признаки могут образовываться ad hoc,
противоречит этому правилу.
Одновременно понятие кинознака наталкивается еще на одну трудность:
если в некоторых фильмах (например, С. Эйзенштейна) лента отчетливо
членится на дискретные значимые единицы — знаки, то в других перед
нами — непрерывное изображение, членение которого на дискретные единицы
всегда производит впечатление искусственной операции. Но если нет
дискретных единиц, то нет и знаков. А может ли быть знаковая система без
знаков? Сам вопрос кажется парадоксальным. Ответ на него нам придется
дать не прямо, а прибегнуть к некоторому обходному рассуждению, в
результате которого, возможно, будет уточнена самая постановка вопроса.
Глава четвертая
Природа киноповествования
Кинематограф по своей природе — рассказ, повествование. Далеко не
случайно на заре кинематографии, в 1894 г., ее идея была сформулирована
в патенте Уильяма Пола и Г. Уэллса следующим образом: «Рассказывать
истории при помощи демонстрации движущихся картин»1. В основе всякого
повествования лежит акт коммуникации. Он подразумевает: 1. Передающего
информацию (адресанта); 2. Принимающего информацию (адресата); 3. Канал
связи между ними, в качестве которого могут выступать все структуры,
обеспечивающие коммуникацию, — от телефонного провода до естественного
языка, системы обычаев, норм искусства или суммы культурных памятников;
4. Сообщение (текст). Классическая схема коммуникационного акта была
дана Р. Якобсоном2.
КОНТЕКСТ
АДРЕСАНТ СООБЩЕНИЕ АДРЕСАТ
КОНТАКТ
КОД
1 Монтегю А. Мир фильма. С. 29.
2 Jakobson R. Linguistics and Poetics // Style in Language / Ed. by T. A. Sebeok.
Cambridge, Mass., 1964. P. 353.
Глава четвертая. Природа киноповествования
317
Рассмотрим две ее разновидности:
АДРЕСАНТ-*ПИСЬМО-> АДРЕСАТ;
АДРЕСАНТ->КАРТИНА-> АДРЕСАТ.
В определенном смысле оба случая равнозначны: оба они представляют собой
акт коммуникации, в обоих происходит передача информации, которая
кодируется отправителем некоторого текста и декодируется получателем. И
письмо, и картина представляют собой текст, сообщение. Оба — явления
знакового порядка, поскольку заключают в себе не вещи, а замены вещей.
Однако «письмо» как текст отчетливо членится на дискретные единицы —
знаки. При помощи специальных языковых механизмов знаки соединяются
в цепочки — синтагмы разных уровней. Текст строится как вневременная
структура на уровне языка и во временной протяженности — на уровне речи.
Картина (для простоты задачи берем ее не как факт искусства, а лишь как
нехудожественное иконическое сообщение, например рекламный рисунок) не
делится на дискретные единицы. Знаковость возникает здесь в результате
некоторых правил проекции объекта на плоскость. Если мы хотим увеличить
сообщение по объему информации, то в первом случае мы прибавляем новые
знаки и группы знаков, увеличивая величину текста. Во втором случае мы
можем дорисовать что-либо на той же поверхности — мы усложняем или
трансформируем текст, но не увеличиваем его количественно.
Хотя в обоих случаях перед нами явно семиотическая ситуация, отношение
между такими фундаментальными понятиями, как знак и текст, различно. В
первом случае знак есть нечто первичное, существующее до текста. Текст
складывается из знаков. Во втором случае первичен текст. Знак или
отождествляется с текстом, или выделяется в результате вторичной операции —
аналогии с языковым сообщением. Таким образом, в определенном
отношении, знаковая система без знаков (оперирующая величинами более высокого
порядка — текстами) представляет собой не парадокс, а реальность, один
из двух возможных типов семиозиса.
Однако если в нехудожественной коммуникации дискретные и
недискретные сообщения противопоставлены как две полярные тенденции передачи
сообщений, то в искусстве мы наблюдаем их сложное структурное
взаимодействие: так, в поэзии словесный текст, составленный из отдельных слов-знаков,
начинает вести себя как неразделимый иконический знак-текст, а
изобразительные искусства проявляют тенденцию к чуждой им повествовательное™.
Особенно ярко эта тенденция проявляется в кинематографе.
Если выше мы присоединились к определению сущности кинематографа
как рассказа с помощью картин, то сейчас следует внести уточнение: кино
по самой своей сути — синтез двух повествовательных тенденций —
изобразительной («движущаяся живопись») и словесной. Слово представляет собой
не факультативный, дополнительный признак киноповествования, а
обязательный его элемент (существование немых фильмов без титров или звуковых
фильмов без диалога — вроде «Голого острова» Канэто Синдо — только
подтверждает это, поскольку зритель постоянно ощущает здесь отсутствие
речевого текста; слово дано в них как «минус-прием»).
318
СЕМИОТИКА КИНО И ПРОБЛЕМЫ КИНОЭСТЕТИКИ
Синтез словесных и изобразительных знаков, как мы увидим, приводит
к параллельному развитию в кинематографе двух типов повествования.
Однако для нас сейчас интересно другое — взаимопроникновение в кино двух
принципиально отличных семиотических систем. Слова начинают вести себя
как изображения. Так, в титрах немого кино значимым стилевым признаком
становится шрифт. Увеличение размера букв воспринимается как иконический
знак увеличения силы голоса.
С появлением звука графический словесный текст не исчезает. Не говорим
уже о том, что и звуковые ленты почти никогда не обходятся без титров,
хотя бы в форме заглавий фильма и перечней действующих лиц. В настоящее
время устанавливается известная эквивалентность между титрами
(графическим словом) и дикторской, заэкранной речью или иными формами речи, не
связанной с говорением персонажей (например, внутренней речью). Например,
эпиграфы и вводные авторские тексты, которые и в звуковых фильмах
традиционно давались титрами, с некоторых пор стали чаще вводиться в
форме заэкранного дикторского слова. С другой стороны, можно назвать
случаи, когда внутренний монолог воспроизводится титрами, нанесенными
непосредственно на экран, как это делается при подтекстовке иностранных
лент. Так, в «Замужней женщине» Ж. Л. Годара — фильме, художественные
достоинства которого вызывали дискуссии, но изысканность семиотической
игры бесспорна, — в сложную ткань сплетения словесных и изобразительных
знаков входит и такой момент: героиня, сидя в кафе, слушает болтовню двух
случайных посетительниц (она снята через их столик). При этом беседа
девушек передается звуком, а мысли героини — титрами, нанесенными
непосредственно на кадр.
Но на примере этого же фильма можно проиллюстрировать другую,
гораздо более значимую тенденцию: в «Замужней женщине» широко
используются не только устные литературные цитаты, но и книги, журналы с
надписями, которые составляют как бы ключи к пониманию содержания.
Героиня держит в руках роман, — значимо не только то, что это книга
Эльзы Триоле (предполагается, что зритель знаком со всем кругом ассоциаций,
вызываемых этим произведением), но и издательство. Современная культура
словесна и включает многие вещи, предметы, как бы сделанные из слов:
книги, газеты, журналы. Изображение этих предметов — иконический знак,
и слово входит в него в изобразительной функции.
Яркий пример этому — «451° по Фаренгейту» Ф. Трюффо по
одноименному роману Рея Бредбери. Действие происходит в фантастическом
тоталитарном государстве, правители которого объявили войну книгам
(показательно, что борьба идет именно со словом, — картины дозволены, одна из
них даже висит в кабинете начальника «пожарной команды» — специализо-
ванных войск по сжиганию книг; дозволены и журналы-комиксы,
составленные из картинок, и телевидение, показывающее, как полицейские
насильственно стригут на улицах «длинноволосых» — протестующую молодежь в
обществе, лишенном мысли). В фильме все время жгут книги, книги — это
предметы, и на экране мы видим горящие предметы. Но на переплетах книг —
слова, и на экране горят слова, слова, слова. Целые костры пылающих слов.
Глава четвертая. Природа киноповествования
319
Название книги — слово — становится здесь одновременно и речевым и
изобразительным знаком. В фильме «Пепел и алмаз» А. Вайды само
название — цитата из стихотворения Норвида. Текст его присутствует
одновременно и как устное чтение (герой припоминает его — это одновременно и
цитата из Норвида и цитата из его юношеского, далекого, довоенного
прошлого) и как полустершиеся слова на камне, — снова предмет из мира
культуры, предмет «со словами».
Но и звуковая, неграфическая речь может пропитываться «иконизмом»,
в частности сближаясь по функции с музыкальным аккомпанементом к
зримому тексту. Так, в грузинском фильме «Мольба» текст Важа Пшавелы
(в русской версии — в переводах Н. Заболоцкого), декламируемый то хором
голосов, то одиночными чтецами, выступающими как «запевалы», создает
завораживающий словесный аккомпанемент. В «Цвете граната» С.
Параджанова (автору этих строк известен только первоначальный, армянский вариант
фильма) многократное повторение одних и тех же слов за кадром также
выполняет роль «слова в функции музыки».
Одновременно — ив гораздо большей мере — фотография (наиболее
полный пример иконизма) в кинематографе приобретает свойства слова. К
этому, в частности, сводилась значительная часть новаторских усилий
С. Эйзенштейна. Употребление изображения как поэтического тропа:
метафоры, метонимии (ставшие хрестоматийными кадры «богов» в «Октябре»),
параллелизма между ораторами и струнными инструментами (там же),
воспроизведение в зримых образах словесных каламбуров, игры слов — все это
типичные проявления того, что изображение в кино получает не свойственные
ему черты словесного знака. Монтажный кинематограф — и здесь снова
приходится сослаться на «Октябрь» как на классический пример — был
кинематографом с установкой на специфический киноязык. И это сознательное
строительство киноязыка производилось под прямым влиянием законов
человеческой речи и опыта поэтической речи футуристов, в особенности —
Маяковского. В знаменитом эпизоде, где Керенский поднимается по лестнице,
чисто словесная игра двойным значением выражения «подниматься по
лестнице» (прямой и переносный смысл) становится основой целой системы
метафорических образов. Можно было бы показать прямую соотнесенность
образности Эйзенштейна и метафоризма Маяковского (интересно, что у
Маяковского метафора, как это неоднократно отмечалось, строится на внесении в
словесную ткань принципа живописной, графической и киноизобразительности)1.
В разделах, посвященных монтажу, мы специально остановимся на связи
этого фундаментального для кинематографа принципа со словесными
приемами повествования.
Но как бы ни были, однако, значительны неизобразительные элементы
фильма (слово, музыка), они играют все же подчиненную роль. Здесь можно
привести параллель: живой устный рассказ, конечно, не представляет собой
словесного текста в чистом виде. В него включаются иконические знаки —
1 См.: Газер И. С. М. Эйзенштейн и В. В. Маяковский. Тарту, 1972.
320
СЕМИОТИКА КИНО И ПРОБЛЕМЫ КИНОЭСТЕТИКИ
мимика, жест, а для повышенно эмоциональной или детской речи (равно как
и при разговоре с собеседником, недостаточно владеющим данным языком) —
элементы театральной игры. Когда монолог разыгрывается, — перед нами
активное вторжение иконических знаков в речь. Нам приходилось с интересом
наблюдать, как один известный актер в домашней беседе сначала высказывал
мысль при помощи словесной фразы, а затем непроизвольно (ему казалось,
что он просто повторяет то же самое второй раз) разыгрывал ее в жестах.
Текст представлял типичную билингву, в которой одно и то же сообщение
давалось на словесном и изобразительном языках. Но если живая речь
синкретична по своей природе, то это не отменяет того, что в основе ее
лежит словесная структура, доминирующий характер которой проявляется
на более абстрактном уровне письменной речи.
В кинематографе, при всем живом синтетизме его элементов, господствует
изобразительный язык фотографии. «Снимая» с единого синтетического
целого фильма фотографический уровень, мы поступаем примерно так же, как
лингвист, который изучает письменную речь, подменяя ею речевую
деятельность вообще как объект изучения. На определенном этапе это не только
возможно, но и необходимо.
Глава пятая
Кинематографическое значение
Все, что в фильме принадлежит искусству, имеет значение, несет ту или
иную информацию. Сила воздействия кино — в разнообразии построенной,
сложно организованной и предельно сконцентрированной информации,
понимаемой в широком, винеровском смысле как совокупность разнообразных
интеллектуальных и эмоциональных структур, передаваемых зрителю и
оказывающих на него сложное воздействие — от заполнения ячеек его памяти
до перестройки структуры его личности. Именно изучение механизма этого
воздействия составляет сущность и задачу семиотического подхода к фильму.
Вне этой конечной цели наблюдения над теми или иными «художественными
приемами» представляются занятием в достаточной мере неплодотворным.
Итак, все, что мы замечаем во время демонстрации фильма, все, что нас
волнует, на нас действует, имеет значение. Научиться понимать эти значения
столь же необходимо, как для того, кто хочет понимать классический балет,
симфоническую музыку или любое другое — в достаточной мере сложное и
имеющее традицию — искусство, необходимо овладеть его системой значений.
Прежде всего, следует подчеркнуть, что не вся информация, которую мы
черпаем из фильма, представляет собой киноинформацию. Фильм связан с
Глава пятая. Кинематографическое значение
321
реальным миром и не может быть понят вне безошибочного узнавания
зрителем того, какие вещи в сфере действительности являются значением тех
или иных сочетаний пятен света на экране. В «Чапаеве» на экране мы видим
пулемет «максим». Для человека той эпохи или той цивилизации, которой
не известен такой предмет, кадр останется загадочным. Итак, кадр прежде
всего несет нам информацию об определенном предмете. Но это еще не есть
киноинформация: мы ее могли бы почерпнуть из нехудожественной
фотографии пулемета или рядом других способов. Далее, пулемет — не только
вещь, он вещь определенной эпохи и поэтому может выступать как знак
эпохи. Достаточно нам показать этот кадр, чтобы мы сказали: он не из
фильма «Спартак» или «Овод». Лента несет и такую информацию. Однако,
взятая сама по себе, изолированно, вне определенных смысловых сцеплений,
порождаемых данным кинотекстом, она тоже не несет еще кинозначения.
Продолжим рассуждение, рассмотрев кадр с тачанкой из того же фильма.
Тачанка на экране — знак реального предмета. Она же знак очень конкретной
исторической ситуации — гражданской войны в России 1917—1920 гг. Но,
хотя мы знаем, что тачанка — соединение любого конного экипажа с
пулеметом, появление ее на экране дает нам нечто новое. Мы видим пролетку —
типично «мирный» экипаж — и стоящий на ней пулемет. Вещь,
воспринимаемая как знак войны, и вещь, являющаяся для поколений, ездивших в
пролетках и видевших их на мирных улицах Петербурга и Москвы, знаком
совсем иных представлений, соединяются в едином и внутренне
противоречивом зримом образе, который становится кинознаком особой войны —
войны с перемешанными фронтом и тылом, с полуграмотными
унтер-офицерами, командующими дивизиями и бьющими генералов. Именно монтаж
двух внутренне конфликтующих зримых образов, которые вместе становятся
иконическим знаком некоторого третьего понятия, совсем на него не
распадающегося, автоматически делает этот образ носителем киноинформации.
Кинозначение — значение, выраженное средствами киноязыка и невозможное
вне его. Кинозначение возникает за счет своеобразного, только кинематографу
присущего сцепления семиотических элементов.
Кинофильм принадлежит идеологической борьбе, культуре, искусству своей
эпохи. Этими сторонами он связан с многочисленными вне текста фильма
лежащими сторонами жизни, и это порождает целый шлейф значений, которые
и для историка, и для современника порой оказываются более существенными,
чем собственно эстетические проблемы. Но для того чтобы включиться во
все эти внетекстовые связи и выполнить свою общественную функцию, фильм
должен быть явлением киноискусства, то есть разговаривать со зрителем на
киноязыке и нести ему информацию средствами кинематографа.
В основе киноязыка лежит наше зрительное восприятие мира1. Однако в
самом нашем зрении (вернее, в том знаково-культурном освоении мира,
1 С этим связана необходимость (для понимания возможностей кинематографа)
хотя бы элементарных знаний из области оптики и физиологии зрения. Для начального
знакомства можно посоветовать книгу Е. М. Голодовского «Глаз и кино» (М., 1962).
322
СЕМИОТИКА КИНО И ПРОБЛЕМЫ КИНОЭСТЕТИКИ
которое основывается на зрении) заложено различие между моделированием
мира средствами неподвижных изобразительных искусств и кинематографа.
При превращении вещи в зрительный образ, который, будучи закреплен
средствами какого-либо материала (материала живописи, графики, кино),
становится знаком, наше дальнейшее восприятие этого знака подразумевает:
1. Сопоставление зримого образа-икона и соответствующего явления или
вещи в жизни. Вне этого невозможна практическая ориентация с помощью
зрения.
2. Сопоставление зримого образа-икона с каким-либо другим таким же
образом. На этом построены все неподвижные изобразительные искусства.
Как только мы сделали рисунок (или же чертеж, фотографию и пр.), мы
сопоставили объекту некоторое расположение линий, штрихов, цветовых
пятен или неподвижных объемов. Другой объект также представлен линиями,
штрихами и пр., но в ином расположении. Таким образом, то, что в жизни
представляет взгляду просто другую вещь, отдельную сущность, при
превращении в рисунок становится другой комбинацией тех же выразительных
элементов. Это позволяет познавать (систематизировать, соотносить) разные
сущности, выделяя в их изображениях элементы сходства и различия. Каждое
изображение предстает не целостной нерасторжимой сущностью, а некоторым
набором структурно построенных дифференциальных признаков, легко
поддающихся сопоставлению и противопоставлению1.
3. Сопоставление зримого образа-икона с ним самим в другую единицу
времени. В этом случае образ также воспринимается как набор
различительных признаков, но для сопоставления и противопоставления вариантов
берутся не образы разных объектов, а изменение одного. Такой тип смысло-
различения составляет основу киносемантики.
Разумеется, все три типа различения видимого объективно присущи
человеческому зрению.
Глава шестая
Лексика кино
Весь механизм сопоставлений и различий, связывающий кинообразы в
повествование, может быть охарактеризован как принадлежащий грамматике
1 Соотнесение законов художественного видения мира и живописи давно занимает
искусствоведов. Из многочисленных работ на эту тему хотелось бы выделить труды
П. А. Флоренского (библиографию их см. в кн.: Труды по знаковым системам. Тарту,
1972. Т. 5), а также книгу: Strzeminski W. Teoria Widzenia. Krakow, 1969.
Глава шестая. Лексика кино
323
кинематографа. Вместе с тем у кино есть и лексика — фотографии людей и
предметов становятся знаками этих людей и предметов и выполняют функцию
лексических единиц.
Однако между лексикой, построенной на словах естественного языка, и
лексикой иконического языка — ряд различий. Одно из наиболее
существенных для нас сводится к следующему: слово естественного языка может
означать и предмет, и группу предметов, и класс предметов любой степени
абстракции, оно может принадлежать и языку, описывающему реальные
объекты, и языку, описывающему описания, — метаязыку любого уровня.
И «птица», и «ворона» — слова. Иконический знак обладает исконной
конкретностью, видеть абстракцию нельзя. Поэтому выработка абстрактного
языка (например, языка древнегреческой скульптуры) была для живописи
или ваяния всегда и трудной задачей, и большим достижением.
Фотография в этом отношении стоит в особом, пожалуй, наиболее трудном
положении: художник создает более высокую степень абстракции тем, что
воспроизводит не все стороны объекта. Живопись классицизма разрабатывала
специальные критерии того, что не следует изображать. Плакат, карикатура
исключают большую часть признаков изображаемого объекта. Объектив
фиксирует все. Создание языка второй ступени, языка абстракции на основе
фотознаков возможно лишь как конфликт с их наиболее глубинной
сущностью. Но именно поэтому образование более абстрактных знаков в кино
может стать источником высокого художественного напряжения.
Отрыв кинознака от его непосредственно-вещественного значения и
превращение его в знак более общего содержания прежде всего достигается
резко выраженной модальностью кадра. Так, например, данные крупным
планом предметы воспринимаются в кино как метафоры (в естественном
языке они выступили бы как метонимия). Такую же роль играют искажающие
съемки, например резкое увеличение вытянутой к экрану руки. Советский
кинематограф 1920-х гг. открыл способность монтажных кадров превращать
образы предметов в язык абстрактных понятий. «Октябрь» Эйзенштейна в
этом отношении дал целую серию экспериментов.
Однако если ракурсы, смещения, искаженная фотография поражают нас
неожиданностью именно потому, что это фотография, то для
изобразительного искусства как такового, например графики, они представляют обычные
и даже традиционные средства. Но у кинематографа есть — именно потому,
что он рассказ, — средство, обычное в словесном тексте и уникальное в
мире изобразительной живописи. Это повторение. Повторение одного и того
же предмета на экране создает некоторый ритмический рад, и знак предмета
начинает отделяться от своего видимого обозначаемого. Если естественная
форма предмета имеет направленность или отмечена по признакам
«замкнутость/открытость», «свет/темнота», то повторяемость приглушает
вещественные значения и подчеркивает отвлеченные — логические или ассоциативные.
Таковы лестницы и коридоры в «В прошлом году в Мариенбаде»,
коридоры и комнаты в «Процессе» О. Уэллса, противопоставление комнат и
самолетов в «Нежной коже» Трюффо или хрестоматийный пример лестницы
в одесском порту и пушек в «Броненосце „Потемкине"». Повторяющиеся
324
СЕМИОТИКА КИНО И ПРОБЛЕМЫ КИНОЭСТЕТИКИ
вещи в кино приобретают «выражение лица», которое может делаться более
значимым, чем сама вещь.
Однако центральное место в мире «слов» кинематографа занимают образы
человека. Образ человека входит в искусство кино как целый мир сложных
культурных знаков. На одном полюсе здесь находится свойственный
различным культурам символизм человеческого тела (символизм глаз, лица, рта,
рук и пр.), на другом — проблема игры актера как средства общения со
зрителем и определенной знаковой коммуникации.
Семиотика жеста, мимики составляет, однако, особую проблему, которая
соприкасается с нашей темой, но должна рассматриваться отдельно.
Особое значение для превращения фотографических образов предметов
в кинознаки имеет возможность широко изменять в ходе киноповествования
«точку зрения» зрителя1. В искусстве нового времени точка зрения текста
подвижна в словесных (особенно романных) произведениях и относительно
стабильна в живописи и театре. В кино (и в этом проявляется его природа
как повествовательного жанра) точка зрения как принцип построения текста
однотипна не живописи, театру или фотографии, а роману. При этом если
словесный диалог в кино параллелен диалогу же в романе или драме и в
этом смысле менее специфичен, то адекватом авторского повествования в
романе в кинематографе будет образуемый цепью кадров
кинематографический рассказ.
Глава седьмая
Монтаж
Монтаж — одно из наиболее хорошо изученных и, одновременно,
вызывающих острые полемические столкновения средств кинематографа.
С. Эйзенштейн, один из основоположников и пропагандистов теории и
практики монтажного кино, утверждал: «Кинематография — это прежде всего
монтаж»2. Стремясь проследить монтаж на всем протяжении истории
кинематографа, С. Эйзенштейн наметил и концепцию трех исторических этапов
эволюции монтажа:
«Для одноточечного кино — это оказывается пластической композицией.
Для многоточечного кино — это оказывается монтажной композицией.
Для тонфильма — это оказывается музыкальной композицией.
1 О проблеме «точки зрения» см.: Успенский Б. А. Поэтика композиции. М., 1970.
2 Эйзенштейн С. Избр. произведения. Т. 2. С. 283.
Глава седьмая. Монтаж
325
Это положение одновременно раскрывает по-новому осмысление вопроса
монтажа. „Истоки" монтажа лежат в пластической композиции. „Будущее"
монтажа лежит в музык<альной> композиции. Закономерности через все три
этапа едины <...>
„Роль" монтажа в пластическом построении играет сочетание
композиционного обобщения по изображению с самим изображением, осмысленное
„соразмещение" в композиции и обобщенный „контур" изображения.
Монтаж играет роль обобщения во втором этапе <...>
„Роль" монтажа в тонфильме лежит в основном во внутренней
синхронизации изображения и звука»1.
Однако «монтажное кино» имело и имеет и многочисленных противников.
Из значительного числа теоретиков, не признающих в нем универсальной
формулы киноязыка, сошлемся хотя бы на Анри Базена, считавшего, что
уже на стадии немого кинематографа имели место две противоположные
тенденции: «Одна из них представлена режиссерами, которые верят в
образность, другая — теми, кто верит в реальность»2. Смысл этого разделения —
в противопоставлении кинематографа, в котором режиссер обладает «целым
арсеналом средств, чтобы навязывать зрителю свою интерпретацию
изображаемого события», кинематографа, в котором «смысл не заключен в кадре,
а возникает в сознании зрителя как результат монтажной проекции», то есть
кинематографа-интерпретации, — другому типу, который стремится
фиксировать, а не конструировать, в котором фотографируемый объект превалирует
над истолкованием, а актер — над режиссером. В этом втором типе
кинематографа монтаж не играет заметной роли, и Базен перечисляет мастеров
немого кино, не уделявших ему большого места в своей поэтике.
Именно эта вторая тенденция, по мнению А. Базена, исторически
возобладала в звуковом кино и определяет во второй половине XX в. пути этого
искусства.
Прежде всего, попытаемся осмыслить понятие монтажа. Явление монтажа
в том значении, которое придается этому термину в советской теоретической
литературе (кроме названных выше работ, здесь уместно будет напомнить о
статьях Б. Эйхенбаума «Проблемы киностилистики» и Ю. Тынянова «Об
основах кино» в сб. «Поэтика кино», М.; Л., 1927), составляет лишь частный
случай одной из наиболее всеобщих закономерностей образования
художественных значений — соположения (противопоставления и интеграции)
разнородных элементов. Художественный ряд — последовательность
структурных элементов в искусстве — строится иначе, чем нехудожественные
структурные ряды.
Типовая последовательность нехудожественных структурных элементов
строится следующим образом. Любая коммуникативная система может изу-
1 Там же. С. 331—332.
2 Воззрения Базена изложены в широко известной четырехтомной работе: Bazin А.
Qu'est-ce que le cinéma? Vol. I—IV. Русский перевод статьи «Эволюция киноязыка»,
опубликованной в т. 1 (1958), напечатан в сб. «Сюжет в кино» (М., 1965. Вып. 5),
по которому мы цитируем его (см. с. 312).
326
СЕМИОТИКА КИНО И ПРОБЛЕМЫ КИНОЭСТЕТИКИ
чаться в двух аспектах: с точки зрения инвариантной структуры и как
реализация структурных принципов этой системы с помощью некоторых
материальных средств. Так, Ф. де Соссюр сначала предложил различать в
естественных языках начала «языка» (системы структурных отношений) и
«речи» (выражения этих отношений средствами языковой материи), а затем
положил это же разделение в основу заложенной им семиологии — всеобщей
теории знаковых систем. С этой точки зрения, как только та или иная
последовательность элементов осознается нами как «правильная», то есть
как только ей на уровне «языка» может быть сопоставлена некоторая
структурная закономерность, она теряет неожиданность и может быть заранее
предсказана. Поскольку по мере удлинения текста на него накладывается все
больше структурных ограничений, количество возможностей для выбора
следующего элемента будет неуклонно сужаться. Следовательно, в любом
правильно построенном тексте информационная нагрузка от начала к концу
будет падать, а избыточность (возможность предсказания вероятности
появления следующего элемента в линейном ряду сообщения) — расти.
Необходимо подчеркнуть и другое. Нехудожественная коммуникация подразумевает,
что слушатель получает новое сообщение, но код, общий с отправителем,
дан ему заранее. Если я читаю книгу на эстонском языке, то предполагается,
что я могу почерпнуть из нее много различных сведений, но эстонский язык
мне уже известен заранее (речь идет не об учебном чтении с целью усвоения
языка, а о нормальной коммуникации). Говорящий и слушающий на родном
языке владеют им в равной мере и настолько хорошо, что при обычном
говорении перестают его замечать. Язык делается заметен, когда говорящий
употребляет его необычно, индивидуально: ярко, образно, художественно —
или плохо, грамматически неправильно, заикаясь или не выговаривая
некоторых звуков. Нормальный же язык в силу своей правильности в обычной
речи незаметен. Слушатель обращает внимание на то, что ему говорят, а не
на то, как это делают, и извлекает информацию из сообщения, — о языке
он уже все знает и новой информации о его структуре не ждет и не получает.
Художественная последовательность строится иначе.
Высокая информационная насыщенность художественного текста
достигается тем, что, благодаря сложным и не вполне понятным его внутренним
механизмам, структурная закономерность не понижает в нем
информационности1. Художественная структура подавляет избыточность2. Кроме того,
участник акта художественной коммуникации получает информацию не
только из сообщения, но и из языка, на котором с ним беседует искусство. Он
похож на человека, который одновременно изучает и язык, на котором
написана книга, и содержание этой книги. Поэтому в акте художественной
коммуникации язык никогда не бывает незаметной, автоматизированной,
заранее предсказуемой системой.
1 См.: Fonagy I. Informationsgehalt von Wort und Laut in der Dichtung // Poetics.
Poetyka. Поэтика. Warszava, 1961.
2 Об этом см. в кандидатской диссертации Б. А. Зарецкого «Семантика и структура
словесного художественного образа», 1965.
Глава седьмая. Монтаж
327
Следовательно, при художественном общении и язык эстетического
контакта, и текст на этом языке на всем своем протяжении должны сохранять
неожиданность. Но здесь возникает другая трудность: неожиданный — значит
незакономерный (то, что закономерно, не может быть неожиданно; нельзя
сказать, что после пятого марта неожиданно наступило шестое или после
зимы неожиданно наступила весна, — эти последовательности автоматичны,
и сообщение о них никакой информации не несет), а незакономерное,
несистемное не может быть передано — оно остается вне пределов знакового
обмена. Таким образом, художественная коммуникация, по исходной
предпосылке, создает противоречивую ситуацию. Текст должен быть
закономерным и незакономерным, предсказуемым и непредсказуемым одновременно.
Эмпирически это странное положение известно всем. Все знают, что поэзия
оперирует речью, подчиняющейся всем правилам грамматики данного языка,
к которым добавлены еще некоторые дополнительные правила: рифмы,
размер, стилистика и пр. Следовательно, поэтический текст более ограничен и
менее свободен, чем непоэтический. Следовательно, он должен нести меньше
информации. Следовательно, для приблизительно эквивалентной информации
нехудожественного типа нужно меньше слов, чем для поэзии1. Однако реально
дело обстоит как раз наоборот: информативность художественного текста
выше и он всегда меньше по объему эквивалентного ему нехудожественного
текста. Этот парадокс имеет фундаментальное значение, ибо именно на нем
основывается то, что поэты называют «чудом искусства», а мы могли бы
назвать его культурной необходимостью.
Из этого исходного противоречия художественный текст выходит двумя
путями. Первый связан с тем, что один и тот же текст соотносится с двумя
структурными нормами. То, что в тексте с позиции одних нормативов
случайно, оказывается закономерно — с других. Противонаправленная
избыточность двух различных систем, взаимно накладываясь, гасится, и текст
сохраняет информативность на всем своем протяжении. Такой текст можно
для наглядности уподобить некоторому сообщению, которое дешифруется на
нескольких языках. Так, например, к одной из глав «Евгения Онегина»
Пушкин поставил эпиграф из Горация «О rus!..» (что означает «О деревня!..»)
и сопоставил ему каламбурное прочтение «О Русь!». Другой путь —
соположение разнородных единиц, единиц различных систем. Это можно
сопоставить с «макароническим» текстом, в котором на равных правах
употребляются слова разных языков. В искусстве этот путь крайне распространен.
Как только мы, овладев некоторой структурной закономерностью текста,
настраиваемся на определенное ожидание и, казалось бы, можем предсказать
следующий элемент, автор меняет тип закономерности (переходит на другой
«язык») и ставит нас в необходимость заново конструировать структурные
принципы организации текста.
1 Ср. известное положение теории информации: чем ограниченнее алфавит системы
и чем больше помех (шума) в канале связи, тем пространнее должен быть текст,
передающий некоторую константную величину информации.
328
СЕМИОТИКА КИНО И ПРОБЛЕМЫ КИНОЭСТЕТИКИ
Столкновение элементов разных систем (они должны быть и
противоположны, и сопоставимы, то есть на каком-то более абстрактном уровне —
едины) — обычное средство образования художественных значений. На нем
строятся семантические эффекты типа метафоры, стилистические и иные
художественные смыслы.
Для того чтобы прояснить для читателя принцип соположения
разнородных элементов, их конфликта и высшего единства, в результате чего каждый
из элементов в контексте целого оказывается и неожиданным и закономерным,
приведем пример из блестящей статьи чешского ученого Я. Мукаржовского,
написанной около сорока лет тому назад.
Анализируя фильмы Чарли Чаплина, Мукаржовский указал, что в основе
их лежит устойчивый, известный зрителю заранее и ожидаемый им тип-маска
«Чарли». Константный грим и костюм, константные приемы актерской игры,
типовые сюжетные ситуации и отнесенность к некоторому единому
человеческому типу в действительности позволяют говорить о единстве этого образа,
который может рассматриваться в качестве целостной художественной
структуры.
Однако Мукаржовский обратил внимание на то, что единство образа не
отменяет, а подразумевает его двойственность. Уже костюм Чарли двоится:
верх его составляют элегантный котелок, манишка и бабочка, а низ —
спадающие брюки и чудовищные, не по росту, ботинки (распределение верха и
низа, конечно, не случайно). Сочетание в костюме крайней элегантности
(напомним, что маска Макса Линдера была построена на последовательной
«монолитной» элегантности светского льва; Чаплин начинал творить, когда
комический стереотип Линдера был привычен публике и входил в ее ожидание)
и предельной оборванности, опущенности продолжалось и в жестах и мимике
Чарли. Элегантные, безупречно светские движения, которыми Чарли
приподнимает котелок или поправляет бабочку, сочетаются с жестами и мимикой
бродяги. Чарли — как бы два человека. И этим достигается неожиданный
эффект. Казалось бы, перед нами устойчивая маска, стереотипные ситуации,
условные жесты. Следовательно, такой текст легче предугадать, чем сырую,
«несыгранную» серию последовательных фотографий нехудожественной
реальности? Оказывается, нет. Различные закономерности, перекрещиваясь,
создают необходимую неожиданность. Именно в наименее подходящих
ситуациях Чарли ведет себя как безупречный джентльмен. Черты светского человека
проявляются в нем, лишь только на экране создается контекст, в котором
естественным выступает поведение бродяги, жулика, вора. Но как только
контекст требует норм элегантного поведения, Чарли оказывается маленьким
бродягой в чужом костюме.
Так, сюжет классической «Золотой лихорадки» складывается из двух
половин. В одной действует Чарли — маленький бродяга, в другой —
Чарли — внезапно разбогатевший миллионер. Чарли-бродяга наделен
безупречными манерами светского человека. Вершиной является сцена, когда
искатели золота, голодающие зимой в горах, варят сапог. Разделывая эту
чудовищную пищу с помощью ножа и вилки, обсасывая гвоздики, как
косточки, съедая шнурки, как спагетти, Чарли демонстрирует безупречность
Глава седьмая. Монтаж
329
манер. Однако стоит ему сделаться миллионером, как перед нами оказывается
человек в роскошной шубе или смокинге, который чешется, набивает рот и
чавкает, как бродяга.
Смысл такой игры в том, что герой в обоих случаях предстает перед
нами как переодетый. В одном — это светский человек, переодетый бродягой,
в другом — бродяга, переодетый человеком высшего общества. Каждая из
сущностей переодетого диктует свои нормы поведения и свой тип ожидания
со стороны зрителей. Соотношение «герой — костюм» порождает комические
ситуации, но может быть источником и иных значений. В конце «Золотой
лихорадки» Чарли-миллионер встречает на пароходе девушку, которая
отвергла его любовь в поселке золотоискателей, а теперь путешествует в третьем
классе среди бедняков-переселенцев. Она не узнает своего бывшего
поклонника в блестящем пассажире. Но вот Чарли переодевается в старые лохмотья,
и героиня узнает его. Теперь переодевание — факт сюжета, и поэтому оно
исчезает из игры: Чарли в костюме бродяги ведет себя как бродяга, он
обретает целостность поведения. Он — маленький загнанный человек с
наивными и нелепыми жестами, таким же его воспринимает и героиня и таким
она его любит. Однако зритель помнит, что герой переодет.
Если комизм нелепости может строиться как соединение несоединимого,
как механическое слепливание разного, то целостный, тем более трагический
образ подразумевает, что разные и антагонистические, с одной точки зрения,
элементы оказываются едиными с другой — неожиданной, нахождение
которой и составляет сущность художественного открытия. Мукаржовский
подчеркивает способ, которым Чаплин предостерегает зрителя от утраты
ощущения единства образа. В «Огнях большого города» он ставит рядом с героем
два персонажа, которые как бы снимают с единого, живого Чарли его
противоположные лики: продавщица цветов — слепая, миллионер — пьян.
Оба они воспринимают Чарли в разных его проекциях. Продавщица считает
его сказочным принцем, «видит» лишь «элегантного» Чарли и не узнает,
обретая зрение, своего героя в реальном чаплиновском персонаже. Пьяный,
пресыщенный миллионер ищет дружбы «простого человека», бродяги, но,
протрезвев, не узнает Чарли, как и продавщица — прозрев. Чарли,
окруженный трагическим непониманием, которого и любовь, и дружба воспринимают
лишь «частями», должен быть воспринят зрителем как нечто живое, целостное,
единое.
Так создается поведение, которое одновременно представляет смесь двух
противоположных типов поведения и единое, органичное — жизнь и судьбу
одного человека. Этим достигается решение того парадокса высокой
информативности искусства, о котором мы говорили выше.
Сделанные наблюдения касаются не только комического — они имеют
непосредственное отношение к глубинным законам искусства. Например,
герой романа Скотта Фицджеральда «Ночь нежна», объясняя киноактрисе
Розмэри, что такое игра актера, говорит: «Необходимо сделать что-то, чего
зрители не ожидают. Если им известно, что ваша героиня сильна, вы в эту
минуту показываете ее слабой; если она слаба, вы ее показываете сильной.
Вы должны выйти из образа — понятно вам?
330
СЕМИОТИКА КИНО И ПРОБЛЕМЫ КИНОЭСТЕТИКИ
— Не вполне, — призналась Розмэри. — Как это — выйти из образа?
— Вы делаете то, чего публика не ожидала, пока вам не удастся снова
приковать ее внимание к себе и только к себе. А дальше вы опять действуете
в образе»1. Здесь очень точно указано на ту игру ожиданием аудитории, то
постоянное колебание между оживлением ожидания и его разрушением,
которое составляет одну из основ неослабевающей информационности текста.
Примером подобной игры с выпадением из роли и вхождением в нее,
как правило, является исполнительство Марчелло Мастроянни. Так, в фильме
«8 */2» главный герой все время сопровождается различными проекциями его
личности — появлением сцен детства, отражением его сущности в различных
женщинах, снами, творчеством. Каждое из этих отражений не идентично
другим (вернее, противоположно) и, одновременно, с ними отождествлено.
Предельно четко эта особенность проявилась в смелом режиссерском
решении Ю. П. Любимова (Театр на Таганке в Москве) образа Маяковского
в пьесе, посвященной поэту. Режиссер имел дело с персонажем, само имя
которого задает зрителю определенные жесткие стереотипы ожидания,
частично продиктованного создававшимися самим Маяковским нормами
восприятия его поэтической личности, частично же определенного посмертной
судьбой его наследия. Просто проиллюстрировать эти ожидаемые нормы
было бы столь же художественно неубедительно, как и просто отбросить их.
Режиссер пошел на эксперимент: он вывел на сцену пять Маяковских (ни
один из них портретно не похож на поэта; самый «лирический» — бородат
и заикается от смущения). Присутствуя на сцене одновременно, эти пять
Маяковских ведут себя по-разному в одних местах действия и сомкнутым
фронтом — в других. Умирают они не одновременно. Но именно потому,
что мы все время знаем, что эти пять — один человек, их постепенный,
свободный от внешних эффектов уход потрясает зрителей.
Бертоне в «Генерале Делла Ровере» (исполнитель роли — В. Де Сика,
режиссер — Р. Росселлини) — подонок. Он — человек, казалось бы
дошедший до крайней степени падения: сутенер, спекулянт и игрок, он делается
коллаборантом, сотрудничает с мелкими чиновниками из гестапо, вымогая
деньги у их жертв. Но и на этой ступени падения в нем есть нечто,
препятствующее зрителю с негодованием отвернуться от экрана. Герой обаятелен
(мы чувствуем это с удивлением и вначале даже с внутренним протестом).
Он талантлив, артистичен, у него благородная внешность (не лишенная,
впрочем, того подчеркнутого благородства, которое свойственно шулерам).
Для искусства XIX в. сочувствие герою, дошедшему до столь омерзительных
форм нравственного падения, могло быть обусловлено лишь одним —
ссылкой на то, что ответственность за поведение индивида падает не на него, а
на социальные условия. Намек на такое решение имеется и в фильме: не
случайно наиболее решительно осуждает Бертоне молодая синьора Фассио —
благородная патриотка, чей муж становится жертвой гестапо, и
одновременно — аристократка, никогда не знавшая забот о хлебе насущном, для которой
1 Фицджералъд С. Ф. Ночь нежна. М., 1971. С. 352—353.
Глава седьмая. Монтаж
331
чашка «настоящего кофе», которую с такой гордостью предлагает ей Берто-
не, — отвратительная бурда. При всей кощунственное™ самого
сопоставления ее с Бертоне, — зрителю очевидно, что ее благородство никогда не
подвергалось тем унизительным испытаниям, которые для него — основа
каждодневного существования.
И все же то, что авторы фильма не хотят таким образом оправдать своего
героя, видно хотя бы из того, что именно такое объяснение он сам услужливо
предлагает зрителю. Когда шеф гестапо полковник Мюллер предлагает
попавшему в безвыходное положение Бертоне разыграть роль героя
Сопротивления генерала Делла Ровере и знакомит его с послужным списком последнего,
у Бертоне вырывается завистливое восклицание: «Еще бы ему не сделать
быструю карьеру! Женился на дочке пьемонтского генерала; его тетка, маркиза
ди Баррино, умерла в двадцать восьмом году, сделав его своим единственным
наследником; он подозревается в причастности к масонам; дядя его —
кардинал... Нет, мне просто смешно... а я пробивался сам, дорогой полковник.
Я всем обязан только себе».
Вложив это объяснение в уста такого героя, авторы фильма явно
отвергают подобный упрощенный ход, хотя как некоторая возможность объяснения
он остается где-то на заднем плане.
Установив и неприглядность настоящего облика героя, и его
ответственность за собственное падение, авторы фильма вводят один — казалось бы,
незначительный в общем развитии действия — эпизод: Бертоне скрывается
под ложным именем инженера Гримальди (или полковника Гримальди).
Вместе с этим именем он, сам того не зная, присвоил себе важные преступления
против немецких оккупационных властей — Гримальди разыскивается за
помощь партизанам. В глубине души симпатизирующий герою полковник
Мюллер не без иронии спрашивает его: кем он предпочитает предстать перед
судом — Бертоне или Гримальди? Герой не испытывает на этот счет никаких
колебаний: как мелкий жулик Бертоне он рискует лишь тюремным
заключением, а приближающееся окончание войны сулит амнистию, в роли же
Гримальди ему гарантирован расстрел. Герой — мелкий жулик и
предпочитает им оставаться. И хотя это решение вполне естественно, оно даже
разочаровывает шефа гестапо — он окончательно убеждается, что этому не
лишенному обаяния ничтожеству чужды любые возвышенные порывы.
Так определен характер героя, которому все тот же Мюллер предлагает
для спасения себя оказать услугу гестапо — разыграть роль якобы
захваченного в плен (на самом деле — убитого) героя Сопротивления генерала Делла
Ровере, войти в сношение с подпольщиками и выдать их немцам. Бертоне
оказывается в тюрьме в роли аристократа, профессионального военного,
патриота и героя, которому даже враги вынуждены выказывать уважение.
Перед ними подонок, играющий роль героя. Если бы этим дело и
ограничилось, то оправдались бы представления в остальном полярно
противоположных Мюллера и юной Фассио, которые убеждены, что понимают людей
и имеют право их судить, а для зрителей вся вторая половина фильма стала
бы излишней. Однако события развертываются вопреки всем столь тщательно
установленным инерциям ожидания. Дальнейшая судьба Бертоне — борьба
332
СЕМИОТИКА КИНО И ПРОБЛЕМЫ КИНОЭСТЕТИКИ
между его сущностью мелкого жулика (но и артиста, в какой-то мере —
ребенка, сохранившего в душе искры наивности и таланта) и принятой им
на себя ролью. Пройдя все круги ада, бомбежки, ожидание смерти, находясь
под облагораживающим воздействием принятой им на себя роли, он
превращает маску в сущность, становится генералом Делла Ровере. Эта удивительная
трансформация происходит на глазах у ошеломленного зрителя и совершается
с бесспорной убедительностью. Герой добровольно идет на смерть, умирает,
не выдав уже открывшихся ему подпольщиков, пишет предсмертную записку
чужой жене и чужому сыну и — присвоив себе даже аристократические
предрассудки своего alter ego — под дулами эсэсовских автоматов
благословляет Италию и короля.
Не будем сейчас останавливаться на глубоко гуманной и сложной
художественной идее фильма. Нас сейчас интересует более частный аспект — то
чувство правды, которое возникает в зрителе в связи с тем, что актер,
подчиненный одновременно двум заданным нормам поведения, в одной из
них фатально вынужден «выходить из образа», чтобы «быть в образе» в
другой. Эта осцилляция между двумя закономерностями создает необходимую
непредсказуемость (информативность) в пределах каждой из них.
В качестве примера можно было бы сослаться еще на одно наблюдение:
анализируя икону богоматери кисти Андрея Рублева, П. А. Флоренский
заметил, что верхняя и нижняя части лица святой дают резко отличающиеся
черты ее живописной характеристики.
Приведенные примеры заимствованы из комического и трагического,
условного и бытового искусства и, как кажется, позволяют сделать вывод,
что установление норм и выпадение из них, автоматизация и деавтоматизация
составляют одну из глубинных закономерностей художественного текста. С
особенной силой это проявляется в кинематографе.
***
Соположение разнородных элементов — широко применяемое в искусстве
средство. Монтаж — частный его случай — может быть определен как
соположение разнородных элементов киноязыка. Некоторые художественные
стили ориентированы на острую конфликтность сталкиваемых элементов (так
возникают метафорические стили в прозаическом повествовании или резкая
противопоставленность персонажей на сюжетном уровне). Но какой бы мы
стиль ни избрали — поражающий контрастами или производящий
впечатление глубочайшей гармонии, — в основе его механизма можно вскрыть
соположение и противопоставленность элементов, ту внутреннюю
неожиданность конструкции, без которой текст был бы лишен художественной
информации. Поэтому монтаж как факт киноязыка присущ и тому кинематографу,
в котором он обнаженно лежит на поверхности и за которым закрепилось
наименование «монтажного», и тому, в котором А. Базен не усматривает
монтажа. Киноязык строится как механизм «рассказывания историй при
помощи демонстрации движущихся картин» — он по природе повествовате-
Глава седьмая. Монтаж
333
лен. Но между киноповествованием и монтажом оказывается глубокая
внутренняя связь.
Сопоставление элементов может быть двух родов: 1. Оба сопоставляемых
элемента на семантическом или логическом уровнях отождествляются, про
них можно сказать: «Это одно и то же». Однако, представляя один и тот
же денотат (объект, явление, вещь из мира внетекстовой действительности),
они дают его в различных модусах; 2. Оба сопоставляемых элемента
представляют различные денотаты в одинаковых модусах. Применительно к
фактам языка, этой классификации будут соответствовать повторы одной и той
же лексемы (слова) в различных грамматических категориях и повторы одной
и той же грамматической категории в разных словах. Если представить
заглавными буквами семантическое значение знака (его отношение к объекту),
а строчными — грамматическое (его отношение к другим знакам), то мы
получим следующие схемы:
А а А а
Ав В а
Ас Ca
В первом случае, применительно к кинематографии, мы можем говорить
о едином объекте фотографирования и смене места в кадре, освещения,
ракурса или плана, во втором — об одинаковом месте, ракурсе, плане или
освещении различных объектов. Примером первого будут кадры № 284—287,
291, 292 в «Броненосце „Потемкине"» («пушки»), второго — № 215,-218, 219
там же (студент, казак, учительница).
Однако художественный повтор отличается от нехудожественного тем,
что отождествление или противопоставление дается здесь ценой некоторого —
иногда очень значительного — усилия, в том числе и эмоционального.
Глубины смысла открываются в результате перестройки представлений —
одинаковое оказывается различным и наоборот. Кроме того, формальное и
содержательное (модус и объект), столь четко разделяемые в логике, в
художественном тексте одновременно разделяются и меняются местами. Так, рот,
открытый в крике, сам по себе не модус, а объект. Но при сопоставлении
этих трех кадров он выступает как грамматический элемент, типа формального
согласования однородных членов во фразе.
Примером структурного конфликта, который характерен для
художественного повтора и делает его диалектически сложным явлением, семантически
значительно более емким, чем нехудожественный, могут быть знаменитые
кадры «пробуждающегося льва» из «Броненосца „Потемкина"».
Каменный лев приподымается, как живой. Неожиданность этого движения
и, следовательно, его высокая значимость, связаны с тем, что фотография
не скрадывает, а подчеркивает его «мраморность», статуарность. Динамизм
изображения вступает в конфликт со статикой объекта. Однако эффект этот
достигается и другими средствами: зная, что перед нами статуя, мы не можем
сомневаться, что кадры дают три различных объекта, сопоставленных по
некоторым модусам (логическому — вхождению объекта в класс: статуи
львов — и визуальным: освещению, единой траектории движения плана и
334
СЕМИОТИКА КИНО И ПРОБЛЕМЫ КИНОЭСТЕТИКИ
др.). Если же это живой лев, то сфотографирован один объект с
несовпадающими модусами (движение). То, что мы видим одновременно две различные
вещи, причем функции объекта и модуса меняются, создает то семантико-
эмоциональное напряжение, которое вызывает этот кусок ленты.
Выделяя в дальнейшем на кадре категории объекта и модуса, мы будем
все время иметь в виду их относительность, тенденцию к взаимопереходу в
художественном тексте.
Рассмотрим сначала одну единичную фотографию. В ленте ей будет
соответствовать отдельный «кадрик». Уже здесь мы сталкиваемся с
определенной композицией. Объекты соотносятся друг с другом, образуя некоторое
значимое отношение, семантика которого не сводится к механической сумме
значений отдельных объектов. Именно в этом смысле Эйзенштейн говорил
о композиции кадра как о монтаже. Чаще всего мы будем иметь дело с
различными объектами, сопоставленными по модусу, что делает именно его
активным носителем значений. Так, в некоторых полотнах освещение делается
более значимым элементом, чем изображение предметов. Выделяя модусы,
связывающие фигуры и вещи внутри кадрика или противопоставляющие их,
мы можем получить характеристику наиболее нагруженных значением
элементов текста.
Однако на этом уровне мы еще будем иметь дело с тем же механизмом,
что и в живописи или графике. Собственно кинематографический эффект
возникает лишь с того момента, когда один кадрик сопоставляется с другим,
то есть на экране возникает рассказ. Рассказ может появиться в результате
сопоставления цепочки кадриков, фотографирующих различные объекты, и
из цепочки, в которой один объект меняет модусы. Если учесть, что резкая
смена плана приводит к тому, что на экране оказывается не предмет, а его
часть (а это, фактически, воспринимается как смена объекта), то можно
сказать, что первый случай будет представлять на экране смену кадров, а
второй — движение изображения внутри кадра. Монтажный эффект
возникает в обоих случаях. Образование новых значений и на основе монтажа
двух различных изображений на экране, и в результате смены разных
состояний одного изображения представляет собой не статическое сообщение, а
динамический нарративный (повествовательный) текст, который, когда он
осуществляется средствами изображений, зримых иконических знаков,
составляет сущность кино.
В этом смысле противопоставление А. Базена должно получить иной
смысл — оно указывает на вполне реальный факт истории кинематографа,
если имеет в виду ориентацию тех или иных художественных течений на
воссоздание «живой жизни» или конструирование художественных концепций,
на монтаж кусков ленты или съемку «большим куском» с ориентацией на
актерскую игру. Однако полагать, что желание уклониться от режиссерского
вмешательства представляет достижимую, причем столь простыми средствами,
как декларация отказа от монтажа, цель, — конечно, значит так же упрощать
вопрос, как и считать, что, ликвидируя склейку, мы уничтожаем принцип
монтажа.
Глава седьмая. Монтаж
335
Склейка кусков ленты и интеграция их в высшее смысловое целое —
наиболее явный и открытый вид монтажа. Именно он привел к тому, что
монтаж был осознан художественно и теоретически осмыслен. Однако
скрытые формы монтажа, при которых любое изображение сопоставляется с
последующим во времени и это сопоставление порождает некоторый третий
смысл, — явление не менее значимое в истории кино.
Наблюдение Базена касается не только реального, но и очень
существенного факта из истории кино. Однако при осмыслении его необходимо иметь
в виду следующее: то, что А. Базен представляет как две исконно
противоположные и отдельные тенденции в конструировании фильма, каждая из
которых имманентно замкнута в себе, на самом деле — два
противопоставленных и антагонистических рычага единого механизма. Они работают только
во взаимной борьбе и, следовательно, нуждаются друг в друге. Победа любой
из этих тенденций, трактуемая как исчезновение другой, означала бы не
торжество, а уничтожение победителя. История кино с его периодической
сменой ориентированности на «конструкцию» или на «фотографию жизни» —
убедительное тому доказательство. В конкретной идейной и эстетической
борьбе вокруг искусства та или иная концепция может связываться с
определенными философскими или идеологическими воззрениями. Однако по
своей природе она не исчерпывается этой связью. Так, в литературе
ориентированность той или иной идейной или художественной концепции на стихи
или прозу не исключает того, что сами по себе поэзия и проза — формы
жизни литературы и пригодны для выражения самых разнообразных идейных
концепций.
Кинематограф, для того чтобы осознать себя как искусство, должен был
начать с наиболее обнаженно условных форм киноязыка, самый перевод на
который явлений жизни казался эстетическим открытием. Утрировка
условности составляла неизбежную черту кинематографа, стремившегося
оторваться от фотографии. Если делить, как это делает Базен, кинематограф на
«условный» и «реальный» и связывать именно с монтажом границу между
ними, то ускользнет из внимания другой аспект: в кинематографе 1920-х гг.
то направление, которое избегало острых монтажных решений и тяготело к
«большим кускам» ленты, отличалось резкой условностью актерской игры.
Монтажный же кинематограф тяготел к подбору типажей и, ориентируясь
на хронику, стремился сблизить поведение актера на экране и в жизни. Таким
образом, каждый из отмеченных Базеном видов кинематографа имел свой
тип условности, и современный кинематограф не есть автоматическое
продолжение одной из тенденций, а сложный их синтез. Не автоматическое
отсечение какой-либо из двух противонаправленных составляющих, а
диалектическое их противоречие обусловливает эффективность механизма
киновоздействия. Показательно, что, когда и монтаж, и актерская игра достигли
тех вершин жизнеподобия, которые свойственны периоду после второй
мировой войны, одновременно возникла потребность в значительно более
сложных и совершенных формах условности, самая сущность которых была бы
связана с достижением реализма в кино.
336
СЕМИОТИКА КИНО И ПРОБЛЕМЫ КИНОЭСТЕТИКИ
Когда в целом ряде фильмов мы сталкиваемся с упорной тенденцией
вынести на экран съемку фильма, перед нами — стремление наиболее
правдоподобное и жизнеподобное представить как сыгранное. Мы поймем, что
дело здесь в чем-то более глубоком, чем мода и стремление к эффектам,
если вспомним об аналогичных тенденциях в наиболее реалистической
живописи. Приведем в качестве примера один из шедевров Веласкеса —
«Фрейлины».
Центральную часть полотна занимает с большой силой реализма
написанная группа играющих девочек в придворных костюмах, придворных,
карликов, собак (первоначально картина называлась «Семейство короля
Филиппа IV»). Однако в левом углу расположен художник, пишущий картину.
Перед ним полотно, которое мы видим с оборотной стороны. Но ведь
художник на картине — сам Веласкес. Таким образом, то, что мы видим
перед собой, — картина Веласкеса — показана нам в углу самой себе с
оборотной стороны. Включение в полотно художника, внесение рисуемой им
картины в срисовываемую действительность — такое же соединение
предельно реального изображения с подчеркиванием, что это именно изображение,
то есть условность, как и в «8 V2» или «Все на продажу». Наконец, в глубине
полотна мы видим стену, увешанную картинами, добавляющими к реальному
пространству комнаты, переданному средствами живописи, условное
пространство живописи, переданное средствами живописи же. И наконец, в
глубине картины — зеркало, в котором отражается то, что видит художник
и что изображено на скрытой от нас поверхности его картины. Для нас в
данном случае интересна не смелость, с которой Веласкес разрывает плоское
пространство полотна, а стремление поменять субъект и объект местами,
создав картину о картине1.
Аналогичным примером в реалистической прозе может быть «Рассказ об
одном романе» М. Горького (1924) с демонстративным смешением героев
«из жизни» и «из романа» в едином условном сюжете.
Глава восьмая
Структура киноповествования
Кинотекст может рассматриваться одновременно как дискретный,
составленный из знаков, и недискретный, в котором значение приписывается
непосредственно тексту.
1 См.: Foucault M. Les mots et les choses. Paris, 1966. P. 318—319.
Глава восьмая. Структура киноповествования
337
Киномонтаж также можно выделить двух родов: присоединение к кадру
другого кадра и присоединение к кадру его же самого (с какими-либо
модальными изменениями или без них: смену коротких динамических кадров
сверхдлинным и неподвижным можно рассматривать как результат — во
втором случае — монтажа, при котором к кадру присоединен он сам). Монтаж
разных кадров активизирует смысловой стык, делает его основным носителем
значений, монтаж однородных кадров делает стык незаметным, а смысловой
переход — постепенным. Поэтому, хотя монтаж по своей природе
предполагает дискретность, при демонстрации ленты с имманентным переходом
кадра в кадр для зрителя дискретность скрадывается так же, как в живой
речи скрадываются границы между структурными единицами.
Так возникает кинематограф, ориентированный на структуру
действительности (ее «язык», по терминологии Соссюра) или же на ее
непосредственно-эмпирическую данность («речь», в той же терминологии).
Реально в тексте, конечно, присутствуют и «язык» и «речь», — дело идет
лишь о некоторой режиссерской ориентации, при которой одна тенденция
подчеркивается и сознательно выделяется на первый план, а вторая
скрадывается.
На этой основе возникают два типа повествования. Наш строй мысли,
наши привычные представления, многие из которых нам кажутся присущими
самой природе человека, сформированы словесной культурой, культурой, в
которой человеческая речь играет роль основополагающей коммуникативной
системы. Агрессивно вторгаясь во все сферы семиозиса, она
переформировывает их по своему образу и подобию. Она словесна и нацелена на
коммуникацию с другим индивидуумом. Несловесные или направленные на
коммуникацию с самими собой системы в той или иной мере подавлены
господствующим типом коммуникации. Поэтому, даже моделируя «рассказ
при помощи картин», мы переносим на него схему словесного повествования.
Тем более мы склонны забывать, что привычное повествование с помощью
языка и слов — лишь один из двух возможных типов рассказа.
Первый воспроизводит словесный рассказ: он строится на прибавлении
к единице текста еще одной единицы, затем следующей и получении, таким
образом, повествовательной цепочки.
Соединение цепочки различных кадров в осмысленную
последовательность составляет рассказ.
Другой тип повествования — трансформация одного и того же кадра.
Вспомним строчку Фета: «Ряд волшебных изменений милого лица». Цепь
изменений лица — конечно, повествование. Но при этом происходит не
объединение множества знаков в цепочках, а трансформация одного и того
же знака. Напомним относящуюся к первым шагам кино ленту фотофона
Деммени: актер, произносящий слова «Я вас люблю».
Если на ленте изображение представлено как дискретная
последовательность различных изображений, то для зрителя это — недискретное изменение
одного.
Если в первом случае повествовательность возникает за счет того, что
рисунки используются как слова, то во втором возникает нарративность
338
СЕМИОТИКА КИНО И ПРОБЛЕМЫ КИНОЭСТЕТИКИ
собственно изобразительного типа. Способность превращения иконического
знака в повествовательный текст связана с наличием в нем некоторых
подвижных элементов. Так, сопоставив статичные кадры, запечатлевшие
меняющуюся мимику человека, можно выделить константные элементы,
позволяющие сказать про все изображения: «Одно лицо», а при слитном их
проецировании заставляющие воспринимать изображение как один кадр. Но
есть и переменные (способные в пределах данного кадра меняться) элементы.
Для того чтобы разные кадры могли быть соединены в осмысленную
цепочку, у них должен быть общий элемент какого-либо уровня: это может
быть одно и то же изображение другим планом или два различных
изображения с общим модусом. Совпадение может быть смысловым (свисток
милиционера и свисток паровоза). Может повторяться деталь (шагающие по
обломкам стекла ноги Марка и ноги Бориса — по лужам в «Летят журавли»
М. Калатозова), подчеркиваться единство направления действия (кадр
выстрела сменяется кадром падения тела) и пр. Важно одно: при соединении
различных кадров некоторый дифференцирующий элемент повторяется, а
при трансформации кадра он становится основой для различения. В одном
случае проявляется тенденция к резким семантическим сближениям, а в
другом — к смысловому микроанализу, расщеплению.
Первый тип характерен для подчеркнуто монтажного кинематографа. Он
выдвигает вперед проблему структуры мира и строится как система
скачкообразных переходов от одного композиционного узла к другому.
Второй тип ориентирован на непрерывное повествование, имитирующее
естественное течение жизни. В первом случае режиссер дает нам «грамматику
жизни», предоставляя самим находить жизненные тексты, иллюстрирующие
его модель. Во втором он дает нам тексты, предоставляя самим извлекать
из них «грамматическую структуру». Однако, если исключить чисто
экспериментальные ленты, речь может идти лишь о доминировании той или иной
тенденции, поскольку это враги, нуждающиеся друг в друге.
Глава девятая
Сюжет в кино
Все существующие в истории человеческой культуры тексты —
художественные и нехудожественные — делятся на две группы: одна как бы отвечает
на вопрос «что это такое?» (или «как это устроено?»), а вторая — «как это
случилось?» («каким образом это произошло?»). Первые тексты мы будем
называть бессюжетными, вторые — сюжетными. С этой точки зрения,
бессюжетные тексты утверждают некоторый порядок, регулярность, классифи-
Глава девятая. Сюжет в кино
339
кацию. Они будут вскрывать структуру жизни на каком-либо уровне ее
организации — будь то учебник по квантовой механике, правила уличного
движения, расписание поездов, описание иерархии богов античного Олимпа
или атлас небесных светил. Эти тексты по своей природе статичны. Если же
они описывают движения, то это движения регулярно и правильно
повторяющиеся, всегда равные самим себе.
Сюжетные тексты всегда представляют собой «случай», происшествие (не
случайно определение сюжетного текста «новелла» происходит от слова
«новость») — то, чего до сих пор не бывало или же не должно было быть.
Сюжетный текст — борьба между некоторым порядком, классификацией,
моделью мира и их нарушением. Один пласт такой структуры строится на
невозможности нарушения, а другой — на невозможности ненарушения
установленной системы. Поэтому ясен революционизирующий смысл сюжетных
повествований и значение, которое построение этого типа приобретает для
искусства.
Будучи по природе динамическим, диалектически сложным началом,
сюжет в искусстве еще более усложняет собой структурную сущность
произведения.
Сюжет — последовательность значимых элементов текста, динамически
противопоставленных его классификационному строю.
Структура мира предстает перед героем как система запретов, иерархия
границ, переход через которые невозможен. Это может быть черта,
отделяющая «дом» от «леса» в волшебной сказке, живых от мертвых — в мифе, мир
Монтекки и мир Капулетти, знать и простонародье, богатство и нищету.
Герои, закрепленные за каким-либо из этих миров, в сюжетном отношении
неподвижны. Им противостоит (чаще всего — один) динамический герой,
обладающий способностью преодолевать границу, пересечение которой для
остальных героев немыслимо: живой, он спускается в царство теней,
простолюдин — влюбляется в дворянку, бедняк — добивается богатства. Именно
пересечение границы запрета составляет значимый элемент в поведении
персонажа, то есть событие. Поскольку разделение сюжетного пространства на
две части одной границей является лишь наиболее элементарным видом
членения (гораздо чаще мы имеем дело с иерархией запретов разной
значимости и ценности), то и пересечение границ-запретов, как правило, будет
реализовываться не как однократный акт — событие, а в виде цепочки
событий — сюжета.
Однако художественный сюжет движется в поле не одной, а минимум
двух так или иначе соотнесенных (часто антитетически) иерархией запретов.
Это придает сюжетной структуре характер смыслового мерцания: одни и те
же эпизоды оказываются композиционно не равными самим себе, то выступая
в качестве сюжетных событий с определенным значением, то приобретая
иную семантику, то вообще теряя качество события. Поэтому если
нехудожественный сюжет однолинеен и графически может быть изображен в виде
траектории движущейся точки, то художественный — переплетение линий,
получающих смысл лишь в сложном динамическом контексте.
340
СЕМИОТИКА КИНО И ПРОБЛЕМЫ КИНОЭСТЕТИКИ
***
Сюжетный текст обязательно представляет собой повествование.
Повествование, рассказывание всегда, в отличие от системы, представляет собой
действие. При этом если в системе активизируются парадигматические
отношения, то в повествовании на первый план выступает синтагматика. Связь
между элементами, построение на основе этой связи структурной цепочки,
образующей текст, составляет основу всякого повествования. Однако именно
синтагматический аспект раскрывает наиболее глубинные различия между
художественным и нехудожественным повествованием.
Повествовательный нехудожественный текст может быть рассмотрен как
иерархия синтагматических структур. Закономерности последовательности
фонем, морфо-грамматических элементов, частей предложения, предложений
и сверхфразовых единств могут быть рассмотрены для каждого случая
отдельно как вполне самостоятельная проблема. При этом каждый уровень
имеет вполне самостоятельную имманентную организацию. Одновременно
каждый низший уровень по отношению к следующему за ним более высокому
будет выглядеть как формальный, а этот более высокий выступит в качестве
его содержания. Так, если мы рассматриваем уровень последовательности
морфем в тексте, фонемная структура будет выступать перед нами как чисто
формальное построение, содержанием которого окажется развертывание
грамматически значимых элементов. Для сюжетного построения
нехудожественного типа вся сумма фонологических, грамматических, лексических и
синтаксических (в пределах предложения) упорядоченностей оказывается
формальной. В качестве содержательного, то есть значимого, выступает
последовательность сообщений на фразовом и суперфразовом уровне.
Как только мы переходим к художественному повествованию, все эти
закономерности оказываются смещенными.
Дело в том, что в нехудожественном повествовании организация планов
выражения и содержания строится так, что первый подвергается предельной
автоматизации: он не несет информации, представляя собой выполнение
заранее известных закономерностей. Предполагается, что слушающий рассказ
на русском языке, получая информацию об определенных событиях, о самом
языке никакой информации не получает. Язык сообщения дан обоим
участникам коммуникации заранее. Пользование им настолько автоматизировано,
что, при правильном употреблении языка, он делается абсолютно незаметным,
«прозрачным» для информации.
Между тем в художественном сообщении самый язык несет информацию.
Выбор того или иного вида организации текста оказывается непосредственно
значимым для всего объема передаваемой информации.
В связи с этим установка на художественность сообщения будет создавать
заведомо противоречивую ситуацию: с одной стороны, на текст
накладываются дополнительные по отношению к нормам языка ограничения:
ритмические, рифменные и многочисленные другие. Однако, если бы все эти
структурные инерции, заданные, уже в начале текста, неукоснительно реа-
лизовывались на всем его протяжении, художественное построение стало
Глава девятая. Сюжет в кино
341
бы насквозь автоматизированным и не смогло бы быть носителем
информации.
Для того, чтобы этого не произошло, художественный текст строится как
взаимодействие противонаправленных структур, из которых одни выполняют
автоматизирующую функцию, вводя ряды ритмических упорядоченностей, а
другие — деавтоматизируют структуру, нарушая инерцию ожидания и
обеспечивая системе высокую непредсказуемость.
На уровне повествования это проявляется в том, что если синтагматика
нехудожественного текста — это последовательность однородных элементов,
то синтагматика художественного — последовательность разнородных
элементов. Композиция художественного текста строится как последовательность
функционально разнородных элементов, как последовательность структурных
доминант разных уровней.
Представим себе, что, анализируя ту или иную киноленту, мы можем
составить структурное описание величины планов, показав композиционную
организованность их смены. Ту же работу мы можем сделать относительно
последовательности ракурсов, замедленности и ускоренности кадров,
структуры персонажей, системы звукового сопровождения и т. п. Однако в
реальном функционировании текста куски, снятые укрупненным планом, будут
сменяться не только противоположными, но и такими, где основным
носителем значения будет ракурс. Но и план в этот момент не исчезнет, а останется
как почти неощутимый художественный фон1. Художественный текст говорит
с нами не одним голосом, а как сложно-полифонически построенный хор.
Сложно организованные частные системы пересекаются, образуя
последовательность семантически доминантных моментов.
Если в нехудожественном повествовании языковые последовательности к
сюжету отношения не имеют — эти два пласта организуются совершенно
имманентными структурами, то в искусстве элемент, принадлежащий
нарративному языку, и элемент высшего композиционного уровня могут быть
соположены в единую последовательность, образуя единый монтажный
эффект. Так, в кинематографе целое событие и незначительная, но снятая
крупным планом деталь могут быть соположены как равноправные
монтажные элементы.
***
Киноповествование — это, прежде всего, повествование. И хотя это может
показаться парадоксальным, именно потому, что рассказ в данном случае
строится не из слов, а из последовательности иконических знаков, в нем
наиболее ярко обнаруживаются некоторые глубинные закономерности всякого
нарративного текста. Думается, что многие, столь волнующие сейчас
лингвистов, вопросы общей теории сверхфразовых структур значительно
прояснились бы, если отвлечься от представления о словесном рассказе как един-
1 Подробнее см. в наст, изд.: «Структура художественного текста».
342
СЕМИОТИКА КИНО И ПРОБЛЕМЫ КИНОЭСТЕТИКИ
ственно возможном и обратиться к теоретическому осмыслению нарративного
опыта кинематографа.
Однако киноповествование — это повествование средствами кино.
Поэтому в нем отражаются не только общие законы всякого рассказывания,
но и специфические черты, присущие именно повествованию средствами
кино.
Синтагматическое построение — соединение хотя бы двух элементов в
цепочку. Таким образом, для того, чтобы оно могло реализоваться,
необходимо наличие хотя бы двух элементов и механизма их соединения. Если мы
видим на псковской иконе XV в. «Усекновение главы св. Иоанна Предтечи»1,
где в центре изображен святой в момент, когда ему срубают голову, а в
правом нижнем углу иконы голова лежит уже отрубленная, или когда на
иллюстрациях Сандро Боттичелли к «Божественной комедии» Данте фигуры
самого поэта и его путеводителя Вергилия повторяются несколько раз по
оси их движения на одном и том же рисунке, то очевидно, что перед нами,
в пределах одного рисунка, два последовательно соединенных момента.
Но для того, чтобы два элемента могли быть соединены, они должны
существовать как отдельные. Поэтому вопрос о сегментации текста, членении
его на отрезки — один из наиболее существенных при построении
повествовательного произведения. В этом смысле язык с его исконной дискретностью
оказывается значительно более выгодным материалом, чем рисунок. Не
случайно словесный текст исторически оказался более удобным для
повествования, чем изобразительные искусства.
Кинематограф в этом отношении занимает особое место: иконизм
изобразительных искусств, создающий ряд существенных преимуществ с точки
зрения наглядности моделирования, он соединяет с исконной дискретностью
материала (изображение сегментируется на кадры), что делает
повествовательную форму глубоко органичной. Повествование в картине или
скульптуре — всегда преодоление типовой структуры. В литературе или
кинематографе такую же роль играет отказ от повествования. Что же касается музыки,
то она, в силу чистой синтагматичности своего устройства, может
моделировать, ориентируясь на изображение, картину, синхронный, недискретный
образ мира, а имитируя речевую структуру, — повествование.
Таким образом, в современной киноленте одновременно наличествуют
три типа повествования: изобразительное, словесное и музыкальное
(звуковое). Между ними могут возникать взаимоотношения большой сложности.
При этом если один из видов повествования представлен значимым
отсутствием (например, фильм без музыкального сопровождения), то это не
упрощает, а еще более усложняет конструкцию значений.
Следует отметить, что последовательность значимых кусков текста может
создавать повествовательную структуру высшего уровня, на котором
значимые отрезки изобразительного, словесного или музыкального текста будут
1 См.: Древние иконы старообрядческого кафедрального Покровского собора при
Рогожском кладбище в Москве. М., 1956. С. 53.
Глава девятая. Сюжет в кино
343
сочленяться не как разные уровни одного момента, а как последовательность
моментов, то есть повествование.
Если к этому прибавить, что в повествование все время втягиваются
последовательности разнообразных внетекстовых ассоциаций общественно-
политического, исторического, культурного плана в виде разнообразных
цитат (например, ренессансная фреска в «Июльском дожде» выполняет роль
эпиграфа-цитаты, музыкальное сопровождение в этом фильме все время играет
роль «чужой речи», по терминологии M. М. Бахтина, отсылая зрителя к
широкому миру разнообразных культурных и исторических явлений). Так
возникает повествование на высшем уровне как монтаж разнообразных
культурных моделей, независимо от того, какими кинематографическими
средствами они реализуются в ленте. Примером опыта такого монтажа культурных
комплексов, возможно более интересного по замыслу, чем по исполнению,
может служить та же «Замужняя женщина».
Невозможность в пределах брошюры осмыслить всю эту проблему
заставляет сузить аспект: мы будем рассматривать не всю совокупность
повествовательных элементов, составляющих современный звуковой цветной
фильм, а собственно изобразительный, фотографический аспект.
Если ограничить задачу таким образом, то нарративные элементы
распределятся по четырем уровням, причем это будут те же четыре уровня, что
и во всякой общей модели повествования1.
Соединение значимых элементов в цепочку может быть, в принципе, двух
родов. Во-первых, речь может идти о присоединении функционально
однотипных элементов, во-вторых, — об интеграфии элементов, несущих
различные структурные функции. В каждом из этих случаев будет наличествовать
специфический тип связи (в одном — примыкание равноправных элементов,
в другом — отношение доминации, обусловленности; очевидно, что меняться
будет и интенсивность связи: в первом случае элементы относительно
независимы, доминация подразумевает спаянность). Другой существенный
признак — наличие или отсутствие границы цепочки: интеграционная связь
подразумевает отграниченность синтагматической единицы,
присоединительная куммулятивная связь дает безграничную цепочку.
Признак распадения текста на равноценные самостоятельные единицы
или склеивания их в результате функциональной специализации каждой из
них в органически целостные синтагмы позволяет выделить и конкретные
уровни в построении текста.
Первый уровень — соединение мельчайших самостоятельных единиц, при
котором семантическое значение еще не присуще каждой единице в
отдельности, а возникает именно в процессе их склеивания. В естественном языке
1 Поэтому мы полагаем, что киноповествование представляет собой идеальный
текст для построения общей теории синтагматики, в отличие, например, от П. Гарт-
мана, который рассматривает синтаксис в музыке, орнаменте, формальных и
естественных языках, в поэзии, но не привлекает кино (Hartmann Р. Syntax und Bedeutung.
Assen, 1964).
344
СЕМИОТИКА КИНО И ПРОБЛЕМЫ КИНОЭСТЕТИКИ
на этом уровне располагаются цепочки фонем. В кинематографе это монтаж
кадров1.
Второй уровень — элементарное синтагматическое целое. Применительно
к естественному языку он интерпретируется как уровень предложения, хотя
в определенных случаях может реализовываться и как слово2. На
кинематографическом уровне это кинематографическая фраза — законченная
синтагма, отличающаяся внутренним единством, отграниченная с двух концов
структурными паузами. В качестве характерных признаков такой единицы можно
указать не только внутреннюю замкнутость и заключенность между двумя
границами-паузами, но и то, что наличие границ вытекает из самой природы
внутренней ее организации. Она не может репродуцировать себя без конца,
как это свойственно куммулятивным цепочкам. Внутренняя структура
фразовой единицы или односоставна, когда один элемент является одновременно
и универсальным множеством всех элементов, будучи равнозначен
высказыванию, или двусоставна. В этом случае между элементами возникает
отношение предикации, подразумевающее их качественное различие, причем один
из элементов интерпретируется как логический субъект, а другой — как
предикат. Такое отношение в киноленте могут получить лишь элементы,
осмысленные на семантическом уровне. Второй уровень — всегда
синтагматика значимых единиц.
Третий уровень — соединение фразовых единств в цепочки фраз. Хотя
исследования последних лет3 показали структурную организованность
сверхфразовых единств текста, последовательность фраз организована
принципиально иначе, чем фраза: она состоит из равноправных элементов (фразы
относительно друг друга выступают как функционально равноценные),
понятие границы не заложено в ее структуре, и увеличение путем присоединения
новых элементов практически может быть безграничным. Тип структурной
организации делает третий уровень параллельным первому.
Четвертый уровень — уровень сюжета. Он не является автоматическим
обобщением третьего, поскольку один и тот же сюжет может быть развернут
с помощью разного количества фраз. Но сюжетный уровень строится по
типу второго, фразового. Текст членится на специализированные в структур-
1 Сознательно огрубляя вопрос, мы в данном случае исходим из того, что отдельный
кадр, подлежа семантической интерпретации, еще не есть объект синтаксического
анализа. Внутрикадровая синтагматика и синтактика — специальная проблема,
значительно более близкая к аналогичным аспектам неподвижных изобразительных
моделей: картины, фотографии, чем к повествовательным жанрам. В настоящей работе
мы ее не рассматриваем, что не снимает, однако, ее большого значения в общей
проблеме художественной структуры фильма.
2 При сопоставлении предложенной схемы с принятыми в лингвистике делается
очевидно, что «морфемы» и «слова» при синтагматическом анализе, собственно говоря,
уровнями не являются. Этим единицам может соответствовать несколько уровней.
3 См.: Падучева Е. О структуре абзаца // Учен. зап. Тартуского гос. ин-та. Вып.
181. 1965 (Труды по знаковым системам. Т. 2); Сеево И. Об изучении структуры
связного текста // Лингвистические исследования по общей и славянской типологии.
М., 1966.
Глава девятая. Сюжет в кино
345
ном отношении сегменты, которые, в отличие от элементов первого и третьего
и подобно элементам второго уровня, имеют непосредственно семантический
характер. Соединение этих элементов образует фразу второго уровня —
сюжет всегда строится по принципу фразы. Не случайно высказывания: «Он
был убит» — или: «Она бежала с гусаром» — могут быть интерпретированы
как относящиеся и ко второму уровню (одна из фраз в тексте) и к четвертому —
сюжет текста.
Рассмотрение синтагматики фильма в свете предложенной модели
построения нарративного текста позволяет обнаружить, что первый и третий
уровни более принадлежат плану выражения, а второй и четвертый — плану
содержания (нужно ли оговаривать, что «содержание» здесь понимается в
лингвистическом, а не в принятом в эстетике значении термина и что язык
в искусстве всегда категория содержательная?). Применительно к анализу
киноповествования это будет означать, что первый и третий уровни несут
основную нагрузку собственно кинематографической нарративности, в то
время как второй и четвертый однотипны с «литературностью» и — шире —
с повествовательностью в общекультурном смысле. Так, эпизод и сюжет
можно пересказать словами, сцепление кадров или эпизодов — монтаж —
легче показать или описать средствами научного метаязыка. Конечно, это
противопоставление условно, поскольку искусство устанавливает законы чаще
всего для того, чтобы сделать значимым их нарушение1.
Последнее замечание подводит нас к еще одной проблеме. Не всякий
уровень или элемент, наличествующий в системе, присутствует в тексте.
Присутствие в системе при отсутствии в тексте воспринимается как значимое
отсутствие. Это следует помнить при решении так называемой проблемы
бессюжетности. Бессюжетность там, где структура зрительского ожидания
включает сюжет, не есть отсутствие сюжета, а представляет собой негативную
его реализацию, художественно активное напряжение между системой и
текстом. Спор о том, что лучше — острый сюжет или его отсутствие,
беспредметен в такой же мере, в какой он беспредметен относительно любого
художественного принципа. Оценке подлежит не тот или иной структурный
момент (и тем более «прием»), а функциональное отношение его к
художественной целостности текста и создаваемому автором художественному образу
мира.
***
Итак, мы получили для структуры повествовательного кинотекста четыре
уровня, два из которых можно определить как монтажные, а два — как
1 Следующим за кадром сегментом кинотекста является кинофраза. Если элементы
кинофразы (кадры) связаны между собой разнообразными функциональными связями,
то граница кинофразы просто примыкает к следующей, образуя ощущение паузы.
Примыкание кинофраз образует повествование, а их функциональная организация —
сюжет.
346
СЕМИОТИКА КИНО И ПРОБЛЕМЫ КИНОЭСТЕТИКИ
фразовые. Теория монтажного построения киноповествования принадлежит
к наиболее разработанным аспектам науки о кинематографе1.
Мы уже отмечали, что сюжетный уровень более «литературен», чем
монтажные. Однако есть ли специфика у киносюжета? Развивается ли сюжет
в кино иначе, чем определяемый при пересказе теми же словами
некинематографический сюжет?
Выше уже говорилось, что в основе всякого сюжета лежит событие,
некоторый случай, противоречащий какой-либо из основных
классификационных закономерностей текста или нашего сознания вообще. Сообщение
«Иван ходит по полу» в бытовой ситуации не представляет собой свернутого
сюжета, а «Иван ходит по стене» или «Иван ходит по потолку» —
представляет. Однако существенно не изолированное и абстрактное понятие события,
а его соотнесение с окружающими его контекстными структурами: рассказ
о канатном плясуне, не ходящем по канату, столь же содержателен в сюжетном
отношении, что и сообщение об обычном человеке, пробежавшем по канату.
Новелла об артисте цирка, сломавшем ногу и не выступающем на арене,
будет столь же сюжетна, как и рассказ о молодой девушке, случайно попавшей
на съемочную площадку и вдруг сделавшейся кинозвездой, хотя в одном
случае событие будет заключаться в том, что определенное действие не
совершается, а в другом — совершается.
Художественный текст живет в поле двойного напряжения: с одной
стороны, он проецируется на некоторые типовые ожидания
последовательностей элементов в тексте, с другой — на такое же ожидание в жизни. Герой
волшебной сказки с помощью чудесного средства совершает невозможный
подвиг. Это событие вполне согласуется с нашим понятием «сюжет волшебной
сказки», но резко расходится с нашим представлением о нормах житейского
опыта. «Естественное» в одном ряду, сюжетное событие оказывается
«странным» в другом. Герой чеховской драмы не совершает «необычных» поступков,
ведет на сцене обычную и обыденную жизнь. Это вполне согласуется с нашим
понятием «так бывает», но резко расходится с представлением о законах
театрального зрелища. Совпадение с одним рядом закономерностей
художественно активно при расхождении с другим. Однако в зависимости от того,
1 Кроме общеизвестных работ С. М. Эйзенштейна, для нас в данной связи особенно
важна статья Ю. Н. Тынянова «Об основах кино», давшая классическое определение
связи монтажа и повествования: «Монтаж не есть связь кадров, это дифференциальная
смена кадров, но именно поэтому сменяться могут кадры, в чем-либо соотносительные
между собой. Эта соотносительность может быть не только фабульного характера,
но еще и в гораздо большей степени — стилевого» (Поэтика кино. М.; Л., 1927. С.
73). Ср. в статье Е. Падучевой: «Очень часто законы сочетаемости единиц в тексте
можно свести к необходимости повторения каких-то составных частей этих единиц.
Так, формальная структура стиха основана (в частности) на повторении сходно
звучащих слогов; согласование существительного с прилагательным — на одинаковом
значении признаков рода, числа и падежа. Связанность текста в абзаце основана в
значительной мере на повторении одинаковых семантических сегментов» (Падучева Е.
О структуре абзаца. С. 285).
Глава девятая. Сюжет в кино
347
к какому из этих рядов тяготеет текст, возникает различный эстетический
эффект.
Кинематограф как искусство совершенно иначе, чем литература, относится
к проблеме достоверности. Известно изречение Козьмы Пруткова: «Если на
клетке слона прочтешь надпись: „буйвол", — не верь глазам своим»1. Комизм
афоризма основывается на абсурдном предположении, что отношение слова
и обозначаемого им предмета более исконно и незыблемо, чем этого же
предмета и его зримого облика. Из этого делается вывод, что надпись не
может быть ошибочна, — не верить следует глазам. Как известно, имеет
место прямо противоположное: отношение «слово — вещь» воспринимается
как условное, поэтому допускается, что слово может быть и истинным, и
ложным. Отношение «вещь — ее зримый облик» (ибо фотография, в отличие
от рисунка, воспринимается не как иконический знак вещи, а как она сама,
ее видимый облик) естественно считать настолько органичным, что никакое
искажение здесь не может подразумеваться. Таким образом, представление
об истинности повествования, недопустимость самой мысли о его «выдуман-
ности» лежит в основе кинорассказа. Это всегда придает, между прочим,
интересу к кинематографу, то в большей, то в меньшей степени, сходство с
тем интересом, который вызывают у зрителей уличные катастрофы,
происшествия, несчастные случаи, то есть сюжеты, порожденные самой жизнью, —
нарушения устойчивых закономерностей в самой реальности, а не в ее
художественном образе.
То, что кино вызывает у зрителя такое ощущение достоверности, которое
совершенно не доступно никаким другим искусствам и может равняться лишь
с переживаниями, вызываемыми непосредственными жизненными
впечатлениями, — бесспорно. Очевидна и выгода этого для силы художественного
впечатления. Менее привлекает обычно внимание другая сторона вопроса:
трудности, которые создаются этими же свойствами на пути искусства.
Если ограничиться проблемами, связанными с сюжетом, то станет
необходимо в этой же связи подчеркнуть зависимость сюжетности от способности
повествователя менять определенные элементы своего рассказа по своему
усмотрению. Именно потому, что сюжетное событие — нарушение
конструкции мира, оно может произойти или не произойти (предполагается, что оно
происходит редко или однократно) и произойти несколькими способами. В
случае, если описываемое происшествие происходит всегда или даже
достаточно часто, оно принадлежит уже самой конструкции мира и повествование
теряет сюжетность. Не случайно сюжетность зарождается в жанрах, где герой
получает условную, значительно большую, чем в реальной жизни, свободу
относительно обстоятельств, — в путешествиях, фантастике и детективе.
Возможность героя перемещаться — в пространстве, относительно
определенных мест и ландшафтов, в социальном мире — относительно
определенного общественного окружения и общественных условий, морально —
относительно прошлых состояний его собственного характера и т. д. — является
1 Прутков К Избр. произведения. Л., 1951. С. 146.
348
СЕМИОТИКА КИНО И ПРОБЛЕМЫ КИНОЭСТЕТИКИ
непременным условием сюжетности. Киногерой, такой, каким его дает
материал движущейся съемки, а не усилия киноискусства, как ни странно,
отличается неподвижностью. Он закреплен в материале автоматизмом
отношения «объект — пленка». Возникающая при этом истинность убивает
сюжетность. Для того чтобы кинематограф стал сюжетным, должно было
возникнуть умение освобождать поведение героя от автоматизма зависимости
его от поведения фотографируемого объекта. Если монтаж и передвижение
камеры породили киноязык, то фантастика Мельеса и комбинированные
съемки породили киносюжет. Они позволили соединить киноочевидность,
зримую реальность кадра со свободой от автоматизма обыденной жизни,
дали кинематографу возможность ставить героя в положения, невозможные
в фотографируемом объекте, сделали последовательность и сочетание
сюжетных эпизодов актом художественного выбора, а не автоматической власти
техники.
После того, как монтаж был введен в мир кино, им уже не обязательно
было пользоваться, отказ от него также сделался средством художественного
языка. После того, как кинематограф смог показать любую фантастику с
достоверностью реальности, от нее можно было уже и отказаться: простое,
самое «рабское» следование за событиями жизни становится актом выбора,
то есть может нести художественную информацию.
Специфика киносюжета в том, что он не просто рассказывается
изобразительными знаками вместо слов, напоминая этим книжку-картинку, лубок
или комикс, а представляет собой рассказ, связь элементов которого
воспринимается как предельно достоверная: мы верим, что художник не имел выбора,
все было определено самой жизнью, — и одновременно этот же рассказ дает
такую широту ситуативного выбора, такое количество возможных вариантов,
которых не имеет ни одно другое искусство. Если увеличение количества
возможностей, из которых художник выбирает свое решение, приводит к
неслыханному росту информативности текста, то вера в то, что сообщаемый
нам вариант обладает бесспорной истинностью (и, следовательно, художник
как бы не имел никакого выбора), повышает ценностную характеристику
информации. Ведь известно, что величина информации и ее ценность не
совпадают автоматически. Величина зависит от меры исчерпываемой
неопределенности: если я узнаю, что совершится событие, которое могло
произойти не одним из двух, а одним из десяти возможных способов,
информативность сообщения резко возрастает. Однако ценность информации может
этим не определяться: в хорошем ресторане я выбираю одно из десятков
блюд, отвечая на вопрос: «Жизнь или смерть?» — я выбираю одно из двух.
В первом случае я получаю гораздо больше информации в двоичных
величинах, но во втором — она имеет значительно большую ценность.
Специфика сюжета в кино делает его и наиболее информативным, и
наиболее ценностным сравнительно с другими искусствами.
Таким образом, раскрываются некоторые особенности нарративной
структуры кинематографа. Более глубокое решение этих проблем, видимо, зависит
от создания общей теории повествовательных структур, которая в равной
мере охватывала бы синтаксические конструкции в языкознании, теорию
Глава десятая. Борьба со временем
349
повествования в кинематографе, музыке и повествовательные структуры
живописи (например, орнамент), являясь одновременно механизмом описания
сюжетно-повествовательных структур художественной литературы.
Глава десятая
Борьба со временем
Кинематограф моделирует мир. К важнейшим характеристикам мира
принадлежат пространство и время. Отношение пространственно-временной
характеристики объекта к пространственно-временной природе модели во
многом определяет и ее сущность, и ее познавательную ценность.
Познавательная ценность модели повышается по мере роста свободы
художника в выборе средств моделирования. Если перевод категорий
объективного мира на язык художественного текста определяется актом творчества,
а не автоматизмом ситуации, кода или любой иной заранее данной и поэтому
полностью предсказуемой системы, содержательность получаемой модели
резко возрастает. Поэтому естественно, что художник стремится обрести
свободу от автоматизма отражения пространственно-временных параметров
мира в кино. Но кинематограф еще до начала любого творческого акта
навязывает художнику свою, очень жесткую, систему эквивалентов
объективного времени и пространства. Порвать с ними, оставаясь в пределах кино,
невозможно. Художнику остается лишь бороться с ними и побеждать их
средствами самого же кинематографа.
Во всяком искусстве, связанном со зрением и иконическими знаками,
художественное время возможно лишь одно — настоящее. Определяя
сущность этого явления применительно к театру, Д. С. Лихачев писал: «Что же
такое это театральное настоящее время? Это — настоящее время
представления, совершающегося перед глазами зрителей. Это воскрешение времени
вместе с событиями и действующими лицами, и при этом такое воскрешение,
при котором зрители должны забыть, что перед ними прошлое. Это создание
подлинной иллюзии настоящего, при которой актер сливается с
представляемым им лицом так же, как сливается изображаемое на театре время с
временем находящихся в зрительном зале зрителей. И художественное время
это не условно — условно само действие»1. Именно в силу этих причин
время зрительных искусств, сравнительно со словесными, бедно. Оно
исключает прошедшее и будущее. Можно нарисовать на картине будущее время,
но невозможно написать картину в будущем времени. С этим же связана
1 Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы. Л., 1967. С. 300.
350
СЕМИОТИКА КИНО И ПРОБЛЕМЫ КИНОЭСТЕТИКИ
бедность других глагольных категорий изобразительных искусств. Зрительно
воспринимаемое действие возможно лишь в одном модусе — реальном. Все
ирреальные наклонения: желательные, условные, запретительные,
повелительные и пр., все формы косвенной и несобственно-прямой речи, диалогическое
повествование со сложным переплетением точек зрения представляют для
чисто изобразительных искусств трудности.
Но построение рассказа без разветвленной системы глагольных категорий
практически невозможно. Поэтому перед кинематографом сразу встала задача
прорыва через обязательное настоящее время и реальную модальность
экранного действия. Реальность переживания экранного действия зрителем
создавала также трудности для изображения одновременности событий,
совершающихся в нескольких местах и на экране представляемых
последовательно. Романическое «в то время как» или «перенесемся, дорогой читатель»
кинематографу запрещено.
Кинематограф с самого начального периода пробовал найти средства для
передачи сна, воспоминаний, несобственно-прямой речи, прибегая к наплывам
и другим ныне отвергнутым средствам. В настоящее время кинематограф
обладает обширным опытом передачи различных глагольных времен
средствами настоящего и нереального действия через реальное.
Так, в «В прошлом году в Мариенбаде» Алена Рене экранное действие
воспроизводит не реальность, а содержание речи персонажа. Но говорящий
не рассказывает, а мучительно перебирает события, стараясь припомнить и
понять, что же произошло на самом деле. И экран повторяет различные
версии событий, а сама возможность показа на нем различных версий одного
эпизода снимает безусловную модальность реальности, казалось бы
неотделимой от зрительного образа. «Рукопись, найденная в Сарагосе» строит
повествование в форме несобственно-прямой речи. В «Разводе по-итальянски»
перед нами яркий пример повествования в оптативе (желательном
наклонении) — эпизод варки мыла из жены.
Очень интересен пример из «Летят журавли». В момент, когда Борис
смертельно ранен, между ранением и смертью врезан, отгороженный образом
вращающихся деревьев, эпизод свадьбы. Эпизод этот, прежде всего, нарушает
то течение времени, которое в фильме воспроизводит его естественный темп.
Адекватом бесконечно малой единицы времени в действительности
оказывается мучительно долгий кусок экранного времени1. Это может быть
сопоставлено с известным местом из «Севастопольских рассказов» Л. Толстого,
где между тем, как Праскухин видит крутящуюся бомбу у своих ног, и
фразой: «Он был убит на месте осколком в середину груди» — пролегает в
хронологическом отсчете одна секунда («Прошла еще секунда, — секунда, в
которую целый мир воспоминаний промелькнул в его воображении»), а в
повести — две страницы текста, то есть то художественное время, которое
1 Сходен по результату, но противоположен по средствам приема Антониони в
«Затмении»: минута молчания на бирже, занимая минуту экранного времени, тянется
бесконечно долго для зрителей.
Глава десятая. Борьба со временем
351
в других местах толстовского рассказа соответствует часам, дням или месяцам
реального. Эта способность к неравномерности, произвольному сжатию и
растяжению, составляющая условие возникновения художественного времени,
невозможная в театре, делается в кино особенно значимой, поскольку
сопротивляемость слова в этом отношении значительно ниже, чем подвижной
фотографии. Сила, которую следует приложить к киноленте, чтобы из
автоматического фиксатора темпа э/сизни превратить ее в художественную модель
времени, ощущается зрителем как художественная энергия, напряжение и
смысловая насыщенность.
Однако эпизод свадьбы Бориса в «Летят журавли» имеет еще и другой
смысл: он представляет ирреальное действие. Противоречие между чувством
реальности видимого на экране и тем, что мы знаем о его ирреальности,
создает новое направление художественного напряжения. Дополнительная
неопределенность состоит в том, что текст этот не может быть прямолинейно
истолкован как «то, что привиделось Борису в момент смерти», или как
«желание Бориса», — это сложная амальгама и видений умирающего, и
мыслей зрителей о неосуществившихся возможностях, гораздо более простых
и естественных, чем реальность; бурное веселье, кадры, как бы
продиктованные поэтикой «хэппи-энда», наслаиваются на сознание зрителя, что герой в
это время умирает. Конфликт медленно текущего экранного времени с
мгновенным реальным обостряется тем, что образы на экране мелькают с
повышенной быстротой (в отличие от способа изобразить смерть остановкой
кадра). А параллельно протекает конфликт реального действия с ирреальным.
Очень интересно проведен конфликт переключения времени в фильме
молодых московских режиссеров «Завтраки 43 года» (по В. Аксенову). Герой,
едущий в мягком вагоне на юг, неожиданно узнает в приятном спутнике по
купе врага своего детства, который в голодном 1943 г. во главе банды
мальчишек грабил ослабленных голодом эвакуированных детей, отнимая у
них драгоценные школьные булочки. Мучительная обида, поднявшаяся в
душе героя и данная цепью кадров, снятых на старой мелькающей пленке и
дающих в каждой кульминации воспоминания резкое увеличение плана и
остановку ленты, толкает героя на месть: он зовет не узнающего его спутника
в вагон-ресторан и, ненавидя, кормит его на убой. Кадры ресторанного
ужина, сытая, довольная, благополучная и вполне презентабельная
физиономия обидчика сменяются на экране кадрами голода и унижения. Специфика
кинопрошедшего, которое не перестает быть настоящим, и ирреального,
которое в полной мере реально, подчеркивается и языком фильма, и сюжетом.
Герой, видимо (окончательно это так и не разъясняется), ошибся. Это другой
человек. Попутно в ресторане к тому же человеку пристает алкоголик, с
пьяной настойчивостью обвиняющий его в том, что во время войны он,
будучи интендантом, обокрал «братву». Уже несовместимость подозрений,
что один и тот же человек в 1943 г. был наглым мальчишкой, главой уличной
банды, и вором-интендантом, казалось бы, оправдывает подозреваемого. Но
временная двуплановость фильма, перемещение реального и ирреального
порождает дополнительные смысловые эффекты: в алкоголике, которого с
позором выводят из ресторана, мы вдруг видим героя-моряка 1943 г.; глу-
352
СЕМИОТИКА КИНО И ПРОБЛЕМЫ КИНОЭСТЕТИКИ
бокие, невысказанные, но носимые в душе всю жизнь обиды обретают силу
реальности, а о подозреваемом в наглости и нанесении обид персонаже
зритель, вопреки всякой логике, невольно заключает: хотя он оправдался от
двух возводимых на него обвинений, но не может быть, чтобы случайно все
в нем видели обидчика: он и есть обидчик, только его обиженные бродят
где-то вне пределов фильма и, может быть, ищут причину своих страданий
совсем в иных людях, а не в нем. Так фильм, фиксирующий с помощью
камеры и ленты настоящее время и реальное действие, оказывается
кинематографическим рассказом о том, чего нельзя увидеть, о том, что скрыто в
глубинах памяти и совести.
Глава одиннадцатая
Борьба с пространством
Мы уже говорили о том, что эффект кадра строится на установлении
изоморфизма между всеми пространственными формами реальности и
плоским, ограниченным с четырех сторон пространством экрана. Именно это
уподобление различного составляет основу кинопространства. Поэтому
стабильность границ экрана и физическая реальность его плоской природы
составляют необходимое условие возникновения кинопространства. Однако
отношение заполнения пространства экрана к его границам имеет совершенно
иную природу, чем, например, в живописи. Только художник барокко
находился в такой же мере в постоянной борьбе с границами своего
художественного пространства, как это обычно для режиссера фильма.
Экран отграничен боковым периметром и поверхностью. За этими
пределами киномир не существует. Но внутреннюю поверхность он заполняет
так, чтобы постоянно возникала фикция возможности прорыва сквозь
границы. Основным средством штурма бокового периметра является крупный
план. Вырванная деталь, заменяя целое, становится метонимией. Она
изоморфна миру. Однако мы не можем забыть, что она все же деталь какой-то
реальной вещи, и не существующие на экране контуры этой вещи сталкиваются
с границами экрана.
Однако в последние десятилетия еще большее значение приобретает штурм
плоской поверхности. Еще в 1930-е гг. Я. Мукаржовский указывал на то,
что звук компенсирует плоскость экрана, придавая ему добавочное измерение.
К аналогичному эффекту приводит расположение оси действия
перпендикулярно к плоскости экрана. Феномен поезда, наезжающего на зрителей, столь
же стар, как и художественный кинематограф, однако до сих пор сохраняет
эффективность именно в силу органического чувства плоскости экрана. Вы-
Глава одиннадцатая. Борьба с пространством
353
пустив на сцену театра танк, направленный прямо на зрительный зал, мы
никакого эффекта бы не добились. «Выскакиванье» из экрана потому и
эффективно, что невозможно, что представляет собой борьбу с самыми
основами кино. Оно напоминает кивок головы статуи командора, который страшен
и потрясает зрителя (хотя тот заранее предупрежден и ждет его весь спектакль)
именно потому, что подразумевается: перед нами неподвижная по материалу
статуя. Кивок головы тени отца Гамлета не кажется нам ужасным — призраку
мы приписываем подвижность, в которой отказываем статуе.
Аналогичную роль играет направленность действия вглубь.
Однако наиболее значительны для современного кино в этом отношении
так называемые глубинные построения кадра. Представляя сочетания
крупного плана на «авансцене» кадра и общего — в его глубине, они строят
киномир, взламывающий «природную» плоскость экрана и создающий
значительно более утонченную систему изоморфизма: трехмерный, безграничный
и многофакторный мир реальности объявляется изоморфным плоскому и
ограниченному миру экрана. Но он, в свою очередь, выполняет лишь роль
перевода-посредника; изображение строится как многомерное, эволюционируя
от живописи к театру. Блистательную технику глубинного кадра мы видим,
например, в «Гражданине Кейне» и в фильмах Трюффо.
Глубинный кадр в определенном смысле противоположен монтажу,
который выделяет линейность и, тяготея от живописи к плакату, к чисто
синтагматической системе значений, вполне мирится с плоской природой киномира.
Однако напрасно теоретики «Cahiers du cinéma» видят в глубинном кадре
непосредственную жизнь, естественность, сырую реальность, в отличие от
режиссерски препарированного и условного монтажного фильма. Перед нами
не упрощенный, а еще более совершенный, сложный, порой изысканный
киноязык. Выразительность и виртуозность его — бесспорны, простота —
сомнительна. Это не автоматически схваченная жизнь — первая ступень
системы «объект — знак», а третья ступень, имитация предельно сходного с
действительностью знака из материала, предельно от этого сходства
удаленного.
Глубинный кадр борется с монтажом, но это означает, что основное
значение он получает на фоне режиссерской и зрительской культуры монтажа,
вне которой он теряет значительную часть своего смысла. Кадр, непрерывный
в глубину, и повествование без резких монтажных стыков создают текст,
предельно имитирующий недискретность жизни, ее текучий, неразложимый
характер. Однако на самом деле кинотекст оказывается рассеченным по многим
линиям: крупные планы рассекают «авансцену» кадра, а глубинный план
остается недискретным (возможность давать его размытым и четким по
художественному выбору усиливает этот контраст). В кадре одновременно
оказываются и текст и метатекст, жизнь и ее моделирующее осмысление. Например,
в киноязыке утвердилось представление о снятых крупным планом глазах как
метафоре совести, нравственно оценивающей мысли. Так, «Стачка»
Эйзенштейна (1924) заканчивается символическим кадром «Совесть Человечества».
Аналогичным приемом пользуется М. Ромм в «Обыкновенном фашизме».
На примере кадра из «Высшего принципа» Иржи Крейчика (1960, по рассказу
354
СЕМИОТИКА КИНО И ПРОБЛЕМЫ КИНОЭСТЕТИКИ
Я. Дрды) мы видим совмещение этого знака с задним планом, выступающим
здесь в функции «самой жизни».
Мы уже отмечали, что пространство в кинематографе, как и во всяком
искусстве, — пространство отграниченное, заключенное в определенные
рамки и, одновременно, изоморфное безграничному пространству мира. К
этому, общему для всех искусств и особенно наглядно выступающему в
изобразительных, противоречию кинематограф добавляет свое: ни в одном
из изобразительных искусств образы, заполняющие внутреннюю границу
художественного пространства, не стремятся столь активно ее прорвать,
вырваться за ее пределы. Этот постоянный конфликт составляет одну из
основных составляющих иллюзии реальности кинопространства. Поэтому все
попытки введения экрана переменной величины — результат игнорирования
сущности кино и, видимо, бесперспективны. Если когда-либо на их основе
и возникнет искусство, оно будет в самом существенном отличаться от
кинематографа.
Глава двенадцатая
Проблема киноактера
В семиотической структуре кинокадра человек занимает совершенно
особое место. Киноискусство исторически создавалось на перекрестке двух
традиций: одна восходила к традиции нехудожественной кинохроники, другая —
к театру. Хотя в обоих случаях перед зрителем был живой человек, обе
традиции подходили к нему с совершенно различных сторон и подразумевали
разную по типу ориентацию зрителей. Театр показывает нам обыкновенного
человека, нашего современника. Но мы должны об этом забыть и видеть в
нем некоторую знаковую сущность — Гамлета, Отелло или Ричарда III. Нам
надо забыть о реальности кулис, накладных бород и зрительного зала и
перенестись в условную реальность пьесы. Хроникальное кино показывает
нам чередование белых и черных пятен на плоской поверхности экрана.
Однако нам надо забыть об этом и воспринимать экранные образы как
живых людей. В одном случае мы употребляем реальность как знаки, в
другом — знаки как реальность. Двойная проекция художественного
кинематографа на эти две традиции сразу же задавала два противонаправленных
типа отношения к образу человека на экране в художественном фильме.
Имелось еще одно, более частное, но все же существенное различие:
отношение человека и окружающих его вещей, персонажа и фона, в кадре
кинохроники и на сцене имеет глубоко различный характер. В кинохронике
степень реальности человека и окружающих его вещей одинакова. Это при-
Глава двенадцатая. Проблема киноактера
355
водит к тому, что человек как бы уравнивается с другими объектами
фотографирования. Значение может распределяться между всеми объектами
поровну или же даже сосредоточиваться не в людях, а в предметах. Например,
в знаменитом «Прибытии поезда» братьев Люмьер основной носитель
значений и, если можно так выразиться, «главное лицо» — поезд. Люди мелькают
в кадре, выполняя роль фона события. Это связано с двумя обстоятельствами:
подвижностью вещей и их подлинностью, — им приписывается та же мера
реальности, что и людям.
В театре действующие лица и окружающий их мир: декорации, реквизит —
составляют два уровня сообщения с принципиально различной мерой
условности и разной смысловой нагрузкой. Люди и вещи обладают на сцене
совершенно различной свободой перемещения. Не случайно в фильме братьев
Люмьер «Кормление ребенка» зрителей больше всего поразило движение
деревьев. Это выдает инерцию театрального зрелища — подвижность
человеческих фигур привычна и не вызывает удивления. Внимание привлекает
необычность поведения фона, к которому еще применяются нормы
театральной декорации.
Эта выделенность человека на сцене делает его основным носителем
сообщения (не случайно пышность постановки и величина затрат на нее
обычно обратно пропорциональны значению актера и его игры).
Восходящий к хронике тип отношения к человеку на экране был одним
из истоков стремления заменить актера типажом, а игру — монтажом
режиссера (тенденция, открыто декларированная в ранних фильмах
Эйзенштейна, но дающая себя чувствовать в дальнейшем). Противоположная
тенденция ощущается в киноспектаклях и многочисленных экранизациях. Однако
кинематограф пошел третьим путем: появление человека на экране создало
настолько новую в семиотическом отношении ситуацию, что речь пошла не
о механическом развитии каких-либо уже существующих тенденций, а о
создании нового языка.
Игра актера в кинофильме в семиотическом отношении представляет
собой сообщение, кодированное на трех уровнях: 1) режиссерском; 2) бытового
поведения; 3) актерской игры.
На режиссерском уровне работа с кадром, занятым изображением человека,
во многом та же, что и в других случаях, — те же крупные планы, тот же
монтаж или какие-либо иные, знакомые нам уже средства. Однако для нашего
восприятия актерской игры эти типичные формы киноязыка создают особую
ситуацию. Известное положение об особой роли мимики для кинематографа —
лишь частное проявление способности сосредоточивать внимание зрителя не
на всей фигуре актера, а на каких-либо ее частях: лице, руках, деталях одежды.
О том, в какой мере монтаж может восприниматься как игра актера,
свидетельствуют известные опыты Л. Кулешова, который еще в 1918 г. соединял
одну и ту же фотографию лица актера Мозжухина с несколькими эмоционально
противоположными последующими кадрами (играющим ребенком, гробом
и пр.). Зрители этого эксперимента восторженно отзывались о богатстве
мимики актера, не подозревая, что изображение его лица оставалось
неизменным, — менялась лишь их реакция на монтажный эффект.
356
СЕМИОТИКА КИНО И ПРОБЛЕМЫ КИНОЭСТЕТИКИ
Способность кинематографа разделить облик человека на «куски» и
выстроить эти сегменты в последовательную во временном отношении цепочку
превращает внешний облик человека в повествовательный текст, что
свойственно литературе и решительно невозможно в театре. Если актерская
мимика дает нам тип недискретного повествования, однотипного в этом
отношении театральному, то рассказ режиссера строится по типу
литературного: дискретные части соединяются в цепочку. Еще одна черта роднит этот
аспект «человека на экране» с «человеком в романе» и отличает его от
«человека на сцене». Возможность задерживать внимание на каких-то деталях
внешности укрупнением плана или длительностью изображения на экране (в
литературном повествовании аналогом будет подробность описания или иное
смысловое выделение), а также повторным их изображением, которой нет
ни на сцене, ни в живописи, придает кинообразам частей человеческого тела
метафорическое значение. Мы уже говорили о том, что глаза в «Стачке»
Эйзенштейна становятся «Совестью Человечества». В той же функции их
использует Ромм в «Обыкновенном фашизме», увеличивая одну за другой
карточки с личных дел жертв фашистских лагерей смерти и показывая на
экране глаза, глаза...
Актер на сцене может обыгрывать определенные стороны своего грима
(так, Отелло рассматривает черноту своих рук), на портрете Рембрандта или
Серова руки, глаза становятся особо значимыми деталями. Но ни артист, ни
живописец1 не могут отделить какую-либо часть тела и превратить ее в
метафору. При экранизациях предназначенного для театра текста порой
упускается, что обыгрывание одной и той же детали внешности на сцене и
на экране (крупным планом) семантически не адекватно. Так получилось,
например, при экранизации С. Бондарчуком «Отелло»: эффектная деталь —
протянутые через весь экран для убийства ладони, — казалось бы, вытекает
из постоянного возвращения пьесы к теме рук. Однако, став деталью
киноповествования, она, неожиданно, видимо, для самого режиссера, превратилась
в явно искажающую образ Отелло метафору: мавр предстал перед зрителем
убийцей, не страдание, а кровожадность стала его доминирующей чертой.
Не случайно С. Эйзенштейн, когда ему потребовались «сумасшедшие
глаза» Мгеброва (именно глаза, а не актер), предпринял неслыханные усилия
для того, чтобы в военное время разыскать эвакуированного и больного
артиста, доставить его, вылечить и поставить перед камерой2.
Так возникает любопытный парадокс. Образ человека на экране предельно
приближен к жизненному, сознательно ориентирован на удаление от
театральности и искусственности. И одновременно он предельно — значительно
более, чем на сцене и в изобразительных искусствах, — семиотичен, насыщен
вторичными значениями, предстает перед нами как знак или цепь знаков,
несущих сложную систему дополнительных смыслов.
1 Живопись XX в. в этом отношении ближе к кинематографу.
2 См. воспоминания В. Горюнова об Эйзенштейне (Искусство кино. 1968. № 1.
С. 144).
Глава двенадцатая. Проблема киноактера
357
Однако ориентация «человека на экране» на максимальное сближение с
«человеком в жизни» (и в этом смысле общая противопоставленность
стереотипу «человек в искусстве») не уменьшает, а увеличивает семиотичность
этого типа текстов, хотя и вносит совершенно иной тип зашифрованное™.
Отношение к бытовому поведению в театре и кинематографе в корне
отлично. Сцена, даже самая реалистическая, подразумевает некоторое особое,
«театральное» поведение: актер мыслит вслух (это коренным образом меняет
все его речевое поведение), говорит значительно больше, чем «человек в
жизни», громкость голоса и отчетливость артикуляции — а это
непосредственно отражается на мимике — он регулирует так, чтобы его было отчетливо
слышно во всем пространстве зала, движения его определяются тем, что он
виден только с одной стороны. Поэтому даже если оставить в стороне
многовековую традицию театрального жеста и театральной декламации, то
и о театре Чехова и Станиславского придется сказать, что поведение актеров
означает бытовые жесты и интонации, но совсем их не копирует.
Кинематограф создает технические возможности точного воспроизведения
бытового жеста и бытового поведения. Ниже мы остановимся на том, как
это влияет на игру киноактера. Сейчас нас интересует другой аспект:
театральное поведение, абстрагируясь от быта, в значительной мере удаляется
от семиотики национальной мимики, жеста. Венгерский ученый Ференц Папп
в статье «Дублирование фильмов и семиотика» приводит ряд интересных
примеров национальной и ареальной специфики в поведении, жестах или
внешности людей: «В фильме „Стена"1 дважды, крупным планом, в течение
довольно продолжительного времени показана обнаженная рука Кончи, жены
Пабло. На этой руке, естественно, хорошо виден след от прививки оспы.
Для нас, то есть максимум для нескольких сотен миллионов людей,
совершенно ясно, что здесь нет и речи о каком-либо знаке, это лишь след от
прививки оспы. Дальнейшие сотни миллионов, может быть, и не заметят
его, сочтут просто за царапину, так как не знакомы с самим этим явлением.
Но могут быть еще сотни миллионов, которые, например, сочтут это знаком
(касты), поэтому где-то на пороге сознания у них появится мысль: знак какой
касты это может быть, какое это значение имеет для действия. Конечно,
может быть и наоборот: наши зрители сочтут за „не-знак", за мушку или
родинку такой подлинный, социально действительный знак, который
действительно может иметь драматургическую функцию и во всяком случае говорит
что-то зрителю, посвященному в данную систему знаков»2, как кастовые
знаки в индийских фильмах.
Ф. Папп приводит интересные примеры того, как незнакомство со стилями
бытового речевого поведения делало фильм, хотя он был дублирован,
непонятным иностранному зрителю. Приведем лишь один пример: «„Анна
Каренина" (по крайней мере, в Дебрецене) шла при переполненных залах, сопро-
1 «Стена» («Le mun>) — фильм Сержа Рулле, 1967.
2 Папп Ф. Дублирование фильмов и семиотика // Обзор радио и телевидения.
Специальное издание для VII Всемирного конгресса социологии в Варне. Будапешт,
1970. С. 166.
358
СЕМИОТИКА КИНО И ПРОБЛЕМЫ КИНОЭСТЕТИКИ
вождаемая коллективными большими ожиданиями, в живой атмосфере
интереса. Так вот, в этой атмосфере на вопрос Каренина, возвращающегося
домой, что делает его жена, звучит ответ старого слуги: „Занимается с Сергеем
Алексеевичем", публика разражается громким смехом, который при
следующих кадрах превращается в нервный шум. Ведь Анна Аркадьевна, как это
тут же выясняется, занимается со своим сыном (учит его игре на рояле), это
он — Сергей Алексеевич, а не Вронский, о котором подумала публика,
услышав имя и отчество! Заметим, что — судя по этому — публика уже
немало знает о русском языковом этикете, то есть что если кого-либо называют
по имени-отчеству, тем самым ему оказывают уважение; в то же время,
конечно, нельзя ожидать от публики, чтобы во множестве имен и отчеств
романа Толстого она запомнила, кто такая Анна Аркадьевна, кто такой
Сергей Алексеевич и т. д. Поэтому зрители в первую очередь сразу же
подумали о Вронском. Правильное решение, которое должен был принять
переводчик, чтобы вернуть подлинное толкование намерениям Толстого <...>
был ответ: „Занимается с его сиятельством молодым барином"»1.
Способность кинотекста впитывать семиотику бытовых отношений,
национальной и социальной традиций делает его в значительно большей мере,
чем любая театральная постановка, насыщенным общими нехудожественными
кодами эпохи. Кинематограф теснее связан с жизнью, находящейся за
пределами искусства. На оперной сцене мы видим Радамеса, драматический
театр предлагает нам Гамлета или Ореста, но стоит экранизировать эти
сюжеты, как мы с неизбежностью увидим не только египетского фараона
или датского принца, но и американца, артиста Голливуда, англичанина или
даже более узко — Жерара Филиппа или Смоктуновского.
От этого, с одной стороны, анахронизмы в фильме ощущаются
значительно более резко, а с другой — избежать их практически невозможно,
поскольку кинематограф изображает те формы поведения, которые театр
начисто опускает и относительно которых мы ничего, кроме ныне принятых
форм, просто не знаем. Так, противоречие между историческим костюмом и
современной походкой (в театре это скрадывается условностью театральных
движений) — обычное явление современного кинематографа. Напомним
рассуждение Льва Толстого о том, что ни в чем «порода» женщины не проявляется
1 Папп Ф. Дублирование фильмов и семиотика // Обзор радио и телевидения. С. 175.
Интересно отметить, что предлагаемый перевод не синонимичен русскому и в русском
тексте фильма был бы невозможен: в Венгрии с ее высоким процентом титулованной
аристократии среди дворянства обращение типа «ваше сиятельство» утратило характер
принадлежности определенного (княжеского) титула и возможно, как формула
вежливости, по отношению к любому знатному и высокопоставленному лицу. В России же
так мог быть назван только князь, а сын Каренина Сережа, как и сам Каренин, такого
достоинства не имел. Для Толстого важно, что Каренин бюрократ, а не аристократ,
он петербуржец и чужак в мире Облонских и Щербацких. Формула вежливости
обращения к нему определяется его чином, а не родовым титулом. Сын же его мог
быть только безлико назван «их благородием» или же — правильнее всего — по имени
и отчеству. Но передать эти смысловые оттенки зрителю другой национальности, языка
и культурной традиции оказывается невозможным без длительных разъяснений.
Глава двенадцатая. Проблема киноактера
359
так явно, как в походке и спине. Современные нам киноактрисы остаются
современными нам женщинами и в костюмах Анны Карениной или Наташи
Ростовой. Для кинематографа это уже не недостаток, а эстетический закон.
Это проявляется с особенной силой, когда нам надо показать на экране
красивую героиню, например Клеопатру. Нормы красоты очень подвижны,
и режиссеру необходимо, чтобы героиня казалась красивой в свете вкусов
сегодняшнего зрителя, а не довольно туманно нами представляемых и
непосредственно-эмоционально весьма далеких вкусов ее современников. Поэтому
прическу, тип окраски ресниц, бровей и губ режиссеры предпочитают
оставлять привычными для зрителей. Костюм в кинематографе часто превращается
в знак определенной эпохи, а не в воспроизведение реальной одежды
какого-либо исторического периода.
Третий пласт семиотических значений создается собственно актерской
игрой. Как мы видели, несмотря на кажущуюся близость, самая природа
актерской игры в кинематографе существенно отличается от аналогичной ей
деятельности на театральной сцене.
Одной из основных особенностей поведения человека на экране является
жизненность, вызывающая у зрителей иллюзию непосредственного
наблюдения реальности. Однако крайне ошибочно полагать, как это иногда делали,
что цель эта может быть достигнута заменой актера «человеком с улицы».
Подобно тому как «просто человек», берясь за перо, обычно изъясняется
крайне книжно и искусственно и только большой художник может вызвать
у читателя чувство безыскусственной живой речи, «просто человек» ведет себя
перед камерой театрально и скованно. Когда в силу тех или иных эстетических
концепций актер был заменен непрофессионалом (это нужно было, чтобы
обострить у зрителя, который был об этом уведомлен, чувство истинности,
играющее, как мы говорили, столь большую роль в эстетике кино), дело
сводилось к замене «искусственности» работы актера «искусственностью»
труда режиссера, перегружалась семиотическая структура первого пласта.
На самом деле чувство «жизненности» рождается из противоречия в
структуре игры киноактера. С одной стороны, киноактер стремится к
предельно «свободному» бытовому поведению, с другой — история киноигры
проявляет гораздо большую, чем в современном театре, зависимость от
штампа, маски, условного амплуа и сложных систем типовых жестов. Не
случайно киноактер, через голову современной ему «высокой» театральной
традиции, обратился к многовековой культуре условного поведения на сцене:
к клоунаде, традиции commedia delParte, кукольного театра.
Кинематограф не только использовал разные типы условного поведения
актера, но и активно их создавал. В этом смысле штамп в кино далеко не
всегда является столь же отрицательным понятием, как в современном театре.
Штамп органически входит в эстетику кино и должен соотноситься не только
со штампом на современной сцене, но и с маской народного, античного и
средневекового театра.
Даже если не говорить о системе условных жестов и поз немого
кинематографа, а сосредоточиться на современном, ориентированном на
натуральное поведение человека типе игры киноактера, нельзя не заметить, что
360
СЕМИОТИКА КИНО И ПРОБЛЕМЫ КИНОЭСТЕТИКИ
индивидуальная ткань актерской игры складывается из пересечения многих
разнородных систем смысловой структурной организации.
Прежде всего, мифологизированная личность актера оказывается в фильме
не меньшей реальностью, чем его роль. В театре, глядя на Гамлета, мы должны
забыть об актере, его исполняющем (в этом принципиально иное положение
в опере, где, в отличие от драмы, мы слушаем певца в данной роли). В
кинематографе мы одновременно видим и Гамлета и Смоктуновского. Не
случайно киноактер или избирает постоянный грим, или вообще отказывается
от грима. Актер на сцене стремится без остатка воплотиться в роль, актер в
фильме предстает в двух сущностях: и как реализатор данной роли, и как
некоторый киномиф. Значение кинообраза складывается из соотнесения
(совпадения, конфликта, борьбы, сдвига) этих двух различных смысловых организаций.
Такие понятия, как «Чарли Чаплин», «Жан Габен», «Мастроянни»,
«Энтони Куин», «Алексей Баталов», «Игорь Ильинский», «Марецкая»,
«Смоктуновский», оказываются для зрителей реальностью, гораздо больше
влияющей на восприятие роли, чем это имеет место в театре. Не случайно зрители
кинематографа неизменно сближают разные ленты с общим центральным
актером в одну серию и рассматривают их как текст, некоторое
художественное целое, иногда несмотря на наличие разных режиссеров и
художественное отличие лент. Так, столь различные фильмы, как «Великая иллюзия»,
«Набережная туманов» и «День начинается»1, оказались для зрителей (да и
для историков французского кино) связанными, в первую очередь, благодаря
участию в них Жана Габена и тому мифу о суровом и нежном, мужественном
и обреченном герое, который он создавал и который был не персонажем
какой-либо ленты, а фактом культурной жизни Франции накануне второй
мировой войны. Сколь ни велико бывает значение личности актера в театре,
такого слияния спектаклей там не происходит.
Конечно, только массовая продукция коммерческого кино строится вокруг
очередного мифа об очередной «звезде». Поэтика такого массового
восприятия, с определенных точек зрения, напоминает фольклорную: она требует
повторения уже известного и воспринимает новое, идущее вразрез с
ожиданием, как плохое, вызывающее раздражение. Современный художественный
кинематограф использует мифологизацию киноактеров в сознании зрителей,
но не делается ее рабом2. Во-первых, подобный семиотический ореол того
1 «Великая иллюзия» (1937), роль лейтенанта Марешаля, режиссер Ж. Ренуар;
«Набережная туманов» (1938), роль Жана, режиссер М. Карне; «День начинается» (1939),
роль Франсуа, режиссер М. Карне.
2 В фильме «Все на продажу», кроме соотнесения фильма и правды в сложной
структуре «метафильма» (фильма о фильме), есть и другой аспект: соотнесение
реального актера и мифа об актере. Причем если углубление в текст (создание «съемки
съемки» и «съемки съемки съемки» или же «съемки демонстрации фильма» и
«демонстрации съемки фильма») раскрывает трагическую невозможность правды в системе
закрепленных текстов, неполную выразимость жизни в искусстве, то углубление в
миф об актере показывает его истинность: артист сыграл свою жизнь как целостное
большое произведение, и эта игра раскрыла истинное содержание его личности.
Глава двенадцатая. Проблема киноактера
361
или иного актера — фактор вполне объективный и наряду с внешностью и
характером игры учитывается режиссером при отборе кандидатов на ту или
иную роль. Во-вторых, подобные мифологизированные образы могут
сталкиваться между собой в пределах одного фильма, вступая в неожиданные
сочетания. Например, когда Рене Клеман в 1949 г., снимая «У стен Малапаги»,
пригласил Жана Габена на роль француза, убившего свою любовницу и
спасающегося от полиции в трюме идущего в Геную корабля, а затем
находящего в ее разрушенных войной портовых кварталах неожиданное
короткое послевоенное счастье и гибель, он, бесспорно, ориентировался на
сознательное воскрешение «габеновского мифа», столь значимого для
французского «поэтического реализма» 1930-х гг. Однако в этот период зрителю
уже был известен и быстро развивался итальянский неореализм. Тип массовой
съемки, трактовка быта, самое перенесение действия в Италию и привлечение
итальянских актеров — все это вводило в фильм совсем иного рода
«киномифологию».
Наслоение на сюжетный конфликт столкновения двух художественных
кодов, в определенном отношении родственных, но одновременно и весьма
отличных, вторжение героизма и безнадежности «поэтического реализма» в
атмосферу бескомпромиссной правды, создаваемую неореализмом,
определило художественную индивидуальность фильма (конечно, наряду со смысло-
образующими оппозициями: с одной стороны, противопоставлены мужчина
и женщина, француз и итальянка, человек 1930-х гг. и послевоенные люди;
мать и дочь — тема просыпающегося женского чувства в девочке и
неосознанной ревности к матери занимает в фильме особое место, — необходимость
счастья и хрупкость его в условиях войн, разрухи и нищеты и, с другой, все
эти столь разные люди и их общий враг — государство, международная
полиция, воплощающая союз власть имущих).
В-третьих, сам актер может выбирать роль, выпадающую из его
мифологизированного облика или раскрывающую его неожиданным образом. Так,
Ролан Быков, известный нам по таким образам, как в кинофильме «Тишина»,
вдруг создал «своего людоеда» в «Айболите-66». Без проекции на роли Быкова
в других фильмах мысль о людоедстве как воинствующем мещанстве, наглой
перед бессильными трусости, глубоко ущемленной сознанием своей
неполноценности и готовой уничтожить тех, кому завидует, — людей, живущих
творческой жизнью, — не была бы столь ярка художественно и одновременно
столь неожиданна.
Другой тип условности в игре киноактера связан с жанровой природой
ленты. Жанр как особый тип организации художественного мира с присущей
ему мерой условности и способом организации значений выражен в
современном кино гораздо сильнее, чем в театре. Как выполнение, так и нарушение
связанных с этим ожиданий создает возможность многочисленных
художественных смыслов. Резкое изменение меры условности в определенной части
фильма повышает семиотичность актерской игры в целом. В качестве примера
можно привести встречу убитого в начале войны молодого отца и его
выросшего в послевоенное время сына, включенную Хуциевым в контекст
бытового молодежного фильма, или же знаменитый «танец с булочками» в
362
СЕМИОТИКА КИНО И ПРОБЛЕМЫ КИНОЭСТЕТИКИ
«Золотой лихорадке» Ч. Чаплина: в «чаплиновский» по жанру фильм введен
вставной эпизод совершенно иной меры условности — воткнув в две булочки
по вилке, Чарли изображает танец балерины, причем перед глазами зрителей
пляшет уморительное существо, ножки которого составлены из вилочек и
булок и выделывают все па классического балета, а над ними возвышается
лицо Чарли. Несмотря на то, что части тела этого существа взаимно не
пропорциональны (голова живого человека) и взаимно противоречат друг
другу как очевидно условное и очевидно настоящее, зрители видят единое
существо — балерину с типично балетным противоречием между виртуозной
подвижностью «ног» и отсутствующим выражением неподвижной маски лица.
Введение эпизода с резко повышенной мерой условности усиливает
чувство подлинности в остальной части фильма, которая на ином фоне
воспринималась бы как цепь комедийных и сентиментальных штампов.
Специфика создания киноленты — съемка отдельных эпизодов отнюдь
не в хронологическом порядке сценария, так что артист играет совсем не
последовательно то, что зритель смотрит «подряд», съемка дублей и
последующая их режиссерская обработка, отсутствие реакции артиста на зал —
все это делает игру киноартиста совершенно особым искусством. Одной из
особенностей ее становится более широкая смена кодов в пределах одной
роли. Театральный образ значительно однозначнее.
В итоге мы можем сказать, что образ человека на экране предстает перед
нами как сообщение очень большой сложности, смысловая емкость которого
определена разнообразием использованных кодов, многослойностью и
сложностью семантической организации.
Однако искусство не только транслирует информацию — оно вооружает
зрителя средствами восприятия этой информации, создает свою аудиторию.
Сложность структуры человека на экране интеллектуально и эмоционально
усложняет человека в зале (и наоборот, примитив создает примитивного
зрителя). В этом сила киноискусства, но в этом и его ответственность.
Глава тринадцатая
Кино — синтетическое искусство
Мы рассмотрели сложную структуру смыслов, которую несет
«рассказывание при помощи движущихся картин». Однако современный фильм говорит
не только этим языком: он включает словесные сообщения, музыкальные
сообщения, активизацию внетекстовых связей, которые подключают к фильму
многообразные структуры смыслов. Все эти семиотические пласты сложно
монтируются между собою, и отношение их также создает смысловые эф-
Глава тринадцатая. Кино — синтетическое искусство
363
фекты. Эту способность кино «втягивать» в себя самые разнообразные типы
семиозиса и организовывать их в единую систему имеют в виду, когда говорят
о синтетическом или полифоническом характере кино1.
Сложный и богатый смыслами монтаж музыки и кинокадров, с одной
стороны, культурных ассоциаций, связанных с лицами на полотнах
Возрождения и лицами наших современников, с другой, мы находим в «Июльском
дожде» М. Хуциева. Можно было бы привести и многие другие примеры.
Сложность многообразных семиотических систем, многократная закоди-
рованность текста и связанная с этим художественная многозначность делают
современный фильм подобным живому организму, который тоже представляет
собой сгусток сложно организованной информации.
Когда-то кинематограф был «великим немым». Усилиями многих сотен
великих художников он заговорил, и заговорил о самых существенных
сторонах современной жизни. Но мало научить искусство говорить — надо еще
научить аудиторию слушать и понимать. Отсутствие элементарной
грамотности в вопросах кинематографа у широких слоев зрителей делается сейчас
серьезным препятствием на пути развития кино как искусства.
Может возникнуть вопрос: как согласовать кинематограф большой
семиотической сложности с доходчивостью, понятностью широкому кругу
зрителей самой различной степени подготовки. Ведь кино по природе — массово.
Отвечая на этот вопрос, необходимо, во-первых, иметь в виду, что пользование
системой и понимание законов ее работы — задачи различной сложности:
большинство из говорящих по телефону не знают принципов его устройства,
пользоваться языком мы научаемся в раннем детском возрасте, между тем
как понимание механизмов языка во многом вызывает трудности до сих пор.
Во-вторых, кинофильм — многослойная структура, причем слои ее
организованы с неравномерной степенью сложности. Зрители, в разной мере
подготовленные, «снимают» различные смысловые пласты. Приведем пример. В
фильме «В огне брода нет» мы находим интересный образчик полифонизма
структуры. Если соотношение кинематографической и музыкальной
организаций кажется нам чем-то привычным и естественным, то здесь перед нами
подобное же контрапунктирование кинематографа и живописи. Движение
сюжета дано на фоне цепи рисунков и сложно с ними соотносится. Сам по
себе ряд произведений живописи неоднороден по своему составу: это по-детски
непосредственные рисунки героини, плакаты гражданской войны, иконы.
Первый компонент занимает центральное место. Действительность предстает
перед нами два раза: как ее видит кинокамера и какой она видится наивному
взору «странной» героини. Зритель может, в зависимости от своей подготовки
к пониманию кинотекста, включиться в «игру перекрестного допроса»
кинокадров и кадров-рисунков или же пренебречь вторыми, увидев в них второ-
1 Впервые этот тезис разносторонне аргументировал И. И. Иоффе в книгах
«Синтетическое изучение искусства и звуковое кино» (Л., 1937) и «Музыка советского
кино. Основы музыкальной драматургии» (Л., 1938). Из современных авторов его
пространно обосновывает польская исследовательница Зофья Лисса, см. ее монографию
«Эстетика киномузыки» (М., 1970).
364
СЕМИОТИКА КИНО И ПРОБЛЕМЫ КИНОЭСТЕТИКИ
степенные кадры-связки, которые не имеют большого значения. В первом
случае его восприятие будет богаче, во втором — беднее, однако в обоих
случаях оно будет в пределах «смыслового поля» фильма. Такой же характер
имеет сопоставление параллельно чередующихся лиц с флорентийских фресок
и лиц прохожих на московских улицах в «Июльском дожде». (Попутно
отметим, что в обоих случаях контрапункт дан не в лоб, а замаскирован
сюжетной мотивировкой: в одном случае рисунки героини включены в сюжет,
в другом — это репродукция, которая висит в комнате; ср. такую же
мотивировку музыкальных включений — они несутся из транзистора,
сфотографированного в кадре, а когда во время лирического разговора по телефону
начинает звучать традиционная в таких случаях скрипка, она оказывается
помехой телефонной сети и появление ее «естественно» мотивируется.) Такой
способ подключения контрапунктного ряда оставляет зрителям свободу
увидеть в его элементах как вторую линию смысловой синтагматики, которая
соотнесена с сюжетно-кинематографической, так и малозначительный эпизод
единой сюжетной линии. Если зритель не способен уловить смысловой
полифонизм, он понижает ранг смысловой значимости эпизодов и воспринимает
текст в таком виде.
В-третьих, текст полифоничен и в другом смысле — он включает не
только движущийся пучок различных семиотических знаков одного уровня,
но и дает одновременное движение на разных уровнях. Наряду с текстами
зрителю даются коды. Кинематограф — обучающее устройство. Он не только
несет информацию, но и обучает ее извлекать.
Глава четырнадцатая
Проблемы семиотики и пути
современного кинематографа
Повышенный интерес к проблеме знака и значения — не только
особенность научного описания, но и одна из характерных черт культуры второй
половины XIX в. Столкновение очевидности и истины, принципиальная
невозможность создать зрительные модели для некоторых фундаментальных
положений современной физики атома, резкое расхождение между научной
картиной мира и привычными бытовыми (в частности — зрительными)
представлениями о нем и одновременно широкое внедрение абстрактных научных
идей в сознание необычно широкой аудитории поставили вопросы семиозиса
в центр проблематики эпохи. А острота социальных конфликтов,
возникновение средств массовой информации (и дезинформации), выдвижение про-
Глава четырнадцатая. Проблемы семиотики...
365
блемы массовой культуры и целый ряд других вопросов придали этим
интересам далеко не академический характер.
Семиотические проблемы начинают пронизывать не только язык, но и
содержание кинолент. Они привлекают таких различных художников, как
Бергман («Лицо»), Феллини («8 V2»), Антониони («Блоу-ап»). На последнем
стоит остановиться подробнее, поскольку связь его с проблемами
киносемиотики особенно наглядна.
Владелец небольшого ателье художественной фотографии готовит
совместно с писателем-авангардистом книгу о современном Лондоне. Желая
уловить лицо современной жизни в ее непредвзятых, никем не подстроенных
и документальных проявлениях, он рыщет по трущобам и паркам, улицам
и кафе, делая снимки. Таким образом, сразу же задана ориентированность
на факт, документ, в которых надеются почерпнуть истинное лицо времени.
Введение мотива фотографии одновременно значительно усложняет
семиотическую ситуацию. Проектируемое на экран киноизображение выступает в
двоякой функции. С одной стороны, оно обозначает реальность, которую
фотографируют. По отношению к ней фотография выступает как
воспроизведение, пусть документально точный, но текст. Однако, с другой стороны,
кинематография — это художественный фильм (мы этого не забываем и не
должны забывать), текст, по отношению к которому неподвижная фотография
выступает как нечто значительно более достоверное и бесспорное,
функционально уравниваемое с самой действительностью. Именно такие понятия,
как достоверность, очевидность, факт, документ, становятся предметом
художественного исследования Антониони.
Композиция фильма строится как сочетание «ядерного» эпизода с
фотографированием в парке, проявлением, увеличением и дешифровкой пленки
с обрамляющим его повествованием, создающим картину жизни, в которую
погружен герой-фотограф.
Сюжет «ядерного» эпизода сводится к следующему: прогуливаясь по парку,
фотограф видит целующуюся пару и делает несколько снимков. Внезапно
обернувшись, женщина — это высокая брюнетка с красивым и энергичным
лицом — замечает непрошенного соглядатая и, подбежав к фотографу, с
гневом требует уничтожить пленку, даже делает попытку отнять ее силой.
Затем она бросается следом за своим уходящим возлюбленным. Фотограф
успевает несколько раз щелкнуть ей в спину затвором фотоаппарата. После
нескольких эпизодов, не имеющих прямого отношения к сюжетному ядру,
мы видим его продолжение. Женщина, неизвестно как узнавшая адрес ателье
фотографа, является к нему (в ателье в это время перерыв, помощники и
модельерши ушли, он один) и умоляет отдать ей пленку, пытаясь его
соблазнить. Настойчивость ее заинтересовала фотографа, и он, обманом вручив
ей другую катушку пленки, торопливо проявляет и увеличивает снятые кадры.
На экране появляются фотографии. Первое впечатление, что этот кадр
мы уже видели, что экран возвращает нас к моменту фотографирования в
парке, — перед нами женщина, резко отвернувшаяся от мужчины, которого
она только что обнимала. Однако, вглядываясь внимательно, мы видим, что
фотография женщины дана более близким планом, она несколько иначе
366
СЕМИОТИКА КИНО И ПРОБЛЕМЫ КИНОЭСТЕТИКИ
скадрирована: границы фотографии отрезали весь окружающий пейзаж,
выделив только две человеческие фигуры. Кроме того, тогда эти фигуры
двигались — сейчас они замерли в выхваченном экспрессивном движении.
Но главное — не это. Когда мы видели этот эпизод на экране в его
«живом действии» («реальность», принадлежность этих эпизодов
«действительности», а не «документу о действительности» была подчеркнута тем, что
все они шли в предельно общих планах, камера держала себя пассивно,
режиссер демонстративно устранялся от вмешательства или истолкования),
перед нами были три фигуры: целующаяся пара и фотографирующий ее
человек. В этих условиях гнев и тревога женщины находили столь естественное
объяснение, что, казалось бы, необходимость других версий полностью
отпадала.
Повесив в своей студии увеличенную неподвижную фотографию,
фотограф, прежде всего, изъял ее из контекста: а) временного — отсечено то, что
происходило за несколько секунд до снимка, мы не видим поцелуя, перед
нами лишь женщина, отвернувшаяся от мужчины: б) причинного — реальность
была объемной, две фигуры на заднем плане и одна на переднем образовывали
треугольник, причем действие на переднем осознавалось как причина гнева
и тревоги на заднем. Фотография отсекла передний план. Глядя на нее, мы
видим взволнованность женщины, но не знаем ее причин.
Итак, сообщение изъято из контекста. Стало ли оно беднее? Безусловно.
Но оно стало не только беднее, но и непонятнее. Это плохо, если утраченная
ясность связана была с единственно возможным объяснением. Но если
возможны другие истолкования, то освобождение от гипноза веры в то, что
текст понят единственно правильным образом, неизбежно подразумевает
способность взглянуть на него как на непонятный. Осознание текста как
непонятного — неизбежный этап на пути к новому пониманию. Вырванная
из контекста фигура женщины полна тревоги — причина тревоги непонятна;
она отвернулась от мужчины — на кого она смотрит? Мы своими глазами
видели контекст, который давал, казалось, убедительные ответы на все эти
вопросы. Но вот фотограф на наших глазах начинает восстанавливать
окружение женщины — увеличивать различные части кадра и располагать их
вокруг женской фигуры. При этом заведомо создается другой контекст. Мы
могли бы сказать, что операция, которую производит фотограф, некорректна,
поскольку характер прибора, создающего фототекст, заведомо исключает из
него одного из участников ситуации — самого фотографа. Однако создание
такого — нового — контекста неожиданно раскрывает в фигуре женщины
какие-то прежде ускользавшие от нас смыслы. Прежде мы видели отношение
«женщина — фотограф» и именно ему приписывали ее гнев и испуг. Теперь
на наших глазах складывается система «женщина — окружающие ее кусты».
Связь эта настолько очевидна, что у зрителя не возникает удивления, когда
фотограф принимается, увеличивая и комбинируя различные участки кустов
с фигурой женщины, искать таким образом причину ее эмоций. И он, и
зрители в эту минуту забывают, что и то, что они видели своими глазами
в парке, и последующее появление женщины дают убедительное объяснение,
которое исключает необходимость дополнительных поисков. И именно по-
Глава четырнадцатая. Проблемы семиотики...
367
тому, что мы забыли кое-что из того, что знали, и отказались признать свое
первое впечатление истинным, мы вдруг вместе с фотографом явственно
замечаем в кустах лицо, руку человека и длинный ствол автоматического
пистолета, направленный в спину отвернувшегося спутника женщины. Стоило
нам отказаться от предвзятого убеждения, что женщина смотрит на
фотографа, как мы увидели, что она смотрит на человека в кустах. Новая
комбинация элементов дала совершенно новое объяснение. Причем потрясает
то, что обе эти версии нам дано увидеть]
На этом «ядерный» эпизод прерывается. Убежденный в том, что
фотодокумент уже раскрыл все свои тайны, фотограф звонит другу-писателю и
сообщает ему, что, сам того не заметив, он предотвратил преступление. Затем
следует эпизод более чем вольного обхождения фотографа с двумя девушками,
пытающимися устроиться на работу в его ателье (эпизод принадлежит к
окружению семиотического ядра фильма). Но вот девушки ушли, и мысль
фотографа возвращается к оставленной пленке. Мгновенным озарением он
понимает, что для того, чтобы текст раскрылся до конца, надо поставить
его и во временной контекст, сопоставить с цепочкой последующих снимков.
Он строит ряд: две обнявшиеся фигуры, две фигуры — одна обернулась к
кустам, одна удаляющаяся фигура, никого. В поисках второй —
исчезнувшей — фигуры он начинает увеличивать отдельные места того кадра,
который — мы это ясно видим своими глазами — запечатлел лишь безлюдный
клочок пейзажа. И вдруг из белого пятна на траве начинает ясно выступать
образ распростертого тела того, кто только что обнимал женщину. Этим
«ядерный» эпизод завершается.
Рассмотрим смысл этого эпизода, который мог бы быть в равной мере
и образцовым методическим анализом работы криминалиста над
фотодокументом, и наглядным пособием при исследовании семиотики изображений.
Напомним, что главный персонаж — фотограф, стремящийся «уловить
жизнь». На этом этапе фотография — документ. Обычно и историк, и
криминалист понимают свою задачу так: восстановить по документу жизнь.
Здесь формулируется другая задача — истолковать при помощи документа
жизнь, поскольку зритель своими глазами убеждается в том, что
непосредственное наблюдение жизни еще не гарантирует от глубоких заблуждений.
«Очевидный» факт совсем не столь очевиден. Режиссер убеждает зрителей в
том, что жизнь подлежит дешифровке. Операции, при помощи которых эта
дешифровка совершается, поразительно следуют по путям
структурно-семиотического анализа:
1. Объемный континуум сцены в парке1 заменяется двухмерной плоскостью
фотографии.
2. Непрерывность сцены рассекается на дискретные единицы — кадры
фотопленки, которые в дальнейшем подвергаются последующему дроблению
при увеличении отдельных частей того или иного снимка.
1 Сцена снята с подчеркнуто глубинной композицией и минимальной ощутимостью
присутствия режиссера.
368
СЕМИОТИКА КИНО И ПРОБЛЕМЫ КИНОЭСТЕТИКИ
3. Полученные таким образом дискретные единицы рассматриваются как
знаки, подлежащие дешифровке. Для этой цели они располагаются на двух
структурных осях:
а) Парадигматика. Здесь следует отметить две операции: изъятие того
или иного элемента из контекста (отсечение контекста) и многократное
его увеличение.
б) Синтагматика. Также реализуется двумя путями — как комбинация
элементов синхронно сосуществующих и следующих друг за другом
во временной последовательности.
Только организованные таким образом данные раскрывают свои тайны.
Следовательно, мало зафиксировать жизнь — надо ее расшифровать. Эта
позиция острополемична против тех направлений кинематографии, которые
ставят хронику выше художественной ленты, а в режиссере видят «охотника
за фактами». Старый спор между сторонниками кино «подсматривающего»,
идущего от Дзиги Вертова, и кинематографа объясняющего — традиции
Эйзенштейна — получает здесь новую трактовку. Это тем более
примечательно, что в прошлом Антониони был ближе к концепции «случайной»
съемки и документализма.
Однако «ядерный» эпизод — это еще не фильм, а лишь его семиотический
ствол. Как же соотнесен он с общей художественной структурой произведения?
Напомним основные эпизоды внешнего слоя сюжета. Фильм начинается
с галереи типажей опустившихся и грязных людей — обитатели ночлежки
покидают свой приют. Среди них — такой же грязный, взлохмаченный,
одетый в лохмотья человек. Внезапно он отделяется от толпы и садится в
собственную машину спортивного типа, — это был переряженный фотограф,
охотившийся за «жизненными» кадрами. Так с самого начала темы «охотника
за документом» и «ряженого» оказываются слитыми. Вторая из них
подчеркнута встречей фотографа с толпой карнавальных масок, которая с хохотом
и выкриками катит в маленьком автомобильчике, набившись в него самым
неправдоподобным образом. Эта же толпа покажется в конце фильма, сыграв
роль композиционного кольца. Далее следует цепь сюжетно не связанных
кадров. Однако здесь они получают иную, чем в предшествующих фильмах
Антониони, мотивировку: это не блуждающая камера самого режиссера, а
блуждающий объектив героя, за которым режиссер наблюдает. Затем следуют
эпизоды «ядра», о которых речь шла выше.
Внешний сюжетный ход событий возобновляется с того момента, как
фотограф, увидав на увеличенной фотографии труп, бросается в парк, на то
место, где утром он делал съемки. Под кустами он видит мертвое тело
человека, который обнимал женщину. Он бросается к своему другу-соавтору,
но по пути, как ему кажется, замечает мгновенно исчезающую в толпе
утреннюю незнакомку. Кинувшись ей вслед, он бродит по каким-то трущобам
и попадает в подвальное помещение, где модные певцы исполняют перед
толпой наэлектризованной молодежи экстатические ритмизованные песни.
По ходу исполнения певец разламывает гитару и бросает обломки ее
слушателям, среди которых немедленно возникает свалка. Захваченный общим
психозом, фотограф, сам не понимая зачем, борется за кусок гитары и
Глава четырнадцатая. Проблемы семиотики...
369
выдирается из толпы, размахивая этим трофеем. Только постепенно он
приходит в себя и с недоумением отбрасывает свою добычу. Наконец он
добирается до квартиры друга. В обширных, обставленных старинной
мебелью апартаментах — многочисленное общество разговаривающих и курящих
людей артистического вида. Многие пьяны, в некоторых группах курят
наркотики. Приятель фотографа полуневменяем. Фотограф, так и не сумев
объяснить ему сущности дела, напивается и просыпается рано утром в чужой
спальне, на чужой кровати. В измятом костюме он выбирается на улицу и
спешит в парк, к тому месту, где накануне он видел труп, — под кустами
ничего нет. Была ли трава примята — понять невозможно. Опустошенный,
через силу передвигая ноги, он идет по парку и вдруг, подойдя к теннисному
корту, видит автомобильчик из начала фильма. Из машины высыпает
карнавальная компания. Двое ряженых бегут на площадку и начинают
невидимыми ракетками и невидимым мячом играть в теннис. Стоящие вокруг следят
глазами за полетом иллюзорного мяча. В это время фиктивный мяч фиктивно
перелетает через сетку, и участник игры жестом просит фотографа его подать.
Тот сначала недоуменно смотрит на пустое место, а затем, включаясь в игру,
делает вид, что перебрасывает мяч. Игра продолжается. И в это время
фотограф с испугом отчетливо слышит удары ракетки по мячу. Кольцо
иллюзии замыкается.
В чем же смысл сюжета фильма, и правы ли те критики, которые увидали
в нем проповедь релятивизма и иллюзионизма, отказ от веры в истину и в
способность человека к ней приблизиться?
Такое утверждение покоится на обычной ошибке, часто допускаемой
критикой, — отождествлении автора и героя и приписывании первому свойств
и мыслей второго. Кто же герой фильма? Это человек, который берет на
себя задачу осмысления жизни: не случайно он фотограф — современный
летописец. Но закономерность того, что герой — фотограф (фотография
выступает в этой связи как фактография, антитеза искусства) проявляется и
в другом: герой находится на уровне той жизни, летописцем которой он
является. С этим связана его поразительная способность растворяться в среде:
в ночлежке — он бродяга, попав в среду беснующейся молодежи, он начинает
бесноваться, в обществе алкоголиков — напивается. Мир, который он хочет
запечатлеть, живет в нем, он не имеет внешней точки зрения на события.
Для человека, который не имеет опоры на конструкцию идей, единственным
прочным фундаментом становится мир бытовых представлений, вера в
реальность каждодневного опыта. Так объясняет Антониони появление
«искусства факта», столь решительно противопоставившего себя в
кинематографии последних двадцати лет «искусству идей». Но мир, основанный на
безусловном доверии эмпирическим фактам, расшатывается. С одной стороны,
его размывает наука XX в., с другой — он уже не может покоиться на том
чувстве социального благополучия, которое было психологической
подосновой эпохи позитивизма. Не случайно быт дан не в респектабельных формах
викторианской Англии, а в облике фантасмагорического маскарада: быт
фильма — это педерасты, прогуливающие пуделей, наркоманы,
рассуждающие об искусстве, и девицы, покупающие ценой «любви втроем» право быть
370
СЕМИОТИКА КИНО И ПРОБЛЕМЫ КИНОЭСТЕТИКИ
моделями в фотоателье. Это мир ряженых. Человек, поставивший на голые
факты, оказался в мире призраков. Как вначале он своими глазами увидал
не то, что происходило, в конце он своими ушами услышал то, чего не
происходит.
Следует ли отождествлять Антониони с его героем? Лишь в том смысле,
что коллизия, которую так и не смог осмыслить центральный персонаж
фильма, существует для всего современного кинематографа. Однако уже то,
что Антониони построил произведение на таком сюжете, свидетельствует о
его расхождении со своим героем. От идеи «блуждающей камеры» Антониони
перешел к фильму анализа.
В «Блоу-ап» есть один малозаметный эпизод: блуждая по предместьям,
фотограф забредает в антикварную лавку. Здесь среди рухляди, старой посуды,
мебели, картин он выбирает неизвестно как сюда попавший старый
деревянный двулопастный пропеллер. Заплатив за доставку его в ателье, он потом
обсуждает с таинственной незнакомкой (перед тем, как отдать ей ложную
пленку), что из него можно было бы сделать, — для вентилятора великоват.
Большой, красивый и абсолютно лишний пропеллер лежит на полу ателье
как напоминание об уже ставшей уделом антикваров эпохе Амундсена. Он
заброшен из другого мира и напоминает, что этот мир существовал и что
автор, в отличие от героя, об этом не забывает.
Фильм Антониони — интересное свидетельство спонтанных процессов
современного кинематографа. Весь период после второй мировой войны кино
скорее отталкивалось от традиции Эйзенштейна — интеллектуального
кинематографа, кинематографа идей и искало киноправды в толще неистолко-
ванной жизни. «Блоу-ап» — возможное свидетельство намечающегося
поворота к традиции Эйзенштейна. Кино начинает осознавать себя как знаковую
систему и сознательно использовать это свое качество. Семиотический анализ
случайных фотографий позволяет установить факт убийства, а семиотический
анализ мира, по мнению Антониони, расшатывая бездумную веру в
незыблемость «фактов», открывает дорогу киноправде.
Необходимо выделить еще один аспект — фильм Антониони ставит
вопрос: художнику необходимо духовно и идейно возвышаться над миром,
в который он погружен. Это новый и существенный этап: неореализм вообще
старался устранить художника из текста и поэтому не мог поставить вопрос
о необходимости масштабности его позиции. Качества, которые требовались
от художника, характеризовались негативными признаками: он не должен
был быть лжив, не должен был быть продажен, он не должен был быть
подчеркнуто профессионален. Лучше всего, предполагалось, если он
воплощает «точку зрения жизни», взгляд простого человека. Причем с некоторым
наивным (хотя и по-своему глубоко привлекательным) оптимизмом
предполагалось, что этому «простому человеку» XX в. от природы присущи
и гуманизм, и демократизм, и благородные эмоции. Естественно, что
главной заботой художника при таком подходе становилось «быть как
другие». «Простой человек» неореализма всегда антипод войны, фашизма,
буржуазного мира, массовой лжи и насилия или же их жертва. В какой мере
Глава четырнадцатая. Проблемы семиотики...
371
он несет ответственность за эти явления — подобный вопрос оставался в
тени.
Не случайно кризис неореализма совпал с обострением темы мещанства
(фильмы Джерми), гротескным изображением «простого человека» уже не
как жертвы зла, а активного его носителя, с одной стороны, и ответственности
художника (фильмы Феллини) — с другой. Но Феллини в «8 11г» показал
лишь трагизм невозможности самовыражения художника в мире, которому
нет дела до искусства. Антониони ставит вопрос о необходимости художнику
быть личностью.
Немецкий философ-марксист Георг Клаус пишет: «В качестве одного из
важнейших достижений семиотики следует рассматривать теорию
семантических уровней. Из нее следует, что существуют явления, сущности и
отношения, принадлежащие объективной реальности и сами по себе не являющиеся
языковыми знаками. Эти объекты образуют так называемый нулевой уровень.
Знаки, которыми обозначены объекты нулевого уровня, принадлежат
объективному языку, или языку первого уровня. Метаязык, или язык второго
уровня, включает все знаки, которые необходимы для обозначения знаков
объективного языка. Если же потребуется говорить о таком метаязыке, то
дело пойдет о языке третьего уровня и т. д.»1
Из этого следует, что описывающий всегда находится вне объекта
описания, возвышаясь над ним хотя бы на одну логическую ступень.
Эта научная истина имеет существенные последствия и для искусства. С
одной стороны, она ставит вопрос об искусстве как некотором языке более
высокого уровня логической абстракции, чем его объект — жизнь. Если в
словесных искусствах вопрос этот не только ясен, но и тривиален, то в
иконических — ив особенности в таких, которые, как кинематограф,
оперируют фотографическими по своей природе знаками, — он продолжает
оставаться актуальным, хотя и теоретически и творчески был поставлен еще
С. Эйзенштейном.
Однако, в силу особой природы искусства как семиотической системы,
у этого вопроса имеется и другая сторона. В научном тексте наличие метаязыка
(особой и корректно построенной терминологии данной науки) само по себе
обеспечивает исследователю позицию вне объекта изучения. В искусстве для
этого необходимо еще высокое идейное и нравственное достоинство
художника, который часто совмещает в своем лице и описывающего и описываемого,
врача и больного. Фотограф из фильма Антониони всеми сторонами своего
сознания принадлежит второму разряду и уже поэтому не может занять
позиции первого. Для того чтобы быть врачом, судьей, исследователем
жизни, нужен совсем иной герой, и это убедительно показывает фильм
Антониони.
1 Klaus G. Moderne Logik. Berlin, 1964. S. 82.
372
СЕМИОТИКА КИНО И ПРОБЛЕМЫ КИНОЭСТЕТИКИ
Заключение
Кинематограф говорит с нами, говорит многими голосами, которые
образуют сложнейшие контрапункты. Он говорит с нами и хочет, чтобы мы
его понимали.
Настоящая книга — не систематическое изложение основ киноязыка, не
грамматика кинематографа. Она преследует цель значительно более
скромную — приучить зрителя к мысли о существовании киноязыка, дать толчок
его наблюдениям и размышлениям в этой области.
В сфере языка необходимо разделять механизм сообщения и его
содержание, как говорят и что говорят. Естественно, говоря о языке,
сосредоточиться на первом. Однако в искусстве соотношение языка и содержания
передаваемых сообщений иное, чем в других семиотических системах: язык
тоже становится содержательным, порой превращаясь в объект сообщения.
В полной мере это относится и к киноязыку. Созданный для определенных
идейно-художественных целей, он им служит, с ними сливается. Понимание
языка фильма — лишь первый шаг к пониманию идейно-художественной
функции кино — самого массового искусства XX в.
1973
Статьи.
Заметки.
Выступления
(1962—1993)
I. ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ИСКУССТВА
Условность в искусстве1
Условность в искусстве — реализация в художественном творчестве
способности знаковых систем выражать одно и то же содержание разными
структурными средствами. Говорить об условности в произведении искусства
следует лишь постольку, поскольку вообще можно говорить о семантике
употребляемых в них знаковых систем. Там же, где речь может идти
преимущественно о синтактике (например, абстрактная живопись), более уместен
термин «формализация». Принятая в произведении искусства система
отображения, характеризующаяся семантикой, обладает известной
произвольностью по отношению к отображаемому объекту, что и позволяет говорить
о ее условности. Она с неизбежностью накладывает ограничения на
передаваемое содержание, которые не воспринимаются человеком, для которого
предназначено произведение, а принимаются им как нечто данное и
приобретают видимость «естественных», безусловных норм. Так, мы не замечаем
условности границ художественного пространства (рампа в театре, рама
картины), условности привычных форм той или иной перспективной системы
в живописи. Точно так же нам не кажутся «странными» запрещения актеру
в ряде случаев видеть и слышать происходящее на сцене (ср. реплики «в
сторону»), различие реального и сценического времени, передача синхронного
действия, происходящего в разных местах, как хронологической
последовательности сцен, глав или кадров. Китайский зритель не замечает «странности»
включения каллиграфического текста (надписи, печати) в живописный, а
первобытный художник, нанося рисунок на рисунок, видел только верхний
слой изображения. В японском кукольном театре актер, управляющий
куклами, доступен взору зрителя, но не воспринимается последним, поскольку
выводится им за пределы художественного пространства.
Между тем любая условность будет «странной» для аудитории,
находящейся вне данной системы (не знающей или не понимающей ее). Так,
китайскому зрителю XVII в. европейский полутеневой портрет представлялся
странным сочетанием размытых красок; ребенок часто не может понять,
1 Статья написана совместно с Б. А. Успенским.
Условность в искусстве
375
почему прямоугольная комната в системе линейной перспективы изображается
на одном конце узкой, а на другом — широкой. Наряду с приведенными
примерами невведенности в систему как результата незнания ее можно
отметить и случаи принципиального неприятия той или иной системы
изображения, также связанные с подчеркиванием условности (как «неправильности»,
«неправдоподобности» и т. д.).
Нормативная эстетика разных эпох исходила из представления о
некоторой единственно возможной норме «правильного» искусства, субъективно
ощущаемой как норма здравого смысла. Классицизм видел ее заложенной в
разуме, просвещение XVIII в. — в природе человека. «Правильное» с этой
точки зрения не может иметь специфики: по Канту, красота «...не может
содержать в себе ничего специфически характерного; ведь иначе она не была
бы идеей нормы...»1. Как специфическое, то есть условное, воспринимается
только искусство чуждой этнической или культурной сферы, структурные
принципы которого расходятся с общепринятой в данном коллективе нормой,
или изображение «ненормальной» действительности (сатира, гротеск — ср.
высказывания Гегеля о сатире2). При этом условность чуждого искусства
заставляет воспринимать его как зашифрованный текст, осмысляемый
посредством «перевода» его на привычную систему.
Таким образом, существенной стороной понимания искусства является
владение мерой его условности. Нарушения в этой сфере приводят к эффекту
непонимания, двоякого по своим возможностям: условное воспринимается
как безусловное (произведение искусства отождествляется с жизнью) или же,
напротив, безусловное (внутри данной системы) воспринимается как условное
(произведение искусства кажется или намеренно изображается «странным»
до нелепости). Примерами первого типа невладения мерой условности могут
считаться все попытки зрителя «войти» в текст произведения, насильственно
изменив его. Таков, например, известный эпизод «покушения» на картину
Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 г.» (вероятно,
субъективно идентичный акту цареубийства), эпизод убийства портрета в
«Портрете Дориана Грея» О. Уайльда, а также хорошо знакомые этнографам
случаи использования изображения для наведения «порчи» (отсюда —
соответствующие табу); так же может быть интерпретирован и исторический
анекдот о покушении зрителей в Новом Орлеане на жизнь актера, игравшего
роль Отелло. Примеры, связанные с неприятием тех или иных систем как
условных, также многочисленны: высказывания M. Е. Салтыкова-Щедрина
о поэзии, критика Л. Н. Толстым Шекспира и театра вообще, ироническое
отношение шестидесятников к балету, критика теоретиками Возрождения
способов моделирования пространства в средневековой живописи и т. д.
Сама антитеза «естественность — условность» возникает в эпоху
культурных кризисов, резких сдвигов, когда на систему смотрят извне — глазами
другой системы. Отсюда культурно-типологическая обусловленность перио-
1 Кант Я. Соч.: В 6 т. М., 1966. Т. 5. С. 239.
2 Гегель Г. В. Ф. Соч.: [В 14 т.]. М., 1940. Т. 13. С. 82—86.
376 СТАТЬИ. ЗАМЕТКИ. ВЫСТУПЛЕНИЯ. I. Общие проблемы искусства
дически возникающего стремления обратиться к ненормализованному и
«странному» с точки зрения привычных норм условности искусству (например,
детскому, архаическому, экзотическому), которое воспринимается как
«естественное», а привычные системы коммуникативных связей предстают как
«ненормальные», «неестественные». Такова борьба «низкого» (народного) и
«высокого» (ученого) искусства в эпоху Ренессанса, споры о «цивилизации»
и «природе» в XVIII в., обращение к фольклору в XIX в., роль прозаизмов
в поэзии Пушкина и Некрасова, различные типы примитива в искусстве
XX в. и т. д. При этом «странное», или чужое, искусство, играя
революционизирующую роль в становлении новой художественной нормы, с точки
зрения канонической может восприниматься либо как более примитивное,
либо как усложненное. Очень часто в функции этого рода средств выступает
расширение культурного ареала: например, втягивание европейского
искусства в культурный мир Азии или азиатской культуры в мир европейской
цивилизации. Наряду с пространственными вторжениями культуры может
осуществляться и однонаправленное временное вторжение культур прошедших
эпох, равно как и разного рода «смешанные» вторжения. Важный случай —
вторжение народного искусства в эстетику «культурного» века.
В отличие от нехудожественных коммуникативных систем, где структура
языка строго задана и информативным является лишь сообщение, но не язык,
художественные системы могут включать в себя информацию и о самом
языке. Роль сигналов о том, что сообщение передается на особом языке,
играют при этом «странные» (и в этом смысле наиболее «условные») знаки.
Знаки, употребляемые в искусстве, характеризуются различной степенью
условности с точки зрения произвольности связи между обычным их
употреблением вне искусства и тем значением, которое они приобретают внутри
художественной системы. Искусство может использовать в готовом виде уже
выработанные в данном обществе знаки (мифологические символы,
имеющиеся литературные образы и т. п.), но можно и специально создавать их.
В знак могут вводиться первичные по отношению к нему элементы (например,
документ в литературе и кино). Разные искусства отличаются между собой
по характеру присущей им условности. Изобразительные (зрительные)
искусства больше тяготеют к иконическим знакам, тогда как искусства звуковые
более широко используют конвенциональные символы.
Степень обусловленности иконических и конвенциональных знаков
определенной кодирующей системой различна. Если для иконических знаков в
качестве кода выступают непосредственные зрительные, слуховые и тому
подобные впечатления, жизненные и бытовые навыки, условность их внутри
данного коллектива не осознается, то конвенциональные знаки с их отчетливо
разделенными планами содержания и выражения предполагают явное
осознание условности их кодов. При этом иконическое может становиться
конвенциональным и наоборот — например, изображение рождения царицы
Хатшепсут в древнеегипетском искусстве, где царица представлена фигурой
мальчика, а то, что речь идет о женщине, пояснено надписью. Эпохи так
называемого условного искусства связаны с подчеркиванием
конвенциональное™ кода.
Проблема знака в искусстве
377
Характерной для искусства является также тенденция к семантизации
формальных элементов знаковых систем. Например, в стихотворении Гейне
«Сосна» принадлежность немецких существительных «пальма» и «сосна» к
различным грамматическим родам получает содержательное истолкование,
характеризуя пол (ср. различное решение этого вопроса русскими
переводчиками — М. Ю. Лермонтовым, Ф. И. Тютчевым, А. Н. Майковым).
Степень условности различных знаков, употребляемых в искусстве, зависит
и от того, связывается ли знак непосредственно с референтом (минимум
условности) или же связь эта является опосредованной другими знаками,
причем количество ступеней в ряду «знак знака знака...» может использоваться
для определения степени условности. Особым случаем такой опосредованной
связи является использование кода в качестве посредника между знаком и
значением (ср. введение персонажей или эпизодов, «закодированных» иным,
нежели остальной текст, кодом: Ганс Вурст в средневековом театре, «новелла
в новелле», клоунада в отношении к цирковому представлению, иллюстрации
в отношении к словесному искусству и т. п.).
Итак, условность не может быть ограничена теми или иными
произведениями искусства. Противопоставление условного искусства
реалистическому (имеющее известный смысл в конкретных историко-литературных
контекстах) теоретически неправомерно. Пушкин, обосновывая реалистическую
теорию искусства, писал: «Почему же статуи раскрашенные нравятся нам
менее чисто мраморных или медных? <...> Почему поэт предпочитает
выражать свои мысли стихами? <...> Правдоподобие все еще полагается главным
условием и основанием драм<атического> иск<усства> <...>. Читая поэму,
роман, мы часто можем забыться и полагать, что описываемое происшествие
не есть вымысел, но истина. В оде, в элегии можем думать, что поэт изображал
свои настоящие чувствования в настоящих обстоятельствах. Но где
правдоподобие в здании, разделенном на две части, из коих одна наполнена
зрителями, которые условились, etc. etc.?»1
1970
Проблема знака в искусстве
(Тезисы доклада)
1. Одним из основных вопросов поэзии является проблема семантического
содержания стихотворного текста. К ней сводятся такие основные понятия,
как отличие информационного содержания поэтического и непоэтического
текста, специфики поэзии и ее социальной функции.
1 Пушкин А. С. Поли. собр. соч: В 16 т. М.; Л., 1949. Т. И. С. 177.
378 СТАТЬИ. ЗАМЕТКИ. ВЫСТУПЛЕНИЯ. I. Общие проблемы искусства
2. Фундаментальной при решении этого вопроса будет проблема знака
в поэзии. Слабым местом формального стиховедения является отсутствие
ясности: как относится тот или иной элемент стиховой речи с проблемой
знака, то есть каково его значение. Дело сводится, таким образом, к
определению законов семантики поэтического текста.
3. Широкий круг знаковых систем строится на разделении планов
выражения и содержания. Носителем семантики и ее специфических систем
выступает в этих случаях план содержания.
4. В тех случаях, когда знак представляет собой изображение, план
выражения оказывается связанным с планом содержания. Это чрезвычайно
существенно для искусства.
5. В поэтическом тексте соотношение планов содержания и выражения
иное, чем в обычных языковых системах. Оно подчинено тем же законам,
которые действуют и в других художественных знаках, — планы содержания
и выражения оказываются тесно связанными. План выражения становится
фактором смысла, схемой построения значения.
6. Если в обычной речи фонологический и грамматический уровни могут
быть отделены от семантической стороны речи, то в поэзии они оказываются
значимыми. Это положение имеет ряд существенных практических следствий,
определяя, в частности, глубоко отличный механизм перевода обычной и
поэтической речи.
7. Семантика поэтической речи оказывается сложно построенной, причем
специфика смысловых пересечений, системы семантических сопротивопостав-
лений зависит от свойственного данному тексту построения всей структуры
плана выражения.
8. Природа знака в поэзии специфична и в другом отношении — знаком,
носителем значения, здесь выступает не слово, а весь текст, как указывал
еще Потебня. С точки зрения семантики поэтическое произведение можно
определить как сложно построенное единое значение, выразить которое при
помощи иных знаковых систем не представляется возможным. Поэзия есть
явление смысла.
1964
Проблема сходства искусства
и жизни в свете структурального
подхода
Искусство — средство познания жизни. Однако средство специфическое.
Искусство познает жизнь, воссоздавая ее. Из некоего материала художник
Проблема сходства искусства и жизни в свете структурального подхода 379
воссоздает образ жизни, строя его по конструктивному плану, который, по
его мнению, свойственен данному явлению действительности. Окружающие
художника явления — не бесформенная масса, они представляют собой
определенную материальную структуру, систему отношений, которую
художник воспроизводит конструкцией своего произведения. Создание
художника выполняет свою познавательную роль, если его структура адекватно
раскрывает структуру действительности в меру возможностей наиболее
передового сознания данной эпохи. Таким образом, в само понятие искусства
входит проблема адекватности, сопоставления изображаемого и
изображения, то, что в обычном словоупотреблении определяется как сходство —
сходство человека и его портрета, события и его описания или изображения
и т. д.
Естественный, наивный критерий при оценке достоинств художественного
произведения — сходство с жизнью. «Это похоже, так бывает, так не бывает,
не похоже» — таковы обычные формулы одобрения или неодобрения
произведений искусства. Поскольку искусство рассчитывает, главным образом,
на непосредственного, «наивного» зрителя и читателя, создается именно для
него, а не для ученого эстетика, такой вопрос вполне уместен. Более того,
в наивной форме он выражает одну из основных черт искусства. Преодоление
ограничений, которые накладывает материал на технические возможности
художника, все большее уподобление произведений искусства явлениям
жизни — таков общий закон развития художественной деятельности человека.
Параллельно шел процесс преодоления ограничений, накладываемых
эстетическими теориями. Расширение сфер искусства, все большее приближение
его к жизни — неуклонная тенденция эстетического движения. В современном
искусстве (например, в некоторых течениях киноискусства итальянского
неореализма) это приводит к демонстративному отказу от усяовностей1, к
представлению, что художественная правда достижима лишь на путях отказа от
«искусственности искусства». Возникает стремление к отказу от
профессиональных актеров, павильонных съемок, отбрасывается искусство композиции
кадра, не говоря уже об условностях характеров, сюжета и т. д. Возникают
произведения типа «Похитители велосипедов», являющиеся подлинными
шедеврами искусства и вместе с тем достигшие, казалось бы, полного сходства,
тождества искусства и жизни.
Между тем вопрос этот отнюдь не так прост, как может показаться с
первого взгляда. Ведь совершенно ясно, что, сколь близко к жизни ни были
бы воспроизведены страдания героя, зритель (и это прекрасно понимает
создатель фильма) не бросится к нему на помощь. Пока зритель испытывает
эстетические эмоции, он неизменно чувствует, что перед ним не жизнь, а
искусство, близкое к жизни, воспроизведение, а не воспроизводимое.
Известный анекдот о солдате-американце, который, защищая белую женщину,
1 Противопоставление эстетическим условностям «естественности» — закономерная
черта всякого нового этапа искусства. Ее знали и Возрождение, и классицизм, и
искусство Просвещения, и романтизм, и разные течения реалистического искусства
XIX в.
380 СТАТЬИ. ЗАМЕТКИ. ВЫСТУПЛЕНИЯ. I. Общие проблемы искусства
выстрелил в Отелло, иллюстрирует совсем не торжество искусства, а
разрушение его примитивным сознанием, не способным к эстетическому
восприятию.
Следовательно, любое приближение искусства к жизни не снимает
сознания их различия. Более того, поскольку чем ближе сходные, но разные
явления, тем более явна и их разница, самое приближение искусства к жизни
подчеркивает их различие. Различие диалектически связано со сходством
и невозможно без него. Чем больше сходства имеют между собою члены
неравенства, тем, безусловно, обнаженнее их различие.
«Противоположение (оппозиция) предполагает не только признаки, которыми отличаются
друг от друга оппозиции, но и признаки, которые являются общими для
обоих членов оппозиции. Такие признаки можно считать «основанием
для сравнения». Две вещи, не имеющие основания для сравнения, или,
иными словами, не обладающие ни одним общим признаком (например,
«чернильница и свобода воли), никак не могут быть противопоставлены
друг другу»1.
Таким образом, намечается вывод, который не изумит диалектически
мыслящего читателя: увеличение сходства искусства и жизни углубляет
осознание их различий. Античная традиция сохранила нам легенду о птицах,
клевавших мастерское полотно с изображенным на нем виноградом. Вряд
ли кто-либо из современных критиков увидит торжество искусства в попытке
зрителей съесть натюрморт. Из всего сказанного вытекает то, что само
установление сходства есть одновременно и определение различия. Обозначим
через А изображаемое, а через А' — изображение:
А*А'
Неравенство обозначает, что А не может быть заменено через А. Например,
если А и А' яблоко, то первое мы можем съесть, а второе — нет. Но все же
А и А обладают определенными чертами общности, позволяющими нам
безошибочно обозначать их одним словом. Подойдя к столу, на котором
лежит А, и к картине с изображением А', мы говорим: «яблоко». Таким
образом, А и А' оказываются составленными из элементов, одни из которых
свидетельствуют об их сходстве, другие о различии. Представим их в
следующем виде, где а = а, ноЬ^Ьи с^с'ит. д.
А = а + Ь + с+ ...п
А = а + b + с + ... п'
В*В'
B = b + c + ...n + d
B=b+c+ ...n + d'
Ясно, что из двух неравенств А ψ А' и В * в' во втором большее число
элементов равны между собой. Но поскольку это сходство все же не превра-
1 Трубецкой Н. С. Основы фонологии. М., 1960. С. 75. Более детально: Trubetzkoy N.
Essai d'une théorie des oppositions phonologiques // Journal de psychologie. XXXIII.
P. 5—18.
Проблема сходства искусства и жизни в свете структурального подхода 381
щает неравенство в тождество, оно только подчеркивает различие элементов
d и d.7 Установление сходства диалектически связано с установлением
различия. И именно потому, что в неравенстве В φ В^ где В — явление жизни, а
В7 — его изображение в искусстве, В и В' обладают глубокими чертами
сходства (Ь + с = b + с), резче выделяется и различие (d φ d). Но дело не
только в этом. Неравенства b+c+n*b+ с + ...п из первого случая и d Φ d
из второго имеют различный CMbicjf. В первом случае перед нами два ряда
различных элементов, которые в силу обилия отличающих их признаков
несопоставимы и, следовательно, нейтральны в процессе познания. Мы их
не замечаем. Во втором случае d и d'— единственный отличный элемент в
неравенстве В φ В' Это делает признаки d и d' не только различными, но и
противоположными, то есть различными, но ^противопоставленными.
Отрицательный признак также начинает играть роль в познании. Он становится
дифференцирующим, то есть структурным элементом наряду с признаками
совпадающими. Человек и мясорубка — различны. Сходство их столь общо
и бессодержательно, что и количественно большое число различий не
получает дифференцирующей роли. Человек и робот — в силу большего, чем в
первом случае, числа сходных элементов — различаются качественно иным
способом. Различие становится противоположностью, приобретает
дифференцирующее значение, делается структурным элементом. То же самое мы имеем
и при сравнении изображаемого и изображения. Чем больше элементов
сходства и чем содержательнее эти элементы, тем большее значение, большую
структурную весомость получают элементы различия.
***
В свете сказанного само понятие сходства искусства и жизни раскрывается
не прямолинейно, а диалектически-сложно.
Когда мы, глядя на живописное полотно, говорим: «это человек», «это
дерево», «это яблоко», мы тем самым устанавливаем как будто бы тождество:
некоторое сочетание линий и красок на полотне — человек, дерево, яблоко.
При этом мы, узнавая в изображении изображаемое, отнюдь не предполагаем,
что из порезанной фигуры польется кровь, а яблоко на полотне обладает
вкусовыми качествами настоящего. Значит, мы соглашаемся считать
человеком, деревом, яблоком нечто, не имеющее всех свойств этих явлений и
предметов, признаем, что и при вычете того, что отличает их на полотне
и в жизни, эти явления сохранят нечто основное, позволяющее применять
к ним определения «человек», «дерево», «яблоко». Метафора: изображение
яблока есть яблоко («я узнаю в этом сочетании красок и линий яблоко») —
подразумевает «метонимию»: яблоко, лишенное того, что не передается
средствами живописи, есть яблоко. Подобная «метонимия» (часть
принимается за целое) составляет основу художественного познания: за целое (то
есть за сущность, качественную определенность предмета) принимается
важнейшее. Когда мы, глядя на кусок мрамора и сочетание красок и линий,
говорим одно и то же: это яблоко, ясно, что перед нами раскрываются
разные сущности изображаемого предмета. То, что художественное воспро-
382 СТАТЬИ. ЗАМЕТКИ. ВЫСТУПЛЕНИЯ. I. Общие проблемы искусства
изведение никогда не подразумевает полного воссоздания (создание второй
такой же вещи), то, что определенные свойства не будут воссозданы, ведет
к познанию того, что в этот момент и с позиции этого художника
представляется важнейшим. Приведем наглядный в его простоте пример:
скульптура позднего палеолита знает женские фигурки — статуэтки так называемых
«венер». Эти изображения характеризуются чрезвычайно тщательно и с
большим мастерством (например, в так называемой «Венере» из Виллендор-
фа) исполненным торсом с резко гипертрофированными женскими формами.
Голова, особенно лицо, а также руки и ноги у подобных статуэток
изображены крайне схематично. Это понятно: для человека позднего палеолита
женщина — продолжательница рода. Отец при групповом браке неизвестен,
и именно женщина была носителем родового начала. Вместе с тем человек
палеолита — охотник. Участие женщины в труде ничтожно, и руки намечены
столь же неясно, как и голова. Лица подобной статуэтки, как правило,
вообще не выделяют. Мы видим, что на практике означает то
приравнивание целого (женщина) части (торс и специфически женские формы тела),
о котором мы говорили. Социально-историческое развитие (в данном
случае — ранние формы разделения труда, противопоставившие
мужчину-охотника женщине — продолжательнице рода) выделило понятия «мужчина» и
«женщина». А художественный путь освоения понятия был примерно
следующий. И мужчина, и женщина, конечно, воспринимались как человек.
Но то, что в этом понятии общего для обоих полов (и что в момент
разделения труда становилось социально пассивным), составляло «основание
для сравнения». Оно выносится за скобки, не изображается. Воссоздается
лишь специфическое, приравниваемое целому. Таким образом, эстетическое
восприятие этой статуэтки подразумевает, по крайней мере, три
психологических акта:
1) акт «метафоры» — узнавание — «это изображение есть женщина»;
2) акт «метонимии» — выделение существенно-специфического и
элиминирование несущественного — «эта часть женщины есть женщина»;
3) акт противопоставления, контраста — то, что объединяет понятия
«мужчина» и «женщина» в родовом понятии «человек» и, следовательно, для
видового понятия не составляет специфики, — снимается. Восприятие
изображения подразумевает, что зритель сопоставляет его с формами мужского
тела. Общее не изображается, воспроизводится лишь отличное.
Но различие есть отношение, а не предмет. Отношение нельзя
изобразить — оно осознается при сопоставлении «изображенного и неизображен-
ного».
Из перечисленных психологических аспектов восприятия первый,
таким образом, подразумевает сопоставление изображения и
изображенного, третий — изображения и неизображенного, а второй включает оба
аспекта.
Эти наблюдения над наиболее элементарным произведением искусства
позволяют сделать некоторые общие выводы.
Изображение в искусстве — это отнюдь не только то, что непосредственно
изображено. Художественный эффект — всегда отношение. Прежде всего,
Проблема сходства искусства и жизни в свете структурального подхода 383
это соотношение искусства и действительности — сложный вопрос, который
не исчерпывается бесспорной, но слишком общей формулой «искусство —
зеркало жизни». При этом следует иметь в виду, что в приведенном примере
из истории примитивного искусства часть, принимаемая за целое, есть именно
часть в прямом смысле (часть тела). В позднейшем искусстве в качестве части
выступает аспект. Теперь нам делается понятно и принципиальное отличие
искусства от анатомического макета. Макет — модель. Он заменитель
анатомируемых человеческих органов. Все необходимое знание извлекается из
рассмотрения его самого. Рассмотрению же в макете подлежит лишь то, что
материально существует.
Искусство — всегда функционально, всегда отношение. То, что воссоздано
(изображение), воспринимается в отношении к тому, что воссоздается
(изображаемому), к тому, что не воссоздано, и в бесчисленности других связей.
Отказ от воссоздания одних сторон предмета не менее существен, чем
воспроизведение других.
Поэтому макет, будучи предметом, вещью, равнодушен к идеологическим
связям создающего и воспринимающего, а произведение искусства, оставаясь
вещью, включено и в многочисленные идейные отношения. Качества вещи
в макете абсолютны, постигаются из него самого, качества вещи в искусстве
относительны, приобретают свое значение от многочисленных идеологических
контекстов. Когда мы сумеем математически точно определить все эти
контексты, мы будем иметь научное представление о природе впечатляющей
силы искусства.
***
Сходство искусства и жизни выясняется отнюдь не в сопоставлении двух
однолинейных величин. Сложная многофакторность действительности
сравнивается с произведением, опосредованным многочисленными связями. Само
это сравнение не есть однократный акт. Что создано художником, становится
ясно зрителю не из имманентного рассмотрения произведения искусства, а
из сопоставления его с объектом воссоздания — жизнью. Но ведь сам объект
воссоздания — жизнь — раскрывается для нас по-разному до того, как было
создано воспроизводящее ее произведение, и после. Поэтому, понятое из
сопоставления с действительностью, произведение требует нового
сопоставления с по-новому понятой действительностью. Логически процесс познания
сходства искусства и жизни может быть уподоблен не прямой, а спирали,
число витков которой зависит от глубины художественного создания и
сложности воспроизводимой жизни. Реально же он представляет подвижную
корреляцию, соотнесенность.
С вопросом сходства искусства и жизни связана еще одна сторона дела,
которую удобнее для начала рассмотреть на материале изобразительных
искусств.
Как мы видели, понятие сходства в искусстве диалектически сложно,
составлено из сходства и несходства, уподобление включает в себя и
противопоставление. В связи с этим само понятие сходства исторично и социально
384 СТАТЬИ. ЗАМЕТКИ. ВЫСТУПЛЕНИЯ. I. Общие проблемы искусства
обусловлено. В этом аспекте история изобразительных искусств дает
характерные этапы: сначала, как мы видели на скульптуре палеолита, изображается
с большой подробностью частное, части (тела, композиции, сцены). Задачи
изображения общего не возникает. Затем формируется более высокое
требование: искусство стремится охватить целые явления, сложные события. Однако
общее правдоподобие мыслится как сумма отдельных деталей, в которых мы
легко и сразу узнаем части изображаемого явления жизни. Затем наступает
новый период: общее, в котором зритель узнает определенное жизненное
явление, складывается из частностей, не имеющих характера отчетливого
воспроизведения какой-либо части изображаемого и получающих свой смысл
только в общем художественном контексте. Достаточно сравнить художников
Возрождения и второй половины XIX в., чтобы убедиться, что отношение
части и целого в их картинах принципиально иное. Общефилософский смысл
этого легко объясним глубоким проникновением диалектического мышления
в сознание людей XIX в.
Неуклонно возрастающая в истории изобразительного искусства тяга к
абстрагированию от сходства в частностях приводит не к уменьшению, а к
увеличению общего сходства. Количественное понятие «увеличение сходства»
означает, что в процесс сопоставления с жизнью вовлекаются все более
существенные аспекты изображения, причем осуществляется переход от
сопоставления воссозданного образа с внешностью воссоздаваемого явления,
к раскрытию, через сопоставление внешности, внутреннего сходства явлений.
Например, известно, что ранняя античная скульптура была полихромной.
Значит, для того чтобы, взглянув на этот предмет из мрамора, сказать:
«человек», человеку той поры следовало увидеть перед собой антропоморфную
и антропохромную фигуру. За этим стоит представление: человек — внешность
человека. Само понятие «внешность» диффузно, включает в себя еще не
развившиеся понятия «цвет» и «форма». Окрашенность статуи
(следовательно, неотделенность скульптуры от живописи) означает, что самостоятельное
понятие цвета как средства воссоздания (то есть познания) жизни еще не
выработалось.
Переход к неокрашенной статуе — целый переворот в сознании:
определяется понятие «форма» как самостоятельная познавательная ценность.
Сказав, что на неокрашенной статуе нет краски, мы не выразим сущности дела:
на ней есть отказ от краски, сознательное свидетельство того, что форма,
а не цвет определяет изображаемую сущность человека. Следовательно, форма
и цвет воспринимаются в этот момент как соотнесенные антиподы, антонимы,
понятия, само существование одного из которых определяется существованием
другого, как «запад» определяется понятием «восток». Более того, как объем
понятия «черный» определяется понятием «не черный» и невозможен вне его,
объем этих понятий раскрывается лишь с учетом их взаимной
обусловленности — противопоставленности в ту эпоху. Значит, определение понятия
«форма» как средства воссоздания облика человека, то есть отказ от окраски
статуй, знаменует и возникновение понятия «цвет». А это означает идейно-
психологическую предпосылку возникновения живописи как самостоятельно-
Проблема сходства искусства и жизни в свете структурального подхода 385
го искусства — воссоздания жизни средствами краски, в котором пластическое
воссоздание присутствует как отказ, со знаком «минус».
Процесс сопоставления — основа выявления сходства искусства и жизни —
имеет два аспекта: с одной стороны, это сопоставление изображаемых явлений
между собой, с другой — изображения и изображаемого. Сущность их
неодинакова. Первое выясняет качественное своеобразие изображаемого. При
этом большую роль играет не только что изображено, но и то, что не
изображено. Явление выделяется из ряда других, подобных ему, по принципу
ряда соотнесенностей, например контраста. В этом случае изображаемое
явление имеет с другими и общее («основание для сравнения»), то, что не
осознается как структурный элемент или не изображается, «выносится за
скобки», и особенное, специфичное именно ему и осознаваемое как антитеза
общему. Оно и воссоздается. Сравним два натюрморта. На одном
изображены яблоки и персик, на другом — два яблока. Предположим, что одно
из яблок второго натюрморта — точное повторение яблока в первом. Однако
восприниматься они будут по-разному. В первом случае структурным
элементом будет то в контуре и окраске яблока, что отделит его от неяблока
(здесь — персика). Индивидуальное для данного яблока будет или
восприниматься как свойство всякого яблока, или вообще не восприниматься. Во
втором случае активными сделаются те признаки, которые характеризуют
это яблоко (здесь — «не то, а это из двух»). Между тем признаки, общие
для обоих яблок, хотя и будут присутствовать, поскольку без их
воспроизведения нельзя изобразить и индивидуального, но потеряют структурную
активность.
Чем больше в изображаемом явлении «вынесено за скобки», чем меньше
то, чему приравнивается вся вещь, тем резче подчеркнута его специфика.
«Чем скупее, тем характеристичнее» — совсем не парадокс, а математическая
истина. Обозначим объект изображения как А, а изображение — как а' + а +
+ b + с + d + ...п. Поскольку мы узнаем в изображении изображаемое, то
есть их приравниваем, мы считаем:
A = a + a + b + c + d + ...η
Но другое явление В тоже изображено. Изображение его представим как
b'+ a+b+c+d+ ...п. Ясно, что если нас интересует своеобразие А в
отношении к В, то мы можем вынести их общие признаки а + b + с + d + ...η за
скобки, как основания для сопоставления и противопоставления
изображаемых сущностей. Изображение того будет выглядеть так:
А = а.'
Но
a'<a + a + b + c + d... + η
Мы изобразим меньше, но именно то, что позволяет нам отличить А от
не-А (здесь — В). Но из этого же следует, что «вынесение за скобки» в
искусстве не есть простое отбрасывание. Неизображенное подразумевается.
Только в со(противо)поставлении изображенного и неизображенного первое
обретает подлинный смысл.
386 СТАТЬИ. ЗАМЕТКИ. ВЫСТУПЛЕНИЯ. I. Общие проблемы искусства
Второй аспект имеет иной смысл. Первый позволяет нам узнать в
нарисованном предмете яблоко (отличить его от неяблока), то есть подчеркивает
тождество:
А + а'
Второй не дает нам съесть это яблоко, подчеркивая, что перед нами
воссоздание предмета, а не сам предмет:
А φ г!
Если бы изображение ничем не отличалось от изображаемого, то
нарисованное яблоко прибавляло бы к нашему знанию о его сущности не больше,
чем купленное. И в этом аспекте познание идет по тем же общим законам.
Познать ту сущность яблока, которая раскрывается только в изображении,
значит сопоставить их, вынести за скобки все равное и выделить отличие.
Именно поэтому приклеенное к полотну яблоко не прибавит ничего к нашему
познанию: изображаемое и изображение тождественны, все «вынесено за
скобки» — в остатке нуль. Но ведь остаток-то и есть специфичность,
художественное знание. Из этого следует и другое. То, что сходство в масляной
живописи создается при взгляде на расстоянии и исчезает при приближении
к полотну, — не только техническое свойство данного вида искусства, но и
выражение того этапа искусства, который воссоздает целое, подобное целому
в жизни, из частей, не подобных частям этого целого в жизни. Выкрасить
зелень на полотне в зеленую краску, выдавленную из тюбика и очень похожую
на цвет отдельного места, — значит выключить эту сферу изображения из
процесса познания. В книге И. Г. Эренбурга «Люди, годы, жизнь» приведены
слова П. Пикассо, который иронизировал по поводу представления о
живописи как о раскрашенной в «натуральные» цвета фотографии: «...нужно
рационализировать производство картин. На фабрике должны изготовлять
смеси, а на тюбиках ставить: „для лица", „для волос", „для мундира". Это
будет куда разумнее»1. Сходство искусства и жизни — не механическое
тождество, а диалектическое приближение.
Приведенные примеры были нужны нам для того, чтобы
продемонстрировать, что сходство искусства и жизни — сложное и противоречивое понятие,
всегда социально и исторически опосредованное, диалектически сочетающее
сближение и отталкивание.
Мы не ставили перед собой цели рассмотреть все стороны сложного и
неоднократно изучавшегося вопроса соотнесения явлений жизни и их
изображения. Задача данного сообщения — анализ понятия сходства с точки
зрения структурного изучения искусства. В изобразительных искусствах
вопрос этот более нагляден. В литературе он осложняется проблемой
структурной природы языка, что требует специального рассмотрения.
1962
1 Эренбург И. Люди, годы, жизнь. М., 1961. Кн. 1—2. С. 324.
Тезисы к проблеме «Искусство в ряду моделирующих систем» 387
Тезисы к проблеме «Искусство
в ряду моделирующих систем»
I. 1.0. Искусство — одна из разновидностей моделирующей деятельности.
1.1. В предлагаемых «Тезисах» рассматривается, что нового в понимании
искусства дает включение его в ряд моделирующих систем и является ли это
включение полезным, то есть:
1.1.1. Позволяет ли оно раскрыть в произведениях искусства черты,
присущие моделям вообще.
1.1.2. Позволяет ли оно раскрыть специфические черты, выделяющие
искусство из ряда других моделирующих систем.
1.2.0. Понятия искусства, произведения искусства в «Тезисах» не
определяются. Для настоящей работы оказывается достаточным интуитивное
представление, позволяющее отличить искусство от неискусства. По мере
надобности в дальнейшем изложении будут даваться частные определения. Однако
дать эксплицитное определение искусства не является целью настоящей
работы.
1.2.1. Среди многообразных определений понятия модели в настоящем
изложении будет использовано наиболее общее: модель — аналог
познаваемого объекта, заменяющий его в процессе познания. Предполагается, что все
более детализованные определения или касаются отдельных конкретных
разновидностей моделей, или могут быть выведены из принятого определения.
1.3.0. Моделирующая деятельность — деятельность человека по созданию
моделей. Для того, чтобы результаты этой деятельности могли быть
восприняты в качестве аналогов объекта, они должны подчиняться определенным
(интуитивно или сознательно устанавливаемым) правилам аналогии и,
следовательно, соотноситься с той или иной моделирующей системой.
1.3.1. Моделирующая система — структура элементов и правил их
соединения, находящаяся в состоянии зафиксированной аналогии всей области
объекта познания, осознания или упорядочения. Поэтому моделирующую
систему можно рассматривать как язык.
1.4. Системы, в основе которых лежит натуральный язык и которые
приобретают дополнительные сверхструктуры, создавая языки второй
степени, удобно называть вторичными моделирующими системами. Искусство
будет нами рассматриваться в ряду вторичных моделирующих систем.
2.0. Следовательно, искусство всегда есть аналог действительности
(объекта), переведенный на язык данной системы. Следовательно, произведение
искусства всегда условно и, одновременно, должно интуитивно осознаваться
как аналог определенного объекта, то есть быть «похоже» и «непохоже»
одновременно. Акцентация только одного из этих нерасчлененных аспектов
разрушает моделирующую функцию искусства. Формула искусства: «Я знаю,
что это не то, что оно изображает, но я ясно вижу, что это то, что оно
изображает».
388 СТАТЬИ. ЗАМЕТКИ. ВЫСТУПЛЕНИЯ. I. Общие проблемы искусства
2.1. Содержанием искусства как моделирующей системы выступает мир
действительности, переведенный на язык нашего сознания, переведенного на
язык данного вида искусства. Таким образом, разнонаправленные процессы
создания и восприятия искусства могут быть рассмотрены как явления
перекодировки с особыми на каждом этапе правилами семантической
эквивалентности.
2.1.1. То, что на одном из этапов возникает необходимость перевести
систему на естественный язык, и позволяет определить широкий круг
моделирующих систем, в который мы включаем и искусство как «вторичный».
Таким образом, ко «вторичным» системам относятся не только двухъярусные,
но и многоярусные с разным количеством уровней.
2.2. Модель отличается от знака как такового тем, что не просто заменяет
определенный денотат, а полезно заменяет его в процессе познания или
упорядочения объекта. Поэтому, если отношение языка к денотату в
естественном языке исторически-конвенционально, то отношение модели к объекту
определено структурой моделирующей системы. В этом смысле только один
тип знаков — иконические знаки — может быть приравнен моделям.
2.3. Произведения искусства строятся по принципу иконических знаков.
Из этого вытекает, что информация, заключенная в произведении искусства,
неотделима от языка его моделирования и от его структуры как знака-модели.
2.3.1. Следовательно, структурная природа произведения искусства не
есть внешняя «форма», которая, сколь бы ни говорили о ее «единстве» с
содержанием, может быть отчуждена от него. Она есть реализация
содержащейся в модели информации. Можно сказать, что специфически
художественное содержание есть содержание синтагматическое. Семантические
отношения дают нам лишь перевод с художественного языка на нехудожественный.
2.3.2. Однако последнее определение верно лишь в самом общем и грубом
виде. Поскольку и денотаты, и наши представления о них (значения) могут
различаться между собой, лишь составляя цепочки с дифференцированными
значениями соотнесенных элементов, то разграничение семантических и
синтагматических отношений вообще, видимо, можно свести к синтагматическим
значениям разных уровней.
3.0. Из определения произведения искусства как знака-модели вытекает,
что на него распространяются все основные определения не только модели,
но и знака. Из этого, в частности, следует, что произведение искусства должно
быть реализовано в определенной материальной субстанции.
И. Искусство — особая моделирующая деятельность. Для пояснения
специфики искусства в ряду других видов моделирующей деятельности
необходимы некоторые дополнительные рассуждения.
1.0. Предположим, что человек, осуществляющий какую-либо
деятельность, встал перед необходимостью обратиться к ее модели для приобретения
какого-либо знания. Например, турист, прокладывающий себе маршрут,
прекращает передвижение по местности, совершая передвижение по карте, а
затем продолжает практическое путешествие. Не определяя сущности каждого
из этих поведений, отметим лишь их четкую разграниченность. В одном
Тезисы к проблеме «Искусство в ряду моделирующих систем» 389
случае реализуется практическое поведение, в другом — условное. Первое
имеет целью достижение практических результатов, второе — получение
определенных знаний, необходимых для их достижения. В первом — человек
находится в реальной ситуации, во втором — в условной.
1.1. Отличительной особенностью поведения, реализуемого при
пользовании научно-познавательными моделями, является его отграниченность от
обычного, практического. Никто из пользующихся географической картой
не воображает, что в это время он тем самым совершает реальное перемещение
в географическом пространстве.
1.2.0. Однако существует моделирующая деятельность, которой подобное
разграничение не свойственно, — это игра.
1.2.1. Противопоставление игры познанию лишено оснований. Игра
занимает очень большое место в жизни не только человека, но и животных1.
Бесспорно, что игра является одной из серьезных и органических
потребностей психики человека. Разные формы игры сопровождают человека и
человечество на всех стадиях их развития. Беззаботное отмахивание от этого
факта вряд ли принесет науке пользу. И, что особенно важно, игра никогда
не противостоит познанию, — наоборот, она является одним из важнейших
средств овладения различными жизненными ситуациями, обучения типам
поведения. Высшие животные обучают своих детенышей всем видам
поведения, не заложенным автоматически в генетической программе, только при
помощи игры. Игра имеет огромное значение при обучении типу поведения,
так как позволяет моделировать ситуации, включение в которые
неподготовленного индивида грозило бы ему гибелью, или ситуации, создание которых
не зависит от воли обучающего. При этом безусловная (реальная) ситуация
заменяется условной (игровой). Это имеет большое значение. Во-первых,
обучаемый получает возможность останавливать ситуацию во времени
(исправить ход, «переходить»). Во-вторых, он обучается моделировать в своем
сознании эту ситуацию, так как некую аморфную систему действительности
он представляет в виде игры, правила которой могут и должны быть
сформулированы. С этим связано еще одно важное свойство: игра дает человеку
возможность условной победы над непобедимым (например, смерть) или
очень сильным (игра в охоту в первобытном обществе) противником. Это
определяет и ее магическое значение, и чрезвычайно важное
психологически-воспитательное свойство: она помогает преодолеть ужас перед подобными
ситуациями и воспитывает необходимую для практической деятельности
структуру эмоций. «Сквозная атака» Суворова — упражнение, превращавшее
ситуацию боя в игровую (условную) и состоявшее в том, что два строя
(иногда конный и пеший) стремительно сближались, проходя через взаимные
интервалы, — имела целью преодоление ужаса перед аналогичной ситуацией
в действительности и строила эмоциональную модель победы. Аналогичное
значение в воспитании человека имеет спорт, который по отношению к
трудовой деятельности также выступает как игра.
1 См.: Gross К. Die Spiele der Thiere. Jena, 1896.
390 СТАТЬИ. ЗАМЕТКИ. ВЫСТУПЛЕНИЯ. I. Общие проблемы искусства
1.2.2. Игра — особого типа модель действительности. Она
воспроизводит те или иные ее стороны, переводя их на язык своих правил. С этим
связано обучающее и тренировочное значение игры, давно уже осознанное
психологией и педагогикой. Боязнь ряда эстетиков заниматься (во избежание
обвинений в кантианстве) проблемами игры и их глубокое убеждение в том,
что всякое сопоставление игры и искусства ведет к проповеди «чистого
искусства», отрицанию связи творчества и общественной жизни, отражает
глубокую неосведомленность в вопросах смежных наук (психологии,
педагогики).
1.2.2а. Игра подразумевает реализацию особого — «игрового» —
поведения, отличного и от практического, и от определяемого обращением к
моделям познавательного типа. Игра подразумевает одновременную
реализацию (а не последовательную смену во времени!) практического и условного
поведения. Играющий должен одновременно и помнить, что он участвует в
условной (не подлинной) ситуации (ребенок помнит, что перед ним
игрушечный тигр, и не боится), и не помнить этого (ребенок в игре считает
игрушечного тигра живым). Живого тигра ребенок только боится, чучела тигра
ребенок только не боится; полосатого халата, накинутого на стул и
изображающего в игре тигра, — он побаивается, то есть боится и не боится
одновременно.
1.2.3. Умение играть заключается именно в овладении этой двуплановос-
тью поведения.
1.2.3а. Пример нарушения двуплановости — побеждает практическое
поведение, игра воспринимается «всерьез», как реальность. Эпизод,
записанный Пушкиным со слов Крылова: дети, затеявшие вскоре после подавления
восстания Пугачева «игру в пугачевщину», «разделились на две стороны,
городовую и бунтовскую, и драки были значительные». Игра перешла в
подлинную вражду. «Жертвой оной чуть было не сделался некто Анчапов
(живой доныне). Мертваго, поймав его в одной экспедиции, повесил его
кушаком на дереве. — Его отцепил прохожий солдат»1.
1.2.36. Пример нарушения двуплановости — побеждает условное
поведение — игра воспринимается как полностью лишенное связей с реальным
содержанием, бессмысленное, «несерьезное» поведение. Эпизод из повести
Л. Н. Толстого «Детство»: «Снисхождение Володи доставило нам очень мало
удовольствия; напротив, его ленивый и скучный вид разрушал все очарование
игры. Когда мы сели на землю и, воображая, что плывем на рыбную ловлю,
изо всех сил начали грести, Володя сидел, сложа руки и в позе, не имеющей
ничего схожего с позой рыболова. Я заметил ему это; но он отвечал, что
от того, что мы будем бодьше или меньше махать руками, мы ничего не
выиграем и не проиграем и все же далеко не уедем, Я невольно согласился
с ним. Когда, воображая, что я иду на охоту, с палкой на плече я отправился
в лес, Володя лег на спину, закинул руки под голову и сказал мне, что будто
бы и он ходил. Такие поступки и слова, охлаждая нас к игре, были крайне
ι Пушкин А. С. Поли. собр. соч.: В 16 т. М.; Л., 1940. Т. 9. Кн. 2. С. 492.
Тезисы к проблеме «Искусство в ряду моделирующих систем» 391
неприятны, тем более, что нельзя было в душе не согласиться, что Володя
поступает благоразумно.
Я сам знаю, что из палки не только убить птицу, да и выстрелить никак
нельзя. Это игра. Коли так рассуждать, то и на стульях ездить нельзя <...>
Ежели судить по-настоящему, то и игры никакой не будет. А игры не будет,
что ж тогда останется?»
1.2.4. Таким образом, если при использовании познавательной модели
обычного типа обращающийся к ней человек в каждую единицу времени
практикует какое-либо одно поведение, то игровая модель в каждую отдельную
единицу времени включает человека одновременно в два поведения —
практическое и условное.
1.2.5. То, что один и тот же стимул вызывает в одно и то же время более
чем одну обусловленную реакцию, один и тот же элемент вызывает две
разных структуры поведения, включаясь в каждую из которых, приобретает
различное значение и, следовательно, делается неравен самому себе, имеет
глубокий смысл и в значительной мере раскрывает общественное значение
игровых моделей.
1.2.6. В игровой модели каждый ее элемент и вся она в целом, будучи
самой собой, является не только собой. Игра моделирует случайность,
неполную детерминированность, вероятностность процессов и явлений. Поэтому
логико-познавательная модель удобнее для воспроизведения языка
познаваемого явления, его внутренней сущности, а игровая — ее речи, инкарнации
в случайном по отношению к языку материале.
Примеры:
1.2.6а. Словесный текст пьесы выступает по отношению к спектаклю как
язык системы. Воплощение его связано с тем, что однозначное становится
многозначным, благодаря внесению «случайных» по отношению к словесному
тексту моментов. Значения словесного текста не отменяются, но перестают
быть единственными. Спектакль — сыгранный словесный текст пьесы.
Примечание. В искусстве отношение языка и речи иное, чем в лингво-
семантических системах: речь модели воспринимается как язык моделируемой
реальности (случайное в произведении искусства становится, воспринимается
как воссоздание закономерного в действительности).
1.2.66. Игра — особое воспроизведение соединения закономерных и
случайных процессов. Благодаря подчеркнутой повторяемости (закономерности)
ситуации (правила игры), отклонение делается особо значимым.
Одновременно исходные правила не дают возможности предсказать все «ходы»,
которые предстают как случайные по отношению к исходным повторяемостям.
Таким образом, каждый элемент (ход) получает двойное значение, являясь
на одном уровне утверждением правила, а на другом — отклонением от
него. Двойная (или множественная) значимость элементов заставляет
воспринимать игровые модели, по сравнению с соответствующими им
логико-научными, как семантические богатые, особо значительные;
ι Толстой Л. Н. Собр. соч.: В 14 т. М., 1951. Т. 1. С. 22—23.
392 СТАТЬИ. ЗАМЕТКИ. ВЫСТУПЛЕНИЯ. I. Общие проблемы искусства
Сколько надо отваги,
Чтоб играть на века,
Как играют овраги,
Как играет река,
Как играют алмазы,
Как играет вино,
Как играть без отказа
Иногда суждено,
Как игралось подростку
На народе простом
В белом платье в полоску
И с косою жгутом1.
1.2.7. Игровая модель воспринимается по отношению к гомоморфной ей
логической не в антитезе «истинное — ложное», а как «более богатое —
более бедное» (оба — истинные) отражения жизни. Ср.: детерминированная
этическая модель поведения человека переживается как слишком правильная
и противопоставляется игровой (артистической) модели, допускающей
неоднозначные решения. Однако обе противостоят — как истинные — модели
аморального поведения.
1.2.7а. Пример: В «Живом трупе» Толстой противопоставляет этический
облик Лизы и Каренина, с одной стороны, и Феди Протасова, с другой,
государственным установлениям. Это антитеза нравственности аморализму.
Но нравственность Лизы — слишком правильная, однозначная: «Главное,
что мучало меня, это то, что я чувствовала, что люблю двух. А это значит,
что я безнравственная женщина» (следует обратить внимание на логическую
и грамматическую правильность этого — взволнованного — монолога)2.
Другая позиция: «Федя: <...> моя жена идеальная женщина была. Она и
теперь жива. Но что тебе сказать? Не было изюминки, — знаешь, в квасе
изюминка? — не было игры в нашей жизни. А мне нужно было забываться.
А без игры не забудешься»3.
Примечание: Из контекста пьесы следует, что «забываться» здесь означает
получать условное, игровое разрешение конфликтов, неразрешимых в
практическом поведении вообще или в пределах данной общественной системы.
Это явление, которое психологически можно интерпретировать как
психотерапию, может быть сопоставлено с явлением катарсиса в искусстве (ср.
у Лермонтова: «Я от него [демона] отделался... стихами»).
1.2.8. Игровые модели чаще всего возникают как интуитивные. Аппарат
их изучения, возможно, удастся создать на базе многозначной логики.
2.0. Выступая по отношению к соотнесенным с ней логико-познавательным
системам как модель с большей случайностью, игра, по отношению к
моделируемой ею действительности, характеризуется как более детерминированная
система.
1 Пастернак Б. Стихотворения и поэмы. М.; Л., 1965. С. 417.
2 Толстой Л. Н. Собр. соч. Т. И. С. 255.
3 Там же. С. 261—262.
Тезисы к проблеме «Искусство в ряду моделирующих систем» 393
2.1. Независимо от того, сформулированы правила игры или нет,
преобразуя какую-либо жизненную ситуацию в игру, мы подчиняем реальность,
которая выступает как аморфная, законам игры (организующий принцип
реальной ситуации познается через моделирование его в условных категориях
«правил» и «ходов»).
2.1.1. На этом строится изучение конфликтных ситуаций средствами
математической теории игр. Однако следует подчеркнуть, что теория игры,
изучающая наиболее эффективное поведение в конфликтных ситуациях,
вкладывает в понятие «игра» иное содержание, чем ему придается в
психологической литературе (и в настоящей работе). В принятых в нашем изложении
терминах точнее было бы сказать, что теория игр изучает не конфликтные
ситуации, а создаваемые математиками игровые модели конфликтных
ситуаций, которые в определенных случаях могут рассматриваться как
эквивалентные реальным конфликтам. Сознание того, что математический аппарат
следует пытаться прилагать не непосредственно к жизненным конфликтам,
а к тем игровым моделям, в которые эти конфликты предварительно
трансформированы, и что, следовательно, необходимо тщательное изучение
структуры игровых моделей, возможно, откроет новые перспективы и перед теорией
игр.
2.2. [Пояснение к 2.0] Игровая модель в отношении к соответствующей
ей жизненной ситуации:
а) Более детерминированна. Представим себе событие, причину которого
мы в жизни не можем назвать. В игре, трансформировав это событие в некое
ее состояние (ход), мы можем объяснить его возникновение из предыдущего
состояния по правилам игры.
б) Менее детерминированна. В жизни на всякую реально существующую
ситуацию наложено большое количество ограничений, которые
обусловливают возможность перехода ее только в одно последующее состояние. В
игровой модели все ограничения, не обусловленные ее правилами, снимаются.
Поэтому у игрока всегда есть выбор, а действия его имеют альтернативу (в
момент, когда у игрока не остается выбора, игра теряет смысл; определенная
группа игр в том и состоит, чтобы поставить «враждебного» игрока в
ситуацию отсутствия выбора, то есть в ситуацию уже не игровую). С этим
связана и условность времени в игре, ее обратимость, возможность
«переиграть».
2.2.1. Поэтому одно и то же событие в жизненной и игровой ситуации
имеет различную информационную ценность. Предположим, что мы имеем
ситуацию, в которой во время событий прошел год и участники ее постарели
на год. Сведения эти вытекают из объективной длительности событий и
могут быть полностью предсказаны. Представим себе другую ситуацию: мы
играем, что прошел год и все постарели на год. Естественно, что мы можем
играть и иначе, предложить и другой ход (как поступает драматург, регулируя
промежуток между актами в соответствии со своим замыслом). В таком
случае выбор данного «хода» из всех возможных становится
высокоинформационным. Бессмысленный в жизненной ситуации вопрос: «Почему прошел
год?» — получает глубокий смысл в любой игровой модели этой ситуации.
394 СТАТЬИ. ЗАМЕТКИ. ВЫСТУПЛЕНИЯ. I. Общие проблемы искусства
2.2.2. Поэтому игровая модель удобна для воспроизведения творческого
акта.
Пример: В поэзии Пастернака творческий акт — акт игры, а творец, Бог,
часто выступает в облике актера (режиссера), который «сыграл» вселенную1:
Так играл пред землей молодою
Одаренный один режиссер,
Что носился как дух над водою
И ребро сокрушенное тёр.
И, протискавшись в мир из-за дисков
Наобум размещенных светил,
За дрожащую руку артистку
На дебют роковой выводил2.
3.0. Искусство обладает рядом черт, роднящих его с игровыми моделями.
Восприятие (и создание) произведения искусства требует особого —
художественного — поведения, которое имеет ряд черт общности с игровым.
3.0.1. Важным свойством художественного поведения является то, что
практикующий его одновременно реализует два поведения: он переживает
все эмоции, какие вызвала бы аналогичная практическая ситуация, и,
одновременно, ясно сознает, что связанных с этой ситуацией действий (например,
оказания помощи герою) не следует совершать. Художественное поведение
подразумевает синтез практического и условного.
Примечание: Весьма существенное различие между художественным
поведением автора и читателя (зрителя) в данной связи не рассматривается.
3.0.2. Пример:
Над вымыслом слезами обольюсь3.
Блестящая характеристика двойной природы художественного поведения:
казалось бы, сознание того, что перед нами вымысел, должно исключать
слезы. Или же обратное: чувство, вызывающее слезы, должно заставить
забыть, что перед нами вымысел. На деле оба эти — противоположные —
типы поведения существуют одновременно и одно углубляет другое.
3.1. Свойство это приобретает в искусстве особое значение: каждый
элемент художественной модели и вся она целиком оказываются включенными
одновременно более чем в одну систему поведения, при этом получая в
каждой из них свое особое значение. Значения А и А' каждого из элементов,
уровней и всей структуры в целом не отменяют друг друга, а
взаимосоотносятся. Игровой принцип становится основой семантической организации.
3.1.2. Рассмотрим три рода текстов: пример в научном изложении, притчу
в религиозном тексте и басню. Пример в научном тексте однозначен, и в
1 Было бы весьма заманчиво построить историю отношения к моделированию на
изучении изображения акта творения в мировой литературе: мифологические тексты,
космогонические сюжеты в мировой литературе (Мильтон, Ломоносов, Радищев),
современные поэты дали бы здесь чрезвычайно интересный материал. Оборотной
стороной этого было бы изучение концепции деструкции — эсхатологических текстов.
2 Пастернак Б. Стихотворения и поэмы. С. 202.
3 Пушкин А. С. Поли. собр. соч. Т. 3. С. 228.
Тезисы к проблеме «Искусство в ряду моделирующих систем» 395
этом его ценность. Он выступает как интерпретация общего закона и в этом
смысле является моделью абстрактной идеи. Церковно-культовой текст очень
часто строится по принципу многоярусной семантики. Однако в этом случае
одни и те же знаки служат на разных структурно-смысловых уровнях
выражению различного содержания. Причем значения, которые доступны данному
читателю в соответствии с его уровнем святости, посвященности, «книжности»
и т. д., недоступны другому, еще не достигшему этой степени. Когда читателю
«открывается» новый семантический уровень, старый отбрасывается как уже
не содержащий для него истины. По этому принципу строится масонская
символика и — через нее — публицистика ранних декабристских обществ.
Один и тот же текст мог содержать тайное (конспиративное) значение для
посвященного и несокровенное — для «профана». При этом каждому
открывается истина — в меру его способности ее вместить. Текст для «профана»
содержит истину, которая для посвященного перестает ею быть. Итак, текст
в отношении к данному читателю несет лишь одно значение.
Художественный текст построен иначе: каждая деталь и весь текст в
целом включены в разные системы отношений, получая в результате
одновременно более чем одно значение. Будучи обнажено в метафоре, это свойство
имеет более общий характер.
3.1.3. Пример: Рассмотрим памятник древнерусского духовного
красноречия «Слово о законе и благодати» как произведение церковной
публицистики и как художественный текст. Сочинение митрополита Илариона
отличается четкой выделенностью уровней.
На первом уровне противопоставляются свобода и рабство как
положительное и отрицательное:
свобода
рабство
Сарра, Исаак
Агарь, Измаил
Затем вводится новый уровень оппозиции: «христианство — язычество»,
причем он подразумевает и новые знаки, и новое прочтение старых.
христианство
язычество
Христос — распятие Христианские земли
Исаак — пир у Авраама Иудея
(съедение тельца)
Третий уровень — оппозиция «новое — старое».
новое
старое
новые христиане — Русь
старые христиане — Византия
И все это вместе укладывается в антитезу «благодать — закон».
Таким образом, слушатель, который в притчах видел лишь
новеллистические сюжеты, мог и здесь уловить сообщение о соперничестве Сарры и
Агари. В этом случае каждое слово было бы знаком общеязыкового
содержания. Однако проведенное через весь текст противопоставление закона
благодати настраивало на поиски сокровенного текста — «инословия», о
396 СТАТЬИ. ЗАМЕТКИ. ВЫСТУПЛЕНИЯ. I. Общие проблемы искусства
котором в «Изборнике Святослава» 1073 г. сказано: «Есть ино нечто глаго-
люшти, а ин разум указуюшти». В этом случае при восприятии текста на
первой семантической ступени закон получал синонимы: Агарь, Измаил —
(в антитезе Исааку), Исаак (в антитезе Христу), Сарра (в антитезе Деве
Марии), Иудея (в антитезе христианству), Ветхий Завет, Византия (в антитезе
Руси). Все эти и другие знаки имели содержанием рабство — понятие, для
Руси XI в. полное социального содержания и соотнесенное с семиотикой
отверженности, униженности, низшего состояния. Благодать имела
синонимами: Сарра (в антитезе Агари), Исаак (в антитезе Измаилу), Дева Мария,
Христос, христианство, Новый Завет, Русь. Все эти знаки имели общее
содержание — свобода, общественная полноценность, право на социальную
активность и духовное значение («Образ же закону и благодати — Агарь и
Сарра, работнаа Агарь и свободнаа Сарра. <...> И родися благодать и
истина, а не закон; сын а не раб»).
На втором уровне социально-знаковое противопоставление мужа и холопа
обретало новый поворот — оно приравнивалось оппозиции «христианство —
язычество». Христианство воспринималось как духовное освобождение,
придающее каждому правильно верующему человеку то нравственное значение,
которое в социальной иерархии имел лишь свободный человек.
Наконец, слушатель, посвященный в сложные отношения княжеского
двора Ярослава и Византии, уравнивал антитезу «новых» и «старых» людей
(«работная прежде ти, потом свободная» — курсив мой. — Ю. Л.) и
истолковывал благодать и весь ряд ее синонимов как символ Руси, а закон —
Византии.
Однако «Слово о законе и благодати» — художественное произведение,
и в данном случае это отражается в том, что все значения не отменяют друг
друга, воспроизводя последовательное погружение непосвященного в тайный
смысл, а присутствуют одновременно, создавая игровой эффект. Иларион
дает слушателям насладиться обилием смыслов и возможных истолкований
текста.
3.2. Механизм игрового эффекта заключается не в неподвижном,
одновременном сосуществовании разных значений, а в постоянном сознании
возможности других значений, чем то, которое сейчас принимается. Игровой
эффект состоит в том, что разные значения одного элемента не неподвижно
сосуществуют, а «мерцают». Каждое осмысление образует отдельный
синхронный срез, но хранит при этом память о предшествующих значениях и
сознание возможности будущих.
3.3. Следовательно, эксклюзивно-унитарное определение значения
художественной модели возможно лишь в порядке перекодировки ее на язык
нехудожественных моделирующих систем.
3.3.1. Художественная модель всегда шире и жизненнее, чем ее
истолкование, а истолкование всегда возможно лишь как приближение.
3.3.2. С этим же связан известный феномен, согласно которому при
перекодировке художественной системы на нехудожественный язык всегда
остается «непереведенный» остаток — та сверхинформация, которая
возможна лишь в художественном тексте.
Тезисы к проблеме «Искусство в ряду моделирующих систем» 397
3.4. И игра, и искусство, преследуя вполне серьезные цели овладения
миром, обладают общим свойством — условного разрешения. Заменяя
необозримо сложные правила реальности более простой системой, они
психологически представляют следование правилам, принятым в данной системе
моделирования, как разрешение жизненной ситуации. Поэтому игра и
искусство (даже кровавая игра — бой быков — или трагическое искусство)
являются не только средством познания (гносеологически), но и средством отдыха
(психологически). Они несут разрешение, психологически совершенно
необходимое человеку.
4.0. Искусство не есть игра.
4.0.1. Реально зафиксированный этнографией факт генетической связи
искусства и игры, равно как и то, что выработанная в игре дву(много)-
значность стала одним из основных структурных признаков искусства, не
означает тождества искусства и игры.
4.0.2. Игра представляет собой овладение умением, тренировку в условной
ситуации, искусство — овладение миром (моделирование мира) — в условной
ситуации. Игра — «как бы деятельность», а искусство — «как бы жизнь».
4.0.3. Из этого следует, что соблюдение правил в игре является целью.
Целью искусства является истина, выраженная на языке условных правил.
4.0.4. Поэтому игра не может быть средством хранения информации и
средством выработки новых знаний (она лишь путь к овладению уже
добытыми навыками).
Между тем именно это составляет сущность искусства.
4.1. Особо сложный случай — исполнительские искусства, отношение
которых к игре (не случайно: «игра актера», «игра пианиста») — более
комплексный вопрос.
4.1.1. Искусство не игра, но в поведении создающего и воспринимающего
(по-разному) наличествует элемент игры (сродни исполнительскому
мастерству).
4.1.2. Актерское исполнительное мастерство и балет занимают исторически
и типологически промежуточное место между игрой и искусством. Однако,
совпадая теми или иными своими сторонами с искусством или игрой, они
тем самым выделяют различие, существующее между этими видами
моделирующей деятельности.
4.1.3. Исполнительство находится в таком отношении к исполняемому
тексту, в каком исполняемый художественный текст — к эквивалентным ему
нехудожественным моделирующим структурам: оно резко увеличивает игру —
многозначную включенность элементов в пересекающиеся смысловые поля
и относительную случайность этих пересечений (см. 5.1. и 5.2.). Можно
сказать, что если спектакль — это сыгранная пьеса, то пьеса — это
«сыгранная» эквивалентная ей нехудожественная идея. Понятие «сыгранная идея»
отличается от понятия «воплощенная идея» тем, что подразумевает не
иллюстративную материализацию абстракций, а создание системы с
многоярусными вероятностными пересечениями, системы, которая не иллюстрирует
нехудожественную идею, а, основываясь на ней как на моделирующей системе
низшего уровня, несет информацию, не передаваемую иными средствами.
398 СТАТЬИ. ЗАМЕТКИ. ВЫСТУПЛЕНИЯ. I. Общие проблемы искусства
5.1. Не генетическую, а теоретическую причину соприкосновения столь
психологически различных сфер, как искусство и игра, можно видеть в важной
особенности художественных моделей: ученый создает модель на основании
гипотезы, художник — гипотезу на основании модели. Он моделирует
непонятный (или не до конца понятный) объект.
5.2. Модель такого типа не может быть жестко детерминированной. Она
неизбежно должна быть более гибкой, чем любая теоретическая модель.
5.3. Связанный с этим вопрос — до сих пор не до конца проясненная
причина высокой устойчивости художественных моделей.
5.4.0. Из этого вытекает существенная особенность произведения искусства
как модели. Научная модель воссоздает в наглядной форме систему объекта.
Она моделирует «язык» изучаемой системы. Художественная модель
воссоздает «речь» объекта. Однако по отношению к той действительности,
которая осознается в свете уже усвоенной художественной модели, эта модель
выступает как язык, дискретно организующий новые представления (речь).
Воображаясь героиней
Своих возлюбленных творцов,
Клариссой, Юлией, Дельфиной,
Татьяна в тишине лесов
Одна с опасной книгой бродит,
Она в ней ищет и находит
Свой тайный жар, свои мечты...
(«Евгений Онегин»)
Личность Татьяны для нее самой — недискретный ряд («речь системы»). Она
осознается отождествлением с определенными художественными типами,
которые выступают здесь в качестве языка. Одновременно, по отношению к
теориям предромантизма, высказанным в абстрактной форме, образы
Клариссы, Юлии, Дельфины — речь.
12 3 4
действительность
действительность,
осмысляемая в
свете
предшествующего художественного
опыта
недискретный ряд
(речь)
нию к
действительность
объект
теоретическая модель
наша
концепция
объекта
искусство
произведение
искусства
недискретный
ряд (речь)
дискретный
ряд (язык)
недискретный
ряд (речь) по
отношению к 2,
дискретный ряд
(язык) по отноше-
Тезисы к проблеме «Искусство в ряду моделирующих систем» 399
5.4.1. Из этого вытекает, что художественное произведение не создается
как жестко детерминированная реализация одного конструктивного принципа.
Конструктивная идея на разных уровнях реализуется с известной степенью
независимости, и если каждый уровень в отдельности строится по
определенным структурным законам, то сочетание их скорее всего подчиняется
лишь вероятностным законам.
5.4.2. В научной модели эти случайные элементы просто снимались бы
как несущественные. В художественной модели реализуемый в ней язык,
художественно презумированный (язык стиля, направления), вступает в
соотношение не только с естественным языком («русский язык», «французский
язык» в литературе, язык естественных зрительных образов в живописи), но
и с тем языком, который предстоит реконструировать на основании речевой
данности предлагаемого художественного текста (модели). Причем элемент
«случайный», чисто речевой в одной системе может оказаться принадлежащим
языку в другой. На этом строится, например, суггестивная значительность
деталей — характерная черта нового и новейшего искусства. При этом
существенно, что случайность данного сцепления деталей не уничтожается,
но, оставаясь случайными и не значимыми для одного конструктивного
языка, они одновременно высоко значимы для другого.
III. 1.0. Особая конструктивная природа искусства делает его особым и
исключительно совершенным средством хранения информации. Произведения
искусства не только отличаются необычайной емкостью и экономностью
хранения весьма сложной информации, но и:
1.1. Могут увеличивать количество заключенной в них информации. Это
уникальное свойство произведений искусства придает им черты сходства с
биологическими системами и ставит их на совершенно особое место в ряду
всего созданного человеком.
1.2. Выдают потребителю именно ту информацию, в которой он нуждается
и к усвоению которой он подготовлен. Уподобляя себя потребителю,
произведение искусства одновременно уподобляет его себе, подготавливая к
усвоению еще не воспринятой им доли информации.
2. Изучение этих свойств искусства как средства хранения информации
(равно как вообще свойств искусства как модели) имеет не только
теоретическое значение, стимулируя создание аппарата для описания сверхсложных
систем, но и практическое. Если бионика позволяет использовать в
технических целях доступные нашему пониманию конструктивные законы
биологии, то принципиально нет ничего невозможного в возникновении науки,
которая изучала бы конструктивные принципы искусства для решения
определенных технических задач (в частности, хранения информации).
3. Научные модели представляют собой средство познания, организуя
определенным образом интеллект человека. Игровые модели, организуя
поведение, являются школой деятельности (в связи с этим понятно, насколько
безосновательна мысль о том, что тезис наличия в искусстве игрового элемента
противостоит представлению об общественной действенности, — на самом
400 СТАТЬИ. ЗАМЕТКИ. ВЫСТУПЛЕНИЯ. I. Общие проблемы искусства
деле имеет место прямо противоположное: игра есть один из путей
превращения отвлеченной идеи в поведение, деятельность).
3.1. Художественные модели представляют собой единственное в своем
роде соединение научной и игровой модели, организуя интеллект и поведение
одновременно. Игра выступает по сравнению с искусством как
бессодержательная, наука — как бездейственная.
1967
О природе искусства
Наука и искусство — это как бы два глаза человеческой культуры. Именно
их различие (и равноправие) создают объемность нашего знания. Искусство
нельзя отнести к области забав или же наглядных иллюстраций к высоким
моральным идеям. Искусство — форма мышления, без которого
человеческого сознания не существует, как не существует сознания с одним полушарием.
Казалось, что наука занимается тем, что повторяемо и закономерно. Это
был один из основных принципов науки. Наука не изучает случайного. А
все закономерное — это то, что правильно и можно предсказать. Случайное
же не повторяется, и предсказать его нельзя. А как же мы тогда смотрели
на историю? Мы видели в ней совершенно железные повторяемости и
говорили: что такое свобода? — это осознанная необходимость. Мы можем в
таком случае понять то, что объективно должно произойти, — вот и вся
наша свобода. И тогда мы действительно получали фатальную линию
движения человечества. Имея точку отсчета и закон движения, мы можем
высчитать все до конца. А если не высчитываем, значит, у нас недостаточно
информации.
Но Пригожий показал, что это не так. Предсказуемые процессы идут по
заранее вычисляемым закономерностям. А потом наступает какая-то точка,
когда движение вступает в непредсказуемый момент и оказывается на распутье
как минимум двух, а практически — огромного числа дорог. Раньше бы мы
сказали, что можем высчитать вероятность, с которой мы пойдем в ту или
иную сторону. Но в том-то и дело, что, по глубокой мысли Пригожина, в
этот момент вероятность не срабатывает, срабатывает случайность.
Когда мы смотрим вперед, мы видим случайности. Посмотрим назад —
эти случайности становятся для нас закономерностями! И поэтому историк
как бы все время видит закономерности, потому что он не может написать
ту историю, которая не произошла. А на самом деле, с этой точки зрения,
история есть один из возможных путей. Реализованный путь есть потеря в
то же время других путей. Мы все время обретаем — и все время что-то
теряем. Каждый шаг вперед есть потеря... И вот здесь мы сталкиваемся с
необходимостью искусства.
О природе искусства
401
Оно дает прохождение непройденных дорог, то есть того, что не
случилось... А история неслучившегося — это великая и очень важная история.
И искусство — всегда возможность пережить непережитое, вернуться назад,
переиграть и переделать заново. Оно есть опыт того, что не случилось. Или
того, что может случиться. Еще Аристотель понимал глубочайшую связь
искусства с областью возможного. Писатель, например, никогда не дает
описания своего героя полностью. Он, как правило, выбирает одну или
несколько деталей. Все помнят в пушкинском «Онегине» «острижен по
последней моде...», но что за прическа, какого цвета волосы, мы не знаем, а
Пушкин не испытывает в этом никакой нужды. Но если мы будем
экранизировать «Онегина», то невольно придется дать ему все эти и многие другие
признаки. То есть дать то, чего у Пушкина в романе нет, перевести письменный
текст в зрительное изображение. В экранизации герой предстает как
законченный, опредмеченный. Он полностью воплощен. И дело не в том, что у
каждого читателя свое представление о герое романа, не совпадающее с
персонажем экранизации. Словесный образ виртуален. Он и в читательском
сознании живет как открытый, незаконченный, невоплощенный. Он
пульсирует, противясь конечному опредмечиванию. Он сам существует как
возможный, вернее, как пучок возможностей. Видимо, поэтому нашим режиссерам
легче экранизировать американские романы, а американцам — русские,
потому что тут уже нет открытых образов, а есть только литературные штампы.
Мы знаем, как выглядят все американцы, американцы тоже имеют на наш
счет совершенно ясное представление.
Или проблема реставрации. Восстановление первоначального вида того
или иного памятника культуры — вещь чрезвычайно сложная. И не только
потому, что первоначального вида никто не видел. Все попытки приделать
руки Венере Милосской поражают своей безвкусицей! Они изначально
обречены на неудачу. Почему? Потому что в нашем сознании Венера безрука, а
Ника безголова. И «восстанавливая» недостающие части, мы разрушаем не
только сам памятник, но и нечто другое, не менее важное. Простой пример.
Вот, скажем, в Ленинграде реставрировали Меншиковский дворец. Очень
хорошо, очень мило, наверное, похоже на то, как жил Меншиков... Но ведь в
этом здании был Кадетский корпус. Там учились поколения людей. Туда
вносили раненых декабристов. Дворец уже тогда выглядел иначе! И почему
Меншиков — это история, а Ахматова, которая ходила мимо этого дома и видела
его нереставрированным, — не история? Мы прекрасно знаем, какой вклад
в европейскую культуру романтизма внесли развалины средневековой Европы.
Именно развалины! Отсутствие здесь ощущается сильнее, чем присутствие, а
случайные дефекты культурных памятников становятся эффектами, потенции-
руя возможности иных смыслов, не предусмотренных полноценным текстом.
Мы уже говорили о принципиальной непредсказуемости движения,
происходящего в мире в определенные моменты, и о моментах предсказуемости,
сменяющихся взрывами, результат которых непредсказуем. Это особенно
важно для человеческой истории, где вторжение сознания резко увеличивает
степень свободы и, следовательно, непредсказуемости. Там, где мы имеем
добро, там мы обязательно будем иметь и опасность зла, потому что добро
402 СТАТЬИ. ЗАМЕТКИ. ВЫСТУПЛЕНИЯ. I. Общие проблемы искусства
есть выбор. И искусство в этом смысле таит в себе опасность. Библейский
Адам, получив выбор, получил и возможность греха, преступления... Где есть
свобода выбора — там есть и ответственность. Поэтому искусство обладает
высочайшей нравственной силой. Мы понимаем нравственную силу искусства
часто очень поверхностно. Обычное представление: человек прочитал
хорошую книгу — и стал хорошим; прочитав книгу, где герой поступает дурно, —
стал плохим. Поэтому, говорим мы, плохие книги лучше не читать. Мы как
бы говорим: не знайте, что такое плохие поступки, иначе вы начнете их
делать! Но незнание никого никогда не спасает. Сила искусства в другом:
оно дает нам выбор там, где жизнь выбора не дает. И поэтому мы получаем
выбор в сфере искусства, перенося его в жизнь. Отсюда возникает очень
серьезный вопрос, который всегда останавливал моралиста, и останавливал
с основанием: что искусству позволено, а что — нет? Искусство — не учебная
книга и не руководство по морали. Мы считаем, что современное искусство
очень опасно — там много пороков! Но возьмем Шекспира. Что мы читаем
в его трагедиях? Убийства, преступления, кровосмесительство. В одной
трагедии выкалывают глаза, в другой — вырезают язык и отрубают руки
изнасилованной героине. Это чудовищно! Но в искусстве это почему-то
оказывается возможным. И никто не обвинит Шекспира в безнравственности.
Правда, было время, когда обвиняли. Еще немецкие романтики, переводя
Шекспира на немецкий, эти сцены убирали. Еще молодой Жуковский, в
будущем, как он сам себя называл, отец и покровитель всех чертей в русской
поэзии, советовал своему другу, гениальному (но рано умершему) Андрею
Тургеневу, выбросить в «Макбете» сцену с ведьмой. Разве может
просвещенный человек в начале XIX в. увидеть на сцене ведьму — ну, это просто
варварство, невежество; это мог Шекспир в дикое время так писать, а кто
после Вольтера будет делать такие вещи? Все со смеху умрут. Только
романтики, а потом и сам Жуковский, поняли, что фантазия, ужас, страх,
преступления могут быть предметами искусства.
Но почему убийство как предмет искусства не становится призывом
убивать? Искусство стремится быть похожим на жизнь, но оно не есть жизнь.
И мы никогда не путаем их. Анекдот о человеке, спасающем Дездемону,
свидетельствует не о торжестве искусства, а о полном его непонимании.
Искусство — модель жизни. И разница между ними велика. Поэтому
преступление в искусстве — это исследование преступления, изучение того, что
есть преступление. А в жизни есть только преступление. В одном случае
изображение вещи, в другом — сама вещь. И все многочисленные легенды
о том, как художники создают произведения, неотличимые от жизни, заменяют
искусство жизнью, возникают в области наивного взгляда на искусство.
Но искусство охватывает огромную сферу, и рядом с ним есть
полуискусство, чуть-чуть искусство и совсем не искусство. Это сфера, где искусство
«перетекает» в неискусство. Возьмем, к примеру, художественную и
нехудожественную фотографии. На обеих — изображение обнаженного тела. На
нехудожественной фотографии обнаженная женщина изображает обнаженную
женщину и больше ничего. Нет смысла этого обнажения. На художественной
фотографии (или картине) обнаженная женщина может изображать: красоту,
О природе искусства
403
демоническую тайну, изящество, одиночество, преступление, разврат... Может
изображать разные эпохи, порождать разные культурные смыслы, поскольку
она является знаком, и мы можем сказать, что она означает (ср., как трудно,
глядя на живого человека, спросить, что он означает). Таким образом, когда
мы смотрим на обнаженную фигуру, нарисованную, высеченную из камня
или на экране кинематографа, на художественной фотографии, то можем
спросить; что это означает? Или (грубо, но все-таки верно) поставить вопрос:
что этим автор хотел сказать? И ответить будет очень непросто, потому что
искусство всегда несет в себе некоторую тайну, представляет собой
воспроизведение с какой-то позиции, скрывает чей-то взгляд на мир. Оно
неисчерпаемо в смысловом отношении, не может быть пересказано одним словом.
Между тем спрашивать «что означает» просто сфотографированная женщина
без одежды, можно в случае, если мы уж очень художественно настроены!
Известный комический анекдот: стоит человек, мимо него пробегает другой,
ударяет его по лицу и бежит дальше. Первый долго стоит, размышляет, а
потом говорит: «Не понимаю, что он этим хотел сказать...» В театре это
действительно было бы сообщением, а в жизни — это материал для
сообщения, а не сообщение. И отсюда принципиальная разница.
Искусство XX в., с его «фотографичностью», стремлением к точности,
как ни странно, приводит к тому, что чем выше имитация реальности, тем
выше условность изображения. Чрезвычайное подражание жизни с
чрезвычайным от нее отличием. В этом смысле искусство XX в., достигающее
огромной степени приближения к жизни (в силу огромных технических
возможностей), одновременно вырабатывает и чрезвычайное отличие. И чем
больше искусство стремится к жизни, тем оно условнее.
Когда в искусство ворвалась фотография и первые технические достижения
кинематографа, то у людей искусства началась настоящая паника. Казалось,
что искусство погибло, вместо подобия жизни ворвалась сама жизнь. Еще
больший шок испытало искусство с возникновением звукового кино. Для
кино звук был прежде всего техническим достижением, а не насущной
художественной потребностью. И немое кино, достигшее очень высокого уровня,
восприняло звук враждебно. Чаплин полагал, что звук погубит кинематограф.
И он свои первые звуковые фильмы делал как антизвуковые, давая, например,
актерам речь на несуществующем языке. Они пиликали, бормотали, квакали —
говорили на языках, которых нет. И только потом Чаплин освоил язык как
художественное средство. Но освоив звук, кинематограф понес и потери.
Жизнь мало технически внести, ее надо художественно освоить. И каждое
новое открытие для искусства — болезнь роста. Это надо преодолеть и
получить.
Блок начал ходить в кино в революцию, когда он осваивал
демократический образ жизни, когда он впервые слез с извозчика и вошел в трамвай.
Он был поражен: это был другой мир, и он писал, что «как только войду
в трамвай, да надену кепку — так хочется потолкаться». Совершенно другое
поведение! И кинематограф вошел в искусство.
Происходит любопытная вещь: искусство все время застывает, уходит в
неискусство, опошляется, тиражируется, становится эпигонством... И эти
404 СТАТЬИ. ЗАМЕТКИ. ВЫСТУПЛЕНИЯ. I. Общие проблемы искусства
разнообразные виды околоискусства могут имитировать искусство высокое,
прогрессивное или реакционное, искусство, заказанное «сверху» или
заказанное «снизу», или «сбоку». Но они всегда имитация. Отчасти они полезны,
как полезны азбуки и учебники (ведь не все сразу могут слушать сложную
симфоническую музыку). Но одновременно они учат дурному вкусу,
подсовывая вместо подлинного искусства имитацию. А имитации усваиваются
легче, они понятнее. Искусство же непонятно и потому оскорбительно.
Поэтому массовое распространение искусства всегда опасно. Но с другой стороны,
откуда берется новое высокое искусство? Оно ведь не вырастает из старого
высокого искусства. И искусство, как это ни странно, выбрасываясь в пошлость,
в дешевку, в имитацию, в то, что портит вкус, — вдруг неожиданно оттуда
начинает расти! Ахматова писала: «Когда б вы знали, из какого сора / Растут
стихи, не ведая стыда...» Искусство редко вырастает из рафинированного,
хорошего вкуса, обработанной формы искусства, оно растет из сора.
И так вдруг неожиданно вырос кинематограф, который из довольно
низменного развлечения стал искусством номер один нашего века (с начала
и до последней четверти XX в. он был действительно первым искусством,
но сейчас это место, кажется, потерял). А в конце прошлого века такую роль
сыграла опера. Из периферии она вырвалась в эпоху Вагнера и Чайковского
и, вместе с романом, стала искусством номер один. Искусства как бы обгоняют
друг друга, и в какой-то момент одно из них, казалось, запоздалое, вдруг
вылезает вперед и обязывает всех ему подражать. Таким был роман в XIX в.,
когда живопись, театр подражали ему. А потом, в эпоху символистов, роман
отошел на второй план и вышла лирическая поэзия.
Искусство — это самая сложная машина, которую когда-нибудь создавал
человек. Хотите — называйте его машиной, хотите — организмом, жизнью,
но все равно это нечто саморазвивающееся. И мы находимся внутри этого
развивающегося. Как и в языке. Человек погружен в язык, и язык реализуется
через человека. Человек создает язык, и язык как коллективная система
постоянно взаимодействует с индивидуальным говорящим. Минимальной
единицей для появления новых смыслов являются три проявления: Я, другой
человек и семиотическая среда вокруг нас (нечто вроде Троицы!). Изучение
этих проявлений имеет для меня сейчас наибольший интерес.
7990
Риторика
Риторика (греч. ρητοριχη) длительное время воспринималась как
дисциплина, окончательно ушедшая в прошлое. Виднейший знаток античной и
средневековой поэтики М. Л. Гаспаров закончил заметку «Риторика» в
«Краткой литературной энциклопедии» словами: «В современном литерату-
Риторика
405
роведении термин „риторика" неупотребителен»1. Это заявление было
опубликовано в 1971 г. Между тем уже в 1960-х гг. интерес к риторике в ее
классических проявлениях и к неориторике стал неуклонно расти в связи с
развитием грамматики текста и лингвистической теории прозы. В настоящее
время это уже обширная, насчитывающая десятки монографий и многие
сотни статей на ряде языков, бурно развивающаяся научная дисциплина.
Представляется своевременным разобраться в ее основных проблемах.
I. «Риторика» — прежде всего термин античной и средневековой теории
литературы. Значение термина раскрывается в трех оппозициях: а) в
противопоставлении «поэтика — риторика» содержание термина истолковывается
как «искусство прозаической речи», в отличие от «искусства поэтической
речи»; б) в противопоставлении «обычная», неукрашенная, «естественная»
речь — речь «искусственная», украшенная, «художественная» риторика
раскрывалась как искусство украшенной речи, в первую очередь ораторской;
в) в противопоставлении «риторика — герменевтика», то есть «наука
порождения текста — наука понимания текста» риторика толковалась как свод
правил, механизм порождения. Отсюда ее «технологический» и
классификационный характер и практическая направленность. Последнее обстоятельство
приводило в период расцвета риторики к усложнению системы дефиниций.
При этом риторика была обращена к говорящему, а не к слушающему, к
ученой аудитории создателей текстов, а не к той массе, которая должна была
эти тексты слушать.
II. В современной поэтике и семиотике термин «риторика» употребляется
в трех основных значениях: а) лингвистическом — как правила построения
речи на сверхфразовом уровне, структура повествования на уровнях выше
фразы; б) как дисциплина, изучающая «поэтическую семантику» — типы
переносных значений, так называемая «риторика фигур»; в) как «поэтика
текста», раздел поэтики, изучающий внутритекстовые отношения и социальное
функционирование текстов как целостных семиотических образований. Этот
последний подход, сочетаясь с предыдущими, кладется в современной науке
в основу «общей риторики».
Обоснование риторики. Принадлежа к древнейшим разделам науки о слове
и речи, риторика переживала периоды расцвета и упадка, когда казалось,
что как область теоретической мысли она навеки ушла в историю.
Возрождение риторики позволяет поставить вопрос о причинах этой устойчивости.
Ответ на него должен одновременно и раскрыть единство по видимости
различных сфер риторики. «Оправдание риторики» может заключаться в
установлении некоторого объекта, составляющего исключительную область
данной дисциплины и описываемого только в ее терминах. Рассмотрим два
аспекта риторики:
риторика «открытого текста». В данном случае будет рассматриваться
деятельность по созданию текста, который мыслится в процессе порождения;
в центре окажется «риторика фигур»;
1 Краткая литературная энциклопедия. М., 1971. Т. 6. Стб. 305.
406 СТАТЬИ. ЗАМЕТКИ. ВЫСТУПЛЕНИЯ. I. Общие проблемы искусства
риторика «закрытого текста», поэтика текста как целого.
1. Сознание человека гетерогенно. Минимальное мыслящее устройство
должно включать в себя хотя бы две разноустроенные системы, которые
обменивались бы вырабатываемой внутри них информацией. Исследования
по специфике функционирования больших полушарий человеческого мозга
вскрывают глубокую аналогию с устройством культуры как коллективного
интеллекта: в обоих случаях мы обнаруживаем наличие как минимум двух
принципиально отличных способов отражения мира и выработки новой
информации с последующими сложными механизмами обмена текстами между
этими системами. В обоих случаях мы наблюдаем аналогичную в общих
чертах структуру: в рамках одного сознания наличествует как бы два сознания.
Одно оперирует дискретной системой кодирования и образует тексты,
складывающиеся как линейные цепочки соединенных сегментов. В этом случае
основным носителем значения является сегмент (= знак), а цепочка сегментов
(= текст) вторична, значение ее производно от значения знаков. Во втором
случае текст первичен. Он является носителем основного значения. По своей
природе он не дискретен, а континуален. Смысл его не организуется ни
линейной, ни временной последовательностью, а «размазан» в п-мерном
семантическом пространстве данного текста (полотна картины, сцены, экрана,
ритуального действа, общественного поведения или сна). В текстах этого
типа именно текст является носителем значения. Выделение составляющих
его знаков бывает затруднительно и порой носит искусственный характер.
Таким образом, в рамках как индивидуального, так и коллективного
сознания скрыто два типа генераторов текстов: один основан на механизме
дискретности, другой континуален. Несмотря на то, что каждый из этих
механизмов имманентен по своему устройству, между ними существует
постоянный обмен текстами и сообщениями. Обмен этот совершается в форме
семантического перевода. Однако любой точный перевод подразумевает, что
между единицами каких-либо двух систем устанавливаются взаимно
однозначные отношения, в результате чего возможно отображение одной системы
на другую. Это позволяет текст на одном языке адекватно выразить
средствами другого. Однако в случае, когда сополагаются дискретные и
недискретные тексты, это в принципе невозможно. Дискретной и точно обозначенной
единице одного текста в другом соответствует некоторое смысловое пятно с
размытыми границами и постепенными переходами в область другого смысла.
Если же там и имеется sui generis сегментация, то она не сопоставима с
типом дискретных границ первого текста. В этих условиях возникает ситуация
непереводимости, однако именно здесь попытки перевода осуществляются с
особенным упорством и дают наиболее ценные результаты. В этом случае
возникает не точный перевод, а приблизительная и обусловленная
определенным общим для обеих систем культурно-психологическим и семиотическим
контекстом эквивалентность. Подобный незакономерный и неточный, однако
в определенном отношении эквивалентный перевод составляет один из
существенных элементов всякого творческого мышления. Именно эти
«незакономерные» сближения дают толчки для возникновения новых смысловых
связей и принципиально новых текстов. Пара взаимно несопоставимых зна-
Риторика
407
чимых элементов, между которыми устанавливается в рамках какого-либо
контекста отношение адекватности, образует семантический троп. В этом
отношении тропы являются не внешним украшением, некоторого рода
апплике, накладываемым на мысль извне, — они составляют суть творческого
мышления, и сфера их даже шире, чем искусство. Она принадлежит творчеству
вообще. Так, например, все попытки создания наглядных аналогов
абстрактных идей, отображения с помощью отточий непрерывных процессов в
дискретных формулах, построения пространственных физических моделей
элементарных частиц являются риторическими фигурами (тропами). И точно
так же, как в поэзии, в науке незакономерное сближение часто выступает в
качестве толчка для формулирования новой закономерности.
Теория тропов за века своего существования накопила обширную
литературу по определению основных их видов: метафоры, метонимии и
синекдохи. Литература эта продолжает расти. Однако очевидно, что при любом
логизировании тропа один из его элементов имеет словесную, а другой —
зрительную природу, как бы замаскирован этот второй ни был. Даже в
логических моделях метафор, создаваемых в целях учебных демонстраций,
недискретный образ (зрительный или акустический) составляет
имплицированное посредующее звено между двумя дискретными словесными
компонентами. Однако чем глубже ситуация непереводимости между двумя языками,
тем острее потребность в общем для них метаязыке, который перекидывал
бы между ними мост, способствуя установлению эквивалентностей. Именно
языковая неоднородность тропов вызвала гипертрофию метаструктурных
построений в «риторике фигур». Уклон в догматизм на уровне метаописания
компенсировал здесь неизбежную неопределенность на уровне текста фигур.
Компенсация в этом случае получает особый смысл, поскольку риторические
тексты отличаются от общеязыковых существенной особенностью:
образование языковых текстов производится носителем языка стихийно, эксплицитные
правила актуальны здесь лишь для исследователя, строящего логические
модели бессознательных процессов. В риторике процесс порождения текстов
имеет «ученый», сознательный характер. Правила здесь активно включены
в самый текст не только на метауровне, но и на уровне непосредственной
текстовой структуры. Это создает специфику тропа, который одновременно
включает в себя и элемент иррациональности (эквивалентность заведомо
неэквивалентных и даже не располагаемых в одном ряду текстовых элементов),
и характер гиперрационализма, связанный с включением сознательной
конструкции непосредственно в текст риторической фигуры. Это обстоятельство
особенно заметно в тех случаях, когда метафора строится не на основе
столкновения слов, а как элемент, например, киноязыка. Резкое монтажное
сопоставление двух зрительных образов, казалось бы, обходится без коллизии
между дискретностью и недискретностью или других ситуаций
принципиальной непереводимости. Однако внимательное рассмотрение убеждает, что
метаструктура строится здесь на основе уподобления кадра слову
естественного языка и механизм дискретности вносится в самое структуру
кинометафоры. Можно убедиться и в другом: если один из членов кинометафоры,
как правило, без усилия пересказывается словами (и сознательно ориентирован
408 СТАТЬИ. ЗАМЕТКИ. ВЫСТУПЛЕНИЯ. I. Общие проблемы искусства
на такой пересказ), то другой чаще всего такому пересказу не поддается.
Приведем пример. В фильме венгерского режиссера Золтана Фабри
«Муравейник» в центре — исключительно сложная и многоплановая драма,
развертывающаяся в венгерском женском монастыре в начале XX в. События
находятся в сложных метафорических отношениях со снятыми крупным
планом деталями барочного антуража храма. Среди них, в частности,
выделяется рельефный медальон с изображением сеятеля. Этот член метафоры
расшифровывается прямым переводом в словесный текст евангельской притчи
о сеятеле (Мф. 13, 3—8; Лк. 8, 4—8; Мк. 4, 2—8). Другой член метафоры
словесно не пересказывается, а раскрывается в отношении к первому (и
другим, ему подобным).
Принадлежность «риторики фигур» к уровню вторичного моделирования
связана с ролью метамоделей и отличает этот пласт от уровня первичных
знаков и символов. Например, агрессивный жест в поведении животного,
если он не связан с реальным агрессивным действием и является его заменой,
представляет собой элемент символического поведения. Однако символ
употреблен здесь в первичном значении. Другой случай, когда жест, имеющий
характер сексуального символа, употребляется в значении подчинения
доминирующей роли партнера в общей организации коллектива животных и
утрачивает всякую связь с половым содержанием. Во втором случае мы
можем говорить о метафорическом характере места и о наличии определенных
элементов жестовой риторики. Приведенный пример доказывает, что
оппозиция «дискретное — континуальное» представляет собой лишь одну из
возможных — крайнюю — форму рождающей тропы семантической
непереводимости. Однако возможны столкновения и менее отдаленных сфер
семантической организации, создающие контрасты, достаточные для появления
«риторикогенной» ситуации.
2. Риторические фигуры (тропы). В традиционной риторике «приемы
изменения основного значения слова именуются тропами» (Томашевский). В
неориторике последних десятилетий делались многочисленные попытки
уточнить значение как тропов вообще, так и конкретных их видов (метафора,
метонимия, синекдоха, ирония) в соответствии с современными лингвосеми-
отическими идеями. Основной опыт в этом направлении принадлежит
Р. Якобсону1. Якобсон, выделяя два основных вида тропа: метафору и
метонимию, связывает их с двумя основными осями структуры языка —
парадигматической и синтагматической. Метафора представляет собой, по
Якобсону, замещение понятия по оси парадигматики, что связано с выбором из
парадигматического ряда, замещением in absentia и установлением смысловой
связи по сходству; метонимия располагается на синтагматической оси и
представляет собой не выбор, а сочетание in praesentia и установление связи
по смежности. Рассматривая культурную функцию риторических фигур, Якоб-
1 См.: Jakobson R. Deux aspects du langage et deux types d'aphasie // Essais de
linguistique générale / Ed. du Seuil. Paris, 1963; Jakobson R. Questions du poétique / Ed.
du Seuil. Paris, 1973.
Риторика
409
сон, с одной стороны, расширяет ее, видя в ней основу смыслообразования
в любой семиотической системе. Поэтому он применяет термины «метафора»
и «метонимия» к кино, живописи, психоанализу и т. д. С другой стороны,
он сужает их, отводя метафоре сферу семиотической структуры = поэзии, а
метонимии — сферу текста = прозы. «Метафора для поэзии и метонимия
для прозы составляют линию наименьшего сопротивления»1. Таким образом,
разграничение «поэзия/проза» получало объективное обоснование и из
разряда частных категорий словесности переходило в число семиотических
универсалий. Концепция Якобсона получила развитие и уточнение в ряде работ.
Так, У. Эко, исследуя лингвистические основы риторики, исходной фигурой
считает метонимию. В основе ее он усматривает наличие цепочек
ассоциативных смежностей: 1) в структуре кода; 2) в структуре контекста; 3) в
структуре референта. Связь языковых кодов с культурными позволяет строить
на основе метонимии метафорические фигуры. В этом же направлении
работает мысль Ц. Тодорова, который связывает метафору с удвоением
синекдохи. Впрочем, позиция последнего в определенной мере сближается с
концепцией группы μ («льежская группа»), которая строится на преодолении
модели Якобсона. В 1970 группа μ (J. Dubois, F. Edeline, J.-M. Klinkenberg,
Ph. Minguet) разработала детальную таксономическую классификацию
тропов, основанную на анализе «сем» и семантико-лексических компонентов. В
качестве первичной фигуры они рассматривают синекдоху. Метафора и
метонимия трактуются ими как производные фигуры, результат разных
усложнений исходных типов синекдохи. Построение это подверглось критике со
стороны N. Ruwet с лингвистических позиций и Р. Schofer и D. Rice с
литературной точки зрения2. Мнение N. Ruwet: «В вопросе риторики вообще
и тропов в частности главная задача предиктивной теории заключается в
попытке ответить на вопрос: в каких условиях данное лингвистическое
выражение получает переносное значение»3 — представляется вполне
обоснованным. Итоговое определение тропа, достигнутое неориторикой, звучит так:
«Троп — семантическая транспозиция от знака in praesentia к знаку in absentia,
1) основанная на перцепции связи между одним или более семантическим
признаком обозначаемого; 2) отмеченная семантической несовместимостью
микро- и макроконтекстов; 3) обусловленная референциальной связью по
сходству, или причинности, или включенности, или оппозиции»4.
Классическая риторика разработала разветвленную классификацию фигур.
Термин «фигура» (σχήμα) был впервые употреблен Анаксименом из Лампаска
(IV в. до н. э.). Вопрос был тщательно разработан Аристотелем, ученики
которого (в особенности Деметрий Фалерский) ввели разделение на «фигуры
речи» и «фигуры мысли». В дальнейшем система фигур неоднократно
рассматривалась античными, средневековыми и авторами эпохи классицизма и
1 Jakobson R. Deux aspects du langage et deux types d'aphasie. P. 67.
2 См.: μ Groupe. Miroires rhétoriques: Sept ans de réflexion // Poétique. 1977. № 29.
3 Ruwet N. Synecdoques et métonymies // Poétique. 1975. № 23. P. 371.
4 Schofer P., Rice D. Metaphor, Metonymy and Synecdoche // Semiotica. 1977. Vol. 21.
№ 1/2. P. 133.
410 СТАТЬИ. ЗАМЕТКИ. ВЫСТУПЛЕНИЯ. I. Общие проблемы искусства
достигла большой сложности. Неориторика оперирует в основном тремя
понятиями: метафора — семантическое замещение по сходству или подобию
какой-либо «семы», метонимия — замещение по смежности, ассоциации,
причинности (разные авторы подчеркивают различные типы связей),
синекдоха, которая одними авторами рассматривается как основная, примарная
фигура, а другими в качестве частного случая метонимии, — замещение на
основе причастности, включенности, парциальное™ или замещения
множественности единичностью. P. Schofer и D. Rice сделали попытку восстановить
в числе фигур иронию.
3. Типологическая и функциональная природа фигур. Изучение логических
основ классификации тропов не должно заслонять вопроса об их
типологической и функциональной телеологии, вопрос: «Что такое тропы?» — не
отменяет другого: «Как они работают в тексте и какова их цель в смысловом
механизме речи?» Ближе всего из писавших о неориторике к этому вопросу
подошли Р. Якобсон и У. Эко, первый — указав на связь проблемы с
оппозицией «поэзия/проза», а второй — введя в обсуждение ассоциативные
цепи.
Следует обратить внимание на то, что существуют культурные эпохи,
целиком или в значительной мере ориентированные на тропы, которые
становятся обязательным признаком всякой художественной речи, а в
некоторых, предельных случаях — всякой речи вообще. Вместе с тем можно было
бы указать и на целые эпохи, в которые художественно значимым делается
именно отказ от риторических фигур, и речь, для того чтобы восприниматься
как художественная, должна воспроизводить нормы нехудожественной речи.
В качестве эпох, ориентированных на троп, можно назвать мифопоэтический
период, средневековье, барокко, романтизм, символизм и авангард. Обобщая
семантические принципы всех этих разнородных текстообразующих структур,
мы, вероятно, сможем установить и типологическую природу тропа. Во всех
перечисленных стилях широко практикуется замена семантических единиц
другими. Однако существенно подчеркнуть, что во всех случаях заменяющее
и заменяемое не только не являются адекватными по каким-либо
существенным семантическим и культурным параметрам, но обладают прямо
противоположным свойством — несовместимостью. Замена осуществляется по
принципу коллажа, где написанные маслом детали картины соседствуют с
приклеенными натуральными объектами (приклеенная деталь по отношению
к расположенной рядом нарисованной будет выступать как метонимия, а по
отношению к той потенциально нарисованной, которую она заменяет, — как
метафора). Нарисованные и приклеенные объекты принадлежат к разным и
несовместимым мирам по признакам: реальность/иллюзорность, двухмер-
ность/трехмерность, знаковость/незнаковость и т. п. В пределах целого ряда
традиционных культурных контекстов встреча их в пределах одного текста
абсолютно запрещена. И именно поэтому соединение их образует тот
исключительно сильный семантический эффект, который присущ тропу. Эффект
тропа образуется не наличием общей «семы» (по мере увеличения числа
общих «сем» эффективность тропа снижается, а тавтологическая
тождественность делает троп невозможным), а вкрапленностью их в несовместимые
Риторика
411
семантические пространства и степенью семантической удаленности
несовпадающих «сем». Семантическая удаленность может образовываться за счет
разных аспектов непереводимости замещаемого замещающим. Это могут
быть отношения одно-/многомерности, дискретности/непрерывности,
материальности/нематериальности, земного/потустороннего и т. п. И на уровне
референта, и при сопоставлении соответствующих семантических пространств
границы заменяемого и замещающего настолько несопоставимы, что задача
установления соответствия приобретает иррациональный характер. Она
делается условной, приблизительной, предполагаемой, создает не простое
семантическое смещение, а принципиально новую и парадоксальную
семантическую ситуацию. Не случайно типологически тяготеют к тропам культуры,
в основе картины мира которых лежит принцип антиномии и
иррационального противоречия. Если относительно метафоры это представляется
очевидным, то применительно к метонимии может показаться, что поскольку здесь
замена совершается по связи внутри одного знакового ряда, то заменяющий
и заменяемый члены в данном случае однородны. Однако на самом деле
метафора и метонимия, в этом отношении, изофункциональны: цель их
состоит не в том, чтобы с помощью определенной семантической замены
высказать то, что может быть высказано и без ее помощи, а в том, чтобы
выразить такое содержание, передать такую информацию, которая иным
способом передана быть не может. В обоих случаях (и для метафоры, и для
метонимии) между прямым и переносным значением не существует отношений
взаимно однозначного соответствия, а устанавливается лишь приблизительная
эквивалентность. В тех случаях, когда от постоянного употребления или по
какой-либо другой причине между прямым и переносным значением (тропом)
устанавливается отношение взаимно однозначного соответствия, а не
семантической осцилляции, перед нами — стершийся троп, который лишь
генетически является риторической фигурой, но функционирует как языковой
фразеологизм. Это, видимо, и есть ответ на вопрос, поставленный N. Ruwet.
Приведем несколько примеров. Если икону в том ее семиотическом значении,
которое она приобрела в Византии и во всей восточной церкви, можно
считать метафорой, то святая реликвия выступает как метонимия. Реликвия
является частью тела святого или вещью, находившейся с ним в
непосредственном контакте. В этом смысле вещественный, воплощенный, телесный
облик святого заменяется телесной же частью его или вещественным
предметом, с ним связанным. Икона же, как это было первоначально намечено
у Филона Александрийского и Оригена и получило обоснование в писаниях
Григория Нисского и псевдо-Дионисия Ареопагита, представляет собой
вещественный и выраженный знак невещественной и невыразимой сущности
божества. Климент Александрийский прямо уподобил зримое словесному;
говоря о том, что Христос, вочеловечившись, принял образ «невзрачный» и
лишенный телесной красоты, он отмечает: «Ибо всегда следует постигать не
слова, а то, что они обозначают»1. Таким образом, между метафорическим
1 См.: Бычков В. В. Византийская эстетика. М., 1977. С. 30, 61 и др.
412 СТАТЬИ. ЗАМЕТКИ. ВЫСТУПЛЕНИЯ. I. Общие проблемы искусства
выражением и метафорическим же содержанием устанавливаются сложные
семантические отношения неравенства и неоднозначности, исключающие
рационалистическую операцию взаимной замены в обоих направлениях.
Риторический характер иконы проявляется, в частности, в том, что роль первого
члена метафоры может выполнять не всякое изображение, а лишь такое,
которое выполнено в соответствии с утвержденным живописным каноном,
закрепившим риторику композиции, цветовой гаммы и других
художественных решений. Более того, поскольку икона представляется метафорой,
возникающей на столкновении двух разнонаправленных энергий: энергии
божественного Логоса, который стремится высказать себя людям (поэтому
создание иконы — активный акт со стороны ее самой; икона является
достойным, а не просто рисуется художником), и энергии человека, который
возносится в поисках высшего знания, — она представляет собой часть
ритуально-риторического контекста, охватывающего не только процесс
создания иконописцем иконы, но и весь духовный строй его жизни,
подразумевает строгую и праведную жизнь, молитвы, пост и духовное вознесение.
Интересно, что, когда Гоголь предъявил именно такие требования к жизни
художника (вторая редакция «Портрета», статья «Исторический живописец
Иванов» в «Выбранных местах из переписки с друзьями») и писателя, все
его творчество приобрело в его собственных глазах характер грандиозной
метафоры.
На фоне такой трактовки иконы реликвия может показаться явлением
семантически одноплановым. Однако такое представление поверхностно.
Отношение материальной реликвии к телу святого, конечно, однопланово. Но
не следует забывать, что само понятие «тело святого» таит в себе метафору
инкарнации и сложное, иррациональное отношение выражения и содержания.
На совершенно иной идейно-культурной основе вырастает метафоризм
эпохи барокко. Однако и здесь мы сталкиваемся с тем, что тропы (границы,
отделяющие одни виды тропов от других, приобретают в текстах барокко
исключительно зыбкий характер) составляют не внешнюю замену одних
элементов плана выражения другими, а способ образования особого строя
сознания. При этом мы снова обнаруживаем характерное сближение
взаимонепереводимых сфер словесных и иконических, дискретных и недискретных
знаков. Так, Лопе де Вега называет «Марино великим художником для слуха,
а Рубенса — великим поэтом для зрения» («Marino, gran pintor de los oidos,
y Rubens, grand poeta de los ojos»). A Тезауро называет архитектуру
«метафорой из камня». В «Подзорной трубе Аристотеля» («Il Cannochiale Aris-
totelico») Тезауро разработал учение о метафоре как универсальном принципе
человеческого и божественного сознания. В основе его лежит Остроумие —
мышление, основанное на сближении несхожего, соединении несоединимого.
Метафорическое сознание приравнивается творческому, и даже акт
божественного творчества представляется Тезауро как некое высшее Остроумие,
которое средствами метафор, аналогий и кончетто творит мир. Тезауро
возражает против тех, кто видит в риторических фигурах внешние
украшения, — они составляют для него самое основу механизма мышления той
высшей Гениальности, которая одухотворяет и человека, и вселенную.
Риторика
413
Обращаясь к эпохе романтизма, мы обнаруживаем сходную картину: хотя
метафора и метонимия имеют тенденцию к диффузному слиянию1, общая
установка на троп как основу стилеобразования выступает со всей
очевидностью. Идея органического синтеза, слияния различных разделенных и
несливаемых сторон жизни, с одной стороны, и мысль о невыразимости
сущности жизни средствами какого-либо одного языка (естественного языка
или какого-либо изолированно взятого языка отдельного искусства), с другой,
породили метафорическое и метонимическое перекодирование знаков
различных семиотических систем. Ваккенродер в «Сердечных излияниях монаха,
любителя искусств» («Herzensergiessimgen eines kunstliebenden Klosterbruders»)
отождествлял язык символов, эмблем и метафор с искусством как таковым:
«Язык Искусства совершенно отличен от языка Природы; но и ему дано
столь же безвестными и темными путями действовать сильно на сердце
человека. Он выражается посредством человеческих образов и говорит как
будто через иероглифы, для нас по одним внешним своим признакам
понятные. Но сей язык столь трогательным и столь чудесным образом сливает
духовное и сверхчувственное с изображениями внешними, что он, в свою
очередь, потрясает все наше существо».
Наконец, в основе поэтики разнообразных течений авангарда лежит
принцип соположения (Juxtaposition). Образуемые таким путем фигуры, как
правило, могут читаться и как метафоры, и как метонимии. Существенно
другое: смыслообразующим принципом текста делается соположение
принципиально несоположимых сегментов. Их взаимная перекодировка
образует язык множественных прочтений, что раскрывает неожиданные резервы
смыслов.
Таким образом, троп не является украшением, принадлежащим лишь
сфере выражения, орнаментализацией некоего инвариантного содержания, а
представляет собой механизм построения некоего, в пределах одного языка
не конструируемого, содержания. Троп — фигура, рождающаяся на стыке
двух языков, и в этом отношении он изоструктурен механизму творческого
сознания как такового. Это обусловливает и положение, согласно которому
любые логические дефиниции риторических фигур, игнорирующие их билин-
гвиальную природу, и связанные с ними модели принадлежат метаязыку
нашего теоретического описания, но ни в коей мере не являются
генеративными механизмами порождения тропов. Более того, игнорируя то, что троп
есть механизм порождения семантической неоднозначности, механизм,
вносящий в семиотическую структуру культуры необходимую ей степень
неопределенности, мы не получим и адекватного описания этого явления.
Функция тропа как механизма семантической неопределенности
обусловила то, что в явной форме, на поверхности культуры, он проявляется в
системах, ориентированных на сложность, неоднозначность или
невыразимость истины. Однако «риторизм» не принадлежит каким-либо эпохам куль-
1 Ср.: Grimaud M. Sur une métaphore métonimique hugolienne selon Jacques Lacan //
Littérature. 1978. Février. № 29.
414 СТАТЬИ. ЗАМЕТКИ. ВЫСТУПЛЕНИЯ. I. Общие проблемы искусства
туры исключительно: подобно оппозиции «поэзия/проза», оппозиция
«риторизм/антириторизм» принадлежит к универсалиям человеческой культуры.
Оба члена этой оппозиции взаимосвязаны, и семиотическая активность одного
из них подразумевает актуализацию другого. В культуре, для которой
риторическая насыщенность сделалась традицией и вошла в инерцию
читательского ожидания, троп входит в нейтральный фонд языка и перестает
восприниматься как риторически активная единица. На этом фоне
«антириторический» текст, составленный из элементов прямой, а не переносной
семантики, начинает восприниматься как метатроп, риторическая фигура,
подвергшаяся вторичному упрощению, причем «второй язык» редуцирован
до степени нуля. Эта «минус-риторика», субъективно воспринимаемая как
сближение с реальностью и простотой, представляет собой зеркальное
отражение риторики и включает своего эстетического противника в собственный
культурно-семиотический код. Так, безыскусственность неореалистического
фильма на самом деле таит в себе латентную риторику, действенную на фоне
стершейся и переставшей «работать» риторики помпезных
псевдоисторических киноэпопей и великосветских комедий. В свою очередь,
кинематографическое барокко фильмов Феллини реабилитирует риторику как основу
конструкции смыслов большой сложности.
4. Метариторика и типология культуры. Метафора и метонимия
принадлежат к области аналогического мышления. В этом качестве они органически
связаны с творческим сознанием как таковым. В этом смысле ошибочно
риторическое мышление противопоставлять научному как специфически
художественное. Риторика свойственна научному сознанию в такой же мере,
как и художественному. В области научного сознания можно выделить две
сферы. Первая — риторическая — область сближений, аналогий и
моделирования. Это сфера выдвижения новых идей, установления неожиданных
постулатов и гипотез, прежде казавшихся абсурдными. Вторая — логическая.
Здесь выдвинутые гипотезы подвергаются проверке, разрабатываются
вытекающие из них выводы, устраняются внутренние противоречия в
доказательствах и рассуждениях. Первая — «фаустовская» — сфера научного мышления
составляет неотъемлемую часть исследования и, принадлежа науке, поддается
научному описанию. Однако аппарат такого описания сам должен строиться
специфически, образуя язык метариторики. Например, в качестве метаметафор
могут рассматриваться все случаи изоморфизмов, гомоморфизмов и
гомеоморфизмов (включая эпио-, эндо-, моно- и автоморфизмы). Они в целом
создают аппарат описания широкой области аналогий и эквивалентностей,
позволяя сближать, а в определенном отношении и отождествлять по
видимости отдаленные явления и объекты. Примером метаметонимии может
служить теорема Г. Кантора, устанавливающая, что, если какой-либо отрезок
содержит в себе число альфа-точек (то есть является бесконечным
множеством), то и любая часть этого отрезка содержит то же число альфа-точек, и
в этом смысле любая его часть равна целому. Операции типа трансфинитной
индукции можно рассматривать в качестве метаметонимии. Творческое
мышление как в области науки, так и в области искусства имеет аналоговую
природу и строится на принципиально одинаковой основе — сближении
Риторика
415
объектов и понятий, вне риторической ситуации не поддающихся сближению.
Из этого вытекает, что создание метариторики превращается в общенаучную
задачу, а сама метариторика может быть определена как теория творческого
мышления.
Таким образом, риторические тексты возможны лишь как реализация
определенной риторической ситуации, которая задается типами аналогий и
характером определения параметров, по которым данные аналогии
устанавливаются. Эти показатели, по которым устанавливаются в пределах какой-
либо группы текстов или коммуникативных ситуаций отношения аналогии
или эквивалентности, определяются типом культуры. Сходство и несходство,
эквивалентность и неэквивалентность, сопоставимость и несопоставимость,
восприятие каких-либо двух объектов как не поддающихся сближению или
тождественных зависят от типа культурного контекста. Один и тот же текст
может восприниматься как «правильный» или «неправильный» (невозможный,
нетекст), «правильный и тривиальный» или «правильный, но неожиданный,
нарушающий определенные нормы, оставаясь, однако, в пределах
осмысленности» и т. д., в зависимости от того, отнесем ли мы его к художественным
или нехудожественным текстам и какие правила для тех и других мы
припишем, то есть в зависимости от контекста культуры, в который мы его
поместим. Так, тексты эзотерических культур, будучи извлечены из общего
контекста и в отрыве от специальных (как правило, доступных лишь
посвященным) кодов культуры, вообще перестают быть понятными или
раскрываются лишь с точки зрения внешнего смыслового пласта, сохраняя тайные
значения для узкого круга допущенных. Так строятся тексты скальдов,
суфистские, масонские и многие другие тексты. Вопрос о том, понимается ли
текст в прямом или переносном (риторическом) значении, также зависит от
приложения к нему более общих культурных кодов. Поскольку существенную
роль играет собственная ориентация культуры, выражающаяся в том, как
она видит самое себя, — в системе самоописаний, образующих метакультур-
ный слой, текст может выглядеть как «нормальный» в семантическом
отношении в одной перспективе и «аномальный», семантически сдвинутый — в
другой. Отношение текста к различным метакультурным структурам образует
семантическую игру, которая является условием риторической организации
текста. Вторичная зашифрованность семантики в случае, если она произведена
однозначным способом, может образовывать тайный эзотерический язык, но
не является тропом и к сфере риторики не относится. Например, в период,
когда напряженная словесная игра, метафоризм барокко вошли в традицию
и стали предсказуемой нормой не только литературного языка, но и
щегольской речи светских салонов и précieux, литературно значимым сделалось
слово, очищенное от вторичных значений, сведенное к прямой и точной
семантике.
В этих условиях наиболее активными риторическими фигурами делались
отказы от риторических фигур. Текст, освобожденный от метафор и
метонимий, вступал в игровое отношение с читательским ожиданием (то есть
культурной нормой эпохи барокко), с одной стороны, и новой, еще не
утвердившейся, нормой классицизма, с другой. Барочная метафора в таком
416 СТАТЬИ. ЗАМЕТКИ. ВЫСТУПЛЕНИЯ. I. Общие проблемы искусства
контексте воспринималась как знак тривиальности и не выполняла
риторической функции, а отсутствие метафоры, играя активную роль, оказывалось
эстетически значимым.
Подобно тому как в области науки ориентация на построение
всеобъемлющих гипотез, устанавливающих соответствия между, казалось бы, самыми
отдаленными областями опыта, связанная с «научной риторикой» и «научным
остроумием», чередуется с позитивистской установкой на эмпирическое
расширение поля знания, в искусстве «риторическое моделирование»
периодически сменяется эмпирическим. Так, эстетика реализма на раннем своем этапе
характеризуется в основном негативными признаками антиромантизма и
воспринимается в проекции на романтические нормы, создавая «риторику
отказа от риторики» — риторику второго уровня. Однако в дальнейшем,
связываясь с позитивистскими тенденциями в науке, она приобретает
самостоятельную структуру, которая, в свою очередь, делается семиотическим
фоном неоромантизма XX в. и авангардных течений.
5. Риторика текста. С того момента, как мы начинаем иметь дело с
текстом, то есть с отдельным, замкнутым в себе и имеющим целостное,
нерасчленимое значение и целостную, нерасчленимую функцию
семиотическим образованием, отделенным от контекста, отношение отдельных его
элементов к проблеме риторики резко меняется. Если весь текст в целом
закодирован в системе культуры как риторический, любой его элемент также
делается риторическим, независимо от того, представляется ли он нам в
изолированном виде имеющим прямое или переносное значение. Например,
поскольку всякий художественный текст a priori выступает в нашем сознании
как риторически организованный, любое заглавие художественного
произведения функционирует в нашем сознании как троп или минус-троп, то есть
как риторически отмеченное. В связи с тем, что именно текстовая природа
высказывания заставляет осмыслить его подобным образом, особую
риторическую нагруженность получают элементы, сигнализирующие о том, что
перед нами именно текст. Так, в высокой степени риторически отмеченными
оказываются категории «начала» и «конца», применительно к которым
значимость этого уровня организации заметно возрастает. Многообразие
структурных связей внутри текста резко понижает самостоятельность отдельных
входящих в него единиц и повышает коэффициент связанности текста. Текст
стремится превратиться в отдельное «большое слово» с общим единым
значением. Это вторичное «слово» в тех случаях, когда мы имеем дело с
художественным текстом, всегда представляет собой троп: по отношению к
обычной, нехудожественной речи художественный текст как бы переключается
в семиотическое пространство с большим числом измерений. Для того чтобы
представить себе, о чем идет речь, вообразим трансформацию типа «сценарий
(или художественное словесное повествование) -> кинофильм» или
«либретто -> опера». При трансформациях этого типа текст с определенным
количеством координат смыслового пространства превращается в такой, для
которого мерность семиотического пространства резко возрастает.
Аналогичное явление имеет место и при превращении словесного
(нехудожественного) текста в художественный. Поэтому как между элементами, так и между
Риторика
417
целостностью художественного и нехудожественного текстов невозможно
однозначное отношение и, следовательно, невозможен взаимнооднозначный
перевод. Возможны лишь условная эквивалентность и различные типы
аналогии. А именно это и составляет сущность риторических отношений. Но в
культурах, ориентированных на риторическую организацию, каждая ступень
в возрастающей иерархии семиотической организации дает увеличение
измерений пространства смысловой структуры. Так, в византийской и
древнерусской культуре иерархия «мир обьщенный жизни и некнижной речи -> мир
светского искусства -> мир церковного искусства -> божественная литургия ->
трансцендентный Божественный Свет» составляет цепь непрерывного
иррационального усложнения: сначала переход от незнакового мира вещей к
системе знаков и социальных языков, затем соединение знаков различных
языков, не переводимое ни на один из языков в отдельности (соединение
слова и распева, книжного текста и миниатюры, соединение в храмовом
действе слов, пения, стенной живописи, естественного и искусственного
освещения, запахов ладана и курений; соединение в архитектуре здания и
пейзажа и т. п.), и, наконец, соединение искусства с трансцендентной
Божественной Истиной. Каждая ступень иерархии невыразима средствами
предшествующей, которая представляет собой лишь образ (неполное присутствие)
ее. Принцип риторической организации лежит в основе данной культуры как
таковой, превращая каждую новую ее ступень для нижестоящих в
семиотическое таинство. Принцип риторической организации культуры возможен и
на чисто светской основе: так, для Павла I парад был в такой же мере
метафорой Порядка и Власти, в какой для Наполеона сражение — метонимией
Славы.
Таким образом, в риторике (как, с другой стороны, в логике) отражается
универсальный принцип как индивидуального, так и коллективного сознания
(культуры).
Существенным аспектом современной риторики является круг проблем,
связанных с грамматикой текста. Здесь традиционные проблемы
риторического построения обширных отрезков текста смыкаются с современной
лингвистической проблематикой. Существенно подчеркнуть, что традиционные
риторические фигуры построены на внесении в текст дополнительных
признаков симметрии и упорядоченности, в определенном отношении
аналогичных построению поэтического текста. Однако, если поэтический текст
подразумевает обязательную упорядоченность низших уровней (причем
неупорядоченное или факультативно упорядоченное в системе данного языка
переводится в ранг обязательных и релевантных упорядоченностей, а лекси-
ко-семантический уровень получает надъязыковую упорядоченность уже как
результат этой первичной организации), то в риторическом тексте картина
обратная: обязательной организации подвергаются лексико-семантический и
синтаксический уровни, а ритмико-фонетическая упорядоченность выступает
как явление факультативное и производное. Но для нас важно подчеркнуть
некоторый общий эффект: в обоих случаях то, что в естественном языке
представляет собой цепочку самостоятельных знаков, превращается в
смысловое целое с «размазанным» на всем пространстве семантическим содер-
418 СТАТЬИ. ЗАМЕТКИ. ВЫСТУПЛЕНИЯ. I. Общие проблемы искусства
жанием, то есть тяготеет к превращению в единый знак — носитель смысла.
Если текст на естественном языке организуется линейно и дискретен по своей
природе, то риторический текст интегрирован в смысловом отношении. Входя
в риторическое целое, отдельные слова не только «сдвигаются» в смысловом
отношении (всякое слово в художественном тексте — в идеале троп), но и
сливаются, смыслы их интегрируются. Возникает то, что, применительно к
поэтическому тексту, Тынянов назвал «теснотой поэтического ряда».
Однако вопрос о поэтической связанности текста в науке последних
десятилетий непосредственно сомкнулся не только с литературоведческими,
но и с лингвистическими проблемами: бурное развитие того раздела
языкознания, который получил название «грамматика текста» и посвящен
структурному единству речевых сообщений на сверхфразовом уровне,
актуализировало традиционные проблемы риторики в лингвистическом их аспекте.
Поскольку механизм сверхфразового единства усматривался в лексических
повторах или их субститутах, с одной стороны, и в логических и
интонационных связках, с другой1, то традиционные формы риторических структур
абзаца или текста в целом, казалось, приобретали непосредственно
лингвистический смысл. Подход этот был подвергнут критике со стороны Б. М. Гас-
парова2, указавшего на недостаточность такого механизма описания
сверхфразовой связанности текста, с одной стороны, и на утрату им собственно
лингвистического содержания, с другой. Взамен Б. М. Гаспаров предложил
модель облигаторных грамматических связей, соединяющих сегменты речи
на сверхфразовом уровне: имманентная грамматическая структура
предложения, по Гаспарову, накладывает заранее определенные грамматические
ограничения на любую фразу, которая на данном языке может быть к ней
присоединена. Структура этих связей и образует лингвистическое единство
текста.
Таким образом, можно сформулировать два подхода. Согласно одному,
риторическая структура автоматически вытекает из законов языка и
представляет собой не что иное, как их реализацию на уровне построения
целостных текстов. С другой точки зрения, между языковым и риторическим
единством текста существует принципиальная разница. Риторическая
структура не возникает автоматически из языковой, а представляет собой
решительное переосмысление последней (в системе языковых связей происходят
сдвиги, факультативные структуры повышаются в ранге, приобретая характер
основных, и т. п.). Риторическая структура вносится в словесный текст извне,
являясь дополнительной его упорядоченностью. Таковы, например,
разнообразные способы внесения в текст на различных его уровнях законов
симметрии, лежащих в основе пространственной семиотики и не присущих структуре
естественных языков. Нам представляется справедливым именно этот второй
1 См.: Падучева Е. В. О структуре абзаца // Учен. зап. Тартуского гос. ун-та. 1965.
Вып. 181. (Труды по знаковым системам. Т. 2.)
2 См.: Гаспаров Б. М. Принципы синтагматического описания уровня предложений //
Учен. зап. Тартуского гос. ун-та. 1975. Вып. 347. (Труды по рус. и слав, филологии.
Т. 23.)
Риторика
419
подход. Можно даже утверждать, что риторическая структура не только
объективно представляет собой внесение в текст извне имманентно чуждых
ему принципов организации, но и субъективно переживается именно как
чужая по отношению к структурным принципам текста. Так, резко отмеченное
включение фрагмента нехудожественного текста в художественный (в
частности, кадров кинохроники в игровую ленту) может нести риторическую
нагрузку именно постольку, поскольку опознается аудиторией как чуждое и
незакономерное включение в текст. На фоне хроникальной ленты такую же
роль сыграет отмеченное игровое включение. Традиционная ораторская проза,
воспринимаемая как область риторики par excellence, может быть описана
как результат вторжения поэзии в область прозы и перевода поэтической
структуры на язык прозаических средств. Одновременно и вторжение языка
прозы в поэзию создает риторический эффект. Вместе с тем ораторская речь
ощущается аудиторией и как «сдвинутая» устная речь, в которую внесены
подчеркнутые элементы «письменности». В этом отношении в качестве
риторических элементов воспринимаются не только синтаксические фигуры
классической риторики, но и те конструкции, которые в письменном тексте
при отказе от произнесения вслух казались бы нейтральными. В равной мере
внесение устной речи в письменный текст, характерное для прозы XX в.,
или мена местами «внутренней» и «внешней» речи (например, в прозе,
изображающей средствами языкового текста «поток сознания») активизирует
риторический уровень структуры текста. С этим можно было сопоставить
риторическую функцию иноязычных текстов, включенных в чуждый им
языковой контекст. Особенно заметной делается риторическая функция в тех
случаях, когда иноязычный текст может быть каламбурно прочитан и как
текст на родном языке. Например, Пушкин снабдил вторую главу «Евгения
Онегина» эпиграфом: «О rus!..», «О Русь!», что составляет
каламбурно-омонимическое сочетание цитаты из Горация (Сатиры. Кн. 2. Сатира 6) и русского
текста. Ср. в «Жизни Анри Брюлара» Стендаля о событиях конца 1799 г.:
«...в Гренобле ожидали русских. Аристократы и, кажется, мои родные
говорили: О Rus, quando ego te aspiciam». Такие случаи, являясь предельными,
раскрывают сущность механизма всякого инородного включения в текст: оно
не выпадает из общей структуры контекста, а вступает с ним в игровые
отношения, одновременно и принадлежа и не принадлежа контекстной
структуре. Это положение можно распространить и на утверждение об
обязательности для риторического уровня инородной структуры. Риторическая
организация возникает в поле семантического напряжения между «органической»
и «чужой» структурами, причем элементы ее поддаются двойной
интерпретации в этой связи. «Чужая» организация, даже будучи механически
перенесена в новый структурный контекст, перестает быть равной самой себе и
делается знаком или имитацией самой себя. Так, подлинный документ,
включенный в художественный текст, делается художественным знаком
документальности и имитацией подлинного документа.
6. Стилистика и риторика. В семиотическом отношении стилистика
конституируется в двух противопоставлениях: семантике и риторике.
420 СТАТЬИ. ЗАМЕТКИ. ВЫСТУПЛЕНИЯ. I. Общие проблемы искусства
Противопоставление стилистики и семантики реализуется в следующем
плане. Всякая семиотическая система (язык) отличается иерархической
структурой. В семантическом отношении эта иерархичность проявляется в
распадении смыслового поля языка на отдельные замкнутые в себе пространства,
между которыми существует отношение подобия. Такую систему можно
уподобить регистрам музыкального инструмента, например органа. На таком
инструменте можно сыграть одну и ту же мелодию в различных регистрах.
При этом она будет сохранять мелодическое подобие, одновременно меняя
регистровую окраску. Если мы обратимся к какой-либо отдельной ноте, то
получим значение, одинаковое для всех регистров. Сопоставление
одноименных нот в разных регистрах выделит, с одной стороны, то, что у них общего
между собой, и, с другой, то, что выдает в них принадлежность к тому или
иному регистру. Первое значение можно уподобить семантическому, а
второе — стилистическому.
Таким образом, стилистика возникает, во-первых, в случае, когда одно
и то же семантическое содержание можно выразить по крайней мере двумя
различными способами, а во-вторых, когда каждый из этих способов
активизирует воспоминание об определенной замкнутой и иерархически связанной
группе знаков, об определенном «регистре». Если два различных способа
выразить определенное смысловое содержание принадлежат к одному и тому
же регистру, стилистического эффекта не возникает.
С этим связано и второе коренное противопоставление: «стилистика «->
риторика». Риторический эффект возникает при столкновении знаков,
относящихся к различным регистрам и тем самым к структурному обновлению
чувства границы между замкнутыми в себе мирами знаков. Стилистический
эффект создается внутри определенной иерархической подсистемы. Таким
образом, стилистическое сознание исходит из абсолютности иерархических
границ, которые оно конституирует, а риторическое — из их релятивности.
Они превращаются для него в предмет игры. Сказанное относится к
нехудожественному тексту.
В художественном тексте, с его тенденцией рассматривать любой
структурный элемент как имеющий альтернативу и «игровой», возможно
риторическое отношение к стилистике. То, что называется «поэтической
стилистикой», можно определить как создание особого семиотического пространства,
в пределах которого оказывается возможной свобода выбора стилистического
регистра, который перестает автоматически задаваться характером
коммуникативной ситуации. В результате стиль приобретает дополнительную
значимость. Во внехудожественной коммуникации выбор стилевого регистра
определяется суммой прагматических отношений, свойственных реально
данному типу общения. В художественной коммуникации первичным является
текст, который своими стилевыми показателями задает воображаемую
прагматическую ситуацию. Это позволяет в пределах одного текста сталкивать
различные, чаще всего контрастные, стили, на основании чего возникает игра
прагматическими ситуациями (романтическая ирония Гофмана,
стилистические контрасты «Дон-Жуана» Байрона и «Евгения Онегина» Пушкина).
Риторика
421
В исторической динамике искусства можно выделить периоды,
ориентированные на риторические (межрегистровые) и стилистические (внутриреги-
стровые) метаконструкции. Первые в общекультурном контексте
воспринимаются как «сложные», а вторые — как «простые». Эстетический идеал
«простоты» связывается с запретом на риторические конструкции и
обостренным вниманием к стилистическим. Однако и в этом случае художественный
текст коренным образом отличается от нехудожественного, хотя субъективно
этот второй может выступать в роли идеального образца для первого.
Следует обратить внимание на специфический парадокс литературных
эпох с ориентацией на стилистическое сознание. В эти периоды обостряется
ощущение значимости всей системы стилевых регистров языка, однако каждый
отдельный текст тяготеет к стилевой нейтральности: читатель включается в
определенную систему жанрово-стилистических норм в начале чтения или
даже еще до его начала. В дальнейшем на всем протяжении текста возможность
смены структурных норм исключается, в результате чего сами эти нормы
становятся нейтральными. Художественное сознание риторического типа
почти не уделяет внимания обсуждению вопросов общей иерархии регистров.
Так, вся система жанрово-стилистических средств, их «приличия» или
«неприличия», их относительной ценности, столь занимавшая теоретиков
классицизма, потеряла смысл в глазах романтиков. Зато в пределах отдельного
текста ценность и мастерство автора проявляются, с точки зрения классициста,
в «чистоте слога», то есть в строгом выполнении действующих в данном
регистре и на данном его участке норм, а для романтика — в
«выразительности» текста, то есть в переключении с одной системы норм на другую. В
первом случае отдельный текст ценится за нейтральность стиля, которая
ассоциируется с «правильностью» и «чистотой», во втором же такая
«правильность» будет восприниматься как «бесцветность» и «невыразительность».
Им будут противостоять стилевые контрасты внутри текста. Таким образом,
стилевая доминанта художественного сознания будет парадоксально
приводить к ослаблению структурной значимости категории стиля внутри текста,
а риторическая — обострять ощущение стилевой значимости.
Эволюционный процесс в искусстве отличается сложностью и зависит от
многих факторов. Однако среди других эволюционных констант можно было
бы указать на то, что в пределах крупного исторического периода
«риторические» ориентации обычно предшествуют сменяющим их «стилистическим».
Закономерность эта была подмечена Д. С. Лихачевым. С ней можно было
бы сопоставить характерную черту в индивидуальном развитии многих
поэтов: от усложненности стиля в начале творческого пути к «классической»
простоте в конце. Указанная Пастернаком закономерность: итог поэтического
развития в том, чтобы в конце пути
...впасть, как в ересь,
В неслыханную простоту —
характерна для слишком многих индивидуальных поэтических судеб, чтобы
счесть ее случайностью. «Переход от романтизма к реализму», «переход от
рококо к классицизму», «переход от авангардизма к неоклассицизму» —
422 СТАТЬИ. ЗАМЕТКИ. ВЫСТУПЛЕНИЯ. I. Общие проблемы искусства
такие формулы применимы к огромному числу индивидуальных траекторий
поэтического развития. Все они укладываются в формулу: «переход от
риторической ориентации к стилистической».
Смысл такой эволюции может быть раскрыт как поиск индивидуального
языка поэзии. На первом этапе такой язык оформляется как отмена уже
существующих поэтических диалектов. Очерчивается некое новое языковое
пространство, в границах которого оказываются совмещенными языковые
единицы, прежде никогда не входившие в какое-либо общее целое и
осознававшиеся как несовместимые. Естественно, что в этих условиях активизируется
ощущение специфичности каждого из них и несоположимости их в одном
ряду. Возникает риторический эффект. Однако, если речь идет о значительном
художнике, он обнаруживает силу утвердить в глазах читателя такой язык
как единый. В дальнейшем, продолжая творить внутри этого нового, но уже
культурно утвердившегося языка, поэт превращает его в определенный
стилевой регистр. Совместимость элементов, входящих в такой регистр,
становится естественной, даже нейтральной, зато резко выделяется граница,
отделяющая стиль данного поэта от общелитературного окружения. Так, в ранней
поэме Пушкина «Руслан и Людмила» современники видели пестроту стиля —
соединение разностильных реминисценций из различных литературных
традиций. А в «Евгении Онегине», стиль которого отличается исключительной
цитатной сложностью, обилием намеков, отсылок и реминисценций, читатель
видит лишь непринужденность простой авторской речи. Зато резко ощущается
неповторимо «пушкинский» ее характер.
Таким образом, художественный текст не может быть исключительно
«риторическим» или «стилистическим», а являет собой сложное переплетение
обеих тенденций, дополняемое столкновением их же в метакультурных
структурах, выполняющих роль кодов в процессах общественных коммуникаций.
Общее соотношение стилистических и риторических структурных
элементов может быть представлено в виде следующей схемы:
семантика
семантическая
риторика
стилистика
стилистическая
*т риторика
Возможные сдвиги в сторону доминирования любого из этих элементов
дают разнообразные комбинации более фундаментальных историко-семиоти-
ческих категорий типа «романтизм», «классицизм» и им подобных. При этом
следует учитывать, что в реальных текстах работает также напряжение между
текстовым и метатекстовым (кодирующим) уровнями, что приводит к
удвоению данной схемы.
1981
Текст в тексте
423
Текст в тексте
Понятие «текст» употребляется неоднозначно. Можно было бы составить
набор порой весьма различающихся значений, которые вкладываются
различными авторами в это слово. Характерно, однако, другое: в настоящее время
это, бесспорно, один из самых употребимых терминов в науках гуманитарного
цикла. Развитие науки в разные моменты выбрасывает на поверхность такие
слова; лавинообразный рост их частотности в научных текстах сопровождается
утратой необходимой однозначности. Они не столько терминологически точно
обозначают научное понятие, сколько сигнализируют об актуальности проблемы,
указывают на область, в которой рождаются новые научные идеи. История
таких слов могла бы составить своеобразный индекс научной динамики.
В нашу задачу не входит обосновать какое-либо из существующих или
предложить новое понимание этого термина. В аспекте, настоящего
исследования более существенно попытаться определить его отношение к некоторым
другим базовым понятиям, в частности к понятию языка. Здесь можно вьщелить
два подхода. Первый: язык мыслится как некоторая первичная сущность,
которая получает материальное инобытие, овеществляясь в тексте1. При всем
разнообразии аспектов и подходов здесь выделяется общая презумпция: язык
предшествует тексту, текст порождается языком. Даже в тех случаях, когда
подчеркивается, что именно текст составляет данную лингвисту реальность и
что любое изучение языка отправляется от текста, речь идет об эвристической,
а не онтологической последовательности: поскольку в само понятие текста
включена осмысленность, текст по своей природе подразумевает определенную
закодированность. Следовательно, наличие кода полагается как нечто
предшествующее.
С этой презумпцией связано представление о языке как о замкнутой
системе, которая способна порождать бесконечно умножающееся открытое
множество текстов. Таково, например, определение Ельмслевом текста как
всего, что было, есть и будет сказано на данном языке. Из этого вытекает,
что язык мыслится как панхронная и замкнутая система2, а текст — как
постоянно наращиваемая по временной оси.
1 Ср. определение М.-А.-К. Хэллидея: «„Текст" — это язык в действии» (Новое в
зарубежной лингвистике. М., 1978. Вып. 8. С. 142); если в формуле Хэллидея
выделяется оппозиция «потенциальная возможность — динамическая реализация», то
П. Хартман и 3. Шмидт подчеркивают противопоставление «идеальная структура —
материально воплощенная конструкция». Ср. формулу П. Хартмана: «Язык становится
видимым в форме текста» (Там же. С. 97). Развернутый анализ понятия «текст» в
современной лингвистике текста см. в статье Т. М. Николаевой и составленном ею
«Кратком словаре теории лингвистики текста» (Там же. С. 18 и след., 471—472).
2 Ср., однако, мнение Й. Вахека о неполной замкнутости языка: Vachek J. Vyznam
historichého studia jazykîi pro vèdecky vyklad soucasnych jazykuse zvlâstnim zretelem k
materiâlu anglickému // VPSI. 1958. С 63.
424 СТАТЬИ. ЗАМЕТКИ. ВЫСТУПЛЕНИЯ. I. Общие проблемы искусства
Второй подход наиболее употребителен в литературоведческих работах
или культурологических исследованиях, посвященных общей типологии
текстов1. Здесь сказывается то, что, в отличие от лингвистов, литературоведы
изучают обычно не «ein Text», a «der Text». Стремление сблизить текст как
лингвистический и литературоведческий объект исследования определило на
начальном этапе изучения тот подход, о котором писал И. И. Ревзин: «Если
же речь идет об анализе произведения в целом, то структурные методы
оказываются особенно эффективными при изучении либо таких сравнительно
простых и повторяющихся „малых форм", как частушки, загадки, былины,
сказки, мифы, либо такой массовой продукции, как детективы2, бульварные
романы, романы-памфлеты и т. п., но тогда уже речь не идет о
художественном произведении в подлинном смысле слова»3. Однако исследования
художественного произведения «в подлинном смысле слова», равно как и
других наиболее сложных форм культурной жизни, диктовались слишком
многими и важными научными соображениями, чтобы от них можно было
бы отказаться. А такое исследование требовало другого подхода к тексту4.
С точки зрения этого второго подхода, текст мыслится как отграниченное,
замкнутое в себе конечное образование. Одним из основных его признаков
является наличие специфической имманентной структуры, что влечет за собой
высокую значимость категории границы («начала», «конца», «рампы»,
«рамы», «пьедестала», «кулис» и т. п.). Если в первом случае существенным
признаком текста является его протяженность в естественном времени, то во
втором текст или тяготеет к панхронности (например, иконические тексты
живописи и скульптуры), или же образует свое особое внутреннее время,
отношение которого к естественному способно порождать разнообразные
смысловые эффекты. Меняется соотношение текста и кода (языка). Осознавая
некоторый объект как текст, мы тем самым предполагаем, что он каким-то
образом закодирован, презумпция кодированное™ входит в понятие текста.
Однако сам этот код нам неизвестен — его еще предстоит реконструировать,
основываясь на данном нам тексте.
Безразлично, имеем ли мы дело с текстом на неизвестном нам языке —
со случайно сохранившимся обломком утраченной для нас культуры — или
с художественным произведением, рассчитанным на шокирующее аудиторию
новаторство, но то, что текст предварительно закодирован, не меняет того
факта, что для аудитории именно текст является чем-то первичным, а язык —
вторичной абстракцией. Более того, поскольку получатель информации ни-
1 Обе тенденции — изучать текст как реализацию системы и как ее разрушение —
обнаружились еще в трудах формальной школы.
2 Ср.: Ревзин И. И. К семиотическому анализу детективов (на примере романов
Агаты Кристи) // Программа и тезисы докладов в Летней школе по вторичным
моделирующим системам. Тарту, 1964.
3 Ревзин И. И. Современная структурная лингвистика: Проблемы и методы. М.,
1977. С. 210.
4 Обзор современной литературы по проблеме семиотики текста см.: Тороп П. X.
Проблема интекста: Текст в тексте // Учен. зап. Тартуского гос. ун-та. 1981. Вып. 567.
(Труды по знаковым системам. Т. 14.)
Текст в тексте
425
когда не может быть уверен, что на основании данного текста ему удалось
реконструировать язык полностью как таковой, язык выступает лишь как
относительно замкнутый. В отношении к имманентно организованному и
замкнутому тексту будет активизироваться признак его незавершенности и
открытости. Это будет особенно очевидно в тех случаях, когда кодирующая
система организована иерархически и реконструкция одного из ее уровней
не гарантирует понимания на других. В тех случаях, как, например, в
искусстве, когда текст допускает в принципе открытое множество интерпретаций,
кодирующее его устройство хотя и мыслится как закрытое в отдельных
уровнях, в целом имеет принципиально открытый характер. Таким образом,
и в этом отношении текст и язык переставлены. Текст дается коллективу
раньше, чем язык, и язык «вычисляется» из текста.
Основой этой двойной исследовательской ориентации является
функциональная двойственность текстов в системе культуры.
В общей системе культуры тексты выполняют по крайней мере две
основные функции: адекватную передачу значений и порождение новых
смыслов. Первая функция выполняется наилучшим образом при наиболее полном
совпадении кодов говорящего и слушающего и, следовательно, при
максимальной однозначности текста. Идеальным предельным механизмом для такой
операции будет искусственный язык и текст на искусственном языке. Тяготение
к стандартизации, порождающее искусственные языки, и стремление к
самоописанию, создающее метаязыковые конструкции, не являются внешними по
отношению к языковому и культурному механизму. Ни дна культура не
может функционировать без метатекстов и текстов на искусственных языках.
Поскольку именно эта сторона текста наиболее легко моделируется с помощью
имеющихся в нашем распоряжении средств, этот аспект текста оказался
наиболее заметным. Он сделался объектом изучения, порою отождествляясь
с текстом как таковым и заслоняя другие аспекты.
Механизм идентификации, снятия различий и возведения текста к
стандарту играет не только роль начала, гарантирующего адекватность восприятия
сообщения в системе коммуникации: не менее важной является функция
обеспечения общей памяти коллектива, превращения его из беспорядочной
толпы в «Une personne morale», по выражению Руссо. Эта функция особенно
значительна в бесписьменных культурах и в культурах с доминирующим
мифологическим сознанием, однако как тенденция она с той или иной
степенью выявленное™ проявляется в любой культуре.
Характерной чертой культуры с мифологической ориентацией является
возникновение между языком и текстами промежуточного звена — текста-
кода. Этот текст может быть осознан и выявлен в качестве идеального
образца (ср., например, роль «Энеиды» Вергилия для литературы Возрождения
и классицизма) или оставаться в области субъективно-неосознанных
механизмов, которые не получают непосредственного выражения1, а реализуются
в виде вариантов в текстах более низкого уровня в иерархии культуры. Это
1 До тех пор, пока они не сделались объектом научной реконструкции.
426 СТАТЬИ. ЗАМЕТКИ. ВЫСТУПЛЕНИЯ. I. Общие проблемы искусства
не меняет основного: текст-код является именно текстом. Это не абстрактный
набор правил для построения текста, а синтагматически построенное целое,
организованная структура знаков. Следует подчеркнуть, что в ходе
культурного функционирования — в процессе текстообразования или при
исследовательском метаописании — каждый знак текста-кода может представать
перед нами в виде парадигмы. Однако «для себя», с позиции своего
собственного уровня, он выступает как нечто наделенное не только единством
выражения, но и единством содержания. Диффузный, амби- или
поливалентный, распадающийся то на парадигму эквивалентных, но разных значений,
то на систему антонимических оппозиций для внешнего наблюдателя, «для
себя» он монолитен, компактен, однозначен. Входя в структурные связи с
элементами своего уровня, он образует текст, наделенный всеми признаками
текстовой реальности, даже если он нигде не выявлен, а лишь неосознанно
существует в голове сказителя, народного импровизатора, организуя его
память и подсказывая ему пределы возможного варьирования текста. Именно
такая реальность описывается моделью волшебной сказки Проппа или
моделью детективного романа Ревзина. Существенно подчеркнуть, что эти
исследовательские модели описывают не структуру объекта (она лишь
косвенно выводится из этих описаний), а стоящий за этой структурой реальный,
хотя и невыявленный, текстовый объект1.
К объектам этого типа относится «петербургский текст», выявленный
В. Н. Топоровым на материале произведений Достоевского2. Наблюдения
над текстами Достоевского убедили исследователя, что один из пластов
творческого сознания автора «Преступления и наказания» отличается
глубоким архаизмом и непосредственно соприкасается с мифологической
традицией. В. Н. Топоров показывает существование в художественном сознании
Достоевского определенного устойчивого текста, который в многочисленных
вариациях проявляется в его произведениях и может быть реконструирован
исследователем. Связь с архаическими схемами, а также и то, что в основе
лежат произведения одного автора, обеспечивают для выделенных В. Н.
Топоровым элементов необходимую отнесенность к одному уровню и единому
тексту.
Вторая функция текста — порождение новых смыслов. В этом аспекте
текст перестает быть пассивным звеном передачи некоторой константной
информации между входом (отправитель) и выходом (получатель). Если в
первом случае разница между сообщением на входе и на выходе
информационной цепи возможна лишь в результате помех в канале связи и должна
быть отнесена за счет технических несовершенств системы, то во втором она
составляет самое сущность работы текста как «мыслящего устройства». То,
что с первой точки зрения — дефект, со второй — норма, и наоборот.
1 Мы называем этот объект текстом-кодом и отличаем от описывающего его
метатекста Проппа и др.
2 См.: Топоров В. Н. О структуре романа Достоевского в связи с архаичными
схемами мифологического мышления // Structure of texts and semiotics of culture. The
Hague; Paris, 1973.
Текст в тексте
427
Естественно, что механизм текста должен быть организован в этом случае
иначе.
Основным структурным признаком текста в этой второй функции является
его внутренняя неоднородность. Текст представляет собой устройство,
образованное как система разнородных семиотических пространств, в континууме
которых циркулирует некоторое исходное сообщение. Он предстает перед
нами не как манифестация какого-либо одного языка, — для его образования
требуется как минимум два языка. Ни один текст этого рода не может быть
адекватно описан в перспективе одного-единственного языка. Мы можем
сталкиваться со сплошным закодированием двойным кодом, причем в разной
читательской перспективе просматривается то одна, то другая организация,
или с сочетанием общей закодированности некоторым доминирующим кодом
и локальных кодировок второй, третьей и прочих степеней. При этом
некоторая фоновая кодировка, имеющая бессознательный характер и,
следовательно, обычно незаметная, вводится в сферу структурного сознания и
приобретает осознанную значимость (ср. толстовский пример с чистотой воды,
которая делается заметной от соринок и щепочек, попавших в стакан:
соринки — добавочные текстовые включения, которые выводят основной
фоновый код — «чистоту» — из сферы структурно-неосознанного).
Возникающая при этом в тексте смысловая игра, скольжение между структурными
упорядоченностями разного рода придает тексту большие смысловые
возможности, чем те, которыми располагает любой язык, взятый в отдельности.
Следовательно, текст во второй своей функции является не пассивным
вместилищем, носителем извне вложенного в него содержания, а генератором.
Сущность же процесса генерации — не только в развертывании, но и в
значительной мере во взаимодействии структур. Их взаимодействие в
замкнутом мире текста становится активным фактором культуры как работающей
семиотической системы. Текст этого типа всегда богаче любого отдельного
языка и не может быть из него автоматически вычислен. Текст —
семиотическое пространство, в котором взаимодействуют, интерферируют и
иерархически самоорганизуются языки.
Если методика Проппа ориентирована на то, чтобы из различных текстов,
представив их как пучок вариантов одного текста, вычислить этот лежащий
в основе единый текст-код, то методика Бахтина, начиная с «Марксизма и
философии языка», противоположна: в едином тексте вычленяются не только
разные, но, что особенно существенно, взаимонепереводимые субтексты. В
тексте раскрывается его внутренняя конфликтность. В описании Проппа текст
тяготеет к панхронной уравновешенности: именно потому, что
рассматриваются повествовательные тексты, особенно заметно, что движения, по существу,
нет —' имеется лишь колебание вокруг некоторой гомеостатической нормы
(равновесие — нарушение равновесия — восстановление равновесия). В
анализе Бахтина неизбежность движения, изменения, разрушения скрыта даже
в статике текста. Поэтому он сюжетен даже в тех случаях, когда, казалось
бы, весьма далек от проблем сюжета. Естественной сферой для текста, по
Проппу, оказывается сказка, по Бахтину — роман и драма.
428 СТАТЬИ. ЗАМЕТКИ. ВЫСТУПЛЕНИЯ. I. Общие проблемы искусства
Проблема текста органически связана с прагматическим аспектом.
Прагматика текста часто бессознательно отождествляется исследователями с
категорией субъективного в классической философии. Это обусловливает
отношение к прагматике как к чему-то внешнему и наносному, что может
увлечь в сторону от объективной структуры текста.
В действительности же прагматический аспект — это аспект работы
текста, поскольку механизм работы текста подразумевает какое-то введение
в него чего-либо извне. Будет ли это «извне» — другой текст, или читатель
(который тоже «другой текст»), или культурный контекст, он необходим для
того, чтобы потенциальная возможность генерирования новых смыслов,
заключенная в имманентной структуре текста, превратилась в реальность.
Поэтому процесс трансформации текста в читательском (или
исследовательском) сознании, равно как и трансформации читательского сознания,
введенного в текст (по сути, мы имеем два текста в отношении
«инкорпорированные — обрамляющие», см. об этом ниже), — не искажение объективной
структуры, от которого следует устраниться, а раскрытие сущности механизма
в процессе его работы.
Прагматические отношения — отношения между текстом и человеком.
Оба образования отличаются такой степенью сложности, что всегда
наличествует возможность активизации того или иного аспекта структуры текста
и превращения в процессе прагматического функционирования ядерных
структур в периферийные, а периферийных — в ядерные. Например, поэзию,
относящуюся к эпохе, характеризующейся развитым чувством
индивидуальности, и ориентированную на оригинальность как высшую характеристику
художественной ценности, рассматривает читатель, ориентированный на
восприятие мифологических текстов. Он видит не панораму текстов, из которых
каждый отмечен «лица необщим выраженьем» (Баратынский), а некоторый
общий текст, повторяемый в ряде вариаций. При этом происходит акцентация
таких параметров, которые самими современниками не воспринимались как
значимые, поскольку были автоматическими или бессознательными, а то,
что отмечалось современниками в первую очередь, снимается. Разнородные
тексты рассматриваются как однородные. Противоположный процесс
происходит, когда современный читатель находит «полифонизм» в текстах эпох,
не знавших художественно осознанного функционирования этой категории,
но естественно включавших элементы языковой неоднородности, которая в
определенных условиях может быть прочитана подобным образом.
Было бы упрощением видеть в этих трактовках просто «искажения» (при
таком подходе вековая история интерпретаций крупнейших памятников
мировой культуры предстает как цепь заблуждений и ошибочных истолкований,
на смену которым тот или иной критик или читатель предлагает новое,
долженствующее, наконец, установить истину в последней инстанции).
Переформулировка основ структуры текста свидетельствует, что он вступил во
взаимодействие с неоднородным ему сознанием и в ходе генерирования новых
смыслов перестроил свою имманентную структуру. Возможности таких
перестроек конечны, и это полагает предел жизни того или иного текста в веках,
а также проводит черту между перестройкой памятника в процессе изменения
Текст в тексте
429
культурного контекста и произвольным навязыванием ему смыслов, для
выражения которых он не имеет средств. Прагматические связи могут акту-
ализовывать периферийные или автоматические структуры, но не способны
вносить в текст принципиально отсутствующие в нем коды. Однако
разрушение текстов и превращение их в материал создания новых текстов
вторичного типа — от постройки средневековых зданий из разрушенных
античных до создания современных пьес «по мотивам» Шекспира — тоже часть
процесса культуры.
Роль прагматического начала не может быть, однако, сведена к разного
рода переосмыслениям текста — оно составляет активную сторону
функционирования текста как такового. Текст как генератор смысла, мыслящее
устройство, для того чтобы быть приведенным в работу, нуждается в
собеседнике. В этом сказывается глубоко диалогическая природа сознания. Чтобы
активно работать, сознание нуждается в сознании, текст — в тексте,
культура — в культуре. Введение внешнего текста в имманентный мир данного
текста играет огромную роль. В структурном смысловом поле текста
вводимый в него внешний текст трансформируется, образуя новое сообщение.
Сложность и многоуровневость участвующих в текстовом взаимодействии
компонентов приводит к известной непредсказуемости той трансформации,
которой подвергается вводимый текст. Однако трансформируется не только
он — изменяется вся семиотическая ситуация внутри того текстового мира,
в который он вводится. Введение чуждого семиозиса, который находится в
состоянии непереводимости к «материнскому» тексту, приводит этот
последний в состояние возбуждения: предмет внимания переносится с сообщения
на язык как таковой и обнаруживается явная кодовая неоднородность самого
«материнского» текста. В этих условиях составляющие его субтексты могут
начать выступать относительно друг друга как чужие и, трансформируясь
по чуждым для них законам, образовывать новые сообщения. Текст,
выведенный из состояния семиотического равновесия, оказывается способным к
саморазвитию. Мощные внешние текстовые вторжения в культуру,
рассматриваемую как большой текст, приводят не только к адаптации внешних
сообщений и введению их в память культуры, но и служат стимулами ее
саморазвития, дающего непредсказуемые результаты.
Мы можем привести два примера такого процесса.
Исправность интеллектуального аппарата ребенка на ранней стадии его
развития еще не обеспечивает нормального функционирования сознания: ему
необходимы контакты, в ходе которых он получает извне тексты, играющие
роль стимуляторов его собственного умственного саморазвития. Другой
пример связан с так называемым «ускоренным развитием» (Г. Гачев) культуры.
Хорошо стабилизированные архаические культуры могут исключительно
длительное время пребывать в состоянии циклической замкнутости и
сбалансированной неподвижности. Вторжение в их сферу внешних текстов приводит
в движение механизмы саморазвития. Чем сильнее разрыв и чем,
следовательно, труднее дешифруются вторгшиеся тексты средствами кодов
«материнского» текстового кряжа, тем динамичнее оказывается состояние, в
которое приводится культура в целом. Сопоставительное изучение разных
430 СТАТЬИ. ЗАМЕТКИ. ВЫСТУПЛЕНИЯ. I. Общие проблемы искусства
случаев подобных «культурных взрывов», с которыми мы встречаемся в
истории мировой цивилизации, убеждает в упрощенности выдвинутой
Вольтером («Опыт о нравах и духе народов») и Кондорсе («Набросок исторической
картины прогресса человеческого разума») и развитой Гегелем концепции
единства пути мирового Разума. С точки зрения просветительной культуро-
софии, все разнообразие мировых культур может быть сведено или к различию
в этапах становления единого Мирового Эталона культуры, или к
«заблуждениям», уводящим ум человека в дебри. В свете такой концепции кажется
естественным отношение «передовых» культур к «отсталым» как
неполноценным и стремление «отсталых» культур догнать «передовые» и раствориться
в них. В такой перспективе «ускоренное развитие» связывается с уменьшением
разнообразия широкого контекста мировой цивилизации и, следовательно, с
падением ее информативности как единого Текста, то есть с информационной
деградацией. Однако такая гипотеза не подтверждается и эмпирическим
материалом: в ходе «культурных взрывов» в истории мировой цивилизации не
происходит ее нивелировки — имеют место прямо противоположные процессы.
Наблюдая динамические состояния семиотических систем, мы можем
заметить одну любопытную особенность: в ходе медленного и постепенного
развития система вовлекает в себя близкие и легко переводимые на ее язык
тексты. В моменты «культурных (и вообще семиотических) взрывов»
вовлекаются наиболее далекие и непереводимые, с точки зрения данной системы
(то есть «непонятные»), тексты. Далеко не всегда в этом случае более сложная
культура будет играть роль стимулятора для более архаической, возможна
и противоположная направленность. Так, в XX в. мы сделались свидетелями
мощного вторжения текстов архаических культур и примитива в европейскую
цивилизацию, что сопровождалось приведением ее в состояние динамического
возбуждения. Существенным работающим моментом оказывается именно
различие культурных потенциалов, трудность в дешифровке текстов
средствами имеющихся языков культуры. Например, принятие христианства и
введение связанных с этим текстов было для варварских народов Европы
начала нашей эры приобщением к текстовому миру, труднодоступному в
силу своей культурной сложности. Но для древних цивилизаций
Средиземноморья эти же тексты были труднодоступны в силу своей примитивности.
Однако эффект их в обоих случаях был сходным: они вызвали мощный
культурный взрыв, который нарушил младенческую и старческую статику
обоих миров и привел их в состояние динамизма.
Выше мы подчеркнули типологическое различие между текстами,
онтологически ориентированными на отождествление всего множества текстов с
некоторым Текстом, и такими, в которых проблема кодового разнообразия
переносится внутрь границ текста и расслоение Текста на тексты превращается
во внутренний закон. Однако эту же проблему можно рассмотреть и в
прагматическом аспекте. В любой сколь-либо детально нам известной
цивилизации мы сталкиваемся с текстами очень высокой сложности. В этих
условиях особую роль начинает играть прагматическая установка аудитории,
которая может активизировать в одном и том же тексте «пропповский» или
«бахтинский» аспект.
Текст в тексте
431
Вопрос этот тесно связан с проблемой отношения текста к культурному
контексту. Культура — не беспорядочное накопление текстов, а сложная,
иерархически организованная, работающая система. Однако сложность ее
относительно оси «однородность/неоднородность» такова, что всякий текст
неизбежно предстает как минимум в двух перспективах, как включенный в
два типа контекстов. С одной точки зрения, он выступит как однородный с
другими текстами, с другой — как выпадающий из ряда, «странный» и
«непонятный». В первом случае он будет располагаться на синтагматической,
во втором — на риторической оси. Соположение текста с семиотически
неоднородным ему рядом порождает риторический эффект. Смыслообразую-
щие процессы протекают как за счет взаимодействия между семиотически
разнородными и находящимися в отношении взаимной непереводимости
пластами текста, так и в результате сложных смысловых конфликтов между
текстом и инородным для него контекстом. В такой же мере, в какой
художественный текст тяготеет к полиглотизму, художественный (и
культурный вообще) контекст не может быть моноязычным. Сложная
многофакторность и полиструктурность любого культурного контекста приводит к тому,
что составляющие его тексты могут просматриваться как на
синтагматической, так и на риторической оси. Именно этот второй тип соположений
выводит семиотическую структуру из области бессознательных механизмов
в сферу осознанного семиотического творчества. Проблема разнообразных
соположений разнородных текстов, столь остро поставленная в искусстве и
культуре XX в.1, по сути принадлежит к весьма древним. Именно она лежит
в основе круга вопросов, связанных с темой «текст в тексте». Обострившийся
в современной науке интерес к неориторике лежит в том же плане.
***
«Текст в тексте» — это специфическое риторическое построение, при
котором различие в закодированности разных частей текста делается
выявленным фактором авторского построения и читательского восприятия текста.
Переключение из одной системы семиотического осознания текста в другую
на каком-то внутреннем структурном рубеже составляет в этом случае основу
генерирования смысла. Такое построение, прежде всего, обостряет момент
игры в тексте: с позиции другого способа кодирования, текст приобретает
черты повышенной условности, подчеркивается его игровой характер:
иронический, пародийный, театрализованный смысл и т. д. Одновременно
подчеркивается роль границ текста, как внешних, отделяющих его от не-текста,
так и внутренних, разделяющих участки различной кодированности.
Актуальность границ подчеркивается именно их подвижностью, тем, что при
смене установок на тот или иной код меняется и структура границ. Так, на
фоне уже сложившейся традиции, включающей пьедестал или раму картины
в область не-текста, искусство эпохи барокко вводит их в текст (например,
превращая пьедестал в скалу и сюжетно связывая ее в единую композицию
Ср. работы М. Дрозды, посвященные проблемам европейского авангарда.
432 СТАТЬИ. ЗАМЕТКИ. ВЫСТУПЛЕНИЯ. I. Общие проблемы искусства
с фигурой). Игровой момент обостряется не только тем, что эти элементы
в одной перспективе оказываются включенными в текст, а в другой —
выключенными из него, но и тем, что в обоих случаях мера условности их
иная, чем та, которая присуща основному тексту: когда фигуры скульптуры
барокко взбираются или соскакивают с пьедестала или в живописи вылезают
из рам, этим подчеркивается, а не стирается тот факт, что одни из них
принадлежат вещественной, а другие — художественной реальности. Та же
самая игра зрительскими ощущениями разного рода реальности происходит,
когда театральное действие сходит со сцены и переносится в реально-бытовое
пространство зрительного зала.
Игра на противопоставлении «реального/условного» свойственна любой
ситуации «текст в тексте». Простейшим случаем является включение в текст
участка, закодированного тем же самым, но удвоенным, кодом, что и все
остальное пространство произведения. Это будет картина в картине, театр
в театре, фильм в фильме или роман в романе. Двойная закодированность
определенных участков текста, отождествляемая с художественной
условностью, приводит к тому, что основное пространство текста воспринимается
как «реальное». Например, в «Гамлете» перед нами не только «текст в тексте»,
но и «Гамлет» в «Гамлете»: пьеса, разыгрываемая по инициативе Гамлета,
повторяет в подчеркнуто условной манере (сначала пантомима, затем
подчеркнутая условность рифмованных монологов, перебиваемых прозаическими
репликами зрителей: Гамлета, короля, королевы, Офелии) пьесу, сочиненную
Шекспиром. Условность первой подчеркивает реальность второй1. Чтобы
акцентировать это чувство у зрителей, Шекспир вводит в текст метатекстовые
элементы: перед нами на сцене осуществляется режиссура пьесы. Как бы
предвосхищая «8 1/г» Феллини, Гамлет перед публикой дает актерам указания,
как им надо играть. Шекспир показывает на сцене не только сцену, но, что
еще важнее, репетицию сцены.
Удвоение — наиболее простой вид выведения кодовой организации в
сферу осознанно-структурной конструкции. Не случайно именно с удвоением
связаны мифы о происхождении искусства: рифма как порождение эха,
живопись как обведенная углем тень на камне и т. п. Среди средств создания
в изобразительном искусстве локальных субтекстов с удвоенной структурой
существенное место занимает мотив зеркала в живописи и кинематографе.
Мотив зеркала широко встречается в самых различных произведениях
(«Венера и Амур» Веласкеса, «Портрет банкира Арнольфини с женой» Ван
Эйка и т. д.). Однако мы сразу сталкиваемся с тем, что удвоение с помощью
1 Персонажи «Гамлета» как бы передоверяют сценичность комедиантам, а сами
превращаются во внесценическую публику. Этим объясняется и переход их к прозе,
и подчеркнуто непристойные замечания Гамлета, напоминающие реплики из публики
эпохи Шекспира. Фактически возникает не только «театр в театре», но и «публика
в публике». Вероятно, для того, чтобы передать современному нам зрителю этот
эффект адекватно, надо было бы, чтобы, подавая свои реплики из публики, герои в
этот момент разгримировывались и рассаживались в зрительном зале, уступая сцену
комедиантам, разыгрывающим «мышеловку».
Текст в тексте
433
зеркала никогда не есть простое повторение: меняется ось «правое — левое»
или, что еще чаще, к плоскости полотна или экрана прибавляется
перпендикулярная к нему ось, создающая глубину или добавляющая вне плоскости
лежащую точку зрения. Так, на картине Веласкеса к точке зрения зрителей,
которые видят Венеру со спины, прибавляется точка зрения из глубины
зеркала — лицо Венеры. На портрете Ван Эйка эффект еще более усложнен:
висящее в глубине картины на стене зеркало отражает со спины фигуры
Арнольфини с женой (на полотне они повернуты en face) и входящих со
стороны зрителей гостей, которых они встречают. Таким образом, из глубины
зеркала бросается взгляд, перпендикулярный полотну (навстречу взгляду
зрителей) и выходящий за пределы собственного пространства картины.
Фактически такую же роль играло зеркало в интерьере барокко, раздвигая
собственно архитектурное пространство ради создания иллюзорной
бесконечности (отражение зеркала в зеркале), удвоения художественного
пространства путем отражения картин в зеркалах1 или взламывания границы
«внутреннее/внешнее» путем отражения в зеркалах окон.
Однако зеркало может играть и другую роль: удваивая, оно искажает и
этим обнажает то, что изображение, кажущееся «естественным», — проекция,
несущая в себе определенный язык моделирования. Так, на портрете Ван
Эйка зеркало выпуклое (ср. портрет Ганса Бургкмайра с женой кисти Лукаса
Фуртнагеля, где женщина держит выпуклое зеркало почти под прямым углом
к плоскости полотна, что дает резкое искажение отражений) — фигуры даны
не только спереди и сзади, но и в проекции на плоскую и сферическую
поверхность. В «Страсти» Висконти фигура героини, нарочито бесстрастная
и застывшая, противостоит ее динамическому отражению в зеркале. Ср. также
потрясающий эффект отражения в разбитом зеркале в «Вороне» Ж.-А. Клузо
или разбитое зеркало в «День начинается» М. Карне. С этим можно было
бы сопоставить обширную литературную мифологию отражений в зеркале
и Зазеркалья, уходящую корнями в архаические представления о зеркале как
окне в потусторонний мир.
Литературным адекватом мотива зеркала является тема двойника.
Подобно тому как Зазеркалье — это странная модель обыденного мира,
двойник — остраненное отражение персонажа. Изменяя по законам зеркального
отражения (энантиоморфизма) образ персонажа, двойник представляет собой
сочетание черт, позволяющих увидеть их инвариантную основу, и сдвигов
(замена симметрии правого — левого может получать исключительно
широкую интерпретацию самого различного свойства: мертвец — двойник живого,
не-сущий — сущего, безобразный — прекрасного, преступный — святого,
ничтожный — великого и т. д.), что создает поле широких возможностей
для художественного моделирования.
1 Ср. у Державина:
Картины в зеркалах дышали,
Мусия, мрамор и фарфор...
(Державин Г. Р. Стихотворения. Л., 1957. С. 213).
434 СТАТЬИ. ЗАМЕТКИ. ВЫСТУПЛЕНИЯ. I. Общие проблемы искусства
Знаковая природа художественного текста двойственна в своей основе: с
одной стороны, текст притворяется самой реальностью, прикидывается
имеющим самостоятельное бытие, независимое от автора, вещью среди вещей
реального мира; с другой стороны, он постоянно напоминает, что он —
чье-то создание и нечто значит. В этом двойном освещении возникает игра
в семантическом поле «реальность — фикция», которую Пушкин выразил
словами: «Над вымыслом слезами обольюсь». Риторическое соединение
«вещей» и «знаков вещей» (коллаж) в едином текстовом целом порождает
двойной эффект, подчеркивая одновременно и условность условного и его
безусловную подлинность. В функции «вещей» (реалий, взятых из внешнего
мира, а не созданных рукой автора текста) могут выступать документы —
тексты, подлинность которых в данном культурном контексте не берется под
сомнение. Таковы, например, врезки в художественную киноленту
хроникальных кадров (ср. «Зеркало» А. Тарковского) или тот же прием, использованный
Пушкиным, который «вклеил» в «Дубровского» обширное подлинное
судебное дело XVIII в., изменив лишь собственные имена. Более сложны случаи,
когда признак «подлинности не вытекает из собственной природы субтекста
или даже противоречит ей и, вопреки этому, в риторическом целом текста
именно этому субтексту приписывается функция подлинной реальности.
Рассмотрим с этой точки зрения роман «Мастер и Маргарита» М.
Булгакова. Роман построен как переплетение двух самостоятельных текстов: один
повествует о событиях, развертывающихся в Москве, современной автору,
другой — в древнем Ершалаиме. Московский текст обладает признаками
«реальности»: он имеет бытовой характер, перегружен правдоподобными,
знакомыми читателю деталями и предстает как прямое продолжение знакомой
читателю современности. В романе он представлен как некоторый первичный
текст нейтрального уровня. В отличие от него, повествование о Ершалаиме
все время имеет характер «текста в тексте». Если первый текст — создание
Булгакова, то второй создают герои романа. Ирреальность второго текста
подчеркивается тем, что ему предшествует метатекстовое обсуждение того,
как его следует писать; ср.: Иисуса «на самом деле никогда не было в живых.
Вот на это-то и нужно сделать главный упор»1. Таким образом, если
относительно первого субтекста нас хотят уверить, что он имеет реальные
денотаты, то относительно второго демонстративно убеждают, что таких
денотатов нет. Это достигается и постоянным подчеркиванием текстовой природы
глав о Ершалаиме (сначала рассказ Воланда, потом роман Мастера), и тем,
что московские главы преподносятся как реальность, которую можно увидеть,
а ершалаимские — как рассказ, который слушают или читают. Ершалаимские
главы неизменно вводятся концовками московских, которые становятся их
зачинами, подчеркивая их вторичную природу: «Заговорил негромко, причем
его акцент почему-то пропал: — Все просто: в белом плаще...» (конец 1-й —
начало 2-й главы). «В белом плаще с кровавым подбоем, шаркающей кава-
1 Булгаков М. Романы. М., 1973. С. 426. (Дальнейшие ссылки на это издание даются
в тексте.)
Текст в тексте
435
лерийской походкой <...> вышел прокуратор Иудеи Понтий Пилат» (с. 435).
Глава «Казнь» вводится как сон Ивана1: «...и ему стало сниться, что солнце
уже снижалось над Лысой Горой, и была эта гора оцеплена двойным
оцеплением...» (конец 15-й — начало 16-й главы). «Солнце уже снижалось над
Лысой Горой, и была эта гора оцеплена двойным оцеплением» (с. 587—588).
Дальше текст об Ершалаиме вводится как сочинение Мастера: «...хотя бы
до самого рассвета, могла Маргарита шелестеть листами тетрадей,
разглядывать их и целовать и перечитывать слова: — Тьма, пришедшая со
Средиземного моря, накрыла ненавидимый прокуратором город... Да, тьма...»
(конец 24-й — начало 25-й главы.). «Тьма, пришедшая со Средиземного моря,
накрыла ненавидимый прокуратором город» (с. 714).
Однако, как только эта инерция распределения реального — нереального
устанавливается, начинается игра с читателем за счет перераспределения
границ между этими сферами. Во-первых, московский мир («реальный»)
наполняется самыми фантастическими событиями, в то время как
«выдуманный» мир романа Мастера подчинен строгим законам бытового
правдоподобия. На уровне сцепления элементов сюжета распределение «реального» и
«ирреального» прямо противоположно. Кроме того, элементы метатекстового
повествования вводятся и в «московскую» линию (правда, весьма редко),
создавая схему: автор рассказывает о своих героях — его герои рассказывают
историю Иешуа и Пилата: «За мной, читатель! Кто сказал тебе, что нет на
свете настоящей, верной, вечной любви?» (с. 632).
Наконец, в идейно-философском смысле это углубление в «рассказ о
рассказе» представляется Булгакову не удалением от реальности в мир
словесной игры (как это имеет место, например, в «Рукописи, найденной в
Сарагосе» Яна Потоцкого), а восхождением от кривляющейся кажимости
мнимо реального мира к подлинной сущности мировой мистерии. Между
двумя текстами устанавливается зеркальность, но то, что кажется реальным
объектом, выступает лишь как искаженное отражение того, что само казалось
отражением.
Существенным и весьма традиционным средством риторического
совмещения разным путем закодированных текстов является композиционная
рамка. «Нормальное» (то есть нейтральное) построение основано, в частности,
на том, что обрамление текста (рама картины, переплет книги или рекламные
объявления издательства в ее конце, откашливание актера перед арией,
настройка инструментов оркестром, слова «итак, слушайте» при устном
рассказе и т. п.) в текст не вводится. Оно играет роль предупредительных
сигналов в начале текста, но само находится за его пределами. Стоит ввести
рамку в текст, как центр внимания аудитории перемещается с сообщения на
1 Сон наряду со вставными новеллами является традиционным приемом введения
текста в текст. Большей сложностью отличаются такие произведения, как «Сон» («В
полдневный жар в долине Дагестана...») Лермонтова, где умирающий герой видит
во сне героиню, которая во сне видит умирающего героя. Повтор первой и последней
строф создает пространство, которое можно представить в виде кольца Мёбиуса,
одна поверхность которого означает сон, а другая — явь.
436 СТАТЬИ. ЗАМЕТКИ. ВЫСТУПЛЕНИЯ. I. Общие проблемы искусства
код. Более усложненным является случай, когда текст и обрамление
переплетаются1, так что каждая часть является в определенном отношении и
обрамляющим и обрамленным текстом.
Возможно также такое построение, при котором один текст дается как
непрерывное повествование, а другие вводятся в него в нарочито
фрагментарном виде (цитаты, отсылки, эпиграфы и т. п.). Предполагается, что
читатель развернет эти зерна других структурных конструкций в тексты.
Подобные включения могут читаться и как однородные с окружающим их
текстом, и как разнородные с ним. Чем резче выражена непереводимость
кодов текста-вкрапления и основного кода, тем ощутимее семиотическая
специфика каждого из них.
Не менее многофункциональны случаи двойного или многократного
кодирования всего текста сплошь. Нам приходилось отмечать случаи, когда
театр кодировал жизненное поведение людей, превращая его в «историческое»,
а «историческое» поведение рассматривалось как естественный сюжет для
живописи2. И в данном случае риторико-семиотический момент наиболее
подчеркнут, когда сближаются далекие и взаимно непереводимые коды. Так,
Висконти в «Страсти» (фильме, снятом в 1950-е гг., в разгар торжества
неореализма, после того как сам режиссер поставил «Земля дрожит»)
демонстративно пропустил фильм через оперный код. На фоне такой общей кодовой
двуплановости он дает кадры, в которых живой актер (Франц) монтируется
с ренессансной фреской.
Культура в целом может рассматриваться как текст. Однако
исключительно важно подчеркнуть, что это сложно устроенный текст, распадающийся
на иерархию «текстов в текстах» и образующий сложные переплетения текстов.
Поскольку само слово «текст» включает в себя этимологию переплетения,
мы можем сказать, что таким толкованием мы возвращаем понятию «текст»
его исходное значение.
1981
Каноническое искусство как
информационный парадокс
В исторической поэтике считается установленным, что есть два типа
искусства. Мы исходим из этого как из доказанного факта, поскольку эта
1 О фигурах переплетения см.: Шубников А. В., Копцик В. А. Симметрия в науке
и искусстве. М., 1972. С. 17—18.
2 См. в наст. изд. статью «Театр и театральность в строе культуры начала XIX века»;
см. также: Francastel P. La réalité figurative / Ed. Gonthier. Paris, 1965. P. 211—238.
Каноническое искусство как информационный парадокс
437
мысль подтверждается обширным историческим материалом и рядом
теоретических соображений. Один тип искусства ориентирован на канонические
системы («ритуализованное искусство», «искусство эстетики тождества»),
другой — на нарушение канонов, на нарушение заранее предписанных норм.
Во втором случае эстетические ценности возникают не в результате
выполнения норматива, а как следствие его нарушений.
Возможность существования «внеканонического» искусства подвергалась
иногда сомнению. При этом указывалось, что уникальные, не повторяющиеся
объекты не могут быть коммуникативными и что любая «индивидуальность»
и «неповторимость» произведений искусства возникает в результате
комбинации сравнительно небольшого числа вполне стандартизованных элементов.
Что же касается «канонического искусства», искусства, ориентированного на
выполнение правил и нормативов; то существование его настолько очевидный
и, казалось бы, хорошо изученный факт, что от исследователей порой
укрывается парадоксальность одного из основных принципов нашего к нему
подхода.
Предполагается вполне очевидным, что система, служащая коммуникации,
имеющая ограниченный словарь и нормализованную грамматику, может быть
уподоблена естественному языку и изучаться по аналогии с ним. Так возникло
стремление видеть в канонических типах искусства аналоги естественных
языков.
Как отмечали многочисленные исследователи, существуют целые
культурные эпохи (к ним относят, например, века фольклора, средневековье,
классицизм), когда акт художественного творчества заключался в выполнении,
а не нарушении правил. Явление это неоднократно описывалось
(применительно к русскому средневековью, например, в трудах Д. С. Лихачева). Более
того, именно в изучении текстов этого типа структурное описание сделало
наиболее заметные успехи, поскольку к ним, как кажется, в наибольшей мере
применимы навыки анализа общеязыкового текста.
Параллель с естественными языками представляется здесь вполне
уместной. Если допустить, что есть особые типы искусства, которые целиком
ориентированы на реализацию канона, тексты которых представляют собой
осуществление предустановленных правил и значимые элементы которых суть
элементы заранее данной канонической системы, то вполне естественно
уподобить их системе естественного языка, а создаваемые при этом
художественные тексты — явлениям речи (в соссюрианской оппозиции «язык — речь»).
Между тем эта параллель, столь, как кажется, естественная, порождает
определенные трудности: текст на естественном языке реализуется при полной
автоматизации плана выражения, который для участников языкового общения
лишен всякого самостоятельного интереса, и предельной свободе содержания
высказывания. Художественные тексты, принадлежащие «эстетике тождества»,
в этом отношении строятся по прямо противоположному принципу: область
сообщения у них предельно канонизируется, а «язык» системы сохраняет
неавтоматизированность. Вместо системы с автоматизированным (и поэтому
незаметным) механизмом, способным передавать почти любое содержание,
перед нами система с фиксированной областью содержания и механизмом,
438 СТАТЬИ. ЗАМЕТКИ. ВЫСТУПЛЕНИЯ. I. Общие проблемы искусства
сохраняющим неавтоматичность, то есть постоянно ощущаемым в процессе
общения.
Когда мы говорим об искусстве, особенно об искусстве так называемого
ритуализованного типа, то первое, что бросается в глаза, это фиксированность
области сообщения. Если на русском, китайском или любом другом языке
можно говорить о чем угодно, на языке волшебных сказок можно говорить
только об определенных вещах. Здесь оказывается совершенно иным
отношение автоматизации выражения и содержания.
Более того, если говорящие на родном языке, употребляющие его без
ошибок и правильно, не замечают его, он полностью автоматизирован и
внимание сосредоточено на сфере содержания, то в области искусства
автоматизации кодирующей системы не может произойти. Иначе искусство
перестанет быть искусством. Происходит, таким образом, весьма парадоксальная
вещь. С одной стороны, мы действительно имеем засвидетельствованную
огромным числом текстов систему, очень напоминающую естественный язык,
систему с устойчивым канонизированным типом кодировки, а с другой
стороны, эта система ведет себя странным образом — она не автоматизирует
свой язык и не обладает свободой содержания.
Таким образом, получается парадоксальное положение: при, казалось бы,
полном сходстве коммуникативной схемы естественного языка и «поэтики
тождества» функционирование систем имеет диаметрально противоположный
характер. Это заставляет предположить, что параллель между общеязыковыми
типами коммуникации и коммуникативной схемой, например, фольклора не
исчерпывает некоторых существенных форм художественной организации
этих видов искусства.
Как же может получиться, что система, состоящая из ограниченного числа
элементов с тенденцией к предельной их стабилизации и с жесткими правилами
сочетания, тяготеющими к канону, не автоматизируется, то есть сохраняет
информативность как таковая? Ответ может быть лишь один: описывая
произведение фольклора, средневековой литературы или любой иной текст,
основанный на «эстетике тождества», как реализацию некоторых правил, мы
снимаем лишь один структурный пласт. Из поля зрения, видимо, ускользают
действия специфических структурных механизмов, обеспечивающих деавто-
матизацию текста в сознании слушателей.
Представим себе два типа сообщения: одно — записка, другое — платок
с узелком, завязанным на память. Оба рассчитаны на прочтение. Однако
природа «чтения» в каждом случае будет глубоко своеобразна. В первом
случае сообщение будет заключено в самом тексте и полностью может быть
из него извлечено. Во втором — «текст» играет лишь мнемоническую
функцию. Он должен напомнить о том, что вспоминающий знает и без него.
Извлечь сообщение из текста в этом случае невозможно.
Платок с узелком может быть сопоставлен с многими видами текстов.
И здесь придется напомнить не только о «веревочном письме», но и о таких
случаях, когда графически зафиксированный текст — лишь своеобразная
зацепка для памяти. Такую роль играл вид страниц Псалтыри для неграмотных
дьячков XVIII в., читавших псалмы по памяти, но непременно глядя в книгу.
Каноническое искусство как информационный парадокс
439
По авторитетному свидетельству академика И. Ю. Крачковского, в силу
особенностей графики чтение Корана на определенных этапах его истории
подразумевало предварительное знание текста1. Но, как мы увидим в
дальнейшем, круг подобных текстов придется значительно расширить.
Припоминание — лишь частный случай. Он будет входить в более
обширный класс сообщений, при которых информация будет не содержаться
в тексте и из него соответственно извлекаться получателем, а находиться вне
текста, с одной стороны, но требовать наличия определенного текста, с
другой, как непременного условия своего проявления.
Можно рассматривать два случая увеличения информации, которой
владеет какой-либо индивид или коллектив. Один — получение извне. В этом
случае информация вырабатывается где-то на стороне и в константном объеме
передается получателю. Второй — строится иначе: извне получается лишь
определенная часть информации, которая играет роль возбудителя,
вызывающего возрастание информации внутри сознания получателя. Это
самовозрастание информации, приводящее к тому, что аморфное в сознании
получателя становится структурно организованным, означает, что адресат играет
гораздо более активную роль, чем в случае простой передачи определенного
объема сведений.
В случае, когда мы имеем дело с получением информативного возбудителя,
это, как правило, строго урегулированный текст, который способствует
самоорганизации воспринимающей личности. Размышления под стук колес, под
мерную, ритмическую музыку, созерцательное настроение, вызванное
рассматриванием правильных узоров или совершенно формальных
геометрических рисунков, завораживающее действие словесных повторов — все это
наиболее простые примеры такого рода увеличения внутренней информации
под влиянием организующего воздействия внешней.
Можно предположить, что во всех случаях искусства, относящегося к
«эстетике тождества», мы сталкиваемся с усложненными проявлениями того
же принципа.
Отмеченный нами выше парадокс находит тогда объяснение. При
сравнении фольклора и средневекового искусства, с одной стороны, и поэтики
XIX в., с другой, выясняется, что в этих случаях графически зафиксированный
текст по-разному относится к заключенному в произведении объему
информации. Во втором случае — по аналогии с явлениями естественного языка —
он заключает всю информацию произведения (сообщения), в первом — лишь
незначительную ее часть. Сверхупорядоченность плана выражения здесь
приводит к тому, что связь между выражением и содержанием теряет присущую
естественным языкам однозначность и начинает строиться по принципу узелка
и связанного с ним воспоминания.
Получатель произведения XIX в. прежде всего слушатель — он настроен
на то, чтобы получить информацию из текста. Получатель фольклорного (а
также и средневекового) художественного сообщения лишь поставлен в бла-
1 Коран / Пер. и коммент. И. Ю. Крачковского. М., 1963. С. 674.
440 СТАТЬИ. ЗАМЕТКИ. ВЫСТУПЛЕНИЯ. I. Общие проблемы искусства
гоприятные условия для того, чтобы прислушаться к самому себе. Он не
только слушатель, но и творец. С этим связано и то, что столь каноническая
система не теряет способности быть информационно активной. Слушатель
фольклора скорее напоминает слушателя музыкальной пьесы, чем читателя
романа. Не только появление письменности, но и перестройка всей системы
искусства по образцу схемы общеязыкового общения породила литературу.
Таким образом, в одном случае «произведение» равняется графически
зафиксированному тексту: оно имеет твердые границы и относительно
стабильный объем информации, в другом — графический или иначе
зафиксированный текст — это лишь наиболее ощутимая, но не основная часть
произведения. Оно нуждается в дополнительной интерпретации, включении
в некоторый значительно менее организованный контекст.
В первом случае формообразующий импульс состоит в уподоблении
данной семиотической системы естественному языку, во втором — музыке.
Соотношение произведения искусства и действительности, его
интерпретирующей, в этих двух типах построения художественных текстов имеет
принципиально различный характер: если в поэтике реалистического типа
отождествление текста и жизни представляет наименьшую сложность
(наибольшего творческого напряжения требует создание текста), то в
произведениях «эстетики тождества» в тех случаях, когда такое отождествление
происходит (текст может строиться и как чисто синтагматическая конструкция,
подразумевающая лишь факультативное семантическое истолкование, не
более обязательное, чем, например, зрительные образы в непрограммной
музыке), оно представляет наиболее творческий акт и может строиться по
принципу наибольшего несходства или любых иных, установленных лишь
для данного случая, правил интерпретации.
Таким образом, если деканонизированный текст выступает как источник
информации, то канонизированный — как ее возбудитель. В текстах,
организованных по образцу естественного языка, формальная структура — по-
средующее звено между адресантом и адресатом. Она играет роль канала,
по которому передается информация. В текстах, организованных по принципу
музыкальной структуры, формальная система представляет собой содержание
информации: она передается адресату и по-новому переорганизовывает уже
имеющуюся в его сознании информацию, перекодирует его личность.
Из этого вытекает, что, описывая канонизированные тексты только с
точки зрения их внутренней синтагматики, мы получаем чрезвычайно
существенный, но не единственный пласт структурной организации. Остается еще
вопрос: что означал данный текст для создавшего его коллектива, как он
функционировал? Вопрос этот тем более труден, что ответить на него, исходя
из самого текста, часто бывает невозможно. Тексты искусства XIX в. в себе
самих содержат, как правило, указания на свою социальную функцию. В
текстах канонизированного типа таких указаний, как правило, нет.
Прагматику и социальную семантику этих текстов нам приходится реконструировать
на основании только внешних по отношению к ним источников.
При решении вопроса, откуда же берется информация в текстах, вся
система которых по условию наперед предсказуема (ибо именно повышение
Каноническое искусство как информационный парадокс
441
предсказуемости составляет тенденцию канонизированных текстов),
необходимо учитывать следующее.
Во-первых, следует различать случаи, когда ориентация на канон
принадлежит не тексту как таковому, а нашему его истолкованию.
Во-вторых, следует учитывать, что между структурой текста и
осмыслением этой структуры на метауровне общего культурного контекста могут
быть существенные расхождения. Не только отдельные тексты, но и целые
культуры могут осмыслять себя как ориентированные на канон. Но при этом
строгость организации на уровне самоосмысления может компенсироваться
далеко идущей свободой на уровне построения отдельных текстов. Разрыв
между идеальным самоосмыслением культуры и ее текстовой реальностью в
этом случае становится дополнительным источником информации.
Например, тексты основоположника русского старообрядческого
движения протопопа Аввакума им самим осмысляются как ориентированные на
канон. Более того, борьба за культуру, строящуюся как выполнение строгой
системы заранее данных правил, составляла его жизненную и литературную
программу. Однако реальные тексты Аввакума строятся как нарушение правил
и канонов литературы. Это позволяет исследователям, ставя его творчество
в различные контексты более общего плана (порой достаточно произвольно),
истолковывать его то как «традиционалиста», то как «новатора».
Можно привести и другой пример. Петровская государственность считала
себя регулярной. Эпоха выдвинула требование «регулярного государства» и
идеалы предельной нормализации всего строя жизни. Государство сведено
было к определенной формуле и определенным числовым отношениям вплоть
до проектируемых каналов Васильевского острова (которые так и не были
построены), вплоть до «Табели о рангах».
Но ведь если от уровня самооценки петровской государственности перейти
к уровню административной деятельности, мы столкнемся с чем-то прямо
противоположным регулярности. Ведь так и не был создан даже Свод законов,
между тем как в допетровской Руси судебники составлялись легко. Постпетров-
ская государственность никакой юридической кодификации не создала.
Единственное, что было создано, это Свод законов, многотомное издание — прецедент,
который должен был заменить отсутствующую кодифицированную систему.
Таким образом, следует иметь в виду, что самооценка культуры как
ориентированной на кодификацию не всегда объективна. Также надо иметь
в виду, что метауровень и уровень текста иногда тяготеют к совпадению, к
адекватности соотношения, а иногда наоборот.
Каноническое искусство играет огромную роль в общей истории
художественного опыта человечества. Вряд ли имеет смысл рассматривать его
как некоторую низшую или уже пройденную стадию. И тем более существенно
поставить вопрос о необходимости изучать не только его внутреннюю
синтагматическую структуру, но и скрытые в нем источники информативности,
позволяющие тексту, в котором все, казалось бы, заранее известно,
становиться мощным регулятором и строителем человеческой личности и культуры.
1973
442 СТАТЬИ. ЗАМЕТКИ. ВЫСТУПЛЕНИЯ. I. Общие проблемы искусства
К проблеме пространственной
семиотики
Исследования по семиотике пространства получили широкое
распространение. Работы, анализирующие структуру пространства в том или ином
художественном тексте, появляются почти в каждом литературоведческом
или искусствоведческом сборнике. Имеет смысл попытаться обобщить
некоторые принципы подобных исследований.
Возможность постановки самой проблемы обусловлена развитием
математических и естественно-научных знаний. Успехи неэвклидовой геометрии
и появление теории относительности выдвинули идеи релятивности
пространства, множественности пространств, их асимметричности и взаимной
симметрической дополнительности. Весь этот комплекс идей,
революционизировавший как математический аппарат исследований, так и представления о
структуре мира, не мог не оказать влияния на область гуманитарных знаний.
В исследованиях по структуре художественного пространства можно
выделить два основных направления. Одно из них связано с бахтинской идеей
хронотопа, разработанной автором в конце 1930-х гг., но опубликованной в
1973—1975 гг. Сам M. М. Бахтин связывал ее с теориями Эйнштейна и
А. А. Ухтомского. Сущность хронотопа — в установлении законов, по
которым натуральное время-пространство трансформируется в
соответствующий условностям того или иного жанра хронотоп. «В
литературно-художественном хронотопе имеет место слияние пространственных и временных
примет в осмысленном и конкретном целом. Время здесь сгущается,
уплотняется, становится художественно зримым; пространство же
интенсифицируется, втягивается в движение времени, сюжета, истории. Приметы времени
раскрываются в пространстве, и пространство осмысляется и измеряется
временем. Этим пересечением рядов и слиянием примет характеризуется
художественный хронотоп»1.
Таким образом, хронотоп является структурным законом жанра
(M. М. Бахтина, в первую очередь, интересовал роман), в соответствии с
которым естественное время-пространство деформируется в
художественное. При этом структурным языком оказываются законы нарративного текста,
то есть грамматика последовательности значимых сегментов.
Следовательно, базисным структурным элементом у M. М. Бахтина оказывается
художественное время, а пространство выступает как зависимая переменная
жанрового континуума. «Хронотоп в литературе имеет существенное жанровое
значение. Можно прямо сказать, что жанр и жанровые разновидности
определяются (вернее было бы сказать «различаются». — Ю. Л.) именно
хронотопом, причем в литературе ведущим началом в хронотопе является вре-
1 Бахтин М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975. С. 235.
К проблеме пространственной семиотики
443
мя»1. Жанровая структура хронотопа устанавливает меру деформации
естественного времени-пространства. Следовательно, пространство в романе
означает пространство в реальности, переведенное на язык жанра.
Вторая точка зрения исходит из более абстрактного понятия пространства.
«Под пространством в математике понимают вообще любую совокупность
однородных объектов (явлений, состояний, фактов, фигур, значений
переменных и т. п.), между которыми имеются отношения, подобные обычным
пространственным отношениям (непрерывность, расстояние и т. п.). При
этом, рассматривая данную совокупность объектов как пространство,
отвлекаются от всех свойств этих объектов, кроме тех, которые определяются
этими принятыми во внимание пространственно-подобными отношениями
<...> В функциональном пространстве свойства функций определяются только
через их отношения друг к другу»2.
С этой точки зрения, впервые примененной к художественным
произведениям С. Ю. Неклюдовым и Ю. М. Лотманом3, пространство в тексте есть
язык моделирования, с помощью которого могут выражаться любые значения,
коль скоро они имеют характер структурных отношений. Поэтому
пространственная организация есть одно из универсальных средств построения любых
культурных моделей. В первом случае примарно время, во втором —
пространство; в первом художественное пространство означает натуральное, во
втором оно может означать самые различные сущности, становясь языком
моделирования.
Однако нельзя не заметить, что в этом втором случае пространство часто
приобретает метафорический характер, причем метафоризм вносится в язык
исследовательского описания. Связано это с тем, что в само понятие
пространства вносится противоречие: оно заполняется и математическим, и
бытовым содержанием. Само по себе это противоречие может играть даже
положительную — творческую — роль, если оно осознано и намеренно
использовано исследователем.
В этой связи уместно вспомнить, что еще П. Флоренский в книге
«Мнимости в геометрии», в специальном разделе, посвященном анализу гравюры
В. А. Фаворского, выполненной для обложки этого издания, дал
исключительно глубокий анализ сочетания в нашем пространственном воображении
конкретного, перцептивно данного, и абстрактного переживания
пространства. Исключительно важно, что Флоренский анализирует гравюру, то
есть зрительно-реальный текст, и показывает возможность изображения мни-
1 Бахтин М. Вопросы литературы и эстетики. С. 235.
2 Александров А. Д. Абстрактные пространства // Математика, ее содержание, методы
и значение. М., 1956. Т. 3. С. 151.
3 Настоящая заметка не преследует историографических целей. Поэтому мы не
останавливаемся на многочисленных и порой весьма плодотворных экскурсах в область
пространственной семиотики, предпринятых этнологами, искусствоведами,
философами, фольклористами задолго до того, как эта проблема возникла в своей целостности.
Однако необходимо назвать «Поэтику пространства» Г. Башляра (1957) как один из
первых опытов в данном направлении.
444 СТАТЬИ. ЗАМЕТКИ. ВЫСТУПЛЕНИЯ. I. Общие проблемы искусства
мого пространства. Символическое моделирование пространства
приобретает двуплановый характер. Оба типа моделей просвечивают друг сквозь
друга.
«Когда мы рассматриваем прозрачное тело, имеющее значительную
толщину, например аквариум с водою, стеклянный сплошной куб (чернильницу)
и прочее, то сознание чрезвычайно тревожно двоится между различными по
положению в нем (сознании), но однородными по содержанию (и в этом-то
последнем обстоятельстве — источник тревоги) восприятиями обеих граней
прозрачного тела. Тело качается в сознании между оценкой его как нечто,
то есть тела, и — как ничто, зрительного ничто, поскольку оно прозрачно.
Ничто зрению, оно есть нечто осязанию, но это нечто преобразовывается
зрительным воспоминанием во что-то как бы зрительное. Прозрачное —
призрачно.
Сквозящая зелень весенних рощ будит в сердце тревогу вовсе не только
потому, что появляется «раннею весною», но и просто по оптической
причине — своей прозрачности: давая стереоскопическую глубину пространства,
своими точечными листочками, хотя бы и вовсе не «клейкими», эта зелень
намечает глубинные точки пространства и, будучи густо распределенною,
делает это с достаточной психологической принудительностью. От этого все
пространство, овеществляясь, получает зрительно характер стекловидной
толщи. Опять: оно есть и не есть»1.
Эти идеи получают новое освещение в связи с исследованиями по
семиотической асимметрии, вытекающей из функциональной асимметрии больших
полушарий головного мозга человека. Сложность пространственных
переживаний, отмеченная Флоренским, получает истолкование в свете внутримоз-
гового семиотического диалога. Одновременно, когда язык пространства
интересует нас не с точки зрения своего генезиса, а как моделирующий
код культуры, мы должны учитывать его сложность и понимать, что
реально имеет место не какой-либо единый язык, а иерархия пространственных
языков.
Наконец, у пространственной семиотики есть еще один аспект. В выпуске
XVII «Трудов по знаковым системам» был поднят вопрос о семиосфере —
семиотическом пространстве культуры, внутри которого единственно
возможны семиотические процессы. При этом отмечалось, что разнообразные
семиотические образования внутри семиосферы создают связанный
взаимодействиями механизм. Это заставляет нас любую семиотическую систему не
только рассматривать в аспекте имманентного описания, но и задумываться
над ее функцией в структуре семиосферы. То, что в основе здесь лежит
пространственный механизм симметрии-асимметрии, не случайно открывает
новые перспективы изучения семиотики пространства.
1986
1 Флоренский П. Мнимости в геометрии. М., 1922. С. 59.
[О проблеме барокко]
445
[О проблеме барокко]
В развитии тех художественных представлений, которые принято
связывать с барокко, в России и Западной Европе существовали различия.
Западноевропейское барокко выступило как отрицание эпохи Возрождения и, в
свою очередь, было отрицаемо рационализмом, пришедшим ему на смену.
Культуры Возрождения и классицизма были различны не только по
классовому содержанию, но и по мировоззрению. За первым стоял
материалистический эмпиризм раннего буржуазного сознания, вырвавшегося из-под
давящей власти схоластических абстракций средневековья, за вторым — вера в
торжество отвлеченного разума. Вместе с тем обе эти идеологии были
направлены против средневековья. Одна сокрушила его основы, другая боролась
с попытками его реставрации.
В России главным борцом против средневековых форм сознания и
культуры явился не Ренессанс, а рационализм, подобно тому как основную тяжесть
борьбы со средневековьем в общественной жизни вынес не молодой
буржуазный город, а «регулярное» дворянское государство. Русский рационализм
XVIII в. имеет свою традицию в литературе предшествующих столетий. Он
ощущается у Ивана Пересветова, в «ересях», в писаниях старца Авраамия,
сочинениях Симеона Полоцкого и торжествует в творчестве публицистов
начала XVIII в. — Феофана Прокоповича, В. Н. Татищева и др. Вместе с
тем он не может отделиться и от эмпиризма до тех пор, пока лагерь борцов
за централизованное государство и зарождающийся лагерь демократии не
осознают своей противоположности (разумеется, речь идет не о практической
противоположности классовых интересов — она существовала всегда, — а
о ее теоретическом осознании).
Искусство барокко исходило из неверия в силу разума, из идеи
иррациональности жизни. Нормой человеческого существования объявлялось
страдание. Это была попытка восстановить средневековые представления в
условиях, когда привычные церковные формы этого мышления были уже
дискредитированы.
В России господство церкви в сфере культуры не было подорвано столь
решительно ни в XVI, ни в XVII в. Поэтому не могло быть и барокко как
мощного контрудара против Возрождения. Правда, если Иван Грозный еще
пытался согласовать интересы централизованного государства с иосифлян-
ско-теократическими идеями, то во второй половине XVII в. стремление
государства отделить идеологию от церкви начало ощущаться более
явственно. Рационализм приобретал характер официальной идеологии. Это
заставляло церковь присматриваться к опыту борьбы католицизма за удержание
позиций средневековья. Элементы барокко проникали и в русскую церковную
культуру.
Сказанное не позволяет считать представителем барокко сторонника
«разума естественного», противника средневековья Феофана Прокоповича. Не
был сторонником барокко и Ломоносов. Интерес Ломоносова к богатству,
446 СТАТЬИ. ЗАМЕТКИ. ВЫСТУПЛЕНИЯ. I. Общие проблемы искусства
красочности, метафоризм его стиля имеют другие истоки: эмпиризм раннего,
еще незрелого демократического сознания, не получивший в средневековой
Руси такого яркого развития, как в юго-западной Европе, все же развивался.
В мировоззрении Ломоносова он еще не отделился от «государственного»
рационализма и не созрел до сенсуалистического материализма. Это сочетание
рационализма и эмпиризма определяет специфику его художественного
метода, чуждого идейно-художественным принципам барокко.
1962
Искусствознание и «точные
методы» в современных
зарубежных исследованиях1
Современная наука характеризуется сближением сфер, традиционно
считавшихся весьма отдаленными, что привело к появлению «гибридных»
областей знания. При этом наиболее плодотворные результаты порой приносит
именно смелое перенесение в новые области методов исследования,
выработанных в других областях науки. Опыты по применению «точных методов»
к изучению искусства являются частью этого общенаучного процесса.
Разумеется, искусство как форма общественного сознания требует прежде всего
исследования конкретно-исторического и социального контекста. Но это не
исключает необходимости разработки проблем внутритекстового анализа
этой чрезвычайно сложной сферы человеческой деятельности.
Попытки применения методики «точных наук» к изучению различных
аспектов художественной деятельности человека имеют уже длительную
историю и осуществляются в рамках различных научных направлений отнюдь
не единообразными путями. Относительно самого понимания термина
«точные методы» не существует единства. В последнее время в науке высказывалось
мнение, что понятие «точность» должно быть освобождено от того несколько
гипнотического значения, которое ему порой придавалось в работах
гуманитариев, обратившихся к использованию математического аппарата. Для
корректного пользования этим термином (вернее, для превращения этого
выражения в научный термин) необходимо было бы располагать правилами
перевода всех понятий современной нам культуры (в том числе и научных)
1 Настоящая статья является предисловием к книге «Семиотика и искусствометрия.
Современные зарубежные исследования. Сборник переводов» (М., 1972).
Искусствознание и «точные методы»...
447
в единую метаязыковую систему, позволяющую определить его место и
отношение к другим структурообразующим понятиям.
Тем более сложным является отношение пар «точное/неточное» и
«достоверное/недостоверное», и по этому поводу также высказывались
совершенно различные мнения. Так, известный математик А. Пуанкаре утверждал:
«Математика — это искусство называть разные вещи одним и тем же именем».
Карамзин же в заметках 1797 г. (подлинник — на французском языке) писал:
«[Обычные] умы видят только сходства — суждение гения замечает различия.
Дело в том, что предметы сходствуют своими грубыми чертами и отличаются
наиболее тонкими». На современном научном языке указанное различие
позиций можно переформулировать так: подлинное знание состоит в
выделении для различных объектов изоморфных моделей или в установлении
бесконечной вариативности интерпретации этих моделей при переходе от
метаязыкового уровня к уровню объекта. При такой постановке вопроса
выясняется, что дело не только в различии эпох или в том, что одно
определение принадлежит математику, а другое поэту и историку. Речь идет
о двух взаимосоотнесенных и взаимообусловленных механизмах в структуре
единой человеческой культуры. Можно предположить, что в культуре, в
которой имеется математика, должна быть и поэзия, и наоборот.
Гипотетическое уничтожение одного из этих механизмов, вероятно, сделало бы
невозможным существование другого.
Именно связанность «языка математики» и «языка искусства» в единой
структуре культуры, с одной стороны, и принципиальное различие их
имманентной организации, с другой, делают содержательным акт взаимного
перевода текстов на этих языках, то есть позволяют им взаимно выступать в
качестве основ для построения метаязыка описания. Способность различных
математических дисциплин выступать в качестве метаязыков также и при
описании явлений искусства очевидна. С другой стороны, большой интерес
представляют попытки, подобные предпринятой в последние годы К. Леви-
Строссом, построить логический аппарат для описания мифа на основе
структурных принципов полифонической музыки.
Все подобные попытки сближает то, что они в значительной степени
опираются на выводы современных прогрессивных общенаучных
направлений — теории знаковых систем (семиотики), теории информации,
кибернетики, позволивших по-новому, с единой точки зрения осветить уже известные
факты и открыть новые подходы к их исследованию.
Предлагаемый вниманию читателей сборник имеет прежде всего
информационное значение. Наука для своего плодотворного развития нуждается в
информации об исследовательских поисках, даже если не все из них
представляются одинаково удачными. Стремление дать наиболее широкую и
разнообразную информацию о современных направлениях в области
применения точных методов к изучению явлений искусства заставило включить в
настоящий сборник работы различной научной ориентации и, возможно,
неодинаковой степени ценности. Настоящее издание примыкает к таким
предшествующим публикациям издательства «Мир», как книга А. Моля
«Теория информации и эстетическое восприятие» (М., 1966), и могло бы явиться
448 СТАТЬИ. ЗАМЕТКИ. ВЫСТУПЛЕНИЯ. I. Общие проблемы искусства
началом серии типа сборников «Новое в лингвистике» (вып. I—V, изд-во
«Прогресс»); при этом «сборные» тома, подобные данному, должны
чередоваться с выпусками, посвященными отдельным наиболее выдающимся школам
и направлениям. Поэтому не следует предъявлять к настоящему сборнику
неосуществимого требования — представить исчерпывающую картину
современной зарубежной искусствометрии и тем более всей области применения
точных методов к изучению искусства. Цель его — положить начало
знакомству читателя с исследованиями в этой быстро развивающейся области.
***
Поиски методов, которые позволили бы рассматривать объект
искусствоведения как измеримый, естественно, заставляли обратиться к
гуманитарным наукам, уже разработавшим подобную методику, — к лингвистике,
экспериментальной психологии и социологии. Аппарат, на который опирались
эти науки, с одной стороны, можно определить как структурный,
ориентированный на символическую логику, теорию множеств, а в последнее время —
и на топологию; на этой основе, с использованием научного аппарата
структурной лингвистики как конкретной сферы приложения этих методов,
развилась семиотическая методика. С другой стороны, речь идет о статистическом
аппарате, опирающемся на теорию вероятностей и математическую
статистику. Несмотря на то что противопоставление этих методов носит
относительный характер, ибо статистические данные могут служить и базой для
структурных интерпретаций, в практическом плане эти две группы
исследований весьма резко различаются.
Значительная группа работ, предлагаемых вниманию читателей
настоящего сборника, связана с опытами применения к сфере искусства методов и
навыков экспериментальной психологии. Обстоятельный и систематический
обзор Г. Мак-Уинни дает читателю общую ориентацию в методике и
направлениях проводимых исследований, а статьи Г. Экман и Т. Кюннапаса,
В. Е. Симмата и глава из книги Ч. Осгуда знакомят читателя с различными
аспектами проблем, возникающих при таком подходе к изучению искусства.
Исследования этой группы представляют интерес прежде всего своей
экспериментальной частью.
Развитие такой относительно новой области, как экспериментальная
эстетика, не может не привлекать внимания, поскольку она открывает перед
изучением художественной деятельности человека совершенно новые
горизонты. Ряд экспериментов имеет целью выяснить причины и сущность того,
что авторы называют «эстетическим предпочтением» («степени того,
насколько нравится или не нравится индивиду произведение искусства») и
«эстетической оценкой» («оценкой индивидом эстетической ценности произведения
искусства»). При этом делались интересные попытки установить зависимость
этих категорий от внеэстетических предпочтений, корреляцию их с факторами
психологического, культурного и социального характера.
Искусствознание и «точные методы»...
449
Наиболее известную попытку внести измеримость в интуитивные суждения
о ценности произведений искусства представляет предложенная Г. Биркгофом
формула эстетической меры
где M — эстетическая мера, О — степень упорядоченности эстетического
объекта, а С — степень его сложности. На этой формуле строит свои
рассуждения и М. Бензе в публикуемом в настоящем сборнике «Введении в
информационную эстетику». Предложенную Биркгофом формулу нельзя
обойти — она дает простое и довольно убедительное истолкование весьма
сложного вопроса. Кроме того, она, с одной стороны, хорошо интерпретируется
в понятиях кибернетики, а с другой стороны, отвечает исследованному Я. Му-
каржовским еще в 1930-е гг. феномену, согласно которому эстетическое
восприятие связано с напряжением, возникающим в связи с тенденцией к
максимальной упорядоченности и нарушением этой упорядоченности.
Попытки проверить эту формулу экспериментально по методике,
применяемой в социологических исследованиях, привели к несколько
обескураживающим результатам: полученные данные поддаются прямо
противоположным истолкованиям. Дело в том, что и понятие «упорядоченности», и понятие
«сложности» (равно как и «простоты») подразумевают предварительную
формулировку правил, относительно которых данный текст будет
рассматриваться как упорядоченный или неупорядоченный, простой или сложный. Какая-то
фонологически транскрибированная запись может рассматриваться как
абсолютно неупорядоченная относительно правил русского языка (если
рассматривать запись как текст на русском языке, она окажется беспорядочным
и бессмысленным набором знаков) и в то же время может быть абсолютно
упорядоченной относительно правил английского языка. Квадрат, который
приводится во многих работах этого толка в качестве бесспорного примера
идеально упорядоченной фигуры, является таковым для языка геометрии и
для тех школ живописи, которые строят свой язык, сознательно ориентируясь
на геометрию (ср. дюреровские правила определения пропорций человеческого
тела). Однако для живописи барокко, ориентирующейся на агеометризм, он
не будет «правильной» (то есть соответствующей правилам) формой. С точки
зрения такой живописи, «организованность» требует совершенно иных
структурных принципов.
Если определять «простой» текст как такой, который в наименьшей мере
отличается от «естественных» для данного индивида норм, то станет очевидно,
что, во-первых, простота (как и сложность) — понятие, представляющее не
величину, а отношение, фиксирующее степень уклонения от некоторой нормы,
и что, во-вторых, норма эта не едина, а иерархична, включает также некоторые
общечеловеческие константы и историко-культурно определенные правила.
Отношение текста к разным уровням этой нормы может быть различным.
Поэтому один и тот же текст относительно одних уровней может выступать
как простой, а относительно других — как сложный.
Таким образом, постановке экспериментов по применению факторного
анализа и других математических методов к искусству должен предшествовать
450 СТАТЬИ. ЗАМЕТКИ. ВЫСТУПЛЕНИЯ. I. Общие проблемы искусства
семиотический анализ языка оцениваемого произведения искусства (термин
«язык» здесь понимается в значении, принятом в семиотике) и метаязыка
исследовательского описания, анкет, тестов и шкал. В противном случае не
будет никакой уверенности в том, что полученные данные действительно
относятся к изучаемому объекту, а не навязаны вопросником, принятой
терминологией и пр.
Не случайно Г. Мак-Уинни отмечает: «Если основываться на формуле
Биркгофа, то предпочитаемыми зрительными характеристиками эстетических
объектов, по-видимому, являются простота, симметричность, ясность деталей
и т. п. Это соответствует эстетическому вкусу того периода, когда писалась
работа Биркгофа. (Чайлд, впрочем, указывает, что теория Биркгофа,
возможно, отражает не эстетический вкус того времени, а полное отсутствие вкуса
у самого Биркгофа)».
Там, где исследователь вводит неопределяемые понятия из области
культуры, такие, как «простота», «пассивность», «естественность», «строгость»,
которые на самом деле являются категориями его культуры, а совсем не
некоего всеобщего метауровня, пригодного для описания любых явлений
искусства, он тем самым привносит в исследуемый объект себя самого и
искажает результаты эксперимента. Это не очень существенно, когда объект
и исследователь принадлежат к одной эпохе, а данные, полученные в
результате эксперимента, не претендуют на общекультурное теоретическое значение.
Когда требуется измерить скорость движения пассажира, идущего по проходу
движущегося вагона, относительно тех, кто сидит на скамьях в том же вагоне,
можно не учитывать данных о движении вагона. Однако если в эксперименте
оцениваются картины разных эпох и национальных культур, то есть когда
отправитель и получатель сообщения говорят на разных художественных
языках, необходим предварительный семиотический анализ.
Здесь уместно напомнить предостережения, высказанные Б. А. Успенским
относительно персонификационных вопросов, в полной мере, как нам кажется,
относящиеся также к экспериментам с анкетами при исследовании
«эстетических предпочтений и оценок»: «Применяя описательный подход,
существенно сознавать его принципиальную ограниченность. Во многих случаях
данный подход может оказаться вообще некорректным (и даже в определенном
смысле противоречить цели анкеты), поскольку, предлагая испытуемому
вопросы анкеты, мы можем навязать ему свою систему представлений, свой
метаязык»1.
Когда мы читаем в статье Мак-Уинни, что «Чайлд обнаружил
положительную корреляцию между эстетической оценкой и такими характеристиками
личности, как терпимое отношение к неопределенности, амбивалентность,
самостоятельность суждений», или когда Ч. Осгуд, сообщая нам об очень
интересном эксперименте по кодированию и декодированию некоторого жи-
1 Успенский Б. А. Предварительные замечания к персонологической классификации //
Учен. зап. Тартуского гос. ун-та. Вып. 181. 1965. С. 91—92. (Труды по знаковым
системам. II).
Искусствознание и «точные методы»...
451
вописного сообщения, пишет: «Второй этап исследования состоял в том, что
полученные (от «отправителей» сообщения. — Ю. Л.) пастели были
предъявлены 17 студентам торгового колледжа (того же университета), которые
должны были декодировать их, то есть попытаться воссоздать замысел
художника (изображает ли данная картина понятие «активность», «сила»,
«упорядоченность» и т. п.). С этой целью каждый наблюдатель должен был
выбрать для каждой картины одно из шести прилагательных (активный,
пассивный, хаотичный, упорядоченный, сильный, слабый)», то очевидно, что
в результате такой методики невозможно выяснить, что же исследуется:
свойства текста, природа воспринимающего или метаязык экспериментатора.
И если в работе Осгуда этим, на худой конец, можно пренебречь, поскольку
отправитель сообщения, его получатель и экспериментатор, в конечном счете,
принадлежат к одной культуре и, вероятно, пользуются общим культурным
кодом, то в исследовании В. Е. Симмата, где «сообщение» представлено
полотнами Сандро Боттичелли, Лукаса Кранаха Старшего, с одной стороны,
и Ива Клейна, с другой, высказанные нами сомнения, как кажется, должны
учитываться при оценке результатов, полученных экспериментаторами.
Следует подчеркнуть, что высказанные нами возражения направлены
отнюдь не против экспериментальных методов в области искусства, как
таковых. Речь идет о другом — о необходимости понимать и художественный
текст, и текст экспериментатора как сообщения на некоторых языках. Тогда
интерпретация результатов эксперимента примет очертания семиотической
задачи по дешифровке. Искусствометрия может сделать следующий шаг в
своем развитии, лишь опираясь на семиотические методы исследования.
Семиотические методы изучения искусства, в основе которых лежат идеи
Женевской лингвистической школы и ее основателя Ф. де Соссюра, в 1920—
1930-е гг. получили дальнейшее развитие в трудах ряда советских ученых (в
первую очередь, Ю. Н. Тынянова, В. Я. Проппа, M. М. Бахтина) и работах
членов Пражского лингвистического кружка (Р. О. Якобсона, Я. Мукаржов-
ского и др.). Кроме весьма значительного собственного вклада в развитие
искусствознания Пражский лингвистический кружок выполнил миссию
ознакомления мировой науки с достижениями советских ученых, до тех пор
остававшимися почти неизвестными на Западе. Этого не следует забывать
теперь, когда ссылки на работы Проппа, Бахтина и других советских ученых
стали обязательным элементом каждой серьезной работы, где бы она ни
выходила. Влияние русской школы чувствуется и в ряде работ, включенных
в настоящий сборник.
Хотя характер и объем сборника не позволяют сколько-нибудь полно
охватить исследования по зарубежному семиотическому искусствоведению,
составители старались осуществить подбор материалов таким образом, чтобы
представить возможно более широкий круг проблем и имен.
Ведущие зарубежные исследователи проблем семиотики К. Леви-Стросс
и Р. О. Якобсон представлены в сборнике вводной главой из книги «Сырое
и вареное» и статьей «К вопросу о зрительных и слуховых знаках».
Публикуемая глава из книги К. Леви-Стросса не может дать
сколько-нибудь полного представления о монументальной, развернутой в ряде моно-
452 СТАТЬИ. ЗАМЕТКИ. ВЫСТУПЛЕНИЯ. I. Общие проблемы искусства
графий и статей, концепции мифа, первобытного сознания и структуры
поведения людей на ранних стадиях общественного развития, которая
развивается автором начиная с середины 1950-х гг. и в настоящее время получила
широкое признание1. Однако составители считают, что для целей этого
сборника включение и такого, отрывочного, текста отнюдь не бесполезно,
поскольку в данном случае концепция французского ученого представляет
интерес не сама по себе, а с точки зрения методов изучения искусства.
Работы Леви-Стросса, посвященные своеобразию сознания человека на
ранних стадиях общественного развития, были, в частности, направлены
против господствовавшего долгое время представления о «примитивном»,
до- и внелогическом характере мышления «дикарей», в чем порой сказывалось
влияние и откровенно расистских концепций. Леви-Стросс вскрыл сложную
систему специфической логики мифа, которая не может считаться ни
«примитивной», ни противоположной «общепризнанной» логике. Более того, в
определенном отношении она сближается с некоторыми сложными типами
современных логических построений2. Осознание знаковой природы мифа,
влияние семиологических идей Соссюра, структурной лингвистики и работ
В. Я. Проппа подтолкнули французского ученого к рассмотрению мифа через
призму языковых структурных моделей. Подход этот оказался весьма
плодотворным. Однако в последующих работах Леви-Стросс сделал еще один
шаг. Рассматривая музыкальное произведение как особый тип повествования
и специфический вид логического построения, он обнаружил возможность
истолкования мифа и музыкального текста при помощи общих культурных
моделей. Идя дальше, он построил свое исследование «Сырое и вареное» —
обширный труд о функции «природного» и «созданного человеком»
(культурного) в раннем сознании человека и мифологии — по законам и логике
музыкального произведения, перенеся, таким образом, музыкальную
структуру из области объекта исследования на уровень инструмента исследования,
научной метаструктуры.
Автор популярной работы по введению в современную математику
У. У. Сойер писал: «Практики, как правило, не имеют представления о
математике как способе классификации всех проблем. Обычно они стремятся
изучать только те разделы математики, которые уже оказались полезными
для их специальности. Поэтому они совершенно беспомощны перед новыми
задачами»3. Трудно предугадать, увенчается ли успехом попытка Леви-Стросса
1 Основные монографии К. Леви-Стросса: Anthropologie structurale. Paris, 1958; La
Pensée sauvage. Paris, 1962; Le cru et le cuit. Paris, 1964; Du miel aux cendres. 1966.
Оценка его научной позиции дана Ε. M. Мелетинским в журнале «Вопросы
философии» (1970. № 9). Основную библиографию на французском языке читатель найдет
в кн.: Simonis Y. Claude Lévi-Strauss ou la «passion de l'inceste»: Introduction au
structuralisme. Paris, 1968.
2 Ср. подход советских ученых И. Кулля и Л. Мялля, установивших черты общности
некоторых аспектов современной четырехзначной логики и ранней индийской логики
(Кулль И., Мялль Л. К проблеме тетралеммы // Учен. зап. Тартуского гос. ун-та. 1967.
Вып. 198. Труды по знаковым системам. III).
3 Сойер У У Прелюдия к математике. М., 1965. С. 17—18.
Искусствознание и «точные методы»...
453
построить «способ классификации» на синтезе музыки и логики. Очевидно,
что такой путь требует значительно более сложного, пока еще недостаточно
разработанного логического аппарата. Это заставляет предположить, что
искусствознание может не только использовать достижения точных наук, но
и само давать импульсы для их дальнейшего развития.
К работе Леви-Стросса примыкает ряд других статей, публикуемых в
настоящем сборнике. В статье В. Тернера на чрезвычайно интересном
материале рассматривается проблема цветовой классификации в культурах
народов Центральной Африки. Структура отношения черного, белого и красного
цвета оказывается, как выясняет автор, изоморфной широкому кругу
семиотических и социальных структур у этих народов. Статья представляет
большой интерес для определения сущности цветового символизма и значения
цвета как иконического и конвенционального знака в системе культуры.
Поскольку, как мы уже говорили, весьма существенно, чтобы при различного
рода измерительных методиках выбирались структурно релевантные, а не
случайные параметры, без развитой семиотики цвета в системе культуры
вряд ли можно надеяться построить содержательную интерпретацию
измерений произведений изобразительных искусств. Исследования в этой области
могут представить значительный интерес и для развития технической эстетики
(см. также помещенную в этом сборнике работу Ч. Осгуда). Попутно можно
отметить, что зафиксированная Тернером цветовая структура «черное —
белое — красное» любопытным образом совпадает с до сих пор не имеющими
удовлетворительного объяснения заглавиями романов Стендаля «Красное и
черное» и «Красное и белое».
С именами Проппа и Леви-Стросса связан растущий в настоящее время
интерес к анализу нарративных (повествовательных) текстов. Вопрос этот, с
одной стороны, связан с широким кругом проблем, возникающих при
изучении произведений искусства, развивающихся во времени
(повествовательных литературных произведений, музыки, кинематографа). С другой стороны,
он соприкасается с рассмотрением процесса порождения художественного
текста, отношением порождающих моделей к реально данным произведениям.
Исследование нарративных текстов особенно энергично разрабатывается
французскими учеными. Этой проблеме был посвящен специальный номер
сборника «Communications», проведен ряд международных симпозиумов —
в Урбино (Италия) и других городах. В ряде работ А. Греймаса содержатся
основанные на модели В. Я. Проппа, но существенно трансформированные
и обобщенные формулы мифологического повествовательного текста. Работы
эти представляют бесспорный интерес. Краткий реферат и принципиальную
оценку их читатель может найти в послесловии ко второму изданию
«Морфологии сказки» В. Я. Проппа.
Статья К. Бремона «Логика повествовательных возможностей»
представляет собой попытку, также на основании методики Проппа, построить модель
повествовательного текста вообще. Такая задача сама по себе представляет
огромные трудности и свидетельствует о смелости автора. Однако Бремон,
по сути дела, ею не ограничивается, стремясь создать построение, которое
одновременно было бы и моделью человеческих действий вообще. Механизм,
454 СТАТЬИ. ЗАМЕТКИ. ВЫСТУПЛЕНИЯ. I. Общие проблемы искусства
порождающий описания различных типов сюжетов, по мысли автора, должен
быть пригоден для моделирования структуры поведения людей, которое также
рассматривается как развертывающийся во времени текст.
В отличие от Проппа, Бремон предлагает считать, что каждый сюжетный
узел не детерминирует жестко, автоматически и однозначно следующий, а
определяет лишь альтернативную пару, из которой рассказчик реализует по
своему выбору один из элементов, руководствуясь системой «или — или».
В таком подходе отчетливо чувствуется влияние мыслей Леви-Стросса и
Греймаса, и он хорошо согласуется с кибернетическими идеями.
Рассказывание предстает как результат взаимодействия двух механизмов:
порождающей структуры сюжета, дающей спектр возможностей, и выбора рассказчика,
определяющего конкретные реализации данного текста. Рассказчик
напоминает ткача, который может выбирать и варьировать узоры, не выходя за
пределы технических возможностей станка, образующих как бы
потенциальную сумму всего, что он может сделать.
Одновременно такой подход может быть истолкован как учет некоторых
принципов пражской школы. С этой точки зрения в рассказе можно выделить
два структурных уровня: уровень «языка», включающий все возможные
альтернативы, и уровень «речи» (оба термина — в значении Ф. де Соссюра),
отражающий результат выбора рассказчика.
Схему Проппа Бремон значительно обобщает, сводя к двум цепям
функций — «улучшению» и «ухудшению». При этом производится разделение на
персонажи с учетом того, что «улучшение» ситуации для одного может
создавать ее «ухудшение» для другого. Таким образом, вводится парная
корреляция и по вертикали схемы.
Хотя схеме Бремона нельзя отказать в широте и последовательности и
ее, бесспорно, придется учитывать всякому занимающемуся механизмом
сюжета, определенные стороны концепции этого исследователя вызывают
возражения. Прежде всего, представляется сомнительной возможность
нетривиального соединения модели художественного сюжета и модели реального
поведения. При этом утрачивается сознание того, что сюжет — не просто
фиксация некоторых действительно происшедших событий, а перевод их на
язык данного художественного моделирования. Кроме построения
альтернативных возможностей данного повествования («языка» данного текста)
необходимо иметь описания таких же возможностей для жанра, периода,
национальной культуры и пр. Такой концепции явно не хватает историзма.
Перескакивая через указанный этап, ученый невольно навязывает нам
категории своего сознания, свои национально, социально и исторически
определенные культурные модели в качестве нейтрально-общечеловеческих. Статья
Бремона дает яркий тому пример. Автор считает самоочевидным условием
сюжетности «единство действия». В главе «Повествовательный цикл» он
пишет: «Каждый рассказ сводится к такому изложению последовательности
интересных с точки зрения человека событий, которое создавало бы единство
действия <...> Там, где нет включения в единство действия, нет и рассказа».
Такое утверждение органически вытекает не из природы рассказа, а из
сущности французской национальной культуры, для которой Декарт и Буало
Искусствознание и «точные методы»...
455
составляют неотъемлемую часть наиболее глубинных сторон сознания. Но
разве «Житейские воззрения кота Мура» Гофмана не представляют собой
повествования? Разве, если мы проанализируем пересказ какого-либо события
и текста ребенком пяти-шести лет, не обнаружится, что перед нами бесспорное
повествование, рассказ, модель развертывания которого мы можем построить,
но который типологически строится по схеме «вдруг» — другое событие, а
не согласно идеалу «единства действия»? Напомним тонкую характеристику
летописного рассказа И. П. Ереминым: «Загадочны люди в его [летописца]
изображении; поражает странная алогичность их поведения <...> они у
летописца меняют свой характер, как платье, — часто несколько раз в течение
своего жизненного пути». Приводя далее пример многоликости князя Яро-
полка в «Повести временных лет», автор заключает: «Читатель нашего
времени с этим новым образом „блаженного" Ярополка еще мог бы как-то
примириться при условии, что летописец здесь имел в виду показать духовное
„перерождение" Ярополка на определенном этапе его жизненного пути. Но
именно этого-то условия как раз и нет: летописный текст не дает основания
для такого толкования. Перед нами — загадка летописного рассказа в этом
и заключается — совершенно очевидно не один человек на разных этапах
своего духовного роста, а два человека, два Ярополка; взаимно исключая
один другого, они тем не менее у летописца сосуществуют рядом в одном
и том же контексте повествования»1. Тем не менее было бы странно из этого
заключить, что все перечисленные выше тексты — не особые типы рассказа
и вообще должны быть из рассмотрения исключены. Конечно,
последовательность эпизодов небезразлична для получения «удачного» рассказа.
Необходима некоторая внутренняя логика развертывания текста, но логика эта,
как показывает материал повествовательных текстов различных культур и
эпох, не может быть определена как самоочевидная на основании интуиции
исследователя, а должна выявляться путем анализа вторичных моделирующих
систем, составляющих структуру данной культуры.
Одной из важнейших сторон этого вопроса является соотношение
визуальных и слуховых, иконических и конвенциональных знаков для построения
как общей теории знаковых систем и типологии изобразительных и словесных
искусств, так и типологического сопоставления различных культур. Этой
теме в предлагаемом сборнике посвящен ряд работ. В первую очередь, здесь
следует отметить статью Р. О. Якобсона «К вопросу о зрительных и слуховых
знаках», представляющую итог ряда исследований автора по общим
проблемам соотношения слова и изображения как знаков. Автор создает
основополагающую для данной проблемы классификацию, утверждая, что в парных
оппозициях «зрительное/слуховое», «иконическое/конвенциональное»,
«пространственное/временное», «синтагматическое/парадигматическое»,
«иерархически не организованное/имеющее иерархическую организацию» все первые
члены скоррелированы между собой, вторые — тоже. Именно такая
корреляция создает специфику употребления этих двух типов знаков. Опираясь на
1 Еремин И. П. «Повесть временных лет». Л., 1947. С. 4, 6—7.
456 СТАТЬИ. ЗАМЕТКИ. ВЫСТУПЛЕНИЯ. I. Общие проблемы искусства
работы А. Р. Лурия и К. Прибрама, дифференциацию типов синтеза в
сознании (И. М. Сеченов) и свои работы по природе афатических расстройств,
Р. О. Якобсон дает убедительную психологическую мотивацию этой
корреляции.
Семиотике изобразительного искусства посвящены также работы М.
Шапиро и Т. Пасто.
Очень содержательная статья Шапиро трактует семиотическую функцию
таких элементов зрительного художественного изображения, которые обычно
ускользают от внимания исследователей, хотя и обладают, как показывает
автор, фундаментальным значением. Автор подробно рассматривает функцию
основы, рамы, границы живописного текста в пространстве. Теоретический
аспект этого вопроса рассматривался и в работах отечественных авторов1.
Большой интерес представляет анализ функции гладкой поверхности, на
которую проецирует изображение художник, выяснение того факта, что все,
кажущееся нам привычным и «естественным», на самом деле представляет
собой итог длительного культурного развития и оказывает глубинное влияние
на тип соотношения денотата и знака в живописи. Анализ влияния неплоской
поверхности проекции (древнегреческая ваза, свод в русской церкви) на тип
изображения или имитаций неплоской поверхности в фактически плоскостных
основаниях стенной живописи и плафонов барокко представляет крайне
заманчивую исследовательскую задачу. Не менее интересна театральная
живопись, где плоская поверхность декорации должна и незаметно, и заметно
переходить в объемы сценического интерьера. Очень содержателен анализ
понятия «размер» в изобразительном искусстве. Ценные данные здесь может
дать наблюдение над кинематографом. Понятие размера кадра имеет чисто
топологический характер. Кадры одинакового «плана» (крупного или общего)
считаются равными себе, на какой бы экран мы их ни проецировали. Размер
экрана в размер кадра не включается.
Статья Т. Пасто, стремящаяся раскрыть психофизиологический механизм
зрительных образов в искусстве, представляется интересной, хотя и содержит,
как легко заметит читатель, ряд спорных положений.
Различные аспекты применения кибернетических,
теоретико-информационных, статистических методов к общим проблемам эстетики, теории
литературы, театроведения мы находим в статьях М. Бензе, Ф. фон Кубе, Е. Во-
рончака и И. Левого.
Статья М. Бензе является кратким резюме его работ по построению
информационной эстетики. Принципы ее близки к известной уже читателю
книге А. Моля. Хотя некоторые теоретические вопросы здесь представлены,
как нам кажется, в упрощенном виде (сомнения относительно формулы
Биркгофа уже были высказаны нами выше), читатель, бесспорно, с интересом
ознакомится с этой статьей; как своими достоинствами, так и недостатками
она может считаться характерной для той интерпретации применения «точных
1 См., например, гл. VII в кн.: Успенский В. А. Поэтика композиции: Структура
художественного текста и типология композиционной формы. М., 1970.
Искусствознание и «точные методы»...
457
методов» к искусству, которая наиболее распространена среди немецких
ученых.
Говоря о статье фон Кубе «Драма как объект исследования кибернетики»,
хотелось бы привлечь внимание читателей к аналогичной по проблематике
VIII главе весьма содержательной книги румынского исследователя С.
Маркуса «Математическая поэтика»1.
Статьи польского ученого Е. Ворончака и безвременно скончавшегося
чешского исследователя И. Левого принадлежат к наиболее удачным
образцам применения исчислений к художественному тексту. Многочисленные
работы Левого были посвящены применению теории информации к
стиховедению. Однако в последние годы жизни исследователь обратился к опытам
по применению математических методов и к изучению сложных проблем
семантики поэтического текста. Публикуемая в настоящем сборнике работа
посвящена установлению гомоморфизма между акустической и семантической
структурами поэтического текста. Вопрос этот имеет большое теоретическое
значение, поскольку позволяет перебросить мост из сферы формальной
организации поэтического текста на низших уровнях, где математические (в
особенности статистические, комбинаторные и вероятностные) методы
удерживают прочные позиции, в область поэтического содержания.
Попытка И. Левого свести основные понятия поэтического выражения и
содержания к общей структурной модели, основанной на понятиях
«непрерывность/прерывность», «эквивалентность/иерархия»,
«регулярность/нерегулярность», «связность/несвязность», «интенсивность/неинтенсивность»,
«предсказуемость/неожиданность», открывает путь для математической
интерпретации наиболее «гуманитарных» понятий, касающихся самой сущности стиха.
Точное измерение столь существенного для художественного восприятия
интуитивного понятия, как «лексическое богатство текста», делает статью
Е. Ворончака примечательной как в фактическом, так и в методологическом
аспекте.
Последний раздел сборника посвящен проблемам эстетического
восприятия. В упоминавшихся уже четырех статьях этого раздела излагаются
интересные прежде всего по своей методике экспериментальные работы по
«измерению» эстетических оценок и «предпочтений». При этом широкое
применение нашел метод «семантического дифференциала», подробное
разъяснение которого дано в комментариях к соответствующим статьям.
Такого рода исследованиям за рубежом в последнее время уделяется большое
внимание2.
***
Пути, по которым идет научный поиск в новой, быстро развивающейся
области «искусствометрии», сложны и не могут быть однозначно оценены.
1 Marcus S. Poetica matematica. Bucuresti, 1970 (резюме на англ. яз.).
2 См., например, специальный выпуск журнала «Курьер ЮНЕСКО» (март 1971 г.),
посвященный исследованиям, проведенным в Торонто.
458 СТАТЬИ. ЗАМЕТКИ. ВЫСТУПЛЕНИЯ. I. Общие проблемы искусства
Очевидна научная неравнозначность применяемых различными авторами
методик, их связь со сложившейся национальной исследовательской традицией,
наконец, просто различная одаренность тех или иных авторов. Но когда
речь идет о молодой, бурно развивающейся области знания, некоторая
пестрота представляется не только закономерной, но даже полезной. Она
соответствует «романтическому» периоду развития данной науки.
Исследовательский «классицизм» придет позднее. Далеко не все идеи авторов
публикуемых статей представляются в равной степени убедительными. Кроме
того, недостатком некоторых из публикуемых статей является их
определенный внеисторизм в тех случаях, когда истолкование текста подразумевает
изучение внетекстовых связей, то есть более широкого исторического и
социально-политического контекста. Но спорность исходных теоретических
положений в некоторых работах противоречиво сочетается с крайне
любопытным статистическим, экспериментальным и другим материалом. Критику
ряда положений авторов, необходимые разъяснения к отдельным местам
текста, а также ссылки на дополнительную литературу, в том числе на
многочисленные работы отечественных авторов, читатель найдет в
комментариях, помещенных в конце сборника.
Главная ценность сборника, на наш взгляд, состоит в том, что он
информирует читателя о ряде новых перспективных направлений в зарубежных
исследованиях на стыке гуманитарных и точных наук — в области изучения
явлений искусства современными объективными научными методами. Многие
идеи, высказываемые в статьях сборника, могут способствовать развитию
отечественных работ в этих направлениях. Решение затрагиваемых в сборнике
проблем может иметь практическое значение для ряда областей: для развития
технической эстетики и дизайна, для разработки ряда социологических и
психологических проблем, для моделирования психических процессов на
ЭВМ, а также, не в последнюю очередь, для выработки объективных критериев
оценки эстетических явлений. Этим проблемам, пионерами изучения которых
в свое время выступили советские ученые, в настоящее время во всем мире
уделяется большое внимание.
Существенно подчеркнуть еще одну сторону вопроса: вся история техники
свидетельствует о том, что новые изобретения, влияя на коренные
представления эпохи, в свою очередь зависели от исторически сложившегося к данному
времени понятия о том, что такое машина. «Точные» исследования
произведений искусства, раскрывая нам художественный текст как особого рода
устройство, обладающее способностями к самонастройке и повышению
объема вкладываемой в него информации, способствуют изменению наших
представлений о понятии «машина». Изучение механизма внутренней структуры
художественного произведения может натолкнуть на смелые решения, которые
в конечном итоге могли бы получить инженерное воплощение. Еще недавно
мысль о том, что инженеру следует изучать биологию, показалась бы
странной. Сейчас существование бионики никого не удивляет. Изучение механизма
искусства завтра, может быть, потребуется и техническим наукам. Но для
этого искусствознание должно научиться говорить на языке этих наук.
Ян Мукаржовский — теоретик искусства
459
Интересно отметить, что материалы ряда представленных в сборнике
статей (К. Леви-Стросса, Р. О. Якобсона и др.) содержат убедительные
аргументы против крайних проявлений современного западного модернистского
искусства в области абстрактной живописи и «конкретной» музыки.
В сборнике представлены как авторы, стоящие на марксистских позициях
(И. Левый, Е. Ворончак), так и ориентирующиеся на различные школы
современной западной философской мысли, оценку которых читатель найдет
в «Философской энциклопедии» (1970. Т. 5. С. 144—145). Тем более следует
подчеркнуть, что большинство авторов второй группы стоит на стихийно-
материалистических позициях, и в ряде случаев их концепции несут на себе
несомненные следы влияния советского материалистического
искусствоведения.
Весьма примечательным в этой связи представляется утверждение одного
из признанных руководителей зарубежной семиотики, К. Леви-Стросса:
«Сегодня именно структурализм защищает знамена материализма <...> Если в
общественном мнении и происходит часто смешение структурализма,
идеализма и формализма, то достаточно структурализму встретить на своем пути
подлинные идеализм и формализм, чтобы стали очевидными реалистические
и детерминистические его истоки».
7972
Ян Мукаржовский — теоретик
искусства
Разнообразное и богатое теоретическое наследие Яна Мукаржовского
(1891—1975), автора статей и монографий по общей теории искусства, теории
литературы, поэтике кино, театра, изобразительных искусств, известно у нас
далеко не достаточно. Малое число переводов затрудняет знакомство с
научным творчеством этого выдающегося теоретика искусства. Между тем
сочинения Яна Мукаржовского давно уже перестали быть собственностью
только чешской науки и справедливо считаются достоянием международной
эстетической классики. Начав как деятель прогрессивного крыла молодой
чехословацкой науки и критики 1920-х гг., Мукаржовский прошел сложный
и богатый внутренний путь.
Творчество ученого, деятеля науки и участника художественной жизни
своего народа и своей эпохи, жившего в бурные и трагические годы середины
XX в., не могло быть ровным и безоблачным. Сам он, его научные идеи,
его ученики не раз подвергались проработочной «критике» и гонениям.
Мукаржовский также переживал взлеты и сомнения, годы исключительной
научной активности и застоя. Однако сейчас, перечитывая сочинения Му-
460 СТАТЬИ. ЗАМЕТКИ. ВЫСТУПЛЕНИЯ. I. Общие проблемы искусства
каржовского, мы прежде всего поражаемся их научной злободневности,
актуальности для искусствоведа и эстетика наших дней.
Став всемирно признанным классиком эстетической мысли, Мукаржов-
ский не перешел в архив науки. Его сочинения не относятся к тем, которые
современный теоретик листает, изучая «историю вопроса», чтобы потом
спокойно отложить в сторону и больше уже к ним не обращаться. Труды
Мукаржовского не только сохранили научную актуальность, читаются как
современные, злободневные исследования, но даже не утратили и того
провоцирующего полемику, вызывающего на спор характера, который лучше
всего отделяет сегодняшний день науки от ее истории.
***
Ян Мукаржовский родился 11 ноября 1891 г. на юге Чехии, в городе
Писеке. В 1911 г. он поступил в Пражский университет, где специализировался
в области сравнительного языкознания и чешской филологии. С 1929 г.
преподавал эстетику в Карловом университете в Праге, совмещая затем эту
работу с должностью профессора эстетики в Братиславском университете. В
послевоенной Чехословакии Мукаржовский — ректор Карлова университета,
с 1952 г. — академик вновь организованной Чехословацкой Академии наук,
в 1951—1962 гг. — директор Института чешской литературы.
В науку Я. Мукаржовский вошел своими статьями 1930—1940-х гг.,
которые и представлены в настоящем издании.
Истоки эстетической концепции Я. Мукаржовского характеризуются, с
одной стороны, широким учетом достижений общеевропейской
искусствоведческой мысли, с другой — органической связью с национальной традицией
чешской науки и — шире — культуры.
Общеевропейская научная мысль повлияла на формирование
теоретической позиции Мукаржовского в основном в трех своих проявлениях.
Во-первых, это воздействие немецкой классической философии, в особенности —
Гегеля. Именно со школой великого немецкого диалектика следует связать
постоянно присущее трудам Мукаржовского стремление раскрывать живые
взаимопереходы, казалось бы, противоположных категорий, видеть в
противоположном единое, а в единстве — борьбу разнонаправленных тенденций.
Сама категория структуры трактуется Мукаржовским как иерархия связей,
находящихся в постоянной борьбе, в ходе которой противоположности
переходят друг в друга, а полюса меняются местами. Из позднейших философов
на Мукаржовского в начальный период его деятельности определенное
воздействие оказали Бродер Христиансен (1869—1958) и Эдмунд Гуссерль (1859—
1938).
Во-вторых, — женевская лингвистическая школа. Научная концепция
Фердинанда де Соссюра (1857—1913) скоро была осознана значительно шире,
чем теория построения лингвистики как специальной дисциплины, изучающей
языки, на которых говорят люди. Противопоставление языка (системы) и
речи (текста), требование разграничить синхронию и диахронию заложили
основы структурного метода, а концепция знака и необычайно глубокая
Ян Мукаржовский — теоретик искусства
461
мысль о необходимости создания общей теории знаковых систем (Соссюр
назвал эту будущую науку семиологией — термином, который до недавнего
времени господствовал во франкоязычной научной литературе) стали
фундаментом современной семиотики. Весь комплекс этих идей оказал на Му-
каржовского глубокое воздействие.
В-третьих, — русское литературоведение 1920-х гг., и в первую очередь
труды В. Б. Шкловского, Ю. Н. Тынянова, Б. М. Эйхенбаума, Б. В. Тома-
шевского, а также работы одновременно связанных и с Московским
лингвистическим кружком, и с чехословацкой наукой Н. С. Трубецкого,
Р. О. Якобсона и П. Г. Богатырева. Так, 7 февраля 1928 г. Мукаржовский
на заседании Пражского лингвистического кружка прочел представленный
(на французском языке) доклад Б. В. Томашевского «Новая русская школа
в историко-литературных исследованиях», который в дальнейшем был
опубликован по-чешски. В тот же период (1927—1929) в Чехословакии издается
ряд работ советских литературоведов, примыкавших к ОПОЯЗу. Воздействие
их на раннее творчество Мукаржовского представляется очевидным.
Однако определяющей для Мукаржовского была связь с чешской
национальной культурной и научной традицией. Интерес к теории поэтического
языка издавна составлял специфику чешского литературоведения и эстетики.
Позже, в 1940 г., в статье «Структурная наука о литературе» Мукаржовский
писал: «Точно так же создатель современной чешской критики Ф. К. Шальда
в анализе наиболее значительных поэтических явлений основывался на
разборе присущих им средств поэтического выражения. Исследователи чешской
метрики, особенно наиболее последовательный из них Й. Краль, всегда
ощущали интенсивную связь поэтического ритма с языком. Один из крупнейших
чешских языковедов Й. Зубатый в обширном исследовании занимался
поэтическом языком латышских и литовских народных песен. В последние
десятилетия внесли свою инициативу в изучение поэтического языка и
некоторые историки литературы, особенно (перед мировой войной) Арне Новак.
Таким образом, почва была подготовлена, когда в послевоенную эпоху в
Пражском лингвистическом кружке получило развитие структуральное
изучение литературы, также исходившее из поэтического языка, но не
ограничивавшееся им, а применявшее лингвистические методы ко всей проблематике
литературной науки»1.
Однако, несмотря на органичность связи с национальной научной
традицией, Пражский лингвистический кружок представлял собой качественно
новый этап в развитии гуманитарных наук, этап, имеющий не только
национальное, но и международное значение.
В Пражский лингвистический кружок Мукаржовский был введен в 1926 г.
Богуславом Гавранеком и оставался активным сотрудником его на всем
протяжении существования этого объединения. Несомненное воздействие на
формирование взглядов Мукаржовского оказали его связи с левыми
литературными и художественными течениями 1920—1930-х гг., с широким кругом
1 Ottûv slovnik naucny nové doby. D. VI. Sv. 1. S. 458—459.
462 СТАТЬИ. ЗАМЕТКИ. ВЫСТУПЛЕНИЯ. I. Общие проблемы искусства
деятелей искусства, напряженно искавших художественный язык, адекватный
запросам и проблематике искусства XX в. Связи с «Деветсилом»,
«Освобожденным театром», «Д-34», влияние идей Карела Тейге, личные дружеские
отношения с Владиславом Ванчурой, Витезславом Незвалом, Индржихом
Гонзлом, Э. Ф. Бурианом, Иваном Ольбрахтом, Карелом Чапеком, связи —
через Р. О. Якобсона — «Деветсила» с ЛЕФом и Маяковским оказали
большое влияние на формирование эстетической доктрины Мукаржовского.
***
Деятели Пражского лингвистического кружка называли свой метод
функционально-структуральным. Действительно, в основу их научной методики
были положены понятия структуры и функции.
Понятие структуры основывалось на идеях женевской школы. В языке
выделялось несколько противоположных аспектов, из которых нас сейчас в
первую очередь интересуют два: антитеза синхронии и диахронии, с одной
стороны, и структуры как системы абстрактных отношений и ее реализации
в конкретном языковом материале — с другой. Поскольку Мукаржовский
распространил структурные методы на изучение искусства, имеет смысл
остановиться на этих принципах подробнее.
Борясь с младограмматиками, которые сводили изучение языка к
исследованию его истории, а саму эту историю представляли как филиацию
изменений отдельных, не связанных между собой признаков, структурная
лингвистика постулировала два раздельных подхода к языку. Синхронный —
первичен. Анализ начинается с выделения структурно организованных
синхронных срезов языка. Синхронный срез — внутренне организованное целое.
При этом соотношение элементов и целого понимается не как механическая
сумма, а в единстве. «Структура складывается из индивидуальных явлений
как высшее единство (целое), обладающее такими интегральными свойствами,
которые чужды его отдельным частям; структура — это не просто
совокупность, сумма составляющих ее частей. Явления, образующие структуру, не
есть части целого, поддающегося делению; находясь в тесной взаимосвязи,
эти явления представляют собой то, чем они являются, лишь в силу своего
вхождения в иерархически упорядоченное целое»1.
Деятели Пражского кружка — и это будет особенно существенно для
Мукаржовского — подчеркивали, что синхрония не означает неподвижность,
статику. Внутренние связи могут иметь характер динамических напряжений.
Показательно, что эту мысль Р. О. Якобсон иллюстрировал на примере из
области искусства. Он писал: «Было бы серьезной ошибкой утверждать, что
«синхрония» и «статика» — синонимы. Статический срез — фикция; это
лишь вспомогательный научный прием, а не специфический способ
существования. Мы можем рассматривать восприятие фильма не только
диахронически, но и синхронически; однако синхронический аспект фильма отнюдь
1 Havrànek В. Strukturalismus // Ottuv slovnik naucny nové doby. D. VI/I. S. 452.
Ян Мукаржовский — теоретик искусства
463
не идентичен отдельному кадру, вырезанному из этого фильма. Восприятие
движения наличествует и при синхроническом аспекте фильма»1.
Критикуя женевскую школу за отрыв синхронии от диахронии
(исторического аспекта), Пражский лингвистический кружок неизменно подчеркивал,
что вторым шагом после описания синхронного состояния системы является
изучение путей перехода ее в следующее состояние, то есть изучение истории.
Вторым функциональным принципом было выделение в объекте, который
изучается структурными методами, двух начал: инвариантной системы
отношений («языка», по терминологии де Соссюра) и материализованных ее
вариаций («речи», по его же определению). И здесь пражская школа пошла
дальше женевской: приняв это исходное противопоставление как основу
структурного изучения языка (на нем основывалась идея уровней описания,
составляющая в настоящее время одно из наиболее фундаментальных
положений общей теории науки), деятели кружка всячески подчеркивали сложный
диалектический характер соотнесения этих начал.
Как мы уже отмечали, одной из существеннейших черт пражской школы
была акцентированность понятия функции. В. Скаличка писал: «Чрезвычайно
важным является понятие функции. Для нас функция примерно то же, что
и целеустановка. Гавранек в статье „О структурализме в языкознании" говорит
о языке, что „он постоянно и как правило выполняет определенные цели
или функции" <...> В понимании пражских лингвистов термин „функция"
употребляется тогда, когда речь идет о значении (функция слова, предложения)
или о структуре смысловых единиц (функция фонемы)»2.
Принципы, которые Пражский лингвистический кружок положил в основу
изучения языка, оказались весьма плодотворными в применении к искусству.
Мы уже говорили о том стимулирующем значении, которое имели для
Мукаржовского, как и для многих других членов кружка, работы русских
формалистов. И тем не менее было бы глубоким заблуждением не видеть
принципиальной разницы.
Выделив художественный текст как самостоятельный объект исследования,
имеющий замкнутую в себе внутреннюю организацию, формальная школа
сделала большой шаг вперед в сравнении с тем эпигонским академическим
литературоведением, мнимый историзм которого во многом напоминал
псевдоисторизм младограмматиков, а общая тенденция позитивистской науки
XIX в. вызывала стремление видеть в объекте изучения скопление атомарных
фактов.
Всякий, кто размышлял над историей науки, конечно, обращал внимание
на то, что многие существенные идеи весьма по-разному оцениваются
современниками и потомством. Если бы дело здесь сводилось к тривиальным
размышлениям о сопротивлении, которое встречают новые научные концеп-
1 Jakobson R. Prinzipien der historischen Phonologie // Travaux du Cercle linguistique
de Prague. 1931. Vol. IV. P. 264—265.
2 Скаличка В. Копенгагенский структурализм и «пражская школа» (цит. по: Звегинцев
B. Л. История языкознания XIX—XX веков в очерках и извлечениях. М., 1965. Ч. 2.
C. 152).
464 СТАТЬИ. ЗАМЕТКИ. ВЫСТУПЛЕНИЯ. I. Общие проблемы искусства
ции, предаваться им не имело бы никакого смысла. Интересующая нас
закономерность науки лежит глубже: определенные научные представления
могут не только казаться, но и действительно быть неадекватными объекту
в одном контексте — и адекватными ему в другом. Дело в том, что всякая
новая идея в науке ведет себя, как правило, агрессивно. Она склонна заполнять
собой все пространство теории и представлять себя как всеобъемлющую. Но
такие претензии часто оказываются необоснованными, а именно они, в первую
очередь, и бросаются в глаза современникам. Однако приходит время, и то,
что претендовало быть моделью всего объекта, может оказаться
плодотворным аспектом другой, более сложной научной концепции.
Аналогичной была и судьба формального направления в
литературоведении 1920-х гг. Выдвинув задачу имманентного рассмотрения
художественного текста как системы, организованной sui generis, формальное направление
сделало крупное открытие: оно обнаружило синтагматическую структуру
произведения и поставило вопрос об ее изучении. Однако при этом
формалисты 1920-х гг. отождествили синтагматическую ось построения со
структурой художественного произведения как таковой, возведя асемантизм в
принцип искусства. В таком виде их концепция вызвала возражения с самых
разных сторон: со стороны символистов (Брюсов, Вяч. Иванов) и социологов,
переверзианцев и марристов. Особо надо отметить работы M. М. Бахтина,
двигавшегося к решению структурных проблем иными, принципиально
отличными от формалистов путями, а также ученых, стоявших выше отдельных
частных концепций, — В. М. Жирмунского и Г. О. Винокура. Если
формальное направление стремилось, начиная с анализа атомов структуры,
подняться до изучения целостных построений (и под пером Тынянова сделало
в этом направлении значительные шаги), то Бахтина интересовала целостность
искусства, нерасчленимое на части своеобразие. Бахтин противопоставлял
свои воззрения формальному направлению, предпочитая позитивные работы
непосредственной полемике. Последнюю взял на себя Павел Медведев в
книге, в значительной мере написанной рукой Бахтина, но несущей в себе,
однако, следы стиля и мысли и того, чья фамилия значилась на титуле1.
Отождествление целостности художественной структуры с ее синтагматикой,
конечно, приводило к искажениям, и это очень скоро поняли сами опоязовцы.
Плодотворной могла быть только та критика формалистов, которая
дополнила бы анализ синтагматической структуры семантической, а всю
целостность художественного построения рассматривала бы как взаимное
напряжение этих двух принципов организации. Критика же, которая просто
отбрасывала саму проблему синтагматического анализа внутренней конструкции
текста, была шагом назад.
Конструктивная критика формализма была возможна лишь на основе
методики, выработанной в результате изучения материала, для которого
синтагматический и семантический подход составляют нерасторжимые
стороны одного целого. Таким материалом, как известно, является язык. Поэтому
1 Медведев П. Н. Формальный метод в литературоведении. Л., 1928.
Ян Мукаржовский — теоретик искусства
465
единственно плодотворная критика формализма, которая не отбрасывала бы
его завоеваний, требовала профессиональных лингвистических навыков.
Такой была, например, позиция Г. О. Винокура. В этом смысле деятели
Пражского лингвистического кружка находились в особо выгодном
положении.
Для того чтобы наша мысль стала более понятной, позволим себе
напомнить ту критику формализма, которая была развернута в 1930-е гг.
литературоведами, находившимися под влиянием методологии Н. Марра.
Участникам этой группы нельзя отказать ни в таланте, ни в широте эрудиции, ни
в научном энтузиазме. И сам академик Н. Я. Марр, и такие его сотрудники,
как И. Г. Франк-Каменецкий или О. М. Фрейденберг, были люди блестяще
одаренные и энциклопедически образованные.
Метод, который, в противоположность формальному, ученые этой группы
именовали семантическим1, основывался на реконструкции глубинных
значений смысловой палеонтологии. Раскрывая в противоположных или просто
не связанных для современного сознания сюжетно-смысловых единицах
древнее тождество, устанавливая в сюжетах отражение обрядов и мышления
архаического общества, последователи Н. Я. Марра высказали немало
глубоких научных идей. Однако, исследуя семантическое отношение элемента
текста к внетекстовым (в основном — архаическим) реалиям, марристы
совершенно игнорировали значения, которые данный элемент приобретает в
отношении к целостной структуре данного же текста. Устанавливая
палеонтологию значения какого-либо эпизода в тексте комедии Шекспира или
трагедии Кальдерона, исследователи одновременно как бы забывали о том
значении, которое он получал в художественной архитектонике данного
текста. Комедия Шекспира или средневековый роман о Тристане и Изольде
собственной структуры значений как бы не имеют — они лишь континуумы,
в которых помещаются семантические реликты, не мотивированные их
контекстом, но находящие свое объяснение в глубинах доисторического
мышления. Возникал парадокс: отказ от анализа формальной (синтагматической)
структуры текста приводил к утрате ими целой оси значений, хотя все это
и осуществлялось под знаменем семантики.
Причина здесь в другом парадоксе: новое учение о языке не было
языковым учением. Отождествляя язык и мышление до степени полного
отрицания специфики этих областей, оно ликвидировало аппарат лингвистики,
агрессивно навязывая языкознанию нелингвистические методы (вот почему
как раз в области этнографии, фольклористики и мифологии марризм мог
добиваться реальных достижений, хотя метод всегда оставался его слабой
стороной).
Пражская школа, насчитывавшая в своих рядах лингвистов мирового
класса, оказалась в значительно более выгодном положении. Именно она
1 Фрейденберг О. М. Целевая установка коллективной работы над сюжетом Тристана
и Исольды // Тристан и Исольда: От героини любви феодальной Европы до богини
матриархальной Афроевразии / Коллективный труд Сектора семантики мифа и
фольклора под ред. акад. Н. Я. Марра. Л., 1932.
466 СТАТЬИ. ЗАМЕТКИ. ВЫСТУПЛЕНИЯ. I. Общие проблемы искусства
сумела осуществить конструктивную критику формализма, невольно
подтвердив положение Ю. Н. Тынянова о том, что в сфере культуры нет более
опасных критиков, чем непосредственные преемники.
***
Начальный этап развития эстетической доктрины Пражского
лингвистического кружка, как мы уже отмечали, был связан с влиянием идей ОПОЯЗа.
Воздействие это, например, отчетливо ощущается в программных «Тезисах
Пражского лингвистического кружка», опубликованных в 1929 г. в «Travaux
du Cercle linguistique de Prague» (vol. 1) и в материалах к I съезду славистов.
Здесь, в частности, читаем: «Организующий признак искусства, которым
последнее отличается от других семиологических структур, — это направлен-
ность не на означаемое, а на сам знак. Организующим признаком поэзии слуэюит
именно направленность на словесное выражение»1. Правда, в предшествующем
параграфе указывалось как на недостаток науки на то, что «с точки зрения
методологической менее всего разработана поэтическая семантика слов, фраз
и композиционных единиц любого размера <...> Сам сюжет представляет
семантическую композицию, а поэтому проблемы структуры сюжета не могут
быть исключены из изучения поэтического языка»2.
Именно навык исследования языка толкал чешских структуралистов к
изучению социальной функции текста. Показательно, что В. Скаличка,
критикуя Ельмслева и копенгагенскую школу за стремление оторвать структуру
языка от его социальной функции, писал: «Можно только пожалеть, что
Ельмслев недостаточно хорошо знаком с работами Я. Мукаржовского и его
школы»3, то есть ссылается на исследования по эстетике и анализы
художественного текста как на работы, в которых социальная (семантическая и
прагматическая) функция текста недвусмысленно обнажена.
Принципы чешского структурализма — подчеркивание сложных
диалектических отношений между конструктивными рядами текста, внутренней
напряженности как закона существования структуры, интерес к семантическим
связям и социальной функции художественного текста — сложились в трудах
Мукаржовского не сразу. Работы конца 1920-х гг. — наиболее существенная
из них «„Май" Махи. Эстетическое исследование» (1928) — строятся под
явным воздействием раннего ОПОЯЗа, В. Шкловского и О. Брика.
Произведение, считает Мукаржовский, распадается на элементы различных уровней,
и если уровни эти иерархически соподчинены, то внутри каждого из них
элементы конструктивно равноправны.
С 1931 г. начинается новый период. Учитывая дальнейшее движение
науки, в особенности работы Ю. Н. Тынянова, Мукаржовский формулирует
понятие структурной доминанты. Его все более занимает структура как
диалектическое единство — научная альтернатива представлению об искус-
1 Цит. по: Пражский лингвистический кружок. М., 1967. С. 32.
2 Там же. С. 31.
3 Скаличка В. Копенгагенский структурализм и «пражская школа». С. 151.
Ян Мукаржовский — теоретик искусства
467
стве как механической сумме приемов («Эвфония „Экспедиций к «я»" Тээра»,
«Чаплин в „Огнях большого города"»). Работы «Язык литературный и язык
поэтический» (1932), «Поэтическое произведение как комплекс ценностей»
(1932) и «Искусство как семиотический факт» (1934) дополняют понятие
структуры понятием знака. Соединение структурального подхода с
семиотическим — определяющая специфическая черта работ Мукаржовского и его
школы и одновременно характерный признак чешского структурализма.
Именно с этого момента формализм становится вчерашним днем и
складывается та искусствоведческая методология, которая сохраняет свою научную
актуальность до сих пор.
В 1934 г. следует ряд публикаций: «„Возвышенность природы" Полака»,
«К чешскому переводу „Теории прозы" Шкловского», «Общие принципы и
развитие нового чешского стиха». Завершением всего развития эстетической
мысли Мукаржовского после 1931 г. является опубликование в 1936 г.
классической работы «Эстетическая функция, норма и ценность как социальные
факты».
Вслед за учением о языковых функциях, составлявшим одну из основ
лингвистической теории Пражского кружка, Мукаржовский формулирует
концепцию эстетической функции.
Теория функций в том виде, как она была разработана Мукаржовским в
первой половине 1930-х гг., звучит весьма современно. Автор нашел ту опорную
точку, отправляясь от которой современная семиотика превращает себя из
науки о дешифровке текстов в науку о культуре — общую теорию порождения,
хранения и функционирования информации в человеческом обществе.
В. Матезиус в 1936 г. указал на функции как на внешнюю по отношению
к семиотическим системам структуру, которая позволяет сопоставить их
между собой и на основе их употребления человеческим коллективом строить
общую систему культуры. «Единственно правильным подходом к различным
языкам как к вполне сравнимым системам будет функциональная точка
зрения, поскольку основные потребности выражения и общения, единые для
всего человечества, — это единственный общий знаменатель, к которому
удается привести различные языковые экспрессивные и коммуникативные
средства, варьирующиеся от языка к языку»1. Непосредственный смысл
цитаты — в обосновании функционального подхода для построения
сравнительной типологии языков. Однако появившиеся в ту же пору работы Р. О.
Якобсона, Я. Мукаржовского, П. Г. Богатырева и ряда других исследователей
показали, что коллектив, культура которого состоит из набора семиотических
систем, также может быть представлен как полиглотический и система
функций, обслуживаемых этими различными типами семиозиса, является
основанием для их сопоставления. Так, в работах П. Г. Богатырева объектом
функционально-семиотического анализа были народные костюмы Словакии
и Моравии, различные типы народного театра, ритуала и быта.
1 Mathesius V. On Some Problems of the Systematic Analysis of Grammar // Travaux
du Cercle linguistique de Prague. 1936. Vol. 6. P. 95.
468 СТАТЬИ. ЗАМЕТКИ. ВЫСТУПЛЕНИЯ. I. Общие проблемы искусства
В тексте лекции «Задачи общей эстетики» (начало 1940-х гг.) Мукаржов-
ский писал: «В каждом человеческом деянии есть три стороны:
практическая, теоретическая и эстетическая; иными словами — каждое
человеческое деяние и его последствия неизбежно и по самому своему существу
имеют три основные функции: практическую, теоретическую и
эстетическую»1. Если в первых двух предметы выступают как средства — с их помощью
достигаются практические результаты или теоретические знания, то в
последней они являются целью. Классификация эта была детализирована в работе
«Место эстетической функции среди прочих функций» (1942). Мысли автора,
изложенные в этой статье, можно было бы резюмировать в следующей
таблице:
Функции
объективные
субъективные
непосредственные
функции
практические
функции
теоретические
функции
знаковые
функции
символические
функции
эстетические
функции
Предложенная автором классификация не представляется бесспорной.
Однако основная ценность разработки Мукаржовским вопроса о функциях
была не в тех или иных конкретных классификациях, а в принципиальной
стороне его подхода к проблеме. Каждый социум характеризуется
определенным набором текстов, набором потребностей и отношением текстов к
этим социальным потребностям, то есть тем, как тексты используются в
коллективе. Напомним, что и применительно к языку функциональность
понималась как отношения языковых структур к их употреблению. В
коллективных тезисах, представленных IV съезду славистов Б. Гавранеком, К. Го-
ралеком, В. Скаличкой и П. Тростом, подчеркивалось: «Представители
пражской школы считали важнейшей чертой языковых систем их функциональное
назначение, практическое использование языка»2.
Представление о необязательности в системе культуры совпадения текста
и функции (например, когда поэтическая функция обслуживается
прозаическими текстами, и наоборот) особенно существенно при изучении переходных
эпох со сдвинутой системой социальных ценностей. Оно получило признание
в современной типологии культуры, которая различает типы культур,
ориентированные на строгое соответствие текстов функциям (яркий пример —
классицизм) и на разного рода сдвиги и конфликты между этими системами
(барокко, ряд течений в искусстве XX в.).
1 Мукаржовский Я. Исследования по эстетике и теории искусства. М., 1994. С. 138.
2 Ответы на лингвистические вопросы (к IV Международному съезду славистов).
М., 1958. С. 50—51. Курсив мой. — Ю. Л.
Ян Мукаржовский — теоретик искусства
469
Принципиальным для Мукаржовского было и положение о том, что
эстетическая функция не есть монопольное достояние искусства. Эстетическая
функция свойственна всем видам человеческой деятельности, в сфере искусства
она лишь доминирует. Такой подход хорошо объясняет известные факты,
когда один и тот же текст в одних коллективах воспринимается как
принадлежащий искусству, а в других — нет или совершает миграцию из области
искусства в нехудожественную сферу, и наоборот. Стоит в том или ином
тексте воспринять эстетическую функцию как доминирующую (так мы
относимся теперь к древнерусскому летописанию), и этот текст становится
искусством, хотя для современника вопрос решался иначе. То же самое можно
было бы сказать и о средневековой иконописи. Для аудитории, к которой
она была обращена, доминирующей являлась религиозная функция, и
естественным — вернее, единственно возможным и обеспечивающим
восприятие — местом живописного произведения был храм или иконостас —
сакральное пространство храмового помещения. Для современного зрителя в
том же тексте может доминировать эстетическая функция. В этом случае он
перевешивает икону Рублева в музей.
Другой существенный аспект социального истолкования искусства в
работах Мукаржовского 1930-х гг. — проблема нормы. Вопрос этот
разрабатывался в работе «Эстетическая функция, норма и ценность как социальные
факты» и в специальной статье «Эстетическая норма» (1937).
Введение понятия нормы, представляющей третье начало по отношению
к «языку» системы и ее «речи» (в терминах Ф. де Соссюра), представляло
существенное новшество. Здесь не место оценивать значение понятия нормы
в собственно лингвистических трудах Пражского кружка. Введение этой
эстетической категории представляло большой шаг вперед в осознании самого
механизма художественного воздействия. Причем природа нормы в
лингвистике и эстетике, как обнаружилось, глубоко отлична. Общеизвестно, что
нарушение общеобязательных языковых правил превращает лингвистический
текст в бессмысленный и, следовательно, приводит к его разрушению. В
художественном тексте нарушение правил — один из наиболее
распространенных случаев образования новых значений и увеличения смысловой
насыщенности текста. Обращает на себя внимание и другой аспект проблемы: с
лингвистической точки зрения нет никакой разницы, слышим ли мы данный
текст в первый раз или он давно нам известен. Все равно собственно языковая
ткань текста для человека, владеющего языком, ничего нового не несет.
Иное дело художественный текст. Здесь сама его система должна
постоянно обновляться в сознании аудитории. Языковой текст не знает понятия
эпигонства, а для искусства рождение абсолютно «правильного», но
абсолютно мертвого произведения — вопрос столь же частый в практике, сколь
загадочный в теории («правильный» здесь — соответствующий эстетической
теории; романтизм требовал «неправильных» текстов, и, с его точки зрения,
только неправильные тексты были «правильными», но ни такое нарушение,
ни такое соблюдение правил еще не обеспечивают появление живого
искусства).
470 СТАТЬИ. ЗАМЕТКИ. ВЫСТУПЛЕНИЯ. I. Общие проблемы искусства
Введение понятия нормы значительно прояснило этот сложный и
запутанный вопрос. Оно позволило увидеть в художественной конструкции
обязательное противоречие, преодоление которого требует творческого усилия
и сопряжено с талантом. Разработка понятия структурного напряжения
составляет одно из крупнейших завоеваний чешского структурализма. Это
вносило в понимание структуры энергетический момент. В работе «Эстетическая
норма» Мукаржовский указывал, что там, где речь идет о деятельности,
ориентированной на норму, «ограничение, организующее эту деятельность, само
по себе также носит характер энергии»1. Следует отметить, что в советском
литературоведении в аналогичном направлении работала мысль Ю. Н.
Тынянова, для которого динамизм соотнесения структурных рядов и понятие
доминанты также определяли интерес к энергетическим показателям текста.
Рассматривая норму как «регулирующий энергетический принцип»,
Мукаржовский противопоставляет статическому пониманию закономерностей,
регулирующих художественный текст, динамическую модель: «Норма — это,
скорее, энергия, чем правило»2.
Динамический характер нормы проявляется в двусторонней обратной
связи ее с текстом: «Вследствие своего динамического характера норма
подвержена непрерывным изменениям; можно даже предположить, что всякое
применение какой бы то ни было нормы ко всякому конкретному случаю
неизбежно является в то же время изменением нормы: не только норма
оказывает влияние на формирование конкретного факта (например,
художественного произведения), но одновременно и конкретный факт влияет на
норму»3. Динамизм проявляется и в другом, более глубинном свойстве
искусства: художественный текст живет в одновременной проекции на несколько
норм, поэтому соблюдение некоторых из них оказывается нарушением других.
Сложное переплетение нарушений и выполнений норм и структурное
напряжение между различными нормирующими системами и движущимся в их
семантическом поле текстом придают художественному произведению
динамический, жизненный характер. Считая, что произведение искусства предстает
«перед нами как сложное переплетение норм», Мукаржовский указывал:
«Специфический характер эстетической нормы заключается в том, что она
более склонна к тому, чтобы ее нарушали, чем к тому, чтобы ее соблюдали...
это, скорее, ориентировочная точка, служащая для того, чтобы дать
почувствовать меру деформации художественной традиции новыми традициями».
И далее: «Множественность норм, которые содержатся в художественном
произведении, предоставляет, таким образом, широкие возможности для
создания того неустойчивого равновесия, каковым является структура
произведения»4.
Из приведенных цитат видно, что самое понятие структуры приобрело
у Мукаржовского динамический характер и стало инструментом гибкого
1 Мукаржовский Я. Исследования по эстетике и теории искусства. С. 162.
2 Там же. С. 163.
3 Там же.
4 Там же. С. 166, 168.
Ян Мукаржовский — теоретик искусства
471
моделирования, которое единственно и может адекватно отразить столь
сложные объекты, как искусство.
Имеет смысл остановиться на одной более частной, но чрезвычайно
интересной мысли нашего автора. Исходя из тезиса о том, что эстетическая
функция присуща не только искусству, а разлита во всей деятельности
человека, он отмечает, что отношение к норме в эстетическом переживании
искусства и не-искусства различно. Если художественный текст живет на
пересечении многих эстетических норм, то вне искусства эстетическая функция
имеет тенденцию стабилизироваться, подчиняясь какому-либо одному
нормативу. Поэтому в сфере искусства нормы все время дискредитируются, а
вне его — утверждаются. Быт формирует неподвижные художественные
вкусы, искусство — динамические. Наблюдение это отличается большой
глубиной. Оно раскрывает обмен эстетическими функциями между искусством
и не-искусством не как автоматически и бесконфликтно протекающий процесс,
а как сложную и драматическую борьбу. Хорошо объясняется и
революционная роль искусства, и омещанивание оседающих в быту художественных
форм. В наше время, когда проблема «массовой культуры» приобретает все
большую остроту, необходима концепция, которая объяснила бы, почему
имитации, заменяющие искусство конвейерными шаблонами, не просто
неудачные произведения, а ударные отряды борьбы с искусством.
Вместе с тем Мукаржовский подчеркнул лишь одну сторону вопроса.
Важно напомнить, что внехудожественная эстетика может играть не только
тормозящую, но и революционизирующую роль, давая материал для
обновления языка искусства.
Рассмотрение произведения искусства как социального факта
Мукаржовский увенчивает анализом проблемы ценности. Это развитое им с большой
оригинальностью учение имеет целью включить внутренне самостоятельную
структуру художественного произведения в общую структуру социальной
действительности. Эстетическая ценность — «процесс, определяемый, с одной
стороны, имманентным развитием самой художественной структуры (ср.
актуальную традицию, на фоне которой оценивается каждое произведение), с
другой — движением и сдвигами в структуре общественного бытия»1.
Применение к искусству аксиологического анализа остается актуальным и для
наших дней. Отметим здесь лишь один аспект проблемы.
К числу наиболее сложных вопросов современного искусствоведения
относится проблема измерения художественной информации. Анализ
множественности норм раскрывает каждое конкретное художественное явление как
выбор из некоторого множества возможностей, до определенного момента
равноценных. Степень непредсказуемости этого выбора будет мерой
количества информации, заключенной в тексте. Хотя Мукаржовский работал над
интересующими нас трудами задолго до возникновения самой теории
информации, мысль его явно двигалась в направлении, предвосхищавшем будущее
развитие науки. В тексте лекции «Задачи общей эстетики» он писал: «Каждый
1 Мукаржовский Я. Исследования по эстетике и теории искусства. С. 95.
472 СТАТЬИ. ЗАМЕТКИ. ВЫСТУПЛЕНИЯ. I. Общие проблемы искусства
последующий этап одновременно и необходим и случаен — необходим
постольку, поскольку он основывается на предшествующем этапе, случаен —
и, следовательно, непредсказуем, — потому, что нельзя заранее предвидеть,
какая из двух взаимодействующих сил возобладает в данную минуту»1.
Однако если трактовка художественного акта как исчерпания некоторой
исходной неопределенности (термин акад. А. Н. Колмогорова) ведет нас к
измерению количества информации, то вводимое Мукаржовским понятие
ценности ставит вопрос о путях оценки ее качества. Здесь исследователь
затронул вопрос, в такой мере обгоняющий его время, что и ныне наука не
имеет его решения. Тем важнее сама постановка вопроса.
***
Следующий этап в теоретическом развитии Мукаржовского был связан
со стремлением проникнуть в сущность того, что составляет индивидуальность
художественного текста. Работы этого периода также сохраняют актуальность
для современного читателя. Критики идей, в развитии которых Мукаржовский
принимал активное участие, неоднократно высказывали мысль о том, что
семиотические методы применительно к искусству не способны охватить
область индивидуального своеобразия текста, а именно в этом усматривалась
неповторимость искусства. При этом упускалось из виду, что природа
индивидуального в искусстве и жизни глубоко различна. Индивидуальное в
жизни — это внесистемное, то, что выпадает из общих закономерностей.
Индивидуальное в искусстве возникает на пересечении нескольких
закономерностей, одновременно принадлежа нескольким структурам. Таким
образом, то, что, с точки зрения одной структуры, предстает как неожиданное и
непредсказуемое, с позиции другой раскрывается как закономерное и наиболее
значимое. Поэтому путь к познанию индивидуального в искусстве состоит
не в отказе от включения каждого отдельного факта в общие закономерные
структуры (это путь не к познанию искусства, а к уничтожению его
коммуникативной функции), а в умножении числа этих структур и осознании
сложности, диалектической «игры» их взаимопересечений.
Стремясь понять произведение искусства как неповторимый
индивидуальный факт, Мукаржовский видел в этом развитие идей предшествующего
периода, а не отказ от них.
В основу подхода было положено представление о том, что
индивидуальное и всеобщезакономерное не только не оторваны друг от друга, но,
напротив, друг без друга невозможны и взаимно друг в друге нуждаются.
Чем отчетливее ощущает читатель общие художественные модели, на фоне
которых функционирует данный текст, тем живее его чувство
индивидуальности и неповторимости, возникающее от восприятия произведения как
сложного сочетания выполнений и нарушений норм внеположенных тексту
художественных «языков».
1 Мукаржовский Я. Исследования по эстетике и теории искусства. С. 137.
Ян Мукаржовский — теоретик искусства
473
Вместе с тем только возможность нарушения общих закономерностей
оживляет у аудитории чувство системности, избавляет художественные
«языки» от постоянно висящей над ними угрозы автоматизироваться в
сознании потребителей, то есть сделаться незаметными, как бы «перестать
существовать». В отличие от языка как лингвистической системы,
автоматизация для языка искусства — смерть. Поэтому нарушение, «ошибка» в
естественном (например, русском) языке и в «языке романтизма» играют
совершенно различную роль. Язык как лингвистическое понятие может
существовать без отклонений от нормы (если естественные языки все же существуют
в постоянном конфликте между употреблением и нормой, то искусственные
языки, например язык уличной сигнализации, или метаязыки наук не
допускают не только ошибок, но и вариативности и синонимии), языки искусства
вне таких отклонений невозможны.
Если усвоить противоречивую соотнесенность индивидуального и
всеобщего в искусстве, то не будет казаться удивительным, что интерес к
индивидуальному стимулировал у Мукаржовского появление ряда работ,
посвященных общим художественным структурам.
Так рождается, с одной стороны, цикл работ, трактующих проблему
отношения личности автора к тексту произведения, а с другой — отношения
отдельного текста к такой общей модели, как язык данного искусства.
В 1937 г. на X Международном конгрессе по эстетике и искусствоведению
Мукаржовский делает доклад «Личность в искусстве», идеи которого были
им в дальнейшем развиты в ряде статей.
Работы Мукаржовского по теории поэтического языка, написанные в
конце 1930 — начале 1940-х гг., знаменовали собой значительный шаг вперед.
Сам Мукаржовский в статье «О поэтическом языке» (1940) счел необходимым
подчеркнуть это. Оценивая работы рассматриваемого этапа как
«окончательное преодоление формализма», он писал: «Десять лет назад на первый план
наиболее заметно выступала звуковая сторона поэтической речи; из вопросов,
связанных со значением, в поле зрения были преимущественно лишь проблемы
лексики и ее поэтического использования. Сейчас на первый план вьщвинулись
проблемы значения, даже при изучении самой звуковой стороны языка, а из
них, в свою очередь, представляется наиболее настоятельной проблема
взаимоотношения смысловой статики и динамики и в связи с ней вопросы
смыслового построения»1.
Стремление взглянуть на всю систему поэтического языка как на сложную
иерархию смысловых отношений составляет основу работы «О поэтическом
языке». Прежде всего, автор определяет само понятие «поэтический язык».
Он отводит определения поэтического языка как ориентированного на
«красоту» (широко известны случаи нарочитой антиэстетичности поэтического
языка), эмоциональность (возможна внеэмоциональная поэтическая речь и
эмоциональная речь вне поэзии), «образность» (ср. демонстративный отказ
классицизма от образности в поэзии) и т. д. Единственной основой опреде-
1 КСР, I. S. 127.
474 СТАТЬИ. ЗАМЕТКИ. ВЫСТУПЛЕНИЯ. I. Общие проблемы искусства
ления поэтического языка является его функция, «но функция — это не
свойство, а только способ использования свойств данного явления»1. Таким
образом, поэтический язык — не пласт в национальном языке, а способ его
употребления.
Каково же это употребление?
Смысл позиции Мукаржовского в анализируемой работе можно
резюмировать следующим образом. В естественном языке план выражения и план
содержания отчетливо разделены. Но, хотя отношение между ними
исторически конвенциально и в этом смысле условно для каждого отдельного
индивида, оно представляется наперед данным и не подлежащим изменению.
Поэтому сфера языкового выражения автоматизируется и, являясь средством
передачи значений, собственного значения не имеет.
Поэтический язык делает семантически насыщенной и ту область, которая
вне поэзии выступает как чисто формальная, — область языкового
выражения. Поэтому раскрыть поэтическую функцию языка означает обнаружить
механизмы, за счет которых ликвидируется автоматизм соотношения между
содержанием и выражением и в них вносится дополнительная свобода,
делающая самый выбор того или иного их соотношения источником новой
информации. Эта свобода тем ощутимее, чем — и тут перед нами очередной
парадокс искусства — более непосредственным кажется на первый взгляд
соотношение выражения и содержания в искусстве. Искусство как бы отменяет
ковенциальность языковых знаков и заменяет их иконическим принципом,
подразумевающим непосредственное «сходство» содержания и выражения.
Но одновременно протекает и противоположный процесс: соотношение
выражения и содержания каждый раз предстает как акт индивидуального и
сознательного выбора и, следовательно, насыщается содержанием, делается
средством передачи информации. Располагая исследование по уровням
языковой структуры, Мукаржовский показывает, как на каждом из них языковой
механизм представляет в распоряжение художника некоторое множество
структурно или функционально равноценных элементов. Выбор одного из
них — акт творчества. Высказанные здесь идеи позже, когда возникла теория
информации, блестяще подтвердились и получили новую, более глубокую
интерпретацию.
Особый интерес представляет тот раздел статьи, в котором Мукаржовский
определяет понятие поэтической лексики. Выделяя в слове два
коммуникационных аспекта — обозначение и номинацию, Мукаржовский анализирует
сущность номинативного акта в искусстве. В обычном языковом употреблении
номинация — обозначение данного явления или предмета данным словом —
автоматизирована. Поэт вносит в это отношение свободу. Он находится в
позиции мифологического демиурга, который идет по еще не имеющему
названий миру и обозначает безымянные предметы. Сходство поддерживается
здесь тем, что и в поэзии, и в мифологии наименование рассматривается как
сотворение. Поэтическое называние есть первое называние, и именно так оно
ι КСР, I. S. 80.
Ян Мукаржовский — теоретик искусства
475
должно восприниматься читателем. Делая акт поэтического наименования
сознательным и творческим, поэт значительно более глубоко проникает в
сущность мира, чем тот, кто ограничивается раз навсегда установленной
языковой системой называния. Но индивидуальная поэтическая номинация
оказывается одновременно и картиной мира, видимого глазами поэта.
Раскрытие в поэтической номинации пластов, принадлежащих различным
историко-культурным моделям (национальной культуре, эпохе, социальной группе,
течению в искусстве, индивидуальным данным автора), позволяет конкретно
решить проблему диалектики закономерного и индивидуального в каждом
художественном тексте.
Меру значимости Мукаржовский видит в степени сдвига значения в слове
по отношению к общеязыковой норме: «Существует... возможность
искусственно актуализировать номинационный акт и даже поднять то или иное
наименование на уровень первоначального путем выбора для номинации
данной вещи необычного для нее слова. Здесь есть несколько ступеней: прежде
всего, может быть выбрано слово хотя и связанное с данной вещью, но
реально редко с нею соединяемое, то есть отдаленный синоним обычного ее
обозначения; более высокая ступень оживления номинационного акта имеет
место в том случае, если для номинации взято слово, чаще всего связываемое
с другой вещью, — это образное наименование; самая высокая ступень
актуализации номинационного акта — выбор образного наименования из
смысловой сферы, совершенно чуждой обычному наименованию: тут образ
поднимается уже до уровня первоначального наименования»1.
Высказанная Мукаржовским мысль очень глубока. Однако на ней лежит
в известной мере печать художественного опыта, наиболее близкого и
органичного чешскому теоретику. Если привлекать более широкий эстетический
материал, то станет очевидно, что в разных культурах наибольшая
номинационная свежесть может достигаться различными средствами. В системе,
которая допускает сдвиг, нереализация сдвига может производить гораздо
более сильное впечатление, чем ^го осуществление.
При «расшатывании» связей между словом и обозначаемым им объектом
возникает возможность окказиональных поэтических значений, которые
складываются в системы поэтических синонимов и поэтических омонимов:
«Поиски языкового выражения при номинации осуществляются одновременно в
двух направлениях: с одной стороны, в синонимическом ряду (различные
возможные наименования для одной и той же вещи), с другой — в
омонимическом ряду (различные возможные значения одного и того же слова).
Итак, при номинации язык рассматривается с точки зрения наименованной
действительности (синонимичность), а наименованная действительность — с
точки зрения данной лексической системы (омонимичность). Лексическая
система и действительность всегда при этом, если не реально, то хотя бы
потенциально, противопоставляются друг другу и приводятся в движение как
целые, ибо и синонимический ряд, и омонимический ряд виртуально беско-
1 к£р, I. S. 111.
476 СТАТЬИ. ЗАМЕТКИ. ВЫСТУПЛЕНИЯ. I. Общие проблемы искусства
нечны. В идеале всякая вещь может быть обозначена любым словом и,
наоборот, любое слово может обозначать любую вещь»1.
Следует отметить, что исследование окказиональных рядов поэтических
синонимов и омонимов на фоне семантической структуры естественного
языка и в настоящее время представляет собой один из наиболее действенных
инструментов анализа индивидуального поэтического видения мира.
Существенным аспектом модели поэтического языка, создаваемой Му-
каржовским, является антиномия статического и динамического в поэтическом
тексте. Обе эти тенденции одновременно присутствуют в художественном
произведении, и только их взаимное напряжение создает его «неустойчивое
равновесие».
Статика поэтической конструкции сконцентрирована в слове и
проявляется в тенденции воспринимать надсловесные единства (фразу, строфу, главу,
в конечном итоге — весь текст) как слово. Это та тенденция, которую имел
в виду Потебня, определяя художественный текст как большое слово. Об
этом же превращении слов в слово Пастернак писал:
Что ему почет и слава,
Место в мире и молва
В миг, когда дыханьем сплава
В слово сплочены слова1.
Динамическая тенденция проявляется при соединении слов в ряды.
Минимальной единицей, находящейся на грани статики и динамики, является
пара слов. Мукаржовский отмечает сложные типы отражения значений одного
слова в другом. Здесь мы имеем дело с тем принципом, который был на
примере киноповествования тщательно изучен Ю. Тыняновым и С.
Эйзенштейном и получил название «монтажного эффекта». Переходя от слова к
предложению, мы преступаем границу между статикой и динамикой значения.
Динамическое значение открывает в отдельном слове его зависимость от
контекста. Если в статическом отношении целое складывается из частей, то
в динамическом оно делится на части. В первом случае мы восходим от
слова к предложению, во втором — от предложения к слову.
Последний параграф работы посвящен проблеме монолога и диалога.
Следует отметить, что к началу 1940-х гг. этот вопрос, несмотря на
новаторские работы Л. П. Якубинского, М. М. Бахтина и Е. Д. Поливанова,
был не только мало изучен, но и степень его важности осознана была далеко
не полностью. Чуткость Мукаржовского к актуальным научным проблемам
проявилась, в частности, и в том, что, говоря о различии между
монологической и диалогической речью, он в качестве отправной точки избирает
работы Волошинова, которые, как известно, на самом деле в значительной
мере принадлежали перу M. М. Бахтина. Диалог Мукаржовский понимает
так, как это принято и современной наукой3, — как смену структурных точек
ι КСР, I. S. 111.
2 Пастернак Б. Стихотворения и поэмы. М.; Л., 1965. С. 384. Курсив мой. — Ю.Л.
3 См.: Успенский Б. А. Поэтика композиции. М., 1969.
Ян Мукаржовский — теоретик искусства
477
зрения. В этом смысле утверждается, что текст может иметь характер
монолога, даже будучи формально поделен между несколькими персонажами, или,
напротив, являть собой диалог, несмотря на внешнюю приписанность одному
лицу. «Диалогичность не возникала здесь лишь как результат
драматургической переработки, последняя только выявила эту диалогичность... В качестве
примера противоположного явления, то есть монологичности, скрытой в
диалоге, можно привести некоторые места из пьес символистов, в особенности
Метерлинка, где отдельные высказывания действующих лиц так тесно
примыкают друг к другу, что, собственно, образуют связный монологический
контекст, поделенный между несколькими партнерами»1.
***
Одной из особенностей творчества Мукаржовского как ученого является
широта охвата материала, своеобразный искусствоведческий энциклопедизм:
теоретические работы в области эстетики и гносеологии искусства сочетаются
у него с конкретными исследованиями художественной литературы, живописи,
театра и кинематографа. Широкий диапазон исследований в сочетании с
лингвосемиотической методикой анализа не только делают
искусствоведческие штудии Мукаржовского явлением, уникальным в европейской
эстетической литературе, но и придают им глубоко современное звучание.
При изучении произведений искусства Мукаржовский сосредоточивает
свое внимание на анализе художественного языка, отделяя его от
тематического содержания произведений. При этом он отвергает как отрыв искусства
от действительности, так и нежелание видеть специфику художественного
отражения жизни. Искусство связано с действительностью сложными
опосредованными связями, которые имеют и обратную направленность: испытывая
воздействие действительности, искусство активно воздействует на нее.
Разработка теории знаковое™ в изобразительных искусствах — одна из
наиболее важных сторон концепции Мукаржовского.
Особый интерес представляют работы Мукаржовского по теории кино.
Опираясь на труд Ю. Н. Тынянова, теоретиков чешского кино, концепцию
монтажа С. Эйзенштейна и практику мирового кинематографа от Дзиги
Вертова до Чарли Чаплина, Мукаржовский закладывает теоретические основы
семиотики кино, которые и для настоящего времени имеют отнюдь не
историческое значение.
Наиболее современна разработанная Мукаржовским теория
кинематографического пространства и времени.
Рассматривая кинематограф как искусство, по многим линиям
пересекающееся с театром, живописью и литературой, Мукаржовский исходит из
положения, что участвовать во взаимодействии, разного рода креолизациях,
оказывать или испытывать влияние может только система с оформившейся
и определившейся имманентной структурой. Поэтому, прежде чем испытывать
ι КСР, I. S. 122.
478 СТАТЬИ. ЗАМЕТКИ. ВЫСТУПЛЕНИЯ. I. Общие проблемы искусства
или оказывать влияние как искусство, кинематограф должен был стать
кинематографом, то есть найти свой специфический художественный язык.
В числе отличительных особенностей языка кинематографа Мукаржовский
выделяет специфику моделирования времени и пространства как «одну из
глав гносеологии кино». Автор прежде всего отгораживает понятие
кинопространства от пространства театрального. Здесь теория повторяет путь,
которым прошла история кино: самоосознание специфики и выработка
собственного художественного языка пришли в кинематограф через отталкивание
от наиболее близкого из ранее сформировавшихся искусств — театра.
Театральное пространство отличается от кинематографического тем, что
оно трехмерно. Разница здесь не только в несоответствии трех- и двухмерного
пространства, но и в варьировании отношения к изображаемому объекту: в
театре степень мерности объекта и изображения совпадают, в кино мы имеем
дело с переводом одной системы измерений в другую, объемное
трансформируется в плоское. В результате возникает любопытный парадокс.
Кино воспринимается зрителем как зрелище, более непосредственно
отражающее жизнь «в присущих ей формах». «Театральность» в применении
к кино звучит как синоним «искусственности». Однако, как мы видим,
кинопространство на самом деле более условно, представляя собой перевод
трехмерного мира на двухмерное пространство экрана.
По характеру проективной трансформации кино значительно ближе к
живописи. Мукаржовский указывает еще на одну линию совпадения живописи
с кино: в театре содержащиеся в пространственном континууме актер и
неживые предметы сценического антуража (декорации, реквизит) резко
разграничены по функциям. Если рассматривать театральный спектакль как
текст, то именами в нем в соответствии со спецификой данного
художественного языка могут быть только актеры. «Неживые» участники спектакля
выступают лишь в качестве атрибутов имен. Иное дело в живописи и кино.
Здесь природа раскадровки, возможность замены фигуры человека деталью
его тела, соотношение величины человеческих фигур и границы
художественного пространства приводят к тому, что именами художественного
текста — самостоятельными носителями художественных значений — могут
выступать в равной мере фигуры людей, части человеческих тел и любые детали
«неживого» окружения. Кстати, здесь мы впервые сталкиваемся с тем, что
сущность кинопространства оказывается коррелятивно соотнесенной с
проблематикой кадра.
Указывая на общность приемов оживления пространственной иллюзии в
кинематографе и живописи, Мукаржовский отмечает, что один «из них
заключается в диаметральном переосмыслении обычного понимания глубины
иллюзорного пространства: вместо того чтобы, как принято, вести взгляд
зрителя в глубину картины, его ведут из глубины картины; этим средством
щедро пользовалась, например, барочная живопись; в кино этой цели служит,
в частности, направление жеста (человек, стоящий на переднем плане кадра,
наводит на публику револьвер) или направление движения (поезд выходит
как бы перпендикулярно плоскости экрана). Другой способ усиления
пространственной иллюзии — взгляд снизу или сверху, например взгляд с верх-
Ян Мукаржовский — теоретик искусства
479
него этажа глубоко вниз, во двор; в таких случаях иллюзия усиливается
актуализацией положения осей глаз: в действительности оно горизонтальное
(у зрителя, смотрящего на картину), картина же предполагает почти
вертикальное. Оба эти средства кино разделяет с живописью»1. При этом особенно
интересно, что кинематограф при решении пространственных проблем
ориентируется не на реалистическую живопись XIX столетия, а на художников
барокко, стремясь дать изображение, не умещающееся в границах,
положенных ему по его собственным законам. Можно привести многочисленные
примеры воздействия на кинопространство пространственных решений как
раз наиболее удаленных от кинематографа эпох живописи.
Но совпадение пространственной структуры живописи и кино еще не
раскрывает специфики этого последнего. Для установления ее необходимо
остановиться на различиях.
Основу отличий в пространственной структуре кино и живописи
Мукаржовский видит в монтаже — способности кинематографа к перемене
структурной точки зрения. Изменение структуры пространства, активизирующее
признаки плана и ракурса, определяет то специфическое, что вносит в
пространственный язык искусства кинематограф. Мукаржовский указывает также
на то, что разъединение звука и изображения создает некоторый
дополнительный пространственный континуум. Кинематографическое пространство
не дано в отдельном кадре, но строится из совокупности кадров, как
предложение из слов. «Специфически кинематографическое пространство, не
являющееся ни действительным, ни иллюзорным, представляет собой
пространство-значение»2. «Смысловой характер кинематографического пространства»
Мукаржовский сближает с семиотичностью художественного пространства в
литературе. Однако и здесь автору удается раскрыть существенные различия.
Так вырисовывается — на скрещении различных сфер искусства — специфика
кинематографа. Не менее ярко проявляется она и в сфере художественного
времени.
В этом отношении кино, по мнению Мукаржовского, «находится
посредине между временными возможностями драмы и эпики». Время в театре
развертывается параллельно и в одинаковом темпе и на сцене и в зрительном
зале. «Отсюда то свойство драматического времени, которое Зих называет
транзиторностью. Смысл этого термина в том, что в качестве происходящего
в настоящее время мы воспринимаем только тот отрезок действия, который
развертывается перед нашими глазами, между тем как все то, что ему
предшествовало, поглощено в данный момент прошлым; настоящее же
находится в постоянном движении к будущему»3. В романе время текста вообще
не соотносится с реальным временем чтения. Это открывает широкие
возможности для того, что Мукаржовский именует «резюмированием действия».
Содержание любого временного отрезка может быть вмещено в одну
фразу текста.
1 Мукаржовский Я. Исследования по эстетике и теории искусства. С. 399—400.
2 Там же. С. 402—403.
3 Там же. С. 411, 412.
480 СТАТЬИ. ЗАМЕТКИ. ВЫСТУПЛЕНИЯ. I. Общие проблемы искусства
Киновремя обладает резко выраженной моделирующей спецификой.
Приближаясь по ряду показателей к театральному, оно обладает резюмирующей
способностью, как в эпическом повествовании. Подобно эпике, кино обладает
способностью временного возврата. Правда, когда автор полагает, что
одновременность действия доступна лишь немому кино с титрами (здесь он
присоединяется к выводам Р. О. Якобсона), то есть зависит от вторжения в
киноповествование слова, то читателю приходит на память параллельный
монтаж, являющийся, безусловно, кинематографическим адекватом таких
словесных выражений, как: «А в это время...» или «Пока это происходило...».
В связи с этим положение Мукаржовского, согласно которому «с переходом
от немого кино с титрами к немому кино без титров и затем к звуковому
кино уменьшаются возможности временных сдвигов»1, кажется навеянным
конкретным опытом кинематографа тех лет. Сейчас кино успешно передает,
не прибегая к титрам, такие сложные временные сдвиги, как переход к
сослагательному наклонению повествования и аналогичным формам
нереального времени. Яркий пример тому — новаторское в момент своего
создания «Прошлым летом в Мариенбаде» Алена Рене. Зато раскрытие близости
киновремени временной структуре лирики представляется глубоко
плодотворным.
Мы уже отмечали, что Мукаржовский начиная со второй половины
1930-х гг. проявлял устойчивый интерес к проблеме личности в искусстве.
Это тем более существенно, что среди предрассудков, циркулирующих в
малоосведомленной среде, существует и представление, согласно которому
структурное изучение исключает интерес к личностному началу в искусстве.
Поэтому не случайным в творческом наследии ученого выглядит «Опыт
структурного анализа актерской индивидуальности (Чаплин в „Огнях
большого города")» (1931). Этот сжатый очерк тем более примечателен, что
объектом его оказывается такой своеобразный художник, как Чаплин,
который, казалось бы, менее всего подходил для упражнений в структурном
анализе. В Чаплине — враге монтажа и звука, упорно сохранявшем
консервативные приемы техники, ставившем в центр тонкость актерского рисунка, —
многие в 1930-х гг. видели противника тех сил, которые искали самобытность
киноязыка. Чаплин и Эйзенштейн воспринимались как антиподы, и, конечно,
естественнее было бы считать, что ленты Эйзенштейна или Вертова —
наиболее близкий объект для ученого-структуралиста.
Такой взгляд может быть продиктован лишь непониманием сущности
научного метода Мукаржовского и очень поверхностным представлением о
структурализме. Заметим в скобках, что противником линии Вертова —
Эйзенштейна (при всех разногласиях в этом они были едины) на замену
актера монтажом, то есть режиссером, был и Б. М. Эйхенбаум, как об этом
свидетельствуют его интересные работы о роли актера в кино.
Стремясь раскрыть природу актерской индивидуальности, Мукаржовский
(здесь он опирается на работу П. Г. Богатырева) исходит из представления
1 Мукаржовский Я. Исследования по эстетике и теории искусства. С. 416.
Ян Мукаржовский — теоретик искусства
481
о том, что личность художника — звено в коммуникационной цепи:
передающий — текст — принимающий. Индивидуальность героя Чаплина
образуется на скрещении двух жестовых языков: один — «жесты-знаки» — связан
с обликом Чарли — светского человека (внешне символизируется шляпой-
котелком, тросточкой, галстуком-бабочкой), другой — «жесты-экспрес-
сии» — отнесен к Чарли-бродяге, бедняку и неудачнику (внешне закреплен
незабываемыми ботинками и рваной одеждой). Совмещение этих двух типов
поведения, двух жестовых языков порождает неповторимое индивидуальное
своеобразие актерской личности. Двойственность, «билингвизм» образа
раскрывается тем, что герою даны два спутника: слепая девушка и пьяница
миллионер, каждый из которых в силу специфики неполноты восприятия
(слепота, опьянение) «снимает» лишь один из языковых пластов его личности.
Девушка имеет дело со светским львом, миллионер — с простодушным и
эмоционально-непосредственным другом. Неузнавание героя протрезвевшим
миллионером и прозревшей девушкой заставляет зрителя «узнать»
нерасторжимую двойственность личности Чарли.
***
Труды Мукаржовского написаны более полувека назад. О них можно
с полным основанием сказать, что они выдержали испытание временем.
Более того, бурное развитие семиотических исследований в 1960—1980-х гг.
подтвердило плодотворность заключенных в них идей. В настоящее время
особенно остро ощущается потребность обдумать дальнейшие пути
развития. Далеко не все надежды оправдались, но и многие торопливые
разочарования также вызывают сомнение. Надо глубоко и хладнокровно
осмыслить пройденные пути. Гегель некогда сказал: «Движение вперед есть
возвращение к первооснове». В науке об искусстве сочинения Мукаржовского —
часть той первоосновы, возвращение к которой сейчас звучит по-новому
актуально1.
1994
1 В работе над настоящим очерком мы широко пользовались любезными
консультациями О. М. Малевича, выразить которому живейшую благодарность считаем
приятной обязанностью.
П. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Художественная природа русских
народных картинок
Одним из основных препятствий при определении художественной
природы русского лубка является устоявшийся взгляд на это глубоко своеобразное
явление сквозь призму жанрового деления искусств, активно
функционирующих в среде, социально и культурно чуждой народному творчеству. Конечно,
после того переворота, который произошел в XX в. во взглядах на
художественное достоинство так называемых примитивных видов искусства, никто
уже не говорит о художественной неполноценности лубка. Гораздо чаще
можно встретить рассуждения о значении народной картинки для развития
«большой» живописи, об эстетических достоинствах народной графики.
Однако одобрения эти имеют ту же основу, что и раздававшиеся прежде
осуждения: лубок объявляется уже не примитивным и неумелым, а
своеобразным видом графики, но, по-прежнему, функционально однотипным другим
формам графического искусства. Смысл настоящей статьи в том, чтобы
показать, что лубок живет не в мире разделенных и отдельно
функционирующих жанров, а в особой атмосфере комплексной, жанрово не разделенной
игровой художественности, которая органична для фольклора и в принципе
чужда письменным формам культуры (станковая живопись типологически
принадлежит к словесно-письменному этапу культуры). Фольклорный мир
искусства задает совершенно особую позицию аудитории. В рамках
письменной культуры аудитория «потребляет» текст (слушает или читает, смотрит).
В атмосфере фольклорности аудитория играет с текстом и в текст. Чтобы
понять, что имеется в виду, следует вспомнить хорошо известный многим
по личным наблюдениям и отмеченный в педагогической литературе эффект
переживания «картинок» детьми. Дети не «смотрят», а рассматривают
иллюстративный материал, трогают его и вертят и, если текст произвел
впечатление, начинают прыгать, двигаться, кричать или петь.
Из сказанного вытекает, что хотя основной тезис настоящей статьи —
особая природа и текста лубка («текст» здесь и дальше понимается не как
словесная часть гравированного листа, а в семиотическом смысле как
совокупность всех значимых изображений и надписей, составляющих «картинку»),
Художественная природа русских народных картинок
483
и его функционирования в аудитории, и отношения к нему самой этой
аудитории, однако возможны случаи, когда лубок, передвинутый в иной
культурно-художественный контекст, функционирует в ряду обычной графики
(восприятие лубка «культурным» зрителем) или, наоборот, нелубочное
изображение, попав в среду, ориентированную на активное «вхождение в текст»,
функционирует как разновидность «народной картинки». Такие «сдвинутые»
ситуации характерны, например, для соотношения «барочная живопись —
народная картинка» или для совершенно не изученных процессов фолькло-
ризации живописи в XX в. в процессе полиграфического ее воспроизведения.
***
Первое, что бросается в глаза при внимательном рассмотрении русской
народной картинки, это совсем иное, чем в получившем самостоятельное
бытие жанре гравюры, отношение к другим типам искусства. Особенно
органична связь лубка с театром1.
Художественное пространство лубочного листа организовано особым
образом, ориентируя зрителей на пространственные переживания не
живописно-графического, а театрального типа. На это прежде всего указывает мотив
рампы и театральных занавесей-драпировок, составляющих рамку многих
гравированных листов. Так, листы комедии Симеона Полоцкого «Притча о
блудном сыне» — лубочной книжки, гравированной мастером М. Нехоро-
шевским, — воспроизводят сцену с актерами, обрамленную кулисами:
сверху — театральным наметом, а внизу — рампой с осветительными
плошками. Ряд голов зрителей, изображенный внизу, на грани между рисунком
и текстом, уничтожает сомнения в том, что гравюра воспроизводит
театральное пространство.
Изображение сцены создает принципиально иной художественный эффект,
чем рисунок, который зритель относит непосредственно к какой-либо
действительности. Являясь изображением изображения, оно создает повышенную
меру условности. Изображение, делаясь знаком знака, переносит зрителя в
особую, игровую «действительность».
Столь полного и демонстративного выявления театральной природы
изображения, как в «Притче о блудном сыне», мы в других листах не находим.
Однако ярмарочно-балаганно-театральная сущность лубка многократно
выявляется в оформлении рамки картинки, часто стилизованной под занавес
или кулисы. Такова, например, рамка листа «Ах, черной глаз, поцелуй хоть
раз»2 и много других.
1 См.: Ровинский Д. А. Русские народные картинки. СПб., 1881. Т. 5. С. 231 и др.;
Морозов П. Народная драма // История русского театра / Под ред. В. В. Каллаша и
Н. Е. Эфроса. М., 1914. Т. 1. С. 21; Забелин И. Е. Опыты изучения русских древностей
и истории. М., 1873. Ч. И. С. 392; Сакович А. Г. [Вступ. статья] // Русский лубок на
меди XVIII — начала XIX века. М., 1971.
2 Ровинский Д. А. Русские народные картинки. № 122.
484 СТАТЬИ. ЗАМЕТКИ. ВЫСТУПЛЕНИЯ. IL Изобразительное искусство
Однако театральное обрамление не единственный и даже не основной
признак особой «игровой» природы лубочных изображений. Среди наиболее
существенных следует указать на тяготение лубка к маске. Не случайно маска
комического персонажа из итальянской комедии через посредство гравюр
Калло, также имеющих двойную графико-театральную природу (хотя не
исключено и прямое влияние итальянского театра, систематически
гастролировавшего в Петербурге в середине XVIII в. и явившегося одним из мощных
проводников барочной культуры в России), пустила такие глубокие корни в
русском лубке.
Речь идет именно об особом театральном мире, а не только о
воспроизведении условных типов гравюр Калло. Русский лубок не просто подражает
типу маски или одежды, а воспроизводит шутовское поведение. Этим
обнажается ориентация аудитории на динамическое восприятие лубочного текста.
На это указывают не только позы лубочных шутов и дур, но и такие детали,
как, например, в известном листе «Шут Гонос» облако у задней части фигуры
с надписью: «Дух из заду своего испущаю, тем ся от комаров защищаю».
Напомним слова M. М. Бахтина о том, какую «громадную роль играют
скатологические (преимущественно словесные) вольности во время
карнавала»1. Карнавальная природа этой детали подчеркивается еще и тем, что слово
«дух» в надписи дается под титлом как сакральное, но сама надпись, хотя
и воспроизводит слова Гоноса, выходит не изо рта, как это обычно (см.,
например, надпись на листе «Шут Фарное»), а с противоположной стороны,
вместе с «защитительным» облаком.
Не только шутовские сюжеты, но и любовные и эпические ориентированы
на театральное зрелище, игру.
Особенно значителен в этом смысле тип соотношения изобразительного
и словесного текстов. Природа их принципиально иная, чем в современной
книжной иллюстрации. И. Е. Забелин, касаясь видовых изображений райка,
отмечал, что раскрашенная ксилография здесь обретает значение лишь в
единстве с прибаутками раешника. «Раечные картинки, — писал он, — сами
по себе большею частию не имеют никакого значения, но получают
совершенно неожиданные краски при бойком, метком, а иногда и весьма
остроумном пояснении»2.
Словесный текст и изображение соотнесены в лубке не как книжная
иллюстрация и подпись, а как тема и ее развертывание: подпись как бы
разыгрывает рисунок, заставляя воспринимать его не статически, а как
действо. С таким эффектом можно было бы сопоставить «спектакли» юсуповских
времен в театре в Архангельском, которые состояли в смене декораций,
написанных Гонзаго, под звуки оркестровой музыки. Музыка выполняла там
ту же роль, какую речь раешника в демонстрации картинок райка, —
превращала зрелище в повествование, а живописный текст декорации или гра-
1 Бахтин М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и
Ренессанса. М., 1965. С. 159.
2 Забелил И. Е. Опыты изучения русских древностей и истории. Ч. II. С. 392.
Художественная природа русских народных картинок
485
вюры в некоторое подвижное действо (функционально это сопоставимо не
с декорациями в театре, где движение актеров подчеркивает недвижность
фона, а с пейзажем в кинематографе).
Построение словесного текста как развернутого монолога или диалога,
по мере произнесения которого фигуры должны двигаться и совершать
поступки, поддерживается тем, что само графическое изображение лубка
подчинено законам архаической (и детской) техники рисунка, при которой
разные фигуры и различные части рисунка должны «читаться» как
находящиеся в различных временных моментах. Таков, например, лист «Аника-воин
и смерть»1, на котором изображены все разновременные эпизоды сюжета.
Он выступает, таким образом, как свернутая вневременная программа
повествования, которая в процессе восприятия должна развертываться в
протяженный во времени текст.
Пример этот не единичен, он указывает на одну из основных
закономерностей лубка. Приведем еще один пример — лист «Разговор прусского короля
с фельдмаршалом Венделем 30 июля 1759 года». Словесный текст лубка
построен как диалог между королем и Венделем и развернут по временной
оси. Первые реплики относятся к моменту до начала боя.
«Король: Знаешь ли Вендель, я завтра русскую армию буду отоковать
(так! — Ю. Л.) и уповаю, что разобью».
Далее следует обмен репликами в ходе боя, а за ними — меланхолическое
рифмованное заявление короля.
Король: Вендель, баталию я проиграл
и артилерию потерял...
Затем следует предложение «ретироваться в Кистрин», которое заключается
словами Венделя:
«Фельтмаршал: Поздравляю ваше величество с прибытием в Кистрин
благополучно».
Словесный текст, развертываясь во времени, делает это, однако, именно
по законам театра, а не прозаического повествования: описания, рассказа в
тексте нет, между предложением отправиться в Кистрин и сообщением о
прибытии никакой связывающей фразы типа «они отправились» или даже ремарки
«скачут» нет. Аудитория должна здесь по тексту восстановить и вообразить
пропущенные звенья, как делается в детских играх или народном театре.
Изобразительный текст в соответствии с законами данного типа искусств
должен вместо последовательности представить одновременность. Однако
лубок изображает не какой-либо один момент словесного текста, а все эпизоды
одновременно. Атака пруссаков, их поражение, бегство, «ретирада» короля в
Кистрин изображены на синхронной плоскости одного и того же листа.
Особенно интересна центральная часть композиции. Она представляет
королевский шатер и три мужские фигуры, значительно более крупные, чем все
остальные. На первый взгляд непонятно, почему в этой хорошо
скомпонованной группе три, а не две (король и Вендель) фигуры. Всмотревшись, мы
1 Ровинский Д. А. Русские народные картинки. № 751.
486 СТАТЬИ. ЗАМЕТКИ. ВЫСТУПЛЕНИЯ. IL Изобразительное искусство
обнаруживаем, что король входит в группу два раза: сначала он в палатке с
Венделем обсуждает план завтрашнего сражения, а потом, выйдя из нее,
командует битвой. Однако эти «сначала» и «потом» возникают только в процессе
«чтения» листа, на плоскости которого присутствуют как одновременность.
Театрализованная природа лубка, то, что он показывает не бытовые
сцены, а театральные изображения бытовых сцен, проявляется и в характерной
форме раешного стиха. Наряду с монологами типа:
Я детина небогатой
А имею нос горбатой
Собою веема важеватой.
Зовут меня Фарное
Красной нос
Три дня надувался
Как в танцавальные башмаки обувался,
А колпак с пером надел —
Полны штаны набз...л...
или
Ах, черной глаз,
Поцелуй хоть раз —
Тебя свет мой не убудет,
Мене радости прибудет.
Встречается и построение примитивного диалога как соединения двух
монологов. Таково, например, построение листа «Пожалуй поди прочь от
меня» («Кавалер и блинщица»), словесный текст которого легко разбивается
на два монолога:
Пожалуй поди прочь отьменя
Мне дела нет датебя
Пришелъ заж..у хватаешь
Блиновъ печь мешаешь
Заж..у хватать невелятъ
Длятого что блины подгорять
Я тотъ часъ резонъ сышу
Сковородникомъ хвачю
Мне хотя и стыдно
Ате будеть уже обидно
Я вить вас незамаю
Анеотьодешъ сковородником замараю.
Твоя воля изволь бить
Дай толко заж..у хватить
Ибо зело мне показалася миленка
Что ж..ка твоя крутенька
Нарочна ктебе я пришелъ
Ишаслив что одну дома нашелъ
Хотя сплошь всего замарай растворомъ
Я отого небуду здоромъ
Толко любовь надомной покажи
Вместе собою напостелю спать положи.
Художественная природа русских народных картинок
487
Следует попутно заметить, что само содержание этого и многих других
листов — совершенно невозможное, если предполагать, что функциональное
предназначение лубка адекватно картине в «образованном» быту (быть
средством торжественного оформления жилого помещения), — прекрасно
объясняется обстановкой ярмарочного веселья и снисходительностью моральных
норм балаганно-театральной культуры. Конечно, никто из зрителей XVIII в.
не потерпел бы нигде, кроме театра, текстов вроде интермедии «Харлекин,
Старик и Жена»1. Однако на сцене они шли, причем не на сцене ярмарочного
балагана. Интермедия, ярмарка и ее увеселения, ритуализованные формы
календарных праздников, народный театр и лубок — те виды массовых
искусств, которые подразумевали активную игровую реакцию со стороны
аудитории, — подчинялись совершенно особым нормам морали. Конечно,
можно было бы указать на отдаленную генетическую связь их с магическими
актами. Однако такое сближение мало что объяснит в поведении людей,
давно уже забывших о магических актах, провоцирующих плодородие. Дело,
видимо, в том, что фривольная тематика, воспринимаясь аудиторией именно
как запрещенная в других условиях, способствует переключению ее в игровое
поведение, подобно тому как трагическое поведение, для того чтобы перевести
аудиторию в состояние активной деятельности, требует религиозного чувства.
Трагические переживания, отличающие участника религиозного ритуала
от театрального зрителя, определяются наличием религиозного чувства,
делающего его активным соучастником. Балаган отличается от театральной
комедии прямо противоположным по отношению к первой ситуации чувством
дозволенности нарушения моральных запретов. Обе эти противоположности
имеют общую черту: они очерчивают вокруг действия круг, внутри которого
практикуется особое поведение, нормы которого не распространяются на
внележащий обыденный мир2.
1 См.: Одиннадцать интермедий XVIII века / Изд. Общества любителей древней
письменности. СПб., 1915, интермедия № 4.
2 Резкая разграниченность в пределах традиционной православной культуры народно-
художественной «игровой» сферы и торжественно-серьезной области религии делало русский
лубок и икону дистрибутивно противопоставленными в живописном обиходе великорусской
народной культуры, что отличало ее от католической традиции, допускавшей слияние игры
и культа. Ср. обилие иконописного материала в литовском (Lietuviu laudies menas. Vilnius,
1968) и западнославянском лубке и культуру массовой церковной олеографии, связанной
и с церковной и с празднично-уличной культурой одновременно. Игровая культура
литовского духовного лубка как изображения изображения интересно проявляется в
семиотическом удвоении гравируемого образца: воспроизводится не только рисунок, но и его рамка.
Особенно же интересно, что подпись образца может воспроизводиться даже неграмотным
гравером без учета зеркальной отраженности оттиска или же некоторым произвольным
набором букв и значков, превращаясь из надписи в знак надписи (см.: Lietuviu laudies menas.
S. 57). Русский духовный лубок, имеющий западнорусское и украинское происхождение,
отчетливо связан с западной (католической) традицией иконографии. Природа
старообрядческого духовного лубка еще нуждается в дополнительном изучении. Показательно в этой
связи то, что пристальное изучение старообрядческой поэзии позволяет порой обнаружить
в ней западнорусские, а в конечном итоге — латинские источники (см.: Белоусов А. Ф.
Колыбельная из Причудья // Труды по рус. и слав, филол. Т. 26. Тарту, 1975).
488 СТАТЬИ. ЗАМЕТКИ. ВЫСТУПЛЕНИЯ. II. Изобразительное искусство
Подобно тому как прихожанин, раздавая милостыню в церкви, мог
оставаться скупцом за ее пределами («А воротясь домой, обмерить на тот
же грош кого-нибудь» — А. Блок), посетитель, который хохочет в балагане
от непристойных шуток и сам выкрикивает непристойности, может быть
дома носителем суровой традиционной морали.
Лубок — по крайней мере в той его разновидности, которая тяготела к
фривольным сюжетам, — принадлежал, конечно, не обыденному, будничному
и домашнему миру, а миру праздничному и театральному.
Более сложно построен диалог, когда реплики говорящих чередуются,
как, например, в листе «История о непьющем и пьющем»1:
Щьющий] г[оворит]:
Кто вина неиспеваетъ,
Тоть всехъ пьяниц осуждаеть.
Отведай сам ево откушать
И меня пожаловать послужать.
Не[пьющий] г[оворит]:
Когда ты пьешь, то надобно закусить,
И ты неподумаешь и попросить.
Я исамъ передобедомъ хорошую рюмку хватилъ,
Взялъ пресной икры закусил.
И после вина, покушавши, впрепорцию напьюсь
Да и на постелю повалюсь...
Щьющий] г[оворит]:
Мало закуску знаю,
Было бы вино — и так убираю,
Без закуски меня лучше разымет,
Пустое брюхо больше подымет.
А сколько вы неговорили,
А вином ненапоили.
Наконец, встречаются и листы, в которых «речи» распределены между
несколькими персонажами. Однако материал диалогов и полилогов лубочных
листов убеждает, что все они относятся к тому наиболее архаическому типу,
который, по утверждению Б. И. Ярхо, характеризуется «замкнутостью»
(замкнутые «строфы, составляющие реплику, начинаются и кончаются внутри
реплики», в отличие от «открытых», где «рифма перехватывает в соседнюю
реплику»2): «В истории западноевропейского театра полная замкнутость
реплик считается более примитивным типом... Примитивный фастнахтшпиль
представляет собой ряд выходов (парад) отдельных лиц, из которых каждое
говорит свой куплет, уступая затем место другому»3. По утверждению
Б. И. Ярхо, развитие русской интермедии шло тем же путем. Таким образом,
1 Ровинский Д. А. Русские народные картинки. №111.
2 Ярхо В. И. Рифмованная проза русских интермедий и интерлюдий // Теория стиха.
Л., 1968. С. 248.
3 Там же. С. 250.
Художественная природа русских народных картинок
489
стих лубка относится к наиболее архаическим пластам русской театральной
речи. Это существенное соображение при изучении пока еще почти не
рассмотренного вопроса о взаимоотношении лубка и современного ему русского
театра.
Одной из существенных особенностей лубка, видимо, является то, что
словесный текст делался художественно активным при чтении не «глазами»,
а на слух. Зафиксированный на листе словесный текст был как бы сценарием,
служившим одним основой для устных «раешных» выкриков, а другим —
мнемонической основой для репродукции в памяти такого устного
исполнения.
Интересным свидетельством этого является лубок-афиша, извещающий о
прибытии английских комедиантов1. Есть все основания предполагать, что
лист функционировал не только в своем прямом назначении рекламного
объявления, но и в роли народной картинки. А между тем и в этой последней
функции он явно хранил связь с живыми интонациями балаганного зазывалы2.
Можно точнее сказать, что эти две функции были, вероятно, в XVIII в. для
народной аудитории настолько неразрывно слиты, что сама реклама еще не
могла выступать в виде плаката «для глаз», а требовала соединения рисунка
с выкриком зазывалы. П. Г. Богатырев указывал, что «выкрики бродячих
разносчиков товаров и бродячих ремесленников выполняют ту же функцию,
что и вывески магазинов и лавок, а также вывески мастерских». Далее тот
же автор отмечает, что вывески могут быть словесными или «изображением
предметов, продаваемых торговцами»3.
К сказанному можно было бы добавить, что если выкрики как знаки
рекламы тяготеют к бродячему быту, то вывески — к стационарному.
Одновременно не составляет труда увидеть связь между вывеской-изображением
и бесписьменным бытом, с одной стороны, и письменной словесной рекламой
и укладом жизни, в котором доминирует словесная культура, с другой.
Соединение рекламных выкриков с лубочной картинкой лучше всего
соответствует синтезу бродячей театральности и бесписьменного склада культуры
зрителей. Лубок «Объявление о прибытии английской компании» интересно
1 Ровинский Д. Л. Русские народные картинки. № 325.
2 Вот сокращенный текст этого листа:
«Смилостивым позволением здешних высоких Командующих
Будет
сюды прибывшаи
Аглинская Компания
Во первых, начинает младая женская персона Больше как здвадцетью позитурами,
якоже здбсь показаны, чего никогда во всем свете подобнаго небывало, потом шутливая
толстая мужеская персона такия диковинныя скоки, Которыя против натуры являются
быти делает; Апосле паки женская персона танец здесятью обнаженными шпагами
<...> первая фигура вверху показывает напринципала, Которой наскрыпке играет и
купно танцует так дивно и штучно что всяк удоволствован быть имеет <.,.>».
3 Богатырев П. Г. Выкрики разносчиков и бродячих ремесленников — знаки
рекламы // Симпозиум по структурному изучению знаковых систем. М., 1962. С. 38, 39.
490 СТАТЬИ. ЗАМЕТКИ. ВЫСТУПЛЕНИЯ. II. Изобразительное искусство
раскрывает некоторые черты народной картинки как таковой.
Художественное «употребление», акт восприятия такой лубочной картинки требует, чтобы
зритель одновременно видел листы и слышал рекламные выкрики. Однако
затем зритель покупает картинку и уносит ее домой, вешает на стене в своем
жилище. Делается ли она от этого функционально идентичной картинам на
стенах квартиры городского жителя? Думается, что нет. Скорее ее можно
сопоставить с программой спектакля, которую зрители уносят из театра
домой: она не самый тот текст, который эстетически воспринимается, а
материал для реконструкции такого текста в сознании аудитории. Глядя на
картинку, человек восстанавливает в своей памяти тот многоаспектный
игровой текст, который художественно переживается. Но из этого, как следствие,
вытекает значительно большая активность аудитории лубка: она не просто
смотрит на лист с изображением, а совершает активный акт художественной
реконструкции и повторного переживания игры, в которой ей отводилось не
пассивное место зрителя, а активная роль кричащего, одобряющего или
свистящего участника совместной деятельности.
С активностью аудитории связано и то, что в целом ряде случаев лубок
тяготеет не к настенной картине, а к настольной игре: восприятие его
подразумевает возможность подержать лубочный лист в руках, перевернуть
его, проделывая различные манипуляции. Так, уникальный лист «Любовь
крепка яко смерть»1, содержание которого должно было бы стать предметом
специального исследования, рассчитан на вращение в процессе
рассматривания: рисунки справа и слева построены так, что верх и низ меняются местами,
в центре листа — переплетенная фигура, разглядывая которую лист надо
поворачивать.
По такому же принципу построены листы «Маловременная красота мира
сего» и «Зерцало грешного»2. В обоих случаях картинка отпечатана с двух
сторон. В первом — с одной стороны щеголь и щеголиха, а с другой — два
черепа; во втором — с одной стороны картинка, изображающая щеголя и
щеголиху с надписями: «веер в руке имею», «от меча смерть разумею», с
другой — моралистическое изображение с текстом: «Сим молитву деет, Хам
хлеб сеет, Яфет власть имеет, смерть всеми владеет».
Лицевая и оборотная стороны листа здесь получают смысловое значение
содержания и выражения, внешности и сущности. И если связь с
определенными идеологическими комплексами здесь настолько очевидна, что не
нуждается в комментарии, то не менее бросается в глаза другое: то, что в
«высоком» средневековом искусстве потребовало бы размещения на единой
плоскости, ориентируя потребителя на созерцание, здесь размещено так, что
подразумевает действие. В этом смысле уместно указать на связь между
народной картинкой и такими формами малоформатной массовой гравюры,
как карты. К сожалению, русские карты как факт народной графики еще
совсем не изучены, а проблема их поэтики и ее отношения к лубку не
1 Ровинский Д. Л. Русские народные картинки. № 119.
2 Там же. № 741, 742.
Художественная природа русских народных картинок
491
поставлена вообще. Между тем очевидно, что в народном быту XVII—
XVIII вв. карты не только не составляли предмета каждодневного обихода,
но, безусловно, входили в «праздничный» и необычный быт карнавала,
ярмарки, кабака или таинственный инвентарь профессиональной гадалки.
Одновременно они, именно в силу причастности «праздничному» миру,
органически включались в круг эстетических переживаний. Например,
отождествление себя, предмета любви, «соперницы» с определенными фигурами
определенных мастей — естественный результат гаданий на картах —
задавало устойчивые эстетические стереотипы1. Одновременно карты имели и
свою мифологию, исключительно близкую системе персонажей и
распределению ролей в народной лирике. Для нас, однако, существенно одно —
игровая активность восприятия народной картинки, принципиально
отличающая ее от изобразительных текстов «высокой» живописи.
«Зрелищный» характер лубка проявляется и в тех типах народной
картинки, которые тяготеют не к спектаклю, а к «рассказу в картинках».
Стремление построить изображение как повествование, в принципе чуждое постре-
нессансной живописи с ее ориентацией на синхронность, но естественное и
для различных форм архаического рисунка, иконописи, отчасти и для
искусства барокко, породившее, в конечном счете, кинематограф2, разнообразно
проявилось в искусстве лубка.
Специфически лубочная нарративность отразилась в создании лубочных
книжек, строившихся по принципу комиксов и генетически связанных с
иконными клеймами. Однако как в отдельных гравюрах лубочных книжек,
так и в самостоятельных листах нарративность проявляется в особом
отношении рисунка и словесного текста. Последний, как правило, обширнее, чем
простая подпись к иллюстрации. Рисунок же воспринимается зрителем не
как относящийся к какому-либо одному моменту подписи, а к ней в целом.
1 Пример распространения на карты фольклорного восприятия художественного
текста — полного отождествления себя с персонажами песни, жестокого романса или
страшного рассказа:
«С ы н (вздохнув). А кто этот преблагополучный трефовый король, который возмог
пронзить сердце керовой дамы?
Советница. Ты хочешь, чтоб я все вдруг тебе сказала.
Сын (встав). Так, Madame, так. Я этого хочу, и ежели не я тот преблагополучный
трефовый король, то пламень мой к вам худо награжден.
Советница. Как! И ты ко мне пылаешь?
Сын (кинувшись на колени). Ты керовая дама!
Советница (поднимая его). Ты трефовый король!»
(Фонвизин Д. И. Бригадир // Собр. соч.: В 2 т. М.; Л., 1959. Т. 1. С. 57). Пример
показывает, что карты, с одной стороны, провоцируют возникновение игровой
ситуации, а с другой — моделируют ее сюжетное построение, наподобие того, как
можно было бы «разыграть» песню или романс.
2 Кинематограф, в основу которого была положена идея «рассказывать истории
при помощи... картин» (Монтегю А. Мир фильма: Путеводитель по кино, Л., 1969.
С 29) и который родился из ярмарочного зрелища, в принципе близок к лубку, по
крайней мере — в истоках.
492 СТАТЬИ. ЗАМЕТКИ. ВЫСТУПЛЕНИЯ. II. Изобразительное искусство
Поэтому рисунок не смотрят, а рассматривают, придумывая на его основании
разнообразные зрительные ситуации. Пишущему эти строки приходилось
наблюдать, как малограмотный носитель типично фольклорного мышления
рассматривал книжные иллюстрации. По поводу каждой из них он мог
фантазировать пространные истории типа: «А вот сейчас этот этого как
хватит» — или: «А вот сейчас этот вот этой покажет...» Поражала
относительная свобода таких историй от реального содержания иллюстраций и
устойчивая ориентированность на сюжеты эротические или связанные с
потасовками, то есть на сюжеты балаганного типа. В жизни это был весьма
степенный человек, и такое умонастроение определенно было не его личными
свойствами, а установкой на восприятие книжной иллюстрации как некоей
свернутой программы балаганного действа.
Видимо, с таким восприятием связано стремление, в случае использования
европейских гравюр как образцов для лубка, сопровождать их фривольными
текстами, часто находящимися в разительном противоречии с характером
рисунка. Таков, например, лубок «Бабушка и внучка», эротический характер
подписи к которому абсолютно не вытекает из сущности гравюры; или же
лист «Четыре любящих сердецъ выграх ивзабавахъ время провождают»,
изображающий (на основе иностранной гравюры) кавалеров и дам за картами.
Заключение текста: «Венера от Бахуса прислана угощаетъ скоро ихъ игру
другой игрой окончаеть» — не вытекает из картинки и подразумевает
активную трансформацию ее в зрительном сознании смотрящего.
В этой связи необходимо остановиться еще на одном моменте.
Определенная группа лубочных листов связана с повествованием газетного типа.
Но это особая — «народная» газета. Газета в России XVIII в. органически
входила в официальную культуру. Это проявлялось, в частности, в том, что
публикуемые в ней материалы строились как утверждение некоторой нормы
правильного порядка. Так, уже петровские «Ведомости» сообщали не о потере
артиллерии под Нарвой, что представляло собой, с точки зрения
правительства Петра I, нежелательный эксцесс, а о том, что «на Москве вновь ныне
пушек медных, голубиц и мартиров вылито 400... И еще много форм готовых,
великих и средних к литью пушек голубиц и мортиров. А меди ныне на
пушечном дворе, которая приготовлена к новому литью, больше 40000 пуд
лежит»1.
Петровские «Ведомости» утвердили образ газетного сообщения,
ориентированного на норму — грамматику социальной жизни, а не на
«происшествие» — аномальное отклонение от идеального порядка.
В народном сознании XVIII — первой половины XIX в. «новость» —
всегда сообщение о событии аномальном и странном. Носитель фольклорного
мышления если и читает газету, то лишь в поисках «происшествий» и
«странных» событий. Например, гоголевский Поприщин — читатель
«Пчелки» (подчеркивается ориентированность этого издания на «массовую
культуру» и читателя определенного типа сознания) верит, что «в Англии выплыла
1 Цит. по: Русская проза XVIII в. М.; Л., 1950. Т. 1. С. 11.
Художественная природа русских народных картинок
493
рыба, которая сказала два слова на таком странном языке, что ученые уже
три года стараются определить и еще до сих пор ничего не открыли». Он
«читал тоже в газетах о двух коровах, которые пришли в лавку и спросили
себе фунт чаю»1. Такой тип «новостей» можно сопоставить с известными
рассказами Феклуши из «Грозы» Островского.
Тематический репертуар лубка включает широкий круг листов,
изображающих различные «чуда»2, бедствия, землетрясения и пр. Однако, несмотря
на то, что листы эти, как правило, иллюстрируют реальные газетные
сообщения, связь их с обычной для балаганов демонстрацией великанов, карликов,
уродов и пр. явствует из того, что газетное сообщение оказывается
переложенным в раешные стихи, отчетливо напоминающие выкрики зазывалы:
«Чудо морское поймано весною...»
«Из Гишпании газетою уведомляет
О сей фигуре всем объявляет...»
Любопытно, что этот вид лубков оказался очень устойчивым и в XIX в.,
видимо находя широкий спрос в мещанской среде. Можно было бы назвать
листы: «Редкие двойни, родился (так! — Ю. Л.) 4 апреля 1855 года, рисовано
с натуры» (отпечатан в литографии Шевалье), «Замечательнейший из
великанов, скороходов и уродов Серпо Дидло, 20 лет» (1862, в литографии
Шарапова), «Девица-зверь 10-и лет» (1859, в металлотипии Руднева),
«Несгораемый человек Христофор Боона Карэ и крестьянка девица Марфа
Кириллова, пробывшая под снегом 33 года и осталась невредима» (в
литографии Голышева) и др.
Игровые тексты — не «произведения», полностью противопоставленные
пассивно поглощающей их аудитории. Они лишь некоторые исходные толчки,
которые призваны переключить потребителя из обычного в состояние игровой
активности. Аудитория находится при этом не вне «произведения», а в нем.
Как определенные виды музыки требуют от аудитории пения или танца, а
стереотип кинодраки провоцирует у зрителей подражательные движения,
правда чаще всего сковываемые привычкой пассивного сидения в креслах
(театр!), так и рисунок может вызывать активную реакцию.
Вспомним, как рисуют дети. Цель их деятельности не рисунок, а рисование.
При этом рисование провоцирует определенное игровое поведение: пригова-
ривание, возбужденные жесты и выкрики. Объект рисования все время
меняется. Поэтому дети продолжают пририсовывать все новые и новые детали
на том же листе, пока не «портят» его, с точки зрения взрослых. Часто,
впадая в экстаз, дети сплошь зачеркивают страницу или рвут ее, давая тем
самым выход своему возбуждению. Очевидно, что изображение на бумаге
здесь не конечная цель, а элемент «рисовальной игры». Аналогичное
возбуждение могут вызывать у детей и игры, основанные не на создании
изображения, а на его восприятии. Так, Павел I, еще ребенком, по записи
воспитателя его Порошина, рассматривая планы и виды Парижа, вдруг
1 Гоголь Н. В. Поли. собр. соч.: В 14 т. М., 1938. Т. 3. С 195.
2 Ровинский Д. А. Русские народные картинки. № 309, 322 и др.
494 СТАТЬИ. ЗАМЕТКИ. ВЫСТУПЛЕНИЯ. II. Изобразительное искусство
начинал бегать по комнате, воображая себя делающим военные распоряжения
внутри рисунков1.
Именно на такое активное и синкретическое восприятие, при котором
рисунок связан с игрой, а скульптура сливается с игрушкой, рассчитан лубок.
Не понимая того, что он в определенном отношении не аналог, а антипод
знакомых нам форм «культурного» изобразительного искусства, мы лишаем
себя возможности проникнуть в его эстетическую природу.
1976
Натюрморт в перспективе
семиотики
В работах по истории живописи натюрморту обычно отводится скромная
роль на периферии художественного процесса. Это вполне оправданно:
сюжетная мифологическая и историческая живопись, портрет, пейзаж кажутся
более непосредственно связанными с магистральными движениями развития
искусства. Однако существуют эпохи, когда натюрморт выступает вперед. С
семиотической точки зрения они представляют особый интерес. Именно тогда
делается ясной важность культурных проблем, связанных с этим жанром, их
теоретическая актуальность для искусства как такового.
Оппозиция «слово — вещь» принадлежит к основным семиотически
образующим всякой культуры. При этом «вещь» берется не в ее лингвистическом
значении, как денотат знака, а в ее реальности, противопоставленной
знаковое™ как таковой. Вещи приписывается не просто материальность, но и
единственность, самодовлеющее бытие, целостность и особая, независимая от
человека и его идей подлинность. Знак воспринимается как нечто условное,
созданное человеческой культурой, вещи приписывается безусловность и
чувственная реальность, выводящая ее за пределы мира социальных конвенций.
Слово воспринимается в культурном мире как знак вещи, нечто
заменяющее вещь в процессе коммуникации, но не способное заменить ее в
реальном употреблении. Поэтому вещи приписывается признак реальности,
того, что не может быть заменено. На фоне вещи слово выглядит эфемерным.
Это убеждение отчетливо выразилось в словах из шекспировской комедии
«Как вам это понравится», запомнившихся Пушкину. «В одной из
Шекспировских комедий, — писал он, — крестьянка Одрей спрашивает: „Что такое
поэзия? вещь ли это настоящая"»1.
1 См.: Шилъдер Н. К. Император Павел Первый: Историко-биографический очерк.
СПб., 1901. С. 64.
2 Пушкин А. С. Поли. собр. соч.: В 16 т. Л.; М., 1949. Т. 12. С. 178.
Натюрморт в перспективе семиотики
495
То, что сама вещь есть нечто «настоящее», с точки зрения бытового
сознания не подлежит сомнению.
К столь же, казалось бы, очевидным свойствам вещи относится
достоверность. Если слово всегда подозрительно с точки зрения его истинности,
то достоверность вещи в бытовом сознании не вызывает сомнений. Сенсорная
ощутимость вещи — возможность увидеть и потрогать — делает ее как бы
критерием достоверности. Отличие между «услышать», с одной стороны, и
«увидеть и потрогать», с другой, связано с возможностью опосредованное™
первого и обязательной непосредственностью второго. Услышать можно от
другого, но посмотреть и потрогать можно только самому. Поэтому сенсор-
ность восприятия означает здесь непосредственность контакта. Слово
функционирует в отчуждении от предметного мира, вещь всегда дана в
непосредственном контакте. Поэтому между нею и связанным с ней человеком
возникают отношения «личного знакомства». Вещь включается в сферу
непосредственно эмоционального восприятия.
Все перечисленные выше свойства вещи проявляются, однако, лишь в
контексте культуры, а человеческая культура по своей природе строится на
основе слова. Это приводит к неожиданным трансформациям, которым
подвергается вещь в процессе социокультурного функционирования. Если
слово — знак вещи, то сама эта вещь, включенная в знаковый мир культуры,
делается знаком отсутствия знака, превращается в знак выключенности из
знаковых отношений. Это включает ее в длинную цепь сложных семиотических
отношений.
С одной стороны, слово, как бы тяготясь своей «нормальной» культурной
функцией, может проявлять стремление изменить свою семиотическую
природу и сделаться вещью. Такие тенденции заметны в религиозных движениях
средних веков, они же явственно проявились в теориях русских футуристов.
Стремление превратить слово в вещь порождало заявления типа: «Должно
поставить вопрос о письменных, зримых или просто осязаемых, точно рукою
слепца, знаках» (В. Хлебников, А. Крученых)1. «Поэтическое слово
чувственно, — утверждал Николай Бурлюк.— Мы хотим, чтобы слово смело шло за
живописью» (Хлебников)2. А близкий в 1913 г. к футуристам автор манифеста
«Перчатка кубо-футуристам» (подпись: М. Россиянский — коллективный
псевдоним В. Г. Шершеневича и Л. С. Зака) писал: «Поэтическое
произведение есть сочетание не столько слов-звуков, сколько слов-запахов»3.
Но если слово стремится сделаться вещью, то вещь в определенных
культурно-семиотических ситуациях проявляет тяготение стать словом. Она
обрастает знаковыми признаками, превращается в эмблему.
На пересечении этих семиотических процессов располагается искусство
изображения вещи, то есть натюрморт.
1 Хлебников В. Собр. произведений: В 5 т. Л., 1933. Т. 5. С. 248.
2 Хлебников В. Неизданные произведения. Л., 1940. С. 334.
3 Литературные манифесты: От символизма к Октябрю / 2-е изд. М., 1929. Т. 1.
С. 70.
496 СТАТЬИ. ЗАМЕТКИ. ВЫСТУПЛЕНИЯ. IL Изобразительное искусство
Изображение вещи в форме рисунка глубоко двойственно по своей
природе: по отношению к словесному тексту и к сюжетно-литературной живописи
оно будет выступать как бунт против «словесности», вызов знаковому миру,
но по отношению к самой вещи (натуре) натюрморт реализует себя как особо
утонченная форма знака. Это определяет возможность двойной типологии
натюрморта.
Во-первых, натюрморт может стремиться к полной иллюзии вещности.
Художник задается целью внушить зрителю, что перед ним не изображение
вещи, а сама вещь. «Натюрморт есть... вторжение в область обоняния,
осязания, вкуса и даже звука — область чувств, которая, кажется,
противопоказана искусству живописи и которая в других жанрах обычно не
акцентирована и не привлекает специального внимания художника»1. Крайним
выражением этой тенденции могут считаться миниатюры Федора Толстого,
воспроизводящие капли воды, упавшие на рисунок, и ползающих по нему
мух, и натюрморты, выполненные в жанре «trompe l'oeil». Таковы
прославленные «Шкафы для украшений» Георга Хинца, «Доска с рисунком и
отпечатком» М. Эккардта, натюрморты Г. Теплова, А. Мордвинова и др.
На первый взгляд натюрморты этого типа могут показаться то ли данью
примитивному натурализму, то ли чем-то относящимся к внехудожественному
иллюзионизму, «tour de force», демонстрирующим ловкое мастерство и более
ничего. Такое представление ошибочно: перед нами игра на грани, требующая
изощренного семиотического чувства и свидетельствующая о сложных
динамических процессах, которые, как правило, протекают на периферии искусства
еще до того, как захватывают его центральные сферы. Именно имитация
подлинности делает понятие условности осознанной проблемой, границы и
меру которой нащупывают и художник, и его аудитория. Если с этой точки
зрения посмотреть, например, на акварель Ф. Толстого «Цветок, бабочка и
мухи» (1817, ГРМ), то нетрудно заметить, что на лежащем перед нами листе
художник сталкивает разные типы условности: бабочка и цветок «как бы
нарисованы», а капли воды на рисунке и мухи, ползающие по нему и пьющие
эту воду, «как бы настоящие». Таким образом, бабочка и цветок становятся
рисунками рисунка, изображениями изображения. Для того чтобы зритель
уловил эту игру, ему необходимо тонкое ощущение семиотических регистров,
ощущение рисунка как невещи, а вещи как нерисунка.
«Обманки» Г. Теплова и А. Мордвинова особенно интересны еще с
одной стороны: это любительская живопись, занимавшая в искусстве их
эпох явно периферийное положение. Но именно от этого она не теряет,
а выигрывает в наших глазах: мы наглядно убеждаемся в том, что
сложные процессы внутреннего развития искусства порой завязываются на его
периферии: достаточно поставить рядом «Подрамник, папку и гипсовый
барельеф» Мордвинова и коллаж Курта Тёбнера «Die angelehnten Ab-
1 Кузнецов Ю. И. Социальное содержание натюрморта: Флора и фауна // Натюрморт
в европейской живописи XVI — начала XX века. (Выставка картин из музеев СССР
и ГДР): Каталог. М., 1984 (страницы не нумерованы). Ср.: Das Stilleben und sein
Gegenstand. Dresden, 1983. S. 25.
Натюрморт в перспективе семиотики
497
gelehnten»1, чтобы убедиться в семиотическом родстве «trompe l'oeil» и
коллажа. Это, в частности, проявляется в почти обязательном включении в
произведения обоих жанров словесных текстов. «Похвала селедке» Иозефа
де Брая — наглядный тому пример. Особенно же характерен натюрморт
С. Боннекруа «Стена в мастерской художника», где элементом обманки
является натянутый на подрамник натюрморт типа «Vanitas vanitatis»2, — в
картину введен семиотический антипод «trompe l'oeil». Здесь уместно
вспомнить слова И. Е. Даниловой: «Часто в натюрморте представлены
произведения прикладных искусств: художественное стекло, керамика, скульптура
малых форм, гравюры, живопись — иными словами, искусство в искусстве»3.
Именно столкновение различных кодов и порождаемые этим семиотические
эффекты составляет основу воздействия «trompe l'oeil» и тех натюрмортов,
которые ориентированы в этом направлении.
Следует также отметить, что свойственное «trompe l'oeil» повышение меры
иллюзорности сопровождается одновременно и повышением меры условности:
увеличивается вещная реальность, но уменьшается реальность
пространственная. Обманки стремятся к плоскостному, двухмерному миру, строго
фиксированной точке зрения зрителя. Не случайно идеальным объектом
изображения в таком натюрморте является стена и прикрепленный к ней лист
бумаги или столешница с положенной на нее акварелью. Взгляд зрителя
направлен перпендикулярно плоскости рисунка — горизонтально или сверху
вниз.
Суммируя сказанное, можно сделать вывод, что в этом случае речь идет
не столько об иллюзии натуральности, сколько о семиотике такой иллюзии.
Антиподом подобного натюрморта, в интересующем нас аспекте, является
аллегорический натюрморт, своеобразной вершиной которого стал тип
«Vanitas». В этом случае изображаемые предметы имеют определенное
аллегорическое или закрепленное за ними культурной традицией значение. Включение
в композицию черепа — эмблемы смерти и быстротечности всего земного, —
часов, драгоценностей и монет (символизирующих богатство) придает
натюрмортам этого типа характер зашифрованного сообщения. Такой
натюрморт не смотрят, а читают. Но его не просто читают — его разгадывают:
это тайнопись для посвященных, говорящая на условном эзотерическом языке.
А. Майер-Мейнтшел показала, как введение языка цветов превращает
натюрморт в сложный текст, который может восприниматься и как «натуральное
изображение», и как религиозно-этическое, и как мистическое сообщение, в
зависимости от кодовой установки аудитории4.
1 См.: Kurt Teubner: Collagen und Assemblages Staatliches Lindenau-Museum.
Altenburg, 1983. S. 28.
2 «Суета сует» (лат.).
3 Данилова И. Ε. Натюрморт — жанр среди других жанров // Натюрморт в
европейской живописи XVI — начала XX века. Ср.: Das Stilleben und sein Gegenstand. S. 23.
4 Майер-Мейнтшел А. Мир на столе: Натюрморт и его предмет // Натюрморт в
европейской живописи XVI — начала XX века. Ср.: Das Stilleben und sein Gegenstand.
S. 18—19.
498 СТАТЬИ. ЗАМЕТКИ. ВЫСТУПЛЕНИЯ. П. Изобразительное искусство
Возможность многообразных прочтений — от поверхностно-бытовых до
скрыто-аллегорических — прямо переносит нас в ситуацию, обычную для
литературного текста, но сравнительно мало характерную для живописного.
Так, стихотворение Тютчева «Фонтан» в первой строфе содержит пейзажное
изображение фонтана. Далее идет символическое истолкование: фонтан —
человеческий ум («О, смертной мысли водомет...»). Но затем идет
зашифрованное и, казалось бы, непонятное четверостишие:
Как жадно к небу рвешься ты!..
Но длань незримо-роковая,
Твой луч упорный преломляя,
Свергает в брызгах с высоты1.
Смысл стихов прояснится, если мы вспомним, что ключом к ним является
эмблема, которую мы встречаем в ряде эмблематических изданий: фонтан,
струя которого приостанавливается рукой, выходящей из тучи (обычное
обозначение в христианской эмблематике Бога). В сборнике 1705 г. «Симболы
и Емблемата», изданном в Амстердаме, который был, вероятно, для Тютчева
непосредственным источником2, дана легенда: «Een fontein van een hand
gestopt» и латинский девиз «Vires alit» (русский перевод: «Ободряет силу»;
даны также французский, итальянский, испанский, шведский и немецкий
переводы девиза)3.
Только знание эмблематического смысла позволяет до конца проникнуть
в казалось бы пейзажно-живописную зарисовку Тютчева. Это исключительно
близко к эмблематическим натюрмортам, скрытого смысла которых
непосвященный зритель может вовсе и не подозревать. Порой в полотно вводится
лишь одна какая-либо явно эмблематическая деталь. Но она задает ключ
чтения, и остальные элементы, порой старательно «замаскированные» под
бытовые предметы, раскрывают свою символическую сущность.
Насыщенность натюрморта значениями особенно проявляется в те эпохи,
когда пристальное внимание искусства обращено на анализ своего
собственного языка, как, например, в период барокко или в XX в.
Если поэтическое слово футуристов стремилось уподобиться вещи, то в
живописи начала XX в. отчетливо проявилась тенденция трактовать вещь
как слово. Лингвистическое сознание проникает в самые основы натюрморта.
1 Тютчев Ф. И. Поли. собр. стихотворений. Л., 1939. С. 68.
2 Симболы и Эмблемата оуказомъ и благоповедении Его Освещеннейшаго
Величества Высокодержавнейшего Московского Великаго Государя Царя <...> Самодержца
и Высочайшего Монарха напечатаны, Symbola et Emblemata, Jussu atque auspiciis
Czaris <...> Petri Alexidis <...> excasa. Amsterdam, 1705, Emlema № 64. P. 22. Ср.:
Diego de Saaveära Fajardo. Ein Abriss eines christlisch-politischen Printzens. Amsterdam,
1655. S. 701. Поскольку смысл девиза гласит, что отдых заткнутого фонтана обновляет
его силы, эта же эмблема, видимо, источник изречения Козьмы Пруткова: «Если у
тебя есть фонтан, заткни его, дай отдохнуть и фонтану».
3 См.: Schulze A. Tjatcevs Kurzlyvik: Traditionszusammentänge und Interpretationen.
München, 1968. S. 76.
Натюрморт в перспективе семиотики
499
В натюрморте начала XX в. можно выделить две тенденции, которые
определяются как аналитическая и синтетическая. Обе не только
характеризуются обращением с вещью как со словом, но и явно обнаруживают влияние
лингвистического мышления на художников.
Аналитическая тенденция проявилась в кубистических натюрмортах.
Обычно в этом случае подчеркивается разложение объекта на плоскости и
геометрические формы. Однако важно и другое: целостный объект,
обладающий единым значением (вещь = слово) рассматривается как составленный из
иерархически более низких (более элементарных) единиц, которые на своем
уровне обладают своими пространственными значениями и одновременно
входят в более высокий уровень как составляющие смысловую целостность
вещи. Аналогия с фонемами очевидна. В свою очередь, эти элементы
отличаются друг от друга по дифференциальным признакам. Подобно тому как
футуристы в «самовитом слове» воскрешали ощутимость и значимость
фонемы, кубисты делают воспринимаемыми и значимыми пространственные
формы вещи.
Синтетическая тенденция, проявившаяся, например, в натюрмортах
Сезанна, может быть сопоставлена с законами построения связного текста.
Повторяемость цветовых пятен и объемных форм, сопоставимая с законами
сингармонизма или грамматического согласования, связывает отдельные
предметы в структурное единство. При этом вещи у Сезанна подчеркнуто замкнуты
в себе, разделены своей материальностью. Соединение их достигается не теми
способами, какими несколько вещей образуют кучу, а какими несколько слов
образуют фразу или несколько фраз образуют абзац: выраженное между ними
формальное единство заставляет подразумевать неочевидную смысловую
связь. Представим себе фразу, значение слов которой нам непонятно, но
грамматическая структура, выражающая отношение между ними, известна.
В этом случае слова будут нам казаться полными скрытого смысла,
загадочными. Таков натюрморт Сезанна: структура отношения между предметами
нам ясно выражена, но сами предметы — «слова на неизвестном языке».
Они значительны, так как непонятны.
Все сказанное подводит нас еще к одному положению. В уже цитированной
работе И. Е. Данилова спрашивает: «В аллегорической картине Джованни
Беллини, которую условно называют „Озерная мадонна", в самом центре
композиции, на мраморном полу террасы лежит апельсин. Что это —
натюрморт? Нет. Но почему такие же апельсины, лежащие на мраморной
столешнице или на каменной кухонной полке в полотнах мастеров XVII века,
становятся натюрмортом?»
Мы не собираемся отвечать на этот вопрос, так как ответ дан самим
автором процитированной статьи. Однако уместно было бы привести в этом
случае сравнение: вещь в сюжетной картине ведет себя как вещь в театре,
вещь в натюрморте — как вещь в кино. В первом случае — с ней играют,
во втором — она играет. В первом случае она не имеет самостоятельного
значения, а получает его от смысла сценического действия, она —
местоимение. Во втором она — имя собственное, наделена собственным значением
и как бы включена в интимный мир зрителя.
500 СТАТЬИ. ЗАМЕТКИ. ВЫСТУПЛЕНИЯ. II. Изобразительное искусство
Натюрморт обычно приводят как наименее «литературный» вид живописи.
Можно было бы сказать, что это наиболее «лингвистический» ее вид. Не
случайно интерес к натюрморту, как правило, совпадает с периодами, когда
вопрос изучения искусством своего собственного языка становится
осознанной проблемой.
1986
Портрет
Портрет представляется наиболее «естественным» и не нуждающимся в
теоретическом обосновании жанром живописи. Кажется, что если мы скажем
нечто вроде: «Портрет — живопись, которая выполняла функцию фотографии
тогда, когда фотография еще не была изобретена»1, то мы исчерпаем основные
вопросы, невольно возникающие у нас, когда мы начинаем размышлять об
этом жанре живописи. Слова о «загадочности» и «непонятности» функции
портрета в культуре кажутся надуманными. Между тем, не убоявшись
возражений этого рода, осмелимся утверждать, что портрет вполне подтверждает
общую истину: чем понятней, тем непонятней.
В основе специфической роли, которую играет портрет в культуре, лежит
противопоставление знака и его объекта2. Попробуем очертить культурное
пространство портрета. Прежде всего, мы окажемся в промежутке между
двумя прямо противоположными исходными точками.
С одной стороны, портрет как бы предвосхищает функцию фотографии,
выполняет роль документального свидетельства аутентичности человека и
его изображения. В этой функции он оказывается в одном ряду с оттиском
пальца, который ставит на документе неграмотный человек. Древнейший
1 Бытовое представление склонно отождествлять функцию портрета и фотографии:
предметами обоих является отражение человеческого лица, причем отражение это в
основе своей механическое (элемент художественной интерпретации, столь часто
отмечаемый в портрете, фактически не чужд и художественной фотографии и поэтому
не может считаться доминантным признаком противопоставления). В качестве
отличительной черты называют автоматизм фотографии и субъективно-творческую
основу портрета. Но это противопоставление имеет в достаточной мере условный
характер, поскольку вторжение художественных принципов в фотографию уже давно
никого не удивляет. Таким образом, может показаться, что разница между фотографией
и портретом постепенно стирается. Такой процесс действительно происходит, но,
сведя к нему всю сущность вопроса, мы рискуем потерять границу между этими двумя
глубоко различными видами искусства.
2 Функция знаковости гораздо менее ощутима в зрении, чем в речи, отсюда
представление о большей истинности того, что увидел (ср. пословицу: «Лучшие один раз
увидеть, чем сто раз услышать»), хотя фактически здесь речь идет об условной системе
приписывания подлинности какому-то одному качеству восприятия в ущерб другим.
Портрет
501
портрет — отпечаток пальца на глине — уже обнаруживает исходную
двойную функцию: он функционирует не только как нечто, заменяющее личность
(или ее обозначающее), но и как сама эта личность, то есть одновременно
является и чем-то отделимым от человека и неотделимым от него,
неотделимым в том смысле, в каком неотделима от человека его нога или голова1.
Такова же функция имени, которое, будучи, несомненно, знаком, ни
грамматически, ни функционально не уподобляется другим словам языка.
Поэтому имя в архаической культуре составляло тайну, напоминая этим как
бы часть тела человека, причем часть наиболее интимную2. Наличие в языке
слов, осциллирующих между объектом знака и знаком, в значительной мере
приоткрывает нам сущность портрета.
Между собственным именем и произведением искусства есть еще одна
общая черта: слово языка достается человеку как нечто готовое, между тем
имя как бы создается заново, специально для данного человека3. Собственное
имя колеблется между портретом и фотографией, и это находит отражение
не только в мистической, но и в юридической идентификации человека и
его портрета. Отсюда — требование сходства, подобия портрета и
изображаемого на нем человека. Так называемый реализм фаюмских портретов или
египетской живописи, видимо, имел чисто практическую функцию: в мире,
куда человек попадает после смерти, его должны были узнать, отличить от
других людей4.
Идентификация, однако, определяется не только фактом сходства (или
даже тождественности), но и признанием этого сходства в определенном
социокультурном контексте. Приведем такой пример. Всем известно, что
фотографии могут быть «непохожи» (особенно снимаемые в искусственных
условиях и с тем уровнем фотографического мастерства, который присущ
съемке для документов). Художественная фотография или тем более
художественный набросок мастерской рукой, даже карикатура, могут содержать в
себе гораздо более «сходства». Но криминолог предпочтет расхожую фото-
1 След как неотчуждаемая часть человека мог быть материалом разнообразных
магических колдовских манипуляций. Когда колдун вынимал след, то он овладевал
не частью человека, а всем человеком, по мифологическому закону pars pro toto.
Этнографы неоднократно отмечали, что фотографирование вызывало сопротивление
и испуг у народов, сохранивших еще архаические формы сознания. С этим же связана
вся сфера мифологических, колдовских представлений о зеркале.
2 Ср. в архаических культурах родство между запретом на «обнажение» имен и
обнажение секретных частей тела.
3 С этим связан целый ряд чисто языковых особенностей имени. Когда в
стихотворении «По городам Союза» в рассказе о том, что его спутниками оказались два
крестьянина с одинаковым именем, Маяковский использует выражение: «Презрительно
буркнул торговый мужчина: — Сережи!» {Маяковский В. В. Поли. собр. соч. М., 1958.
Т. 8. С. 23) — то такое употребление режет ухо своей аномальностью, на что и делает
расчет поэт.
4 Лицо выступало в функции документа, по которому осуществлялась загробная
идентификация «голых» душ (в дальнейшем представление о загробной наготе души
усложнялось дополнительным смыслом: отторжение всего суетного и пленного и
погружение из кажимости в сущность).
502 СТАТЬИ. ЗАМЕТКИ. ВЫСТУПЛЕНИЯ. II. Изобразительное искусство
графию портрету, написанному великим художником. Следовательно, здесь
не так существенно сходство, как формальная способность быть знаком
сходства, выполнять определенную условную функцию, в частности,
некоторая «усредненность» выражения. Художественный знак обращен к кому-то
одному, усредненное выражение ко всем и ни к кому, поэтому понятия
сходства всегда требуют условной презумпции — вычленения того признака,
который включается в доминанту. Признание одного явления подобным
другому всегда подразумевает включение в некоторый язык, с точки зрения
которого одни элементы признаются существующими и имеющими значение,
а другие — несуществующими.
С другой стороны, портрет как особый жанр живописи выделяет те черты
человеческой личности, которым приписывается смысловая доминанта.
Обычно лицо считается основным и главным, что присуще именно
данному человеку, в то время как остальные части тела допускают гораздо
большую условность и обобщенность в изображении. Так, Ван-Дейк руки и
фигуру для своих портретов часто списывал с натурщиц, обладавших более
совершенными формами тела. Никому не приходило в голову говорить, что
от этого страдает сходство.
Портрет в своей современной функции — порождение европейской
культуры нового времени с ее представлением о ценности индивидуального в
человеке, о том, что идеальное не противостоит индивидуальному, а
реализуется через него и в нем.
Но индивидуальное в таком понимании оказывалось неотделимым, с
одной стороны, от телесного, а с другой — от реального. Так порождались
основные компоненты современного портрета. Однако в системе культурных
ценностей полное отождествление идеального и реального порождает эффект
аннигиляции. Единое должно постоянно напоминать о возможности
разделения, о том, что любое единство — лишь условность и таит в себе заданную
определенность точки зрения. Поэтому ни в одном из жанров искусства точка
зрения не может быть выражена с такой непосредственностью и силой, как
в портрете, где она старательно камуфлируется. Именно эта сила камуфляжа
делает тождественность этих двух аспектов искусства подозрительной.
Поэтому можно сказать, что ни один из видов художественной аутентичности
не связан с таким уровнем усложненности, как портретная живопись. Мы
вновь оказываемся перед правилом: в искусстве чем проще, тем сложнее.
Одна из основных проблем живописи — проблема динамики. В этом
смысле живопись можно охарактеризовать как антитезу кинематографа,
динамическое состояние в котором — естественно и поэтому делается значимым
только в исключительных случаях (например, когда динамика проявляется в
катастрофической скорости или в нарушении других, как бы естественно
подразумеваемых ее признаков). Картина — неподвижна и поэтому особенно
сильно втянута в семиотику динамики.
Как ни странно может показаться, но динамика — одна из художественных
доминант портрета. Это делается очевидным, если сопоставить портрет с
фотографией. Последняя действительно выхватывает статическое мгновение
из отражаемого ею подвижного мира. У фотографии нет прошлого и буду-
Портрет
503
щего, она всегда в настоящем времени. Время портрета — динамично, его
«настоящее» всегда полно памяти о предшествующем и предсказанием
будущего.
Очень часто это включение динамики распределяется по пространству
портрета неравномерно: оно может быть сосредоточено в глазах1; иногда
руки более динамичны, чем вся остальная изображенная фигура. Эту
особенность остро почувствовал и, как всегда, гиперболизировал Гоголь в
«Портрете», где адская сила и противоестественная подвижность
сосредоточиваются именно в глазах портрета: «Это были живые, это были человеческие
глаза! Казалось, как будто они были вырезаны из живого человека и вставлены
сюда. Здесь не было уже того высокого наслажденья, которое объемлет душу
при взгляде на произведение художника, как ни ужасен взятый им предмет;
здесь было какое-то болезненное, томительное чувство»2. Доводя мысль до
предела, Гоголь создает образ живых глаз, врезанных в мертвое лицо.
Поэтому, говоря о портрете, мы имеем полное основание выделять моменты его
динамики. На сюжетном полотне динамика распределяется в больших
пространствах и как бы размыта, портрет же подносит нам ее в фокусном
сосредоточении, что делает его динамизм более скрытым, но потенциально
еще более действенным.
Динамика глаз портрета может раскрываться перед зрителем
прямолинейно — когда ему показывают, па что направлен взгляд изображенного на
портрете лица. Но уже романтический портрет ввел мечтательный взор,
устремленный в бесконечность, и загадочный взгляд, выражение которого
преподносится зрителю как тайна. В этом смысле можно сказать, что
аллегорический смысл портрета сменился некоей скрытой в нем принципиальной
тайной. В этом последнем (по сути дела, романтическом по своей природе
взгляде) портретная живопись приобретает наиболее близкий к литературе,
точнее, к поэзии, характер. Интересно, что именно динамический центр
портрета, которым чаще всего оказываются глаза, одновременно является
полюсом конденсации сравнений и метафор. Прямое описание глаз
встречается в литературе гораздо реже. Ср. у Пушкина:
Ее глаза то меркнут, то блистают,
Как на небе мерцающие звезды...3
Или в стихотворении «Ее глаза»:
И можно с южными звездами
Сравнить, особенно стихами,
Ее черкесские глаза.
1 Здесь уместно напомнить прикрытые глаза Победоносцева в картине Репина
«Торжественное заседание Государственного Совета 7 мая 1901 года».
2 Гоголь Н. В. Поли. собр. соч.: В 14 т. М., 1937—1952. Т. 3. С. 87. Далее ссылки
на это издание даются в тексте с указанием тома (римская цифра) и страницы
(арабская).
3 Пушкин А. С. Поли. собр. соч.: В 16 т. М.; Л., 1937. Т. 3. С. 36. Далее ссыпки
на это издание даются в тексте с указанием тома (римская цифра) и страницы
(арабская).
504 СТАТЬИ. ЗАМЕТКИ. ВЫСТУПЛЕНИЯ. II. Изобразительное искусство
В обоих случаях сравнение имеет не конкретно-предметный, а
традиционно-литературный характер: не подразумевается, что читатель представит
себе лицо, на месте глаз которого будут расположены реальные звезды. Такой
буквализм создал бы чудовищный образ (кстати, именно такого рода
буквализм характерен для Гоголя). Пушкинская ироническая оговорка «особенно
стихами» вводит нас в мир условных квазисравнений, литературность которых
подсвечена иронической улыбкой поэта или столь же литературным лиризмом.
Иной характер имеют сравнения глаз в «демонических» описаниях Гоголя,
где зрителю предлагается действительно соединить несоединимое: глаза и
огонь.
Необходимость именно в портретной технике совершать как бы перескок
из живописи в поэзию или из поэзии в музыку вытекает из самой природы
художественной полифонии портрета. Не случайно портрет — наиболее
«метафорический» жанр живописи.
Вспомним стихотворение Н. А. Заболоцкого «Портрет»1. Привлекает
внимание то, как поэт, говоря о живописном искусстве, старательно избегает
зрительных образов. Все, что можно увидеть, является в тексте через незримое:
«Ее глаза — как два обмана». Словом «обман» здесь передается семантика
принципиально неразделимого на статические дискретные состояния перехода.
Характерно, что в цепи последовательных образов: «два тумана»,
«полуулыбка, полуплач»; «два обмана, покрытых мглою неудач» — возможность
зрительной реализации образов все время снижается, переходя в сферу предельной
незрительности. Таким образом, динамика сравнения строится по принципу:
от того, что является зрением («ее глаза»), к тому, что принципиально лежит
за его пределами. Этим задается сам принцип поэтического воплощения
живописи как прорыва в сферу невозможного. Но при этом именно
неопределенное и невозможное оказывается наиболее точным адекватом того, что
зримо и статично по своей природе. Из поэтического образа живописи
изгоняется живопись, но это не понижает, а повышает адекватность описания
описываемому. Не случайно стихотворение завершается двумя
динамическими, в отличие от заданной статики, и зрительно невоплотимыми (вернее,
возвышающимися над определенностью любого конкретного искусства)
образами:
Когда потемки наступают
И приближается гроза,
Со дна души моей мерцают
Ее прекрасные глаза.
«Потемки» еще указывают на конкретный признак освещения,
«приближение грозы» — не состояние, а переход к состоянию; глаза же, сияющие
«со дна души», — сфера абсолютного метафоризма, в которой зримое —
лишь символическое воплощение незримого. Таким образом, заданные всей
эстетикой Заболоцкого конкретность и зримость «расконкречиваются» и пре-
1 Заболоцкий Н. А. Собр. соч.: В 3 т. М., 1983. Т. 1. С. 254.
Портрет
505
вращаются в свою противоположность. Свойственная Заболоцкому термино-
логичность создает художественное пространство невыразимости1.
Динамизм вносится в картину наличием нескольких фигур, задающих
направление ее прочтения, соотносительностью поз этих фигур и т. д.
Например, в коллективном портрете Рембрандта «Урок анатомии»
противопоставленность позы хирурга целому набору поз его учеников позволяет
истолковать композицию коллективного портрета как особое решение проблемы
динамики. В центре картины мы видим труп, частично уже подверженный
вскрытию. И окраска трупа, и сам факт того, что это не человек, а мертвое
тело, задают некоторый исходный уровень статики, усиленный тем, что
мышцы и сухожилия одной руки обнажены. Это создает тонкую антитезу в
зрительном восприятии рук покойника: одна из них все-таки еще
воспринимается как рука, вторая — уже препарат (не человек, а бывший человек).
Таким образом, даже в изображении мертвого тела скрыта динамика
исчезновения подобия жизни.
Препарируемому телу противостоят живые динамические фигуры
коллективного портрета. Динамика эта неоднородна, основана на системе
противоречий, образующих второй уровень оживления неподвижности в картине.
Динамизм фигуры хирурга построен на выключенное™ из компоновки других
фигур портрета, индивидуальности его позы и поворота лица. Он составляет
в картине как бы второй уровень индивидуализации, а нарастание
индивидуализации в композиции воспринимается как нарастание признака жизни.
Особенно интересна в этом смысле та часть портрета, которая воспроизводит
коллектив — фигуры учеников.
Естественно было бы построить композицию так, чтобы коллектив
воспринимался как пространство более пониженной индивидуализации, чем
персональный портрет хирурга и, следовательно, как более статический. Как
бы напрашивалось решение, при котором динамическим центром портрета
сделалась бы фигура врача. Однако на фоне заданности такого «нормального»
построения особенный смысл приобретает решение, избранное
Рембрандтом, — «разнообразие в однообразии»: напряженная гамма поз и характеров.
Внутренняя динамика коллективного портрета Рембрандта строится по
принципу: чем более сходно, тем более различно. А это и есть тайна
индивидуальности в искусстве.
Рембрандтовский «Урок анатомии» — это «одно» лицо во многих лицах,
которое вместе с тем «не одно». Сталкивание единого и множественного —
одна из потенциальных возможностей выражать движение через
неподвижность.
Другой пример — Военная галерея Зимнего дворца. Широкая гамма
вариантов авторской и зрительской точек зрения позволяет нам рассмотреть
галерею, с одной стороны, как некий коллективный портрет и описать его,
выделив общие типологические черты, с другой стороны — как циклическое
1 Не случайно в этом тексте подспудно ощущается неожиданная для Заболоцкого
связь с Жуковским.
506 СТАТЬИ. ЗАМЕТКИ. ВЫСТУПЛЕНИЯ. П. Изобразительное искусство
единство различных и не заменяющих друг друга портретов. В зависимости
от того, будем ли мы описывать отдельный портрет как некое
самостоятельное, самодовлеющее произведение искусства или как часть единого
композиционного целого, наше внимание высветит в одном и том же объекте
различные структурно значимые черты.
Сказанное делается очевидным, если мы обратим внимание на зеленый
шелк, которым затянуты некоторые пространства, на месте которых должны
были быть портреты (то есть портреты присутствуют своим отсутствием,
выполняя функцию «значимого нуля»). Эти пространства структурно не
равноценны между собой и, следовательно, по-разному относятся к
заполненным квадратам. Одни из них обозначают места портретов, которые по
разным причинам так и не были написаны: здесь «нуль» играет роль «нуля»,
то есть не имеет значения. Другие же (например, портреты участников
декабрьского восстания 1825 г.) обозначают места, на которых были
портреты, это значимое отсутствие. Отсутствие здесь выделяет портрет из общего
текста даже в большей степени, чем это сделало бы его присутствие. Приказ
об удалении портретов достиг совершенно противоположной намерению
цели. Известен старый анекдот, согласно которому Герострат, уничтоживший
ради славы античный храм, был приговорен к вечному забвению. Выполняя
это решение, греки без конца повторяли, что Герострата следует забыть, и
в результате прочно заучили его имя. Так и зеленые квадраты в общем
облике Военной галереи прочнее всего увековечивали лица опальных
декабристов.
В свое время Лафатер говорил об отражении как об «усилении
существования»; нечто аналогичное мы видим и в данном случае. Не только
отсутствие того или иного портрета усиливает факт его существования, сама
идея Военной галереи выделяет разницу одного и того же и тождественность
разного. На этом построено, в частности, описание галереи в известном
стихотворении Пушкина «Полководец» (Пушкин, III, 378—379).
Стихотворение Пушкина актуализирует в первую очередь антитезу живого
и мертвого — человека и его изображения. Уже в начале задана антиномия:
Нередко медленно меж ими я брожу
И на знакомые их образы гляжу.
Это значит, что глазам Пушкина предпосланы портреты, то есть холсты,
на которые нанесены изображения живых людей. Далее в сознании
наблюдающего поэта образы как бы наполняются жизнью, иллюзорность этого
оживления подчеркнута словом «мнится»1. Эти строки выделяют общность
1 Мнится — думается, кажется. См.: Срезневский И. И. Материалы для словаря
древнерусского языка. СПб., 1895. Т. 2. С. 229. Ср. у Гоголя: «Все обман, все мечта,
все не то, чем кажется!» (Гоголь, III, 45) От «мнится» — слово «сомнение», одно из
значений которого — «мечтание». Слово «мечтание» сохранило в пушкинскую эпоху
еще свое первичное значение «нереальности». Ср. выражение генерала Киселева о
В. Ф. Раевском: «Мечтатель поэтический». Ср. у Срезневского: «мьчьта — мечыпа —
мечта <...> навождение» (Срезневский И. И. Материалы для словаря... С. 235.
Портрет
507
портретов и тех, кого портреты изображают. Вводя голоса, заставляя портреты
восклицать, Пушкин вырывается за пределы живописи в неживописное
пространство, играя на рубеже искусства и действительности:
И, мнится, слышу их воинственные клики.
Далее поэт подходит к другому рубежу. Оживленный портрет как бы
вступает в конфликт с уже умершим или состарившимся своим прототипом:
Из них уж многих нет; другие, коих лики
Еще так молоды на ярком полотне,
Уже состарелись и никнут в тишине
Главою лавровой...1
Мы приближаемся к границе между портретом и человеком, на нем
изображенным. Портрет сохраняет вечную молодость, он находится в
пространстве остановленного времени. «Я» портрета не подлежит времени, и
это отделяет его от автора, который выполняет функцию зрителя, то есть
находится в пространстве/времени. Однако автор — личный знакомый тех,
кто запечатлен на портрете, в своем сознании и памяти держит другие образы:
«многих нет», другие «уже состарелись». Этим читатель переносится и в
многослойное временное пространство, и в столь же многослойное бытийное
пространство. Отношение «картина — действительность» приобретает
сложную выпуклость и многостепенную условность.
Это составляет как бы увертюру к еще более усложненному восприятию
портрета Барклая-де-Толли:
Но в сей толпе суровой
Один меня влечет всех больше. С думой новой
Всегда остановлюсь пред ним — и не свожу
С него моих очей. Чем далее гляжу,
Тем более томим я грустию тяжелой.
Он писан во весь рост. Чело, как череп голый,
Высоко лоснится, и, мнится, залегла
Там грусть великая. Кругом — густая мгла;
За ним — военный стан. Спокойный и угрюмый,
Он, кажется, глядит с презрительною думой.
«Презрительная дума», которую Пушкин подчеркивает (а отчасти
привносит) в портрет Доу, раскрывает способность живописи изображать
движение. Здесь поэт не только смело оживляет зрительный образ, но и включает
динамический критерий времени — трагическую военную судьбу Барклая-
1 Поэтический штамп «лавровая глава» явно не рассчитан на зрительное
представление. Ср. комический эффект подстановки зрительной реалии в поэтический
штамп в пушкинской эпиграмме «На женитьбу генерала H. М. Сипягина» (1818):
Убор супружеский пристало
Герою с лаврами носить,
Но по несчастью так их мало,
Что нечем даже плешь прикрыть.
(Пушкин, И, 485).
508 СТАТЬИ. ЗАМЕТКИ. ВЫСТУПЛЕНИЯ. II. Изобразительное искусство
де-Толли. Таким образом, поэтический вариант портрета Барклая наполняется
пророческим смыслом, который на реальном полотне отсутствует.
Баратынский писал:
И поэтического мира
Огромный очерк я узрел,
И жизни даровать, о лира!
Твое согласье захотел.
(«В дни безграничных увлечений...»)
Пушкин в «Полководце» совершает нечто противоположное — вносит в
жизнь трагическую глубину своей поэтической мысли:
О вождь несчастливый!.. Суров был жребий твой:
Все в жертву ты принес земле тебе чужой.
Непроницаемый для взгляда черни дикой,
В молчаньи шел один ты с мыслию великой,
И в имени твоем звук чуждый не взлюбя,
Своими криками преследуя тебя,
Народ, таинственно спасаемый тобою,
Ругался над твоей священной сединою.
Пушкинское описание портрета перехлестывает за пределы рамы:
Там, устарелый вождь! как ратник молодой,
Свинца веселый свист заслышавший впервой,
Бросался ты в огонь, ища желанной смерти, —
Вотще!
Знаменательно это «Вотще!», вырывающееся из структуры стихотворения,
точно так же, как до этого стихотворение вырывалось из структуры портрета.
Таким образом, обнажается важный художественный прием: выход текста за
свои собственные пределы, открытое пространство как бы втягивается в
художественный текст, что превращает незавершенность в элемент выражения
смысла.
Говоря о динамическом разнообразии портретов, нельзя обойти
вниманием и такой случай. Портреты какого-либо лица — например,
государственного деятеля или великого поэта — реально созданы художником как
некое, само себе достаточное, отдельное произведение искусства, но ни
зритель, ни сам художник не могут исключить из своей памяти аналогичные
опыты своих предшественников (например, всю цепь попыток скульптурного
воспроизведения образа Пушкина). В этих условиях каждая новая попытка
неизбежно воспринимается как реплика на все предшествующие. В ней
неизбежно будет высвечиваться традиционность или полемичность данного
скульптурного портрета. Поэтому, кстати заметим, средняя и скромная
попытка создать скульптурный образ Пушкина, даже если она не демонстрирует
большой художественной глубины, менее оскорбляет зрение в скульптурной
пушкиниане, чем некоторые «ложнопоэтические» вариации на ту же тему.
Другой механизм иллюзии оживления — введение в портрет второй,
антитетической фигуры. В обширном наборе «удвоенных» портретов можно
выделить две группы. С одной стороны, это начинающийся у самых истоков
Портрет
509
портретного искусства парный портрет (муж и жена), в котором единство
задано биографическими обстоятельствами оригинала и стереотипностью
фигур данного жанра. В дальнейшем движение идет в направлении все
большего разбалтывания этих, как и всяких других, исходно обязательных
принципов. Портретное искусство начала XX в. широко пользуется одной
из дополнительных возможностей, создающих динамику. Так, длительная
традиция изображения человека с любимым животным, чаще всего собакой
или лошадью, получает, например, под кистью Серова новую интерпретацию.
Изображение человека вместе с любимой собакой создает ситуацию, о которой
можно сказать, переделывая слова одной старой эпиграммы: «он не один и
их не двое». Собака у Серова именно своей «красотой», собачьей
утонченностью и собачьим аристократизмом превращается в злой аналог красивой
и утонченной внешности своего хозяина. Здесь возникает потенциальная
возможность целой гаммы сюжетно-типологических решений.
На имеющей черты портретной техники картине Рубенса «Венера и
Адонис» прощальное объятие героя и богини динамически продолжено
разлукой двух охотничьих собак, сделавших первые шаги друг от друга. Однако
уходящий герой этой дублирующей сцены как бы воспроизводит следующий
момент разлуки. Лапы собаки уже устремлены в сторону роковой охоты, но
голова еще повернута к покидаемой подруге. Черта, отделяющая порыв
любви от порыва охоты, парадоксально в наибольшей мере выражена в
противоречии позы собаки. При этом сложность композиции в том, что
четыре фигуры (людей и собак) даны в смысловом единстве и во временном
и эмоциональном противопоставлении. Сам параллелизм еще не является
непосредственным выразителем смысла. У Рубенса, например, он может
выражать идею всеобщей любви, которая господствует в мире всего живого,
но у Серова он делается средством выражения мыслей об обреченности этого
породистого, изящного искусственного мира.
Портрет постоянно колеблется на грани художественного удвоения и
мистического отражения реальности. Поэтому портрет — предмет мифоген-
ный по своей природе. Подвижность неподвижного создает гораздо большую
напряженность смысла, чем естественная для нее неподвижность, поэтому
динамика в скульптуре и живописи более выразительна, чем динамика в
балете. Преодоление материала — одновременно и одна из основных
закономерностей искусства и средство насыщения его смыслом.
Портрет как бы специально, по самой природе жанра приспособлен к
тому, чтобы воплотить самую сущность человека.
Портрет находится посредине между отражением и лицом, созданным и
нерукотворным. В отличие от зеркального отражения, к портрету применимы
два вопроса: кто отражен, во-первых, и кто отражал, во-вторых. Это делает
возможным постановку еще двух вопросов: какую мысль изображенный
человек высказал своим лицом и какую мысль художник выразил своим
изображением. Пересечение этих двух различных мыслей придает портрету
объемное пространство. Отсюда возможность колебаний между портретом-
прославлением и карикатурой. Последнее особенно заметно, когда два смысла
портрета вступают в конфликтные отношения: например, выражение торже-
510 СТАТЬИ. ЗАМЕТКИ. ВЫСТУПЛЕНИЯ. И. Изобразительное искусство
ственное, с точки зрения изображенного лица, кажется смешным или ужасным
с точки зрения зрителя. Примером здесь может служить «Портрет королевской
семьи» кисти Гойи, выполненный по всем правилам торжественного портрета.
Это произведение легко может быть прочитано и как страшное пророчество,
и почти как карикатура.
Портрет принципиально отличается от иконного стереотипа. На картинах
эпохи Возрождения облик святого часто сохранял черты сходства с лицом
натурщика; ср. также традицию итальянских художников эпохи Возрождения,
в том числе Рафаэля, придавать внешности Марии портретные черты своей
возлюбленной. Сходство с реальным человеком в этом случае может
определяться целым рядом смысловых оттенков: от выражения почти религиозного
преклонения перед красотой любимой женщины до чисто технического
использования натурщицы.
Заслуживает внимания особый тип картин, как бы перекидывающий мост
от иконы к портрету: анфасное изображение лица Христа, которое являет
собой высшее выражение идеи портрета, одновременно человеческого и
божественного. Эта двойственность, по существу, раскрывает природу портрета
как такового. Портрет, во-первых, содержит изображение человека (введение
дополнительных сюжетов, бытового антуража может разнообразно
варьировать эту основу, но сохраняет ее сущность). Одновременно в изображении
лика Христа сконцентрирована проблема богочеловечества, то есть задано
изображение реальности, оцениваемой шкалой предельно высоких ценностей.
Вместе с тем лицо Христа обычно располагается по отношению к лицу
зрителя таким образом, что их глаза находятся на одной и той же оси, то
есть лик Христа как бы представляет собой зеркальное отражение того, кто
на Него смотрит. Это задает и высший критерий оценки зрителя: отражение
может воплощать собой упрек или прославление, но оно всегда есть оценка.
Зритель как бы получает критерий для суда над самим собой: он находится
на оси зрения Бога и, следовательно, представляет собой как бы отражение
божественной сущности. Отражение может высвечивать недостоинство
человека, самую невозможность сопоставления и одновременно скрытую надежду
на возрождение. Зрителю как бы говорится: в тебя заложена внутренняя
возможность Того, Чьи черты отражаются в твоем лице как в затуманенном
зеркале.
Следовательно, портрет по своей природе наиболее философский жанр
живописи. Он в основе своей строится на сопоставлении того, что человек
есть, и того, чем человек должен быть.
Это позволяет прочитывать портрет разнообразными способами: мы
можем в нем увидеть черты людей определенной эпохи, психологические или
этикетные отличия дамского и мужского поведения, социальные трагедии,
различные варианты воплощения самого понятия «человек». Но все эти
варианты прочтения объединяются тем, что предельная сущность человека,
воплощаясь в исторически конкретных формах, сублимируется до
философской проблемы «Се человек».
Итак, портретный жанр находится на пересечении различных
возможностей раскрытия сущности человека средствами интерпретации его лица. В
Портрет
511
этом смысле портрет не только документ, запечатляющий нам внешность
того или другого лица, но и отпечаток культурного языка эпохи и личности
своего создателя. Брюллов в картине «Последний день Помпеи» в толпе
людей, убегающих от пламени Везувия, нарисовал себя в образе художника,
спасающегося вместе со своими кистями и красками. Здесь двойная
идентификация: во-первых, портретное сходство лица и, во-вторых,
профессиональное отождествление. Кисти и краски здесь выполняют функцию подписи.
Однако вполне возможна точка зрения, согласно которой портретная
неповторимость личности Брюллова запечатлена в картине как таковой. Мы
узнали бы «кисть Брюллова» и без этой фигуры. Вся картина в своем
единстве — отпечаток личности автора, и его изображение на ней в сущности
избыточно — это автограф в автографе, несобственно прямая речь. Эту часть
картины можно передать выражением: «Он говорит, что это он». (С этим
связано то, что подделка картины юридически оценивается как подделка
подписи.) Правда, необходимо отметить, что личность Брюллова, портретно
отраженная на полотне, и его же личность, выразившаяся в картине, —
разные личности. «Я» художника проявляется здесь в различных своих
ипостасях. В одной из них оно является субъектом повествования, а в другой —
его объектом. Однако особенность искусства в том, что разделение это в
таком чистом, крайнем проявлении — предельный, искусственный случай:
как правило, оба эти полюса как бы очерчивают пределы пространства, в
котором осциллирует текст.
Выбор типа портрета того или иного деятеля определялся тем культурным
стереотипом, с которым связывалось в данном случае изображаемое лицо.
Живопись XVIII в. утвердила два стереотипа портрета. Один из них,
опиравшийся на разработанный жанровый ритуал, выделял в человеке
государственную, торжественно-высокую сущность. Такой портрет требовал
тщательного соблюдения всего ритуала орденов, чинов и мундиров. Они как бы
символизировали собой государственную функцию изображаемого лица,
причем именно эта функция воплощала главный смысл личности.
Показателен в этом смысле портрет М. И. Кутузова кисти Р. М. Волкова:
государственная сущность, воплощенная в орденах и мундире — знаках
социальной позиции изображенного на портрете лица, — явно перевешивает
важность, казалось бы, столь необходимого для портрета сходства. С этим
связан еще один, характерный для портрета данной эпохи, принцип: если
лицо, изображенное на торжественном портрете, обладает каким-либо
дефектом внешности, художник стремится его скрыть, между тем как знаки наград
и одежда всячески подчеркиваются.
Дальнейшее развитие портретной живописи, с одной стороны, приводит
к росту внимания к психологической характеристике, например у
Боровиковского, а с другой — к тому, что бытовые, домашние аксессуары вытесняют
официально-парадные. Не без влияния Руссо в портрет попадали детали
садового и паркового антуража. В соответствии с общей тенденцией отражать
в портрете не бытийную норму, не иерархию культурных ценностей, а
непосредственный, выхваченный из жизни отдельный момент изменяется и
соотношение детских и взрослых фигур на полотне. Если раньше они рас-
512 СТАТЬИ. ЗАМЕТКИ. ВЫСТУПЛЕНИЯ. II. Изобразительное искусство
пределялись по шкале иерархической ценности, то теперь художник
предпочитает соединять их в единой жанровой композиции, нарочито подчеркивая
живой беспорядок игры и минутную случайность избранного им мгновения.
За этими различиями стоит антитеза двух концепций реальности: реальность
как ценностная иерархия, сущность явления и реальность как мгновенно
выхваченный эпизод (противопоставление такого рода дожило до наших дней
и получило продолжение в двух типах фотографического портрета:
непринужденно-бытовом и торжественном).
В зависимости от общей ориентации портрета, он тяготел к различным
социокультурным концепциям сущности человека. Пушкин в «Капитанской
дочке» подсветил свой образ Екатерины II двумя лучами: один отсылал
читателя к торжественным портретам Левицкого, другой — к связанному с
просветительской концепцией власти (государь-человек) портрету
Боровиковского. Литературный образ, созданный Пушкиным, осциллирует между двумя
живописными портретными концепциями Екатерины: персонификацией мощи
государственного разума и воплощением гуманной человечности монарха
эпохи Просвещения.
Двойственность «государственного» и «человеческого», столь
существенная для просветительской концепции власти, наложила характерный
отпечаток на портретную «суворовиану». Важно иметь в виду, что двуликость
портретного и поэтического образа Суворова опиралась на сознательную
ориентацию самим полководцем своего поведения. Экстравагантность
одежды, например, выскакивание на поле боя в ночной рубашке, демонстративное
пренебрежение к ритуальной стороне воинской службы само по себе
становилось у него ритуальным, но адресовало зрителя к иной ритуализованной
традиции. За этим отчетливо вырисовывался образ римского героя тех веков,
когда быт республики еще ориентировался на простоту и «здравые» традиции
предков. Суворов, разнообразивший свой досуг чтением римских историков,
культивировал в своем поведении «добрые, старые нравы» республиканского
Рима. Это воспринял Г. Р. Державин, демонстративно подчеркнув
двойственность соединения высокого и низкого в своем стихотворном портрете
полководца:
Кто перед ратью будет, пылая,
Ездить на кляче, есть сухари;
В стуже и в зное меч закаляя,
Спать на соломе, бдеть до зари...
(«Снегирь»)
Строки эти, многократно цитируемые, обычно приводятся как пример
несоединимого контраста бытового и поэтического образов Суворова.
Необходимо, однако, иметь в виду, что атмосфера «римской помпы» (выражение
Белинского), пронизывающая эти стихи, задает также и другую культурную
перспективу: пафос начального, еще республиканского Рима, в котором Цин-
циннат бросал плуг для того, чтобы удалиться на поле боя, а затем оставлял
меч, чтобы вернуться к плугу (ср. именно такую интерпретацию «римского
духа» в сцене избрания кошевого в «Тарасе Бульбе» Гоголя). Гравюра
Портрет
513
Буддеуса «А. В. Суворов отдыхает на соломе» (1799) также связана с образом
старого республиканского Рима с его поэзией простоты и наивности нравов.
Обширное жанровое пространство портретной живописи второй половины
XVIII — начала XIX в. обеспечивало свободу живописной интерпретации
внутренней природы человека. Ср., например, пространство между
автокарикатурами Пушкина, с одной стороны, и разными типами интерпретаций
художниками внешности поэта, с другой.
Наиболее упрощенный способ внутренней характеристики изображаемого
на портрете лица создавался введением на полотно деталей определенного
антуража (например, изображение полководца на фоне битвы) и очень скоро
превратился в слишком легко распознаваемый код. В «Портрете» Гоголя
Чартков, став модным живописцем, рисовал именно то, что от него требовали
заказчики: «Наконец он добрался, в чем было дело, и уж не затруднялся
нисколько. <...> Кто хотел Марса, он в лицо совал Марса; кто метил в
Байрона, он давал ему байроновское положенье и поворот. Коринной ли,
Ундиной, Аспазией ли желали быть дамы, он с большой охотой соглашался
на все и прибавлял от себя уже всякому вдоволь благообразия, которое, как
известно, нигде не подгадит и за что простят иногда художнику и самое
несходство» (Гоголь, III, 107).
Рассмотрим в этой связи известный портрет работы С. Тончи,
изображающий Державина в шапке и шубе, сидящего на сугробе (1801). Существенно,
что введению северной природы в державинский портрет предшествовала не
лишенная полемики поэтическая инструкция героя портрета своему
художнику:
Иль нет, ты лучше напиши
Меня в натуре самой грубой:
В жестокий мраз с огнем души,
В косматой шапке, скутав шубой...
(«Тончию»)
Державин создает миф о себе как северном Горации, разрушая «античный»
стереотип поэтической личности именно тем, что исключительно буквально
ей следует.
Для того, чтобы осознать смелость державинского решения, следует
напомнить, что оно порывало с общеевропейской культурной традицией.
Восходящее к римской поэзии изображение зимы как времени дождей (что было
для Горация результатом воспроизведения реального климата зимней Италии)
перешло в европейскую поэзию XVII—XVIII вв. как ориентация не на
эмпирическую реальность, а на литературно-поэтическую символику. Только
учитывая безусловную обязательность этого стереотипа, мы можем оценить
смысл элементов реального зимнего пейзажа в поэзии Державина и в
портретной живописи его эпохи. В сущности, здесь реализовывался один из
важных элементов эстетики Державина: прорыв за пределы знаковой
символической традиции в сферу реального быта, который при этом мгновенно
становится не простой копией реальности, а ее символом. Разрушение знака
создает новую знаковую структуру; разрушаемая система объявляется «ис-
514 СТАТЬИ. ЗАМЕТКИ. ВЫСТУПЛЕНИЯ. И. Изобразительное искусство
кусственной», нереальной и ненациональной, а создаваемая наделяется именно
этими признаками.
Таким образом, то, что декларировалось как отрыв от символических
штампов (и на этом основании бесконечное число раз определялось
исследователями как «реализм»), прорыв из мира символики в бытовую
действительность, на самом деле, представляло собой обогащение художественного
кода новым витком поэтической символизации. Как это часто бывает в
искусстве, борьба с условностью реализуется как отказ от прямолинейной
условности предшествующих этапов средствами введения на их место гораздо
более сложных и утонченных условных моделей.
Пушкин со свойственной ему точностью писал о том, что воспроизведение
бытовой правды в театре невозможно уже потому, что театральная
действительность условно разделена на два пространства: одно — бытовое
пространство зрителей, другое — пространство сцены, и находящиеся в одном из них
не видят и не воспринимают другого. То же самое мы имеем и в пространстве
живописном. Периодически встречающиеся в истории изобразительного
искусства экспериментальные «прорывы» за пределы полотна лишь
подтверждают принципиальную невозможность этих попыток; ими художник
демонстрирует осознание закона взаимной непроницаемости реального и
воспроизводимого пространства, но ими же он убедительно показывает, что
преодолеть эту условность он не может. Портрет — художественное
воплощение идеи «я», личности в первом лице1.
Таким образом, портрет как бы соединяет в себе «то же самое» и «другое».
Портрет находится на пересечении образно трех культурных путей. Одна его
дорога связана с теми стилизациями, которым подвергается человеческое
лицо, представляющее собой Природу, — требование сходства, то, что
заставляет узнавать в портрете человека. Во-вторых, требование моды, то есть
тех изменений, каким подвергается реальная внешность человека под влиянием
определенного культурного воздействия. И в-третьих, требование следовать
эстетическим законам живописи (тем смысловым прочтениям, которым объект
подвергается под кистью художника, с одной стороны, и под влиянием
эстетики культурных кодов аудитории, с другой).
Портрет — как бы двойное зеркало: в нем искусство отражается в жизни
и жизнь отражается в искусстве. При этом обмениваются местами не только
отражения, но и реальности. С одной позиции, реальность по отношению к
искусству — объективная данность; с другой — эту функцию выполняет
искусство, а реальность — отражение в отражении. К этому следует добавить,
что игра между живописью и объектом — лишь часть других зеркал.
Например, можно было бы указать на особую жанровую разновидность:
портреты художников в костюмах и гриме определенных ролей. Здесь лицо и
одежда художника подчинены сценической трансформации, а эта последняя
(особенно такие ее элементы, как поза, освещение и т. д.) отражает особен-
1 В данном случае речь идет о портретах en face. Проблема профильного портрета
заслуживает специального рассмотрения.
Портрет
515
ности языка живописи, в частности портретного жанра. Не только между
бытом и сценой, но и между сценой и полотном возникают пересечения.
Трансформация объекта под влиянием перевода его по тем законам, которые
признает автор, подвергается встречному диалогическому давлению читателя
или зрителя, который тоже определенным образом читает и реальное лицо
изображенного человека, и законы портретирования.
Так, в повести Гоголя «Портрет» дама, увидевшая Психею, которую «не
успел снять со станка» Чартков, пожелала принять ее за портрет дочери:
«„Lise, Lise! Ах, как похоже! <...> Как хорошо вы вздумали, что одели ее в
греческий костюм". <...> „Что мне с ними делать? — подумал художник. —
Если они сами того хотят, так пусть Психея пойдет за то, что им хочется"»
(Гоголь, III, 105). В гоголевском отрывке звучит ирония, и это тоже еще
одна точка зрения, которая может быть передана с помощью кисти художника.
Таким образом, и моделирование живописца, и встречное истолкование
его произведения зрителем создают исключительно многофакторное
смысловое пространство, в котором реализуется жизнь портрета — портрета как
жанра, портрета как явления живописи данной эпохи и именно этого
индивидуального, единичного портрета. Такое сложное пересечение различных
художественных тенденций превращает портрет в своеобразный взрыватель
искусства эпохи. Этот, казалось бы, наиболее предсказуемый и
детерминированный жанр переносит искусство в пространство взрыва и
непредсказуемости — исходную точку дальнейшего движения.
По сути дела, вся совокупность портретов может рассматриваться как
полисемантический набор значения слова «человек» — от эпиграммы XVIII в.:
О, времена, о век,
И это — человек —
до державинского «Будь на троне человек» («На рождение в Севере
порфирородного отрока») и многочисленных ложносемантических интерпретаций
(возможных лишь в русском языке), высвечивающихся в слове «человек»
слова «чело» и «век» — столкновение сущности и исторической реальности.
Если отойти от этого случайного совпадения, то можно было бы указать
на антитетическую связь между иконой и карикатурой: икона высвечивает
божественные черты лица, карикатура — уродливые и животные. Возникшая
в средние века жанровая возможность интерпретации человеческого мира в
понятиях и терминах мира животных и, одновременно, очеловечивание
сюжетов и иллюстраций, связанных с зоофольклором, создавало промежуточные
жанры изобразительного искусства. Необходимость включить в иконографию
зрительные образы святости заставляла изобразительное искусство искать в
человеке сверхчеловеческое. Последнее связывалось с сакральным верхом:
отсюда крылья, внесение ангельских черт в живописные воплощения образа
младенца, возможность изображения ангела как головы с крыльями, но без
тела.
С другой стороны, и икона, и храмовая архитектура включали в себя
тему дьяволиады. Последняя строилась как слияние человеческого и
звериного, концентрация внимания на «низе» и «низменных» частях тела. Необ-
516 СТАТЬИ. ЗАМЕТКИ. ВЫСТУПЛЕНИЯ. И. Изобразительное искусство
ходимость развести реальный облик человека в пространстве двух полюсов
порождала стремление к эмоциональным антитезам: улыбка приписывалась
святости, хохот или же печаль — демонской сущности (ср. слова, которыми
героиня Лермонтова отталкивает от себя Демона: «Зачем мне знать твои
печали?»). Этот мотив в дальнейшем лег в основу романтического воплощения
демонизма в живописи и поэзии. В этом последнем проявлении, от Байрона
и Лермонтова до Врубеля, он обогатил образ духа зла целой гаммой созвучных
романтизму представлений.
На этом фоне возникает метафорика художественного экстаза,
одновременно способного строиться и на образах экстатического состояния мученика,
райского блаженства праведника, и дьявольского хохота. Ср. у Дельвига:
Не часто к нам слетает вдохновенье,
И краткий миг в душе оно горит;
Но этот миг любимец муз ценит,
Как мученик с землею разлученье1.
В агиографической традиции Дельвиг соединяет зло реального мира и
блаженство вознесения над ним.
В друзьях — обман, в любви — разуверенье
И яд во всем, чем сердце дорожит.
(«Вдохновение»)
Сложное пересечение мотивов искусства как святости и искусства как
греха создавало обширное пространство для вторжения живописных
стереотипов в поэзию и одновременно обогащало живопись образами,
почерпнутыми из поэзии. Но портрет как жанр имел и другую художественную
доминанту: он настойчиво требовал проникновения в быт и внешнего
сходства. Эти константы могли варьироваться, подвергаться различным
изменениям, но сама природа живописи настойчиво требовала соотношения с
действительностью.
XIX в. был эпохой «бури и натиска». Одновременно вспыхивали идеи
самых утопических преобразований жизни и требования самого конкретного
и реального ее изучения.
От искусства требовали стать реальностью, ответить на ее вопросы,
слиться с жизнью, но сами вопросы, стоящие за ними идеи были нерасторжимы
с верой в реальную возможность идеала. В начале XIX в. декабрист А.
Одоевский, выходя на площадь, где должно было произойти восстание,
воскликнул: «Умрем, братцы, ах, как славно мы умрем!» Смерть привлекала
романтика даже больше, чем победа. Последнее отдавало пошлостью. Не случайно
во всех многочисленных революциях этого столетия на баррикадах погибали
одни, а министерские кресла захватывали другие. Проза побеждала в быту,
поэзия — в области мысли и идеалов. Отсюда то, что поражение влекло за
собой меньше горьких разочарований, чем победа. Буря, бушевавшая в жизни
1 Дельвиг А. А. Поли. собр. стихотворений. Л., 1959. С. 163.
Портрет
517
и умах, на баррикадах и в поэзии XIX в., отразилась как в зеркале в портретах
этой эпохи.
Общая динамика искусства перемещается по оси, на одном полюсе которой
находится безграничная свобода, доходящая до полного отрыва от внешнего
образа изображаемого объекта, а на другом — предельная прикованность к
объекту. В разные периоды эволюции искусства доминирующий центр
перемещается то в одну, то в другую сторону. Многократно теоретики искусства
объявляли присущее им соотношение этих точек единственно подлинным
проявлениям искусства, выводя противоположную тенденцию за его пределы.
По мере расширения технических средств искусства к этому
противопоставлению добавлялось еще одно: какие-то избранные средства копирования
реальности объявлялись художественными в то время, как другие
отбрасывались за пределы подлинной художественности. Релятивность этих границ
очевидна. Например, нам теперь трудно представить античные статуи,
хранящиеся в современном музее, раскрашенными, — наше представление о
скульптуре вполне удовлетворяется гаммой оттенков, создаваемых игрой
света и мрамора. Однако античная скульптура классической поры была
крашеной, и это ничуть не нарушало эстетических переживаний зрителя.
Дело в том, что произведение искусства никогда не существует как
отдельно взятый, изъятый из контекста предмет: оно составляет часть быта,
религиозных представлений, простой, внехудожественной жизни и, в конечном
счете, всего комплекса разнообразных страстей и устремлений современной
ему действительности. Нет ничего более чудовищного и отдаленного от
реального движения искусства, чем современная музейная практика. В средние
века казненного преступника разрубали на части и развешивали их по разным
улицам города. Нечто подобное напоминают нам современные музеи.
Для того чтобы хоть приблизительно проникнуть в дух античного или
любой другой эпохи искусства, необходимо воссоздать его совокупность,
погруженную в быт, нравы, предрассудки, детскую чистоту верования. Со
всей наукой истории искусства здесь необходима двойная игра: ее надо
одновременно помнить и забывать, как мы помним и забываем в одно и то
же время то, что актер на сцене падает мертвым и остается при этом живым.
Музей — это театр, и иначе не может быть воспринят. В музее надо играть,
а не созерцать, и не случайно лучше всего понимают и воспринимают музеи
дети.
Театр и кинематограф содержат в себе безусловные потенции высокого
искусства, но нынешняя волна коммерции, захлестывающая эти искусства,
грозит свести эту возможность на нет. В этих условиях вполне уместно
вспомнить прозорливые слова Гегеля о том, что движение вперед есть
возвращение к первооснове. Это заставляет нас с новой надеждой обращать
свои взоры на портрет.
Как часто бывает в искусстве, портрет — самый простой и, следовательно,
самый утонченный жанр искусства. Как когда-то античная статуя снимала
с мрамора все необязательное, вторичное, портрет — как бы статуя нового
времени — последовательно освобождается от всего, что привносится в него
извне. Многочисленные опыты пополнения портрета комментирующими его
518 СТАТЬИ. ЗАМЕТКИ. ВЫСТУПЛЕНИЯ. И. Изобразительное искусство
деталями — все это в конце концов оказалось лишь эпизодом. Осталось
главное: портрет в портрете. Человеческое лицо оказалось самым
существенным, той квинтэссенцией, в которой человек остается человеком или перестает
быть им. И то, что соперник живописи — кинематограф — тоже, в конечном
счете, оказался прибит к этому берегу, далеко не случайно.
Для меня нет ничего более волнующего, чем прогулки по улицам или
разговоры со случайным встречным: я задаю вопросы, но меня не очень
интересуют ответы — я разглядываю лица. Сколько раз после такой прогулки
мне казалось, что единственное, что можно сделать, — это повеситься. Но
иногда попадается такое лицо ребенка или старухи, которое искупает все и
наполняет радостью несколько дней жизни. Нет, человечество еще не погибло,
и об этом нам ежечасно должен напоминать портрет.
1993
Истоки «толстовского
направления» в русской
литературе 1830-х годов
Известное высказывание Достоевского: «Все мы вышли из „Шинели"
Гоголя» — как бы узаконило представление об основной линии исторической
преемственности: Гоголь «петербургских повестей» — натуральная школа —
русский реалистический роман XIX в. Однако давно уже отмечалось, что
вне этого пути оказываются многие существенные явления, в частности истоки
творчества Льва Толстого. Высказывалось мнение, что корни Толстого
вообще лежат вне основного русла русской литературы. Рассмотрению этого
вопроса и посвящена настоящая работа.
Демократическое сознание XVIII в. выработало представление о человеке
как о существе, прекрасном по своей природе, рожденном для счастья и
общежития. Одновременно возникла идея справедливого договорного
общества, которое организуют свободные люди ради собственного блага. В
условиях феодально-крепостнического общества обе эти идеи имели
острокритический характер. Так возникла философская проза XVIII в., в которой
жизнь современных людей — рабов и господ — рассматривалась на фоне
идеального существования свободного человека в неискаженном обществе.
Обращаясь к современной действительности, автор видел в ней искажение
естественного порядка, а в рабе цди господине стремился прозреть
изуродованные черты человека.
С мыслью об общественной природе человека тесно связано было и
представление о единстве частных и общих интересов, о нравственности
Истоки «толстовского направления» в русской литературе 1830-х годов 519
счастья: стремящийся к своему личному благополучию свободный,
неискаженный человек способствовал счастью других людей. Этим снималась
противоположность между личностью и народом.
В эту же эпоху зародились противоположные представления об исконно
злой природе человека, о независимости его характера от окружающих
общественных условий. Интересы человека и народа мыслились с таких
позиций как непримиримо враждебные. В дальнейшем на этой основе
возникла романтическая дилемма: отказ от интереса к народу (который начал
именоваться «толпой») во имя счастья богато одаренной, страстной,
находящейся вне морального суда личности или сближение с народом, понимаемым
как безликая, неиндивидуализированная масса, ценой добровольного отказа от
страстей, сложного богатства индивидуального духа и жажды счастья.
Растворяясь в народе, с точки зрения романтиков, личность теряет себя.
Революционные потрясения конца XVIII в., победа в Западной Европе
буржуазных отношений обнажили метафизическую прямолинейность
демократической идеологии «философского столетия». Усложнилось понимание
природы человека, вырабатывались принципы историзма. Представления об
истории как едином и закономерном поступательном процессе, о зависимости
характера человека вначале от исторической, а затем и от социальной среды,
лежавшие в основе русского реализма второй половины 1820-х — 1830-х гг.,
опирались на развитие русской и западноевропейской философской мысли,
на труды историков, раскрывших в феодальном обществе картину классового
антагонизма, и особенно на опыт политической борьбы народов с феодальной
реакцией в первой трети XIX в.
Вместе с тем к началу 1830-х гг. в Западной Европе уже четко обозначились
контуры буржуазного общества, черты которого все отчетливее проступали
и в русской действительности. Это породило обширную литературу критики
буржуазного уклада. Одновременно с утопическим социализмом
активизируется интерес к идеям демократических уравнителей XVIII в. (Руссо, Радищев),
еще в ту эпоху пытавшихся сконструировать идеал общества социального
равенства на основе всеобщего личного труда и трудовой собственности. Эти
идеи соседствовали с социалистическим утопизмом, частично сливались с
ним и придавали ему своеобразную окраску, особенно в странах Восточной
Европы, все еще не покончивших с феодализмом и крепостным правом.
Таков был общий идейный фон, на котором протекало литературное
развитие исследуемой эпохи.
***
Творчество Пушкина 1830-х гг. пронизано историзмом. Переход к
историческому мышлению был вместе с тем отказом от выработанного в XVIII в.
метафизического взгляда на человека и общество.
Даже среди своих современников Пушкин выделялся глубиной и
органичностью связей с культурой «философского столетия». Причем именно
наследие просветителей — демократические идеи равенства людей и их
исконных, неотъемлемых прав — в значительной степени питало революци-
520 СТАТЬИ. ЗАМЕТКИ. ВЫСТУПЛЕНИЯ. II. Изобразительное искусство
онный пафос молодого Пушкина. В период сближения в Кишиневе с кружком
Μ. Ф. Орлова обаяние идей природного равенства и общественного договора
для поэта резко возросло. Постоянным собеседником Пушкина был В. Ф.
Раевский, который «Contrat Social» Руссо «вытвердил, как азбуку». Не случайно его
ум так занимало идеальное государство «Атлантида». Пушкин, конечно, читал
Руссо и прежде. В Лицее поклонником Руссо был Кюхельбекер. Бесспорно,
однако, что воззрения Пушкина на Руссо сложились под влиянием декабристов.
Чтение Руссо наложило печать на социальные утопии юношеского кружка
Муравьевых. H. М. Муравьев вспоминал: «Я, не ставя преграды воображению
своему, возбужденному чтением Contrat Social Руссо, мысленно начертывал
себе всякие предположения в будущем. Думал и выдумал следующее: удалиться
чрез пять лет на какой-нибудь остров, населенный дикими, взять с собою
надежных товарищей, образовать жителей острова и составить новую
республику»1. Александр Муравьев на следствии показывал, что вольнодумство свое
заимствовал от чтения «разных политических книг», среди которых назвал
«Contrat Social de J. J. Rousseau». M. Фонвизин показал, что «свободный
образ мыслей» сложился у него в «17-ть лет из чтения Монтескю, Райналя и
Руссо». Желая быть точным, он исправил «чтение» на «прилежное чтение».
Именно в Кишиневе, в тесном общении с демократически настроенными
членами тайных обществ, Пушкин заново пересмотрел свое отношение к
философу, чьи взгляды, например в кругу Николая Тургенева, явно не
встречали одобрения. Изучавший историю упоминаний имени Руссо в
сочинениях Пушкина Б. В. Томашевский заключает: «Под влиянием политических
споров, возбуждаемых революционной обстановкой на Западе, Пушкин
обращается к Руссо и перечитывает его произведения»2. Именно в это время
Руссо начал восприниматься как «защитник вольности и прав» или, в черновом
варианте, «Руссо — апостол наших прав». Строки эти написаны еще в
Кишиневе, в мае 1823 г., приблизительно за полгода до того, как возник
первоначальный план «Цыган».
Поэма «Цыганы» обычно трактуется как разрыв Пушкина с романтизмом
и осуждение индивидуализма романтического героя. Б. В. Томашевский,
склонный относить поэму к явлениям романтизма, считает, что Алеко как
романтический герой вообще находится вне суда и оценок.
Думается, что проблематика поэмы вообще лежит в несколько иной
плоскости. Под влиянием бесед с кишиневскими декабристами, напитанными
просветительскими демократическими идеями об исконной доброте и
равенстве людей, Пушкин задумал поэму о жизни «естественного» человека. Такой
сюжет совсем не означал стремления уйти от острой проблематики в
буколическое благодушие. Идеал прекрасных возможностей человека лишь оттенял
мысль о его угнетенном, рабском состоянии: «Человек рожден свободным,
а между тем везде он в оковах»3. Замысел поэмы о свободном народе,
живущем по законам природы, был исполнен политической остроты и вполне
ι Русский архив. 1885. № 9. С. 25.
2 Томашевский Б. В. Пушкин и Франция. Л., 1960. С. 95—96.
3 Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре. М., 1938. С. 3.
Истоки «толстовского направления» в русской литературе 1830-х годов 521
созвучен построениям кишиневских декабристов — друзей Пушкина. С самого
начала замысел поэмы строился на противопоставлении «естественной» жизни
цыганского табора и «противоестественной» цивилизации. Мир цыган —
мир воли и веселья. Уже в первых черновиках появилась формула: «Как
вольность, весел их ночлег»1. Веселье и свобода для Пушкина так же связаны,
как уныние и рабство. И не случайно эпитет «веселый» первоначально густо
окрашивал все описание жизни цыган. В черновой редакции: «веселым
табором ночуют», Земфира привыкла к «веселой воле», в таборе «все так
весело, так живо», в дни молодости в старом цыгане кровь «весело кипела».
Алеко стал «вольный житель мира, / И солнце весело над ним / Полуденной
красою блещет». В дальнейшем Пушкин разнообразил систему эпитетов, но
это не изменило общей тональности повествования. В представлениях Руссо,
Мабли и других философов демократического крыла Просвещения свобода
неразрывно связана с равенством и бедностью. Если описание бедности
реального народа современности (например, русского крестьянина в
«Путешествии из Петербурга в Москву») — свидетельство социальной
несправедливости, так как подразумевает на другом общественном полюсе роскошь,
то идеальный народ философской повести весь беден, и это мыслится как
необходимое условие равенства. Руссо уже в «Рассуждении» на тему, заданную
Дижонской академией, доказывал, что науки гибельны не сами по себе, а
именно потому, что не могут развиваться без роскоши: «Что были бы
искусства без роскоши, которая их питает?»; «Таким образом, роскошь,
разврат и рабство были во все времена карой за горделивые усилия выйти
из счастливого невежества, в которое нас погрузила вечная премудрость»2.
Мабли писал о современной ему Европе: «Разумы равно от сребролюбия и
сладострастия изнемогают» (цит. по переводу А. Н. Радищева)3. Таким
образом, картины бедности и невежества входили в положительную
характеристику народа. В них видели залог равенства и социальной справедливости.
Так появляются «издранные шатры». Вместо «полузавешанных коврами»
первоначально было: «покрытых бедными коврами», «рубищем». Бедность
и воля — синонимы. Старый цыган говорит:
Будь наш — привыкни к нашей доле,
Бродящей бедности и воле (IV, 180).
Пушкин резко подчеркнул эту связь (бедность и свобода) в наброске
примечания к «Цыганам»: «Привязанность к дикой вольности, обеспеченной бед-
ностию» (XI, 22).
Антагонистом бедной и простой жизни цыган является «неволя душных
городов». Цивилизованное общество — богатое и рабское одновременно:
там «просят денег да цепей» (IV, 185).
1 Пушкин А. С. Поли. собр. соч.: В 16 т. М.; Л., 1937. Т. 4. С. 405. Далее ссылки
на это издание приводятся в тексте с указанием тома (римская цифра) и страницы
(арабская).
2 Rousseau J.-J. Oeuvres complètes. Paris, 1825. T. 1. P. 25, 23.
3 Радищев A. Я. Поли. собр. соч.: В 3 т. М.; Л., 1941. Т. 2. С. 245.
522 СТАТЬИ. ЗАМЕТКИ. ВЫСТУПЛЕНИЯ. П. Изобразительное искусство
...там огромные палаты,
Там разноцветные ковры...
Эти стихи содержат прямое противопоставление жилищу старого цыгана
и Земфиры:
...телега,
Убогим крытая ковром (IV, 202).
цыган также противопоставляет любовь к свободе и любовь к
Ты любишь нас, хоть и рожден
Среди богатого народа.
Но не всегда мила свобода
Тому, кто к неге приучен (IV, 186).
Именно любовь к роскоши, неспособность привыкнуть «к заботам жизни
бедной» не дали Овидию насладиться в изгнании вольностью. В черновых
вариантах особенно резко подчеркнуто то, что герой оставил ради свободы
«златую» «роскошь и забавы», бросил цепи «роскоши пустой» (IV, 414—415).
Резкое сближение Пушкина с демократическими тенденциями
философской мысли XVIII в. сильно чувствуется в «Цыганах». Деятели Союза
Благоденствия придавали просвещению особое значение в освободительной
борьбе, и Пушкин до южной ссылки вполне разделял их убеждения. Даже в
1821 г. в Кишиневе, переживая усиление радикальных настроений, поэт все
еще верил в связь просвещения и свободолюбия. Он стремился в «просвещении
стать с веком наравне» (II, 187). Но уже в 1824 г., одновременно с работой
над «Цыганами», он пишет:
Где благо, там уже на страже
Иль просвещенье, иль тиран.
Тирания и цивилизация приравнены. За этим стоит убеждение, что
человеческое общество страдает не от несовершенства человека, а от порочности
социального строя, который должен быть переделан. Эта мысль подчеркнута
и в «Цыганах». Алеко «волен», потому что презрел «оковы просвещенья».
Противопоставление свободы патриархального общества рабству
цивилизации особенно резко выразилось в судьбе героя поэмы. Город, из которого
ушел герой, — царство Закона. «Его преследует Закон». Закон с большой
буквы — это, конечно, не какой-нибудь конкретный, нарушенный героем
законодательный акт, а сама идея государственной организации людей. В
предшествующий период Пушкин, как и большинство декабристов, считал,
что народ неразумен, подчинен страстям и может двигаться к свободе, лишь
подчиняясь просвещенному руководству. Поэтому он уделял особое внимание
Закону как силе, способной регулировать отношения между членами общества,
властью и народом: «С вольностью святой / Законов мощных сочетанье».
Но если считать, что люди по природе склонны к добру, если между частным
и общим благом нет противоречий, то отпадает необходимость в Законе,
регулирующем отношения человека с другими людьми. Цыгане живут без
властей, без Закона, не образуя гражданского общества. Очень существенна
Старый
богатству:
Истоки «толстовского направления» в русской литературе 1830-х годов 523
такая деталь. Земфира, объясняя отцу, почему Алеко решил стать цыганом,
первоначально говорила: «Ему по сердцу наш закон». Пушкин исправил «по
сердцу» на «по нраву» и остановился на этом варианте как на
окончательном — переписал отрывок (IV, 409, 410). Но в окончательном тексте он
резко изменил смысл: у цыган нет Закона, Закон — принадлежность
гражданского общества, враг свободы. Стих зазвучал: «Его преследует Закон».
Центральное место, в этом смысле, — изъятый из окончательного текста
монолог Алеко над колыбелью младенца: ребенок не будет гражданином,
потому что Алеко хочет воспитать его человеком. Сын Алеко вместе с жизнью
получил «неоценимый дар свободы»:
Расти на воле без уроков
Не знай стеснительных палат
И не меняй простых пороков
На образованный разврат
Под сенью мирного забвенья
Пускай цыгана бедный внук
Лишен и неги просвещенья
И пышной суеты наук —
Зато беспечен, здрав и волен... (IV, 445)
И далее:
От общества быть может я
Отъемлю ныне гражданина —
Что нужды — я спасаю сына —
И я б желал чтоб мать [моя]
Меня родила в чаще леса... (IV, 446)
При этом необычайно существенно то, что в роли «естественного народа»
у Пушкина выступает народ кочевой, лишенный земельной собственности.
Следует помнить, что Руссо в трактате «О причинах неравенства» подчеркнул,
что именно земельная собственность порождает общественное состояние
человека: «Первый, кто, огородив участок земли, придумал заявить: „Это
мое" — и нашел людей достаточно простодушных, чтобы тому поверить,
был подлинным основателем гражданского общества»1. Ту же мысль развивал
и Радищев в хорошо известном Пушкину трактате «О человеке, его смертности
и бессмертии».
Сын Алеко — «дитя любви, дитя природы», а не закона: Алеко и Земфиру
связывает свободная сердечная склонность, а не юридическая зависимость.
Не случайно Пушкин отбросил формулы «Я для него супругой буду», «И я
его женою буду» ради «Но я ему подругой буду» (IV, 409, 180). Слово «муж»
будет применено к Алеко лишь тогда, когда начнется борьба между ним и
Земфирой за право ее на свободу. Принимая Алеко в семью и общество,
старик не требует ни клятв, ни обрядов, ни обязательств.
Я рад. Останься до утра
Под сенью нашего шатра
ι Руссо Ж.-Ж. Трактаты. М., 1969. С. 72.
524 СТАТЬИ. ЗАМЕТКИ. ВЫСТУПЛЕНИЯ. II. Изобразительное искусство
Или пробудь у нас и доле,
Как ты захочешь... (IV, 180)
Только добровольное согласие удерживает Алеко в обществе цыган. За
преступление он наказуется лишь изгнанием, ибо, как доказывали многие
мыслители XVIII в., общество не может ни удержать человека против его
воли, ни лишить жизни.
Свободные люди патриархального общества просты душой, добры, им
незнакомы злоба и ревность. «Нет существа более кроткого, чем человек в
первоначальном состоянии»1, ибо именно в нем проявляется с наибольшей
силой природа человека. Радищев писал: «Из внешнего сложения человека
видели мы, что менее всех других животных он способен к хищности. Пальцы
его не вооружены острыми когтями для раздирания своея снеди, как у тигра;
нет у него серпообразных клыков на отъятие жизни. <...> Итак, человек не
есть животное хищное»2.
Доброта человека, ведущего естественный образ жизни, исключает
ревность — чувство собственника. «Караибы — народ, который менее, чем
какие-либо из ныне существующих народов, отдалился от естественного
своего состояния, — как раз миролюбивее всех в своих любовных делах и
менее всех подвержены ревности, хотя они и живут в знойном климате,
который, казалось бы, должен сообщать страстям этим еще большую
деятельность»3.
Характерно, что в монологе Алеко над колыбелью сына ревность
причислена к общественным предрассудкам наравне с сословной дворянской
честью, зависимостью от вельмож и т. д.
Нет не преклонит он [колен]
Пред идолом какой-то чести
Не будет вымышлять измен
Трепеща тайно жаждой мести... (IV, 446)
Однако, если подвергнуть внимательному рассмотрению первоначальный
замысел поэмы, становится очевидным, что даже во время наиболее
решительного отрицания современного социального порядка Пушкин не был во
всем согласен с Руссо. Руссо считал, что «естественный человек» прост,
добродушен, неярок. Он говорит даже о «косности первобытного состояния».
Обычный человек заботится о своем собственном счастье. «Взоры истинного
героя простираются далее: счастье людей — вот его цель»4. На основе
подобных представлений вырастала мораль героического аскетизма,
разнообразно проявившаяся и в якобинском искусстве, и в творчестве Шиллера,
и в русской гражданской поэзии 1800—1810-х гг.
Позиция Пушкина была более сложной: он отдал дань (особенно в лирике)
декабристскому противопоставлению гражданской и любовной поэзии. В его
1 Руссо Ж.-Ж. Трактаты. С. 77.
2 Радищев А. Н. Поли. собр. соч. Т. 2. С. 53.
3 Руссо Ж.-Ж. Трактаты. С. 68.
4 Rousseau J.-J. Oeuvres complètes. T. 1. P. 392. Перевод с φρ. мой. — Ю. Л.
Истоки «толстовского направления» в русской литературе 1830-х годов 525
стихотворениях первого петербургского и южного периодов мы встретим
идеал сурового гражданина, пренебрегающего радостями любви. Но в лирике
тех же лет мы найдем и другой идеал, связанный с пониманием природы
страстей философами-материалистами XVIII в. Это будет образ человека,
гармонически развитого, исполненного жизненных сил и жажды счастья,
свободолюбивого не вопреки своей привязанности к земной любви и красоте,
а именно благодаря ей. Страстная, яркая личность не противостоит в этом
понимании героическому образцу борца, а сливается с ним.
В «Цыганах» мир неволи — мир однообразия, серости, где страсти
заменены торговлей, где нет ни ярких умов, ни ярких чувств. Мир цыган не
только свободен — он ярок, нестроен, самобытен, исполнен огня страстей
и движений. Это добрые, но самобытные и пламенные характеры:
Все живо посреди степей (IV, 179).
Лохмотьев ярких пестрота,
Детей и старцев нагота,
Собак и лай и завыванье,
Волынки говор, скрып телег,
Все скудно, дико, все нестройно,
Но все так жкво-неспокойно,
Так чуждо мертвых наших нег,
Так чуждо этой жизни праздной,
Как песнь рабов однообразной! (IV, 182; курсив мой. — Ю. Л.)
В городах:
Любви стыдятся, мысли гонят (IV, 185).
В этом стремлении подчеркнуть полноту красок народной жизни нельзя
не увидеть и подход, прямо противоположный романтизму. Противопоставляя
личность «толпе», романтики охотно говорили о герое ярком, необычном,
грандиозном. Но сама эта характеристика подразумевала представление о
«пошлой» и безликой толпе. Мысль о яркой личности, составляющей лишь
единицу в «пестро-нестройной», яркой народной толпе, романтизму чужда.
Если он и обращается к народу, то делает это в поисках «внеличностного»:
смирения, простоты, отказа от индивидуального своеобразия. Между тем в
«Цыганах» личность Земфиры не менее ярка, чем Алеко. Противостоит не
яркий герой безликой массе, а яркость свободного примитивного народа
однообразию рабской жизни города.
Если бы вся разработка сюжета была завершена в этом ключе, то и
трагическая развязка — результат столкновения двух сильных и свободных
натур — не бросила бы тени на антитезу жизни вольного народа степей и
рабского мира цивилизации. Но между замыслом поэмы и ее завершением
для Пушкина пролегли дни горьких разочарований и тяжелых размышлений.
События 1823 г., неудачи европейских революций, разгром кишиневского
гнезда декабристов, горькое недоумение при виде равнодушия народов к
своим правам и оторванности передовых людей от народа — все это ввело
Пушкина в новый цикл размышлений. Прежде всего подверглась сомнению
526 СТАТЬИ. ЗАМЕТКИ. ВЫСТУПЛЕНИЯ. П. Изобразительное искусство
просветительская идея природной доброты и разумности человека, на которой
зиждилась вера в социальные преобразования:
[И взор я бросил на] людей,
Увидел их надменных, низких,
[Жестоких] ветреных судей,
Глупцов, всегда злодейству близких.
Пред боязливой их толпой,
[Жестокой], суетной, холодной,
[Смешон] [глас] правды благо[родны]й,
Напрасен опыт вековой (II, 293).
Кто жил и мыслил, тот не может
В душе не презирать людей (VI, 24).
Эти строки создавались почти одновременно. Пушкина стал занимать образ
эгоиста, Наполеона. Черты его проступили в облике Онегина и Алеко. Но
и «мирные народы» перестали восприниматься как носители положительного
идеала. Поэма «Цыганы» получила пессимистическую концовку. Прежде
бедность воспринималась как залог свободы и счастья. Мучительные, «злые»
страсти раздирают лишь цивилизованное общество. Охваченный раздумьями
переходного периода, Пушкин склонен видеть трагическое несовершенство
в самой природе человека. Бедность не несет счастья:
Но счастья нет и между вами,
Природы бедные сыны!..
И под издранными шатрами
Живут мучительные сны (IV, 203—204).
Мы видим, что общий замысел поэмы был не романтическим, а
просветительским, и лишь в момент идейного кризиса и сомнений в просветительских
идеалах на поэму наслоились краски, внешне напоминающие
романтические, — явление, которое уже наблюдалось в «Евгении Онегине».
Обычно определяют место «Цыган» в творческой эволюции Пушкина
как рубеж — переход от южного, «романтического» этапа к реалистической
поэзии Михайловского периода. В качестве оснований для отнесения «Цыган»
к романтизму выдвигают яркую, экзотическую природу картин, интерес к
жизни примитивного вольного народа, эгоизм центрального персонажа
поэмы. Правда, историкам литературы приходится учитывать, что к моменту
создания «Цыган» Пушкин уже углубился в работу над «Евгением Онегиным».
Хронология пушкинского творчества явно усложняет общепринятую
историко-литературную схему. Что касается интереса к вольной жизни
«естественного» народа, то, как мы видели, он был присущ не только романтизму,
но и Просвещению. Более того, в творчестве писателей-романтиков (например,
Байрона) он возникал под влиянием Руссо и литературы XVIII в. и явно
вступал в противоречие с романтическим представлением о злой,
демонической природе человека. И в пушкинских «Цыганах» мы встречаем ряд
основополагающих художественных черт, резко отличных от эстетики романтизма.
Здесь нельзя говорить о том, что герой произведения является alter ego самого
автора в том смысле, в котором Пушкин позже писал о творчестве Байрона.
Истоки «толстовского направления» в русской литературе 1830-х годов 527
Никакие ссылки на пушкинские странствия с цыганским табором не отменяют
того очевидного факта, что автор, уже осмеявший романтическое
представление:
Как будто нам уж невозможно
Писать поэмы о другом,
Как только о себе самом (VI, 29), —
смотрит на героя со стороны. Герой не занимает в произведении
исключительного места, которое превращало в романтической поэме всех остальных
персонажей в бледные тени, сопутствующие основному лирическому образу
или противопоставленные ему, но в любом случае не имеющие
самостоятельного идейно-художественного бытия. Наконец, важно и то, что народ в
поэме — не экзотический фон для исключительного героя, а самостоятельная,
этически более полноценная, чем он, сила. Все это позволяет предположить,
что преодоление романтизма произошло не в ходе работы над «Цыганами»,
а ранее. Романтический период в творчестве Пушкина вообще, видимо, не
был ни продолжительным, ни глубоким. В Кишиневе, под влиянием друзей-
декабристов, Пушкин испытал серьезное воздействие идей Просвещения,
особенно в его радикально-демократическом (Руссо) варианте. Есть основания
полагать, что на юге Пушкин проявлял интерес к публицистике французской
буржуазной революции XVIII в., читал Сен-Жюста. В этих условиях
романтические представления значительно деформировались и частично отошли
на второй план. Внимание поэта в первую очередь привлекли проблемы не
страстей титанической личности, а прав человека, социальной
несправедливости, «естественной» структуры общества, народа как хранителя этической
чистоты. В «Цыганах» перед нами не отказ от романтизма, а преодоление
прямолинейно-просветительского взгляда на человека и общество во имя
более сложного и исторически более конкретного представления. Причем,
как мы видели, стремление раскрыть противоречивость природы человека,
ускользавшую от просветителей, привело на какое-то время к возрождению
романтического представления о вечных страстях и романтически-злой,
демонической природе человека. В творчестве Пушкина мелькнул образ Демона.
Правда, и последующие главы «Евгения Онегина», и движение его к
исторической драме быстро дали другое, более конкретное решение вопроса
природы человека.
Стремление к конкретности в изображении человека и общества привело
Пушкина к представлению о том, что предметом художественного
воспроизведения является не «природа» человека, а быт, эмпирически-конкретная,
данная писателю в непосредственном наблюдении жизнь. Другим следствием
преодоления нормативности подхода к человеческой личности был
историзм — стремление увидеть в человеке не вечную «природу», а исторически
обусловленный характер. Этим совершался переход от просветительского
реализма к реализму XIX в.
Однако соотношение этих двух художественных систем исторически не
сводилось к простой смене одной другою. Просветительская вера в доброту
человека порождалась демократическим сознанием эпохи феодализма. Она
528 СТАТЬИ. ЗАМЕТКИ. ВЫСТУПЛЕНИЯ. II. Изобразительное искусство
отметала весь существующий социально-политический строй как извращенное
и противоестественное создание человеческих предрассудков. До тех пор пока
общедемократические задачи, стоящие перед русским обществом, не были
решены, просветительство не только не могло исчезнуть — оно оставалось
оружием в руках антифеодальных сил. Именно оно обусловливало
пронизывающий русскую литературу XIX в. пафос морального суда над
действительностью. В этот период представление о действительности как исторически
сложившейся реальности неизбежно толкало на примирение с нею; идея
естественной природы человека и противоестественности общественного
устройства, делая действительность объектом не исторических, а нравственных
оценок, обусловливала возможность «суда» над жизнью.
Поэтому просветительский, «антропологический» подход к изображению
человека не исчез в русской литературе XIX в., как это произошло во
французской литературе, — он, то отступая на задний план, то возрождаясь
в эпохи социальных кризисов, дожил до времени полного разрушения
феодально-крепостнического порядка.
Вместе с тем антифеодальные революции на Западе и утверждение там
буржуазного общества, сопровождаемое бурным техническим прогрессом,
порождали цивилизацию настолько сложную, так явственно раскрывали
противоречивость человеческих характеров и сложность социальных отношений,
столь неразрывно связывали человека с историей, а самое эту историю в
такой мере представляли непохожей и на прямолинейное шествие к разуму,
и на не менее прямолинейное «искажение» исконной «доброты», что
просветительские идеалы не могли не показаться примитивными и наивными.
Историзм мышления заставлял относиться с уважением к действительности,
в которой переставали видеть случайное порождение человеческого неразумия,
а прозревали высшую историческую закономерность в конкретном
проявлении. Путь к постижению общих законов движения человечества представлялся
как лежащий через внимательное наблюдение исторически-конкретных
жизненных картин. Наблюдения над сложными конфликтами буржуазной жизни
Запада, а затем — все более быстрое усложнение русской жизни,
пропитываемой новыми коллизиями и отношениями, приводили к стремлению
писателей углубиться в живую, эмпирически данную им жизнь, чтобы в ее гуще
найти решение социальных конфликтов. Эта двойная художественная
тенденция — историзм и антропологизм, — определенная своеобразием
русской жизни XIX в., соединявшей и элементарные в своей социальной
грубости конфликты крепостнической эпохи, и сложные противоречия
буржуазной цивилизации, составляла одну из характерных черт русского реализма
XIX в.
Между мышлением радикальных просветителей типа Руссо или
Радищева и историческим сознанием XIX в. было еще одно глубокое различие:
второе видело в истории целенаправленный прогрессивный процесс, первые —
удаление от социальной нормы «естественных» человеческих отношений.
Борьба этих двух концепций имела в русской литературе XIX в. большое
будущее.
Истоки «толстовского направления» в русской литературе 1830-х годов 529
Преодоление метафизического мышления просветителей, выработка
историзма изменили всю систему воззрений Пушкина. Однако историческое
мышление с его представлением о железной поступи объективных законов
истории и гуманистическая традиция XVIII в. вступали в противоречие. В
творчестве Пушкина 1830-х гг. и идеи историзма, и мотивы гуманности звучат
с возрастающей силой («Чувствительность бывала в моде /Ив нашей северной
природе»; «Герой, будь прежде человек!»). Так возникала тема «милости»,
«беспринципности сердца», по выражению Б. Пастернака.
В чем же общественный смысл подобной позиции? Умеренный просветитель
(не радикально-демократического толка, вроде Руссо или Радищева), борясь
с феодальным беззаконием, апологетизировал «гражданское» (то есть
буржуазное) общество как царство равенства и справедливости. И. Д. Якушкин
писал, вспоминая 1820-е гг.: «Ужасное положение пролетариев в Европе тогда
еще не развилось в таком огромном размере, как теперь, и потому вопросы,
возникшие по этому предмету уже впоследствии, тогда не тревожили даже
самых образованных и благонамеренных людей. Крепостное же состояние у
нас обозначалось на каждом шагу отвратительными своими последствиями»1.
Однако в 1830-е гг. стали заметны уже и противоречия буржуазного
порядка. Будучи бесконечно удален от каких-либо конкретных идеалов
будущего общественного порядка, Пушкин гениально предчувствовал главное:
замену гражданского общества — человеческим; предстоит не смена одной
политической системы другой, а замена политики человечностью. «Ближе к
Пушкину, т. е. человечности», — писал А. Блок2. Эта точка зрения позволила
Пушкину весьма своеобразно решить и вопрос отношения к историческому
прогрессу, буржуазной цивилизации. Пушкин пережил уже и увлечение идеями
просветительства, и критику их с позиций историзма и диалектики. Теперь
наступило время попыток своеобразного синтеза. Переживая вновь интерес
к просветительской идее человека, Пушкин вместе с тем продолжает верить
в прогрессивность исторического движения. Идеал человеческого общежития
лежит не у истоков, а в итоге исторического движения. Цивилизация несет
гуманность. В этом смысле очень интересен замысел «Тазита». Как и в
«Цыганах», здесь сталкиваются человек цивилизации и примитивный народ,
но там носителем идеи места был Алеко, а народ устами старого цыгана
отвергал право человека на чужую жизнь. Теперь обычаи первобытного
народа требуют пролития крови, а цивилизованное христианское сознание
героя отвергает этот путь.
Однако, связывая успехи гуманности с ростом науки и техническим
прогрессом, оптимистически глядя на перспективы развития человечества,
Пушкин весьма пессимистически оценивал итоги современного ему
социального прогресса. Он пытался отделить буржуазную цивилизацию от успехов
научного знания.
1 Якушкин И. Д. Записки, статьи, письма. М., 1951. С. 32.
2 Блок А. Собр. соч.: В 8 т. М.; Л., 1963. Т. 7. С. 187. Блок сочувственно пересказывает
слова В. Э. Мейерхольда.
530 СТАТЬИ. ЗАМЕТКИ. ВЫСТУПЛЕНИЯ. П. Изобразительное искусство
-к-к-к
Просветители XVIII в. выдвинули требование возврата к природе
человека, «нормальному» обществу, построенному на «естественных» принципах
равенства, свободы и трудовой собственности. Подобные идеи не могли
устареть, пока не устарели общественные коллизии
феодально-крепостнического уклада. Обострение социальных конфликтов в 1830—1840-е гг. привело
к увеличению в общественном сознании удельного веса просветительских
идей. Идеи эти, также включая в себя идеализацию патриархальности, по
своей социально-философской сущности были прямо противоположны
рассмотренной выше точке зрения.
Романтическая точка зрения противопоставляла, как мы уже отмечали,
яркую личность и безликую массу. Менялась оценка этих компонентов
(личность могла называться «гениальной» или «эгоистической», масса — «чернью»
или «народом»), но характер антитезы сохранялся, ибо вытекал из самых
основ философского мышления романтизма. Для просветителей неугнетенная,
находящаяся в «нормальных» условиях общественного равенства,
предоставленная своим «естественным» возможностям человеческая личность неизбежно
разовьется ярко, полнокровно, раскрывая прекрасные потенции человека. Не
имея нужды подавлять свое стремление к счастью (жертва как основа морали
отвергается), этот человек будет одарен сильными страстями. Жажда счастья
и жажда свободы взаимно дополняют друг друга в его характере. Вместе с
тем это будет личность, не противостоящая народу, а составляющая народ
вместе с другими, ей равными. Народ — это организованная на основах
социального равенства масса ярких человеческих личностей.
Человек, развивший свои прекрасные возможности, — равноправный член
свободного человеческого общества, живет в мире реальных ценностей:
красоты, одаренности, силы, мужества. Ими измеряется общественное
достоинство того или иного члена коллектива. Этому противостоит современное
писателям XIX в. бюрократическое общество, построенное на «выдуманных»,
ложных достоинствах чина и денег, не имеющих реальной человеческой
ценности. Человек при таком подходе будет противопоставлен чиновнику.
В первом будут выделены его яркость, страстность, во втором — безличность,
вымороченность, отсутствие человеческого содержания. Реальность
естественного человеческого бытия будет противопоставляться ирреальной
фантасмагории реально существующего чиновничьего государства. Ясно, что ни
фантастика сюжетов, переносящих действие в вымороченный мир
бюрократии, ни яркость персонажей, воплощающих антропологические возможности
человека, не дают оснований для поисков здесь эстетики романтического
субъективизма. Перед нами нечто совсем иное — влияние идей
просветительства.
Если представлять себе художественный метод как выражение
художественного видения мира, реализующего наиболее полно идеологическую
позицию писателя, априорно делается сомнительным, чтобы крупный, самобытный
художник в одно и то же время создавал произведения, отражающие
диаметрально противоположные системы художественного мироощущения —
Истоки «толстовского направления» в русской литературе 1830-х годов 531
реалистическую и романтическую. Именно в такую странную позицию
поставлен исследователями Лермонтов. Лермонтов — автор «Героя нашего
времени», «Сашки», «Тамбовской казначейши», лирики 1837—1841 гг. — не
только реалист, но и борец с романтизмом; Лермонтов — автор «Мцыри» —
поэт-романтик. Правда, порой разница в определении художественного
метода «Мцыри» проистекает не столько от различия в понимании
художественной природы лермонтовской поэмы, сколько от определения объема
понятий «романтизм» и «реализм». Так, хотя мы не видим в «Мцыри» основных
стилеобразующих черт романтизма, а Д. Е. Максимов, назвавший, правда,
поэму «заключительным словом поэта-романтика, уходящего от романтизма»1,
определяет ее как романтическую, общее понимание исследователем
художественной структуры поэмы Лермонтова кажется нам глубоким и
плодотворным. Поэтому, не повторяя общего разбора проблематики произведения,
данного Д. Е. Максимовым (а также в трудах С. Н. Дурылина, Б. М.
Эйхенбаума, А. Н. Соколова), остановимся на той стороне вопроса, которая не
привлекала внимания авторов-исследователей, — на положительной программе
Лермонтова (основываясь на тексте этой поэмы) в связи с общими проблемами
просветительской идеологии. «Железный стих» Лермонтова, суд его над
современностью потому и был таким суровым и гневным, что возникал на фоне
хотя и утопического, но ясно осознанного общественного идеала:
Тогда с отвагою свободной
Поэт на будущность глядит.
И мир мечтою благородной
Пред ним очищен и обмыт2.
При этом необходимо остановиться на соотношении позиции Лермонтова с
концепциями Руссо, интерес к идеям которого в 1830—1840-х гг. был тесно
связан с движением социально-утопической мысли. И в этом смысле
особенную ценность в обширной литературе, посвященной «Мцыри», представляет
исследование Д. Е. Максимова, поставившего вопрос о поэме как
произведении, одновременно конкретно-бытовом и философски обобщенном, и
указавшего на соотношение человека и природы, «тюрьмы» и «воли» как на
основные ее проблемы. При этом не только постановку вопроса, но и само
решение, предлагаемое Д. Е. Максимовым, следует признать правильным. И
все же один из основных вопросов — вопрос художественного метода
поэмы, — как представляется, требует дальнейшего обсуждения.
Как ни решать эту проблему, нельзя не заметить коренной разницы в
построении образов Демона и Мцыри. Разница между этими образами
качественная: Демон зол по природе — приобщение к добру для него возможно
лишь путем внутреннего перерождения, изменения своей сущности. Поэтому
1 Максимов Д. Поэзия Лермонтова. Л., 1959. С. 240.
2 Лермонтов М. Ю. Соч.: В 6 т. М.; Л., 1954. Т. 2. С. 149. Далее ссылки на
это издание приводятся в тексте с указанием тома (римская цифра) и страницы
(арабская). (Об элементах социального утопизма в поэзии Лермонтова говорил
Б. М. Эйхенбаум; см., например: Эйхенбаум Б. М. Статьи о Лермонтове. М.; Л., 1961.
С. 362—363.)
532 СТАТЬИ. ЗАМЕТКИ. ВЫСТУПЛЕНИЯ. И. Изобразительное искусство
трагический конфликт перенесен извне (герой — действительность) вовнутрь
(добро и зло в сердце героя). Злая природа героя — не в вульгарном
стремлении к «плохому» при возможности «делать добро». Трагичность
Демона — в невозможности добра, к которому он искренне стремится.
Невозможность добра, исконный эгоизм проистекают от неизбежного для
всякой личности, возвысившейся над толпой, замыкания в кругу собственных
представлений, из-за полной отгороженности от любых объективных —
прежде всего этических — ценностей.
Такой герой «выше и похвал, и славы, и людей» (I, 47); «собранье зол
его стихия» (I, 57). Зло и одиночество — совсем не добровольный идеал
«души великой»; это ее проклятье, преодолеть которое он тщетно стремится:
На жизнь надеяться страшась,
Живу, как камень меж камней,
Излить страдания скупясь:
Пускай сгниют в груди моей.
Рассказ моих сердечных мук
Не возмутит ушей людских.
Ужель при сшибке камней звук
Проникнет в середину их? (I, 112)
С этим связана роковая отгороженность Демона (и демонического героя
лирики) от высших ценностей объективного мира — народа и природы:
И дик, и чуден был вокруг
Весь божий мир; но гордый дух
Презрительным окинул оком
Творенье бога своего,
И на челе его высоком
Не отразилось ничего (IV, 185).
В этих стихах есть богоборческий максимализм, но есть и равнодушие к
красоте мира, «дикого и чудного».
Принципиально иначе строится образ Мцыри. Прежде всего, он не
противостоит народу — он сам народ. Демон — образ из романтической поэмы,
которая обусловливает исключительный интерес к герою исключительностью
его личности. Образ Мцыри связан с «философской» прозой, прозой XVIII в.,
которая изучала жизнь отдельного человека, ибо была убеждена в том, что
народ, человечество — механическая сумма отдельных людских единиц, и
на примере отдельного персонажа, Робинзона, можно изучить все свойства
и человека, и человечества. «Мцыри» — не философская схема. Как
справедливо отметил Д. Е. Максимов, «явленная в „Мцыри" действительность
Кавказа, в целом отнюдь не условная, подлинная, просвечивает скрывающейся
за ней русской действительностью, но и ею не исчерпывается. Это
просвечивание текста поэмы, неизбежное появление за ним второго, более объемного
содержания и заставляет говорить о ней как о произведении с потенцией к
двухпланному построению»1.
1 Максимов Д. Поэзия Лермонтова. С. 267—268.
Истоки «толстовского направления» в русской литературе 1830-х годов 533
Но ведь и «Робинзон Крузо» — совсем не философская схема. Более
того, читательская практика прочно ввела это произведение в круг детской
литературы, то есть узаконила восприятие лишь одного, «эмпирического»
плана, превратила философскую прозу в приключенческую.
Конечно, «Мцыри» — не простой возврат к литературе XVIII в., не отказ
от того периода литературного развития, одним из важнейших достижений
которого было преодоление схематизма просветительского мышления.
Сложность позиции Лермонтова (как и Герцена) была в том, что, отходя от
романтического субъективизма, он усваивал достижения реалистического
сознания, явившиеся преодолением просветительской метафизики, —
психологизм и историзм. Но это происходило в эпоху, когда вновь возрастал интерес
к просветительскому мировоззрению, выступавшему в эти годы как
философский фундамент зарождавшегося утопического социализма. Выделяя этот
слой в «Мцыри», мы, таким образом, отнюдь не приравниваем поэму
Лермонтова к философской прозе XVIII в., но стремимся прояснить своеобразную
сторону лермонтовской позиции.
Судьба Мцыри зажата между двумя противоположными стихиями —
монастырем и природой. Эти стихии противопоставлены не только этически
как добро и зло, но и социально. Зло монастыря — искусственное, созданное
людьми, извращающее естественные отношения людей; это рабство. Мир
природы не только мир свободный, он естествен, гармонирует с самой
сущностью человеческого сердца. Вся система образов раскрывает единство
природы, народа и неизвращенной человеческой личности. По природе своего
сердца Мцыри чужд зла и эгоизма, он тянется к людям, свободе и братству.
Мцыри — «душой дитя» — человек, а не исключительный,
возвышающийся над людьми дух. Именно поэтому он открыт восприятию всей
окружающей жизни, жаждет единения с ней. Поэма композиционно распадается
на две части. В первой Мцыри, враждебный тюремному духу монастыря,
убегает, для того чтобы обрести свободу на родине. В этой части герой —
человек природы. Вся система образов подчеркивает это. Весь окружающий
мир живо говорит ему:
Я видел груды темных скал
И думы их я угадал... (IV, 153)
Именно отношение к природе, чувство братства с ней или робкая боязнь,
разделяет Мцыри и монахов:
И в час ночной, ужасный час,
Когда гроза пугала вас,
Когда, столпясь при алтаре,
Вы ниц лежали на земле,
Я убежал. О, я как брат
Обняться с бурей был бы рад!
Глазами тучи я следил,
Рукою молнии ловил... (IV, 155)
534 СТАТЬИ. ЗАМЕТКИ. ВЫСТУПЛЕНИЯ. П. Изобразительное искусство
Мцыри понимает речь воды («Мне внятен был тот разговор»), даже шакал
и змея для него — свои в этом родном и понятном мире:
Но страх не сжал души моей:
Я сам, как зверь, был чужд людей
И полз и прятался, как змей (IV, 156).
Он «как зверь степной», «чужой для них [людей] навек», слушает голоса
природы, глубоко проникая в их значение:
И снова я к земле припал,
И снова вслушиваться стал
К волшебным, странным голосам;
Они шептались по кустам,
Как будто речь свою вели
О тайнах неба и земли;
И все природы голоса
Сливались тут... (IV, 157)
Легко может показаться, что перед нами — романтический
герой-индивидуалист, враждебный людям («чужой для них»), жаждущий им зла, наподобие
Гана Исландца, чья борьба с волком внешне очень напоминает битву Мцыри
с барсом.
Подобное заключение было бы, однако, глубоко ошибочно. Мцыри
потому чужд людям (монахам, царским генералам, везущим «пленного
ребенка», — для Лермонтова это оксюморон, исполненный глубоко трагического
смысла), что они бесчеловечны, как бесчеловечен созданный ими общественный
порядок. Природа же — человечна. Не случайно она дается в антропоморфных
образах. Даже барс стонет, «как человек». Но природа не просто обладает
красотой, правдивостью, прямотой и отвагой — лучшими свойствами человека.
Она общественна и таит в себе прообраз подлинного человеческого общежития.
В ней нет места одиночеству. Монахи хотят оторвать Мцыри от всех
естественных человеческих связей, воспитуют в нем одиночество:
Я никому не мог сказать
Священных слов — «отец» и «мать».
Конечно, ты хотел, старик,
Чтоб я в обители отвык
От этих сладостных имен (IV, 151).
Их мир отнимает у человека «отчизну, дом, друзей, родных». Вся образная
система природоописания создает, напротив, впечатление дружбы,
дружелюбия и родства. Деревья — «как братья в пляске круговой», скалы «жаждут
встречи каждый миг»1.
1 Ср. в «Валерике»:
Я думал: жалкий человек.
Чего он хочет!., небо ясно,
Под небом места много всем,
Но беспрестанно и напрасно
Один враждует он — зачем? (II, 172)
Истоки «толстовского направления» в русской литературе 1830-х годов 535
Но мир «воли» — не буколика. Населенный сильными и смелыми
существами, он требует энергии, готовности к борьбе. Не следует забывать, что
жизнь, «полная тревог», «чудный мир тревог и битв» — это положительная
характеристика. Ведь подразумеваются не те битвы, в которых клевета
торжествует над честью, а мундир над человеком. Это битвы, которые служат
испытанием подлинных достоинств человека, сила в них честно сталкивается
с силой. Не следует думать, что демократические мыслители XVIII в. считали
«естественным порядком» тот, который исключает борьбу и энергию. Руссо
подчеркивал, что напряжение страстей — залог свободолюбия: «Скажут, что
деспот обеспечивает своим подданным гражданское спокойствие. <...> Что
выигрывают они, если и спокойствие это есть одно из их бедствий? Живут
спокойно и в тюрьмах»1. В «Эмиле, или О воспитании» Руссо писал: «Жить
не значит дышать, это значит действовать». Эту же мысль неоднократно
подчеркивал и Радищев:
Покоя рабского под сенью
Плодов златых не возрастет2.
Радищев приводит доводы тех, кто оправдывает «наемное удовлетворение
любовныя страсти» (поскольку «увозы, насилия, убийство нередко бы
источник свой имели в любовной страсти»), и заключает: «И вы желаете лучше
тишину и с нею томление и скорбь, нежели тревогу и с нею здравие и
мужество. Молчите, скаредные учители, вы есть наемники мучительства; оно,
проповедуя всегда мир и тишину, заключает засыпляемых лестию в оковы.
Боится оно даже посторонния тревоги»3.
Жизнь в монастыре спокойна, чужда «тревог», которых жаждал не только
романтический парус, но и вполне реалистический Печорин. Жизнь на воле
полна тревог, неудач и горестей. Самая напряженная из них — битва с
барсом. И все же нельзя согласиться с Д. Е. Максимовым, что сцена с
барсом — «максимальная дисгармония»4 и в этом смысле противоположна
встрече с грузинкой, что бой с барсом — это бой с естественным порядком,
таящим в себе и зло: Мцыри «возвышается над природой и, наслаждаясь
ею, вступает с ней в бой: человек, вопреки руссоистским теориям, должен
преодолеть природу»5.
Нет, именно в природе Мцыри обрел всю полноту жизни: избавление от
одиночества, радость любви (эпизод с грузинкой) и счастье честного боя с
вызывающим уважение противником. Это не схватка с темными силами:
противники едины в своей принадлежности к миру воли, силы, к миру «тревог
и битв». Не случайно образная система не противопоставляет их (как Мцыри
и монахов), а сопоставляет. Они борются, «обнявшись крепче двух друзей».
Барс стонет, как человек, — Мцыри визжит, как барс.
1 Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре. С. 7.
2 Радищев А. Н. Поли. собр. соч. Т. 1. С. 4. Курсив мой. — Ю. Л.
3 Там же. С. 299.
4 Максимов Д. Поэзия Лермонтова. С. 298.
5 Там же. С. 296.
536 СТАТЬИ. ЗАМЕТКИ. ВЫСТУПЛЕНИЯ. II. Изобразительное искусство
И я был страшен в этот миг;
Как барс пустынный, зол и дик,
Я пламенел, визжал, как он;
Как будто сам я был рожден
В семействе барсов и волков
Под свежим пологом лесов (IV, 163).
Из текста первой половины поэмы встает очень ясный облик
положительных идеалов поэта.
В 1830 г. в стихотворении «Отрывок» Лермонтов нарисовал образ
будущего гармонического общества:
Не будут проклинать они;
Меж них ни злата, ни честей
Не будет. — Станут течь их дни,
Невинные, как дни детей;
Меж них ни дружбу, ни любовь
Приличья цепи не сожмут,
И братьев праведную кровь
Они со смехом не прольют!.. (I, 114)
Однако Лермонтов-романтик считает, что природа человека — основное
препятствие для достижения «золотого века». Общество братства требует
других людей.
...пышный свет
Не для людей был сотворен.
Мы сгибнем, наш сотрется след <...>
Наш прах лишь землю умягчит
Другим, чистейшим существам (I, 114).
В «Мцыри» позиция автора принципиально иная: именно в природе
человека — залог возможной гармонии, источник дисгармонии скрыт в обществе
(тюрьма, монастырь). Достаточно снять с человека социальные
напластования — и обнажится «детская», то есть прекрасная, природа человека.
Каков же идеал Мцыри, его Родина, к которой он стремится? Это, прежде
всего, царство свободы, где «люди вольны, как орлы», это царство чести, в
котором все вещи предстают в их истинном свете: враг честно называет себя
врагом, любовь и дружба — это любовь и дружба. С вещей снята кажимость —
это мир, прямо противоположный «маскараду». Поэтому отношения между
людьми могут быть отношениями любви или вражды, но никогда — лжи.
Но ведь источник лжи — не в злости людей, а в сложности общества, в
котором отношения опосредованы деньгами, приличиями, чинами (ср.: «Меж
них ни злата, ни честей / Не будет. <...> ни дружбу, ни любовь / Приличья
цепи не сожмут»). Таким образом, идеальное общество — это общество
упрощенное, в котором человек поставлен лицом к человеку, а не сталкивается
с могущественными, для него иррациональными, опосредованными силами.
Поэтому в идеальном мире Мцыри все связи выражены в терминах родства.
Это мир «милых ближних и родных» (IV, 165). Это и мечта о братстве людей,
и представление о том, что общество социальной гармонии будет обществом
примитивных, патриархальных отношений. Характерно, что Лермонтов, в
Истоки «толстовского направления» в русской литературе 1830-х годов 537
отличие от Пушкина, не отделяет зла цивилизации от блага просвещения,
культуры — они для него сливаются в единый образ тюрьмы. Из двух
антагонистических персонажей — «дикого» Гасуба и «культурного» Тазита —
Лермонтову ближе первый. Именно его слова (для Пушкина отделяющие
героя от близкого поэту нравственного мира человечности), посвященные
поэзии убийства («Ты в горло нож ему воткнул / И трижды тихо повернул...»)
переданы Мцыри. Человечность мира Мцыри — не пушкинская. Она состоит
не в гуманности, а в освобождении человека от всего «нечеловеческого», от
кошмара социальных фикций.
Для социального утопизма 1830-х гг. характерна еще одна черта в
«Мцыри» — отсутствие в поэме богоборческих настроений, столь характерных
для «Демона». Бог в «Демоне» — создатель мирового порядка и,
следовательно, источник зла. В «Мцыри» Бог — создатель природы. «Все хорошо,
выходя из рук Творца, все вырождается в руках человека» — этот афоризм,
которым Руссо начал «Эмиля...», был для него однозначен другому,
начинающему трактат «Об общественном договоре»: «Человек рожден свободным,
а между тем везде он в оковах». Отсюда совершенно неожиданный в
энергической и абсолютно земной поэме «небесный» налет при описании природы:
Кругом меня цвел божий сад;
Растений радужный наряд
Хранил следы небесных слез <...>
В то утро был небесный свод
Так чист, что ангела полет
Прилежный взор следить бы мог... (IV, 157; курсив мой. — Ю. Л.)
Д. Е. Максимов считает, что художественная структура поэмы Лермонтова
«очень далека» от «реалистических форм». «В реалистическом искусстве герои
в каких-то важных своих проявлениях выводятся из конкретной социально-
исторической среды и конкретных социальных обстоятельств»1. Соображения
Д. Е. Максимова весьма глубоки и плодотворны, но они касаются не реализма
в целом, а определенных его форм. Социальная среда, влияющая на человека,
может восприниматься как результат закономерного исторического развития,
но она же может выступать и как порождение ошибочных, ложных, даже
абсурдных отношений. В первом случае речь будет идти о замене
несовершенной социальной структуры более совершенной; во втором — об отказе
от истории, освобождении человека из-под гнетущего влияния среды и о
возвращении его к своей сущности. Первый метод будет толкать к
изображению человека в реальной историко-социальной ситуации. Поиски
положительного героя будут связаны со стремлением найти в современности
прогрессивную общественную силу. Второй метод побуждает писателя искать
воплощений природы человека, освобожденной от уродующего влияния
среды. Нельзя не видеть отличия такого художественного метода от реализма
«натуральной школы», но еще более глубоко отличие его от романтического
субъективизма по всей сумме черт, определяющих природу мировосприятия.
1 Максимов Д. Поэзия Лермонтова. С. 247.
538 СТАТЬИ. ЗАМЕТКИ. ВЫСТУПЛЕНИЯ. П. Изобразительное искусство
Вторая половина поэмы раскрывает эту особую черту типизации в поэме
«Мцыри». Социальное — наносное, уродливое, идущее от «монастыря», а
не от природы. Мцыри — «душой дитя, судьбой монах». В контрастном
сопоставлении с монахами в нем раскрываются черты человека природы,
основа его характера. В сопоставлении с природой выступают уродующие
следы воспитания в монастыре. Восемнадцатая строфа, кончающаяся
эпитафией барсу, — высший взлет первого тезиса: герой и природа одно. Далее
начинается антитезис: герой удалился от природы. С того момента, как он
заблудился (показатель отчужденности!), природа раскрывается по отношению
к нему своей враждебной стороной. В 11-й строфе природа полна
дружелюбной прохлады. В 22-й:
...палил меня
Огонь безжалостного дня (IV, 166).
Тогда:
...кудри виноградных лоз
Вились, красуясь, меж дерев (IV, 157).
Теперь:
Иссохший лист ее венцом
Терновым над моим челом
Свивался... (IV, 166)
Тогда земля делилась с героем своими сокровенными тайнами:
...снова я к земле припал,
И снова вслушиваться стал
К волшебным, странным голосам (IV, 157).
Теперь она отвернулась от него:
...в лицо огнем
Сама земля дышала мне (IV, 166).
Тогда небеса были ему дружелюбно раскрыты:
...небесный свод...
Он так прозрачно был глубок,
Так полон ровной синевой!
Я в нем глазами и душой
Тонул... (IV, 157)
Теперь и небеса льют на него враждебный зной:
Сверкая быстро в вышине,
Кружились искры... (IV, 166)
И змея, которая в конце 9-й строфы подчеркивала общность героя и природы
(«Я сам, как зверь, был чужд людей / И полз и прятался, как змей»), теперь
лишь усугубляет картину равнодушия природы к его страданиям:
...Лишь змея,
Сухим бурьяном шелестя...
Браздя рассыпчатый песок,
Скользила бережно; потом,
Истоки «толстовского направления» в русской литературе 1830-х годов 539
Играя, нежася на нем,
Тройным свивалася кольцом (IV, 167).
Именно говоря о причине своей гибели, герой впервые в поэме
противопоставляет себя образу из мира природы — коню:
Да, заслужил я жребий мой!
Могучий конь в степи чужой,
Плохого сбросив седока,
На родину издалека
Найдет прямой и краткий путь...
Что я пред ним?.. (IV, 165—166)
И синтезирующий образ цветка, выросшего в темнице, подводит итог
характеристике Мцыри. Так раскрывается проблематика поэмы, предвосхищающая
типично толстовскую литературную ситуацию: представление о простой,
патриархальной жизни как общественной норме и трагическая невозможность
героя реализовать свое стремление к ней.
***
Тенденции, ведущие к «натуральной школе» и к «толстовскому
направлению», развивались в тесном переплетении. Они имели ряд существенных
общих черт: одна исходила из представления об исконно нейтральной — не
доброй и не злой — природе человека, вторая склонялась к идее врожденной
его доброты. В обоих случаях вывод был практически один и тот же:
современное общество уродливо. Оно искажает человека и является источником
зла и пороков, чуждых в своем существе его природе. За обеими тенденциями
стоит философское представление о могущественном влиянии среды на
человека. Это же — очень типологическое и, следовательно, отбрасывающее
все оттенки — сравнение позволит выделить и коренное сходство,
объединяющее обе позиции, несмотря на эпоху диалектики и историзма, пролегшую
между ними.
Общими у обеих точек зрения была и вера в возможность социальной
гармонии на земле, и мысль о том, что путь к этой гармонии пролегает не
через самоограничение врожденно злых задатков человеческой природы, а
через переход к иной, нежели существующая, социально справедливой
общественной системе. То, что в одном случае подразумевался переход путем
развития промышленности и дальнейшего усложнения жизни, а в другом —
путем отказа от уже существующей сложности и возрождения
патриархального уклада, большого значения еще не имело, поскольку положительные
программы у обоих направлений были туманны и едва намечены, а взгляд
на современность и природу ее недостатков практически совпадал. Да и в
положительных программах, пусть и туманных, была существенная общая
черта. Идеальное общество, независимо от того, искалось ли оно в прошедшем
или в будущем, было обществом, резко отличным от современного именно
своей социальной справедливостью. Это были мечты о мире, отменяющем
существующие ложные общественные отношения и устанавливающем
справедливые отношения социальной гармонии. Поэтому, как мы уже видели,
540 СТАТЬИ. ЗАМЕТКИ. ВЫСТУПЛЕНИЯ. II. Изобразительное искусство
следует отличать рассматриваемую идею «патриархальности» от стремления
освятить ореолом патриархальной простоты существующие крепостнические
отношения и тем увековечить их.
Понимание соотношения охарактеризованных выше двух тенденций
особенно существенно для художественной литературы. Причем, поскольку в
отношении к современности оба направления практически совпадали, а
художественная литература тех лет главным образом интересовалась
современностью, различие отмеченных тенденций порой делается в рамках 1830-х гг.
почти неуловимым и ощущается лишь в исторической перспективе. Это
особенно заметно при переходе к основному явлению художественной жизни
1830-х — начала 1840-х гг. — творчеству Н. В. Гоголя.
***
Творчество Н. В. Гоголя получило глубокое истолкование в трудах
Белинского и Чернышевского. Последующая историко-литературная наука
развила и обосновала их тезис о связи Гоголя и «гоголевского направления» —
«натуральной школы», послужившей колыбелью русской реалистической
литературы XIX в.
Однако необходимо иметь в виду, что в острой борьбе 1840-х гг.
Белинский преследовал цели отнюдь не академические: шла борьба, сначала за
Гоголя, потом за гоголевскую традицию, и ему надо было дать определенное
истолкование творчества великого писателя, имея в виду задачи дальнейшего
развития русской литературы. При этом Белинский сознательно не
подчеркивал тех сторон творчества Гоголя, которые указывали на различие в
позиции писателя и критика. Например, имея совершенно определенное
мнение о повести «Рим» (Белинский несколько раз в своих набросках давал
ей оценку как произведению, исполненному величайших достоинств и
недостатков), он не счел нужным выступать с развернутой ее характеристикой.
Белинский стремился не подчеркивать отличий между Гоголем и «гоголевской
школой». Это не значит, что их не было. И если теперь, когда задачи
злободневной литературной борьбы 1840-х гг. ушли в далекое прошлое, мы
не замечаем в Гоголе периода его творческого расцвета, в Гоголе между
«Миргородом» и четырехтомными «Сочинениями Николая Гоголя» 1842 г.
ничего, кроме тенденций, ведущих к «натуральной школе» (а если и замечаем,
то относим это или за счет неизвестных еще черт романтизма, или за счет
предвестий «Выбранных мест из переписки с друзьями»), мы совершаем
историческую ошибку.
Для выявления некоторых недостаточно еще проясненных граней
творчества Гоголя исключительную важность будет иметь изучение тех его
произведений, в которых отразилась положительная программа писателя. Особое
значение при этом приобретает «Тарас Бульба».
Общественно-литературная позиция Гоголя хорошо изучена. Это
позволяет нам выяснить лишь один, сравнительно частный, вопрос —
характеристику положительной программы писателя в те годы, которые обычно
связываются с реалистическим периодом его творчества. При этом в понятие
Истоки «толстовского направления» в русской литературе 1830-х годов 541
«положительная программа» мы вкладываем особое содержание: речь пойдет
не о тех или иных конкретных политических требованиях, а об общественных
идеалах, определяющих позицию писателя.
В центре романтической литературы стояла яркая, резко
индивидуализированная, гипертрофированная личность. Это заставляет исследователей
зачастую относить к явлениям романтизма все те случаи, где они сталкиваются
не с изображением реально существовавшего в условиях той действительности
героя, окруженного эмпирически данным бытом, а с образами яркими,
богатырскими. При этом упускается из виду одно обстоятельство: даже если
не касаться всей суммы глубоких этико-философских принципов романтизма,
важно подчеркнуть, что романтическая личность всегда противопоставлена
народу, другим людям, третируемым как безличная, пошлая, тупая толпа,
чернь. Даже если романтически настроенный автор осуждает личность за
индивидуализм и провозглашает народ своим этическим идеалом, он все
равно сохраняет природу этой антитезы, меняя лишь ее моральную оценку.
От такого понимания следует отличать просветительский идеал свободной,
полнокровной, характеристичной (то есть избавленной от насильственной
нивелировки) личности. Такая личность не противостоит народу, а сливается
с ним. Для субъективистской эстетики слияние личности с народом означает
утрату индивидуальности. Для антропологического материализма
просветителей именно в коллективе личность обретает полноту жизни.
Предоставленная самой себе, оторванная от естественной жизни, она мельчает. Человек
превращается в придаток «выдуманного» мира чинов, орденов, званий,
денежного капитала. Для просветительского взгляда характерен идеал
«нераздробленной», целостной натуры человека, подразумевающей общество
свободное, создающее граждан, общество патриархальное, чуждое дробящему
человека разделению труда, общество естественных, то есть человеческих,
отношений, в котором «выдуманные» достоинства не заслоняют природных
качеств человека: смелости, силы, честности, талантливости. Именно такие —
весьма далекие от романтизма — представления определили, например,
интерес Н. И. Гнедйча к миру героев Гомера.
Гоголь пережил сильное увлечение идеалами романтизма. Влияние
романтических построений, романтической терминологии ощущается в его
теоретических работах и в период, когда определяют позицию Гоголя не
эти остаточные формулировки, а общий смысл его мироощущения, которое
не всегда адекватно проявлялось в разных областях теоретического
мышления писателя, но властно господствовало в его художественном восприятии
мира.
Весьма примечательна статья «Последний день Помпеи». В ней явственно
ощущается стремление теоретически обосновать искусство жизненной правды.
Очень показательно перекликающееся со статьей о Пушкине осуждение
эффектов в искусстве: «Можно сказать, что 19 век есть век эффектов. Всякий
от первого до последнего — торопится произвесть эффект <...> эти эффекты,
право, уже надоедают, и, может быть, 19 век по странной причуде своей
наконец обратится ко всему безэффектному». Далее Гоголь прямо указывает
на романтическое искусство, в котором эффекты «вредны тем, что распро-
542 СТАТЬИ. ЗАМЕТКИ. ВЫСТУПЛЕНИЯ. II. Изобразительное искусство
страняют ложь, потому что простодушная толпа без рассуждения кидается
на блестящее»1. Правда, Гоголь оговаривается, что для живописи, в которой,
благодаря наглядности, ложь легче обнаружить, эффекты менее опасны. И
все же подобная позиция трудно согласуется с чрезвычайно высокой оценкой
картины Брюллова. Для понимания этого вопроса необходимо учесть, что
Гоголь считал задачей живописи изображение «прекрасного человека»
(III, 88). Причем, как над ним ни тяготели привычные формулы
идеалистической эстетики, он все же склонялся к тому, чтобы «прекрасного человека»
видеть не в «очищении» образа от земного, темного, а в обнажении природы
человека. Спиритуалистическое толкование красоты в человеке как
идеального начала отвергается им: «Это было личико, ловко написанное, но
совершенно идеальное, холодное, состоявшее из одних общих черт, не принявшее
живого тела» (III, 104). В картине Брюллова Гоголь увидел «прекрасного
человека» — мир людей, наделенных физической и духовной красотой,
гармонически развитых. Страшная катастрофа лишь подчеркивает красоту этих
исполненных страстей, созданных для счастья людей. «...У Брюллова является
человек для того, чтобы показать всю красоту свою, все верховное изящество
своей природы. Страсти, чувства, верные, огненные, выражаются на таком
прекрасном облике, в таком прекрасном человеке, что наслаждаешься до
упоения. <...> Его человек исполнен прекрасно-гордых движений, женщина
его блещет, но она не женщина Рафаэля, с тонкими, незаметными, ангельскими
чертами, она женщина страстная, сверкающая, южная, италианка во всей
красе полудня, мощная, крепкая, пылающая всею роскошью страсти, всем
могуществом красоты, прекрасная как женщина. Нет ни одной фигуры у
него, которая бы не дышала красотою, где бы человек не был прекрасен»
(VIII, 111; курсив мой. — Ю. Л.)1. Многократно повторенное выражение
«прекрасный человек» ясно подразумевает антропологическую природу
человека как совокупность высоких возможностей, духовных и физических, —
мысль, типичную для просветителей XVIII в. и вновь оживленную
социальными мыслителями 1830—1840-х гг. Гоголь четко отгородил себя от
спиритуалистического толкования красоты как проявления неземного в земном и
сверхчеловеческого в человеке. Прекрасно в человеке именно человеческое,
и мысль о красоте человека характерно связана с привязанностью к радостям
ι Гоголь Н. В. Поли. собр. соч.: В 14 т. М., 1952. Т. 8. С. 108—109. (Далее
ссылки на это издание приводятся в тексте с указанием тома римской цифрой
и страницы — арабской.) Еще резче в черновике: «Эти эффекты отвратительнее
всего в литера<тур>е, когда они сделаются целью бесстыдных торгашей» (VIII, 645—
646).
2 Специфика позиции Гоголя особенно рельефна на фоне оценок картины Брюллова
современниками. Н. В. Кукольник увидал в ней порождение романтической школы
ужасов: «Мало одной смерти, одного отравления, убийства, бури обыкновенной; надо
было выводить на сцену тысячу смертей, землетрясения, извержения огнедышащих
гор, явления бичей небесных, и живопись не могла не подчиниться современному
вкусу. Поэзия Байрона, живопись К. Брюллова, музыка Бетховена заплатили дань
требованиям века» {Кукольник Н. Русская живописная школа // Картины русской
живописи. СПб., 1846. С. 78).
Истоки «толстовского направления» в русской литературе 1830-х годов 543
земного бытия: «...Во всей картине выказывается отсутствие идеальности,
то есть идеальности отвлеченной, и в этом-то состоит ее первое достоинство.
Явись идеальность, явись перевес мысли, и она бы имела совершенно другое
выражение, она бы не произвела того впечатления; чувство жалости и
страстного трепета не наполнило бы души зрителя, и мысль прекрасная,
полная любви, художества и верной истины, утратилась бы вовсе. Нам не
разрушение, не смерть страшны; напротив, в этой минуте есть что-то
поэтическое, стремящее вихрем душевное наслаждение; нам жалка наша милая
чувственность, нам жалка прекрасная земля наша. Он постигнул во всей
силе эту мысль. Он представил человека как можно прекраснее» (VIII,
111—112). «Милая чувственность», «прекрасная земля», «прекрасный
человек» — все это представления, ведущие совсем не к романтическому
мироощущению.
Видя положительный идеал в «прекрасном человеке», Гоголь резко делит
все существующее на две категории: в первую входят природные качества
человека, качества человечные и, следовательно, реальные и нравственные
одновременно: это талант, сила, смелость, физическая и духовная красота
и характерность, яркость натуры. Во вторую категорию входит все, что
создано обществом наперекор природе человека и получает свою ценность
«от воображения»: это чины, ордена, звания, мир денег, дворянской спеси
и чиновничьей бюрократии, мир, в котором бумага ценнее, чем человек.
Созданный воображением людей, этот мир не имеет опоры в природе
человека и, следовательно, фантастически-призрачен и бесчеловечен. Это
мир, где все является «в ненастоящем свете». Но сама критика этого мира
подразумевает идеал естественного человеческого общества и невозможна
без него.
Каким же представляется Гоголю это идеальное общежитие людей?
Г. А. Гуковский в чрезвычайно интересном анализе «Тараса Бульбы» указал
на ту настойчивость, с которой Гоголь подчеркивает демократизм
политического устройства Сечи: «Идеальной республике Сечи Гоголь сообщает
далее существенный признак, настойчиво проповедовавшийся всеми
просветителями Европы, и в частности России: ясное, краткое и сурово-беспощадное
законодательство. Это та небольшая книжка законов, жестоких в своей
непримиримости к злу, о которой вместе с Монтескье или Юсти мечтал
всю жизнь Сумароков, которую прославлял в своей утопии Ф. Эмин; это
тот меч закона, справедливый и равный, но суровый, перед которым вслед
за Робеспьером благоговели декабристы, который воспевал некогда Радищев
в своей оде „Вольность" (храм закона) и затем — в своей оде „Вольность"
Пушкин»1.
Правда, далее автор значительно корректирует это положение, указывая,
что сцена выбора кошевого восхищает «Гоголя отсутствием бюрократизма
и бюрократии, которых вообще нет вовсе в Сечи, удостоверяет и полное
равенство сечевиков, не имеющих ни звания, ни чина, ни имущества. Вся
1 Гуковский Г. А. Реализм Гоголя. М.; Л., 1959. С. 149.
544 СТАТЬИ. ЗАМЕТКИ. ВЫСТУПЛЕНИЯ. II. Изобразительное искусство
общественная система современной Гоголю Европы (и в том числе России)
отменена Гоголем в Сечи — и заодно упразднена вся лестница чиновников,
весь аппарат власти управления, полиции, суда и т. д. и т. п. Граждане
управляют сами собой, скопом, миром судят сами себя; они обратились к
первобытной чистоте занятий человека и героя; все же искусственное,
выдуманное на пагубу человека, отпало в их среде.
Сечь у Гоголя — абсолютно-свободная и стихийно-неорганизованная
демократия»1.
Вторая характеристика представляется очень глубокой. Но она
противоречит первой. Ведь парламентский порядок, существовавший во время
Гоголя в некоторых странах Западной Европы, воспринимался именно как
реализация доктрин Монтескье и Юсти, и его-то Гоголь отвергал. Достаточно
поставить вопрос: был ли Гоголь сторонником парламентского порядка или
даже других, наиболее демократических, из любых политически реальных
форм республиканизма, чтобы ответить отрицательно. Ни в одном из своих
произведений Гоголь не высказывался в пользу каких-либо конкретных
политических реформ русской жизни. Что же означает бесспорная
симпатия его в «Тарасе Бульбе» к демократическому порядку и прямому
народоправству?
В идеальном правлении Сечи Гоголю импонировала не только
демократическая процедура избрания кошевого, но и самодержавная полнота его
власти во время военных действий. И в этом, и в другом Гоголя привлекала
упрощенность государственной власти, ее патриархальная прямота, именно
отсутствие письменных законов, связанных с неизбежным появлением
законников и толкователей. Законы заменены здравым разумом и обычаем. В этом
смысле очень показательно идеализированное описание политического быта
древних германцев («Исторические заметки») — живая параллель к облику
Сечи. Самого знаменитого личной доблестью воина «выбирали в
предводители». Однако привлекающий Гоголя демократизм власти древних германцев
состоит не в наличии той или иной системы управления, а в отсутствии
управления. «Предводитель силою одного уважения, без власти, правил
самовластно племенами, и воины с изумительною покорностью исполняли его
веления». «Они были вольны и не хотели никакой иметь над собою власти.
Правления у них почти не было. Они собирались на народные собрания,
стекавшиеся при новолунии и полнолунии каждого месяца, а в случаях
чрезвычайных и во всякое время. На эти собрания они приходили лениво и
медленно, желая показать, что делают это по своей воле» (VIII, 120, 121;
курсив мой. — Ю. Л.). В управлении древних германцев, как и идеальной
Сечи, для Гоголя сочетаются крайний республиканизм с высшей степенью
подчинения. Привлекательность подобного порядка состоит для Гоголя в его
патриархальности — «отсутствии управления». Вместо юридических
отношений между людьми — «только обычаи, которые обыкновенно сильнее самих
законов» (VIII, 122). Управляют «старейшины семейств, седовласые (grawion),
1 Гуковский Г. А. Реализм Гоголя. С. 150.
Истоки «толстовского направления» в русской литературе 1830-х годов 545
после изменившие это название в графов» (VIII, 121). Таким образом,
идеальный человеческий коллектив, для Гоголя, спаян узами не политического
единства, не общего подчинения одинаковым (а тем более неодинаковым,
несправедливым!) законам, а братства, «товарийства». Не случайно именно
«товарийство» — особый, не опосредованный никакой формой характер
связей между людьми — становится лейтмотивом всей повести «Тарас Буль-
ба». Примечательно, что появляется он именно в момент преодоления
романтизма. В романтическом сознании Гоголя сильный герой был существом
единственным, противопоставленным всему человечеству. Поэтому яркая,
необычная любовь — под стать другим его страстям — отгораживала героя
от других людей, разрывая непрочные связи: родства, товарищества,
патриотизма. Так, в отрывке повести об Остранице влюбленный герой думает:
«Нет, нет! Где любовь настоящая, такая, как следует, там нет ни брата, ни
отца» (III, 296). Любовь разрушает патриотические замыслы. При этом союз
мужчин-воителей именуется еще не высоким словом «товарийство», а
звучащим куда менее торжественно: «компанейство». «Подожди, ляше, увидишь,
как растопчет тебя вольный рыцарский народ! Что же? Вот тебе и похвалился!
Увидел хорошую дивчину — и все позабыл, все к черту. Ох, очи, черные
очи! <...> Собиралось компанейство отмстить за ругательства над христовой
верой и за бесчестье народу <...>. А все вы, черные брови, вы всему виной!
И вот я снова приехал сюда с ватагою товарищей: но не правда, и месть,
и жажда искупить себе славу силой и кровью завели меня, — все вы, все
вы, черные брови! Дивно диво — любовь!» (III, 297).
Эти чувства, которые для Остранйцы — признак силы переживаний,
отличающей положительного героя романтизма, передаются в «Тарасе Буль-
бе» Андрию: «Что бы тогда за любовь моя была, когда бы я бросил для
тебя только то, что легко бросить! Нет, моя панна, нет, моя прекрасная! Я
не так люблю: отца, брата, мать, отчизну, все, что ни есть на земле, — все
отдаю за тебя» (II, 318). Из мира же «товарийства», мира Тараса, Остапа и
других казаков, любовь изгнана, как «разъединяющее» чувство, хотя страсти
этих героев и не менее ярки и индивидуальны, чем у Андрия. «Товарийство» —
чувство братской спаянности между людьми, потребность в котором Гоголь,
и общественно и лично, глубоко сознавал. В автобиографическом наброске
«Ночи на вилле» он противопоставлял мир действительности (гадкая «груда
сокровищей и почестей, эта звенящая приманка деревянных кукол,
называемых людьми») идеалу товарищества: «Ко мне возвратился летучий свежий
отрывок моего юношеского времени, когда молодая душа ищет дружбы и
братства...» (III, 326). Братство подразумевает свободу, и Гоголь во второй
редакции «Тараса Бульбы» резко выделил черты демократизма в
политическом быту Сечи, значительно изменив и расширив сцены избрания кошевого.
Однако по отношению к братству, идеалу общежития, основанного на
человеческих связях, политическая свобода выступает не как положительное
содержание, а лишь как предварительное условие — отсутствие угнетения.
Положительным содержанием этого идеала могло бы быть представление об
определенной социальной структуре. Гоголь мимоходом касается этого
вопроса. Во «Взгляде на составление Малороссии» он пишет о запорожцах:
546 СТАТЬИ. ЗАМЕТКИ. ВЫСТУПЛЕНИЯ. И. Изобразительное искусство
«То же тесное братство, которое сохраняется в разбойничьих шайках,
связывало их между собою. Все было у них общее — вино, цехины, жилища»
(VIII, 48). Однако эта сторона вопроса явно не представлялась Гоголю
решающей. Если он и обращался к вопросу равенства имуществ, то видел в
нем не первопричину, а проявление духа братства. Причины же появления
братства он склонен видеть в явлениях идеального порядка: духе
товарищества, веселья, музыкальности. Братское общество, для Гоголя, — общество
веселья. Жизни-угнетению противопоставлена жизнь-праздник. «Вся Сечь
представляла необыкновенное явление. Это было какое-то беспрерывное
пиршество, бал, начавшийся шумно и потерявший конец свой. <...> Это общее
пиршество имело в себе что-то околдовывающее. Оно не было какое-нибудь
сборище бражников, напивавшихся с горя, но было просто какое-то бешеное
разгулье веселости. Всякий приходящий сюда позабывал и бросал все, что
дотоле его занимало. Он, можно сказать, плевал на все прошедшее и с жаром
фанатика предавался воле и товариществу таких же, как сам, не имевших
ни родных, ни угла, ни семейства, кроме вольного неба и вечного пира души
своей <...>. Это был тесный круг школьных товарищей» (И, 64—65).
Веселость — слияние человека с коллективом, отречение от эгоизма. Но это
самоотречение связано не с аскетизмом, обеднением личности, а с размахом,
расцветом, полным ее проявлением, «широким разметом душевной воли»
(И, 301). Так, хотя и на идеалистической основе, возникает мораль,
противоположная и средневековому аскетизму, и этике буржуазного эгоизма1.
Гоголь пытается найти этическую формулу, гармонически сочетающую общие
понятия — стихии, народа, истории — с понятием личности. Не случайно
веселье, музыка становятся для него не частным состоянием народа,
возведенного до идеала, а его постоянным статусом. Оживляя старую фольклорную
(известную Гоголю и из «Слова о полку Игореве») метафору: «битва — пир»,
он и бой изображает как праздник — сочетание расцвета силы и энергии
личности с полным самозабвением. «Казалось, больше пировали они, чем
совершали поход свой» (II, 83). «Бешеную негу и упоенье он видел в битве.
Пиршественное зрелось ему в те минуты, когда разгорится у человека голова,
в глазах все мелькает и мешается, летят головы, с громом падают на землю
кони, а он несется, как пьяный, в свисте пуль, в сабельном блеске» (И, 85).
Образ «гулять в вечном пире войны» (И, 313) становится лейтмотивом боевых
сцен. Рядом с ним появляется и другой, не менее важный: битва сравнивается
с музыкой. Гоголь упоминает «очаровательную музыку мечей и пуль, потому
что нигде воля, забвение, смерть, наслаждение не соединяются в такой
обольстительной, страшной прелести, как в битве» (II, 313). Музыка, пляска,
1 Характерно, что во второй редакции Гоголь убрал упоминание о том, что
побудительной причиной для возбуждения казаков к походу было стремление Тараса
Бульбы к подвигам, «которые представляли ему мученический венец по смерти»
(И, 311). Вместе с тем явно полемически Гоголь вкладывает в уста Янкеля,
олицетворяющего для него буржуазный дух наживы, формулу чуждой ему этики
материалистов XVIII в. о личной пользе как основе морали: «Чем человек виноват? Там
ему лучше, туда и перешел» (II, 113).
Истоки «толстовского направления» в русской литературе 1830-х годов 547
искусство, по Гоголю, также содержат то сочетание самозабвения, слияния
с коллективом и высшего расцвета индивидуальности, которое составляет
этическую основу братского общества и одновременно дает человеку
истинную свободу: «Вся толпа отдирала танец, самый вольный, самый бешеный,
какой только видел когда-либо мир, и который, по своим мощным
изобретателям, носит название козачка. Только в одной музыке есть воля человеку.
Он в оковах везде. Он сам себе кует еще тягостнейшие оковы, нежели налагает
на него общество и власть везде, где только коснулся жизни. Он — раб, но
он волен только потерявшись в бешеном танце, где душа его не боится тела
и возносится вольными прыжками, готовая завеселиться на вечность» (II, 300).
Так подготавливалась антитеза, легшая в основу повести «Рим» —
противопоставление буржуазной цивилизации Парижа народной жизни Рима.
Цивилизованный мир Парижа — общество буржуазного индивидуализма,
разодранное борьбой партий, имеющее свободу парламентских прений, не дающих
человеку истинной свободы. Итог: «страшное царство слов вместо дел»,
которое не могло не напомнить пушкинского:
Все это, видите ль, слова, слова, слова (III, 420).
Политическая жизнь скользит поверх подлинных интересов человека, а
сложность общественной жизни дробит и обедняет человеческую личность. «Слово
политика опротивело, наконец, сильно италиянцу» (III, 227). Нет никакой
нужды относить эти высказывания на счет настроений Гоголя эпохи
«Выбранных мест из переписки с друзьями». Он писал Прокоповичу в самом
начале 1837 г.: «Жизнь политическая, жизнь вовсе противоположная
смиренной художнической, не может понравиться таким счастливцам праздным
(примечательна скрытая цитата из Пушкина! — Ю. Л.), как мы с тобою. Здесь
все политика, в каждом переулке и переулочке библиотека с журналами.
Остановишься на улице чистить сапоги, тебе суют в руки журнал; в нужнике
дают журнал. Об делах Испании больше всякой хлопочет, нежели о своих
собственных» (XI, 81). А летом того же года, уже из Рима, он писал:
«Полковник больше человек современный, воспитанный на современной
литературе и жизни; я больше люблю старое. Его тянет в Париж, меня гнетет
в Рим» (XI, 100).
В современном ему Риме Гоголь видит реализацию мечты об обществе
патриархальном, свободном от политики, без управляющих и управляемых,
населенном сильными, страстными, гармоническими людьми. На римских
улицах Гоголь искал то веселье и яркость чувств, которые его привлекали
в Сечи. Замечательны в этом смысле воспоминания П. В. Анненкова: «Здесь,
в виду итальянского народа, Гоголь не чуждался толпы». И далее: «Николай
Васильевич был неутомим в подметке различных особенностей этого
народного творчества. <...> Как справедливо заметил Гоголь, любая лавочка
лимонадчика на площади заслуживала изучения по рисунку украшений из
зелени, винограда и лавра»1. Просветитель XVIII в. стремился бы прозреть
в римской толпе черты древнего республиканизма или печать невежества,
1 Анненков П. В. Литературные воспоминания. М., 1960. С. 93.
548 СТАТЬИ. ЗАМЕТКИ. ВЫСТУПЛЕНИЯ. II. Изобразительное искусство
суеверия и фанатизма. Романтик стремился бы воскресить воспоминания о
великих людях Рима — Гоголя привлекает римский народ. По словам
Анненкова, он как-то «воскликнул: „И этих-то людей называют маленьким
народом!" Сметливость и остроумие в народе были для него признаками,
свидетельствующими даже об историческом его призвании. Несколько раз
повторял он мне, что нынешние римляне, без сомнения, гораздо выше суровых
праотцев своих и что последние никогда не знали того неистощимого веселия,
той добродушной любезности, какие отличают современных обитателей
города. Он приводил в пример случай, им самим подсмотренный. Два молодых
водоноса, поставив ушат на землю, принялись с глазу на глаз смешить друг
друга уморительными анекдотами и остротами. „Я целый час подсматривал
за ними из окна, — говорил Гоголь, — и конца не дождался. Смех не
умолкал, прозвища, насмешки и рассказы так и летели, и ничего водевильного
тут не было; только сердечное веселие да потребность поделиться друг с
другом обилием жизни"»1. Обилие жизни и сердечное веселье становятся для
Гоголя определяющими чертами народа в свободном, «эпическом» его
состоянии. Веселье для Гоголя — нечто гораздо более значительное, чем то,
что понимается под этим словом обычно, — это творческое состояние души,
необходимое условие для работы: «Меня не веселили мои „Мертвые души",
я даже не имел в запасе столько веселости, чтобы продолжать их <...>. Снова
весел: „Мертвые" текут живо, свежее и бодрее, чем в Вене», — писал он
Жуковскому. Народное веселье — то состояние, которое соединяет людей,
освобождает их от всегда «угрюмого» (для Гоголя) эгоизма, расширяет их
готовые сжаться в «кулак» или «коробочку» личности. Но это же состояние
душевной раскованности предполагает в человеке силу чувств. Гоголь
рассказывал Анненкову о римском мальчике, которого задел на улице другой
мальчишка. Оскорбитель скрылся, затворив за собой дверь. «Обиженный
ребенок кинулся к дверям, старался выломать их». Когда это не удалось,
«он лег у порога двери и зарыдал от ярости, но и слезы не истощали жажду
мщения, которая кипела в этой детской груди. Он встал опять на ноги и
принялся умолять своего врага хоть подойти к окну, чтоб дать посмотреть
на себя, обещая ему за одно это прощение и дружбу»2.
Те впечатления, которые вбирал Гоголь в Риме, были отличны от
настроений либерального Анненкова: Гоголь проходил мимо политической
жизни Рима, не видел зреющей в нем революции, давящей силы власти
папы — всего, что так хорошо чувствовал Анненков. В прениях кружка
Гоголя — Анненкова — А. Иванова часто возникала антитеза «Италия —
Франция». Споря с Анненковым, Гоголь «упускал из вида заслуги всей
истории Франции перед общим европейским образованием»3. Это были те
самые вопросы, которые легли в основу повести «Рим». Нетрудно заметить,
что при всем своеобразии позиции Гоголя в этой повести ее никак нельзя
свести к проповеди аскетизма, нравственного совершенствования и ортодок-
1 Анненков П. В. Литературные воспоминания. С. 94.
2 Там же.
3 Там же. С. 90.
Истоки «толстовского направления» в русской литературе 1830-х годов 549
сальной церковности. Эта позиция отличалась и от либеральной Анненкова,
и от революционно-демократической Белинского, и от романтической
точки зрения славянофилов. Сохранилась дневниковая запись славянофила
Ф. В. Чижова о том, что «статья <...> „Рим" оставила довольно дурное
впечатле- ние»1. Вместе с тем в выразившейся в ней позиции Гоголя (а это
была позиция 1839—1841 гг., разные, но внутренне связанные стороны
которой проявлялись и в «Риме», и во второй редакции «Тараса Бульбы», и в
«Шинели», и в первом томе «Мертвых душ») были элементы, позволявшие
деятелям всех этих лагерей надеяться на переход Гоголя исключительно на
их сторону. Не случайно и Белинский, и славянофилы, стараясь
«приблизить» к себе Гоголя, выделяли в этот период в его произведениях родственные
себе тенденции, стараясь «не замечать» то в позиции писателя, что было им
чуждо.
В основе повести «Рим» — все та же мечта о «прекрасном человеке»,
которая, то негативно, то непосредственно выраженная, присутствует во всех
произведениях Гоголя периода расцвета его творчества. Побывавший в
Италии, пишет Гоголь в повести «Рим», может сказать, что «хоть раз в жизни
был он прекрасным человеком» (III, 243). Как и прежде, «прекрасный человек»
для Гоголя — не человек, подавивший в себе человеческое, а человек,
развернувший все богатство своей натуры. В жителях Рима Гоголь подчеркивает
«пробуждение <...> всех элементов человека» (III, 241). Красота главной
героини отрывка — альбанки Аннунциаты — воплощение прекрасной
природы человека. Гоголь в ней воплотил тот самый идеал, который просветители
от Радищева до Глеба Успенского (очерк «Выпрямила») находили в античных
статуях Венеры. «О нет, такой женщины не сыскать в Европе, об них только
живут предания да бледные бесчувственные портреты их иногда являются
в правильных созданиях художников. У, как смело, как ловко обхватило
платье ее могучие прекрасные члены, но лучше, если бы оно не обхватило
ее вовсе. Покровы прочь, и тогда бы увидели все, что это богиня. А
попробуйте покровы прочь с немки или англичанки или француженки и
выйдет черт знает что: цыпленок» (III, 476). Это широко распространенная
еще в литературе XVIII в. идея, которую Радищев, например, выразил так:
«Что человеку благолепие сродно, то, с одной стороны, вообразим, что
когда он изящнейшие черты изобразить хочет, он изображает нагость.
Облеки в одежду Медицейскую Венеру, она ничто иное будет, как развратная
жеманка Европейских столиц; левая рука ее целомудреннее всех вообразимых
одежд»2.
Любопытно наблюдение Анненкова, подтверждающее, как глубоко был
захвачен Гоголь стремлением увидеть в народе Рима неискаженную природу
человека: «Никогда не забывал Гоголь, при разговоре о римских женщинах
или даже при встрече с замечательной женской фигурой, каких много в
этой стране, сказать: „А если бы посмотреть на нее в одном только одеянии
1 Лит. наследство. М., 1952. Т. 58. С. 782.
2 Радищев А. Н. Поли. собр. соч. Т. 2. С. 54.
550 СТАТЬИ. ЗАМЕТКИ. ВЫСТУПЛЕНИЯ. II. Изобразительное искусство
целомудрия, так скажешь: женщина эта с неба сошла". Не нужно, полагаю,
толковать, что поводом ко всем словам такого рода было одно
артистическое чувство его: жизнь вел он всегда целомудренную, близкую даже к
суровости»1.
Основным героем «Рима» — и это проведено резче, чем во всех других
произведениях Гоголя, — является народ, «его гордая народность» (III, 245).
Основная черта римского народа, выделенная Гоголем, — веселье, «светлая
непритворная веселость, которой теперь нет у других народов» (III, 243).
«Веселость эта обнимает, как вихорь, всех от сорокалетнего до ребятишки:
последний бобыль, которому не во что одеться, выворачивает себе куртку,
вымазывает лицо углем и бежит туда же, в пеструю кучу. И веселость эта
прямо из его природы; ею не хмель действует, — тот же самый народ освищет
пьяного, если встретит его на улице» (III, 244). Характеристика народа в
«Риме» разительно напоминает Сечь в «Тарасе Бульбе». И здесь Гоголь
подчеркивает яркость каждой отдельной личности, «пробуждение всех
элементов человека» в спаянном энтузиазмом веселости народе: «черты
характера, смешанного из добродушия и страстей, показывающие светлую его
натуру: никогда римлянин не забывал ни зла, ни добра, он или добрый, или
злой, или расточитель, или скряга, в нем добродетели и пороки в своих
самородных слоях и не смешались, как у образованного человека, в
неопределенные образы, у которого всяких страстишек понемногу под верховным
начальством эгоизма. Эта невоздержность и порыв развернуться на все
деньги, — замашка сильных народов» (III, 243). «Неопределенные образы»
и «порыв развернуться» — это та же антитеза, которая противопоставляет
мир «замкнутых» в себе «мертвых душ» вольным запорожцам. Народ Рима
не только исполнен веселья и страстей — это народ, дышащий воздухом
искусства, имеющий «черты природного художественного инстинкта и
чувства». «Простая женщина указывала художнику погрешность в его картине»
(II, 244). Описание «племени поющего и пляшущего» в «Вечерах на хуторе
близ Диканьки» уводило читателя в мир народной фантастики, в мир,
противопоставленный действительности. Теперь Гоголь находит свой идеал в
природе человека и природе народа.
Весьма показательно, что, задумав роман «Аннунциата», Гоголь превратил
его в очерк, заглавие которого выдвигает не персонального героя, а
обобщенный портрет (ср. «Невский проспект», «Миргород»). Однако вряд ли
можно согласиться с тем, что подобное художественное обобщение означает
стремление Гоголя раскрыть господство социальной среды над человеком.
Понятие среды, «обстоятельств», определившееся еще у философов XVIII в.,
означало сумму материальных факторов и общественных отношений,
образующих характер человека. Между тем личность человека у Гоголя
определяется принадлежностью героя к духовному единству народа или к миру
эгоистической раздробленности. Господство «среды» — материальных
обстоятельств — мыслится как нечто унижающее человека, ему подвержены лишь
1 Анненков П. В. Литературные воспоминания. С. 96.
Истоки «толстовского направления» в русской литературе 1830-х годов 551
персонажи второй группы. Причастность к «веселой» жизни народа
освобождает из-под власти «среды». Именно это — понимание народа как
духовного единства — позволяет видеть путь к общественному спасению не в
социальных преобразованиях, а в приобщении к «объединяющим» стихиям:
музыке, веселью, искусству. Социально построенное общество Петербурга и
Парижа — общество разъединенное, где не только каждое сословие отделено
от другого, но и нос, надев мундир с другими пуговицами, делается «сам
по себе». В Сечи полковники, атаманы, голь — один народ. В Риме —
«народ, в котором живет чувство собственного достоинства: <...> il popolo,
а не чернь» (III, 244). Народ — это «весь народ, все, все золотильщики,
рамщики, мозаичисты, прекрасные женщины, вся синьория, все nobili, все,
все, все... О quanta allegria!1» (Ill, 247).
Таким образом, бесспорна социально-эстетическая близость Гоголя этих
лет и Белинского: вера их в человека, в его право на земное, реальное (в
том числе и физическое) счастье, в общество, построенное на отношениях
братства и обеспечивающее каждой личности максимум наслаждения. На
этой основе вырастает общее критическое отношение к действительности.
Но знаменательно и глубокое различие. Белинский считает, что «люди —
братья друг другу», что «благородно, велико и свято призвание поэта, который
хочет быть провозвестником братства людей!» Однако в понятие среды он
вкладывает совсем иное, чем Гоголь, — социально-конкретное содержание.
Люди по природе прекрасны — «не натура, а воспитание, нужда, ложная
общественная жизнь делают их дурными». Отсюда требование переделки
«неразумных основ общественности, искажающей человека»2. Белинский
требует реорганизации социальных основ жизни — Гоголь рассчитывает спаять
людей идеей. Белинский считает, что братство людей увенчает процесс
исторического развития — Гоголь требует отказа от истории как от заблуждения
и возвращения к основам человеческого общежития.
***
Интересную параллель к изучаемым процессам в литературе может
представить идейно-художественное развитие А. А. Иванова. Мировоззрение
этого живописца чрезвычайно сложно и исполнено внутренних противоречий.
Дать ему сколь-либо исчерпывающую характеристику в сжатом очерке не
представляется возможным. Укажем лишь на некоторые стороны вопроса,
существенные для нашей темы.
Жизненный путь Иванова протекал в отрыве от русской действительности
и общественной борьбы. Он уехал за границу почти мальчиком, долгие
годы провел затворником в своей римской студии. Смерть сразила его
именно в тот момент, когда он нарушил свое отшельничество и, видимо,
собирался принять активное участие в общественной борьбе, кипевшей в
России конца 1850-х гг. Известна политическая наивность Иванова, долгие
1 О, какое веселье! (Ит.)
2 Белинский В. Г. Поли. собр. соч.: В 13 т. М., 1955. Т. 9. С. 175.
552 СТАТЬИ. ЗАМЕТКИ. ВЫСТУПЛЕНИЯ. II. Изобразительное искусство
годы сохранявшего религиозные иллюзии и веру в провиденциальную роль
Николая I. Однако работы советских исследователей уже разрушили
представление об Иванове как уединенном затворнике, далеком от политических
размышлений1. На разных этапах его идейной эволюции судьба сводила
Иванова с интереснейшими людьми русского и европейского общественного
движения: Рожалиным, Гоголем, Чижовым, Штраусом, Герценом,
Хомяковым, Чернышевским, причем художник вел с ними не мимолетные разговоры
по незначащим вопросам, а беседы на коренные общественно-философские
темы. Если к этому добавить, что архив Иванова хранит выписки из статьи
Рылеева, следы чтений Белинского и Сен-Симона, и вспомнить, как он
опасался, прося Герцена свести его с Мадзини, чтобы реакционное папское
правительство не вздумало ревизовать его библиотеку и бумаги в римской
студии, придется признать, что при всей биографической, личной, бытовой
удаленности от кипения политических событий, Иванов был активно включен
в идейную жизнь своей эпохи.
Чрезвычайно существенным для Иванова было то, как во второй статье
о Пушкине Белинский определил общество социальной справедливости. Это
строй, основанный на природе человека, гармоническом его развитии («наше
время есть эпоха гармонического уравновешения всех сторон человеческого
духа»2). За этим стояла вера в то, что «человек, по натуре своей, всегда был,
есть и будет один и тот же»3. Правда, социальное воспитание меняет человека:
«он — сын времени», «воспитанник истории»4. Но в несправедливом обществе
социальное воспитание есть искажение. Поэтому переход к общественной
гармонии вместе с тем есть возрождение человека, освобождение его природы
от уродливых социальных наростов.
Другая важнейшая мысль заключается в том, что новый этап искусства —
«новый романтизм» — состоит в воспроизведении «идеала высокой
будущности человечества»5. Новый романтизм отличается от старого, мир
которого — «мир, чуждый всякой действительности»6, тем, что он оправдывает
1 О мировоззрении А. А. Иванова см.: Алпатов М. Александр Андреевич Иванов:
Жизнь и творчество: В 2 т. М., 1956; Бернштейп Б. К вопросу о формировании
эстетических взглядов Александра Иванова // Искусство. 1957. № 2; он же. А. Иванов
и славянофильство // Там же. 1959. № 3; Зотов Л. И. Материал к лекции на тему:
«Великий русский художник А. А. Иванов». М., 1956; Зуммер В. Проблематика
художественного стиля Ал. Иванова // Известия Азербайджанского ун-та. Обществ,
науки. Баку, 1925. Т. 2/3; Ковтун Е. А. Иванов и русская критика пятидесятых годов
XIX века // Искусство. 1958. № 6. Недостаток места и характер настоящей работы
не дают нам возможности пытаться осветить все стороны сложного идейного
развития А. А. Иванова. Беря лишь ту сторону дела, которая существенна для нашего
исследования, мы оставляем вне рассмотрения ряд важных сторон мировоззрения
художника. Так, мы не касаемся превосходно разработанного Б. Бернштейном вопроса
о «славянофильском» периоде Иванова и некоторых других вопросов.
2 Белинский В. Г. Поли. собр. соч. Т. 7. С. 158.
3 Там же. С. 145.
4 Там же.
5 Там же. С. 185.
6 Там же. С. 179.
Истоки «толстовского направления» в русской литературе 1830-х годов 553
право человека на земное счастье и верит в возможность гармонического
переустройства действительности.
Все эти идеи были чрезвычайно существенны для Иванова.
Художественная концепция картины Иванова «Явление мессии народу»
определилась не сразу. Более ранняя картина «Явление Христа Марии
Магдалине» имела замысел, отдельные стороны которого интересно
сопоставить с «Явлением мессии народу». Художник задумал показать зрителю
тот момент евангельской легенды, который рассказывает, как Мария увидела
воскресшего и возносящегося Христа. Согласно легенде, она, увидев идущего
по саду человека, приняла его за садовника. Это дало основание Андрею
Ивановичу Иванову, отцу художника, советовать ему вложить в руки Христа
садовые инструменты. Иванов, обычно очень дороживший советами отца,
опытного живописца, отверг это предложение. Для него было очень
существенно показать в Христе не человека. Это не телесный человек, недавно
еще страдавший на кресте, а возносящийся неземной идеал. И именно
присутствие этого божественно-неземного разрешает страдания Марии.
Известно по письмам самого художника, как он старался заставить натурщицу
плакать и смеяться одновременно. Это было очень важно для художника:
земное существо Марии страдает от земной гибели Христа, присутствие
Христа неземного разрешает это страдание. Не случайно Иванов отказался
от имеющегося в черновых набросках движения Марии, державшей мантию
Христа. Это бы придало фигуре последнего материальность, что
противоречило замыслу художника. Таким образом, перед нами типично
романтическая концепция: трагедия земной жизни преодолевается путем
приобщения к неземному, сверхчеловеческому: религии, неземной чистоте и
неземной красоте.
В том же духе, видимо, сложился и первоначальный замысел «Явления
мессии народу»: нравственное перерождение людей под влиянием приобщения
к божеству. Иванов встал перед задачей найти земные, зримые формы для
выражения неземной сущности. Он то пробовал решить вопрос традиционно,
поместив над головой Христа голубя — символ святого духа1, то, возможно,
даже рассчитывал удалить с полотна самый образ мессии, воплотив его
преобразующую нравственную силу в проповеди Иоанна2. И в этом замысле
уже, как справедливо отметил Б. Бернштейн, были элементы идеалистического
в своей основе социального утопизма.
Однако идейное развитие Иванова на этом не остановилось. Он
закономерно пришел в ходе своей внутренней эволюции к изучению «Жизни
1 См.: Александр Андреевич Иванов: Его жизнь и переписка, 1806—1858 / Изд.
М. Боткин. СПб., 1880. С. XV.
2 А. И. Зотов склонен связать с замыслом картины черновой набросок рукописи
Иванова: «Прекрасный сюжет, когда Иоанн бросился порицать фарисеев и книжников
при всем народе. Смятение этих подлецов, удивление народа твердости Иоанновой
и воспламенение его духом целого общества» (Зотов А. И. Материал к лекции на
тему... С. 13). Б. Бернштейн возражает против этого (см.: Бернштейн Б. К вопросу
о формировании эстетических взглядов Александра Иванова).
554 СТАТЬИ. ЗАМЕТКИ. ВЫСТУПЛЕНИЯ. II. Изобразительное искусство
Иисуса» Д. Ф. Штрауса1, потере религиозности, в чем он сам признавался
Герцену, к беседам с издателем «Полярной звезды» в Лондоне и
Чернышевским в Петербурге. После того как замысел картины определился,
сделалось заметно и отличие в ней трактовки образа Христа от
«Явления Христа Марии Магдалине». Там он — воплощенная идея, здесь —
человек.
Необычность изображения Христа на картине Иванова не укрылась от
римского кружка художников. В письме отцу Иванов сообщил: «Камучини
говорит, что фигура Иисуса столь удачно поставлена на своем месте, что
без всяких пособий: сияний от головы, облаков с нисшествием духа в виде
голубя [можно узнать в нем Бога]2 видно в нем что-то необыкновенное,
мистическое»3. Любопытно, что Иванов зачеркнул слова о том, что в его
Иисусе виден Бог, уточнив: «необыкновенный» человек. Как увидим, и эта
концепция претерпит изменение. Вопрос о том, изображать ли Иисуса
человеком или Богом, очень волновал Иванова и сделался предметом его
специальных размышлений. В заметке «О божестве» (середина 1840-х гг.?)
Иванов еще резко выступает против «очеловечивания» Бога. Те, кто
стараются «идею облечь в видимость», — «необразованные и слабые умы».
Они, «видя в человеке совершенство создания Божия, самого Бога делают
человеком, обрисовывая его всеми идеалами последнего»4. Однако эти
убеждения скоро поколебались. В комментариях к выпискам из
Священного писания Иванов настойчиво подчеркивает в Христе человеческое:
«Сам спаситель рода человеческого сознавал беспрестанно в душе своей
искушения. <...> Человек, подчиненный совершенно воле Божией, на
каждом шагу своих действий походит на самого Бога и по смерти точно
будет боготворим людьми, не достигшими своего нравственного разработы-
вания, и глубоко уважаем людьми истинно образованными под страхом
Божиим»5.
1 Вряд ли можно согласиться с М. В. Алпатовым, стремящимся преуменьшить
значение книги Штрауса, называющим ее «крохоборческой». «Тяжеловесный по
изложению, обремененный филологической ученостью, текст Штрауса пригодился
Иванову в качестве сюжетной канвы, по которой он мог создавать свои художественные
образы. За неимением других источников книга Штрауса могла удовлетворить
пытливости художника и помогла ему подойти к историческому пониманию библейских
тем и сюжетов» (Алпатов М. Александр Андреевич Иванов... Т. 2. С. 142, 145). Мысль
Штрауса о том, что Христос был человеком, историческим лицом, произвела на
Иванова глубокое впечатление. Не случайно он, преодолев свою нелюдимость,
совершил путешествие для встречи с автором, обратил внимание на отличие
второго издания от первого и за разъяснениями по этому поводу обратился к
Чернышевскому. По авторитетному свидетельству М. Боткина, Иванова очень
«заинтересовала „Жизнь Христа" Штрауса, он знал ее почти на память, изучал
каждую новую идею» (Александр Андреевич Иванов: Его жизнь и переписка.
С. XIX).
2 Зачеркнуто.
3 ОР РГБ. Ф. 111. Карт. 1. Ед. хр. 5. Л. 66.
4 Там же. Карт. 2. Ед. хр. 26. Л. 4 об.
5 Там же. Ед. хр. 27. Л. 11.
Истоки «толстовского направления» в русской литературе 1830-х годов 555
Здесь уже сквозит мысль о человеческой природе того, кто принесет
людям спасение. В письме Жуковскому от 21 ноября 1847 г. Иванов выражал
надежду, что ему удастся «вознестись до изображения Бога-человека»1.
Следующий шаг состоял в том, чтобы найти Бога в самом человеке. Отсюда
был закономерный путь к тому признанию, которое Иванов сделал Герцену
в 1857 г.: «Я утратил ту религиозную веру, которая мне облегчала работу,
жизнь, когда вы были в Риме (то есть в 1847 г. — Ю. Л.)»2.
Однако вопрос еще не решался тем, чтобы увидеть в мессии человека, а
не Бога. В зависимости от того, понимался ли этот человек — вождь и
спаситель — как вдохновенная, исключительная натура, ведущая толпу, или
«просто человек», смысл картины кардинально менялся. Решающим при выяснении
идейной позиции Иванова является анализ принципов его творчества, тем
более что практическое художественное мышление было наиболее
революционным элементом его мировоззрения, определившимся значительно ранее, чем сам
художник нашел для него адекватные социально-философские формулировки.
В ходе работы Иванова над «Явлением мессии народу» определился тот
метод «сопоставлений и сличений», который составил основу его
художественной манеры. Дело здесь не только в том, что созданию каждой фигуры,
каждого портрета в общей композиции картины предшествовало большое
число эскизов, поисков психологически выразительных типов3. Дело в той
художественной системе, которую М. В. Алпатов определил так: «Он
стремился передать облик каждого человека так, чтобы в нем ясно выступили
черты, которые сближают его с общечеловеческой нормой»4. Практически
это проявилось в стремлении Иванова в ходе работы над тем или иным
портретом найти не только подходящую «натуру», но и параллельный образец
в античной скульптуре. В этом смысле показательна работа Иванова над
образом раба — наиболее угнетенного, страдающего и изуродованного
персонажа на полотне. Ход работы Иванова очень интересен: он находит
образцы, сочетающие нужный ему тип с безупречностью человеческой красоты
и гармонии. С одной стороны, он находит «натуру» — обезображенного
одноглазого старика — и рисует его в ракурсе раба на картине. С другой
стороны, в том же повороте он рисует античные статуи. «Он рисует голову
„Лаокоона" и делает маслом этюды со слепков „Танцующего фавна" и
„Кентавра"»5. В том же повороте он рисует и известную красавицу —
натурщицу Мариуччу. Затем этот идеал гармонической красоты, возникший в
1 Александр Андреевич Иванов: Его жизнь и переписка. С. 246.
2 Герцен А. И. Собр. соч.: В 30 т. М., 1958. Т. 13. С. 327.
3 Простоватый и не понимавший метода Иванова Ф. И. Иордан вспоминал: «Он
слишком был нерешителен, слишком много времени употреблял на этюды. Сколько раз
я ему говорил: „Как это вы можете, Александр Андреевич, терять напрасно самое дорогое
время в году? <...> Этак вы и в сто лет не кончите картину". „А как же-с, нельзя-с
так, — отвечает Иванов, — этюды, этюды, — мне прежде всего-с нужны этюды с натуры,
мне без них-с никак нельзя с моей картиной"» (Александр Андреевич Иванов: Его жизнь
и переписка. С. 400).
4 Алпатов М. Александр Андреевич Иванов... Т. 1. С. 241.
5 Там же. С. 252.
556 СТАТЬИ. ЗАМЕТКИ. ВЫСТУПЛЕНИЯ. II. Изобразительное искусство
сознании художника как синтез черт античных мраморов и живой
классической прелести итальянки, Иванов начинает безобразить. Он наносит на
него следы социального уродства: морщины нищеты и унижения, воспаляет
от слез глаза (один глаз выбит — результат грубого насилия), безобразит
лоб клеймом, надевает на шею символ рабства — веревку. М. В. Алпатов
так описывает процесс превращения головы античной статуи в голову раба:
«В парном этюде рабов Иванов пытается одеть в плоть живого человека эти
античные головы; в одной из голов раба он даже сохраняет раздвоенный
подбородок кентавра»1.
Герои Иванова — «натуры» живые, найденные в жизни образы с
подчеркнутыми чертами социального (богач, раб, книжник, воин и т. д.) и
национального своеобразия2, но основное в них — скрытая под наслоениями
человеческая сущность. Она-то и есть залог возможности возрождения этой
разношерстной толпы к братству. И в этом смысле особенно важен образ
Христа — того, кому уподобятся возрожденные люди. У Иванова он —
просто человек. Художник положил в основу облика Христа черты Аполлона
Бельведерского, нарисовав их на одном этюде рядом и в одинаковом повороте.
В дальнейшем он изменял черты лица Христа, но эти изменения не носили
характера искажений. Христос у Иванова так и остался человеком в полноте
своих прекрасных возможностей.
Мечта о преображении человечества, освобождении его от зла и насилия
во имя золотого века всеобщего братства была устойчивой идеей Иванова.
Вначале она облекалась в формы упования на религиозно-нравственное
возрождение. Однако в дальнейшем художник, бесспорно, ознакомился с
идеями утопического социализма. В 1847 г. он спорил в Риме с Герценом,
которого с Ивановым познакомил их общий друг И. П. Галахов,
социалист-утопист, сторонник Фурье, питавший к учению последнего, по словам
Герцена, «ту нежность, которую мы имеем к школе, в которой мы долго
жили»3. Иванов был близок с уже тяжело больным в эту пору Галаховым
и, видимо, даже собирался использовать его черты в работе над своим
полотном — об этом свидетельствуют слова в одном из планов художника:
«Нужно представить в моей картине лица разных сословий, разных
скорбящих и безутешных (вроде Галахова)»4. М. В. Алпатов обнаружил в бумагах
Иванова следы знакомства с «Икарией» Кабе5. Косвенным свидетельством
1 Алпатов М. Александр Андреевич Иванов... Т. 1. С. 253.
2 Именно это дало основание ядовитой шутке Ф. И. Тютчева: «Да это не апостолы
и верующие, а просто семейство Ротшильдов» (Александр Андреевич Иванов: Его
жизнь и переписка. С. 419). М. А. Тучкова-Огарева увидела в картине Иванова
представленные «необыкновенно живо разнообразные типы еврейского племени»
(Герцен в воспоминаниях современников. [М.], 1956. С. 193), а посетивший в Риме студию
Иванова Николай I выразил пожелание, чтобы художник написал вторую картину —
изображающую крещение русских в Днепре.
3 Герцен Л. И. Собр. соч. Т. 9. С. 117.
4 ОР РГБ. Ф. 111. Карт. 2. Ед. хр. 19. Л. 1 об. У М. В. Алпатова (Александр
Андреевич Иванов... Т. 1. С. 205) фамилия Галахова в этой цитате прочтена искаженно.
5 Алпатов М. Александр Андреевич Иванов... Т. 2. С. 137.
Истоки «толстовского направления» в русской литературе 1830-х годов 557
знакомства Иванова с утопическим социализмом является осведомленность
в этом вопросе, причем именно в римский период, неразлучного с ним Гоголя.
В «Выбранных местах...» Гоголь писал: «Как бы этот день пришелся, казалось,
кстати нашему девятнадцатому веку, когда мысли о счастии человечества
сделались почти любимыми мыслями всех; когда обнять все человечество,
как братьев, сделалось любимой мечтой молодого человека; когда многие
только и грезят о том, как преобразовать все человечество <...> когда стали
даже поговаривать о том, чтобы все было общее — и дома и земли» (VIII, 411).
Большой интерес представляют имеющиеся в бумагах Иванова намеки,
позволяющие предположить знакомство его с сочинениями Сен-Симона и
сенсимонистов. Разочарование в христианстве сопровождалось для Иванова
поисками «нового христианства» — учения о земном братстве людей. Герцен
вспоминал: «Когда Иванов был в Лондоне, он с отчаянием говорил о том,
что ищет новый религиозный тип <...> Он требовал, чтобы мы ему указали,
где те живописные черты, в которых просвечивает новое искупление. Мы
ему их не указали. „Может, укажет Маццини", — думал он»1. Настроенному
таким образом Иванову естественно было обратиться к учению, пишущему
на своих знаменах имя «нового христианства». В последнем труде
Сен-Симона «Новое христианство» Иванов мог прочесть: «Бог сказал: люди должны
быть между собою братьями; это высшее начало заключает в себе все, что
есть божественного в христианской религии»2. Сенсимонисты склонны были
считать Христа инициатором величайшего переворота в истории
человечества. Новый социалистический переворот будет осуществлен новым Христом:
«Как Христос провозгласил: „Долой рабство!", — так Сен-Симон
провозглашает: „Долой наследование!"»3 Более того, сенсимонисты неоднократно
говорили, что истины, провозглашенные Христом, остались
неосуществленными, — задачу своего движения они видели в их реализации. Подобную
мысль мы встречаем в записях Иванова: «Вначале Бог представлялся как
собор всех сил, и человек от самого создания мира до Христа все представляет
Бога в виде всесильного царя, способного казнить и истреблять. Христос
соединяет в себе собор всех добродетелей и без оружия, одним только словом
действует на сердца и делается у людей царем всего земного, [но люди по
слабости своей до самого 1850 года тиранили себя]»4. Последняя, зачеркнутая
1 Герцен А, И. Собр. соч. Т. 16. С. 142.
2 Сен-Симон А. де. Собр. соч. М.; Пг„ 1923. С. 213.
3 Волгин В. П. Сен-Симон и сенсимонисты. М., 1961. С. 115.
4 ОР РГБ. Ф. 111. Карт. 2. Ед. хр. 26. Л. 12. Запись, видимо, относится к началу
1850 г. Иванов по привычке написал «4», но исправил на «5». Ср. в другой записи о
Христе: «Рим при его жизни уже задумывал принять его учение. Но ранняя смерть
спасителя рода человеческого сторицей, ужасом отозвалась в тех людях, коим было
известно учение его. Мучение сих человеков еще и мы застаем, но мы уже счастливы,
мы начинаем уже выкупать род человеческий из пороков посредством математики»
(Там же. Ед. хр. 15. Л. 9 об). Следовательно, Иванов считает, что искупление,
провозглашенное Христом, только приближается в XIX в. благодаря успехам науки и
техники «зари просвещения». Связь научно-промышленных успехов с торжеством
«нового христианства» — тоже характерная черта учения сенсимонистов.
558 СТАТЬИ. ЗАМЕТКИ. ВЫСТУПЛЕНИЯ. II. Изобразительное искусство
запись очень знаменательна: Иванов, видимо, считает, что новая эра,
провозглашенная Христом, еще не наступила. Об этом же он говорит и в другой
записи: «Слабое человечество не в состоянии было в совершенстве понять
всю глубину божественного учения. Церковь жгла живых открыто, а тайные
общества преследовали всех тех, кто к ним не присоединялся»1. Это, возможно,
пересказ отрывка из «Нового христианства» Сен-Симона: «Я обвиняю ныне
здравствующих папу и всех его кардиналов, я обвиняю всех пап и всех
кардиналов, живших с XV века, в том, что они еретики. Прежде всего я
обвиняю в том, что они разрешили образование двух учреждений,
совершенно противоречащих духу христианства, именно: инквизиции и
общества иезуитов2. <...> Дух христианства — кротость, доброта, милосердие и,
сверх всего этого, справедливость; его оружие — убеждение и доказательства.
Дух инквизиции — деспотизм и алчность; ее оружие — насилие и
жестокость»3.
Наконец, именно для утопических учений типа сенсимонизма характерна
вера в мирный путь перехода к «братству», отсутствие интереса к
политической борьбе и даже вера в возможную помощь правительства. Иванов,
например, вопреки имеющимся в ряде работ попыткам
«революционизировать» его убеждения, долго хранил наивную веру в русское правительство и
лично в царя.
Показательно, что слышавший толкование картины от самого автора
Герцен сравнил Христа Иванова с пророками утопического социализма. В
восьмой части «Былого и дум» (вариант по рукописи ЦГАЛИ) он писал:
«Пока дело шло о политических правах — все образованное стояло со
стороны движения, шло перед народом и за него. Дошедши до социального
вопроса — сделалось новое расщепление — небольшая кучка людей осталась
верной [ему] прогрессу [масса отстала], большинство образованных отступило
и незаметно очутилось с консервативной стороны; не оставили своих
оппозиционных замашек, пока это было возможно. Народ остался беспомощнее,
чем когда-либо [или] исключит<ельно> на руках у попов; его [несчастное
невежество] неразвитие было прежде скрыто за фалангой защитников,
говоривших во имя его, — они расступились, и мы увидели несколько пророков
вдали, на горе [как Иисус на картине Иванова], и внизу народ, спящий в
тяжелом сне [в темноте толпа]»4. Возникает существенный для нашей темы
вопрос: Иванов стремится изобразить человека в его положительной
антропологической сущности, «перед воображением художника неизменно стоял
идеал общечеловеческого благородства»5. Герои его — исторически,
социально и национально конкретизированные типы, но они изображены именно
в тот момент, когда, приобщаясь к идеалу человечности, сбрасывают с себя
уродующее влияние среды (веселое пробуждение человека в рабе) и нацио-
1 ОР РГБ. Ф. 111. Карт. 2. Ед. хр. 13. Отд. лист.
2 Это место поясняет малопонятное выражение Иванова «тайные общества».
3 Сен-Симон А. де. Собр. соч. С. 223.
4 Герцен А. И. Собр. соч. Т. И. С. 646—647. Курсив мой. — Ю. Л.
5 Алпатов М. Александр Андреевич Иванов... Т. 1. С. 345—346.
Истоки «толстовского направления» в русской литературе 1830-х годов 559
нальной ограниченности («не будет ни иудея, ни еллина»). Как же соотносится
это искусство положительных ценностей с реалистическим направлением, в
литературе отождествляемым с «натуральной школой», а в живописи — с
творчеством П. А. Федотова, графикой А. А. Агина и других?
Известно, что Иванов относился к жанровой живописи резко
отрицательно. П. М. Ковалевский вспоминал: «Ко всем родам живописи, кроме строго
исторической, Иванов питал более чем равнодушие: он считал их вредными,
говоря, что они превращают искусство в одну пустую забаву глаз и не дают
художнику развиться в „исторического", единственно истинного, по его
мнению, художника. Особенно враждовал он против сцен из вседневной жизни
(„жанра"), который знал более по фламандским рабским копиям с натуры,
лишенным всякого содержания»1.
Очень характерно противопоставил жанровую живопись своей
художественной манере сам Иванов в письме Жуковскому: «Я надеюсь самым делом
убедить вас, что способен из житейского простого быта (tableau de genre)
возвыситься до изображения Бога-человека»2. Итак, жанровая живопись
принижает, а «историческая» возвышает человека до божества. Интересно и
другое: «натуральная школа» (например, в творчестве Агина) культивировала
иллюстрацию-карикатуру. Иванов относился к карикатуре резко
отрицательно. Показательно воспоминание И. С. Тургенева: «Однажды кто-то принес
к нему тетрадки удачных карикатур: Иванов долго их рассматривал — и,
вдруг подняв голову, промолвил: „Христос никогда не смеялся"»3. Эти же
особенности художественных воззрений Иванова отметил и В. В. Стасов:
«Один раз, во время нашей беседы, голос его сильно возвысился и он начал
почти что сердиться. Это было, когда я стал вдруг говорить ему про
Каульбаха в противоположность Овербеку и Корнелису и указал на его,
казавшееся мне столь дорогим, стремление приблизиться к природе — в его
чудесных иллюстрациях к „Reineke Fuchs" Гёте <...>. Сначала Иванов
рассматривал книгу Каульбаха с удовольствием, признавая талантливость
в изображении людей под видом зверей; но у него совершенно лицо
переменилось, когда он услыхал, что тут речь идет о „карикатурах": это его
сердило, это его приводило в негодование. Так всегда бывает с натурами,
подобными Иванову: все выходящее из пределов строгого, важного, самого
серьезного настроения — им непонятно, им враждебно. Шутка, юмор,
комизм — глубоко им неприятны и чужды. Но еще хуже вышло дело, когда
я стал говорить о моем уважении к тому роду живописи, что называется
„бытовою" живописью, жанром»4. Объяснение, которое приводит Стасов,
говоря об отрицательном отношении Иванова к карикатурам, отвергается
множеством свидетельств. Иванов любил веселье и смех, «он внезапно
хохотал от самой обыкновенной остроты», — вспоминал в цитированной
выше статье И. С. Тургенев. По воспоминаниям Иордана, любой рассказ
1 Александр Андреевич Иванов: Его жизнь и переписка. С. 405.
2 Там же. С. 246.
3 Тургенев И. С. Собр. соч.: В 12 т. М., 1956. Т. 10. С. 337.
4 Александр Андреевич Иванов: Его жизнь и переписка. С. 423.
560 СТАТЬИ. ЗАМЕТКИ. ВЫСТУПЛЕНИЯ. II. Изобразительное искусство
«из увиденного на улице или из услышанного он начинал смехом: „ха-ха-ха,
а вот я сегодня..."»1.
Причину следует искать в другом: Иванов считал, что искусство должно
воспроизводить не реальное угнетенное состояние человека, а его природу;
в карикатуре он видел искажение «благородной человеческой личности»
(Белинский), надругательство над идеей прекрасного, гармонического
человека. Любопытно, что столь бросавшееся современникам в глаза
отрицательное отношение Иванова к жанровой живописи совсем не было таким
безусловным. И еще более показательно, что, вопреки распространенному мнению,
неприязнь к «жанру» разделял с ним Гоголь2. Иванов не принимал
фламандской школы, потому что видел в ней изображение, возводящее в идеал, в
норму этическую и эстетическую уродливый быт и человека, далекого от
совершенства. Такое изображение повседневности Иванов считал ее
утверждением. В картинах фламандцев он читал мысль, что жизнь не может и не
должна быть иной, чем та, которую изобразил художник. То же самое
изображение не встретило бы его осуждения, если бы оно было пропитано
1 Александр Андреевич Иванов: Его жизнь и переписка. С. 339.
2 Отождествление гоголевского реализма с бытовизмом и в связи с этим
представление о том, что Гоголю должна была импонировать именно жанровая живопись,
укоренилось очень прочно. М. В. Алпатов пишет: «Надо думать, что Гоголь в силу
характера собственных литературных тенденций должен был всячески поддерживать
обращение Иванова к жанровой живописи, которое способно было укрепить
реалистическую основу в творчестве художника» (Алпатов М. Александр Андреевич Иванов...
Т. 1. С. 305). Между тем Гоголь разделял отрицательное отношение Иванова к
«жанру». Во второй редакции повести «Портрет» появилось рассуждение, в котором
есть все основания усмотреть отголосок бесед с Ивановым: «Высоким внутренним
инстинктом почуял он присутствие мысли в каждом предмете; постигнул сам собой
истинное значение слова: историческая живопись; постигнул, почему простую головку,
простой портрет Рафаэля, Леонардо да Винчи, Тициана, Корреджо можно назвать
историческою живописью, и почему огромная картина исторического содержания
все-таки будет tableau de genre, несмотря на все притязания художника на историческую
живопись» (III, 126—127). В приведенном высказывании ясно видно осуждение
жанровой живописи и выделен главный и для Иванова признак живописи исторической —
«присутствие мысли». В воспоминаниях Ф. В. Чижова находим любопытное
свидетельство: рассматривая два акварельных рисунка Иванова, «Танец вздохов» и «Сцена
римского карнавала», Гоголь отчетливо сформулировал свое отношение к «жанру».
Чижов пишет: «Я, когда посмотрел обе картинки, выбрал последнюю <...>. Приходит
Гоголь и диктаторским тоном произносит приговор в пользу первой, говоря, что она
в сравнении с тою — историческая картина, а та genre <...>. Одним словом,
что первая выше последней» (Лит. наследство. М., 1952. Т. 58. С. 780). Как видим,
и здесь Гоголь употребляет термин «жанр» в качестве отрицательной
характеристики. При этом любопытно и другое: акварель, которую Гоголь считал
«исторической», отличалась остросатирическим замыслом: чопорный «цивилизованный»
англичанин противопоставлен здесь веселой итальянской толпе. Вторая, избранная
Чижовым, акварель — просто уличная сценка. Именно наличие в первой картинке
антитезы, «присутствие мысли» делало ее для Гоголя не «жанровой», а
«исторической». Ср.: Машковцев Н. Н. В. Гоголь и изобразительное искусство // Искусство.
1959. № 12.
Истоки «толстовского направления» в русской литературе 1830-х годов 561
болью за униженного человека и представлением о прекрасной природе. Не
следует забывать, что Чернышевский, беседовавший с Ивановым за несколько
дней до смерти художника, почувствовал в его позиции много для себя
родственного и приемлемого. Показательно, что эстетические принципы
Гоголя Иванов принимал полностью. Весьма ценным в этом смысле является
свидетельство П. М. Ковалевского, который, споря с Ивановым о жанровой
живописи, указал ему на Федотова. Картин Федотова Иванов никогда не
видал. Достаточно было Ковалевскому убедить Иванова в том, что «жанр»
в руках Федотова сделался выражением эстетики, родственной гоголевскому
направлению, как тот навсегда проникся уважением к федотовской живописи.
«Вы не видели сцен Федотова, — говорил я ему, — иначе вы судили бы не
так; это Гоголь в красках». В дальнейшем, пишет Ковалевский, «упоминая
о „жанре"», он всегда делал оговорку: «Кроме Федотова-с». Уважение Иванова
к Федотову, которого он исключал из числа жанровых живописцев,
запомнилось и Стасову.
В творчестве Иванова прояснилась та грань эстетики 1830—1840-х гг.,
которая впитывала черты туманного, но все проясняющегося утопизма и в
своем логическом и историческом завершении вела к петрашевцам и молодому
Достоевскому периода «Белых ночей». Она соприкасалась с «натуральной
школой», имела с ней много общего, но все же существовала вполне
самостоятельно. Более того, к концу 1840-х гг. наметились расхождения этих двух
родственных тенденций, проявившиеся, например, в критике Белинским
В. Н. Майкова. Показательно, что Чернышевский, в эстетике которого черты
антиисторического утопического социализма проявились значительно
резче, чем у позднего Белинского, проявил большую терпимость к искусству,
стремящемуся воплотить «природу» человека (ср. его рассуждение о жанре
идиллии). Это же, возможно, объяснит и чрезвычайно высокую оценку им
Иванова.
Было бы непростительным упрощением истолковать «Явление мессии
народу» как иллюстрацию или же даже непосредственное выражение идей
социалистического утопизма. Дело обстоит сложнее: художественная позиция
Иванова выражала тот момент общественного развития, который содержал
в себе возможность дальнейшего пути и в сторону утопического социализма,
и в направлении патриархально-демократической утопии. Иванов колебался
между этими путями, и идеал общества, возвращенного к первоначальной
простоте и семейному братству, его очень увлекал. Не случайно он просил
брата прислать ему иллюстрированную библию, «Илиаду» Гомера, «а если
вышла „Одиссея" Жуковского, то и ее». Сам подбор примечателен. М. В.
Алпатов, характеризуя «Библейские сцены» Иванова, пишет: «Иванов придает
своим сценам идиллический патриархальный характер: Бог-отец — это
добродушный, длиннобородый старец; люди — красиво сложенные и беспечные
существа; природа — мирная и спокойная, — все в этих рисунках напоминает
блаженство золотого века»1.
1 Алпатов М. Александр Андреевич Иванов... Т. 2. С. 138.
562 СТАТЬИ. ЗАМЕТКИ. ВЫСТУПЛЕНИЯ. П. Изобразительное искусство
На примере творчества Иванова мы убеждаемся, что отождествлять
реалистическое искусство 1830—1840-х гг. с «бытовым» направлением —
означает оставить вне поля зрения крупнейшие художественные явления.
***
Рассматривая творчество ряда деятелей русского искусства 1830-х гг., мы
не имели цели дать исчерпывающую характеристику этого огромного вопроса.
Разумеется, в творчестве Пушкина, Лермонтова и тем более Гоголя занимали
очень значительное место черты, предваряющие «натуральную школу» и
позволяющие смотреть на преемственность Пушкин — Гоголь —
«натуральная школа» как на одну из важнейших дорог русской литературы той эпохи.
Однако основная — не значит единственная. Принципы «натуральной школы»
обогащают литературу предшествующей эпохи, ведут ее дальше, но они явно
не исчерпывают всего прогрессивного содержания и художественного
богатства даже творчества Гоголя, не говоря уже о Пушкине и Лермонтове.
Писатели 1830-х гг. жили в эпоху, когда в органическом единстве их
творчества могли еще сочетаться две потенциальные возможности прогрессивного
художественного развития, и закрывать глаза на вторую из них, ведущую к
Толстому, не следует.
Суммируем основные социально-идеологические черты этих двух тенденций.
Прежде всего, напомним, что оба направления были едины в своем
стремлении познать и изобразить жизнь, считали действительность
единственным предметом искусства, а постижение объективной истины — его целью,
то есть оба они придерживались реалистического художественного метода.
Деятели обоих направлений верили в то, что общественное зло проистекает
не из природы человека, а из ложной системы общественной организации,
и жаждали создания гармонического общественного строя. За этим стояла
вера в человека и народ, в возможность такого порядка, который обеспечил
бы единство счастья личности и благоденствия общества. Различия начинались
дальше: одна группа мыслителей полагала, что путь к социальной гармонии
пролегает через возврат к «естественному» человеческому обществу,
свободному от усложненных государственных форм, от разделения труда, к обществу
патриархального равенства. С этой точки зрения человеческая история
представляется цепью заблуждений и должна быть отброшена. Идеологи другого
направления полагали, что социальная гармония наступит как естественное
завершение всего хода истории. Эта точка зрения была проникнута
историзмом, стремлением понять и признать закономерный ход событий. Ей было
присуще представление о нравственном значении промышленности и
цивилизации. С первой точки зрения это отрицалось.
Будучи родственными в своем осуждении «неестественного»
существующего порядка, в стремлении защищать интересы народа, эти тенденции в их
логическом и историческом развитии приводили к разным социологическим
концепциям. Первая подводила к признанию идеала человека, работающего
своими руками, свободного от угнетения и никого, в свою очередь, не
угнетающего. Это была восходящая к XVIII в. и его демократам-уравнителям
Истоки «толстовского направления» в русской литературе 1830-х годов 563
типа Руссо и Радищева точка зрения, считавшая трудовую (то есть
крестьянскую) частную собственность основой социальной гармонии.
Идеалом теоретиков второго толка был свободный от эксплуатации
работник-гражданин высокоорганизованной гармонической цивилизации. Он
включен в коллективный труд и коллективное распределение.
Демократической эгалитарности мыслителей первой группы противопоставлен
социалистический принцип.
Отношение к историческому прогрессу резко разграничивало две эти
группы. Первая, осуждая цивилизацию, отрицала также и науку, а
следовательно, возможность сознательного построения идеального общества. Приход
к нему мыслился не как итог ряда конструктивных, движущих историю вперед
действий, совершаемых по рационально намеченному плану, а как система
деструктивных «отказов»: отказ от цивилизации, от истории, от социального
неравенства, от науки, промышленности и разделения труда — и обнажение
природной красоты человека. Такое понимание задач исторического движения
связано было с отрицательным отношением к теории и теоретикам, с
апологией стихийно-природных сил человека. Именно естественная доброта
людей мыслилась как сила, противостоящая злу общества.
Идеологическая разница позиций наложила печать своеобразия на каждую
из рассматриваемых тенденций. В области искусства первые делали
«нормального» героя, живущего патриархально-естественной жизнью,
непосредственно действующим лицом, порою — главным персонажем своих
произведений. Писатели второй группы стремились сосредоточить внимание на
исторически сложившемся обществе. Идеал «нормального» человека
присутствовал в сознании автора, но не воплощался непосредственно в облике
действующих персонажей.
Различия пролегли и в отношении к материализму и идеализму, к самому
понятию среды.
Не менее существенными были различия в конкретной тактике
представителей этих тенденций в политической и литературной жизни. Поборники
идей социализма, революционные демократы, связывали свои чаяния с
движением истории вперед. В отличие от западноевропейских
социалистов-утопистов они вынуждены были бороться с феодальным обществом. Поэтому
то разочарование в политической борьбе, которое на Западе возникло как
реакция на итоги буржуазных революций для народа, им не было свойственно.
Борьба за буржуазные свободы их кровно интересовала.
Сторонники патриархально-демократических тенденций идеалу
политической свободы противопоставляли освобождение людей от политической
структуры вообще. Это приводило к тому, что в конкретных тактических
коллизиях 1840-х гг. революционные демократы были значительно терпимее
к либералам, чем поборники патриархальности. До определенного периода
им было по пути с теми, кто требовал отмены крепостного права, хотя бы
во имя прогресса буржуазной цивилизации. Письмо Белинского к Гоголю и
осуждение критиком выпадов Гоголя против буржуазного парламентаризма
в «Риме» — тому живое свидетельство. Поборники идеи патриархальности
в эти годы были значительно более решительными в критике буржуазной
564 СТАТЬИ. ЗАМЕТКИ. ВЫСТУПЛЕНИЯ. П. Изобразительное искусство
цивилизации. Зато они порой лишь с трудом могли отделить себя от
защитников патриархальности с позиций антидемократических. Возможность
подобного соскальзывания продемонстрировалась трагедией Гоголя. Все это
создавало возможность аберрации: революционные демократы часто
принимали сторонников патриархального демократизма за помещичьих
реакционеров, а те их — за буржуазных либералов.
В свете дальнейшего исторического развития стало ясно, что при всей
глубине различий оба направления имели демократическое содержание.
Корни их уходили в литературу 1830-х гг.
1962
Почему море в мужском роде?
В стихотворении Пушкина «К морю» поэт, обращаясь к морю, использует
грамматические формы мужского рода:
...ты взыграл, неодолимый, —
И стая тонет кораблей...
Ты ждал, ты звал... я был окован1.
Объяснить это странное, с точки зрения русского языка, употребление можно
несколькими способами. Во-первых, несколькими строфами дальше Пушкин
заменяет «море» на «океан»:
Теперь куда же
Меня б ты вынес, океан?
С этой точки зрения, предшествующие стихи можно трактовать как
«упреждающую ошибку» грамматического сознания поэта, подобную той, которая
известна при описках или опечатках, когда буквы последующего слова
непроизвольно попадают в предыдущее. Однако вряд ли можно согласиться, что
перед нами простая ошибка. Во-вторых, можно было бы указать на интересное
объяснение, данное Е. А. Майминым: «Море в стихотворении оказалось
мужского рода не по связи его с океаном, а потому, что оно для поэта как друг.
„Как друга ропот заунывный" <...>. В русском языке формы мужского рода
имени существительного способны выражать признаки одушевленности в
несравненно большей степени, нежели формы среднего рода. Море для поэта
совсем как друг — и значит оно для него совсем живое, одушевленное. В глубине
поэтического и романтического, не признающего формальных стеснений и
1 Пушкин А. С. Поли. собр. соч.: В 16 т. М.; Л., 1937. Т. 2. С. 331—332. Далее
ссылки на это издание приводятся в тексте с указанием тома (римская цифра) и
страницы (арабская).
Почему море в мужском роде?
565
потому свободного сознания море-друг только и может быть мужского
одушевленного рода, и оно в языке тоже (скорее всего неосознанно для поэта)
принимает на себя мужской род. Видимая ошибка Пушкина находит
объяснение в законах поэтического мышления — романтического мышления»1.
Против толкования этого места как подсознательной ошибки говорят
следующие обстоятельства. Во-первых, то, что эти грамматические формы
появляются уже в ранних черновиках стихотворения и сохраняются во всех
последующих редакциях. Во-вторых, следует обратить внимание на образную
систему другого стихотворения Пушкина.
Так море, древний душегубец,
Воспламеняет гений твой?
Ты славишь лирой золотой
Нептуна грозного трегубец.
Не славь его. В наш гнусный век
Седой Нептун Земли союзник.
На всех стихиях человек —
Тиран, предатель или узник (III, 21).
Стихотворение это содержит два ключа к образу моря в пушкинском сознании.
Первый — общемифологический, в духе утвердившейся символики
европейского искусства: море — Нептун. От этого и приложение в мужском роде —
«древний душегубец». Однако здесь же скрыт и более специальный ключ:
«Седой Нептун Земли союзник»2. Говоря, что «седой Нептун Земли союзник»,
Пушкин имел в виду не отвлеченную аллегорию, а конкретное, памятное
ему полотно3. Оно оказывало давление на художественное мышление поэта,
заставляя его воспринимать море как мужскую фигуру.
Однако выявление художественного архетипа пушкинского образа союза
Земли и Моря позволяет обнаружить и некоторые смысловые оттенки. У
Рубенса союз двух стихий благодатен — он несет изобилие и процветание.
В стихотворении «К морю» в нем появляется оттенок горечи. Образ моря
отмечен печатью поэзии — иначе выглядит земля:
Судьба людей повсюду та же:
Где благо, там уже на страже
Иль просвещенье, иль тиран (II, 333).
Таким образом, союз Моря и Земли — это союз с тиранией. Так он и рисуется
в обращенном к Вяземскому стихотворении «Так море, древний душегубец...».
Если горькие ноты в «К морю» были связаны с известиями о смерти Наполеона
и Байрона, то второе стихотворение вызвано слухом об аресте в Англии
Николая Тургенева и о доставке его морем в Петербург. Образ, мелькнувший
при создании «К морю», оформился. Аллегория Рубенса гротескно
трансформировалась: Нептун, покровитель торговли, податель благ, превратился в
«древнего душегубца», а прекрасная Кибела-Земля — в аллегорию тирании,
1 Маймин Е. А. О русском романтизме. М., 1975. С. 101—102.
2 Дословное совпадение с названием картины Рубенса «Союз Земли и Воды».
3 Земля (Кибела) и Море (Нептун) с любовью глядят друг на друга.
566 СТАТЬИ. ЗАМЕТКИ. ВЫСТУПЛЕНИЯ. II. Изобразительное искусство
предательства и тюрьмы. «Союз Земли и Воды» Рубенса, «К морю» и «К
Вяземскому» («Так море, древний душегубец...») образуют своеобразный
триптих, семантически раскрывающийся только при взаимной соотнесенности.
В связи с проделанными наблюдениями можно высказать одно
соображение. В настоящее время не является новостью утверждение ни о
семиотической роли грамматических категорий в поэзии1, ни о смысловой функции
категории грамматического рода для языков, ее имеющих, в поэтическом
тексте. Хотелось бы отметить лишь, что в тех случаях, когда в поэтический
(или в культурный) код входят образы изобразительного искусства, или
культурные тексты, имеющие зримую природу, или, наконец, объекты
реального зримого мира, получающие в данной культурной системе символический
характер, переход от словесного текста к такого рода кодовым образам
решительно меняет природу формальных грамматических категорий (в
особенности таких, как род и лицо): формальная категория в зримом образе
неизбежно получает неформальный адекват и из грамматической
превращается в риторическую2. Р. О. Якобсон указал на роль грамматики как
семиотического механизма «безобразной» поэзии. В «образной» поэзии эта роль
еще более ощутима. Так, например, строка Ломоносова:
Изволила Елизаветь —
не вызывает ощущения грамматической нарушенности. Мы инстинктивно
чувствуем здесь варваризм — иностранный суффикс в русском тексте. Однако
как подпись на гравюре с портретом Елизаветы Петровны эта форма
производит другое впечатление: она начинает восприниматься как русский
показатель грамматического мужского рода при женском изображении, то есть
1 См.: Якобсон Р. Поэзия грамматики и грамматика поэзии // Poetics. Poetyka.
Поэтика. Warszawa, 1961.
2 Интересен пример, когда писатель, пишущий на языке с невыраженной категорией
рода, обращается к другому языку под влиянием настоятельной потребности при
переходе от мира зримых символов (в данном случае также моря) к слову найти
грамматический адекват оппозиции «мужское—женское». В приводимом нами примере
это вызывает цитаты испанского текста в английском: «Мысленно он всегда звал
море 1а таг, как зовут его по-испански люди, которые его любят. Порою те, кто его
любят, говорят о нем дурно, но всегда как о женщине, в женском роде (грамматический
род слова выполняет функцию женского признака, который должен быть
метафорически приписан зримому объекту, нейтральному вне культурной символики к
оппозиции „мужское—женское"! — Ю. Л.). Рыбаки помоложе, из тех, кто пользуется
буями вместо поплавков для своих снастей и ходит на моторных лодках, купленных
в те дни, когда акулья печенка была в большой цене, называют море el mar, то есть
в мужском роде. Они говорят о нем как о пространстве, как о сопернике, а порою
даже как о враге. Старик же постоянно думал о море как о женщине, которая дарит
великие милости или отказывает в них, а если и позволяет себе необдуманные или
недобрые поступки, — что поделаешь, такова уж ее природа. „Луна волнует море,
как женщину", — думал старик» (Хемингуэй Э. Собр. соч.: В 4 т. М., 1968. Т. 4.
С. 231). В такой семиотической коллизии грамматические категории получают не
только риторическое, но и мифологическое значение, что способствует актуализации
скрытых в сознании глубоко архаических кодов.
Замысел стихотворения о последнем дне Помпеи
567
как смысловой сдвиг. Видимо, именно это подсказало Гоголю форму «Ели-
заветъ Воробей». Фамилия «Воробей» может быть как женской, так и мужской,
«Елизаветъ» — в поэзии XVII в. «высокий стиль» по отношению к
нейтральному «Елизавета». Но в таком сочетании фамилия начинает ощущаться как
бесспорно мужская, а имя — как ловкое искажение, к которому прибегает
Собакевич для обмана Чичикова.
Представление о «Елизаветъ» как «высоком стиле» обращает нас к
наблюдению, любезно сообщенному нам Б. А. Успенским, согласно которому
мужской род в русском языке (и через его посредство — в культурном коде)
XVIII в. ценностно располагается выше женского, иерархически они не
равноценны в этом отношении. С этим Б. А. Успенский, в частности,
связывает и «море» в мужском роде у Пушкина.
Мысль Б. А. Успенского можно было бы подтвердить употреблением
категории рода в «О повреждении нравов в России» князя M. М. Щербатова.
Так, когда он хочет сказать, что пороки Елизаветы были пороками главы
государства и оказали гибельное влияние на нравы подданных, а добродетели
были свойствами частного человека и остались для государства бесполезными,
он меняет грамматический род в высказывании: «При сластолюбивом и
роскошном Государе не удивительно, что роскош имел такие успехи, но
достойно удивления, что при набожной Государыне, касательно до нравов,
во многом Божественному закону противуборствии были учинены»1.
«Государь» и «Государыня» здесь одно и то же лицо — Елизавета Петровна. То
же и в отношении Екатерины II: считая, что женщины более склонны к
деспотизму, «нежели мужчины», он говорит, что Екатерина II «наипаче в
сем случае есть из жен жена»2 и одновременно как главу государства ее везде
именует в мужском роде «Государь».
Вполне допустимо, что эта традиция оказывала подсознательное давление
на Пушкина. Однако для реализации ее потребовался некоторый
доминирующий образ-код. Таким явилась картина Рубенса «Союз Земли и Воды».
1979
Замысел стихотворения
о последнем дне Помпеи
В 1834 г. в Петербурге была выставлена для обозрения картина Карла
Брюллова «Последний день Помпеи». На Пушкина она произвела сильное
1 Щербатов M. М. Соч. СПб., 1898. Т. 2. Стб. 219.
2 Там же.
568 СТАТЬИ. ЗАМЕТКИ. ВЫСТУПЛЕНИЯ. П. Изобразительное искусство
впечатление. Он сделал попытку срисовать некоторые детали картины и
тогда же набросал стихотворный отрывок.
Везувий зев открыл — дым хлынул клубом — пламя
Широко развилось, как боевое знамя.
Земля волнуется — с шатнувшихся колонн
Кумиры падают! Народ, гонимый [страхом],
Под каменным дождем, [под воспаленным прахом],
Толпами, стар и млад, бежит из града вон1.
Сопоставление текста с полотном Брюллова раскрывает, что взгляд
Пушкина скользит по диагонали из правого верхнего угла в левый нижний. Это
соответствует основной композиционной оси картины. Исследователь
диагональных композиций, художник и теоретик искусства Н. Тарабукин писал:
«Содержанием картины, построенной композиционно по этой диагонали,
нередко является то или другое демонстрационное шествие». И далее: «Зритель
картины в данном случае занимает место как бы среди толпы, изображенной
на полотне»2.
Наблюдение Н. Тарабукина исключительно точно, и опрос информантов
полностью подтвердил, что внимание зрителей картины, как правило,
сосредоточивается именно на толпе. В этом отношении характерно мнение
дворцового коменданта П. П. Мартынова, который, по словам современника,
наблюдая эту картину, сказал: «Для меня лучше всего старик Помпеи,
которого несут дети»3. Мартынов был, по словам Пушкина, «дурак» и «скотина»
(XII, 336), а его высказывание приводится как анекдотический пример
невежества в римской истории. Однако для нас оно, в данном случае, — мнение
наивного, неискушенного зрителя, внимание которого приковали крупные
фигуры на переднем плане.
На диагональной оси картины расположены два световых пятна: одно в
верхнем правом углу, другое — в центре, смещенное в нижний левый угол:
извержение Везувия и озаренная его светом группа людей. Именно эти два
центра, как показывают эксперименты по пересказу содержания картины, и
запоминаются зрителями.
Рассмотрение стихотворного наброска Пушкина убеждает, что с самых
первых черновых вариантов в его сознании выделились не два, а три
смысловых центра картины Брюллова: «Везувий зев открыл — кумиры падают —
народ <...> бежит». «Кумиры падают» появляется уже в первых набросках
и настойчиво сопровождает все варианты пушкинского текста (III, 945—946).
Более того, через два года, набрасывая рецензию на «Фракийские элегии»
В. Теплякова, Пушкин, уже явно по памяти восстанавливая картину Брюллова,
1 Пушкин А. С. Поли. собр. соч.: В 16 т. М.; Л., 1937. Т. 3. С. 332. Далее ссылки
на это издание приводятся в тексте с указанием тома (римская цифра) и страницы
(арабская).
2 Тарабукин Н. Смысловое значение диагональной композиции в живописи // Учен,
зап. Тартуского гос. ун-та. 1973. Вып. 308. С. 474, 476. (Труды по знаковым системам.
Т. 6.)
3 Русский архив. 1905. № 10. С. 256.
Замысел стихотворения о последнем дне Помпеи
569
выделил те же три момента: «...Брюлов, усыпляя нарочно свою творческую
силу, с пламенным и благородным подобострастием списывал Афинскую
школу Рафаеля. А между тем в голове его уже шаталась поколебленная
Помпея, кумиры падали, народ бежал по улице, чудно освещенной Волканом»
(XII, 372). Здесь особенно показательно, что слова «кумиры падали» сначала
отсутствовали. Пушкин их вписал, что подчеркивает, насколько ему была
важна эта деталь.
Если обобщить трехчленную формулу Пушкина, то мы получим: восстание
стихии — статуи приходят в движение — народ (люди) как жертва бедствия.
Если с этой точки зрения взглянуть на «Последний день Помпеи», то нетрудно
понять, что привлекало мысль Пушкина к этому полотну, помимо его
живописных достоинств. Когда Брюллов выставил свое полотно для обозрения,
Пушкин только что закончил «Медного всадника», и в картине художника
ему увиделись его собственные мысли, выработанная им самим парадигма
историко-культурного процесса.
Сопоставление «Медного всадника» и стихотворения «Везувий зев
открыл...»1 позволяет сделать одно существенное наблюдение над поэтикой
Пушкина.
И поэтика Буало, и поэтика немецких романтиков, и эстетика немецкой
классической философии исходили из представления, что в сознании
художника первично дана словесно формулируемая мысль, которая потом
облекается в образ, являющийся ее чувственным выражением. Даже для
объективно-идеалистической эстетики, считавшей идею высшей, надчеловеческой
реальностью, художник, бессознательно рисующий действительность,
объективно давал темной и не сознавшей себя идее ясное инобытие. Следовательно,
и здесь образ был как бы упаковкой, скрывающей некоторую единственно
верную его словесную (т. е. рациональную) интерпретацию. Подход к
творчеству Пушкина с таких позиций и порождает длящиеся долгие годы споры,
например, о том, что означает в «Медном всаднике» наводнение и как следует
интерпретировать образ памятника.
Пушкинская смысловая парадигма образуется не однозначными
понятиями, а образами-символами, имеющими синкретическое словесно-зрительное
бытие, противоречивая природа которого подразумевает возможность не
просто разных, а дополнительных (в понимании Н. Бора, т. е. одинаково
адекватно интерпретирующих и одновременно взаимоисключающих)
прочтений. Причем интерпретация одного из членов пушкинского трехчлена
автоматически определяла и соответствующую ему конкретизацию всего ряда.
Поэтому бесполезным является спор о том или ином понимании
символического значения тех или иных изолированно рассматриваемых образов
«Медного всадника».
I С «Медным всадником» стихотворение Пушкина в несколько другом аспекте
сопоставляет и И. Н. Медведева в содержательной статье: «Последний день Помпеи»:
(Картина К. Брюллова в восприятии русских поэтов 1830-х годов) // Annali deiriiistituto
Universario orientale: Sezione slava. 1968. № 11. P. 89—124.
570 СТАТЬИ. ЗАМЕТКИ. ВЫСТУПЛЕНИЯ. II. Изобразительное искусство
Мысли Пушкина об историческом процессе отлились в 1830-е гг. в
трехчленную парадигму, первую, вторую и третью позиции которой занимали
сложные и многоаспектные символические образы, конкретное содержание
которых раскрывалось лишь в их взаимном отношении при реализации
парадигмы в том или ином тексте. Первым членом парадигмы могло быть
все, что в сознании поэта в тот или иной момент могло ассоциироваться со
стихийным катастрофическим взрывом. Вторая позиция отличается от первой
признаками «сделанности», принадлежности к миру цивилизации. От первого
члена парадигмы она отделяется как сознательное от бессознательного. Третья
позиция, в отличие от первой, выделяет признак личного (в антитезе
безличному) и, в отличие от второй, содержит противопоставление живого —
неживому, человека — статуе. Остальные признаки могут разными способами
перераспределяться внутри трехчленной структуры в зависимости от
конкретной исторической и сюжетной ее интерпретации.
Так, в наброске «Недвижный страж дремал на царственном пороге...» в
стихах:
Давно ль народы мира
Паденье славили Великого Кумира (II, 310) —
павший кумир — феодальный порядок «ветхой Европы». Соответственно
интерпретируется и образ стихии. Ср. в десятой главе «Евгения Онегина»:
Тряслися грозно Пиринеи —
Волкан Неаполя пылал (VI, 523)1.
Вся парадигма получает историко-политическое истолкование. Показательно,
что один и тот же образ-символ облекался с поразительной устойчивостью
в одни и те же слова: «Содрогнулась земля, / Столпы шатаются...», «Земля
шатается», «Земля содрогнулась — шатнул<ся>(?) град» (III, 946) — в
вариантах стихотворения «Везувий зев открыл...»; «Шаталась Австрия, Неаполь
восставал» (II, 311) — в «Недвижный страж дремал на царственном пороге...».
Замысел стихотворения об Александре I и Наполеоне, видимо, должен был
включать торжество «кумира» («И делу своему Владыка сам дивился» — II,
310). Образ железной стопы, поправшей мятеж, намечает за плечами
Александра I фигуру фальконетовского памятника Петру. Однако появление тени
Наполеона, вероятно, подразумевало предвещание будущего торжества
стихии; ср.:
...миру вечному свободу
Из мрака ссылки завещал (II, 216).
Возможность расчленения «кумира» на Александра I (или вообще живого
носителя комплексной образности этого компонента парадигмы) и Медного
1 Восприятие образа пылающего Везувия как политического символа было
распространено в кругу южных декабристов. Пестель на одной из своих рукописей
1820 г. аллегорически изобразил неаполитанское восстание в виде извержения Везувия
(рисунок воспроизведен в кн.: Пушкин и его время: Исследования и материалы. Л.,
1962. Вып. 1. С. 135).
Замысел стихотворения о последнем дне Помпеи
571
всадника (статую) намечена уже в загадочном (и, может быть, совсем не
таком шуточном) стихотворении «Брови царь нахмуря...»:
Брови царь нахмуря,
Говорил: «Вчера
Повалила буря
Памятник Петра» (И, 430)*.
Здесь даны компоненты: буря — памятник — царь, причем последний
выступает не как борец со стихией, а скорее как ее жертва. Соотнесенность
позиций парадигмы придавала ей смысловую гибкость, позволяя на разных
этапах развития пушкинской мысли актуализировать различные
семантические грани. Так, если в стихии подчеркивалась разрушительность, то проти-
вочлен мог получать функцию созидательности, иррационализм
«бессмысленной и беспощадной» стихии акцентировал на противоположном
смысловом полюсе момент сознательности2. В варианте начала 1820-х гг. и в
набросках стихотворения «Везувий зев открыл...» «кумиры» были пассивны,
носителем действия является «волкан». В сознании, стоящем за «Медным
всадником», это столкновение двух сил, равных по своим возможностям.
Падение статуи заменяется ее оживлением. А это связывается с активизацией
третьего компонента — человеческой личностью и ее судьбы в борении двух
сил.
Таким образом, в стихотворении «Везувий зев открыл...» активное
движение приписано стихии, статуи «падают», народ «бежит». В «Медном
всаднике» стихия бессильна поколебать монумент, памятник наделен
собственной способностью двигаться (действовать), народ (человек) — жертва
и разбушевавшейся стихии, и памятника. Глагол «бежит» настойчиво
подчеркивается в коллизии «Евгений — Нева», и при столкновении его с Медным
всадником:
...видит лодку;
Он к ней бежит... (V, 144).
Знакомой улицей бежит... (V, 144)
1 Возможность такого раздвоения заложена в пушкинском понимании образа статуи
как явления, двойственного по своей природе. Ср.:
Каким он здесь представлен исполином!
Какие плечи! что за Геркулес!...
А сам покойник мал был и щедушен,
Здесь став на цыпочки не мог бы руку
До своего он носу дотянуть (VII, 153).
Ср.: Якобсон Р. О. Статуя в поэтической мифологии Пушкина // Якобсон Р. О. Работы
по поэтике. М., 1987.
2 Поскольку движение декабристов никогда не выступало в сознании Пушкина как
стихийное, истолкование наводнения в «Медном всаднике» как аллегории 14 декабря,
введенное Д. Д. Благим, представляется натянутым, не говоря уж о том, что емкие
символические образы, которыми мыслит Пушкин, по природе своей исключают
прямолинейный аллегоризм.
572 СТАТЬИ. ЗАМЕТКИ. ВЫСТУПЛЕНИЯ. П. Изобразительное искусство
Изнемогая от мучений,
Бежит... (V, 144)
И вдруг стремглав
Бежать пустился. (V, 148).
И он по площади пустой
Бежит... (V, 148)
Однако большая активность «кумира» в «Медном всаднике» связана и с
активизацией поведения «человека», попыткой Евгения протестовать.
Последняя интересная трансформация триады встречается нам в «Сценах
из рыцарских времен». Здесь стихия представлена народным бунтом, власть
металлом лат и доспехов рыцарей и камнем их замков. Человеческое начало
воплощено в поэте (resp. ученом) — личности, ищущей свое место в борьбе
«натиска пламенного» и «отпора сурового». В этом варианте исторической
парадигмы стихия показана как бессильная перед железом и камнем (бессилие
стихии бунта вассалов против железных рыцарских панцирей и камня их
замков). Одновременно эти последние символизируют наиболее косное,
лишенное всякого движения историческое начало. Возможность башен «взлететь
на воздух» в начале заявлена как ироническая метафора того, что никогда
не произойдет. Однако ум человека изобретает порох и печатный станок
(«артиллерия мысли» — высказывание Ривароля, полюбившееся Пушкину),
которым камни бессильны противостоять. В этом варианте парадигмы в
бегство обращена стихия («Вассалы. Беда! Беда! <...> {Разбегаются)» —
VII, 234), а подобный извержению Везувия взрыв замка («Siège du chateau.
[Bertgold] le fait sauter» — VII, 348) — дело личности, типологически
родственной Евгению «Медного всадника». При этом еще раз следует подчеркнуть,
что и в «Медном всаднике» столкновение образов-символов отнюдь не
является аллегорией какого-либо однозначного смысла, а обозначает некоторое
культурно-историческое уравнение, допускающее любую историко-смысловую
подстановку, при которой сохраняется соотношение структурных позиций
парадигмы. Пушкин изучает возможности, скрытые в трагически
противоречивых элементах, составляющих его парадигму истории, а не стремится
нам «в образах» истолковать какую-то конечную, им уже постигнутую и без
остатка поддающуюся конечной формулировке мысль.
Смысл пушкинского понимания этого важнейшего для него конфликта
истории нам станет понятнее, если мы исследуем все реализации и
сложные трансформации отмеченной нами парадигмы во всех известных нам
текстах Пушкина. С этой точки зрения особое значение приобретает не
только образ бурана, открывающий сюжетный конфликт «Капитанской
дочки» («Ну барин, — закричал ямщик, — беда: буран!» — VIII, 287), но
и то, что Пугачев одновременно и появляется из бурана, и спасает от
бурана Гринева. Соответственно в повести он связывается то с первым
(«стихийным»), то с третьим («человеческим») членами парадигмы1. Расщепле-
1 Фактически Пугачев как мужицкий царь, альтернативный Екатерине II глава
государства, вовлечен и во второй семантический центр триады. Однако следует
Замысел стихотворения о последнем дне Помпеи
573
ние второго компонента на дополнительные (т. е. совместимо-несовместимые)
функции приводит в «Медном всаднике» к чрезвычайному усложнению образа
Петра: Петр вступления, Петр в антитезе наводнению, Петр в антитезе
Евгению — совершенно разные и несовместимые, казалось бы, фигуры,
соответственно трансформируют всю парадигму и одновременно сливаются в единый
многоплановый образ. Совмещение несовместимого порождает смысловую
емкость.
Таким образом, существенно, чтобы сохранился треугольник,
представленный бунтом стихий, статуей и человеком. Далее возможны различные
интерпретации при проекции этих образов в разные понятийные сферы.
Возможна чисто мифологическая проекция: вода (=огонь) — обработанный
металл или камень — человек. Второй член, например, может получать
истолкования: культура, ratio, власть, город, законы истории. Тогда первый
компонент будет трансформироваться в понятия «природа», «бессознательная
стихия». Но это же может быть противопоставление «дикой вольности» и
«мертвой неволи». Столь же сложными будут отношения первого и второго
компонентов парадигмы к третьему. Здесь может актуализироваться то, что
Гоголь называл «бедным богатством» простого человека, право на жизнь и
счастье которого противостоит и буйству разбушевавшихся стихий, и
«скуке», «холоду и граниту», «железной воле» и бесчеловечному разуму.
Но сквозь него может просвечивать и эгоизм, превращающий Лизу из
«Пиковой дамы» в конечном итоге в заводную куклу, повторяющую чужой
путь. Однако ни одна из этих возможностей никогда у Пушкина не
выступает как единственная. Парадигма дана во всех своих потенциально
возможных проявлениях. И именно несовместимость этих проявлений друг с
другом придает образам глубину незаконченности, возможность отвечать не
только на вопросы современников Пушкина, но и на будущие вопросы
потомков.
Подключение к исследуемой системе противопоставлений других
важнейших для Пушкина оппозиций: «живое — мертвое», «человеческое — бесче-
подчеркнуть, что каждой из названных структурных позиций присуща своя поэзия:
поэзия стихийного размаха — в первом случае, одическая поэзия «кумиров» — во
втором, поэзия Дома и домашнего очага — в третьем; но и в каждом конкретном
случае признак поэтичности может быть акцентирован или остаться невыделенным.
Подчеркнутая поэзия стихийности в образе Пугачева делает эту позицию для него
доминирующей. В образе Екатерины II, совмещающем вторую и третью позиции,
поэтизация почти отсутствует. Пушкин виртуозно владеет поэтическими
возможностями всех трех позиций и часто строит конфликт на их столкновении. Так, в «Пире
во время чумы» поэзия стихии (чума, которая приравнивается к бою, урагану и
буре) сталкивается с поэзией разрушенного очага и суровой поэзией долга. Игра
совпадением-несовпадением структурных позиций и присущих им поэтических
ореолов создает огромные смысловые возможности. Так, «домашние» интонации царя
(Александра I) в «Медном всаднике» в сопоставлении с домашними же интонациями
в описании Евгения и одической стилистикой Петра I создают впечатление
«царственного бессилия».
574 СТАТЬИ. ЗАМЕТКИ. ВЫСТУПЛЕНИЯ. П. Изобразительное искусство
ловечное», «подвижное — неподвижное» в самых различных сочетаниях1,
наконец, «скользящая» возможность перемещения авторской точки зрения —
также аксиологический критерий. Достаточно представить себе Пушкина,
смотрящего на празднике лицейской годовщины 19 октября 1828 г., как тот
же Яковлев-«паяс», который до этого «очень похоже» изображал
петербургское наводнение, «представлял восковую персону»2, то есть статую Петра
(вне всякого сомнения, комизм игры Яковлева был в сочетании
неподвижности с движением), чтобы понять возможность очень сложных
распределений комического и трагического в пределах данной парадигмы.
Контрастно-динамическая поэтика Пушкина определяла не только
жизненность его художественных созданий, но и глубину его мысли, до сих
пор позволяющей видеть в нем не только гениального художника, но и
величайшего мыслителя.
1986
Художественный ансамбль
как бытовое пространство
Античная поговорка гласит: «Музы ходят хороводом». При том что у
каждой из муз было имя, свой образ, инструменты и ремесло, греки неизменно
1 Кроме «естественного» сочетания: «живое—движущееся—человечное» возможно
и перверсное: «мертвое—движущееся—бесчеловечное». Приобретая образ
«движущегося мертвеца», второй член может получать признак иррациональности, слепой и
бесчеловечной закономерности — тогда признак рационального получают простые
«человеческие» идеалы третьего члена парадигмы. Таким образом, одна и та же
фигура (например, Петр в «Медном всаднике») может в одной оппозиции выступать
как носитель рационального, а в другой — иррационального начала. А то или иное
реальное историческое движение — размещаться в первой и третьей позициях
(ср. образ Архипа в «Дубровском» и слова из письма Пушкину его приятеля H. М.
Коншина, бывшего свидетелем бунта в Новгородских поселениях: «Как свиреп в своем
ожесточении добрый народ русской! жалеют и истязают; величают вашими
высокоблагородиями и бьют дубинами, и это все вместе» — XIV, 216). Коншин увидел в
этом лишь то, что в народе «не видно ни искры здравого смысла» (Там же). Для
Пушкина же раскрылась глубокая противоречивость реальных исторических сил,
«уловить» которые можно лишь с помощью той предельно гибкой, включающей, а не
снимающей контрасты модели, которую способно построить подлинное искусство.
2 Рукою Пушкина. М.; Л., 1935. С. 734. Соотношение «представлений» Яковлева с
замыслом «Медного всадника» кажется очевидным, однако не в том смысле, что
Яковлев дал Пушкину своей игрой идею поэмы, а в противоположном; созревавшая
в сознании Пушкина историко-культурная парадигма определила превращение
«сценок» Яковлева в толчок мысли поэта, подобно тому как она определила истолкование
им «Последнего дня Помпеи» Брюллова.
Художественный ансамбль как бытовое пространство
575
видели в искусстве именно хоровод, ансамбль различных, но взаимно
необходимых видов художественной деятельности.
Изучение искусства в новое время пошло по другому пути: сложились
отдельные дисциплины, изучающие художественную словесность, театр,
изобразительные искусства, кино, музыку в их изолированном развитии. Такой
подход имеет свои основания: с одной стороны, он соответствовал реальной
тенденции искусства к дифференциации, к превращению в отдельные,
внутренне самостоятельные сферы художественной деятельности (что составляло
ощутимую тенденцию в развитии искусства после Ренессанса, и в особенности
в XIX в.), с другой — позволял вычленить специфические задачи изучения
каждой области художественной активности человека.
Особенно много извлекла из такого подхода история каждого вида
искусства. Исторический подход к искусству стал для современного человека
чем-то гораздо большим, чем просто инструментом научного осмысления, —
он сделался условием эстетического переживания.
Нельзя сказать, чтобы вопрос о некотором «едином стиле» той или иной
эпохи, о единстве художественных вкусов той или иной общественной
группировки, класса, сословия не ставился в науке и чтобы на этой
методологической основе не выявлялась общность произведений, принадлежащих
различным видам искусства. Напротив, исследования такого рода, написанные
с различных методологических позиций, столь многочисленны, что даже
простое перечисление их заняло бы слишком много места. Именно под этим
углом зрения написаны исследования, посвященные, например, культуре
Ренессанса, барокко и т. п.
Однако, когда читаешь работы, посвященные тому, как «дух эпохи»,
«стиль времени» выражался в различных произведениях искусства (или эссе,
в которых авторы ставят перед собой цель воссоздать на основании текстов
и памятников «портрет века», синтетический облик культуры данного
времени), порой чувствуешь себя как бы в гостиной Собакевича, где все предметы
были на одно лицо и «каждый стул, казалось, говорил: „И я тоже Собакевич!"
или „И я тоже очень похож на Собакевича!"». Достигаемая таким образом
картина единства бывает не лишена эффектности, однако вызывает ряд
сомнений. Прежде всего, как правило, возникает вопрос, не достигается ли
единство ценой забвения всего, что этому единству противоречит (потери
бывают настолько значительны, что, в конечном счете, никогда нет
уверенности, имеем ли мы дело с единством описываемого объекта или с единством
предвзятой точки зрения).
Есть и другая трудность. Исследователь, описывающий «лицо эпохи»,
стремится подметить в разнообразных формах художественной жизни
единство. Но так ли смотрел на них современник? А если так, то зачем ему было
нужно, чтобы жизнь отливалась в разные формы?
Все это имеет непосредственное отношение к теории интерьера. Ведь
организация «интерьера» — это не только размещение мебели, украшений,
картин и скульптур внутри данного помещения, не только художественное
оформление стен, потолка и пола. Домашняя сцена в барском особняке
XVIII в. в такой же мере вводила в интерьер театральное искусство, в какой
576 СТАТЬИ. ЗАМЕТКИ. ВЫСТУПЛЕНИЯ. П. Изобразительное искусство
телевизор вводит в современную квартиру кинематограф. Если библиотека
вводила в интерьер книгу скорее как предмет переплетного искусства, то
раскрытый на специальном столике альбом хозяйки, украшенный проворно
Толстого кистью чудотворной
Иль Баратынского пером —
включал в интерьер и поэтический текст. (Бесспорно, что книги, составляющие
один из основных элементов современного интерьера, — кстати, в России
традиционно гораздо в большей мере, чем за рубежом, — «работают» уже
не переплетами, а титулами, то есть словесными знаками; поскольку при
стандартизации типографского дела книга данного наименования имеет один
и тот же вид у всех владельцев, каждый посетитель мгновенно опознает
состав библиотеки, и непрофессиональная библиотека приобретает знаковый
характер — она аттестует хозяина.) Не менее органична связь дворцового
интерьера барокко с камерным оркестром; городского квартирного быта
XIX в. — с фортепьяно; современного интерьера — с магнитофоном,
проигрывателем и воспроизводимой с их помощью музыкой.
Вопрос, следовательно, можно было бы поставить таким образом: почему
любой коллектив не может удовлетвориться каким-либо одним искусством,
а неизменно строит присущие ему типичные «ряды»; почему отдельный
человек почти никогда — кроме некоторых единичных и явно вторичных
случаев — не «употребляет» изолированных художественных текстов, а
стремится к ансамблям, дающим сочетания принципиально разнородных
художественных впечатлений?1 И если в описании исследователя-культуролога в
различных текстах ансамбля выступает общее, то в непосредственном
потреблении, видимо, активизируется разница: иначе почему нельзя
ограничиться одним текстом?
Говоря об ансамбле интерьера, уместно подчеркнуть еще одну
особенность: произведение искусства в контексте своего естественного ансамбля
соседствует не только с произведениями других жанров, но и других эпох.
Какой бы реально существовавший культурный интерьер мы ни избрали, он
никогда не заполняется вещами и произведениями, синхронными по времени
создания. Не только европейский собор, в котором, как правило, отчетливо
видны различные культурные пласты (сквозь барочный слой проглядывает
готическая основа, а порой — островки Ренессанса или даже романского
стиля), но и православный, интерьер которого отличается большим единством,
заполняет свое внутреннее пространство иконами, вышивками, хоругвями и
1 Любопытный пример в этом отношении — кинематограф: первоначально фильм
входил как один из номеров в ансамбль ярмарочно-балаганных аттракционов. В
дальнейшем превращение кинематографа в самостоятельное искусство, технические
условия демонстрации (темный зал и освещенный экран) способствовали выделению
и изолированному восприятию кинотекста. Однако одновременно начался рост
значения музыкального аккомпанемента, а с появлением звука кино в принципе приобрело
синтетический, ансамблевый характер (см.: Иоффе И. И. Синтетическое изучение
искусства и звуковое кино. Л., 1937; Лисса 3. Эстетика киномузыки. М., 1970).
Телевидение усложнило этот ансамбль, введя кино в интерьер современного жилища.
Художественный ансамбль как бытовое пространство
577
росписями, относящимися к весьма различным эпохам. Можно было бы
напомнить, что и такие культурные образования, как, например, «библиотека
русского образованного дворянина начала XIX в.» (будь то совокупность
книг в шкафах или круг реального чтения) или репертуар театра в
определенную эпоху, не составляются из синхронных и однотипных текстов.
Интересно в этом отношении описание Пушкиным подмосковного дворца
князя Юсупова:
Книгохранилища, кумиры и картины,
И стройные сады свидетельствуют мне,
Что благосклонствуешь ты музам в тишине...
<...> с восторгом ценишь ты
И блеск Алябьевой и прелесть Гончаровой,
Беспечно окружась Корреджием, Кановой,
Ты, не участвуя в волнениях мирских,
Порой насмешливо в окно глядишь на них...
Здесь перед нами весь набор необходимого для ансамбля разнообразия: по
временной оси совмещены различные эпохи (Корреджо, Канова), по
пространственной — всевозможные жанры: дом и парк, картина и скульптура.
Показательно, что женская красота включена в этот ансамбль как элемент:
красивая человеческая фигура в предписанном одеянии и позе —
обязательный элемент не только картины, изображающей пейзаж или интерьер, но и
самих этих культурных ансамблей.
Интерьеры, составленные исключительно из синхронных и одностилевых
предметов, производят унылое впечатление потому, что составлены из
предметов, стилевое единство и хронологическая синхронность которых слишком
обнажены. Особенно это делается заметным, когда некоторая модель
интерьера точно копируется в обстановке реального помещения, то есть когда ценой
больших затрат происходит одновременная смена всех предметов интерьера.
(Дело в том, что любая «модельная композиция» представляет собой некий
«язык», когда же ее превращают в реальный интерьер, она используется как
«текст». В первом случае это лишь возможность сказать нечто, во втором —
реальное сообщение. Когда мы видим жилую комнату, обставленную в точном
соответствии с некоторым «стильным образцом», мы находимся в положении
человека, которому вместо интересующего его сообщения подсунули
грамматику.)
Все это позволяет толковать понятие интерьера несколько более
расширенно, чем это делается обычно, а именно — как непосредственную связь
различных вещей и произведений искусства внутри некоторого культурного
пространства. Эта непосредственная связь отражает реальное
функционирование различных искусств в том или ином (исторически данном) коллективе.
И характерно, что для каждой эпохи и каждого типа культуры существуют
наиболее устойчивые, типичные связи, а также специфические несочетаемости.
Не всякое внутреннее пространство помещения может стать «интерьером».
Одним из существенных признаков всякой культуры является разграничение
всеобщего пространства (универсума) на внутреннюю — культурную,
«свою» — и внешнюю — внекультурную, «чужую» — сферы. С самых древ-
578 СТАТЬИ. ЗАМЕТКИ. ВЫСТУПЛЕНИЯ. П. Изобразительное искусство
них времен замкнутая «культурная» сфера отождествляется с
упорядоченностью, организованностью (космической, религиозной, социальной и
политической), а внешняя — с миром зла, дезорганизации, хаоса, враждебных
культовых и политических сил. Естественно, что создаваемые человеком
«внутренние пространства» — пещера, дом, городская площадь, или
обнесенное стеной пространство города, или вообще земля по эту сторону
«границы владений дедовских» (Пушкин) — становились объектом особых
культурных переживаний. Не случайно одним из наиболее почитаемых римских
богов был Терминус — бог границы отцовской земли; общеизвестна
магическая и покровительственная роль порога дома в верованиях многих народов
и т. д.1
С усложнением механизма культуры простое противопоставление
«культурного» (организованного) и «некультурного» (неорганизованного)
пространств сменяется иерархией: внутри замкнутого пространства выделяются
иерархически более «высокие» его участки. Так, внутри огражденного стеной
средневекового города выделяется замкнутое пространство, вмещающее
сакральную и государственную власть (слово «выделяется» имеет здесь
типологический, а не исторический смысл; исторически процесс шел в
противоположном направлении: кремль не выделялся из города, а обрастал городом).
Аналогичны красный угол в крестьянской избе, обязательное деление барского
особняка XVIII в. на парадные комнаты первого этажа и жилые — второго.
Парадные комнаты иначе обставлены: здесь специализированные как бы для
жилья помещения (например, спальни) служат лишь для приемов и
праздников, тогда как для жилья реально служат лишь комнаты второго этажа
(точно так же в мещанском быту возникает различие между кроватью —
украшением парадной комнаты и кроватью, предназначенной для сна).
Иерархия культурной значимости различных пространств дополняется
иерархией степеней их ценности (зависящей от внутренней структуры данного типа
культуры); так выделяются пространства, предназначенные для
государственно-политической деятельности, частной жизни и т. д.
1 Наименование «экстерьер» имеет смысл для всех случаев совмещения эстетического
переживания с внешней поверхностью культурного пространства — когда оно
моделирует внешнюю точку зрения на себя. Таков будет импозантный и грозный вид
рыцарского замка на скале, рассчитанный на восприятие его врагами или вассалами,
фасад дворца, вызывающий восхищение... Такова же природа заботы о виде, который
открывается на порт при приближении к нему с моря, и утвердившаяся еще в
античности манера украшать гавани статуями, обращенными лицом к входящим в
порт кораблям. Когда Гирландайо вызывался расписать внешнюю сторону
флорентийских стен фресками, он имел в виду гигантский опыт, имеющий целью указать
иностранцу, какой он должен воспринимать Флоренцию. Такова же природа
оформления пограничных знаков. В этом смысле Петербург был своеобразным экстерьером
императорской России, обращенным к Европе. Несколько особый случай —
крестообразный план готических соборов, видный лишь с внешней для людей «позиции
Бога», поскольку эта позиция внешнего наблюдателя в данном случае, для человека
средневековой культуры, не выносится за ее пределы, а составляет некоторый
недоступный людям центр.
Художественный ансамбль как бытовое пространство
579
Эстетические переживания также отнюдь не равномерно распределяются
внутри культурного пространства. Подобно тому как уже на ранних стадиях
общественно-исторического развития выделяются особые календарные сроки
для эстетических переживаний (например, для праздников, закрепленных за
определенными календарными датами; можно напомнить также о еще недавно
действовавших запретах рассказывать сказки днем, а в некоторых местах —
летом), намечается и пространственное закрепление искусства в определенных
участках культурного мира. Периодически повторяющиеся в истории
культуры тенденции предельно расширить пространственную сферу искусства,
отождествив ее с культурным макрокосмом, или предельно сузить ее (ср.
лозунги «вывести искусство на улицу» или замкнуть его в «башне из слоновой
кости») вторичны и отражают интерпретацию различными историческими и
социальными силами факта пространственной закрепленности искусства в
мире культуры.
Типы пересечения эстетического пространства с теми или иными
социально вычлененными подпространствами могут быть различными. Так, место
эстетических эмоций (одновременно и место сосредоточения произведений
искусства) может совмещаться с храмом, дворцом, частным жилищем,
сочетаясь с идеями религиозными (ср. стремление сочетать религиозные и
эстетические переживания в барочной культуре контрреформации и
принципиальное их разделение в системе протестантизма; напомним, что, судя по
«Повести временных лет», красота храма и службы была одним из решающих
аргументов для посланцев князя Владимира в пользу «греческой веры», для
иконоборцев же «красота» связывается с «язычеством» и, следовательно,
подлежит удалению из христианского храма), с политическими
представлениями или ценностным приоритетом отдельной личности.
Совмещение высокой социально-ценностной характеристики
определенного типа внутреннего культурного пространства с эстетическим его
переживанием создает условия для возникновения особого типа интерьера.
Возможен и такой случай, когда эстетическое становится в данной системе
культуры на столь высокую ступень, что искусство ни с чем, кроме себя
самого, совмещаться уже не может. В этом случае мы получаем некоторые
типы пространства, исключительно посвященные эстетическим
переживаниям, — театр или музей. Не следует думать, что здесь автоматически
сказывается специфика театрального искусства, требующая отдельного
помещения, — нам прекрасно известны случаи совмещения театра и храма, театра
и дворца (например, Эрмитажный театр Екатерины II), домашнего театра
(как в городском барском доме, так и в поместье) и, наконец, разнообразных
любительских и профессиональных выступлений (как в частной
интеллигентской квартире XIX в., так и уже в наше время, например в цехе, госпитале
и т. д.), причем во всех этих случаях выступление артиста не в театре
ценностно характеризуется выше, чем в обычных театральных условиях.
Совмещение музея с храмом, дворцом, библиотекой или частной квартирой
тривиально и примеров не требует. Обычные в литературе XVIII в.
определения театра как «храма искусств» свидетельствуют, что для высочайшей
580 СТАТЬИ. ЗАМЕТКИ. ВЫСТУПЛЕНИЯ. II. Изобразительное искусство
оценки искусство в этой системе не нуждается в совмещении с посторонними
ценностями.
Единство разнородных художественных произведений внутри некоторого
замкнутого культурного пространства нельзя рассматривать отдельно от
поведения человека, включающегося в этот ансамбль. Выше мы говорили,
что типичная структура московского барского особняка подразумевала
деление на парадный нижний и жилой верхний этажи, что даже менее
притязательный дом среднего помещика членился на «барскую» и «людскую»
половины; в крестьянской избе выделялся красный угол. Но неравномерности
жилого пространства соответствовало выделение разных типов поведения,
включая походку, жесты, силу голоса и т. п.
В русском дворянском быту первой половины XIX в. строевая служба
молодого офицера и не менее тягостная муштра, которую проходили молодые
девушки под командой танцмейстера, вырабатывали совершенно особый тип
движения, жеста и посадки фигуры1. Создавалась возможность «высокого»
и «низкого» стиля жеста, походки, голоса, поведения и, в равной мере,
отождествление себя с «высокими» или «низкими» персонажами искусства,
что подразумевало определенный тип поступков, высказывавшихся мыслей,
определенный стиль речи. Это было лишь частным проявлением более
широкого культурного явления: известно, что разные социальные ситуации типа
«карнавал», «работа», «нахождение в строю», «на параде», «бал», «дружеская
беседа» определяют соответствующие типы поступков и речевого поведения,
жеста и мимики. Однако каждая из этих ситуаций связана с определенным
культурным пространством и, следовательно, с устойчивыми для данной
культуры художественными ансамблями.
Конечно, культурной жизни каждой эпохи присуще некоторое единство,
часто усиливаемое вторжением в непосредственную ткань искусства
представлений эпохи о себе самой, нормирующих самоописаний. Однако с этих
позиций мы видим лишь одну сторону процесса.
Предлагаемый в данной статье вопрос имеет иной характер: нас интересует
не то, какие общие черты позволяют отнести некоторые картины, статуи,
поэтические тексты, мебель, одежду к явлениям одного стиля, а почему тому
или иному стилю свойственно проявляться в различных жанровых феноменах.
Именно разница в принципах освоения мира делает разные виды искусств
взаимно необходимыми. При этом следует выделить две различные сторо-
1 Современный исторический кинематограф, как правило, этого не учитывает: актер
надевает мундир офицера XIX в., но не умеет воспроизводить соответствующего стиля
движений и поведения. Особенно это заметно в голливудских исторических фильмах.
В качестве противоположного примера можно было бы привести французский фильм
«Большие маневры», в котором разница движений и посадки фигуры
офицеров-кавалеристов (в отдельных случаях несколько утрированная и воспроизводящая уже
другой штамп: «опереточная маска лихого кавалериста») и штатских героев входит
в систему выразительных средств. Напомним также, как меняются походка и жесты
жулика Бартоне, когда он перевоплощается в кавалерийского генерала в «Генерале
Делла Ровере» (Росселлини).
Художественный ансамбль как бытовое пространство
581
ны этой проблемы. С одной стороны, разные искусства, по-разному
моделируя одни и те же объекты, придают человеческому художественному
мышлению необходимую ему объемность, художественный полиглотизм. С
другой стороны, каждый вид искусства для полного осознания своей
специфики нуждается в наличии других искусств и параллельных художественных
языков.
Обобщая, можно утверждать, что каждое свойство того или иного
художественного языка определяется отношением его к некоторым, в определенном
смысле эквивалентным, свойствам языков других искусств («эквивалентность»
в данном случае определяется способностью моделировать один и тот же
объект)1. И здесь весьма существенной оказывается проблема влияния: язык
живописи влияет на театр, кинематограф — на роман, поэзия — на
кинематограф. При этом влияние происходит не только через глаз, руки и мозг
художника. Трудности в восприятии далеких (этнически и исторически) видов
искусств, как правило, связаны с тем, что мы пытаемся освоить их
изолированно, вне контекста породившей их культуры. Всякий литературовед знает,
сколь меняется впечатление от литературного произведения в зависимости
от того, читаем ли мы его в собрании сочинений или в журнале, где увидела
свет первая публикация. В одном контексте в произведении подчеркивается
то, что отличает его от предшествующих или последующих творений того
же автора (то есть место в индивидуальной творческой эволюции), а в
другом — соотношение с произведениями других авторов. «Граф Нулин»
Пушкина впервые увидел свет в одной обложке с поэмой Баратынского
«Бал». В сознании современников они образовывали некоторое единство, для
нас сейчас трудно уловимое, так же, как мы не можем без внутреннего
сопротивления понять, почему Н. И. Надеждин, подвергший «Графа Нулина»
уничтожающей критике, считал эту поэму ультраромантической. Когда мы
обнаруживаем в одной книжке некрасовского «Современника» «Сашу»
Некрасова и «Рудина» Тургенева, мы уже можем говорить о взаимодействии в
читательском восприятии разножанровых произведений — поэмы и романа.
Еще заметнее соотношение разных жанров, когда мы соотносим произведения
из художественного и критического отделов журнала.
Отнюдь не любое соединение разно- или одновременных объектов
способно вступать в соотношения, складываться в ансамбли. Сочетаемость и
несочетаемость предметов искусства в некоторых единых ансамблях — мало
1 В этой связи интересно указать на некоторые устойчивые соотношения между
различными видами искусств. Как показало исследование Е. В. Душечкиной,
повествовательным жанрам средневековья была свойственна неподвижность,
пространственная и идеологическая стабильность точки зрения повествователя. Душечкина
справедливо отметила существование отношения дополнительности между словесным
повествованием и живописным произведением: в средние века подвижность точки зрения
художника дополняется стабильностью позиции повествователя, а в искусстве нового
времени зафиксированность позиции живописца — свободой «точки зрения текста»
романа XIX в. (см.: Душечкина Е. Художественная функция чужой речи в Киевском
летописании: Автореф. дисс. канд. филол. наук. Тарту, 1973).
582 СТАТЬИ. ЗАМЕТКИ. ВЫСТУПЛЕНИЯ. П. Изобразительное искусство
изученная, но весьма существенная проблема. Что происходит при включении
китайских художественных изделий в культурные ансамбли барокко или
произведений искусства Африки — в художественное окружение
современного европейца? Очевидно, что перед нами различно закодированные тексты;
часть из них ощущается в общей культурной толще как «чужая». Однако
между этими «чужими» текстами и их европейским контекстом имеется нечто
общее, что позволяет «читать» экзотические тексты с позиции европейского
контекста и одновременно трансформировать сам этот контекст, глядя на
него как бы с позиции этих экзотических включений. И наконец, возможна
некоторая внешняя точка зрения, например исследователя, чья собственная
культура относится к другому времени. С этой позиции разница между
составляющими ансамбль элементами отступит на второй план и они легко
будут описываться как нечто единое и непротиворечивое.
Представляется, что сказанного достаточно, для того чтобы обосновать
необходимость наряду с исследованием отдельных произведений и видов
искусств изучать особенности и закономерности реальных ансамблей. Музы
ходят хороводом.
1974
III. ТЕАТР. КИНО
Семиотика сцены
В первой сцене «Ромео и Джульетты» слуги обмениваются репликами:
«Это вы нам показываете кукиш, синьор?» — «Я просто показываю кукиш,
синьор». В чем разница? Дело в том, что в одном случае движение оказывается
связанным с определенным значением (в данном случае со значением
оскорбления), а во втором оно никакого значения не несет. Движения, несущие
определенные значения, называются жестами; сочетания фонем, связанные с
фиксированными значениями, — словами, а при более обобщенном подходе
можно говорить о знаках — любых средствах выражения, несущих
определенные, присущие им значения. Всякое общение между людьми (и не только
между людьми), опирающееся на систему знаков, урегулированных в
соответствии с определенными правилами, можно определить как языковое. Изучением
этих систем и условий общения с их помощью занимается наука семиотика.
Поскольку это наука об общении, о передаче сообщений, о понимании и
непонимании человеком других людей и себя самого, о формах социально-
культурного кодирования, — она имеет глубоко общественный характер.
Искусство — всегда средство познания и общения. Оно ищет истину
и выражает ее на своем, присущем ему языке. Язык звукового кино отличается
от языка немого кинематографа, а оба они говорят со зрителем иначе, чем
балет. Язык искусства не есть нечто внешнее, механически накладываемое
на его содержание. Гёте в беседе с Эккерманом сказал: «Раз содержание
интересно, оно будет интересно и когда смотришь его на сцене. — Ничего
подобного! То, что восхищало вас в книге, быть может, оставит вас
совершенно холодным, когда вы увидите на сцене». Семиотика искусства занимает
важное место в общей теории знаковых систем. Семиотика театра — важная
и до сих пор еще мало разработанная часть этой сложной проблемы.
Статья не претендует на исчерпывающую полноту исследования. Мы
рассмотрим здесь лишь некоторые существенные вопросы семиотики сцены.
Театр вне театра
Все вещи, предметы, с которыми имеет дело человек, функционируют в
его мире двояко: одни употребляются непосредственно (воздух нужен потому,
584
СТАТЬИ. ЗАМЕТКИ. ВЫСТУПЛЕНИЯ. III. Театр. Кино
что он воздух, пища — потому, что она пища), другие являются заменами
чего-то, непосредственно не присутствующего. Так, деньги заменяют
стоимость, мундиры указывают на ранг и место человека в определенной
социальной структуре, праздничная или будничная одежда — на тип поведения,
который человек собирается осуществлять, и на отношение общества к этому
типу поведения. Первое употребление является непосредственным (одежда
защищает от холода), второе — знаковым (одежда нечто обозначает). Чем
выше концентрация социальных связей в данном коллективе, тем большую
роль занимают знаковое употребление предметов, знаковые связи, знаковая
психология. Герой Достоевского, когда у него пронашиваются подметки,
страдает не от холода, а от того, что окружающие видят в этом свидетельство
его бедности. Подметки становятся знаком отверженности, беззащитности и
унижения, что доставляет герою муки, несоизмеримые с физическим
страданием от холода.
Поступки людей (и не только людей), осуществляемые в связи с единым
планом — сознательной или подсознательной программой, — называются
поведением. Поведение также может быть непосредственным (например,
трудовое поведение) и знаковым. Уже у животных мы наблюдаем это разделение.
В определенных ситуациях осуществляется поведение, имеющее практическое
значение (например, добывание пищи); здесь животное совершает действия.
В других — оно осуществляет жесты, имеющие символический смысл, то
есть выражающие некоторые значения: обнажение клыков у хищников,
склонение головы у рогатых копытных означают угрозу и готовность к бою,
виляние хвостом у собаки — дружелюбие и ласку. В определенных
ситуациях — брачное поведение, воспитание детей, занятие доминирующего
положения в стае и др. — знаковое поведение становится основным, складываясь
в сложные формы игрового характера.
В быту всех — даже самых архаических — народов мы находим разделение
практического и знакового поведения. Область последнего: праздник, игра,
общественные и религиозные торжества. Особые одежды, движения, изменение
в типе и характере речи, музыка, пение, строгая последовательность жестов
и действий приводят к возникновению ритуала.
Известный фольклорист П. Г. Богатырев, изучая народный костюм
моравской Словакии, отмечал: «Одной из особенно отчетливо проявляющихся
функций костюма является специфическая функция праздничного свадебного
костюма, отличающая его от будничной одежды, функция, задачей которой
является подчеркнуть праздничность дня. Иногда эта функция развивается в
особом направлении и приближается к функции такой одежды, которая
одевается специально для костела. Как и священник, одевающий специальную
одежду для богослужения, все прихожане одеты в костеле особым образом»1.
Особая одежда, особое — празднично-игровое или торжественное —
поведение вьщеляются в особую сферу во времени и в пространстве. За ними
закрепляются специальные дни календаря и особо отведенные места. Однако
1 Богатырев П. Г. Вопросы теории народного искусства. М., 1971. С. 301.
Семиотика сцены
585
как только сферы практического и ритуального поведения выделились и
обособились, между ними начинаются сложные процессы взаимодействия и
взаимовлияния. Внутри каждой из обособленных сфер возникает иерархия
стилей поведения, оттенков и переходных форм, что создает исключительно
сложные и своеобразные системы общественных коммуникаций.
Важной областью взаимодействия практического и ритуального поведения
является игра. Хотя игра ассоциируется в нашем сознании с отдыхом,
психологической и физической разрядкой и забавой, место ее в жизни и
воспитании индивида и в культуре общества исключительно велико. Игровое
поведение наблюдается у многих животных, а человека оно сопровождает
от колыбели до могилы, вплетаясь в многочисленные
общественно-психологические процессы. Специфика игрового поведения заключается в его
неоднозначности: игра подразумевает одновременную реализацию (а не
последовательную смену во времени!) практического и условного (знакового)
поведения. Играющий помнит, что он находится не в действительном, а в
условно-игровом мире, — он не охотится, а как бы охотится, не плывет по
морю среди враждебных бурь и туземцев, а как бы путешествует. Но
одновременно он испытывает эмоции, соответствующие подлинности
воображаемых обстоятельств. Формула Пушкина «над вымыслом слезами обольюсь»
воссоздает двуединое противоречие этой ситуации (если знаешь, что это
«вымысел», то зачем же «обливаться слезами»? — сущность игрового
поведения в том, чтобы и знать и не знать одновременно, помнить и забывать,
что ситуация вымышленная; отказывать вымыслу в слезах — такое же
нарушение игрового переживания, как и вызывать пожарную команду при игре
в пожар или лезть на сцену, чтобы защитить Дездемону от Отелло). Искусство
игры заключается именно в овладении навыком двупланового поведения.
Любое выпадение в одноплановую серьезность, когда исчезает «как бы»,
разрушает игру. Так, дети часто «заигрываются», теряя ощущение условности
ситуации: игра в войну превращается в драку «всерьез». Вот эпизод из эпохи
пугачевской войны, записанный Пушкиным со слов И. А. Крылова: дети,
затеявшие «игру в пугачевщину», «разделились на две стороны, городовую
и бунтовскую, и драки были значительные». Возникла уже не игровая, а
настоящая вражда. «Жертвой оной чуть было не сделался некто Анчапов».
Один из участников игры, «поймав его в одной экспедиции, повесил его
кушаком на дереве. — Его отцепил прохожий солдат»1. Противоположный
путь разрушения игровой ситуации — неумение или нежелание «забыться»,
принять ее условные правила. Так, в повести Л. Н. Толстого «Детство»
показано, как «взрослое» и однопланово-серьезное поведение Володи
разрушает игру: «Снисхождение Володи доставило нам очень мало удовольствия;
напротив, его ленивый и скучный вид разрушил все очарование игры. Когда
мы сели на землю и, воображая, что плывем на рыбную ловлю, изо всех
сил начали грести, Володя сидел сложа руки и в позе, не имеющей ничего
схожего с позой рыболова. Я заметил ему это; но он отвечал, что от того, что
1 Пушкин Л. С. Поли. собр. соч. М., 1940. Т. 9. Кн. 2. С. 492.
586
СТАТЬИ. ЗАМЕТКИ. ВЫСТУПЛЕНИЯ. III. Театр. Кино
будем больше или меньше махать руками, мы ничего не выиграем и не
проиграем и все же далеко не уедем. Я невольно согласился с ним. Когда,
воображая, что я иду на охоту, с палкой на плече, я отправился в лес, Володя лег
на спину, закинул руки на голову и сказал мне, что будто бы и он ходил. Такие
поступки и слова, охлаждая нас к игре, были крайне неприятны, тем более,
что нельзя было в душе не согласиться, что Володя поступает благоразумно.
Я сам знаю, что из палки не только что убить птицу, да и выстрелить
никак нельзя. Это игра. Коли так рассуждать, то и на стульях ездить нельзя
<...> Ежели судить по-настоящему, то и игры никакой не будет. А игры не
будет, что ж тогда останется?»
Игра создает вокруг человека особый мир многоплановых возможностей
и этим стимулирует рост активности. Не случайно игра, в частности
спортивные игры, оказывает такое тренировочное воздействие на личность.
Активная природа игры в принципе противоположна разделению на
действующих и созерцающих. В игровом пространстве нет аудитории — есть
только участники. Известно, что присутствие зрителей разрушает детские
игры. Столь же очевидна способность игр активизировать аудиторию и
втягивать ее в действо, превращая в соучастников (ср. поведение зрителей
на стадионе во время спортивного матча). В этом же смысле показательно
различие между статуэткой и игрушкой: первой любуются, вторую вертят в
руках, на первую только смотрят — второй отводится активная роль, ей
приписывается некоторое поведение, играющий ведет с ней диалоги, отвечая
и за себя и за нее; статуэтка — некоторое завершенное сообщение, которое
автор направляет аудитории, игрушка — провоцирующий фактор, который
должен направить самое аудиторию на путь активной творческой
импровизации. Игра — один из механизмов выработки творческого сознания, которое
не пассивно следует какой-либо заранее данной программе, а ориентируется
в сложном и многоплановом континууме возможностей.
Таким образом, в жизни, развертывающейся за пределами сцены,
существуют материалы, из которых строится театральный мир. Не только понятие
игры, но и такие, казалось бы, специфически театральные категории, как
«роль», «амплуа», «сценарий», применяются к изучению психологии человека
в его далекой от театральных стен жизни. Однако сами по себе эти материалы
еще не создают театра. Для того чтобы это произошло, их должно коснуться
искусство.
Каковы же семиотические механизмы театрального искусства?
Пространство сцены
Искусство театра обладает своим специфическим языком. Только владение
этим языком обеспечивает зрителю возможность художественного общения
с автором и актерами. Непонятный язык всегда странен (Пушкин в рукописях
к «Евгению Онегину» говорил о «странных, новых языках», а древнерусские
книжники уподобляли говорящих на непонятных языках немым: «Там же и
Семиотика сцены
587
печера, тот язык нем и с самоедью седят на полунощи»1). Когда Лев Толстой,
пересматривая все здание современной ему цивилизации, отверг язык оперы
как «неестественный», опера тотчас же превратилась в бессмыслицу, и он с
основанием писал: «Что так речитативом не говорят и квартетом, ставши
в определенном расстоянии, махая руками, не выражают чувств, что так с
фольговыми алебардами, в туфлях, парами нигде, кроме как в театре, не
ходят, что никогда так не сердятся, так не умиляются, так не смеются, так
не плачут... в этом не может быть никакого сомнения»2. Предположение,
согласно которому театральное зрелище имеет какой-либо свой условный
язык, только если оно нам странно и непонятно, и существует «так просто»,
вне какой-либо языковой специфики, если оно представляется нам
естественным и понятным, — наивно. Ведь и театр кабуки или но представляется
японскому зрителю естественным и понятным, а театр Шекспира, бывший
для веков европейской культуры образцом естественности, казался Толстому
искусственным. Язык театра складывается из национально-культурных
традиций, и естественно, что человек, погруженный в ту же культурную традицию,
ощущает его специфику в меньшей мере.
Одной из основ театрального языка является специфика художественного
пространства сцены. Именно она задает тип и меру театральной условности.
Борясь за реалистический театр, театр жизненной правды, Пушкин высказал
глубокую мысль о том, что наивное отождествление сцены и жизни или
простая отмена специфики первой не только не решат задачи, но практически
невозможны. В набросках предисловия к «Борису Годунову» он писал: «И
классики и романтики основывали свои правила на правдоподобии, а между
тем именно оно-то и исключается самой природой драматического
произведения. Не говоря уже о времени и проч., какое, к черту, может быть
правдоподобие 1) в зале, разделенном на две половины, в одной из коих
помещается две тысячи человек, будто бы невидимых для тех, кто находится
на подмостках; 2) язык. Напр., у Лагарпа Фил октет, выслушав тираду Пирра,
произносит на чистейшем французском языке: «Увы! я слышу сладкие звуки
эллинской речи» и проч. Вспомните древних: их трагические маски, их
двойные роли, — все это не есть ли условное неправдоподобие? 3) время,
место и проч. и проч. Истинные гении трагедии никогда не заботились о
правдоподобии». Показательно, что «условное неправдоподобие» языка сцены
Пушкин отделяет от вопроса подлинной сценической правды, которую он
видит в жизненной реальности развития характеров и правдивости речевых
характеристик: «Правдоподобие положений и правдивость диалога — вот
истинное правило трагедии». Образцом такой правдивости он считал Шекс-
1 Перевод: «Там же и печера; этот не умеющий говорить народ живет на Севере
вместе с самоедами».
2 Толстой Л. Н. Поли. собр. соч.: В 90 т. М., 1928—1958. Т. 30. С. 31. Позиция
Л. Н. Толстого в данном случае напоминает отношение Володи из «Детства» к игре:
в этом противоречии характерно проявилось колебание Толстого между суровым
ригоризмом и позицией, выраженной Федей Протасовым в «Живом трупе»: «...не
было игры в нашей жизни. А мне нужно было забываться. А без игры не забудешься».
588
СТАТЬИ. ЗАМЕТКИ. ВЫСТУПЛЕНИЯ. III. Театр. Кино
пира (которого Толстой упрекал в злоупотреблении «неестественными
событиями и еще более неестественными, не вытекающими из положений лиц,
речами»): «Читайте Шекспира, он никогда не боится скомпрометировать
своего героя (нарушением условных правил сценического «приличия». —
Ю. Л.), он заставляет его говорить с полнейшей непринужденностью, как в
жизни, ибо уверен, что в надлежащую минуту и при надлежащих
обстоятельствах он найдет для него язык, соответствующий его характеру». Достойно
внимания, что именно природу сценического пространства («зала») Пушкин
положил в основу «условного неправдоподобия» языка сцены.
Театральное пространство делится на две части: сцену и зрительный зал,
между которыми складываются отношения, формирующие некоторые из
основных оппозиций театральной семиотики. Во-первых, это
противопоставление существование — несуществование. Бытие и реальность этих двух частей
театра реализуются как бы в двух разных измерениях. С точки зрения зрителя,
с момента подъема занавеса и начала пьесы зрительный зал перестает
существовать. Все, что находится по эту сторону рампы, исчезает. Его подлинная
реальность делается невидимой и уступает место всецело иллюзорной
реальности сценического действия. В современном европейском театре это
подчеркивается погружением зрительного зала в темноту в момент зажигания
света на сцене и наоборот. Если мы представим себе человека, столь далекого
от театральной условности, что в момент драматического действия он не
только с равным вниманием, но и с помощью одинакового типа зрения
наблюдает в одно и то же время сцену, движения суфлера в будке, осветителей
в ложе, зрителей в зале, видя в этом некоторое единство, то можно будет с
полным основанием сказать, что искусство быть зрителем ему неизвестно.
Граница «невидимого» ясно ощущается зрителем, хотя далеко не всегда она
так проста, как в привычном нам театре. Так, в японском кукольном театре
бунраку кукольники находятся тут же на сцене и физически видимы зрителю.
Однако они одеты в черную одежду, являющуюся «знаком невидимости», и
публика их «как бы» не видит. Выключенные из художественного
пространства сцены, они выпадают из поля театрального зрения. Интересно, что, с
позиций японских теоретиков бунраку, введение кукольника на сцену
оценивается как усовершенствование: «Некогда куклу водил один человек,
скрытый под сценой и управляющий ею с помощью своих рук так, что публика
видела только куклу. Позже конструкция куклы шаг за шагом
усовершенствовалась, и в конце концов кукла управляется на сцене тремя людьми
(кукольники с ног до головы одеты в черное и называются поэтому „черные люди")»1.
С точки зрения сцены, зрительный зал также не существует: по точному
и тонкому замечанию Пушкина, зрители «будто бы (курсив мой. — Ю. Л.)
невидимы для тех, кто находится на подмостках». Однако «будто бы»
Пушкина не случайно: невидимость имеет здесь другой, в значительной мере
более игровой характер. Достаточно представить себе такой ряд:
1 Kawajiri Т. Die Puppenspielkunst in Japan // Puppentheater der Welt. Zeitgenössisches
Puppenspiel in Wort und Bild. Henschelverlad, Berlin, 1965. S. 45.
Семиотика сцены
589
текст: аудитория:
сценическое действие зритель
книга читатель
экран зритель, —
чтобы убедиться, что только в первом случае отделенность пространства
зрителя от пространства текста скрывает диалогическую природу их
отношений. Только театр требует налично данного, присутствующего в том же
времени адресата и воспринимает идущие от него сигналы (молчание, знаки
одобрения или осуждения), соответственно варьируя текст. Именно с этой —
диалогической — природой сценического текста связана такая ее черта, как
вариативность. Понятие «канонического текста» так же чуждо спектаклю,
как и фольклору. Оно заменяется понятием некоторого инварианта,
реализуемого в ряде вариантов.
Другая существенная оппозиция: значимое — незначимое. Сценическое
пространство отличается высокой знаковой насыщенностью — все, что
попадает на сцену, получает тенденцию насыщаться дополнительными по
отношению к непосредственно-предметной функции вещи смыслами. Движение
делается жестом, вещь — деталью, несущей значение. Именно эту особенность
сцены имел в виду Гёте, когда отвечал на вопрос Эккермана: «Каким должно
быть произведение, чтобы быть сценичным?» «Оно должно быть
символично, — ответил Гёте. — Это значит, что каждое действие должно быть полно
собственного значения и в то же время подготовлять к другому, еще более
значительному. Тартюф Мольера является в этом отношении великим
образцом»1. Для того чтобы понять мысль Гёте, надо иметь в виду, что слово
«символ» он употребляет в том значении, в котором бы мы сказали «знак»,
отмечая, что поступок, жест и слово на сцене приобретают по отношению
к своим аналогам в повседневной жизни дополнительные значения,
насыщаются сложными смыслами, позволяющими нам говорить, что они становятся
выражениями для сгустка разнообразных содержательных моментов.
Для того чтобы глубокая мысль Гёте сделалась более ясной, процитируем
следующую за приведенными нами словами фразу из этой записи: «Вспомните
первую сцену — какая в ней экспозиция! Все с самого начала полно значения
и возбуждает ожидание еще более важных событий, которые должны
последовать». «Полнота значений», о которой говорит Гёте, связана с коренными
законами сцены и составляет существенное отличие действий и слов на сцене
от действий и слов в жизни. Человек, который произносит речи или совершает
поступки в жизни, имеет в виду слух и восприятие своего собеседника. Сцена
воспроизводит то же поведение, однако природа адресата здесь двоится: речь
обращается к другому персонажу на сцене, но на самом деле она адресуется
не только ему, но и публике. Участник действия может не знать того, что
составляло содержание предшествующей сцены, но публика это знает. Зритель,
как и участник действия, не знает будущего хода событий, но, в отличие от
1 Эккерман И.-П. Разговоры с Гёте в последние годы его жизни. М.; Л., 1934.
С. 297—298.
590
СТАТЬИ. ЗАМЕТКИ. ВЫСТУПЛЕНИЯ. III. Театр. Кино
него, он знает все предшествующие. Знание зрителя всегда выше, чем
персонажа. То, на что участник действия может не обратить внимания, является
для зрителя нагруженным значениями знаком. Платок Дездемоны для Отел-
ло — улика ее измены, для партера — символ коварства Яго. В примере
Гёте в первом действии комедии Мольера мать главного героя г-жа Пернель,
так же ослепленная обманщиком Тартюфом, как и ее сын, вступает в спор
со всем домом, защищая ханжу. Оргона в это время на сцене нет. Затем
появляется Оргон, и сцена, только что виденная зрителями, как бы
проигрывается второй раз, но уже с его, а не г-жи Пернель, участием. Только в
третьем действии на сцене появляется сам Тартюф. К этому моменту зрители
уже получили о нем полное представление, и каждый его жест и слово
становятся для них симптомами лжи и лицемерия. Сцена соблазнения
Тартюфом Эльмиры также повторяется дважды. Первой из них Оргон не видит
(зрители ее видят), а словесным разоблачениям домашних отказывается
верить. Вторую он наблюдает из-под стола: Тартюф пытается соблазнить
Эльмиру, думая, что никто их не видит, а между тем он находится под
двойным наблюдением: внутри сценического пространства его подстерегает
спрятанный муж, а вне рампы находится зрительный зал. Наконец, все это
сложное построение получает архитектоническое завершение, когда Оргон
пересказывает матери то, что видел своими глазами, а она, снова выступая
как его двойник, отказывается верить словам и даже глазам Оргона и, в
духе фарсового юмора, упрекает сына, что он не дождался более ощутимых
свидетельств супружеской измены. Построенное таким образом действие, с
одной стороны, выступает как цепь различных эпизодов (синтагматическое
построение), а с другой — как многократное варьирование некоторого
ядерного действия (парадигматическое построение). Это и порождает ту «полноту
значений», о которой говорил Гёте. Смысл этого ядерного действия — в
столкновении ханжества лицемера, ловкими изворотами представляющего
черное белым, доверчивой глупости и здравого смысла, разоблачающего
плутни. В основе эпизодов лежит тщательно раскрываемый Мольером
семантический механизм лжи: Тартюф отрывает слова от их истинного значения,
произвольно меняет и выворачивает их смысл. Мольер делает его не
тривиальным лгуном и плутом, а ловким и опасным демагогом. Механизм его
демагогии Мольер подвергает комическому разоблачению: в пьесе перед
глазами зрителя словесные знаки, связанные со своим содержанием условно
и, следовательно, допускающие не только информацию, но и дезинформацию,
и реальность меняются местами; формула «Не верю словам, ибо вижу глазами»
заменяется для Оргона парадоксальным «Не верю глазам, ибо слышу слова».
Положение зрителя еще более пикантно: то, что для Оргона реальность, —
для зрителя зрелище. Перед ним развертываются два сообщения: то, что он
видит, с одной стороны, и то, что говорит по этому поводу Тартюф, — с
другой. Одновременно он слышит хитросплетенные слова Тартюфа и
грубоватые, но истинные слова носителей здравого смысла (прежде всего, служанки
Дорины). Столкновение этих разнообразных семиотических стихий создает
не только резкий комический эффект, но и ту насыщенность смыслом, которая
восхищала Гёте.
Семиотика сцены
591
Знаковая сгущенность сценической речи по отношению к бытовой не
зависит от того, ориентируется ли автор, в силу его принадлежности к тому
или иному литературному направлению, на «язык богов» или на точное
воспроизведение реального разговора. Это закон сцены. Чеховские «та-ра-
ра-бумбия» или реплика о жаре в Африке вызваны стремлением приблизить
сценическую речь к реальной, однако совершенно очевидно, что смысловая
насыщенность их бесконечно превышает ту, которую аналогичные
высказывания имели бы в реальной ситуации.
Знаки бывают различных типов, в зависимости от чего меняется степень
их условности. Знаки типа «слово» совершенно условно соединяют
некоторое значение с определенным выражением (одно и то же значение в
разных языках имеет различное выражение); изобразительные («иконичес-
кие») знаки соединяют содержание с выражением, обладающим в
определенном отношении сходством: содержание «дерево» соединяется с нарисованным
образом дерева. Вывеска над булочной, написанная на каком-либо языке, —
условный знак, понятный лишь тем, кто владеет этим языком;
деревянный «крендель булочной», который «чуть золотится» над входом в лавку, —
иконический знак, понятный каждому, кто ел крендель. Здесь мера условности
значительно меньше, однако определенный семиотический навык все же
необходим: посетитель видит сходную форму, но различные цвета, материал
и, главное, функцию. Деревянный крендель служит не для еды, а для
оповещения. Наконец, наблюдателю следует уметь пользоваться
семантическими фигурами (в данном случае — метонимией): крендель следует «читать»
не как сообщение о том, что здесь продаются только крендели, а как
свидетельство о возможности купить любое булочное изделие. Однако, с точки
зрения меры условности, есть еще третий случай. Представим себе не вывеску,
а витрину магазина (для ясности случая положим на нее надпись: «Товары с
витрины не продаются»). Перед нами сами подлинные вещи, однако они
выступают не в своей прямой предметной функции, а в качестве знаков самих
себя. Поэтому витрина так легко комбинирует фото- и художественные
изображения продаваемых предметов, словесные тексты, цифры и индексы и
подлинные реальные вещи — все они выступают в знаковой функции.
Сценическое действие как единство актеров, действующих и совершающих
поступки, словесных текстов, ими произносимых, декораций и реквизита,
звукового и светового оформления представляет собой текст значительной
сложности, использующий знаки разного типа и разной степени условности.
Однако тот факт, что сценический мир является знаковым по своей природе,
придает ему исключительно важную черту. Знак по своей сути противоречив:
он всегда реален и всегда иллюзорен. Реален он потому, что природа знака
материальна; для того чтобы стать знаком, то есть превратиться в социальный
факт, значение должно быть реализовано в какой-либо материальной
субстанции: ценность — оформиться в виде денежных знаков; мысль — предстать
как соединение фонем или букв, выразиться в краске или мраморе;
достоинство — облечься в «знаки достоинства»: ордена или мундиры и пр.
Иллюзорность знака в том, что он всегда каэюется, то есть обозначает нечто
иное, чем его внешность. К этому следует прибавить, что в сфере искусства
592
СТАТЬИ. ЗАМЕТКИ. ВЫСТУПЛЕНИЯ. III. Театр. Кино
многозначность плана содержания резко возрастает. Противоречие между
реальностью и иллюзорностью образует то поле семиотических значений, в
котором живет каждый художественный текст. Одна из особенностей
сценического текста — в разнообразии используемых им языков.
Основа сценического действия — актер, играющий человек, заключенный
в пространство сцены. Знаковую природу сценического действия
исключительно глубоко раскрыл Аристотель, считая, что «трагедия есть подражание
действию», — не само подлинное действие, а воспроизведение его средствами
театра: «Подражание действию есть сказание (термин «сказание» введен
переводчиками для передачи коренного понятия трагедия у Аристотеля:
«рассказывание с помощью поступков и событий»; в традиционной
терминологии ближе всего к нему понятие «фабула». — Ю. Л.). В самом деле,
сказанием я называю сочетание событий». «Начало и как бы душа трагедии —
именно сказание»1. Однако именно этот основной элемент сценического
действия получает во время спектакля двойное семиотическое освещение. На
сцене развертывается цепь событий, герои совершают поступки, сцены
сменяют друг друга. Внутри себя этот мир живет подлинной, а не знаковой
жизнью: каждый актер «верит» в полную реальность как самого себя на
сцене, так и своего партнера и действия в целом2. Зритель же находится во
власти эстетических, а не реальных переживаний: видя, что один актер на
сцене падает мертвым, а другие актеры, реализуя сюжет пьесы, осуществляют
естественные в данной ситуации действия — бросаются на помощь, зовут
врачей, мстят убийцам, — зритель ведет себя иначе: каковы бы ни были его
переживания, он остается неподвижным в кресле. Для людей на сцене
совершается событие, для людей в зале событие является знаком самого себя. Как
товар на витрине, реальность превращается в сообщение о реальности. Но
ведь актер на сцене ведет диалоги в двух разных плоскостях: выраженное
общение связывает его с другими участниками действия, а невыраженный
молчаливый диалог — с публикой. В обоих случаях он выступает не как
пассивный объект наблюдения, а как активный участник коммуникации.
Следовательно, его бытие на сцене принципиально двузначно: оно может с
равным основанием читаться и как непосредственная реальность, и как
реальность, превращенная в знак самой себя. Постоянное колебание между
этими крайностями придает спектаклю жизненность, а зрителя из пассивного
получателя сообщения превращает в участника того коллективного акта
сознания, который вершится в театре.
То же самое можно сказать и о словесной стороне спектакля, которая
является одновременно и реальной речью, ориентированной на внетеатраль-
1 Текст поэтики Аристотеля цитируется по переводу М. Л. Гаспарова в кн.:
Аристотель и античная литература. М., 1978. С. 120—122.
2 Конечно, в предельных случаях возможно и иное: Ганс Вурст в средневековой
немецкой драме, «шутовские персоны», включаемые в исторические и библейские
пьесы русского театра XVII в., появление режиссера и автора на сцене, сделавшееся
после пьесы Пиранделло не столь необычным в театре XX в., нарушают сценическую
однородность и обнажают условность действия.
Семиотика сцены
593
ный, нехудожественный разговор, и воспроизведением этой речи средствами
театральной условности (речь изображает речь). Как бы ни стремился
художник в эпоху, когда язык литературного текста принципиально
противопоставлялся бытовому, отделить эти сферы речевой активности, влияние
второго на первый оказывалось фатально неизбежным. В этом убеждает
изучение рифм и лексики драматургии эпохи классицизма. Одновременно
происходило обратное воздействие театра на бытовую речь. И напротив
того, как бы ни старался художник-реалист перенести на сцену неизменной
стихию внехудожественной устной речи, это всегда не «пересадка ткани», а
перевод ее на язык сцены. Интересна запись А. Гольденвейзером слов
Л. Н. Толстого: «Раз как-то в столовой внизу шли оживленные разговоры
молодежи. Л. Н., который, оказывается, лежал и отдыхал в соседней комнате,
потом вышел в столовую и сказал мне: „Я лежал там и слушал ваши
разговоры. Они меня интересовали с двух сторон: просто интересно было
слушать споры молодых людей, а потом еще с точки зрения драмы. Я слушал
и говорил себе: вот как следует писать для сцены. А то один говорит, а
другие слушают. Этого никогда не бывает. Надо, чтобы все говорили
(одновременно. — Ю. Я.)"»1. Тем интереснее, что при такой творческой ориентации
в пьесах Толстого основной текст строится в традиции сцены, а предпринятые
Чеховым попытки перенести на сцену алогизм и разорванность устной речи
Толстой встретил отрицательно, противопоставив в качестве положительного
примера хулимого им же, Толстым, Шекспира. Параллелью здесь может быть
соотношение устной и письменной речи в художественной прозе. Писатель не
переносит в свой текст устную речь (хотя часто стремится создать
иллюзию такого переноса и сам может поддаваться такой иллюзии), а переводит
ее на язык письменной речи. Даже ультраавангардистские опыты
современных французских прозаиков, отказывающихся от знаков препинания и
сознательно разрушающих правильность синтаксиса фразы, не являются
автоматической копией устной речи: устная речь, положенная на бумагу, то есть
лишенная интонаций, мимики, жеста, вырванная из обязательной для двух
собеседников, но отсутствующей у читателей особой «общей памяти», во-
первых, сделалась бы полностью непонятной, а во-вторых, отнюдь не была
бы «точной», — это была бы не живая устная речь, а ее убитый и ободранный
труп, более далекий от образца, чем талантливая и сознательная
трансформация ее под пером художника.
Переставая быть копией и делаясь знаком, сценическая речь насыщается
дополнительными сложными значениями, почерпнутыми из культурной
памяти сцены и зала.
Предпосылкой сценического зрелища является убеждение зрителя, что
определенные законы действительности в пространстве сцены могут сделаться
объектом игрового изучения, то есть подвергнуться деформации или
отмене. Так, время на сцене может течь быстрее (а в некоторых редких случаях,
например у Метерлинка, — медленнее), чем в реальности. Самое приравни-
1 Гольденвейзер А. Вблизи Толстого. М., 1922. Т. 1. С. 54.
594
СТАТЬИ. ЗАМЕТКИ. ВЫСТУПЛЕНИЯ. III. Театр. Кино
вание сценического и реального времени в некоторых эстетических системах
(например, в театре классицизма) имеет вторичный характер. Подчинение
времени законам сцены делает его объектом исследования. На сцене, как и во
всяком замкнутом пространстве ритуала, подчеркиваются семантические
координаты пространства. Такие категории, как «верх — низ», «правое —
левое», «открытое — закрытое» и пр., приобретают на сцене, даже в наиболее
бытовых решениях, повышенное значение. Так, Гёте в «Правилах для актеров»
писал: «Актерам, в угоду ложно понимаемой натуральности, никогда не
следует играть так, как если бы в театре не было зрителей. Им не следует
играть в профиль1, так же как не следует поворачиваться спиною к публике...
С правой стороны всегда стоят наиболее почитаемые особы». Интересно,
что, подчеркивая моделирующее значение понятия «правый — левый», Гёте
имеет в виду точку зрения зрителя. Во внутреннем пространстве сцены, по
его мнению, другие законы: «Если я должен подать руку, а по ситуации не
требуется, чтобы это была непременно правая рука, то с одинаковым успехом
можно подать и левую, ибо на сцене нет ни правого, ни левого».
Семиотическая природа декорации и реквизита сделается нам более
понятной, если мы сопоставим ее с аналогичными моментами такого, казалось
бы, близкого, а на самом деле противопоставленного театру искусства, как
кино. Несмотря на то, что и в театральном зале, и в кинематографе перед
нами зритель (тот, кто смотрит), что зритель этот находится на протяжении
всего зрелища в одной и той же фиксированной позиции, отношение их к
той эстетической категории, которая в структурной теории искусства
называется «точкой зрения», глубоко различно. Театральный зритель сохраняет
естественную точку зрения на зрелище, определяемую оптическим отношением
его глаза к сцене. На протяжении всего спектакля эта позиция остается
неизменной. Между глазом кинозрителя и экранным изображением, напротив,
существует посредник — направляемый оператором объектив киноаппарата.
Зритель как бы передает ему свою точку зрения. А аппарат подвижен — он
может приблизиться к объекту вплотную, отъехать на дальнее расстояние,
взглянуть сверху и снизу, посмотреть на героя извне и взглянуть на мир его
глазами. В результате план и ракурс становятся активными элементами
киновыражения, осуществляя подвижную точку зрения. Разницу между
театром и кино можно сравнить с отличием между драмой и романом. Драма
также сохраняет «естественную» точку зрения, тогда как между читателем и
событием в романе оказывается автор-повествователь, имеющий возможность
поставить читателя в любую пространственную, психологическую и прочие
позиции по отношению к событию. В результате функции декорации и вещи
(реквизита) в кино и театре различны. Вещь в театре никогда не играет
самостоятельной роли, она лишь атрибут игры актера, между тем как в кино
она может быть и символом, и метафорой, и полноправным действующим
лицом. Это, в частности, определяется возможностью снять ее крупным
1 Ср. существующий в ряде живописных традиций запрет изображать центральные
фигуры в профиль.
Семиотика сцены
595
планом, задержать на ней внимание, увеличив число отведенных ее показу
кадров, и пр.1
В кинематографе деталь играет, в театре — она обыгрывается. Различно
и отношение зрителя к художественному пространству. В кино иллюзорное
пространство изображения как бы втягивает зрителя внутрь себя, в театре
зритель неизменно находится вне художественного пространства (в этом
отношении, как ни парадоксально, кино ближе к фольклорно-балаганным
зрелищным представлениям, чем современный городской
неэкспериментальный театр). Отсюда значительно более подчеркнутая в театральной декорации
маркирующая функция, наиболее ярко выразившаяся в столбах с надписями
в шекспировском «Глобусе». Декорация часто берет на себя роль титра в
кино или ремарки автора перед текстом драмы. Пушкин дал сценам в «Борисе
Годунове» заглавия типа: «Девичье поле. Новодевичий монастырь», «Равнина
близ Новгорода-Северского (1604 года, 21 декабря)» или «Корчма на
литовской границе». Эти заглавия в такой же мере, как и заглавия глав в романе
(например, в «Капитанской дочке»), входят в поэтическую конструкцию
текста. Однако на сцене они заменяются изофункциональным знаковым
адекватом — декорацией, определяющей место и время действия. Не менее
важна и другая функция театральной декорации: вместе с рампой она
маркирует границы театрального пространства. Ощущение границы, закрытости
художественного пространства в театре значительно сильнее выражено, чем
в кино. Это приводит к значительному повышению моделирующей функции.
Если кино в своей «естественной» функции тяготеет к тому, чтобы быть
воспринятым как документ, эпизод из действительности и требуются
специальные художественные усилия для того, чтобы придать ему облик модели
жизни как таковой, то театру не менее «естественно» восприниматься именно
как воплощение действительности в предельно обобщенном виде и требуются
специальные художественные усилия для того, чтобы придать ему вид
документальных «сцен из жизни».
Интересным примером столкновения театрального и кинопространства
как пространства «моделирующего» и «реального» может служить фильм
Висконти «Чувство». Действие фильма совершается в 1840-е гг., во время
антиавстрийского восстания в северной Италии. Первые кадры переносят
нас в театр на представление «Трубадура» Верди. Кадр построен так, что
театральная сцена предстает как замкнутое, отгороженное пространство,
пространство условного костюма и театрального жеста (характерна фигура
суфлера с книгой, расположенная вне этого пространства). Мир кинодействия
(показательно, что персонажи здесь тоже в исторических костюмах и
действуют в окружении предметов и в интерьере, резко отличном от современного
быта) предстает как реальный, хаотический и запутанный. Театральное же
представление выступает как идеальная модель, упорядочивающая и служащая
своеобразным кодом к этому миру.
1 Дело, конечно, коренится не в технических возможностях (театр имеет возможность
выделить деталь с помощью освещения), а в первую очередь в поэтике кино.
596
СТАТЬИ. ЗАМЕТКИ. ВЫСТУПЛЕНИЯ. III. Театр. Кино
Декорация в театре демонстративно сохраняет свою связь с живописью,
в то время как в кино эта связь предельно маскируется. Известное правило
Гёте — «сцену надо рассматривать как картину без фигур, в которой
последние заменяются актерами». Сошлемся снова на «Чувство» Висконти, —
кадр, изображающий Франца на фоне фрески, воспроизводящей театральную
сцену (киноизображение воссоздает роспись, воссоздающую театр),
изображающую заговорщиков. Бросающийся в глаза контраст художественных
языков1 лишь подчеркивает, что условность декорации выступает как ключ к
запутанному и для него самого неясному душевному состоянию героя.
Текст и код
Отношение текста (сообщения) к коду — одна из основных проблем
семиотики, поскольку для того, чтобы сообщение могло быть отправлено и
получено, оно должно быть соответствующим образом закодировано и
декодировано. Эта очевидная истина весьма усложняется, когда мы говорим
о сценическом спектакле. Прежде всего выявляется специфика понятия
«текст». Мы, конечно, вправе говорить о том или ином спектакле как о
едином тексте. Он отвечает основным признакам этого понятия, поскольку
обладает: 1) выраженностью, 2) ограниченностью и 3) единым значением.
Материальная выраженность достигается самим фактом постановки2, отгра-
ниченность — ясно выраженными признаками начала и конца сообщения во
времени и границ его в пространстве. Наконец, совершенно очевидно, что
спектакль, являясь на более низких уровнях организации носителем целого
ряда отдельных сообщений, одновременно имеет и целостное,
интегрированное значение и выполняет некую целостную культурную функцию. И, однако,
именно целостность спектакля является весьма сложным вопросом. Ни в
одном из видов художественных текстов частные субтексты не обладают
столь высокой степенью самостоятельности и интегрированности
одновременно. Художественное оформление спектакля — его неотъемлемая,
органическая часть, и одновременно оно в ряде случаев может рассматриваться как
самостоятельный факт искусства, обладающий признаками отдельного текста.
По сути дела, единый текст спектакля складывается, по крайней мере, из
трех достаточно самостоятельных субтекстов: словесного текста пьесы, иг-
1 Характерен динамизм поз «неживой» фрески и статуарная неподвижность фигуры
живого актера.
2 В этом смысле понятие текста не совпадает в драматургии и театре: написанная
(напечатанная), но не поставленная пьеса с точки зрения драматургии — полноценный
текст, с точки зрения театра — это лишь важнейший компонент для создания текста.
Для драматурга пьеса может быть сообщением, адресованным читателю. Для театра
сообщением может быть только сценическая постановка. Конечно, драматург может
совмещать в своем лице и профессионального театрального деятеля, для которого
существование текста начинается с момента постановки. Не следует, однако, забывать, что
ни Пушкин, ни Грибоедов своих основных пьес на профессиональной сцене не видели.
Семиотика сцены
597
рового текста, создаваемого актерами и режиссером, и текста
живописно-музыкального и светового оформления. То, что на высшем уровне эти субтексты
складываются в единство, не отменяет того, что процесс кодирования
протекает в них различным образом.
Другая сложность состоит в том, что текст спектакля отличается от
аналогичного понятия в таких искусствах, как живопись, скульптура или
литература. Там мы имеем дело со стабильностью текста, — в театре, напротив,
текст напоминает исполнительские и фольклорные тексты тем, что реализуется
не в некоей единой, раз навсегда данной форме, а в сумме вариаций вокруг
некоторого непосредственно не данного инварианта. Но и с этими
вариативными текстами нет полного тождества. Дело в том, что сценический текст
образуется в результате столкновения исключительно большого числа
факторов, и активное индивидуальное творчество, дестабилизирующее структуру
текста, проявляется на многих уровнях и с участием большого числа людей,
руководимых неидентичными целями и принципами. В каждом звене создания
текста — от автора, режиссера, ведущего актера до статиста и осветителя —
осуществляется двойное поведение. С одной стороны, несвобода: автор не
свободен по отношению к традиции, вкусам публики, идеям эпохи, режиссер
связан замыслом автора, и так далее по нисходящей. Но с другой стороны,
в каждом звене подразумевается не только исполнительство, но и партнерство,
сотворчество, то есть свобода. В каждом звене — не реализация однозначно
заданной программы, а игровой конфликт с не до конца предсказуемым
результатом. Это придает сценическому тексту огромную смысловую емкость.
Очень жесткие структуры сочетаются здесь с исключительно гибкими,
«плавающими» сочленениями, строгая конструкция — с импровизацией. В
результате достигается соединение устойчивости текстовой структуры и резерва
вариативности, позволяющего гибко реагировать как на микроизменения
внутри построения спектакля, так и на реакцию зала, никогда до конца не
детерминированную. Можно отметить, что здесь вступают в силу механизмы,
напоминающие те, которые определяют устойчивость живых организмов.
Не менее сложна и своеобразна кодовая система. Во-первых, спектакль
кодируется многократно, поскольку в каждом звене, в котором варьируется
текст, усложняется и система его кодирования. Наконец, между глобальными
контурами художественного языка спектакля и привычными, понятными
зрителю формами вполне естествен конфликт, который определяется словом
«новаторство». В то время как зритель, казалось бы, пассивно сидит в своем
кресле1, в его сознании происходит подлинная битва между привычным и
1 Мнимая пассивность театрального зрителя, заключающаяся в том, что он не лезет
на сцену, чтобы спасти Дездемону или Корделию, неоднократно отмечалась. И. Н.
Игнатов на этом основании даже пришел к выводу, что театр воспитывает пассивность.
По его мнению, театр приучает человека «довольствоваться ролью зрителя во всех
тех случаях, когда для уничтожения человеческого несчастья необходимо активное
вмешательство, и, увеличивая пассивность, воспитывает привычки, характеризуемые
девизом: „Не трогайте меня, и я вас не трону"» (Игнатов И. Н. Театр и зрители.
М., 1916. С. 27). Абсурдность этого мнения не нуждается в доказательстве.
598
СТАТЬИ. ЗАМЕТКИ. ВЫСТУПЛЕНИЯ. III. Театр. Кино
непривычным, понятным и непонятным, возбуждающим согласие и
вызывающим возражения. Процесс передачи сообщения со сцены и декодирования
его в сознании аудитории можно было бы определить как две стороны
единого процесса коллективного мышления. Процесс передачи — получения
сообщения в ходе спектакля следует сопоставить не со считыванием
однозначно расшифровываемых знаков в строго предусмотренной
последовательности, а со сражением идей, в котором, хотя полководец предусмотрел общий
план и многократно прорепетировал сражение в своем уме и на карте,
неизбежно то там, то здесь вспыхивают неожиданные стычки, требующие
немедленных импровизированных реакций, а окончательный исход никогда
не может быть предсказан. Это означает, что система «сцена — зритель»
развертывается по игровой модели.
Однако возникает вопрос: каким образом в этом воистину
астрономическом количестве сцеплений идей, которое порождается столкновением таких
сложных систем, как спектакль и культурное сознание аудитории, все же
возникает ситуация понимания — относительной адекватности передачи и
восприятия? Эффект этот достигается, с одной стороны, тем, что и создатели
спектакля, и зрители — люди одной историко-культурной эпохи и неизбежно
включены в общие социальные, культурные и психологические коды. С другой
стороны, театр — одно из наиболее древних и глобальных для мировой
культуры искусств. За тысячелетия своего существования он накопил арсенал
устойчивых средств, сохраняющихся при любых сценических реформах и в
условиях различных форм идейно-художественного сознания. Этот
стабильный семиотический каркас является как бы универсальным переводчиком,
обеспечивающим минимум взаимности. А если к этому добавить, что всякий
подлинно художественный текст является своего рода «обучающей машиной»,
то есть, заключая в себе новый художественный язык, содержит и
«самоучитель» этого языка, то процесс превращения уникального текста в общий
художественный язык, исключения — в норму, творения гения — в
общенациональное достояние культуры перестанет нас изумлять.
«Условность» и «естественность»
Существует представление, что понятие знаковой природы
распространяется только на условный театр и неприменимо к реалистическому. С этим
согласиться нельзя. Понятия естественности и условности изображения лежат
в другой плоскости, чем понятие знаковости. Как мы уже отмечали, знаки
могут строиться по принципу подобия обозначаемым предметам или быть
условными1. Однако когда мы говорим об условности в искусстве, мы фак-
1 Строго говоря, подобие не исключает, а подразумевает условность, так как правила
принятой в реалистической живописи после Ренессанса перспективы являются условной
системой передачи трехмерного объекта на двухмерной плоскости рисунка. См.:
Философская энциклопедия. М., 1970. Т. 5. С. 287—288.
Семиотика сцены
599
тически имеем в виду нечто иное: ориентацию того или иного художественного
направления на определенный тип отношения текста к реальности. Так,
Толстой считал, что «речитативом не говорят», и говорил о его
неестественности. Но Толстой, который, по собственному признанию, «прочел всего
Руссо, все двадцать томов, включая „Музыкальный словарь"»1, конечно, пом-нил,
что именно речитатив был центральным пунктом в борьбе Руссо за
естественность в опере. В «Музыкальном словаре» Руссо писал, что речитатив —
это «манера пения, наиболее приближенная к речи»2. Одновременно тот же
Руссо в «Опыте о происхождении языков» утверждал, что мелодия пригодна
для естественного изображения, а гармония — нет: «Что может значить
гармония? Что может быть общего между аккордами и нашими страстями?»
Нетрудно заметить, что все эти высказывания получают смысл только в
контексте определенных эстетических воззрений, в перспективе какой-либо
традиции, каких-либо культурных установок, а не сами по себе. В первую
очередь здесь играет роль отношение к предшествующему художественному
опыту. Когда мы имеем дело с художественными текстами далекой от нас
цивилизации, то, с одной стороны, мы оказываемся полностью лишенными
возможности сказать, представляются ли они носителям создавшей их
культуры «естественными» или далекими от естественности, а с другой, перенося
их в контекст нашей культуры, мы склонны обычно трактовать их как
условные. Например, восточный театр или африканская скульптура кажутся
европейскому зрителю демонстративно условными.
Противопоставление это можно сравнить с такой фундаментальной для
словесного искусства оппозицией, как поэзия — проза. Точно так же речь
идет о коренном структурном противопоставлении, точно так же ни о каком
тексте вне отношения к декодирующей его культурной традиции нельзя
сказать, следует ли его отнести к стихам или к прозе, точно так же
противопоставление это нейтрально по отношению к понятию реализма,
художественной правды и близости к действительности. Параллель эта, видимо,
имеется в виду, когда сценические языки, ориентированные на условность,
с определенной долей метафоризма, именуют поэтическими, а
противоположные им — сценической прозой. Очевидно, что и то и другое понятие не
должно пониматься как оценочное.
Театр, ориентированный на «театральность», обнаруживает ряд
типологических параллелей с поэзией (не случайно эпохи расцвета того и другого
вписываются, как правило, в общий культурный контекст), а ориентация
сцены на «антитеатральность» обнаруживает типологическое сходство с
прозой. Следовательно, сама постановка вопроса «лучше или хуже», «ближе к
действительности или дальше от нее» не может здесь иметь места3. В равной
1 Толстой в воспоминаниях современников. М., 1960. Т. 2. С. 154.
2 Rousseau J.-J. Oeuvres complètes. Paris, MDCCCXXV. T. XIV. P. 217.
3 Конечно, в процессе острых эстетических и идейных конфликтов часто допускались
утверждения, отвергавшие определенные роды искусства как таковые (поэзию, балет
и др.) и доказывавшие их принципиальную противоположность художественной
правде. На деле всегда оказывалось, что отвергается определенный вид поэзии или балета.
600
СТАТЬИ. ЗАМЕТКИ. ВЫСТУПЛЕНИЯ. III. Театр. Кино
мере стремление к театральности или отказ от нее меняют тип сценической
семиотики, но не повышают или понижают ее уровень.
Воздействие на зрителя (театральная прагматика)
Семиотический акт — это не только передача некоторого сообщения от
отправителя к получателю, его нельзя представить себе в виде перекладывания
конверта из одного ящика в другой. Это сложный процесс, в ходе которого
«ящики» и «конверт» перестраиваются, трансформируются, взаимодействуют.
Это живой, пульсирующий процесс, в ходе которого все компоненты находятся
в состоянии сложного конфликта, обнаруживая устойчивость и изменчивость,
понимание и непонимание. Процесс взаимодействия текста и адресата
называется прагматикой. Это наиболее сложная и наименее изученная область
семиотики. Применительно к сцене она, в значительной мере, возвращает
нас к старому вопросу: полезен или вреден театр? С одной стороны, полезность
его как социальной и культурной школы зрителя подтверждена всей его
историей, с другой — просматривая историю мирового театра, видишь пред
собой огромное количество преступных героев, сцены жестокости, от которых
нельзя не прийти в смущение. Не вреден ли театр? Несмотря на попытки
Аристотеля с помощью теории катарсиса отвести это обвинение, оно не раз
звучало в последующей истории культуры, высказанное с убедительным
красноречием. Руссо, который со смелостью гения не боялся высказывать
мысли, идущие вразрез с общей традицией, в сочинении «Ж.-Ж. Руссо,
гражданин Женевы, г-ну Д'Аламберу» прямо утверждал вред театра: «Я
сомневаюсь в том, чтобы человек, которому заранее рассказали кратко о
преступлениях Медеи или Федры, не испытывал более сильной ненависти к
ним в начале пьесы, чем по окончании ее; а если это подозрение справедливо,
то что же следует думать о пресловутом воздействии театра? <...> Что мы
узнаем из „Медеи"? До каких злодеяний неистовая ревность может довести
злобную и извращенную мать? Посмотрите большинство пьес французского
театра: почти во всех чудовищные герои и ужасные злодеяния, помогающие,
если угодно, придать интерес пьесам и доставить упражнение добродетелям,
но безусловно опасные уже тем, что они приучают глаза людей к
созерцанию ужасов, которых им не следовало бы и знать, и преступлений, которые
они вовсе не должны считать возможными. Нельзя даже сказать, чтобы
убийство и отцеубийство всегда изображались в них отвратительными. В
силу каких-то соображений их представляют дозволенными или
простительными. Трудно не простить Федру, совершающую кровосмешение и
проливающую кровь невинной жертвы; Сифакс, отравляющий свою жену, младший
Гораций, закалывающий свою сестру, Агамемнон, приносящий в жертву свою
дочь, Орест, удушающий свою мать, остаются персонажами, внушающими
интерес»1.
1 Жан-Жак Руссо об искусстве. М.; Л., 1959. С. 127—136.
Семиотика сцены
601
Те же обвинения, которые Руссо выдвинул против античного и
французского театра, Л. Н. Толстой предъявил Шекспиру.
Однако только в пределах просветительской психологии и теории
поведения можно полагать, что достаточно увидеть преступление на сцене, чтобы
сделаться преступником, или добродетель на полотне — для нравственного
исправления.
Социопсихологические исследования приводят к выводу, что совершению
преступления должно предшествовать изменение личности и установки
поведения человека, и есть все основания полагать, что театр (и шире — всякое
искусство) работает в прямо противоположном направлении. Говоря в самом
общем виде, психология преступления заключается в превращении другого
человека в объект, то есть в отказе ему в праве быть самостоятельным и
активным участником коммуникации. При всем различии идей и
обстоятельств, как для нацистского преступника уничтожение заключенных есть
мероприятие, то есть деятельность, направленная на безликий объект, так и
для Раскольникова старуха процентщица — объект, деталь в цепи его
рассуждений, а не личность, с которой возможно общение. Даже когда склонный
к садизму убийца наслаждается криками и мучениями жертвы, она
психологически не становится для него партнером в коммуникации. Напротив,
извращение в том и состоит, чтобы превратить живого человека в объект. Не
случайно это часто оказывается со стороны преступника компенсацией за
собственную обезличенность. Вопреки романтической традиции, преступники,
как правило, не яркие и сильные личности, а обезличенные существа,
стремящиеся в акте преступления обменять свою позицию объекта общественных
отношений на роль носителя власти, обращающего другого в объект. Итак,
психологической основой преступления в интересующем нас аспекте является
разрушение коммуникации. Психология зрителя исключает такую ситуацию:
в силу постоянного диалога, идущего между сценой и залом, жертва
изображенного на сцене преступления, являясь объектом для сценического
преступника, для зрителя выступает как субъект, участник общения. Зритель
включает ее в свой диалог со сценой, и это исключает образование в его
душе преступного психологического комплекса. Не «моральные хвостики»
(выражение Добролюбова) и не реплики под занавес, в которых
Всегда наказан был порок,
Добру достойный был венок, —
а включение зрителя в систему коллективного сознания, подразумевающую
взгляд на другого как на партнера в коммуникации, субъект, а не вещь,
делает театр школой общественной морали.
Семиотический ансамбль
Одна из особенностей сценической семиотики заключается в установке
на ансамбль. Всякий художественный текст в той или иной мере семиотически
не однороден, но только в театре (и в меньшей мере — в кинематографе)
602
СТАТЬИ. ЗАМЕТКИ. ВЫСТУПЛЕНИЯ. III. Театр. Кино
понятие «ансамбля» превращается в один из ведущих конструктивных
принципов. Он заключается в принципиальной установке на разнородность средств
художественной выразительности. Это, в частности, объясняет, почему
античный и народный театр, хранящий живые связи с ритуалом, сохраняет для
сцены до наших дней значение художественного идеала. Древнегреческая
сцена, как и всякое отшлифованное народной традицией искусство, создала
исключительное равновесие противоположных художественных языков.
Соединение всех известных античности искусств — от архитектуры до поэзии
и музыки, условность знакового языка, доведенная до неподвижной маски,
и движений, превращенных в ритуализованный язык жестов, и
изобразительность, которая произвела бы на современного зрителя характер самого грубого
натурализма; соединение авторского текста и актерской импровизации,
традиции и ее нарушения, мифологического сюжета и индивидуального
поэтического гения — все это делало древнегреческую сцену своего рода идеальным
воплощением принципа ансамбля.
В теории ансамбля большое значение имеет сочетание двух различных
типов знаковых систем: опирающейся на систему отдельных, отграниченных
друг от друга (дискретных) знаков и на такую, где отграничить один знак
от другого трудно или невозможно (само существование уровня отдельных
знаков неочевидно), а носителем значения является текст как таковой. В
такой (недискретной) системе весь текст выступает в качестве некоторого
сложно построенного знака. Словесная часть спектакля тяготеет к дискретной
передаче значений, игровая — к недискретной. Эта исходная «естественная»
ориентация подвергается в дальнейшем усложнению: элементы словесного
текста, переплетаясь как друг с другом, так и с пластическими деталями
спектакля, теряют свою смысловую отдельность и спаиваются в недискретное
целое, выступая в качестве носителя сверхзначений. Одновременно в
недискретных текстовых образованиях спектакля могут образовываться сгустки
повышенной значимости. Например, система движений и мимики актера,
конечно, несет значения. Однако в современном неусловном театре в
результате ориентации на бытовую мимику1 элементы эти переходят из одного
состояния в другое без перерывов и остановок. Но и типовые мимические
маски, жесты и позы не могут быть изгнаны до конца. В равной мере и
общая сценическая композиция движется в напряжении между двумя
полюсами: ориентацией на подражание композиционной «неорганизованности»
реальной бытовой сцены и композиционной продуманности живописного
полотна (ср. нарастание этой тенденции в «Ревизоре» по мере приближения
к финальной немой сцене). Если мы обратимся к относительно недавней
истории театра, то убедимся, в какой большой степени мимика и жест
ориентировались на стабильные, дискретные формы выражения. Постоянный
жест с постоянным значением, стабильные типы грима, символические ми-
1 Ср. в письме Чехова к О. Книппер от 2 января 1900 г.: «Страдания выражать надо так,
как они выражаются в жизни, то есть не ногами и не руками, а тоном, взглядом; не
жестикуляцией, а грацией... Вы скажете: условия сцены. Никакие условия не допускают лжи».
Язык театра
603
мические приемы выражения душевных состояний вносили в игру дискретные
моменты. На этой стадии живопись и скульптура оказываются средствами
кодирования актерской игры. Однако взаимное переплетение языков идет еще
дальше: физическая дискретность тех или иных элементов не всегда
препятствует иллюзии непрерывности (ср. иллюзорную непрерывность действия на
экране, возникающую в результате быстрого движения дискретных единиц —
кадриков ленты). Так, например, театр масок (античный, японский но, комедия
дель арте и др.) создает конфликт между недискретной динамикой движений
актера и неподвижностью маски. Однако было бы заблуждением думать, что
зрители всегда в этом случае лишены иллюзии мимики и лицо-маска сохраняет
для них всегда неизменное выражение. Напомним широко известные в
кинематографии опыты Кулешова, который монтировал один и тот же неизменный
кадр (лицо Мозжухина) с различными кадрами (танцующий ребенок, детский
гробик, дымящаяся тарелка супа и др.) и добивался иллюзии изменения мимики
на лице актера. Возможность такого взаимодействия подвижного и
неподвижного, маски и контекста лучше всего иллюстрирует главное свойство
сценического ансамбля: единство разного и разнообразие в едином.
Все виды искусства связаны с проблемами художественного общения, то
есть с семиотикой. Однако немногие из них затрагивают столь разнообразные
и многогранные ее аспекты. От грима и мимики до норм поведения зрителя
в зале, от театральной кассы до ритуализованной «театральной атмосферы» —
в театре все семиотика. Виды ее столь сложны и разнообразны, что сцену с
полным основанием можно назвать энциклопедией семиотики.
1980
Язык театра
Теория далеко не всегда нужна там, где на первый план выступает
практическое умение. Для того, кто умеет ходить, теория ходьбы не нужна.
Более того, если ставить себе целью обучение ходьбе, то теория не нужна
вообще: те, кто умеет, в ней не нуждаются, а неумеющие с ее помощью все
равно не научатся. Простое: «Смотри и делай, как я» — здесь полезнее
любой теории. Означает ли это, что теория ходьбы вообще не нужна? Нет,
она очень нужна и для решения важных теоретических вопросов, и для
практических задач — от конструирования роботов до усовершенствования
протезов. Она пригодится и врачу, и физиологу, и физику, но обучающемуся
младенцу или потерявшему подвижность инвалиду в ней мало проку.
Нечто аналогичное имеет место и в искусстве. И когда в теоретических
исследованиях ищут то, чего в них нет и быть не может, — практических
инструкций, как создать хорошее художественное произведение, — то это
неизбежно ведет к разочарованиям. А разочарования — вещь опасная. В
604
СТАТЬИ. ЗАМЕТКИ. ВЫСТУПЛЕНИЯ. III. Театр. Кино
свое время крыловская мартышка, разочаровавшись в очках, «о камень так
хватила их, что только брызги засверкали». К сожалению, попытки именно
так поступать с теоретическими исследованиями как «далекими от
практики» — скорее норма, чем исключение. Это не означает, что теоретические
исследования не влияют на практику искусства. Но влияют они не как
инструкции и рецепты, а через общее воздействие на культуру, формируя
мышление художников и их аудитории. Например, было бы странно отрицать
глубокое воздействие M. М. Бахтина на современное искусство (в
особенности на драматургию и кино, не говоря уже о непосредственных театрали-
зациях романов Достоевского). Но это воздействие осуществляется через
перестройку философского сознания нашего современника.
С этих позиций стоит подойти и к настоящей проблеме. Если ждать
однозначных ответов на вопросы: что такое театральность, как ее создать
(если это «хорошо») или как ее избежать (если это «плохо»), какие стили
постановок считать театральными, а какие нет и т. п.; если рассчитывать,
что итоги разговора смогут быть перенесены непосредственно на сцену, лишь
только он завершится, то разочарование неизбежно. Но если считать задачей
дать материал для размышлений, начать, а не кончить разговор, цель
которого — яснее понять то, о чем много и часто всуе говорят в последнее время,
то можно надеяться, что наш обмен мнениями принесет известную пользу.
С моей точки зрения, театральность можно определить так. Всякое
искусство говорит с нами на своем, только ему свойственном языке. Для того
чтобы букет цветов, стоящий на столе, превратить в картину, надо
«пересказать» этот букет средствами языка живописи, используя определенный
тип перспективы, определенную жанровую традицию, все средства, которые
позволяют художнику создать «вторую реальность» натюрморта. Особенность
языка искусства в том, что он никогда не является (если исключить заведомо
эпигонские тексты) заранее данным, а всегда представляет собой некоторую
изменчивую вариацию, необходимую именно для данного замысла. При этом
мысль никогда не дается как нечто оформленное в законченной логичности
до художественного акта. Мысль, которую несет художник, есть
художественная мысль. Она создается в данном произведении и данным произведением
и не может быть отделена от его текста. Более того, текст — не вместилище
застывшей мысли, а генератор, который, подключенный к аудитории, с одной
стороны, и передатчику (книга, театр и др.), с другой, продуцирует новые
сообщения, идеи и чувства. Таким образом, само понятие «язык искусства»
сложно и лишь отчасти постигается простой аналогией с языком в
лингвистическом значении (например, выражениями «русский язык», «английский
язык»).
Театральность есть язык театра как искусства. И в этом значении она
не может быть ни плохой, ни хорошей — она есть неотъемлемая часть театра
как такового, и обойтись без нее так же невозможно, как невозможно обойтись
без языка. Определение сущности театральности (как и сущности искусства
вообще) возможно с двух точек зрения. С одной, можно описывать
внутреннюю архитектонику произведения искусства и определять, какими
структурными свойствами должен обладать текст, чтобы в пределах данной культуры
Язык театра
605
мы могли воспринимать его как художественный. Это структурный аспект.
С другой, мы можем сказать, что произведением искусства является все, что
воспринимается данной аудиторией как искусство. Так, средневековые иконы
воспринимаются нами сейчас как высокое искусство. Однако в XIX в.
академическая школа считала их неумелыми произведениями, находящимися вне
подлинного искусства. Сомнительные по вкусу полотна Семирадского
воспринимались как нечто бесконечно более «прогрессивное». Напротив, для
средневекового зрителя икона также была не искусством, а чем-то бесконечно
более высоким. Она вызывала религиозное чувство, по сравнению с которым,
с точки зрения ее подлинной аудитории, исключительно эстетическое
восприятие было чем-то кощунственным. Этот второй подход можно назвать
функциональным: художественным произведением, с этой точки зрения,
является то, что в данной культуре способно выполнять эстетическую функцию.
В истории искусства бывают — и не столь редко — периоды, когда, чтобы
«быть искусством» (выполнять его функцию), произведение должно «не быть
искусством». Когда Белинский создавал поэтику очерка «натуральной школы»
или итальянский неореализм отказывался от профессиональных актеров,
павильонных съемок, всего, что связывалось с «кинематографичностью», как
и во многих других случаях, «отказ от языка искусства» был «отказом от
старого языка» и путем создания нового. Физиологический очерк проложил
путь социальному роману, а неореалистическое отрицание
кинематографичное™ дало мощный импульс созданию новых форм киноязыка.
С тех пор как существует театр, борются две концепции театральности:
зритель должен забыть, что он в театре, — зритель должен постоянно
чувствовать, что он в театре. Спор этот характеризует не природу театра, а
субъективную ориентированность тех или иных театральных деятелей. На
самом деле зритель должен одновременно и забыть, что он в театре, и ни в
коем случае не забывать этого. В зависимости от эстетических концепций,
культурной ориентации, индивидуального задания, может делаться акцент
на той или иной части этой двуединой формулировки, режиссер может
считать, что он «разрушает» или «создает» театральность, но на самом деле
пока есть театр, есть и обе стороны его воздействия: вера в то, что иллюзорная
реальность сцены реальна, и в то, что она не жизнь, а «игра в жизнь». Она
реальна — и мы плачем над судьбой Дездемоны, она иллюзия — и мы не
бросаемся ей на помощь. Во время антракта мы выключаемся из театральности
и спокойно идем курить, но гаснет свет, и мы вновь возвращаемся в мир
прерванных эмоций, к пункту, на котором остановились, в мир иллюзорной
реальности.
Сложность театральности по сравнению, например, с поэтичностью,
кинематографичностью или живописностью в том, что она связана с искусством
исполнительским, то есть в определенной степени импровизационным, —
каждый спектакль уникален. Кроме того, исполнительское искусство не
создает, а «разыгрывает» зафиксированный авторский текст. Оно мгновенно:
«Ревизор» остается, но Хлестаков — М. Чехов или Хлестаков — Ильинский
существуют, пока длится спектакль.
Театральность имеет особо сложную природу.
606
СТАТЬИ. ЗАМЕТКИ. ВЫСТУПЛЕНИЯ. III. Театр. Кино
Прежде всего, она создается отношением спектакля к пьесе. Пьеса, взятая
«для себя», — законченное художественное произведение, равноправное в
ряду других жанров словесного искусства: романа, поэмы, стихотворения.
Однако стоит начать превращать ее в спектакль — и оказывается, что она
содержит множество потенциальных интерпретаций, что она еще как бы не
закончена и ее предстоит увенчать некоторым воплощением. Воплощение
это снимает множественность интерпретаций, существующих для читателя,
не конкретизирующего Гамлета или Хлестакова в каком-либо персональном
образе, и одновременно создает новую множественность — возможность
различного толкования режиссерского решения и актерской игры1. Отношения
пьесы и спектакля — сложный и, как правило, драматический диалог. В
этом отношении театр в принципиально ином положении, чем кино. В кино
сценарий редко представляет самостоятельное произведение искусства — это
этап и элемент создания фильма. Не случайно написанный для какого-либо
фильма сценарий почти никогда не становится объектом повторных
экранизаций другими мастерами. Для пьесы это просто закон. Удача фильма навсегда
закрепляет сценарий за этой лентой, удача спектакля стимулирует постановки
той же пьесы на других сценах. Поэтому стремление заменять постановку
пьес театрализацией произведений художественной прозы, вводящее в обиход
театра рабочий сценарий, соединяющее режиссера и автора в одном лице, —
результат давления кино на смежные искусства. Искусству полезны смешанные
браки, и инсценировки плодотворны для развития репертуара. Но нельзя не
заметить, что вместо драматурга, равноправного партнера в диалоге, получая
покорного сценариста, театр облегчает себе задачу. А всякое облегчение
всегда идет в ущерб искусству.
Сопротивляемость пьесы — великий фактор искусства. Перевод
нехудожественного текста с языка на язык — дело техническое и никакого
творческого приращения смысла в себе не содержит, перевод стихотворения с
языка на язык труден, почти всегда чреват неудачей, но создает новое (или
почти новое) художественное произведение. А превращение новеллы Мериме
в оперу Визе или повести Пушкина в оперу Чайковского — уже акт
творчества, взаимного напряжения разных родов искусств, создающий взрыв
художественной энергии, поток новых смыслов. Чем дальше языки, с которых
осуществляется перевод, чем труднее и, более того, невозможнее этот перевод,
тем информационно, эмоционально, культурно ценнее его результат. Пьеса
и спектакль говорят разными языками, и слово, которое пишется на бумаге,
глубоко не адекватно играемому слову на сцене. Постановка — один из
труднейших видов художественного перевода. Но именно в трудности его
ценность. И всякое облегчение этого процесса (в частности, путем коренной
модернизации беззащитного классика) может дать сильный, но всегда
кратковременный и поверхностный эффект. Это, конечно, не относится к той
неизбежной модернизации, которая не разрушает внутренней структуры пьесы
1 Конечно, и множественность пониманий авторского замысла не снимается, а лишь
ограничивается истолкованием пьесы, принятым данным спектаклем.
Язык театра
607
и очень часто, как импровизационный момент, входит в границы ее
интерпретации.
Но театральность имеет и другое «плечо рычага». Спектакль, с одной
стороны, ведет диалог с пьесой, но с другой — со зрителем. Это два разных
диалога, и спектакль раскрывается в них по-разному. Ни одно из искусств
не связано так непосредственно с реакцией аудитории, не реагирует на эту
реакцию столь немедленно и активно, как театр. Сама возможность диалога —
одно из важнейших и труднейших завоеваний культуры, и потеря диалога
со зрителем — гибель театральной культуры. Здесь нельзя не помянуть лихим
словом то, какую зловещую роль в разрушении культуры контакта сцены и
зала играла у нас порой театральная критика, с каким пренебрежением к
зрителю она объявляла спектакли, на которые публика валила валом,
провалами, а те, которые шли в пустых залах, — творческими удачами. Примеры
у всех на памяти. Мне, например, до сих пор памятно, как блестящие успехи
театра Н. Акимова в Ленинграде были перечеркнуты одной газетной статьей.
Дезориентированный зритель перестает верить театру, а
дезориентированный театр уже обращается не к сидящим в зале зрителям, а к
потенциальному будущему рецензенту. Контакт нарушен. Театральность ушла из
театра.
Однако диалог с залом не сводится к этой, элементарной в своей грубости,
ситуации. У него более сложная природа. Для того чтобы диалог состоялся,
необходимо прежде всего взаимное доверие его участников. Один из
исследователей диалога между грудным младенцем и его кормящей матерью
отмечал, что языку общения предшествуют потребность контакта и взаимная
любовь. Однако это лишь самое общее условие. Нужна языковая общность,
некоторый общий объем культурной памяти. Только он позволяет окружить
текст затекстовой смысловой атмосферой. На сцене, как и в жизни,
значительная часть того, что говорится, говорится молчанием, а важнейшими
действиями порой являются те, которые не совершаются. Зритель «со
стороны», выключенный из системы общений «сцена — зал», свойственных
данному театру, данному спектаклю, данному автору, данному актеру,
воспринимает лишь поверхностный слой смысла, тогда как активно участвующий
в спектакле зритель воспринимает всю толщу сценической жизни. Из этого
вытекает, что у театра должен быть свой зритель, постоянный активный
ценитель и собеседник.
Позволю здесь себе маленькое отступление. Критика часто под лозунгом
широкой массовости ориентирует театр на «никакую аудиторию», на сред-
нестатического «массового» потребителя, которого сама критика не видала
в глаза и которого не существует. Люди, входящие в зал, не составляют еще
массы — это случайное собрание разнородных индивидов. И только
спектакль, театр, сцена сплачивают их в коллективную личность.
Но взаимопонимание сцены и зала — лишь одна сторона дела. Слишком
полное, слишком легкое взаимопонимание, дающееся без труда как наследие
прошлых успехов, свидетельствует о том, что театр остановился, что он
эксплуатирует вчерашнюю театральность, а не ищет новой. Эволюция языка,
его изменение, динамизм — закон любой семиотической системы. Не будем
608
СТАТЬИ. ЗАМЕТКИ. ВЫСТУПЛЕНИЯ. III. Театр. Кино
касаться общих причин этого явления, но когда мы говорим об искусстве,
наверное, не последнюю роль играет то, что истина — всегда поиск. Не
поверхностная мода, не бездумное желание новизны ради новизны движут
человечеством, когда оно на протяжении всей своей истории меняет
достигнутые формы искусства на еще не известные. При этом самые резкие сломы
традиции могут оказаться более традиционными, чем ее музейная
консервация. Но эволюционные сломы не следует путать с разрушением непрерывности
развития. Никто не ощущает новизну в такой мере, как тот, кто хорошо
помнит старину, для не имеющего памяти — нет новизны.
Мы говорили о трудном диалоге с автором пьесы, — диалог со зрителем
тоже должен быть трудным. Не настолько трудным, чтобы диалог не мог
состояться, и не настолько легким, чтобы он сделался бессодержательным.
Первый вопрос всякого диалога: на каком языке? Театр ведет разговор на
языке театральности.
Но, говоря об этом, следует помнить слова того русского писателя,
который как никто чувствовал эту театральность и видел в ней пульс
сценической жизни, — Николая Васильевича Гоголя. Гоголь подчеркивал, что
подлинная сценическая жизнь, подлинная театральная правда возможна
«только в таком случае, когда дело будет сделано истинно так, как следует, и
полная ответственность всегда, по части репертуарной, возляжет на
первоклассного актера, то есть трагедией будет заведовать первый комический
актер, когда одни они будут исключительно хоровожди такого дела». И далее:
«Выходит инструкция для художника, писанная вовсе не художником, является
предписанье, которого даже и понять нельзя, зачем оно предписано». И
Гоголь заключает: «Нужно, чтобы в деле какого бы то ни было мастерства
полное его производство упиралось на главном мастере того мастерства, а
отнюдь не на каком-нибудь пристегнувшемся сбоку чиновнике».
Мы начали с того, что театр говорит языком театральности. Но
способностью говорить обладают лишь живые и мыслящие существа. Театр должен
быть живым и мыслящим.
1989
Театральный язык и живопись
(К проблеме иконической риторики)
Связь феномена искусства с удвоением реальности неоднократно
отмечалась эстетикой. В этом отношении античные легенды о рождении рифмы
из эха, рисунка из обведенной тени исполнены глубокого смысла.
Одновременно магическая функция таких предметов, как зеркало, создающих другой
мир, похожий на отражаемый, но им не являющийся, «как бы» мир, столь
Театральный язык и живопись
609
же знаменательна, как и роль метафоры отражения зеркальности для
самосознания искусства. Возможность удвоения является онтологической
предпосылкой превращения мира предметов в мир знаков: отраженный образ вещи
вырван из естественных для нее практических связей (пространственных,
контекстных, целевых и прочих) и поэтому легко может быть включен в
моделирующие связи человеческого сознания. Отражение лица не может быть
включено в связи, естественные для отражаемого объекта, — его нельзя
касаться или ласкать, — но вполне может включиться в семиотические
связи — его можно оскорблять или использовать для магических
манипуляций. В этом отношении оно однотипно слепкам и отпечаткам (например,
оттискам следов или отпечаткам рук). Колдовские операции, зафиксированные
исключительно широким этнографическим материалом разных культур,
которые производятся над следом человека, обычно объясняются диффузностью
архаического сознания, которое якобы не отличает части от целого и видит
в отпечатке следа нечто принципиально тождественное пробежавшему
человеку. Можно высказать, однако, несколько иное предположение: именно то,
что след, являясь человеком, одновременно им очевидно не является, то, что
он выключен из всей массы обыденно-практических связей, провоцирует
включение его в семиотическую ситуацию.
Однако в элементарном факте удвоение некоторого объекта семиотическая
ситуация скрыта как чистая возможность. Как правило, она остается
неосознанной для наивного сознания, не ориентированного на знаковое восприятие
мира. Иное положение складывается, когда происходит двойное удвоение,
удвоение удвоения. В этих случаях явственно выступает неадекватность
объекта и его отображения, трансформация последнего в процессе удвоения,
что, естественно, обращает внимание на механизм удвоения, то есть делает
семиотический процесс не спонтанным, а осознанным. Многократность
удвоения и трансформация отраженного образа в ходе этого процесса играют
особую роль в изобразительных текстах. В словесных текстах условность
отношения содержания к выражению, конвенциональный характер этого
отношения значительно очевиднее. Обнажение этого факта дается
относительно легко, и дальнейшие усилия по созданию поэтического текста
направлены на его преодоление: поэзия сливает планы выражения и содержания в
сложное образование более высокого уровня организации.
Изобразительные искусства (и их потенциальное семиотическое зерно —
механическое отражение объекта в зеркальной плоскости) создают иллюзию
тождества объекта и его образа. К процессу создания художественного знака
(текста) прибавляется еще одно звено: сначала должна быть вскрыта знако-
во-условная природа, лежащая в основе всякого семиотического факта, —
текст, воспринимаемый наивным сознанием как безусловный, должен быть
осознан в его знаковой условности. Практически это означает, что
несловесному тексту на этом этапе приписываются черты словесного. И только на
следующем происходит вторичная иконизация текста, что соответствует тому
моменту в поэзии, когда словесному тексту приписываются черты
несловесного (иконического).
610
СТАТЬИ. ЗАМЕТКИ. ВЫСТУПЛЕНИЯ. III. Театр. Кино
Какую роль в этом процессе (особенно на первой его стадии) играет
удвоение удвоения, можно обнаружить на примере функции зеркала в
определенные моменты развития изобразительного искусства. Можно сказать, что
для некоторых моментов живописи зеркало на полотне выполняло
типологически такую же роль, как словесная игра в поэтическом тексте: выявляя
условность, лежащую в основе текста, оно делало язык искусства основным
объектом внимания аудитории. Двойное удвоение, как правило, удел не всего
полотна, а лишь определенной его части. В этом случае на участке вторичного
удвоения происходит резкое повышение меры условности, что обнажает
знаковую природу текста как такового.
Например, пафос ренессансного искусства был, в частности, в утверждении
«естественной» перспективы как воплощения некоторой константной точки
зрения1. Однако в «Венере перед зеркалом» Веласкеса введение зеркала
позволяет в пределах общепринятой системы перспективы показать
центральную фигуру (Венеру) одновременно с двух точек зрения: зритель видит ее
со спины, а в зеркале — ее лицо. Точка зрения выделяется как
самостоятельный структурный элемент, который может быть отделен от объекта,
данного наивному созерцанию, и представлен в виде осознанной и
самостоятельной сущности.
В картине Яна Ван Эйка «Портрет четы Арнольфини» мы встречаем
зеркало в той же функции: центральные фигуры видны нам на полотне en
face, а в отражении — со спины. Однако эффект усложнен здесь, прежде
всего, тем, что изображение в зеркале дается с искажением: сферическая
поверхность зеркала трансформирует фигуры, что заостряет внимание на
специфике отражения. Делается очевидным, что всякое отражение —
одновременно и сдвиг, деформация, заостряющая некоторые аспекты объекта, с
одной стороны, и выявляющая, с другой, структурную природу языка, в
пространство которого проецируется данный объект. Сферическая и круглая
поверхность зеркала подчеркивает плоскостный и прямоугольный характер
фигур банкира и его жены, которые как бы нанесены на плоское стекло,
помещенное в иллюзорно-трехмерное (иллюзия создается детальной и
убедительной трактовкой вещей) пространство комнаты. Система отражения в
зеркале фигур и пространственной перспективы направлена перпендикулярно
к плоскости картины и выходит за ее пределы. Создается эффект, сходный
с тем, который отметил для кинематографии Ян Мукаржовский, анализируя
случаи, при которых в кино звуковое пространство выходит за пределы
экранного и обладает большей объемностью (таковы, например, случаи, когда
на экране показывается экипаж, снятый таким образом, чтобы лошади,
располагаясь по оси, перпендикулярной к экрану, на полотно не попадали,
то есть сфотографированный камерой, расположенной на месте лошадей;
1 См.: Флоренский П. А. Обратная перспектива // Учен. зап. Тартуского гос. ун-та.
1967. Вып. 198 (Труды по знаковым системам. Т. 3); Успенский Б. А. К исследованию
языка живописи // Жегин Л. Ф. Язык живописного произведения. М., 1970;
Данилова И. От средних веков к Возрождению: Сложение художественной системы картины
мира. М., 1975.
Театральный язык и живопись
611
если звук смонтировать так, чтобы воспроизводился топот копыт, то есть
звукового пространства расположится как бы в перпендикуляре к экранному).
Именно зеркало и отраженная в нем перспектива вскрывают противоречие
между плоской природой и объемным характером изображенного на нем
мира, то есть природу языка живописи.
Сочетание зеркала и метаструктурных элементов (на полотне изображен
художник в тот момент, когда он сам наносит на полотно изображение, в
то время как объект его изображения виден зрителю отраженным в зеркале
за его спиной) позволило Веласкесу в картине «Фрейлины»1 («Менины»)
сделать предметом наглядного познания самое сущность изобразительного
языка, его отношение к объекту.
Во всех этих случаях, как и во многих других (ср., например, сферическое
зеркало, раздвигающее боковое пространство картины К. Массейса «Меняла
с женой»), зеркало, удваивая то, что до этого было удвоено кистью художника,
и, одновременно, вводя на полотно то, что, в силу специфики принятого
живописного языка, казалось бы, должно находиться за его пределами, как
бы отделяло способ изображения от изображенного. Объектом изображения
делается способ изображения. Процесс самосознания природы языка,
происходящий при этом, живо напоминает аналогичные явления в словесности
эпохи барокко.
Приведенные примеры касаются частных случаев, в совокупности своей
относящихся к проблемам риторики текста.
Риторика — одна из наиболее традиционных дисциплин филологического
цикла — в настоящее время получила новую жизнь. Необходимость связать
данные лингвистики и поэтики текста породили неориторику, в короткий
срок вызвавшую к жизни обширную научную литературу. Не затрагивая
возникающих при этом проблем во всей их полноте, выделим аспект, который
нам потребуется при дальнейшем изложении.
Риторическое высказывание, в принятой нами терминологии, не есть
некоторое простое сообщение, на которое наложены сверху «украшения»,
при удалении которых основной смысл сохраняется. Иначе говоря,
риторическое высказывание не может быть выражено нериторическим образом.
Риторическая структура лежит не в сфере выражения, а в сфере содержания.
В отличие от нериторического текста, риторическим текстом мы будем
называть такой, который может быть представлен в виде структурного
единства двух (или нескольких) подтекстов, зашифрованных с помощью разных,
взаимно непереводимых кодов. Эти подтексты могут представлять собой
локальные упорядоченности, и тогда текст в разных своих частях должен
будет читаться с помощью различных языков или выступать в качестве разных
слоев, равномерных на всем протяжении текста. В этом втором случае текст
предполагает двойное прочтение, например бытовое и символическое. К
1 Foucault M. Les mots et les choses. Paris, 1966. P. 318—319. Ср. русский текст
(без воспроизведения картины Веласкеса): Фуко М. Слова и вещи. М., 1977. С. 45—
60.
612
СТАТЬИ. ЗАМЕТКИ. ВЫСТУПЛЕНИЯ. III. Театр. Кино
риторическим текстам будут относиться все случаи контрапунктного
столкновения в пределах единой структуры различных семиотических языков.
Для риторики барочного текста характерно столкновение в пределах
целого участка языков, отмеченных разной мерой семиотичности. В
столкновении языков один из них неизменно выступает как «естественный»
(неязык), а другой в качестве подчеркнуто искусственного. В барочных храмовых
стенных росписях в Чехии можно встретить мотив: ангелочек в рамке.
Особенность живописи состоит в том, что рамка имитирует овальное окно,
а сидящая на «подоконнике» фигурка свешивает одну ножку, как бы вылезая
из рамки. Не помещающаяся внутри композиции ножка — скульптурная.
Она приделана к рисунку как продолжение. Таким образом, текст представляет
собой живописно-скульптурное сочетание, причем фон за спиной фигуры
имитирует синее небо и представляется прорывом в пространство фрески.
Выступающая объемная нога разрывает это пространство иным способом и
в противоположном направлении. Весь текст построен на игре между
реальным и ирреальным пространством и столкновении языков искусств, из
которых один представляется «естественным» свойством самого объекта, а
другой — искусственным ему подражанием.
Искусство классицизма требовало единства стиля. Барочная смена
локальных упорядоченностей представлялась варварством. Весь текст на всем
протяжении должен быть равномерно организован и кодироваться единым
способом. Это не означает, однако, отказа от риторической структуры.
Риторический эффект достигается иными средствами — многослойностью
языковой структуры. Наиболее распространенным является случай, когда
объект изображения кодируется сначала театральным, а затем уже
поэтическим (лирическим), историческим или живописным кодом.
В ряде случаев (это особенно характерно для исторической прозы,
пасторальной поэзии и живописи XVIII в.) текст представляет собой прямое
воспроизведение соответствующей театральной экспозиции или сценического
эпизода. В соответствии с жанром таким посредствующим текстом-кодом
может являться сцена из трагедии, комедии или балета. Так, полотно Антуана
Куапеля «Амур и Психея» воспроизводит балетную сцену во всей условности
зрелища этого жанра в интерпретации XVIII в. Секрет такого сближения не
следует искать в биографии живописца, бывшего также активным деятелем
театра, поскольку те же закономерности мы обнаруживаем и у других мастеров
той же эпохи, включая Ватто1.
Говоря о «театрализации» живописи определенных эпох, не следует
сводить дело к поверхностной метафоре. Вопрос имеет глубокие корни в самой
1 К явлениям живописной риторики относится также более тонкий случай взаимной
перекодировки внутри различных жанров и видов изобразительно-живописных текстов.
Так, полотна того же А. Куапеля часто просматриваются сквозь призму не только
театральной, но и гобеленной техники, живопись Домье сохраняет память о его
графике. Это можно было бы сопоставить с подчинением кинокадра структуре
средневековой армянской миниатюры в фильме «Цвет граната».
Театральный язык и живопись
613
природе театра, с одной стороны, и в сущности «промежуточного
кодирования», с другой.
Можно выделить следующие аспекты этой двуединой проблемы.
Для всякого акта семиотического осознания существенным является
выделение в окружающей действительности значимых и незначимых элементов.
Элементы, не несущие значения, с точки зрения данной системы
моделирования как бы не существуют. Факт их реального существования отступает
на задний план перед лицом их нерелевантности в данной системе
моделирования. Они, существуя, как бы перестают существовать в системе культуры.
Выделение в окружающем мире такого пласта культурно-релевантных
явлений — начальный и существенный акт любого семиотического моделирования
культуры. Для его осуществления необходимо некоторое первичное
кодирование. Оно может реализовываться путем отождествления жизненных
ситуаций с мифологическими, а реальных людей — с персонажами мифа или
ритуала. На разных этапах культуры таким посредствующим кодом может
являться этикет или ритуал («существует то, что имеет эквиваленты в
ритуале»), историческое повествование («подлинным бытием обладает то, что будет
внесено на скрижали истории»). Однако особенно активен в этом отношении
театр, соединяющий ряд названных выше систем.
Распространенным следствием того, что между жизненным объектом и
живописным полотном в качестве промежуточного кода оказывался именно
театр, явилась манера портрета, при которой модель одевалась в какой-либо
театральный костюм. Таковы многочисленные женские портреты XVIII в. в
костюмах весталок, Диан, Сафо и мужские портреты à la Тит, Александр
Македонский, Марс. То, что в качестве кодирующего механизма выступает
именно театр, а не неопределенная масса культурно-мифологических
представлений, находит подтверждение в характере костюмов, воспроизводящих
сценический реквизит, утвержденный театральной традицией XVIII в. за тем
или иным персонажем. Такая костюмная стилизация означает, что, для того
чтобы отождествиться с тем или иным значимым в системе данной культуры
характером и благодаря этому сделаться достойным кисти художника,
реальный человек должен быть уподоблен определенному известному герою
сцены. Такое кодирование оказывает обратное воздействие на реальное
поведение людей в жизненных ситуациях. Подтверждающие это примеры
многочисленны1. В интересующей нас связи любопытно указать на случаи
воздействия стилизованного условного костюма портрета на реальную моду. Так,
в распространении античной одежды в стиле ампир, à la grecque в Петербурге
решающую роль сыграли портреты Е.-Л. Виже-Лебрен. Они оказались сильнее
правительственных запретов, и Мария Федоровна явилась на интимный ужин
11 марта 1801 г. (последний в жизни Павла Первого!) в запрещенном
«античном» платье.
1 См. в наст. изд. статьи «Театр и театральность в строе культуры начала XIX
века» и «Сцена и живопись как кодирующие устройства культурного поведения
человека начала XIX столетия»; Francastel P. La réalité figurative / Ed. Gonthier. Paris,
1965 (Troisième partie).
614
СТАТЬИ. ЗАМЕТКИ. ВЫСТУПЛЕНИЯ. III. Театр. Кино
Другим моментом являлся набор сюжетов и связанное с ним представление
о живописной тематике. При отборе того, что с точки зрения той или иной
культурной системы достойно сделаться объектом изображения, и того, как
этот объект должен быть изображен, какой момент или состояние его являются
«живописными», существенную роль играет предварительное кодирование
его в системе другого художественного языка, чаще всего театрального или
литературного.
Существенным моментом выделения «живописной ситуации» является
сегментация того потока времени, в который данный объект включен в
своем реальном бытии. Непрерывности и безостановочное™ временного
потока, в который погружен объект изображения, противостоит вычлененный
и остановленный момент изображения. Психологическим инструментом
реализации этого переключения часто является предварительное осознание
жизни как театра. Имитируя динамическую непрерывность реальности,
театр одновременно дробит ее на отрезки, сцены, вычленяя тем самым в ее
непрерывном потоке целостные дискретные единицы. Внутри себя такая
единица мыслится как имманентно замкнутая, обладающая тенденцией к
остановленное™ во времени. Не случайны такие названия, как «сцена»,
«картина», «акт», в равной мере охватывающие области как театра, так и
живописи.
Между недискретным потоком жизни и выделением дискретных
«остановленных» моментов, что характерно для изобразительных искусств, театр
занимает промежуточное положение. С одной стороны, он отличается от
картины и сближается с жизнью непрерывностью и движением, с другой,
отличается от жизни и сближается с картиной разделенностью потока действия
на сегменты, всякий из которых в каждый отдельный момент тяготеет к
композиционной организованности внутри любого синхронного среза
действия: вместо непрерывного потока внехудожественной реальности мы имеем
как бы серию отдельных, имманентно организованных картин с мгновенными
переходами от одного живописного решения к другому.
Промежуточное положение театра между движущимся и недискретным
миром реальности и неподвижным и дискретным миром изобразительных
искусств определило факт постоянного обмена кодов, с одной стороны,
между театром и реальным поведением людей и, с другой стороны, между
театром и изобразительным искусством. Следствием этого явилось то, что
жизнь и живопись в целом ряде случаев общаются между собой при посредстве
театра, выполняющего при этом функцию промежуточного кода,
кода-переводчика.
Взаимодействие театра и поведения имеет результатом то, что рядом с
постоянно действующей в истории театра тенденцией уподобить сценическую
жизнь реальной столь же константной оказывается противоположная —
уподобить реальную жизнь (или определенные ее сферы) театру. Последняя
тенденция делается особенно ощутимой в культурах, вырабатывающих ярко
выраженные области ритуализованного поведения. Если в истоках своих
театральное действие восходит к ритуалу, то в дальнейшем историческом
развитии часто происходит обратное заимствование: ритуал впитывает нормы
Театральный язык и живопись
615
театра. Например, придворный церемониал создаваемого Наполеоном I
императорского двора открыто ориентировался не на преемственность традиций
с разрушенным революцией королевским придворным этикетом, а на нормы
изображения французским театром XVIII в. двора римских императоров. В
разработке этикета активное участие принимал Тальма. Балет властно
вторгался в область военного учения, парада. Театральная зрелищность
захватывала даже столь чуждую, казалось бы, ей сферу боевой практики. Лермонтов
описал чувство зрителей, смотрящих на «сшибку боевую»
Без кровожадного волненья, как на трагический балет.
Если эпоха классицизма резко разграничивала области ритуализованно-
го и практического поведения, то романтизму было свойственно
проникновение театральных норм поведения в бытовую сферу. С одной стороны,
упразднялась замкнутая область «высокого» государственного поведения, а
с другой, ритуализовалась «средняя» по стилю сфера любовного, дружеского
поведения, ситуации типа «общение с природой» или одиночество «средь
шумного бала».
Возникновение «театра повседневного поведения» меняло взгляд человека
на самого себя. В жизни выделялись «поэтические» моменты и ситуации,
которые объявлялись единственно значимыми и даже единственно
существующими. В «непоэтические» моменты человек как бы уходил за кулисы и, с
точки зрения разыгрываемой на сцене «пьесы жизни», как бы переставал
существовать до нового выхода. Так, в сознании романтика эпохи
наполеоновских войн боевая жизнь значима и обладает подлинной реальностью (то
есть может стать содержанием разного рода текстов) только как цепь
героических, возвышенно-трагических и трогательных сцен. Именно потому
производило такое впечатление на читателей изображение войны Стендалем или
Толстым, что они переносили сценическую площадку за кулисы, утверждая,
что именно там происходит подлинное бытие, а на сцене совершается лишь
«как бы существование», мнимая жизнь.
«Подлинной реальностью» обладали не только определенные ситуации,
но и свойственные данной эпохе стабильные наборы амплуа. Для того чтобы
существовать («am kräftigsten existieren»1, как писал Лафатер Карамзину),
человек должен добавить к своему физическому бытию знаковое. Лафатер
при этом имел в виду простое удвоение («глаз наш не так устроен, чтобы
видеть себя без посредства зеркала», — писал он). В определенные
культурные эпохи это достигается отождествлением своей личности с какой-либо
значимой в данной системе типовой ролью:
...себеприсвоя
Чужой восторг, чужую грусть,
Воображаясь героиней
Своих возлюбленных творцов,
Кларисой, Юлией, Дельфиной,
1 «В сильнейшем существовании» (нем.).
616
СТАТЬИ. ЗАМЕТКИ. ВЫСТУПЛЕНИЯ. III. Театр. Кино
Татьяна в тишине лесов
Одна с опасной книгой бродит.
Выбор роли сопровождался выбором жеста. Выделялась область
«значимых движений» — жестов, в отличие от движений чисто бытовых и не
сопряженных ни с каким значением1.
Критика классицизма как «века позы» совсем не означает отказа от
жеста, — просто сдвигается область значимого: ритуализация, семантическое
содержание перемещаются в те сферы поведения, которые прежде
воспринимались как полностью внезнаковые. Простая одежда, небрежная поза,
трогательное движение, демонстративный отказ от знаковое™, субъективное
отрицание жеста делаются носителями основных культурных значений, то
есть превращаются в жесты. У Лермонтова «все движения» героини «полны
выраженья» и «милой простоты» одновременно («милая простота» — отказ
от жестовости, но одухотворенность этих движений, их исполненность
значения превращает их в жесты нового типа; это можно было бы сопоставить
с отказом от системы жеста, выработанного для сцены Каратыгиным, и
переходом к «искренним» жестам Мочалова).
...то ли дело
Глаза Олениной моей!
Какой задумчивый в них гений,
И сколько детской простоты,
И столько томных выражений,
И сколько неги и мечты!..
Потупит их с улыбкой Леля —
В них скромных граций торжество;
Поднимет — ангел Рафаэля
Так созерцает божество.
Показательно здесь, при демонстративном утверждении «детской
простоты» как высшей ценности, введение живописно-театрального кода для
истолкования смысла того, что без него имеет только физическое бытие: «ангел
Рафаэля» — отсылка к «Сикстинской мадонне», известной Пушкину по
гравюрам (вероятно, сыграли роль и литературные описания), Лель —
«славянский Амур» (здесь, возможно, вообще Амур) — отсылка к живописной и
театрально-балетной традиции.
Создается треугольник: реальное поведение человека в данной системе
культуры — театр — изобразительные искусства, внутри которого
происходит интенсивный обмен символикой и средствами выражения. Театральность
проникает в быт и влияет на живопись, быт воздействует на то и другое,
выдвигая лозунг «натуральности», наконец, живопись и скульптура активно
влияют на театр, определяя систему поз и движений, и на внехудожественную
реальность, поднимая ее до уровня «имеющей значение».
1 См.: Данилова Я. От средних веков к Возрождению: Сложение художественной
системы картины кватроченто. М., 1975. С. 50—51.
Театр и театральность в строе культуры начала XIX века 617
Весьма существенно при этом, что, переходя в другую сферу, та или иная
значимая структура сохраняет связь со своим естественным контекстом. Так
возникают «театральность» жеста на картине и в жизни, «живописность»
театра или самой жизни, «естественность» сцены и полотна. Именно такая
двойная отнесенность к различным семиотическим системам создает ту
риторическую ситуацию, в которой заключается мощный источник выработки
новых значений.
Риторика — перенесение в одну семиотическую сферу структурных
принципов другой — возможна и на стыке прочих искусств. Исключительно
большую роль играет здесь вся сумма семиотических процессов на границе
«слово/изображение». Например, сюрреализм в живописи в определенном
смысле можно истолковать как перенесение в чисто изобразительную сферу
словесной метафоры и чисто словесных принципов фантастики. Однако
именно потому, что сочетание словесного принципа и риторики представляется
естественным, нам казалось полезным показать возможность риторического
построения вне связи со словом.
1979
Театр и театральность в строе
культуры начала XIX века
Памяти П. Г. Богатырева
В работе «Народный театр чехов и словаков» П. Г. Богатырев писал:
«Одним из главных и основных театральных признаков всякого театрального
действа является перевоплощение: актер свой личный образ, костюм, голос
и даже психологические черты характера меняет на облик, костюм, голос и
характер исполняемого им в пьесе лица»1. Перевоплощение происходит не
только с актером: весь мир, становясь театральным миром, перестраивается
по законам театрального пространства, попадая в которое, вещи становятся
знаками вещей.
В своих работах П. Г. Богатырев неоднократно рассматривал процессы
воздействия внетеатрального мира на театральный и наоборот. Театрализация
и ритуализация определенных сторон внетеатрального мира, ситуация, в
которой театр становится моделью жизненного поведения, постоянно
привлекала его внимание. Это имел в виду автор настоящей работы, посвящая
ее памяти Петра Григорьевича Богатырева.
1 Богатырев П. Г. Вопросы теории народного искусства. М., 1971. С. 14.
618
СТАТЬИ. ЗАМЕТКИ. ВЫСТУПЛЕНИЯ. III. Театр. Кино
***
Хотя объективно искусство всегда тем или иным способом отражает
явления жизни, переводя их на свой язык, сознательная установка автора и
аудитории в этом вопросе может быть троякой.
Во-первых, искусство и внехудожественная реальность рассматриваются
как области, разница между которыми столь велика и принципиально
непреодолима, что самое сопоставление их исключается. Например, до
последней войны в Екатерининском царскосельском дворце хранился портрет
императрицы Елизаветы (кисти Каравака)1, в котором лицо, выполненное с
сохранением портретного сходства, было соединено с совершенно
обнаженным телом Венеры. Для художественного сознания более поздних эпох такое
полотно должно было казаться неприличным, а учитывая положение
изображенной на нем особы — и прямо дерзким. Однако зрители XVIII в.
смотрели на картину иначе. Им и в голову не могло прийти увидеть в
обнаженном женском теле изображение реального тела Елизаветы Петровны.
Они видели в картине соединение текстов с двумя различными мерами
условности: лицо было портретно и, следовательно, отнесено к определенной
внешней реальности как иконическое ее изображение, тело же вписывалось
в нормы аллегорической живописи, которая оперировала эмблемами,
являющимися символами предметов, а не их изображениями. Как лицо
Екатерины II и орел у ее ног на известной картине Левицкого дают различную меру
условности (лицо изображает лицо, а орел изображает власть), так и лицо
и тело на портрете Елизаветы по-разному соотносились с миром внехудоже-
ственной реальности.
Таким образом, там, где изобразительные искусства или театр (как,
например, в балете) оперируют заведомо условными знаками и отношение
между изображением и содержанием определяется не подобием, а
исторической конвенцией, возможность «спутать» эти два плана исключается, и между
полотном и зрителем, сценой и залом возникает непреодолимая грань.
Художественное и внехудожественное пространства отделены столь резкой
чертой, что могут лишь взаимосоотноситься, но не взаимопроникать.
Во-вторых, сфера искусства рассматривается как область моделей и
программ. Активное воздействие направлено из сферы искусства в область
внехудожественной реальности. Жизнь избирает себе искусство в качестве
образца и спешит «подражать» ему.
В-третьих, жизнь выступает как область моделирующей активности —
она создает образцы, которым искусство подражает. Если во втором случае
искусство дает формы жизненному поведению людей, то в третьем формы
жизненного поведения определяют поведение сценическое.
Сознавая всю условность такой характеристики, можно сопоставить
первый случай с классицизмом, второй — с романтизмом и третий — с
реализмом.
1 Пользуюсь случаем выразить благодарность В. М. Глинке за ценные консультации.
Театр и театральность в строе культуры начала XIX века
619
Историки литературы и искусства часто говорят о «классицизме» или
«неоклассицизме» культуры начала XIX в. Б. В. Томашевский считал стиль
ампир возрождением классицизма в литературе и архитектуре начала XIX в.1
Л. Я. Гинзбург пишет: «Карамзинисты, конечно, не классики по содержанию
и по форме своего искусства, но они классики по своей исторической функции,
по той роли, которую им пришлось играть в литературе 1810-х годов, куда
они внесли дух систематизации и организованности, нормы „хорошего вкуса"
и логическую дисциплину. Для решения этих задач им и понадобилась
(разумеется, в смягченном виде) стройная стилистическая иерархия
классицизма»2.
Исследователи культуры отмечают новую волну увлечения античностью3.
При этом обычно цитируют известное место из мемуаров Вигеля: «Новые
Бруты и Тимолеоны захотели, наконец, восстановить у себя образцовую для
них древность <...> Везде показались алебастровые вазы с иссеченными
мифологическими изображениями, курительницы и столики в виде
треножников, курульские кресла, длинные кушетки, где руки опирались на орлов,
грифонов или сфинксов»4. «Увлечение классицизмом было так сильно в
России, что все художники, работавшие в этом направлении, пользовались
огромным успехом у своих современников. Мартос и гр. Ф. Толстой образуют
границы, в которых заключена история русского стиля Империи»5.
С. Н. Глинка в своих мемуарах интересно сблизил культ античности
1800-х гг., с одной стороны, с гражданственностью и свободолюбием, а с
другой, с культом военной славы, которая в первые годы нового века
облекалась в формы бонапартизма (национальные интересы России и
Франции еще не пришли в столкновение; ср. бонапартизм Пьера и Андрея
Болконского в начале «Войны и мира»): «Голос добродетелей Древнего Рима,
голос Цинциннатов и Катонов громко откликался в пылких и юных душах
кадет <...> Древний Рим стал и моим кумиром. Не знал я, под каким живу
правлением, но знал, что вольность была душою римлян». И далее: «Кто от
юности знакомился с героями Греции и Рима, тот был тогда бонапартистом»6.
Этот «воинственный классицизм» определил, например, трактовку
русского архитектурного ампира в начале XIX в.: «Памятники, фронтоны и
карнизы домов украшаются алягреками, львиными мордами, шлемами,
щитами, копьями и мечами. Даже на церковных стенах появляются атрибуты
войны»7. Еще более заметен поворот к классицизму в западноевропейской
культуре. Во Франции, где классицизм, выйдя за рамки культуры
определенной эпохи, приобрел значение национальной традиции, эта тенденция, по
1 См.: Батюшков К. Н. Стихотворения. Л., 1936. С. 28—29; Томашевский Б. В.
Пушкин и Франция. Л., 1960. С. 107.
2 Гинзбург Л. О лирике. М.; Л., 1964. С. 18—19.
3 Kazoknieks M. Studien zur Rezeption der Antike bei russischen Dichtern zu Beginn
des XIX Jahrhunderts. München, 1968. S. 73.
4 Вигель Φ. Φ. Записки. M., 1928. T. 1. С. 177—179.
5 Грабарь И. Э. История русского искусства. М., (б. г.). Вып. 10. С. 171.
6 Записки Сергея Николаевича Глинки. СПб., 1895. С. 61—63, 194.
7 Грабарь И. Э. История русского искусства. Вып. 10. С. 171.
620
СТАТЬИ. ЗАМЕТКИ. ВЫСТУПЛЕНИЯ. III. Театр. Кино
сути, не прерывалась, лишь меняя свою окраску при переходе от Революции
к Империи. Но и Германия, пережив штюрмерское отрицание классических
форм культуры, вновь обратилась к ним в творчестве позднего Шиллера,
Гёте.
Итак, может показаться, что традиция классицизма или продолжалась
без перерыва (Франция), или была реставрирована в сравнительно неизменном
виде (Россия, Германия). Такое заключение было бы весьма ошибочным.
В ряде исследований отмечалось уже, что «неоклассицизм» был, несмотря
на свои декларации, по сути дела, замаскированным романтизмом (ср.,
например, работы Г. А. Гуковского). Для специальных задач настоящей
статьи нам нет надобности рассматривать вопрос во всей его полноте.
Остановимся лишь на одном его аспекте.
При сходстве, в ряде случаев, структуры текста произведений классицизма
и неоклассицизма, если рассматривать их имманентно, решительно меняется
прагматика текста, отношение к нему аудитории и формула соответствия с
внетекстовой реальностью.
Как я уже отмечал, классицизм разгораживал искусство и жизнь
непреодолимой гранью. Это приводило к тому, что, восхищаясь театральными
героями, зритель понимал, что их место — на сцене, и не мог, не рискуя
показаться смешным, подражать им в жизни. На сцене господствовал героизм,
в жизни — приличие. Законы и того и другого были строги и неукоснительны
для художественного или театрального пространства. Напомним шутку
Г. Гейне, который говорил, что современный Катон, прежде чем зарезаться,
понюхал бы, не пахнет ли нож селедкой. Смысл остроты — в смешении
несоединимых сфер героизма и хорошего тона.
Когда Сумароков в разгар своего конфликта с московским
главнокомандующим Салтыковым (1770) написал патетическое письмо Екатерине II,
императрица резко указала ему на «неприличие» перенесения в жизнь норм
театрального монолога. «Мне, — писала она драматургу, — всегда приятнее
будет видеть представление страстей в ваших драмах, нежели читать их в
письмах». А воспитанный в той же традиции великий князь Константин
Павлович много лет спустя писал своему наставнику Лагарпу: «Никто в мире
более меня не боится и не ненавидит действий эффектных, коих эффект
рассчитан вперед, или действий драматических, восторженных»1.
Между тем в начале XIX в. грань между искусством и бытовым поведением
зрителей была разрушена. Театр вторгся в жизнь, активно перестраивая
бытовое поведение людей. Монолог проникает в письмо, дневник и бытовую
речь. То, что вчера показалось бы напыщенным и смешным, поскольку
приписано было лишь сфере театрального пространства, становится нормой
бытовой речи и бытового поведения. Люди Революции ведут себя в жизни,
как на сцене. Когда Жильбер Ромм, приговоренный к гильотине, закалывается
и, вырвав кинжал из раны, передает его другу, он повторяет подвиг античного
героизма, известный людям его эпохи по многочисленным отражениям в
1 Сб. Имп. Русского Исторического общества. СПб., 1870. Т. 5. С. 66.
Театр и театральность в строе культуры начала XIX века
621
театре, поэзии и изобразительном искусстве1. Искусство становится моделью,
которой жизнь подражает.
Примеры того, как люди конца XVIII — начала XIX в. строят свое
личное поведение, бытовую речь, в конечном счете, свою жизненную судьбу
по литературным и театральным образцам, весьма многочисленны. Тот, кто
занимался историей бытовых текстов той поры, знает, как резко меняется
их стиль, приближаясь к нормам, выработанным в чисто литературной сфере.
Приведем лишь один пример, заимствованный из уже цитировавшихся
мемуаров Сергея Глинки и интересный двойной закодированностью: нормы
античного героизма, почерпнутые из литературных текстов, становятся
моделью, на которую ориентируется реальное поведение людей, вовлеченных в
практические бытовые ситуации русской жизни 1790-х гг. Но это поведение
дано нам в словесном пересказе. Рассказчик мог бы интерпретировать
содержание рассказа с разных точек зрения: он мог сообщить о своем герое
как о носителе старинной добродетели (в антитезе «щеголям» и модным
циникам), как о чудаке или даже безумце или каким-либо иным способом.
Но он принимает «античный» ключ, согласуя точку зрения повествователя
с позицией того, о ком повествуется. «Были у нас свои Катоны, были
подражатели доблестей древних греков, были свои Филопемены. Был у нас
Катон-Гине, поступивший из кадет в корпусные офицеры и в учителя
математики. Если бы он был на месте Регула, то, вероятно, и ему довелось бы
проситься из стана ратного у сената римского распахать и обработать ниву
свою. Кроме жалованья не было у него ничего; но был у него брат, ценимый
им свыше всех сокровищ. Взаимная их любовь как будто бы осуществила
Кастора и Поллукса. Но это герои баснословные. На поприще исторической
любви братской Гине стал на ряду с Катоном Старшим, который на три
предложенные ему вопроса: кто лучший друг? отвечал: брат, брат и брат.
Брат нашего Катона-офицера служил в Кронштадте и опасно занемог. Весть
о болезни брата поразила нашего Катона-Гине.
Свирепствовали трескучие крещенские морозы. Залив крепко смирился
под ледяным помостом. Саней не на что было нанять, но была душа, двигавшая
и ноги, и сердце, и Гине отправился к брату пешком, в одних сапогах и даже
без чулок. Можно было взять у кого-либо теплые сапоги и деньги? Но что
такое просить? Одолжиться. Древний римлянин терпел, а не просил. С
небольшим в полтора суток Гине перешел залив, навестил, обнял брата и
возвратился в корпус к назначенному дню дежурства. Хотя и оказались
признаки горячки, хотя и уговаривали его отдохнуть и вызывались отдежурить
за него, он отвечал: „Не изменю должности моей". Отдежурил и слег в постель,
в бреду жестокой горячки видел непрестанно брата, говорил с ним и с именем
1 Ср. у Радищева:
И се Ария сталь остру
В грудь свою вонзает смело:
Приими, мой Пет любезной,
Нет, не больно...
(Поли. собр. соч.: В 3 т. М.; Л., 1938. Т. 1. С. 112—113).
622
СТАТЬИ. ЗАМЕТКИ. ВЫСТУПЛЕНИЯ. III. Театр. Кино
его испустил последнее дыхание». И далее: «И герой 12-го года, Кульнев, шел
в корпусе по следам Фабриция и Эпаминонда. Подобно фивскому Эпаминонду,
любил он мать свою и делился с нею жалованьем и, подобно Филопемену,
был прост в одежде и в быту общественном <...> Оживляя в своем лице
Эпаминонда и Филопемена и породнясь душою с Фабрицием, Кульнев дорожил
своею бедностью и называл ее „величием Древнего Рима". Когда сослуживцы
его напрашивались к нему на обед, он говорил: „Щи и каша есть, а ложки
привозите свои". Плутарх был с ним неразлучен: с его „Жизнями великих
мужей" отдыхал он на скромном плаще своем и с ними ездил в почтовой
повозке и у них перенял то чувство, которое находило величие в нуждах
жизни и бедности»1. Эта «римская» поэзия бедности, придававшая
материальной нужде театральное величие, была в дальнейшем свойственна многим
декабристам (например, Ф. Глинке), но ей решительно оставались чужды
разночинцы-интеллигенты следующего поколения. Трактовка С. Глинкой
поведения Кульнева интересна еще и тем, что другие современники
«расшифровывали» его действия в совсем ином ключе, например видя в них
«чудачества» в духе Суворова. Вспоминаются известные стихи Дениса Давыдова:
Поведай подвиги усатого героя,
О муза, расскажи, как Кульнев воевал,
Как он среди снегов в рубашке кочевал
И в финском колпаке являлся среди боя.
Пускай услышит свет
Причуды Кульнева и гром его побед2.
О социальных причинах «античного маскарада» писал К. Маркс в
«Восемнадцатом брюмера Луи Бонапарта». Однако «римская помпа» (В. Г.
Белинский) была частью более широкого движения, центром которого оказался
литературный романтизм и которое превращало художественные тексты в
программы жизненного поведения: пушкинский Сильвио подражал не
античным героям, а персонажам Байрона и Марлинского, но принцип подражания
литературе сохранился. Интересно, что герои произведений Гоголя, Л. Толс-
1 Записки Сергея Николаевича Глинки. С. 61—63. Примером активного воздействия
«античной» модели на реальное поведение людей той эпохи может быть знаменитая
дуэль Чернова и Новосильцева. Само условие дуэли было необычным, окрашенным
в суровые, почти римские тона гражданственности и долга: Новосильцев должен был
стреляться насмерть с братьями своей невесты по старшинству, а если бы ему удалось
их всех перебить, то и со стариком-отцом. Это напоминало не светский поединок,
жертвой которого бывал
...приятель молодой
Нескромным взглядом иль ответом,
Или безделицей иной
Вас оскорбивший за бутылкой.
Вероятнее, что современникам на память приходил бой Горациев и Куриациев.
Параллель была тем ощутимей, что и у Тита Ливия братья-патриоты, сражаясь против
врагов Рима, должны были убить жениха своей сестры. Сама Чернова покончила с
собой, как Лукреция.
2 Давыдов Д. Соч. М., 1962. С. 64.
Театр и театральность в строе культуры начала XIX века 623
того, Достоевского, то есть текстов, которые сами подражают жизни,
читательского подражания не вызвали.
Особенную роль в культуре начала XIX в. в общеевропейском масштабе
сыграл театр. Это тем более показательно, что роль театра ни в коей мере
в эту эпоху не пропорциональна месту драматургии в общей системе
литературных текстов. Театрализуется эпоха в целом. Специфические формы
сценичности уходят с театральной площадки и подчиняют себе жизнь. В первую
очередь это относится к культуре наполеоновской Франции. Когда русские
путешественники после Тильзита оказались в Париже, их поразила ритуали-
зованность и пышность тюльерийского двора, очень далекая от нарочитой
простоты петербургской придворной жизни при Александре I (привыкшие к
пышности екатерининского двора, люди старшего поколения видели в этом
проявление скупости императора). Подробное описание впечатления, которое
оставлял парижский придворный ритуал у русских путешественников, дает
граф Ε. Ф. Комаровский в своих мемуарах: «Съезд во дворец был премного-
людный; весь дипломатический корпус, все первые члены, военные, штатские
и придворные составляли двор превеликолепным. Несколько маршалов в
мантиях, полном своем мундире, и всякий из них с жезлом в руке, придавали
оному еще более величия. Придворный мундир был красного цвета с
серебряным шитьем по борту и обшлагам. Посреди сего двора, блестящего золотом
и серебром, Наполеон в простом офицерском, егерского полка мундире делал
величайшую оттенку <...> Ничто не было величественнее и вместе с тем
воинственнее, как вид на каждой ступени высокой лестницы Тюльерийского
дворца стоявших по обеим сторонам в медвежьих шапках гренадер
императорской гвардии, мужественного и марциального вида, украшенных медалями
и шевронами». Далее описывается ритуал представления императрице
Жозефине и принцессам: «Когда партии в карты были составлены, то отворялись
обе половинки двери, и все мужчины и дамы должны были идти по одиночке
отдать, — так называлось, — поклон императрице, обеим королевам: гиш-
панской, голландской и принцессе Боргезе, которые отвечали небольшим
поклоном. В сие время Наполеон стоял в той же комнате и как будто всем
делал инспекторский смотр <...> Для дам сия церемония была весьма
затруднительна, ибо они, не оборачиваясь, а только отталкивая ногой предлинные
хвосты их платьев, должны были маневрировать. Императрицын стол был один в
поперечной стене комнаты, а прочие три — в продольной. Стало быть,
надлежало дамам сделать три поклона, идя прямо к столу императрицы; потом,
поворотясь несколько направо, сделать каждой из королев и принцессе по
одному поклону, переходя боком от одной до другой, и идти задом до дверей»1.
Интересное объяснение театральности придворной жизни Наполеона дала
Жанлис: «После падения трона установили этикет и придворные правила,
следуя тому, что наблюдали, проходя и опустошая чужие царства; титулы
высочества, превосходительства и камергеры стали у нас столь же
обыкновенными, как в Германии и Италии <...> В Тюльери можно было видеть
1 Комаровский Ε. Ф. Записки. СПб., 1914. С. 159—165.
624
СТАТЬИ. ЗАМЕТКИ. ВЫСТУПЛЕНИЯ. III. Театр. Кино
странную смесь чужих этикетов. Придворный церемониал был пополнен еще
прибавлением многого из театральных обычаев. Один остроумный человек
заметил в это время, что церемониал представления ко двору был точной
имитацией представления Энея царице карфагенской в опере „Дидона".
Известно, что к одному известному актеру часто обращались за советами
относительно костюмов, которые изобретались для торжественных дней»1.
Однако не придворный этикет был основной сферой проникновения
эстетического и театрального момента в нехудожественную жизнь — такой
сферой была война.
Наполеоновская эпоха внесла в военные действия, кроме собственно
присущих им моментов, бесспорный элемент эстетического. Только учитывая
это, мы поймем, почему писателям следующего поколения — Мериме,
Стендалю, Толстому — потребовалась такая творческая энергия для деэстетизации
войны, совлечения с нее покрова театральной красивости. Война в общей
системе культуры наполеоновской эпохи была огромным зрелищным действом
(конечно, не только и не столько им). Контраст между двором в Тюльери,
генералитетом, на поле сражения разодетым в театрально-пышные мундиры,
с одной стороны, и буднично одетым в «рабочий» мундир императором, с
другой, сразу же выключал Наполеона из театрализованного пространства
и подчеркивал, кто являются актерами, а кто — режиссером этого огромного
спектакля. Напомним, что условия и нормы войны тех лет делали далеко не
всякое пустое пространство пригодным для того, чтобы стать «пространством
войны». Наиболее подходящим считался гигантский естественный амфитеатр
типа аустерлицкого или бородинского поля. Располагавшиеся на высотах
главнокомандующие оказывались в положении и режиссеров, и зрителей. На
эту возможность позиций «зрителя» и «актера» в бою, прямо сопоставив их
с театром, указал еще Феофан Прокопович, говоря о личном участии Петра I
в Полтавской битве и простреленной шляпе императора: «Не со стороны,
аки на позорищи стоит, но сам в действии толикой трагедии»2.
«Толикая трагедия», разыгравшаяся на полях Европы, активно
формировала психологию людей начала XIX в., в частности приучала их смотреть
на себя как на действующих лиц истории, «укрупняла» их в собственных
глазах, приучала к сознанию собственного величия, и это не могло не
сказаться на их политическом самосознании в дальнейшем. Показательно,
что и Денис Давыдов, желая определить сущность партизанской войны,
прибег к сравнению, подчеркивающему эстетическое восприятие «малой
войны»: «Сие исполненное поэзии поприще требует романического вообра-
1 Dictionnaire critique et raisonné des étiquettes de la cour <...> ou l'esprit des étiquettes
et des usages anciens, comparés aux modernes / Par m-me la Contesse de Genlis. Paris,
1818. T. 1. P. 18—19. (Словарь этот не оправдывает своего пышного названия —
фактические сведения в нем часто заменяются пошлыми моралистическими
рассуждениями. «Известный актер» — Тальма.)
2 Феофана Прокоповича, архиепископа Великого Новгорода и Великих Лук,
святейшего правительствующего синода вице-президента, а потом первенствующего члена
Слова и Речи. СПб., 1760. Ч. 1. С. 158.
Театр и театральность в строе культуры начала XIX века 625
жения, страсти к приключениям и не довольствуется сухою, прозаическою
храбростию. — Это строфа Байрона!»1
Правда, Денис Давыдов, демонстративно отвергавший «античное»
осмысление Отечественной войны (свойственное русскому ампиру, например
известным барельефам Ф. Толстого)2, не строил свое личное поведение по
римским моделям. Для него образцом сделался не русский дворянин, ведущий
себя как Катон или Аристид, а русский дворянин, подражающий в поведении
человеку из народа: «Я на опыте узнал, что в Народной войне должно не
только говорить языком черни, но приноравливаться к ней в обычаях и в
одежде. Я надел мужичий кафтан, стал отпускать бороду, вместо ордена
св. Анны повесил образ св. Николая и заговорил с ними языком народным»3.
С этим можно сопоставить предложение Рылеева, выходя 14 декабря на
площадь, надеть «русский кафтан». Как и позднее у славянофилов, здесь был
значим самый факт перевоплощения, поскольку Рылеев, конечно, не
рассчитывал, что его в таком костюме могут посчитать человеком из народа. Не
случайно Николай Бестужев назвал этот план «маскарадом»4.
Эстетическая, игровая сущность такого поведения заключалась в том,
что, становясь Катоном, Брутом, Пожарским, Демоном или Мельмотом и
видя себя в соответствии с этой принятой на себя ролью, русский дворянин
не переставал одновременно быть именно русским дворянином своей эпохи.
Эта двойственность поведения, столь свойственная целому поколению и ярко
проявившаяся, например, в Якубовиче, вызвала немало нареканий, далеко
не всегда справедливых, со стороны людей эпохи Добролюбова и Базарова.
Одним из ярких проявлений «театральности» повседневного поведения
было обостренное чувство антракта. Следует отметить, что ощущение
театральности как смены меры условности поведения было особенно присуще
культуре XVIII — начала XIX в. с ее обыкновением совмещать в одном
театральном представлении трагедию, комедию и балет, причем «один и тот
же исполнитель декламировал в трагедии, острил в водевиле, пел в опере и
позировал в пантомиме»5. Чтобы понять всю остроту чувства перевоплощения,
к этому следует добавить, что театрал той поры знал актера или актрису
как человека, в антракте любил забежать за кулисы. Следует также напомнить,
что в актерской игре высоко ценилось именно это искусство перевоплощения,
что делало грим обязательным элементом театра. В актере ценилось умение
отрешиться от собственной системы поведения и включиться в
условно-традиционное поведение, предписанное данному типу персонажа. Очень
показательны оценки актерской игры, сообщенные таким искушенным театралом,
как С. Т. Аксаков: «Самым интересным спектаклем после „Двух Фигаро"
1 Давыдов Д< Опыт теории партизанского действия / 2-е изд. М., 1822. С. 88.
2 Ср. его утверждение: «Спорные дела государств решаются ныне не боем Горациев
и Куриациев» (Там же. С. 46).
3 Давыдов Д. Соч. С. 320.
4 Воспоминания Бестужевых. М.; Л., 1951. С. 36.
5 Гроссман Л. Пушкин в театральных креслах: Картины русской сцены 1817—1820
годов. Л., 1926. С. 6.
626
СТАТЬИ. ЗАМЕТКИ. ВЫСТУПЛЕНИЯ. III. Театр. Кино
была небольшая комедия „Два Криспина", сыгранная вместе с какой-то
пьесой. Двух Криспинов играли знаменитые благородные актеры-соперники:
Ф. Ф. Кокошкин и А. М. Пушкин, который, так же, как и Кокошкин, перевел
одну из Мольеровых комедий — „Тартюф" и также с переделкою на русские
нравы. Любители театрального искусства долго вспоминали этот „бой
артистов". Следовало бы кому-нибудь одержать победу и кому-нибудь быть по-
беждену; но публика разделилась на две равные половины, и каждая своего
героя считала и провозглашала победителем. Почитатели Пушкина говорили,
что Пушкин гораздо лучше Кокошкина, потому, что был ловок, жив, любезен,
прост и естествен в высшей степени. Все это правда, и в этом отношении
Кокошкин не выдерживал никакого сравнения с Пушкиным. Но почитатели
Кокошкина говорили, что он худо ли, хорошо ли, но играл Криспина, а Пушкин
сыграл — Пушкина, что также была совершенная правда, из чего следует
заключить, что оба актера в Криспинах были неудовлетворительны. Крис-
пин — известное лицо на французской сцене; оно игралось и теперь играется
(если играется) по традициям; так играл его и Кокошкин, но, по-моему, играл
неудачно именно по недостатку естественности и жизни, ибо и в исполнении
самих традиций должна быть своего рода естественность и одушевление.
Пушкин решительно играл себя или, по крайней мере, — современного ловкого
плута; даже не надевал на себя известного костюма, в котором всегда является
на сцену Криспин: одним словом, тут и тени не было Криспина»1.
Смена типа игрового поведения, обостряющая чувство условности, и
проблемы антракта и рампы — границ игрового пространства на подмостках
театра и во времени — органически связаны.
Для бытового поведения русского дворянина конца XVIII — начала XIX в.
характерны и прикрепленность типа поведения к определенной «сценической
площадке», и тяготение к «антракту» — перерыву, во время которого семи-
1 Аксаков С. Т. Собр. соч.: В 4 т. М., 1956. Т. 4. С. 47—48. Искусством
перевоплощений славился Сосницкий. В 1814 г. он, еще молодым актером, изумил зрителей,
исполнив в одной комедии восемь различных ролей. Если примером грубого вторжения
театральности в сферу нетеатрал ьной, обыденной жизни может быть появление на
петербургском немаскарадном балу начала 1820-х гг. переряженных грузинскими
крестьянами Кокошкина и семьи Клейнмихелей, которые повалились в ноги Аракчееву,
благодаря его за счастливую жизнь, то можно привести и показатели тонкого чувства
сценической условности и театральной семиотики. Только при очень высокой культуре
театра как особой знаковой системы могло возникнуть зрелище, пикантность которого
была в превращении человека в знак самого себя. С Т. Аксаков вспоминает об
интермедии, данной московскими артистами и театралами в день рождения Д. В.
Голицына: «Эта интермедия отличалась тем, что некоторые лица играли самих себя:
А. А. Башилов играл Башилова, Б. К. Данзас — Данзаса, Писарев — Писарева,
Щепкин — Щепкина и Верстовский — Верстовского, сначала прикидывающегося
отставным хористом Реутовым» (Там же. С. 125—126). Между этим случаем и «игрой
самого себя» А. М. Пушкиным — принципиальная разница: Пушкин изображал себя
невольно, не умея отрешиться от своего поведения. В результате знаковое поведение
(роль) низводилось до обычного. На вечере в честь Голицына актеры играли самих
себя, то есть возводили свое обычное поведение на степень знака своей личности.
Театр и театральность в строе культуры начала XIX века 627
«этичность поведения снижается до минимума. Для того чтобы оценить эти
свойства в полной мере, стоит вспомнить поведение «нигилиста» 1860-х гг.,
для которого идеалом являлась «верность себе», неизменность жизненного и
бытового облика, следование одним и тем же нормам в семейной и
общественной, «исторической» и личной жизни. Требование «искренности»
подразумевало отказ от подчеркнуто знаковых систем поведения и одновременно
ликвидировало необходимость перерывов для того, чтобы «побыть самим собой».
Дворянский быт конца XVIII — начала XIX в. строился не только на
основе иерархии поведений, которая создавалась иерархичностью политического
порядка послепетровской государственности, организуемой табелью о рангах,
но и как набор возможных альтернатив («служба / отставка», «жизнь в столице /
жизнь в поместье», «Петербург / Москва», «служба военная / служба статская»,
«гвардия / армия» и т. д.), каждая из которых подразумевала определенный
тип поведения. Один и тот же человек вел себя в Петербурге не так, как в
Москве, в полку не так, как в поместье, в дамском обществе не так, как в мужском, на
походе не так, как в казарме, а на балу иначе, чем «в час пирушки холостой».
При этом, в отличие от крестьянского быта, в котором индивидуальное
поведение менялось в зависимости от календаря и цикла сельскохозяйственных
работ, в результате чего тип поведения не зависел от индивидуального выбора1,
1 Ср.: «Дождь на дворе — должен сидеть дома, вёдро — должен идти косить, жать
и т. д. Ни за что не отвечая, ничего сам не придумывая, человек живет только слушаясь,
и это ежеминутное, ежесекундное послушание, превращенное в ежеминутный труд, и
образует жизнь» {Успенский Г. И. Власть земли // Собр. соч.: В 9 т. М., 1956. Т. 5.
С. 120). Утверждение Успенского основанное на многолетнем внимательном наблюдении
русской жизни, нельзя, однако, принять без существенных корректив. С одной стороны,
здесь ясно ощущается преобразующее воздействие на материал мировоззрения самого
Успенского начала 1880-х гг. С другой стороны, наблюдения Успенского относятся к
народной жизни, пережившей уже глубокую историческую трансформацию. Строй русской
крестьянской жизни в основном сложился в допетровскую эпоху. С одной стороны,
обилие ритуализованных праздников, а с другой, устойчивая ритуализация быта и самого
труда, вызванная необходимостью передавать из поколения в поколение навыки наиболее
целесообразных трудовых движений, приводили к широкой трансформации жизненного
поведения по законам действа. Та строгая однозначность поведения, причины которой
Г. Успенский видел во «власти земли» и склонен был поэтизировать (хотя и прозорливо
связывал с нищетой и суровой борьбой за кусок хлеба), совсем не была исконной чертой
народного быта: она была результатом, во-первых, полутора столетий крепостной неволи
и, во-вторых, послереформенного обнищания. В результате народная жизнь примитиви-
зировалась (одним из результатов этого разрушительного процесса было исчезновение
фольклора, начало чего приходится как раз на послереформенную эпоху). Если в фольк-
лоризированном крестьянском быту альтернативой труда был праздник со своими, строго
ритуализованными нормами поведения, то для быта, наблюдаемого Г. Успенским,
альтернатив уже не было. Поэтому праздник был связан не с переходом к другому поведению,
а с реализацией не-поведепия. Отсюда смена в праздничном поведении субъективной
ориентированности на «благообразие» ориентированностью на «безобразие», отмечаемое
всеми наблюдателями народной жизни тех лет, сопровождаемое, с одной стороны,
увеличением потребления алкогольных напитков, а с другой, сменой функции «хмельного»
поведения: становясь единственной альтернативой скованности человека условиями жизни,
оно приобретает одновременно черты полной свободы и полного безобразия.
628
СТАТЬИ. ЗАМЕТКИ. ВЫСТУПЛЕНИЯ. III. Театр. Кино
от этого поведение становилось обнаженно-социальным и теряло
индивидуальный характер, дворянский образ жизни подразумевал постоянную
возможность выбора типа поведения. Одновременно, если практиковать
«некрестьянское» поведение крестьянин не имел физической возможности, то
для дворянина «недворянское» поведение отсекалось нормами чести, обычая,
государственной дисциплины и сословных привычек. Нерушимость этих норм
была не автоматической, но в каждом отдельном случае представляла собой
акт сознательного выбора и свободного проявления воли. Однако «дворянское
поведение» как система не только допускало, но и предполагало определенные
выпадения из нормы, которые были структурно изоморфны антрактам в
спектаклях. Стремление дворянина приобщиться на короткие периоды к
иному быту — жизни кулис, табора, народного гулянья (ср. в буржуазном
быту аналогичную функцию пикника, выезда «на лоно природы»,
сопровождаемого резким упрощением социального ритуала; в XX в. аналогичную роль
порой выполняет спорт, в особенности туризм) — порождало перерывы в
нормированном поведении и смены его поведением, выполняющим функцию
социально не нормированного. Однако такая ненормированность была лишь
функциональной в пределах данной системы. Вне ее то же поведение
выступало как высоконормированное. Это видно хотя бы из того, что типы такого
нарушения строго классифицировались в соответствии с возрастом и местом
человека в социальной иерархии. Общество ясно различало «правильные»
(допустимые) и «неправильные» (недопустимые) уклонения от нормы.
Интересным показателем театрализованное™ повседневной жизни
является то, что широко распространенные в дворянском быту начала XIX в.
любительские спектакли и домашние театры, как и приобщение к
профессиональному театру, воспринимались как уход из мира условной и неискренней
жизни «света» в мир подлинных чувств и непосредственности, то есть как
понижение уровня семиотичности поведения1.
Показательно устойчивое стремление осмыслить законы жизни
дворянского общества через призму наиболее условных форм театрального
спектакля — маскарада, кукольной комедии и балагана, с чем мы постоянно
встречаемся в литературе конца XVIII — начала XIX в.2
1 Ср. сохраненные памятью С. Т. Аксакова слова известного театрала Писарева
об актерах: «Вот с какими людьми я хочу жить и умереть, — с артистами,
проникнутыми любовью к искусству и любящими меня как человека с талантом! Стану я
томиться скукой в гостиных ваших светских порядочных людей! Стану я умирать с
тоски, слушая пошлости и встречая невежественное понимание художника вашими,
пожалуй, и достопочтенными людьми! Нет, слуга покорный! Нога моя не будет нигде,
кроме театра, домов моих друзей и бедных квартир актеров и актрис, которые лучше,
добрее, честнее и только откровеннее бонтонных оценщиц» (Аксаков С. Т. Собр. соч.
Т. 3. С. 89). Ср. в «Лесе» А. Н. Островского утверждение, что комедианты не артисты,
а их зрители — дворяне.
2 К наиболее ранним сопоставлениям света и маскарада относится место в «Почте
духов» Крылова: «Я не знаю, для того ли они наряжаются таким образом, чтоб
показать себя в настоящем своем виде по расположению своих душ, сходствующих,
может быть, с тою приемлемою ими безобразностию; или что они любят быть
Театр и театральность в строе культуры начала XIX века 629
***
Мы уже отмечали, что, рассматривая зрелищную культуру эпохи начала
XIX в., нельзя обойти военных действий масс войск, как нельзя исключить
цирк из зрелищной культуры Рима или бой быков из аналогичной системы
Испании. Как известно, во всех этих случаях то, что в ходе зрелища
проливалась настоящая кровь, не отменяет момента эстетизации, а является его
условием. В длинной цепи переходов, отделяющих театральные подмостки
от рыцарского турнира или профессионального бокса, ужасное и прекрасное
находятся в особом для каждой градации соотношении. На крайних звеньях
цепи места их меняются: в трагедии прекрасное воспринимается как ужасное,
в эстетически воспринимаемом реальном сражении — ужасное как
прекрасное.
Однако в армии павловской и александровской эпох была еще одна
форма, в неизмеримо большей мере ориентированная на зрелищность, но
воспринимавшаяся как антипод и полная противоположность боя. Это был
парад. Парад, конечно, в неизмеримо большей мере, чем сражение,
ориентирован был на зрелищность. В определенном отношении именно здесь
пролегала грань, делившая военных людей той эпохи на два лагеря: одни
смотрели на армию как на организм, предназначенный для боя, вторые же
видели ее высшее предназначение в параде. Естественно, что в первом случае
вперед выдвигалась практическая функция, а во втором она оттеснялась на
самый задний план. Зато если эстетическая функция в первом случае
присутствовала лишь как некоторый чуть заметный налет, меняющий колорит
картины, но не ее рисунок, то во втором случае она вырвалась вперед,
оттесняя все практические соображения.
За ориентацией армии на сражение и на парад стояли две различные
военно-педагогические и военно-теоретические доктрины, а в конечном
счете — и две философские концепции1. Социально-политическая их
противоположность столь же очевидна, как и противопоставленность в
ориентированности на классицистическую и романтическую культуры. В другом
аспекте одна из них воспринималась как «прусская», а другая — как
национально-русская. На скрещении всех названных противопоставлений
возникало и глубокое различие в эстетическом переживании этих двух основных
моментов в жизни армии тех лет.
неузнаваемыми и казаться всегда в другом виде, нежели каковы они есть в самом
деле. Если сие замечание справедливо, то можно сказать <...> что сей свет есть не
что иное, как обширное здание, в котором собрано великое множество маскированных
людей, из коих, может быть, большая часть под наружною личиною, в сердцах своих
носят обман, злобу и вероломство» (Крылов И. А. Соч.: В 3 т. М., 1945. Т. 1.
С. 60—61).
1 См.: Прокофьев Е. А. Борьба декабристов за передовое русское военное искусство.
М., 1953; Нечкина М. В. А. С. Грибоедов и декабристы. М., 1947. С. 248—282; Лот-
ман Ю. М. А. Н. Радищев и русская военная мысль в XVIII в. // Учен. зап. Тартуского
гос. ун-та. 1958. Вып. 67. (Труды по философии. Т. 4.)
630
СТАТЬИ. ЗАМЕТКИ. ВЫСТУПЛЕНИЯ. III. Театр. Кино
Участие в войнах, ставшее существенной частью биографии целого
поколения молодых людей Европы, чертой, без которой невозможен жизненный
облик декабриста, существенным образом влияло на тип личности. Хотя бой
реализовывался как некоторая организация (он определялся общей
диспозицией, а место и роль отдельного участника детерминировались ролью,
отведенной его части, и характером обязанностей, возложенных на него по чину
и должности), он открывал значительную свободу для личной инициативы.
Организация боя, собирая людей весьма различных по месту в общественной
иерархии и упрощая формы общения между ними, в определенном отношении
отменяла общественную иерархию и воспринималась как ее упрощение. Где,
кроме аустерлицкого поля, младший офицер мог увидать плачущего
императора? Кроме того, атомы общественной структуры оказывались в бою
гораздо свободнее на своих орбитах, чем в придавленной чиновничьим
правопорядком общественной жизни. Тот «случай», который позволял
миновать средние ступени общественной иерархии, перескочив снизу
непосредственно на вершину, и который в XVIII в. ассоциировался с постелью
императрицы, в начале XIX в. вызывал в сознании образ Бонапарта под Тулоном
или на Аркольском мосту (ср. «мой Тулон» князя Андрея в «Войне и мире»).
Изменились не только средства, но и цели: честолюбец XVIII в. был
авантюрист, мечтающий о личном выдвижении, честолюбец начала XIX в. мечтал
о месте и на страницах истории. Придворная жизнь александровской эпохи
почти не знала тех головокружительных взлетов и падений, которые, будучи
столь характерными для царствования Екатерины, были доведены Павлом
до карикатурности. Только война, расковывая инициативу сотен младших
офицеров, приучала их смотреть на себя не как на слепых исполнителей
чужой воли, а как на людей, в руки которых отдана судьба отечества и
жизнь тысяч людей. Участие же в Отечественной войне, активизация
гражданского самосознания сливали воедино боевую предприимчивость и
политическое вольнолюбие. Пушкин отчетливо подчеркнул связь между
либерализмом и воинским прошлым поколения людей,
Которые, пустясь в пятнадцать лет на волю,
Привыкли в трех войнах лишь к пороху да к полю1.
Парад был прямой противоположностью — он строго регламентировал
поведение каждого человека, превращая его в безмолвный винтик огромной
машины. Никакого места для вариативности в поведении единицы он не
оставлял. Зато инициатива перемещается в центр, на личность командующего
парадом. Со времен Павла I это был император. Тимофей фон Бок писал:
«Почему император так страстно любит парады? Почему тот же человек,
которого мы знали во время пребывания в армии в качестве незадачливого
дипломата, превращается во время мира в ярого солдата, бросающего все
дела, едва он услышит барабанный бой? Потому что парад есть торжество
ничтожества, — и всякий воин, перед которым пришлось потупить взор в
1 Пушкин А. С. Поли. собр. соч.: В 16 т. М., 1937. Т. 7. С. 246.
Театр и театральность в строе культуры начала XIX века
631
день сражения, становится манекеном на параде, в то время как император
кажется божеством, которое одно только думает и управляет»1.
Если бой ассоциировался в сознании современников с романтической
трагедией, то парад отчетливо ориентировался на кордебалет. Показательно
балетоманство Николая I. Александр I был равнодушен к драматическому
и оперному театру — всем видам зрелищ он предпочитал парад, в котором
себе отводил роль режиссера, а многотысячной армии — огромной балетной
труппы. «Фрунт» был наукой и искусством одновременно, и соображения
красоты, «стройности» всегда оказывались тем высшим критерием, которому
все Павловичи приносили в жертву и здоровье солдат, и свою собственную
популярность в армейской среде, и боеспособность армии. Конечно,
легкомысленно было бы видеть в этой устойчивой склонности лишь проявление
странных личных свойств Павла и его сыновей: парад становился эстетизи-
рованной моделью идеала не только военной, но и общегосударственной
организации. Это был грандиозный спектакль, ежедневно утверждающий
идею самодержавия.
Не следует упускать, однако, из виду, что, хотя фрунтомания встречала
почти единодушное осуждение в среде боевого офицерства (документальные
свидетельства этого многочисленны и красноречивы), наука фрунта входила
в тонкое знание тайн службы и игнорировать ее не мог ни один военный.
Знатоком строя был Пестель, а декабрист Лунин снискал расположение
фанатичного сторонника фрунта великого князя Константина не только
рыцарством и безумной отвагой, но и тонким знанием тайн строевой службы.
Эстетика парада не могла быть полностью чуждой любому
профессиональному военному, и даже у Пушкина в «Медном всаднике» она вызвала стихи,
посвященные ее «однообразной красивости» (что не мешало Пушкину
осознавать связь однообразия и рабства; ср.: «Как песнь рабов однообразной»).
И эстетика парада, и эстетика балета имели глубокий общий корень —
крепостной строй русской жизни.
В ситуациях «Наполеон после боя» и «Павел I на параде» при всем
очевидном их различии имеется и существенное сходство. Оно заключается
в том, что происходящее разделено на два зрелища. С одной стороны, зрелище
представляет собой масса (в бою или на параде), а зритель представлен
одним человеком. С другой стороны, сам этот человек оказывается зрелищем
для массы, которая выступает уже как зритель. На этом сходство, пожалуй,
кончается. Рассмотрим обе стороны этого двойного зрелища.
Если отвлечься от того, что Наполеон и Павел I не только наблюдатели,
но и действователи и их действия принципиально отличны по характеру, а
рассмотреть их лишь как зрителей, то нельзя не обнаружить принципиального
отличия в их отношении к зрелищу. Павел I смотрит зрелище с «железным
сценарием» (выражение Эйзенштейна): все детали предусмотрены заранее.
Прекрасное равносильно выполнению правил, а отклонение от норм, даже
1 Предтеченский А. В. Записка Т. Е. Бока // Декабристы и их время. М.; Л., 1951.
С. 198.
632
СТАТЬИ. ЗАМЕТКИ. ВЫСТУПЛЕНИЯ. III. Театр. Кино
малейшее, воспринимается как эстетически безобразное и наказуемое в
дисциплинарном порядке. Высший критерий красоты — «стройность», то есть
способность различных людей двигаться единообразно, согласно заранее
предписанным правилам. Стройность, красота движений интересует здесь
знатока больше, чем сюжет. Вопрос: «Чем это кончится?» — ив балете, и
на параде приобретает второстепенное значение. Зритель боя уподобляется
зрителю трагедии, сюжет которой ему неизвестен, — сколь ни захватывает
величественность зрелища, интерес к его исходу превалирует.
Еще больше разнится зрелище с позиции массы. Наполеон разыгрывает
перед глазами своих солдат, изумленной Европы и потомства пьесу «Человек
в борьбе с судьбой», «Торжество Гения над Роком». С этим был связан и
подчеркнуто человеческий облик главного персонажа (простота костюма,
амплуа «простого солдата»), и нечеловеческая громадность препятствий,
стоящих на его пути. Своим поведением и судьбой (в значительной мере
определенной той исторической ролью, которую он себе избрал) Наполеон
предвосхитил проблематику и сюжетологию целой отрасли романтической
литературы. Гений мог в дальнейшем сюжетно интерпретироваться различно — от
демона до того или иного исторического персонажа, — стоящие на его пути
преграды также могли получать разные имена (Бога, феодальной Европы,
косной толпы и т. д.). Однако схема была задана. Конечно, не Наполеон ее
изобрел: он подхватил свою роль из той же литературы. Но, воплотив ее в пьесе
своей жизни, он вернул эту роль литературе с той возросшей мощью, с которой
трансформатор возвращает в цепь полученные им электрические импульсы.
Павел I разыгрывал иную роль. Командуя парадом в короне и
императорской мантии (командование разводом войск при Екатерине II
воспринималось как «капральское», а не «царское» занятие; царские регалии
употреблялись лишь в исключительных парадных обстоятельствах, да и в этих случаях
Екатерина стремилась заменять корону ее знаком — облегченным ювелирным
украшением в виде короны), он стремился явить России зрелище Бога.
Метафорическое выражение Ломоносова о Петре: «Он бог, он бог твой был,
Россия!» — Павел стремится воплотить в пышном и страшном спектакле. В
этом смысле совершенно не случайно, что в пародии Марина Павел I заменил
ломоносовского бога из «Оды, выбранной из Иова».
Александр I не любил театра и чуждался пышных церемоний. Скромность
его личной жизни часто давала повод для обвинений императора в скупости.
Обращение молодого императора подкупало простотой и
непосредственностью. Казалось, он был воплощенная противоположность своему отцу и начало
его царствования должно было стать концом эпохи театральности.
Однако чем глубже мы проникаем в смысл как политики, так и личности
Александра Павловича, тем чаще, с некоторым даже недоумением,
останавливаемся перед глубокой преемственностью отца и сына. Александр не только
не чуждался игры и перевоплощений, но, напротив, любил менять маски,
иногда извлекая из своего умения разыгрывать разнообразные роли
практические выгоды, а иногда предаваясь чистому артистизму смены обличий,
видимо, наслаждаясь тем, что он вводит в заблуждение собеседников,
принимающих игру за реальность. Приведем лишь один пример.
Театр и театральность в строе культуры начала XIX века 633
В середине марта 1812 г. Александр I по целому ряду причин решил
удалить Сперанского от государственной деятельности. Для нас сейчас
интересны не политические и государственные аспекты этого события (кстати,
хорошо выясненные в научной литературе), а характер личного поведения
государя в этих условиях. Призвав к себе 17 марта утром директора канцелярии
министерства полиции Я. де Санглена, который был одной из главных пружин
интриги против Сперанского, император с видимым сожалением сказал: «Как
мне ни больно, но надобно расстаться с Сперанским. Его необходимо отлучить
из Петербурга». Вечером того же дня Сперанский был вызван во дворец, имел
аудиенцию у императора, после чего был отправлен в ссылку. Приняв утром
18 марта де Санглена, Александр сказал ему: «Я Сперанского возвел, приблизил
к себе, имел к нему неограниченное доверие и вынужден был его выслать. Я
плакал! <...> Люди мерзавцы! Те, которые вчера утром ловили еще его улыбку,
те ныне меня поздравляют и радуются его высылке». Государь взял со стола
книгу и с гневом бросил ее опять на стол, сказав с негодованием: «О, подлецы!
Вот кто окружает нас, несчастных государей!»1
В тот же день император принял А. Н. Голицына, которого считал своим
личным другом и к которому питал неограниченную доверенность, и
высказался в том же духе. Увидев крайнюю мрачность на лице царя, князь Голицын
осведомился о его здоровье и получил ответ: «Если б у тебя отсекли руку,
ты верно кричал бы и жаловался, что тебе больно <...> у меня в прошлую
ночь отняли Сперанского, а он был моею правою рукою!»2 При этом
император плакал. Плакал он и прощаясь со Сперанским. Однако мы теперь
точно знаем, что никто не отсекал у Александра его правую руку:
воспользовавшись несколькими глупыми и бессмысленными доносами, Александр
исподволь всесторонне лично подготовил всю интригу. Когда Сперанский
чуть не сорвал задуманное царем эффектное удаление, подав просьбу об
отставке, Александр не только счел необходимым эту просьбу отклонить, но
еще более возвысил уже обреченную жертву3. Но еще более поразительна
другая сцена. Когда разыгрывалась вся эта история, в Петербурге случайно
оказался ректор Дерптского университета профессор Г. Ф. Паррот.
Отличавшийся редким благородством души, Паррот был в числе очень небольшого
круга лиц, которым подозрительный Александр доверял. Именно потому,
1 Шильдер Н. К. Император Александр Первый, его жизнь и царствование. СПб.,
1897. Т. 3. С. 38, 48.
2 Там же. С. 48.
3 Все нити были настолько сосредоточены в руках императора, что даже наиболее
активные участники заговора против Сперанского — названный выше Я. де Санглен
и генерал-адъютант А. Д. Балашов, принадлежавший к наиболее близким императору
лицам, — посланные домой к Сперанскому, с тем чтобы забрать его, когда он вернется
из дворца после аудиенции у царя, с грустным недоумением признались друг другу
в том, что не уверены, придется ли им арестовывать Сперанского, или он получит
у императора распоряжение арестовать их. В этих условиях очевидно, что Александр
не уступал ничьему давлению, а делал вид, что уступает, на самом деле твердо
проводя избранный им курс, но, как всегда, лукавя, меняя маски и подготавливая
очередных козлов отпущения.
634
СТАТЬИ. ЗАМЕТКИ. ВЫСТУПЛЕНИЯ. III. Театр. Кино
что он не был приближенным и придворным, редко виделся с Александром
и никогда не обращался к нему ни с какими просьбами, он мог с основанием
считать себя личным другом и конфидентом императора. 16 марта вечером
он был вызван во дворец. «Император, — пишет Паррот, — описал мне
неблагодарность Сперанского с гневом, которого я у него никогда не видел,
и с чувством, которое вызывало у него слезы. Изложив полученные им
доказательства этой измены, он сказал мне: „Я решился завтра же расстрелять
его и, желая знать ваше мнение по поводу этого, пригласил вас к себе"»1.
Паррот умолял императора дать ему время подумать. 18 марта утром в
специальном письме он пытался смягчить участь Сперанского. Император
отвечал ему милостиво, и Паррот уехал в Дерпт, уверенный в том, что он
спас Сперанского. Между тем очевидно, что Александр Павлович не собирался
расстреливать Сперанского, а когда он благодарил Паррота за письмо и
якобы милостиво внимал его аргументам, участь Сперанского была уже
решена и он следовал в ссылку.
Шильдер, рассказавший эту историю, не без некоторой доли недоумения —
чувства, которое почти никогда не покидает исследователя личности
Александра I, — резюмирует: «В переписке де-Санглена с М. П. Погодиным
встречается следующий любопытный отзыв императора Александра о Пар-
роте: „Эти ученые все видят косо, и в цель не попадают, и с жизнью мало
знакомы, хотя он человек светский". Погодин со своей стороны прибавляет:
„Паррот приведен был в заблуждение, как все". Историк наш, когда он писал
эти строки, и не подозревал во всем объеме, какую он изрек великую истину,
так как ему совершенно не была известна преднамеренная комедия,
разыгранная 16-го марта главным действующим лицом этой поистине
шекспировской драмы из новейшей русской истории»2.
Термины театра не случайно приходят здесь на ум историку. Не
согласиться с ним можно лишь в одном: Александр разыгрывал не «шекспировскую
драму», — это был непрерывный «театр одного актера». В каждом
перевоплощении императора просвечивал тонкий расчет, но невозможно отрешиться
от чувства, что сама способность менять маски доставляла ему, помимо
всего, и глубокое «незаинтересованное» удовлетворение. Наполеон проявил
немалую проницательность, назвав его «северным Тальма».
«Театр» Александра I был тесно связан с его стилем решения политических
проблем: он в принципе не отличал государственных интересов от своих
личных и систематически трансформировал отношения политические в личные
(в этом смысле, несмотря на мягкость характера Александра Павловича, он
последовательно придерживался деспотической системы и был настоящим
сыном своего отца). В области внешней политики это порождало тот стиль
личной дипломатии, который Александр I сумел навязать европейским
дворам и который позволил русскому императору одержать ряд дипломатических
побед. Во внутренней политике это была ставка на личную преданность
1 Шильдер Н. К. Император Александр Первый... Т. 3. С. 38—39.
2 Там же. С. 368.
Театр и театральность в строе культуры начала XIX века 635
монарху, что выглядело в начале XIX в. безнадежно архаически и обусловило
конечный провал всей внутренней политики Александра Павловича.
«Игра» Александра I выпадала из стиля эпохи: романтизм требовал
постоянной маски, которая как бы срасталась с личностью и становилась
моделью ее поведения. Такой стиль построения личности воспринимался как
величественный. «Протеизм» Александра I воспринимался современниками
как «лукавство», отсутствие искренности. Глагол «надувать» часто мелькает
в оценках царя даже его близким окружением. Один из самых талантливых
актеров эпохи, он был наименее удачливым актером.
***
Есть эпохи, когда искусство властно вторгается в быт, эстетизируя
повседневное течение жизни. Таковы были эпохи Возрождения, барокко,
романтизма, искусства начала XIX в. Это вторжение имеет много последствий.
С ним, видимо, связаны взрывы художественной талантливости, которые
приходятся на эти эпохи. Конечно, не только театр оказывал мощное
воздействие на проникновение искусства в жизнь интересующей нас эпохи: не
меньшую роль здесь сыграли скульптура и — в особенности — поэзия.
Только на фоне мощного вторжения поэзии в жизнь русского дворянства
начала XIX в. понятно и объяснимо колоссальное явление Пушкина. Однако
эта проблема выходит уже за рамки настоящей статьи.
Необходимо обратить внимание еще на одну сторону вопроса: бытовое
течение жизни и литературное ее отражение дают индивиду разную меру
свободы самовыявления. Человек вмерзает в быт, как грешник Дантова ада
в лед Каины. Он теряет свободу движения, перестает быть творцом своего
поведения. Люди XVIII в. еще в значительной мере жили под знаком обычая.
Надындивидуальное течение быта автоматически предопределяло поведение
индивида. И хотя авантюризм, получивший в XVIII в. неслыханное
распространение, открывал для наиболее активных людей века выход за пределы
рутины каждодневного быта, это был, с одной стороны, путь принципиально
уникальный, а с другой стороны, открыто и демонстративно аморальный; это
был путь личного утверждения в жизни при сохранении ее основ. Герой
плутовского романа не разрушал окружающую его жизнь: вся его энергия, все
умение выбиться из социальной обоймы были направлены на то лишь, чтобы
улечься в эту же обойму, но наиболее выгодным и приятным для себя образом.
Его активность объективно не разрушала, а утверждала общий порядок жизни.
Именно потому, что театральная жизнь отличается от бытовой, взгляд
на жизнь как на спектакль давал человеку новые возможности поведения.
Бытовая жизнь по сравнению с театральной выступала как неподвижная:
события, происшествия в ней или не происходили совсем, или были редкими
выпадениями из нормы. Сотни людей могли прожить всю жизнь, не пережив
ни одного «события». Движимая законами обычая, бытовая жизнь обычного
русского дворянина XVIII в. была «бессюжетна». Театральная жизнь
представляла собой цепь событий. Человек не был пассивным участником безлико
текущего хода времени: освобожденный от бытовой жизни, он вел бытие
636
СТАТЬИ. ЗАМЕТКИ. ВЫСТУПЛЕНИЯ. III. Театр. Кино
исторического лица — сам выбирал свой тип поведения, активно
воздействовал на окружающий его мир, погибал или добивался успеха.
Взгляд на реальную жизнь как на спектакль не только давал человеку
возможность избирать амплуа индивидуального поведения, но и наполнял
его ожиданием событий. Сюжетность, то есть возможность неожиданных
происшествий, нежданных переворотов, становилась нормой. Именно
сознание того, что любые политические перевороты возможны, формировало
жизненное ощущение молодежи начала XIX в. Революционное сознание
романтической дворянской молодежи имело много источников. Психологически
оно было подготовлено, в частности, и привычкой «театрально» смотреть
на жизнь. Именно модель театрального поведения, превращая человека в
действующее лицо, освобождала его от автоматической власти группового
поведения, обычая. Пройдет немного времени — и литературность и
театральность поведения жизненных подражателей героям Марлинского или
Шиллера сама окажется групповой нормой, препятствующей индивидуальному
выявлению личности. Человек 1840—1860-х гг. будет искать себя, стараясь
противостоять литературности. Это не отменяет того, что период начала
XIX в., который пройдет под знаком вторжения искусства — ив первую
очередь театра — в русскую жизнь, навсегда останется знаменательной эпохой
в истории русской культуры.
1973
Сцена и живопись
как кодирующие устройства
культурного поведения человека
начала XIX столетия
В сражении под Аустерлицем семнадцатилетний корнет 4-го эскадрона
кавалергардского полка граф Павел Сухтелен был ранен сабельным ударом
по голове и осколком ядра в правую ногу. Он был взят в плен и в толпе
русских офицеров замечен проезжавшим Наполеоном, который
пренебрежительно отозвался о юности пленника. Сухтелен озадачил Наполеона, ответив
ему известными стихами, из «Сида»:
Je suis jeune, il est vrais, mais aux âmes bien nées
La valeur n'attend point le nombre des années1.
1 «Я юн, это верно, но храбрости не грозит долголетие» (Corneille P. Oeuvres
complètes / Ed. du Seuil. Paris, 1963. P. 226).
Сцена и живопись как кодирующие устройства...
637
По приказу Наполеона на эту тему была написана картина для Тюлье-
рийского дворца.
В этом эпизоде перед нами с классической четкостью выступает триада
«сцена — жизнь — полотно»: юный Сухтелен кодирует свое поведение
нормами театра, а Наполеон безошибочно выделяет в реальной жизненной
ситуации сюжет картины.
В предыдущей статье мы остановились на взаимосвязи сцены и бытового,
реального поведения людей начала XIX в. Сейчас нам предстоит ввести
третий компонент — живопись.
Связь между этими видами художественного текста была в интересующую
нас эпоху значительно более очевидной и тесной, чем это может представиться
читателю нашего времени. Общность живописи и театра проявлялась, прежде
всего, в отчетливой ориентации спектакля на чисто живописные средства
художественного моделирования: тяготение сценического текста спектакля не
к непрерывному (недискретному) течению, имитирующему временной поток
во внехудожественном мире, а к отчетливому членению на отдельные
синхронно организованные неподвижные «срезы», каждый из которых заключен
в сценическом обрамлении, как картина в раме, и внутри себя организован
по строгим законам композиции фигур на живописном полотне.
Только в условиях функциональной связи между живописью и театром
могли возникнуть такие явления, как, например, юсуповский театр в
Архангельском (под Москвой). Для театра Юсупова были написаны замечательные,
сохранившиеся до сих пор, декорации П. Гонзага. Декорации эти —
произведения высокого живописного искусства с исключительно богатой и сложной
игрой художественных пространств (все они представляют собой фантасти-
ко-архитектурные мотивы). Однако наиболее интересно их функциональное
использование в спектакле: они не были фоном для действия живых актеров,
а сами представляли собой спектакль. Постановка заключалась в том, что
перед зрителем, под специально написанную музыку, при помощи системы
машин, декорации сменяли друг друга. Эта смена картин и составляла
спектакль.
Появлением восприятия текста, при котором вперед выдвигалось общее
для сцены и картины, а разница — движение — выступала как вариативный
элемент низшего уровня, может быть объяснено распространение такого вида
зрелища, как «живые картины», — спектакля, действие которого составляло
композиционное расположение неподвижных актеров в сценическом кадре.
Движение здесь изображалось, как в живописи, динамическими позами
неподвижных фигур. При этом если в плане сценического выражения признак
«движение/неподвижность» не был релевантным (неподвижность могла
восприниматься как изображение движения, как в живописи и скульптуре —
динамическая поза означала движение), то значимость таких категорий, как
рамка, замыкающая пространство, и цвет, делали невозможным
отождествление сцены с групповой скульптурой. Объемность сценического действия
рекомендовалось скрадывать, и неподвижный актер отождествлялся не с более
«похожей», казалось бы, статуей, а с фигурой на картине. Это показывает,
что речь идет не о каком-то естественном сходстве, а об определенном типе
638
СТАТЬИ. ЗАМЕТКИ. ВЫСТУПЛЕНИЯ. III. Театр. Кино
художественного кода. Показательно, что Гёте в продиктованных им Вольфу
и Грюнеру и впоследствии обработанных и изданных Эккерманом «Правилах
для актеров» (1803) предписывал: «Сцену надо рассматривать как картину
без фигур, в которой последние заменяются актерами»1. Органическим
следствием было стремление к плоскому расположению сцены: «Не следует
выступать на просцениум. Это самое невыгодное положение для актера, ибо
фигура выступает из того пространства, внутри которого она вместе с
декорациями и партнерами составляет единое целое». Исходя из существовавших
в ту пору правил расположения фигур на полотне, Гёте запрещает актерам
находиться «слишком близко к кулисам»2.
Уподобление сцены картине рождало специфический жанр живых картин
(отметим, что если для Карамзина, по его собственному признанию, реальный
пейзаж становился эстетическим фактом, когда воспринимался сквозь призму
литературной трансформации, то для молодого Пушкина такую роль играла
«пейзажная» театральная декорация и сгруппированные перед ней актеры, —
«везде передо мной подвижные картины...»). Однако на основе развитой
системы подобного восприятия сцены могло рождаться вторичное явление:
возникали театральные сюжеты, требовавшие изображения на сцене с
помощью живых актеров имитации живописного произведения. Затем следовало
оживление псевдокартины. Так, 14 декабря 1821 г. в бенефис Асенковой
Шаховской поставил на петербургской сцене одноактную пьесу «Живые
картины, или Наше дурно, чужое хорошо». «Здесь являлось несколько живых
картин, устроенных в глубине театра, в разном виде и несколько портретов
на авансцене»3. Сюжет водевиля Шаховского состоял в осмеянии мнимых
знатоков, которые осуждали творения русского живописца, противопоставляя
ему иностранные образцы. Хозяин-меценат пригласил их на выставку. После
того как все полотна были подвергнуты критическому разносу, оказывается,
что это не живопись, а живые картины, а портрет хозяина — он сам. В
1 Цит. по: Хрестоматия по истории западноевропейского театра / Сост. и ред.
С. Мокульского. М., 1955. Т. 2. С. 1029. Ср.: в мемуарах актера Генаста-младшего
упоминание о том, что, когда на репетиции машинист выставил голову из-за кулис,
«тотчас же Гёте прогремел: „Господин Генаст, уберите эту неподходящую голову из
первой кулисы справа; она вторгается в рамку моей картины"» (Там же. С. 1037).
2 Там же. С. 1029.
3 Арапов П. Летопись русского театра. СПб., 1861. С. 310. Шаховской использовал
театральный эффект известного в ту пору анекдота; ср. в стихотворении В. Л. Пушкина
«К князю П. А. Вяземскому» (1815):
...потом
На труд художника свои бросают взоры,
«Портрет, — решили все, — не стоит ничего:
Прямой урод, Эзоп, нос длинный, лоб с рогами!
И долг хозяина предать огню его!»
— «Мой долг не уважать такими знатоками
(О чудо! говорит картина им в ответ):
Пред вами, господа, я сам, а не портрет!»
(Поэты 1790—1810-х годов. Л., 1971. С. 680).
Сцена и живопись как кодирующие устройства...
639
таком представлении само движение артистов на сцене оказывается
вызывающей удивление аномалией1.
Однако эти крайние проявления отождествления театра с картиной
интересны, в первую очередь, потому, что наглядно раскрывают норму восприятия
театра в системе культуры начала XIX в. Спектакль распадался на
последовательность относительно неподвижных «картин». Дискретность и статичность
были законами моделирования на сцене непрерывной и динамической
действительности. В этом нельзя видеть случайность. Напомним, что Гёте в уже
цитированном произведении (этим беседам писатель придавал большое
значение, называя их «грамматикой» или «элементами» — по аналогии с Эвк-
лидом — театра) определял, что персонажи, играющие большую роль, должны
быть на сцене менее подвижными по сравнению с второстепенными. Так, он
указывал, что в сценическом расположении «с правой стороны всегда стоят
наиболее почитаемые особы <...> Стоящий с правой стороны должен поэтому
отстаивать свое право, не позволять оттеснять себя к кулисам и, не меняя
своего положения (курсив мой. — Ю. Л.)9 левой рукой сделать знак тому, кто
на него напирает»2. Смысл этого положения будет ясен, только если мы учтем,
что Гёте исходит из сценического закона той поры, согласно которому движется
лишь актер, расположенный слева, стоящий справа — неподвижен. Особенно
примечателен § 91 в главе «Позы и группировка на сцене». В нем утверждается,
что правила картинного расположения и выразительных поз вообще
применимы лишь к персонажам «высокого» плана: «Само собой разумеется, эти
правила должны преимущественно соблюдаться тогда, когда надо изображать
характеры благородные и достойные. Но есть характеры противоположные
этим задачам, например характер крестьянина или чудака»3.
Результатом было то, что стремление связывать игру актера с
определенным стабильным набором значимых поз и жестов, а искусство режиссера —
с композицией фигур гораздо резче обозначалось в трагедии, чем в комедии.
С этой точки зрения, внетеатральная жизнь и трагедия являлись как бы
полюсами, между которыми комедия занимала срединное положение.
Естественным следствием охарактеризованного выше сближения театра
и живописи было создание относительно стабильной и входящей в общий
язык сцены системы мимики, поз и жестов, а также тенденция к созданию
«грамматики сценического искусства», явственно ощущаемая в сочинениях
как теоретиков, так и практиков-педагогов сцены в те годы4. Показательна
1 О значимости противопоставления «подвижное / неподвижное» см. очень
содержательную работу Р. О. Якобсона «Статуя в поэтической мифологии Пушкина»
(Якобсон Р. Работы по поэтике. М., 1987. С. 145—180).
2 Цит. по: Хрестоматия по истории западноевропейского театра. Т. 2. С. 1026.
Расположение правого и левого также роднит сцену с картиной: правым считается
правое по отношению к актеру, повернутому лицом к публике, и наоборот.
3 Там же. С. 1029.
4 См.: Boguslawski W. Mimika. Warszawa, 1965; Anton Franz Riccoboni's und Friedrich
Ludwig Schroder's Vorschriften über die Schauspielkunst. Leipzig, 1821; Engel J. J. Ideen
zu einer Mimik. Berlin, 1804. T. 1; Conférence de Monsieur Le Breun sur l'expression générale
et particulière enrichi de figures. Amsterdam, 1718.
640
СТАТЬИ. ЗАМЕТКИ. ВЫСТУПЛЕНИЯ. III. Театр. Кино
роль, которую играет иллюстрация, изображающая жест и позу, в театральных
наставлениях тех лет. Рисунок становится метатекстом по отношению к
театральному действию. С этим можно было бы сопоставить функцию рисунка
в режиссерской деятельности Эйзенштейна. В ранний период, когда основу
режиссерских усилий составляет монтаж фигур в кадре и монтаж кадров
между собой, рисунок чаще всего имеет характер плана; но когда основным
приемом делаются жест и поза актера перед объективом, монтируемые в
дальнейшем режиссером в сложные фразы, значение режиссерского рисунка
как метатекста, играющего для исполнителя роль инструкции, резко
повышается, приближаясь к обучающей функции рисунка в театральном искусстве
XVIII в.
Разделение в стиле поведения «высоких» и «низких» персонажей на сцене
имело соответствие в особой концепции бытового поведения человека; в
поведении человека в сфере внехудожественной действительности выделялись
два пласта: значимое, семиотическое, и не сопряженное с какими-либо
значениями. Первое мыслилось как набор поз и жестов, то есть включало в
себя дискретность и статичность; исторический поступок неразрывно был
связан с жестом и позой. Второе не имело ни значения, ни урегулированного
характера, выделить повторяемости здесь было невозможно. Жест не был
знаком и поэтому становился незаметным. Первое поведение тяготело к
ритуалу. Оно вовлекало в свою сферу искусство и активно на него
воздействовало. Ошибочно думать, что искусство эпохи классицизма уклонялось
от изображения реального жизненного поведения людей (в таком свете оно
предстало, когда целостная картина мира той эпохи разрушилась и заменилась
другой), но реальным и жизненным оно считало «высоко» ритуализованное
поведение — которое, в свою очередь, само черпало нормы из высоких
образцов искусства, — а не поведение «крестьянина и чудака», по
терминологии Гёте.
В предромантическую эпоху границы эти сдвинулись: сначала именно
частная жизнь простых людей стала восприниматься как историческая и в
нее были внесены поза и жест, прежде свойственные описанию и
изображению государственной сферы действительности. Так, в жанровых картинках
Ж.-Б. Грёза больше позы и жеста, чем в жанровой живописи предшествующей
эпохи, а Радищев вносит античную статуарность в сцену доения коровы
матерью Анюты (глава «Едрово»)1. В дальнейшем, как мы уже говорили в
предыдущей статье, знаковое поведение вторгается в разнообразные сферы
повседневного быта, вызывая его театрализацию2.
1 Ср.: «Я сию почтенную мать с засученными рукавами за квашнею или с подойником
подле коровы, сравнивал с городскими матерями» (Радищев А. Н. Поли. собр. соч.:
В 3 т. М.; Л., 1938. Т. 1. С. 308).
2 Об определенной театрализации частной жизни можно говорить в отдельных
случаях и в XVIII в., но здесь перед нами будет явление принципиально иного порядка,
например воздействие народного ярмарочного балагана. Показательно, однако, что
театрализация такого типа не имеет тяготения делить бытовое действо на неподвижные
«картины», фиксировать позы и мимику.
Сцена и живопись как кодирующие устройства...
641
В основе лежит разделение бытового поведения на два «стиля», из которых
один строится на основе определенной стабильной знаковой системы поз и
жестов, а другой отличается лишь элементарной жестовой упорядоченностью
в пределах общих паралингвистических законов данной лингвокультурной
системы. Первому стилю свойственно тяготение к дискретности и
неподвижности внутри каждой дискретной единицы (то есть к образованию «картин»);
второй отличается текучестью, подвижностью и с трудом расчленяется. За
этим делением мы легко обнаруживаем более глубокое различие: самосознание
эпохи соединяло представление о значимом, «высоком», «историческом»
поведении как о поведении первого рода. «Исторический поступок» был так
же связан с жестом и позой, как «историческая фраза» — с афористической
формой.
Показателен пример: 9 сентября 1830 г. Пушкин сообщал Плетневу о
смерти дяди, В. Л. Пушкина. Он писал: «Бедный дядя Василий! знаешь ли
его последние слова? приезжаю к нему, нахожу его в забытьи, очнувшись,
он узнал меня, погоревал, потом, помолчав: как скучны статьи Катенина!
и более ни слова. Каково? вот что значит умереть честным воином, на щите,
le cri de guerre à la bouche!»1 Несколько другую версию сообщает П. А.
Вяземский: «В. Л. Пушкин, за четверть часа до кончины, видя, что я взял в
руки „Литературную газету", которая лежала на столе, сказал мне
задыхающимся и умирающим голосом: „Как скучен Катенин!" — который в то
время печатал длинные статьи в этой газете. „Allons nous en, — сказал мне
тут Александр Пушкин, — il faut mourir mon oncle avec un mot historique"»2.
Для того чтобы слова Василия Львовича и его поведение сделались
историческими, они должны: 1) быть последними словами умирающего, связываться
с отдельным, статически изолированным и одновременно важнейшим,
завершающим моментом жизни; 2) восприниматься как афоризм; 3) к ним должен
быть приложим определенный жестовый код, поза, утвержденная как
историческая. Так, в данном случае поведение Василия Львовича отождествляется
с позой умирающего воина, на щите, с боевым кличем на устах.
Интересно вспомнить, что смерть В. Л. Пушкина вызвала и другую
легенду. Ссылаясь на одного из близких знакомых поэта, П. В. Анненков
рассказывал, что умирающий В. Л. Пушкин «...поднялся с постели, добрался
до шкапов огромной своей библиотеки, где книги стояли в три ряда, заслоняя
друг друга, отыскал там Беранже и с этой ношей перешел на диван залы.
Тут принялся он перелистывать любимого своего поэта, вздохнул тяжело и
умер над французским песенником»3. В данном случае бытовое поведение
1 Пушкин А. С. Поли. собр. соч.: В 16 т. М, 1941. Т. 14. С. 112.
2 Москвитянин. 1854. № 6. Отд. 4. С. И. П. Бартенев сообщает другую
версию: «Нам передавали современники, что, услышав эти слова от умирающего
Василия Львовича, Пушкин направился на цыпочках к двери и шепнул собравшимся
родным и друзьям его: „Господа, выйдемте, пусть это будут его последние слова"»
(Русский архив. 1870. С. 1369).
3 Анненков П. В. А. С. Пушкин в Александровскую эпоху. 1799—1826. СПб., 1874.
С. 18.
642
СТАТЬИ. ЗАМЕТКИ. ВЫСТУПЛЕНИЯ. III. Театр. Кино
тоже становится историческим, поскольку через жест и позу соединяется с
легендой, но уже иного типа, — с легендой об Анакреоне, подавившемся
виноградной косточкой, легкомысленном поэте, легкомысленно встречающем
переход к вечности. Можно отметить противоположный случай: историческое
событие, историческое поведение, которые перестают осознаваться как
таковые в силу невыделенности дискретно-статического момента, отсутствия
знаковое™ поведения. Так, на полях элегии Батюшкова «Умирающий Тасс»
Пушкин написал: «Это умирающий В<асилий> Л<ьвович> — а не Торква-
то»1. При этом следует подчеркнуть, что для Пушкина само
противопоставление двух типов поведения уже теряло смысл (хотя противопоставление
одического, связанного с мозаиками Ломоносова Петра «Полтавы» и Петра-
статуи в «Медном всаднике» недискретному потоку человеческой жизни
связано с отмеченной выше традицией).
В свете сказанного объясняется не только «картинность» театра, но и
театральность картин в XVIII в. Сцены, изображаемые художниками,
производят впечатление воспроизведения театра, а не жизни. Это дало повод в
эпоху, когда культурный код XVIII в. был забыт, утверждать, что художники
тех лет не изображали действительность или не интересовались ею. Это,
бесспорно, ошибочно. Дело здесь не только в том, что мир идей для
рационалиста картезианского толка был в большей мере действительностью, чем
текущие формы быта. Дело в том, что, как мы видели это на примере с
Сухтеленом, для того чтобы осознать факт жизни как сюжет для живописи,
его надо предварительно смоделировать в формах театра.
Приведенные факты свидетельствуют о том, что «театрализация»
живописи не есть свойство исключительно классицизма, — она в равной степени
свойственна и предромантизму, и романтизму. Так, предромантик Карамзин
в 1802 г., предлагая сюжеты для картин из русской истории, сознательно
располагает их как сцены. Говоря о живописных сюжетах, связанных с
княжением Ольги, Карамзин замечает: «Художнику <...> остается выбрать
любое из десяти возможных представлений». Взгляд на картину как на
исторический эпизод, пропущенный сквозь призму «представления»,
проявляется, в частности, в том, что живописный текст ассоциируется не только
с рядом поз, но и с определенными словами, которые Карамзин вкладывает
в уста персонажей воображаемых картин: «Князь, сказав: „Ляжем зде
костьми; мертвые бо срама не имут", обнажает меч свой: вот минута для
живописца!»2
Взаимная кодировка театра и живописи вырабатывает некоторый
доминирующий код эпохи, который, сосуществуя с другими, оказывается, однако,
на определенном этапе в рамках дворянской культуры главенствующим. Он
влияет, что уже неоднократно отмечалось, на поэзию и стоящие за ней
общеидеологические и эстетические принципы. Однако, разрывая в
определенном отношении с традициями Державина, поэзия русского ампира ока-
1 Пушкин А. С. Поли. собр. соч. Т. 12. С. 283.
2 Карамзин Н. М. Избр. соч.: В 2 т. М.; Л., 1964. Т. 2. С. 191, 192.
Сцена и живопись как кодирующие устройства...
643
зывается более связанной со скульптурой, чем с живописью. Е. Г. Эткинд
отмечает, что если начальная мысль пушкинской оды «Вольность» «выражена
в форме целой многофигурной композиции: поэт, в венке и с лирой, гонит
от себя богиню любви и призывает другую богиню», то «у Батюшкова —
его аллегорические группы скульптурны»1.
Сходные наблюдения сделал А. М. Кукулевич относительно поэтики
Гнедича: «От актуальных эстетических проблем, стоявших в начале 20-х годов
перед русской поэзией, от проблемы показа внутреннего мира героя, его
душевных переживаний, его мировосприятия и т. д. идиллия Гнедича была
далека. Напротив, ей были несомненно родственны эстетические принципы
изобразительных искусств, принципы живописи и скульптуры, в аспекте
винкельмановского неоклассицизма. Реалистические тенденции „гомеровского
стиля" <...> с этими принципами органически связаны. Недаром Гнедич,
характеризуя стиль гомеровских поэм, подчеркивал именно пластическую
сторону их поэтики: Гомер не описывает предмета, но как бы ставит его
перед глазами; вы его видите»2.
Однако еще резче это воздействовало на процесс взаимоотношения
искусства и поведения людей той эпохи. С одной стороны, имело место уже
отмеченное нами в предшествующей статье воздействие
театрально-живописного кода на бытовое поведение человека той эпохи; с другой, автор мемуаров,
записок и других письменных свидетельств, на которые опирается историк,
отбирал в своей памяти из слов и поступков только то, что поддавалось
театрализации, как правило, еще более сгущая эти черты при переводе своих
воспоминаний в письменный текст. Это имеет непосредственное значение для
позиции исследователя, пытающегося реконструировать по текстам
внетекстовую реальность.
В таком случае особенно ценными для историка являются своеобразные
тексты-билингвы типа беседы генерала H. Н. Раевского, записанной его
адъютантом К. Н. Батюшковым: «Мы были в Эльзасе <...> Кампания 1812 году
была предметом нашего болтанья.
„Из меня сделали Римлянина, милый Батюшков, — сказал он мне, — из
Милорадовича — великого человека, из Витгенштейна — спасителя
отечества, из Кутузова — Фабия. Я не Римлянин, но зато и эти господа — не
великие птицы <...> Про меня сказали, что я под Дашковкой принес на
жертву детей моих". „Помню, — отвечал я, — в Петербурге вас до небес
превозносили". „За то, чего я не сделал, а за истинные мои заслуги хвалили
Милорадовича и Остермана. Вот слава, вот плоды трудов!" — „Но помилуйте,
ваше высокопревосходительство! не вы ли, взяв за руку детей ваших и знамя,
пошли на мост, повторяя: вперед, ребята; я и дети мои откроем вам путь
ко славе, или что-то подобное". Раевской засмеялся. „Я так никогда не
говорю витиевато, ты сам знаешь. Правда, я был впереди. Солдаты пятились,
1 Эткинд Е. Разговор о стихах. М., 1970. С. 141—142.
2 Кукулевич А. М. Русская идиллия Н. И. Гнедича «Рыбаки» // Учен. зап.
Ленинградского гос. ун-та. 1939. Сер. филол. наук. № 46. Вып. 3. С. 314—315.
644
СТАТЬИ. ЗАМЕТКИ. ВЫСТУПЛЕНИЯ. III. Театр. Кино
я ободрял их. Со мною были адъютанты, ординарцы. По левую сторону
всех перебило и переранило, на мне остановилась картечь. Но детей моих
не было в эту минуту. Младший сын сбирал в лесу ягоды (он был тогда
сущий ребенок), и пуля ему прострелила панталоны; вот и все тут, весь
анекдот сочинен в Петербурге. Твой приятель (Жуковский) воспел в стихах,
Граверы, Журналисты, Нувеллисты воспользовались удобным случаем, и я
пожалован Римлянином"»1.
Однако неосторожно было бы понимать такой билингвиальный код как
свидетельство того, что для восстановления подлинных событий «римский»
(вернее, «театральный») колорит следует снимать как принадлежащий не
реальному поведению участников событий, а тексту, описывающему это
поведение. То, что дезавуированная самим Раевским легенда отнюдь не была
чужда его реальному поведению и, видимо, совсем не случайно возникла, а
также утверждение Раевского, что он не выражается «витиевато», не следует
понимать чересчур прямолинейно. Во-первых, код, влияющий на текст,
воздействует и на поведение. Во-вторых, вполне можно допустить, что, беседуя
с Батюшковым, Раевский перекодировал свое реальное поведение в другую
систему — «генерал-солдат», простодушный герой и рубака. Ведь тот же
Батюшков, но уже не со слов Раевского, а по собственным впечатлениям,
рассказал другой эпизод, очевидцем которого он был. Раевский во время
лейпцигского сражения с гренадерами находился в центре боя. «Направо,
налево все было опрокинуто. Одни гренадеры стояли грудью. Раевской стоял
в цепи мрачен, безмолвен. Дело шло не весьма хорошо. Я видел
неудовольствие на лице его, беспокойства ни малого. В опасности он истинный герой,
он прелестен. Глаза его разгорятся, как угли, а благородная осанка его
поистине сделается величественной». Внезапно он был ранен пулей в середине
груди. Поскакали за лекарем. «Один решился ехать под пули, другой
воротился». Обернувшись к Батюшкову, раненый Раевский произнес:
«Je n'ai plus rien du sang qui m'a donné la vie.
Ce sang c'est épuisé, versé pour la patrie2.
И это он сказал с необыкновенной живостию. Издранная его рубашка, ручьи
крови, лекарь, перевязывающий рану, офицеры, которые суетились вокруг
тяжко раненного генерала, лучшего, может быть, из всей армии, беспрестанная
пальба и дым орудий, важность минуты, одним словом — все обстоятельства
придавали интерес этим стихам»3.
Приведенная цитата еще раз свидетельствует, сколь неосторожно было
бы относить театральность поведения лишь за счет описания и безусловно
верить в неспособность Раевского изъясняться «витиевато».
Культурное поведение нуждается в описании самого себя, и такое описание
входит в толщу культуры на правах реальности, регулируя самые разнооб-
1 Батюшков К. Н. Соч. М.; Л., 1934. С. 372—373.
2 «У меня нет больше крови, которая дала мне жизнь. / Она в сраженьях пролита
за родину» (φρ.).
3 Батюшков К. Н. Соч. С. 373—375.
Куклы в системе культуры
645
разные культурные механизмы. Из сказанного можно сделать вывод, что
система кодов, с одной стороны, тяготеет к единству, которое достигается
выделением в иерархии кодирующего механизма некоторых доминирующих
систем, претендующих на универсальность. На основе таких систем образуется
структура самоописания культуры, которая, представляя
сверхорганизованный и упрощенный ее облик, в принципе не может соответствовать сложности
и структурной многофакторности реального организма культуры. Такое
самоописание становится, однако, не только фактом самопознания, но и активным
регулятором, вторгающимся в строй культуры и повышающим степень ее
упорядоченности путем искусственной унификации различных ее механизмов.
С другой стороны, унификация эта никогда не может заходить достаточно
далеко, пока культура представляет собой живой организм
самонастраивающегося типа. Возможность выбора на различных уровнях, пересечение
различных типов организации и свободная «игра» между ними входят в минимум
необходимых культурных механизмов. Так, в примере с генералом Раевским
важно, что он мог вести себя в сфере реального поведения и как герой
трагедии, «римлянин», и как «генерал-солдат». Когда Раевский осуществлял
второе поведение, а современники осознавали его в системе первого, —
создавалась легенда, как это было с эпизодом на мосту в Дашковке. Однако
оба кода принадлежали к входившим в круг реально возможных.
О том, что перед нами именно два кода, а не некоторое кодовое и
внекодовое, чисто практическое (если это вообще возможно) поведение,
свидетельствует известное стихотворение Державина «Снигирь», где в описании
Суворова нечетные строки зашифрованы одним, а четные — другим образом
и именно столкновение этих двух кодов порождает семантический эффект:
Кто перед ратью будет, пылая,
Ездить на кляче, есть сухари;
В стуже и зное меч закаляя,
Спать на соломе, бдеть до зари...
При этом два противоположных типа поведения, входя в структурную
оппозицию, оказываются на некотором высшем уровне взаимно приравненными,
что меняет сущность каждого из них, делая его специфичным именно для
данной системы культурного поведения.
1973
Куклы в системе культуры
Каждый существенный культурный объект, как правило, выступает в двух
обличьях: в своей прямой функции, обслуживая определенный круг
конкретных общественных потребностей, и в «метафорической», когда признаки его
646
СТАТЬИ. ЗАМЕТКИ. ВЫСТУПЛЕНИЯ. III. Театр. Кино
переносятся на широкий круг социальных фактов, моделью которых он
становится.
Мы связываем со словом «машина» определенные научно-технические
представления. Однако, когда мы читаем слова Анны Карениной о ее муже
«злая машина» или говорим «бюрократическая машина», «машинная
цивилизация», мы пользуемся понятием «машина» как моделью широкого круга
разнообразных явлений, по сути дела никакого отношения к машине не имеющих.
Можно было бы выделить целый ряд таких понятий: «дом», «дорога», «хлеб»,
«порог», «сцена» и др. Чем существеннее в системе данной культуры прямая
роль данного понятия, тем активнее его метафорическое значение, которое
может вести себя исключительно агрессивно, порой становясь образом всего
сущего. Кукла принадлежит к таким коренным понятиям. Для того, чтобы
понять* «тайну куклы»1, необходимо отграничить исходное представление
«кукла как игрушка» от культурно-вторичного — «кукла как модель».
Только на основе такого разделения можно подойти к синтетическому
понятию: «кукла как произведение искусства».
Кукла как игрушка, прежде всего, должна быть отделена от, казалось
бы, однотипного с нею явления статуэтки, объемного скульптурного
изображения человека. Разница сводится к следующему. Существует два типа
аудитории: «взрослая», с одной стороны, и «детская», «фольклорная»,
«архаическая», с другой. Первая относится к художественному тексту2 как получатель
информации: смотрит, слушает, читает, сидит в кресле театра, стоит перед
статуей в музее, твердо помнит: «руками не трогать», «не нарушайте тишину»
и уж конечно «не лезьте на сцену» и «не вмешивайтесь в пьесу». Вторая
относится к тексту как участник игры: кричит, трогает, картинку не смотрит,
а вертит, тыкает в нее пальцами, говорит за нарисованных людей, в пьесу
вмешивается, указывая актерам, бьет книжку или целует ее3. В первом
случае — получение информации, во втором — выработка ее в процессе
игры. Соответственно меняется роль и удельный вес трех основных элементов:
автора — текста — аудитории. В первом случае вся активность сосредоточена
1 Выражение M. Е. Салтыкова-Щедрина из сказки «Игрушечного дела людишки»
(Салтыков-Щедрин М. Е. Собр. соч.: В 20 т. М., 1974. Т. 16. Кн. 1). Для осмысления
нашей темы фундаментальное значение имеют две работы: Гиппиус В. В. Люди и
куклы в сатире Салтыкова // От Пушкина до Блока. Л., 1966; Jakobson R. Статуя в
символике Пушкина // Puskin and his Sculptural Myth. Mouton. 1975. (Первая работа
появилась в 1927, вторая — в 1937 г.)
2 Понятие «художественный текст» использовано здесь в широком значении как
«всякое произведение искусства», включая создания изобразительных и сценических
искусств. Художественное произведение выполняет свою общественную функцию
потому, что текст его обладает особой организацией, которая определена как
исторической реальностью и отношением с другими текстами, так и внутренними
закономерностями построения произведения как целого. Сейчас предпринимаются попытки
рассматривать произведения искусства в ключе этой методики.
3 Мы для наглядности упрощаем: в реальном художественном восприятии
обязательно присутствуют оба момента, но один из них может доминировать, а второй —
отступать на задний план.
Куклы в системе культуры
647
в авторе, текст заключает в себе все существенное, что требуется воспринять
аудитории, а этой последней отводится роль воспринимающего адресата. Во
втором вся активность сосредоточена в адресате, роль передающего имеет
тенденцию сокращаться до служебной, а текст — лишь повод,
провоцирующий смыслопорождающую игру. К первому случаю принадлежит статуя, ко
второму — кукла. На статую надо смотреть — куклу необходимо трогать,
вертеть. Статуя заключает в себе тот высокий художественный мир, который
зритель самостоятельно выработать не может. Кукла требует не созерцания
чужой мысли, а игры. Поэтому излишнее сходство, натуральность,
подавляющая фантазию слишком большая подробность вложенного в нее
сообщения ей вредят. Известно, что радующие взрослых дорогие «натуральные»
игрушки менее пригодны для игры, чем схематические самоделки, чьи детали
требуют напряженного воображения. Статуя — посредник, передающий нам
чужое творчество, кукла — стимулятор, вызывающий нас на творчество,
статуя требует серьезности, кукла — игры.
Эта особенность куклы связана с тем, что, переходя в мир взрослых, она
несет с собою воспоминания о детском, фольклорном, мифологическом и
игровом мире. Это делает куклу не случайным, а необходимым компонентом
любой зрелой «взрослой» цивилизации. Однако, тяготея к упрощению, кукла
может переносить в сферу игры и воображения не только материальные
элементы (оторванные руки или ноги, замена лица тряпочкой не создают
препятствий для игры), но и элементы поведения: ей не нужно говорить —
играющий говорит и за нее, и за себя; ей не нужно двигаться: она может
неподвижно лежать, а играющий будет воображать, что она ходит, бегает
или лета,ет. В этом смысле двигающаяся кукла — заводная игрушка или
театральная кукла — представляет собой некое противоречие, шаг от куклы-
игрушки к более сложным видам культурного текста.
Движущаяся кукла, заводной автомат, неизбежно вызывает двойное
отношение: в сопоставлении с неподвижной куклой активизируются черты
возросшей натуральности — она менее кукла и более человек, но в
сопоставлении с живым человеком1 резче выступают условность и
ненатуральность. Чувство неестественности прерывистых и скачкообразных движений
возникает именно при взгляде на заводную куклу или марионетку, в то время
как неподвижная кукла, чье движение мы себе представляем, такого чувства
не вызывает. Особенно наглядно это в отношении к выражению лица:
неподвижная кукла не поражает нас неподвижностью своих черт, но стоит привести
ее в движение внутренним механизмом — и лицо ее как бы застывает.
Возможность сопоставления с живым существом увеличивает мертвенность
куклы. Это придает новый смысл древнему противопоставлению живого и
мертвого. Мифологические представления об оживлении мертвого подобия
и превращения живого существа в неподвижный образ универсальны. Статуя,
1 Сравнение это в случае с неподвижной куклой просто не возникает: неподвижную
куклу не сравнивают с живым человеком, а представляют, что это и есть живой
человек; тождество не устанавливается по признакам, а постулируется.
648
СТАТЬИ. ЗАМЕТКИ. ВЫСТУПЛЕНИЯ. III. Театр. Кино
портрет, отражение в воде и зеркале, тень или отпечаток порождают
разнообразные сюжеты вытеснения живого мертвым, раскрывающие сущность
понятия «жизнь» в той или иной системе культуры. Появление в исторической
жизни, начиная с Ренессанса, машины как новой и исключительно мощной
общественной силы породило и новую метафору сознания: машина стала
образом жизнеподобной, но мертвой в своей сути мощи. В конце XVIII в.
Европу охватило повальное увлечение автоматами. Сконструированные Во-
кансоном заводные куклы сделались воплощенной метафорой слияния
человека и машины, образом мертвого движения. Поскольку это время совпало
с расцветом бюрократической государственности, образ наполнился
социально-метафорическим значением. Кукла оказалась на скрещении древнего мифа
об оживающей статуе и новой мифологии мертвой машинной жизни. Это
определило вспышку мифологии куклы в эпоху романтизма.
Таким образом, в нашем культурном сознании отложилось как бы два
лица куклы: одно манит в уютный мир детства, другое ассоциируется с
псевдожизнью, мертвым движением, смертью, притворяющейся жизнью.
Первое лицо глядится в мир фольклора, сказки, примитива, второе напоминает
о машинной цивилизации, отчуждении, двойничества.
Таков исходный материал «мифологии куклы», с которым приходится
иметь дело создателю куклы как произведения искусства. Ни одна из
названных выше ассоциаций не предопределяет автоматически того, что сделает
с куклой художник. Как всякий материал искусства, эта исходная мифология
может быть сдвинута, использована в прямом виде или полностью преодолена.
Материал никогда не предопределяет содержания произведения, но он всегда
значим и, вступая в отношение со всей художественной структурой текста,
становится фактом искусства.
Специфика куклы как произведения искусства (в привычной нам системе
культуры) заключается в том, что она воспринимается в отношении к живому
человеку, а кукольный театр — на фоне театра живых актеров1. Поэтому,
если живой актер играет человека, то кукла на сцене играет актера2. Она
становится изображением изображения. Эта поэтика удвоения обнажает
условность, делает предметом изображения и самый язык искусства. Поэтому
кукла на сцене, с одной стороны, иронична и пародийна, с другой — легко
становится стилизацией и тяготеет к эксперименту. Кукольный театр обнажает
1 Возможны, в иных системах культуры, и другие связи. Так, в японском
классическом театре кукла-маска и живой актер органически слиты (см.: Nakamura Jasuo.
Noh, The Classical Theater. New York; Tokio; Kyoto, 1971), а сицилианские марионетки
связаны с культурой народной лубочной картинки (Pasqualino A. I pypisisi — Hani.
Palermo, 1972).
2 Поэтому настоящий кукольный театр — это не театр, а игра в театр (ср.
классический «Необыкновенный концерт» С. В. Образцова). Идеалом детского
кукольного театра был бы такой, где роль капельдинеров исполняли бы дрессированные
бульдоги, буфетчицы были наряжены поросятами или ведьмами в зависимости от
пьесы и игра в «как бы в театр» начиналась с порога. Сидящий среди зрителей и
заливающийся смехом или слезами крокодил великолепно дополнил бы картину.
Куклы в системе культуры
649
в театре театральность. Когда театральное искусство достигает столь высокой
степени натуральности, что ему приходится напоминать себе и зрителю о
сценической специфике, народное искусство кукольного театра становится
одним из образцов для живых актеров. В периоды же, когда театр стремится
преодолеть условность и видит в ней свой первородный грех, кукольный
театр оттесняется на периферию искусства — возрастную и эстетическую.
Искусство второй половины XX в. в значительной мере направлено на
осознание своей собственной специфики. Искусство изображает искусство,
стремясь постигнуть границы своих собственных возможностей.
Это выдвигает искусство куклы в центр художественной проблематики
времени, а скрещение в нем ассоциаций со сказкой (мир детский и народный)
и образов автоматической, неживой жизни открывает исключительный
простор для выражения вечно живых проблем современного искусства.
Антитезы живого/неживого, оживающего/застывающего,
одухотворенного/механического, мнимой жизни/жизни подлинной находят столь широкое
и разнообразное отражение в проблемах современного искусства, что делается
очевидным, в какой мере неосторожно отводить кукольному театру
периферийное место в общей системе сценического творчества.
«Кукольность» как особый тип игры живого актера, создающий эффект
мертвенности, автоматизма, получила самое широкое применение в различных
режиссерских трактовках. Широкие возможности несет соединение игры живых
актеров с масками и куклами, столь характерное для обрядов и народного
театра во многих его национальных традициях. При этом следует учитывать, что
комплекс «кукольности» составляется в театре живых актеров из двух
компонентов: лица-маски и прерывистости совершающихся толчками движений.
Это создает возможность внутреннего конфликта, также хорошо известного в
ряде национальных традиций народного театра и карнавала: сочетания лица-
маски и контрастных его неподвижности бурных, бешеных «живых» движений.
Хорошо известный эффект оживания статуи Командора показывает, что
совмещение живого актера и статуи-автомата (куклы) может порождать не
только комический или сатирический, но и глубоко трагический комплекс
впечатлений.
Однако кукла может нести и эмоционально противоположный заряд,
ассоциируясь с игрой и весельем народного балагана и с поэзией детской
игры. Наконец, особую и почти не исследованную художественную сферу
составляет кукла в мультипликационном кинематографе, где ее эстетическая
природа контрастно сопоставляется, с одной стороны, с привычным
кинематографом, а с другой — с необъемной мультипликацией.
От первой игрушки до театральной сцены человек создает себе «второй
мир», в котором он, играя, удваивает свою жизнь, эмоционально, этически,
познавательно ее осваивает. В этой культурной ориентации стабильные
игровые элементы — кукла, маска, амплуа — играют огромную социально-
психологическую роль. Отсюда — исключительно серьезные и широкие
возможности, присущие кукле в системе культуры.
1978
650
СТАТЬИ. ЗАМЕТКИ. ВЫСТУПЛЕНИЯ. III. Театр. Кино
Место киноискусства
в механизме культуры
Культура многоаспектна, и определение ее в значительной мере
сформировано метапозицией исследователя. С семиотической точки зрения культуру
можно представить себе как сложно организованный знаковый механизм,
обеспечивающий существование той или иной группы людей как
коллективной личности, обладающей некоторым общим сверхличным интеллектом,
общей памятью, единством поведения, единством моделирования для себя
окружающего мира и единством отношения к этому миру.
В этом смысле культура изоморфна интеллектуальному миру отдельной
личности и как бы повторяет ее на другом уровне структурной
организации. Однако одновременно она представляет и антитезу индивидуальному
сознанию, механизм, который должен снимать трудности и трагические
противоречия интеллекта отдельной человеческой личности. Это не отменяет
того, что в определенных исторических ситуациях механизм культуры может
накладывать на противоречия индивидуального интеллекта собственные
трудности.
Исходная двойственность в отношении культуры и человеческой личности
(культура как дополнение к интеллектуальной структуре реальной личности,
культура как организация, изоморфная личности, но расположенная на другом
структурном уровне) определяет две основные динамические тенденции в
механизме культуры.
Тенденция к росту разнообразия
Одной из основных особенностей существования культуры как целого
является то, что внутренние связи, обеспечивающие ее единство, реализуются
с помощью семиотических коммуникаций — языков. В этом смысле культура
представляет собой полиглотический механизм. Этим культура как некоторая
сверхбиологическая индивидуальность отличается от любых биологических
индивидуальностей, внутренние связи которых реализуются с помощью
биологических, а не семиотических коммуникаций. Однако семиотическая
(знаковая) коммуникация есть связь между двумя (или несколькими) полностью
автономными единицами. Если досемиотические коммуникации связывают в
единое целое части, из которых ни одна не способна к полностью автономному
существованию, то знаковые системы соединяют воедино вполне
самостоятельные, структурно автономные образования, которые могут существовать
в отдельности и, лишь входя в более сложную целостность, обретают
вторичные свойства частей, не теряя своей автономии на более низком уровне.
Место киноискусства в механизме культуры
651
Может показаться, что семиотическая связь представляет, с точки зрения
целого, менее эффективную систему: в отличие от доязыковых импульсов
биохимического или биофизического характера, знаки языка могут быть
восприняты или не восприняты, быть ложными или истинными, быть поняты
адекватно или неадекватно. Типично языковые ситуации, когда передающий
дезинформирует воспринимающего или воспринимающий искажению
дешифрует сообщение, не известны доязыковым коммуникациям. В связи с этим
язык является инструментом, пользование которым порождает
многочисленные трудности. И тем не менее появление семиотических коммуникаций
ознаменовало собой гигантский шаг в сторону устойчивости и выживаемости
человечества как целого. Для того, чтобы понять это, придется обратить
внимание на особенность, являющуюся непреложным законом для
сверхсложных систем кибернетического типа: устойчивость целого возрастает с
расширением внутреннего разнообразия системы. Разнообразие же связано с
тем, что элементы системы одновременно специализируются как ее части и
приобретают возрастающую автономию как самостоятельные структурные
образования. Но на этом процесс не останавливается. Автономные «для себя»
элементы системы с позиции целого выступают как одинаковые и полностью
взаимозаменимые. Однако здесь включается в работу новый механизм:
естественный «разброс» вариантов в природе приводит к тому, что структурно
одинаковые элементы реализуются в виде вариантов. Однако эта
вариативность до определенного момента не становится структурным фактом и с
позиций структуры как таковой не существует.
На следующем этапе картина усложняется: связь между элементами
осуществляется с помощью знаковой коммуникации, а это стимулирует их
самостоятельность, что, в свою очередь, приводит к тому, что индивидуальные
различия превращаются в структурные, а сами элементы — в индивиды
(личности).
Процесс этот может быть пояснен с помощью такого примера. Простейшая
форма биологического размножения — деление одноклеточных организмов.
В этом случае каждая отдельная клетка полностью независима и не нуждается
в другой. Следующий этап — разделение биологического вида на два половых
класса, причем для продолжения рода необходимо и достаточно любого
одного элемента из первого и любого одного элемента из второго класса.
Появление зоосемиотических систем заставляет рассматривать
индивидуальные различия между особями как значимые и вносит элемент избирательности
в брачные отношения высших животных. Культура возникает как система
дополнительных запретов, накладываемых на физически возможные действия.
Сочетание сложных систем брачных запретов и структурно значимых их
нарушений превращает адресата и адресанта брачной коммуникации в
личности. Данное Природой: «мужчина и женщина» — сменяется данным
Культурой: «только этот и только эта». При этом именно вхождение отдельных
человеческих единиц в сложные образования Культуры делает их
одновременно и частями целого и неповторимыми индивидуальностями, различие
между которыми является носителем определенных социальных значений.
652
СТАТЬИ. ЗАМЕТКИ. ВЫСТУПЛЕНИЯ. III. Театр. Кино
Приведенный пример иллюстрирует положение о том, что по мере
усложнения системы происходит нарастание автономности ее частей, а в
сверхсложных системах этот процесс приводит к замене понятия «структурный
узел» понятием «личность». Однако закономерен вопрос: как влияет этот
процесс на эффективность системы?
Если рассмотреть систему некоторого коллектива как целое, обладающее
гомеостазисом и определенными интеллектуальными возможностями, то
станет очевидно, что одну из основных трудностей ее составит необходимость
целесообразной деятельности в условиях недостаточной информированности.
Поиски эффективного поведения при неполной информации приводят к
стремлению восполнить неполноту разнообразием. Имея лишь небольшую
часть из необходимой ей для эффективной деятельности информации, система
жизненно заинтересована в том, чтобы эта информация была качественно
разнородной и восполняла неполноту стереоскопичностью.
С этим связано свойство культуры, которое можно охарактеризовать как
принципиальный полиглотизм. Ни одна культура не может удовлетвориться
одним языком. Минимальную систему образует набор из двух параллельных
языков — например, словесного и изобразительного. В дальнейшем динамика
любой культуры включает в себя умножение набора семиотических
коммуникаций. Поскольку образ внешнего мира, переведенный на тексты того или
иного языка, подвергается моделирующему воздействию последнего, система,
как единый организм, получает в свое распоряжение для каждого внешнего
объекта целый набор моделей, чем восполняет неполноту своей информации
о нем. Чем резче выражена специфика того или иного языка (результатом
этого будет возрастающая трудность перевода его текстов на другие языки),
тем своеобразнее будет его способ моделирования и, следовательно, тем
полезнее будет он для системы в целом.
Стереоскопичность культуры достигается не только полиглотизмом. По
мере усложнения структуры личности адресанта и адресата, по мере
индивидуализации того набора кодов, которые составляют содержание сознания
личности, утверждение, что отправитель и получатель сообщения пользуются
одним и тем же языком, становится все менее справедливым. Отправитель
зашифровывает сообщение с помощью некоторого набора кодов, из которых
лишь часть наличествует в дешифрующем сознании адресата. Поэтому всякое
понимание, при пользовании сколь-либо развитой семиотической системой,
частично и приблизительно. Однако важно подчеркнуть, что определенная
степень непонимания не может быть истолкована только как «шум» —
вредное последствие конструктивного несовершенства системы,
отсутствующее в ее идеальной схеме. Рост непонимания или неадекватного понимания
может свидетельствовать о технических неполадках в системе коммуникаций,
но он же может быть показателем усложнения этой системы, способности ее
выполнять более сложные и важные культурные функции. Если выстроить
в ряд по степени возрастания сложности системы общественных
коммуникаций от языка уличных сигналов до языка поэзии, то станет очевидно, что
рост неоднозначности декодировки не может быть отнесен только к
техническим погрешностям данного типа коммуникации.
Место киноискусства в механизме культуры
653
Таким образом, акт коммуникации (в любом достаточно сложном и,
следовательно, культурно ценном случае) следует рассматривать не как
простое перемещение некоторого сообщения, остающегося адекватным самому
себе, из сознания адресанта в сознание адресата, а как перевод некоторого
текста с языка моего «я» на язык твоего «ты». Самая возможность такого
перевода обусловлена тем, что коды обоих участников коммуникации хотя
и не тождественны, но образуют пересекающиеся множества. Но поскольку
в данном акте перевода всегда определенная часть сообщения окажется
отсеченной, а «я» подвергнется трансформации в ходе перевода на язык «ты»,
потерянным окажется именно своеобразие адресанта, то есть то, что, с точки
зрения целого, составляет наибольшую ценность сообщения.
Положение было бы безысходным, если бы в воспринятой части
сообщения не содержались указания на то, каким образом адресат должен
трансформировать свою личность, чтобы постигнуть утраченную часть сообщения.
Таким образом, неадекватность агентов коммуникации превращает сам этот
акт из пассивной передачи в конфликтную игру, в ходе которой каждая
сторона стремится перестроить семиотический мир противоположной по
своему образцу и одновременно заинтересована в сохранении своеобразия
своего контрагента.
Стремление к увеличению семиотического разнообразия внутри организма
культуры приводит к тому, что каждый обладающий значением узел
структурной организации ее начинает проявлять тенденцию к превращению в
своеобразную «культурную личность» — замкнутый имманентный мир с
собственной внутренней структурно-семиотической организацией,
собственной памятью, индивидуальным поведением, интеллектуальными
способностями и механизмом саморазвития. В результате культура как целостный
организм представляет собой сочетание таких построенных по образцу
отдельных личностей структурно-семиотических образований и системы связей
(коммуникаций) между ними.
Связанный с самой сущностью механизма культуры рост многообразных
замкнутых семиотических образований чрезвычайно способствует объемности
циркулирующей внутри данной культуры информации и, следовательно,
эффективности ее ориентированности в мире. Однако он же чреват угрозой
своеобразной «шизофрении культуры», распадения ее на многочисленные
взаимно антагонистические «культурные личности», ситуация культурного
полиглотизма может перерастать в обстановку «вавилонской башни» семи-
озиса данной культуры.
Тенденция к росту единообразия
Для того, чтобы эта угроза не превратилась в реальность, в составе
культуры имеются противонаправленные механизмы.
Уже система коммуникативных связей между структурными узлами
культуры и постоянная потребность взаимного перевода создают основы орга-
654
СТАТЬИ. ЗАМЕТКИ. ВЫСТУПЛЕНИЯ. III. Театр. Кино
низации другого типа: единой структуры, «снимающей» разнообразие частей
во имя упорядоченности целого. Однако наиболее полную реализацию эта
тенденция находит в разветвленной системе метаязыковых и метатекстовых
образований, без которых невозможно существование никакой культуры.
В момент достижения данной культурой определенной структурной
зрелости, что совпадает с тем, что автономия отдельных частных механизмов
культуры достигает некоторой критической точки, возникает потребность
самоописания, создания данной культурой своей собственной модели.
Самоописание требует возникновения метаязыка данной культуры. На
его основе возникает метауровень, на котором культура строит свой
идеальный автопортрет. Самоописание культуры представляет собой закономерный
этап в ее развитии, смысл которого, в частности, заключается в том, что
самый факт описания деформирует объект описания в сторону большей его
организованности. Язык, получающий грамматику, переводится тем самым
на более высокую ступень структурной организованности по отношению к
дограмматической его стадии. Подобно тому как появление грамматического
описания — не только факт в истории изучения языка, но и факт в истории
самого языка, появление метаописаний культуры свидетельствует не только
о прогрессе научной мысли, но и о достижении самой культурой определенной
стадии (еще точнее будет видеть и в том и в другом различные аспекты
единого процесса).
Появление образа культуры на метауровне означает вторичное
структурирование самой этой культуры. Она получает более жесткую организацию,
определенные стороны ее объявляются неструктурными, то есть
несуществующими. Происходит массовое вычеркивание «неправильных» текстов из
памяти культуры. Оставшиеся тексты канонизируются и подчиняются строгой
иерархической структуре.
Процесс этот влечет за собой определенное обеднение культуры (оно
становится особенно ощутимо, когда вычеркнутые из канона тексты
уничтожаются фактически; в этом случае модель культуры теряет динамизм,
поскольку внесистемные тексты составляют, как правило, резерв для
построения систем завтрашнего дня, игра между системным и внесистемным
составляет основу механизма развития культуры). Однако в случаях, когда
тексты, объявленные апокрифическими, лишь перемещаются на периферию
культуры, становятся «как бы несуществующими», обеднение это имеет
относительный характер: на следующем этапе развития культуры, в свете новых
метамоделей апокрифическое может быть заново открываемо и переходить
в каноническое.
Метамеханизм культуры восстанавливает единство между стремящимися
к автономии частями и становится языком, на котором осуществляется
общение внутри культуры. Он способствует перестройке отдельных
структурных узлов в сторону их унификации. С его помощью возникает вторичный
изоморфизм целого, культуры и ее частей.
Одновременно возникающее на этой основе вторичное упорядочение
культуры создает импульсы к новому углублению самобытности отдельных
частных структур, что, в свою очередь, приводит к новому усилению метаструктур.
Место киноискусства в механизме культуры
655
Конфликт между противоположными тенденциями в механизме культуры
проявляется и в другом аспекте. Разные подсистемы культуры обладают
различной скоростью завершения динамических периодов. Достаточно
сопоставить такие устойчивые системы, как естественные языки, и такие
подвижные, как мода, чтобы это стало очевидно. Отличается и время прохождения
отдельными искусствами типологически сходных циклов. В результате любой
синхронный срез культуры дает нам в разных участках различные моменты
типологической диахронии. В любой момент в культуре сосуществуют
различные эпохи. На метауровне это разнообразие снимается. Более того, ме-
тамеханизм создает не только определенный канон синхронного состояния
культуры, но и свою версию диахронического процесса. Он активно отбирает
тексты не только из настоящего, но и из прошедших состояний культуры и
утверждает свою — упрощенную — модель исторического движения
культуры как нормативную. Ошибочно было бы видеть в этом только негативную
сторону: благодаря такому упрощению культура получает общий язык для
коммуникативных связей с прошедшими историческими эпохами.
В типологическом отношении метамеханизм может строиться на трех
типах основ: мифологической, художественной и научной.
Мифологический тип образования метаязыкового механизма имеет общие
черты с мифообразованием1. Объект предметного ряда — «вещь» — берется
во всей своей конкретности, в том обилии индивидуальных черт и интимных
связей, которые заставляют называть ее именем собственным, и, повышаясь
в ранге на общей иерархии культуры, начинает восприниматься как явление
метауровня — универсальная модель мира. «Дом», «путь», «огонь», «дерево»,
«конь» становятся в разных системах архаической культуры универсальными
образами — моделями вселенной. Метасистема такого типа, с одной стороны,
отличается чувственной конкретностью, с другой — требует сильно развитого
«чувства изоморфизма». Например, когда в Чхандогья Упанишада строится
цепь отождествлений: вселенная = огонь; Паражданья (начало грозы, погоды)
= огонь; земля = огонь; человек = огонь; женщина = огонь, причем на каждом
уровне выделяются свои эквиваленты для «топлива», «дыма», «пламени»,
«углей» и «искр», то перед нами сложная классификация, основанная на
изощренной способности воспринимать различное как одно.
Последующие типы метакультурных образований строятся на основе
языка.
В этом случае один из частных языков данной культуры, повышаясь в
ранге, получает метафункцию. Наиболее распространен случай, когда
некоторый текст художественного типа или некоторый художественный язык:
поэзия, живопись, музыка, театр — становятся носителями культурных ме-
тафункций. В этом случае происходит бурная агрессия данного вида искусства
во все сферы культурной (в особенности художественной) жизни. Само же
1 См.: Лотман Ю. М., Успенский Б. А. Миф — имя — культура // Учен. зап.
Тартуского гос. ун-та. 1973. Вып. 308. С. 282—303. (Труды по знаковым системам.
Т. 6).
656
СТАТЬИ. ЗАМЕТКИ. ВЫСТУПЛЕНИЯ. III. Театр. Кино
данное искусство в пределах этой культуры выступает в двойной функции —
как искусство в ряду других искусств и как всеобщая модель разнообразных
культурных моделей.
Наконец, метакультурная функция может реализовываться с помощью
метаязыков науки.
Хотелось бы предостеречь от отождествления этих трех типологических
возможностей с реальным процессом истории культуры, а также от
приписывания им качества трех стадий в развитии метаязыковых механизмов, как
этапов, имеющих реальную хронологию. Это было бы весьма неосторожно,
поскольку слишком упрощало бы наши представления о процессе, о котором
мы знаем слишком мало, чтобы строить столь общие схемы, и слишком
много, чтобы такие обобщения не вызывали у нас протеста. Не следует
забывать, что в любой, даже весьма архаической, из реально данных нам
культур мы вынуждены будем говорить о сложной гетерогенности метаязы-
кового механизма, включающего все три аспекта.
Конечно, и метауровень культуры может сделаться объектом
самоописания и получить некоторую дополнительную упрощающую упорядоченность,
которая может канонизировать какой-либо из этих аспектов, создавая мета-
метамодели культуры. Так, в эпоху романтизма выделяется самое метапонятие
«романтизм», которое определенным образом организует реальные тексты и
всю систему мировосприятия. Резко повышается моделирующая роль поэзии
как искусства искусств. Не только другие сферы художественной деятельности,
но и нехудожественные (научные) модели испытывают влияние поэзии. В
дальнейшем возникшая таким образом метаструктура подвергается новой
упорядоченности, будучи переведена на метаязык философии, которая
получает первенствующую роль в метасистеме европейской культуры во второй
четверти XIX в.
Возрождение романтических представлений в конце XIX — начале
XX столетия сопровождается новой переформулировкой метасистемы: из
искусств начинает доминировать музыка, а в основу словесных метапостроений
кладется миф.
Кинематограф и проблемы метаязыковых механизмов
культуры
Первая половина XX в. ознаменовалась революционными сдвигами в
отдельных областях культуры, резко увеличившими их специфику. Если в
XIX в. словесное выражение выступало как универсальная система, в
категории которой переводилась любая несловесная художественная система, а
словесный текст выполнял роль текста текстов, то теперь смысл и специфику
каждого искусства начинают видеть именно в том, что не может быть
передано средствами другого искусства. Показательно, что такое стремление
к обособленности не ослабляет, а резко усиливает воздействие языков
различных искусств друг на друга.
Место киноискусства в механизме культуры
657
Одновременно происходит складывание если не всемирной, то, по крайней
мере, общеевропейской культуры, в которую отдельные национальные и
региональные культуры входят как «культурные личности», выступающие и
как части и как самостоятельные миры, ценные, в первую очередь, своей
самобытностью.
Одновременно процессы культурного макромира были перенесены в
микросферу. Личность человека, прежде неделимая как атом, предстала в образе,
повторяющем строение культурного целого. С одной стороны, она сама
становится совокупностью личностей, часто взаимоисключающих. С другой —
граница между культурно (структурно) организованным миром и хаотической
энтропией — один из основных показателей любой культуры — теперь делит
не только универсум данной культуры, но и психологию отдельной
личности.
Все это приводит к резкому подчеркиванию чисто семиотических
ситуаций, обнажению проблем языка, перевода, трудностей в понимании чужого
текста как основных культурных вопросов. Вторая половина XX в. делается,
в интересующем нас аспекте, эпохой метакультурных проблем.
Развитие метакультурного пласта в культуре второй половины XX в.
актуализирует все вышеназванные стороны этого механизма. Происходит то,
о чем уже достаточно много писалось, — регенерация некоторых черт
мифологического мышления. Не менее существенно использование
художественных языков для развития метамеханизма культуры. Наряду с выделением
одного какого-либо художественного языка как метаязыка культуры (об
особой роли кинематографа в этом отношении речь будет дальше) развивается
другая тенденция — создание метаискусств: метапоэзии (поэзии о поэзии),
метаживописи (живописи, описывающей язык живописи), метатеатра (театра,
анализирующего язык театра), метакинематографа. Третий аспект —
использование языков науки: математики, физики, лингвистики — как метаязыков
культуры. В этом отношении появление семиотики закономерно не только
в перспективе истории науки, но и как факт самоорганизации культуры.
В этом процессе кино заняло особое место, поскольку только оно смогло
органически сочетать все эти три аспекта.
Кинематограф и мифологический язык
О соотношении кино и мифологии писалось много. В настоящем
изложении хотелось бы обратить внимание лишь на один аспект этой проблемы.
Если рассматривать миф не как некоторый тип текста, а как особый,
специфическим образом устроенный мир, то станет существенной та его
особенность, о которой говорилось в уже упомянутой статье «Миф — имя —
культура».
Миф ведет нас в мир, где царствуют имена собственные. Р. О. Якобсон
справедливо заметил, что имена собственные «занимают в нашем языковом
коде особое место». «Есть множество собак по имени Fido, но они не
658
СТАТЬИ. ЗАМЕТКИ. ВЫСТУПЛЕНИЯ. III. Театр. Кино
обладают никаким общим свойством Fidoness, „фидоизм"»1. Употребление
собственного имени указывает не только на единственность обозначаемого
им объекта. Этот единственный объект должен быть непосредственно знаком
тому, кто его называет. Естественно, что имя «Маша» приобретает подлинное
значение лишь для тех, кто знаком с лицом, обозначаемым этим именем.
Таким образом, оно обозначает не какую-либо абстрактную модель объекта
или понятие о нем, а самый этот объект. Поэтому имя собственное
воспринимается не как знак, способный отделяться от обозначаемого, а как его
неотделимое свойство. Мир, в котором все имена суть имена собственные
(а именно таков мир мифа и мир детского сознания), — это мир интимных
связей, в котором все вещи — старые, добрые знакомые и столь же тесными
связями соединены люди. Не случайно предметы мифологического мира носят
такие же собственные имена, как и люди. В этом мире качества не
отчуждаются, поэтому предикатом вещи является другая вещь, а действие мыслится
с такой степенью конкретности, что, рассказывая, носитель мифологического
сознания или ребенок предпочитают не произнести глагол, а воспроизвести
действие (отсюда внесение театральности в нарративный процесс для
мифологического сознания — не исключение, а закон; исчезает она лишь при
переводе текста на язык немифологического сознания).
Достаточно вдуматься в бегло охарактеризованные выше особенности,
чтобы заметить, в какой мере все они органичны для кинематографа.
Если о портрете можно было бы сказать, что он представляет собой «имя
собственное языка изобразительных искусств»2, то определение это в еще
большей мере подходит к кинопортрету. Этому способствуют два
обстоятельства. Во-первых, кино не только дает неизменно большое число портретных
кадров — возможность крупных планов. Крупный план в кинематографе
невольно ассоциируется с жизненным рассмотрением с очень близкого
расстояния. Рассматривание же человеческих лиц с очень близкого расстояния
характерно или для детского, или же для очень интимного мира. Уже этим
кино переносит нас в мир, где все действующие лица — и друзья и враги —
находятся со зрителем в отношениях интимности, близкого и детального
знакомства, включающего не только представление о чертах характера, но и
непосредственное видение узора жилок и морщин на лице. Во-вторых, в
кинематографе зритель — в гораздо большей мере, чем в театре, — видит не
только роль, но и актера. На экране он наблюдает не только действующее
лицо данной ленты, но и хорошо ему знакомый по другим фильмам и крупным
планам в них облик актера. В новом гриме и новой роли он узнает знакомую
внешность, и то, что мешает в театре, в кино, напротив того, входит в
1 См.: Якобсон Р. О. Шифтеры, глагольные категории и русский глагол // Принципы
типологического анализа языков различного строя. М., 1972 (англ. текст: Jakobson R.
Shifters, Verbal Categories and the Russian Verb // Selected Writings, II. Mouton, 1971. P. 131).
2 Выразительным примером переживания портрета как имени собственного является
хранящийся в Государственном Историческом музее, в Москве, портрет Пугачева,
писанный в XVIII в. поверх портрета имп. Екатерины II, что можно рассматривать
как своеобразный акт «переименования».
Место киноискусства в механизме культуры
659
сущность восприятия. Чувство привычности, знакомства с этим лицом
переносит нас в мир, где все отношения принципиально интимны, — в мир мифа.
Характерно, что штампы ситуаций, превращение типов в маски и просто
повторное восприятие одного и того же текста в кинематографе гораздо
менее шокирует, чем в других видах искусств, поскольку с мифологической
позиции все эти свойства не являются недостатками.
Однако противопоставлять мифологическое мышление научному и
художественному можно лишь, понимая под последними научное и художественное
сознания, в том виде, в каком они сложились в позднейшие эпохи. Само по
себе мифологическое мышление, противоположное различным формам
отчуждения, содержит импульсы и познавательного, и художественного типа.
Когда в качестве предиката вещи выступает вещь, это создает мощные образы
изоморфизма, подобия, тождества различного, которые могут возбуждать и
научные, и художественные построения.
Однако язык кино включает в себя и структурные возможности научного
метаязыка и языка искусства в позднейшем, постмифологическом значении.
Принципиальное значение киноязыка как некоторого образца для мета-
языковых механизмов современной культуры — в том, что создаваемый им
«общий код» строится не как «снятие» и нейтрализация антитетических
конкретных текстов или частных систем, а как включение их во всем их
своеобразии в общий механизм. Язык общения между системами оказывается
не пересечением, а объединением их частных кодов.
Так, язык кинематографа объединяет крайние логические ступени — от
непосредственного переживания реального видения вещи (ощущение
непосредственной реальности экранного мира) до предельной иллюзорности.
Одновременно происходит и объединение исторических этапов — от
исключительно архаических форм художественного сознания до наиболее
современных. При таком объединении крайности не стираются, а, наоборот,
предельно оживляются.
Например, романтическая ирония в словесном тексте, а также в
театральном сыгранном тексте, снимает «серьезный» смысл, поскольку обнажает
отчуждение выражения от содержания. Когда в «Балаганчике» А. А. Блока
Паяц кричит: «Помогите! Истекаю клюквенным соком!», а ремарка сообщает:
«Из головы его брыжжет струя клюквенного сока»1, то ирония автора
раскрывается в том, что мы готовы были считать реальностью лишь ее условный
знак в системе театрального языка. Первоначальная наивность зрительского
ощущения снята, и мы к ней вернуться уже не можем. Более того, поскольку
общая соотнесенность мира сцены и картины мира в сознании зрителей
остается, романтическая ирония с искусства переносится на жизнь, и
складывается внесценический мир, в котором кровь — условная иллюзия, на
самом деле скрывающая клюквенный сок2.
1 Блок А. А. Собр. соч.: В 8 т. М.; Л., 1961. Т. 4. С. 19.
2 Ср.: Берковский Н. Я. Эстетические позиции немецкого романтизма // Литературная
теория немецкого романтизма. Л., 1934. С. 34—35; он Dice. Романтизм в Германии.
Л., 1973.
660
СТАТЬИ. ЗАМЕТКИ. ВЫСТУПЛЕНИЯ. III. Театр. Кино
В программном для романтизма стихотворении Г. Гейне «Nun ist es Zeit,
daß ich mit Verstand...» трагедия любви и смерти снимается ироническим
образом театральной декламации, а затем ирония, в свою очередь, снимается
словами о том, что театральные страсти заканчиваются подлинной смертью.
Независимо от того, описывается ли реальность в терминах театра или театр в
понятиях реальности, метаязык «снимает» определенную сторону объекта как
не имеющую значения, описание определенным образом упраздняет объект.
В полностью построенном на проблеме соотношения языков реальности
и кинематографа кинофильме Анджея Вайды «Все на продажу» мы видим
рельсы и залитый кровью снег. Затем раздается команда: «Дубль!» — и
проходящий ассистент подновляет из банки красную краску на снегу.
Сознание того, что кровь равна краске, добавляется к первой сцене, обнажая
оппозицию «реальное/условное», но не отменяя и первого впечатления,
согласно которому мы видели кровь. Перевод включает не некоторый пласт
предшествующего текста, а его полностью. То же самое можно было бы
сказать и об оппозиции «изобразительное/словесное»,
«архаическое/современное», «национальное/интернациональное» и др. в единой структуре киноязыка.
Это приводит к тому, что метамеханизм начинает тяготеть к построению,
включающему, наряду с жестко организованными моделями, систему
соположений и полифонических структур1.
Предметная фотография, так же как и лица людей, в кинематографе
отличается такой же индивидуальной неповторимостью. Это вводит нас в
мифологический или детский мир, где вещи имеют собственные имена и
могут находиться с людьми в отношениях интимной дружбы или родства, а
также вражды. Вспомним меч Роланда, имевший собственное имя (как и меч
Зигфрида), трубку Тараса Бульбы, которую нельзя оставить на поле боя, как
раненого друга, или же то место в Младшей Эдде, где Один под именем
Бёльверка достает мед поэзии: для этого ему надо просверлить скалу, и «он
достает бурав по имени Рати», что означает «бурав по имени Бурав»2. Как
любое имя нарицательное превращается в мире мифа в имя собственное, так
фотографические образы вещей становятся в киномире вещами мифа. А вещи
и собственные имена в мифологическом мире обладают парадоксальной
семиотической природой: в сопоставлении с вещественным рядом реального
мира они выступают как система знаков, но на фоне более развитых
семиотических систем — иконических и словесных языков — они обнаруживают
незнаковые свойства реальных предметов.
Именно эти свойства позволяют киноязыку объединять два семиотических
полюса — уровень семиотизированных вещей и уровень наиболее развитого и
усложненного семиозиса. На основании этого кино успешно обслуживает
противоположные культурные потребности: стремление вырваться из мира знаков,
переусложненной и отчужденной социальной организации, и стремление
усложнить и обогатить сферу общественной и художественной семиотики.
1 Ср.: Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1972.
2 Младшая Эдда. Л., 1970. С. 104.
Природа киноповествования
661
Эти же свойства заставляют видеть в кинематографе один из важных
компонентов усиленно развивающегося в настоящее время метамеханизма
современной культуры1.
1977
Природа киноповествования
В основе понятия «кинематограф» лежит представление о движущихся
картинах, вернее, о рассказе при помощи движущихся картин. Если исключить
мультипликацию, то в роли «картины» в кино выступает фотография.
Фотография не только техническая основа кино; кинематограф унаследовал от
нее важнейший признак — место в системе культуры. Фотография и кино в
сознании аудитории всегда стоят рядом, в частности в таком важнейшем
признаке, как отношение к реальности. Из всех видов воспроизведения
реальности в искусстве они пользуются наибольшей репутацией достоверности,
документальности, истинности. Именно здесь в наибольшей мере сказывается
наивное отождествление жизни и ее изображения.
А между тем между фотографией как способом запечатлевать жизнь в
неподвижных снимках и динамическим искусством кинематографа глубокая
разница. И сама формула «подвижный рассказ с помощью неподвижных
изображений» таит в себе противоречие.
Перед нами двойная трансформация (при этом подчеркиваем, что речь идет
не о технической и не об оптической стороне дела, а о соотношении природы и
возможностей различных видов искусств). Первый шаг делает фотография:
она, с одной стороны, превращает трехмерную, объемную реальность в
двухмерную иллюзию объемности. При этом реальность, воспринимаемая всеми
органами чувств, превращается в зрительную фотореальность, объект — в
изображение объекта. В то же время непрерывная подвижность и безграничность
действительности превращается в остановленный и ограниченный ее кусок.
Современное звуковое кино подвергает лежащую в его основе фотографию
глубокой трансформации: не только значительно увеличивается иллюзия
объемности и добавляется звук, но — что, пожалуй, самое существенное —
неподвижное вновь делается подвижным, а рамка, «вырезающая»
ограниченный текст из безграничного мира, становится значительно более мобильной.
То, что изображение в кино подвижно, переводит его в разряд
«рассказывающих» (нарративных) искусств, делает способным к повествованию,
передаче тех или иных сюжетов. Однако понятие подвижности здесь имеет
1 Настоящая статья была уже в наборе, когда появилась интересная для нашей
проблемы работа: Özseb Horânyi. Culture and Metasemiotiks in Film // Semiotica. Mouton,
1975. P. 265—284. {Примеч. авт.)
662
СТАТЬИ. ЗАМЕТКИ. ВЫСТУПЛЕНИЯ. III. Театр. Кино
особый смысл. Основным здесь является факт смены одних картин другими,
соединение различных изображений. То, что это соединение реализуется с
помощью движущихся изображений, — распространенный, но не
обязательный признак. Сама природа рассказывания состоит в том, что текст строится
синтагматически, то есть соединением отдельных сегментов во временной
(линейной) последовательности. Элементы эти могут иметь различную
природу: представлять собой цепочки слов, музыкальных или графических фраз.
Последовательное развертывание эпизодов, соединенных каким-либо
структурным принципом, и является тканью рассказывания.
С этой точки зрения важно отметить, что последовательная цепь
неподвижных изображений также может образовывать повествование. Примерами
могут служить иллюстрированные издания, книжки-картинки и комиксы, где
сюжет рассказывается с помощью последовательной цепочки неподвижных
рисунков. Нет никаких оснований исключать эту возможность из арсенала
кино. Напомним один пример.
20 сентября 1961 г. для польской кинематографии было черным днем: в
автомобильной катастрофе погиб один из талантливейших польских
режиссеров — Анджей Мунк. Смерть пришла в разгар работа над фильмом
«Пассажирка» (по повести Зофьи Посмыш-Пясецкой). Действие фильма должно
было развертываться в двух временных планах: на палубе роскошного лайнера,
пересекающего Атлантический океан, встречаются две пассажирки и узнают
друг друга. В годы войны судьба свела их в Освенциме. Одна из них —
полячка Марта — была заключенной, другая — немка Лиза — эсэсовской
надзирательницей. Куски фильма, относящиеся к Освенциму, были в основном
отсняты, однако вся «современная» часть — а ей по сюжету повести и сценарию
уделялось большое место — существовала лишь в заготовках. Витольд Лесе-
вич — второй режиссер, Зофья Посмыш (соавтор сценария) и участвовавший
в работе над фильмом писатель Виктор Ворошильский приняли дерзкое
решение: понимая, что адекватной замены погибшему режиссеру не найти,
они решили не доснимать фильм, а скомпоновать отснятую часть с
неподвижными фотографиями заготовок. Вся обрамляющая часть была составлена из
стоп-кадров, которыми сделались заготовки-фотографии Мунка, и закадрового
дикторского текста, автором которого был В. Ворошильский.
Как часто бывает в искусстве, случайные и даже трагические
обстоятельства способствовали созданию художественного шедевра — контрасту между
трагической «лагерной» частью, построенной на сложной полифонии
медленных, мучительно-тоскливых панорамных кадров, на исполненных
трагической динамики эпизодах, повествующих о сложной человеческой драме,
развертывающейся в экстремальных условиях, и серией стоп-кадров, прямо-
таки травмирующих зрителя своей застывшей фрагментарностью,
вспыхивающей как цепь неподвижных взрывов. Такое построение — результат
трагических обстоятельств создания фильма — изменило его звучание по
отношению к лежащей в его основе повести и сценарию: ослабла
непосредственно публицистическая памфлетность и возросла философская глубина.
Но для нас в данном случае важно, что серия стоп-кадров в сочетании с
дикторским текстом оказалась способной создать нарративный текст. Признак
Природа киноповествования
663
движения кадров не выступил как обязательный: движение реализовалось
как судорожное, запинающееся перескакивание от одного неподвижного кадра
к другому. Движение событий возникало в сознании зрителей, но на экране
сменялись неподвижные стоп-кадры.
Можно привести и другой, уже упоминавшийся, пример: эстонский
мультипликатор Рейн Раамат один из своих мультипликационных фильмов
построил как серию перелистывания детских рисунков. Цепь неподвижных
картинок образовала сюжет и так же оказалась способной служить средством
рассказывания, как и непрерывно движущаяся лента — мультипликация.
Итак, для рассказа необходима серия соединенных между собой картин
(фотографий). Слово «серия» означает, что их должно быть не менее двух,
желательно — более. Однако каким образом получается соединение? Что
заставляет нас считать, что показанная нам последовательность кадров осуществлена
сознательно, а не является их случайным скоплением?
Самый простой случай — это когда единство достигается с помощью
внекадровых средств: закадрового голоса, музыкального сопровождения.
Однако для нас существенно понять внутрикадровые механизмы, соединяющие
отдельные изображения в некоторую фразу. «Низшим уровнем» повествования
назовем соединение двух кадров. Монтажный эффект можно считать одной
из форм соединения кадров на низшем уровне. Другой способ можно назвать
рифмой: в двух соседних кадрах повторяется одна и та же деталь, включенная,
однако, в другой контекст, так что создается типично рифменная ситуация
сближения различного и разграничения сходного. Тривиальный и
многократно повторявшийся в разных фильмах прием: крик женщины, обнаружившей
труп, переходит в свисток паровоза, который увозит убийцу1. В фильме Вима
Вендерса «Париж, Техас» герой (Тревис) в бинокль смотрит на верхние этажи
гигантского банка, камера задерживается на развевающемся флаге
Соединенных Штатов, и тут же дается крупным планом плечо спящего мальчика —
сына героя, на курточке которого нашит тот же флаг.
Если какая-либо деталь повторяется не в двух, а в большем числе случаев,
возникает ритмический ряд, который, являясь мощным средством смысловой
насыщенности, одновременно скрепляет отдельные кадры в единый ряд. Анна
Андреевна Ахматова однажды сказала Л. К. Чуковской: «Чтобы добраться
до сути, надо изучать гнезда постоянно повторяющихся образов в стихах
поэта — в них и таится личность автора и дух его поэзии. Мы, прошедшие
суровую школу пушкинизма, знаем, что „облаков гряда" встречается у
Пушкина десятки раз»2. Ахматова говорит здесь о том, что индивидуальные
1 Этот прием (так называемый шок-монтаж) изобретен в 1929 г. Хичкоком (пример
взят из фильма «39 шагов», 1935).
2 Можно было бы отметить характерную ошибку, не уменьшающую, а, напротив,
увеличивающую интерес мысли А. А. Ахматовой: «облаков гряда» встречается у
Пушкина не десятки, а лишь три раза: в стихотворениях «Редеет облаков летучая
гряда...», «Аквилон» и «Сраженный рыцарь». Но и этого оказалось достаточно, чтобы
в чутком слухе поэтессы возник ряд, организующий массу текстов, где этот образ не
встречается. Отсюда ошибка памяти.
664
СТАТЬИ. ЗАМЕТКИ. ВЫСТУПЛЕНИЯ. III. Театр. Кино
ассоциации, скрытые в глубине сознания поэта, выступают в форме
«постоянно повторяющихся образов», которыми поэт как бы «проговаривается».
Но с точки зрения аудитории эти самые повторы скрепляют разнородный
материал в единый Текст.
Важным элементом грамматики кино является причинно-следственная
связь между двумя кадрами: в первом кадре отворяется дверь или показан
стреляющий человек, во втором кто-то входит в раскрытую дверь или мы
видим падающее тело. Случаи, когда причинно-следственная связь кадров
каким-либо образом усложняется, в основе своей все же имеют эту простую
модель отношений: «причина — следствие». Так, в «Дилижансе» Джона
Форда в эпизоде поединка двух ковбоев (мы уже говорили об этой сцене)
расстояние от причины до следствия растянуто на несколько кадров.
Медленное, зловещее сближение противников (причем мы как бы предупреждены:
Ринго Кид — герой, вызывающий симпатию, — должен погибнуть, а наш
кинематографический опыт подсказывает, что герой вестерна погибать не
должен) задает ожидание. Режиссер, играя со зрителем, затрудняет
предсказание будущих кадров, но тем более очевидно, что между тем, что мы видим,
и тем, что произойдет, существует связь. Ожидание склеивает кадры во
фразовое единство. Эпизод прерывается следующим кадром, переносящим
действие в салун. Находящиеся там люди напряженно ждут исхода поединка.
Раздаются выстрелы, и причинно-следственная связь эпизодов подсказывает,
что теперь в салуне должен появиться победитель. Распахиваются двери, и
в ярко освещенном светом с улицы проеме появляется фигура врага Ринго
Кида. Зритель, естественно, делает вывод, что последний убит. Но мнимый
победитель, сделав два шага к стойке, падает плашмя на пол — он был
смертельно ранен. А вслед за тем в дверях появляется подлинный победитель,
Ринго Кид.
Это перенесение результата действия из смежного кадра в более или
менее отдаленные, реализуя замедление между действием и результатом, также
способствует образованию спаянных синтагм — кинематографических фраз
внутри киноповествования. Это нечто близкое к «замедлению», о котором,
как о законе повествования, писал В. Шкловский1.
Однако в кино мы не рассуждаем, а видим. Это связано с тем, что логика,
организующая нашу мысль по своим законам, требующим строгой
упорядоченности причин и следствий, посылок и выводов, в кинематографе часто
уступает место бытовому сознанию с его специфической логикой. Например,
классическая логическая ошибка «post hoc, ergo propter hoc» («после этого —
значит по причине этого») в кино обращается в истину: зритель воспринимает
временную последовательность как причинную. Это особенно заметно в тех
случаях, когда автор (как это, например, делал Бунюэль) соединяет логически
не связанные или даже абсурдно несочетаемые куски: автор просто склеивает
несвязанные отрывки, а для зрителя возникает мир разрушенной логики,
поскольку он заранее предположил, что цепь показываемых ему картин
1 См.: Шкловский В. Теория прозы. М.; Л., 1925. С. 38—40 и след.
Природа киноповествования
665
должна находиться не только во временной, но и в логической
последовательности.
Это убеждение зиждется на презумпции осмысленности, зритель уверен,
что то, что он видит: 1) ему показывают; 2) показывают с определенной
целью; 3) имеет смысл. Следовательно, если он хочет понять показываемое,
он должен понять эти цель и смысл. Нетрудно видеть, что эти представления
являются результатом перенесения на фильм навыков, выработанных в
словесной сфере, — навыков слушания и чтения, то есть, воспринимая фильм
как текст, мы невольно переносим на него свойства наиболее нам привычного
текста — словесного. Приведем пример: когда мы смотрим в окно едущего
поезда, нам не приходит в голову связывать увиденные нами картины в
единую логическую цепь. Если сначала мы увидали играющих детей, а затем
перед нашими глазами пронеслись столкнувшиеся автомобили или
веселящаяся молодежь, мы не станем связывать эти картины в
причинно-следственные или какие-либо другие логические или художественно осмысленные
ряды, если не захотим искусственно создать из них текст типа «такова жизнь».
Точно так же, глядя из окна, мы не спросим себя: «Зачем эти горы?» А
между тем при разговоре о фильме эти вопросы будут вполне уместны. Так,
в фильме К. Шаброля «Неверная жена» (1969) подозреваемый, но не
уличенный преступник несколько раз встречается с двумя следователями. Кадр
построен так, что преступник снят на первом плане спиной к зрителю, а
первый из следователей — лицом к преступнику и зрителям. Лицо же второго,
как бы в силу режиссерской небрежности или «естественности» в построении
мизансцены, систематически оказывается срезанным краем экрана, так что
зрителю видна лишь его часть. Но этот внимательно уставленный на
преступника «глаз без лица» становится (абсурдной в реальной жизни) посылкой
для вывода о том, что преступление будет раскрыто.
Таким образом, хотя мы этого не осознаем, фильм, который мы видим
на экране, таит в себе глубокое и, по сути, неразрешимое противоречие: он
и рассказ о реальности, и сама эта реальность. Но рассказ и зримая реальность
подчиняются не только разным, но и исключающим друг друга структурным
принципам. Зримая реальность знает только настоящее время, время «пока
я вижу», и реальные модальности. Но для построения рассказа о событиях
необходима система выражения времен, не только индикатив, но и ирреальные
наклонения. Отношение говорящего к рассказу естественно выражается
средствами механизма языка, между тем как для выработки адекватных средств
в киноязыке потребовались специальные усилия.
Результатом было то, что как только перед кинематографом возникла
необходимость повествования, он оказался перед задачей имитации структуры
естественного языка. Грамматика естественного языка принималась за норму,
по образцу которой предполагалось строить грамматику нарративной
структуры киноязыка. Это напоминало процесс создания грамматик для
«варварских» европейских языков в эпоху, когда латинская грамматика считалась
идеалом и единственной нормой грамматики вообще: задача сводилась к
тому, чтобы найти в национальных языках категории, позволяющие расписать
их по структуре латыни.
666
СТАТЬИ. ЗАМЕТКИ. ВЫСТУПЛЕНИЯ. III. Театр. Кино
Этот процесс привел к обогащению киноязыка и к тому, что в настоящее
время практически все, что может быть рассказано словами, может быть
передано и языком киноповествования.
Расширение грамматического времени было достигнуто мысленным
перенесением героя в другое время. Пушкин в «Полтаве», описывая заключенного
в тюрьме и ожидающего казни Кочубея, создает лирические строки:
Заутра казнь. Но без боязни
Он мыслит об ужасной казни;
О жизни не жалеет он.
Что смерть ему? желанный сон.
Готов он лечь во гроб кровавый.
Дрема долит. Но, боже правый!
К ногам злодея, молча, пасть
Как бессловесное созданье,
Царем быть отдану во власть
Врагу царя на поруганье,
Утратить жизнь — и с нею честь,
Друзей с собой на плаху весть,
Над гробом слышать их проклятья,
Ложась безвинный под топор,
Врага веселый встретить взор
И смерти кинуться в объятья,
Не завещая никому
Вражды к злодею своему!..
И вспомнил он свою Полтаву,
Обычный круг семьи, друзей,
Минувших дней богатство, славу,
И песни дочери своей,
И старый дом, где он родился,
Где знал и труд, и мирный сон,
И все, чем в жизни насладился,
Что добровольно бросил он.
И для чего?
Но ключ в заржавом
Замке гремит — и, пробужден,
Несчастный думает: вот он!
Вот на пути моем кровавом
Мой вождь под знаменем креста,
Грехов могущий разрешитель,
Духовной скорби врач, служитель
За нас распятого Христа,
Его святую кровь и тело
Принесший мне, да укреплюсь,
Да приступлю ко смерти смело
И жизни вечной приобщусь!
Это готовый сценарий. Изображение Кочубея в темнице будет восприниматься
как действие, происходящее в настоящее время, а воспоминания его,
включенные в фильм одним из стандартных способов (например, наплывом,
Природа киноповествования
667
соединением мечтательной позы героя с неожиданно зазвучавшей лирической
музыкой и т. д.), — как прошедшее в настоящем. Роль переключателя времени
может играть сон (ср. «Иваново детство» А. Тарковского, где прием
значительно усложнен: снится не только прошлое, но и нереализованное, возможное
будущее, — меняется не только время, но и наклонение; при этом, поскольку
очевидно, что Ивану — герою фильма — его непрожитая жизнь сниться не
может, субъектом сновидения, видимо, делается зритель: это он в своих
раздумьях переносится в условное будущее).
Таким образом, на экране оказываются совмещенные глагольные
категории — временные и аспектуальные. Воспринимаемое участником экранного
действия как настоящее и реальное (даже если оно изображает исторически
прошедшее) время зритель приглашается принимать за настоящее.
Безусловно настоящее для героев фильма, оно является условно настоящим для
зрителей; «условно», поскольку зритель, благодаря историческим костюмам,
декорациям, сюжету защищен от полного отождествления времени фильма
и своей реальной эпохи, «настоящим», поскольку в момент сеанса зритель
должен психологически переживать состояние человека, не осведомленного
о последующем историческом опыте. Например, когда в посвященном жизни
Томаса Мора английском фильме «Человек на все времена» (1966, режиссер
Ф. Циннеман) после казни героя дикторский голос из-за кадра перечисляет,
когда и при каких обстоятельствах погибли Генрих VIII и другие гонители
Мора, это звучит как пророчество. При этом интересно следующее:
дикторский текст грамматически является прошедшим временем, так как, обращаясь
к зрителям XX в., повествует о событиях второй половины XVI в. Но
воспринимается он как будущее время, поскольку по отношению к событиям
фильма рассказывает о том, что произошло после его конца. Это пророческое
предсказание в грамматической форме прошедшего времени исключительно
характерно для восприятия времени в кино.
Нетрудно заметить, что конфликт, в котором противопоставляются, с
одной стороны, настоящее время и индикативное наклонение и, с другой
стороны, прошедшее и будущее времена и все виды ирреальных наклонений, —
это столкновение кинематографического мира и языкового грамматического.
Одно из основных свойств кино — иллюзия реальности, стремление постоянно
возобновлять в зрителе чувство подлинности происходящего на полотне,
внушение, что не знаки вещей, а сами вещи предстоят перед ним, — приходит
в конфликт с требованием создания грамматики, без которой нарратив
невозможен. А грамматика организует не реальность, а язык1. У нее своя
реальность, с точки зрения которой желательные формы2 глагола так же
1 Автономия структуры языка от структуры реальности не исключает, а
подразумевает их взаимное воздействие, в частности то, что мы воспринимаем реальность
сквозь структуру языка, на котором о ней размышляем.
2 Желательное наклонение (оптатив) — «модальное значение возможности
(вероятности) осуществления желаемого, выраженное в виде оттенка значения
сослагательного наклонения» (Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. М., 1966.
С. 248).
668
СТАТЬИ. ЗАМЕТКИ. ВЫСТУПЛЕНИЯ. III. Театр. Кино
реальны, как и индикативы. Выработка средств киноповествования несет
на себе печать этого конфликта, следы преобразования зримых и
вещественных образов в знаки грамматических категорий. Условная (конвенциональная)
природа грамматических средств киноповествования проявляется в том, что
они не опираются на какие-либо свойства реальных объектов, а покоятся на
простой негласной договоренности между режиссером и зрителями. Зритель
должен просто обучиться тому, что то или иное место ленты в данном случае
означает, например, ирреальность действия.
Так, в английском фильме «If...» («Если...», 1968, режиссер Л. Андерсон),
где темой является внутренний мир подростков, обучающихся в колледже,
кадры реальной жизни и желания и мысли того или иного героя даются
вперемежку и без каких-либо знаков, отличающих одни куски от других.
Нужен зритель, который умеет проводить различие между внешне
одинаковыми, но различными по модальности кусками ленты. Например, когда
подростки располагаются на крыше с пулеметами, готовясь открыть стрельбу
по прибывшим на воскресное свидание и картинно идущим цепью по лужку
родителям, зритель должен находиться внутри иронической стилистики
режиссера и понимать: перед тем, что он видит, нужно мысленно поставить
«если». Здесь условно-конвенциональная природа грамматической структуры
обнажена резче, чем в американском фильме «Благослови зверей и детей»
(1971) Стэнли Крамера, где образ матери, стреляющей по мальчику — герою
фильма, как по охотничьей мишени, введен в контексте сна и, следовательно,
внешне мотивирован.
Для выражения потенциалиса — «возможного» наклонения, которое
определяется как «модальная форма, выражающая идею возможности или
осуществимости в противоположность нереальному наклонению, выражающему
идею неосуществимой гипотезы»1 (отметим, что, с точки зрения
киноповествования, оба эти повествования нереальны, поскольку нереализуемы), как
правило, употребляются две последовательные версии одного и того же
эпизода. При этом формально-языковая природа такого построения
проявляется в том, что зритель воспринимает (должен научиться воспринимать!)
их не как последовательные во времени, а в качестве одновременно
существующих возможностей. В фильме «В прошлом году в Мариенбаде» (1961)
Алена Рене и Алена Роб-Грийе мы так и не узнаем, какая из версий отражает
реальное событие. Иначе построено соотнесение индикатива и потенциалиса
в «Забытой мелодии для флейты» Эльдара Рязанова. И здесь на экране перед
нами последовательно развертываются в каждом ключевом сюжетном эпизоде
две полярно противоположные версии. Ключом к распределению
грамматических категорий является характер героя. Мы скоро понимаем, что герой —
слабый человек, все время желающий сделать одно, а практически
совершающий совсем другое. При этом его добрая, но трусливая натура
подсказывает ему порядочные поступки, а нравы бюрократического мира —
лицемерные и лживые. Поэтому, когда герой попадает в трогательные или дра-
1 Марузо Ж. Словарь лингвистических терминов. М., 1960. С. 222.
Природа киноповествования
669
матические ситуации и проявляет себя как честный и смелый человек
(например, эпизод с отказом от должности, возвращением к любимой женщине,
готовностью жить в нищете), зритель знает, что здесь уместна вставка типа
«„хорошо бы", — подумал он...» или «у него мелькнуло желание», а когда
он произносит бессмысленную казенно-бюрократическую речь, — перед нами
реальный поступок.
Однако конфликт наивно-реалистического и формально-грамматического
подхода приводит к созданию чего-то третьего, типичного для
киноповествования. С одной стороны, мы получаем возможность преодолевать наивно-
иллюзионистскую психологию восприятия кино, и это открывает, например,
ворота для иронии и вообще для разнообразных форм прагматики кинотекста
(отношения режиссера и зрителей к киномиру). С другой стороны, зримо-
конкретная природа фильма не дает возможности воспринимать формальные
категории только как формальные. Если мы представим себе текст типа:
«Чтоб вы подохли, — подумал он о своей жене и теще», эффект этих грубых
мыслей и выражений совсем не будет равен эпизодам из «Развода по-
итальянски» (1961) П. Джерми, в котором мать и теща героя на наших глазах
падают, сраженные автоматной очередью (оптатив), или кошмарного эпизода,
в котором он варит из них мыло. В ничем не примечательной чешской
комедии «Король королей» (1963, режиссер М. Фрич) есть такой эпизод:
террорист дарит своему врагу, которого ему надо уничтожить, авторучку с
заложенной в нее миной. Тот, ничего не подозревая, мчится по шоссе в своей
роскошной машине и обгоняет старую крестьянку-чешку, которая тащит на
веревке упрямую козу через дорогу. Машина пугает козу, и та, вырвавшись,
бросается в сторону. «О, чтоб тебя разорвало», — в гневе ворчит старуха.
И тут же раздается оглушительный взрыв и на месте машины остается только
воронка. «Я этого не хотела», — шепчет старуха. Здесь перед нами как бы
демонстрация различий ирреального действия в речи и кино. Ирреальное в
кино все же всегда значительно реальнее, чем в словесном тексте.
Для разделения реального действия и различных модальностей
ирреального может использоваться противопоставление цветной и черно-белой
съемки, а также различные возможности, открываемые короткофокусной камерой
и съемкой с помощью ручной камеры. Мастером тонкого нюансирования
между реальным действием и потенциалисом был известный советский
оператор С. П. Урусевский, создавший, например, в фильме «Летят журавли»
впечатляющие кадры несостоявшейся свадьбы Бориса. Ирреальность действий
мотивирована как содержательно — параллельными кадрами умирающего
Бориса, так и формально — легкой размытостью изображения и ускоренной
съемкой одной части куска и быстротой движений в другой; все предсмертное
видение дается в ином ритме.
Следующий уровень повествования — сверхфразовый. Здесь вступают в
работу законы риторики: определенные куски кинотекста — кинофразы —
вступают в структурные соотношения параллелизма, противопоставления,
контраста, отождествления, в результате чего возникают дополнительные
смыслы. Соотнесенность кусков, как правило, сопровождается и
сигнализируется зрителю повторами в начале кинофраз (анафорами). Например, в
670
СТАТЬИ. ЗАМЕТКИ. ВЫСТУПЛЕНИЯ. III. Театр. Кино
«Седьмой печати» (1957) И. Бергмана повторяющаяся сцена игры в шахматы
Рыцаря и Смерти отмечает членение фильма на соотнесенные сюжетные
куски.
Следующим узлом конфликта является соотношение лица, которое мы
видим на экране и которое принадлежит реальному актеру, и героя как
повествовательной единицы, элемента сюжета. В нашем обычном сознании
эти два понятия столь тесно связаны, что расчленение их представляется
искусственным. Однако на самом деле это две противоборствующие силы.
Лицо актера принадлежит реальному миру, это лицо человека, имеющего
имя и фамилию, свою, вне фильма протекающую жизнь, часто прекрасно
известную зрителям. Зрители привыкли видеть это лицо и в других фильмах.
Они соединяют разные роли, сыгранные этим актером, в некоторую условную
личность, имеющую самостоятельное бытие. Особенно это заметно на судьбе
звезд кино. Однако для того, чтобы получилось повествование, куски текста
должны быть построены по законам сюжетообразования, так же как
кинофразы — по законам синтагматики (сцепления кадров в кинофразе). Если
там действуют законы повторяемости и сопоставляемости элементов кадров,
то здесь — повторяемости персонажей и их включенности в узнаваемые
зрителем типовые коллизии сюжетов.
Произведем мысленный эксперимент: мы во время демонстрации фильма
вставляем между его частями коробку с лентой из другого произведения.
Зрители, конечно, немедленно замечают ошибку, поскольку на экране
происходит нарушение сюжетной логики и действовавшие до сих пор персонажи
безо всякого объяснения сменяются другими. Однако мы можем себе
представить две такие ситуации: вставляется часть из другого фильма, где те же
актеры участвуют в разыгрывании другого сюжета; вставляется часть из
другого фильма, где те же роли разыгрывают другие актеры. Очевидно, что
в каждом из этих случаев перед нами будут различные нарушения
повествовательного механизма. В первом случае сохранится зрительно-вещественный
элемент киноязыка и разрушится та часть повествовательной структуры,
которая перенесена в кино из опыта словесного повествования. Во втором
случае словесно-сюжетная часть сохранится и пересказать такой фильм не
составит труда. Однако смотреть его будет нелегко. Приведем пример, где
несоответствие этих двух пластов сюжета превращено в сознательный
художественный принцип.
В фильме Луиса Бунюэля «Этот смутный предмет желания» (1977) герой
стремится овладеть девушкой, в которую влюблен. Девушку зовут Кончита.
Однако роль Кончиты играют две весьма отличные по внешности актрисы,
представляющие два сознательно подобранных различных типажа. И
характеры, которые создают эти актрисы, различны: в одном случае поползновения
героя разбиваются о преувеличенное целомудрие девушки, а в другом — об
ее столь же преувеличенную испорченность. Герой постоянно теряет
ориентировку, зритель тоже. Однако зритель через определенное время научается
ориентироваться и просто пренебрегать отличиями внешности и, скажем,
такими демонстративными противоречиями, как, например, в эпизоде, когда
Кончита (одна актриса) входит в дверь, в руках у нее белая сумочка, а когда
О языке мультипликационных фильмов
671
она (другая актриса) выходит, — черная. Мы отвергаем привычное «другая
внешность, следовательно, другой персонаж» и принимаем правило игры
«другая внешность, но тот же самый персонаж». Каким же образом мы
отождествляем этих двух девушек в единый персонаж? Дело, конечно, не
только в том, что они носят одно и то же имя. Важнее, что они находятся
в одних и тех же отношениях с другими персонажами, с пространством, с
окружающим миром. Они занимают одно и то же сюжетное место, а в
развитии сюжета продолжают друг друга. Таким образом, «литературный»
пласт повествования — пересказываемый словами и в определенном смысле
совпадающий со сценарием — и чисто кинематографический, который можно
себе зрительно представить, но нельзя пересказать словами, образуют сложное
двуединство, лежащее в основе киносюжета.
Итак, перед нами две равноценные возможности повествования в кино.
Всякую историю, всякий рассказ в кино можно передать двумя способами —
прерывистой цепью изображений и одним непрерывным, не изменяющимся
внутри себя кадром. Предельный случай «прерывистого» повествования —
фильм, составленный из неподвижных фотографий. Предельный случай
повествования непрерывного — фильм, состоящий из одного кадра; картина
А. Хичкока «Веревка» (1948) — хрестоматийный пример такого
безостановочного кадра. Между этими полюсами лежит большой диапазон
стилистических возможностей. Режиссер делает выбор. Он волен подключиться к
одной из двух мощных традиций киностилистики. За каждой из этих традиций
стоит определенное видение мира, каждая из них представляет свой тип
кинематографического мышления.
1993
О языке мультипликационных
фильмов
В обширной уже литературе по семиотике кино языку
мультипликационных фильмов почти нс уделяется внимания. Это отчасти объясняется
периферийным положением самого мультипликационного фильма в общей
системе киноискусства. Такое положение, конечно, не несет в себе ничего
закономерного и обязательного и может легко измениться на другом этапе
культуры. Развитие телевидения, повышая значение неполнометражных лент,
создает, в частности, технические условия для повышения общественного
статуса мультипликационных фильмов.
Существенным условием дальнейшего развития мультипликации является
осознание специфики ее языка и того факта, что мультипликационный фильм
не является разновидностью фотографического кинематографа, а представляет
672
СТАТЬИ. ЗАМЕТКИ. ВЫСТУПЛЕНИЯ. III. Театр. Кино
собой вполне самостоятельное искусство со своим художественным языком,
во многом противостоящим языку игрового и документального
кинематографа. Объединяются эти два кинематографа единством техники проката,
подобно тому как аналогичное единство объединяет часто в пределах одних
организационных форм оперный и балетный спектакли, несмотря на
принципиальное различие их художественных языков. Это административно
оправданное организационное единство нельзя путать с художественным
единством.
Разница между языком фотографического и мультипликационного
кинематографа заключается, в первую очередь, в том, что применение основного
принципа — «движущееся изображение» — к фотографии и рисунку приводит
к диаметрально противоположным результатам. Фотография выступает в
нашем культурном сознании как заместитель природы, ей приписывается
свойство тождественности объекту (такая оценка определяет не реальные
свойства фотографии, а место ее в системе культурных знаков: каждый знает,
что в выполненном хорошим живописцем портрете близкого нам лица мы
видим более сходства, чем в любой фотографии, но, когда речь идет о
документальной точности, при поимке преступника или в газетном репортаже,
мы обращаемся к фотографии). Каждый отдельный фотографический снимок
может быть под подозрением относительно точности, но фотография —
синоним самой точности.
Движущаяся фотография естественно продолжает это основное свойство
исходного материала. Это приводит к тому, что иллюзия реальности делается
одним из ведущих элементов языка фотографического кино: на фоне этой
иллюзии особенно значимой делается условность. Монтаж, комбинированные
съемки получают контрастное звучание, а весь язык располагается в поле
игры между незнаковой реальностью и знаковым ее изображением.
Живопись в паре с фотографией воспринимается как условная (в паре
со скульптурой или каким-либо другим искусством она могла бы
восприниматься как «иллюзионная» и «естественная», однако, попадая на экран, она
получает антитезой фотографию). Насколько движение естественно
гармонирует с природой «естественной» фотографии, настолько оно противоречит
«искусственному» рисованно-живописному изображению. Для человека,
привыкшего к картинам и рисункам, движение их должно казаться столь же
противоестественным, как неожиданное движение статуй. Напомним, какое
страшное впечатление производит на нас такое движение даже в литературном
(«Медный всадник», «Венера Илльская») или театральном («Дон Жуан»)
изображении. Внесение движения не уменьшает, как это было с фотографией,
а увеличивает степень условности исходного материала, которым пользуется
мультипликация как искусство.
Свойство материала никогда не накладывает на искусство фатальных
ограничений, но тем не менее оказывает влияние на природу его языка.
Человек, знакомый с историей искусства, не возьмется предсказывать, как
транформируется исходный художественный язык в руках большого
художника. Это не мешает пытаться определить некоторые его базовые свойства.
О языке мультипликационных фильмов
673
Исходное свойство языка мультипликации состоит в том, что он оперирует
знаками знаков: то, что проплывает перед зрителем на экране, представляет
собой изображение изображения. При этом если движение удваивает иллю-
зионность фотографии, то она же удваивает условность рисованного кадра.
Характерно, что мультипликационный фильм, как правило, ориентируется
на рисунок с отчетливо выраженной спецификой языка: на карикатуру,
детский рисунок, фреску. Таким образом, зрителю предлагается не какой-то
образ внешнего мира, ä образ внешнего мира на языке, например, детского
рисунка в переводе на язык мультипликации. Стремление сохранить ощутимой
художественную природу рисунка, не сгладить ее в угоду поэтике
фотографического кинематографа, а подчеркнуть проявляется, например, в таких
лентах, как «Охотник» Рейна Раамата («Таллинфильм»), где не только
имитируется тип детского рисунка, но и вводится прерывность: от одного
неподвижного кадра к другому переход совершается с помощью скачка,
имитирующего мелькание перед зрителем листов с рисунками. Специфика рисунка
тем или иным образом подчеркивается почти во всех рисованных лентах (ср.
специфику карикатуры в «Острове» и иллюстрации к детской книжке в
«Винни-Пухе» Ф. Хитрука, фрески и миниатюры в «Битве при Керженце»
И. Иванова-Вано и Ю. Норштейна1; исключительный интерес представляет
в этом отношении «Стеклянная арфа», сказка, в которой весь рисованный
сюжет построен на известных образах мировой живописи: страшный мир
стяжания и рабства в начале ленты раскрыт цепью движущихся образов из
картин Сальвадора Дали, Босха и других художников, но, преображенный
чудесным образом, он раскрывает в каждом человеке скрытого в нем
персонажа с полотен мастеров Ренессанса). Указанная тенденция подтверждается
и опытом использования кукол для мультипликационного фильма.
Перенесение куклы на экран существенным образом сдвигает ее природу по
отношению к семиотике кукольного театра. В кукольном театре «кукольность»
составляет нейтральный фон (естественно, что в кукольном театре действуют
куклы!), на котором выступает сходство куклы и человека. В кинематографе
кукла замещает живого актера. На первый план выдвигается ее «кукольность».
Такая природа языка мультипликации делает этот вид кинематографа
исключительно приспособленным для передачи разных оттенков иронии и
создания игрового текста. Не случайно одним из жанров, в котором
рисованную и кукольную ленту ожидали наибольшие успехи, была сказка для
взрослых. Представление о том, что мультипликационное кино жанрово
закреплено за зрителем детского возраста, ошибочно в такой же мере, в
какой то, что сказки Андерсена считаются детскими книгами, а театр
Шварца — детским театром. Попытки людей, не понимающих природы и
специфики языка мультипликационного фильма, подчинить его нормам языка
фотографического кино как якобы более «реалистического» и серьезного,
1 Интересно, что в кадрах этого фильма имитируется не только тип рисунка
древнерусской фрески и иконы, но и их привычный нам нынешний вид: имитируются
трещины краски!
674
СТАТЬИ. ЗАМЕТКИ. ВЫСТУПЛЕНИЯ. III. Театр. Кино
основаны на недоразумении и к положительным результатам привести не
могут. Язык любого искусства сам по себе не подлежит оценке. Невозможно
сказать, что язык драмы «лучше», чем язык оперы и балета. Каждый из них
имеет свою специфику, влияющую на место, которое занимает данное
искусство в иерархии ценностей культуры той или иной эпохи. Однако место это
подвижно, положение каждого искусства так же подвержено изменениям в
общем культурном контексте, как и характеристики его языка. А для того
чтобы отвести упрек в несерьезности, достаточно напомнить, что в рамках
иронического повествования были созданы такие значительные памятники
мирового искусства, как «Дон Жуан» Байрона, «Руслан и Людмила», «Евгений
Онегин» и «Домик в Коломне» Пушкина, сказки Гофмана, оперы
Стравинского и многое другое.
Дальнейший путь мультипликации к утверждению ее в качестве
самостоятельного искусства лежит не в стирании особенностей ее языка, а в осознании
и развитии их. Одним из таких путей, как кажется, может быть созвучное
художественному мышлению XX в. соединение в одном художественном
целом разных типов художественного языка и разной меры условности.
Например, когда мы видим в фильме Е. Туганова (текст Ю. Поэгеля)
«Кровавый Джон» («Таллинфильм») соединение трехмерного кукольного
пиратского корабля с двухмерной старинной географической картой, по которой
он плывет, мы испытываем резкое двойное обострение чувства знаковое™
и цитатности экранного образа, что создает исключительный по силе
иронический эффект.
Наверное, возможны и более резкие совмещения. Значительные
художественные возможности таятся в совмещении фотографического и
мультипликационного мира, однако именно при условии, что каждый будет выступать
в своей специфике. Сопряжение различных художественных языков (как,
например, в «Житейских воззрениях кота Мурра» Гофмана или в
произведениях Брехта или Шоу) позволит расширить смысловую гамму иронического
повествования от легкой комедийности до иронии грустной, трагической или
даже мелодраматической.
Сказанное отнюдь не ограничивает возможностей мультипликационного
кино одним лишь ироническим повествованием. Современное искусство с
его разнообразными «текстами о текстах» и тенденцией к,удвоению
семиотических систем открывает перед мультипликацией широкий круг тем,
лежащих на основных путях художественных поисков времени.
Теория не должна предустанавливать границы для будущего
художественного творчества — она может лишь указывать ему на возможные пути.
Киномультипликация — искусство исторически молодое, и путей перед ним
много.
1978
Послесловие: Структуральная поэтика
и ее место в наследии Ю. М. Лотмана
Исследования в области структуральной поэтики, занимавшие
центральное место в научном творчестве Ю. М. Лотмана 1960-х — начала 1970-х гг.,
знаменуют важнейший этап в его идейной эволюции. Дальнейшие
исследования в области типологии культуры, семиотики исторического процесса и
общей семиотики стали развитием идей, заложенных в этих работах. Не
случайно и то обстоятельство, что серия семиотических публикаций тартус-
ко-московской семиотической школы «Труды по знаковым системам»
открывается «Лекциями по структуральной поэтике» — единственной монографией
в этой серии.
В конце 1950-х — начале 1960-х гг. Ю. М. Лотман пережил острый
творческий кризис: круг проблем, исследованию которых он посвятил
предшествующие годы, если и не полностью утратил для него интерес, то, во
всяком случае, потерял значительную часть своей привлекательности.
Первоначальное недовольство собой, однако, вскоре перешло в осознание
кризисное™ ситуации в самом отечественном литературоведении, где
исторические исследования явно доминировали над теоретическими, а сам
историко-литературный процесс исследовался преимущественно с идеологической и
социальной точек зрения. Не удовлетворяли его и западные литературные
штудии с их подчеркнутым эмпиризмом и субъективизмом психологической
ориентации. Литературоведение выпадало из научной парадигмы XX в. и
тем самым из общего контекста развития науки вообще, и Ю. М. Лотман
поставил задачу его в этот контекст ввести. «Литературоведение должно быть
наукой» — таков был его лозунг в те годы1. При этом он ориентировался
не только на наиболее развитые в теоретическом плане разделы гуманитарных
наук (структурную лингвистику, несколько позже фольклористику), но и на
науки математического цикла (кибернетику, теорию информации, теорию
игр, математическую логику, топологию); параллельно с этим он заново
открывал для себя работы русских формалистов, в первую очередь Ю. Н. Ты-
1 См. полемическую статью под этим заглавием в «Вопросах литературы» (1967.
№ 1. С. 90—100).
676
Послесловие
нянова. Очевидная недостаточность собственной теоретической подготовки
одновременно и смущала и вдохновляла Ю. М. Лотмана, — будучи по
характеру бойцом, он более всего не любил неопределенные ситуации, а
обнаружив неприятеля (в данном случае — собственную теоретическую
некомпетентность), тут же бросался в бой. Трудность поставленной задачи
как в объективном, так и субъективном плане («приходится полностью
переучиваться» — таковы его собственные слова) лишь укрепляла его
решимость.
Вскоре выяснилось, что простой перенос лингвистической методологии
в область литературных исследований при всей заманчивости такого подхода
не может быть теоретически оправданным, поскольку объект исследования
здесь значительно сложнее. Более того, хотя лингвистические исследования
произведений художественной литературы не только возможны, но и в целом
ряде отношений весьма полезны, они (даже если они используют методы
структурной лингвистики) по сути свой антиструктуралистичны, поскольку
рассматривают отдельные элементы и аспекты вне их функции от целого,
которое в принципе не сводится к феноменам естественного языка. Все это
стимулировало выработку своей в достаточной мере оригинальной системы
структурно-семиотических взглядов, существенно отличавшихся от
существовавших к тому времени школ структурализма. Основные различия касались
соотношения выражения и содержания, роли и структуры текста, наконец,
самого понятия структуры, которое, с точки зрения Ю. М. Лотмана, в
литературоведении имеет принципиально иной характер, нежели в
лингвистике.
Контуры нового подхода стали проясняться в 1964 г., когда вышли из
печати «Лекции по структуральной поэтике» — первая монография в данной
области, в переработанном виде она составила основу публикуемой в
настоящем издании «Структуры художественного текста» (M., 1972)1. «Лекции...»
открывали перспективу в двух направлениях: в структурно-семиотическом
и теоретико-литературном. В предисловии к уже посмертному переизданию
этой монографии М. Л. Гаспаров пишет: «Есть две книги в русской научной
литературе, посвященные теории стиха, но чаще вспоминаемые не теоретиками
стиха, а теоретиками литературы широкого масштаба. Это „Проблемы
стихотворного языка" Ю. Н. Тынянова (1924) и, через сорок лет, „Лекции по
структуральной поэтике: Введение. Теория стиха" Ю. М. Лотмана (1964). <...>
Тынянов и Лотман далеко опередили свое научное время. Они наметили
очертания той теории поэзии, в которую должна вписываться теория стиха»2.
Ниже остановимся на некоторых особенностях структуральной поэтики
Ю. М. Лотмана, причем в центре нашего внимания будут не столько
методические, сколько общетеоретические вопросы.
1 В основу «Лекций...» положен курс лекций по теории литературы, читанный в
Тартуском университете в 1960/61 учебном году, тогда же была начата и работа над
книгой (см.: Лотман Ю. М. Письма. М., 1997. С. 127, 132).
2 Гаспаров М. Л. Предисловие // Ю. М. Лотман и тартуско-московская семиотическая
школа. М., 1994. С. 11—12.
Послесловие
677
Природа искусства.
Эта тема для Ю. М. Лотмана — одна из центральных, ей посвящена его
первая структуралистская публикация1. Проблема «апологии искусства»
постоянно появляется в работах его последниех лет. Такой поворот темы не
случаен: с точки зрения Ю. М. Лотмана, искусство принципиально уязвимо
в целом ряде отношений и постоянно нуждается в защите, однако в этом
проявляется не слабость его, а сила, поскольку апологетика искусства есть
важная функция культуры, стимулирующая ее общее развитие.
Искусство уязвимо в теоретическом плане и атаковано оно бывало с
самых различных позиций: идеализм Платона в этом отношении смыкается
с утилитаризмом русских нигилистов 1860-х гг. В других системах искусство
не отрицается, но отношение к нему оказывается пренебрежительным. Так,
Гегель определяет место искусства: выше мифов и суеверий, но ниже науки,
не говоря уже о философии. В практическом плане искусство всегда попадало
под жесткий контроль различных авторитарных и тоталитарных режимов, а
отдельные его виды и направления (например, модернизм в нацистской
Германии и в Советском Союзе) могли попадать в особую немилость. Тем
не менее сводить проблему к либеральному противопоставлению
тоталитаризма и демократии (как, например, у И. Бродского) не приходится, поскольку
и среди палачей всегда были поклонники и даже покровители искусств и
среди Демократов — его принципиальные противники. Если с авторитарной
точки зрения искусство может представляться опасным, то с
демократической — попросту излишним, ненужным. Я уже не говорю о различных
постмодернистских mot, относящих искусство в раздел репрессивных практик
и утверждающих, что искусство есть порождение тоталитаризма и само
способствует воспроизводству последнего. Вопрос о нужности/ненужности
искусства не есть вопрос поэтики и даже искусствознания вообще, поскольку
он не может рассматриваться изнутри самого искусства. Это обстоятельство
подчеркивается и в «Лекциях...», и в «Структуре художественного текста», к
вопросу о культурологической необходимости искусства Ю. М. Лотман
вернется в позднейших работах, однако уже в названных монографиях настойчиво
проводится мысль об искусстве как культурной универсалии; универсальность
искусства определяется тем, что оно выполняет уникальную и вместе с тем
жизненно важную для самого существования культуры функцию: оно создает
средства для ее самовыражения2.
Направленность исследований в области поэтики в немалой степени
зависит от общеэстетической и, шире, философской ориентации. В основе
большинства направлений европейской поэтики лежит учение Аристотеля,
согласно которому искусство соединяет в себе познавательную функцию
(мимесис) с нравственной (катарсис). Мир (нечто исходное и
неопределяемое) воздействует на произведения искусства, последние воздействуют на
1 Лотман Ю. М. Проблема сходства искусства и жизни в свете структурального
подхода // Тезисы докладов 1-й научной региональной сессии. Горький, 1962. С. 92—
102.
2 См. наст, изд., с. 18—19.
678
Послесловие
свою аудиторию. Аристотелеанское начало составляет существенный
компонент эстетики Гегеля и, в вульгаризированной форме, ленинской теории
отражения.
Наряду с этим возможна точка зрения, которую с определенной степенью
условности можно назвать картезианской, рассматривающая искусство в
качестве метода — метода познания и поиска истины. С этой точки зрения
внешний по отношению к произведению искусства мир есть не исходное, но
искомое1. В рамках этого подхода могут быть сформулированы различные
концепции. Для Ю. М. Лотмана произведение искусства есть модель
действительности. Модель не является лишь отражением уже существующей
действительности, в ней моделируемый ею фрагмент порождается (креативная
функция модели), исследование же «поведения» модели, позволяет
предсказывать будущие состояния действительности (прогностическая функция). В
этом отношении произведение искусства обнаруживает свойства, отличающие
его от моделей научного типа: познавательная функция в нем неразрывно
связана с игровой2. Речь идет не просто о том, что модель позволяет заранее
«проиграть» все возможные ситуации, в которых моделируемый объект может
впоследствии оказаться (так обстоит дело с моделями в науке и в технике),
но и о том, что она расширяет само пространство возможного. Игровые
аналогии присутствовали в структурализме с момента его зарождения:
Ф. де Соссюр сравнивал структуру языка с шахматами3. Если такая аналогия
(с существенными, впрочем, оговорками) и подходит для естественного языка,
то для искусства она не годится в принципе: искусство — это другая игра,
в нем не только «разыгрывается» (то есть творится) партия по заранее
сформулированным и обоим играющим известным правилам, но и постоянно
трансформируются (то есть опять-таки творятся) сами правила.
Искусство как язык. Проблема текста.
Если произведение искусства является моделью, то само искусство следует
определить в качестве моделирующей системы. Искусство есть «особым
образом организованный язык» (язык здесь понимается в семиотическом смысле,
как знаковая система), в то время как «произведения искусства — то есть
сообщения на этом языке — можно рассматривать в качестве текстов»4.
1 Значительно позже, в работе 1989 г. отказ от гегелевской традиции и ориентация
на Лейбница и Канта получит теоретическое осмысление (Лотман Ю. М. Культура
как субъект и сама себе объект // Wiener Slawistischer Almanach. 1989. Bd 23. S. 187—
197).
2 См.: Лотман Ю. М. Игра как семиотическая проблема и ее отношение к природе
искусства // Программа и тезисы докладов в Летней школе по вторичным
моделирующим системам, 19—29 августа 1964 г. Тарту, 1964. С. 32—33.
3 Развитие и критический анализ этой аналогии см.: Ревзин И. И. К развитию
аналогии между языком как знаковой системой и игрой в шахматы // Тезисы докладов
IV Летней школы по вторичным моделирующим системам, 17—24 августа 1970 г.
Тарту, 1970. С. 177—185.
4 Наст, изд., с. 18—19.
Послесловие
679
Художественные модели принадлежат к классу знаковых моделей. Когда
же речь идет о литературе, материалом которой, в свою очередь, является
знаковая система (естественный язык), то она принадлежит ко вторичным
моделирующим системам1, надстроенным над языком. Уже естественный язык
не есть просто средство передачи готовой информации, но моделирующая
система. Семантически он совсем не нейтрален, и особенности его структуры
могут иметь далеко идущие культурологические последствия (я имею в виду
здесь не столько гипотезу лингвистической относительности Сэпира-Уорфа,
сколько исследования Б. А. Успенского и других представителей тартуско-
московской семиотической школы2). Тем более это справедливо для
словесного искусства: оно творит свой мир.
Со структуралистской точки зрения сфера языка (langage де Соссюра)
распадается на две непересекающиеся области: на собственно язык (langue)
и речь (parole). Это же справедливо и для языка искусства, где такого рода
бинарность отмечалась уже русскими формалистами (метр vs. ритм; фабула
vs. сюжет). Основное отличие от ситуации в структурной лингвистике
заключается в характере соотношения этих феноменов. Для де Соссюра язык
первичен по отношению к речи: язык — это структура, образуемая «чистыми
отношениями» (нечто вроде платонической идеи), речь же — пассивная
реализация этой структуры; предметом лингвистики является язык, а не речь.
Иначе обстоит дело в искусстве: соотношение языка и речи не есть здесь
отношение системы и ее реализации, отношение это имеет всегда конфликтный
(то есть игровой) характер.
Здесь возникает проблема текста. Для ставших уже к тому времени
классическими направлений структурной лингвистики этой проблемы (как и
для де Соссюра) не существовало: текст принадлежит области речи,
следовательно для науки о языке самостоятельного интереса не представляет.
Очевидно, что такой подход не может быть продуктивен применительно к
анализу искусства. И дело здесь не только в том, что анализ языка искусства
имеет целью, в первую очередь, более глубокое и адекватное проникновение
в его тексты (то есть произведения искусства), но и в том, что текст в
искусстве обладает рядом свойств, принципиально не выводимых из лежащего
1 Согласно теперь уже отчасти опубликованному фольклору, связанному с тартуской
школой, этот термин был предложен В. А. Успенским, причем неоднократно
подчеркивался его сугубо условный и даже хулиганский характер и то, что целью его был
обход цензуры (см.: Успенский Вл. А. Прогулки с Лотманом и вторичное
моделирование // Лотмановский сборник-1. М., 1995. С. 106—107: «Я не скрывал от Лотмана
развлекательно-хулиганский характер моего предложения; тем не менее, к моему
удивлению, он сразу за него ухватился»). Вместе с тем для Ю. М. Лотмана он никак
не случаен и органически входит в его систему культурологических понятий:
«вторичные моделирующие системы» — это для него не синоним или эвфемизм
семиотических систем, но особая разновидность последних (см.: Лотман Ю. М. Несколько
замечаний по поводу статьи проф. Марии Р. Майеновой «Поэтика в работах
Тартуского университета» // Russian Literature. [1974]. № 6. С. 83—90).
2 См. например: Успенский Б. А. Влияние языка на религиозное сознание // Учен. зап.
Тартуского гос. ун-та. 1969. Вып. 236. С. 159—168. (Труды по знаковым системам. Т. 4).
680
Послесловие
в его основе языка1. Таковы, например, «рамка» текста, его точка зрения,
некоторые композиционные принципы (типа «закона третьей четверти») и
т. п. Для Ю. М. Лотмана принципиально важно, что текст, а не только язык
обладает своей структурой и, следовательно, возможно его имманентное
описание2.
Конфликт художественного задания и его реализации поучительно
рассмотреть на примере соотношения метра и ритма, поскольку стиховедение
является наиболее разработанной областью литературоведения.
Метр и ритм.
Разграничение метра и ритма было предложено А. Белым еще в 1910 г.,
то есть задолго до структурализма. Для Белого метр — это правильная схема
чередования ударных и безударных слогов, а ритм — система отступлений
от метра3. В структуралистском духе эта оппозиция была
переинтерпретирована формалистами, особая роль здесь принадлежит «Введению в метрику»
В. М. Жирмунского: метр — это идеальная схема, ритм — ее реализация.
При таком подходе метр соотносим с соссюровским langue, а ритм — с
parole. В дальнейшем, в 1960—1970-е гг., Р. О. Якобсоном и вслед за ним
К. Ф. Тарановским проблема была переформулирована в духе теории
информации: метр — это код, а ритм — сообщение, последовательность
сигналов, реализующих метр и соотносимых с ним. Информационная
трактовка ритма связывала его с вероятностной моделью и служила
дополнительным обоснованием его статистического анализа.
Что касается собственно-структуралистских разработок, то здесь должны
быть указаны результаты, полученные Р. О. Якобсоном и Н. С. Трубецким
еще в 1930-е гг., но ставшие достоянием русского стиховедения со
значительным опозданием — лишь в 1970-е гг. к ним привлек внимание М. Л. Гас-
паров4. Результаты эти оказались весьма нетривиальными. Так, в русском
1 Другое дело, что сказанное представляется в достаточной мере справедливым и
для текстов на естественном языке. На несводимости текста к языку настаивает
лингвистика текста; первые публикации в этой области начали появляться в конце
1960-х гг.
2 Таким образом, структуральный подход Ю. М. Лотмана обнаруживает
кантианский субстрат (см.: Лотмап М. Ю. За текстом: Заметки о философском фоне
тартуской семиотики (Статья первая) // Лотмановский сборник-1. С. 214—222.
3 Некоторые критики А. Белого утверждали, что предложенное им разграничение
не оригинально, метр и ритм различали якобы уже в средние века. Это —
недоразумение: под метрическими стихами понимались тогда квантитативные,
основывающиеся на длительности, а ритмические противопоставлялись им как основывающиеся
на ударении.
4 Трубецкой Н. С. К вопросу о стихе «Песен западных славян» // Трубецкой Н. С.
Избр. труды по филологии. М., 1987. С. 359—370; Jakobson R. Selected Writings.
Vol. 5: On Verse, Its Masters and Explorers. The Hague, 1979. P. 147—159. См. также:
Гаспаров M. Л. Современный русский стих. Метрика и ритмика. М., 1974. С. 127—128;
Левинтон Г. А. Из маргиналий к поэтике пражской школы: Определение метра у
Н. С. Трубецкого // Russian Literature. XI. 1981. P. 67—78. Levinton G. A. Further
notes on Trubetzkoy's Verse Theory // Elementa. 1996. Vol. 2. No 3—4. P. 285—294.
Послесловие
681
ямбе чередуются сильные и слабые позиции, но, согласно Якобсону и
Трубецкому, ударные позиции, то есть те позиции, которые традиционно
считались сильными, оказались слабыми, немаркированными, в то время как
безударные — маркированными, то есть сильными. Трубецкой и Якобсон
отказываются от понятия стопы и рассматривают стихотворный метр в
качестве последовательности сильных (иктов) и слабых (неиктов) позиций.
Русский ямб образуется в результате привативного противопоставления
безударных и произвольных позиций. То есть вместо традиционного:
И 3/4 И 3/4 ИЗ/4...
мы имеем:
И χ И χ И χ . . .
Результат этот следует признать чрезвычайно важным, по значению его
можно сопоставить с «открытием» в ямбе «пиррихиев»; в частности, он
показал, насколько ненадежными могут быть представления, с интуитивной
точки зрения самые убедительные.
Тем не менее здесь возникает чрезвычайно важная проблема, ставящая
под сомнение все это построение. Что описывают Трубецкой и Якобсон —
метр или ритм? С одной стороны, речь, конечно же, должна идти о метре:
сама фонологическая (по Трубецкому) методика свидетельствует об этом со
всей очевидностью — Трубецкой и Якобсон описывают систему русского
ямба, а не ее конкретную реализацию в каком-либо тексте1. С другой стороны,
очевидно и то, что эта фонологическая (по методу) акцентология ритма к
метру-то никакого отношения и не имеет: метр — это характер чередования
позиций (например, в ямбе — через одну), а не способ их реализации. Дело
в том, что стихотворый текст есть одновременная реализация как
фонологической, так и метрической структуры, взаимодействие же фонологии и
метрики если вообще имеет место, то носит значительно более сложный и
опосредованный характер, нежели это представлялось в 1930-е гг.
Для Ю. М. Лотмана конфликт метра и ритма представляет двоякий
интерес: и как самостоятельная проблема стиховедческого описания, и как
наиболее рельефное проявление общеэстетической закономерности. «Если
оставить в стороне те художественные системы, которые строятся согласно
принципам эстетики тождества2, то в неполной эквивалентности ритмических
рядов... можно увидеть проявление достаточно общего свойства языка
искусства. <...> В художественных системах современного типа сама структура
1 Неучет этого очевидного обстоятельства приводит к недоразумениям (см.:
Холщевников В. Е. К спорам о русской силлабо-тонике // Проблемы теории стиха. Л.,
1984. С. 168—173). Трубецкого не интересует, как в тексте определить, где
маркированная, а где немаркированная позиция, — это задача исследования ритма, а не
метра.
2 См.: Лотман Ю. М. Каноническое искусство как информационный парадокс //
Проблема канона в древнем и средневековом искусстве Азии и Африки. М., 1973.
С. 16—22.
682
Послесловие
художественного языка информативна... <...> Некоторый заданный в тексте
или группе текстов тип упорядоченности должен все время находиться в
конфликте с некоторым неупорядоченным относительно него материалом»1.
В ответ на попытку Б. Я. Бухштаба пересмотреть необходимость
рассматриваемой дихотомии2 Ю. М. Лотман писал: «...не только не следует
отказываться от противопоставления „метр — ритм" как организующего структурного
принципа, а наоборот: именно на этом участке стиховедение столкнулось с
одним из наиболее общих законов словесной художественной структуры. <...>
В художественной структуре каждый уровень должен складываться из
противонаправленных структурных механизмов, из которых один устанавливает
конструктивную инерцию, автоматизирует ее, а другой выводит конструкцию
из состояния автоматизма... в художественном тексте каждый уровень имеет
двухслойную организацию. <...> ...Задача состоит не в том, чтобы „преодолеть"
двойственность в понимании природы поэтического размера, а в том, чтобы
научиться и во всех других структурных уровнях обнаруживать двухслойный
и функционально противоположный механизм. Отношение фонетического ряда
к фонематическому (звук — фонема3), клаузулы (рифмической позиции) к
созвучию, сюжета к фабуле и так далее образуют на каждом уровне не мертвый
автоматизм, а живое, „играющее" отношение элементов»4.
Стихотворный ритм есть последовательность сигналов, вступающих в
игровые отношения как с метрической схемой, так и с ожиданиями аудитории.
Он существует в пространстве напряжения между полным автоматизмом и
полной неупорядоченностью.
В этом контексте следует рассматривать странное место в «Лекциях...»,
где структуру русского четырехстопного ямба предлагается трактовать
следующим образом:
О, ±1, 0,±1, 0,±1, 0,±1, [0]
где «0» обозначает позицию безударного слога, «1» — позицию ударного
слога, а «+» и «-» — реализацию или нереализацию данной позиции5. Иными
1 Наст, изд., с. 139.
2 Бухштаб Б. Я. О структуре русского классического стиха // Учен. зап. Тартуского
гос. ун-та. 1969. Вып. 236. С. 386—408. (Труды по знаковым системам. Т. 4.)
3 Следует отметить, что для Ю. М. Лотмана фонемика стихотворного текста может
существенным образом отличаться от общеязыковой; в частности, она более тесно
связана с графикой. Так, «ю» может выступать в функции фонемы во «влажных» (по
Лермонтову) рифмах типа «люблю — мою», где рифмуются [-ю] с [-ю], а не [-'и] с
[-ju]. Вообще он уделял повышенное внимание графике (не только в фонике, но и в
ритмике, строфике и т. д.), считая, что в искусстве слова она деавтоматизируется и
приобретает самостоятельное значение.
4 Лотман Ю. М. Анализ поэтического текста // Лотман Ю. М. О поэтах и поэзии.
СПб., 1996. С. 58—59.
5 Комментируя это место, В. С. Баевский замечает: «Введенный здесь способ
представления метра нельзя считать удачным; он не удержался» (Ю. М. Лотман и тартуско-московская
семиотическая школа. С. 252). Хотя сказанное представляется в целом справедливым (ср.,
Послесловие
683
словами, следует различать не просто ударные и безударные слоги, но ударные
в ударной (+1) и безударной (-0) позиции, а безударные в безударной (+0)
и ударной (-1) позиции.
Очевидным недостатком этой трактовки является то, что она не учитывает
окружения слога: ударный слог односложного слова имеет принципиально
иную значимость, нежели ударный слог многосложного слова, поскольку в
первом случае он не противопоставлен безударным слогам того же слова1.
Но она обладает и некоторыми существенными достоинствами. Во-первых,
каждая позиция в стихе простым и наглядным образом может быть
охарактеризована с точки зрения реализации/нереализации метрического задания.
Во-вторых, эти «1» и «0» есть не что иное, как экспликация понятий икта
и неикта, к которым автор исследования пришел самостоятельно. Таким
образом, хотя Ю. М. Лотман и исходит из принципиально иных по сравнению
с Н. С. Трубецким и Р. О. Якобсоном посылок, логика структурального
подхода подводит его к близким выводам.
«Минус-приемы».
Безударный слог в позиции безударного принципиально отличается от
безударного слога в позиции ударного: в первом случае мы имеем
безударность, во втором, так сказать, минус-ударность — структурно значимое
отсутствие ударения. Концепция структурно значимого отсутствия
чрезвычайно важна для структурализма, поскольку именно в нем наиболее отчетливо
проявляется приоритет структурных отношений по отношению к материалу.
В лингвистике это дало понятие нулевого элемента (например, нулевой
морфемы), в семиотике — понятие нулевого знака2. К понятию нулевого
элемента близко подошли и русские формалисты, особенно Ю. Н. Тынянов
с его концепцией эквивалента текста.
В художественной структуре таким нулевым элементом является, по
Ю. М. Лотману, «минус-прием». Хотя в большинстве откликов на «Лекции...»
впрочем: Pamies Bertron A. Yuri Lotman y la métrica russa // M. Coceres, éd. En la esfera
semiytica lotmaniana: Estudios en honor de luri Michailovich Lotman. Valencia, 1997. P. 349),
поучительно было бы посмотреть, что скрывается за этой неудачей, которую случайной
считать не приходится: соответствующий пассаж явно удовлетворял автора и был повторен
в «Структуре художественного текста» (с. 173). Примечательно, однако, что для стиховеда
В. С. Баевского, в высшей степени квалифицированного и благожелательного
комментатора, неприемлемыми оказываются именно специфически стиховедческие части
работы.
1 Якобсон Р. О чешском стихе преимущественно в сопоставлении с русским. М.;
Берлин, 1923.
2 Для Ю. М. Лотмана была в этом отношении значима и естественно-научная
аналогия, поскольку для него структурализм не является чем-то специфичным лишь
для гуманитарного знания, но является методологией общенаучного значения:
«Современная молекулярная физика знает понятие „дырки", которое совсем не равно
простому отсутствию материи. Это отсутствие материи в структурном положении,
подразумевающем ее присутствие. В этих условиях „дырка" ведет себя настолько
материально, что можно измерить ее вес...» (Наст, изд., с. ПО).
684
Послесловие
концепция «минус-приема» встретила сочувственное отношение, сам термин
нельзя считать вполне удачным, поскольку вызывает неизбежные ассоциации
с отвергнутой структурализмом концепцией В. Б. Шкловского искусства как
приема: структура складывается из отношении между ее конституентами, а
не из приемов. Для Ю. М. Лотмана, однако, важно, что в художественной
структуре речь идет не о нулевом элементе, а о минусовом. Художественная
структура имеет игровой характер, она активна, и значимое отсутствие
элемента в ней не есть «дырка», но отрицание его.
Сфера действия «минус-приемов» в поэтике значительно шире, чем в
лингвистике, она включает как формальные, так и функциональные
отношения, не только внутритекстовые, но и внетекстовые отношения, наконец,
отношения не только синхронические, но и диахронические.
Так, отсутствие рифмы во многих текстах позднего Пушкина имеет
принципиально иной смысл, нежели ее отсутствие в стихе былин: в былинах
безрифменность нейтральна, Пушкин же отказывается от рифмы и
компетентный читатель фиксирует этот отказ именно как отказ. Свободный стих
отказывается от всех элементов, характерных для регулярного стихосложения,
остается лишь условный знак стихотворное™ (проявляющийся, например, в
графической структуре текста). Нерегулярные формы фольклорного
стихосложения не могут считаться свободным стихом — это омонимичные формы;
свободный стих предполагает предшествующую ему традицию регулярного
стиха1 манифестаций необычной в языковом отношении природы этого текста.
Вообще понятие «минус-приема» оказывается особенно плодотворным при
исследовании эволюции художественных систем, поскольку позволяет
рассматривать ее как череду не только приобретений и потерь, но и сознательных
отказов. Так, стихотворная речь и в структурном, и в историческом смысле
оказывается первичной по отношению к художественной прозе — последняя
возникает на фоне развитой поэтической культуры в результате отказа от
специфических для стиха форм огранизации.
Структура как значение.
Одной из основных особенностей концепции Ю. М. Лотмана является
отождествление в художественном тексте его структуры и значения. С
одной стороны, эта концепция может считаться развитием тезиса русских
формалистов, подхваченного и развитого Пражским лингвистическим
кружком, о поэзии как речи с установкой на выражение. Тем не менее само
разграничение выражения и содержания в формализме еще сохраняется.
Р. О. Якобсон, в свою очередь, развил положение об установке на выражение
в учение о поэтической функции языка, функции, направленной на сам
текст. Еще более важной для Ю. М. Лотмана оказалась концепция инфор-
1 Ср.: «Чем изощреннее семиотическое сознание аудитории, чем меньше ей требуется
материальных знаков вторичной закодированности...» (Лотман Ю. М. Несколько
замечаний по поводу статьи проф. Марии Р. Майеновой «Поэтика в работах
Тартуского университета» // Russian Literature. [1974], № 6. P. 89).
Послесловие
685
мации акад. А. Н. Колмогорова, согласно которой информация есть мера
организации1.
Здесь следует выделить два обстоятельства. Во-первых, функциональная
гомогенность в художественном тексте внутри- и внесистемных отношений:
все структурно значимые отношения становятся семантическими.
Художественный текст — это сложно построенный смысл. В структурной лингвистике,
начиная с де Соссюра, эти отношения разграничиваются: первые образуют
сферу значимостей, которая резко отграничивается от сферы внешних
значений, — к семантике имеют отношение только последние. Во-вторых, если
в основе соссюровской семиологии лежит фиксированная
противопоставленность означаемого и означающего2, то в структуральной поэтике это
отношение релятивизируется и планы выражения и содержания, связанные
знаковыми отношениями, могут меняться местами.
Коротко остановимся на этих положениях. Если стихотворение — это
сложно построенный смысл, то это значит, в частности, что никакого
«упаковочного материала» (акад. Л. В. Щерба, позднее эту идею развивал
В. П. Григорьев) в нем нет. С точки зрения Ю. М. Лотмана, в этом
проявляется принципиальное различие языковой и поэтической структуры: первая
складывается из элементов различных уровней, причем «низшие» уровни
принципиально асемантичны, вторая — уже изначально семантична и есть
система распределения смысла. Асемантические (или досемантические)
элементы языковой системы в поэтическом тексте становятся потенциально
значимыми: «И для низших уровней [поэтического текста] строго языковой
анализ недостаточен — необходим еще семиотический»3.
Пансемантизм поэтического текста не сводится лишь к проекции смысла
в досемантические структуры языка, происходит и противоположный процесс:
внутриязыковые структурные значимости, проецируясь во внетекстовые
сферы, становятся семантическими, — так семантизируются в восприятии
звуковые повторы, синтаксические структуры, грамматические категории и
т. п. (это может быть сопоставлено с концепцией внутренней формы языка
как носительницы национального духа В. фон Гумбольдта, с точки зрения
которого именно в поэзии — как в фольклорной, так и в литературной —
внутренняя форма дает о себе знать наиболее ощутимым образом).
1 Наиболее обстоятельно это положение применительно к художественным текстам
аргументируется не в рассматриваемых монографиях, а в ответе на рецензию Яна
Мейера: Лотман Ю. М. Несколько слов по поводу рецензии Я. М. Мейера
«Литература как информация» // Russian Literature. [1975]. № 9. P. Ill—118).
2 Следует учесть, что Ю. М. Лотман ориентировался именно на соссюровскую
семиологию, а не на пирсовскую семиотику, — последнюю он в 1960—1970-е гг. знал
плохо (преимущественно по секундарным источникам) и считал слишком
схематичной для поэтических штудий (противоположного мнения придерживался Р. О.
Якобсон).
3 Лотман Ю. М. Несколько замечаний по поводу статьи проф. Марии Р. Майено-
вой «Поэтика в работах Тартуского университета» // Russian Literature. [1974]. № 6.
P. 89.
686
Послесловие
Художественный текст характеризуется не только более тесной, rfö
сравнению с текстом обиходным, связанностью планов выражения и содержания,
параллелизмом этих планов, но релятивизацией их соотношения.
Художественный текст никогда не сводится к реализации лишь одного языка, он есть
результат столкновения нескольких (минимально — двух) принципиально
различных кодов, конфликта между ними (это положение будет развито в
исследованиях по типологии культуры). Конфликт этот носит диалоговый
характер и приводит к тому, что текст представляет собой систему взаимных
перекодировок, и тогда все внутрисистемные отношения релятивизируются:
если параллельные планы взаимно перекодируются друг в друга, то каждый
из них выступает по отношению к другому и в функции выражения, и в
функции содержания.
Работы, о которых шла речь выше, написаны более тридцати лет назад.
«Наше короткое бессмертие состоит в том, чтобы нас читали и через
25 лет (дольше в филологии — удел лишь единичных гениев)»1.
Многое в трудах Ю. М. Лотмана устарело, есть и просто ошибочные
суждения, но есть в них и довольно многочисленные положения, которые не
только сохраняют актуальность по сей день, но и открывают перспективы
будущим исследованиям. Однако главное их значение в другом: здесь на
сравнительно простом материале начал разрабатываться метод, который лег
в основу блистательных достижений тартуско-московской школы в области
семиотики культуры. Эти исследования, в свою очередь, привели к
существенному пересмотру многих положений самой структуральной поэтики.
Значительный пласт структуральной поэтики вошел в повседневный обиход
гуманитарного знания и уже не воспринимается ни как специфически «лот-
мановский», ни даже как специфически «структуралистский» — зерно, которое
умерло, «принесло много плода».
М. Лотман
1 Письмо к Л. М. Лотман от 23. 07. 1984 (Лотман Ю. М. Письма. С. 80).
От редакции
Настоящий том, собравший труды Ю. М. Лотмана, посвященные
проблемам искусства, продолжает издание его сочинений и вместе с тем он стоит
особняком в ряду уже выпущенных. Это объясняется отнюдь не тем, что
искусство было неспецифической областью исследований для Лотмана —
филолога и историка культуры, а тем, что его имя привычно связывается с
семиотикой, типологией культуры, историей литературы. Между тем
Ю. М. Лотман неизменно включал в сферу своих научных изысканий
искусство. Разумеется, издательство не ставило своей задачей представить Лотмана
с неожиданной стороны. Расширение читательского представления о нем —
неизбежное следствие того, что здесь впервые собраны статьи о театре,
кинематографе, изобразительном искусстве, которые, как можно убедиться,
составляют немалую часть обширного наследия ученого. Делом составителя
и издательства было дать целостную картину подходов Лотмана к искусству,
дать представление о самой методологии его изучения. Она содержится не
только в сугубо теоретических статьях, но открывается и в его исследованиях
конкретных видов и жанров искусства. О чем бы ни писал Лотман — о
портрете, натюрморте, кукольном театре, мультипликационном кино, —
каждая отдельная статья сопрягается с контекстом его исследований и помогает
увидеть общую картину функционирования культуры.
Состав тома полностью охватывает все написанное Лотманом о
конкретных видах искусства (театр, кинематограф, изобразительное искусство). Что
же касается статей по общим проблемам искусства, то отбор их носил в
некоторой степени условный характер. Сам универсализм исследователя,
свойственная ему способность сопрягать отдаленные области знаний не
позволяют формально отделить в его теоретических трудах семиотику,
типологию культуры от искусствознания. Рамки этого раздела достаточно условны.
Издание по-прежнему ставит целью сделать доступными для читателя
(прежде всего для школьников, студентов, педагогов, аспирантов) работы
ученого. Это касается не только таких из них, как выпущенная тиражом
500 экземпляров статья «Проблема сходства искусства и жизни в свете
структурального подхода» (1962), но и широко известной монографии «Структура
художественного текста» (1970), которую можно получить только в читатель-
ных залах крупных библиотек.
688
От редакции
Структура тома строится по «тематическому» принципу — статьи
сгруппированы в три раздела по видам искусства. Как дополнительный принцип
использован жанровый — в первой части помещены две монографии, во
второй — статьи, заметки и материалы выступлений.
Научно-справочный аппарат издания состоит из вступительной статьи
учеников Ю. М. Лотмана — Р. Г. Григорьева и С. М. Даниэля, именного
указателя, подготовленного Ю. А. Балакиным, и перечня источников
публикации, составленного в издательстве.
При выборе источников текста издательство ориентировалось на наиболее
полное прижизненное издание: Лотмаи Ю. М. Избранные статьи: В 3 т.
Таллинн, «Александра», 1992—1993 (ниже ссылки на это издание даются в
сокращении: Избр. статьи, том, страница). Тексты этого издания сверялись
в необходимых случаях с текстом первых публикаций. Не вошедшие в него
статьи воспроизводятся по первой публикации. При подготовке издания
проведена необходимая сверка цитат, восполнены пропуски в
библиографических описаниях. По всем текстам проведена унификация в подаче
вспомогательных сведений, оформлении библиографических данных, подстрочных
примечаний, написании различных наименований, условных сокращений и
обозначений. Статьи датируются, как это принято самим автором, по году
выхода в свет.
Структура художественного текста — Печатается по отдельному изданию
(М., 1970).
Семиотика кино и проблемы киноэстетики — Печатается по отдельному
изданию (Таллин, 1973).
Статьи. Заметки. Выступления
I. Общие проблемы искусства
Условность в искусстве — Избр. статьи. Т. 3. С. 376—379. Впервые —
Философская энциклопедия. М., 1970. Т. 5. Стб. 287—288. Совм. с Б. А.
Успенским.
Проблема знака в искусстве. [Тезисы доклада] — Программа и тезисы
докладов в Летней школе по вторичным моделирующим системам, 19—29
августа 1964 г. Тарту, 1964. С. 57—58.
Проблема сходства искусства и жизни в свете структурального подхода —
РСФСР. Мин-во высшего и среднего спец. образования. Волго-Вятский Совет
по координации и планированию научно-исследовательских работ по
гуманитарным циклам: Тезисы докладов 1-й научной региональной сессии.
Горький, 1962. С. 92—102.
Тезисы к проблеме «Искусство в ряду моделирующих систем» — Учен,
зап. Тартуского гос. ун-та. 1967. Вып. 198. С. 130—145.
О природе искусства — Ю. М. Лотман и тартуско-московская
семиотическая школа. М., 1994. С. 432—438.
От редакции
689
Риторика — Избр. статьи. Т. 1. С. 167—183. Впервые — Учен. зап.
Тартуского гос. ун-та. 1981. Вып. 515. С. 8—28.
Текст в тексте — Учен. зап. Тартуского гос. ун-та. 1981. Вып. 567.
С. 3—18.
Каноническое искусство как информационный парадокс — Избр. статьи.
Т. 1. С. 243—247. Впервые — Проблема канона в древнем и средневековом
искусстве Азии и Африки. М., 1973. С. 16—22.
К проблеме пространственной семиотики. [От редакции] — Учен. зап.
Тартуского гос. ун-та. 1986. Вып. 720. С. 3—6.
[О проблеме барокко] — IV Международный съезд славистов: Материалы
дискуссии. М., 1962. Т. 1. С. 149—150.
Искусствознание и «точные методы» в современных зарубежных
исследованиях. [Вступительная статья] — Семиотика и искусствометрия.
Современные зарубежные исследования. Сб. переводов. М., 1972. С. 5—23.
Ян Мукаржовский — теоретик искусства. [Вступительная статья] — Му-
каржовский Я. Исследования по эстетике и теории искусства. М., 1994.
С. 8—32.
П. Изобразительное искусство
Художественная природа русских народных картинок — Народная
гравюра и фольклор в России XVII—XIX вв. (К 150-летию со дня рождения
Д. А. Ровинского). Материалы научной конференции. 1975. ГМИИ им.
А. С. Пушкина. М., 1976.
Натюрморт в перспективе семиотики — Вещь в искусстве. Материалы
научной конференции (1984). М., 1986. С. 6—14.
Портрет — Вышгород (Таллин). 1997. № 1—2. С. 8—31.
Истоки «толстовского направления» в русской литературе 1830-х годов —
Лотман Ю. М. О русской литературе. СПб., 1997. С. 548—593. Впервые —
Учен. зап. Тартуского гос. ун-та, 1962. Вып. 119. С. 3—77. То же — Избр.
статьи. Т. 3. С. 49—90.
Почему море в мужском роде? — Лотман Ю. М. Пушкин. СПб., 1995.
С. 342—346. Впервые (под общим заголовком «Три заметки о Пушкине») —
Вторичные моделирующие системы. Тарту, 1979. С. 96—99. То же — Избр.
статьи. Т. 3. С. 399—402.
Замысел стихотворения о последнем дне Помпеи — Лотман Ю. М.
Пушкин. СПб., 1995. С. 293—299. Впервые — Пушкин и русская литература:
Сб. научных трудов. Рига, 1986. С. 24—33. То же — Избр. статьи. Т. 2.
С. 445—451.
Художественный ансамбль как бытовое пространство — Избр. статьи.
Т. 3. С. 316—322. Впервые — Декоративное искусство СССР. 1974. № 4.
С. 48—51.
690
От редакции
III. Театр. Кино
Семиотика сцены — Театр. 1980. № 1. С. 89—99.
Язык театра — Театр. 1989. № 3. С. 101—104.
Театральный язык и живопись (К проблеме иконической риторики) —
Избр. статьи. Т. 3. С. 308—315. Впервые — Театральное пространство. М.,
1979. С. 238—252. (Материалы научной конференции. 1978).
Театр и театральность в строе культуры начала XIX века — Избр. статьи.
Т. 1.С. 269—286. Впервые — Статьи по типологии культуры (Материалы к
курсу теории литературы). Вып. 2. Тарту, 1973. С. 42—73.
Сцена и живопись как кодирующие устройства культурного поведения
человека начала XIX столетия. — Избр. статьи. Т. 1. С. 287—295.
Впервые — Статьи по типологии культуры (Материалы к курсу теории
литературы). Вып. 2. Тарту, 1973. С. 9—41.
Куклы в системе культуры — Избр. статьи. Т. 1. С. 377—380. Впервые —
Декоративное искусство СССР. 1978. № 2. С. 36—37.
Место киноискусства в механизме культуры — Учен. зап. Тартуского гос.
ун-та. 1977. Вып. 411. С. 138—150.
Природа киноповествования — Новое литературное обозрение. 1993. № 1.
С. 42—53. То же — Лотман Ю., Цивьяп Ю. Диалог с экраном. Таллинн,
1994. С. 158—169.
О языке мультипликационных фильмов — Избр. статьи. Т. 3. С. 323—325.
Впервые — Учен. зап. Тартуского гос. ун-та. 1978. Вып. 464. С. 141—144.
Указатель имен
Аввакум Петров 106, 441
Авраамий 445
Агин А. А. 559
Акимов Н. П. 607
Аксаков С. Т. 625, 626, 628
Аксенов В. П. 351
Александр I 570, 573, 623, 631—635
Александров А. Д. 212, 443
Александров Г. В. 300
Алпатов М. В. 552, 554—556, 558, 560, 561
Алябьева А. В. 577
Амундсен Р. 370
Анаксимен 409
Андерсен X. К. 673
Андерсон Л. 668
Анненков П. В. 547—550, 641
Антониони М. 350, 365, 368—371
Анчапов 72, 390, 585
Аракчеев А. А. 626
Арапов М. В. 46
Арапов П. 638
Аристид 625
Аристотель 98, 201, 409, 412, 592, 600, 677
Асенкова В. Н. 638
Ахманова О. С. 667
Ахматова А. А. 38, 84, 86, 190, 401, 404,
663
Багрицкий Э. Г. 38
Багряна Е. 109
Баевский В. С. 682, 683
Баженов В. И. 32
Базен (Bazin) А. 304, 325, 332, 334, 335
Байрон Дж. Г. 28, 32, 420, 513, 516, 526,
542, 565, 622, 625, 674
Балаш Б. 310, 311
Балашов А. Д. 633
Бальзак О. де 228
Барабаш Ю. Я. 7
Баратынский Е. А. 17, 112, 185, 428, 508,
576, 581
Барбьери Н. 276
Барклай-де-Толли М. Б. 507, 508
Бартенев П. И. 641
Баталов А. В. 360
Батюшков К. Н. 103, 147, 196, 619, 642—
644
Бахтин M. М. 11, 237, 252, 343, 427, 442,
451, 464, 476, 484, 604, 660
Башилов А. А. 626
Башляр Г. 443
Белинский В. Г. 15, 52, 174, 270, 271, 512,
540, 549, 551, 552, 560, 561, 563, 605, 622
Беллини Дж. 449
Белоусов А. Ф. 487
Белый А. 114, 119, 126, 141, 142, 145, 183,
197, 680
Беме Я. 52
Бенедиктов В. Г. 236
Бензе М. 449, 456
Беранже П. Ж. 641
Бергман И. 301, 365, 670
Берков П. Н. 154
Берковский Н. Я. 659
Берлиоз Г. 32
Берне Р. 135
Бернштейн Б. 552, 553
Бертельс Е. Э. 134, 135
Бестужев Н. А. 625
Бестужев-Марлинский А. А. 622, 636
Бетховен Л. ван 542
Бизе Ж. 606
Биркгоф Г. 449, 450
Бисмарк О. фон 127
Благой Д. Д. 571
Блок А. А. 22, 50, 89, 128, 132, 147, 182,
183, 209, 227, 263, 264, 296, 403, 488,
529, 646, 659
Богатырев П. Г. 461, 467, 480, 489, 582, 617
Богданович И. Ф. 177
Бок Т. Е. фон 630, 631
Бомарше П. О. 210
Бондарчук С. Ф. 356
Бонди С. М. 183
692
Указатель имен
Боннекруа С. 497
Бор Н. 252, 569
Боргезе, принцесса 623
Боровиковский В. Л. 31, 511, 512
Босх И. 673
Боткин В. П. 174
Боткин М. 553, 554
Боттичелли С. 266, 342, 451
Брай И. де 497
Бредбери Р. 318
Бремон К. 453, 454
Брехт Б. 674
Брик О. М. ИЗ, 466
Бродский И. А. 677
Брут Марк Юний 625
Брюллов К. П. 511, 542, 567—569, 574
Брюсов В. Я. 126, 183, 464
Буало Н. 454, 569
Буддеус, гравер 513
Булгаков М. А. 434, 435
Бунин И. А. 199
Бунюэль Л. 664, 670
Бургкмайр Г. 433
Буриан Э. Ф. 462
Бурлюк Н. Д. 495
Бутурлин А. И. 32
Бухгольц У. 19
Бухштаб Б. Я. 245, 682
Быков Р. А. 361
Бычков В. В. 411
Вагнер Р. 404
Вайда А. 300, 303, 319, 660
Ваккенродер В. Г. 413
Валери П. 5
Валлис М. 48
Ванчура В. 462
Ван Дейк А. 502
Ван Эйк Я. 432, 433, 610
Ватто А. 612
Вахек (Vachek) Й. 423
Введенский А. И. 99
Веласкес Д. 336, 432, 433, 610, 611
Венгров Н. 140
Вен дере В. 663
Вергилий 227, 266, 342, 425
Верди Дж. 305, 595
Вернадский В. И. 5
Верстовский А. Н. 626
Вертов Д. 206, 301, 303, 368, 477, 480
Веселовский А. Н. 222—224
Вигель Φ. Ф. 619
Виже-Лебрен М.-Л.-Э. 613
Виноградов В. В. 28, 157, 258
Винокур Г. О. 183, 464, 465
Висконти Л. 304, 305, 433, 436, 595, 596
Витгенштейн Л. 283
Витгенштейн П. X. 643
Владимир Всеволодович Мономах 226
Владимир Святославич 255, 579
Владимов Г. Н. 263
Воейков А. Ф. 208
Вознесенский А. А. 41, 58, 98, 146, 149,
153, 155, 185, 191
Волгин В. П. 557
Волков Р. М. 511
Волошинов В. Н. 476
Вольтер 51, 402, 430
Вольф П.-А. 638
Ворончак Е. 456, 457, 459
Ворошильский В. 662
Врубель М. А. 516
Вяземский П. А. 126, 127, 172, 565, 566,
638, 641
Габен Ж. 360, 361
Гавранек (Havrânek) Б. 461—463, 468
Газер И. 319
Галахов И. П. 556
Гартманн (Hartmann) П. 343
Гаршин В. М. 107
Гаспаров Б. М. 22, 95, 418
Гаспаров М. Л. 404, 592, 676, 680
Гачев Г. Д. 429
Гегель Г.-В.-Ф. 15, 174, 375, 430, 460, 481,
517, 677, 678
Гейне Г. 52, 177, 377, 620, 660
Генаст-младший 638
Генрих VIII 667
Гераклит 8
Герострат 506
Герцен А. И. 225, 230, 533, 552, 554—558
Гёте И.-В. 559, 581, 589, 590, 594, 596, 620,
638—640
Гинзбург Л. Я. 619
Гине, офицер 621
Гиппиус В. В. 646
Гирландайо Д. 578
Глинка В. М. 618
Глинка С. Н. 619, 621
Глинка Ф. Н. 622
Глиссон Г. 36
Гнедич Н. И. 541, 643
Гоббс Т. 51
Гоголь Н. В. 145, 207, 220—222, 226, 233,
240, 271, 278, 289, 412, 492, 493, 503,
Указатель имен
693
506, 512, 513, 515, 518, 540—552, 557,
560—564, 567, 573, 575, 602, 605, 606,
608, 622, 660
Годар Ж. Л. 318
Гойя Ф. 149—151, 153, 155, 510
Голицын А. Н. 633
Голицын Д. В. 626
Голодовский Е. М. 321
Голышев В. В. 493
Гольденвейзер А. Б. 593
Гольдман Г. 25
Гомер 541, 561, 643
Гонзаго П. 484, 637
Гонзл И. 462
Гончарова (Пушкина) H. Н. 577
Горалек К. 468
Гораций 327, 419, 513
Горький М. 111, 336
Горюнов В. 356
Гофман Э.-Т.-А. 420, 455, 674
Грабак (Hrâbak) И. 109—111
Грабарь И. Э. 619
Грёз Ж.-Б. 640
Греймас А. 453, 454
Грибоедов А. С. 112, 233, 596, 629
Григорий Нисский 411
Григорьев В. П. 685
Гриффит Д. У. 302
Гроот де 140
Гроссман Л. П. 625
Грюнер К.-Ф. 638
Гуковский Г. А. 240, 244, 245, 253, 257,
545, 620
Гумбольдт В. фон 685
Гумилевский Л. И. 257
Гуссерль Э. 460
Гюго В. 534
Давыдов Д. В. 622, 624, 625
Даламбер Ж. Л. 600
Дали С. 673
Данзас Б. К. 626
Даниил Галицкий 226
Данилова И. Е. 497, 499, 610, 616
Данте Алигьери 227, 235, 266, 342, 635
Декарт Р. 454
Делакруа Э. 32
Делиль Ж. 193
Дельвиг А. А. 516
Деметрий Фалерский 409
Деммени Е. С. 337
Державин Г. Р. 16, 32, 42, 145, 191—193,
433, 512, 513, 515, 642, 645
Де Сика В. 330
Дефо Д. 234, 533
Джерми П. 304, 305, 371, 669
Дживелегов А. К. 276
Дидло С. 493
Дионисий 294
Добролюбов Н. А. 42, 601, 625
Довженко А. П. 273
Домье О. 612
Достоевский Ф. М. 31, 44, 107, 174, 284,
296, 426, 518, 561, 582, 601, 604, 623, 660
Доу Дж. 507
Дрда Я. 354
Дрозда М. 431
Дурылин С. Н. 531
Душечкина Е. В. 581
Еврипид 600
Екатерина II 31, 294, 512, 567, 572, 573,
579, 618, 620, 630, 632, 658
Елизавета Петровна, императрица 566,
567, 618
Ельмслев Л. 46, 423, 466
Еремин И. П. 64, 248, 455
Жанлис (Genlis) С. Ф. 623
Жегин Л. Ф. 22, 610
Жинкин Н. И. 150
Жирмунский В. М. 7, 28, 124, 129, 178,
179, 464, 680
Жуковский В. А. 18, 95, 103, 160, 161, 164,
192, 208, 227, 253, 402, 505, 548, 555,
559, 561, 644
Забелин И. Е. 484
Заболоцкий Н. А. 214—220, 319, 504, 505
Зак Л. С. 495
Зализняк А. А. 27
Зарецкий Б. А. 114, 326
Звегинцев В. А. 463
Золя Э. 296
Зотов А. И. 552, 553
Зубатый Й. 461
Иван, митрополит 232
Иван IV Грозный 207, 445
Иванов А. А. 271, 548, 551—562
Иванов А. И. 553, 554
Иванов Вяч. Вс. 25, 27, 38, 64, 119, 140,
158
Иванов Вяч. И. 464
Иванов Е. П. 183
Иванов-Вано И. П. 673
694
Указатель имен
Игнатьев И. Н. 597
Игорь Святославич 58
Иларион, митрополит 76, 395, 396
Ильинский И. В. 273, 360, 605
Иордан Ф. И. 555, 559
Иоффе И. И. 363, 576
Кабе Э. 556
Калатозов М. К. 338
Каллаш В. В. 483
Калло Ж. 484
Кальдерон де ла Барка П. 192, 465
Каменский В. В. 137
Канова А. 577
Кант И. 375, 678
Кантор Г. 414
Каравак Л. 618
Карамзин H. М. 9, 107, 256, 271, 447, 615,
619, 638, 642
Каратыгин В. А. 616
Карне М. 360, 433
Карэ X. Б. 493
Катенин П. А. 641
Катиби 134
Катон Младший (Утический) 620, 625
Катон Старший 621
Каульбах В. фон 559
Керенский А. Ф. 319
Керн А. П. 84
Кириллова М. 493
Киселев П. Д. 506
Клаус (Klaus) Г. 371
Клейн И. 451
Клейн Ф. 205
Клеман Р. 361
Климент Александрийский 411
Клузо Ж.-А. 433
Книппер-Чехова О. Л. 602
Ковалевский П. М. 559, 561
Ковтун Ε. Ф. 552
Кокошкин Φ. Ф. 626
Колмогоров А. Н. 38—40, 119, 123, 157,
158, 183, 191, 472, 685
Комаровский Ε. Ф. 623
Кон Ф. 144
Кондорсе Ж.-А.-Н. 430
Кондратов А. М. 38, 183
Константин Павлович, вел. кн. 620, 631
Коншин H. М. 574
Копцик В. А. 436
Корнелиус П. фон 559
Корнель П. 636
Корреджо А. 560, 577
Краль Й. 461
Крамер С. 668
Кранах Л. (Старший) 451
Крачковский И. Ю. 439
Крейчик И. 353
Кристи А. 424
Крученых А. Е. 141, 143, 144, 495
Крушевский Н. В. 87
Крылов И. А. 72, 177, 192, 193, 390, 585,
628, 629
Куапель Ш. 612
Кубе Ф. фон 456, 457
Кузнецов Ю. И. 496
Куин Э. 360
Кукольник Н. В. 542
Кукулевич А. М. 643
Кулешов Л. В. 302, 306, 355, 603
Кулль И. 452
Кульнев Я. П. 622
Кун Т. 6
Курбский А. М. 207
Кутузов А. М. 52
Кутузов М. И. 250, 511, 643
Кюннапас Т. 448
Кюхельбекер В. К. 270, 520
Лабрюйер Ф. де 6
Лагарп Ж. Ф. де 587
Лагарп Ф. С. де 620
Лакло Ш. де 257, 258
Ланглебен M. М. 22
Ларошфуко Ф. де 6
Лафатер И. К. 506, 615
Левин Ю. И. 200
Левинтон (Levinton) Г. А. 680
Леви-Стросс (Lévi-Strauss) К. 447, 451—
454, 459
Левицкий Д. Г. 31, 294, 512, 618
Левый И. 456, 457, 459
Лейбниц Г. В. 5, 678
Ле Корбюзье Ш. Э. 48
Леонардо да Винчи 5, 560
Леонкавалло Р. 42, 305
Лермонтов М. Ю. 22, 50—58, 114, 116,
139, 142, 143, 166, 168, 170, 209, 230,
234, 237, 242, 243, 270, 377, 392, 435,
516, 532—539, 562, 615, 616, 682
Лесевич В. 662
Линдер М. 328
Лисса 3. 363, 576
Лихачев Д. С. 64, 113, 276, 296, 349, 421,
437
Лобачевский Н. И. 27, 205
Указатель имен
Ломоносов М. В. 96, 98, 106, 107, 114,
180, 181, 197, 394, 445, 446, 566, 632, 642
Лонгинов И. В. 191
Лонгфелло Г. У. 199
Л one де Вега 412
Лопухина М. А. 209
Лотман Л. М. 686
Лотман М. Ю. 8, 680
Лотман Ю. М. 5—12, 26, 33, 63, 108, 258,
443, 629, 655, 675—686
Лукреция 622
Лунин М. С. 631
Лурия А. Р. 456
Любимов Ю. П. 330
Люмьер Л. и О. 355
Ляцкий Е. А. 174
Мабли Г. Б. 51
Мавлан Мухаммед Ахли 134
Мадзини (Маццини) Дж. 552, 557
Майенова М. Р. 679, 684, 685
Майер-Мейнтшел А. 497
Майков А. Н. 52, 377
Майков В. Н. 561
Маймин Е. А. 564, 565
Максимов Д. Е. 531, 532, 535, 537
Мак-Уинни Г. 448, 450
Малевич О. М. 481
Маль Л. 303
Мандельштам О. Э. 147
Маргарита Наваррская 225
Марецкая В. П. 360
Марин С. Н. 632
Марино (Marino) Дж. 412
Мариучча, натурщица 555
Мария Федоровна, императрица 613
Маркс К. 289, 622
Маркус (Marcus) С. 457
Марр Н. Я. 465
Мартос И. П. 619
Мартынов Л. Н. 132
Мартынов П. П. 568
Марузо Ф. 668
Маршак С. Я. 135, 182
Массейс К. 611
Мастроянни М. 330, 360
Матезиус (Mathesius) В. 467
Маха К. Г. 466
Машковцев Н. 560
Маяковский В. В. 18, 38, 88, 89, 99, ПО,
154, 169, 170, 184, 194, 269, 319, 330,
462, 501
Мгебров А. А. 356
695
Мебиус А. Ф. 435
Медведев П. Н. 464
Медведева И. Н. 569
Межиров А. П. 119, 158
Мейер Я. М. 685
Мейерхольд В. Э. 206, 529
Мелетинский Е. М. 452
Мельес Ж. 295, 302, 348
Меншиков А. Д. 401
Мериме П. 606, 624, 672
Мертваго Д. Б. 72, 390
Метерлинк М. 477, 593
Метьюрин Ч. Р. 625
Мец (Metz) К. 22, 296
Милорадович М. А. 643
Мильтон Дж. 192, 394
Мицкевич А. 32, 270
Мозжухин И. И. 355, 603
Мокульский С. С. 276
Моль А. 447, 456
Мольер Ж. Б. 32, 589, 590, 626
Монтегю А. 302, 303, 311, 491
Монтескье Ш. Л. 520, 543, 544
Мор Т. 667
Мордвинов А. 496
Морозов П. 483
Моцарт В. А. 672
Мукаржовский Я. 189, 312, 328, 329, 352,
449, 451, 459—481, 610
Мунк А. 662
Муравьев А. Н. 520
Муравьев H. М. 520
Муравьевы 520
Мюссе А. де 72
Мялль Л. 452
Навои 135
Надеждин Н. И. 583
Наполеон I Бонапарт 417, 526, 565, 570,
623, 624, 630—632, 636, 637
Незвал В. 462
Неклюдов С. Ю. 228, 443
Некрасов Н. А. 107, 168, 250, 278, 296,
376, 581
Нерон 42
Нехорошевский М. 483
Нечкина М. В. 629
Никитин А. 228
Николаева Т. М. 423
Николай I 224, 225, 271, 552, 631
Новак А. 461
Новиков Н. И. 32
Новосильцев В. Д. 622
696
Указатель имен
Норвид Ц. К. 319
Норштейн Ю. 673
Овербек Ф. 559
Овидий 522
Одоевский А. И. 516
Окуджава Б. Ш. 131
Оленина А. А. 616
Ольбрахт И. 462
Ориген 411
Орлов Μ. Ф. 520
Осгуд Ч. 448, 450, 451, 453
Остерман-Толстой А. И. 643
Островский А. Н. 493, 628
Павел I 417, 493, 494, 613, 630—632
Павлович Н. А. 147
Падучева Е. В. 95, 96, 344, 346, 418
Пандект Антиох 26
Панченко А. М. 154
Папп Ф. 357, 358
Параджанов С. И. 319
Паррот Г. Ф. 633, 634
Паскаль Б. 5, 6
Пастернак Б. Л. 74, 89, 95, 98, 99, 107,
108, 158, 170, 173, 201, 202, 219, 268,
269, 392, 394, 421, 476, 529
Пасто Т. 456
Пересветов И. С. 445
Пестель П. И. 570, 631
Петр I 492, 498, 570, 571, 573, 574, 624,
632, 642
Пикассо П. 270, 386
Пиотровский Р. Г. 156
Пиранделло Л. 50, 206, 592
Пирр 587
Писарев А. А. 626
Платон 677
Плетнев П. А. 641
Плутарх 622
Победоносцев К. П. 503
Погодин М. П. 634
Подолинский А. И. 83
Пожарский Д. М. 625
Пол У. 316
Полак М.-М.-З. 467 »
Поливанов Е. Д. 476
Порошин С. А. 493
Посмыш-Пясецкая 3. 662
Потебня А. А. 62, 95, 168, 378, 476
Потоцкий Я. 435
Поэгель Ю. 674
Прево А. 270
Предтеченский А. В. 631
Пржевальский H. М. 199
Прибрам К. 456
Пригожий И. 12, 400
Прокопович Н. Я. 547
Прокопович Ф. 445, 624
Прокофьев Е. А. 629
Пропп В. Я. 27, 223, 224, 230, 425, 427,
451—454
Прохоров А. В. 38
Пруст М. 89
Прутков К. 347, 498
Псевдо-Дионисий Ареопагит 411
Пуанкаре А. 447
Пугачев Е. И. 72, 390, 572, 573, 658
Пудовкин В. И. 300
Пушкин А. М. 626
Пушкин А. С. 5—7, 9, 12, 16, 18, 23, 28,
40, 42, 49—52, 60, 72, 75, 78, 83, 84, 95,
102, 103, 105, 107, 118, 119, 121—124,
136, 137, 140, 141, 143, 144, 147, 160,
168, 169, 172, 192—194, 196, 198, 202,
206, 208, 209, 217, 221, 225, 233, 240—
242, 252, 253, 256, 258—263, 267, 269,
270, 277, 278, 283, 296, 301, 327, 353,
376, 377, 390, 394, 398, 401, 419, 420,
422, 434, 494, 503, 504, 506—508, 512,
513, 519—527, 529, 537, 543, 547, 562,
564—574, 577, 578, 581, 586—588, 595,
596, 606, 615, 616, 625, 630, 631, 635,
638, 641, 642, 646, 663, 666, 672, 674,
684
Пушкин В. Л. 638, 641, 642
Пшавела В. 319
Пятигорский А. М. 19, 62, 63, 108
Раамат Р. 663, 673
Рабле Ф. 484
Радищев А. Н. 51, 394, 521, 524, 528, 529,
535, 543, 549, 563, 621, 629, 640
Раевский В. Ф. 506, 520
Раевский H. Н. 643—645
Расин Ж. 106, 193
Рафаэль Санти 510, 542, 560, 569, 616
Ревзин И. И. 38, 114, 146, 201, 424, 426,
678
Рейналь Т.-Ф. 520
Рембрандт ван Рейн X. 356, 505
Рене А. 350, 480, 668
Ренуар Ж. 360
Репин И. Е. 375, 503
Ривароль А. 572
Рильке Р. М. 89
Указатель имен
697
Роб-Грийе А. 668
Робеспьер М. 543
Ровинский Д. А. 9, 483, 485, 488—490, 493
Роде Э. 223
Рожалин H. М. 552
Розенцвейг В. Ю. 46
Ромм Ж. 620
Ромм М. И. 353, 356
Росселлини Р. 72, 330, 580
Росс Эшби У. 36
Ротшильды 556
Рубенс П. П. 122, 412, 509, 565—567
Рублев А. 332, 469
Руднев, типограф 493
Рулле С. 357
Руссо (Rousseau) Ж.-Ж. 51, 296, 425, 511,
520, 521, 523, 524, 526—529, 531, 535,
537, 563, 599—601
Рылеев К. Ф. 552, 625
Рязанов Э. А. 668
Сакович А. Г. 483
Салтыков 620
Салтыков-Щедрин M. Е. 107, 375, 646
Санглен Я. де 633, 634
Севбо И. П. 95, 344
Сезанн П. 499
Семирадский Г. И. 605
Сен-Жюст Л.-А. 527
Сен-Симон А. де 552, 557, 558
Сервантес Сааведра М. де 233, 315
Серов В. А. 356, 509
Сеченов И. М. 454
Симеон Полоцкий 154, 445, 483
Симмат В. Е. 448, 451
Синдо К. 317
Сиповский В. В. 28
Сипягин H. М. 507
Скаличка В. 463, 466, 468
Смоктуновский И. М. 358, 360
Снегирев И. М. 10
Сойер У. У. 452
Соколов А. Н. 531
Сосницкий И. И. 626
Соссюр (Saussure) Φ. де 25, 312, 326, 337,
451, 452, 454, 460, 463, 469, 678, 679, 685
Сперанский M. М. 267, 633, 634
Срезневский И. И. 26, 506
Сталь Ж. де 123
Станиславский К. С. 357
Стасов В. В. 559, 561
Стенгерс И. 12
Стендаль 419, 453, 615, 624
Стерн Л. 62, 206, 210
Стравинский И. Ф. 674
Суворов А. В. 71, 389, 512, 513, 622, 645
Сумароков А. П. 32, 145, 543, 620
Суперфин Г. Г. 174
Сухово-Кобылин А. В. 237, 238
Сухтелен П. 636, 637, 642
Сэпир-Уорф 679
Тальма Ф. Ж. 615, 624
Тарабукин Н. 568
Тарановский К. Ф. 123, 157, 158, 183, 680
Тарковский А. А. 304, 434, 667
Татищев В. Н. 445
Твардовский А. Т. 70, 95, 168, 206—208,
270
Тебнер (Teubner) К. 496, 497
Тезауро 412
Теплов Г. 496
Тепляков В. Г. 568
Тернер В. 453
Тик Л. 50
Тимофеев Л. И. 120, 125, 140, 179, 183
Тит Ливии 622
Тициан 204, 560
Толстой А. К. 116, 130
Толстой Л. Н. 23, 24, 44, 59, 73, 75, 81,
86, 89, 107, 206, 208, 221, 225, 228, 248—
250, 262, 263, 266, 267, 284, 288, 296,
350, 358, 359, 375, 390—392, 518, 562,
585, 587, 588, 593, 599, 601, 615, 622,
624, 630, 646
Толстой Ф. П. 496, 576, 619, 625
Томашевский Б. В. 101, 108, 111, 124, 125,
141, 146, 154, 179, 180, 183, 222, 408,
461, 520, 619
Тончи С. 513
Топоров В. Н. 27, 46, 64, 426
Тороп П. X. 424
Тредиаковский В. К. 106, 180, 181
Триоле Э. 318
Трост П. 468
Трубецкой (Trubetzkoy) H. С. 25, 49, 64,
144, 148, 380, 461, 680, 681, 683
Трюффо Ф. 318, 323, 353
Тувим Ю. 187
Туганов Е. 674
Тураев А. Б. 29
Тургенев А. И. 402
Тургенев И. С. 42, 107, 181, 238, 559, 581,
625
Тургенев Н. И. 520, 565
Тучкова-Огарева М. А. 556
698
Указатель имен
Тынянов Ю. Н. 6, 22, 24, 82, 95, 181, 189,
270, 302, 325, 346, 418, 451, 461, 464,
466, 470, 476, 477, 675, 676, 683
Тээр О. 467
Тютчев Ф. И. 52, 97, 171, 187, 188, 198,
213, 377, 498, 556
Уайльд О. 375
Унбегаун (Unbegaun) Б. 26, 108
Урусевский С. П. 669
Успенский Б. А. 22, 45, 252, 266, 280, 324,
374, 450, 456, 476, 567, 610, 655, 679
Успенский В. А. 679
Успенский Г. И. 70, 107, 549, 627
Устинов П. 302
Ухтомский А. А. 442
Уэллс Г. 316
Уэллс О. 323
Фабий Максим 643
Фабри 3. 408
Фабриций 622
Фаворский В. А. 443
Фальконе Э. М. 570
Федотов П. А. 559, 561
Феллини Ф. 273, 304, 365, 371, 414, 432
Фенелон Ф. 227
Фет А. А. 42, 337
Филипп II 174
Филипп IV 336
Филипп Ж. 358
Филоктет 587
Филон Александрийский 411
Филопемен 622
Фицджеральд Ф. С. 329, 330
Флобер Г. 89
Флоренский П. А. 5, 6, 322, 332, 443, 444,
610
Фонвизин Д. И. 44, 45, 242, 491
Фонвизин М. А. 520
Фор П. 111
Форд Дж. 664
Франк-Каменецкий И. Г. 465
Фрейденберг О. М. 465
Фрич М. 669
Фуко (Foucault) M. 336, 611
Фуртнагель Л. 433
Фурье Ш. 556
Хартман П. 423
Хатшепсут 29, 376
Хафиз 134
Хемингуэй Э. 172, 263, 566
Хинц Г. 496
Хитрук Ф. С. 673
Хичкок А. 263, 663, 671
Хлебников В. В. 199, 217, 495
Холшевников В. Е. 125, 681
Хомяков А. С. 552
Храпченко М. Б. 7
Христиансен Б. 460
Хуциев M. М. 361, 363
Хэллидей М.-А.-К. 423
Цветаева М. И. 41, 90, 154, 169, 170,
172—174, 177
Циннеман Ф. 667
Цинциннат 512
Цицерон Марк Туллий 55
Чайковский П. И. 404, 606
Чайлд 450
Чапек К. 462
Чаплин Ч. 274, 300, 328, 329, 360, 362,
403, 467, 477, 480, 481
Чернов И. А. 5
Чернов К. П. 622
Чернова, сестра К. П. Чернова 622
Черный (Czerny) 3. 101
Чернышевский Н. Г. 289, 540, 552, 554,
561
Честертон Г. К. 109
Чехов А. П. 35, 107, 278, 279, 346, 357,
591, 593, 602
Чехов М. А. 605
Чижов Ф. В. 549, 552, 560
Чуковская Л. К. 663
Чулков М. Д. 234, 256
Чухрай Г. Н. 299
Шаброль К. 665
Шальда Ф. К. 461
Шапиро М. 456
Шарапов, типограф 493
Шатобриан Ф. Р. 123
Шахматов А. А. 64
Шаховской А. А. 638
Шварц Е. Л. 673
Шевалье, типограф 493
Шекспир У. 16, 78, 85, 174, 194, 202, 228,
233, 267, 270, 339, 353, 354, 356, 358,
360, 375, 402, 429, 432, 465, 494, 581,
585, 587, 588, 593, 595, 597, 601, 605,
606, 634
Шенгели Г. А. 125, 183
Шеннон К. 45
Указатель имен
699
Шершеневич В. Г. 495
Шиллер (Schiller) Φ. 174, 524, 620, 636
Шильдер Η. К. 494, 633
Шкловский В. Б. 28, 82, 148, 223, 224, 302,
461, 466, 467, 664, 684
Шмидт 3. 423
Шопен Ф. 32, 48
Шоу Б. 674
Шрейдер Ю. А. 46
Штокмар М. П. 183
Штраус Д. Ф. 552, 554
Шубников А. В. 436
Щепкин М. С. 626
Щерба Л. В. 52, 685
Щербатов M. М. 567
Эвклид 205, 639
Эйзенштейн С. М. 22, 249, 268, 300—303,
307, 310, 316, 319, 323, 324, 334, 346,
353, 355, 356, 368, 370, 371, 476, 477,
480, 631, 640
Эйнштейн А. 442
Эйхенбаум Б. М. 22, 178, 179, 182, 183,
325, 461, 480, 531
Эккардт М. 496
Эккерман И.-П. 581, 589, 638
Экман Г. 448
Эко У. 409, 410
Эмин Ф. А. 105, 543
Эпаминонд 622
Эренбург И. Г. 386
Эткинд Е. Г. 643
Эфрос Η. Е. 483
Юсти 543, 544
Юсупов Н. Б. 484, 577, 637
Якоби И. В. 191
Якобсон (Jakobson) Р. О. 25, 29, 36, 87,
95, 140, 159, 164, 316, 408—410, 451,
455, 456, 459, 461—463, 467, 480, 566,
571, 639, 646, 657, 658, 680, 681, 683—
685
Якобссон Г. 202
Яковлев М. Л. 574
Якубинский Л. П. 476
Якубович А. И. 625
Якушкин И. Д. 529
Янакиев М. 101, 109, 146
Ярополк 248, 455
Ярослав Владимирович 77, 396
Ярхо Б. И. 488
Barthes R. 61
Boguslawski W. 639
Brook-Roose Ch. 200
Coceres M. 683
Dluska M. 135
Dubois J. 409
Edeline F. 409
Engel J. J. 639
Fynagy I. 81, 120, 326
Francastel P. 436, 613
Frei M. 61
Grimaud M. 413
Gross К. 71, 389
Karlinsky S. 174
Kawajiri T. 588
Kazoknieks M. 619
Klinkenberg J.-M. 409
Lacan J. 413
Le Breun 639
Lissa Z. 61
Minguet Ph. 409
Nakamura J. 648
Ozseb H. 661
Pamies Bertron A. 683
Pasqualino A. 648
Riccoboni A. F. 639
Rice D. 409, 410
Ruwet N. 409
Saavedra Fajardo D. de 498
Schofer P. 409, 410
Schroder F. L. 639
Schulze A. 498
Sebeok T. A. 316
Simonis Y. 452
Strzeminski W. 322
Todorov Tz. 257
Составитель A. Ю. Балакин
Содержание
Р. Г. Григорьев, С. М. Даниэль. Парадокс Лотмана 5
СТРУКТУРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
Введение 14
1. Искусство как язык 19
2. Проблема значения в художественном тексте .. 43
3. Понятие текста 59
4. Текст и система 67
5. Конструктивные принципы текста 87
6. Элементы и уровни парадигматики художественного текста 101
7. Синтагматическая ось структуры 195
8. Композиция словесного художественного произведения 203
9. Текст и внетекстовые художественные структуры 269
Заключение 281
СЕМИОТИКА КИНО И ПРОБЛЕМЫ КИНОЭСТЕТИКИ
Введение 288
Глава первая. Иллюзия реальности 295
Глава вторая. Проблема кадра 306
Глава третья. Элементы и уровни киноязыка 312
Глава четвертая. Природа киноповествования 316
Глава пятая. Кинематографическое значение 320
Глава шестая. Лексика кино 322
Глава седьмая. Монтаж 324
Глава восьмая. Структура киноповествования 336
Глава девятая. Сюжет в кино 338
Содержание 701
Глава десятая. Борьба со временем 349
Глава одиннадцатая. Борьба с пространством 352
Глава двенадцатая. Проблема киноактера 354
Глава тринадцатая. Кино — синтетическое искусство 362
Глава четырнадцатая. Проблемы семиотики и пути современного
кинематографа 364
Заключение 372
СТАТЬИ. ЗАМЕТКИ. ВЫСТУПЛЕНИЯ
I. Общие проблемы искусства
Условность в искусстве (совместно с Б. А. Успенским) 374
Проблема знака в искусстве 377
Проблема сходства искусства и жизни в свете структурального подхода ... 378
Тезисы к проблеме «Искусство в ряду моделирующих систем» 387
О природе искусства 400
Риторика 404
Текст в тексте 423
Каноническое искусство как информационный парадокс 436
К проблеме пространственной семиотики 442
[О проблеме барокко] 445
Искусствознание и «точные методы» в современных зарубежных
исследованиях 446
Ян Мукаржовский — теоретик искусства 459
II. Изобразительное искусство
Художественная природа русских народных картинок 482
Натюрморт в перспективе семиотики 494
Портрет 500
Истоки «толстовского направления» в русской литературе 1830-х годов ... 518
Почему море в мужском роде? 564
Замысел стихотворения о последнем дне Помпеи 567
Художественный ансамбль как бытовое пространство 574
III. Театр. Кино
Семиотика сцены 583
Язык театра 603
Театральный язык и живопись (К проблеме иконической риторики) 608
Театр и театральность в строе культуры начала XIX века 617
702 Содержание
Сцена и живопись как кодирующие устройства культурного
поведения человека начала XIX столетия 636
Куклы в системе культуры 645
Место киноискусства в механизме культуры 650
Природа киноповествования 661
О языке мультипликационных фильмов 671
М. Ю. Лотман. Послесловие: Структуральная поэтика и ее место
в наследии Ю. М. Лотмана 675
От редакции 687
Указатель имен 691
Лотман Ю. M.
Л80 Об искусстве. — С.-Петербург: «Искусство—СПБ», 1998. — 704 с, ил.
В книге впервые собраны и систематизированы труды Ю. М. Лотмана по
теории и истории изобразительного искусства, театра, кино, по общеэстетическим
проблемам. В полном объеме публикуются монографии «Структура
художественного текста» и «Семиотика кино и проблемы киноэстетики». Заключительный
раздел сборника составляют статьи, заметки и выступления Ю. М. Лотмана по
искусствоведческой тематике, включая последнюю его статью «Портрет»,
неизвестную читателям.
Издание иллюстрировано.
Для специалистов-искусствоведов, историков, педагогов, учащихся вузов и
школ, а также всех, кто интересуется искусством.
„4901000000-008 „ _ _т/. _
Л—Q25(01V98— без объявл· ББК 85
ISBN 5-210-01523-8
Юрий Михайлович Лотман
ОБ ИСКУССТВЕ
Структура художественного текста
Семиотика кино и проблемы киноэстетики
Статьи. Заметки. Выступления (1962—1993)
Редакторы О. Я. Нечипуренко, Я. Г. Николаюк
Технический редактор Я. Я Баранова
Компьютерная верстка С. Л. Пилипенко
Компьютерный набор Г. П. Жуковой
Корректор Л. Я. Борисова
Подписано в печать 09.06.1998. Формат 70 χ 100 1/16. Бумага офсетная. Гарнитура
«Тайме». Печать офсетная. Усл. печ. л. 57,2. Усл. кр.-отт. 57,53. Уч.-изд. л. 59,93.
Тираж 5000 экз. Изд. № 878. Заказ № 1757. Издательство «Искусство—СПБ». 191014,
Санкт-Петербург, Саперный пер., 10. Отпечатано с оригинал -макета в ГПП
«Печатный Двор» Государственного комитета РФ по печати. 197110, Санкт-Петербург,
Чкаловский пр., 15.





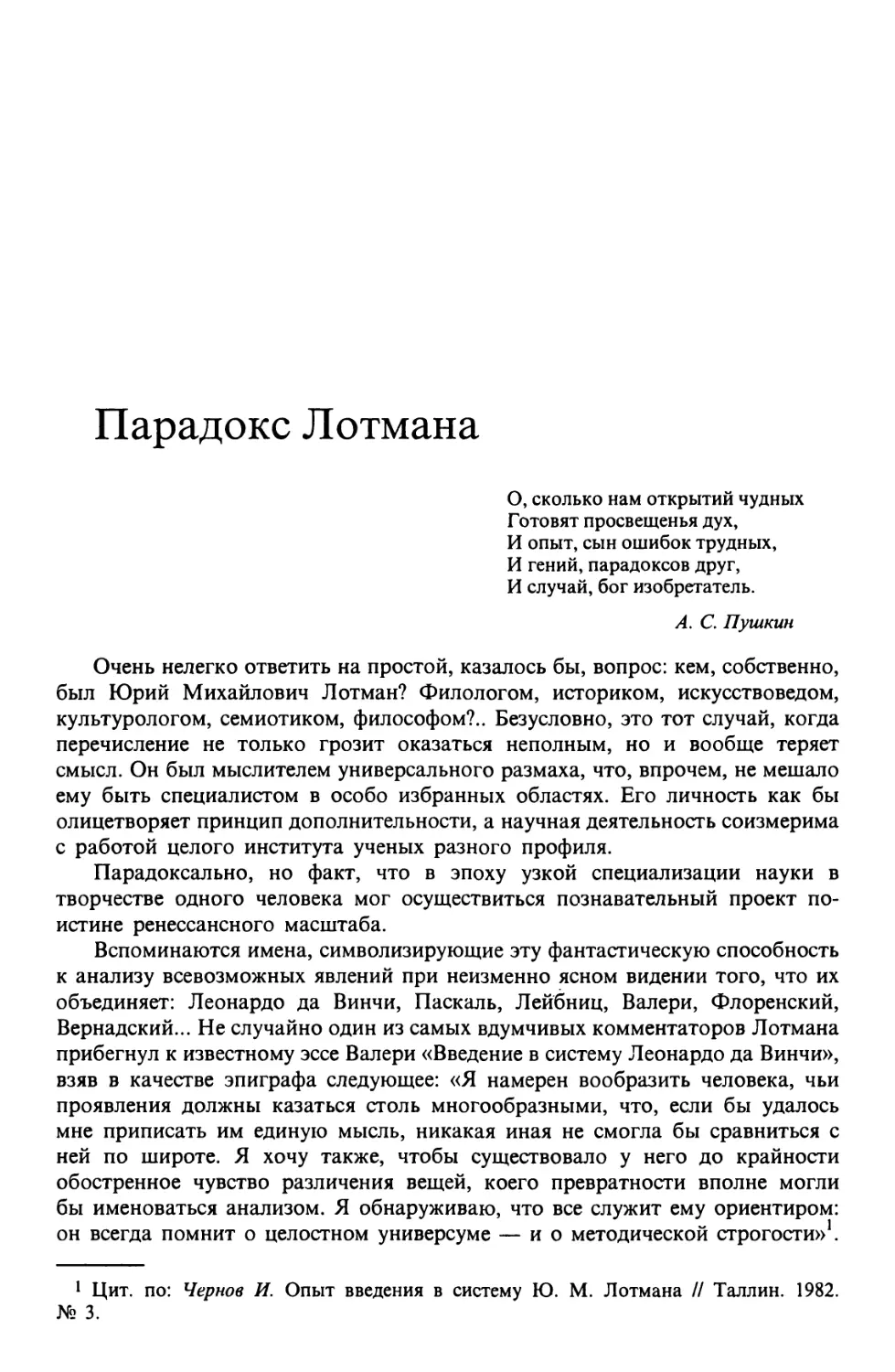













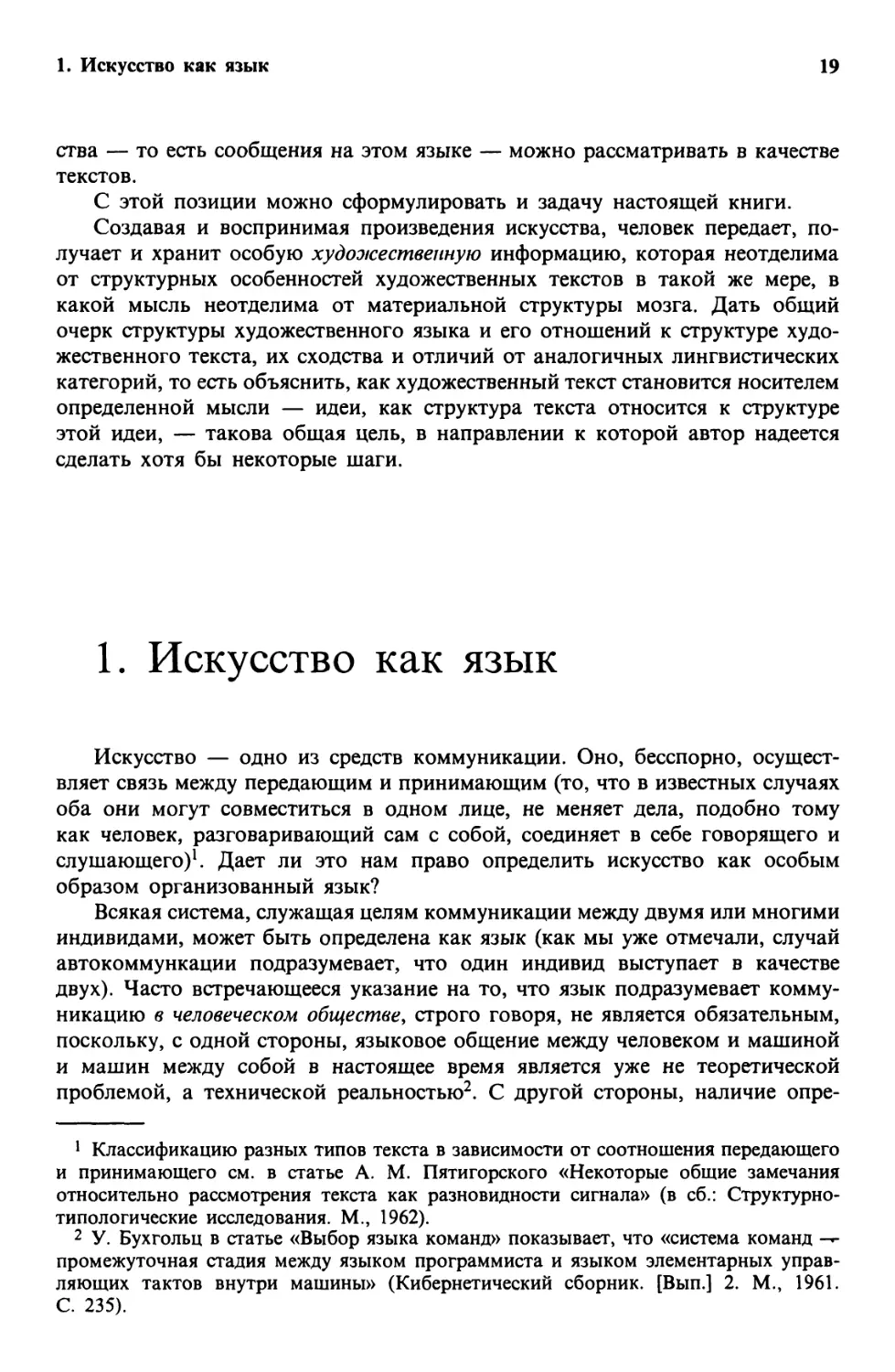























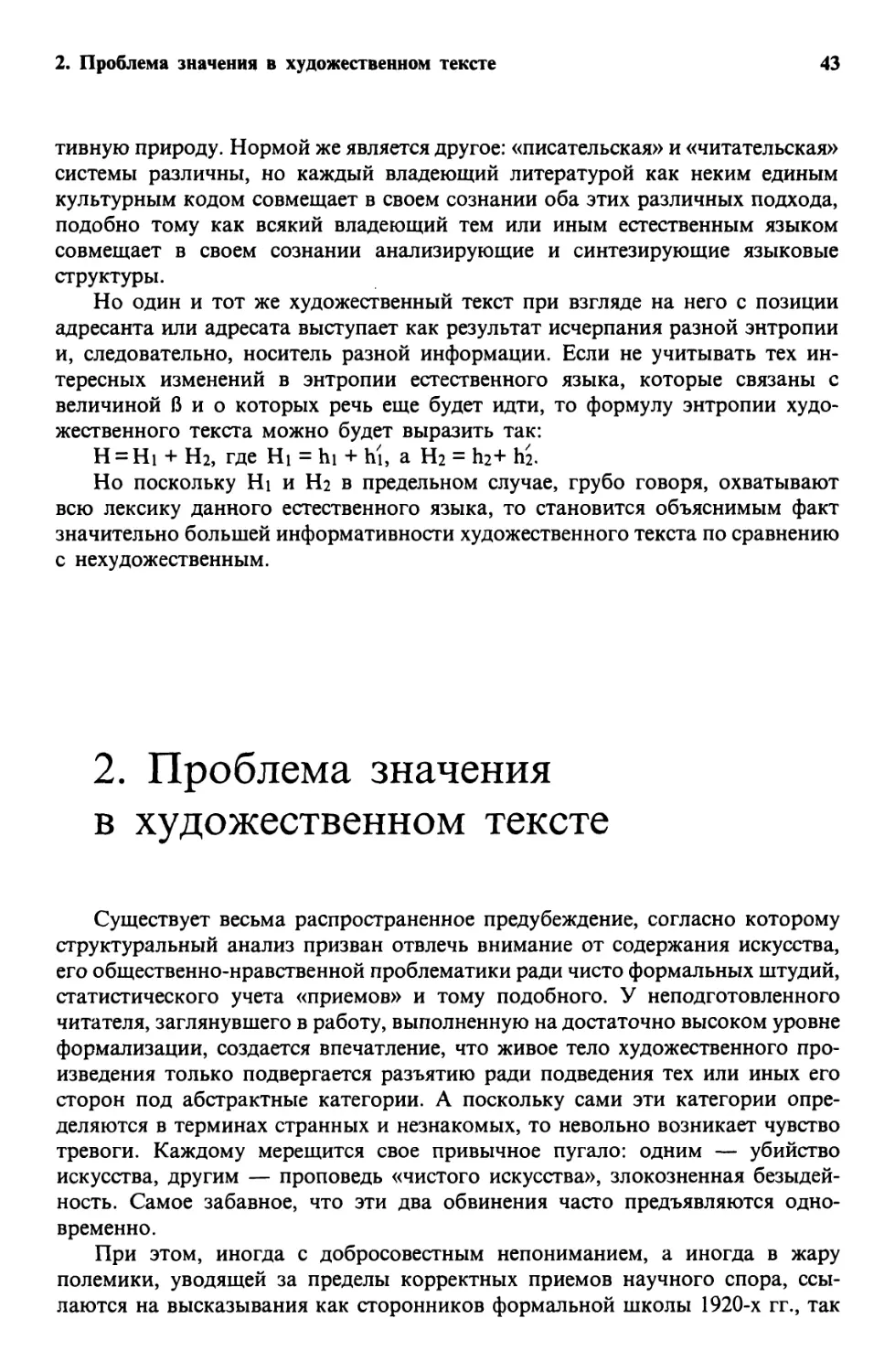








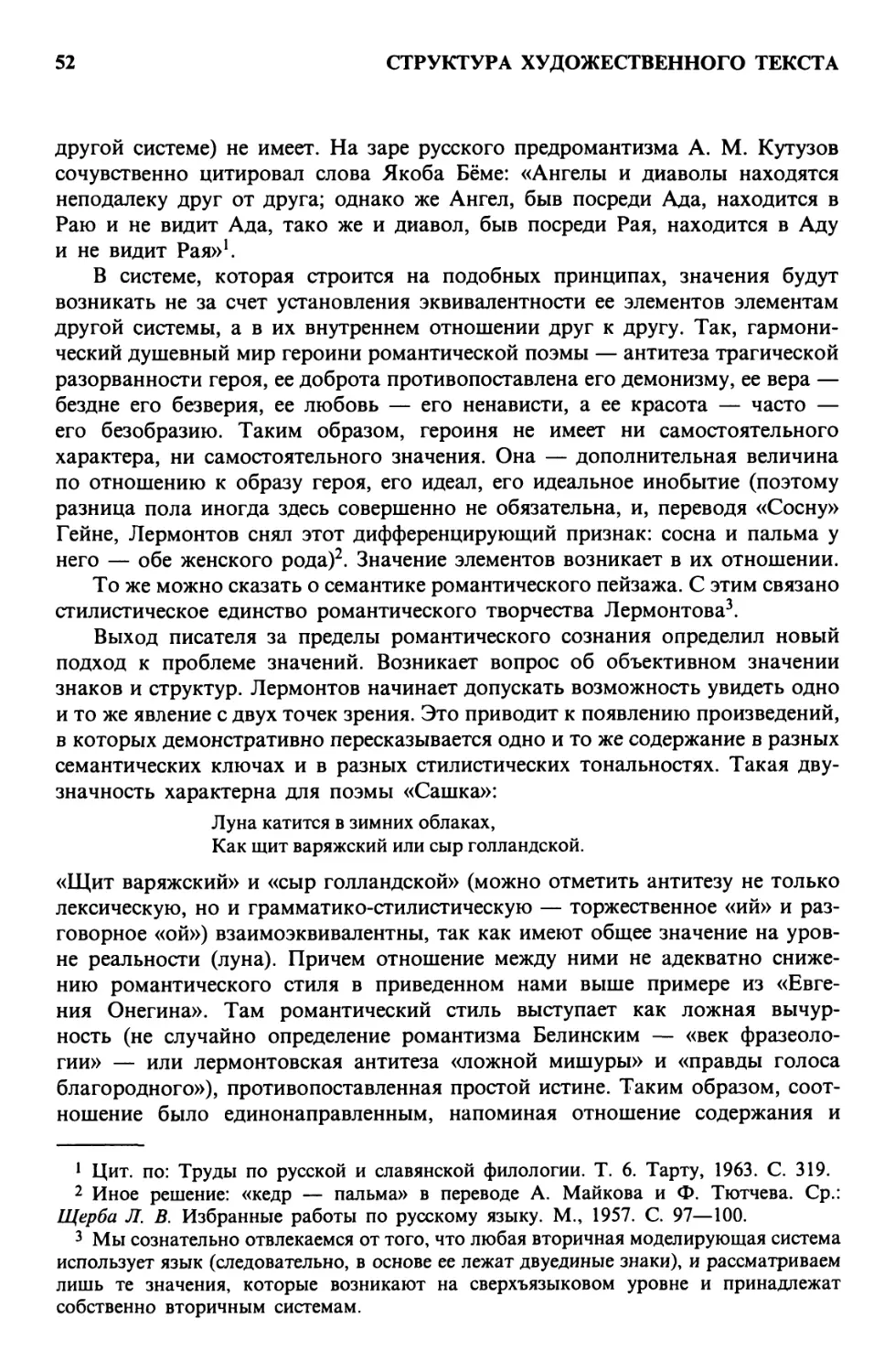






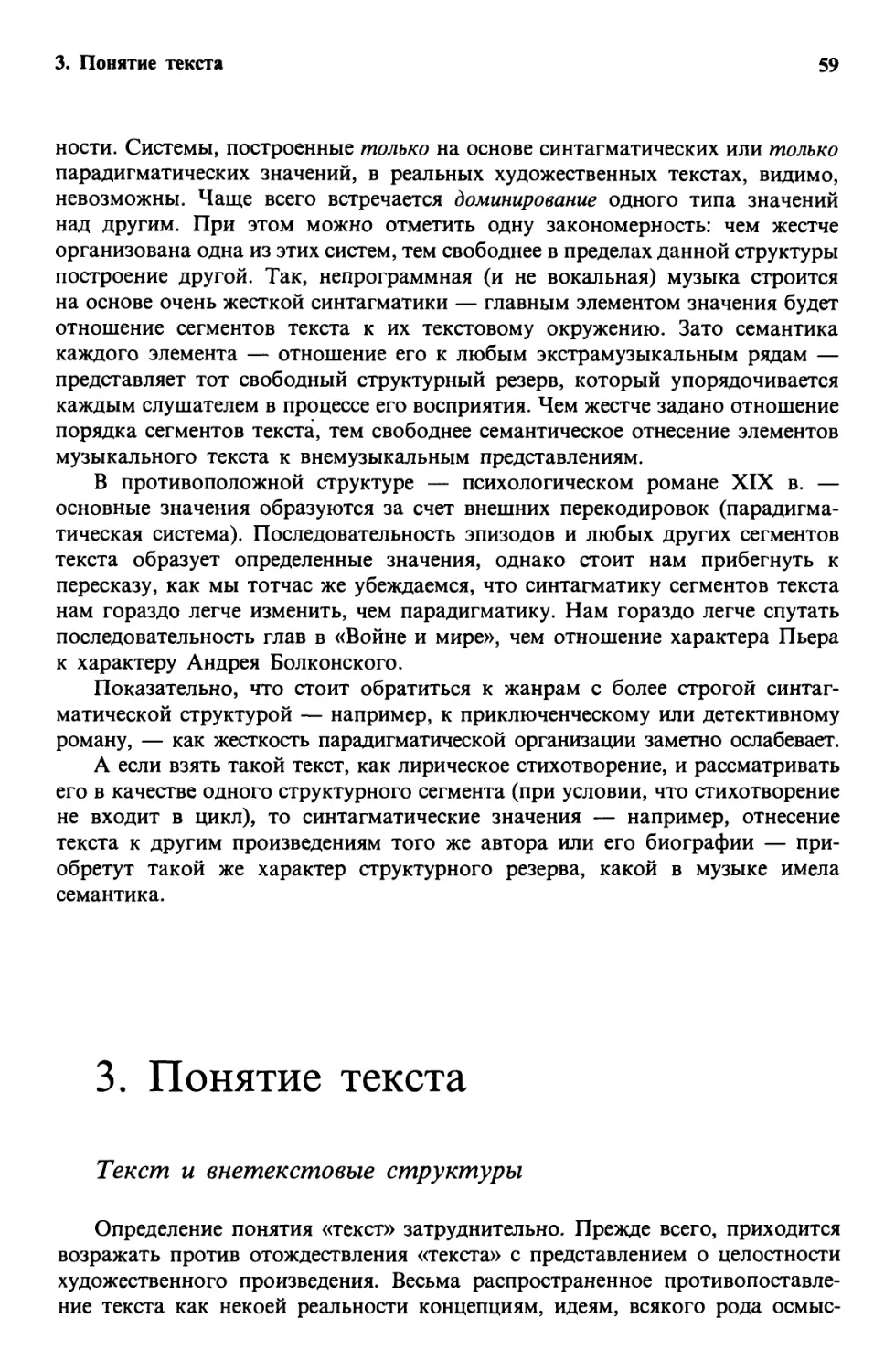







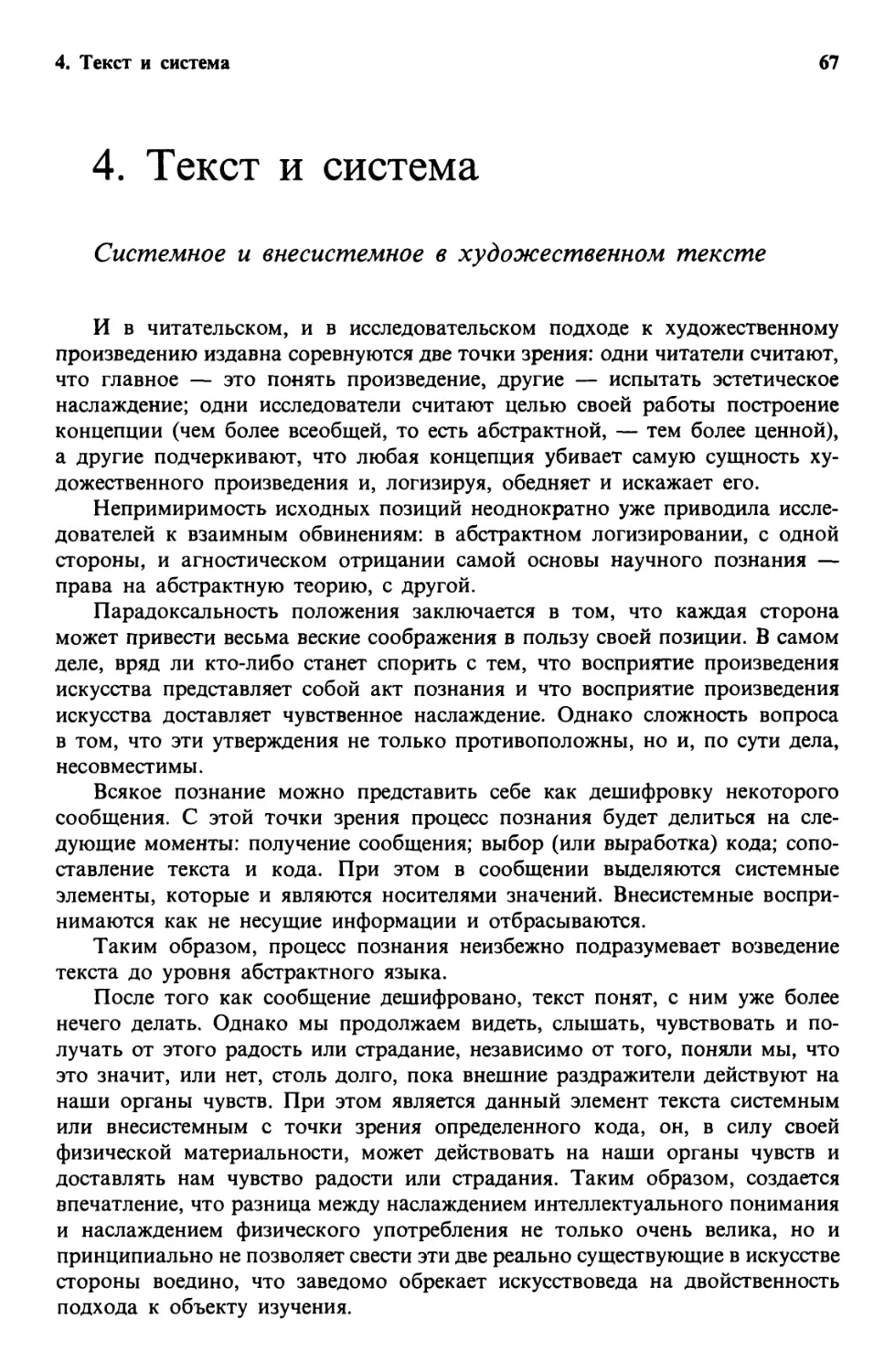



















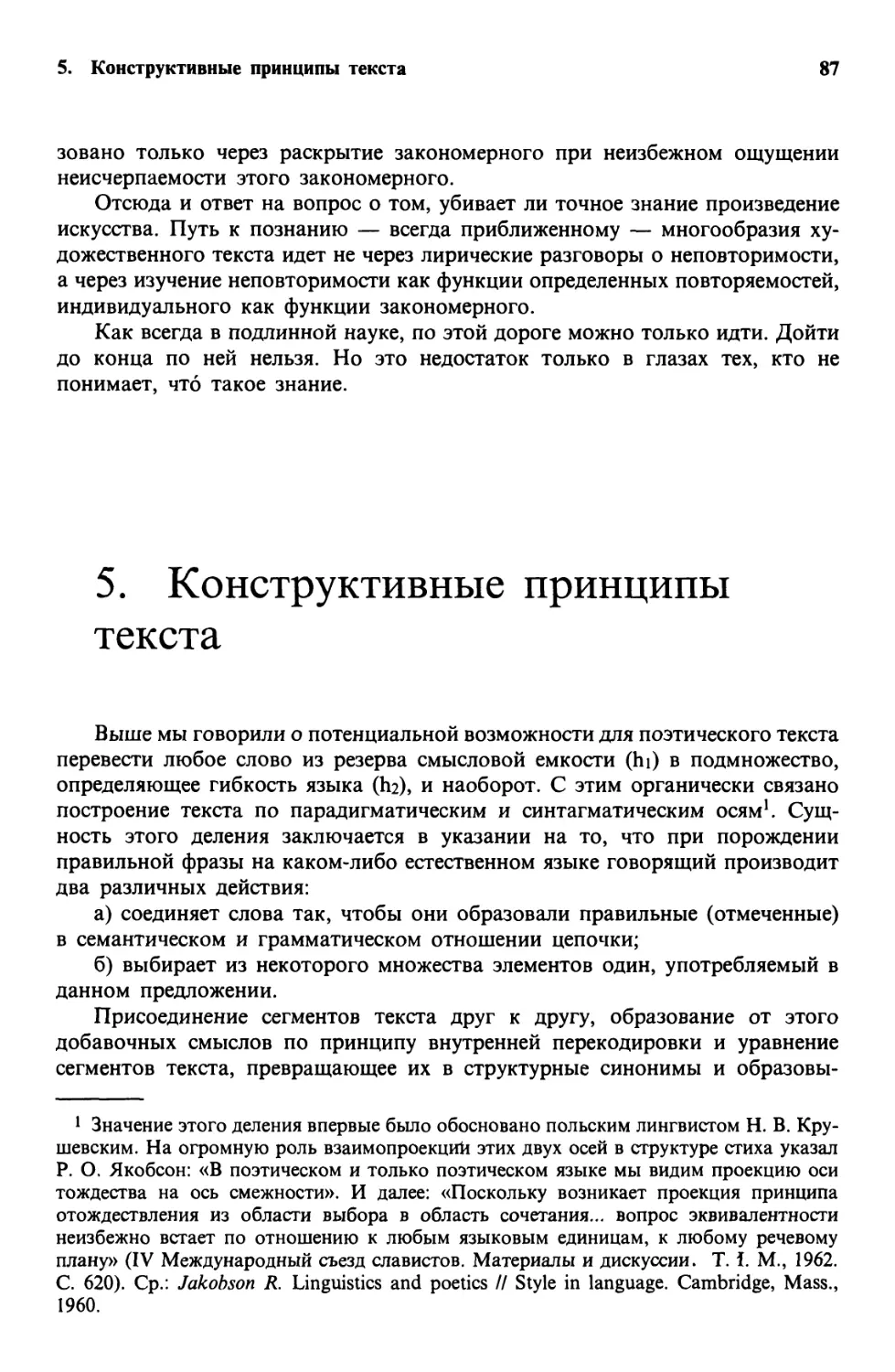













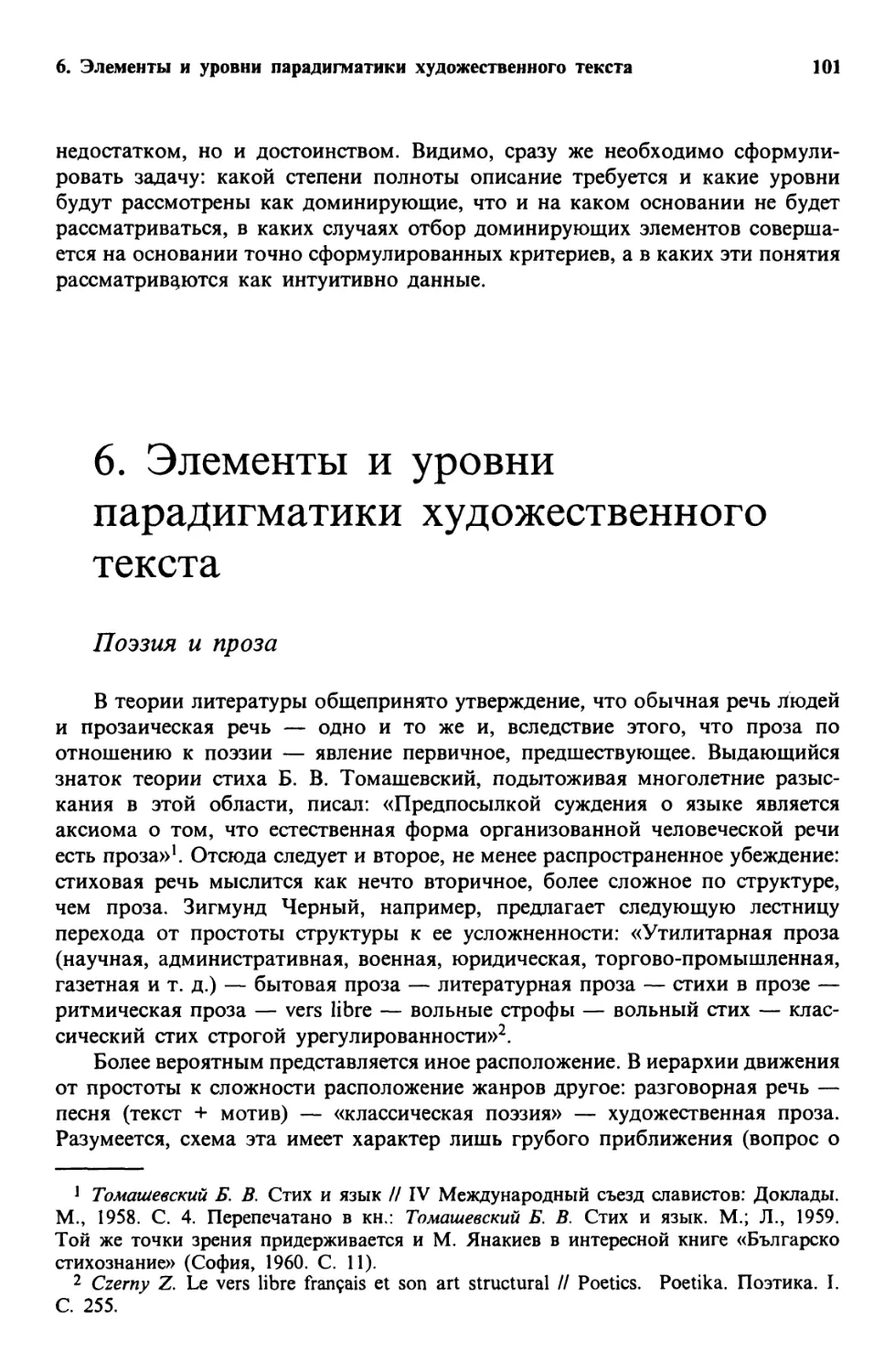













































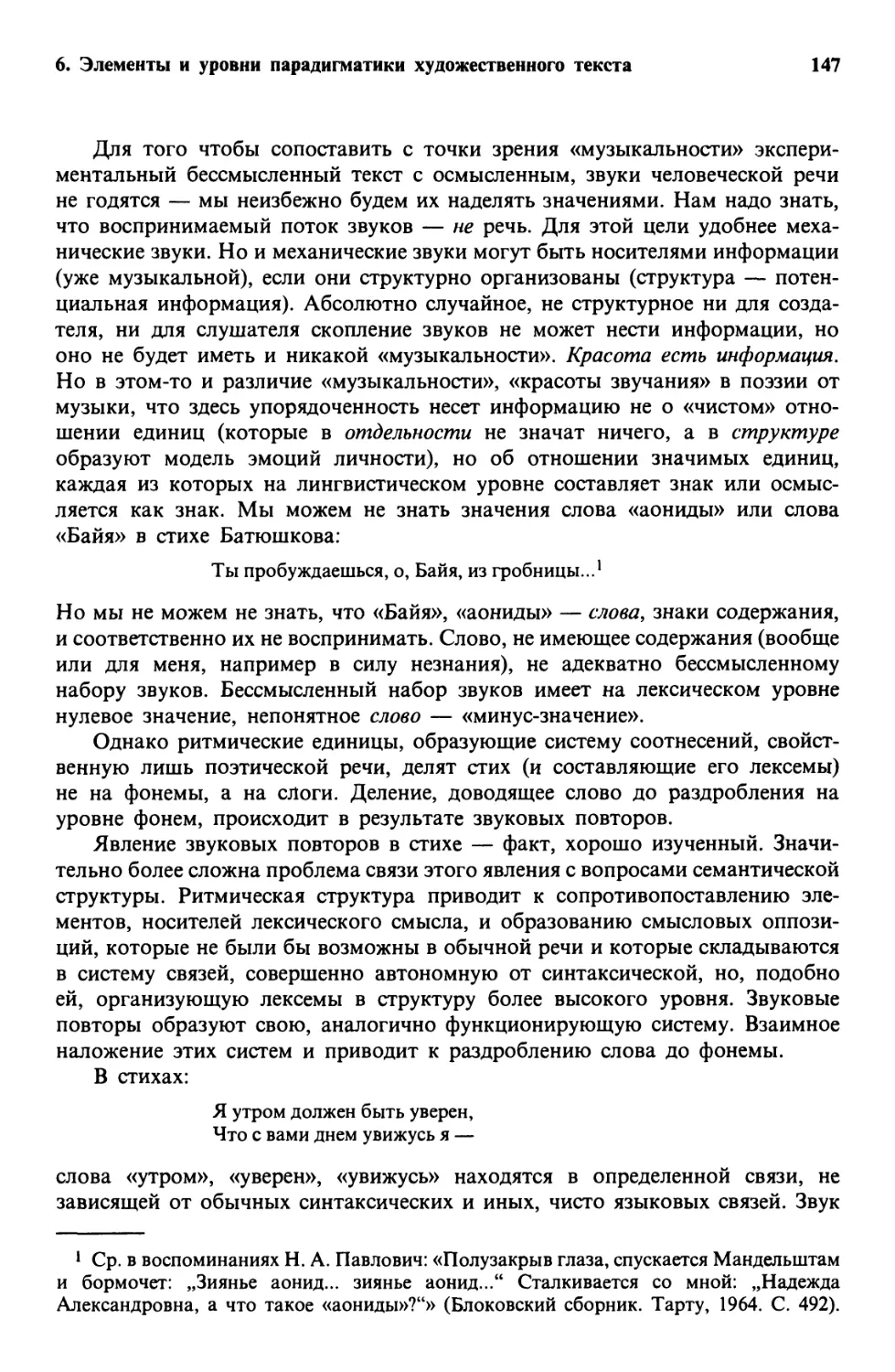















































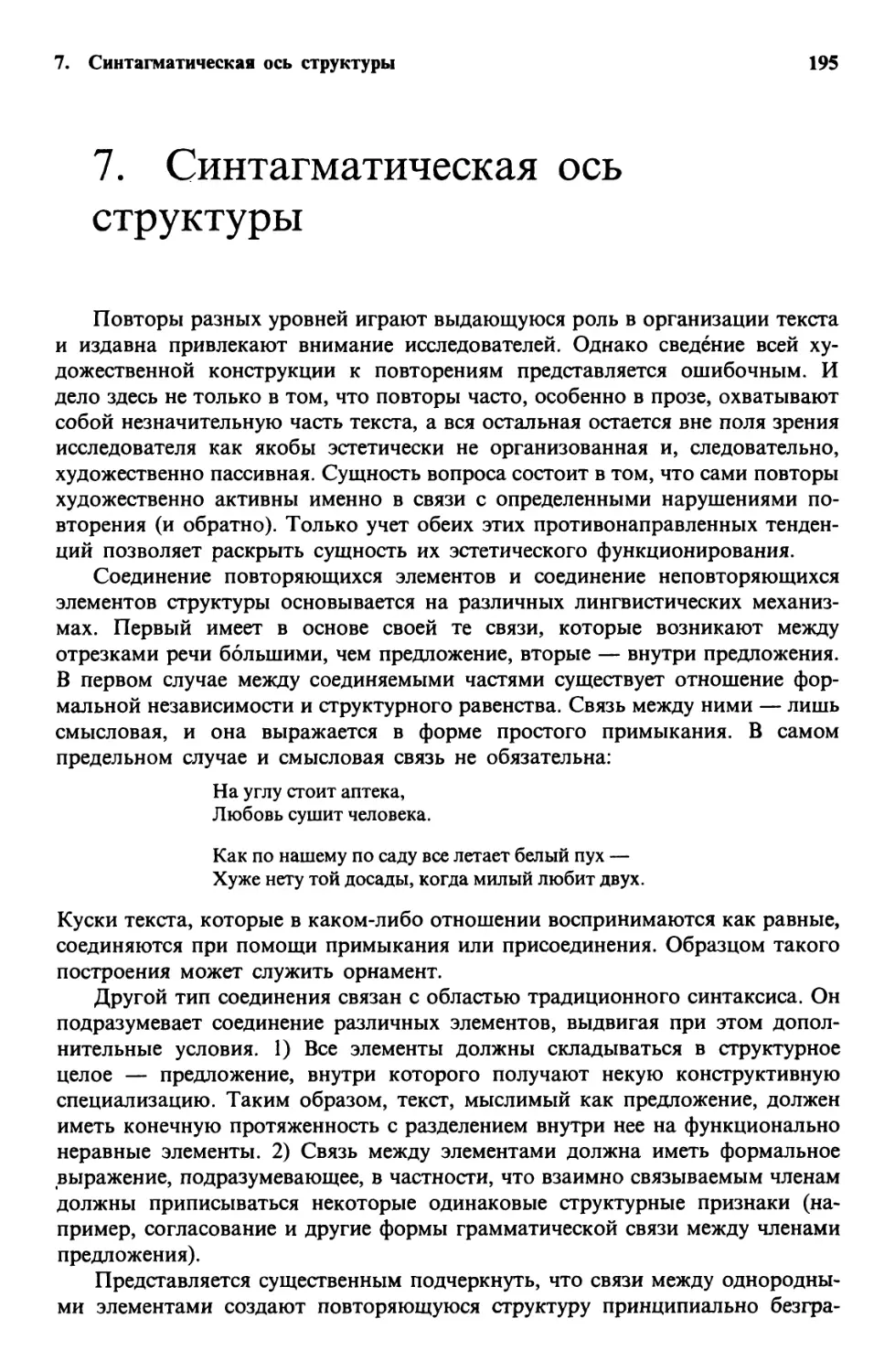







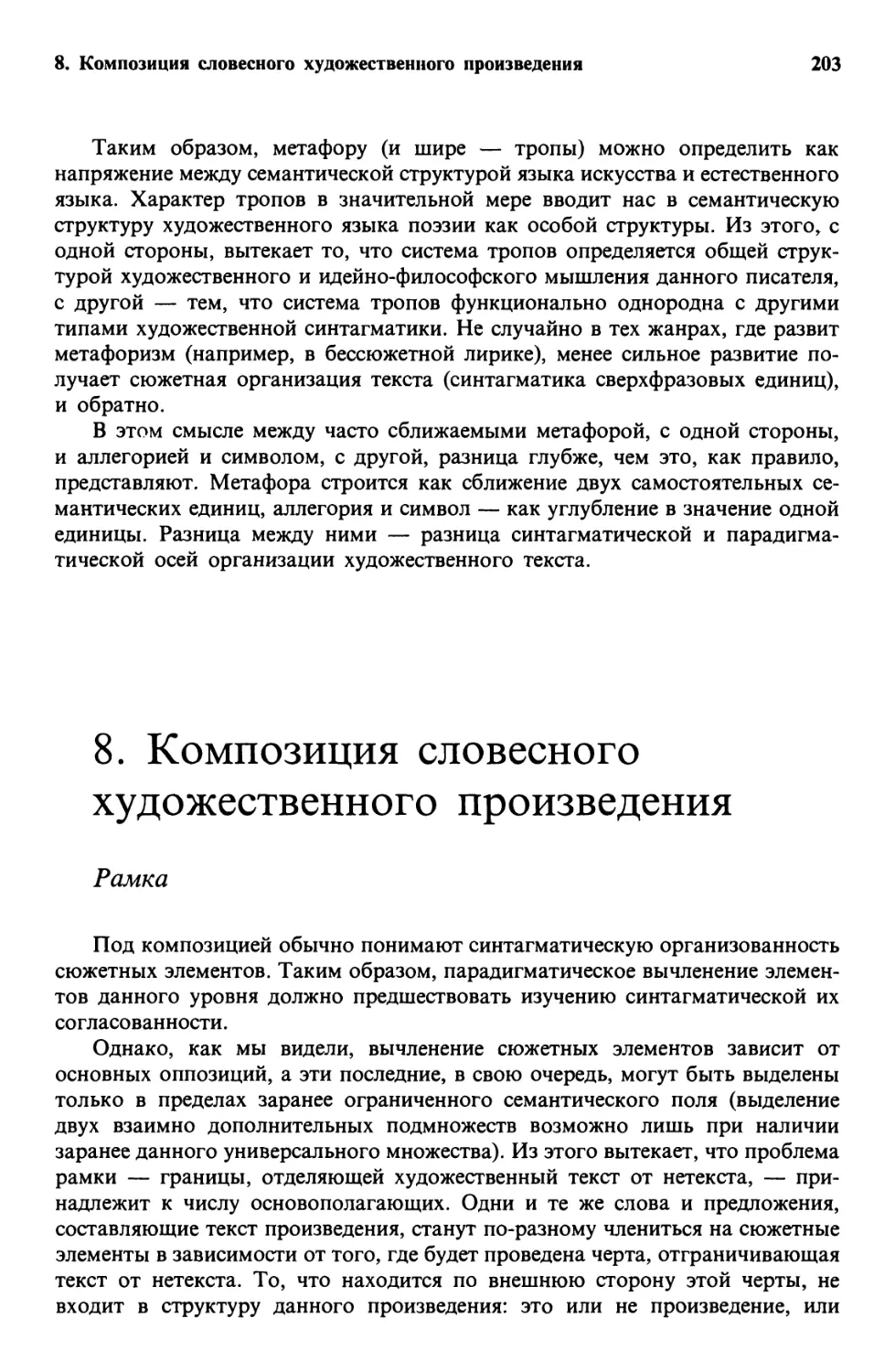

































































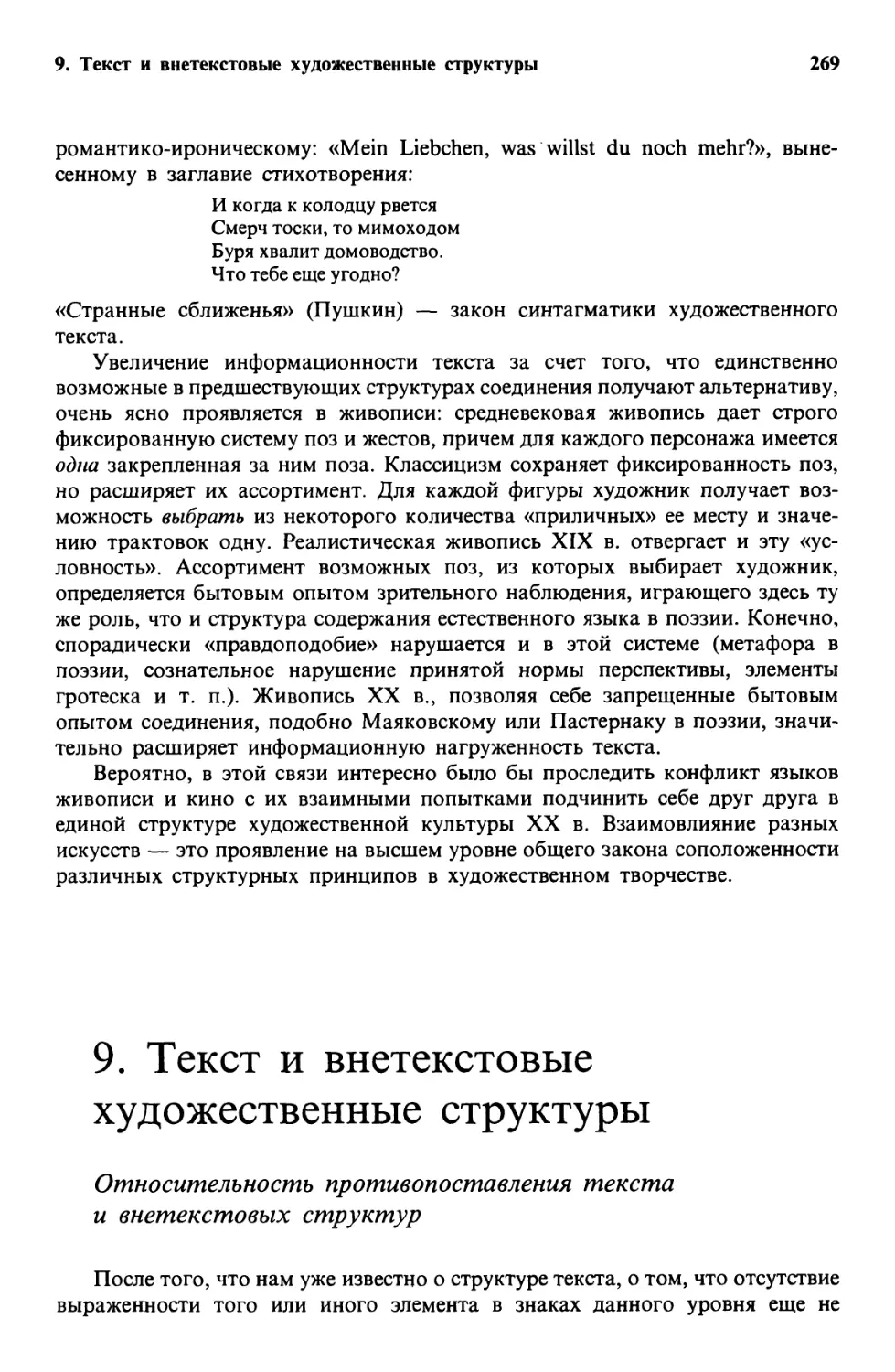











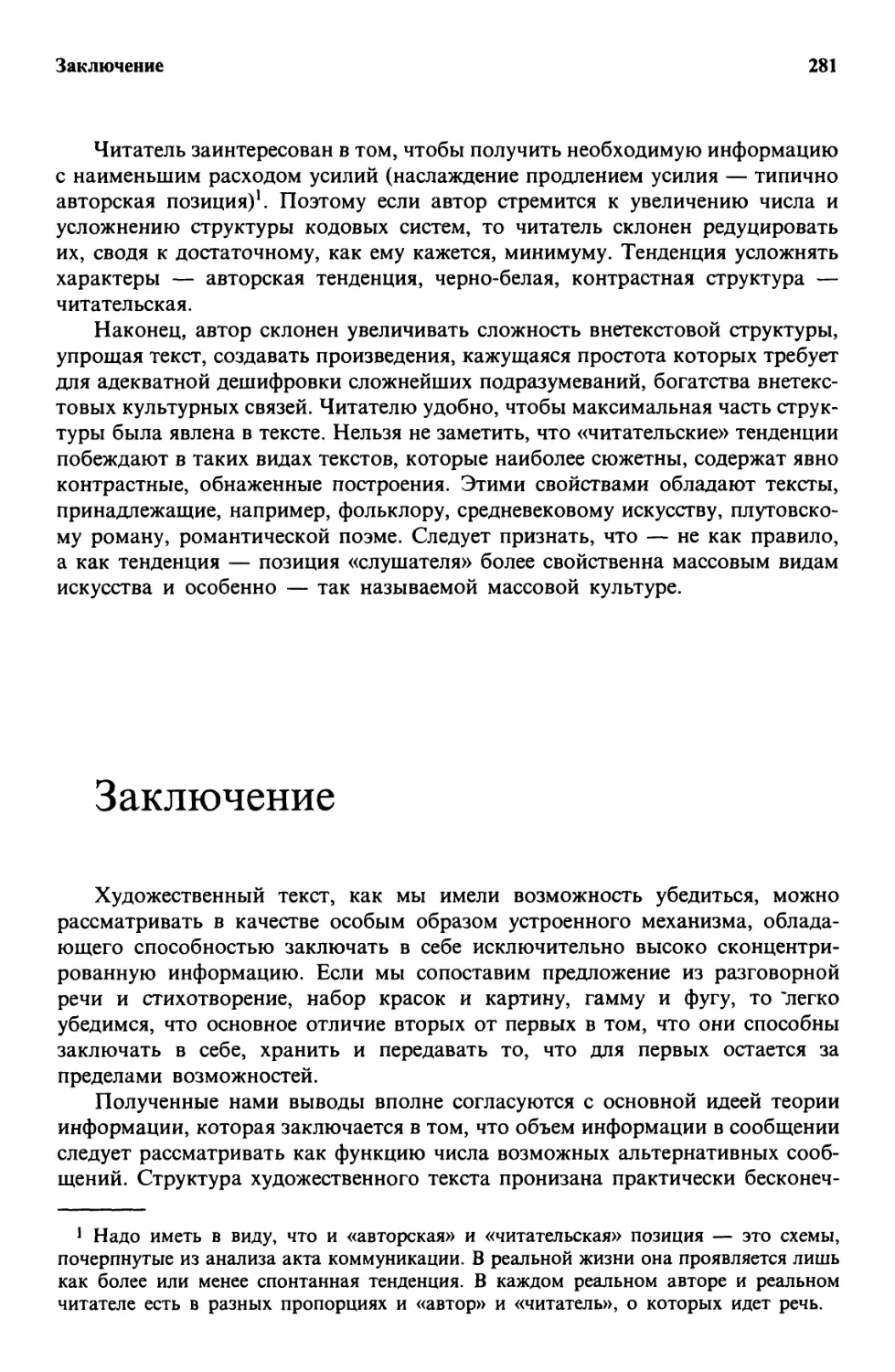





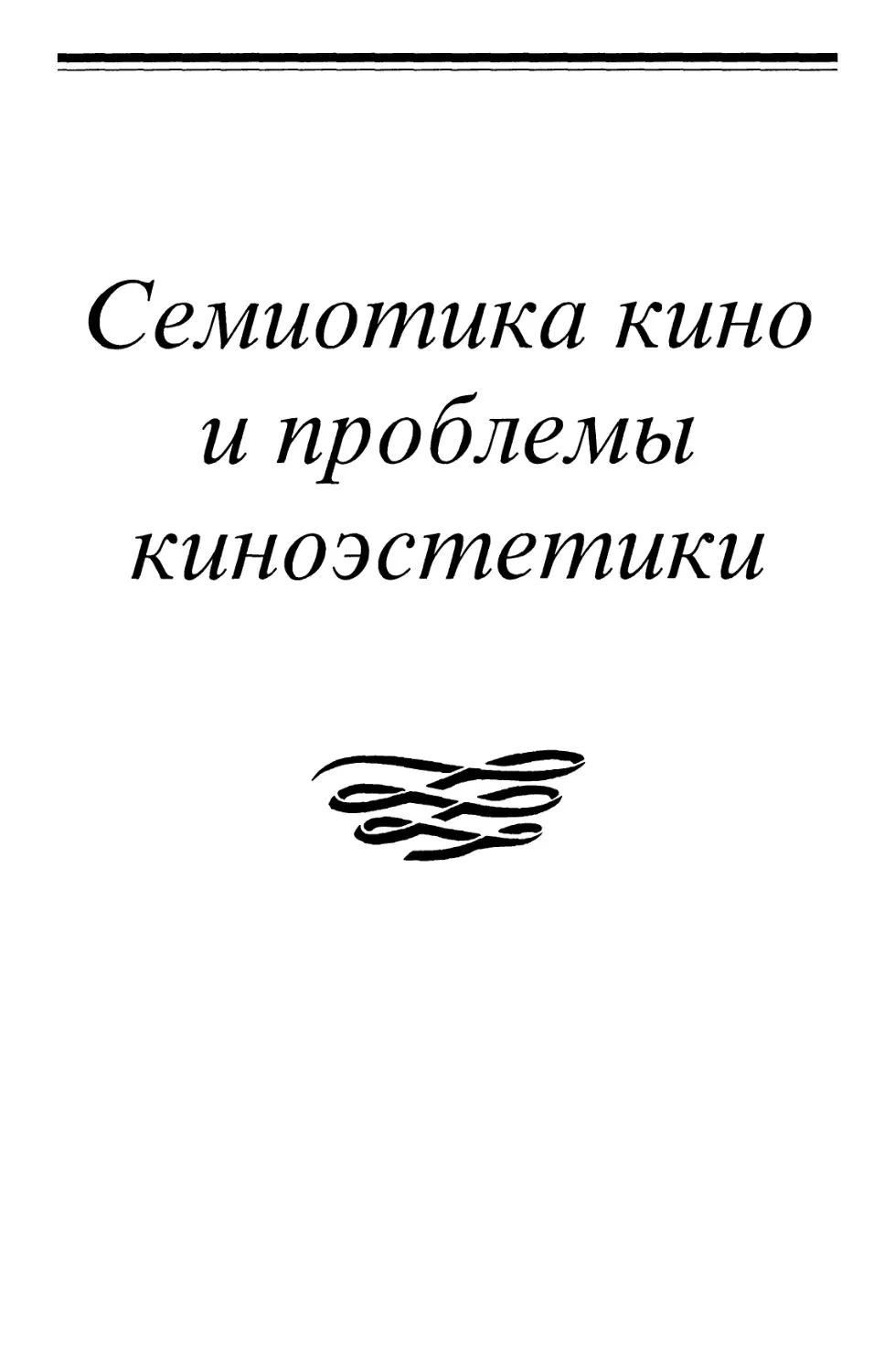







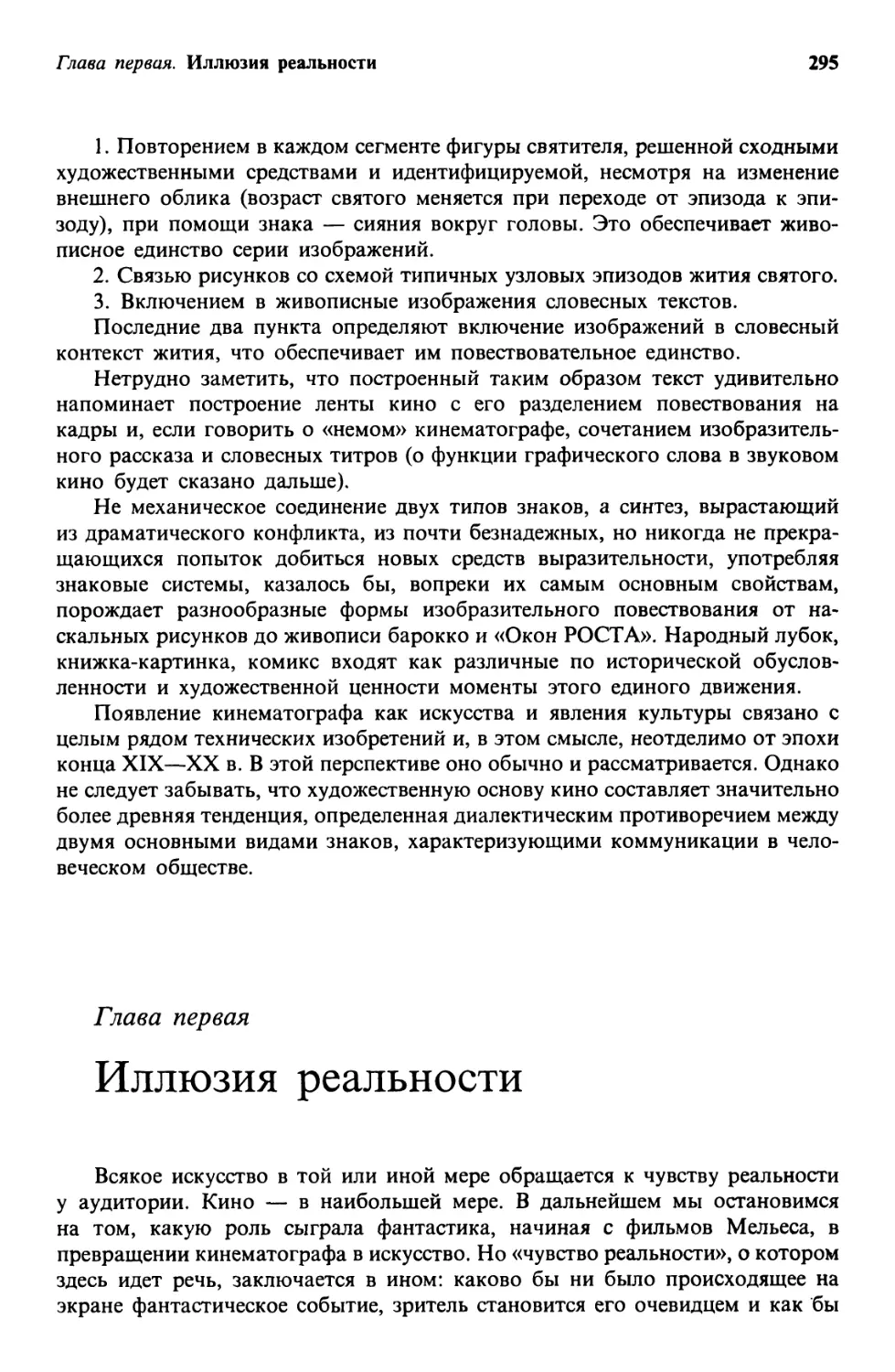










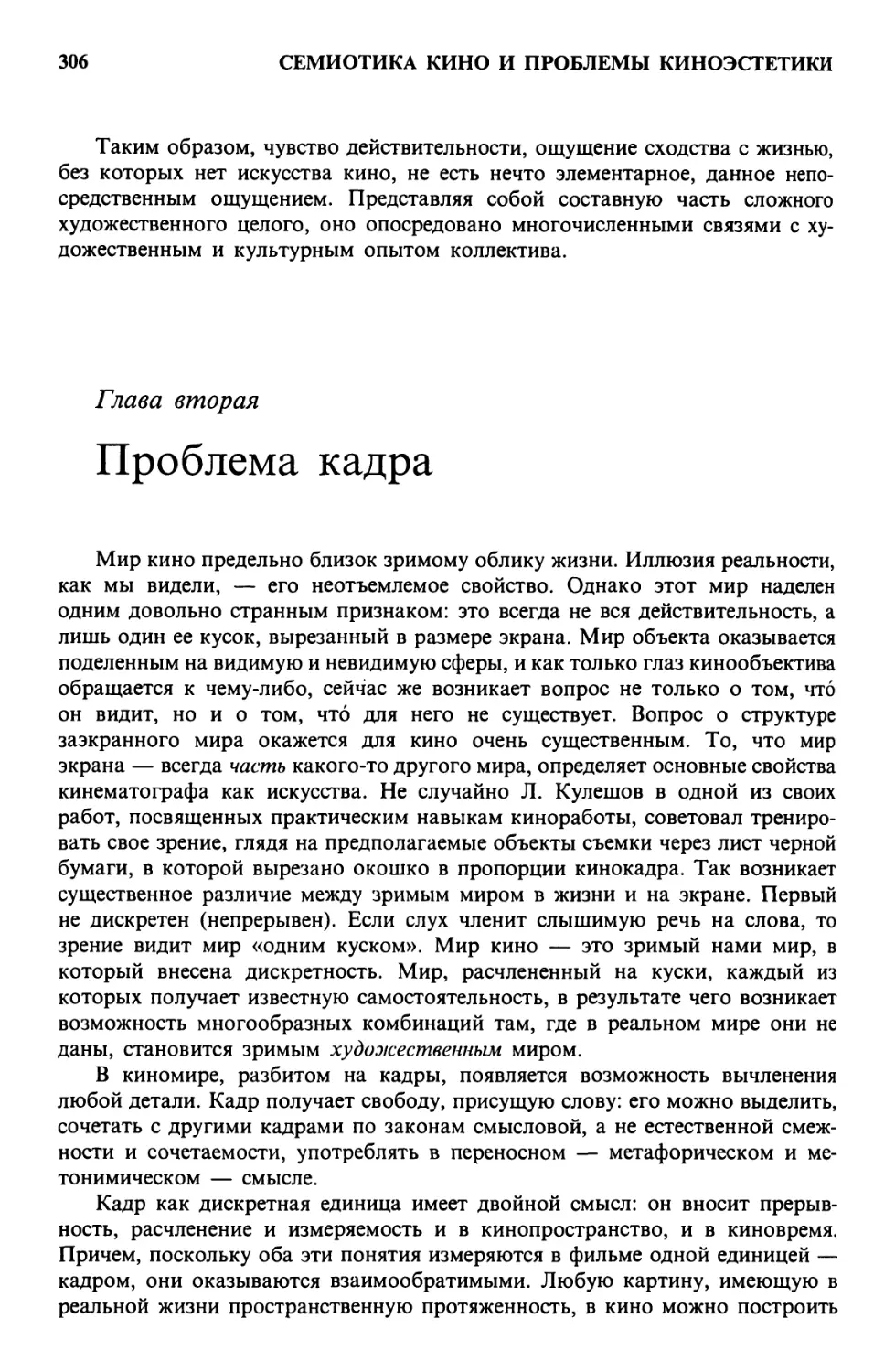





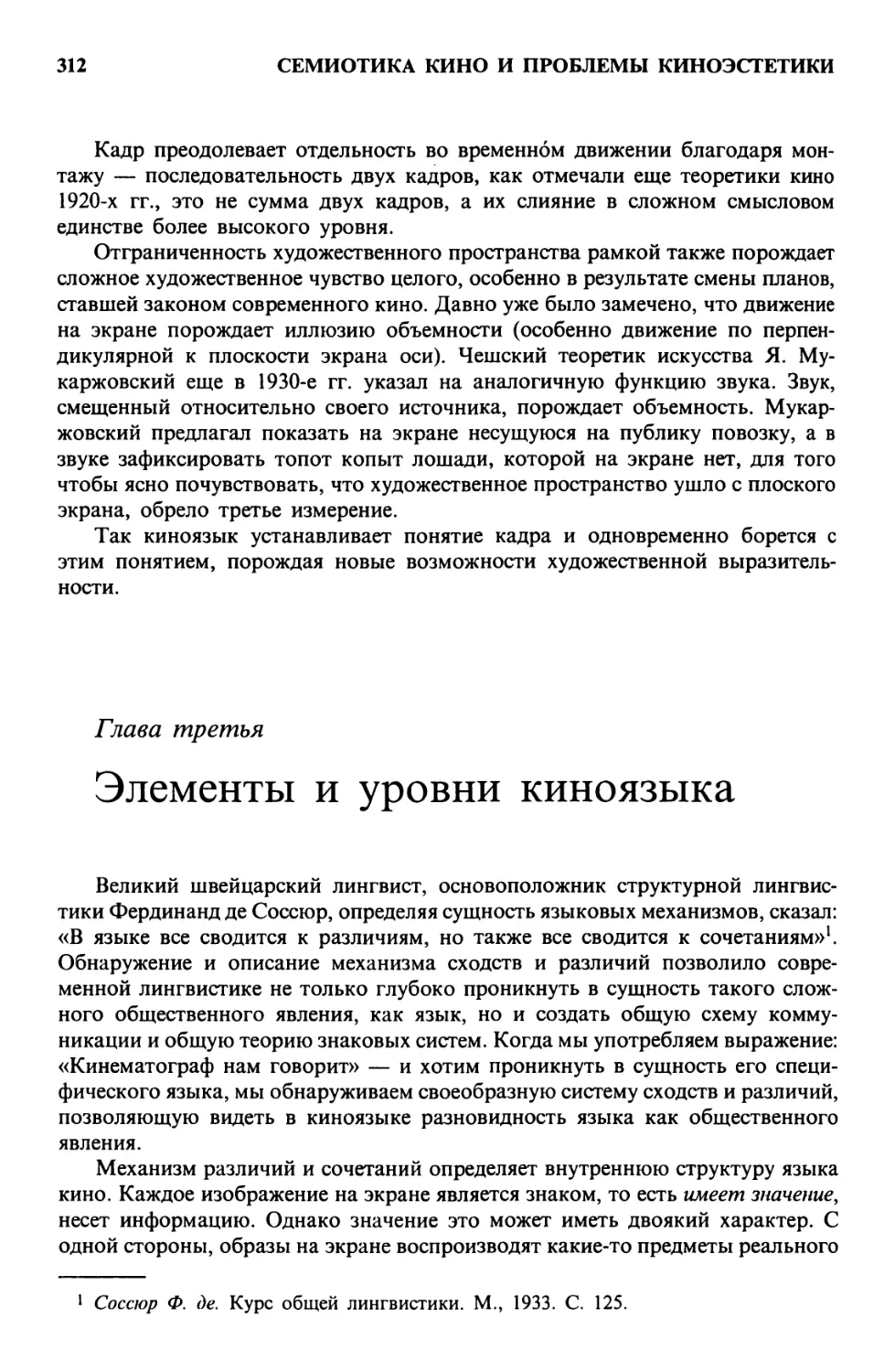



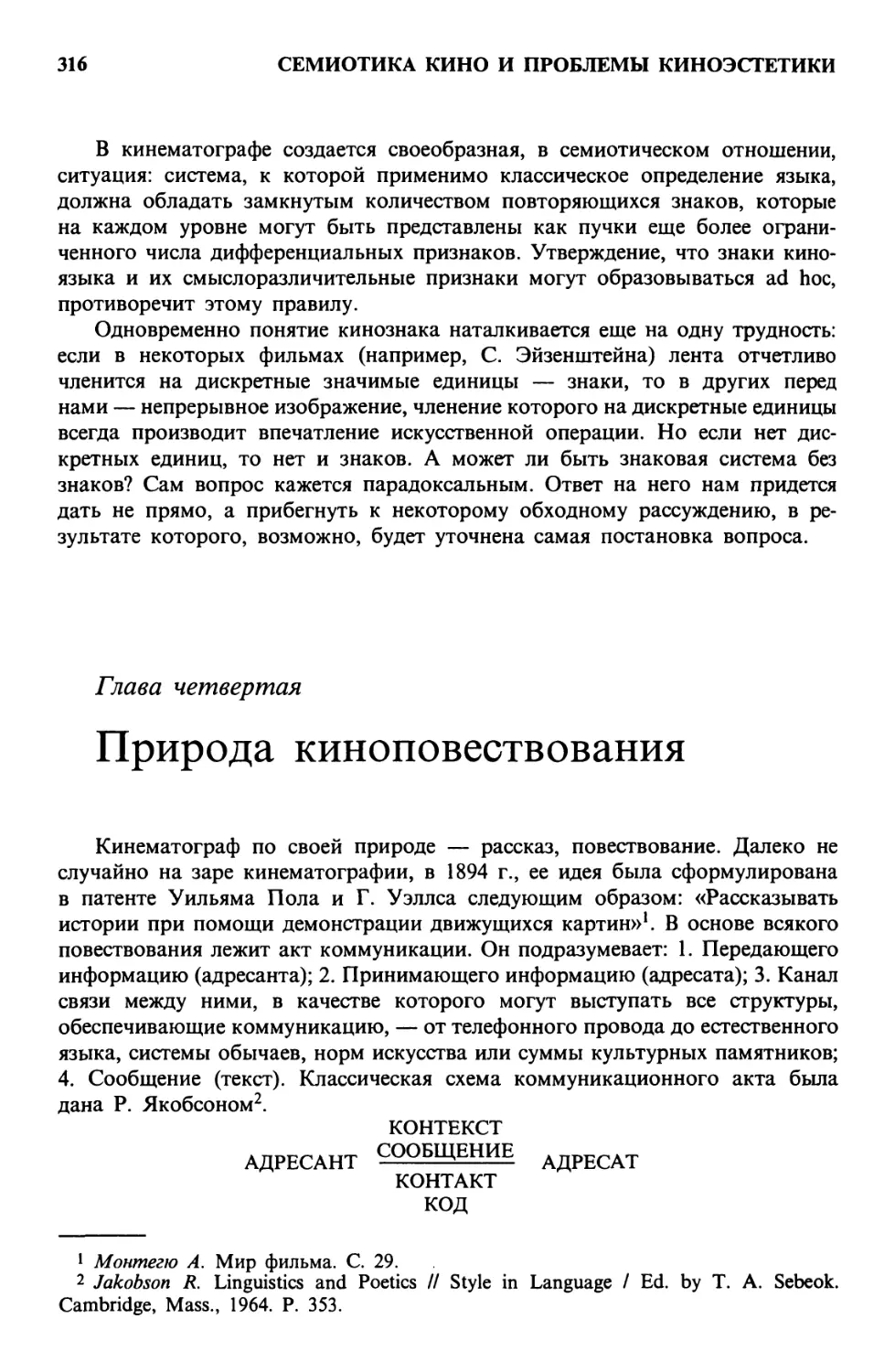



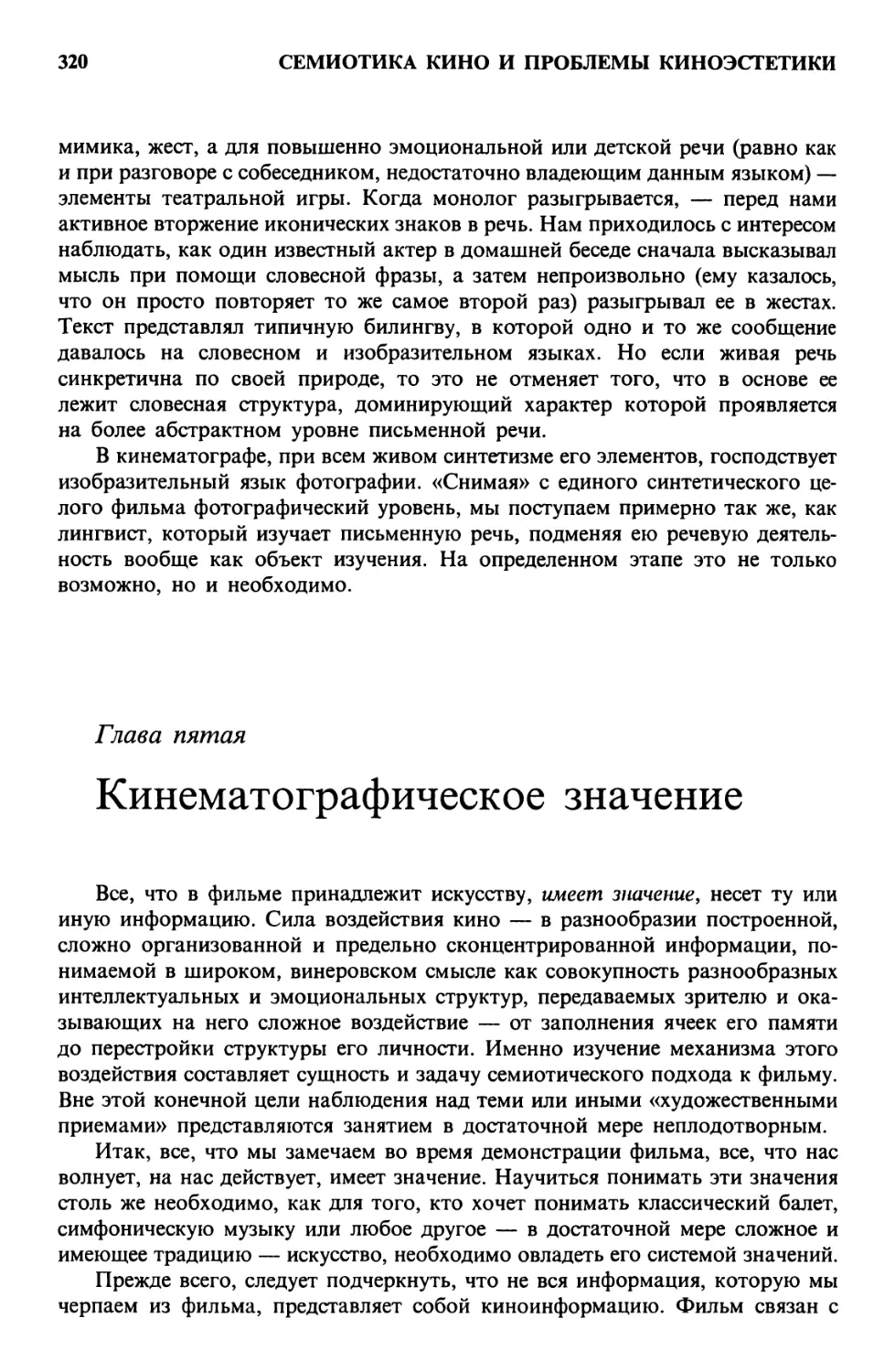

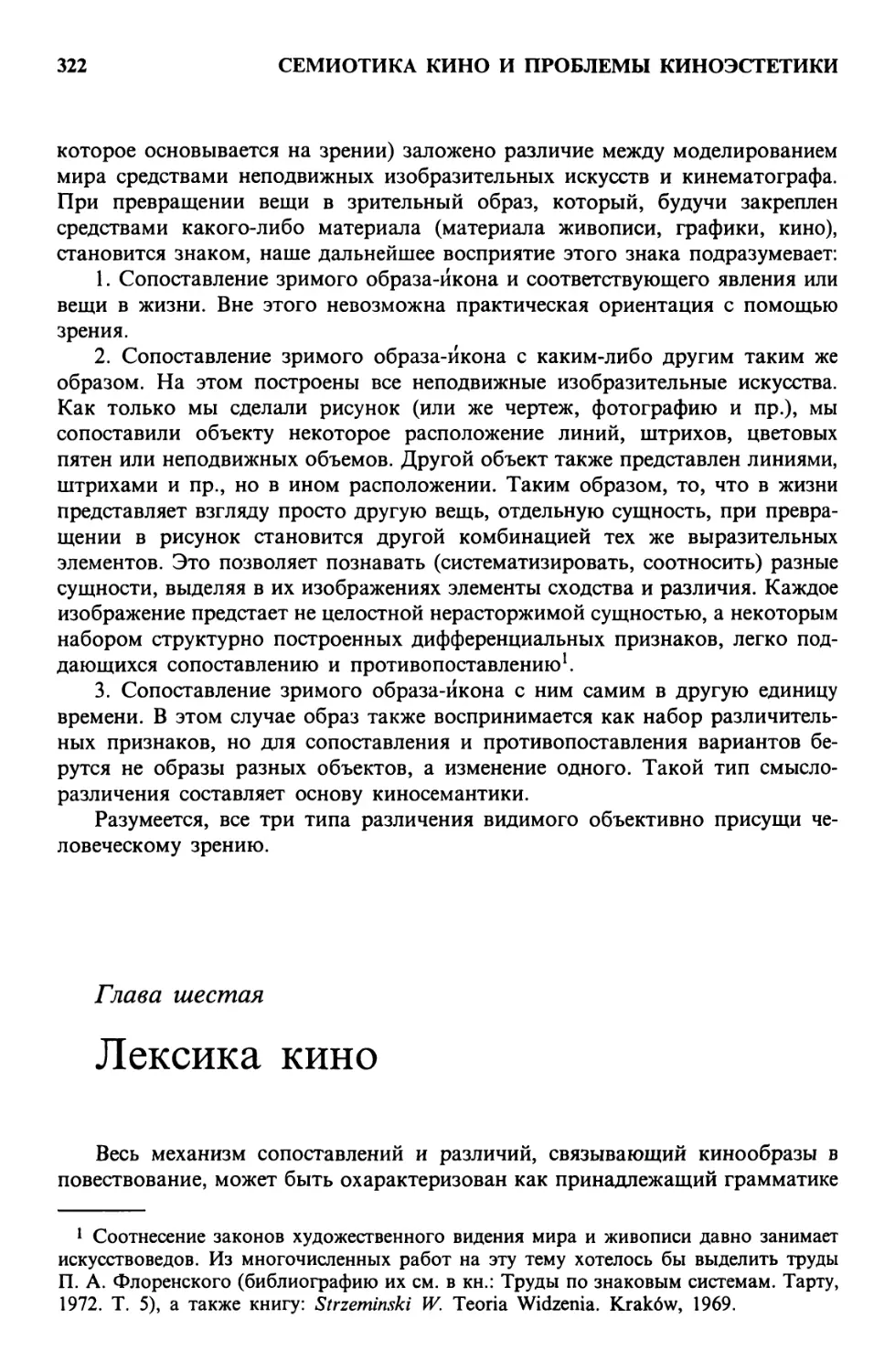

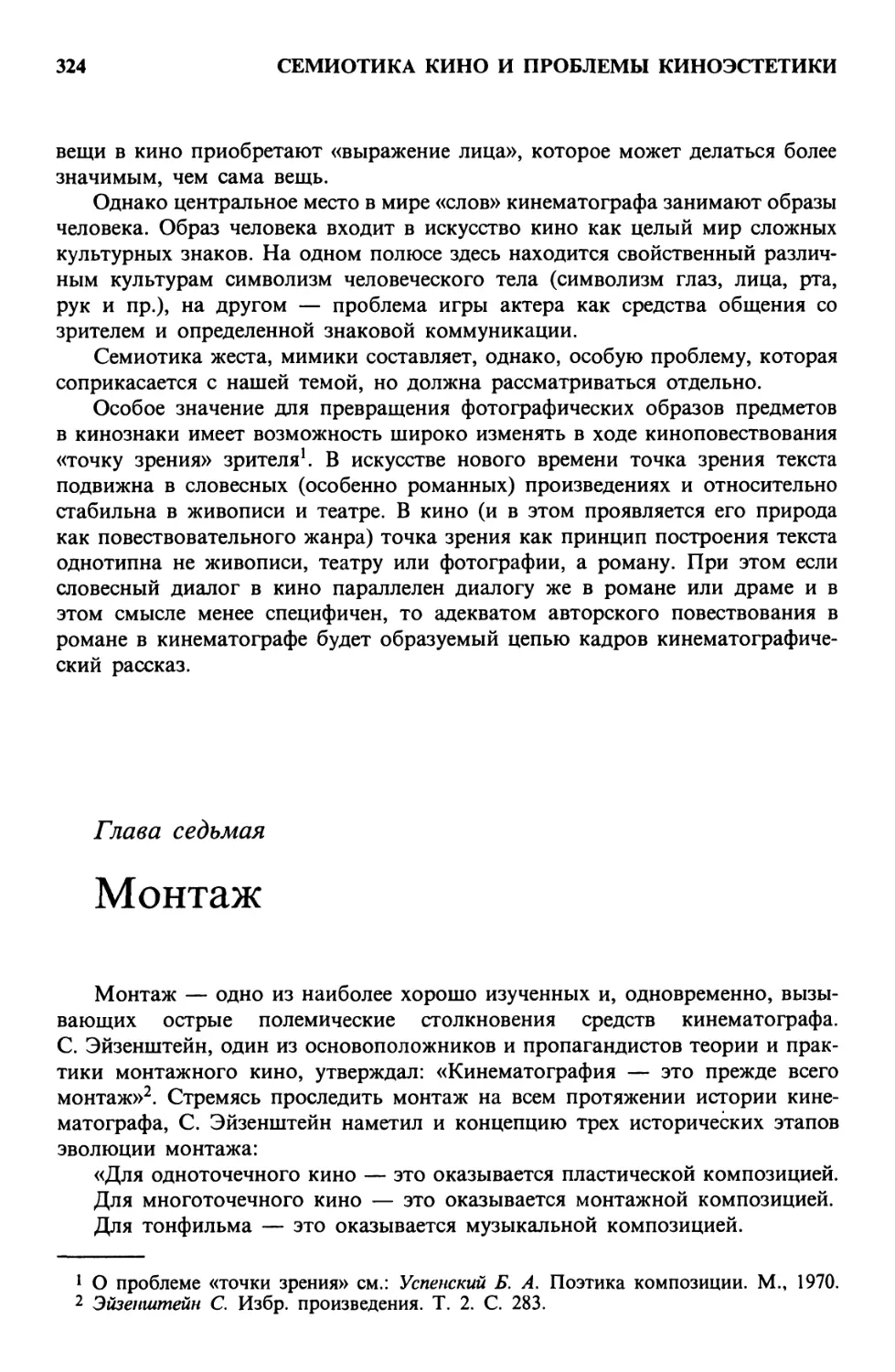











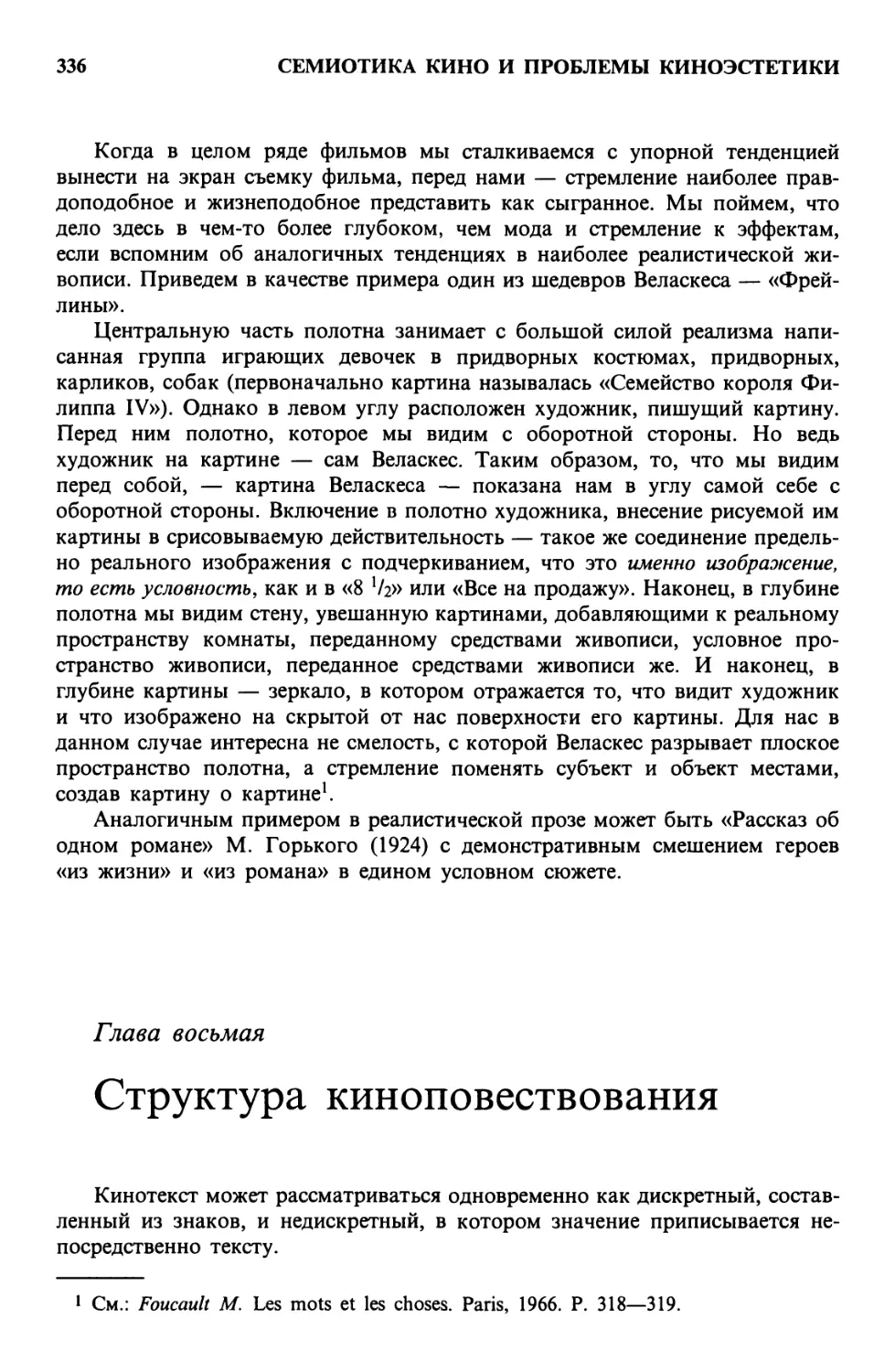

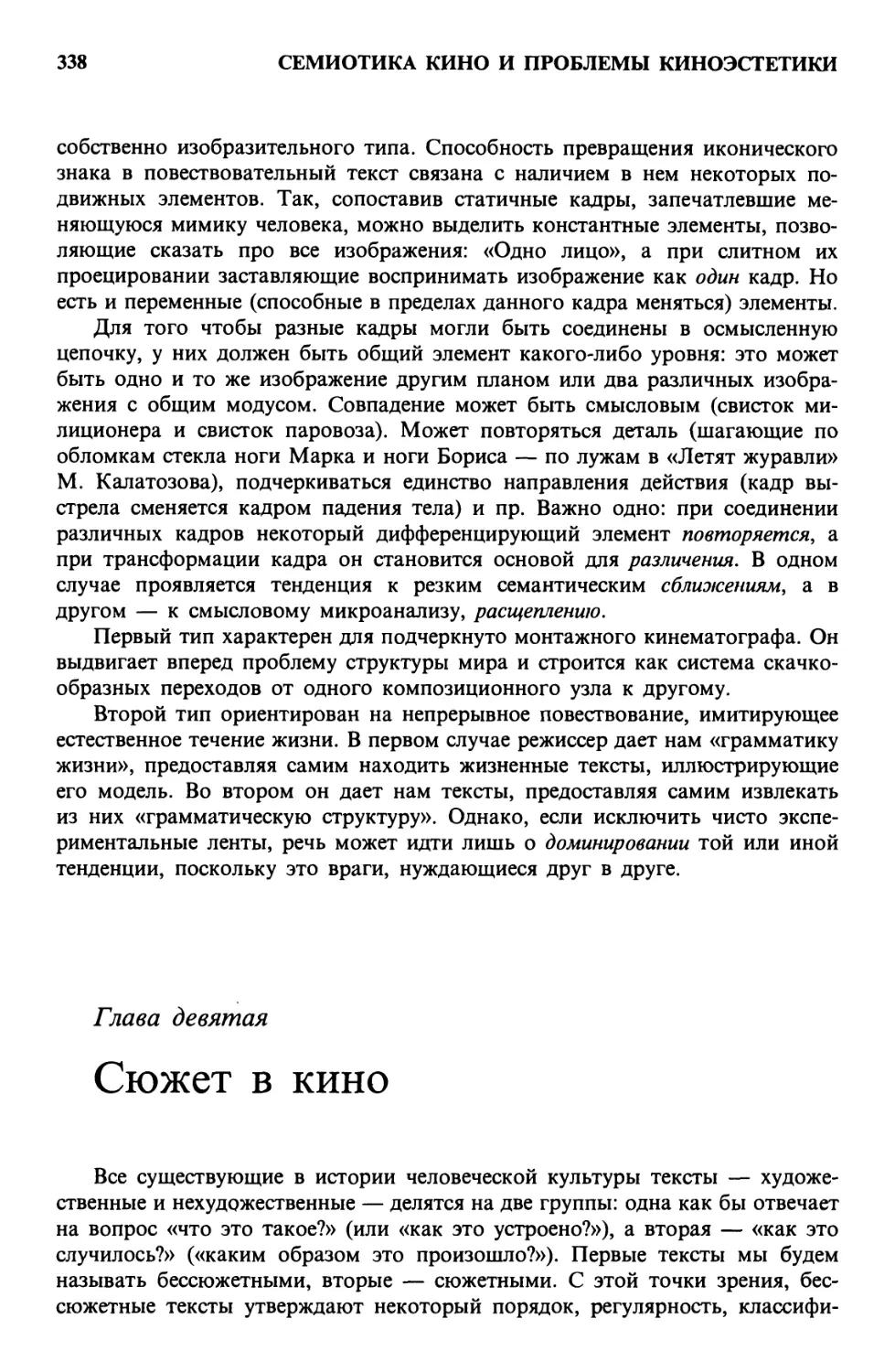





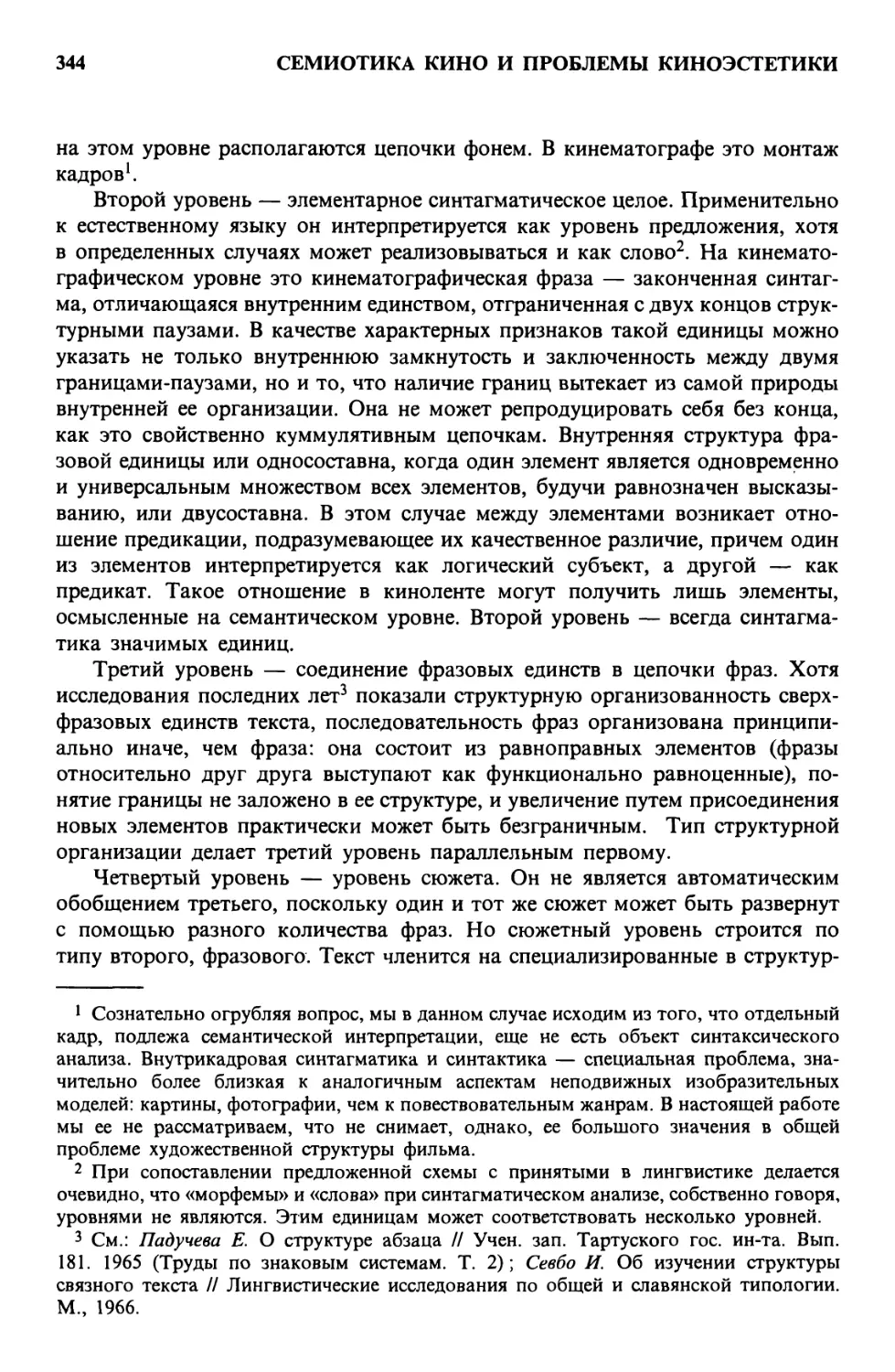




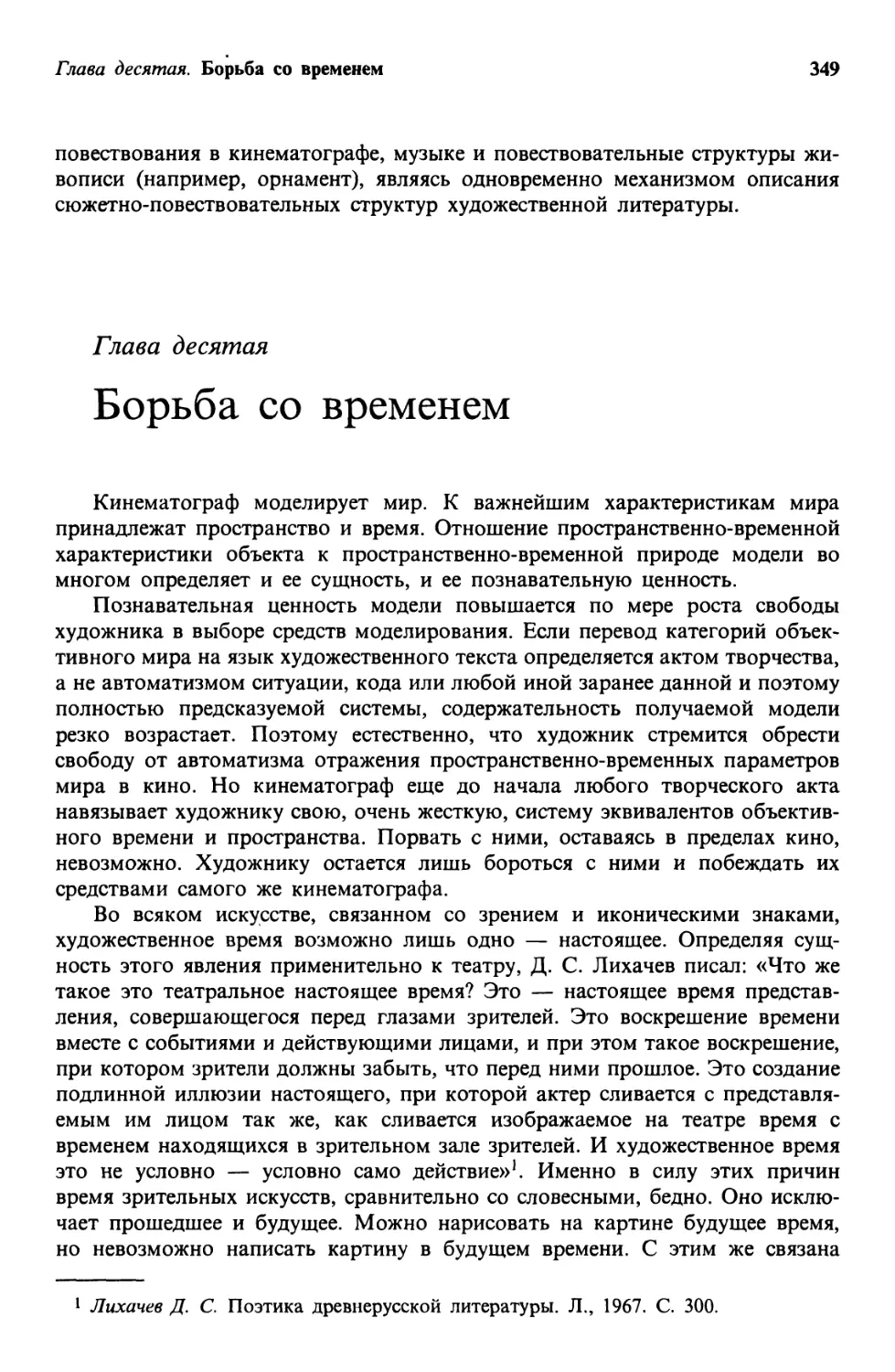


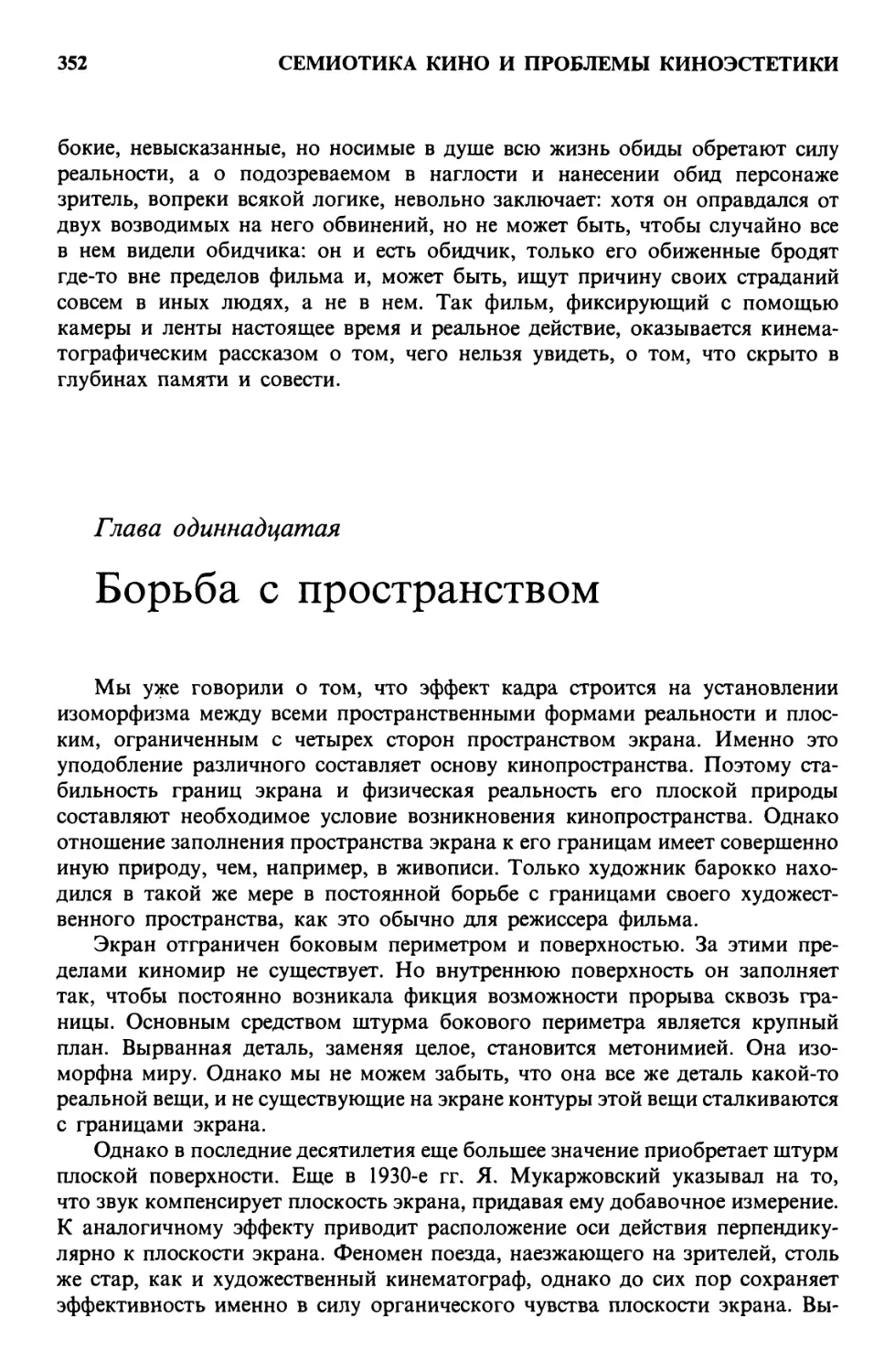

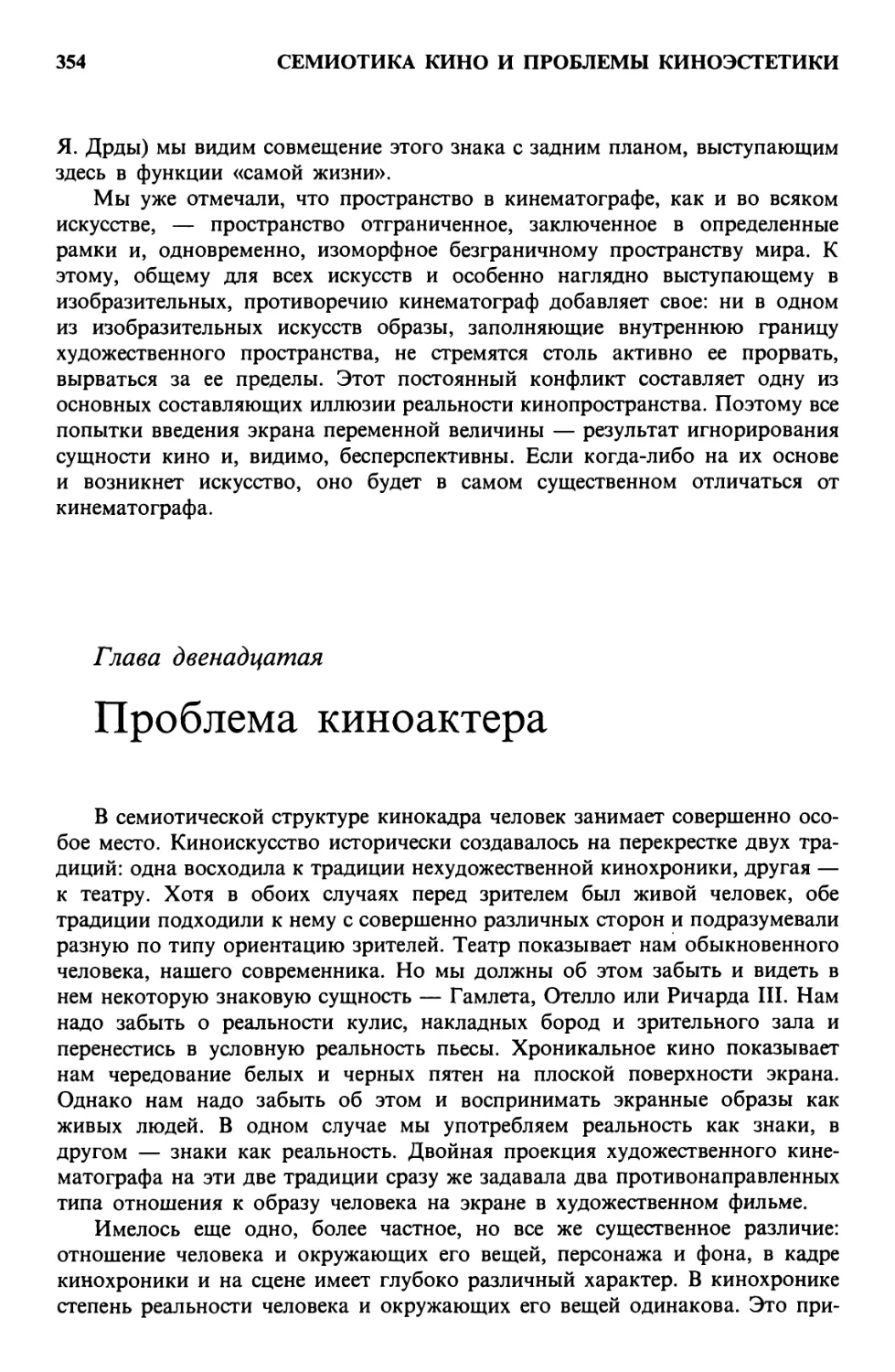







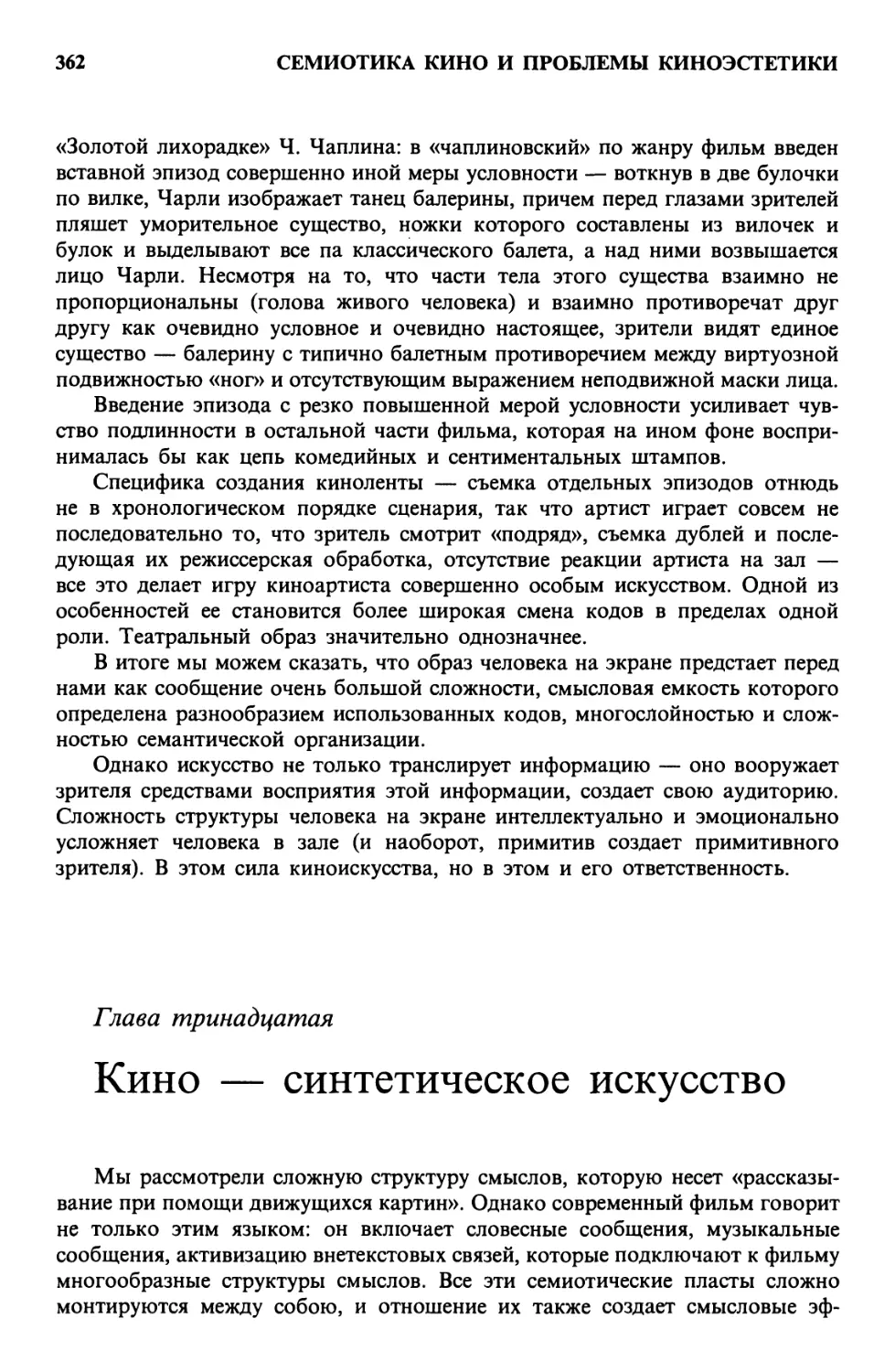

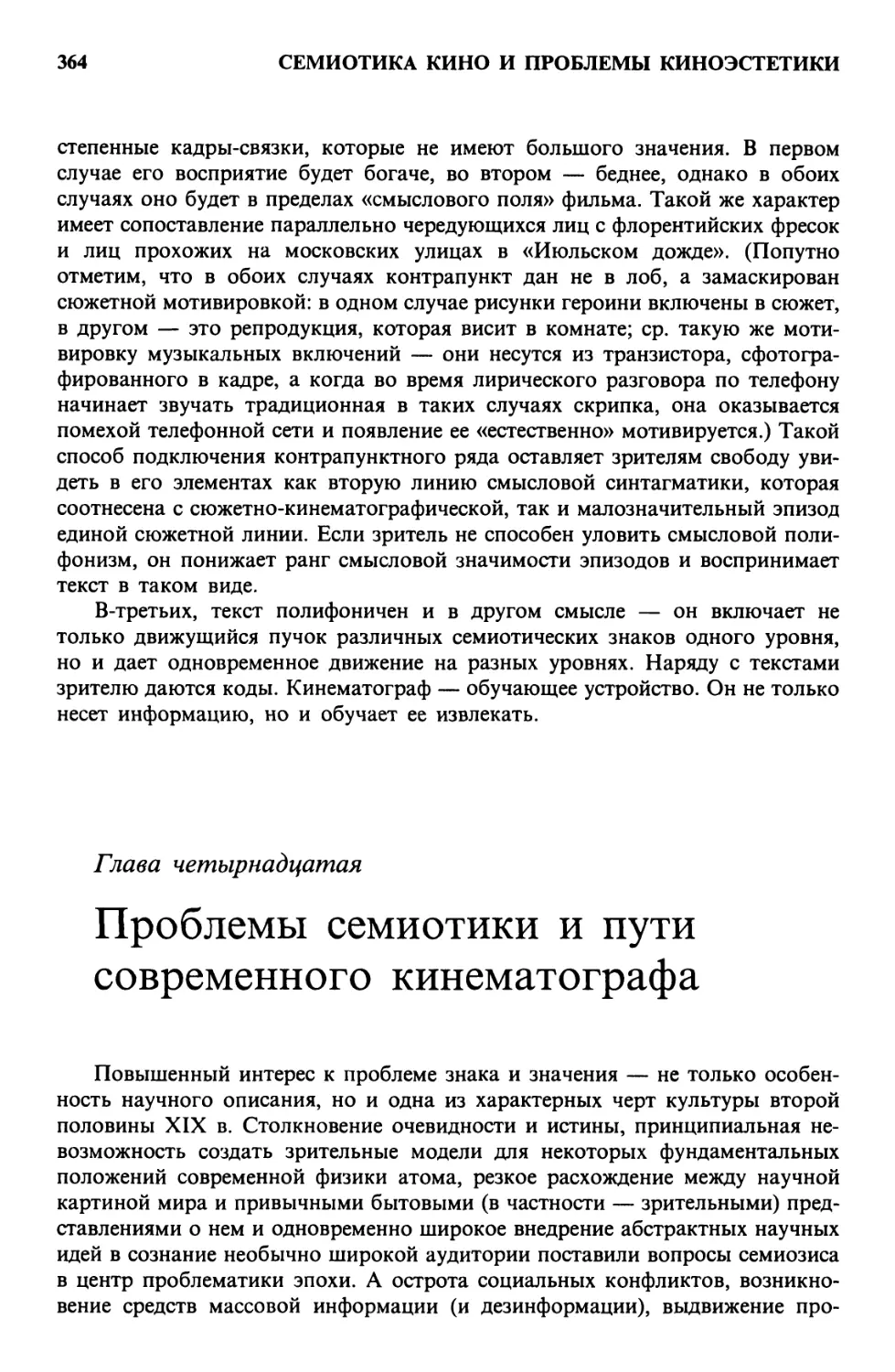







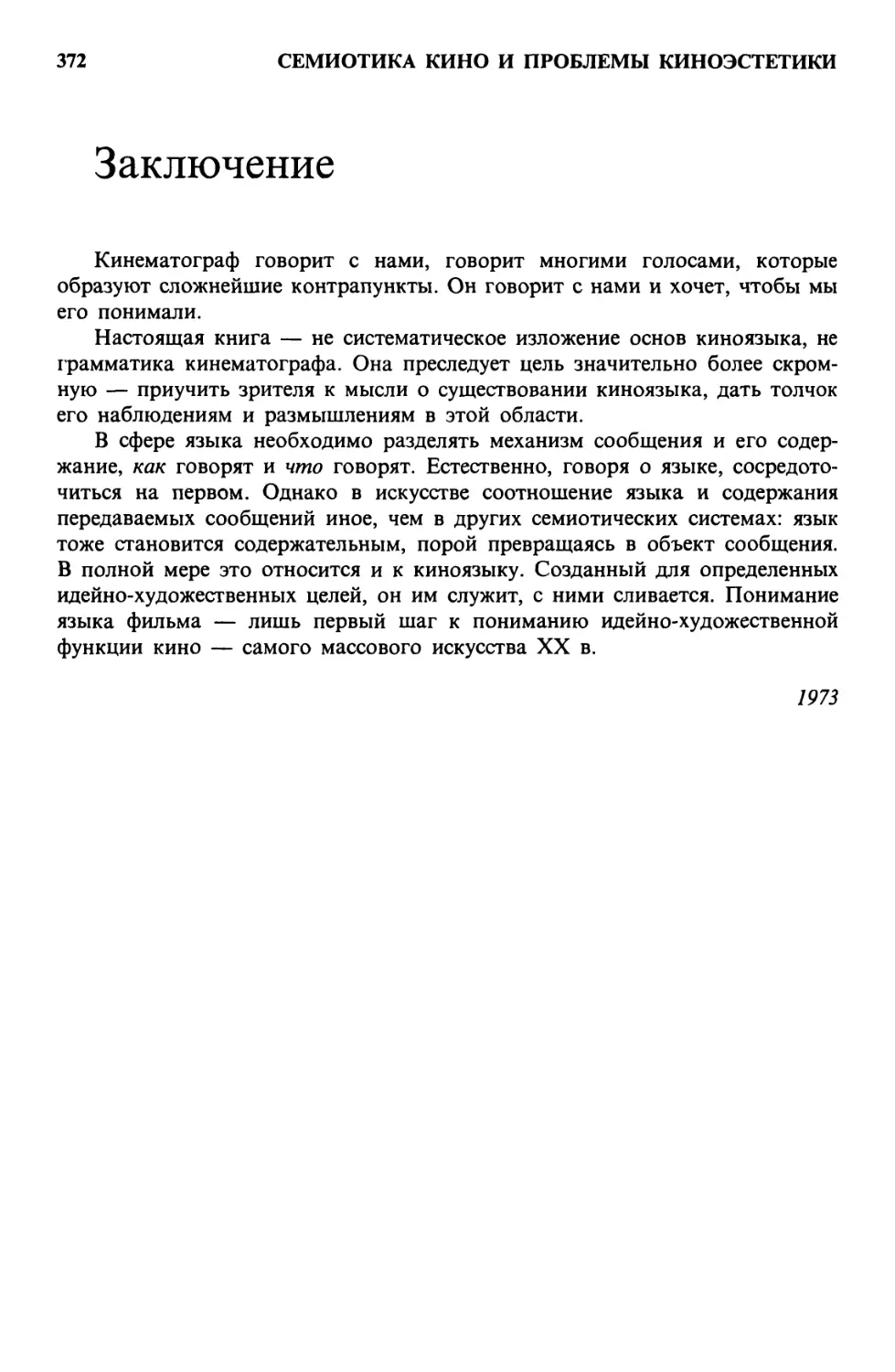
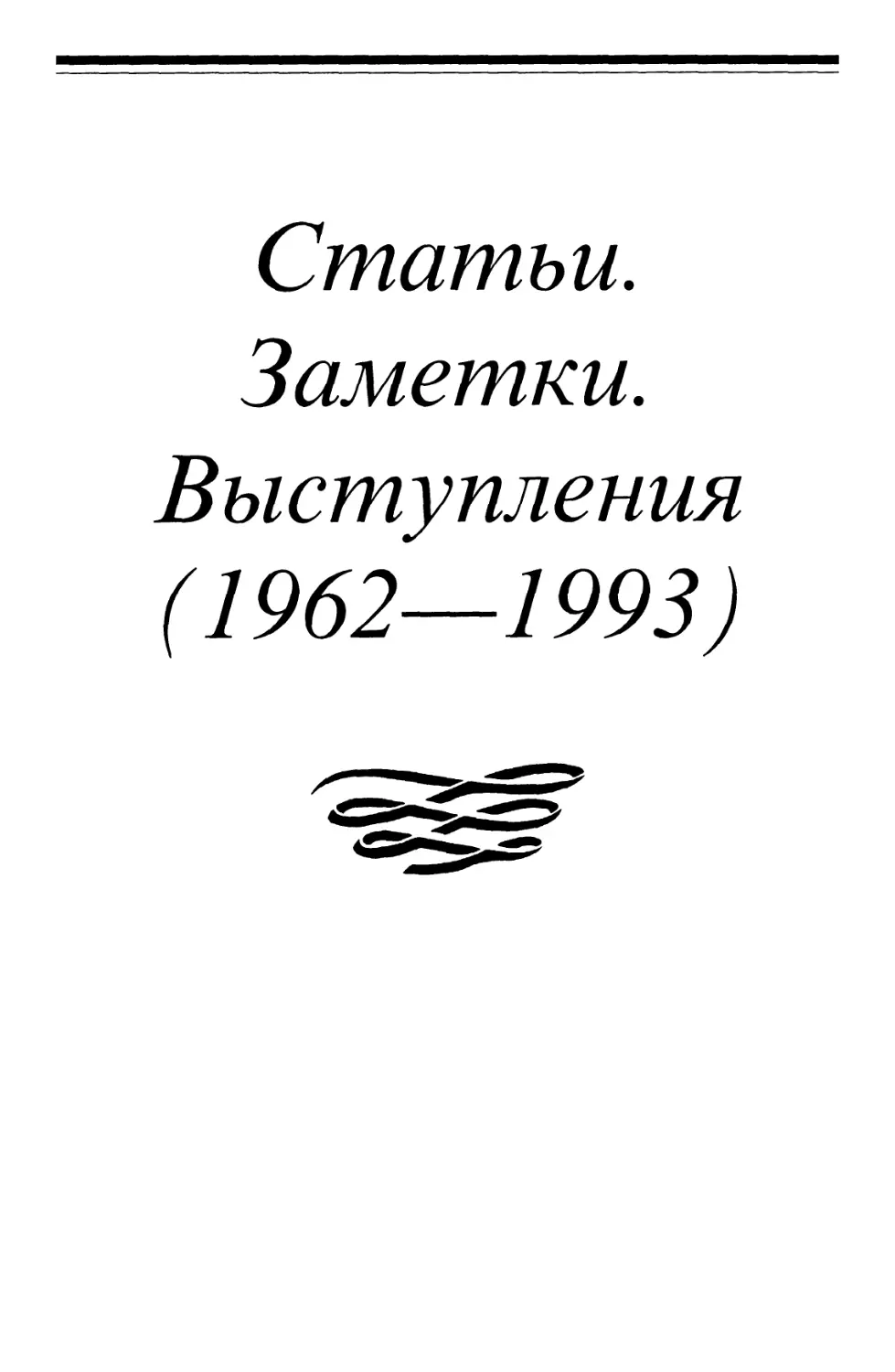



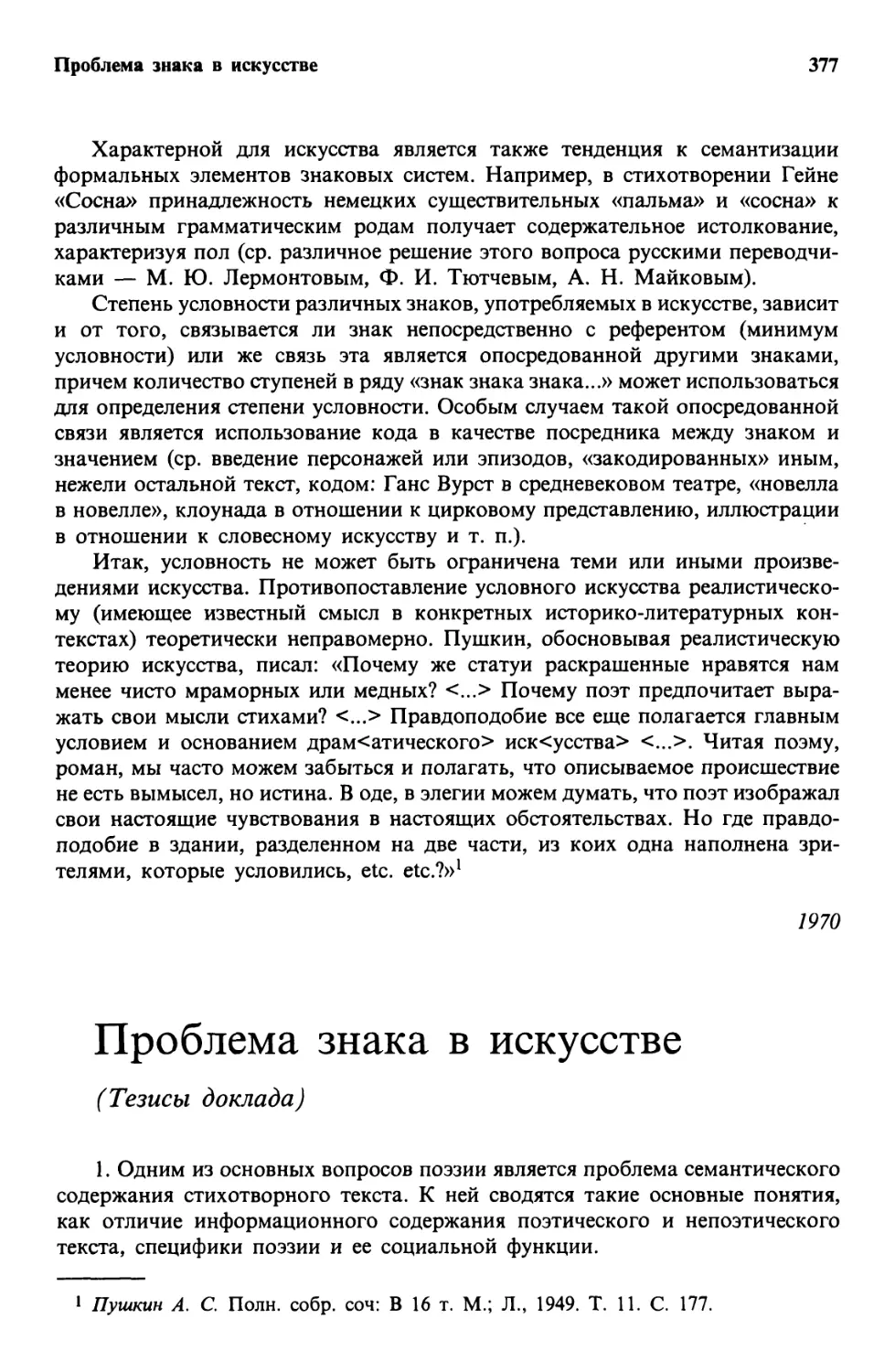
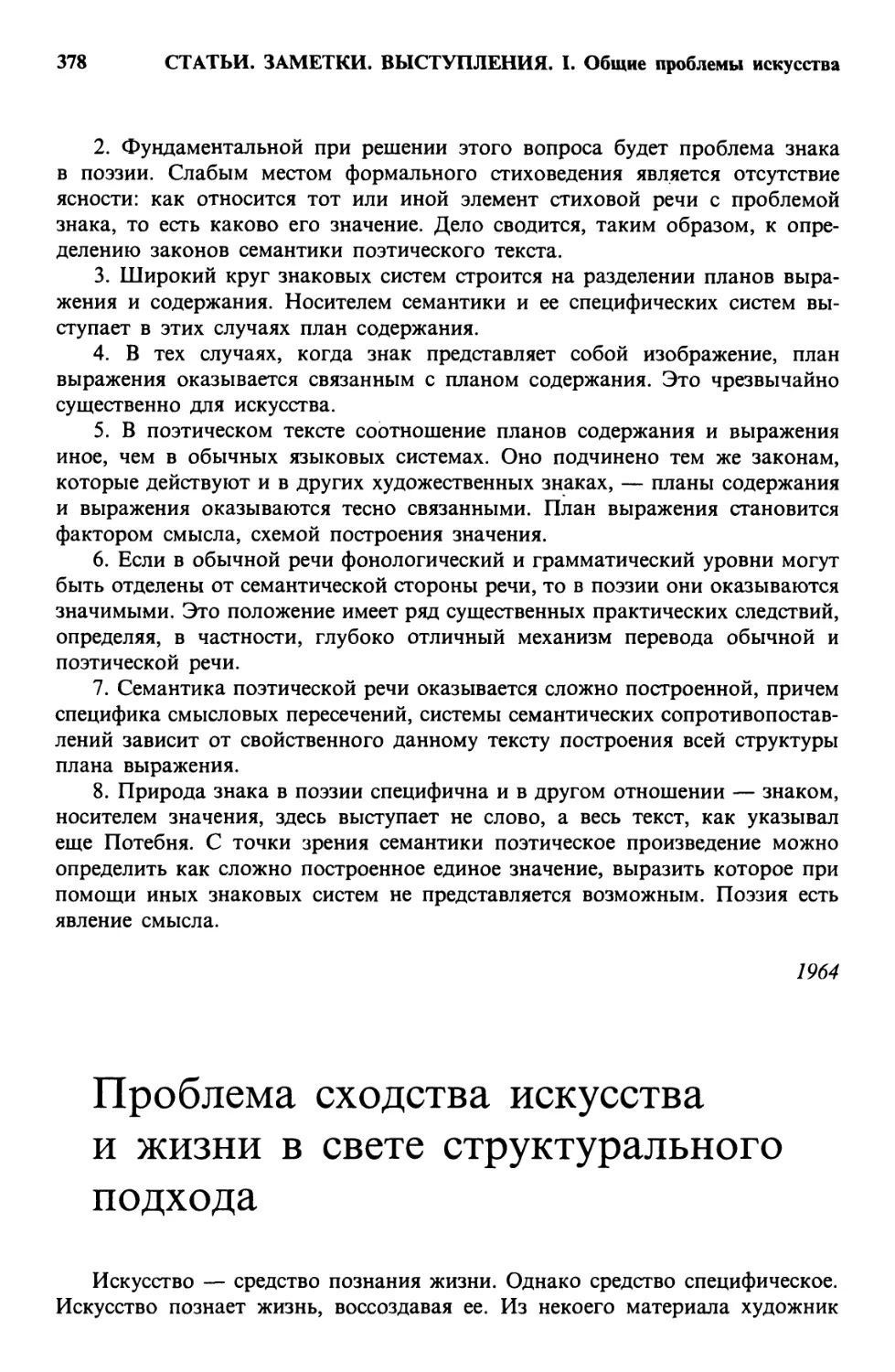








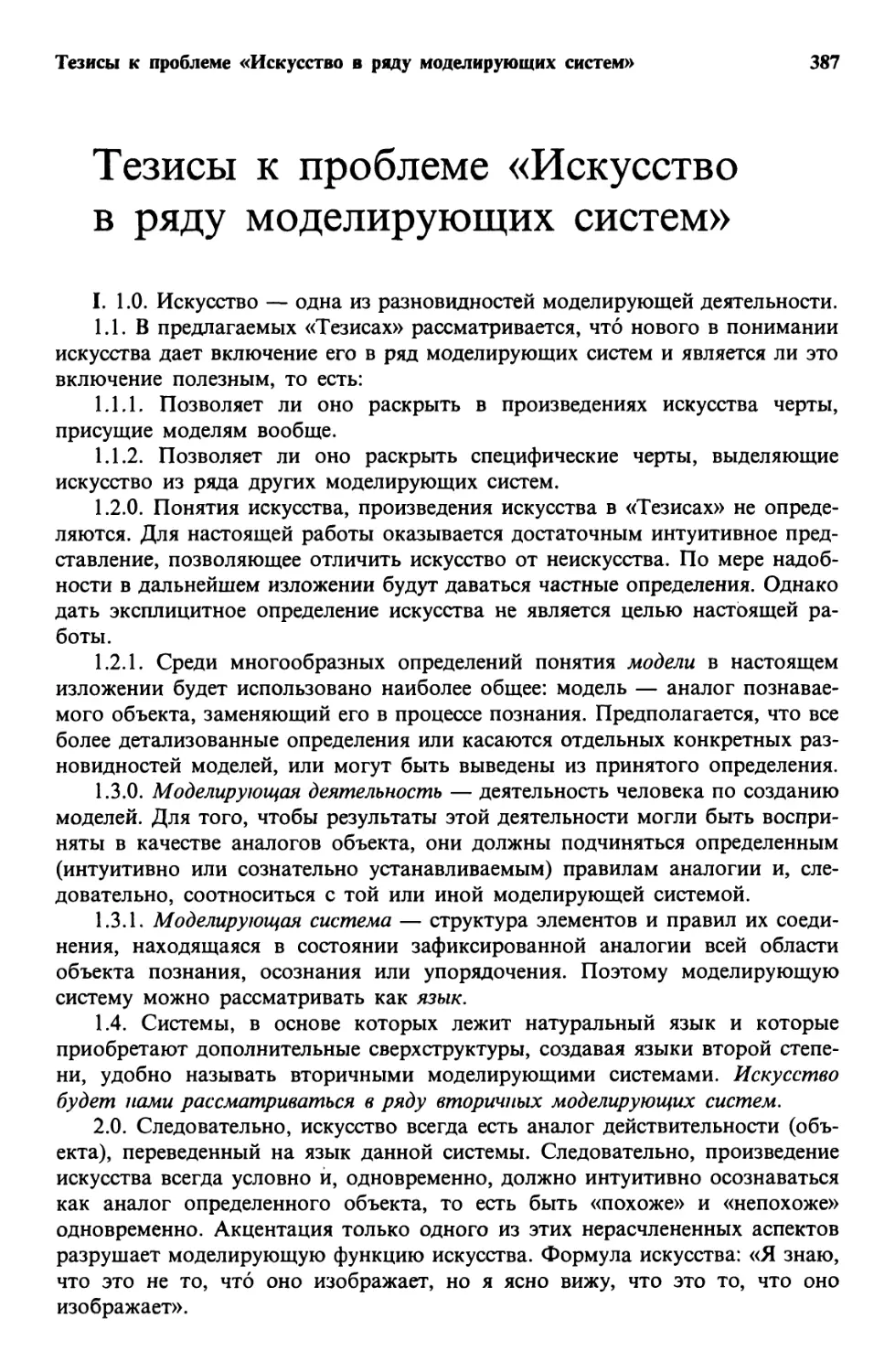












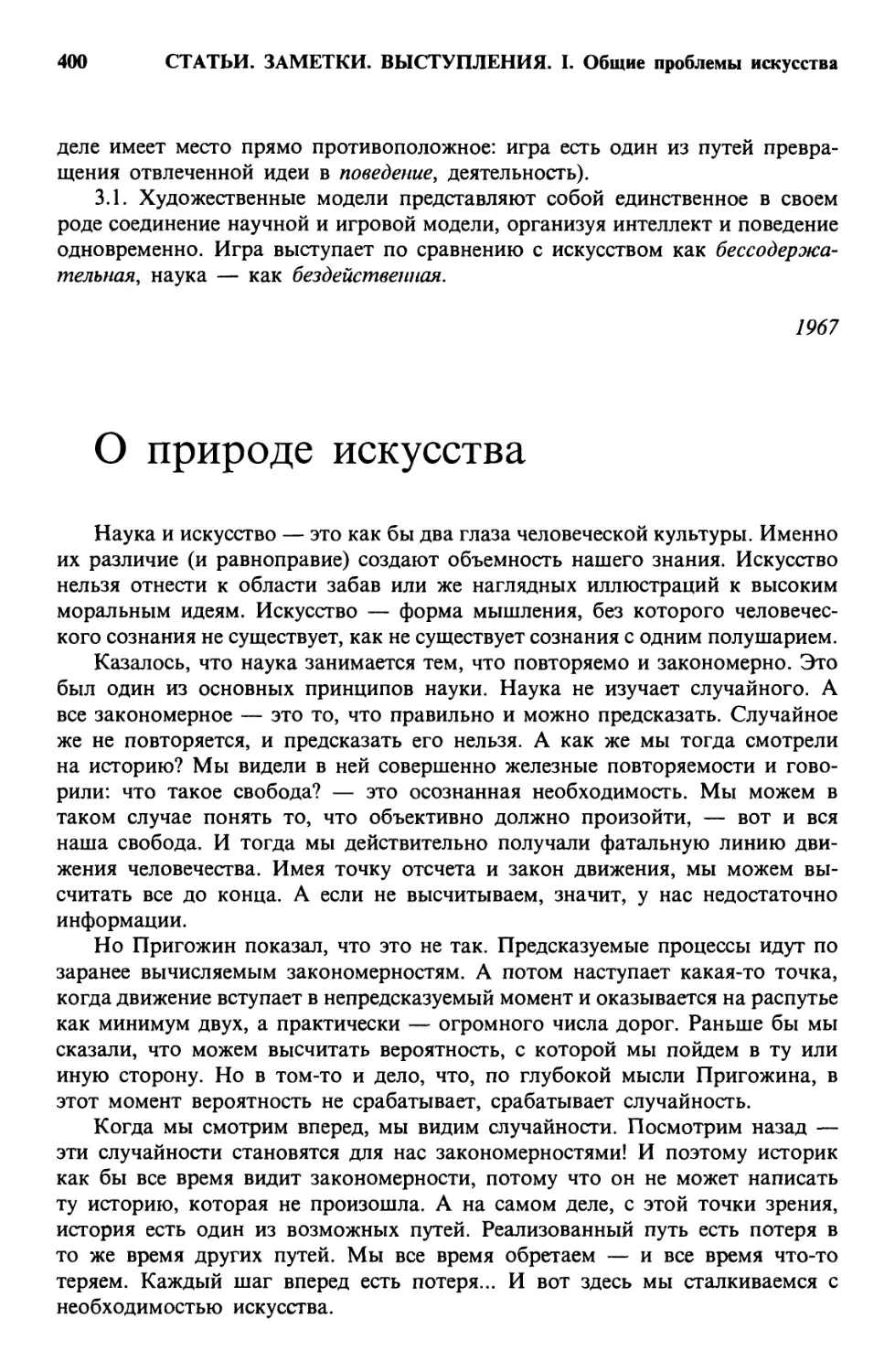



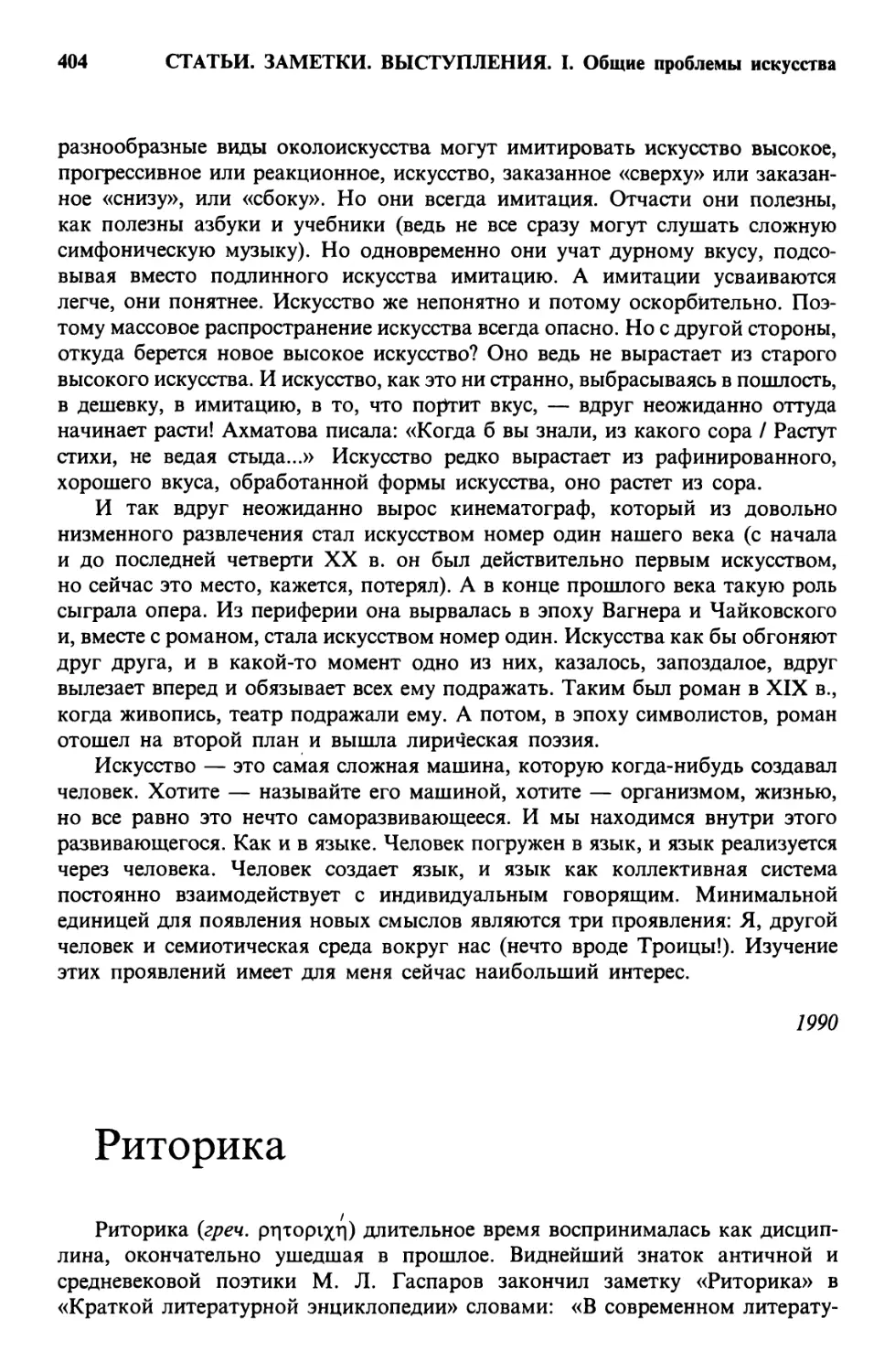


















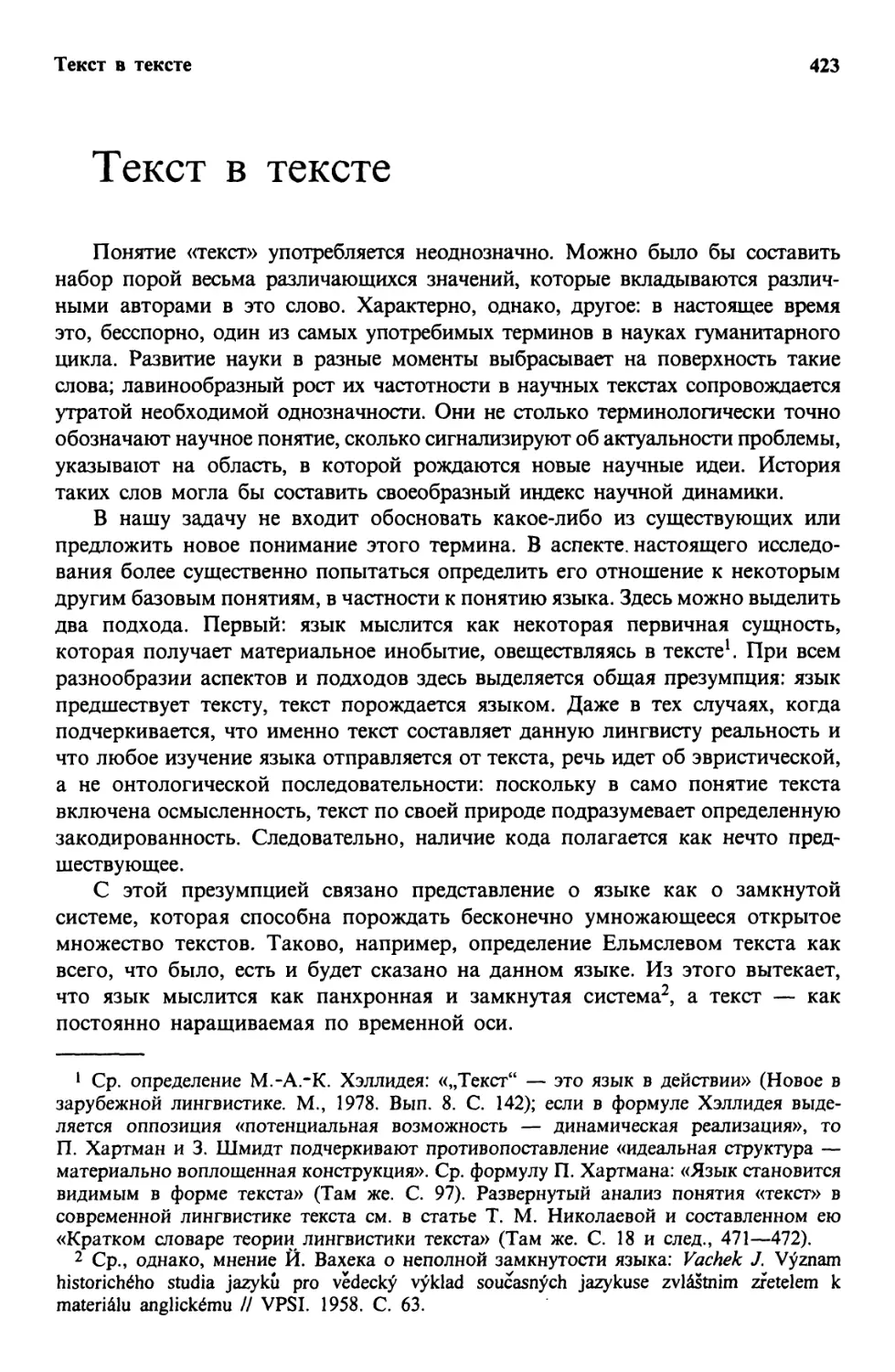












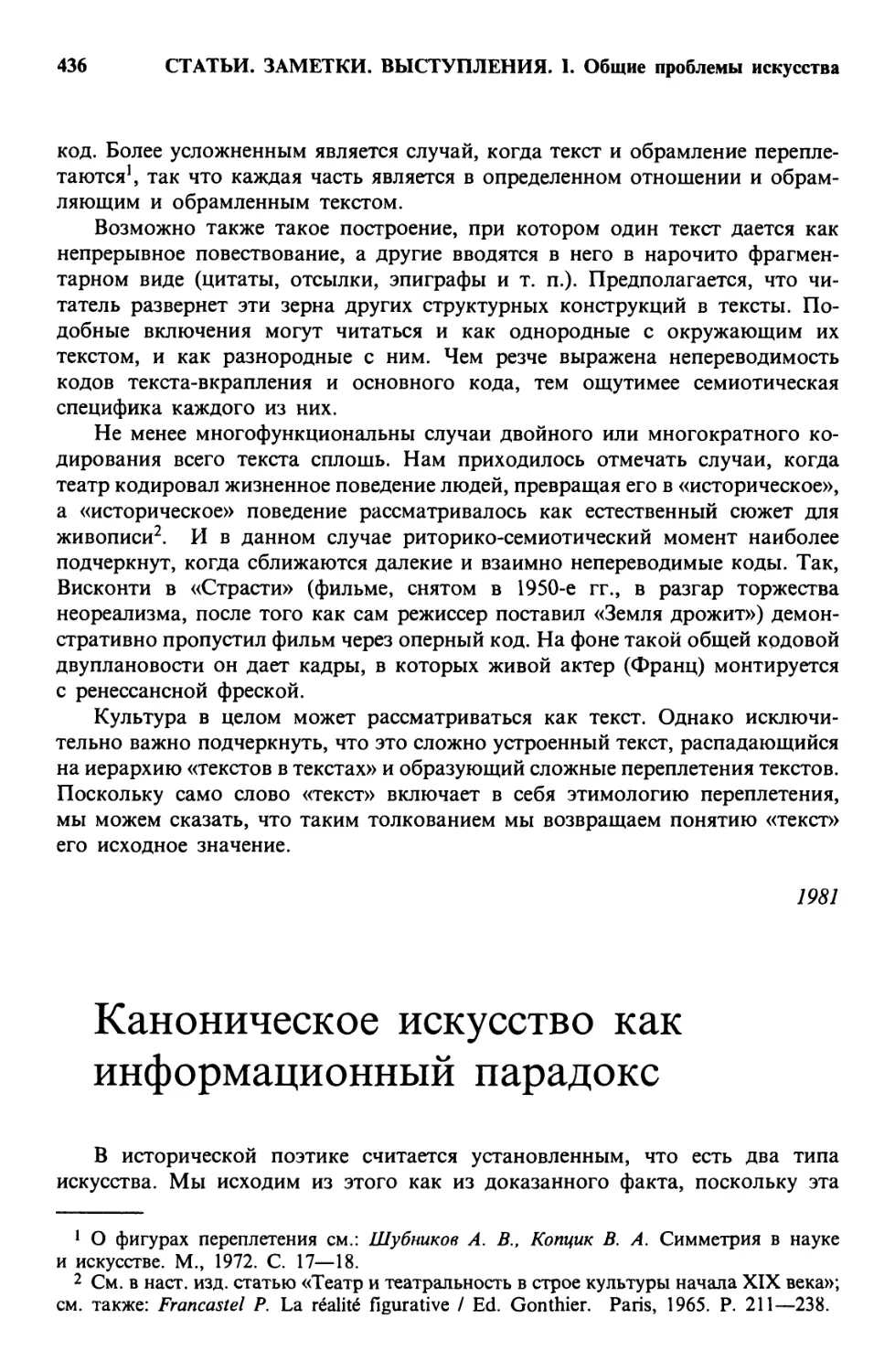





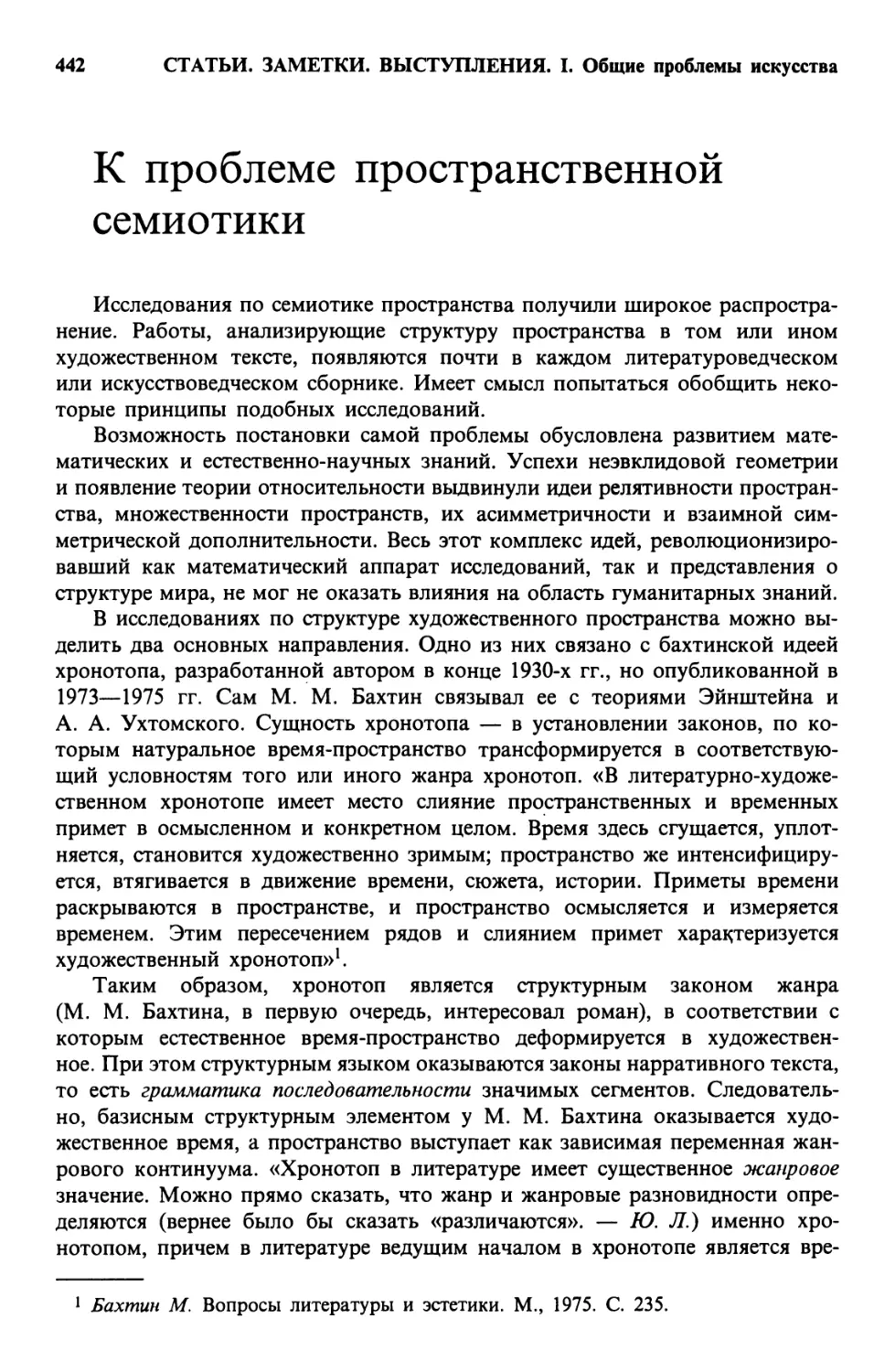


![[О проблеме барокко]](https://djvu.online/jpg/j/B/J/jBJFR5Yz4WeAi/446.webp)