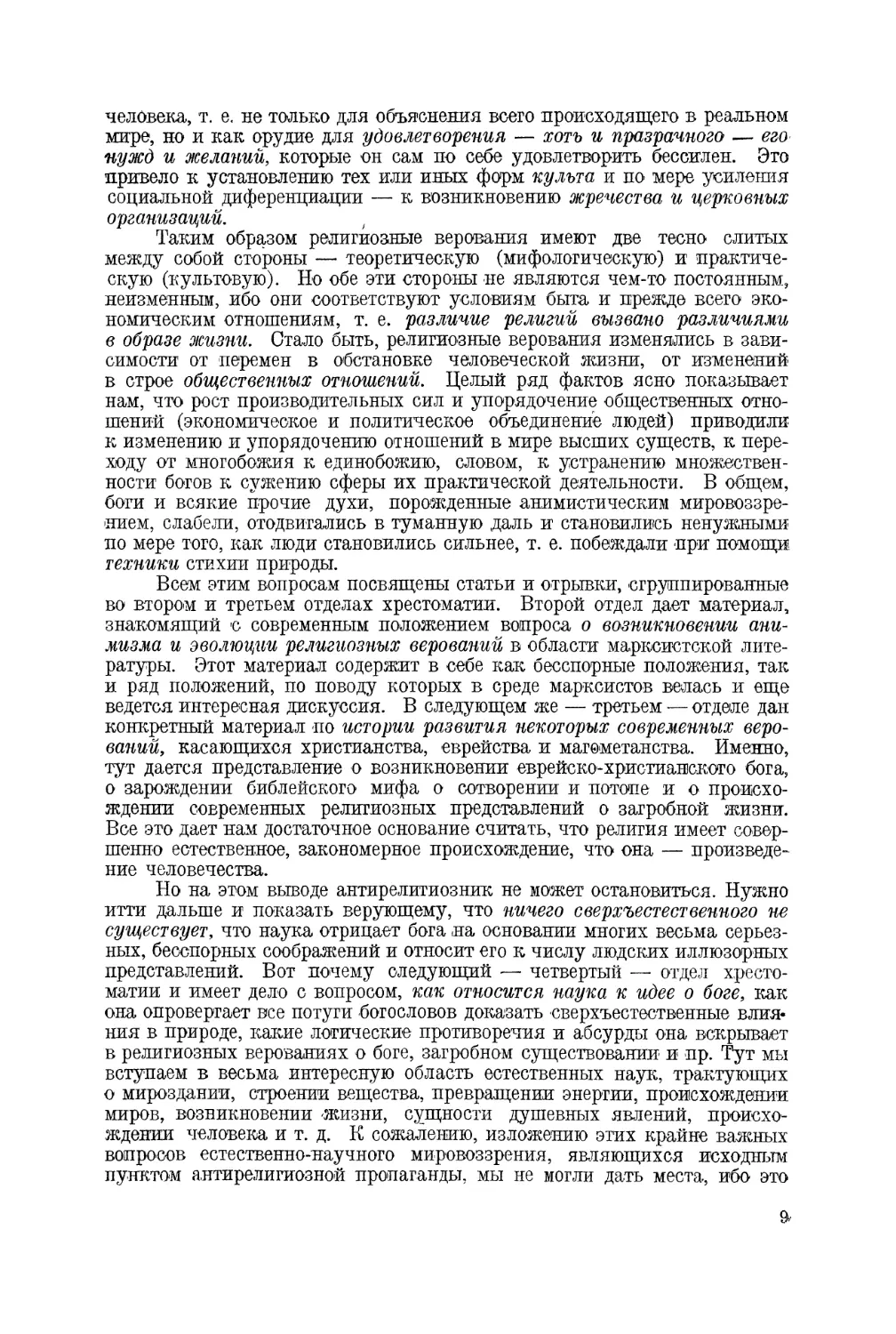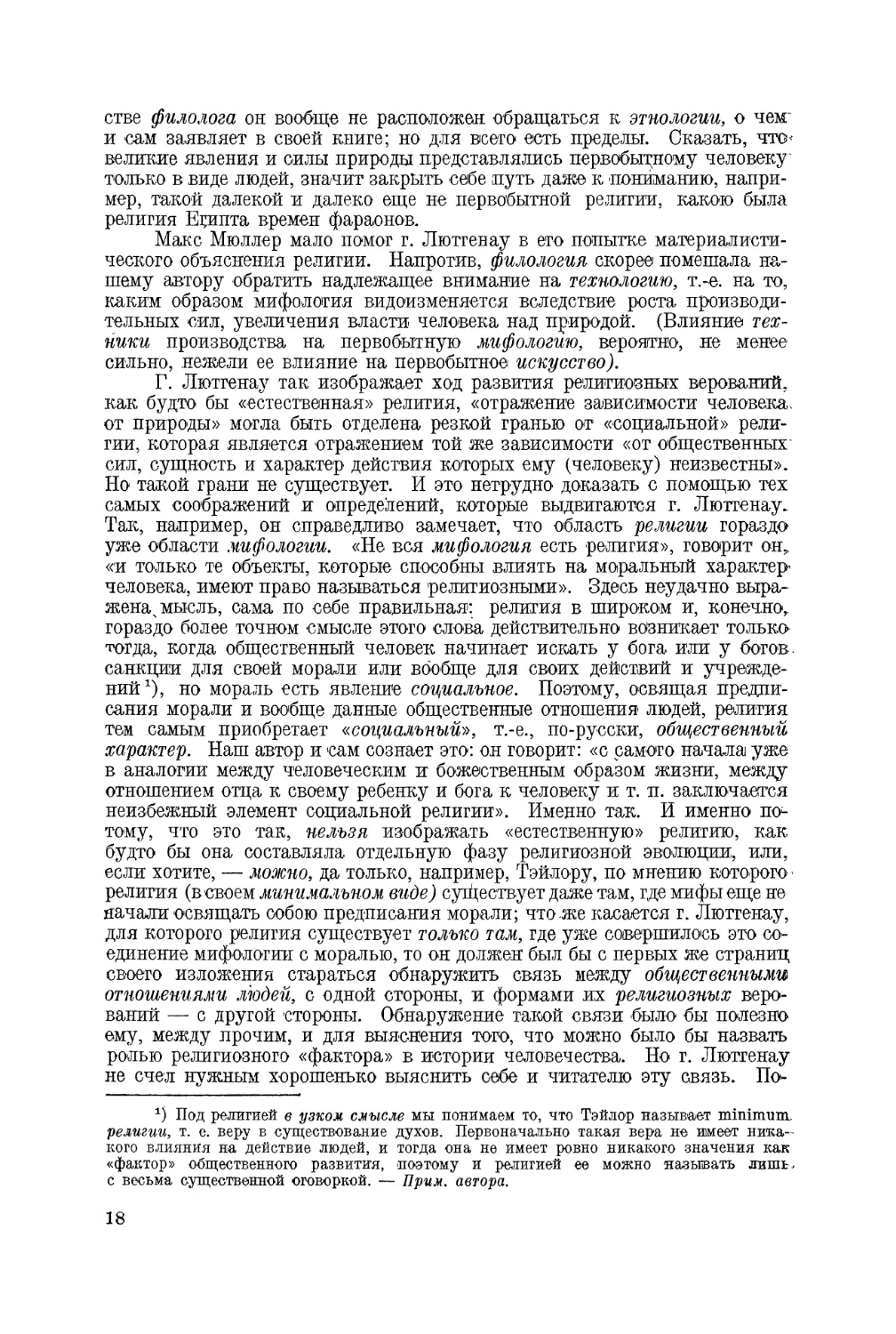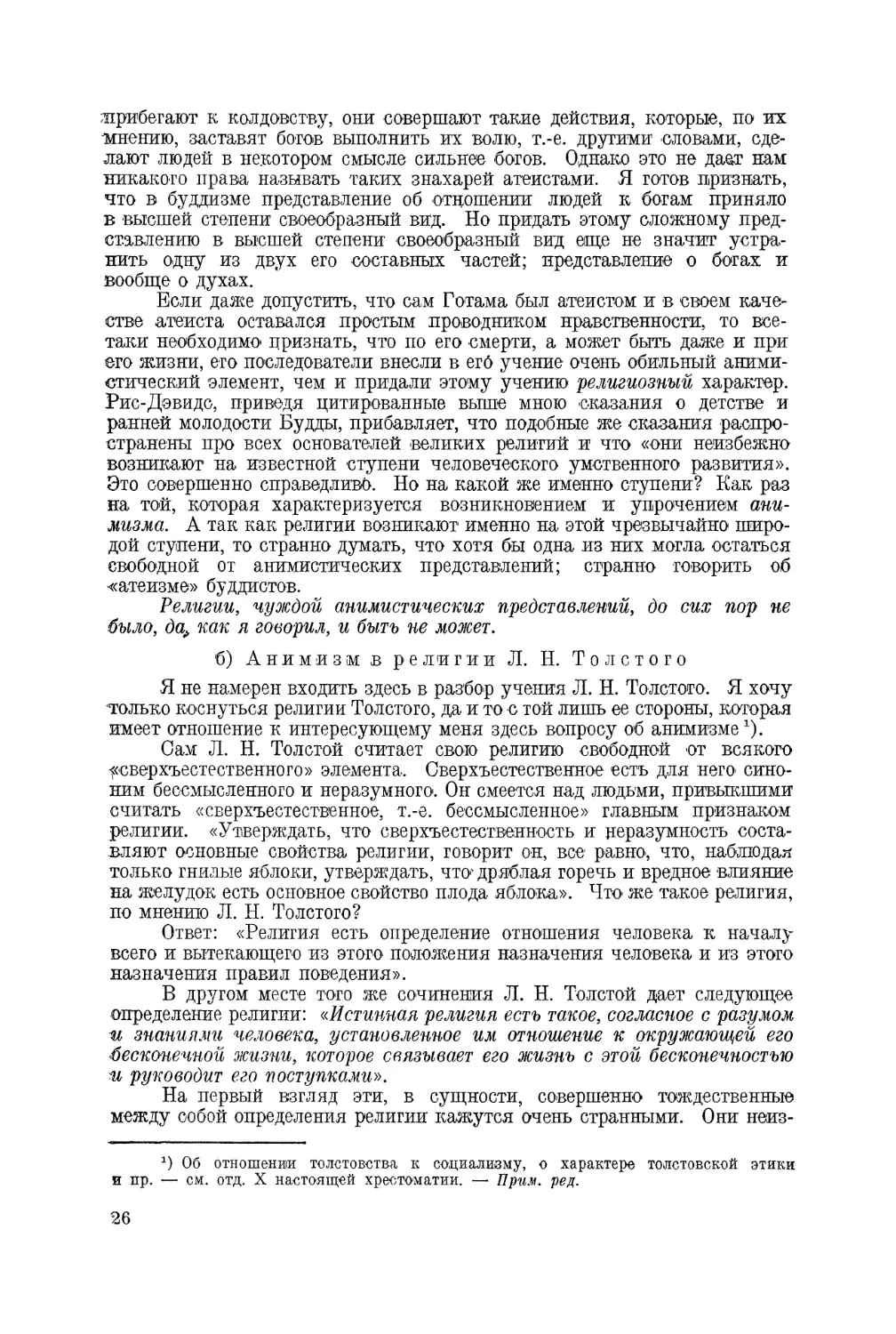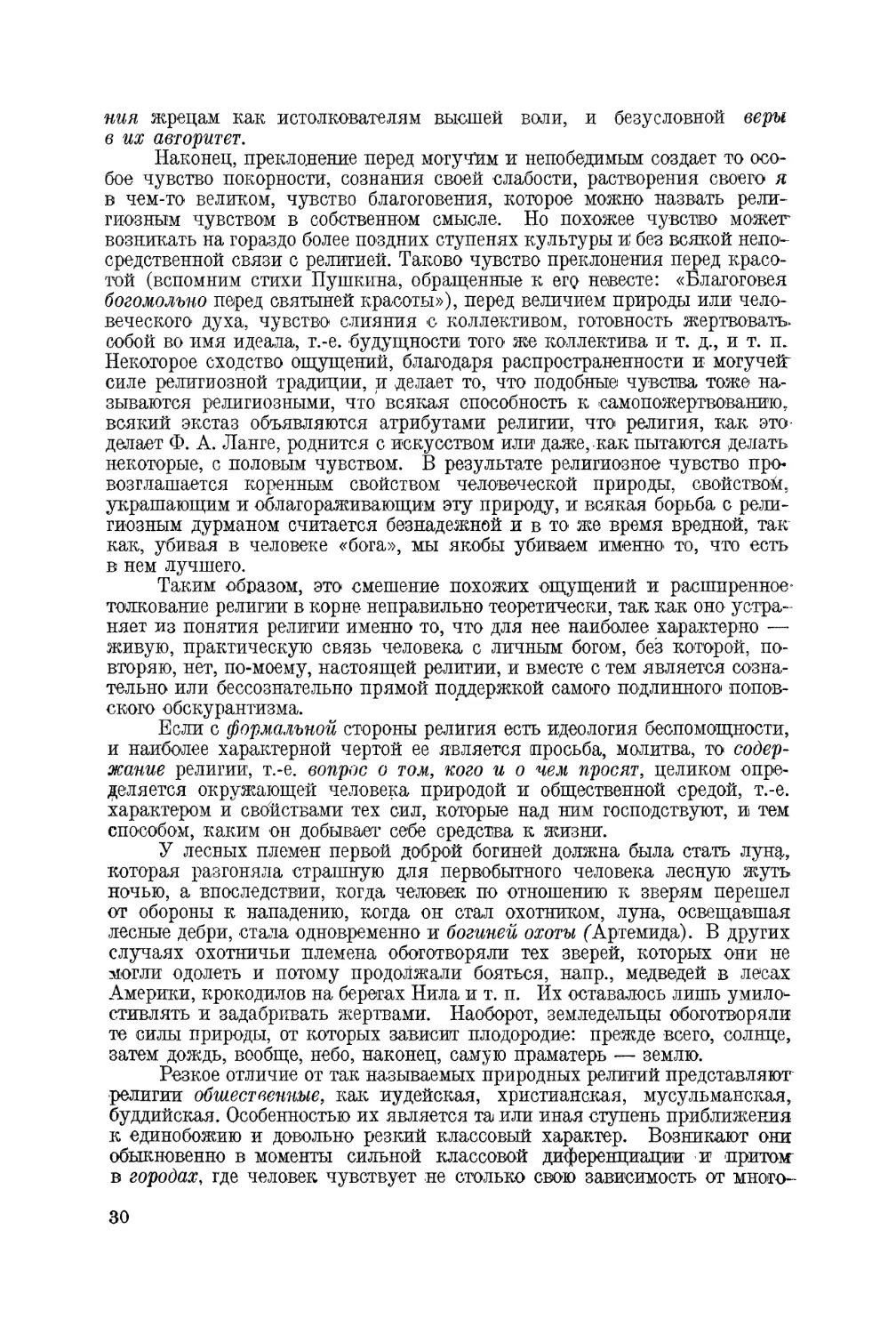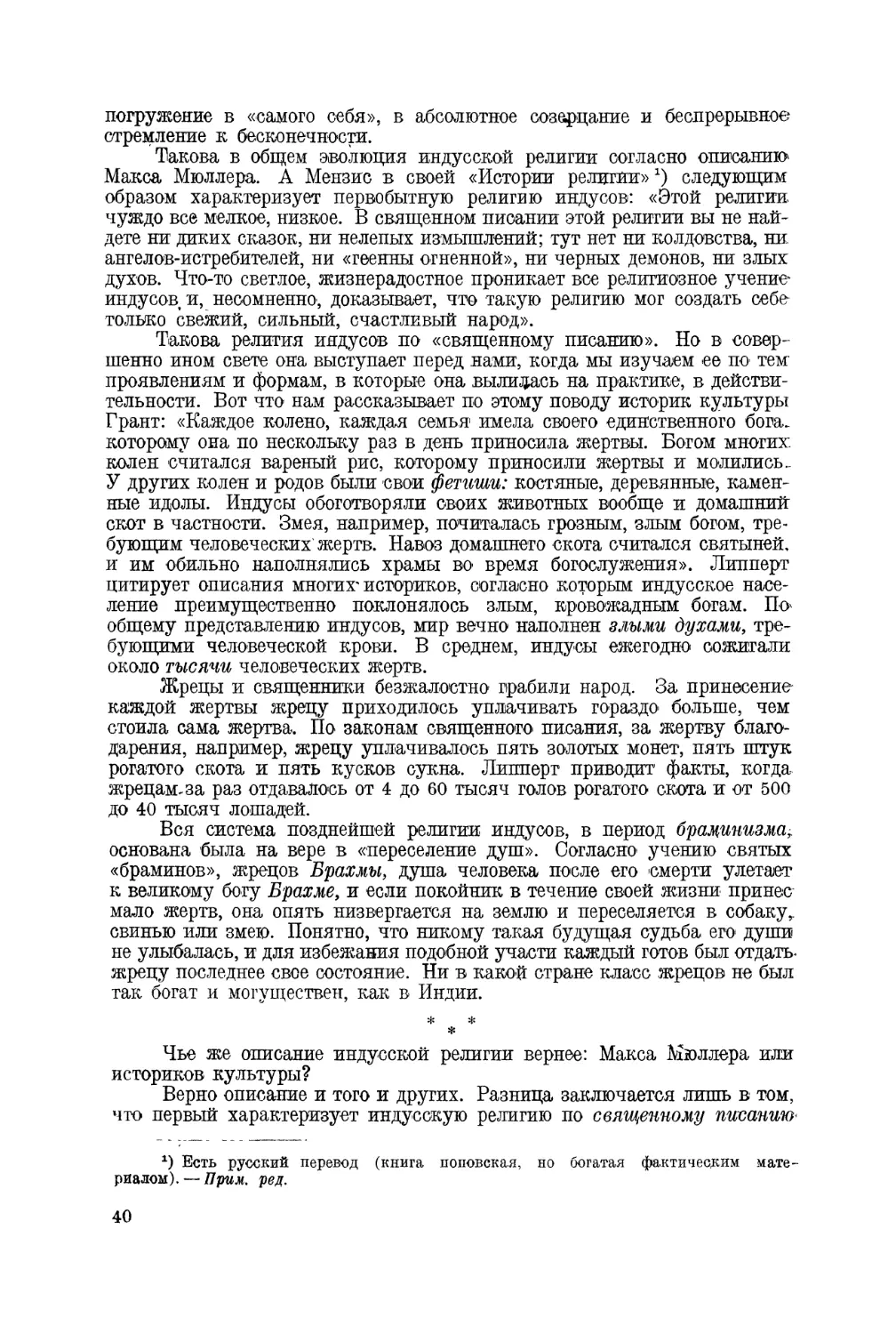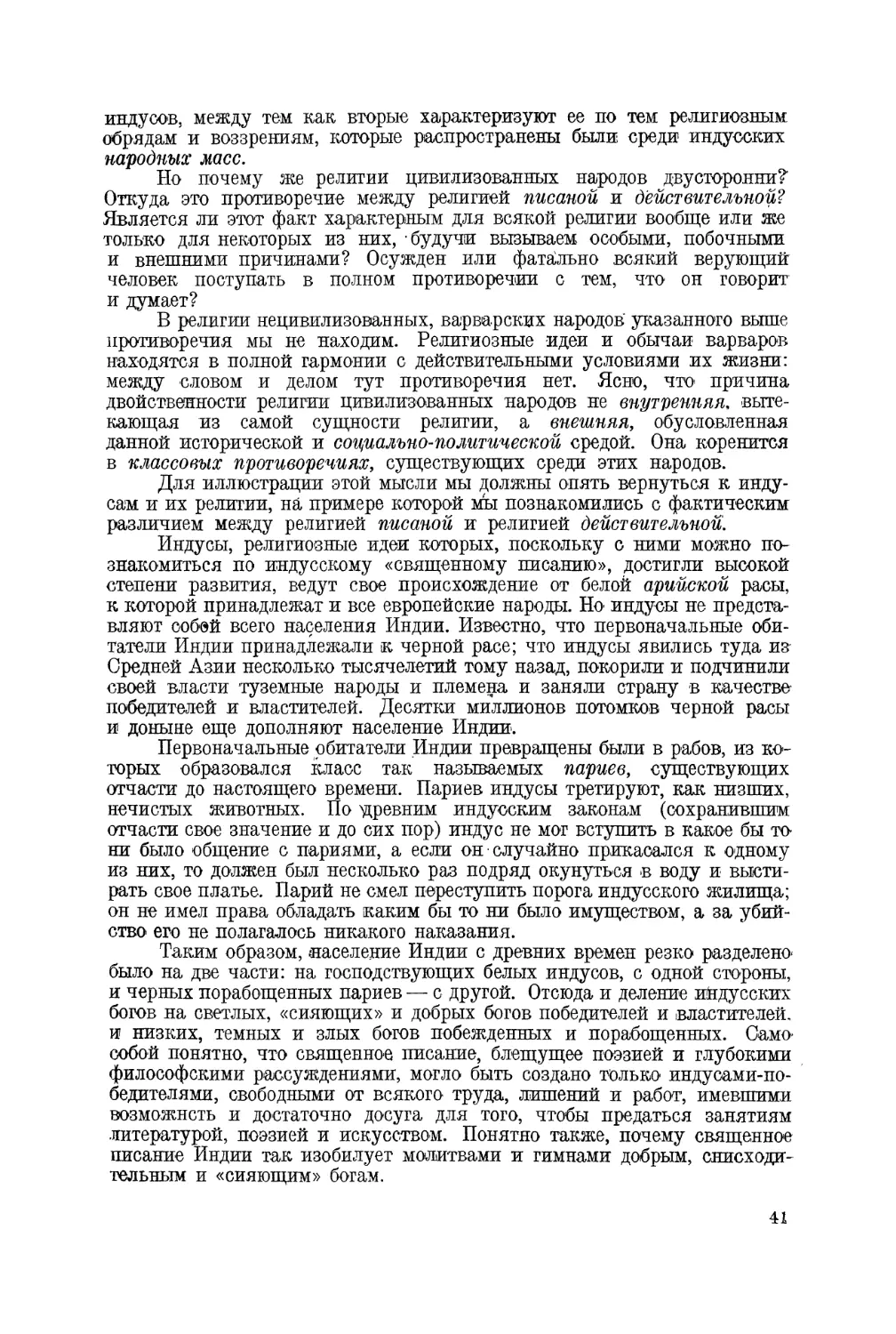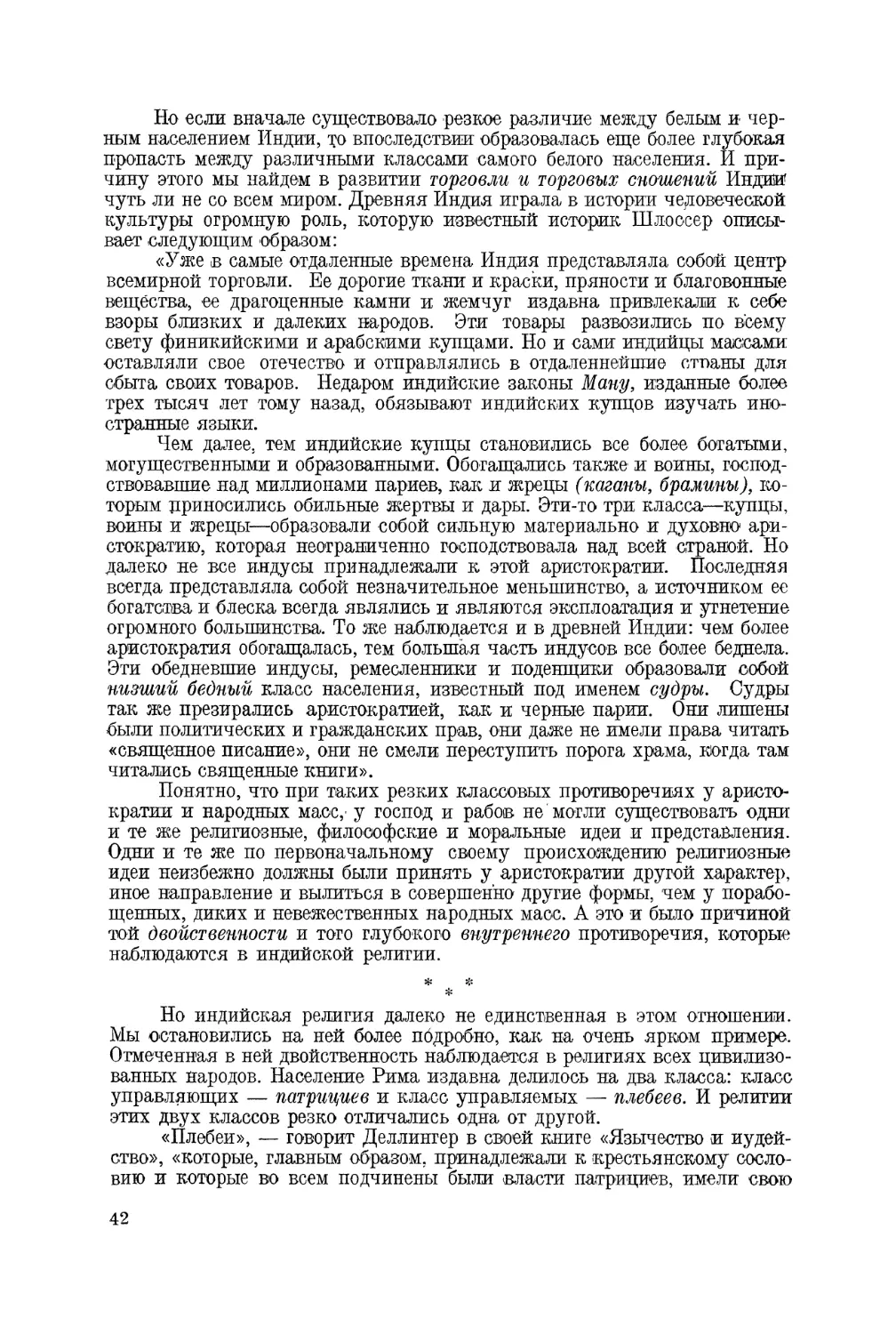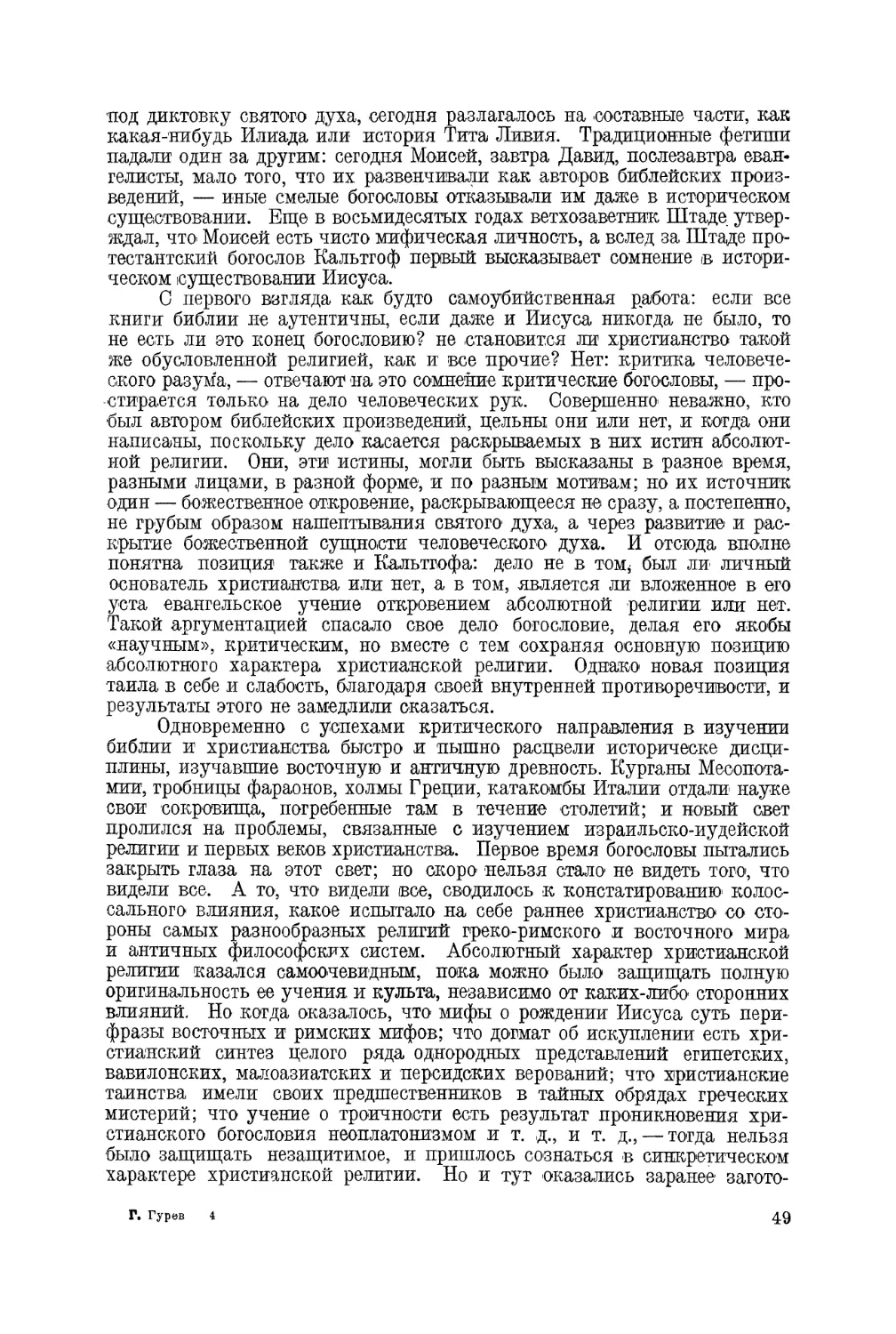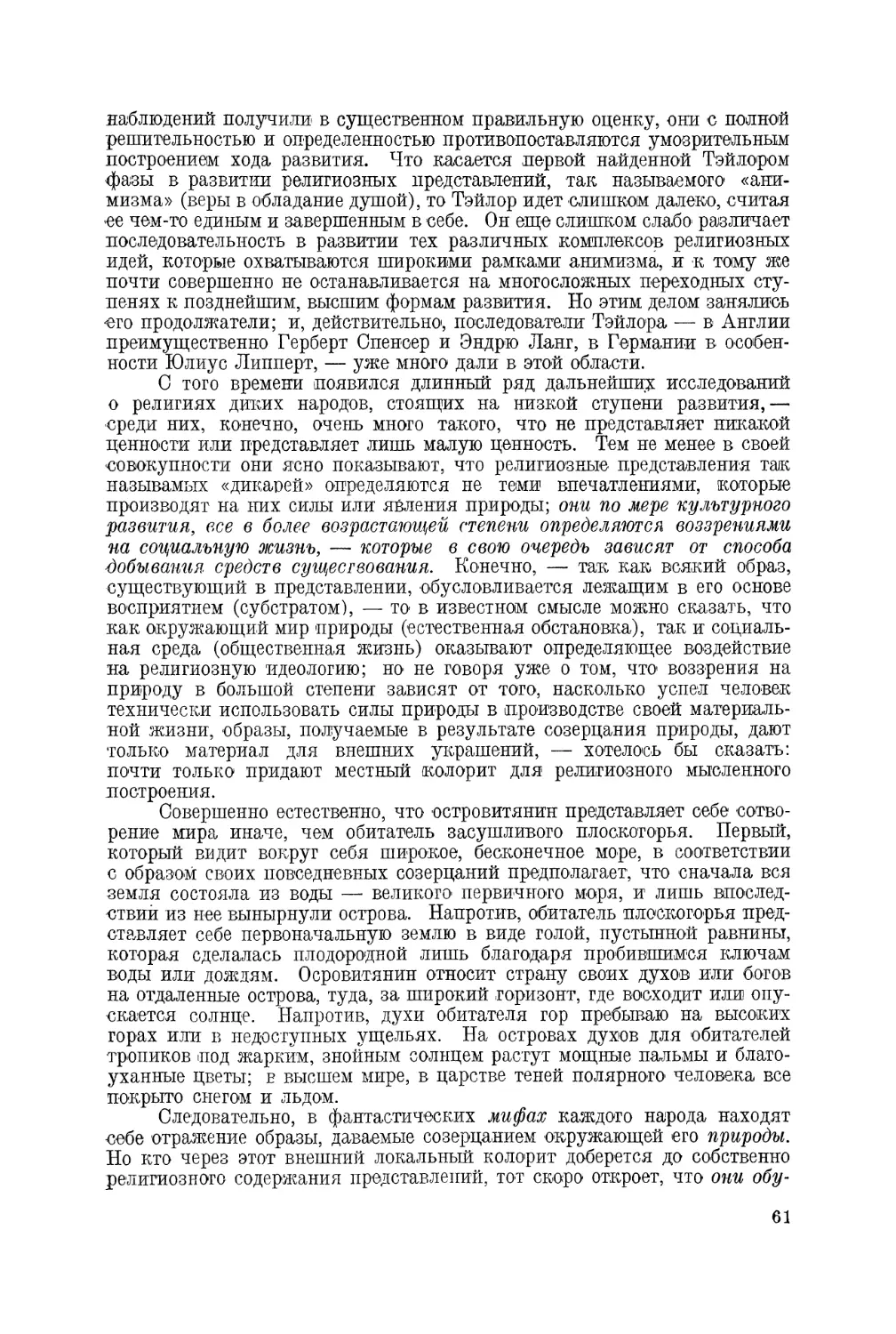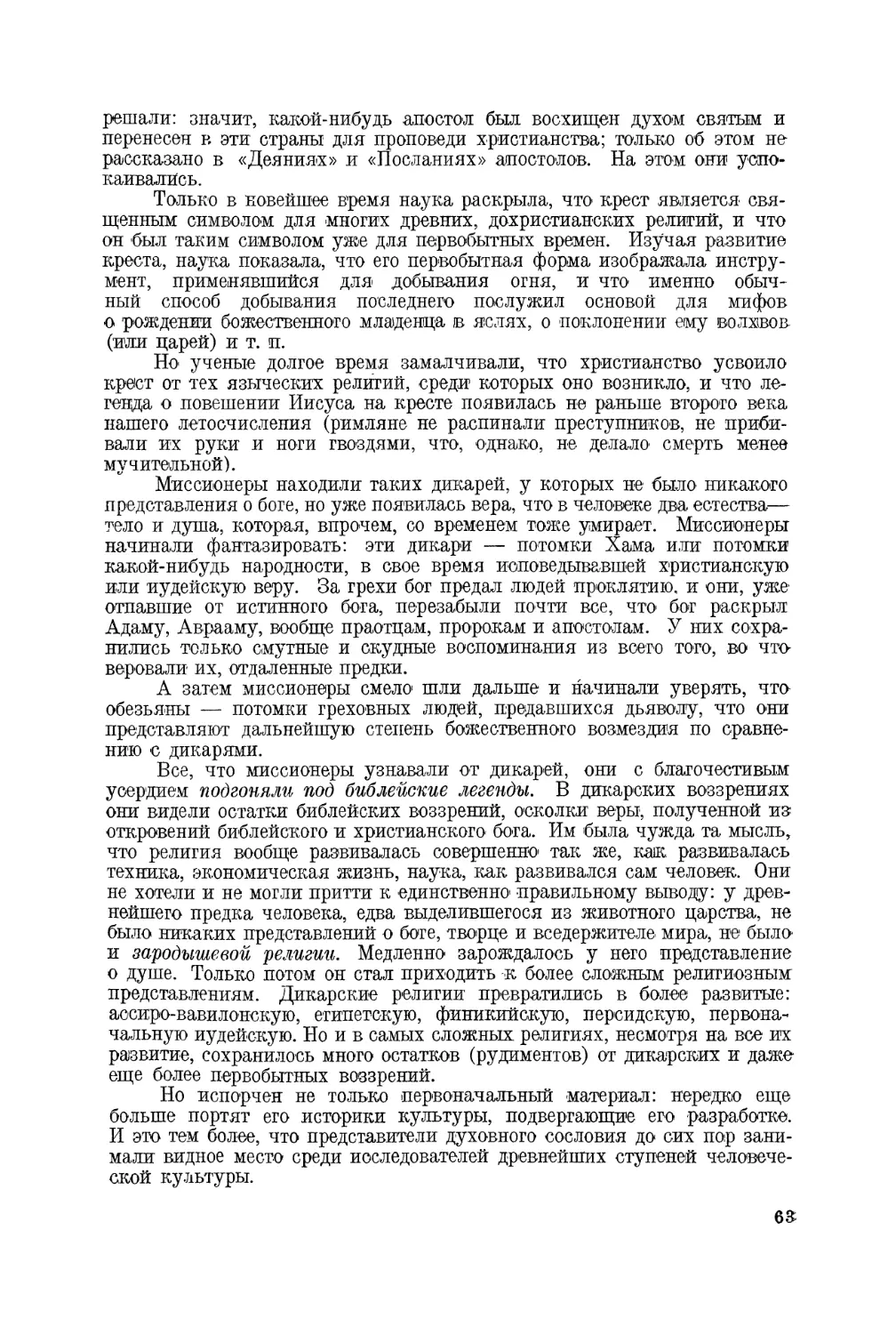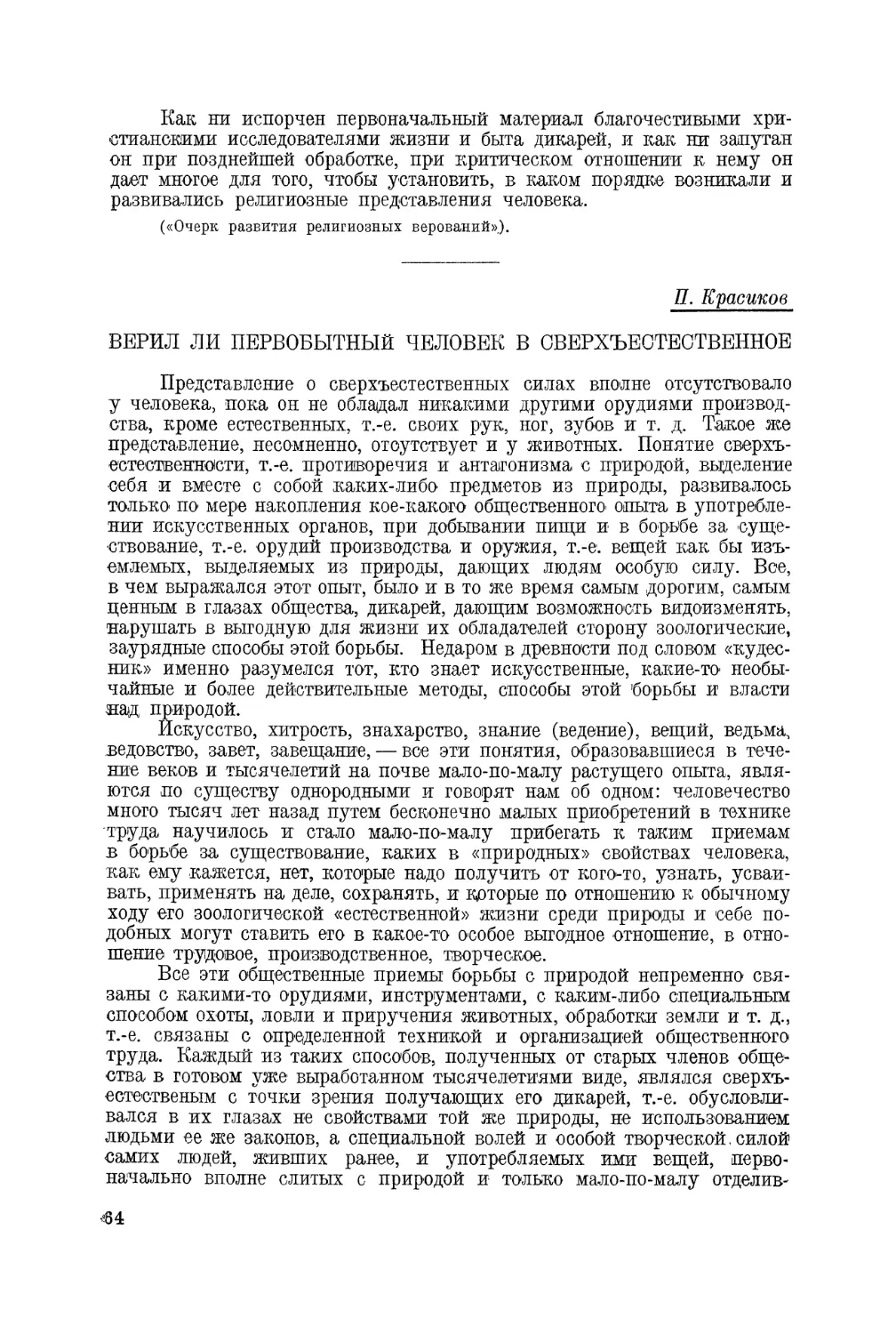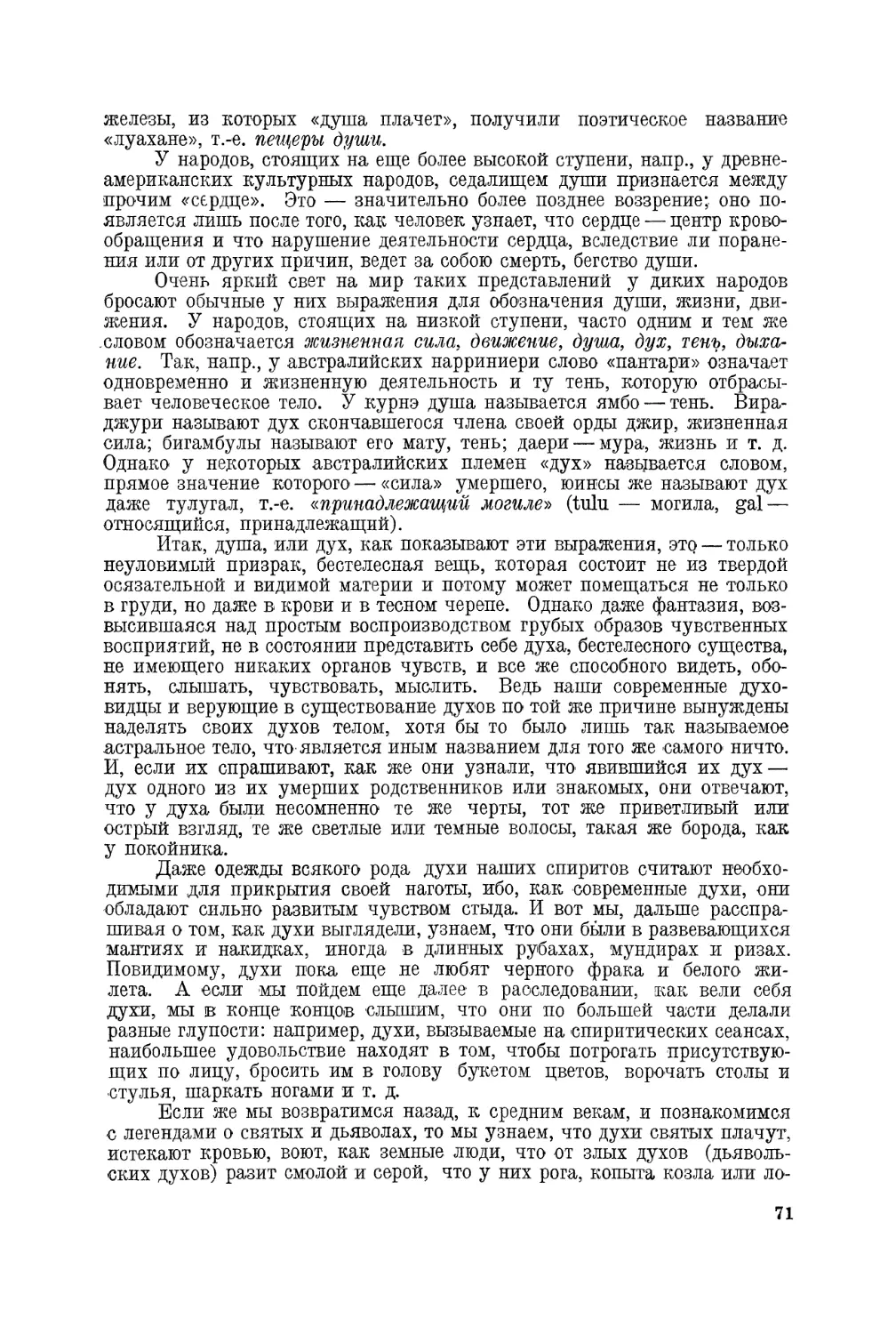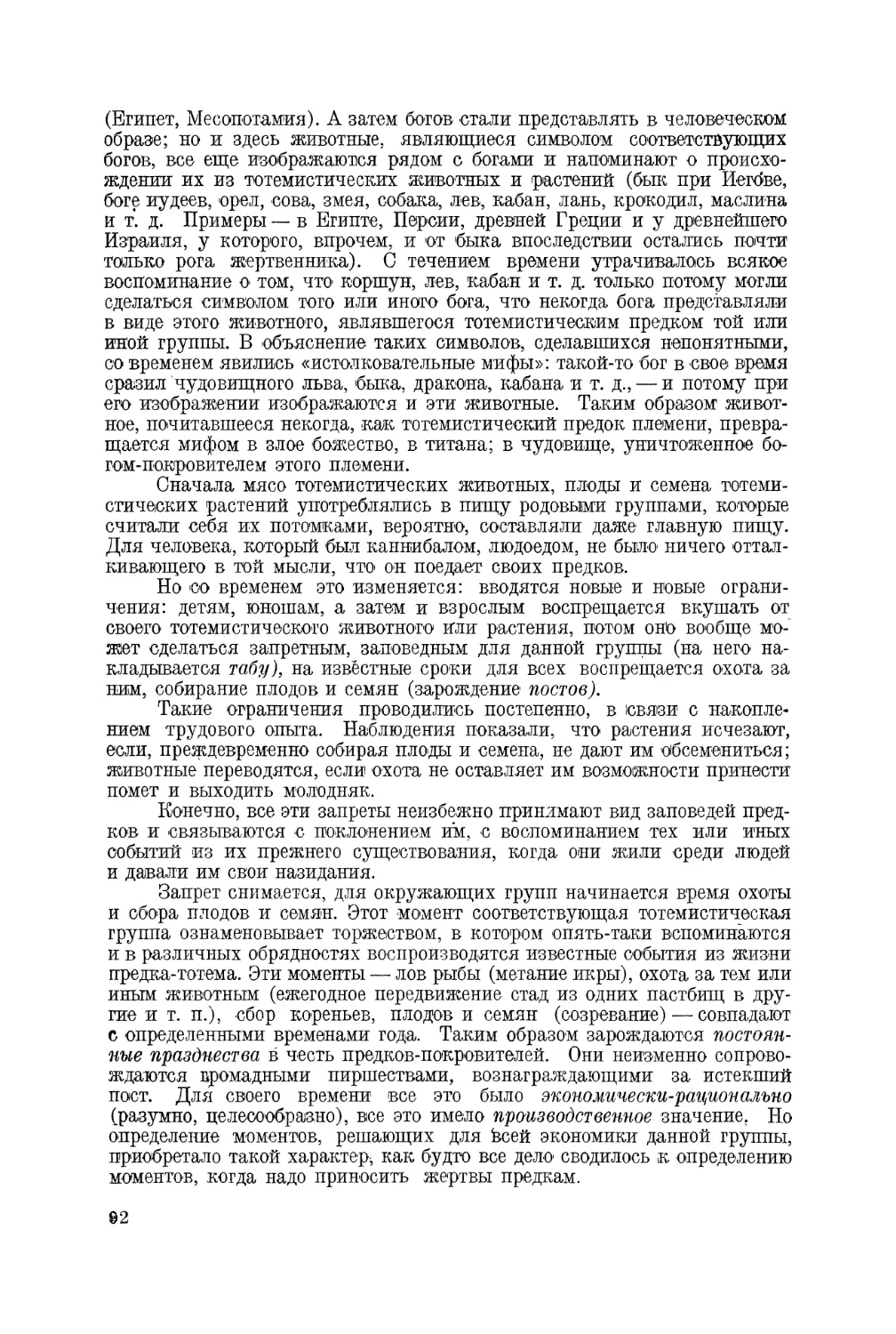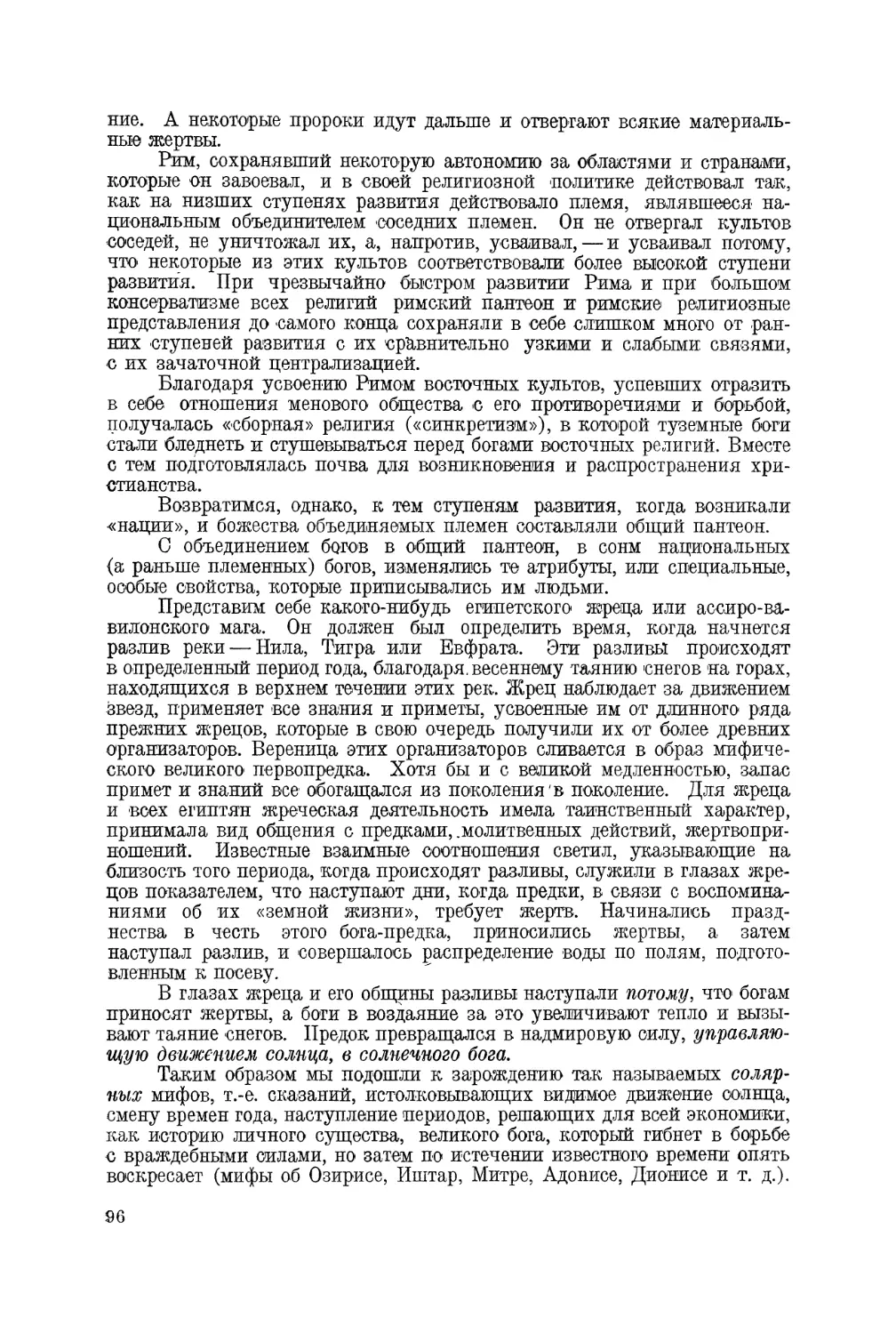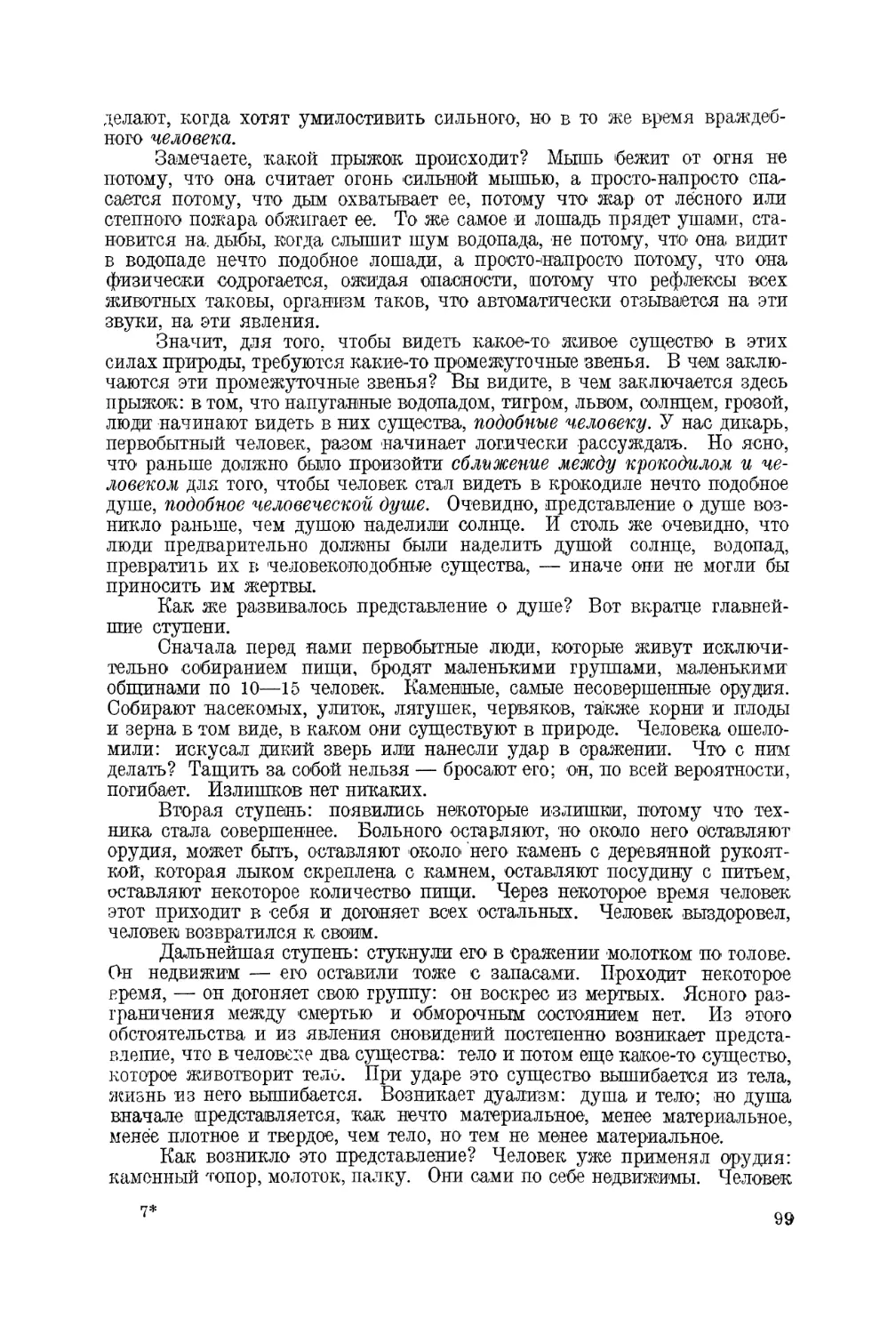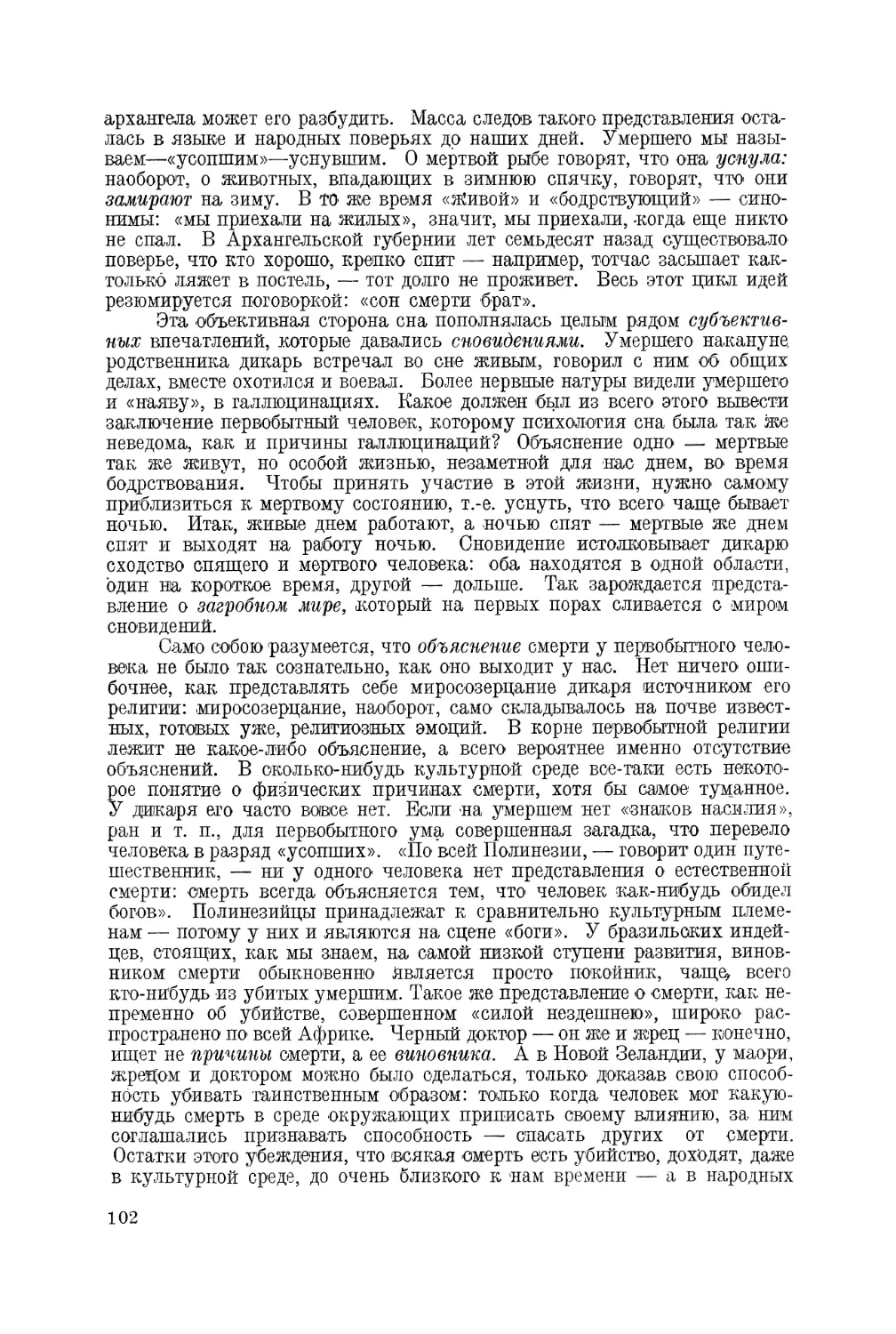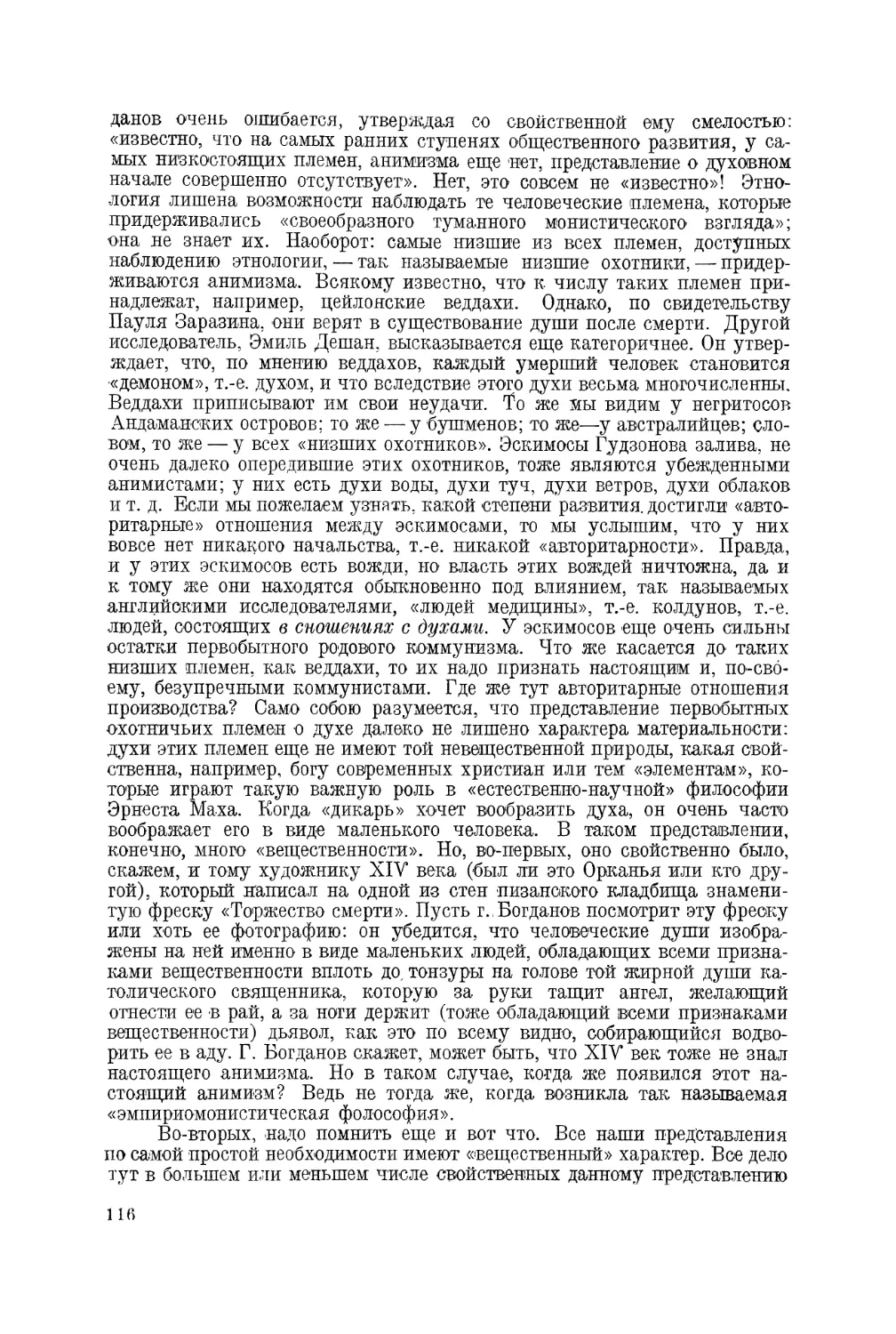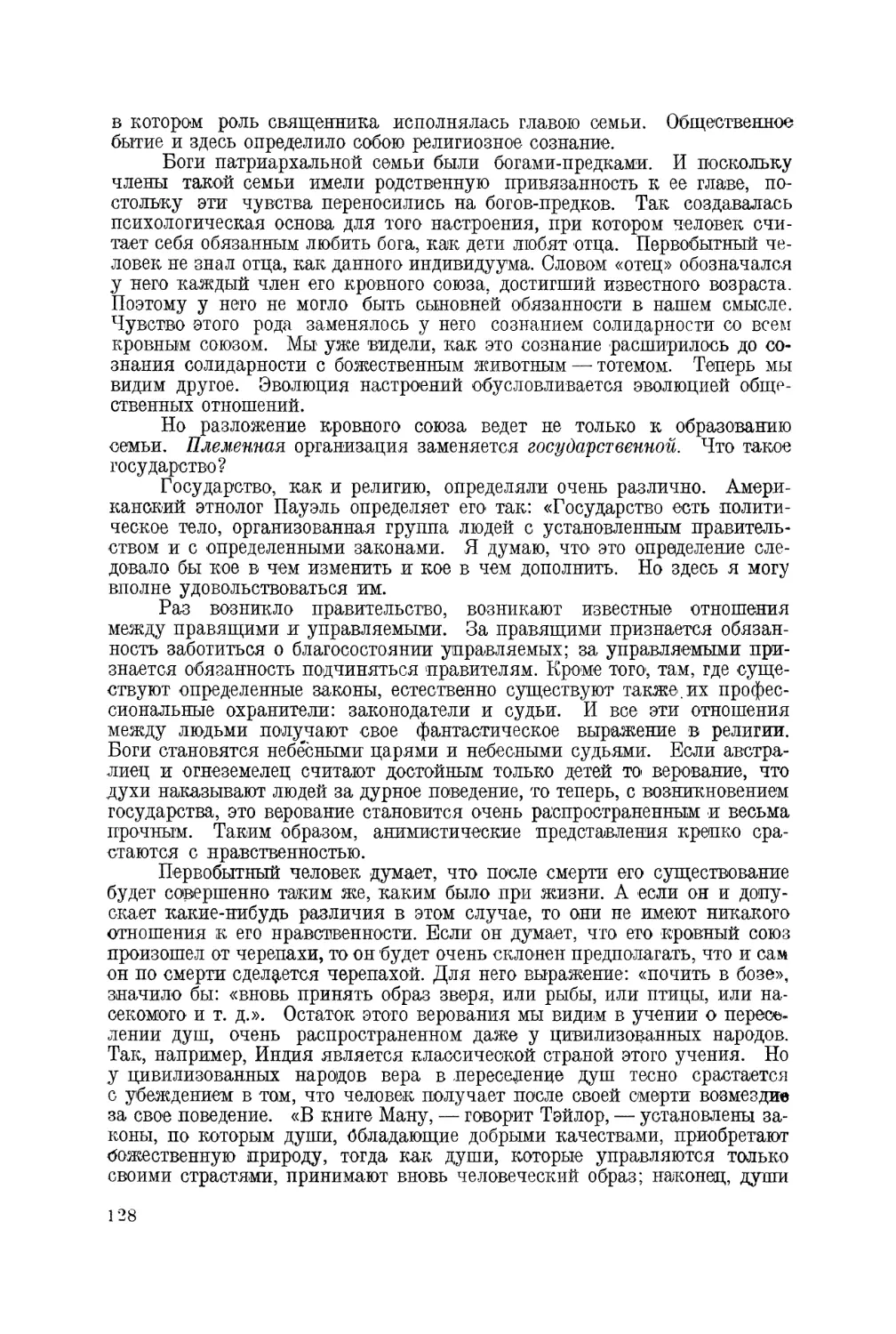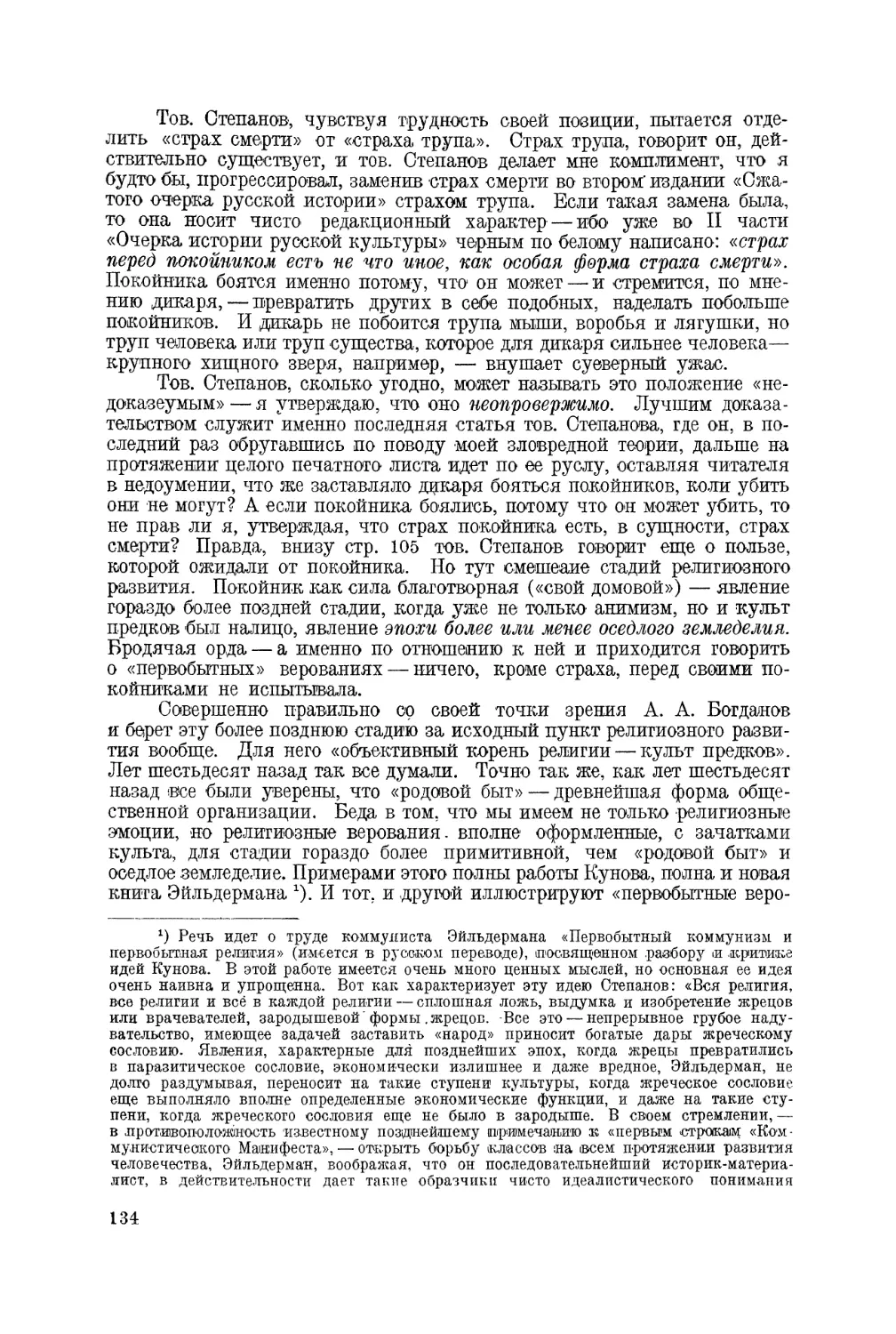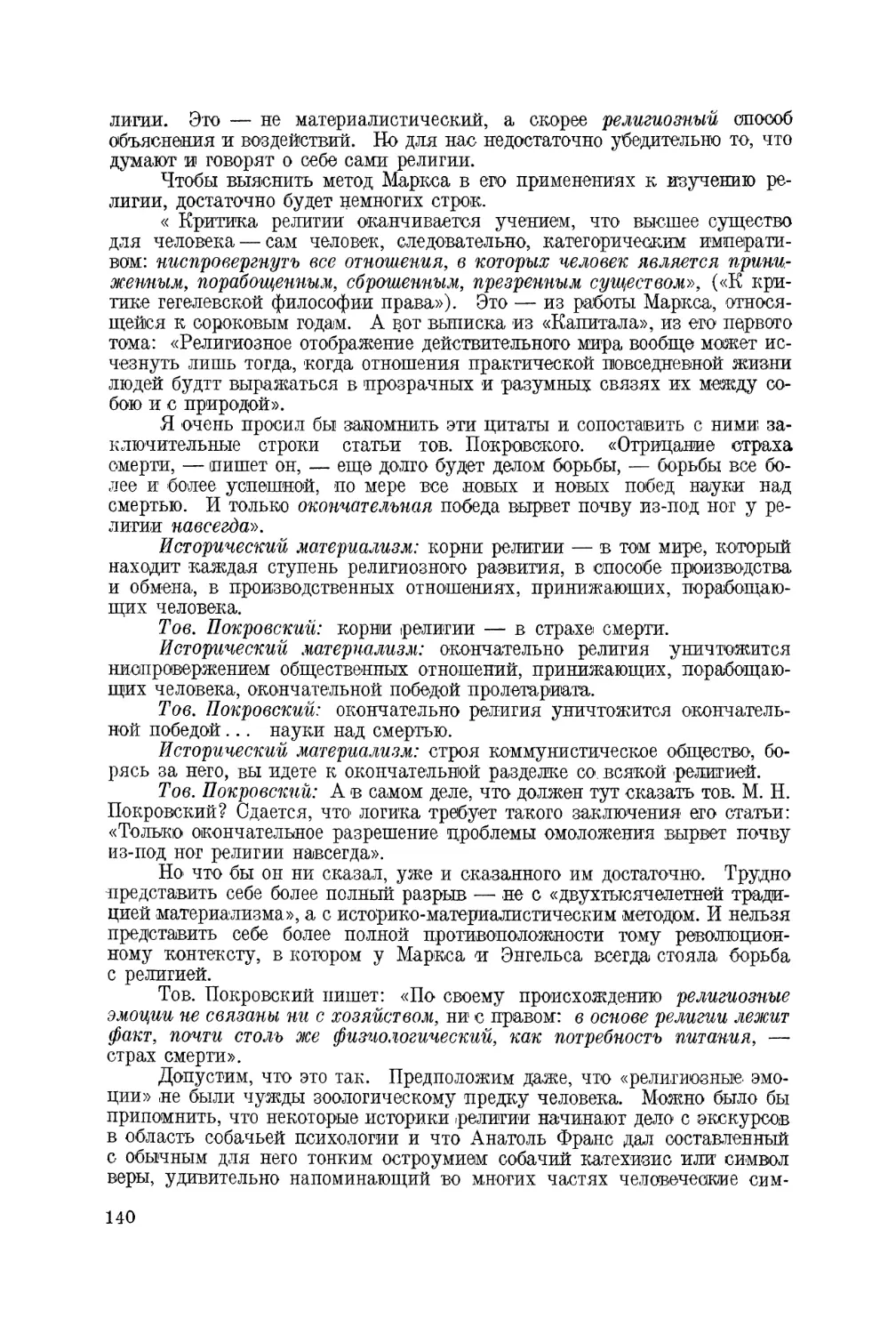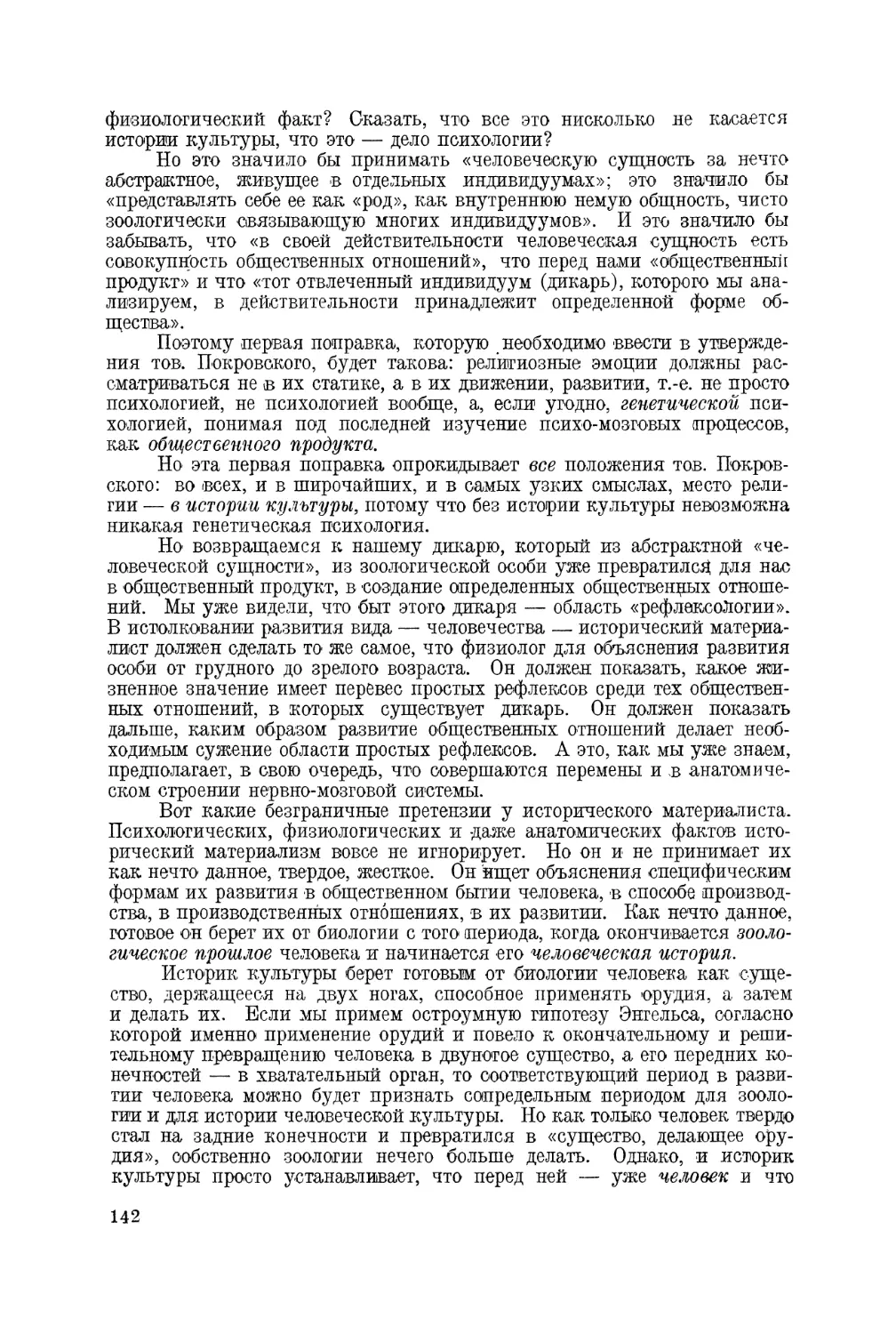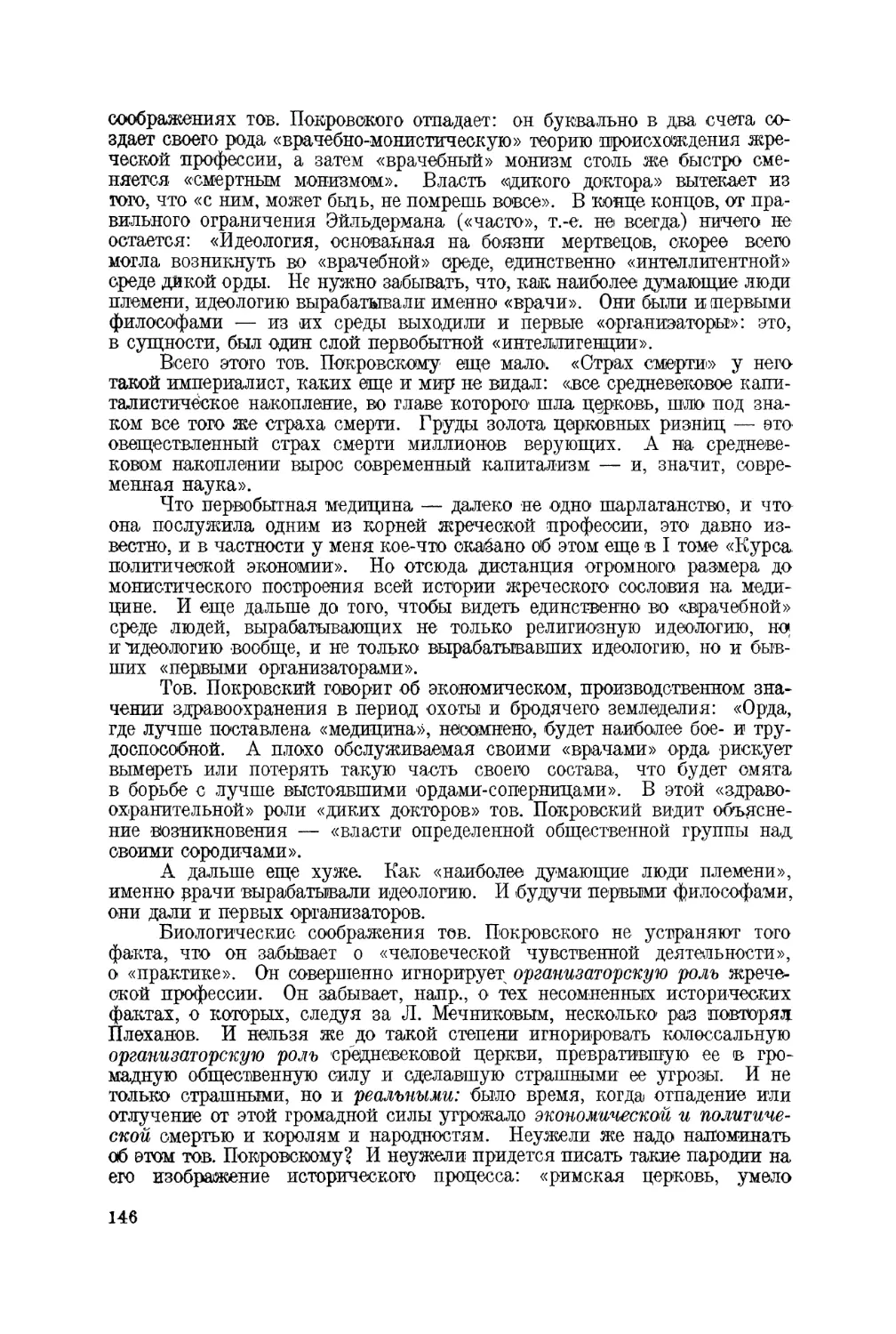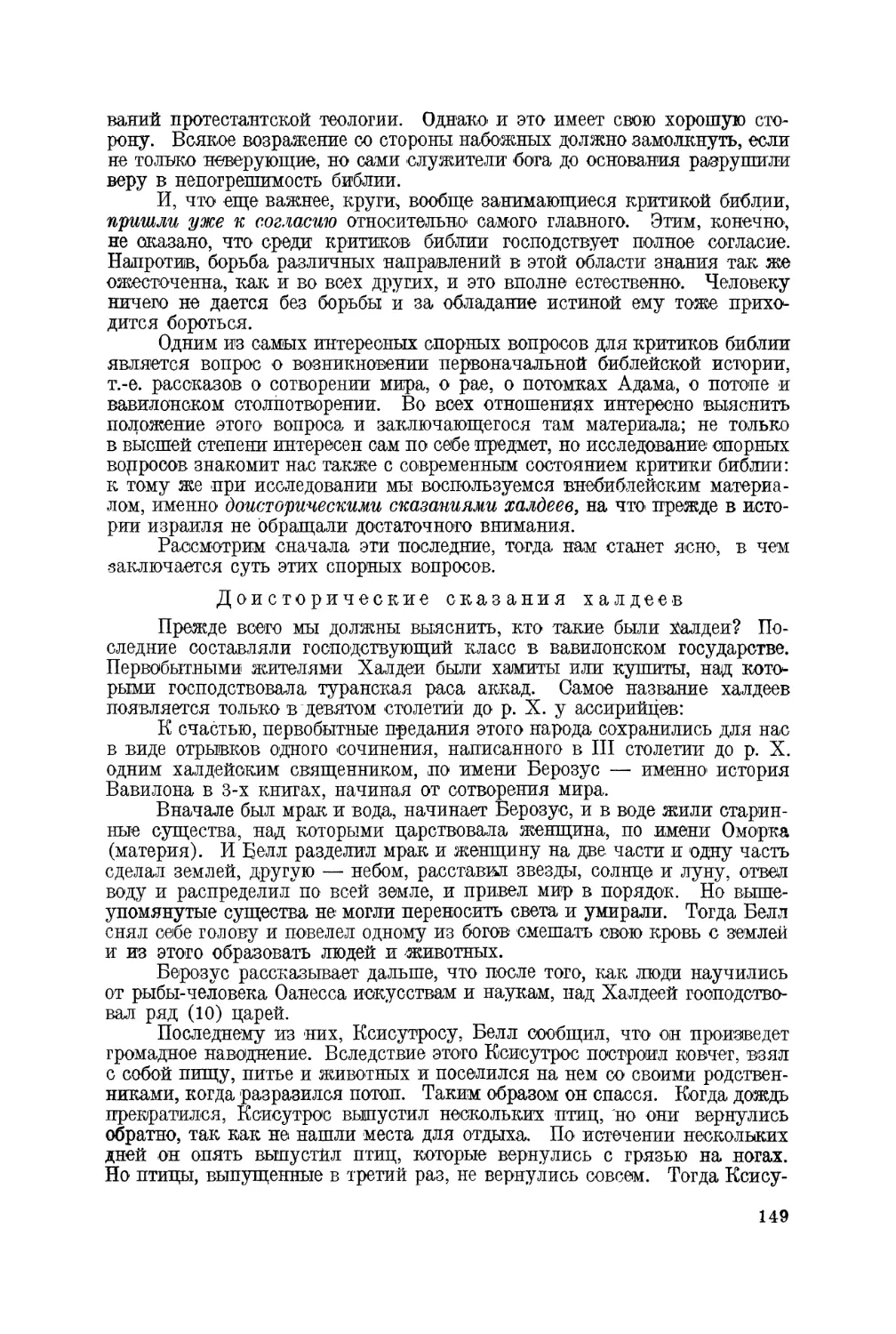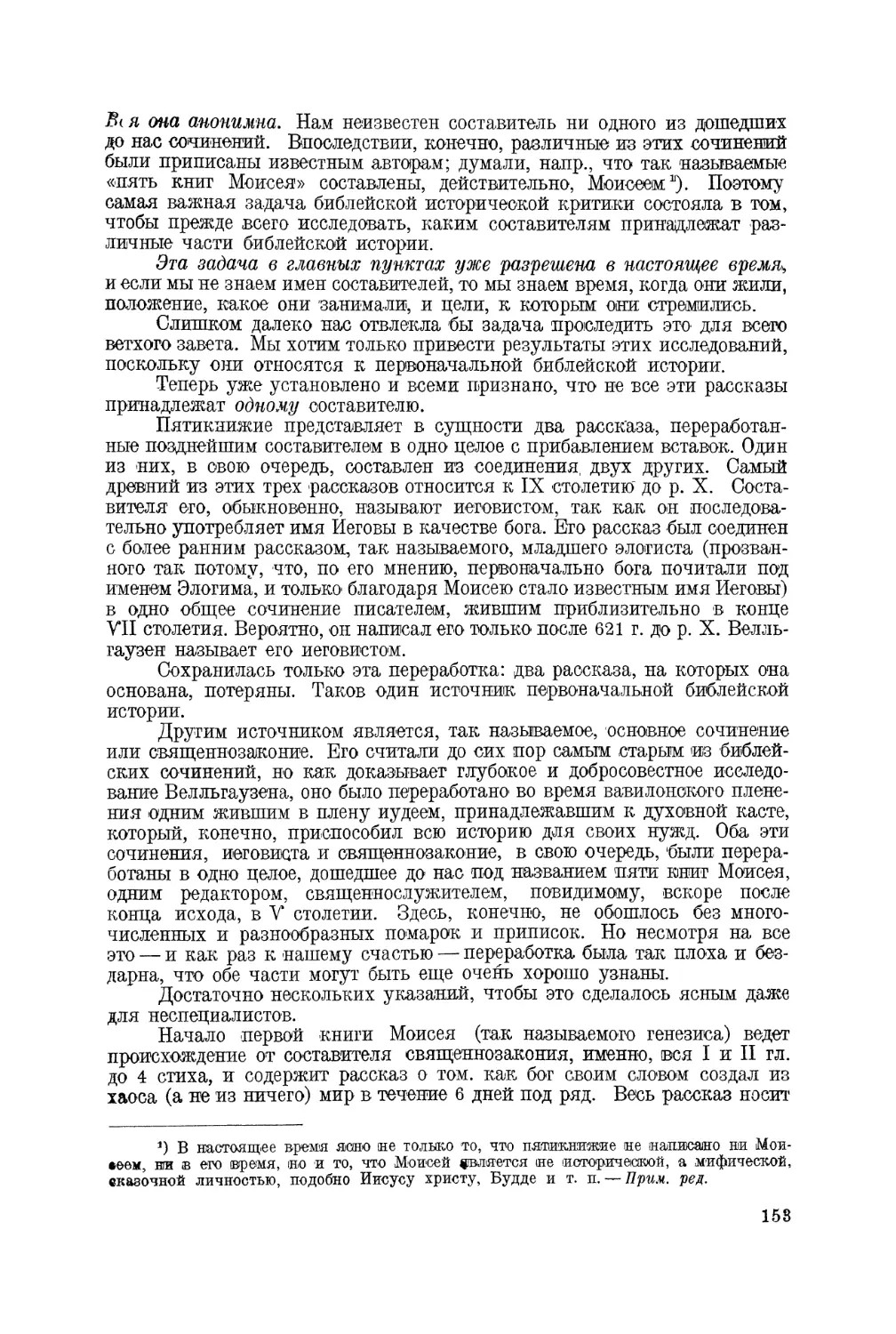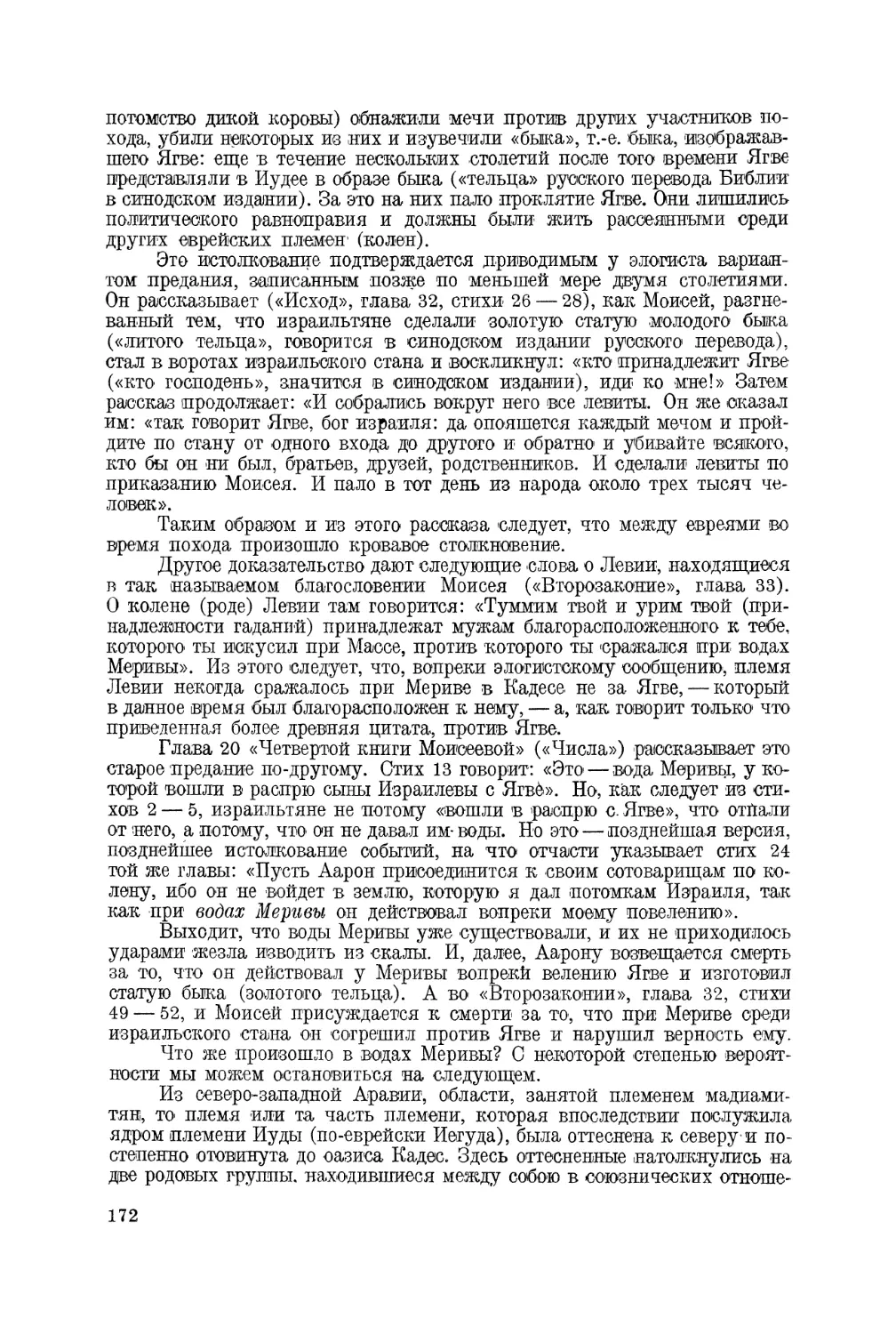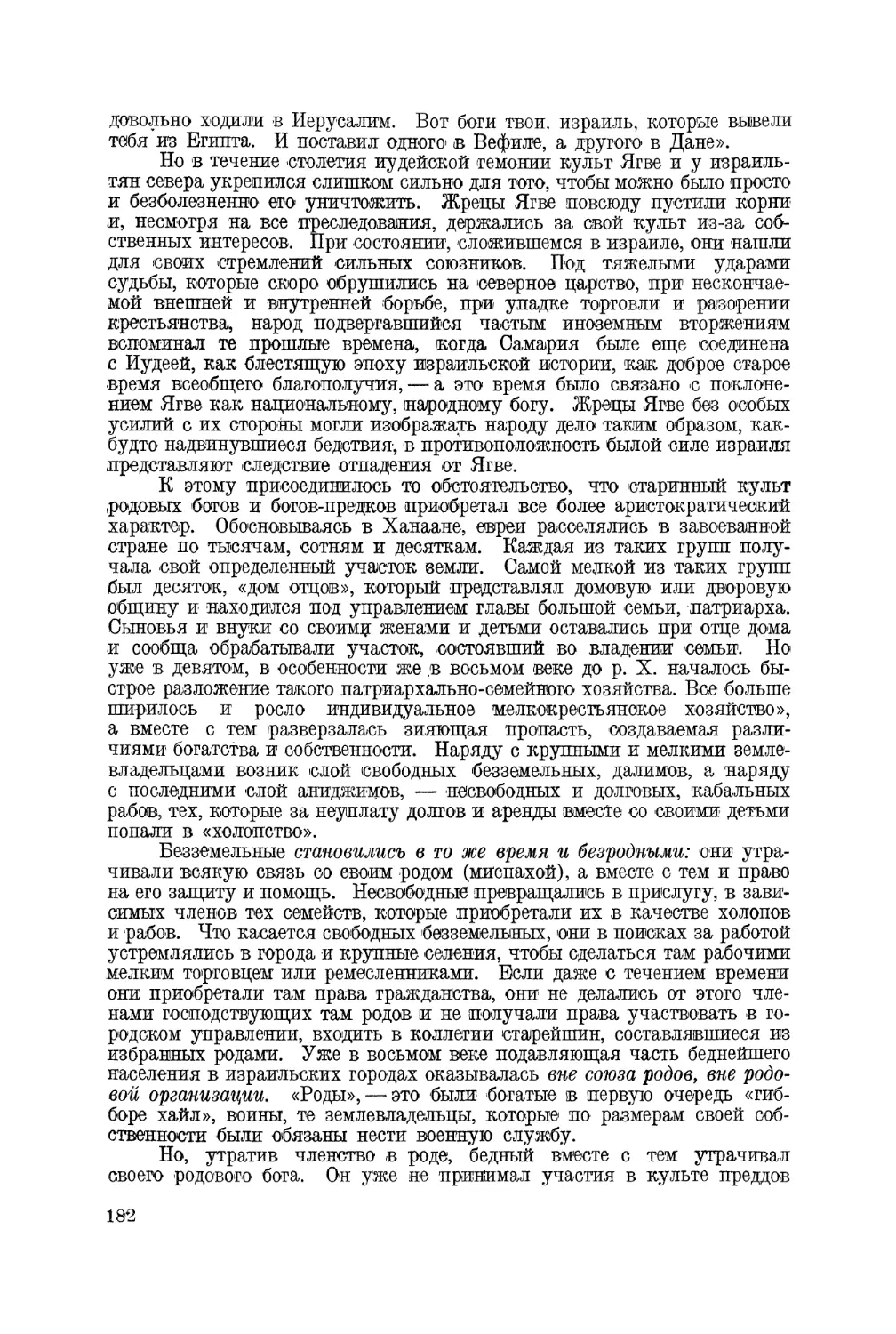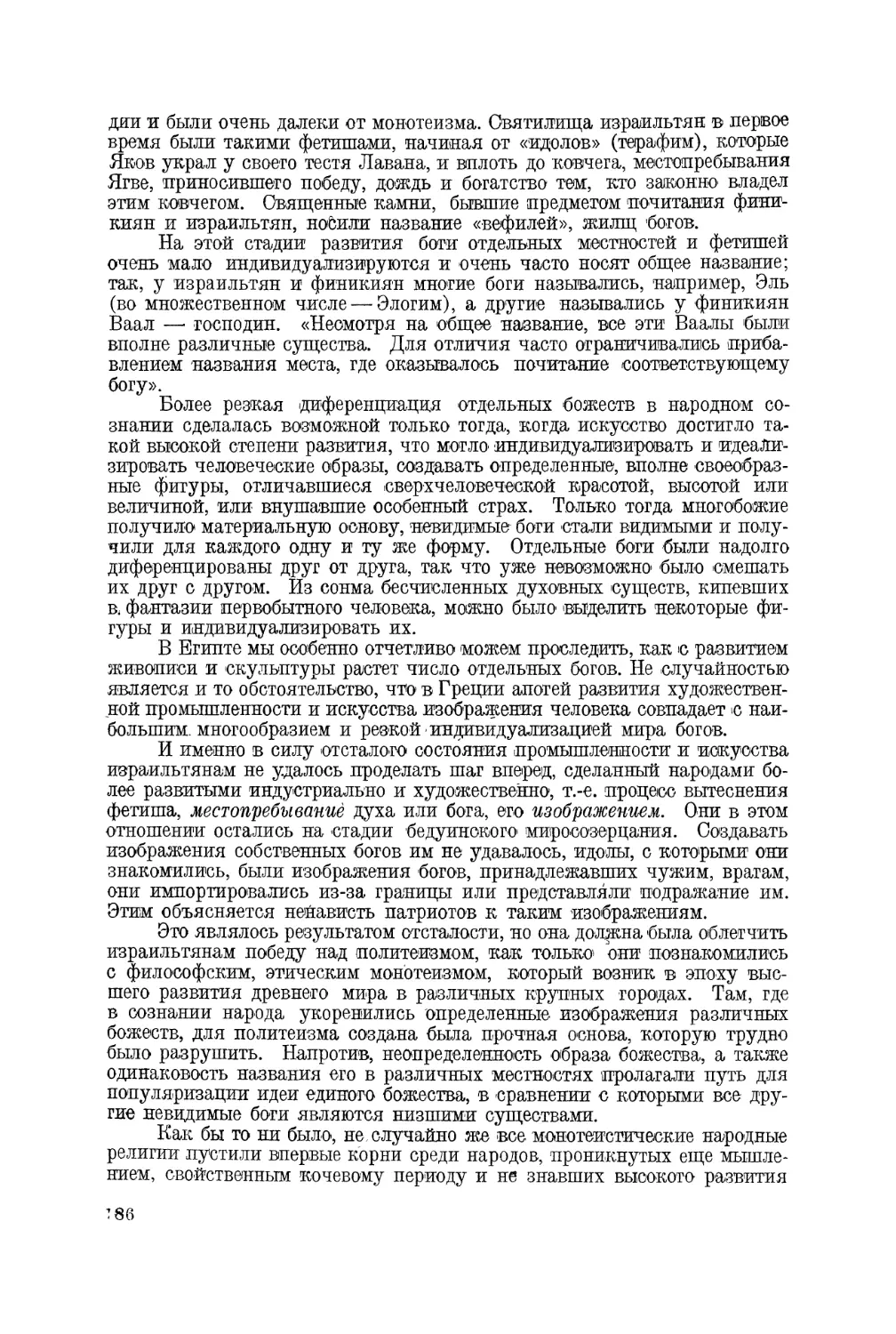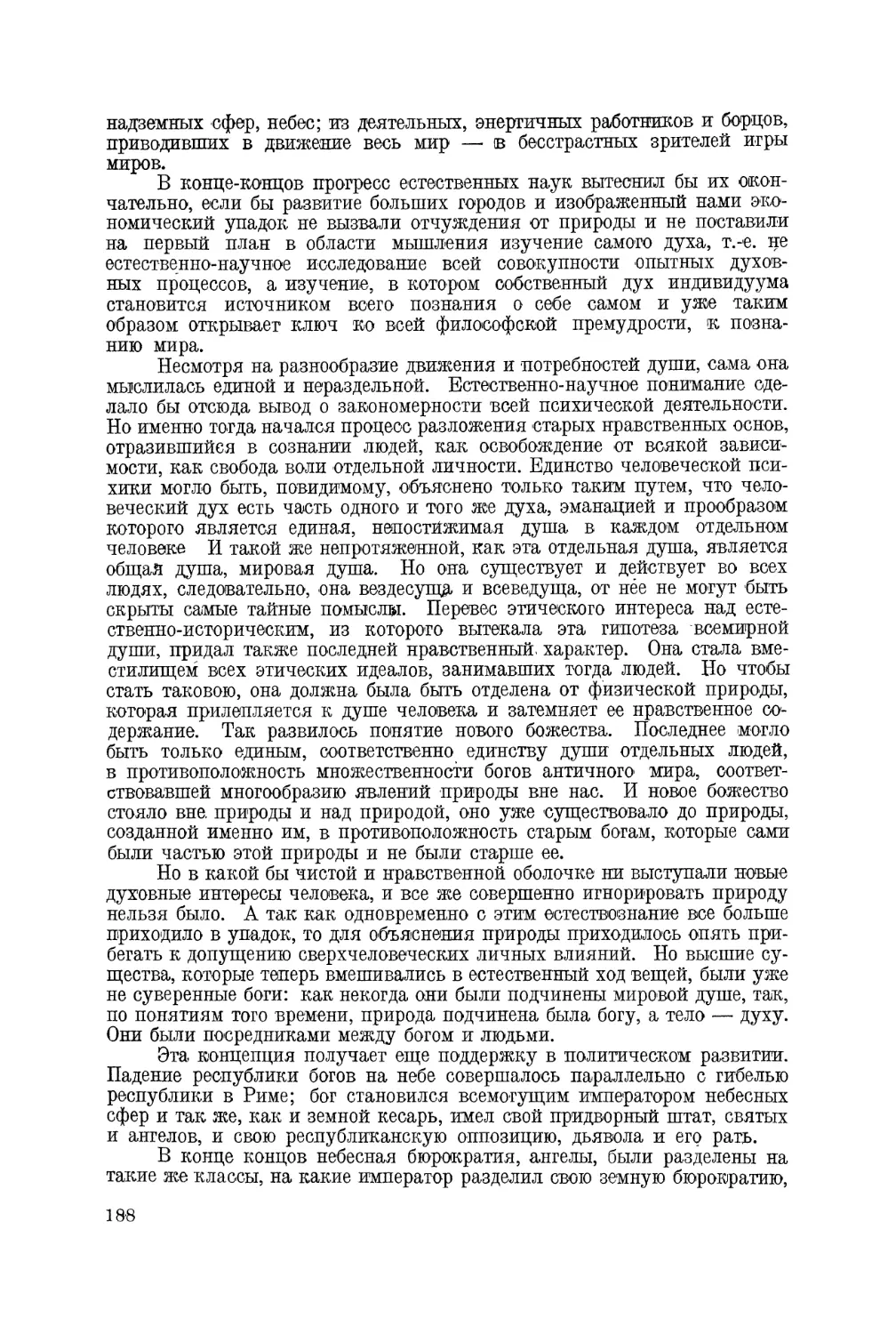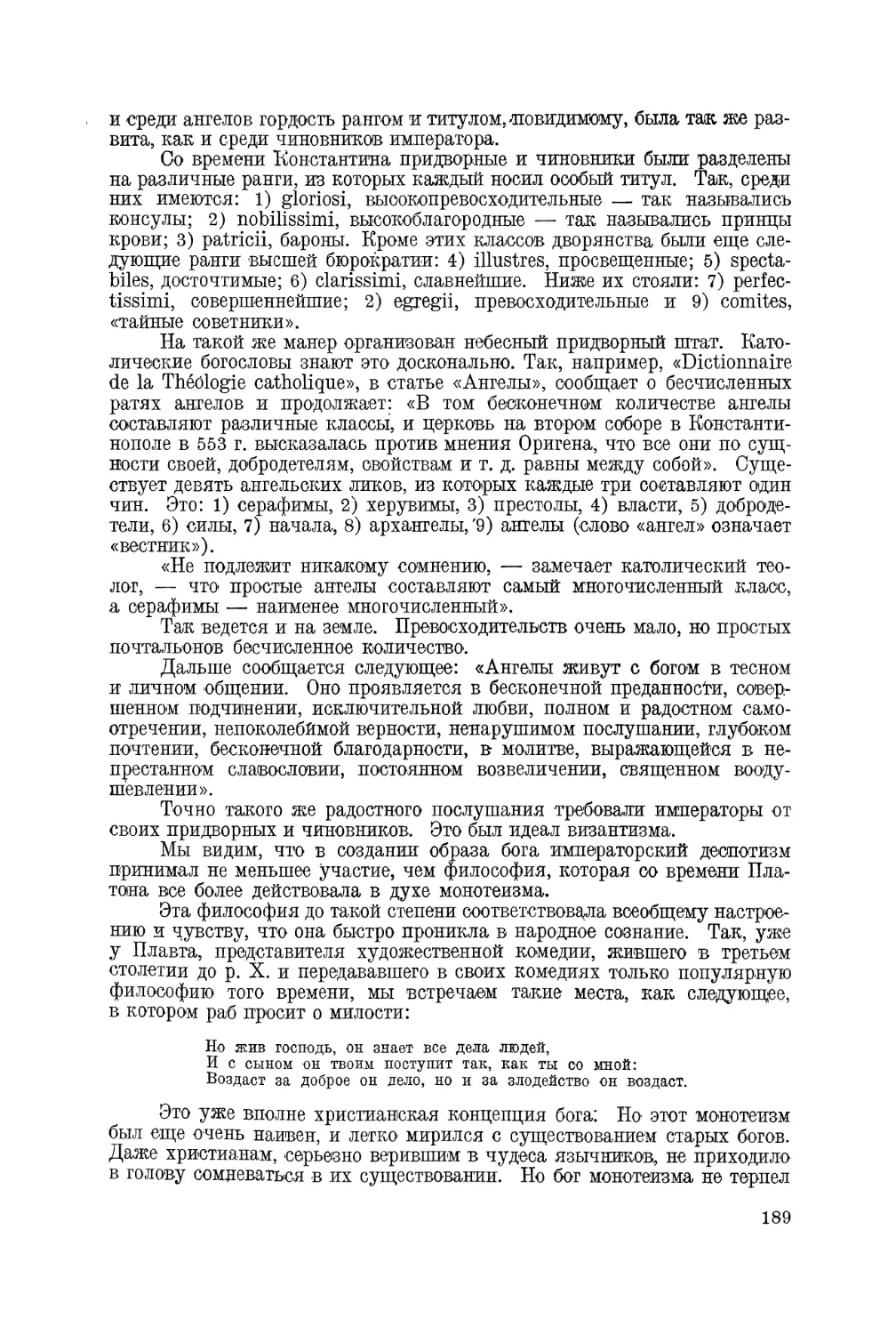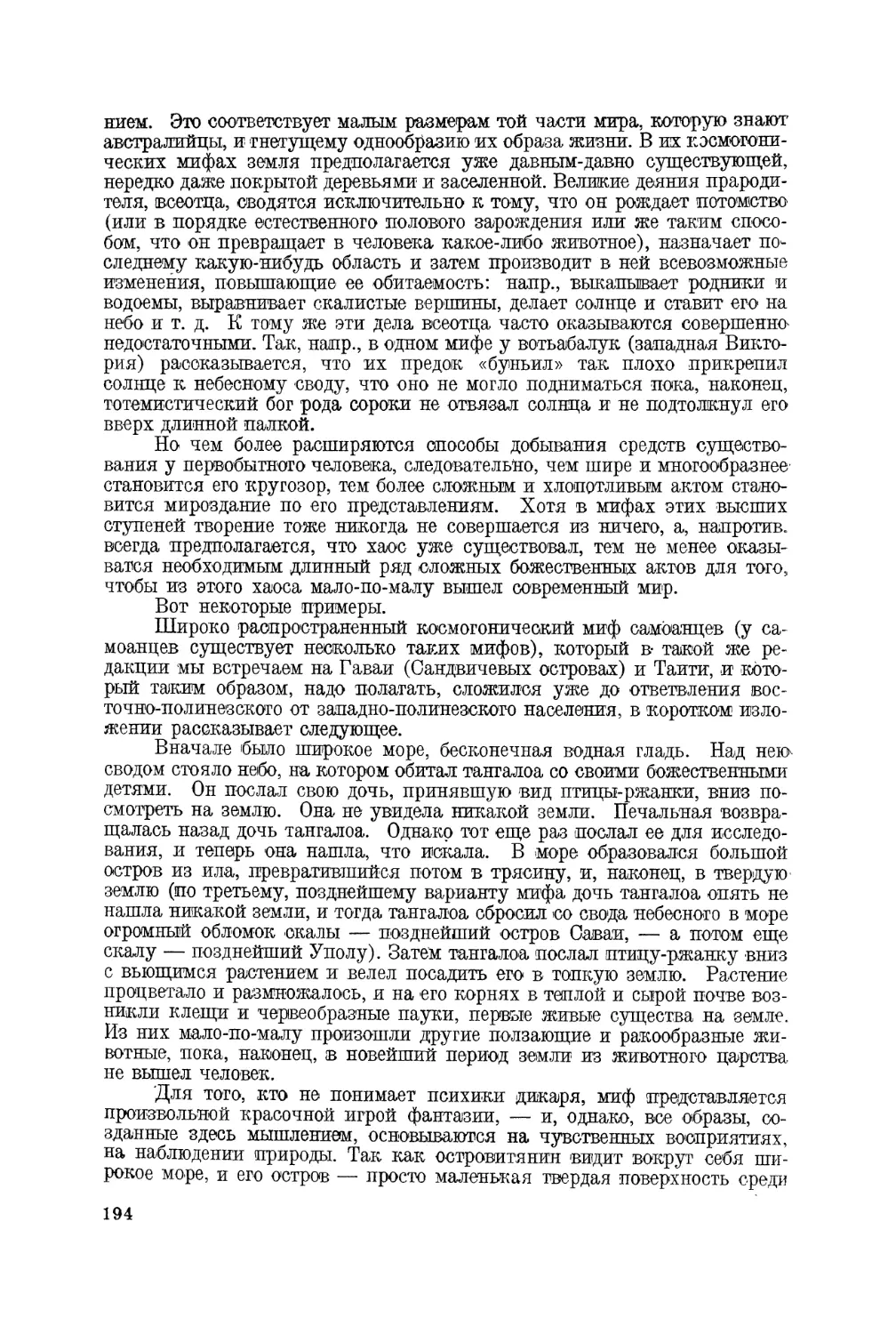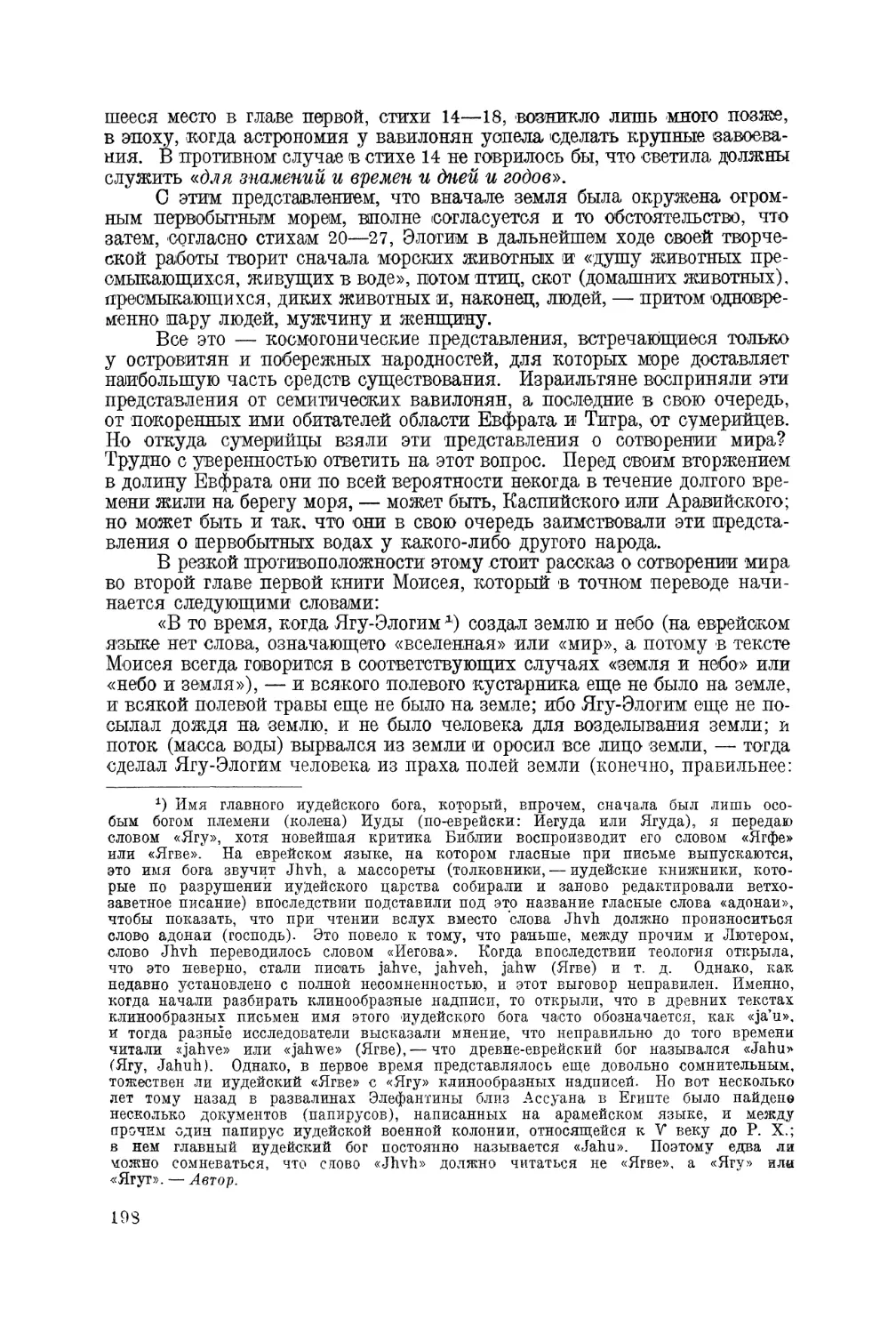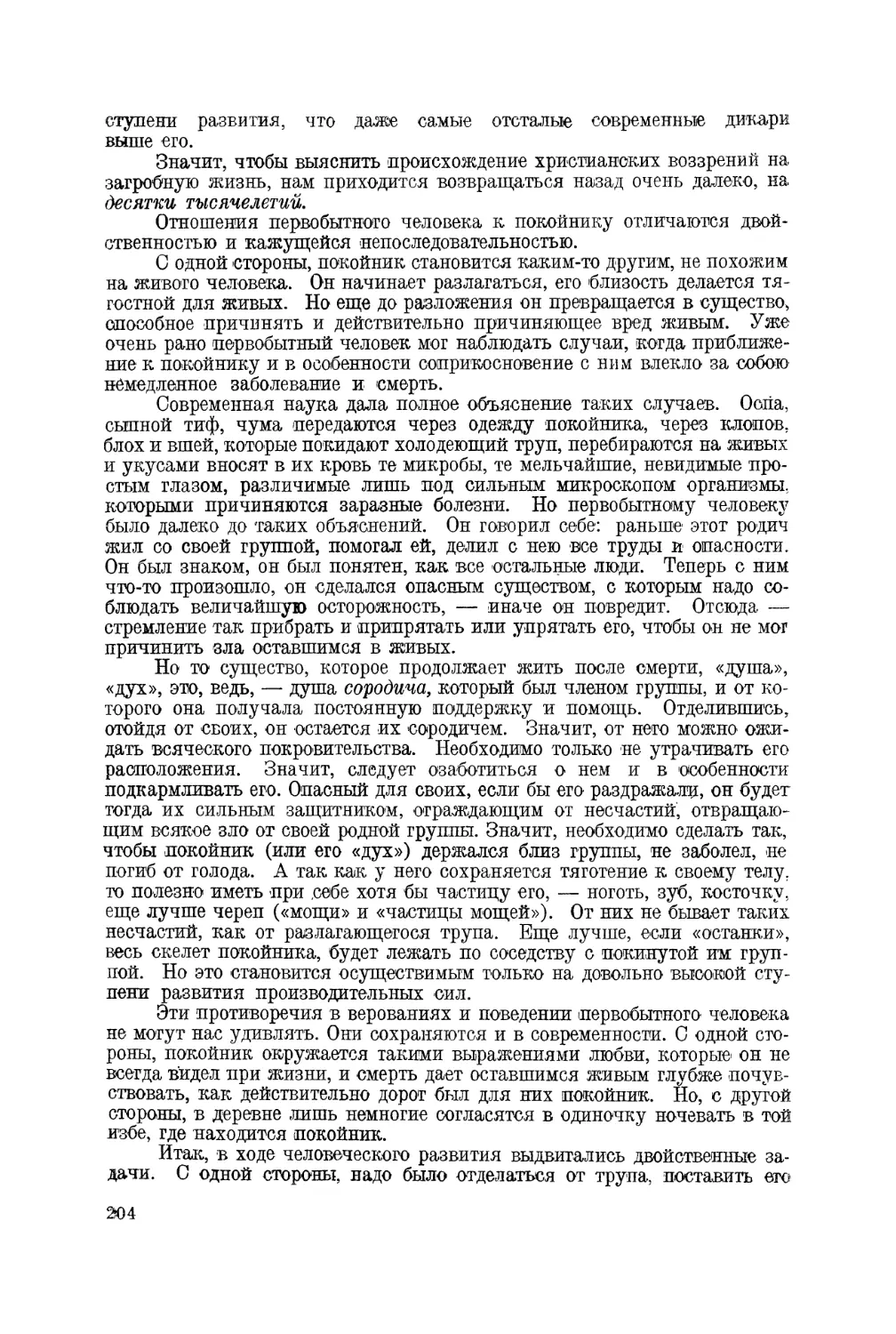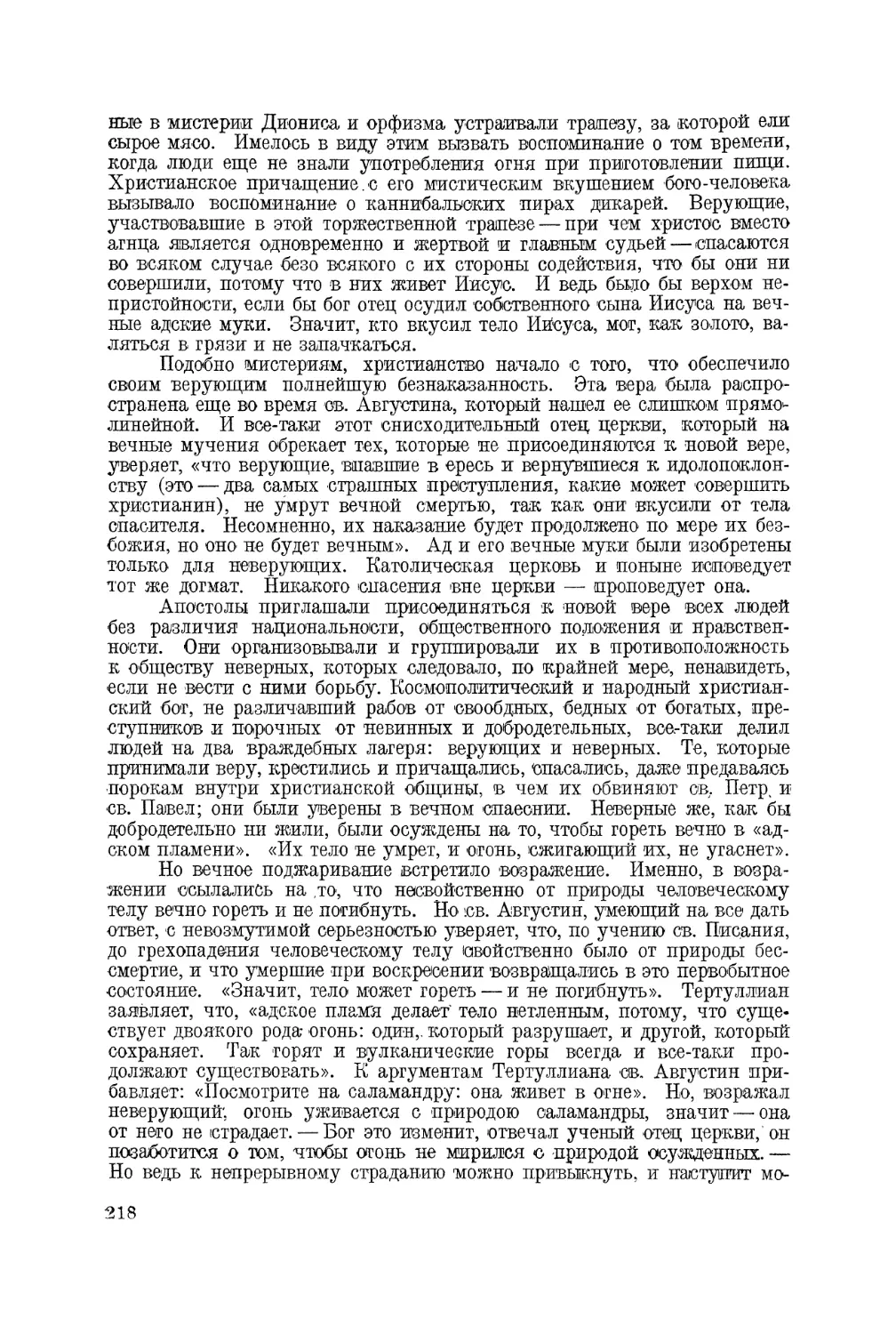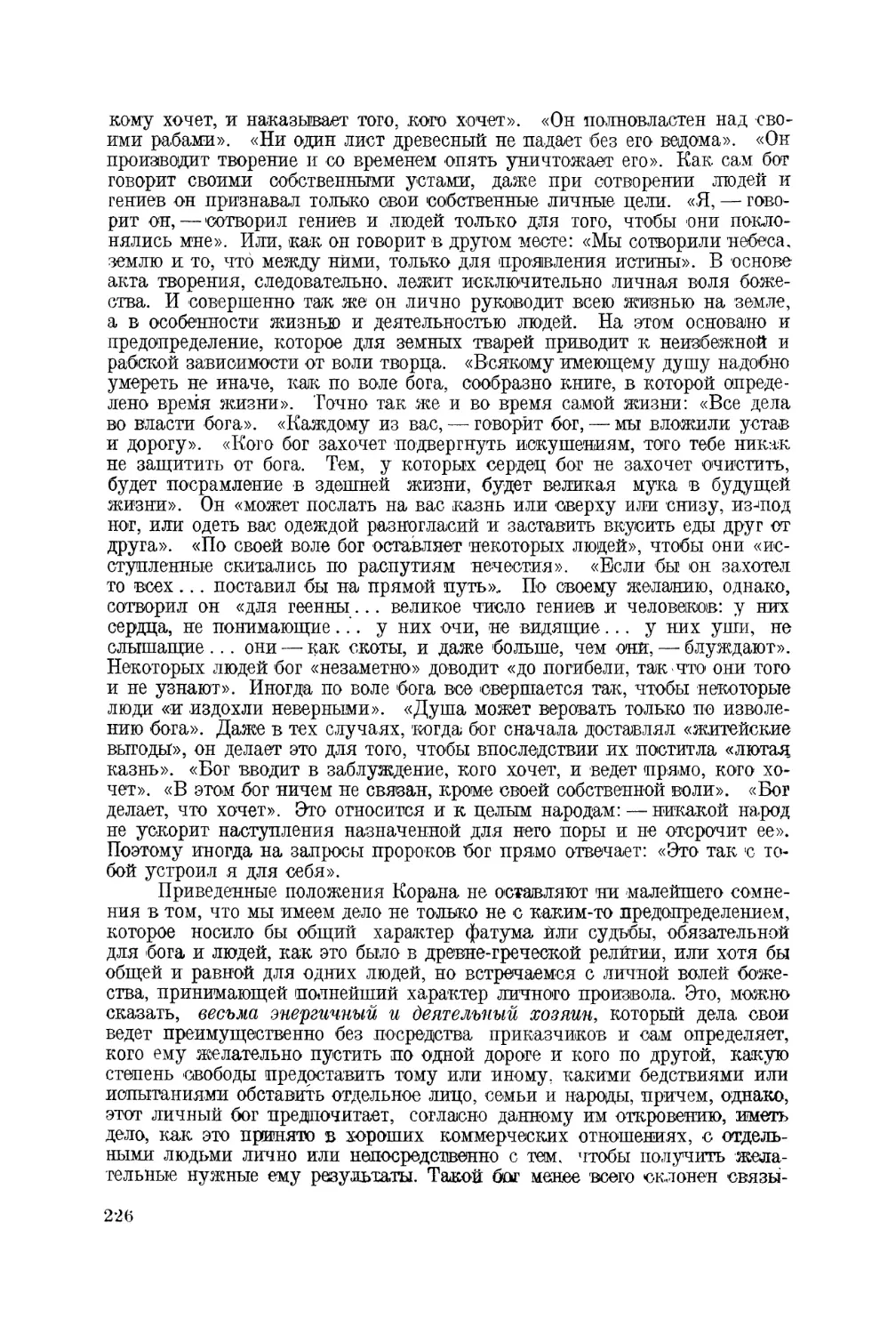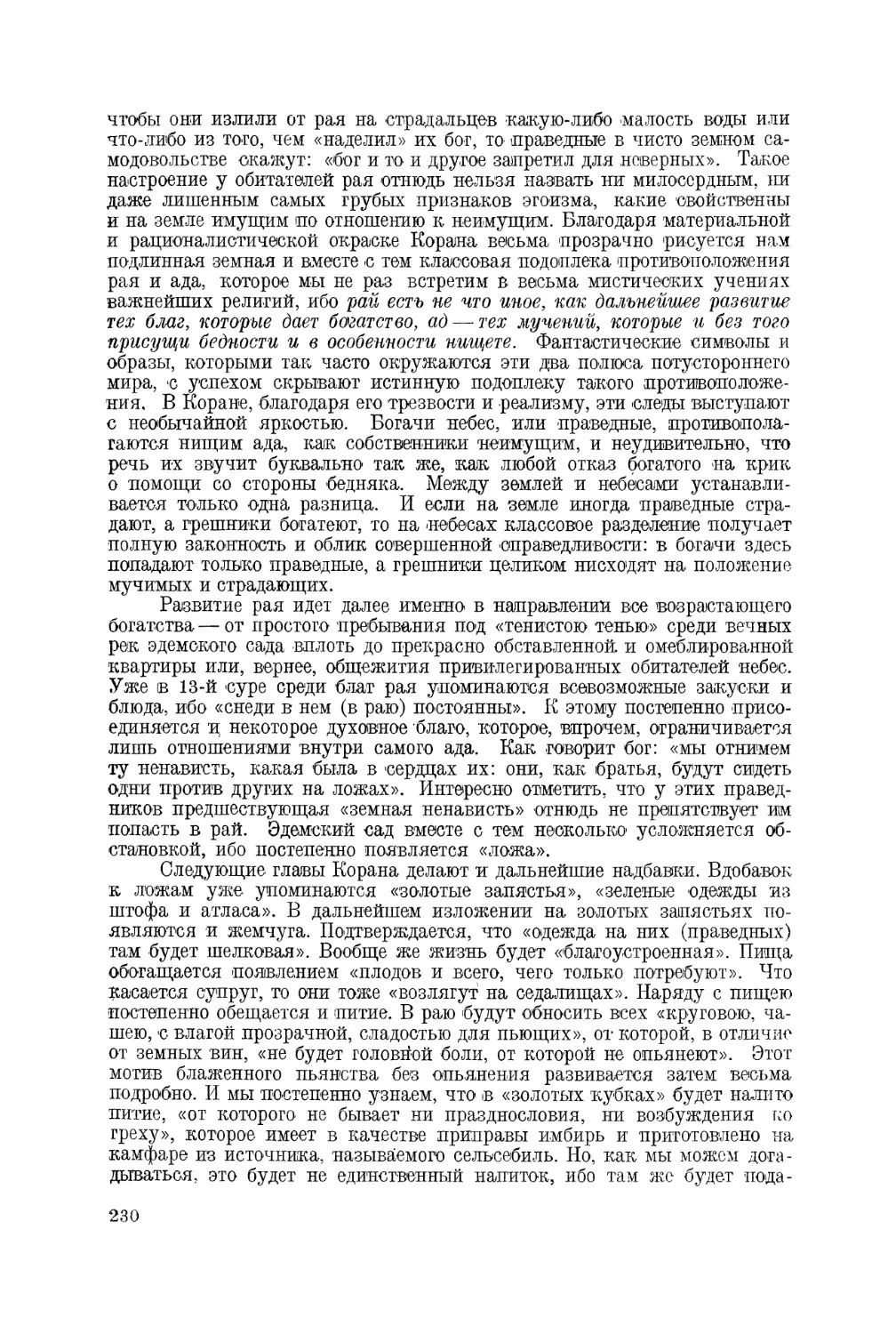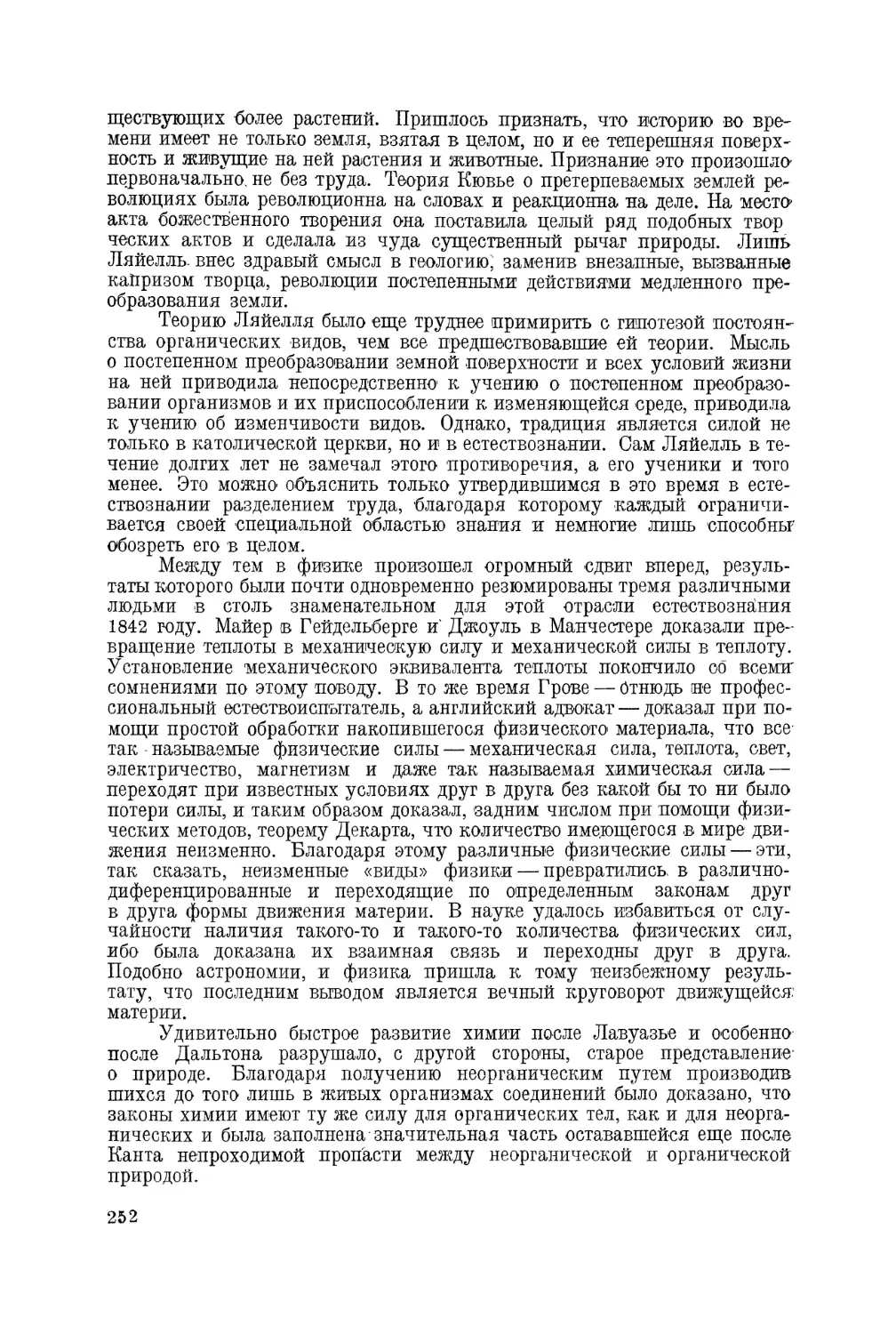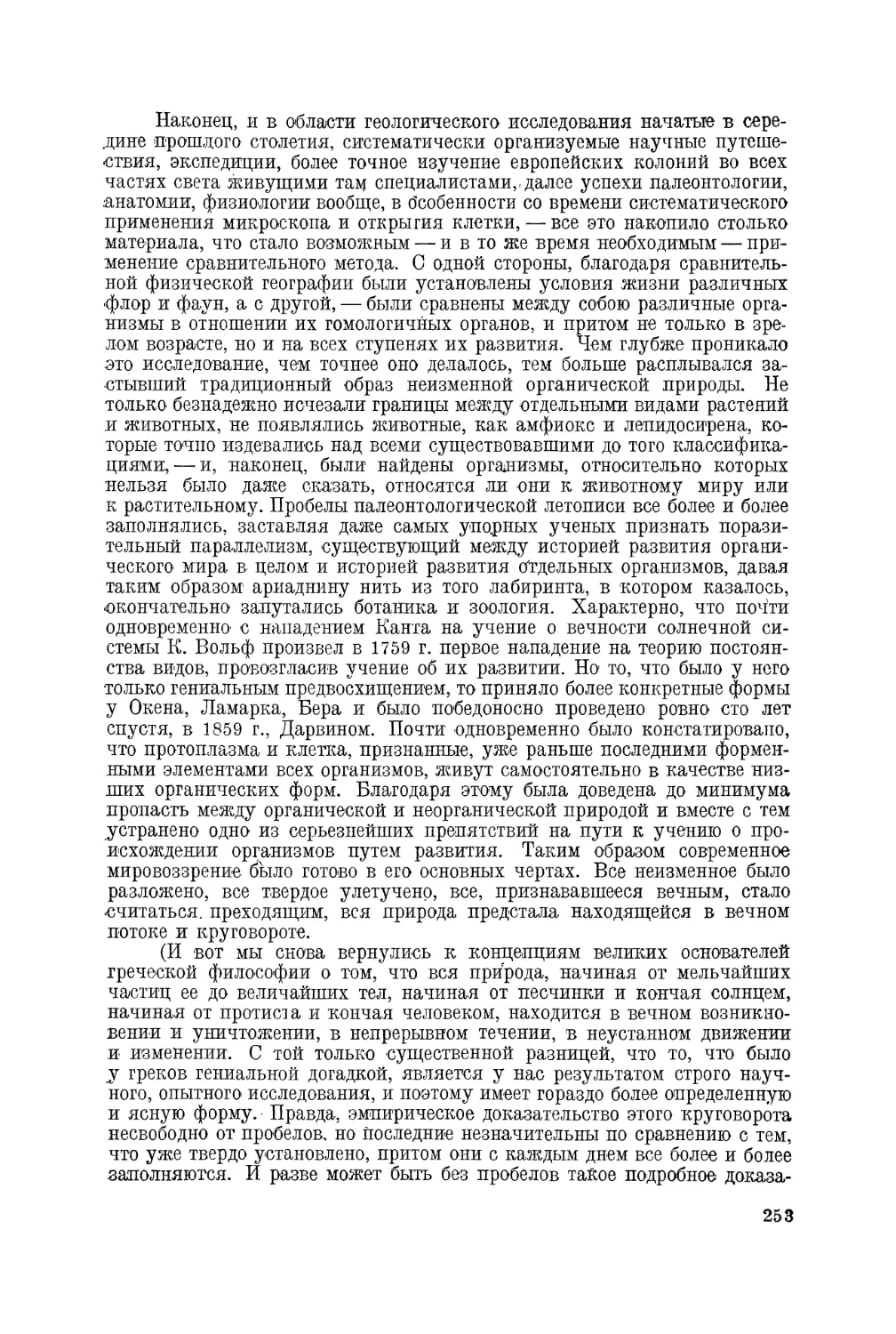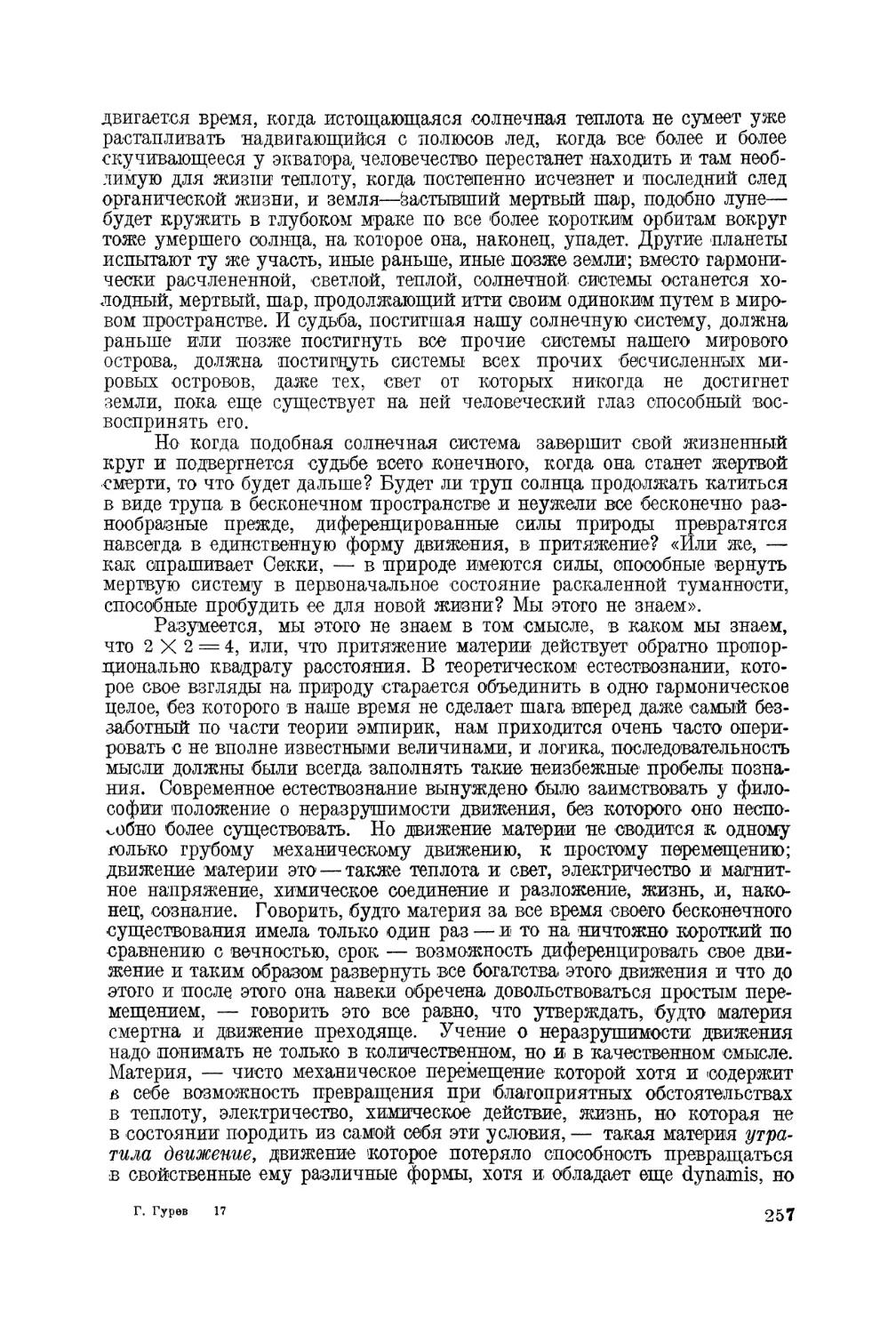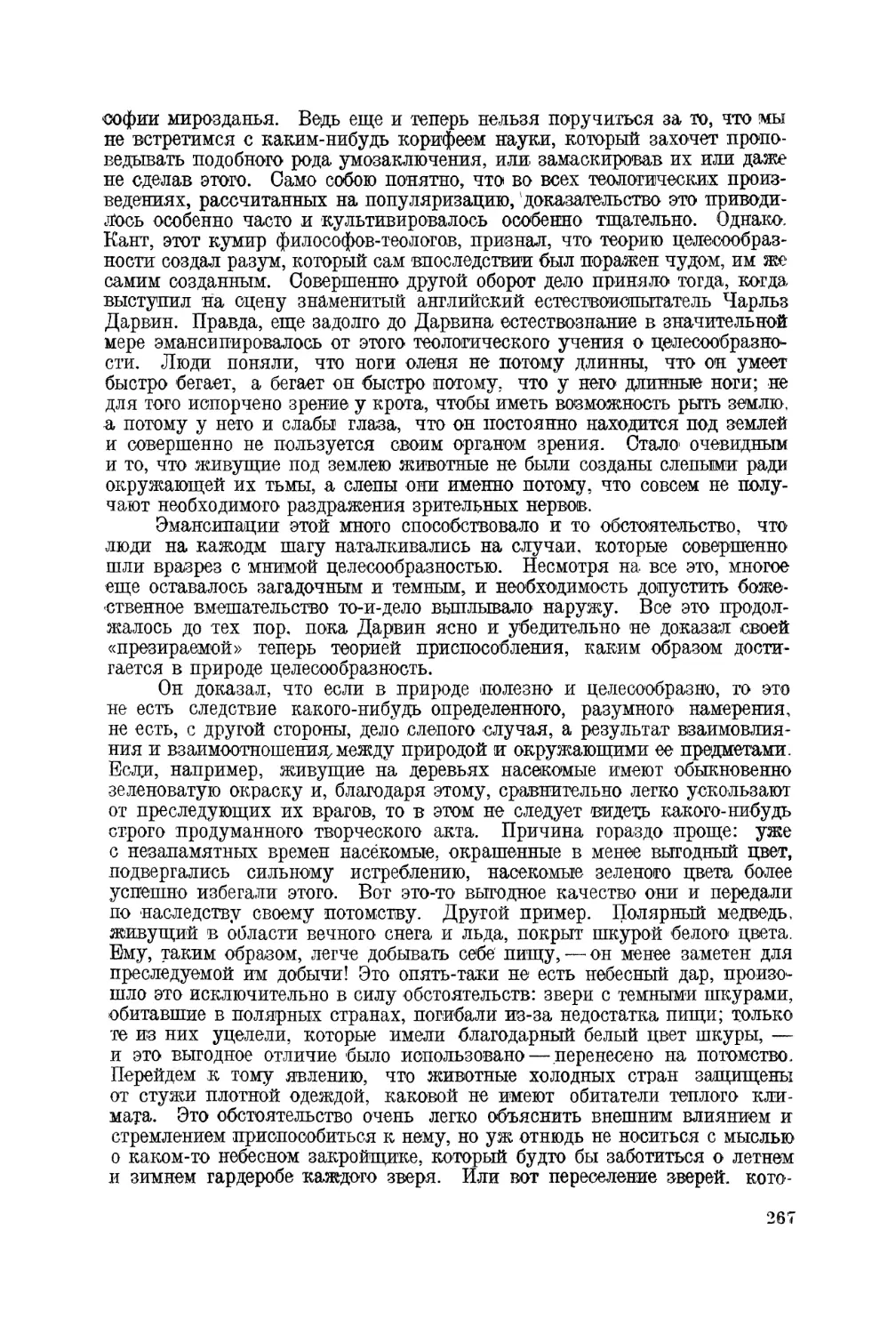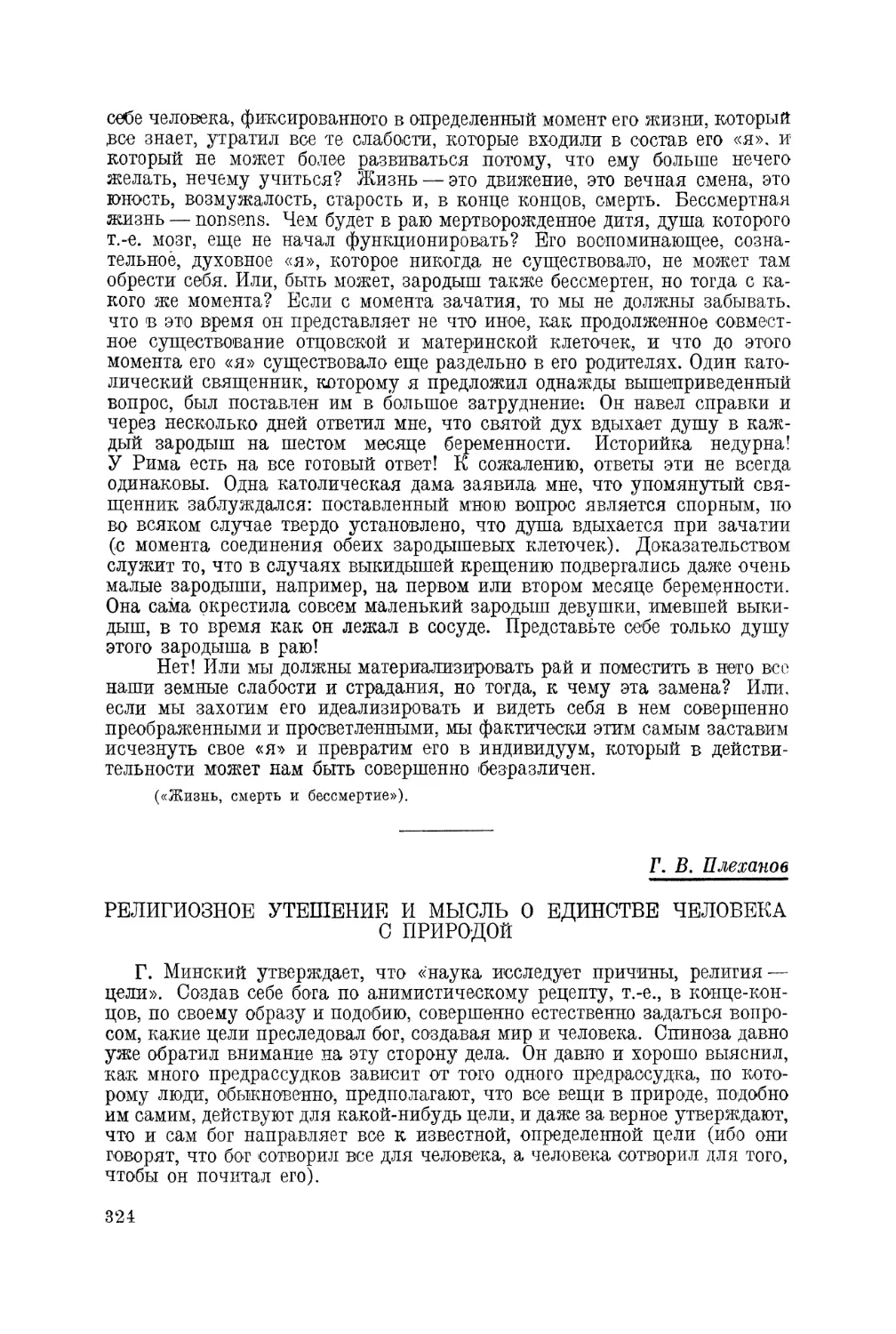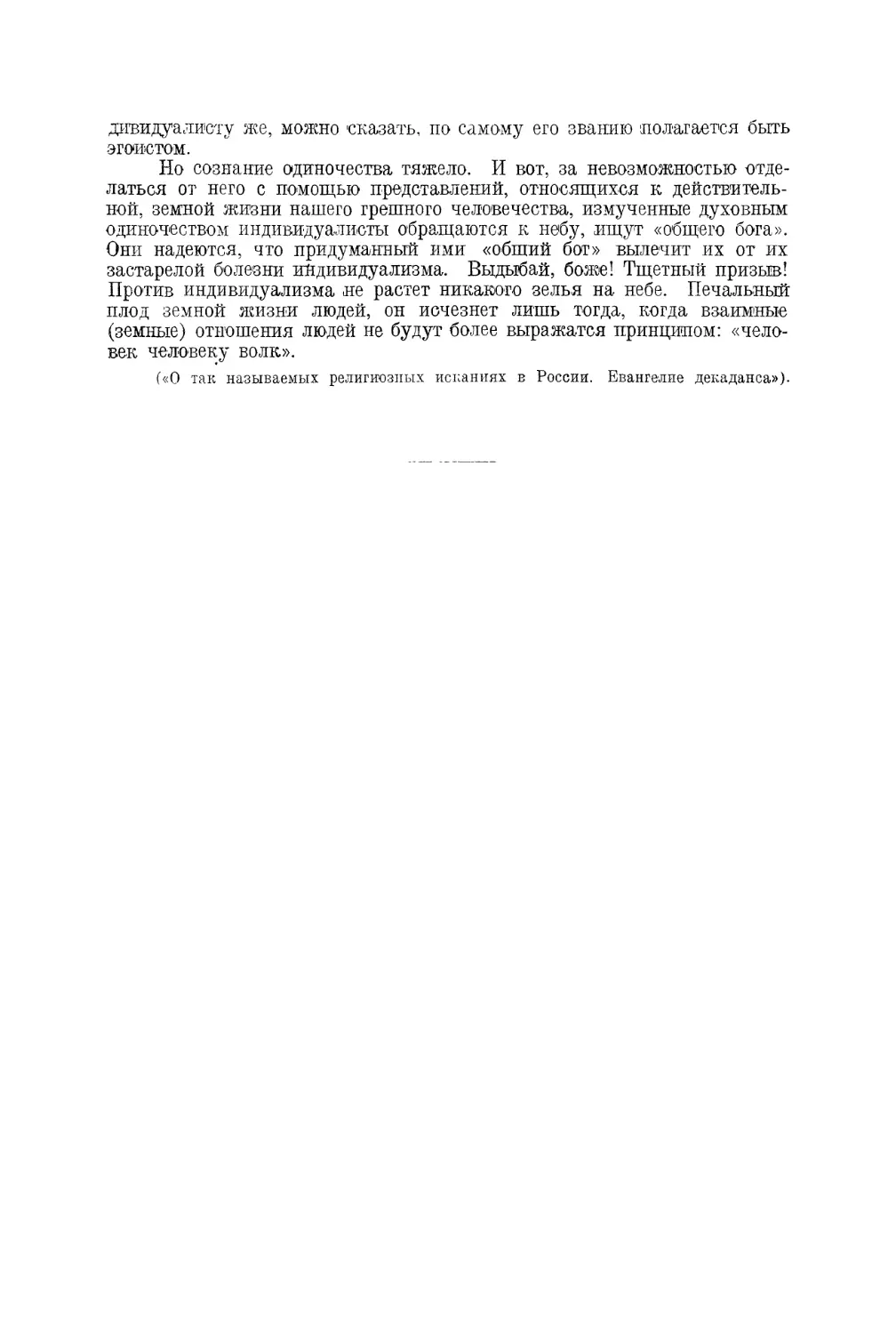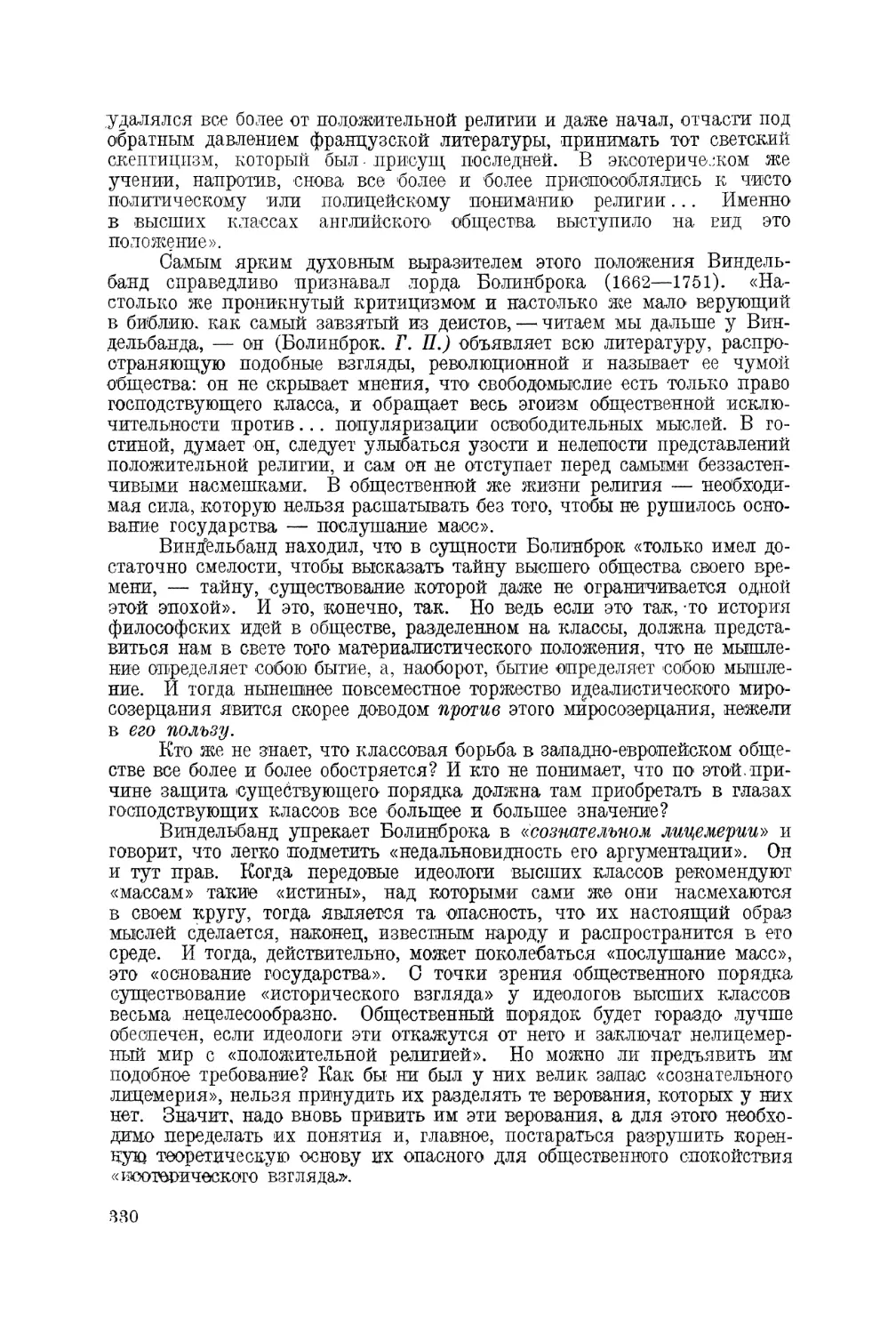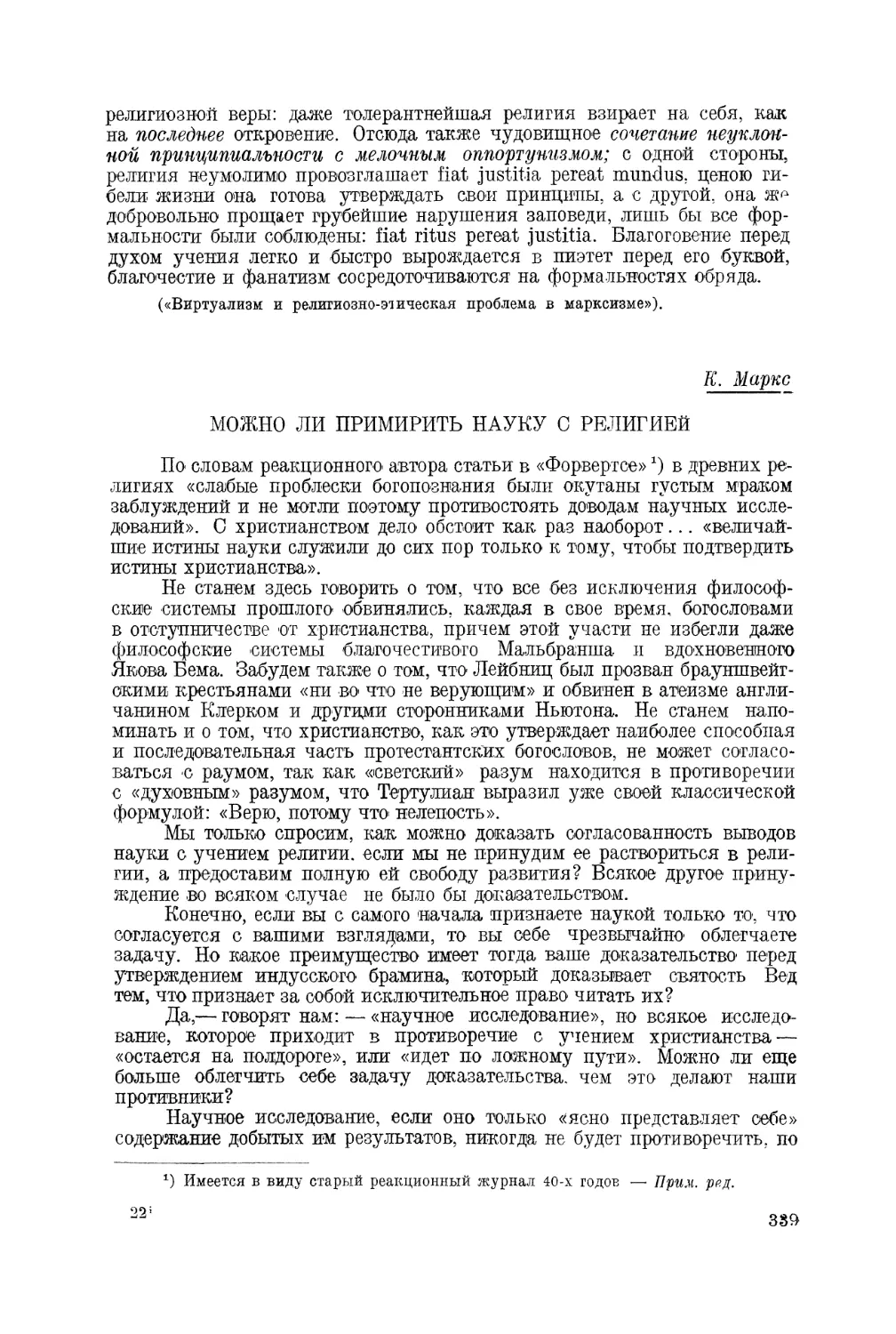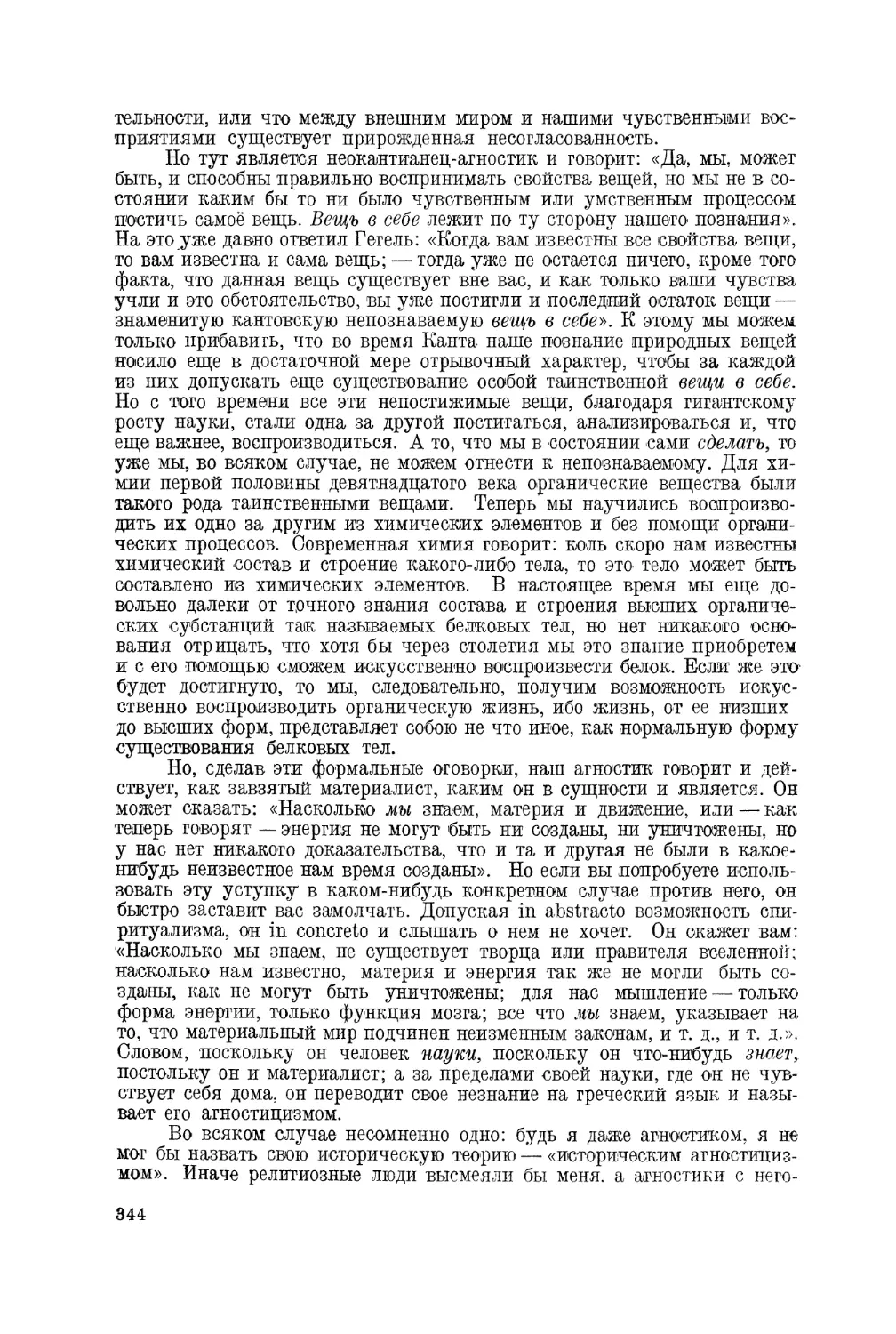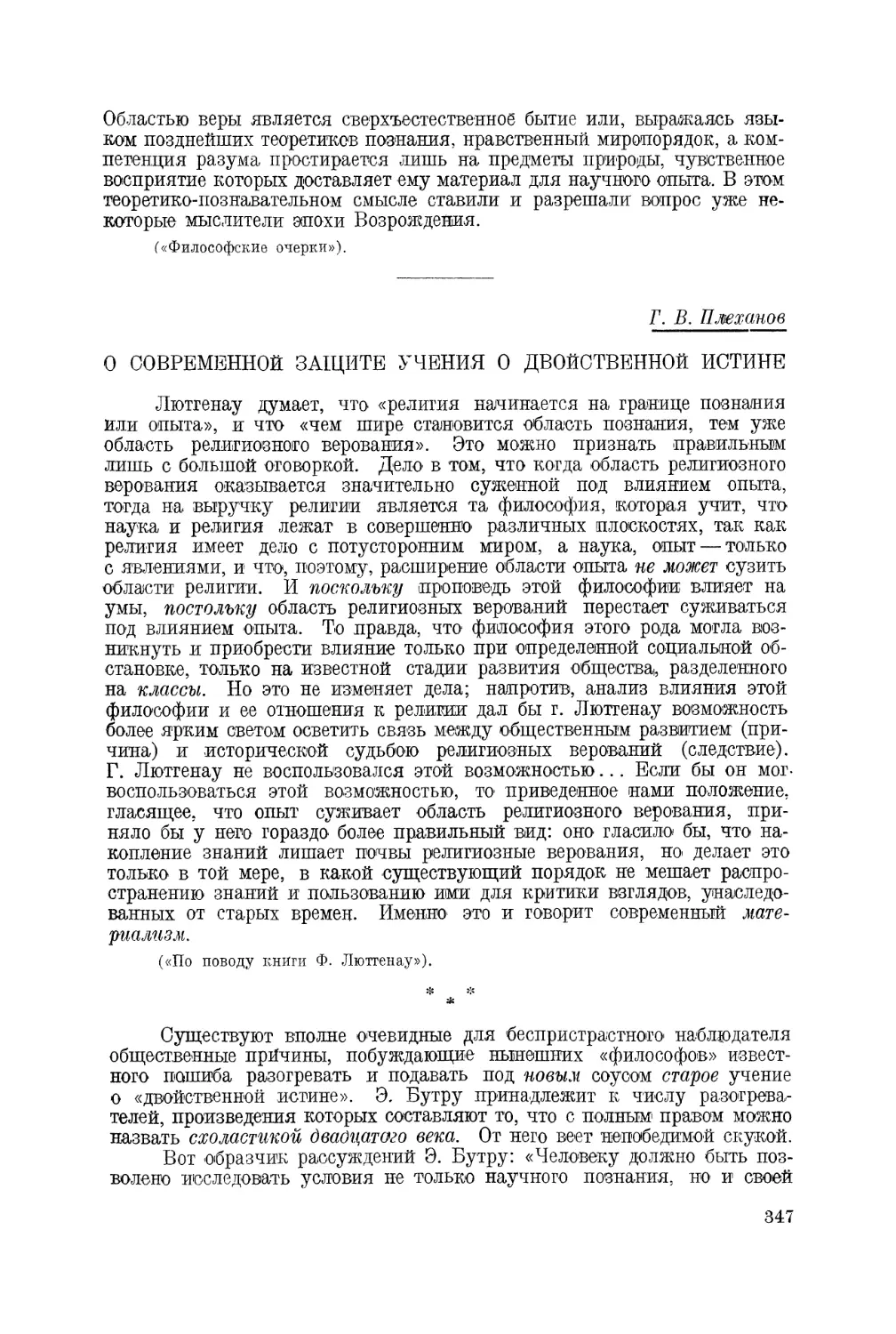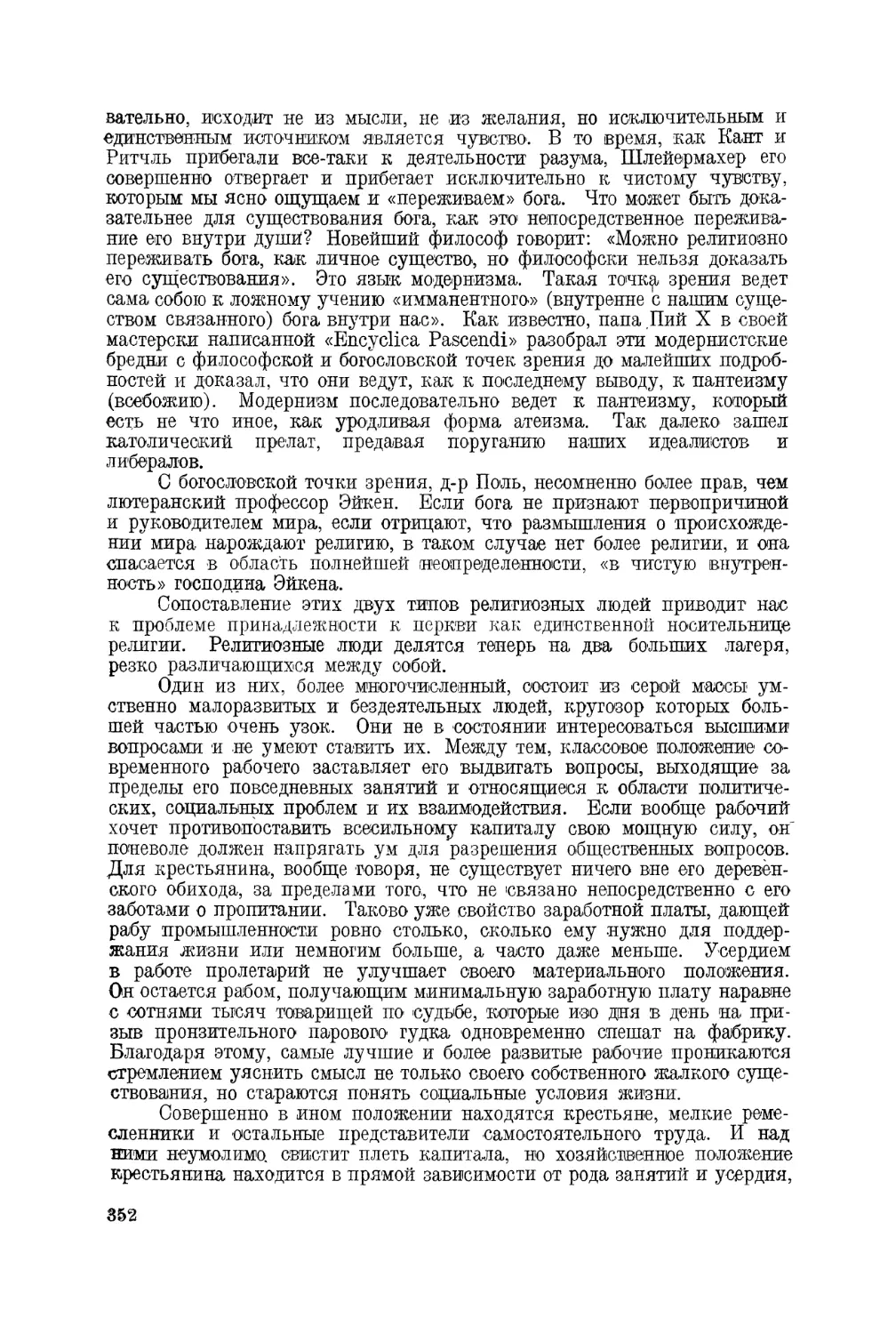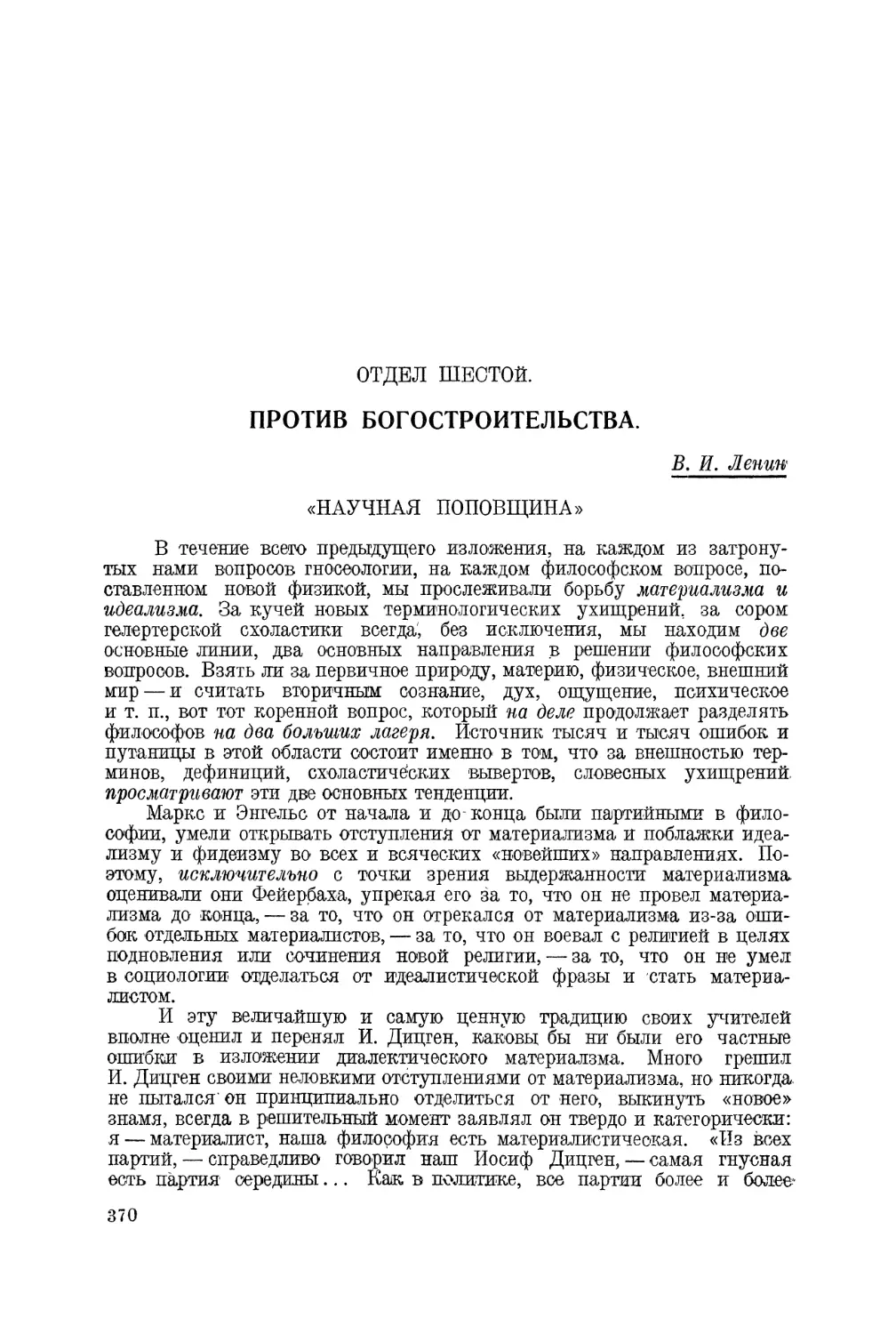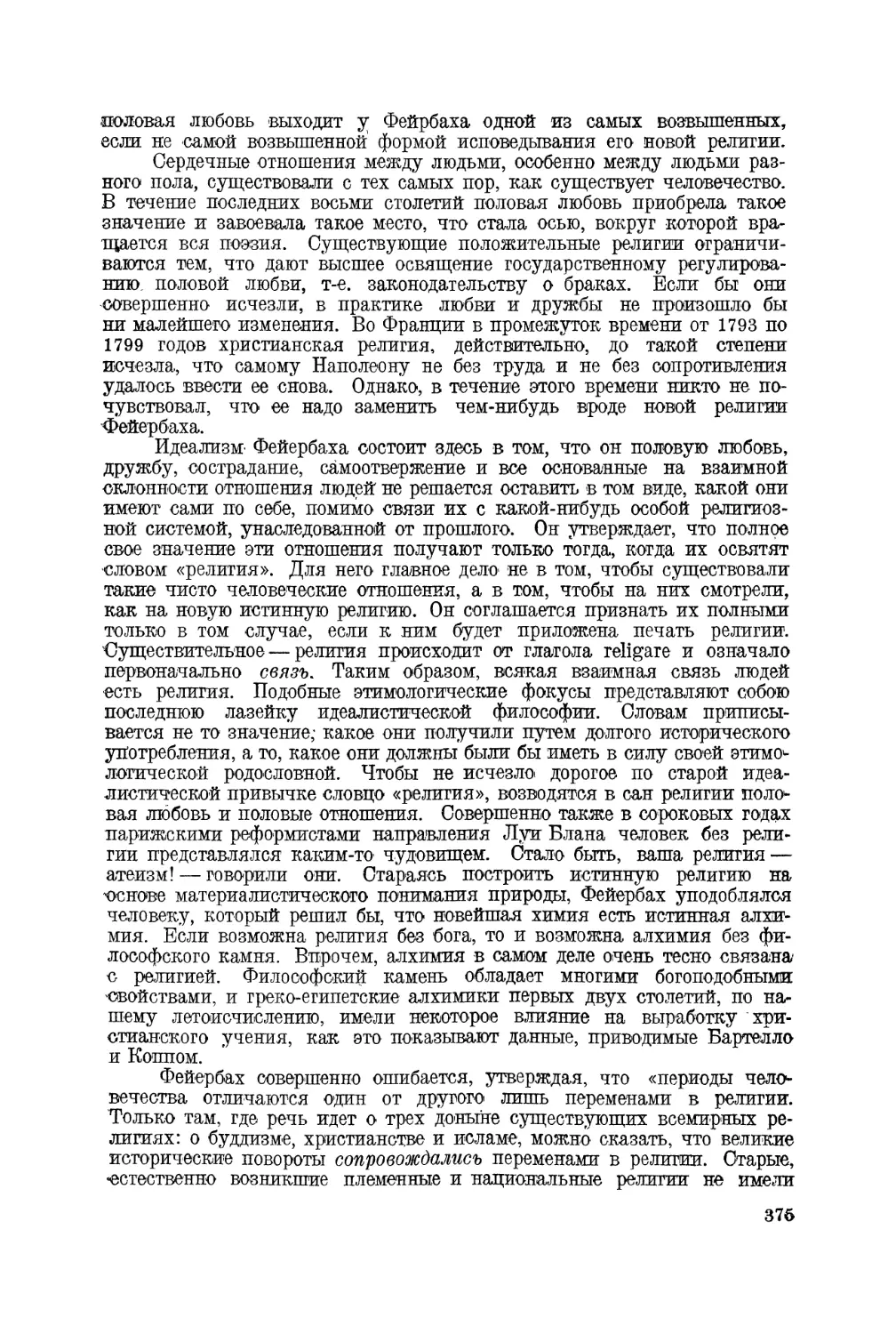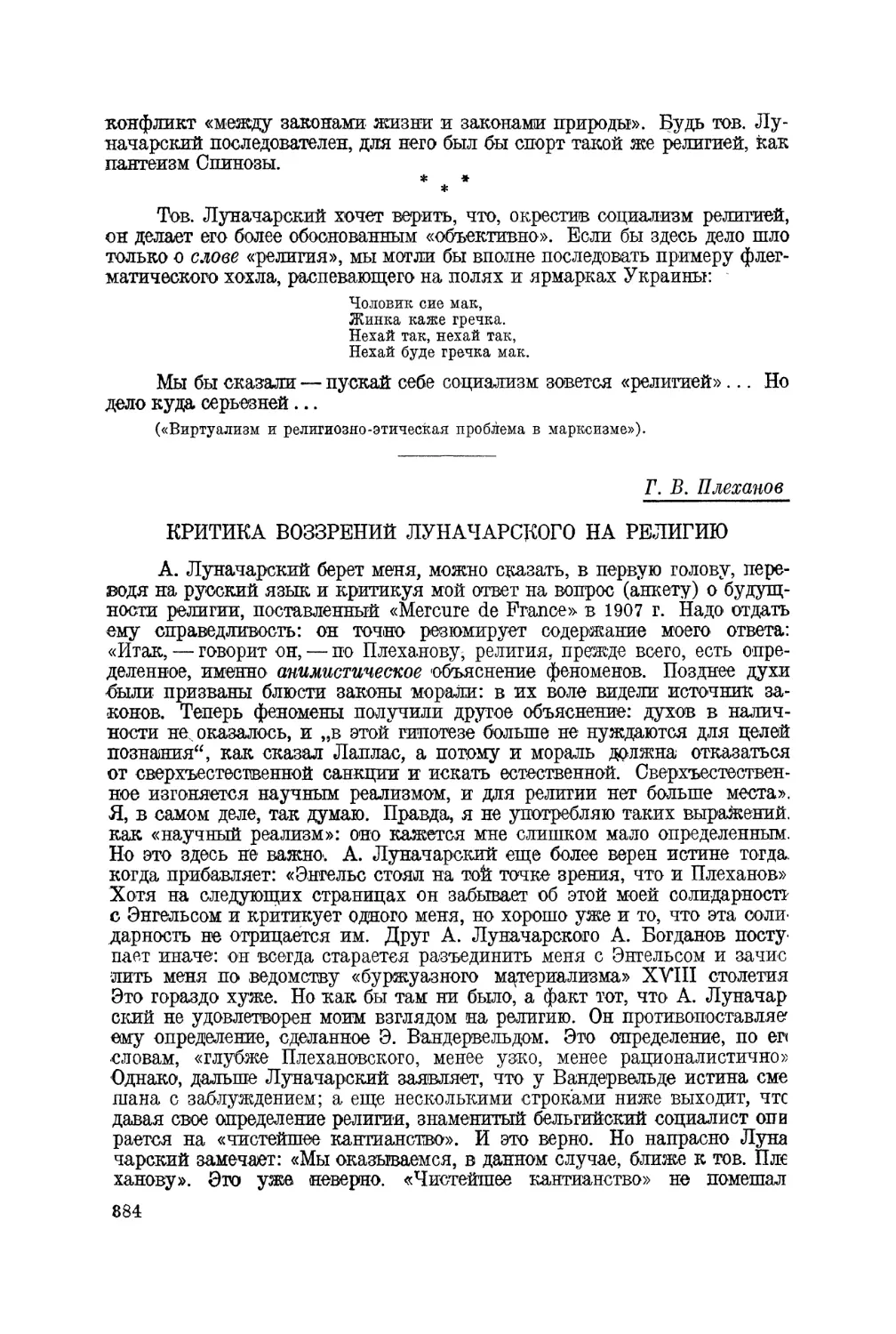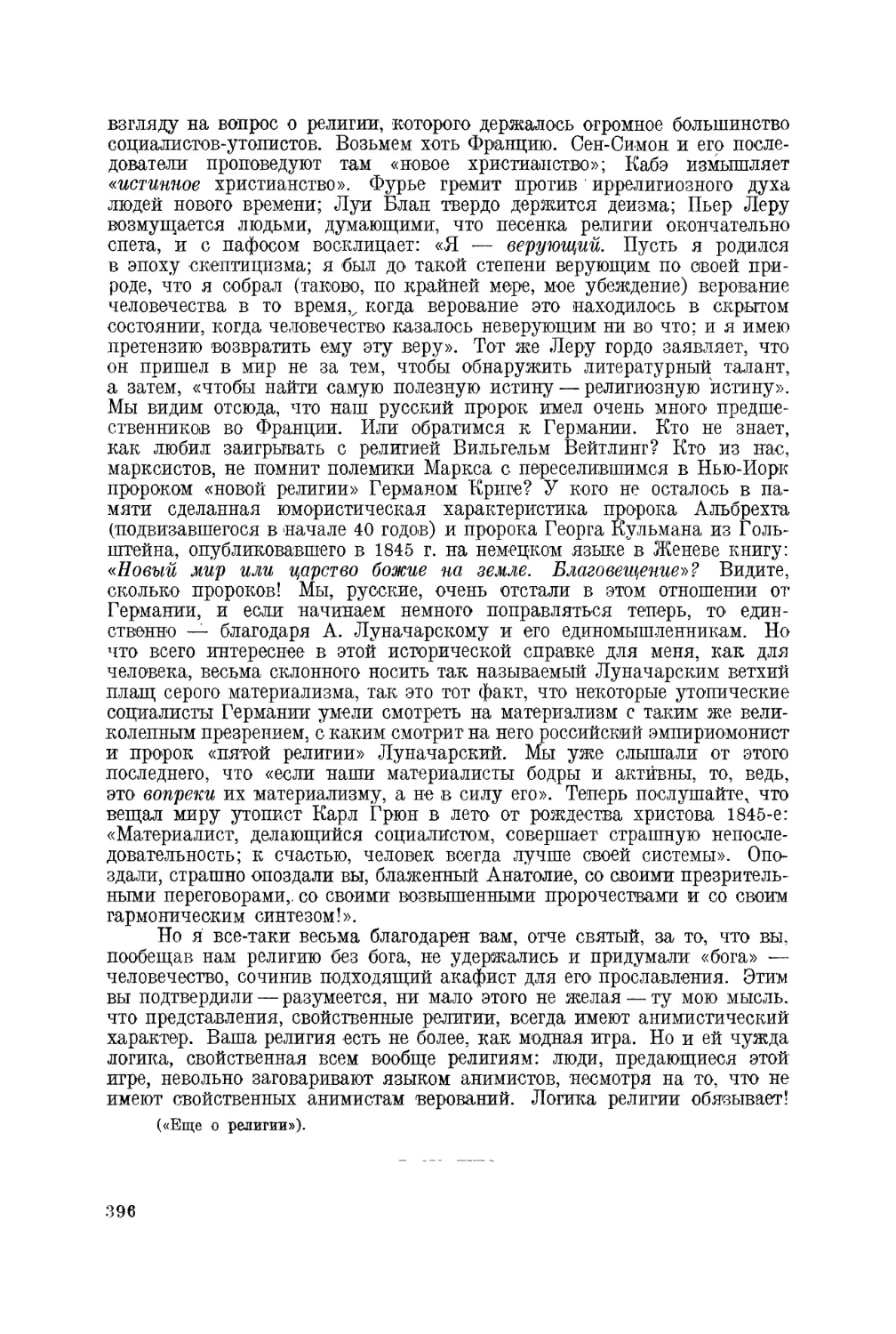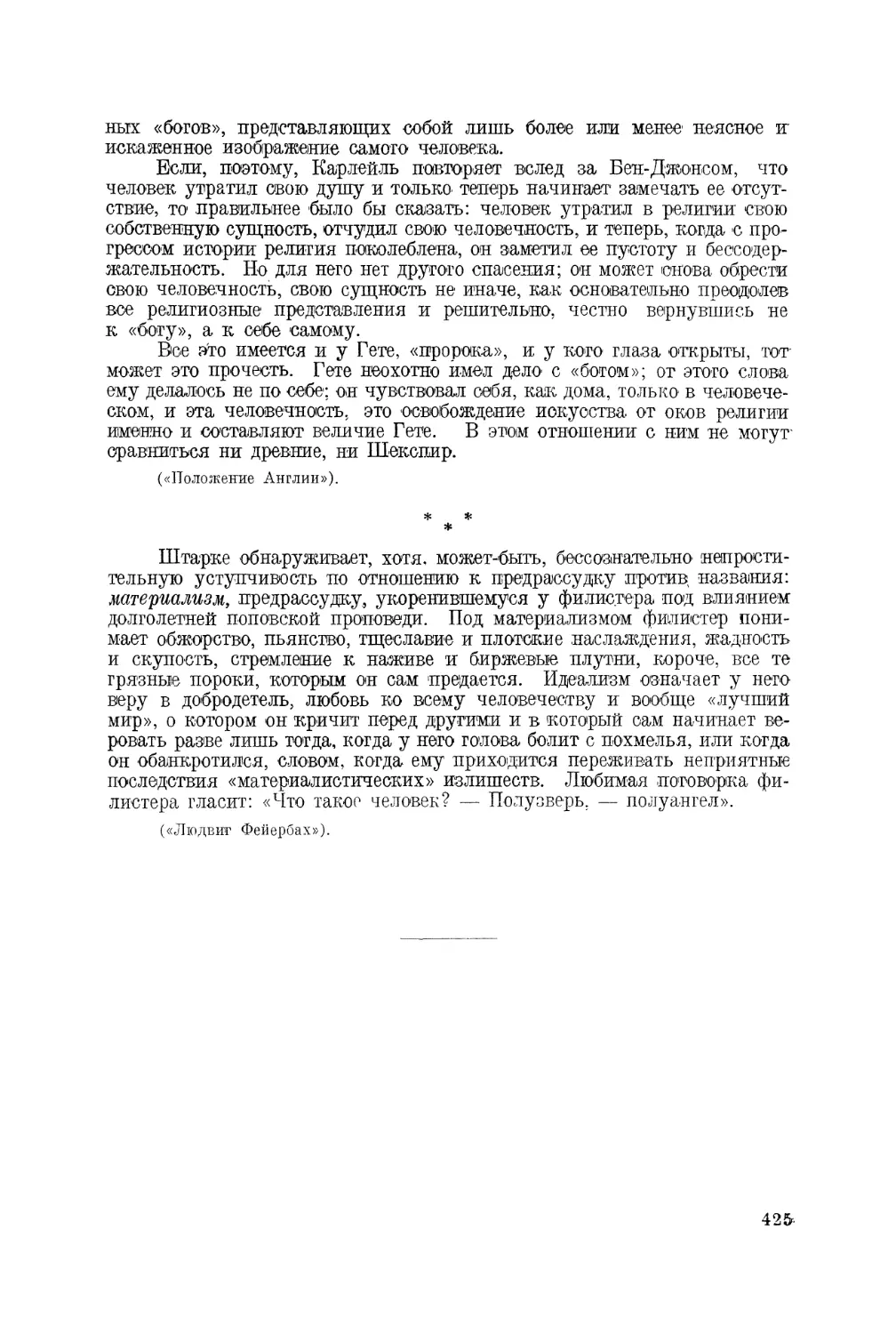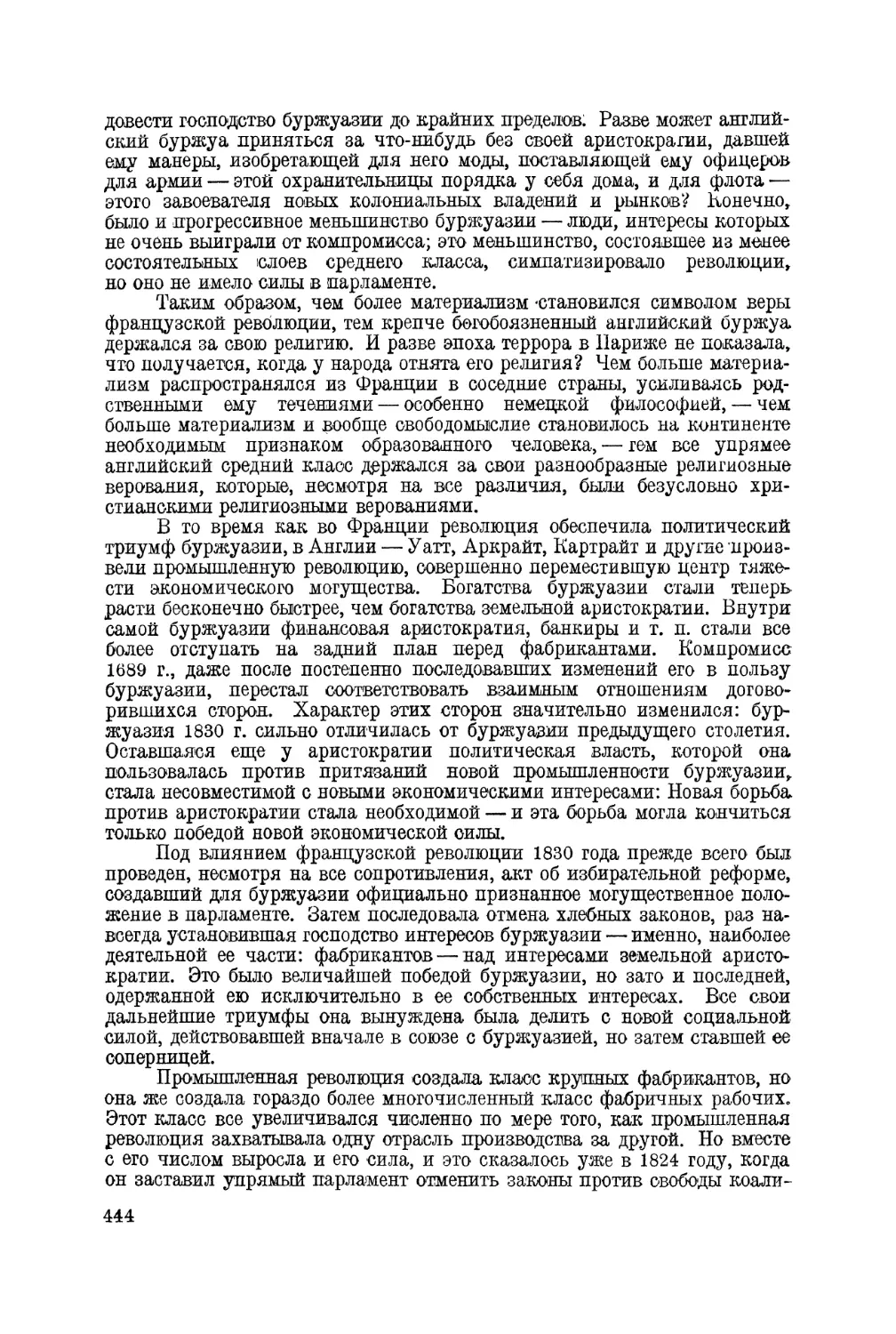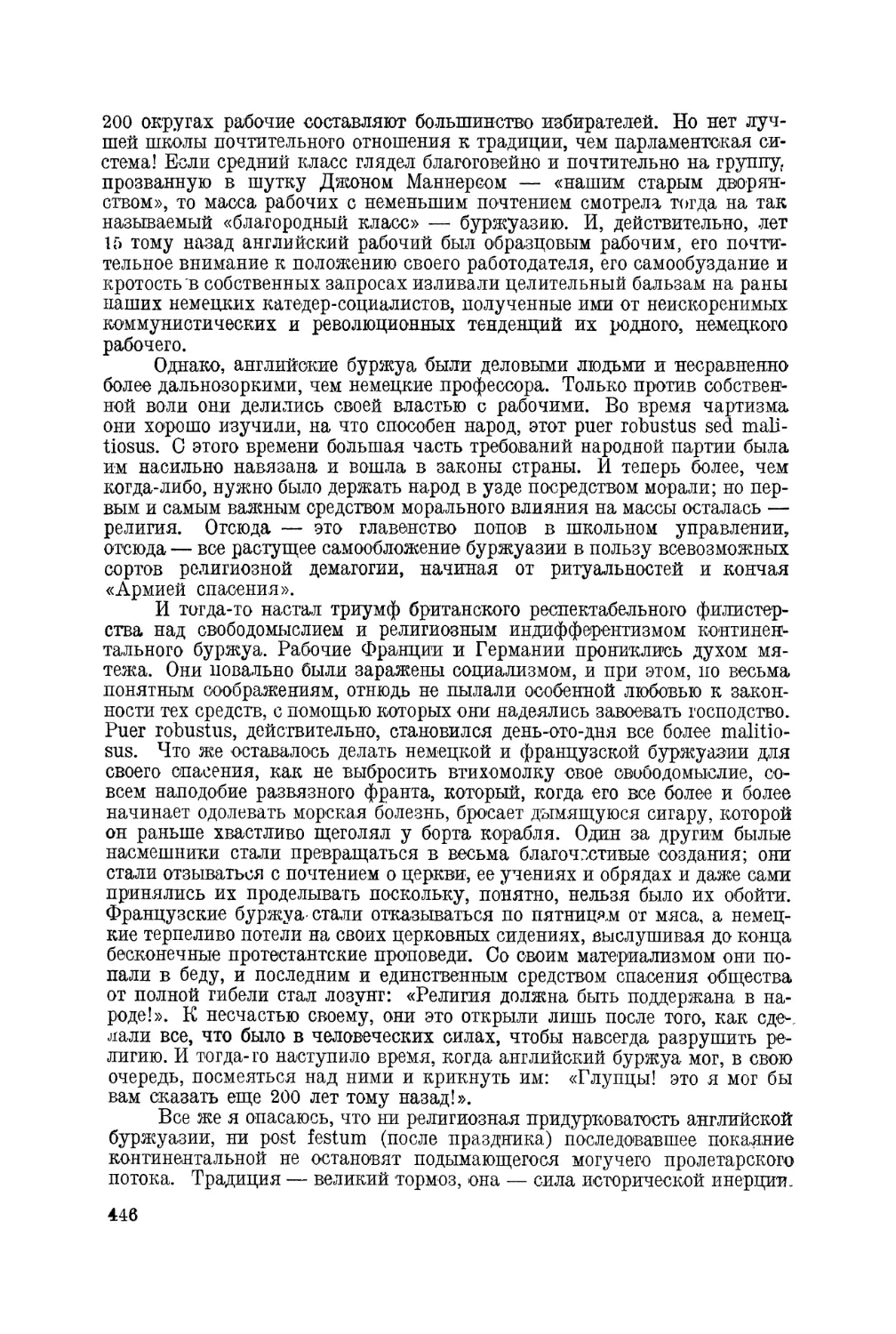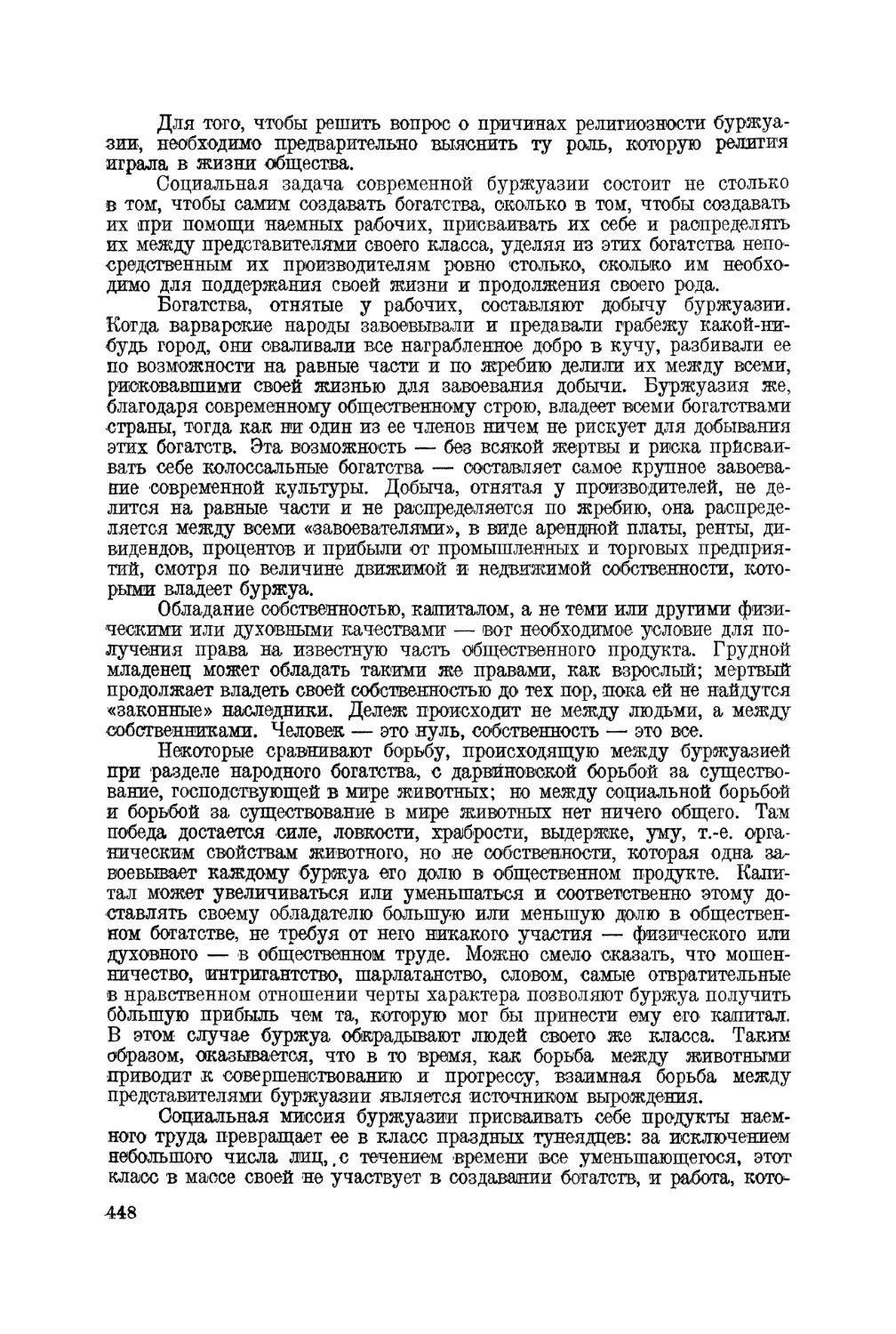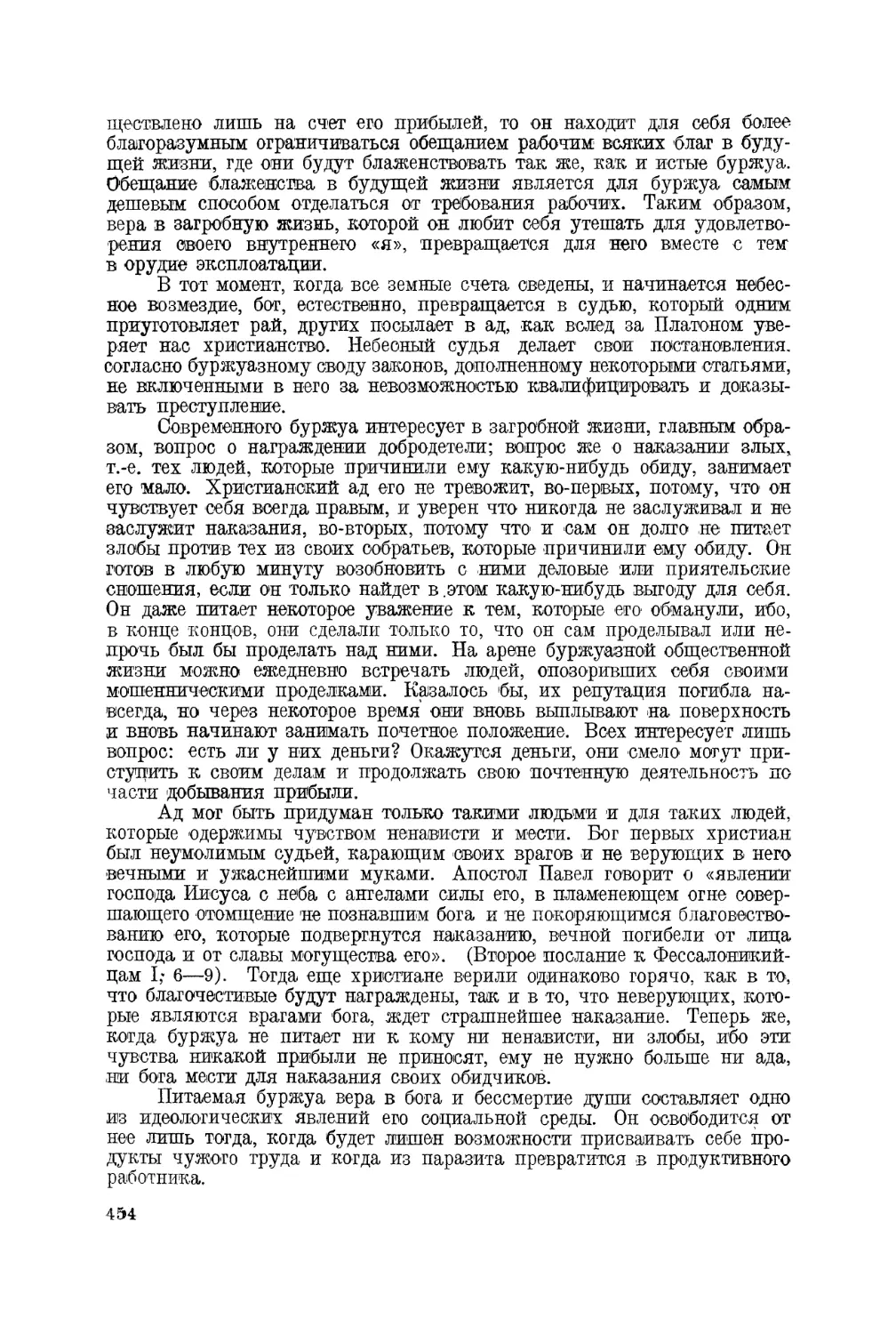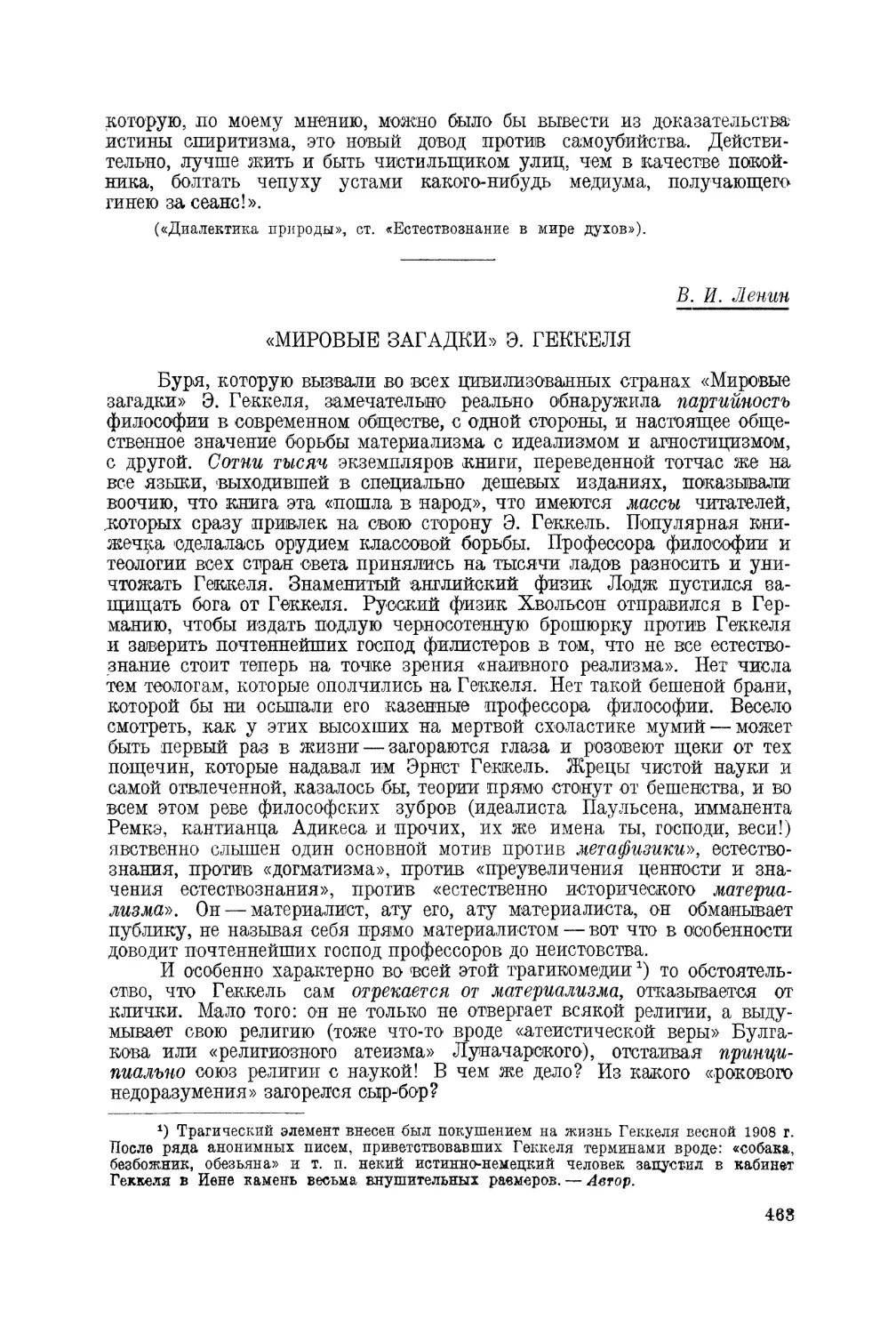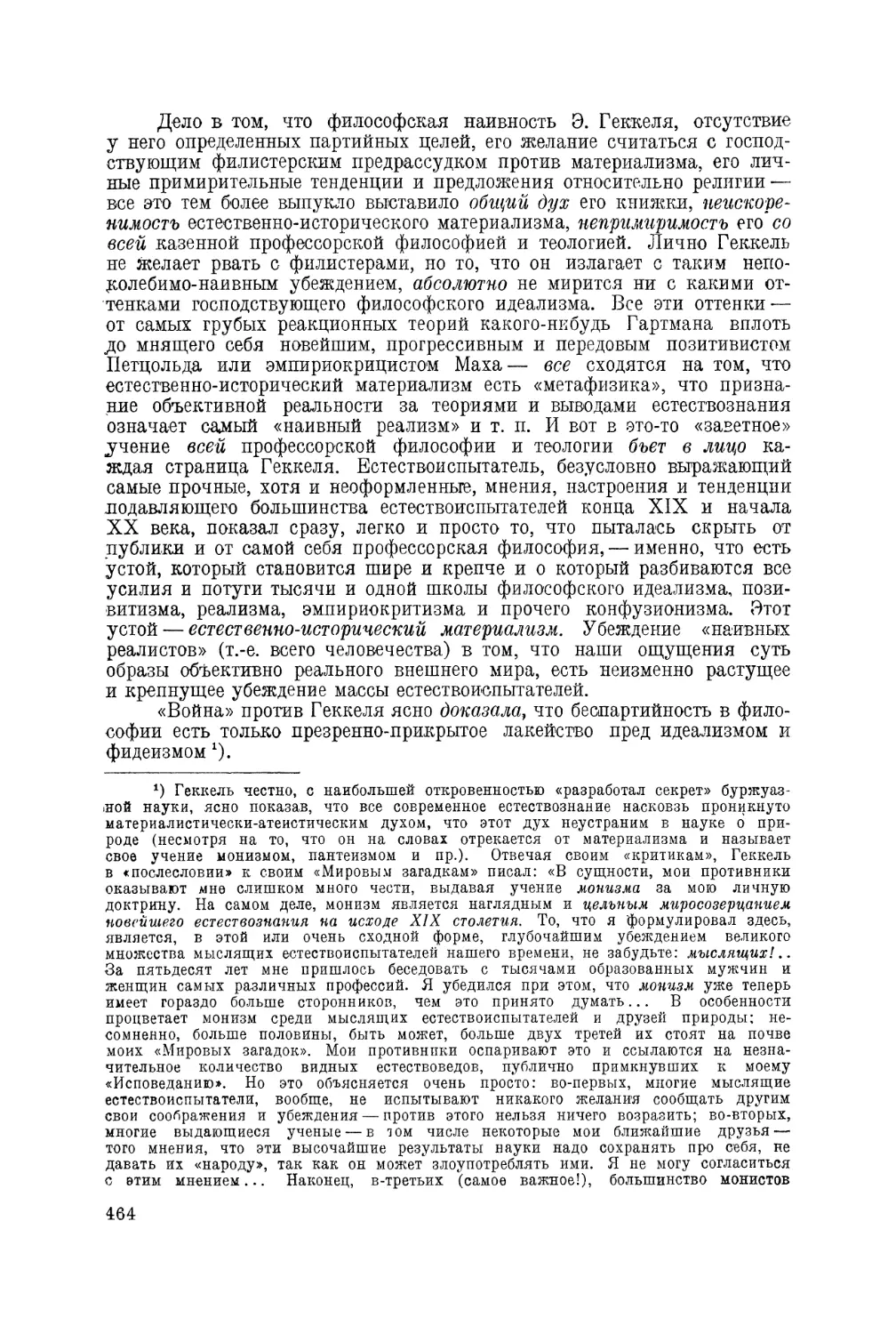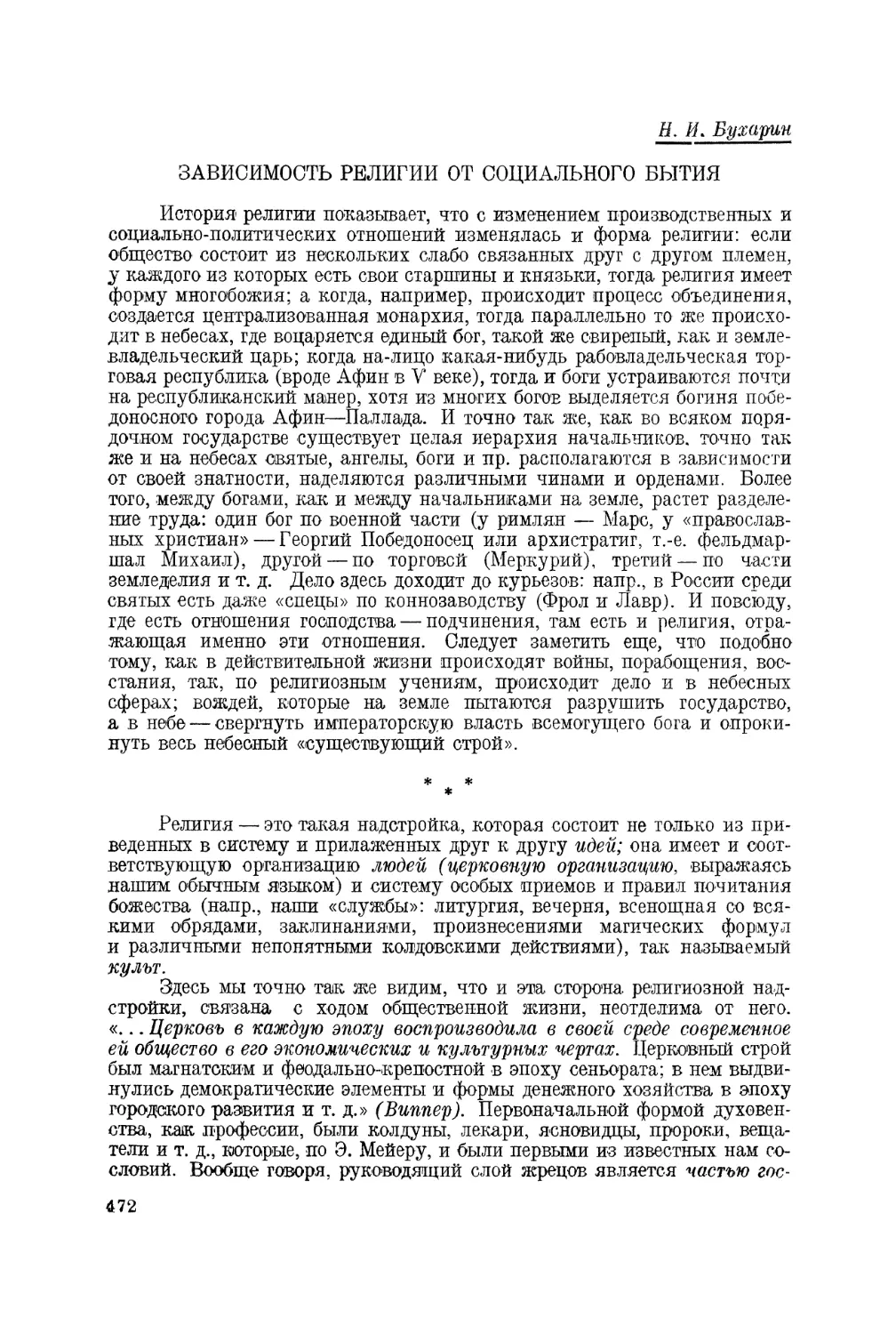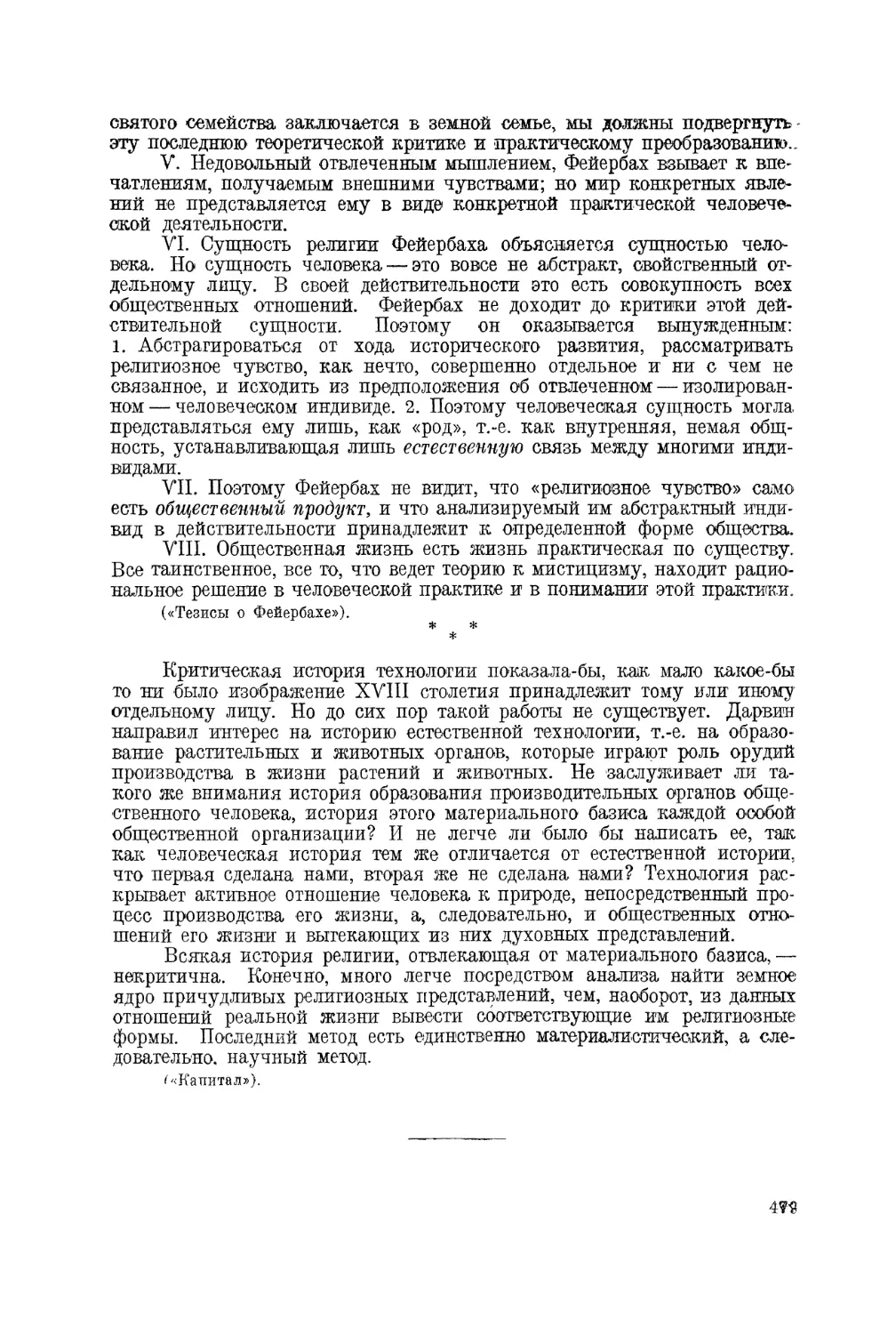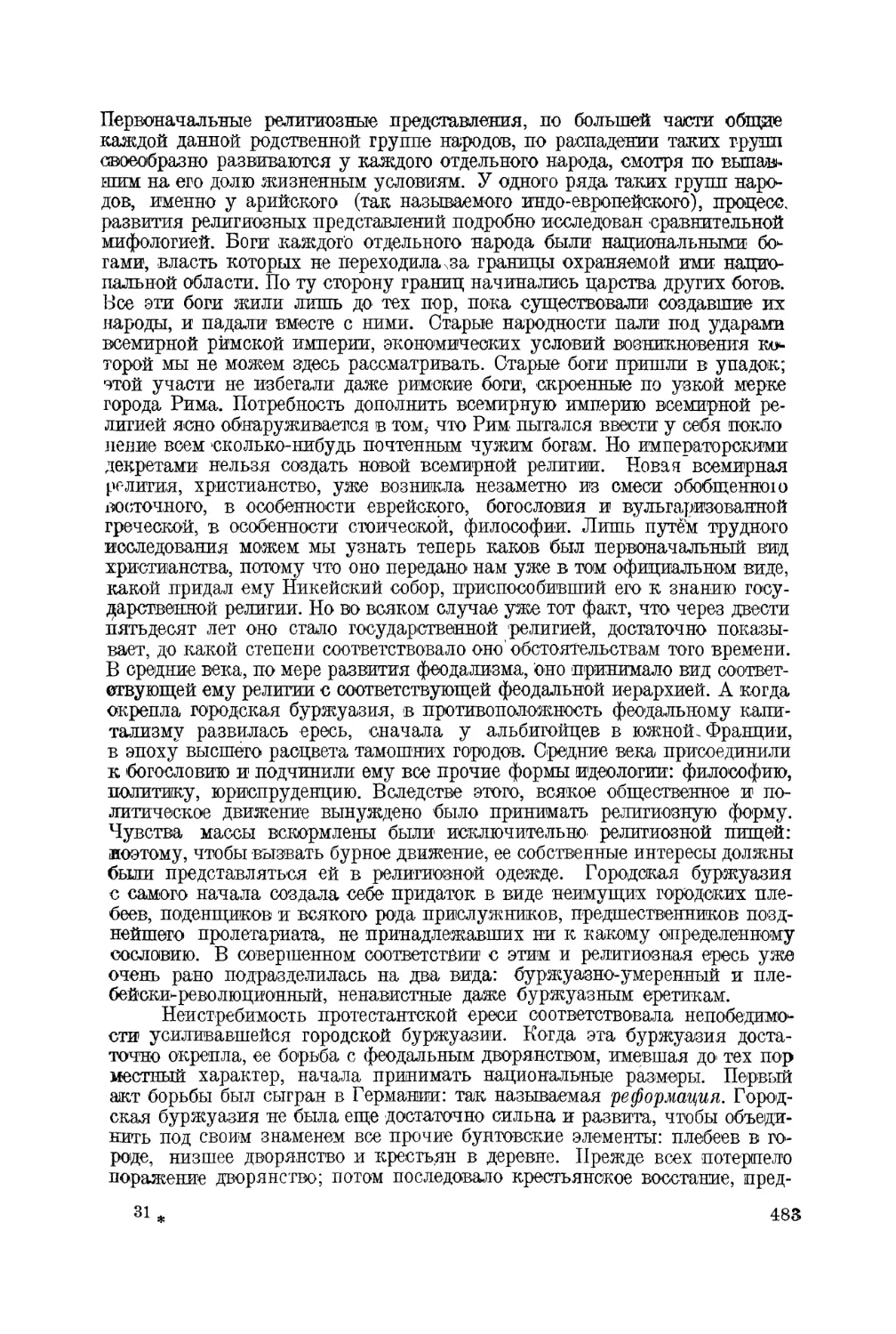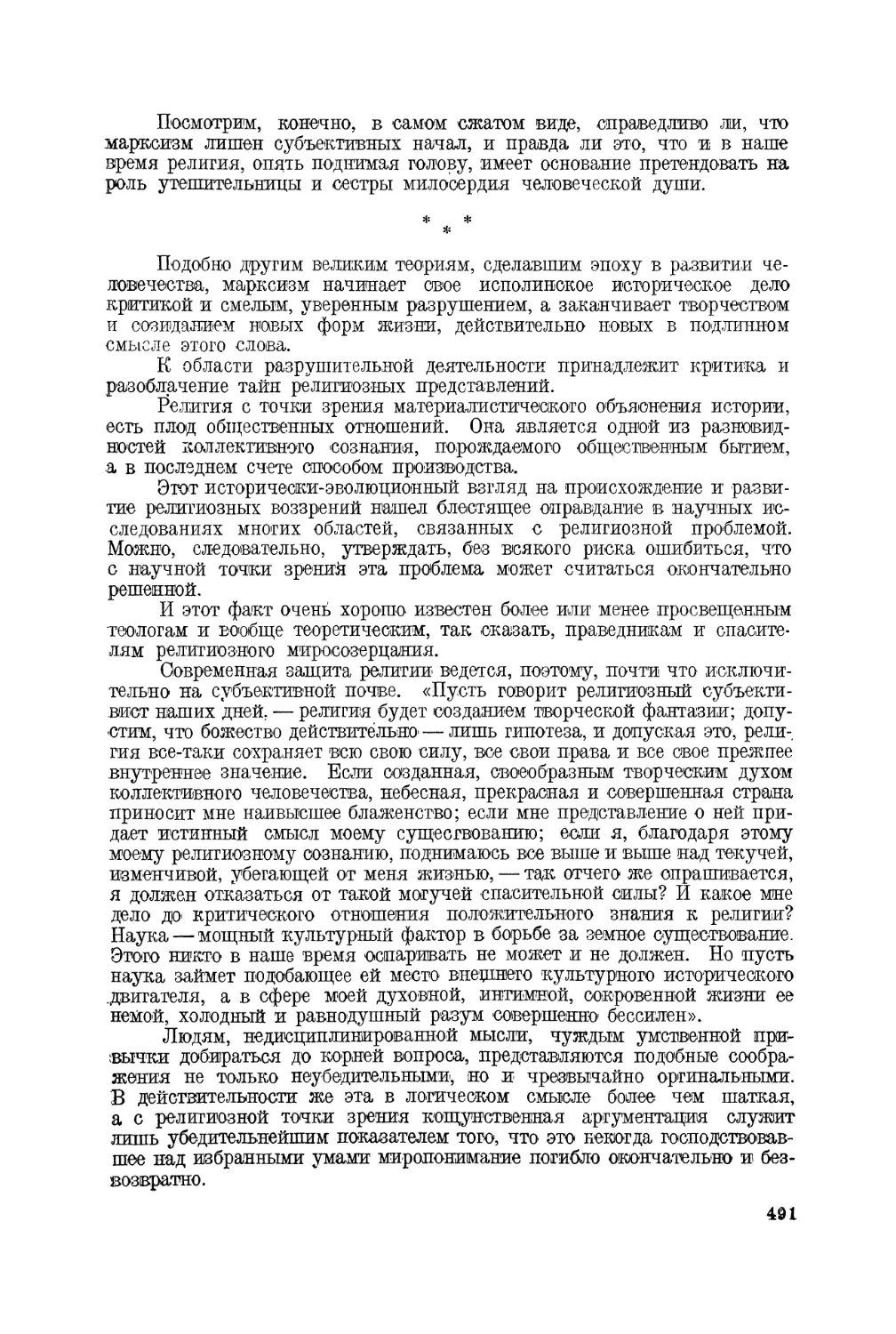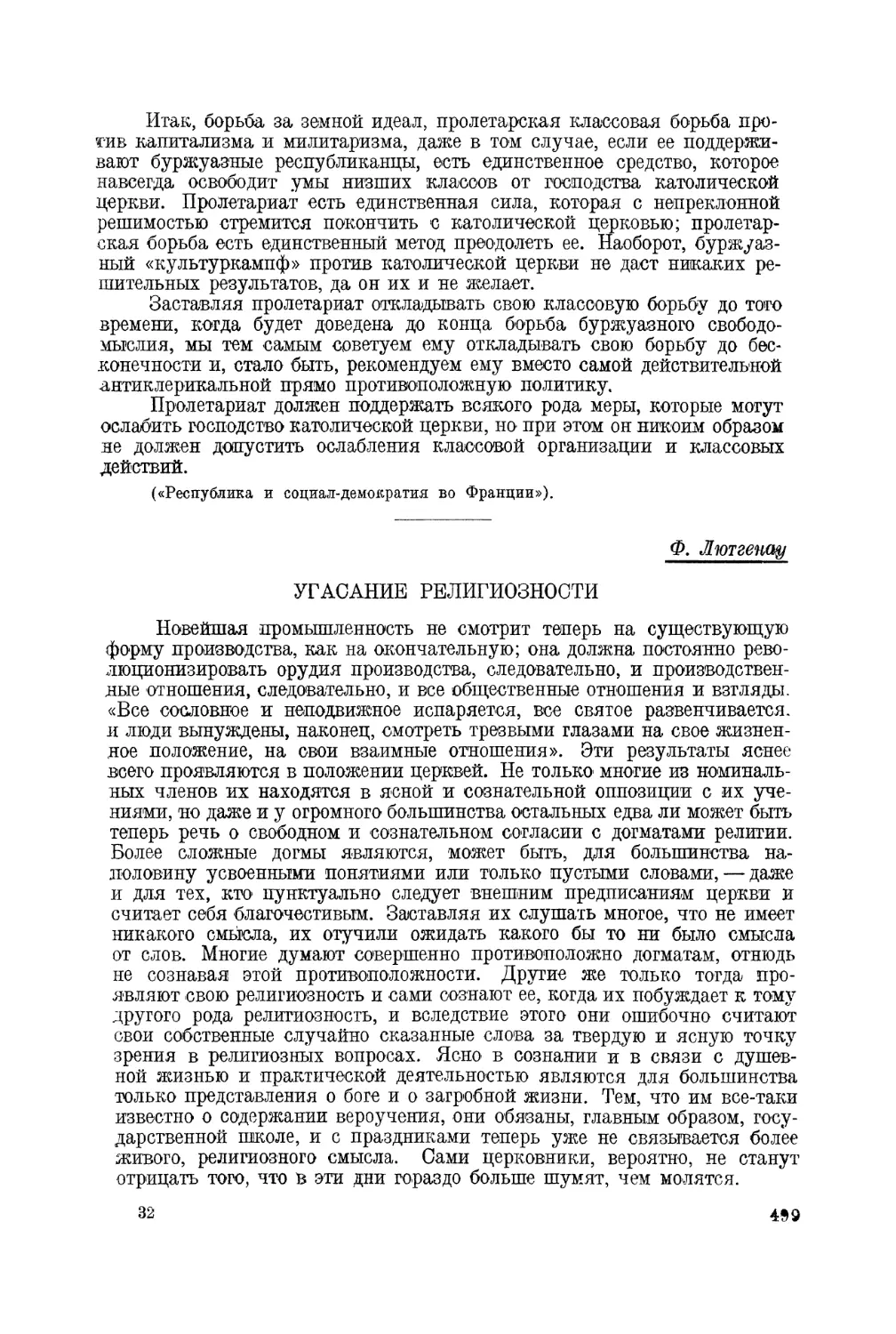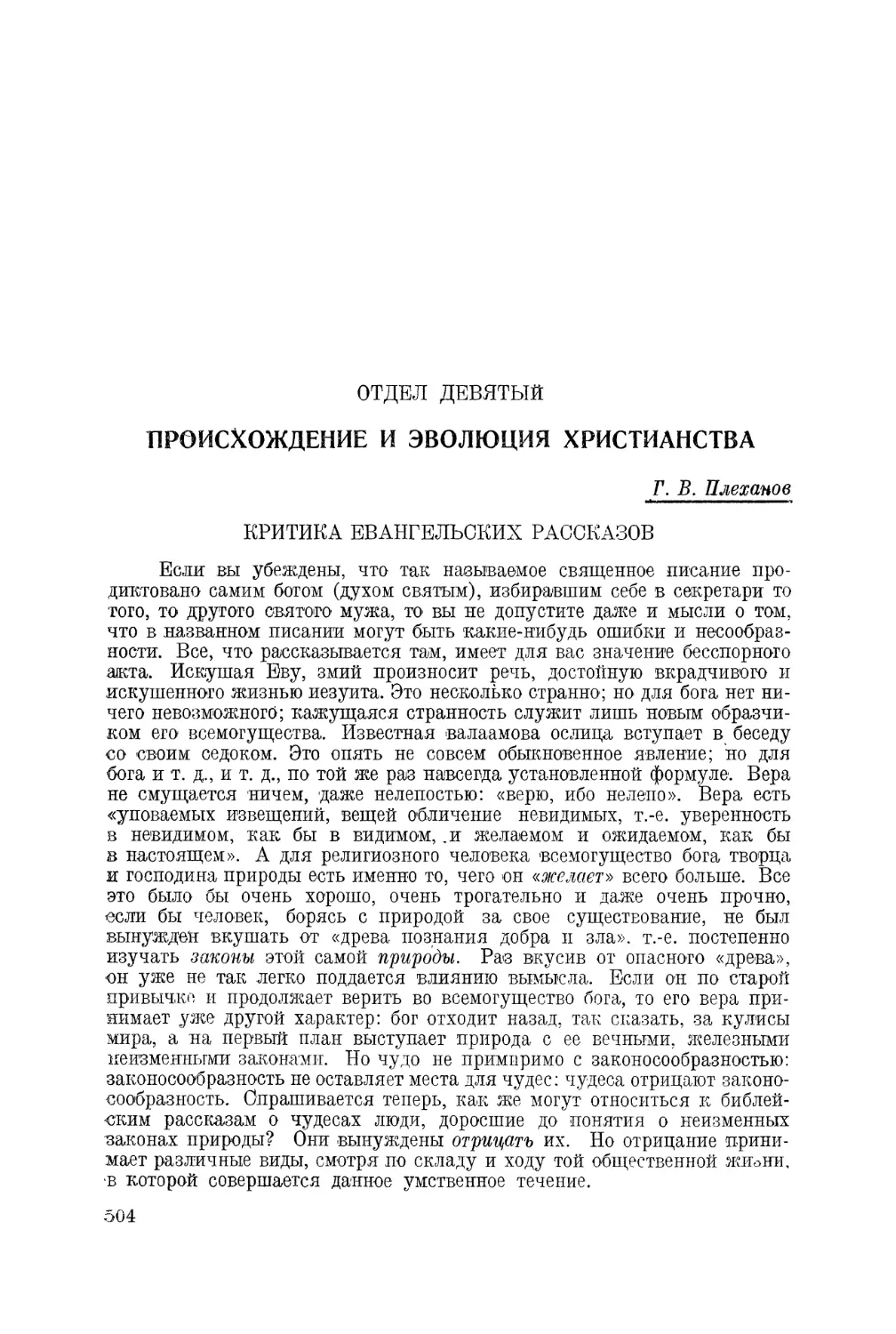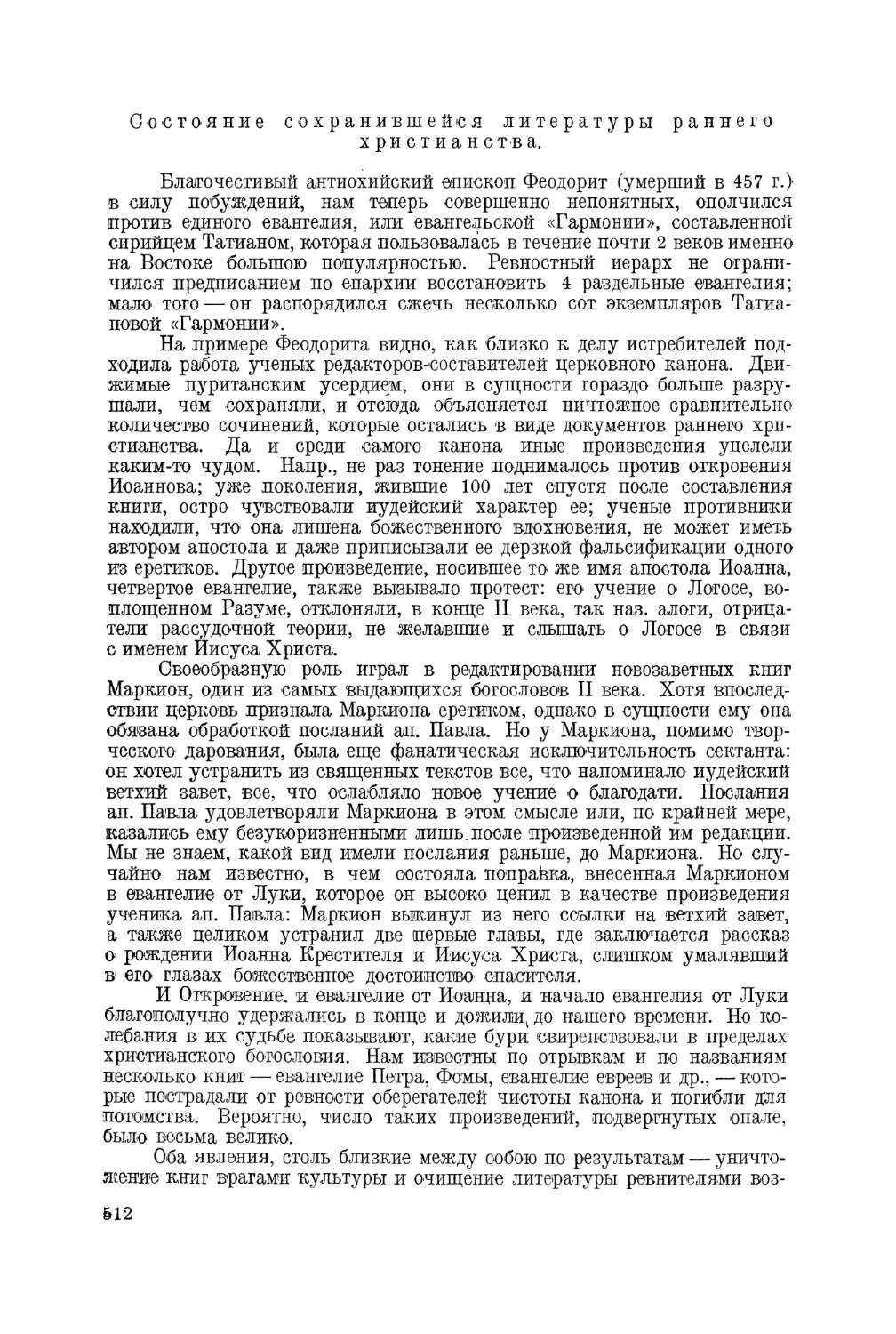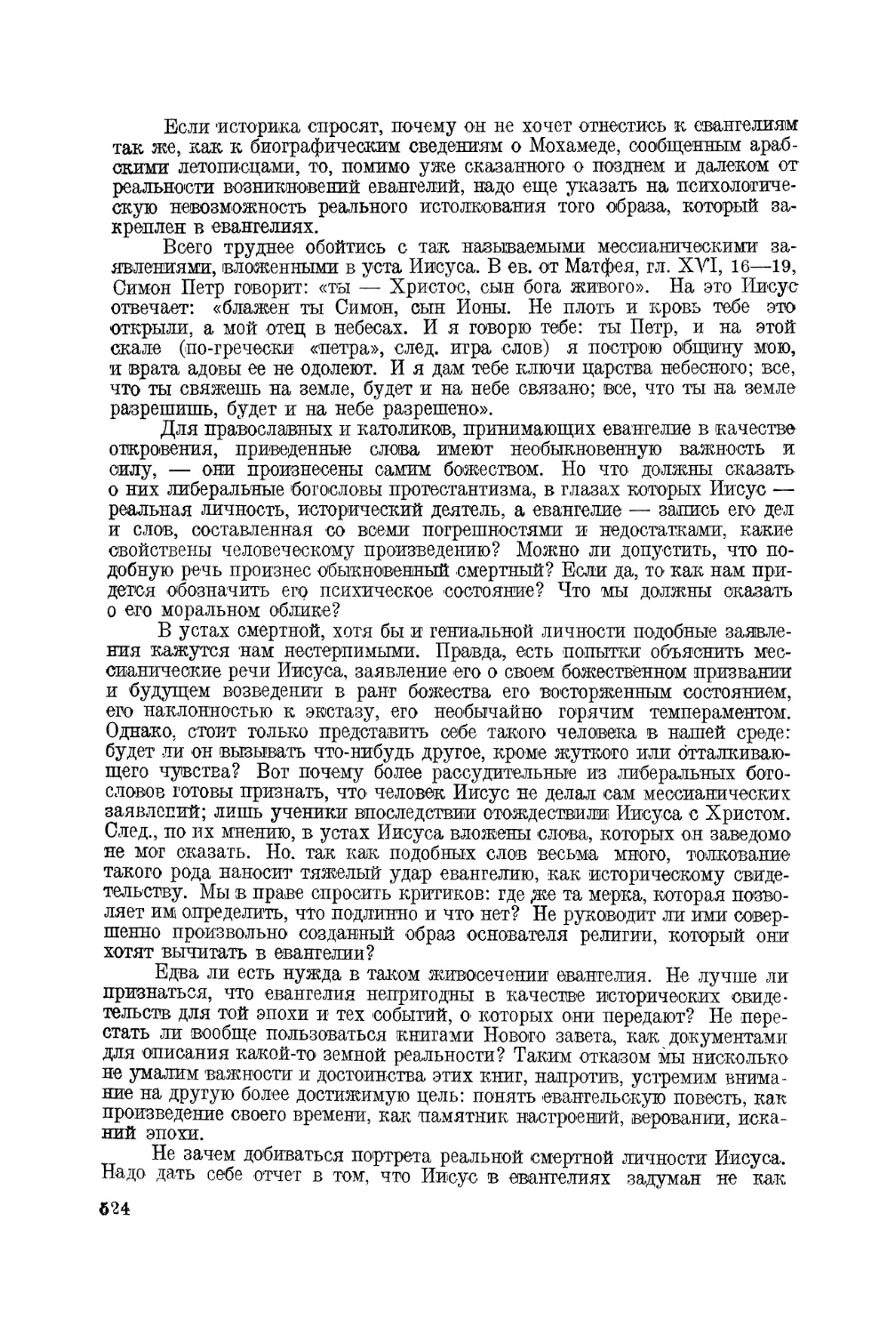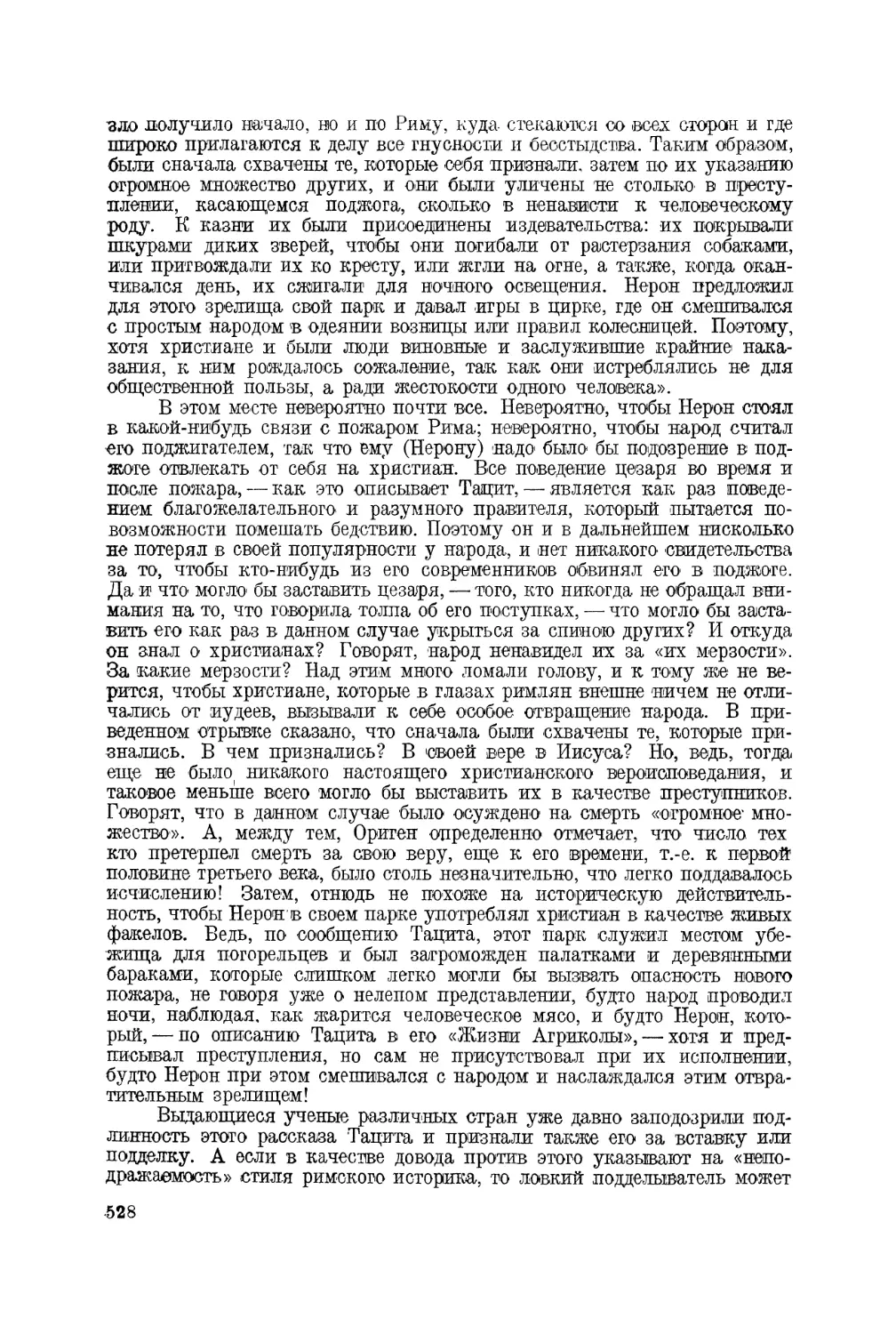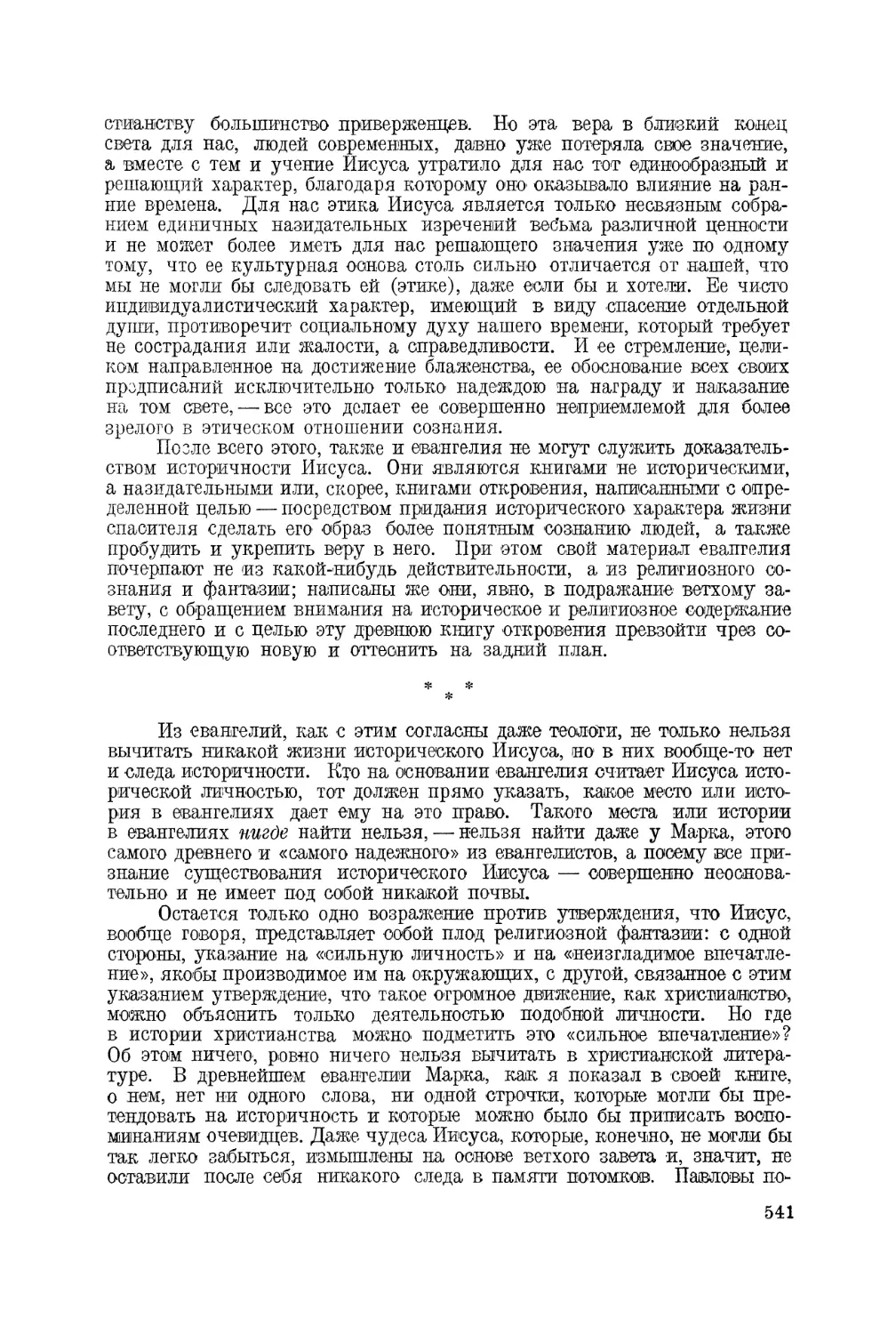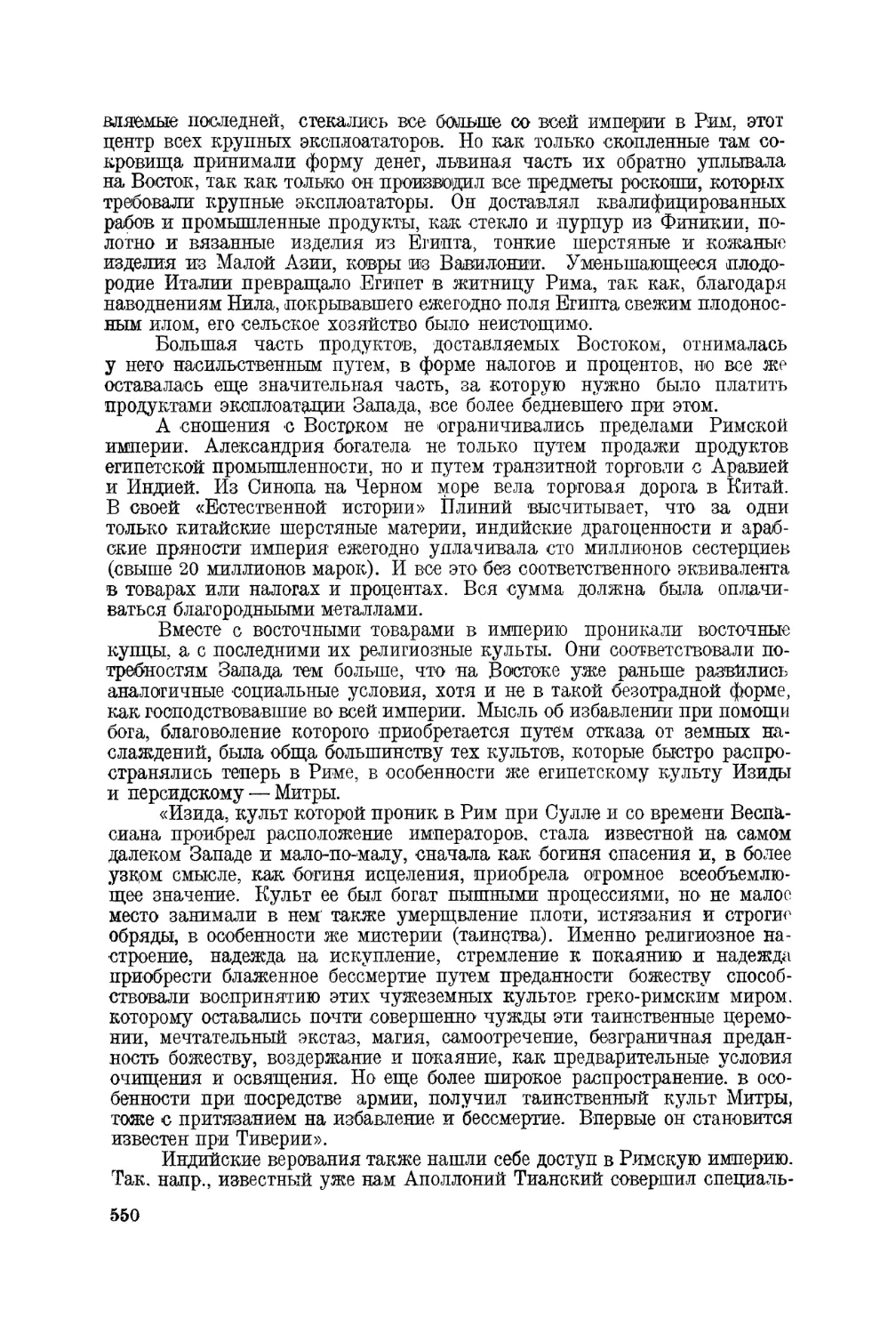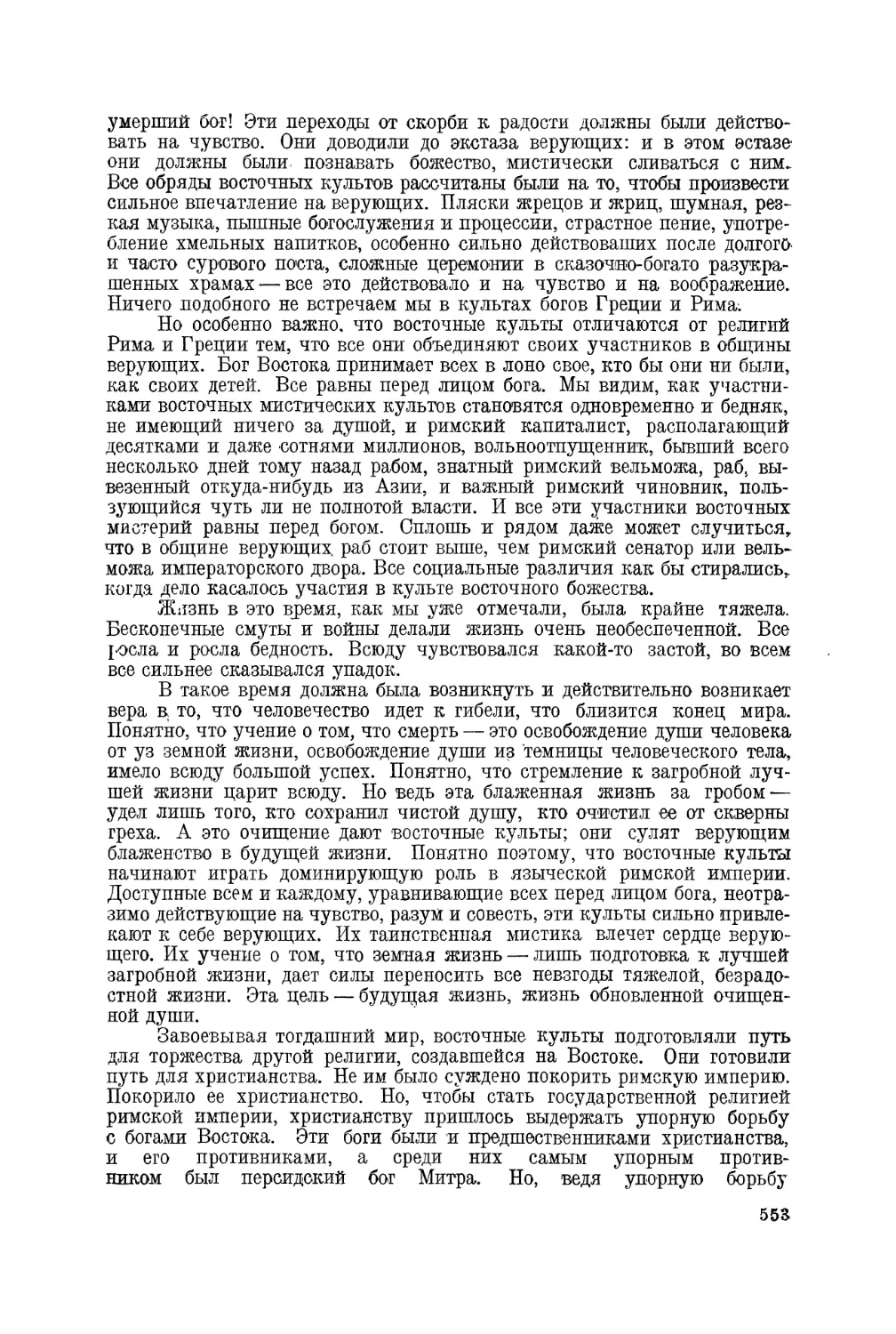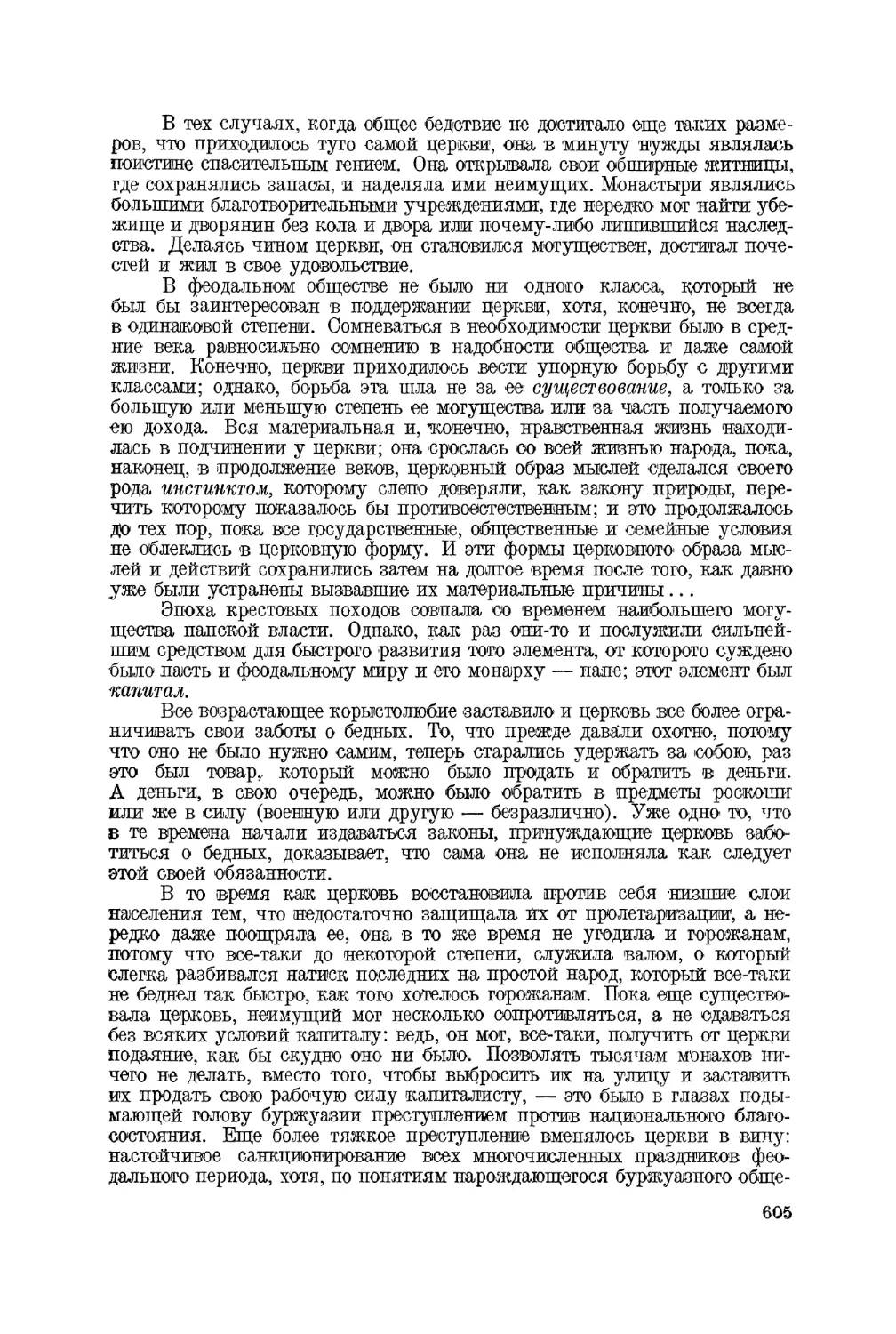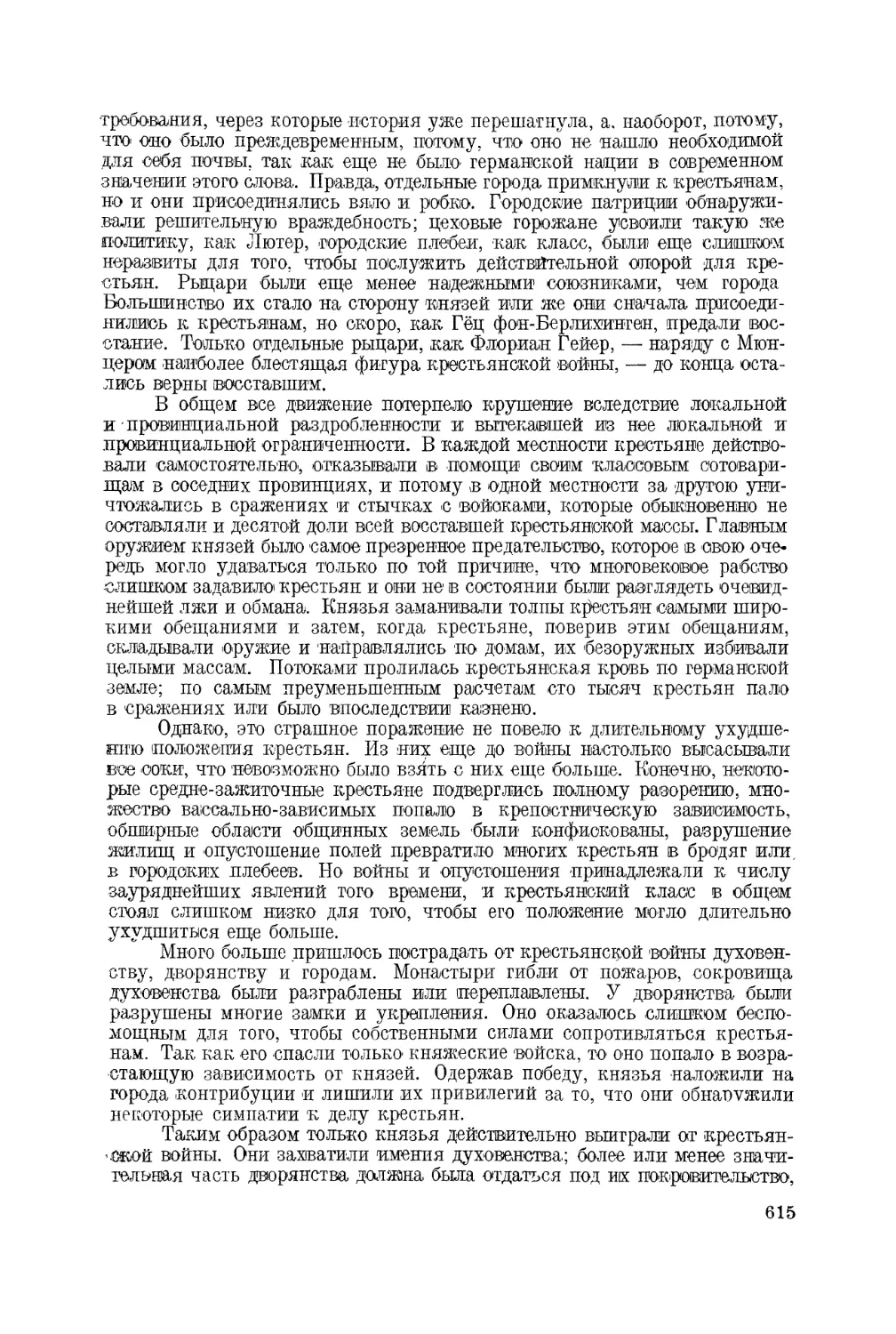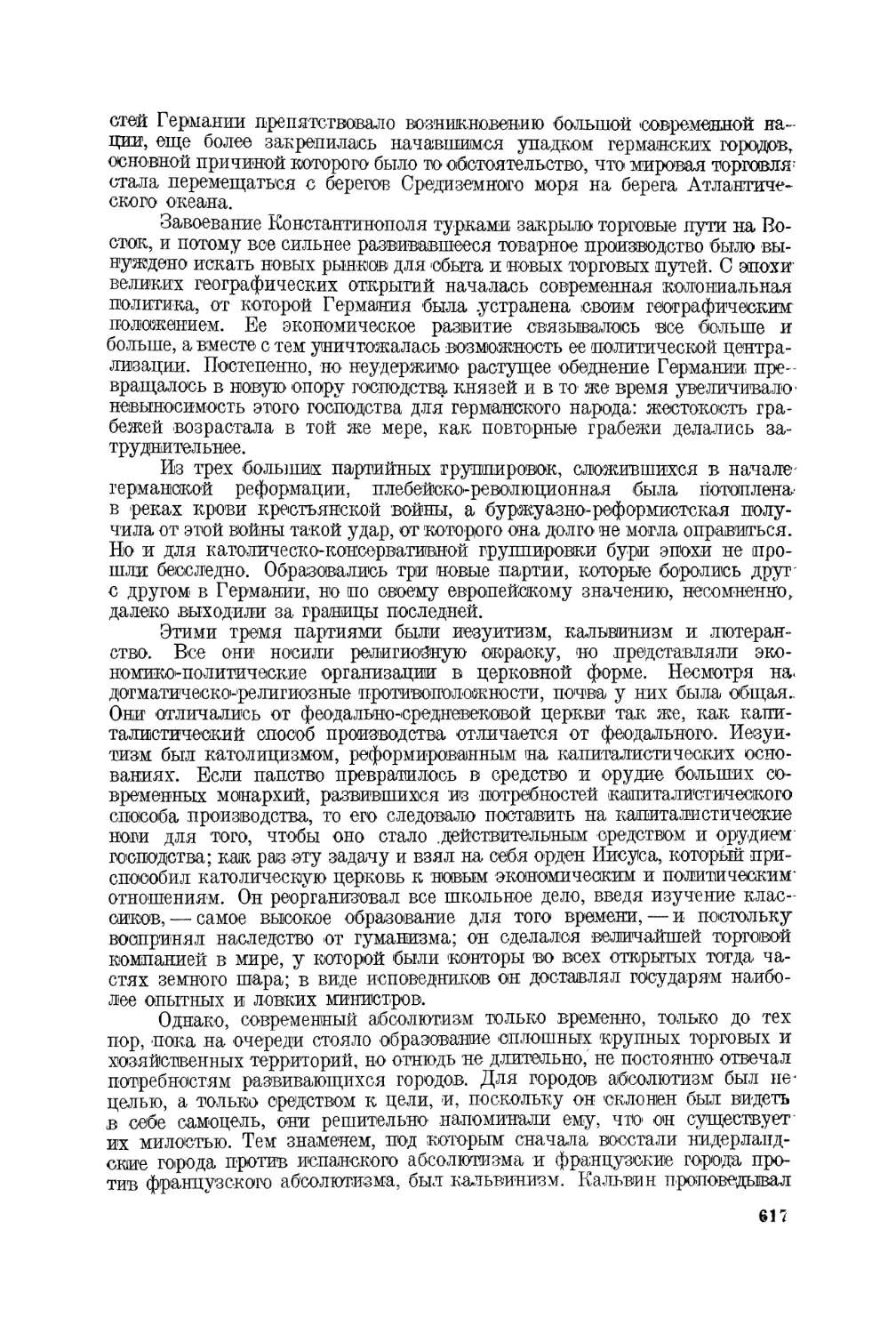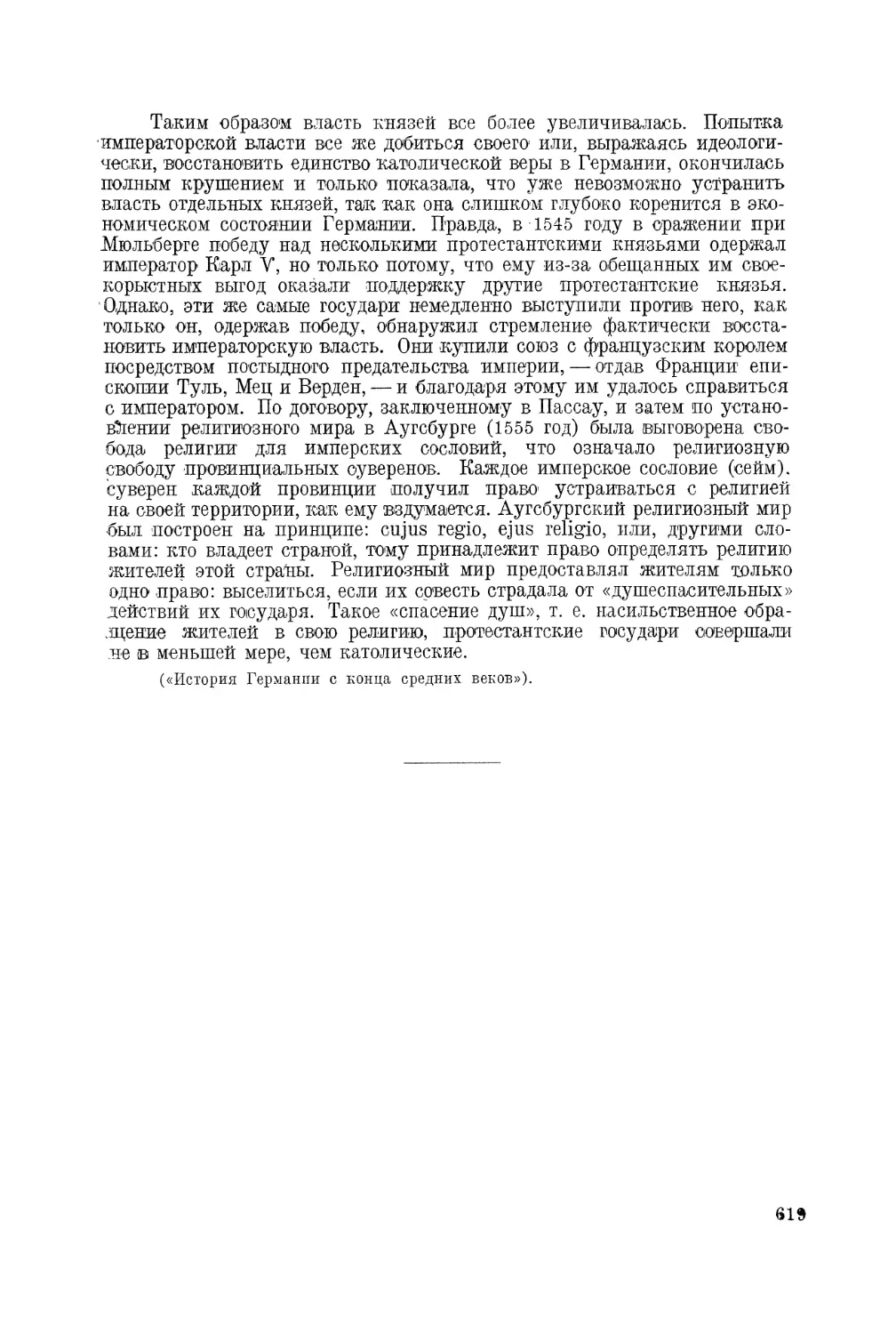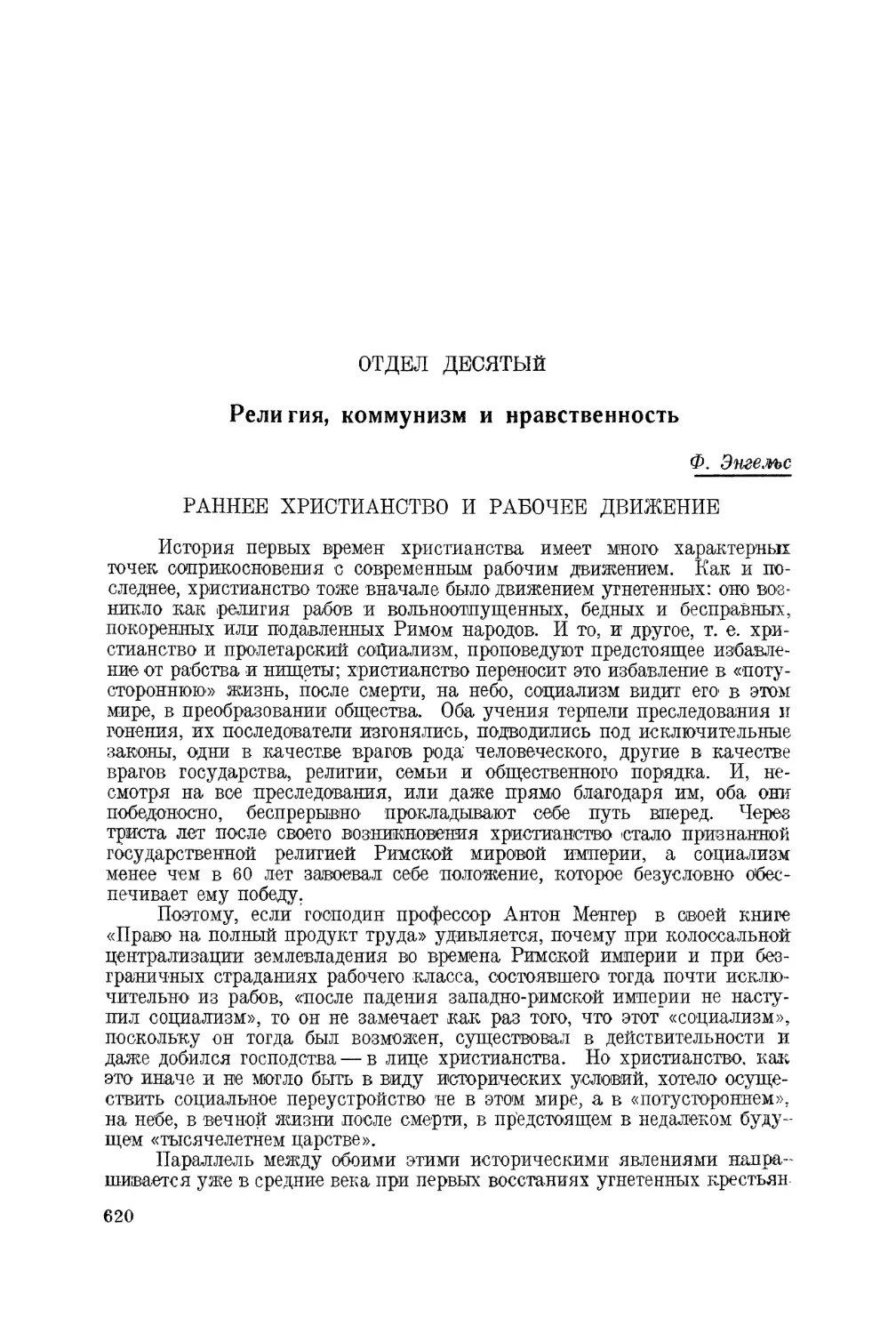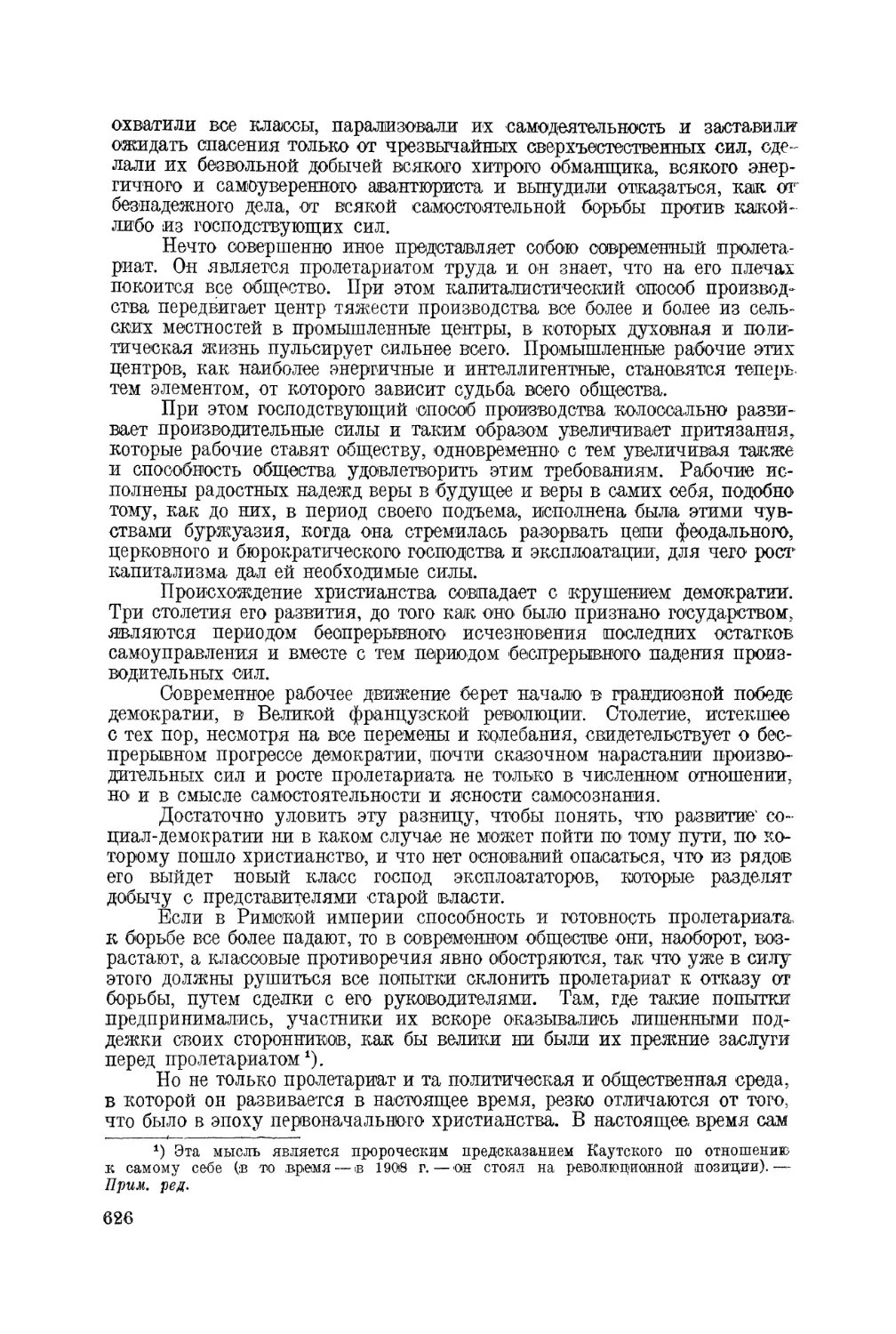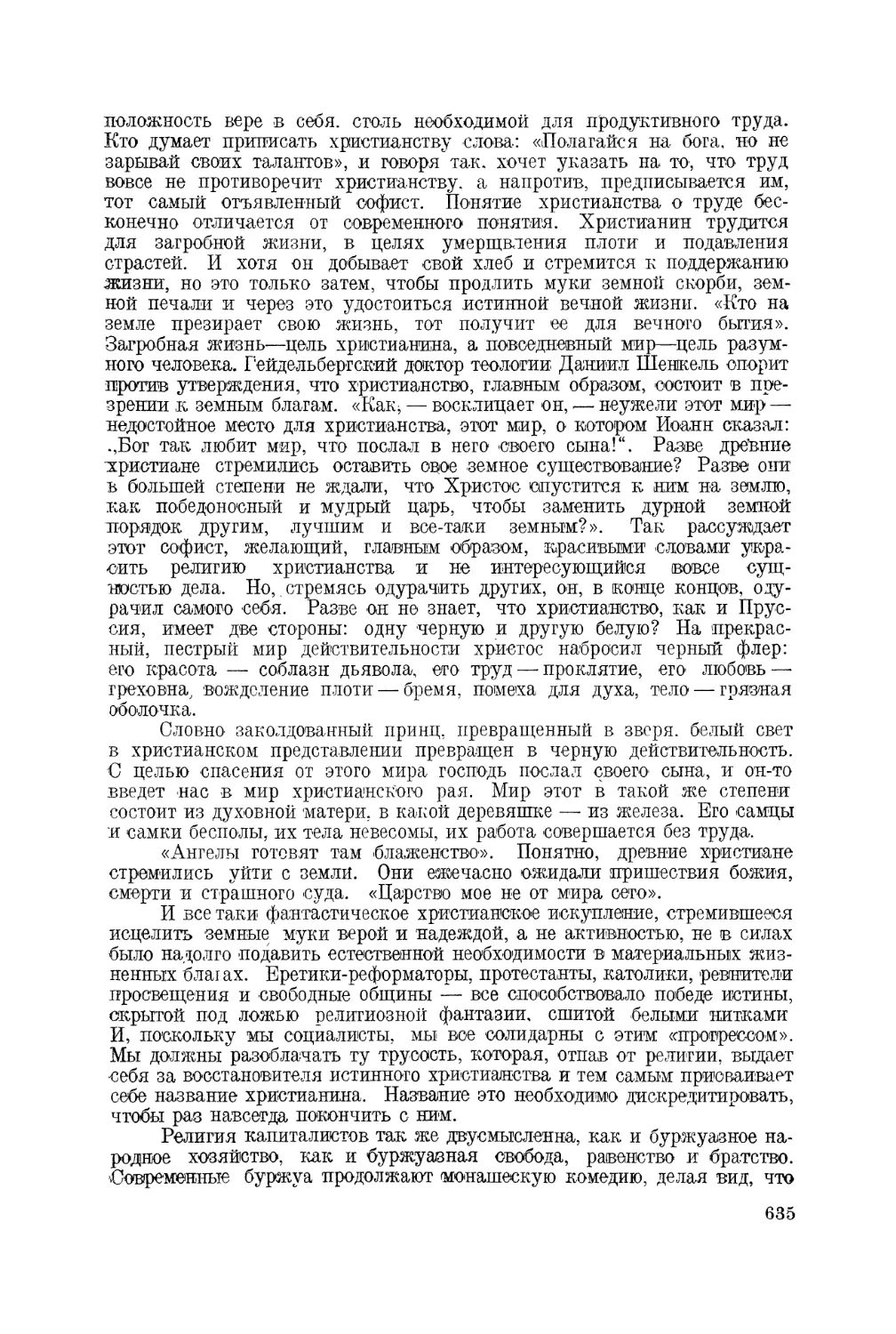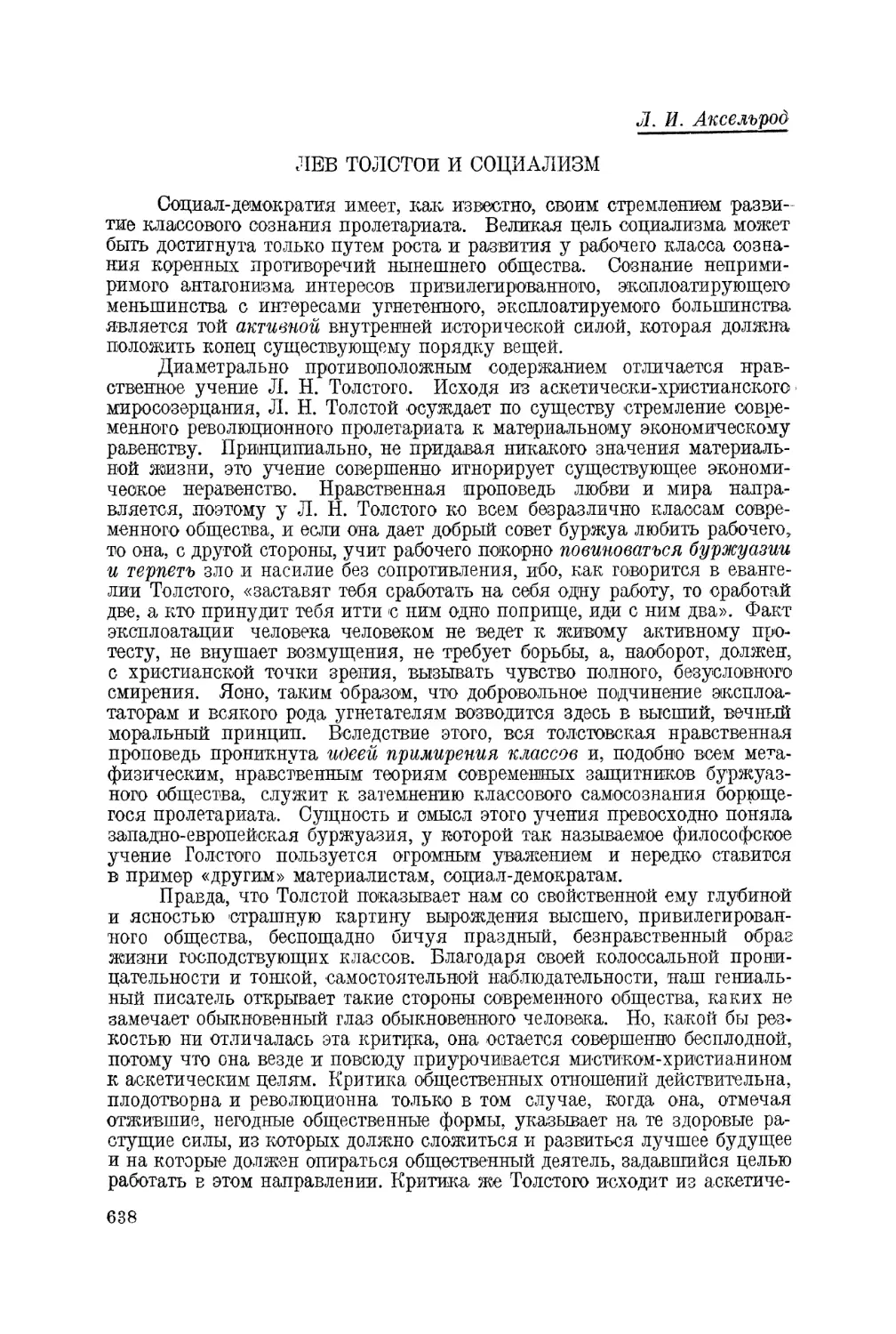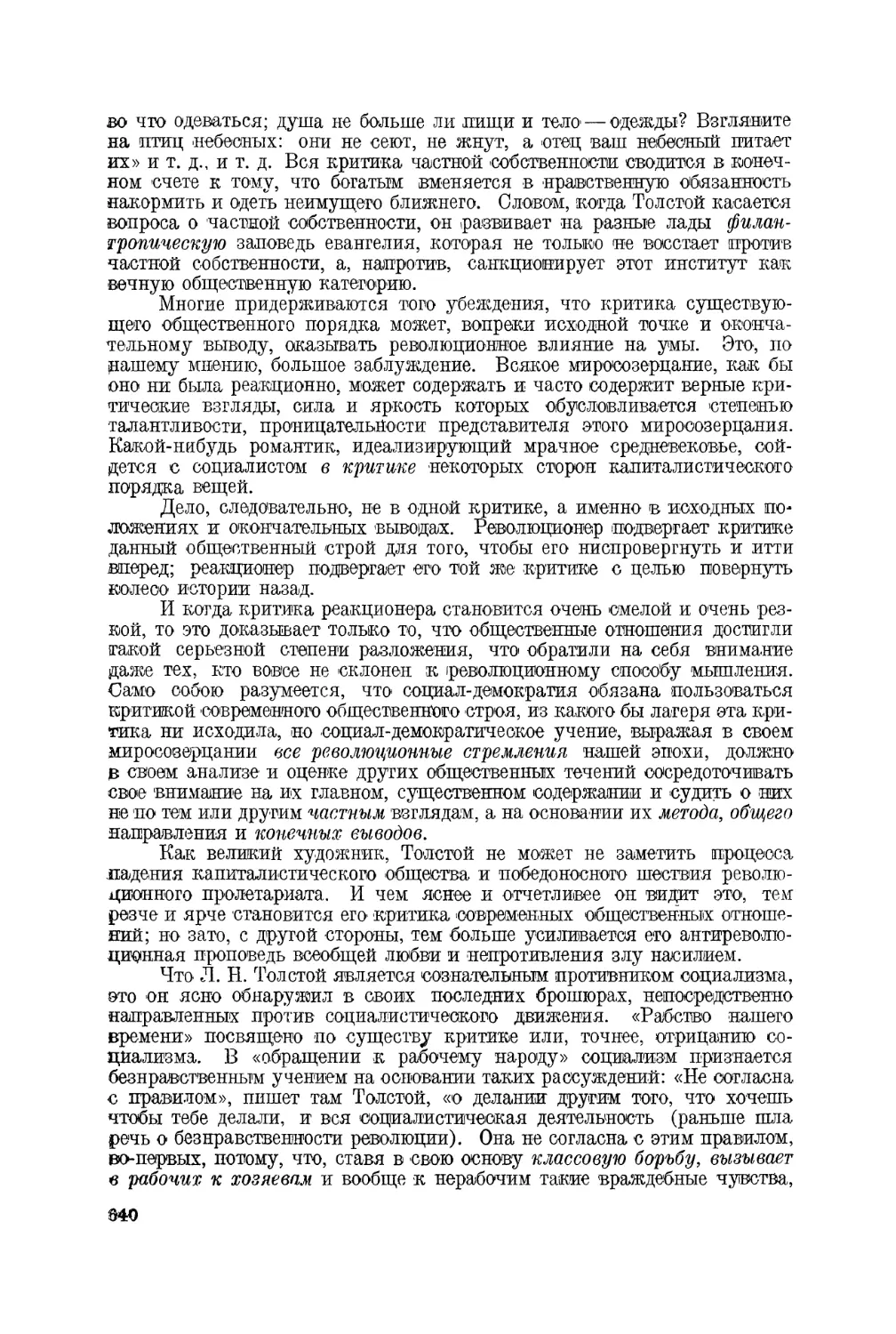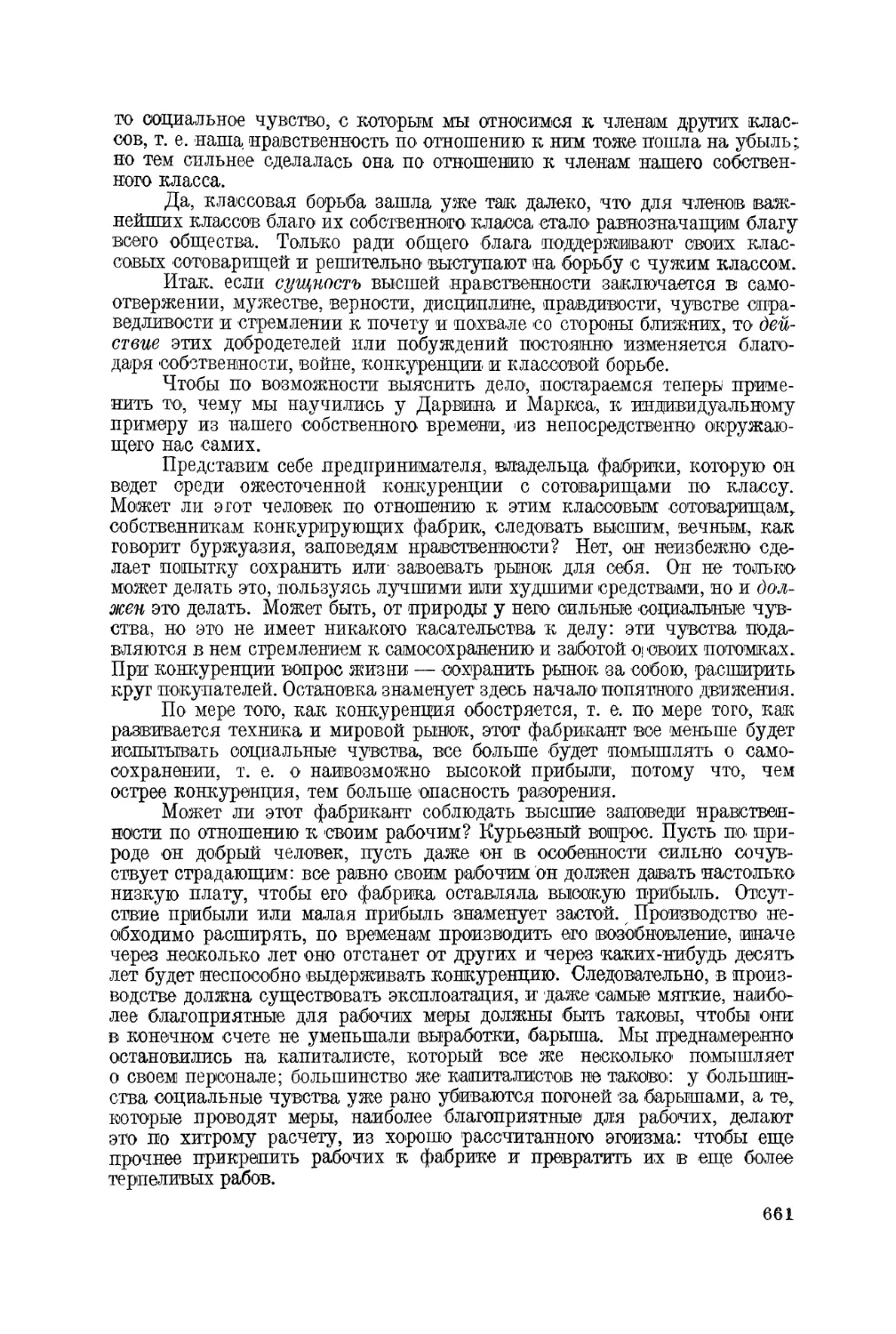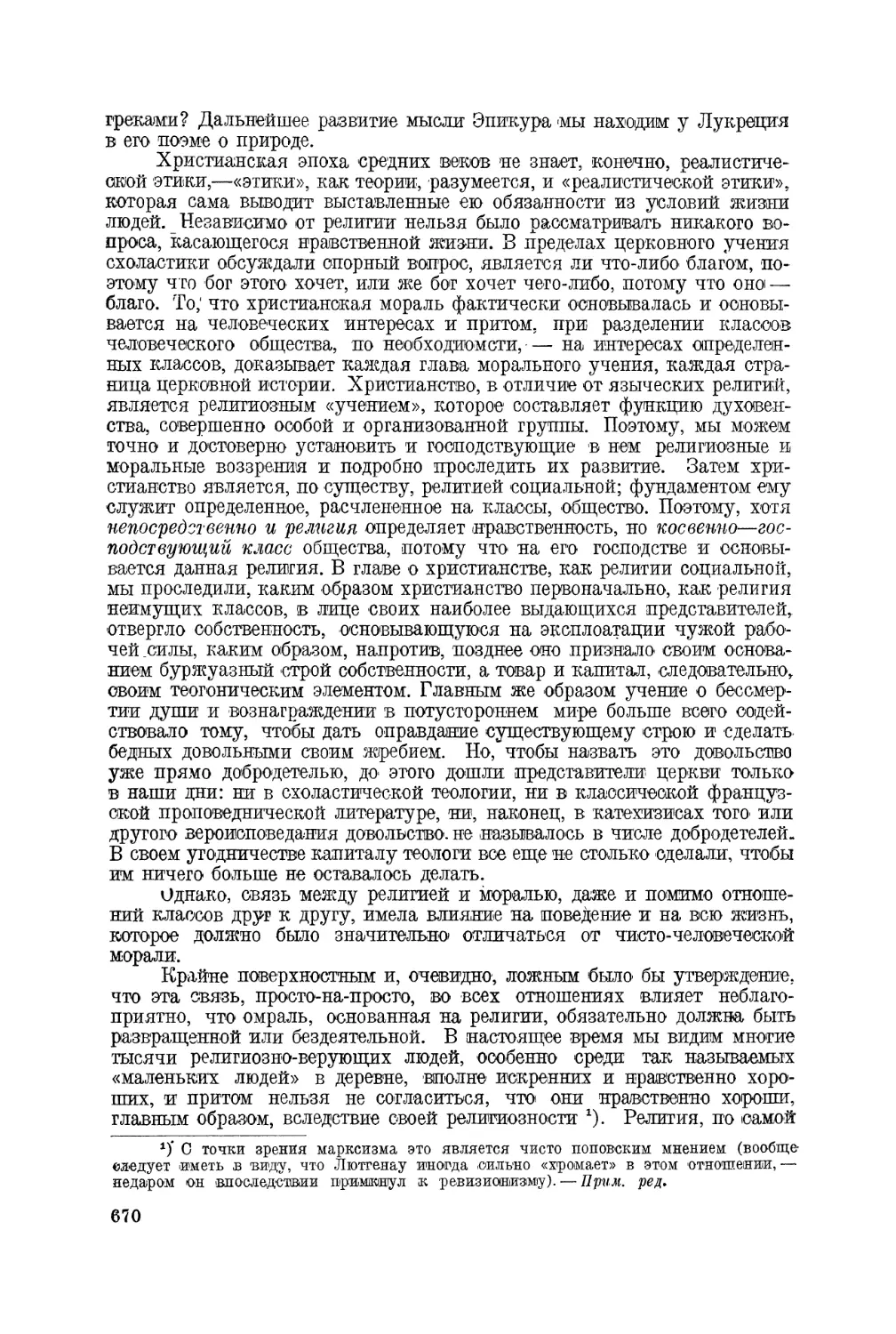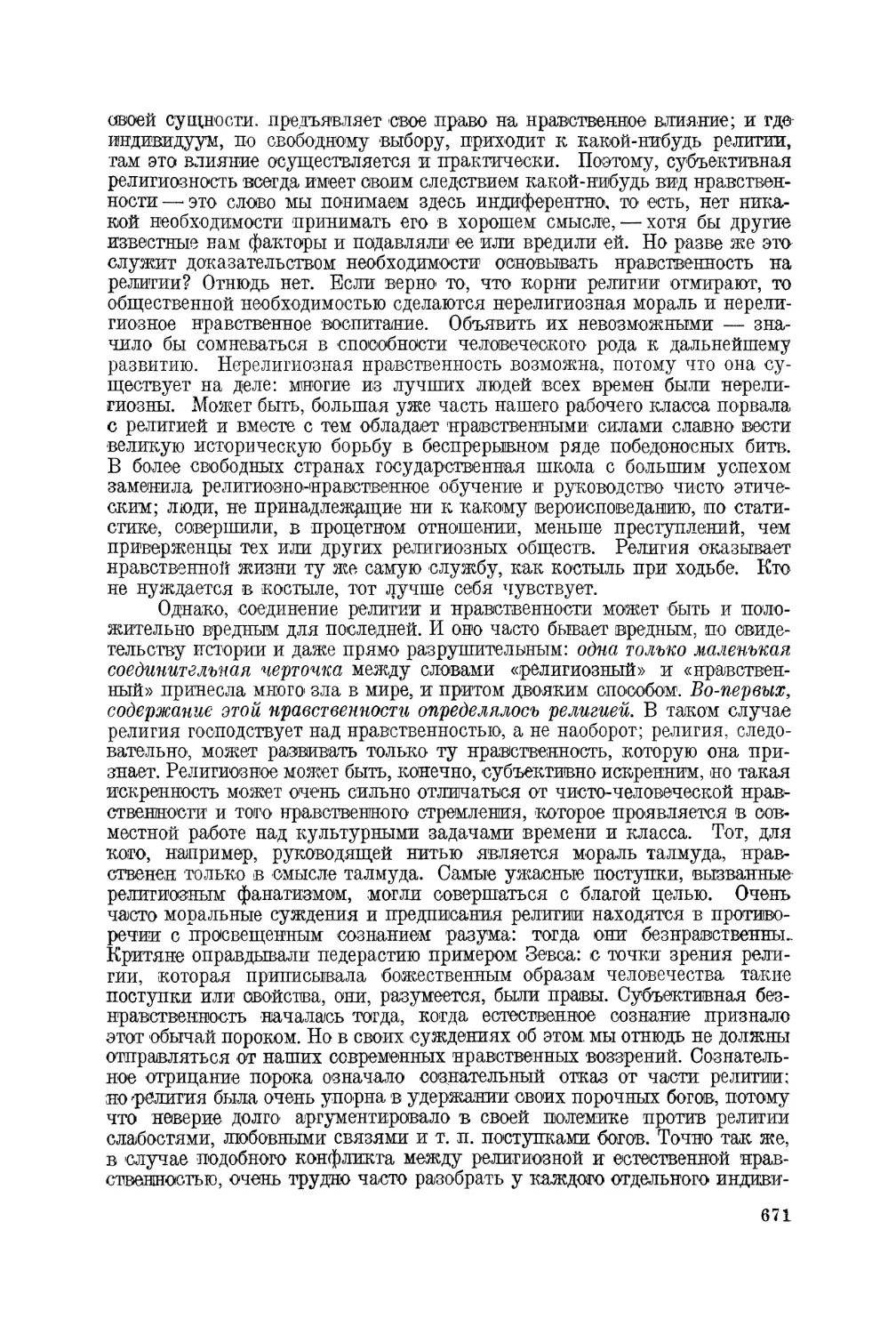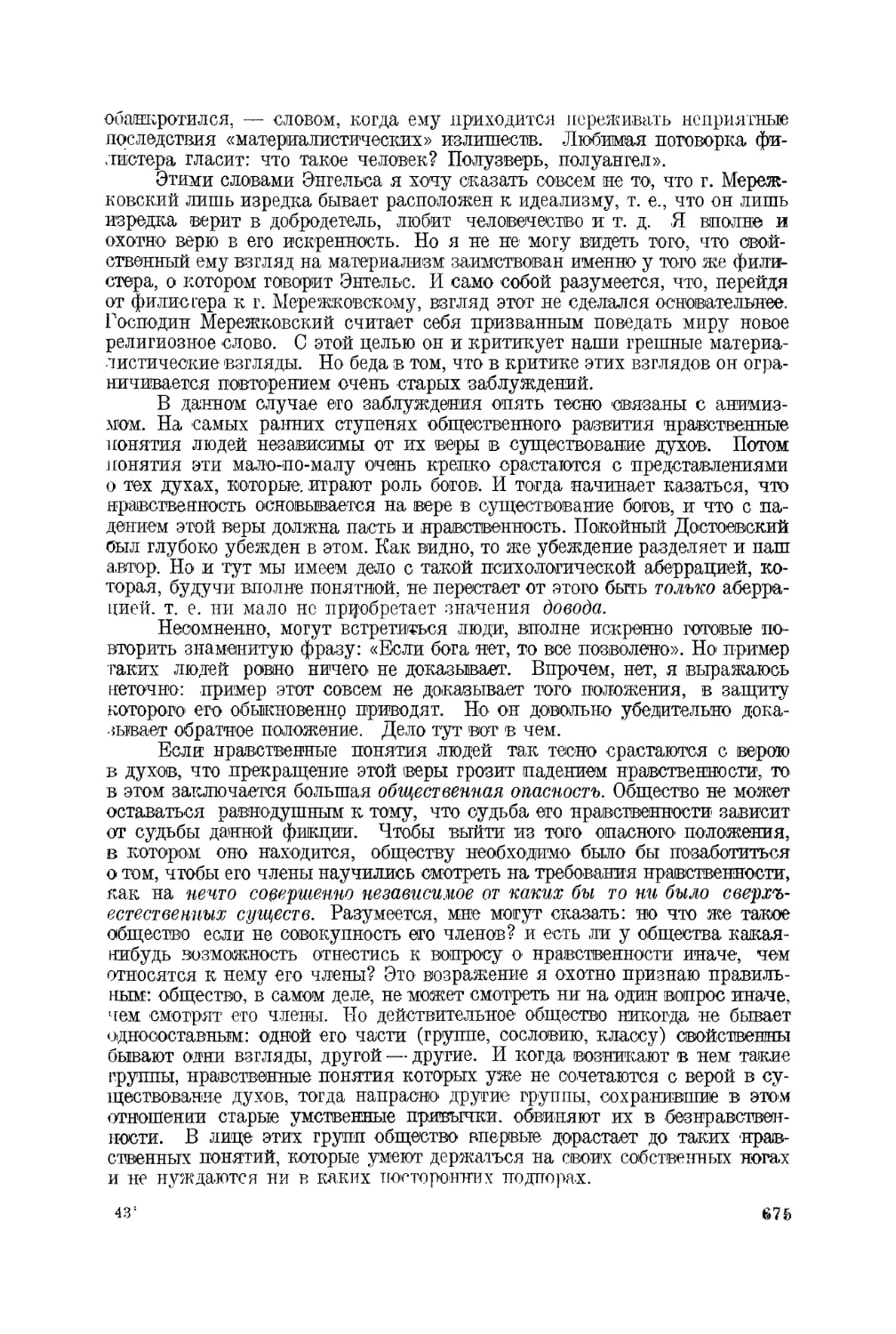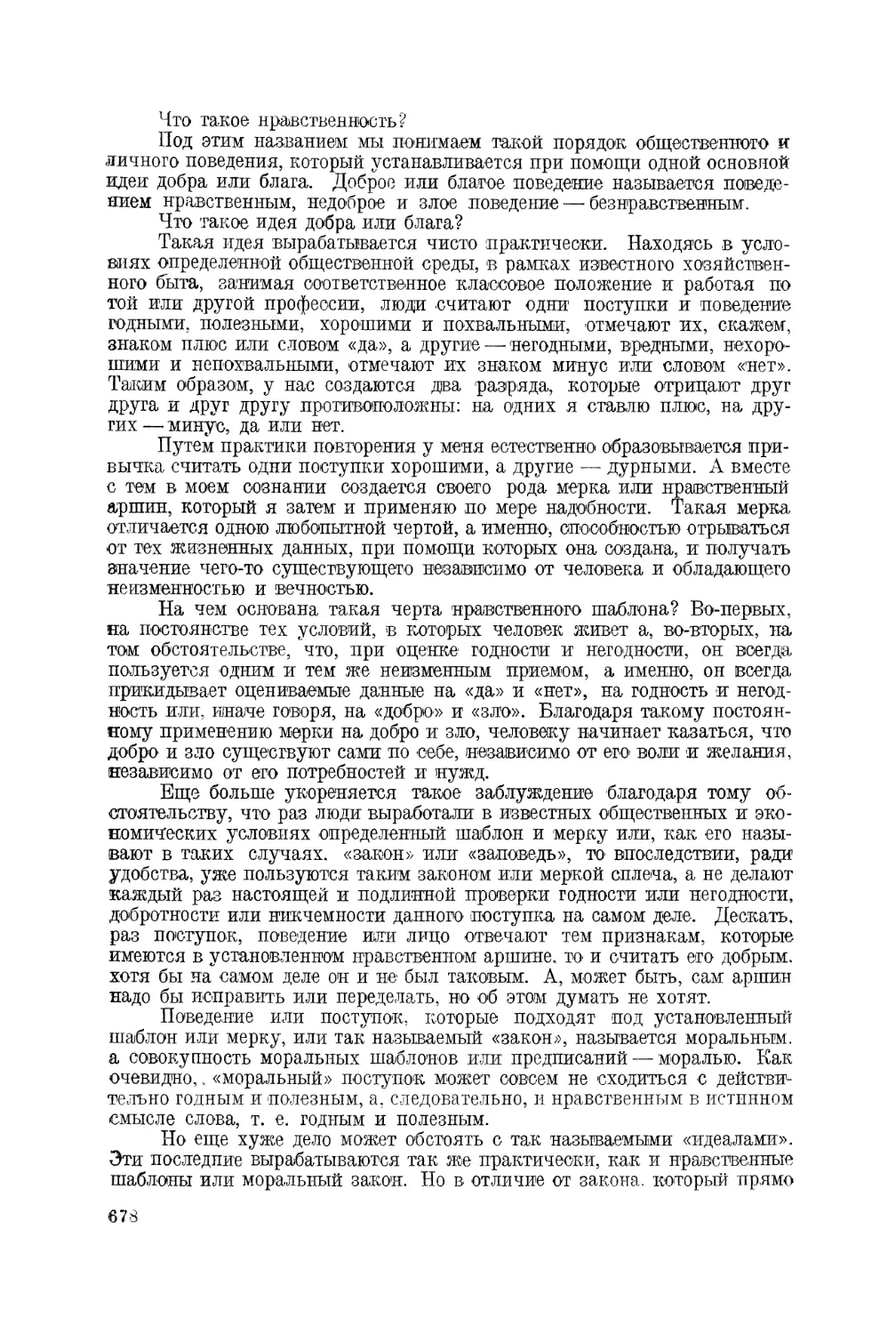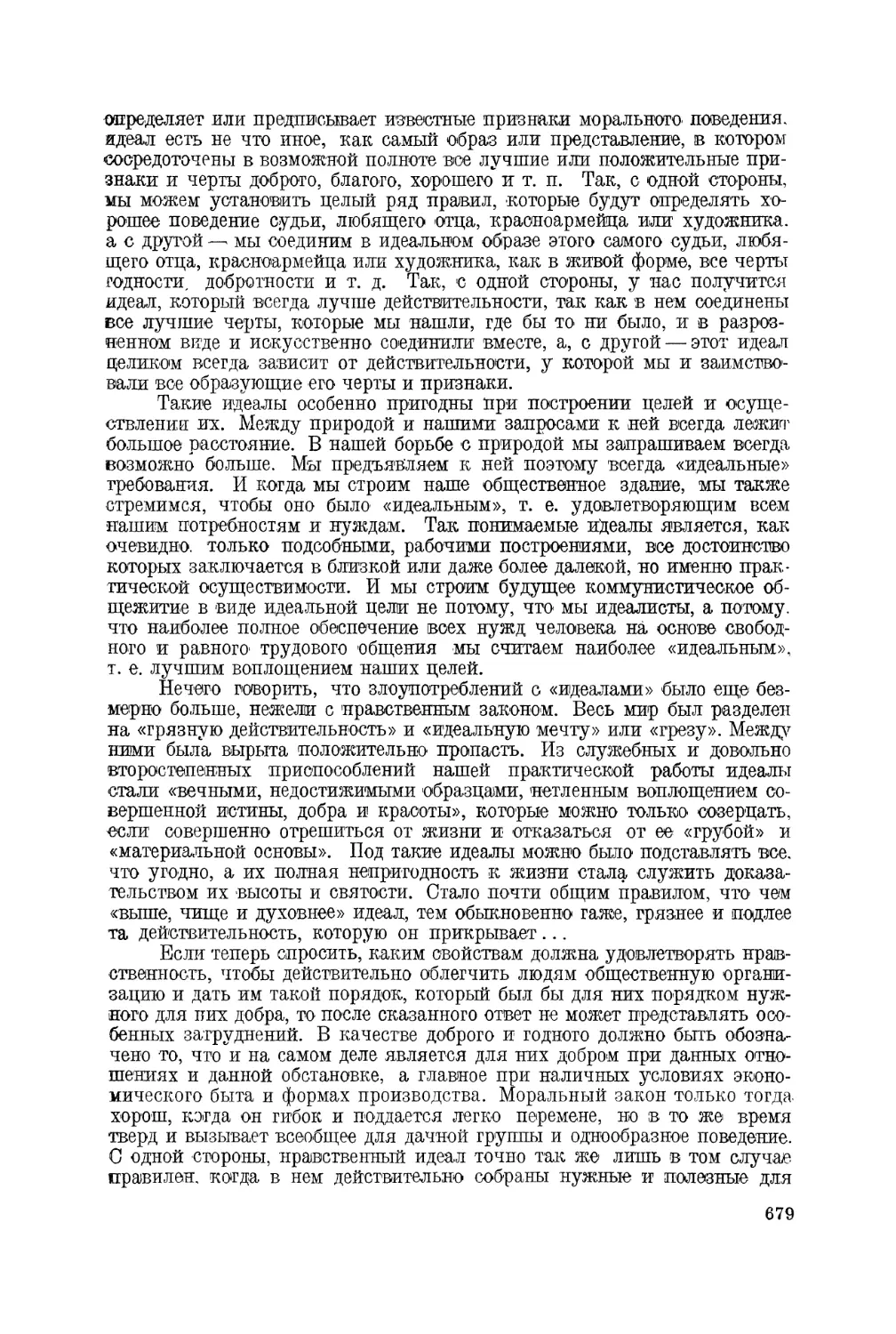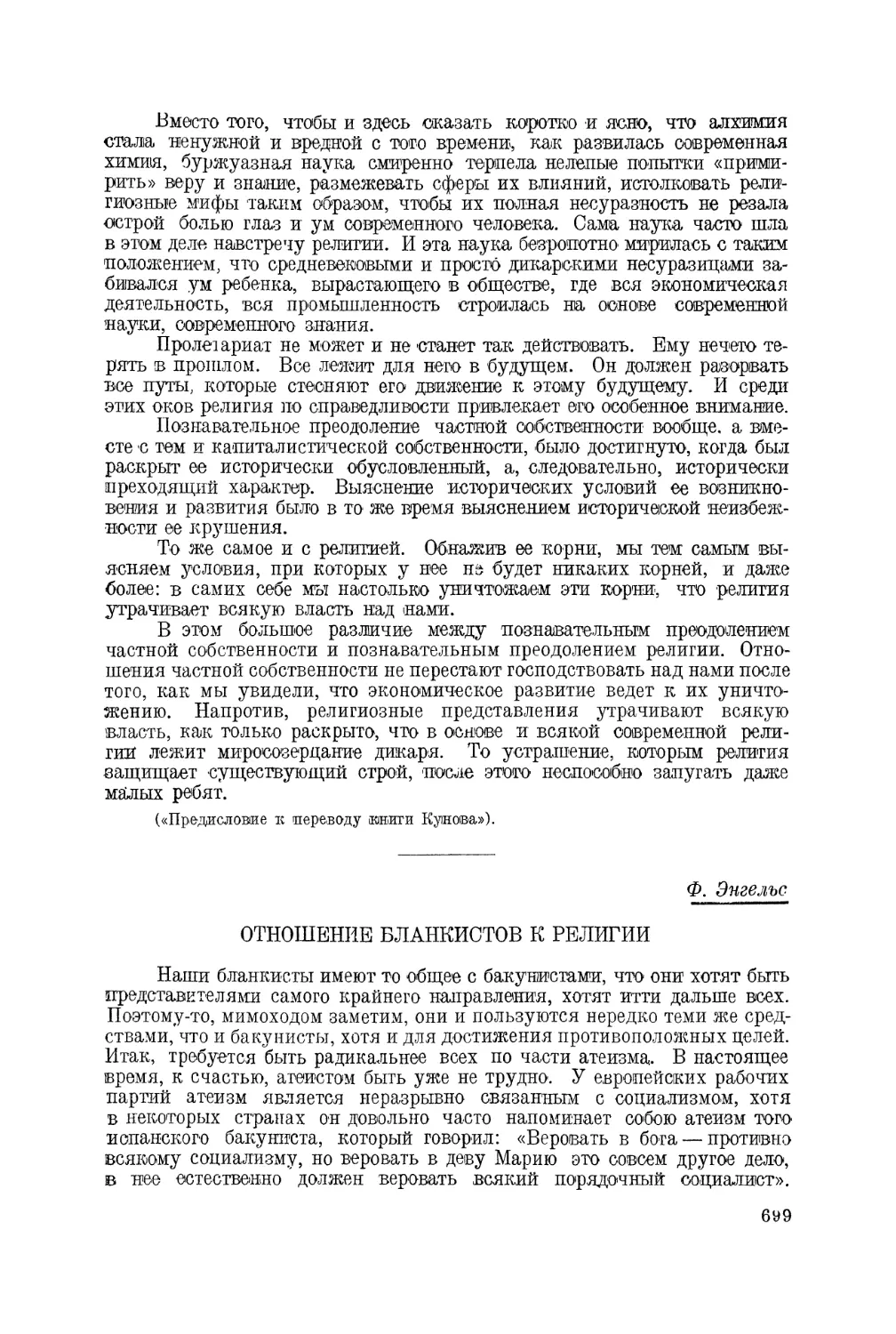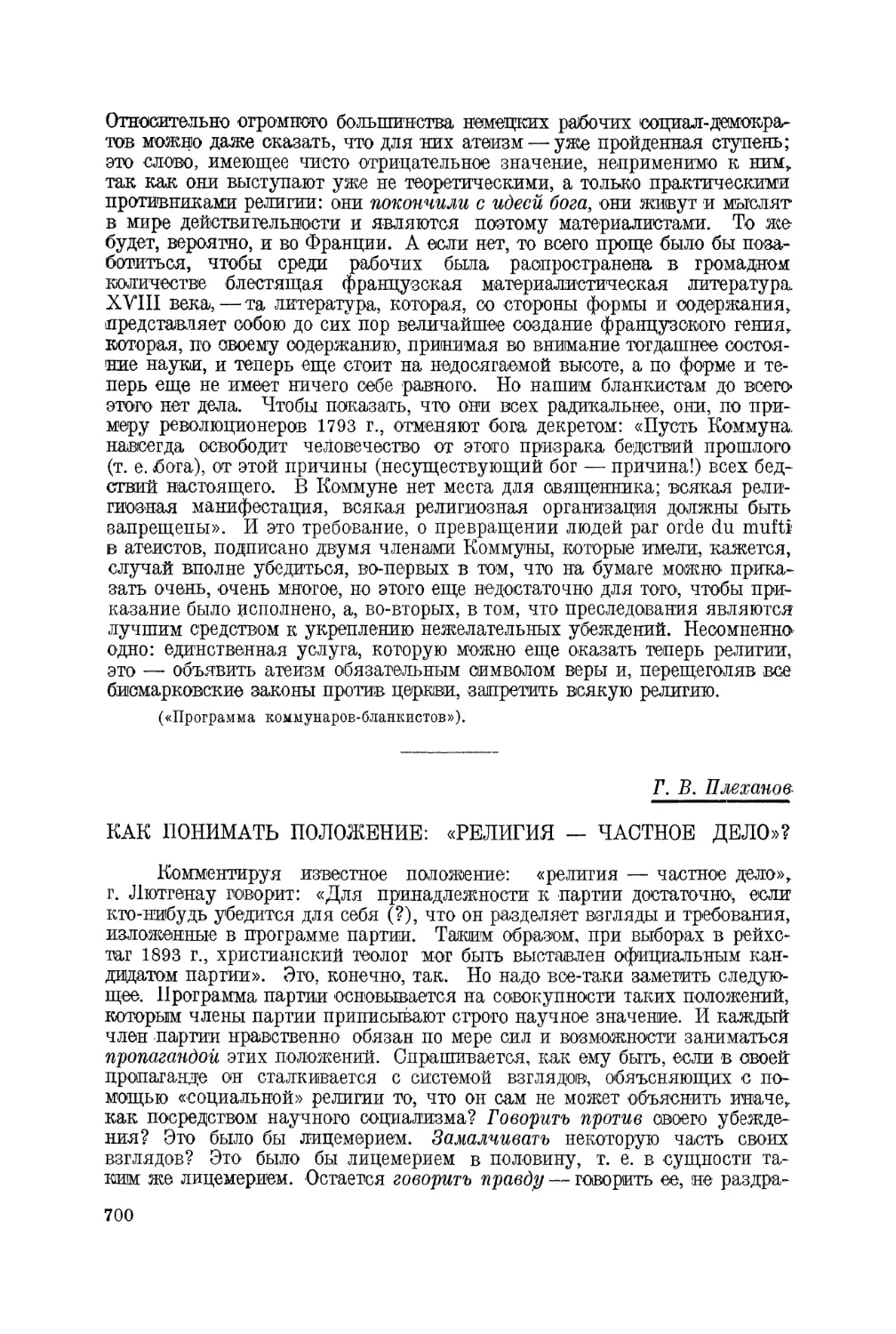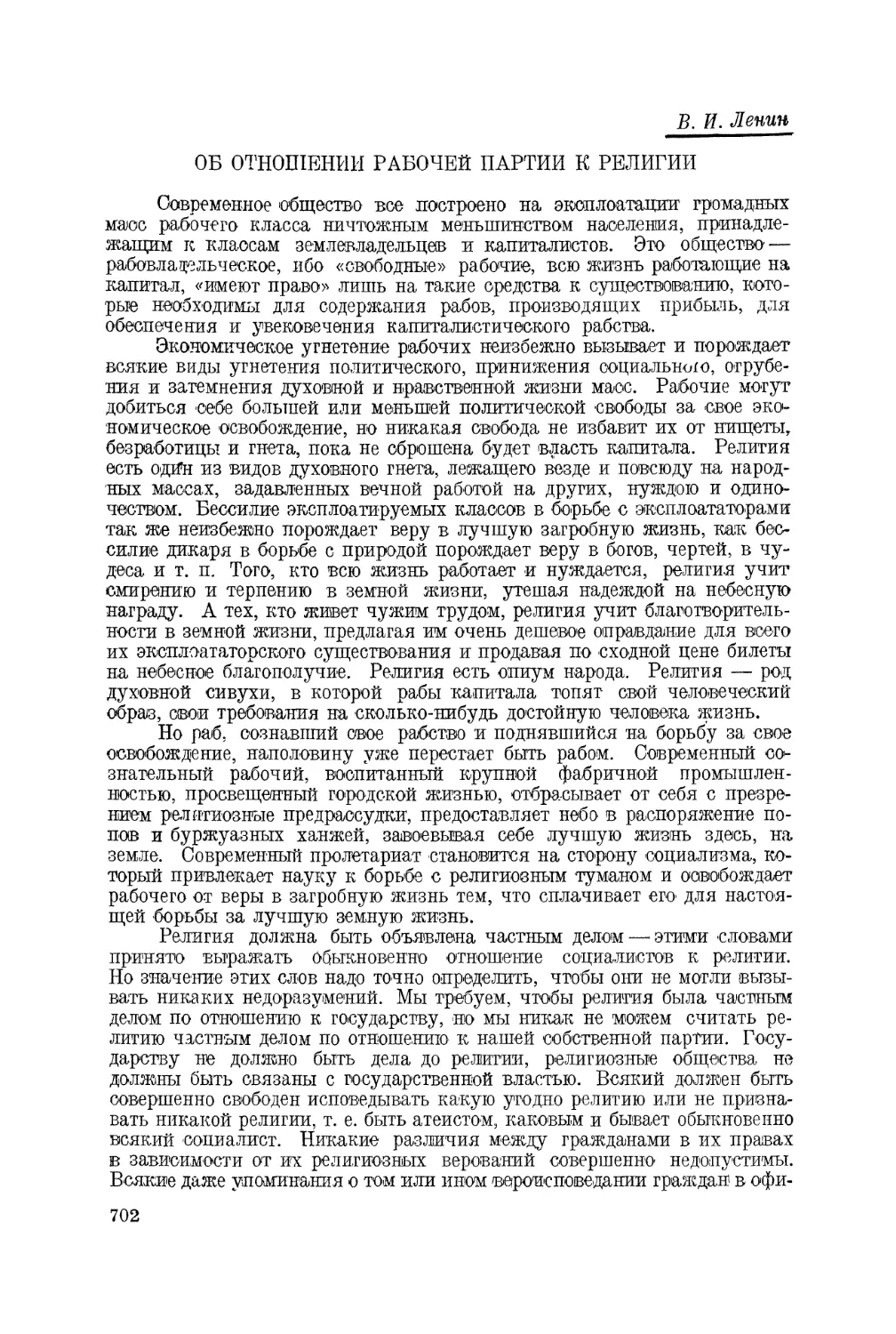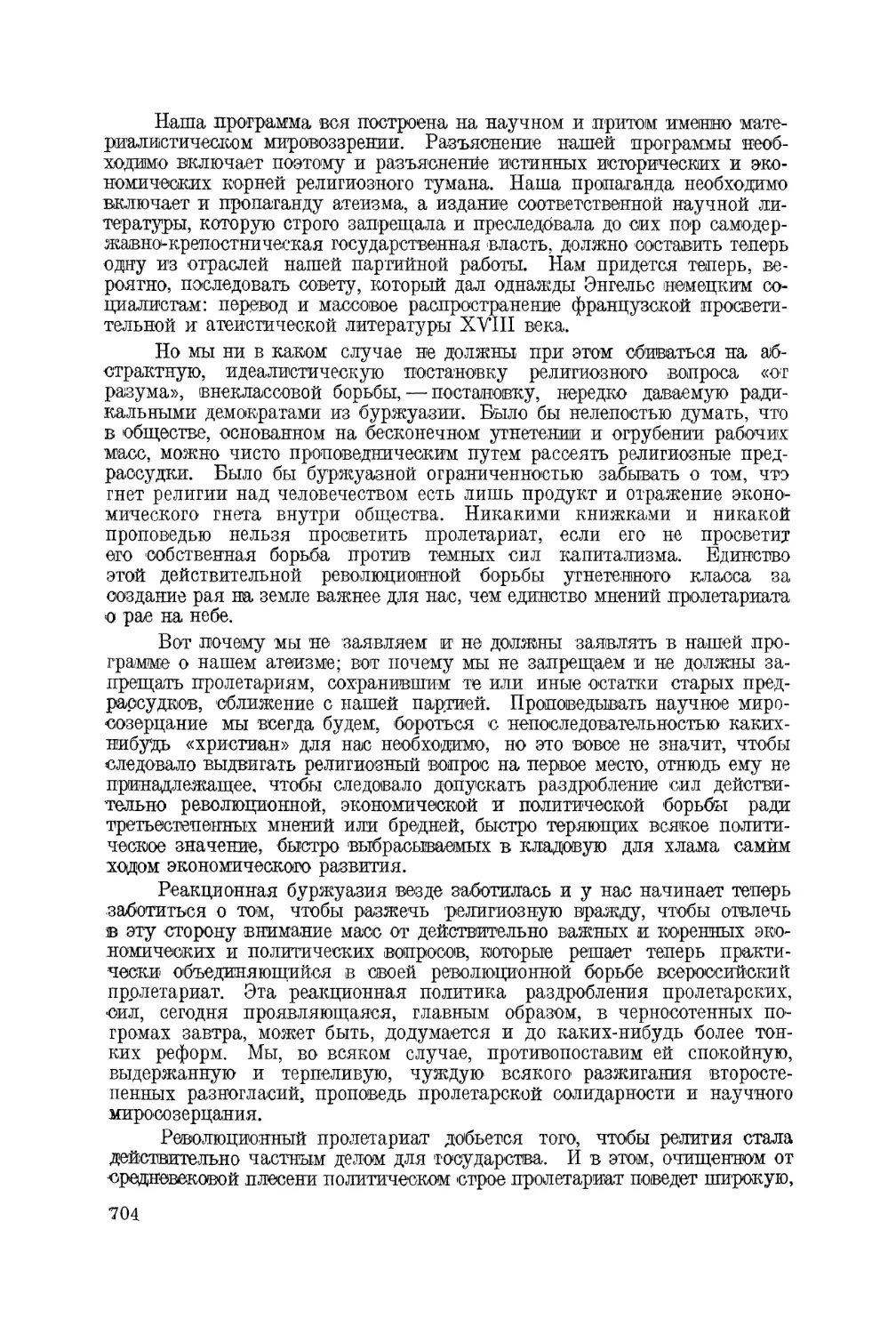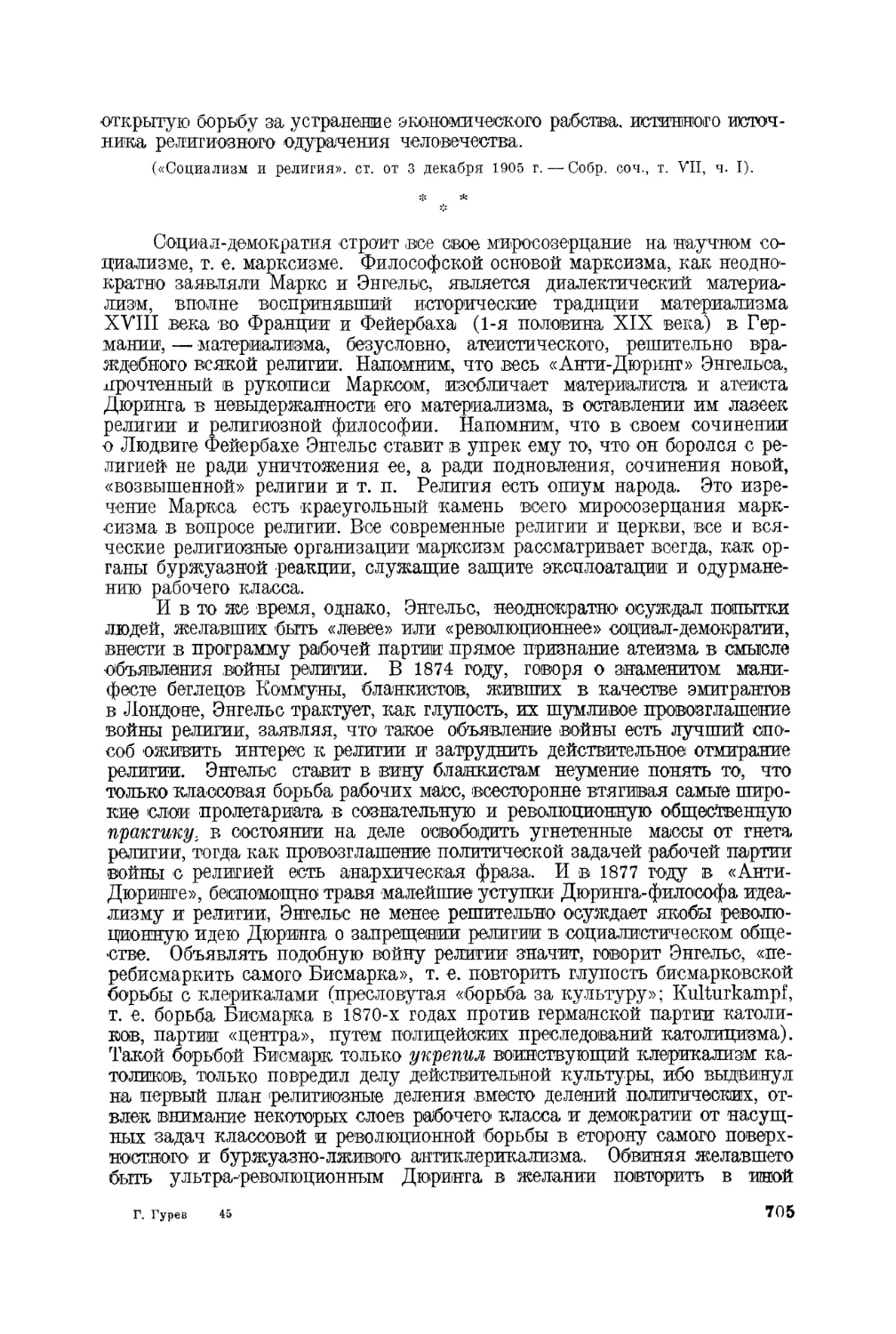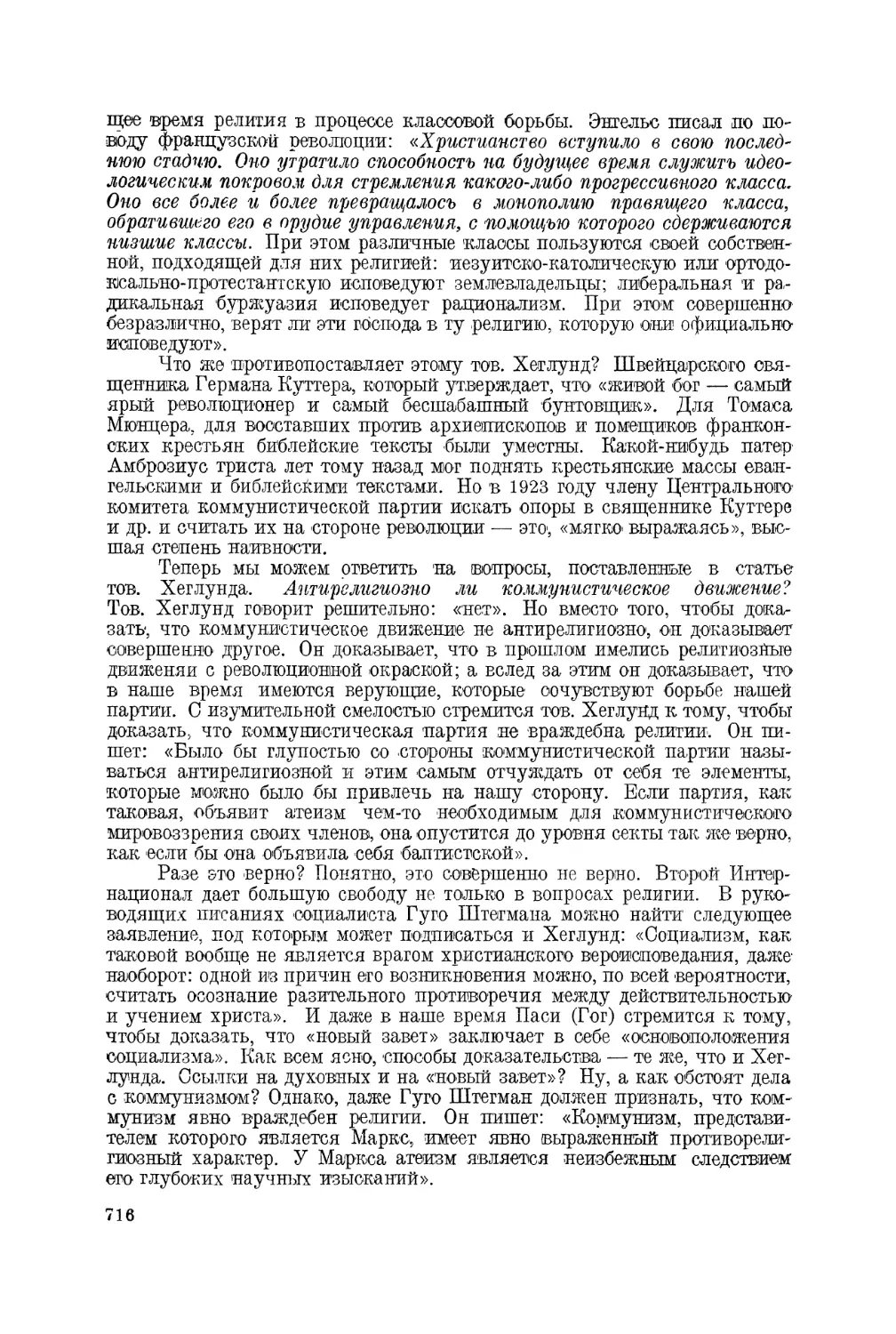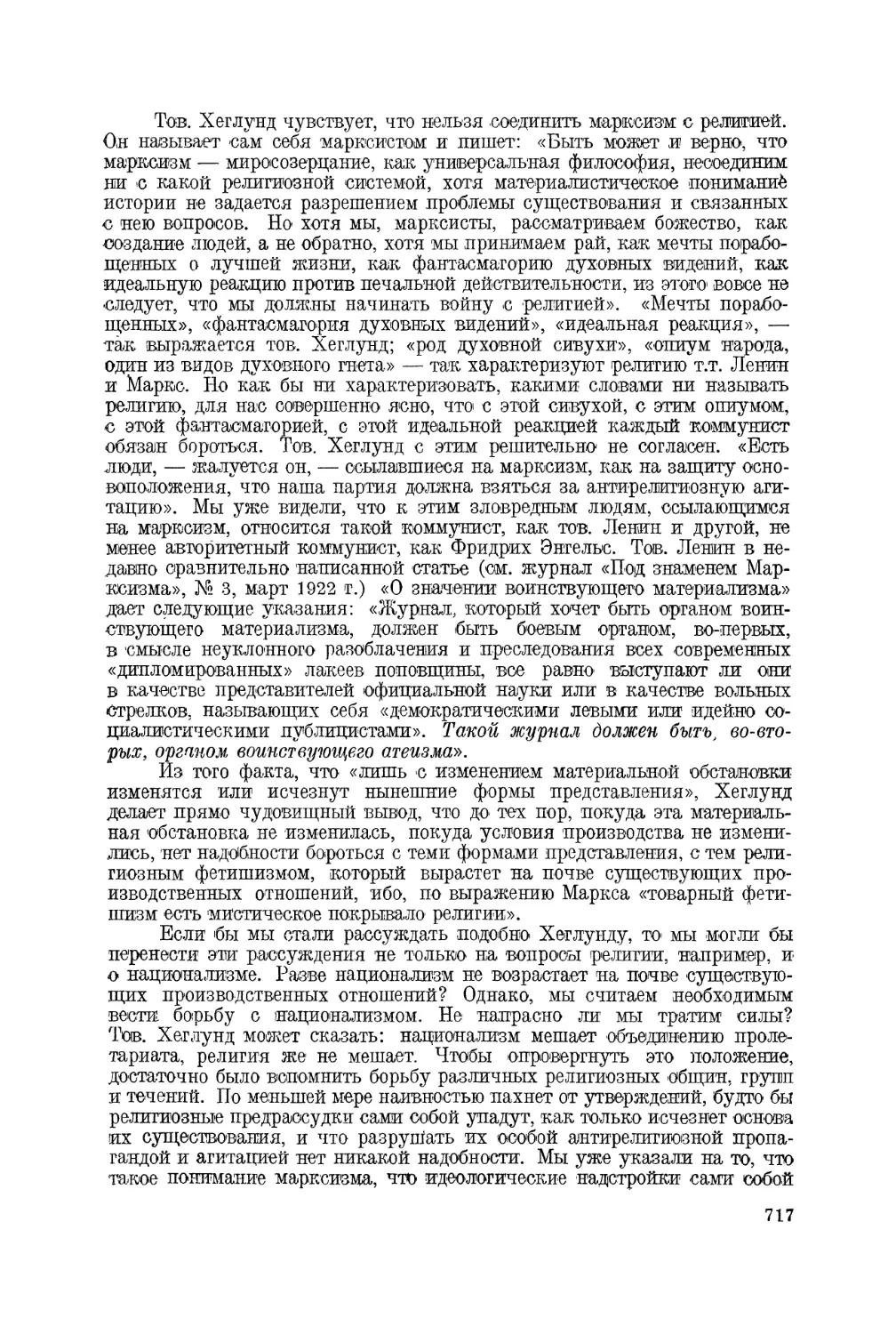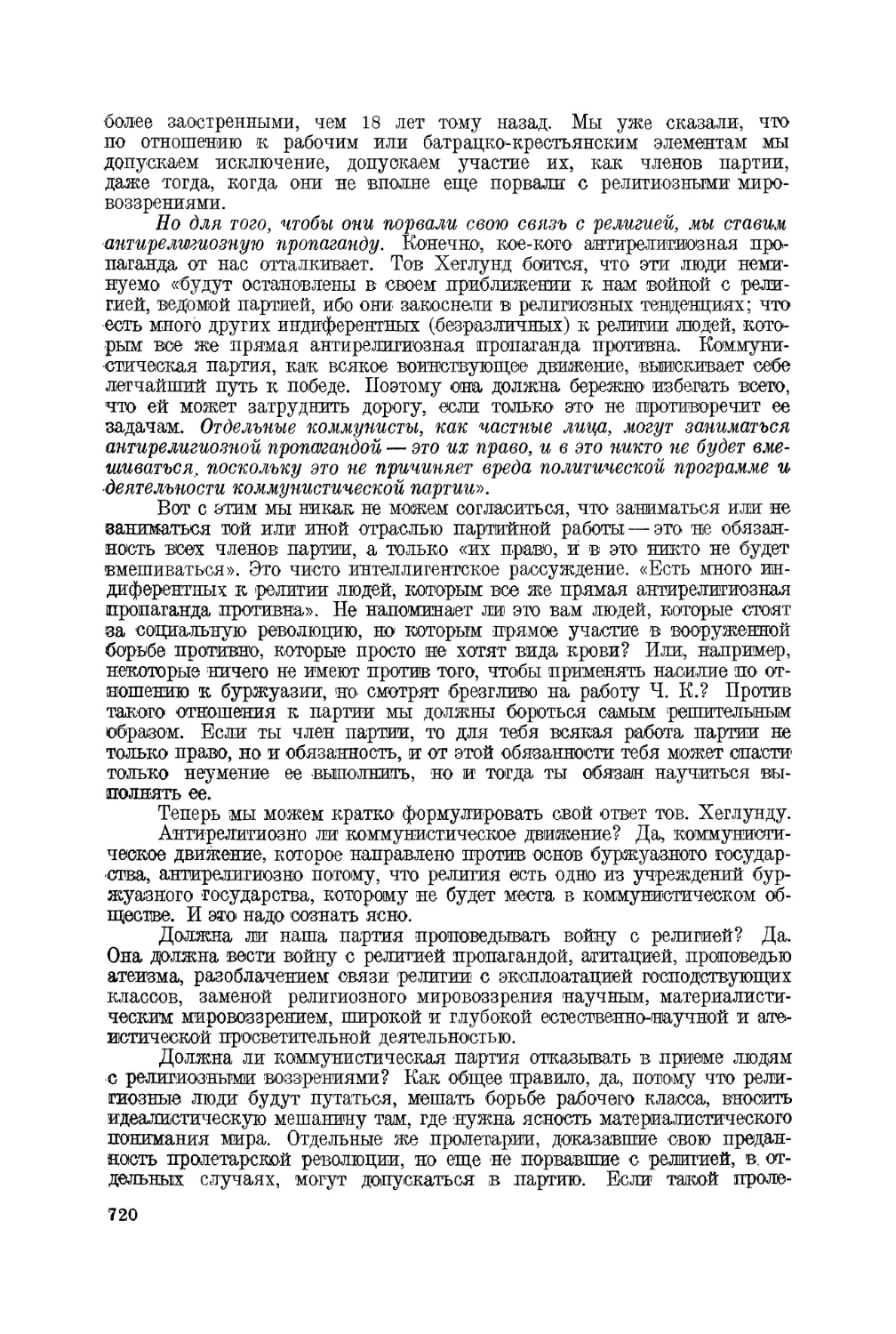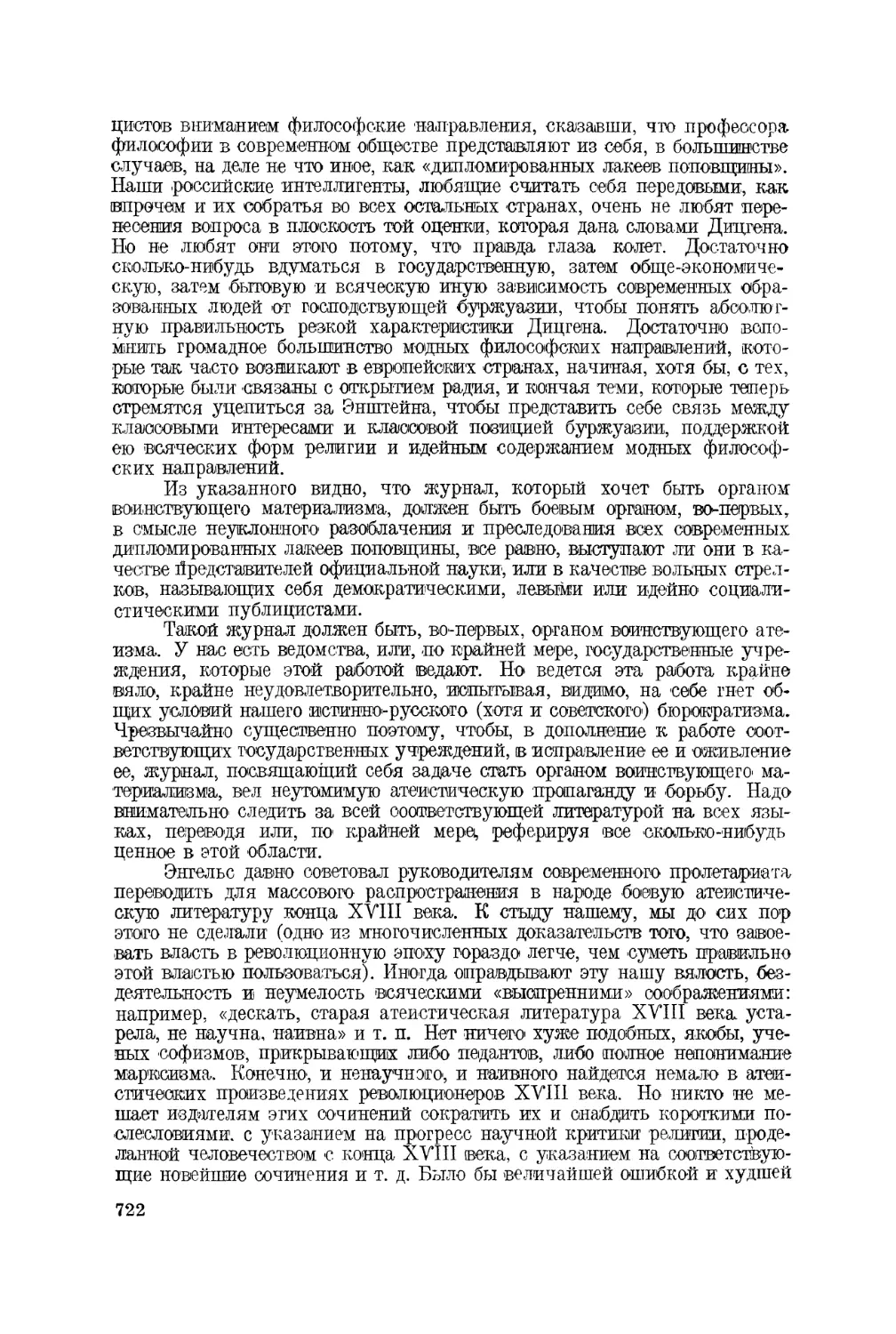Текст
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ СОЮЗА ВОИНСТВУЮЩИХ БЕЗБОЖНИКОВ СССР
Г. А. Г У Р Е В
АНТИРЕЛИГИОЗНАЯ
ХРЕСТОМАТИЯ
ПОСОБИЕ ДЛЯ ПРОПАГАНДИСТОВ,
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И УЧАЩИХСЯ
Уничтожение религии, как
призрачного счастья для народа, есть необходимое
условие подлинного его счастья
К. Маркс
ЧЕТВЕРТОЕ ДОПОЛНЕННОЕ ИЗДАНИЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ИЗДАТЕЛЬСКОЕ О-ВО «БЕЗБОЖНИК»
МОСКВА—1930
Мосгублит № 59734'. Тираж 20070—4Ь1/2 л. Заказ № 165.
Государственная типография имени Евг. Соколовой. Ленинград, пр. Кр. Командиров, 29.
ПРЕДИСЛОВИЕ К ЧЕТВЕРТОМУ ИЗДАНИЮ.
Пролетариат, разбивающий .цепи политического и
экономического рабства, не может одновременно с этим не разрушать тяжких оков
духовного, умственного рабства. Эти оковы — религия, идея бота,
представление о существовании сверхъестественных, внеприродных,
'сверхчувственных, таинственных сил, находящихся в определенных отношениях
с человеком. Как классически выразился Маркс, «религия — это опиум
народа». Действительно, религия опьяняет и одуряет народ, переносит
его из реального, действительного мира в мир фантазий,* иллюзий,
Призраков. Она духовно порабощает народные массы, превращает их в
послушные, пассивные существа, сулит им райское житье на «том свете»
для того, чтобы дать возможность богачам спокойно жить на этом свете.
Таким образом, религия имеет целью способствовать сохранению
«старого порядка» и, следовательно, служит сильнейшим препятствием на
пути пролетариата к его освобождению, к свержению старого рабского
строя. В то время как коммунизм учит нас быть господином,
покорителем природы, творцом и строителем «райской жизни» здесь, на земле,
религия говорит нам, что все это напрасно и что рай возможен не при
жизни, а после смерти — в «царстве небесном». Ясно, что между
религией и коммунизмом — непроходимая, зияющая пропасть. Поэтому
задача пролетариата, этого единственного класса, стремящегося к осуще-
ствелению идеи коммунизма, — освободить мир и человека от бога,
свергнуть того «небесного владыку», которого люди сами себе создали. Как
прекрасно сказал Маркс, «уничтожение религии, как призрачного
счастья для народа, есть необходимое условие подлинного его счастья».
Наши великие учителя Маркс, Энтельс и Ленин считали идейную
борьбу с религиозным суеверием, с представлением о боге незыблемой
заповедью коммунизма, непреложным долгом коммуниста и всякого
сознательного, революционного рабочего. Эту борьбу следует вести в том
смысле, что должна быть разоблачена сущность религии «как общей
теории этого мира и его энциклопедического итога». Религия, как учит
марксизм, имеет исторически обусловленный и, следовательно,
исторически преходящий, временный характер. Она есть лишь продукт и
отражение экономического гнета внутри общества, и, несомненно, она
исчезнет с крушением несовершенных общественных отношений. Но война
с религией должна вестись и теперь, ибо без этой войны не может быть
успешна основная борьба пролетариата — борьба с капитализмом;
одурманенные религией массы не знают причин своего рабства и, поэтому, не
могут быть деятельными, сознательными участниками революции.
Словом, не пассивное невмешательство «в дела веры» для рабочего класса.
1* 3
а неустанная и активная борьба против нее, как одного из главных
орудий классового господства капитала, как одного из средств затемнения
классового сознания масс, — вот боевой лозунг подлинного марксизма,
истинного научного коммунизма.
Следуя в этом отношении бланкистам, революционный пролетариат
выставляет на своем красном знамени лозунг: «Ни бога, ни хозяина!»
Однако мы должны заботливо избегать всякого оскорбления чувств
верующих, ибо оно ведет лишь к закреплению религиозного фанатизма.
Самый лучший способ борьбы с религией — это научное свержение бога,
организация широкото распространения антирелигиозных,
материалистических, атеистических идей, которые не должны быть преподнесены
массам в отвлеченной, абстрактной, оторванной от жизни форме. Как
это особенно ярко показал Ленин, обоснование атеизма только тогда
может рассчитывать на успех, когда оно тесно связано с практической
жизнью, с текущими задачами классовой борьбы — с ближайшими,
непосредственными боевыми вопросами, стоящими перед пролетариатом.
Религия, в сущности говоря, — целое мировоззрение. Это
мировоззрение крайне запутано, противоречиво, полно нелепостей, но оно
удовлетворяет неразвитой, невежественный, некритический ум, так как
оно всегда готово дать ответ на все вопросы. Поэтому одна из первых
основных задач антирелигиозной пропаганды заключается в том, чтобы
разбить, опровергнуть религиозное мировоззрение, показать, как паука
смотрит на те вопросы, на которые религия старается ответить при
помощи представления о боте. Необходимо разъяснить массам коротко и
ясно, как наука объясняет нам, что такое вселенная, из чего она состоит,
как произошел мир, что такое жизнь и смерть, откуда произошло все
живое на земле, что такое душа человека, как развивается человеческое
общество, что такое наша совесть, и т. д. С этого и удобнее всего начать
антирелигиозную пропаганду, конкретно, на ряде ярких примеров
показав, что техника, т.-е. покорение, изменение природы, невозможна без
науки, без знания, без понимания мира, а наука самым резким,
непримиримым образом противоречит религии. Кто за веру, за религию, тот
против знания, против науки и техники: логически сочетать то и другое
невозможно. Следовательно, каждый шаг по пути к объяснению и
изменению природы есть вместе с тем шаг по пути к уничтожению
религиозного мировоззрения. Недаром Наке сказал: «Всякий раз, когда наука
делает шаг вперед, бог отступает на шаг назад».
Но, показав, что бог изгнан из научного мировоззрения, что ничего
сверхъестественного не существует ни в природе, ни в обществе, мы этим
еще не разрешим всей задачи антирелигиозной пропаганды.
Естественнонаучное преодоление религий должно быть теснейшим образом связано
с ее социально-историческим преодолением. Ибо без этого все-таки
остаются такие ваянные вопросы: как и почему возникло представление
о боте? как возникло христианство? был или не был Христос? почему
еще сохранилась религия? какую социальную роль она всегда играла?
не падет ли вместе с религией и мораль? и т. д. И только тогда, когда
вместе с выяснением того, что представление о сверхъестественном не
имеет под собой никаких оснований, также выяснено, почему именно это
представление появилось, и почему именно оно еще до сих пор
окончательно не исчезло, — антирелигиозный пропагандист может считать свою
вадачу в основном выполненной. Но показать, какие силы питают,
поддерживают религию, — это значит хорошенько разъяснить, что
религиозные вопросы имеют общественное значение, что они неразрывно свя-
4
заны с политикой, с классовой борьбай: корни их лежат не в сознании
а в бытии людей, т.-е. в материальной общественной действительности.
Вот почему антирелигиозник, твердо стоящий на почве марксизма, не
должен ограничиться научной критикой релитиозных благоглупостей: он
должен при помощи живых примеров, ярких фактов показать, почему
в классовом обществе религия играет такую большую роль как орудие
духовного угнетения, оглупения масс, почему буржуазия особенно
цепко держится за пережитки старых верований и т. д. Словом,
необходимо разъяснить массам, что мы должны вести борьбу со всем тем, что
пахнет боженькой и что эта борьба является одной из необходимых,
неизбежных форм классовой борьбы. Кто за коммунизм, за уничтожение
классового общества — тот не может не бороться с религией, с ее учением
и организациями.
Трудна эта борьба вследствие целого ряда социально-экономических
причин, вследствие' крайне низкого культурного уровня крестьянства,
т.-е. преобладающих масс населения нашей республики, вследствие того,
что они, не имея достаточно развитой техники для успешной борьбы с
природой, невольно настроены религиозно, верят в «чудеса». Ведь эти массы
находятся в полной зависимости от неведомых им стихийных сил
природы и общества, и поэтому чувствуют себя беспомощными, а по
правильному замечанию Маркса, «бессилие всегда спасает себя верой в
чудеса», т.-е. настраивает человека на религиозный лад. Наоборот, такие
вещи, как повышение технического уровня сельского хозяйства,
усиление кооперативных крестьянских организаций, развитие коммун,
колхозов и совхозов, словом социалистическое строительство в деревне приводит
основные массы крестьянства к убеждению, что хозяйство строится не
произволом господа-бога или его небесного «воинства», а сознательной
волей людей, вооруженных наукой и техникой. Следовательно, лишь
укрепление диктатуры пролетариата, лишь строительство социализма способно
сломить последние опоры, на которых держится в крестьянстве
религиозность. Но для того, чтобы крестьянство приняло активное участие в
социалистическом строительстве в деревне, для того, чтобы оно беззаветно
отдало свои силы на укрепление диктатуры пролетариата, необхо&имо
широко развернуть в деревне борьбу с религиозной теорией и практикой,
тушащей революционную энергию масс, их волю к борьбе.
Конечно, вопросы атеизма, безбожной теории и практики, очень
разнообразны, и поэтому пропагандисту-антирелигиознику приходится
быть в достаточной степени всесторонне образованным человеком. Ему
нужно знать если не вое в общих чертах, то по крайней мере, многое, ибо
ему обыкновенно задают самые различные вопросы, часто довольно
серьезные. А таких лиц, к сожалению, у нас еще до сих пор до
чрезвычайности мало. Поэтому создание кадров новых агитаторов и прогандиетов-
антирелигиозников — одна из первых наших насущных задач.
Но каждый, приступающий к изучению цикла вопросов, входящих
в область антирелигиозной пропаганды, в сферу научного атеизма, прежде
всего встречается со следующим обстоятельством: ему приходится рыться
по обширной и крайне разнообразной литературе предмета, отыскивать
среди многих сотен и тысяч страниц нужный материал, иметь под рукой
целую библиотеку. А при теперешних условиях это — большой тормоз
для успешной работы.
Настоящая хрестоматия и стремится, хотя бы отчасти, преодолеть
эти затруднения, дав рабфаковцу, студенту, молодому пропагандисту,
преподавателю, групповоду и вообще безбожному активу основной мате-
о
риал для изучения всех тех вопросов, знакомство с которыми нужно
каждому активному атеисту, каждому, серьезно берущемуся за дело
антирелигиозной пропаганды1). Опыт первых трех изданий этой
хрестоматии убедил меня в том. что заключенный в ней материал оказался
для начинающих пропагандистов весьма полезным. Выпуская теперь
в свет четвертое издание этого первого, насколько мне известно, опыта
создания атеистической хрестомаии (в третьем издании оно вышло в
измененном и значительно дополненном виде), я нисколько' не сомневаюсь
в том-, что он страдает многими недостатками, и поэтому все указания на
них я приму с большой благодарностью. Но в то же время надеюсь, что
он свою задачу—дать пропагандисту, учащемуся и активному атеисту
основной материал для изучения научного атеизма — в большей или
меньшей степени выполнит.
Я не гнался за полнотой и поэтому избегал мелких отрывков, хотя
часто весьма интересных и важных, но не дающих общего представления
о затронутых ими вопросах. Приведенные мною статьи и отрывки
неизбежно не все одинаково популярны, но каждый из них имеет
самостоятельное значение. Каждому основному вопросу посвящен целый ряд
статей и отрывков различных авторов, при чем преобладающее число
авторов является марксистами. Полатаю, что знакомство с приведенным
здесь материалом следует считать обязательным не только для каждого
сознательного безбожника, но и для каоюдого, изучающего основы
марксизма. Правда, не весь этот материал является одинаково ценным
и важным для выработки правильного марксистского понимания тех или
иных сторон религии, ибо мною приведены отрывки не только теоретиков
марксизма, но и некоторых антирелигиозников-материалистов и даже
буржуазных теоретиков. Но за то тут имеется почти все то, что должно
служить предпосылками для подлинно марксистского подхода к разгадке
религиозной теории и практики. Это — отрывки из высказываний
Маркса, Энгельса, Плеханова, Ленина и отчасти Лафарга и некоторых
других видных марксистов по наиболее основным и принципиальным
вопросам, касающимся религии. Таким образом, тут выделено и
приведено в систему почти все классическое, наиболее бесспорное из того, что
имеется в марксистской литературе о религии.
В исследовании отдельных конкретных сторон религиозных
верований, в особенности в изучении исторического развития религиозных
представлений, довольно часто встречаются разногласия, и вероятно
пройдут еще десятилетия, пока они будут разрешены при помощи
марксистского метода. Конечно, эти разногласия не могли не быть отражены
в настоящей хрестоматии. Кроме того, в некоторых отрывках и статьях
иногда встречаются более или менее сомнительные места, но и этого при
составлении антирелигиозной хрестоматии не избежишь; во многих
наиболее важных случаях я такие места снабдил своими короткими
предубеждающими примечаниями, отметив их как «прим. ред». В общем
я старался дать — насколько это было возможно в однотомном
сборнике —■ не только материал для антирелигиозной пропаганды, но и
правильную методологическую установку.
1) Для рядового антирелигиозника и для лиц мало подготовленных,
приступающих к 'изучению начатков атеизма, мною составлен особый сборник статей —
«Хрестоматия молодого безбожника», вышедший в издании «Гомельского Рабочего» в 1926 г
(подютювляется второе, дополненное издание, которое выйдет в издательстве
«Безбожник»),
6
В начале эта хрестоматия намечалась, как двухтомная.
Выпущенный первый том, выдержавший два издания, был посвящен вопросу
о религии вообще, т.-е. вопросу о том, что такое, с марксисткой
точки зрения, представляет собой религия как идеология, и каково
ее отношение, с одной стороны, к научному мировоззрению, а с
другой к коммунизму. Что же касается вопросов о происхождении
религии, священных книг, происхождении христианства и пр., то им
полагалось отвести второй том. Но, приступив к подготовке третьего издания
первого тома, я пришел к заключению, что лучше всего отказаться
от двухтомника с целью сделать эту хрестоматию более доступной по
цене, Поэтому часть материала первою тома — преимущественно
наиболее популярного характера — была мною выкинута и взамен нее
помещен основной материал, предназначавшийся для второго тома, так что
получившийся однотомник в общем все-таки значительно «раздулся»,
увеличился в объеме по «сравнению с прежним первым томом. В связи
с этим некоторому изменению подверглось и расположение материала,
но я попрежнему старался провести определенную преемственную связь
между отделами и между отрывками в пределах каждого отдела.
*
Первым долгом хрестоматия старается выяснить, что такое религия,
как определить это понятие. Оказывается, что это дело нелегкое, что
из множества определений, данных разными мыслителями, нет ни одното,
которое хоть сколько-нибудь удовлетворяло бы марксиста. Все они имеют
крайне субъективный характер, очень противоречивы и не дают никакого
представления о границах религиозной веры. Чтобы правильно
определить эти границы, мы должны совершенно оставить в стороне то религии,
которые выдуманы тем или иным отдельным человеком, и изучить
массовые религии: христианство, буддизм, разные виды язычества и т. д. Тогда
мы увидим, что они имеют следующие общие черты: веру в бога (или
богов), т.-е. веру в особое сверхъестественное существо (или существа),
от которого (или которых) прямо или косвенно зависит вое происходящее
в мире; веру в возможность сноситься с ними и влиять на них в
интересах человека; веру в загробное существование; культ, посредники —
жрецы, священники. Оловом, религиозные представления имеют
анимистический характер и, следовательно, обязательно содержат в себе
элемент «сверхъестественного». Все попытки основания религий,
свободных от этого элемента, кончились полным крушением, ибо представления,
которые были вложены в эти наиболее «усовершенствованные» религии,
все-таки, в конце-концов, имели более или менее анимистический
характер. Вместе с тем приходится принять во внимание, что единой и
однородной религии нет и быть не может: как и всякая идеология, она
двойственна и имеет классовый характер — между религиозными взглядами
низших и высших классов одного и того же народа всегда колоссальная
разница. Что же касается вопроса о происхождении анимизма, о корнях
религии, то одни марксисты видят их в антропологической области,
другие — в социальной (в этом отделе этот вопрос не затрагивается, ибо ему
достаточно места отводится в следующем отделе — о возникновении
религии); но важно то, что марксизм исходит из того положения, что
религия имеет анимистический характер, что она есть вера в существо-
вание сверхъестественных сил, находящихся в определенных отношениях
с людьми.
7
Конечно, прямых указаний о возникновении религии мы не имеем;
процесс зарождения и последующего развития религиозных
представлений мы можем себе представить лишь на основании косвенных мате-
риалов из области доистории, этнологии, археолотии и пр. Прежде всего
приходится пользоваться наблюдениями над религией современных
дикарей, приняв во внимание, что эти дикари вышли уже из своето
первобытного состояния и имеют анамистические верования. Далее ценцые
материалы о ходе развития верований в загробную жизнь дает нам
изучение археологических находок. Наконец, важные указания на главные
этапы' развития религиозных воззрений дает сравнительное изучение
религий народов древнего мира — индусов, египтян, вавилонян, евреев,
греков и др. На основании материалов, полученных из всех этих
источников, буржуазные ученые пытаются установить первые стадии развития
религиозных верований, но это им плохо удается, ибо они часто
находятся в плену богословских воззрений своей собственной религии. О
другой стороны, они грешат тем, что рассматривают всякую идеологию, как
совершенно самостоятельное и первичное, а не как зависимое вторичное,
производное явление, и поэтому не в силах дать естественное, причинное
объяснение зарождения религии. Лишь марксизм (точнее — та часть
марксизма, которая называется историческим материализмом или
материалистическим пониманием истории), использовав данные буржуазной
науки, дает нам определенные, строго-научные указания на то, в чем надо
искать истоки религии и под влиянием каких именно> причин изменялись
религиозные представления. Правда, среди марксистов нет еще
общепризнанного, прочно установленного взгляда на происхождение религии,
ибо вопросу о религии вообще и ее возникновению в частности
уделялось очень мало внимания: этим занимались мимоходом, от случая к
случаю. Но зато марксисты имеют единство метода, т.-е/то, что является
наиболее ценным для достижения окончательного успеха. А при помощи
этого метода мы все-таки получили уже целый ряд весьма ценных и
интересных выводов об изменении и эволюции релитиозных представлений
первобытных народов.
Так, напр., удалось установить, что первобытный человек не обо-
соблял, не выделял себя из окруоюающего мира и переносил на этот мир
свои собственные черты. Именно, стараясь понять мир, дикарь
необходимо должен был «мерить на свой собственный аршин», приписывать
предметам и явлениям природы такую же жизнь, какою жил сам, т.-е. он
все объяснял по образу своих действий. В связи с этим первобытный
охотник, который «творил» очень мало (ведь он только присваивал себе
то, что создано природой помимо его творческих усилий), ставил себе
вопрос не о том, «кто создал» все его окружающее, а лишь о том «откуда
это пришло». Лишь кот да первобытный дикарь началъ все больше
«творить», мастерить, производить, он стал держаться представления о том,
что мир сотворен «кем-то», подобно тому, как человек творит себе
жилище, утварь, орудия и т. д. А когда с возникновением анимизма
дикарь раздвоил себя на тело и душу, то он перенес этот дуализм на
внешний мир, удвоил его, создав рядом с миром действительным, реальным,
мир «потусторонний», мир призраков, фантазий, которым приписал
реальное существование. Efrn призраки необходимо носили
антропоморфный, человекоподобный характер: они созданы были человеком «по
образу и подобию» его самого и его общественной организации. При этом
важно вот что: этот созданный фантазией мир — мир богов и других
высших существ — служил не только для удовлетворения любознательности
8
человека, т. е. не только для объяснения всего происходящего в реальном
мире, но и как орудие для удовлетворения — хоть и празрачного — его
чужд и желаний, которые он сам по себе удовлетворить бессилен. Это
привело к установлению тех или иных форм культа и по мере усиления
социальной диферешщации — к возникновению жречества и церковных
организаций. ,
Таким образом религиозные верования имеют две тесно слитых
между собой стороны — теоретическую (мифологическую) и
практическую (культовую). Но обе эти стороны не являются чем-то постоянным,
неизменным, ибо они соответствуют условиям быта и прежде всего
экономическим отношениям, т. е. различие религий вызвано различиями
в образе жизни. Стало быть, религиозные верования изменялись в
зависимости от перемен в обстановке человеческой жизни, от изменений'
в строе общественных отношений. Целый ряд фактов ясно показывает
нам, что рост производительных сил и упорядочение общественных
отношений (экономическое и политическое объединение людей) приводили
к изменению и упорядочению отношений в мире высших существ, к
переходу от многобожия к единобожию, словом, к устранению
множественности богов к сужению сферы их практической деятельности. В общем,
боги и всякие прочие духи, порожденные анимистическим
мировоззрением, слабели, отодвигались в туманную даль и становились ненужными
по мере того, как люди становились сильнее, т. е. побеждали при помощи
техники стихии природы.
Всем этим вопросам посвящены статьи и отрывки, сгруппированные
во втором и третьем отделах хрестоматии. Второй отдел дает материал,
знакомящий -с современным положением вопроса о возникновении
анимизма и эволюции религиозных верований в области марксистской
литературы. Этот материал содержит в себе как бесспорные положения, так
и ряд положений, по поводу которых в среде марксистов велась и еще
ведется интересная дискуссия. В следующем же — третьем — отделе дан
кошфетный материал по истории развития некоторых современных
верований, касающихся христианства, еврейства и магометанства. Именно,
тут дается представление о возникновении еврейско-христианского бога,
о зарождении библейского мифа о сотворении и потопе и о
происхождении современных религиозных представлений о загробной жизни.
Все это дает нам достаточное основание считать, что религия имеет
совершенно естественное, закономерное происхождение, что она —
произведение человечества.
Но на этом выводе антирелитиозник не может остановиться. Нужно
итти дальше и показать верующему, что ничего сверхъестественного не
существует, что наука отрицает бога .на основании многих весьма
серьезных, бесспорных соображений и относит его к числу людских иллюзорных
представлений. Вот почему следующий — четвертый — отдел
хрестоматии и имеет дело с вопросом, как относится наука к идее о боге, как
она опровергает все потуги богословов доказать сверхъестественные
влияния в природе, какие логические противоречия и абсурда: она вскрывает
в религиозных верованиях о боге, загробном существовании и пр. Тут мы
вступаем в весьма интересную область естественных наук, трактующих
о мироздании, строении вещества, превращении энергии, происхождении
миров, возникновении жизни, сущности душевных явлений,
происхождении человека и т. д. К сожалению, изложению этих крайне важных
вопросов естественно-научного мировоззрения, являющихся исходным
пунктом антирелигиозной пропаганды, мы не могли дать места, ибо это
&
значительно расширило бы рамки нашего 'сборника. Но зато мы уделили
здесь достаточно места тем вопросам, которые являются философско-про-
тиворелижозным, материалистически-атеистическим обобщением или
заключением для обычных книг по естествознанию и которые в этих книгах,
по обыкновению, намеренно избегаются, ибо их авторы стоят на точке
зрения буржуазной идеологии.
Говоря об отношении науки к идее бога, нельзя обойти молчанием
крайне важный вопрос об отношении знания к вере и в связи с этим,
с одной стороны, учение о двойственной истине, с другой — извращение
научных выводов образованными мракобесами. Ибо, прижатые к стене,
попы всегда стараются вывернуться тем, что начинают
«глубокомысленно» уверять, что наука не имеет никакого отношения к верованиям
и религиозным чувствам, что наука и религия — две совершенно разные,
хотя мирно уживающиеся области, и поэтому невозможно одну из них
отвергнуть при помощи другой. Обсуждением этой проблемы и занят весь
пятый отдел. Здесь же уделено немного внимания и той
модернизованной философии религии, которая, боясь борьбы с наукой, заявляет, что
религия дает нам не объяснение мира, а особое, божественное,
необъяснимое «переживание».
Все это неизбежно подводит нас к необходимости выяснить
отношение марксизма к попыткам широкого понимания религии и, прежде
■всего, к «богостроительству», к объяснению социализма своеобразной
«атеистической религией» — религией без бога. Дело в том, что
поражение первой нашей революции, уверенность в успехе которой
основывалась на марксистском анализе русской действительности, вызвало у
некоторой части революционной интеллигенции сомнения в правильности
этого анализа и стремление подкрепить это учение «доводами от сердца»,
наподобие религиозной веры. С другой стороны, считаясь с фактами
широкого распространения в народных массах религиозных настроений,
старались использовать форму этих настроений, и для этой цели
пробовали влить в нее новое — социалистическое—'содержание. Таким
образом, социализм был назван религией, и в этой «новой религии» место
обожествления сил природы должно было занять обожествление
народного коллектива, т.-е. на место несуществующего бога было поставлено
человечество. Другими словами, человек был провозглашен богом-на
том основании, что другого бога нет и быть не может! Конечно/ только
идеологическая путаница, извращение марксизма могло привести к тому,
что в заимствованные у догматической религии слова и понятия стали
вливать социалистическое содержание. Социализм основан на данных
объективной, подлинной науки, и поскольку такая наука несовместима
с религией, постольку несовместим с религией социализм. Социализм
не есть новая религия, ибо он ищет земных целей земными путями на
основании изучения действительного мира, отвергая призрачные способы
удовлетворения человеческих нужд. Конечно, ныне этот вопрос в
значительной мере утратил для нас свой былой интерес. Но критика
богостроительства дает нам возможность на конкретном примере глубже
продумать марксистское понимание религии, и именно по этой причине
этой критике отдан в нашей хрестоматии целый отдел — шестой.
Вместе с тем в следующем — седьмом — отделе выяснен вопрос об
отношении ученых к религии вообще и к материализму в частности.
Это очень важно, ибо попы всегда ухитряются произвести подмен науки
учеными, настаивая на том, что раз крупные ученые не враждебно
относятся-к религии, то отсюда следует, что между наукой и религией нет
10
никаких противоречий. Но этот вопрос нельзя оторвать от другого
основного вопроса — об отношении классов вообще и буржуазии в частности
к религиозному мировоззрению. Вот почему мы и этому важному
моменту уделили достаточно внимания и весь отдел озаглавили: «Классы
и религия».
После этого невольно возникает, коренной вопрос: что же такое
представляет собой религия? в чем ее «сущность»? Этот вопрос поставлен
и разрешен в отделе восьмом — «Религия в свете марксизма», который
резюмирует те социально-экономические выводы, которые сами собой
напрашиваются из материала, приведенного в предыдущих отделах.
Читатель убеждается, что единственно научное разрешение «проблема
религии» получает только при применении марксистского анализа.
Неверно заявление буржуазных атеистов (к сожалению, и некоторых
путанных марксистов), что религиозные верования являются чьей-то хитрой
выдумкой. Корни религии восходят к глубокой древности, при чем она
изменяется в зависимости от бытовых условий и, главным образом, от
экономических отношений, которые определяются состоянием
производительных сил, прежде всего — техники. Бытие определяет -собой сознание;
религия — это не нечто самодовлеющее, а только надстройка над
экономическим базисом: она имеет определенные социальные корни. Именно,
оказывается, что господство безличных экономических сил поддерживает
религиозность, что крушение старых социальных устоев и неспособность
отживающих общественных классов к новому укладу жизни, к «новому
порядку» создает в рядах этих классов уклон к мистицизму, к вере
в сверхъестественное, надежды на загробное существование, искание
спасения в призрачном, религиозном, фантастическом мире. Только тогда,
когда коммунизмом будут устранены анархия производства, классовая
борьба и другие последствия капитализма, когда вследствие -этого людям
станут вполне ясны их взаимоотношения к природе и их собственные,
человеческие, — тогда человечество вполне освободится от последних
остатков религиозных верований, и не будет никакой почвы для их
воскресенья. Те же социальные причины, которые выдвигают пролетариат
на авансцену истории, приводят к тому, что этот класс становится все
более и более безрелигиозным. Все это свидетельствует о том, что религия
имеет чисто земной характер, что она является продуктом человечества,
и, следовательно, она исторически преходяща, не вечна: ничто не может
ее спасти от естественной смерти.
Отдел девятый затрагивает одну из важнейших для
антирелигиозников тем: вопрос о христианстве, его происхождении, его
первоначальном характере и последующем развитии. Здесь прежде всего приведен
материал, дающий представление о первых шагах по изучению ралнего
христианства и знакомящий с новейшими выводами наиболее передовых
(в научном отношении) буржуазных ученых о существовании Христа.
А этот вывод гласит: книги нового завета ни в коем случае не могут
считаться историческим источником, свидетельствующим о Христе, как
исторической личности; Иисус Христос — мифическая, фантастическая,
реально несущест совавшая личность, подобно богам восточных,
языческих религий; и вообще в проповеди Иисуса, в его содержании и в
рассказах о личности этого сказочного «основателя христианства» нет
ничего оригинального, особенного, — все это мы находим в иудействе и
в языческих дохристианских религиях. Что же касается возникновения
христианства, то и тут не было ничего сверхъестественного или чего-то
совершенно особенного: оно не является ни результатом божественного
11
откровения, ни следствием махинаций обманщиков, а представляет собой
продукт социально-экономических условий еврейского и греко-римского
мира. Эта сторона вопроса в хрестоматии представлена отрывками из
работ марксистских исследователей, убедительно выяснившись
конкретные причины возникновения и успешного распространения христианства,
при чем особое внимание уделено вопросу о характере
древне-христианского коммунизма. В связи с этим некоторое внимание уделено
средневековой церкви и причинам ее разложения. Рассмотрение эволюции
христианства мы закончили религиозной реформацией и крестьянской
войной, опустив целый ряд весьма существенных моментов. Но думаю, что
для нашей цели достаточно и приведенного материала, ясно
показывающего, что христианство не, стоит незыблемо и непоколебимо: оно все время
изменяется, приспособляется к каждому новому общест'венному строю.
В дальнейшем обсуждается логически вытекающий из предыдущего
вопрос о социальной, классовой роли религии и в связи с ним — об
отношении христианства к коммунизму, т.-е. об их непримиримом
противоречии. Вместе с тем некоторое внимание уделено Льву Толстому: его
учению о «непротивлению злу» и взгляду на бога, как на любовь, и на
любовь, как на бога, ибо толстовство пользуется некоторой симпатией
в тех слоях пролетариата, которые связаны еще с мелкой буржуазией
(крестьянами, ^ремесленниками и т. д.). Необходимо этим слоям
объяснить, что так же, как и христианство, толстовство враждебно коммунизму
и представляет собой ярко выраженное контрреволюционное учение,
затемняющее классовое сознание пролетариата. Тут же мы вплотную
подходим к вопросу" об отношении религии к нравственности, к выяснению
независимости этих идеологий: общество безбожников так же может
существовать, как и общество без преступников. Нравственность имеет не
сверхъестественный, а чисто земной характер: вечных нравственных
законов не существует. G организацией коммунистического безбожного
общества окончится борьба за существование среди самого человечества^
борьба людей между собой, и только тогда отношения между всеми людьми
будут проникнуты чувством солидарности и взаимопомощи, и,
следовательно, мораль достигнет наивысшей формы своего развития. Всем этим
вопросам отведен отдел десятый.
Наконец, в последнем — одиннадцатом — отделе разобран один
весьма важный тактический вопрос: точка зрения революционного
марксизма на отношение партии пролетариата к религии, т. е. вопрос об
антирелигиозной политике авангарда рабочего класса. Задача партии — не
обезвредить, а преодолеть религию, и поэтому из старого лозунга
'социалистов: «религия — частное дело» нельзя делать оппортунистических
лозунгов, которые были сделаны партиями, входящими в состав II
Интернационала. Религия — частное дело по отношению к государству и
школе, но ни в коем случае не является частным делом по отношению
к революционной партии пролетариата, напрятающей все силы к
достижению одной определенной цели — организации
коммунистически-атеистического общества. О точки зрения марксизма, т. е. того учения,
которое является душой революционного, сознательного пролетариата,
недостаточно быть убежденным безбожником, недостаточно объяснить
религию, иметь правильное представление о ее происхождении, развитии и
причинах сохранения. Надо быть атеистом не только для себя, но и для
других, т. е. надо проповедывать атеизм в массах, бороться с религиозной
теорией и практикой, мешающей покончить с классовым строем: Но для
того, чтобы эта борьба была успешна, надо, как подчеркивает Ленин,
12
«ставить дело борьбы с религией не абстрактно, не на почву
отвлеченной, чисто теоретической, всегда себе равной проповеди, а конкретно, на
почву классовой борьбы, идущей па деле и воспитывающей массы больше
всего и лучше всего».
Настоящее, четвертое издание, выходящее почти вслед за третьим,
воспроизводит это последнее издание, вышедшее в значительно
дополненном и переработанном виде. Добавлено, лишь несколько весьма важных
отрывков из Маркса и Энгельса, касающихся характера религиозной
идеологии.
В заключение не мешает обратить -внимание на следующее
обстоятельство. Тов. Бобрышев в одной из своих статей, направленных против
Центрального Совета Союза Воинствующих Безбожников, заявил, что
настоящая хрестоматия представляет собой «программу
буржуазно-ограниченного культурничества» и что это, мол, видно из того, что во всей
хрестоматии «социальной роли религии отведено самое незаметное место».
При этом для «обоснования» своего заявления он не разбирает
содержания и плана хрестоматии, а произвольно выдергивает из предисловия
к предыдущему изданию одну фразу, да и ту приводит неполностью, так
что моя мысль преподносится читателю «в совершенно извращенном виде.
Он совершенно замалчивает тот факт, что весьма значительная часть
хрестоматии посвящена классовому анализу религиозной идеологии и
содержит в себе основные, классические марксистские материалы по этому
вопросу. Даже те цитаты из Ленина, при помощи которых Бобрышев
старается разбить приснившийся ему «просветительский» уклон
хрестоматии, имеются в ней. Если поверить нашему «критику», то придется
притти к заключению, что классики марксизма, высказывания которых
о религии приведены в хрестоматии, сбивались на путь
абстрактной-идеологической проповеди, на путь «поверхностного,
буржуазно-ограниченного культурничества». Словом, как само содержание хрестоматии, так
и предисловие к ней свидетельствуют о полной необоснованности,
голословности, фантастичности той характеристики, которую ей дал т.
Бобрышев, —■ что, между прочим, отметил тов. Ярославский в своем ответе
Бобрышеву.
Попрежнему считая, что выпуск этой книги отвечает
существующей потребности, еще раз обращаю внимание читателя, работающего
в области антирелигиозной пропаганды, на то, что всякие конкретные
указания на желательные изменения и дополнения будут приняты мной
с благодарностью, дабы в будущем — если понадобится новое издание, —■
могли быть внесены соответствующие коррективы.
Г. А. Г у ре в.
Москва,
Сентябрь, 1929 г.
13
ОТДЕЛ ПЕРВЫЙ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЛИГИИ
Г. В. Плеханов
СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ РЕЛИГИИ
Религию можно определить, как более или менее стройную систему
представлений, настроений и действий. Представления образуют
мифологический элемент религии; настроения относятся к области
религиозного чувства, а действия — к области религиозного поклонения или. как
говорят иначе, культа. Мы должны прежде всего и больше всего
остановиться на мифологическом элементе религии.
Греческое слово «миф» значит — рассказ. Человека поражает
известное — все равно: действительное или мнимое — явление. Он старается
объяснить себе, как оно произошло. Так возникают мифы. Пример:
древние греки верили в существование богини Афины (Минервы). Как
произошла эта богиня? У Зевеса болела голова и, должно быть, болела очень
уж сильно, потому что он решился обратиться к помощи хирургии. Роль
хирурга выпала на долю Гефеста (Вулкана), который вооружился
секирой и так сильно хватил царя богов по голове, что она раскололась, и из
нее выскочила богиня Афина. Другой-пример: древний еврей спрашивал:
себя, откуда произошел мир. На этот вопрос ему отвечал рассказ о шести
днях творения и о создании человека из праха земного. Третий пример:
современный австралиец племени эренте хочет знать, откуда взялась луна.
Это ето любопытство удовлетворяется рассказом о том, как в старину,
когда еще не было луны на небе, умер и похоронен был один человек —
Опоссум г). Скоро этот человек воскрес и вышел из могилы в виде
мальчика. Его сородичи перепугались и пустились бежать, а он стал
преследовать их, крича: «Не бойтесь, не бегите, а не то вы совсем умрете. Я же,
хотя умру, но воскресну на небе». И вот он вырос, состарился, norota
умер, но затем появился в виде луны, и с тех пор он периодически
умирает и воскресает. Так объясняются не только происхождение луны, но
и ее периодические исчезновения и появления. Я не знаю,
удовлетворит ли такое объяснение кого-нибудь из наших нынешних «богоискате-
г) Опоссум — небольшое австралийское животное, принадлежащее к сумчатым.
Изучение того периода в истории религии, названное тотемизмом, показало, каким
образом, по представлениям дикарей, можно быть человеком и животным. — Прим. ред.
15
лей»; полагаю, однако, что — никого. Но австралийского туземца оно
удовлетворяет так же, как удовлетворял грека известного периода 'рассказ
о появлении Афины из головы Юпитера или древнего еврея рассказ
о шести днях творения. Миф есть рассказ, отвечающий на вопросы:
почему? и каким образом? Миф есть первое выраоюение сознания человеком
причинной связи 'между явлениями.
Один из самых выдающихся немецких этнологов нашего времени
(Эренрейх) говорит: «Миф есть выражение первобытного
миросозерцания»." И это в самом деле так. Необходимо очень примитивное
миросозерцание для того, чтобы верить, будто луна есть вышедший из могилы и
вознесшийся на небо человек-Опоссум. В чем же состоит главная
отличительная черта этого миросозерцания? Она состоит в том, что человек,
его держащийся, олиг^етворяет явления природы. Все эти явления
представляются первобытному человеку действиями особых существ,
имеющих, подобно ему, сознание, потребности, страсти, желание и волю. Уже
на очень ранней ступени развития эти существа, будто бы вызывающие
своими действиями известные явления природы, приобретают в
представлении первобытного человека характер духов, и таким образом
складывается то, что Тэйлор назвал анимизмом. «Принимают», говорит этот
исследователь, «что духовные существа управляют явлениями
материального мира и жизнью человека или влияют на них здесь и за гробом; так
как далее думают, что они сообщаются с людьми, что постуцки последних
доставляют им радость или неудовольствие, то, рано или поздно, вера в их
существование должна привести естественно и, можно даже сказать,
неизбежно к действительному почитанию их или желанию их
умилостивить. Таким образом, анимизм, в его полном развитии, обнимает собою
верования в управляющие божества и подчиненных им духов, в душу и
в будущую жизнь, верования, которые переходят на практике в
действительное поклонение».
Это тоже правильно, но нужно помнить, что иное дело вера в
существование духов, а иное дело поклонение им; иное дело миф, а иное дело
культ. Первобытный человек верит в существование множества духов,
но поклоняегся он лишь некоторым из них. Культ возникает из
соединения анимистических идей с известными религиозными действиями.
(«О религии»).
Придерживаясь воззрений Макса Мюллера, г. Лютгенау говорит:
«Миф возникает просто из языка» и поясняет эту свою мысль, т.-е.
мысль своего авторитета Макса Мюллера следующими словами этого
последнего. «Мы знаем, что Эос (по-гречески — утренняя заря)
соответствует санскристскому ushas и что nshas, происходит из корня uas, что
значит — светит. Эос, следовательно, первоначально называлось
«светящее» или «светящий» или «светящая». Кто же было это оно, он или она?
Здесь мы можем прямо наблюдать неизбежное рождение мифа. То, что
познается нашими внешними чувствами и что мы можем назвать, есть
только следствие; это своеобразное освещение неба, отблеск наступающего
утра или, как мы сказали бы теперь, рефлекс преломляющихся в облаках
солнечных лучей. Но так, разумеется, не думали древние. Составив такое
слово, как Эос, означающее светящее или свет, они должны были пойти
дальше и говорить: Эос возвращается, Эос ушла^ Эос снова пришла, Эос
будит спящих, Эос удлиняет нашу жизнь, Эос старит нас, Эос
поднимается с моря, Эос — дочь неба, солнце идет вслед за Эос, солнце любит
16
Эос, солнце убивает Эос и т. п. Что все это означает? Вы можете сказать,
что это — язык, это, конечно, миф, и притом миф неизбежный». К этим
рассуждениям М. Мюллера г. Лютгенау прибавляет: «На вопрос о
сущности мифа можно, между прочим, ответить так: он есть естественйая и
необходимая ступень развития языка и мышления. Это, разумертсд,
отнюдь еще недостаточное определение». Действительно, совсем
«недостаточное». Но главное — то, что даже и это недостаточное определение
могло бы навести г. Лютгенау на некий полезный вопрос. Он мог бы —
ж даже должен был бы—упросить себя, нельзя ли сократить это
определение; нельзя ли просто сказать: миф есть необходимая ступень развития
мышления.
И если бы он без предупреждения вдумался в этот вопрос, то
увидел бы, что сказать так в самом деле можно. Мы и теперь, подобно нашим
очень-очень отдаленным предкам, говорим: солнце село, луна взошла,
ветер утих и т. д., но, выражаясь так, мы уже не думаем, как думали эти
очень-очень отдаленные наши предки, что солнце, луна, ветер и пр. суть
зкивые существа, одаренные сознанием и волей. Выражения остались
те же, а представления, связанные с ними, сделались совсем другими;
прежде характер этих представлений и вообще мышления
благоприятствовал развитию мифо-в, теперь он совсем неблагоприятен для него;
значит, именно характером мышления, свойственного первобытному
человеку, и объясняется возникновение мифов. И нет надобности повторять,
каков этот характер мы уже сказали, что первобытный человек
одушевляет окружающий его внешний мир. Все дело состоит теперь только
в том, чтобы выяснить себе, почему же это так. Почему первобытному
человеку свойственно именно такое мышление? А на это ответить
нетрудно. Характер мышления, в-последнем счете, определяется тем
запасом опыта, которым человек располагает. У первобытного человека запас
опыта очень невелик, но поскольку он существует, он относится, тлавным
образом, к животному миру: первобытный человек уже очень рано
становится рыболовом и охотником. Конечно, и на этой, очень ранней,
ступени своего существования человечество имеет дело также и с
«неодушевленной» природой: ведь и в то время оно испытывало на бебе действие
тепла, влаги, света и т. п. Но, испытывая на себе это действие и стараясь
понять, объяснить себе его, оно по необходимости судило о неизвестном
по известному, а известен ему был, как уже сказано, главным образом,
животный мир так называемых одушевленных предметов; неудивительно,
что он счел одушевленной и всю остальную, гораздо менее известную ему,
природу. И чем меньше была известна ему эта остальная природа,
которую^ он по. необходимости представлял себе тогда одушевленной, тем
•больше простора оставалось для работы его воображения. Воображение
создало целый ряд рассказов, объясняющих великие явления природы
деятельностью того или другого одушевленного существа.
А из таких рассказов и состоит то, что называется мифологией. Но
надо-заметить, что г. Лютгенау сильно ошибается, когда утверждает, что
первобытный человек всегда говорит о богах, как о людях. И не менее
ошибается он, прибавляя, что «нам» известно, почему обоготворяемые
людьми явления природы представлялись в виде людей. Этого нельзя
знать, потому что этого не было. Объясняя великие явления природы
действием живых существ, дикарь чаще всего представляет себе эти
существа в виде животных, а вовсе не в виде людей. Это до такой степени
верно и так, повидимому, общеизвестно, что прямо удивительно, как же
мог г. Лютгенау не знать или упустить это из виду. Положим, что в каче-
Г. Гурев 2
17
стве филолога он вообще не расположен обращаться к этнологии, о чем~
и сам заявляет в своей книге; но для всего ость пределы. Сказать, что<
великие явления и силы природы представлялись первобытному человеку"
только в виде людей, значит закрыть себе путь даже к пониманию,
например, такой далекой и далеко еще не первобытной религии, какою была
религия Едапта времен фараонов,
Макс Мюллер мало помог г. Лютгенау в ето попытке
материалистического объяснения религии. Напротив, филология скорее помешала
нашему автору обратить надлежащее внимание на технологию, т.-е. на то,
каким образом мифология видоизменяется вследствие роста
производительных сил, увеличения власти человека над природой. (Влияние
техники производства на первобытную мифологию, вероятно, не менее
сильно, нежели ее влияние на первобытное искусство).
Г. Лютгенау так изображает ход развития религиозных верований,
как будто бы «естественная» религия, «отражение зависимости человека,
от природы» могла быть отделена резкой гранью от «социальной»
религии, которая является отражением той же зависимости «от общественных"
сил, сущность и характер действия которых ему (человеку) неизвестны».
Но такой грани не существует. И это нетрудно доказать с помощью тех
самых соображений и определений, которые выдвигаются г. Лютгенау.
Так, например, он справедливо замечает, что область религии гораздо
уже области мифологии. «Не вся мифология есть религия», говорит он„
«и только те объекты, которые способны влиять на моральный характер
человека, имеют право называться религиозными». Здесь неудачно
выражена^ мысль, сама по себе правильная: религия в широком и, конечно,
гораздо более точном смысле этого слова действительно возникает только
тогда, когда общественный человек начинает искать у бога или у богов,
санкции для своей морали или вообще для своих действий и
учреждений1), но мораль есть явление социальное. Поэтому, освящая
предписания морали и вообще данные общественные отношения' людей, религия
тем самым приобретает «социальный», т.-е., по-русски, общественный
характер. Наш автор и 1сам сознает это: он говорит: «с самого начала уже
в аналогии между человеческим и божественным образом жизни, между
отношением отца к своему ребенку и бога к человеку и т. п. заключается
неизбежный элемент социальной религии». Именно так. И именно
потому, что это так, нельзя изображать «естественную» религию, как
будто бы она составляла отдельную фазу религиозной эволюции, или,
если хотите, — можно, да только, например, Тэйлору, по мнению которого-
религия (в своем минимальном виде) существует даже там, где мифы еще не
начали освящать собою предписания морали; что же касается г. Лютгенау,
для которого религия существует только там, где уже совершилось это
соединение мифологии с моралью, то он должен был бы с первых же страниц
своего изложения стараться обнаружить связь между общественными
отношениями людей, с одной стороны, и формами их религиозных
верований — с другой стороны. Обнаружение такой связи было бы полезно
ему, между прочим, и для выяснения того, что можно было бы назвать
ролью религиозного «фактора» в истории человечества. Но г. Лютгенау
не счел нужным хорошенько выяснить себе и читателю эту связь. По-
*) Под религией в узком смысле мы понимаем то, что Тэйлор называет minimum,
религии, т. е. веру в существование духов. Первоначально такая вера не имеет
никакого влияния на действие людей, и тогда она не имеет ровно никакого значения как
«фактор» общественного развития, поэтому и религией ее можно называть лишь,
с весьма существенной оговоркой. — Прим. автора.
18
©тому — и вопреки его собственному мнению — «естественная религия»
является в его изложении как бы независимой от «социальной» формы.
(«По ловаду книги Ф. Лютгенау»).
*
У Паннекука мы встречаем такое замечание: «В интересующем нас
здесь вопросе мы под религией понимаем то, что составляет ее
существенный признак: веру в сверхъестественное существо, которое будто бы
управляет миром и распоряжается судьбами людей».
Это неверно, и неверно в двух отношениях: во-первых, большинство
религий приписывало управлению миром не одному, а многим
сверхъестественным существам (политеизм); а во-вторых, вера в существование
таких существ еще не составляет главного отличительного признака
релцгии.
Религия возникает только * тогда, когда данное племя начинает
верить в то, что между ним и данным сверхъестественным существом или
данными сверхъестественными существами есть известные отношения,
обязательные не только для людей, но даже и для этих существ. Главным
отличительным признаком религии является вера в бога или в богов. Но
Паннекук очень ошибается, если думает, что бот и сверхъестественное
существо — одно и то же. Конечно, всякий бог есть сверхъественное
существо, но далеко не всякое сверхъестественное существо считается
богом. Чтобы стать богом, такое существо долоюно пережить
квелую эволюцию.
И заметьте, по какому поводу Паннекук делает свою неудачную
ссылку на существенный признак религии. Есть люди, которые говорят,
что так как современный пролетариат обнаруживает много
самоотверженности и преданности возвышенному идеалу, то нельзя утверждать—как это
делает, между прочим, Паннекук, — что названный класс становится
все менее и менее религиозным. Эти люди не могут и вообразить себе,
чтобы возможна была не религиозная нравственность. Этим-то людям
Паннекук отвечает, что нравственность и религия не одно и то же; что
существенным признаком религии является вера в осверхъестественные
существа. Затем он продолжает: «До сих пор все возвышенные и
нравственные побуждения людей были тесно связаны с этой религией и
проявлялись под покровом религии. Это тотчас же становится понятным, если
вспомнить, что религией исчерпывалось все миросозерцание прежних
поколений, и поэтому все, что выходило за пределы обыденной
повседневной жизни, находило в ней убежище. Все то, происхождение чего нельзя
было объяснить, находило в религий'сверхъестественное объяснение: в ней
искали ответов на все вопросы. Тот факт, что признаваемые каждым
человеком добродетели и нравственные побуждения занимают первое место
в религиозных учениях, не составляет еще сущности и особенности
религии; сущность эту составляет, скорее, то основание, на котором
зиждутся эти добродетели, именно, способ объяснения всего происходящего
волей божьей. Мы же объясняем высшие нравственные побуждения
пролетариата естественной причиной; мы знаем, что они проистекает из его
особого классового положения.
Итак, «мы» объясняем естественной причиной высшие нравственные
«побуждения» пролетариата. Это похвально. А чем объясняем «мы»
нравственные «побуждения» других классов общества? Неужели
сверхъестественными причинами? Вероятно —- даже наверно — нет. А если нет, то
надо говорить не о пролетариате, а вообще о том человеке, которого Марко
2*
1$
назвал общественным. Марксисты, действительно, считают, что развитие
нравственности общественного человека обусловливает развитием
общественных отношений, которое, в свою очередь, определяется развитием
общественных производительных сил. Но именно потому, что марксисты
убеждены в этом, им покажется в высшей степени странным то
утверждение Паннекука, что «добродетели зиждутся» на основании, сводящемся
к «способу объяснения всего происходящего божьей волей». Ведь отсюда
выходит, что «добродетели зиждутся» на совершенно идеалистическом
«основании» ... Потом, о какой «этой религии» говорит Паннекук? О той,
существенным признаком которой является вера в сверхъестественные
существа? Но, ведь, этот признак есть, по его же словам, существенный
признак всякой вообще религии. При чем же тут «эта» релития? Опять
крайне неудачное выражение, очень запутывающее мысль автора.
Наконец — и это, конечно, самое главное, — из нашей последней выписки еще
раз видно, что Паннекук совсем незнаком с историческим процессом
возникновения религий. Он думает, что «до сих пор» нравственность всегда
была «тесно, связана с этой религией», т.-е. верой в сверхъестественные
существа. Но это неверно. На первых ступенях общественного развития
нравственность существует совершенно независимо от веры в
сверхъестественные сгщества. Кто хочет убедиться в этом, того я отсылаю к
русскому переводу «Первобытной культуры» Тэйлора. Если бы Паннекук
знал этот факт, то ему достаточно было бы на него сослаться, чтобы
опровергнуть людей, так неразумно твердящих, что нравственность
невозможна без религии.
(«Рецензия на брошюру А. Паннекука»).
* *
По млению Гюйо, «религия есть в фантастической и символической
форме физическое, метафизическое и моральное объяснение всего
существующего по аналогии с человеческим обществом. В двух словах,
религия — это универсально-социологическое объяснение мира в мифической
форме».
Религия, в самом деле, .многое объясняет по аналогии с
человеческим обществом. Но не все. И действительно, в дальнейшем Гюйо говорит,
что религиозный человек видит в природе проявление воли божественных
существ. Такой взгляд представляет собой тот анимистический элемент,
который всегда имел место во всякой религии. Но анимизм возник не по
аналогии с человеческим обществом, а по аналогии с индивидуумом,
как существом, одаренным сознанием и волей. Первобытный человек все
явления природы объяснял по аналогии с самим собою; он олицетворял
природу, всюду предполагал наличность сознания и воли. И это
олицетворение природы находилось в теснейшей связи с состоянием
первобытной техники.
(«Рецензия на книгу М. Гюйо»).
*
Свойственные религии представления имеют анимистический
характер и вызываются неумением человека дать себе отчет в явлениях
природы. К представлениям, происходящим из этого источника,
присоединяются впоследствии те анимистические представления, с помощью
которых олицетворяются и объясняются людьми их отношения между
собою.
20
Что касается религиозных настроений, то они коренятся в чувствах
и стремлениях людей, вырастающих на почве данных общественных
отношений, и изменяются параллельно с изменением этих отношений.
И те и другие — и представления и настроения — могут быть
объяснены лишь с помощью той теоремы, которая гласит, что не сознание
определяет собою бытие, а бытие — сознание.
Мне остается теперь сказать несколько слов о действиях, стоящих
в связи с религиозными представлениями и настроениями. На известной
стадии культурного развитии анимистические представления и связанные
с ними настроения срастаются с нравственностью в широком смысле этого
слова, т.-е. с понятиями людей о своих взаимных обязанностях. Тогда
человек начинает смо;треть на эти обязанности, как на заповеди, данные
богом. Но хотя представление об этих обязанностях срастается с
анимистическими представлениями, однако оно отнюдь не вызывается ими.
Нравственность возникает раньше, чем начинается процесс срастания
относящихся к ней представлений с верой в существование богов.
Религия не создает нравственности. Она голько освящает ее правила,
вырастающие на почве данного общественного строя.
Есть другого рода действия. Они вызываются не взаимными отно-
ниями людей, а отношением людей к богам или к богу. Совокупность
этих действий и называется собственно культом.
Мне нет никакой надобности много толковать в этой статье о культе.
Окажу только, что если человек создает бога по своему образу и
подобию, -ав известных, на своем месте указанных мною пределах это
совершенно справедливо1), — то ясно, что и свои отношения к «высшим
силам» он будет воображать по образу и подобию знакомых ему
отношений, господствующих в том обществе, к какому он принадлежит. Это
также подтверждается, между прочим, и примером тотемизма. Это
подтверждается и тем, что в восточных деспотиях главных богов воображали
в виде восточных деспотов, а на греческом Олимпе господствовали
отношения, очень напоминающие устройство греческого общества
героической эпохи.
В своем поклонении богам (в своем культе) человек совершает те
действия, которые кажутся ему нужными для исполнения своих
обязанностей перед богами или ботом. В награду за это он ожидает известных
услуг со стороны богов.
Отношения между богом и человеком сначала очень напоминают
отношения, основанные на взаимном договоре или, вернее, на кровном
родстве. По мере развития общественной власти отношения эти
изменяются в том смысле, что человек все более и более считает себя
подчиненным боту. Эта подчиненность достигает высшей своей точки в
деспотических государствах. В новейших цивилизованных обществах, рядом
со стремлением к ограничению королевской власти, возникает склонность
к «натуральной религий» и к деизму, т.-е. к такой системе представлений,
в которой власть бога со всех сторон ограничивается законами природы.
Деизм есть небесный парламентаризм.
Несомненно,- однако, и то, что даже там, где человек воображает
себя рабом своего бога, в культе всегда отводится более или менее широкое
место магии, т.-е. действиям, имеющим целью вынудить у богов известные
услуги. Объективная точка зрения магии противоположна субъективной
*) См. отрывок из статьи Плеханова «О религии» в следующем отделе.
21
точке зрения анимизма. Маг апеллирует к необходимости для того, чтобы
повлиять на произвол богов.
Вот выводы, к которым приводит нас анализ составных элементов
религии. Всякая попытка устранить из религии элемент анимизма
противоречит природе религии и потому заранее осуждена на неудачу.
С устранением из религии анимистического элемента у нас останется
лишь нравственность и в широком смысле 'слова, но нравственность — не
религия: она возникает раньше религии и может существовать
без ее санкции.
Соляная кислота есть соединение хлора с водородом. Устраните
водород — у вас останется хлор, но уже не будет соляной кислоты.
Устраните хлор — вы получите водород, но боляной кислоты у вас опять
не будет.
(«О религии»).
А. И. Тюменев
ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЙ ЧЕРТОЙ ВСЕХ РЕЛИГИЙ?
Круг религиозных верований и представлений занимает настолько
обширное место в духовной жизни человека, представляет собою область
со столь неопределенными границами, охватывает столь многочисленные
и в то же время столь разнообразные явления, что до сих пор все попытки
дать более точное определение сущности религии терпели неудачу. Не
говоря уже о специально богословских сочинениях, такие попытки
неоднократно предпринимались как со стороны философов и мыслителей, так и
со стороны представителей науки — этнологов, социологов, историков, и
тем не менее спорная проблема о значении и границах религии все еще
остается нерешенною.
Недостаточность всех предлагавшихся до сих пор решений
обусловливалась не только односторонностью и субъективностью тех
предпосылок, из которых исходили отдельные мыслители и исследователи, но
в еще большей мере, как уже сказано, обширностью и неопределенностью
границ, представляемых самой областью религиозной жизни, так же,
как и постоянно меняющимся ее содержанием и характером. В самом
деле, какое определение могло бы исчерпывающим образом
охарактеризовать религию, например, на той начальной стадии развития, когда она
захватывала собою не только всю духовную жизнь человека, но
одинаково и область общественных и даже политических отношений; или как
подвести под одно определение религию первобытного дикаря, религию
Будды или Христа, деизм философов восемнадцатого столетия или,
наконец, современный агностицизм? Сама изменчивая сущность религиозных
явлений служит, таким образом, прежде всего причиной тою, что понятие
религии не поддается более точному определению и что все
предлагавшиеся определения этого понятия невольным образом должны были
страдать неполнотой или же слишком общим и неопределенным характером.
Как ни обширна^ однако, область религиозных явлений, как ни
неопределенны и ни растяжимы ее границы, все же во всякой религии,
начиная с самой примитивной и кончая наиболее возвышенными и
отвлеченными, можно найти одну общую сближающую их черту,
именно—признание некоторой высшей силы, олицетворяемой в виде индивидуальных
22
фразой, индивидуальных существ, с которыми человек необходимо
находится в отношении большей или меньшей зависимости. Если с течением
времени это сознание и утрачивает свои (первоначальные
грубо-материальные черты и принимает более одухотворенный и более
нравственный характер, тем не менее, хотя и в измененной и в смягченной форме,
оно сохраняется на всех стадиях религиозного развития. Ни одна из так
называемых этических религий, в которых нравственному принципу
отводится первое место, несвободна от этого чувства зависимости, от сояна-
ния слабости и недостаточности духовных сил человека и невозможности
для него обойтись без помощи и содействия свыше. Это сознание,
собственной слабости и ограниченности, это чувство.зависимости одинаково
присущи, одинаково характерны как для религии дикаря, так и для
религиозных верований и представлений культурных народов Европы. И
недаром всего сто лет назад Шлейермахер определял религию, как чувство
абсолютной зависимости, имея при этом в виду религиозные верования
своих современников. И в наше время известный протестантский богослов
Пфлейдерер точно так же видит сущность религии в отказе от собственной
воли во имя божественной воли. В этом-то сознании собственной
слабости и беспомощности и проистекающем из него чувстве зависимости и
должны, таким образом, прежде всего искать причин зарождения всякого
религиозного сознания и религиозного чувства.
За исключением только что отмеченного чувства зависимости,
трудно найти какие-либо иные общие черты, которые были бы одинаково
свойственны той или иной отдельной группе религий, религиозным
верованиям всех времен и народов вообще. Изменяется не только
интенсивность и глубина религиозного чувства, не только содержание религиозных
верований и представлений, изменяются, как уже сказано, и самые
границы круга явлений, относимых к области религиозной жизни. Как
представления о божестве и божественной сущности, так равным образом
и представление о характере и значении предполагаемого отношения
божества к людям несходны на различных ступенях развития; по
временам же они могут оказываться в полной противоположности между собой.
Как и всякое другое явление в жизни человека, религия не может и не
должна быть изучаема вне зависимости от условий места и времени, но
непременно в связи с этими условиями и притом в исторической
последовательности своего развития. И само собою разумеется, что за исходный
пункт такого исследования должно принимать не позднейшие явления
религиозной жизни, но момент зарождения религиозного сознания,
религиозную жизнь не в высших, более развитых ее проявлениях, но на
начальных ступенях развития.
Слабым, беспомощным, беззащитным чувствовал себя первобытный
человек посреди окружавшего его мира. Все его существование зависело
исключительно от того, насколько благоприятно или неблагоприятно
складывались для него внешние обстоятельства. Пищу его составляли
лишь те предметы питания, какие он находил и потреблял в готовом
виде — плоды, корни растений, мелкая дичь. Окружающая природа могла
при этом оказаться для него и доброй, любящей матерью и злой мачехой.
Пещеры, ветви деревьев и другие подобные естественные прикрытия
доставляли ему приют на ночь, а также служили убежищем от зимнего
холода. В этих же убежищах искал он спасения и от окружавших его
опасностей, а опасностей было немало. Со всех сторон подстерегали его
страшные животные хищники, голод и холод; различные стихийные
бедствия постоянно угрожали его жизни и здоровью.
23
Такая необеспеченность и зависимость существования первобытного
человека от окружающих условий не могла не рождать в нем сознания
своей беспомощности и бессилия, а это сознание в свою очередь
претворялось в его уме в представление о могущественных сверхъестественных:
силах или, точнее, так как дикарь мыслит не отвлеченно, но
непосредственно конкретными образами, в представление о высших божественных
существах. Заставить действовать эти высшие существа в своих
интересах пли же бороться против них, когда они обращались против него„
первобытный человек был не в силах, и ему оставалось либо просить,
либо умилостивить их тем или иным способом*). Таково было
происхождение того чувства зависимости, которое, как мы уже сказали, лежало и
продолжает лежать в основе всякого религиозного чувства., всякого
религиозного переживания.
(«Возникновение религии и первые шаги религиозного развития»).
Г. В. Плеханов
ВОЗМОЖНА ЛИ РЕЛИГИЯ БЕЗ АНИМИЗМА
а) Ани.мизм в буддизме.
Я сказал, что религия есть более или менее стройная, т.-е. болеем
или менее свободная от противоречий, система представлений, настроений
и действий, Я сказал, кроме того, что представления, свойственные
религии имеют анимистический характер. Это — общее правило, из которого*
насколько я знаю, нет исключений. Правда, многие считают буддизм
атеистической религией. А так как атеистическая религия, «религия без
бога», легко может быть принята за религию, чуждую всяких следок
анимизма, то мне, пожалуй, укажут на буддизм, как в высшей степени
важное исключение из указанного мною общего правила. И я охотно
соглашаюсь с тем, что если бы буддизм был свободен от анимистической
примеси, указанное мною правило оказалось бы сильно поколебленным.
Выражусь сильнее: я сам признал бы его ниспровергнутым. В самом деле,.
у буддазма больше последователей, чем у какой бы то ни было другой-
религии. И если бы буддизм мог быть признан религией без
анимизма, то странно было бы называть анимизм неизбежной составной
частью религии.
Но можно ли 'в самом деле считать буддизм религией, чуждой
анимистических иредставлений? Некоторые весьма авторитетные в этойг
области писатели утверждают, что — да. Так, например, Рис-Дэвиде
пишет: ('Исходной точкой буддийского взгляда на все предыдущие
представления о жизни было то, что Готама не только оставлял в стороне всю
теорию о душе, но считал всякое обсуждение вопросов о душе, которым,
главным образом, заняты Веданта и другие философские школы,
детским, бесполезным и даже противным единственному началу, к кото-
*) Этот взгляд нуждается в поправке. Если к религиозным верованиям наших
современников более или -менее подходит пм-ейермахерово определение религиозного
чувства, как «чувства абсолютной зависимости», то к самым начальным ступеням-
развития религии это определение не подходит. Вместе с тем следует иметь в виду,
что новейшие исследования дают нам серьезные основания думать, что вера в
сверхъестественные силы возникла у дикаря не из страха перед силами природы, а из.
страха перед загадкой собственной жизни. См. отд. И. — Прим. ред.
24
рому стоило стремиться, идеалу совершенной жизни на этом свете —
к архатству».
Я не могу спорить с Рис-Девидоом; может быть Готама в самом
деле так относился к вопросу о душе. И возможно, что такое его
отношение к душе не оставляло в его миросозерцании места для анимизма.
Но несомненно то, что уже на очень близком расстоянии от такой точки
исхода дело приняло совершенно другой оборот. В подтверждение этого
я с удовольствием сошлюсь на того же Рис-Дэвидса. Вот что читаем мы
в его только что цитированной мной книге: «О детстве и ранней
молодости Готама ничего не встречается в ранних писаниях. Но и в них нет
недостатка в описаниях чудес, сопровождавших его рождение, а также
в рассказах о необычайно раннем развитии мальчика. Он не родился так,
как рождаются обыкновенные люди: у него не было земного отца; по
своему собственному желанию он сошел с небесного своего престола во-
чрево матери; тотчас же по своем рождении он явил несомненные знамения
своего высокого "духа и своего будущего величия. Земля и небо
слились в одно при его рождении, дабы воздать ему хвалу, деревья
добровольно склонились над его матерью, а ангелы и архангелы
присутствовали тут же, принося свою помощь». Что же это такое, если не самый
очевидный анимизм?
Рис-Дэвиде продолжает, излагая содержащие весьма важного текста,
носящего знаменательное заглавие: «Беседа о чудесах и дивах». «В тексте
этом выдается за непреложное, что в момент зачатия каждого, а
следовательно, и исторического Будды, мир озаряется ослепительным светом;
что чрево матери делается настолько прозрачным, что мать видит свое
дитя ранее его рождения; что беременность продолжается 280 дней; что
мать, стоя, рождает дитя; что по своем рождении оно принимается руками
небожителей, и что сверхъестественные ливни доставляют сначала
горячую, а затем холодную воду для омовения ребенка; что будущий Будда
начинает тотчас же ходить и говорить, при чем мир снова озаряется
ярким светом. Существуют и другие подробности, но и только что
приведенных достаточно, чтобы, приняв во внимание древность диалогов,
убедиться в том, какое короткое время потребно для зарождения такой
веры в чудесное».
Приведенных Рис-Дэвидсом подробностей, в самом деле, с излишком
достаточно для того, чтобы показать нам, как сильна у буддистов вера
в чудесное. Ну, а там, где есть чудеса, есть и анимизм. Мы уже знаем^
что при рождении Будды ангелы и архангелы играли роль акушеров.
А вот что сообщает нам — опять-таки на основании древних
памятников — Рис-Дэвиде о том, как проводил Будда некоторые свои
ночные часы: «По окончании первой части ночи монахи уходили,
откланявшись блаженному. Тогда являлись с вопросами
различные божества. И, отвечая на их вопросы, блаженный, проводил вго-
рую часть ночи».
Еще раз спрашиваю: это ли не самый очевидный анимизм?
Буддизм отнюдь не чужд анимизма. Он признает существование-
«бесчисленных богов» и духов. Но в этой религии отношение людей
п богам и духам изображается совсем иначе, чем изображается оно,
например, в христианстве. И этим объясняется заблуждение тех, которые
считают буддизм атеистической религией. Так, например, почему Шан-
тэпи-де-ла Ооссэй говорит об «атеизме» буддистов? Потому что, по учению
этих последних, Брама при всем своем величии бессилен перед человеком,
достигшим архатства. Но когда знахари первобытных охотничьих племен
25
жрибегают к колдовству, они совершают такие действия, которые, по их
мнению, заставят ботов выполнить их волю, т.-е. другими словами,
сделают людей в некотором смысле сильнее богов. Однако это не да&г нам
никакого права называть таких знахарей атеистами. Я готов признать,
что в буддизме представление об отношении людей к ботам приняло
в высшей степени своеобразный вид. Но придать этому сложному
представлению в высшей степени своеобразный вид еще не значит
устранить одну из двух его составных частей; представление о богах и
вообще о духах.
Если даже допустить, что сам Готама был атеистом и в своем
качестве атеиста оставался простым проводником нравственности, то все-
таки необходимо» признать, что по его смерти, а может быть даже и при
его жизни, его последователи внесли в егб учение очень обильный
анимистический элемент, чем и придали этому учению религиозный характер.
Рис-Дэвидо, приведя цитированные выше мною сказания о детстве и
ранней молодости Будды, прибавляет, что подобные же сказания
распространены про всех основателей великих религий и что «они неизбежно
возникают на известной ступени человеческого умственного развития».
Это совершенно справедливо. Но на какой же именно ступени? Как раз
на той, которая характеризуется возникновением и упрочением
анимизма. А так как религии возникают именно на этой чрезвычайно широ-
дой ступени, то странно думать, что хотя бы одна из них могла остаться
свободной от анимистических представлений; странно говорить об
«атеизме» буддистов.
Религии, чуждой анимистических представлений, до сих пор не
было, да, как я говорил, и быть не может.
б) Анимизм в религии Л. Н. Толстого
Я не намерен входить здесь в разбор учения Л. Н. Толстого. Я хочу
только коснуться религии Толстого, да и то с той лишь ее стороны, которая
имеет отношение к интересующему меня здесь вопросу об анимизмех).
Сам Л. Н. Толстой считает свою религию свободной от всякого
fсверхъестественного» элемента. Сверхъестественное есть для него
синоним бессмысленного и неразумного. Он смеется над людьми, привыкшими
считать «сверхъестественное, т.-е. бессмысленное» главным признаком
религии. «Утверждать, что сверхъестественность и неразумность
составляют основные свойства религии, говорит он, все равно, что, наблюдай
только гнилые яблоки, утверждать, что^ дряблая горечь и вредное1 влияние
на желудок есть основное свойство плода яблока». Что же такое религия,
по мнению Л. Н. Толстого?
Ответ: «Религия есть определение отношения человека к началу
всего и вытекающего из этого положения назначения человека и из этого
назначения правил поведения».
В другом месте того же сочинения Л. Н. Толстой дает следующее
определение религии: «Истинная религия есть такое, согласное с разумом
и знаниями человека, установленное им отношение к окружающей его
бесконечной жизни, которое связывает его жизнь с этой бесконечностью
и руководит его поступками».
На первый взгляд эти, в сущности, совершенно тождественные
между собой определения религии кажутся очень странными. Они неиз-
*) Об отношении толстовства к социализму, о характере толстовской этики
и пр. — см. отд. X настоящей хрестоматии. — Прим. ред.
26
•бежно вызывают вопрос: да почему же это называется религией? Опреде-
.лить свое отношение к «началу всего» или (согласно второму
определению) к «бесконечной жизни», окружающей человека, еще не значит
положить основу религиозного миросозерцания. И точно так же
руководиться в своем поведении своим взглядом на «начало всего» (на
«бесконечную жизнь») еще не значит быть религиозный. Вот, например, Дидро
очень-старательно определял «свое отношение к началу всего» и! строил на
его определении свою этику; но он в тот период своей жизни, когда его
нзгляд на «начало всего» сделался взглядом убежденного материалиста,
совсем не был религиозен. В чем же тут дело? Мне кажется, что все дело
-тут в одном слове: «назначение». Л. Н. Толстой думает, что, определив свое
отношение к «началу всего», человек тем самым определит свое-
«назначение». Но «назначение» предполагает, во-первых, тот предмет или то
существо, которому оно дается, — в интересующем нас случае, человека,
а, во-вторых, то существо или ту силу, которое (или которая) дает
человеку его «назначение». И это существо или эта сила, очевидно, обладает
сознательностью: иначе оно не могло бы давать человеку его
«назначение», ставить перед ним определенную задачу. Как же мы должны
представлять себе это сознательное существо? На этот вопрос мы тоже находим
ясный ответ у Толстого. Ему не нравится нынешнее преподавание религии.
По его мнению, не следует внушать детям и подтверждать взрослым
«веру в то, что бог послал сына своего, чтобы искупить грехи Адама,
л установил свою церковь, которой надо повиноваться». Он убежден, что
несравненно лучше было бы, если бы детям «внушалось и
подтверждалось то, что бог есть дух, проявление которого живет в нас и силу которото
мы можем увеличить своею жизнью». Но внушать детям, что бог есть
дух, проявление которото живет в нас, значит сообщать им известные
■анимистические представления. Таким образом оказывается, что
сознательное существо, давшее человеку его назначение, есть дух. Что же
такое дух? Это такое существо, волей которого причиняются явления
природы. Стало быть, он стоит над природой, т.-е. должен быть признан
сверхъестественным существом. А это значит, что ошибается Л. Н.
Толстой, считая свою религию свободной от веры в «сверхъестественность».
Что же ввело его в ошибку? В его представлении
«сверхъестественное» отождествилось с «бессмысленным» и неразумным. А так как его
собственная вера в бытие бога, который «есть дух», не только не казалась
ему бессмысленной и неразумной, но, напротив, считалась им за
проявление самого здравого смысла и самого высшего разума, то он и решил, что
в его религии нет места для «сверхъестественного». Он позабыл иди не
знал, что верить в «сверхъестественное» именно и значит признавать
существование духов или духа (что совершенно все равно). В различные
исторические эпохи вера в духов (анимизм) принимает до- такой степени:
различный вид, что люди одной из них считают бессмыслицей ту веру
б «сверхъестественное», которая считалась проявлением высшего разума
в продолжение другой или даже нескольких других эпох. Но эти
недоразумения между людьми, стоявшими на точке зрения анимизма, ни мало
не устраняли основного характера верования, общего им всем; верование
это было верой в существование одной или нескольких
«сверхъестественных» сил. И только потому, что всем им свойственна была такая вера,
всё они имели религию. Религии, чуждой анимистических представлений,
до сих: пор не было, да и быть не может: свойственные религии
представления всегда имеют более или менее анимистический характер. Пример
религии Л. Н. Толстого может служить новым доказательством этой
27
истины. Л. Н. Толстой — анимист, и его нравственные стремления
окрашиваются в религиозный цвет лишь в той мере, в какой они сочетаются
с верой в бога,- который есть «дух» и который определил назначение-
человека.
(«Еще о религии»).
Б. И. Горек
РЕЛИГИЯ КАК ИДЕОЛОГИЯ БЕСПОМОЩНОСТИ
Мне представляется, что сущность религии, ее глубочайшие корни,
заключаются не в познании или в пассивном созерцании, не в объяснении:
мира или его отражении, а в практике, в действенном практическом
подходе к тем силам, которые оказались могущественней человека, в
обращении к ним с просьбой, заклинанием, молитвой. Вот почему нет
принципиальной разницы между деревенским знахарем, первобытным дикарем
и современным священником. Все они видят сущность своих отношений
к злым или добрым духам, к богам или богу в просьбе, молитве, а также
в подарках, жертвах. И они совершенно правы.
Ибо, с моей точки зрения, нет религиозной веры, нет религии
безличного божества, одаренного способностью вредить или помогать
человеку, и без той или иной формы обращения к этому божеству с просьбой
устранить зло или дать благо.
Для того, чтобы лучше понять сущность религии как
практического обращения к силам, которые оказались могущественней человека,
позвольте привести несколько аналогий из обычных отношений между
людьми. Когда двое борются и один оказывается победителем,
побежденному не остается ничего больше, как обратиться к торжествующему врагу
с просьбой, пытаться умилостивить его словами, обещанием покорности
или подарков. По мере .роста общественной диференциации, с
возникновением власти, далекой от народа, простой человек своими силами не
может найти правды ни у властителя, ни в суде. Он вынужден обращаться
к посредникам адвокатам: те знают нужные формулы «заклинания»,
которые непонятны простому человеку, но действуют на властителя, или:
судью, которые и слушать не стали бы бесхитростных слов ищущего
правды или милости бедняка. И чем непонятнее официальный язык
адвокатских формул уму простого человека, тем более магической
кажется ему их сила.
Разве не то' же самое происходит в области религии? И там, при
обращении к душам покойников, а потом н к силам природы, отдельный:
человек, убедившись, что его не слушают, обращается к специалистам»,
знахарям, заклинателям, жрецам, священникам. Они знают особые слова,,
особые формулы, молитвы на непонятном народу языке, которые доходяг
до богов или духов. И как подарок или взятку в земной жизни нужно^
дать умеючи, нередко через посредника, через приближенного или слугу
сильного человека, так и жертвы надо приносить с особым искусством,
для которого постепенно тоже вырабатываются нужные специалисты.
Что обращение к богу с просьбой, мольбой, заклинанием или
подарками является в результате сознания своего бессилия в борьбе с ним;
что человек сперва пробует одолеть встретившееся ему явление, будь, это
покойник, зверь или сила природы, и лишь потом, побежденный, падает
нин и обращается к нему с молитвами или жертвам, начинает «обоже-
28
«твлять» его, видно из целого ряда этнографических наблюдений, а также
наблюдение над детьми, которые в известной мере проходят сокращенно
ряд ступеней культуры человечества. Достаточно припомнить, как
обращаются с покойниками, прихода которых боятся: их заваливают камнями,
втыкают в могилу кол и т. п. В Австралии найдено было племя, которое
стреляло в грозовую тучу отравленными стрелами, т.-е. пыталось серьезно
бороться с той самой силой, которая на позднейших ступенях культуры
превратилась в одно из наиболее грозных и могущественных божеств.
Дети, как известно, нередко бьют то место, о которое они ушиблись. И если
могучая и страшная! природа Индии уже очень рано вселила в человека
страх и благоговение к себе, и боги Индии требуют даже человеческих
жертв для своего умилостивления, то серенькая и убогая природа северо-
востока европейской России создала у некоторых народов таких богов,
которых можно и выпороть.
И это фамильярное отношение к своим богам напоминает отношение
крестьян к близкой и доступной им местной власти. Ее боятся, она может
-очень повредить той или иной магической «бумагой», но при случае
с ней можно и расправиться.
Итак, на основании вышесказанного, сущность религии можно
определить как своеобразную идеологию беспомощности. Вот почему, между
прочим, в современном «цивилизованном» обществе степень
религиозности в сильнейшей степени зависит от нола, возраста и профессии, в
которых в большей или меньшей мере проявляется активность, вера в
собственные силы или, наоборот, сознание своей слабости, беспомощности,
страх перед неизвестным. Так, повсеместно распространенным является
тот неоспоримый факт, что женщины как существа — по своему
историческому воспитанию — более пассивные, покорные, беспомощные,
нуждающиеся в опоре, гораздо религиознее, чем мужчины. Далее,
молодежь, смелая, уверенная в себе и в своих силах, бодро смотрящая в
будущее, гораздо менее склонна обращаться к религии, чем старики, пред
которыми встает грозный призрак неотвратимой близкой смерти.
Наконец, городские промышленные рабочие, являющиеся непосредственными
творцами и машин и вырабатываемых ими продуктов, более склонны
к материализму и атеизму, чем крестьяне, чувствующие свою
зависимость от сил природы, над которыми они не властны.
На первоначальной основе религии как идеологии беспомощности,
вырастают постепенно те «надстройки», те вторичные, привходящие
элементы, которые так легко и часто смешиваются с самой сущностью
религии. Естественно, что раз человек столкнулся с такими явлениями или
силами, которые оказались могущественнее его, которых остается лишь
умилостивлять просьбами или подарками, то он впоследствии именно
в этих силах и склонен искать объяснения всего непонятного и
загадочного в окружающем его мире. Так возникает мифология, рассказы
о богах, вплоть до еврейско-христианского рассказа о сотворении мира.
А всякая мифология есть не что иное, как религиозная философия,
т.-е. миросозерцание, лишь основанное на религии, на практическом
(иногда даже, как правильно указывает Кунов, договорном) отношении
человека к богу. И здесь, думается мне, im Anfang war die Tat, вначале
была практика, и лишь за нею пришла теория — объяснение мира при
помощи понадобившихся на практике бого'В или духов, непобедимых и
потому божественных сил.
Далее, обращение с просьбой, к этим непобедимым силам или к
посредникам, жрецам, конечно, выработало особый тип мышления: подчине-
29
пик жрецам как истолкователям высшей воли, и безусловной веры
в их авторитет.
Наконец, преклонение перед могучем и непобедимым создает то
особое чувство покорности, сознания своей слабости, растворения своего я
в чем-то великом, чувство благоговения, которое можно назвать
религиозным чувством в собственном смысле. Но похожее чувство может
возникать на гораздо более поздних ступенях культуры й без всякой неш-
средственной связи с религией. Таково чувство преклонения перед
красотой (вспомним стихи Пушкина, обращенные к его невесте: «Благоговея
богомольно перед святыней красоты»), перед величием природы или
человеческого духа, чувство слияния с коллективом, готовность жертвовать,
собой во имя идеала, т.-е. будущности того же коллектива и т. д., и т. п.
Некоторое сходство ощущений, благодаря распространенности и могучейг
силе религиозной традиции, и делает то, что подобные чувства тоже
называются религиозными, что' всякая способность к .самопожертвованию,
всякий экстаз объявляются атрибутами религии, что религия, как это-
делает Ф. А. Ланге, роднится с искусством или даже,.как пытаются делать
некоторые, с половым чувством. В результате религиозное чувство про*
возглашается коренным свойством человеческой природы, свойством,
украшающим и облагораживающим эту природу, и всякая борьба с
религиозным дурманом считается безнадежной и в то же время вредной, так
как, убивая в человеке «бога», мы якобы убиваем именно то, что есть
в нем лучшего.
Таким образом, это смешение похожих ощущений и расширенное-
толкование религии в корне неправильно теоретически, так как оно
устраняет из понятия религии именно то, что для нее наиболее характерно —■
живую, практическую связь человека с личным богом, без которой,
повторяю, нет, по-моему, настоящей религии, и вместе с тем является
сознательно или бессознательно прямой поддержкой самого подлинного
поповского обскурантизма.
Если с формальной стороны религия есть идеология беспомощности,
и наиболее характерной чертой ее является просьба, молитва, то
содержание религии, т.-е. вопрос о том, кого и о чем просят, целиком
определяется окружающей человека природой и общественной средой, т.-е.
характером и свойствами тех сил, которые над ним господствуют, и тем
способом, каким он добывает себе средства к жизни.
У лесных племен первой доброй богиней должна была стать луна,
которая разгоняла страшную для первобытного человека лесную жутъ
ночью, а впоследствии, когда человек по отношению к зверям перешел
от обороны к нападению, когда он стал охотником, луна, освещавшая
лесные дебри, стала одновременно и богиней охоты (Артемида). В других
случаях охотничьи племена обоготворяли тех зверей, которых они не
могли одолеть и потому продолжали бояться, напр., медведей в лесах
Америки, крокодилов на берегах Нила и т. п. Их оставалось лишь
умилостивлять и задабривать жертвами. Наоборот, земледельцы обоготворяли
те силы природы, от которых зависит плодородие: прежде всего, солнце,
затем дождь, вообще, небо, наконец, самую праматерь — землю.
Резкое отличие от так называемых природных религий представляют
религии общественные, как иудейская, христианская, мусульманская,
буддийская. Особенностью их является та или иная ступень приближения
к единобожию и довольно резкий классовый характер. Возникают они
обыкновенно в моменты сильной классовой диференциации и -притом"
в городах, где человек чувствует не столько свою зависимость от много-
30
образных сил природы, сколько от таинственных законов единого
общественного организма, и где в моменты тяжелых кризисов и потрясений,
как войны, революции и т. п., у широких масс является оюаоюда
справедливости, правильно отмеченная Кантом в «Критике практического
разума», в качестве могущественнейшего стимула новейших религий1).
(«О сущности религии», докл. в Соц. акад.).
Г. В. Плеханов
АНИМИЗМ — КОРЕНЬ ИДЕАЛИСТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ
Совершенно очевидно, что если каждый из нас является субъектом*
для себя (я), то для других людей он может быть только объектом (ты).
Не менее очевидно и то, что люди существуют не за пределами природы,
а в ней. Кажется поэтому, что именно природу (бытие, объект) и надо*
брать за исходную точку во всех философских построениях. Как же-
объяснить возникновение- тех систем, в которых точкой отправления
служит дух, а не природа?
За ответом на этот вопрос приходится обратиться прежде всего >
к истории культуры.
Известный английский этнолог Эд. Б. Тэйлор давно уже сказал, что*
сущность спдритуалистической философии, в ее противоположностм
философии материалистической, коренится в первобытном анимизме. Это*
может быть принято за парадокс. Кроме того, иной читатель заметит,,
пожалуй, что этнологи вообще мало компетентны в истории философии.
Такому читателю я отвечу, что в данном случае мнение этнолога, ш>
крайней мере отчасти, разделяется одним весьма известным историком-
философии. В своем талантливом сочинении, посвященном «греческим^
мыслителям», Теодор Гомперц признает, что учение Платона об идеях:
имеет значительное сходство с воззрениями некоторых первобытных
племен, выросшими на анимистической основе. Но к чему ссылаться на
авторитеты? Взглянем на дело своими собственными глазами. Что такое
анимизм? Это — попытка дикаря объяснить явления природы. Как ниг
слаба, как ни беспомощна эта попытка, она неизбежна при условиях
жизни первобытного человека.
В своей борьбе за существование он совершает известные действия^,
которыми причиняются известные явления. Таким образом, он привыкает-
смотреть на себя, как на причину этих явлений. Судя по аналогии
с собою, он думает, что и все остальные явления вызываются действиями
существ, подобно ему имеющих известные ощущения, потребности,
страсти, рассудок и волю. Но он не видит этих существ и потому считает
их «духами», при обычных условиях недоступными его внешним чувствам
х) Как видно, Б. Горев несогласен с теми, которые считают, что религия есть
мировоззрение дикаря, неправильное представление о мире, первобытное, ошибочное-
объяснение непонятных явлений. Он считает, что глубочайшие корни религии
заключаются не в объяснении мира, а в практике — в обращении к божеству с просьбой,
заклинанием, молитвой, с целью практического воздействия на это сверхъестественное-
существо. Поэтому он определяет религию, как своеобразную идеологию беспомощности^
и покорности. Но это верно только отчасти: ошибка Горева в том, что он один изг
элементов религии, элемент действия, момент просьбы превращает в ее существенный
признак, придает ему существеннейшее значение, мало обращая внимания на другие-
элементы: представления и настроения. — Прим. ред.
ЗЬ
и только в исключительных случаях непосредственно действующими на
них. На почве этого анимизма возникает религия, дальнейшее развитие
жкгорой определяется ходом общественного развития.
Боги — это те духи, которых первобытный человек считает
расположенными к нему и которым он поэтому покланяется. На счет одного
или нескольких этих духов он относит и сотворение мира. Правда,
первобытного охотника интересует вопрос не о том, кто сотворил животных,
охота за.которыми дает ему средства существования, а о том, откуда они
приходят. На этот главный вопрос и отвечает космогония охотника.
Рассказы о сотворении мира являются лишь впоследствии, когда развитие
производительных сил расширяет производительную деятельность
человека и тем делает для него все более и более привычным представление
о творчестве. Вполне естественно-, что деятельность творца (или творцов)
мира представляется первобытному человеку похожей на его собственную
производительную деятельность. Так, согласно мифу одного из
американских племен, человек был вылеплен из глины. В Мемфисе верили, что
бог Фта построил мир подобно тому, как каменщик строит здание; в Саисе
рассказывали, что мир был соткан одной богиней и т. д.
Мы видим, что космогония тесно связана с техникой. Но это
мимоходом. Здесь мне нужно отметить только одно: раз утвердилась вера в
сотворение мира тем или другим духом, то этим была подготовлена почва
для всех тех философских систем, в которых дух (субъект) является
точкой исхода и, стало быть, так или иначе определяет собою существование
природы (объекта). Вот в каком смысле мы можем и должны признать,
что спиритуалистическая — да и всякая идеалистическая —
философия, в ее противоположности материализму, происходит от
первобытного анмизма.
Нечего и говорить: творческий дух идеалистов, например,
абсолютный дух Шеллинга или Гегеля, очень мало похож на того божка
упомянутого мною выше американского племени, который будто бы вылепил
человека из глины. Боги первобытных племен были совсем подобны
людям, отличаясь от них только гораздо большей силой. Между тем,
абсолютный дух как Шеллинга илц Гегеля не имеет ничего человеческото,
кроме сознания. Иначе сказать, те представления о духах, которые
имелись у первобытного человека, должны были пережить очень длинный
процесс дистилляции (как выражался Энгельс), чтобы слиться в
представление абсолютного духа, выработанного великими немецкими
идеалистами. Но длинный процесс «дистилляции» не мог внести никаких
существенных перемен в анимистические представления: по существу они
остались тем же, чем были.
(Предисловие к книге Деборина).
Ф. Энгельс
РЕЛИГИЯ, ИДЕАЛИЗМ И МАТЕРИАЛИЗМ
Великим основным вопросом всякой, а особенно новейшей,
философии является вопрос об отношении мышления к бытию. Уже с того
весьма отдаленного времени, когда люди, еще не имея никакого понятия
о строении своего тела и не умея объяснить сновидений*), пришли к тому
г) Еще и теперь у дикарей и варваров низшей ступени повсеместно
распространено то представление, что снящиеся им люди суть души, на' время покидающие
32
представлению, что их мышление и ощущения причиняются не телом,
л особой от тела душой, остающейся в теле, пока оно живет, и покидающей
его, когда оно умирает, — уже с этого времени они должны были
задуматься об отношении души к внешнему миру. Так как смерть состоит
в том, что отделяется от тела душа, остающаяся живою, то нет надобности
придумывать для нее особую смерть. Так возникло представление о ее
^бессмертии, на той ступени развития не заключавшее в себе ничего
утешительного, казавшееся лишь роковою, совершенно непреоборимою
необходимостью и часто, — напр., у греков, — считавшееся положительным
несчастием. Представление о личном бессмертии выросло не из.
потребности в религиозном утешении, а из того простого обстоятельства, что,
признавши существование души, люди не могли объяснить себе, куда же
девается она после смерти. Подобным же образом, благодаря
олицетворению сил природы, явились первые боги, которые при дальнейшей
выработке религий все более и более становились богами не от мира сего, пока,
в силу процесса отвлечения, — я чуть было не сказал: процесса
дистилляции, — совершенно естественно в ходе умственного развития, в головах
людей не возникло, наконец, из многих, более или менее ограниченных
и ограничивающих друг друга богов, свойственное монотеистическим
религиям представление об единому исключительном боге.
Возвышеннейший вопрос всей философии, вопрос об отношении
мышления к бытию, коренится^ стало быть, совершенно так же, как все
религии, в ограниченных и невежественных представлениях дикаря. Но
-он мог быть резко поставлен и приобрести все свое значение лишь после
того, как европейское человечество пробудилось от долгой зимней спячки
христианских средних веков. Уже в средневековой схоластике игравший
большую роль вопрос о том, как относится мышление к бытию, что чему
предшествует: дух природе или природа духу, — этот вопрос, на зло
церкви, принял более резкий вид вопроса о том, создан ли мир богом, или
он существует от века?
Философы разделились на два больших лагеря, сообразно тому, как
отвечали они на этот вопрос. Те, которые отвечали, что дух существовал
прежде природы, и которые, следовательно, так или иначе признавали
сотворение мира, — а у философов, напр., у Гегеля сотворение мира
принимает еще более нелепый и запутанный вид, чем у правоверных
христиан, — составили идеалистический лагерь. Те же, которые основным
началом считали природу, примкнули к различным школам
материализма.
Ничего другого и не заключают в себе выражения: идеализм и
материализм, взятые в их первоначальном смысле.
(«Людвиг Фейербах»).
В. Ворохов
ОБЩЕПРИНЯТОЕ И ШИРОКОЕ ТОЛКОВАНИЕ РЕЛИГИИ
Покорив Иерусалим и вступив в иудейский храм, римский вояка
Помпеи был, по преданию, поражен отсутствием каких-либо изображений
в храме и воскликнул: «Какой несчастный народ!». Совершив восторжен-
тела; при этом на человека, виденного во сне, возлагается ответственность за те- его
поступки, которые снились видевшему сон. Это заметил, напр., Имтуры в 1884 г.
у гвинейских индейцев. — Автор.
Г. Гурев 3
33
нов обращение в марксизм и вступив в ряды борющегося пролетариата,,
т. Луначарский был, несомненно, восхищен наличностью энтузиазма и
идеала в рабочем классе и воскликнул: «Какая чудная религия!». У
Помпея понятие о религии было слишком узкое, у т. Луначарского слишком
широкое: первый не мог себе вообразить никакой религии вне
определенных (Ьорм, второй не представляет себе никаких определенных форм вне
религии.
Узкое понятие о религии, как и вое узкие понятия у их адептов^
и приверженцев, служит показателем ее нетронутой, здоровой цельности:
широкое понятие о религии, как и все слишком широкое понятие у их
защитников, свидетельствует о ее упадке.и разложении. Узкий фанатик
не хочет знать никакой другой ценности, которая могла бы состязаться
с его святыней; последний могикан умоляет бессердечный свет, топчущий
его заветные чаяния, признать хоть немножко святыней и его ценность.
Узкое понятие о религии носит характер агрессивный; друзья религии
в пору ее полного расцвета и недруги в пору лихой ее напасти, — все
пользуются узкими понятиями о ней. Широкая идея о религии носит
характер апологетический: запоздалые и немощные друзья жаждут
оправдать релитию, распространив ее на то, что не принадлежит ей по
праву. Оба Зти понятия не ^читаются с историей: узкое — потому, что
не ведает истории, широкое — потому, что боится ее.
«Социализм есть религия», говорят нам новые пророки не для того,
чтобы укрепить социализм, а затем, чтобы поддержать религию. /Но горе
той религии, которая должна ещр убеждать своих адептов в том, что-
она — религия, а не что-то другое. До сих пор еще такого несчастья с ней
не бывало: все —и оруженосцы ее и злые супостаты — прекрасно знали,
с кем имеют дело, что пред ними именно она, религия во плоти и крови:
теперь же требуют удостоверения личности, да и по буматам, по
тончайшим «определениям» не признают ее. От таких ударов судьбы не
оправляются; от'таких услуг, как расплывчатые определения, новых, свежих
сил не прибавится; цветущая молодость религии прошла безвозвратно,
и философские белила с поэтическими румянами не скроют увядших
ланит дряхлой старухи, былой красавицы, труп которой уже поджидаег
могилыцица-история. Когда хоть кто-нибудь сомневался, что
христианство, буддизм, иудейство, эллинизм, ислам — религиозные верования?
И почему в настоящее время только А. Луначарский, Д. Койген, да пара
других социалистов величают религией социализм, а весь прочий мир
не желает признать такого титула?
Что такое религия и каково ее происхождение? Сколько
всевозможных ответов давалось на эти вопросы! Обычное мнение «профанов», из
широкой публики, без колебаний отвечает на первый вопрос: религия —
это вера в бога, в богов, в фетишей. Так же, с теми или другими
вариациями, полагает большинство специалистов, старавшихся дать
определение религии. Возможность религии без бога даже просто-
напросто не приходит в голову обыкновенным смертным: она вне
их поля зрения.
В вопросах объективных, касающихся тех или других предметов
внешнего или внутреннего мира, не зависящих от наших человеческих
условностей, мнение большинства отнюдь не компетентно; зато, где речь
идет именно о таких условностях, например, о значении того или иного*
слова, единственную точку опоры дает нам мнение большинства,' и его
«наивное», ничуть не «обоснованное» убеждение должно-перевесить
тысячи этимологических, философских, психологических алализов данного
34
слова. С точки зрения научного эволюционизма мы вправе отрицать,
скажем, ходячее разграничение между животными и растениями, но это
не дает нам никакого резона, вопреки установившемуся
словоупотреблению, называть дуб животным или слона растением. Между тем, называя
религией социализм только на основании некоторых общих черт, мы
решаемся на весьма опасный шаг.
Пророк новой веры проводит под флагом социализма религию без
бога и волей-нё&олей наигрывает на смутных рудиментах детских
переживаний человечества и индивида; вслед за новым пророком публика
поменьше станет проводить под флагом социализма веру в бога.
Итак, ходячее определение религии, как слова, должно ложиться
в основу исследования религии, как явления. Простой смертный никогда
не назовет религией древнею патриотизма, как такового; и если «профан»
согласится признать за ним некоторый религиозный характер, то лишь
постольку, поскольку на патриотизм влияла вера в богов; опять-таки
религией он здесь обозначает веру в бога, а не патриотизм. В этом
обычном, исторически верном определении религии сомневаются только1 те,
кому сильно хочется сохранить хоть что-нибудь от уходящего в вечность
явления, кто не может расстаться с милыми образами прошлого. На
помощь приходит эквилибристика с «существенными» признаками и
нападками на «узкие» понятия. Например, в своем ответе по вопросу на анкету
«Mercure.de Prance» о будущем религии Г. В. Плеханов1) совершенно
справедливо поставил вопрос на историческую почву и определил
религию, как анимистическую веру, простую или же осложненную
моральным моментом. Затем Плеханов последовательно делает безотрадные
выводы на счет будущности религии. Тов. Луначарский этим недоволен;
и вот на сцену появляется обвинение: понятие Плеханова о религии
«узко-рационалистично». А цочему? «Вера», видите ли, интеллектуальный
момент: здесь еще нет «живой связи». Но, позвольте, с каких это пор,
стали веру понимать так узко? Когда Г. В. Плеханов говорит «вера», он
сюда включает и «живую связь»; но тов. Луначарский, дабы во что бы
тх> ни стало спасти религию и широкое понятие о религии, строит узкое
понятие о вере. Вера преходяща, а религия вечна. Это ли не
эквилибристика?
Вытравив из религии элемент веры, воображают, будто в ней еще
что-то осталось. Этот процеженный осадок нарекают «живой связью».
Дальше приходит новое соображение: во всякой религии участвовало
пассивное благоговение, сознание немощи пред высшей силой.
Религиозному социалисту глубоко претит такой элемент в религии: ad majorem
religionis gloriam производится новое насилие над исторической правдой:
торжественно возвещают миру, что религия будит активность
человеческую. А что пассивное благоговение тоже «живая связь»—невелико
препятствие. Стоит только заявить, что, «по глубокому убеждению»
такого-то раба божия, «живая связь» исключает пассивность, что она
есть, напротив, деятельное творчество. Так, изгнав из религии всякое
религиозное содержание, удалив бога, веру и благоговение, опустевшее
слово «религия» легко наполняют вновь каким желательно содержанием.
Создают себе кумир из слова и ополчаются во имя его2).
«Не сотвори себе кумира, и да не поклонишься ему».
*) Этот ответ помещен в начале второго отдела хрестоматии. — Прим. ред.
2) Подробно о 'социализме как религии, и вообще о новых попытках оживить
труп религии (богостроительстве)--см. отд. VI. — Прим. ред.
3*
35
С некоторого времени, около столетия тому назад, «специалисты»
начали понемногу расходиться с обычным пониманием религии. Школа
Сен-Симона, несколько позже романтическая, а потом радикальная
буржуазия (Шлейермахер, Фейербах) делают попытки расширить идею
о религии.
С тех пор появилась уйма широких ее определений. С одной
стороны мы имеем понятие с наклоном к рационализму (например, Г-
Спенсер— религия как сознание непознаваемого, Макс Мюллер—'религия
как идея бесконечности и др.), с другой, тяготеющие к эмоциональному
моменту определения (Шлейермахер — религия как, чувство абсолютной
зависимости, Д.. Штраус — религия как стремление к освобождению от
абсолютной зависимости, Г. Геффдинг— религия как забота о судьбе
ценностей и проч.).
Мы. конечно, не можем остановиться на разборе каждой из этих
теорий. Нам достаточно сказать, что все они имеют целью «доказать»
вечность религии и изменчивость приурочить исключительно к ее
отдельным формам. Не будем мы подвергать анализу и те социальш-психоло-
гические причины" которые толкают современного буржуа-горожанина
на путь религиозных исканий. Лишь заметим, что в самом стремлении
к вечности религии, к воскрешению и увековечению наивных,
первобытных движений души человеческой так же мало вечного, как и во всем
прочем пустоцвете капиталистической анархии.
Прекрасно зная, к чему «исследователям»-апологетам нужны
широкие определения религии, мы заранее застрахованы против соблазна в эту
сторону. Мы имеем все основания придерживаться обычного
словоупотребления и на вопрос: «что такое религия», отвечать: «это живая
анимистическая вера».
«Различные определения религии, — говорит Каутский, — можно
свести к двум определенным типам». Именно: «С одной стороны, религией
называют индивидуальное оостолние души, подъем личности над своими
минутными интересами, нечто вроде этического, восторженного
идеализма. С другой стороны, под религией понимают историческое массовое
явление, миросозерцание, к которому массы проходят не собственным
опытом, а принимают на веру от стоящего над ними авторитета и делают
нормой своей жизни и деятельности». Очевидно, первое понятие й есть то,
которое жы назвали широким, 'второе же —г это общепринятое
историческое представление о религии. И теоретик интернациональной социал-
демократии цревосходно объясняет, почему, многие так охотно называют
одним именем эти столь различные вещи. Это оттого, говорит он, «что
люди охотно прибегают к хитрости в тех случаях, когда они попадают
в неприятное положение потери веры в то мировоззрение, за которое их
душевная жизнь все еще цепляется всеми фибрами. Тотда люди
успокаивают свою душу тем, что переносят на новые взгляды, которыми они
вытесняют старые, имя этих старых и считают новые взгляды только
более чистыми и высшими формами своего предшественника». Например,
когда новые взгляды нарекают «вторым решением религиозной
проблемы» х) ... «Это очень приятно для душевного состояния», говорит'
К. Каутский, «но отнюдь не способствует научному выявлению вопроса,
потому что здесь невольно сливаются вместе два совершенно различных
понятия».
1) «Вторым решением религиозной проблемы)) т. Луначарский называл «рели
гию без бога», т е чуждую анимистического элемента. — Прим, ред.
36
Еще решительнее та отповедь, какую дает расширительному
толкованию религии у Л. Фейербаха Фр. Энгельс: «Это все для того, чтобы из
языка не исчезло дорогое для идеалистических воспоминаний слово
«религия». .. Когда Фейербах хочет установить истинную религию на базе
существенно материалистического понимания природы, это то же самое,
что представлять себе современную химию, как истинную алхимию. Если
религия может существовать без своего бога, то и алхимия может
существовать без философского камня». Так же точно аттестует подобные
попытки М. Гюйо в своем труде о «нерелигиозности будущето»:
«Элементы, отличающие религию от метафизики или морали и составляющие
в собственном смысле положительную религию, на наш взгляд, по
существу своему одряхлели и обречены на исчезновение. В этом смысле мы,
следовательно, отвергаем религию будущего, подобно тому, как мы
отвергали бы алхимию будущего или астрологию будущего».
Второй из поставленных нами вопросов — о происхождении
религии— получает едва ли не больше различных ответов, нежели первый
вопрос. Чтобы не слишком удаляться в изложение всяких теорий, мы
лишь оговорим, что во всех этих, несомненно, односторонних теориях
есть много верных частностей, но общая, целостная картина
возникновения религии должна опираться на гораздо более широкую базу.
Таковым мы считаем учение, исходящее от Л. Фейербаха, что в основе религии
лежат желания и нужды человека; что религия возникла не из одйих
только случайных или систематических ошибок детского ума, а также
из глубоких потребностей человеческой жизни.
Из этого, однако, далеко не вытекает вечность религии, ибо,
во-первых, и глубочайшие потребности людские сами переменчивы, если не по
«существу», то по направлению: «вечен», скажем, голод, но переменчивы
аппетиты и объекты алканий; во-вторых, эти глубокие потребности
составляют необходимое, но еще недостаточное условие для зарождения
религиозного чувства; это значит, религия невозможна без коренных
запросы души человеческой, но коренные запросы души человеческой
и их удовлетворение возможны без религии.
(«Виртуалшм и религиозно-этическая проблема в марксизме»).
М. Терман
ДВОЙСТВЕННЫЙ ХАРАКТЕР РЕЛИГИИ И ЕГО ПРИЧИНЫ
Что такое религия? В нашей обыденной речи существует масса слов,
которым придается самое раличное значение и в которые каждый
вкладывает свой особый смысл. Но ни одно не имеет столько смыслов и
значений, взаимно противоречащих друг другу, как слово «религия». Д-р Лют-
генау, в своей книге «Естественная и социальная религия» 1|), говорит,
что он собрал свыше ста объяснений слова «религия»; что каждое из
этих объяснений является полной противоположностью всем остальным.
Для иллюстрации приведем некоторые из этих объяснений. По мнению
Канта, например, религия и нравственность, т.-е. правила практического
поведения людей, синонимы: никакого другого содержания, кроме правил
практического поведения (практической нравственности), религия, по
*) Имеется в русском переводе (полумарксистская работа). — Прим. ред.
37
утверждению Канта, в себе не заключает. Ясный логический ум не может
отвергать всех тех доводов, при помощи которых стараются доказать
существование бога, загробного мира и т. д. Религия, поэтому, продукт
сердца, а не ума. Фихте, наоборот, думает, что религия не имеет ничего
общего с фактической нравственностью, которая, по сравнению с первой,
слишком ничтожна и несущественна; что источником религии является
именно человеческий разум; что ее задача — ответить на вопросы
первостепенной важности, на вопросы жизни и мироздания. Поэтому,
утверждает Фихте, религия является продуктом не человеческого сердца, а
наоборот— человеческого ума. Шлейермахер доказывает, что истинное
содержание религии — чувство вечной зависимости, а Гегель, наоборот,
утверждает, что истинное содержание религии — чувство абсолютной
свободы.
Эти различные объяснения смысла «религии» доказывают, что хотя
Кант, Фихте, Шлейермахер и Гегель и противоречат друг другу в своем
анализе истинного содержания интересующего нас вопроса, однако, они
все смотрят на религию с одинаковой точки зрения. Они не только
полагают, что религия необходима человечеству, — они думают, что последнее
должно благоговейно относиться к ней, как к святыне, так как она
является единственным источником самых возвышенных мыслей, самых
лучших человеческих стремлений и чувств. Существуют, однако,
мыслители, которые смотрят на религию с другой то^ки зрения. Так, Фейербах
считает религию несчастием человечества/ а источником ее бедное
изболевшее человеческое сердце, несчастия и страдания х мира сего. Историк
культуры Кольб называет религию дочерью глупости и невежества, но
в то же время матерью худшей эксплоатации и угнетения. Согласно этим
объяснениям человечество не только не имеет основания относиться
к религии со священным трепетом и благоговением, но, наоборот, имеет
все основания ненавидеть ее и стараться по возможности скорее от нее
избавиться.
Откуда же столь различные,- резко друг другу противоречащие
взгляды на религию? Почему, по мнению одних мыслителей, религия —
высшее благо для человечества, величайшее счистье, а по мнению других,
худшее из несчастий, которое может себе только представить?
Объяснение этих противоречий мы найдем в том обстоятельстве,
что религия каждого цивилизованного народа — двустороння, и каждая
из этих сторон диаметрально противоположна другой. У каждого народа
существует, собственно, две религии—писаная и устная, действительная.
Релзггия, как она начертана на страницах священного писания того или
другого народа совсем не похожа на релитиозные идеи, господствующие
над умами широких народных масс, которые с таким благоговением
целуют свои священные книги. Отсюда — резкое разл ячие взглядов
разных мыслителей на религию: одни из этих мыслителей анализируют ту
религию, которая начертана на страницах священного писания, религию
писаную; другие берут религию такой, какой она является перед ними
на практике, — они исследуют религию действительную.
Религия каждого народа может доставить нам немало доказательств
верности только что приведенной нами мысли. Кому не известно, как
далеко отстают возвышенные религиозные идеи еврейских пророков,
живших два-три тысячелетия тому назад, от религиозных заблуждений и
суеверий, доныне господствующих над умами широких еврейских масс?
Или кому не известна та пропасть, которая лежит между евангельским
христианством и религиозными идеями христианских народных масс?
38
Но характерный пример двустороннооти представляет (собой религию
индусов, служащая образцом для исследования религий всех
цивилизованных народов. На ней мы остановимся несколько долее.
Знаменитый языковед и исследователь религий Макс Мюллер так
описывает эволюцию индусской религии.
Много тысячелетий тому назад, на заре человеческой истории,
индусский народ уже имел своих богов. Но первобытные боги индусов
не были фетишами, т.-е. простыми идолами из кости, камня или дерева.
Наоборот, первобытный индус молился и приносил жертвы всему тому,
что поражало его своей грандиозностью и мощью: он поклонялся
гигантским Гималайским горам, блиставшим на солнце своим вечным снегом;
он молился рекам Гангу и Инду, протекающим по огромному
пространству две тысячи верст; он приносил жертвы широкому,
необъятному океану, водная гладь которого теряется в
бесконечной рали.
Таковы были первые боги юного и свежего первобытного индусского
народа, созерцавшего мир не глазом умудренного опытом философа,
а счастливым взором поэта.
С течением столетий религия индусов менялась все более и более.
Мало-помалу первобытный индус оставил своих осязаемых богов; он
перестал молиться рекам, горам и морям и начал обоготворять такие
явления природы, которые наполняют оердце еще более волнующим
религиозным чувством. На сцене появились новые боги: В арума — глубокая
и бесконечная лазурь неба, Митра — яркий блеск солнца, Агпи — огонь
молнии, Ипдра — благодатный, освежающий дождь и т. д. Но, создавая
плеяду высших божественных существ, индусы не впали, однако, подобно
грекам и римлянам, в политеизм. Под политеизмом, или многобожием,
подразумевается семья или царство деспотических богов, из которых один
могущественнее и деспотичнее других. Индусы, наоборот, считали всех
-богов равными и в своих ежедневных молитвах твердили: «Среди вас,
о святые* боги, нет великого и малого, старшего и младшего: вы все
поистине велики и могущественны!».
Нр эволюция религиозной мысли индусов на этом не остановилась,
и тысячелетия через два мы вступаем в новый пероид, — период неверия
и глубокого пессимизма. Индусские богословские сочинения этого
периода говорят совсем другим языком, языком сомнения и отрицания: «Нет
никакого Индры, Митры или Вару мы. Кто их видел?» Такие
выражения очень хчасто попадаются в богословских произведениях этого
периода.
Дошел ли, однако, индус через сомнение и неверие до атеизма, т.-е.
до отрицания существования какого бы то ни было бога? На этот -вопрос
Макс Мюллер отвечает отрицательно. Глубокое религиозное чувство, ко-
торым проникнуты индусские гимны и молитвы, доказывают, что индусы
отвергли своих прежних богов для того, чтобы найти высшее божество,
которое олицетворяло бы собою не то или другое отдельное явление
природы, а всю природу целиком, со всеми ее явлениями. И это высшее
божество индусы нашли в Брахме, в «вечном мыслителе», — в воплощении
.абсолютной бесконечности. Брахма, по представлению индусов, существо
непознаваемое, окруженное глубокой таинственностью. Индусы нашли,
таким образом, нового бога — Брахму, в котором они обоготворяли
бесконечность. Не только все прежние боги исчезли, — стали излишними и
ненужными все молитвы и жертвы. Единственное служение, достойное
Брахмы, это — отречение от мира, от его забот и треволнений, глубокое
39
погружение в «самого себя», в абсолютное созерцание и беспрерывное
стремление к бесконечности.
Такова в общем эволюция индусской религии согласно описанию*
Макса Мюллера. А Мензис в своей «Истории релщйи»х) следующим
образом характеризует первобытную религию индусов: «Этой религии
чуждо все мелкое, низкое. В священном писании этой религии вы не
найдете ни диких сказок, ни нелепых измышлений; тут нет ни колдовства, ни
ангелов-истребителей, ни «геенны огненной», ни черных демонов, ни злых
духов. Что-то светлое, жизнерадостное проникает вое религиозное учение
индусов, и, несомненно', доказывает, что такую религию мог создать себе-
то лько свежий, сильный, счастливый народ».
Такова религия индусов по «священному писанию». Но в
совершенно ином свете она выступает перед нами, когда мы изучаем ее по тем
проявлениям и формам, в которые она вылидась на практике, в
действительности. Вот что нам рассказывает по этому поводу историк культуры
Грант: «Каждое колено, каждая семья имела своего единственного бога,
которому она по нескольку раз в день приносила жертвы. Богом многих,
колен считался вареный рис, которому приносили жертвы и молились..
У других колен и родов были свои фетиши: костяные, деревянные,
каменные идолы. Индусы обоготворяли своих животных вообще и домашний
скот в частности. Змея, например, почиталась грозным, злым богом,
требующим человеческих жертв. Навоз домашнего скота считался святыней,
и им обильно наполнялись храмы во время богослужения». Липперт
цитирует описания многих* историков, согласно которым индусское
население преимущественно поклонялось злым, кровожадным богам. По
общему представлению индусов, мир вечно наполнен злыми духами,
требующими человеческой крови. В среднем, индусы ежегодно сожигали
около тысячи человеческих жертв.
Жрецы и священники безжалостно грабили народ. За принесение
каждой жертвы жрецу приходилось уплачивать гораздо больше, чем
стоила сама жертва. По законам священного писания, за жертву
благодарения, например, жрецу уплачивалось пять золотых монет, пять штук
рогатого скота и пять кусков сукна. Липперт приводит факты, когда
жрецам, за раз отдавалось от 4 до 60 тысяч голов рогатого скота и от 500
до 40 тысяч лошадей.
Вся система позднейшей религии индусов, в период браминизма?
основана была на вере в «переселение душ». Согласно учению святых
«браминов», жрецов Брахмы, душа человека после его смерти улетает
к великому богу Брахме, и если покойник в течение своей жизни принес
мало жертв, она опять низвергается на землю и переселяется в собаку,,
свинью или змею. Понятно, что никому такая будущая судьба его души
не улыбалась, и для избежания подобной участи каждый готов был отдать
жрецу последнее свое состояние. Ни в какой стране класс жрецов не был
так богат и могуществен, как в Индии.
*
Чье же описание индусской религии вернее: Макса Мюллера или
историков культуры?
Верно описание и того и других. Разница заключается лишь в том,
что первый характеризует индусскую религию по священному писанию^
1) Есть русский перевод (книга поповская, но богатая фактическим
материалом). — Прим. ред.
40
индусов, между тем как вторые характеризуют ее по тем религиозным
обрядам и воззрениям, которые распространены были среди индусских
народных масс.
Но почему же релитии цивилизованных народов двусторонни?
Откуда это противоречие между религией писаной и действительной'?
Является ли этот факт характерным для всякой религии вообще или же
только для некоторых из них, • будучи вызываем особыми, побочными
и внешними причинами? Осужден или фатально всякий верующий
человек поступать в полном противоречии с тем, что он говорит
и думает?
В религии нецивилизованных, варварских народов указанного выше
противоречия мы не находим. Религиозные идеи и обычаи варваров
находятся в полной гармонии с действительными условиями их жизни:
между словом и делом тут противоречия нет. Ясно, что причина
двойственности религии цивилизованных народов не внутренняя*
вытекающая из самой сущности религии, а внешняя, обусловленная
данной исторической и социально-политической средой. Она коренится
в классовых противоречиях, существующих среди этих народов.
Для иллюстрации этой мысли мы должны опять вернуться к
индусам и их религии, на примере которой мы познакомились с фактическим
различием между религией писаной и религией действительной.
Индусы, религиозные идеи которых, поскольку с ними можно
познакомиться по индусскому «священному писанию», достигли высокой
степени развития, ведут свое происхождение от белой арийской расы,
к которой принадлежат и все европейские народы. Но индусы не
представляют собой всего населения Индии. Известно, что первоначальные
обитатели Индии принадлежали к черной расе; что индусы явились туда да
Средней Азии несколько тысячелетий тому назад, покорили и подчинили
своей власти туземные народы и племена и заняли страну в качестве-
победителей и властителей. Десятки миллионов потомков черной расы
и доныне еще дополняют население Индии.
Первоначальные обитатели Индии превращены были в рабов, из
которых образовался класс так называемых париев, существующих
отчасти до настоящего времени. Париев индусы третируют, как низших,
нечистых животных. По древним индусским законам (сохранившим
отчасти свое значение и до сих пор) индус не мог вступить в какое бы то
ни было общение с париями, а если он • случайно прикасался к одному
из них, то должен был несколько раз подряд окунуться в воду и
выстирать свое платье. Парий не смел переступить порога индусского жилища;
он не имел права обладать каким бы то ни было имуществом, а за
убийство его не полагалось никакого наказания.
Таким образом, население Индии с древних времен резко разделено*
было на две части: на господствующих белых индусов, с одной стороны,
и черных порабощенных париев — с другой. Отсюда и деление индусских
богов на светлых, «сияющих» и добрых богов победителей и властителей,
и низких, темных и злых богов побежденных и порабощенных. Само-
собой понятно, что священное писание, блещущее поэзией и глубокими
философскими рассуждениями, могло быть создано только
индусами-победителями, свободными от всякого труда, лишений и работ, имевшими
возможнеть и достаточно досуга для того, чтобы предаться занятиям
литературой, поэзией и искусством. Понятно также, почему священное
писание Индии так изобилует молитвами и гимнами добрым,
снисходительным и «сияющим» богам.
41
Но если вначале существовало резкое различие между белым и
черным населением Индии, то впоследствии образовалась еще более глубокая
пропасть между различными классами самого белого населения. И
причину этого мы найдем в развитии торговли и торговых сношений Индии
чуть ли не со всем миром. Древняя Индия играла в истории человеческой
культуры огромную роль, которую известный историк Шлоосер
описывает следующим образом:
«Уже ов самые отдаленные времена Индия представляла собой центр
всемирной торговли. Ее дорогие ткани и краски, пряности и благовонные
вещества, ее драгоценные камни и жемчуг издавна привлекали к себе
взоры близких и далеких народов. Эти товары развозились по всему
свету финикийскими и арабскими купцами. Но и сами индийцы массами
оставляли свое отечество и отправлялись в отдаленнейшие стг>аны для
сбыта своих товаров. Недаром индийские законы Ману, изданные более
трех тысяч лет тому назад, обязывают индийских купцов изучать
иностранные языки.
Чем далее, тем индийские купцы становились все более ботатыми,
могущественными и образованными. Обогащались также и воины,
господствовавшие над миллионами париев, как и жрецы (каганы, брамины),
которым дриносились обильные жертвы и дары. Эти-то три класса—купцы,
воины и жрецы—образовали собой сильную материально и духовно
аристократию, которая неограниченно господствовала над всей страной. Но
далеко не все индусы принадлежали к этой аристократии. Последняя
всегда представляла собой незначительное меньшинство, а источником ее
богатства и блеска всегда являлись и являются эксплоатация и угнетение
огромного большинства. То же наблюдается и в древней Индии: чем более
аристократия обогащалась, тем большая часть индусов все более беднела.
Эти обедневшие индусы, ремесленники и поденщики образовали собой
низший бедный класс населения, известный под именем судры. Судры
так же презирались аристократией, как и черные парии. Они лишены
были политических и гражданских прав, они даже не имели права читать
«священное писание», они не смели переступить порога храма, когда там
читались священные книги».
Понятно, что при таких резких классовых противоречиях у
аристократии и народных масс,' у господ и рабов не могли существовать одни
и те же религиозные, философские и моральные идеи и представления.
Одни и те же по первоначальному своему происхождению религиозные
идеи неизбежно должны были принять у аристократии другой характер,
иное направление и вылиться в совершенно другие формы, чем у
порабощенных, диких и невежественных народных масс. А это и было причиной
той двойственности и того глубокого внутреннего противоречия, которые
наблюдаются в индийской религии.
Но индийская религия далеко не единственная в этом отношении.
Мы остановились на ней более пбдробно, как на очень ярком примере.
Отмеченная в ней двойственность наблюдается в религиях всех
цивилизованных народов. Население Рима издавна делилось на два класса: класс
управляющих — патрициев и класс управляемых — плебеев. И религии
этих двух классов резко отличались одна от другой.
«Плебеи», — говорит Деллингер в своей книге «Язычество и
иудейство», «которые, главным образом, принадлежали к крестьянскому
сословию и которые во всем подчинены были (власти патрициев, имели свою
42
собственную совершенно особую религию. Плебеи не могли принимать
участия в общественных богослужениях; заключение браков между
патрициями и плебеями не было позволено вследствие религиозных
отличий; на религиозные процессии и церемонии плебеи, и то не все, могли
шотреть только издали. Зато плебеи имели свои собственные святыни
и овои особые богослужения».
Существует представление, что евреи — «единый народ», исстари
проникнутый одними и теми же религиозными идеями; что в еврейской
религии нет никаких следов классового или группового деления.
Еврейские историки и рисуют нам евреев в смысле духовном, религиозном и
моральном, как нечто цельное, неделимое, как народ, «из одного куска
вылитый». История дает нам немало доказательств того, что это
идиллическое представление о евреях весьма далеко от истины. Грец в предисловии
к IV тому своей «Еврейской истории», характеризуя эпоху талмудистов,
период, длившийся около тысячи лет, говорит, между прочим, следующее:
«Б постройке этого гигантского здания — талмуда — принимали участие
двадцать поколений подряд, вкладывая в свою работу всю силу своего
духа. Учителя и ученики, служащие и ремесленники, евреи Палестины
и евреи иных стран — все одинаково трудились для великого дела,
отказывая себе во всем, что нам так дорого в обыденной жизни. Эту
колоссальную работу нельзя поэтому рассматривать, как род умственной
гимнастики, изобретенной учеными мужами для приятного
времяпрепровождения, или же как особый род народных цепей, искусно
выкованных жрецами-каганами в целях сохранения и укрепления своего
господства над народными массами; это — национальная работа в
полном смысле слова, в которой, как и в выработке народною языка,
принимаем участие не тот или другой отдельный человек, а весь народ
вообще»
Талмуд, таким образом, создан всем еврейским народом. А это
значит, чуо религиозные идеи, цитированные на страницах многочисленных
талмудических трактатов, являются продуктом коллективной мысли всех
евреев того времени, без -каких бы то ни было классовых или групповых
различий.
Но тот же Грец в том же томе своей «Еврейской истории» следующим
образом рисует нам отношения внутренней жизни еврейского народа той
эпохи:
«Те (евреи), которые вели строго благочестивый образ жизни и
аккуратно платили «десятину» (одна десятая часть) со всех своих плодов
и продуктов, представляли собою род особого ордена (chafourcho)
—товарищество), сложившееся еще в эпоху междупартийной борьбы фарисеев
и саддукеев. Вот этот-то орден, к которому принадлежали танаи и аму-
раи (ученые талмудисты), городские жители и все более или менее
образованные слои, и развил необычайную духовную деятельность,
результатом которой явился талмуд; далеко не весь народ вообще участвовал
в создании последнего».
Полную противоположность этому ордену «товарищей», продолжает
Грец, «составляло еврейское крестьянское сословие (am hoorez — народ
земли, деревенщина), которое известно было под именем раба земли.
«Товарищи» представляли собой еврейскую аристократию — патрициев,
а, «деревенщина» — плебеев. Моральный и умственный уровень
еврейского крестьянского сословия быль очень низок... Еврейски плебеи
не отличались ни честностью, ни справедливостью в личных и
общественных делах, ни нежностью и благородством в семейной жизни, ни уваже-
43
нием друг к другу 1). Из законов они соблюдали лишь те, которые, не
противоречили их грубому и дикому образу жизни. Плебеи вообще чужды
были каких бы то ни было духовных интересов. Между этими одичалыми
массами, с одной стороны, и образованными слоями, с другой вырыта
была целая пропасть: как два противоположных общественных класса,,
они страшно ненавидели друг друга. «Товарищи» не могли есть за одним
столом с «деревенщиной»; они не должны были даже прикасаться к еврей-
окому плебею, чтобы не осквернить своего платья. Браки между
городской знатью и «необразованной деревенщиной» были редким явлением
на которое «товарищи» смотрели, как на величайшее унижение.
Писатели того времени утверждают, что вражда между еврейскими
патрициями и плебеями была гораздо сильнее, нежели между евреями и
язычниками. «Если бы они (плебеи) в нас не нуждались, — замечает ученый
раввин Елиазар, — они бы, как разбойники, нас перебили». А ученый
раввин Акиба, сам по происхождению плебей, признается, что лучшим
желанием его в дни молодости былЬ встретиться где-нибудь в
укромном месте с представителем высшего сословия и уложить его
на месте» ...
«Товарищи» палец о палец не ударяли, чтобы поднять умственный
уровень этих огрубелых и Одичалых масс. Наоборот, они всегда
прилагали все старания к тому, чтобы отделяющая их от низших слоев стена
становилась все толще и прочнее. Плебей (am hoorez) не мог быть
свидетелем на суде: его свидетельство не имело никакой цены; он не мот
быть опекуном над имуществом сирот; он не мог занять никакой
общественной должности. «Товарищ» зато никогда не отважился пуститься
в дорогу вместе с am hoorez'oM, которого он боялся, как
разбойника».
В еврейской религии мы замечаем, таким образом, ту же
двойственность, что и в религии индийской, что и в религиях всех цивилизованных
народов вообще: с одной стороны, религиозные идеи богатых и
образованных слоев, записанные в «священном писании» и блещущие
поэтическими красотами и^ философской глубиной, а с другой — дикие суеверия
бедных и угнетенных народных масс. И причины этой двойственности
везде одни и те же: несправедливость общественных отношений, деление
на управляющих и управляемых.
Та же двойственность, двухсторонность наблюдается не только в<
религии, но и во всей культуре любого .из цивилизованных народов. В
утверждении, что такой-то народ, весь народ, стоит на такой-то ступени
культурного развития, кроется или величайшее недоразумение, или прямая
ложь. Культура высших образованных классов данного народа,
господствующие среди последних философские, моральные и нравственные идеи
совсем не похожи на представления и идеи, господствующие над умами
низших, бедных и невежественных классов того же народа. Пропасть,
отделяющая богатые и образованные классы от бедных и невежественных
одного и того же народа, гораздо глубже пропасти, отделяющей различные
народы друг от друга. Образованные классы различных народов
чувствуют себя ближе и скорее понимают друг друга, чем высшие и низшие
классы одного и того же народа, и наоборот, представители
необразованных классов различных народов скорее сойдутся и столкуются между
*) Так Грец рисует плебеев по описаниям «мудрецов талмуда» — еврейских,
патрициев. Насколько этот портрет соответствует действи1ельнсюти — другой, конечно,
вопрос. — Прим. автора.
44
«собою, нежели с образованными и высоко цивилизованными
представителями своих же собственных народов.
Если мы теперь зададимся вопросом, как же мы должны смотреть
на религию вообще, то мы можем только ответить: все зависит от той
точки зрения, на которой мы стоим. О точки зрения господствующих,
образованных классов религия является, конечно, высокоценной и
возвышенной идеей, полной поэзии и глубокой философской мысли. Если же
взглянуть на религию с точки зрения угнетенных масс, то мы не только
вправе презирать ее, как источник темных, диких заблуждений и
суеверий, но мы должны ненавидеть ее, как причину перенесенных
человечеством неимоверных страданий и ужасов. В течение средних веков в Европе
подвергнуты были пыткам и сожжены затем живьем более девяти
миллионов человек, колдунов и ведьм *). В это число не входят'сотни тысяч
жертв, сожженных за другие грехи на кострах святой инквизиции. Не
даром кто-то заметил, что если бы собрать пепел всех городов и сел,
сожженных вследствие религиозных войн и распрей, то составилась бы гора,
высотою не ниже Монблана, высочайшей горы в Европе.
Из всего этого видно, насколько правильны приведенные нами выше
ответы разных философов на вопрос, что такое релития. Является ли
она «практической нравственностью», как думает Кант, или
«глубочайшим ответом на важнейшие вопросы жизни», как выражается Фихте;
является ли она выражением «чувства бесконечной зависимости», как
утверждает Шлейермахер, или «чувства абсолютной свободы», как
полагает Гегель?
Ясно, что религия никогда не являлась чем-то одинаковым,
равномерным для всех классов и групп. Для высших слоев она всегда была
источником материального и морального счастья; для низших слоев она
никогда не переставала быть источником материального и морального же
песчастъя.
(«Религия и классовые противоречия»).
Н. М. Никольский
ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НАУЧНОГО ПОНИМАНИЯ РЕЛИГИИ
Наука имеет дело с миром явлений еотественното порядка, которые
могут и должны быть доступны нашему познаванию с помощью тех
познавательных средств, какими мы обладаем; наука поэтому не может
заниматься изучением явлений сверхъестественного и сверхчувственного
порядка. Далее, наука, изучая тот или иной порядок однородных
явлений, хотя и допускает между ними индивидуальные различия,
количественные и качественные, всегда, однако, расценивает их одинаково, как
явления одного и того же ряда. Отсюда, как скоро релития становится
*) В одном городе Вюрцбурге в течение 1627—28 -гг. сожжено было 42 человека,
среди которых — 25 детей в возрасте от 9 до 14 лет. Обвинялись они в том, что
происходят от ведьм, обручившихся с дьяволом. В Померании сожгли бедную
десятилетнюю девочку, у которой, под страшными пытками, предварительно вырвали
сознание в том, что она родила от дьявола двух детей, а третьим она сейчас беременна.
й таких фактов можно насчитать тысячи. —• Автор.
45
предметом научного изучения, она не может изучаться с каких-либо иных
точек зрения, нежели другой любой объект науки. Привлекая религию
в круг объектов своего исследования, наука видит в религии явление
такого же естественного порядка, как и всякое другое явление; и при этом на
религию целиком распространяется вся сумма признаков, определяющих
явления естественного порядка. Отсюда, с точки зрения содержания в
религии для науки не может быть ничего объективно сверхчувственного:
с точки зрения генетической религия для науки есть такое же
обусловленное явление, как всякое другое явление человеческого общежития.
Далее, все индивидуальные явления порядка, называемого религией,
различаясь некоторыми признаками количества и качества, по совокупности
общих признаков для науки всегда будут явлениями одного и того же
рада, и с научной точки зрения из среды религий не может быть
допущено выделение какой-либо одной религии в ранг абсолютной и
совершенной. Если не даны, не усвоены эти предпосылки, то не может быть
научного изучения религии, и в таком случае в данной стране или в
работе данного ученого нет религии как предмета науки, но она еще
остается предметом богословия. Борьба за высвобождение науки о
религии из богословских пут дает в этом отношении чрезвычайно
показательные примеры.
Богословское изучение религии исходит как раз из
противоположных предпосылок. Для богословия основной факт есть объективное
существование сверхчувственного, сверхъестественного мира, и религия как
явление, определяющее отношение человека к этому миру, тем самым
выделяется из ряда всех прочих явлений на особое, исключительное место:
в противоположность всем прочим религия считается имеющей дело со
сверхъестественным миром, его проявлениями и постулатами. Далее,
поскольку богословское изучение всегда, в противоположность научному,
есть изучение конфессиональное, постольку для богослова любой
вероисповедной группы все религии никогда не могут быть равноценными.
Свою религию он всегда будет рассматривать как абсолютную, единую,
истинную, а все прочие для него в лучшем случае будут лишь слабым,
неверным и условным проявлением тех же истин, которые, по его
убеждению, в абсолютной форме раскрыты самьщ божеством в его религии.
Таким образом, претензии на первое непогрешимое место заявлены и
христианами, и буддистами, и иудейством, и исламом, и многими другими
религиями. И потому центр тяжести богословского изучения лежит всегда»
не в исследовании, а в догматике, не в критике, а в апологии. Пользуясь
инотда чисто научными методами, богословие применяет их для
достижения своих специфических целей — не для раскрытия еще не
достигнутой истины, но для доказательства уже имеющийся в наличии истины.
В Европе эти: взгляды и методы господствовали безраздельно в эпоху
средневековья, на основе всепоглощающей феодальной теократии. Не было
тогда вообще самостоятельной науки, быйа лишь служанка богословия;
не было господствующей теперь аксиомы о естественных законах,
управляющих мировым порядком, но промысел божий повсюду и бесспорно
считался единым законом мира. И, поднимаясь тогда против эксплоата-
торов, крестьяне и ремесленники ждали избавления не от своей
человеческой борьбы, а от помощи небесных сил; рядом с крестьянским башмаком
на знаменах повстанцев фигурировали богородица и святые.
Возвышались несколько над общим уровнем только отдельные лица,
преимущественно на юге Европы, в торговых приморских городах Италии и
Сицилии, где постоянно сталкивались представители трех крупнейших тогда
46
религий: христианства, ислама и иудейства. Там была популярной притча
о трех кольцах, пошедшая в «Декамерон» Боккачио и дававшая на вопрос
о первенстве одной из этих трех религий уклончивый ответ: как нельзя
было сыновьям героя притчи различать, у кото кольцо волшебное, и у кого
кольца поддельные, пока сыновья не прожили своей жизни, так нельзя
сейчас, пока не выяснилась историческая судьба христианства,
иудейства и ислама, сказать, какая из этих трех религий истинная. Но этот
уклончивый ответ знаменует лишь первый проблеск религиозного
скептицизма. Он еще не признает равноценности религий, но лишь
отказывается быть между ними судьей; он еще всецело признает, что в ходе
исторического процесса, в конце-концов, раскроется божественная правда,
которая л разрешит задачу.
Первая серьезная брешь в богословской твердыне пробивается
эпохой открытий и реформации. Экономически эта эпоха знаменует собой
крушение феодализма и первые шаги хищнического капиталистического
накопления. Психологически и динамически на этой почве перед нами
проходит полоса безумных дерзаний человека; неслыханные по отваге и
риску океанические путешествия; открытие новых стран; переворог
в космических понятиях; потоки золота в Европу; массовые народные
движения на почве экономического переворота; падение ореола папской
власти; раскол в католической церкви; протестантизм и его
лозунг—свободное исследование писания. Это — апогей, идеологическое завершение
двухвековой эпохи дерзаний. На место императивной догмы,
декретируемой из Рима, становится право каждого верующего толковать и понимать
писание по-своему. Правда, не следует этой перемены преувеличивать,
смотреть на нее через те очки, через которые чуть ли не донца XIX века
смотрела на нее застывшая в старых оценках историография реформации.
Свобода исследования писания означала прежде всего свободную
критику католической догмы, с точки зрения библии; само лютеранство скоро
замкнулось в догму и полвека спустя после Лютера пыталось поставить
яа место принципа свободного исследования лютеранский катехизис,
а Кальвин еще в разгаре реформационного движения выдал на сожжение
Сервега, который путем свободного исследования пришел к отрицанию
догмата троичности. Но тем не менее в богословской твердыне центра
Европы пробивается брешь; с этих пор протестантское богословие —
хромой то на левую, то на правую ногу. Яд рационализма, раз всосавшись,
уже ничем не может быть изгнан и медленно, но верно делэ,ет свою работу".
Вместе с тем принцип единства и истинности христианской религии
вследствие раскола протестантизма, дал трещину, которую уже ничем
нельзя было заделать.
Но в то время, как в среде протестантского богословия шла эта
борьба, струя нового отношения к религии пробивалась с другой стороны.
В XVII веке стали сказываться во всех отношениях результаты эпохи
открытий. Путешествие по вновь открытым странам, более близкое
знакомство, благодаря успехам мореплавания, с прежде неизвестными
внеевропейскими странами, — все это приводит к неожиданным открытиям
во всех областях, в том числе и в области религии. В 1662 году Игнацио
да-Коста издает по-китайски, с латинским переводом «Великое учение»
Конфуция; перед учеными и богословами Европы неожиданно
раскрывается религиозное учение невиданной дотоле глубины, имеющее сотни
миллионов последователей. По достоинству оценил новое открытие
Вольтер; для него эти 300 миллионов китайских буддистов, с их чисто
моральным учением, отсутствием мифа и обрядности, кажутся успешными сопер-
47
никами христианства, которое уступает этой великой восточной религии
и по глубине учения и по числу приверженцев. Этот приговор
знаменателен; но он не одинок. Просветительная философия XVII и XVIII веков
в области религии, под влиянием необычайного подъема'
естественнонаучных знаний, приходит к деизму. Для,последнего все исторические
религии без различия суть скопища суеверий и обманов; остается в силе
только чисто абстрактное представление о божестве как первопричине
мира: -божество пустило мировой механизм в ход и тем выполнило свою
задачу, предоставив космосу вертеться по вечно неизменным законам.
Но это отношение рационалистической философии к религии не было
научным отношением. Отрицая разумность, а следовательно и право на
существование исторических религий с их мифологией и культами, она
грешила и тем, что презрительно выбрасывала из сферы научного
исследования огромную существующую исторически и в быту область явлений,
и тем что постулировала существование сверхъестественного исходного
пункта, основы тех самых явлений, самое право на существование коих
она же отрицала. Рационализм был силен своей полемикой против абсур-
дов религиозной католической практики; но для науки о религии он не
мог дать достаточно солидного фундамента, поскольку в теории он
допускал объективное бытие сверхъестественной силы.
Науку о религии создает только XIX век. Торжество капитализма,
точных наук, техники создает такую атмосферу, в которой
перевертывается отношение между человеком и природой. Поскольку религия,
упрощая понятие о ней до минимума, в каждый данный момент есть
отношение между тем, что мы знаем о природе вещей, и тем, что мы не знаем,
постольку XIX век радикально изменил это соотношение не в пользу
религии. Тайны природы исчезали одна за другой, стихии одна за
другой подчинялись человеческой воле; человечество побеждало расстояние,
воду, гром и молнию; фантастические грезы становились
действительностью. Научные методы торжествовали по всей линии, оправдывая
себя непрерывным рядом побед; и перед силой этих научных методов
должно было склониться прежде всего протестантское богословие. Его
судьбы в эту эпоху особенно поучительны, и на них я позволю себе
остановиться подробнее.
Пред лицом всепобеждающего научного духа церковь и богословие
должны были перестроиться, изменить свои методы, чтобы не потерять
своего влияния на умы и сохранить свои позиции. Они вынуждены были
пойти на уступки научному методу; и на первом месте здесь
оказываются протестантские страны., в особенности Германия, Голландия и
Англия. Старый принцип свободного исследования писания,
провозглашенный в XVI веке, вновь оживает и культивируется; он кажется теперь
своевременным и наиболее удобным орудием для укрепления богословия
и христианской религии. К изучению библии, алокрифов, творений
отцов церкви начинает применяться общенаучный метод исследования
литературных источников; производится грандиозная по замыслу и по
результатам работа по исправлению текста библии и других источников
христианской религии, по приближению его возможно больше к
первоначальным оргиналам; содержание произведений библейской и
раннехристианской литературы' подвергается необычайно тонкому и
остроумному анализу, помогающему разрешить :вопросы о времени
происхождения, составе и авторах произведений этих литератур не на основании
данных традиций, а на надежном научном фундаменте. Как будто
неслыханная, недопустимая дерзость: то, что вчера считалось написанным
48
под диктовку святого духа, сегодня разлагалось на составные части, как
какая-нибудь Илиада или история Тита Ливия. Традиционные фетиши
падали один за другим: сегодня Моисей, завтра Давид, послезавтра
евангелисты, мало того, что их развенчивали как авторов библейских
произведений, — иные смелые богословы отказывали им даже в историческом
существовании. Еще в восьмидесятых годах ветхозаветник Штаде
утверждал, что Моисей есть чисто мифическая личность, а вслед за Штаде
протестантский богослов Кальтгоф первый высказывает сомнение в
историческом существовании Иисуса.
С первого взгляда как будто самоубийственная работа: если все
книги библии не аутентичны, если даже и Иисуса никогда не было, то
не есть ли это конец богословию? не становится ли христианство такой
же обусловленной религией, как и все прочие? Нет: критика
человеческого разума, — отвечают на это сомнение критические богословы, —
простирается только на дело человеческих рук. Совершенно неважно, кто
был автором библейских произведений, цельны они или нет, и когда они
написаны, поскольку дело касается раскрываемых в них истин
абсолютной религии. Они, эти истины, могли быть высказаны в разное время,
разными лицами, в разной форме, и по разным мотивам; но их источник
один — божественное откровение, раскрывающееся не сразу, а постепенно,
не грубым образом нашептывания святого духа, а через развитие и
раскрытие божественной сущности человеческого духа. И отсюда вполне
понятна позиция также и Кальтгофа: дело не в том< был ли личный
основатель христианства или нет, а в том, является ли вложенное в его
уста евангельское учение откровением абсолютной религии или нет.
Такой аргументацией спасало свое дело богословие, делая его якобы
«научным», критическим, но вместе с тем сохраняя основную позицию
абсолютного характера христианской религии. Однако новая позиция
таила в себе и слабость, благодаря своей внутренней противоречивости', и
результаты этого не замедлили сказаться.
Одновременно с успехами критического направления в изучении
библии и христианства быстро и пышно расцвели историческе
дисциплины, изучавшие восточную и античную древность. Курганы
Месопотамии, гробницы фараонов, холмы Греции, катакомбы Италии отдали науке
свои сокровища, погребенные там в течение столетий; и новый свет
пролился на проблемы, связанные с изучением израильско-иудейской
религии и первых веков христианства. Первое время богословы пытались
закрыть глаза на этот свет; но скоро нельзя стало не видеть того, что
видели все. А то, что видели все, сводилось к констатированию-
колоссального влияния, какое испытало на себе раннее христианство со
стороны самых разнообразных религий греко-римского и восточного мира
и античных философских систем. Абсолютный характер христианской
религии казался самоочевидным, пока можно было защищать полную
оригинальность ее учения и культа, независимо от каких-либо сторонних
влияний. Но когда оказалось, что мифы о рождении Иисуса суть
перифразы восточных и римских мифов; что догмат об искуплении есть
христианский синтез целого ряда однородных представлений египетских,
вавилонских, малоазиатских и персидских верований; что христианские
таинства имели своих предшественников в тайных обрядах греческих
мистерий; что учение о троичности есть результат проникновения
христианского богословия неоплатонизмом и т. д., и т. д., — тогда нельзя
было защищать незащитимое, и пришлось сознаться в синкретическом
характере христианской религии. Но и тут оказались заранее загото-
Г, Гурев 4
49
вленные позиции: теорию откровения абсолютной религиозной истины без-
особого труда оказалось возможным распространить на все человечество.
Новый оборот старого положения гласил, что эта абсолютная истина
раскрывается в самой разнообразной форме, находит .себе посредников
во всех странах, во все века и у всех народов. И самое наличие
оригиналов для цельного ряда кардинальнейших составных частей
христианской; веры и культа, с точки зрения богословия, доказывало не
обусловленность христианской религии, а именно ее истинность: все отдельные
потоки, как бы по велению единой воли, после целого ряда извивов,
преград и ложных направлений сливаются воедино в одном великом и
бесконечном христианском море.
Но когда, в конце XIX века, критическое богословие стало
окапываться на этой новой позиции, вся прочая обстановка изменилась до-
неузнаваемости, и то, что было сдано, усилило противника самым
серьезным образом. В самом деле, рост успехов естествознания и техники
давал основу для построения безрелигиозного миросозерцания;
материалистическая философия и механическое понимание мира грозили
покончить с положением о сверхъестественном виновнике мира. Божество из
объективной сущности превращалось в субъективное понятие, и тем
самым открывалась возможность подойш к исследованию происхождения и
развития этого понятия обычным научным путем. Детальное изучение
истории возникновения христианства в то же время показало, что мы
в лице христианства имеем дело с такой же исторической религией, как
и все прочие, и что в ряду других оно даже не является самым крупным
по размерам. Предпосылки для изучения религии путем научного
метода, таким образом, были даны; и действительно, к концу XIX века мы
видим первые робкие шаги новой науки, науки о религии.
Вступление богословии на путь критического метода значительно
облегчило новой науке ее первые шахи; но ее зарождение произошло
независимо от богословия и ранее описанного поворота в богословии; ее1
источник — не богословие, но другие области научного знания. Наука
никогда не может родиться от веры: ее основа не чувство, но интеллект;
богословие может претерпеть еще тысячи превращений, сделать еще ряд
отступлений, но оно никогда и само не превратится в науку и не дасг
начала новой науке. Подлинные корни науки о религии —
сравнительное языковедение, этнография и наука о первобытной культуре.
Генетическая связь науки о религии с указанными дисциплинами
станет для нас ясной, если мы еще раз учтем первую основную
предпосылку превращения религии в предмет науки, указанную в началег
а именно: последовательное и твердое признание религии явлением
естественным и обусловленным. Всякое естественное явление имеет свое
начало; отсюда, если бы было доказано, что религия, подобно семье,
собственности, государству и иным элементам социальной жизни, имеет свое
определенное и естественное происхождение, то тем самым религия
сделалась бы законным объектом научного исследования. Религия, бесспорно
принадлежит к числу самых древнейших культурных явлений; ее
исконная древность и всеобщая распространенность давали богословию повод
объявлять религиозное чувство прирожденным человеку и дарованным
ему свыше так же, как и все другие чувства, свойственные человеческой
природе. Отсюда понятно, что только углубление в древнейшие времена
человеческой жизни на земле могло приблизить научное знание к
проблемам происхождения религии. Исследование первобытного человека
приобрело прочную почву только к концу XIX века, когда сделаны были
50
огромные успехи в деле изучения быта и религии так называемых
первобытных народов, т.-е. диких племен Африки, Америки и Австралии.
Наука здесь шла вслед за колониальными захватами европейских
держав: за плантатором и купцом шел путешественник или искатель,
который, опираясь на захваченную уже базу, двигался дальше, в
неисследованные еще страны, и открывал для географии и этнографии все новые
и новые области, новые и новые перспективы. Народы экзотических
стран, при всей примитивности их хозяйственного и общественного быта,
конечно, значительно ушли уже от той ступени культурного развития,
которую можно было бы назвать, действительно, первобытной; но по
сравнению не только с европейской, но и самыми отсталыми азиатскими
культурами, эти экзотические культуры с известным правом можно
было бы назвать близкими к первобытной. И вот знакомство с
религиозными верованиями и культами экзотических народов привело к одному
неожиданному выводу, имевшему решающее значение для изучения
корней религии. Оказалось, что на известной примитивной стадии
культурного развития мы встречаем повсюду, под всеми широтами, в разных
частях света, у всех без различия народов до деталей схожие верования
и культы; оказалось, что в народной религии и так называемых культур^
ных народов, одинаково, как сошедших с исторической сцены, так еще
и действующих на ней, цепко сохраняются религиозные пережитки,
показывающие, что ранее, в соответствующую культурную эпоху, и эти народа
имели такие же верования и культы, какие теперь живьем наблюдаются
у малокультурных народов. Так, белорус 60-х годов, как его
днепровский предок VIII—IX века и как любой дикарь южных стран, хоронил
с покойником орудия его ремесла, приносил духам мертвых жертвы,
наряжал березку, служил священным камням и тысячам духов.
Раскопки, произведенные в Европе и Азии, на местах древних очагов
культуры, целиком подтверждали эти наблюдения, и немые археологические
остатки иной раз говорили громче, чем живая обрядовая песня или
заклинание знахаря: повсюду для каменного и ранне-бронзового века
обнаруживались неизменное наличе одинаковых способов потребения или
сожжения и одинаковость предметов культа, и для этого поразительного
явления, очевидно, могло быть только одно объяснение, заключающееся
в том, что одинаковый религиозный быт предполагает неминуемо и
одинаково религиозные верования. Другими сжовами, выяснилось с полной
очевидностью, что первоначальные формы религиозных явлений были
совершенно одинаковы на всем земном шаре, как одинаковы были
первичные формы хозяйственного и общественного быта; выяснилось также,
что только различные условия дальнейшего культурного развития
различных народов привели к разнообразию исторических религий, но так,
что всегда сохранялись некоторые основные элементы примитивных
верований и культов или в виде пережитков, или в виде преобразованных
и оправленных в новую идеологию догматов и обрядов. К 70-м годам
XIX века эти результаты стали уже настолько очеви.дными, что начались
попытки дать обнаруженному факту надлежащее объяснение.
Объяснения давались с двух концов. Первый ученый,
выступивший с попыткой объяснения, естествоиспытатель Бастиан,
основоположник этнографии, как науки, и основатель музея народоведения в Берлине,
находил, что это замечательное сходство религиозных верований и
культов всех первобытных народов и предков теперешних культурных
народов объясняется существованием в первобытную эпоху некоей
одинаковой повсюду Volkeridee, общенародной идеи (религии), общенарод-
4*
51
ного религиозного мировоззрения. Однако это объяснение было
недостаточно, поскольку оно само требовало объяснения: откуда же
появилось само это мировоззрение? Ответ можно было дать только один:
от общей основы общего источника религиозных верований. Другими
словами, этнография, наука о первобытной культуре, и археология
вплотную подвели научную мысль к вопросу о происхождении религии, и при
том поставили этот вопрос не в плоскости общих соображений или
идеологических спекуляций, а на почву строго проверенного материала
конкретных фактов.
Этот материал оказывался принадлежащим к разряду фактов,
вполне объяснимых с естественной точки зрения. Религия первобытного
человека вращалась вокруг явлений его повседневной жизни, из которых
явление жизни и явление смерти были наиболее близкими и остро чув-
стовавшимися и прежде всего требовавшими объяснения. Из них на
первом плане должно было стоять для первобытной религии явление
смерти, как это показывает преобладающее значение, какое имеет во всех
первобытных религиях культ мертвых и происходящий от него культ
предков; отсюда естественное явление смерти, страшное и непонятное,
должно было быть, если не единственным, то одним из самых главных
источников появления религиозных верований и обрядов. Таков был
результат, к которому неминуемо приводило сравнительное изучение
этнографического и археологического материала. Но отсюда религия
вдвигалась в круг таких же естественных фактов, какими являются и все
другие проявления человеческой культуры. На этой почве становилось
возможным исследовать и установить общую схему развития религии
ют ее корня до стадии развитой религии крупных общежитий. Таким
образом, было положено основание подлинной науке о религии,
получившей специальное наименование истории религии г).
Так постепенно, с разных концов, происходило превращение
религии в предмет науки. Гибельное внутреннее противоречие, которое
разъедало критическую богословскую науку, облегчило борьбу за
превращение религии в предмет науки. С того момента, как было доказано
естественное происхождение религии и было дано рациональное объяснение
ее содержания, зависимость христианства при его возникновении от
других религий и философских систем, признанная и критическим
богословием и даже в значительной степени им доказанная, превратилась в
самоочевидную вторую предпосылку научного подхода к религии:
христианство, как и все другие религии, есть явление исторически обусловленное
и по происхождению и по содержанию.
Такова история науки о религии в трудах ученых специалистов
академического мира. Но этим она далеко не исчерпывается. Рядом
с академической наукой со второй половины XIX века выросла другая
наука, и как раз именно в области обществоведения, к которой относится
и наука о религии. Эта новая наука выросла на почве исторического
материализма или марксистского метода изучения истории, называемого
так по имени своего основоположника Карла Маркса. Марксизм родился
из противоречий капиталистического общества; уже при своем
зарождении он был связан с революционными выступлениями против капитала
нового класса пролетариев, вызванного к жизни самим же капиталом.
*) Более подробное изложение и разбор вопроса о роли страха смерти и культа
мертвых дано в ряде статей во II отделе хрестоматии. Там же и в III отделе
рассмотрены и некоторые другие вопросы, слегка затронутые автором этой статьи.—Прим. ред.
£2
В свое время успехи капитализма, как было сказано выше, оказалж
огромное влияние на создание науки о религии и дали ей силу сделаться
отдельной научной дисциплиной. Марксизм как научная теория не
одерживал таких блистательных по эффектам побед; он был, как дрот,
но под его медленной работой падали одна за другой старые схемы в
понимании истории, перевертывалось представление о взаимодействии
отдельных составных элементов исторического процесса. Марксизм выдвинул и
обосновал положение, что в основе социальной и политической жизни
лежат экономические процессы и что так называемая духовная культура—
литература, искусство, религия, наука — не есть явление, самостоятельно
развивающееся, и не может считаться определяющим фактором
исторического процесса, но что, наоборот, она сама объясняется из материальных
условий жизни данного общества. Историков-марксистов было немного,
но влияние нового метода было огромно: для каждого мыслящего историка
для которого история есть не причудливое нагромождение фактов,
вызванных к бытию произвольными действиями человеческой воли, но
связный процесс, закономерно и типологически развивающийся,
исторический материализм оказывается плодотворнейшим научным методом.
И в области науки о религии при его помощи наметились новые вехи,
по которым должно было итти научное исследование.
Наиболее плодотворным оказалось применение материалистического^
метода в истории религии к религиозным явлениям в условиях развитой
социальной жизни, ибо только здесь историки-материалисты могли стоять
на собственных ногах и не искать фундамента для своих работ в трудах
лингвистов и этнологов, как приходилось поступать при изучении
происхождения религии и ее первичных форм. Изучая социальную жизнь во-
всех ее проявлениях, историки-материалисты установили! и особенно
подчеркнули одну сторону религии, которая ускользала от внимания
этнологов, лингвистов и богословов. Последние занимались больше всего
идеологией и обрядностью религии, видя в этом основные признаки изучаемого,
явления, и мало обращали внимания на тот факт, что религия в целом
есть социальное явление, группирующее людей, связанных неразрывными
нитями со всей совокупностью экономических, социальных и
политических отношений в данном обществе и в данную эпоху. Чем были
бесчисленные культы бесчисленных греческих богов? Городскими культами.
Чем пытался объединить римский принципат разношерстные составные
части своей империи? Государственными культами императора и Ромы.
Чем была средневековая католическая церковь? Колоссальным
хозяйственным спрутом, охватившим своими щупальцами всю Европу и одно
время заставлявшим королей приносить вассальную присягу римскому
папе. Чем была русская церковь? Орудием помещичьего государства
для господства над миллионами крестьян. Чем была и есть вообще
религия для командующих верхов? Одним из средств поддержания их власт^г
их авторитета, их доходов. Можно было бы привести еще десятки
примеров, но и перечисленные говорят более, чем красноречиво.
Конечно, религия в ее исторической связи с общественной жизнью
становилась орудием господства только потому, что это орудие било
в цель, потому, что массы были религиозны, впитывая религиозное
миросозерцание с молоком матери и утверждаясь в нем неотразимым влиянием
среды, унаследованных привычек, быта и взглядов. Но тогда и сами
массы владели тем же орудием и могли обращать его против своих гбспод.
И вот, исторический материализм открыл, что все великие реформацион-
ные сдвиги, что все секты и раскольничьи организации были организа-
5&
циями борьбы, и, выкидывая религиозные лозунги, проводя новую
религиозную идеологию, по существу добивались мирских целей: земли,
орудий производства, планомерного распределения хозяйственных благ,
завоевания власти. В этом заключалась суть дела и для немецкого-
«башмака», и для швейцарских и немецких анабаптистов, и чешских гусситов,
и английских индепендентов, и русских старообрядцев и сектантов,
а в древности на такой же социальной основе базировалось и израильское
пророчество, и иудейское зилотство, и первоначальное христианство.
Когда таким образом было вскрыто социальное содержание религии,
новый свет пролился и на развитие религиозных идеологий. Религиозные
верования не остаются неизменными; медленно, но заметно изменяется
и культ. Изучение религии, как социального явления, дало возможность
установить теснейшую зависимость этих изменений от смены
экономических явлений, смены социальных факторов, смены политических
идеологий. Религиозная догматика оказалась не чем-то данным или
фантастическим умозрением отдельных богословов, но построением, всегда
зависящим от всей совокупности материальных условий жизни данного
общества. Традиционные верования и культы при этом оказались
имеющими изумительную способность к приспособлению, хотя иногда при
революционных взрывах, как было например в XVI веке, официальные
догматы и обряды также терпели не изменение, а жестокое крушение.
И по отношению к ранней христианской догме оказалось действующим
то же правило. Не только по своему происхождению христианство
оказалось обусловленной религией, но и по своему развитию. Жестокий
социальный кризис 1-го века создал идеологию второго пришествия —
эсхатологическую доктрину; Иисус представлялся предводителем
небесных сил, идущим произвести кровавый разгром богатых и насильников
и передать царство христианам. Когда во II и в III веке сгладилась
острота кризиса, когда вновь создавшиеся отношения отстоялись, и преж«
ние враги христианства стали его адептами, Иисус Христос стал
представляться трансцендентным спасителем людей от греха и смерти,
обеспечившим им в туманном безбрежном будущем воскресение из мертвых и
жизнь вечную.
Ученые материалистического направления, к сожалению, не
занимались историей религии особенно много. Они разработали только
некоторые отдельные вопросы по некоторым отдельным эпохам, примеры из
которых были только что мной приведены. Внимание марксистов,
главным образом, отвлекалось естественно в сторону изучения хозяйства и
общества в чистом виде, вследствие чего, по отношению к изучению
религии, имеющиеся труды марксистов должны рассматриваться только*
как первая, но очень глубокая разведка, наметившая вехи и способы
будущего исследования.
(«Религия как предмет науки>).
ОТДЕЛ ВТОРОЙ
ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕЛИГИИ
Г. Кунов
ЗАКОНОМЕРНОСТЬ ПРОЦЕССА РАЗВИТИЯ РЕЛИГИИ
Этнологическая история религии, которая, пользуется
систематическим исследованием религиозных сказаний, гимйов и ритуальных
обычаев диких и культурных народов, стремится уразуметь возникновение
и развитие религии, возникла лишь несколько десятилетий тому назад.
Это как нельзя более понятно. Пока христианская религия признавалась
единственно истинной, исключительно ботооткровенной религией, вое
остальные, религии мира не могли быть чем-либо иным, как только делом
.диавола или болезненными заблуждениями ума человеческого, —
уклонениями от предуказанного самим богом пути к вечному спасению.
Пожалуй, изучение ложных путей этих религий могло бы представлять
известную пользу: оно показало бы, что ожидает человека, если он
отпадает от возвещенного богом учения и начинает следовать своей
склонности к умствованиям; но, согласно этим воззрениям, подобное
исследование никак не могло бы привести к пониманию сущности и процесса
развития религии: не могло бы уже по одной той причине, что природа
иудейско-христианской религии совершенно не та, как природа ложных
религий языческих народов. Эта религия представляет нечто
божественное, проверенное, результат откровения; напротив, остальные религии —
хаотические фантазии и фантасмагории, и ничего больше. Философия
должна была сначала расшатать то положение, будто' израильская
(точнее — иудейская) религия есть вообще дохристианская религия; она
должна была показать, что христианская вера в откровение есть нечто
совершенно недоказанное и недоказуемое, — и только тогда открылся
свободный путь для точного религиозно-исторического исследования, не
стесняемого догматами веры.
Но и после того, как философии XVII и XVIII веков удалось
отбросить богословское учение об откровении бога в иудейско-христианской
религии, в пестром хаосе религиозных представлений, преисполненном
внутренних противоречий, все еще не видали ничего иного, кроме плодов
фантазии, возбужденной страхом перед сверхъестественными силами.
Предполагали, будто фантазия свободно, из себя самой, породила все
изумительные образы, и известная связь между миром религиозной мысли и
55
особенностями различных народов существует лишь постольку, поскольку
сила воображения у различных рас различна и поскольку, кроме того,
в различных поясах земного шара они получают от /окружающей природы
до чрезвычайности различные впечатления, подвергающиеся потом
переработке. Тем не менее уже эта философия в отдельных случаях пришла
к резко определенным заключениям, нашедшим подтверждение в
современном этнологическом изучении религии. Давид Юм, напр., исходил
из того положения, что в мышлении нет неограниченной свободы, что
созидательная сила мыслительной способности является просто
способностью соединения, связывания, обобщения и ограничения
познавательного материала, доставляемого человеку восприятием и опытом. Отсюда
он пришел к тому выводу, что в образах своих богов человек мыслит
самого себя, т.-е. воплощает в них свое собственное существо. Понимание
этого привело его к тому дальнейшему заключению, что религиозные
представления человека определились не теми впечатлениями, которые
производили на него силы природы, а в первую очередь впечатлениями
общественной жизни. Таким образом Юм в известном смысле впервые^
открыл то, что в древности выразил в своей «Политике» уже греческий
философ Аристотель: «Человек творит внешний вид и жизненные
отношения своих богов по своему собственному подобию».
Однако такие частичные завоевания познания оставались просто
первыми шагами к историческому воззрению на религию.
Следующие шаги были сделаны лишь благодаря колонизаторскому
захвату западно-европейскими государствами неизвестных до того
времени стран. Ибо проникавшие в Европу сообщения об обычаях туземцев
этих областей отличались таким значительным сходством, что.сам собою
напрашивался вопрос: как могло случиться, что даже у народов,
которые отделены широкими морями и между которыми было "бы невозможно
установить генетические связи, несмотря на то имеется так много
сходных нравственных и религиозных воззрений?
Поставив перед собой эти вопросы, философия, исходя большею
частью из положения, что от одинаковых следствий следует умозаключать
к одинаковым причинам, пришла к тому глубокому выводу, что на эти
народы некогда должны были воздействовать одинаковые причины. Но
какие же это причины? Мнения по этому вопросу далеко разошлись.
Если оставить в стороне ту богословскую философию, которая во всех
подобных сходствах видела только волю высшего существа, так
называемый «перст божий», то можно различать главным образом два
направления. Одно из них выводило одинако'вость воззрений из одинаковости
человеческой психики или, правильнее, из одинаковости душевных
предрасположений всех людей. «Природные задатки», полагала она, по
существу одинаковы у всех рас, во всех частях земного шара, и потому при
дальнейшем развитии из них самих порождаются одинаковые побуждения
и идеи. Как в семени в известном смысле уже заключается позднейшая
растительная форма, как оно, будучи посажено в землю, через
определенное время выгоняет стебель, листья, почки и цветы, так и одинаковые
психические задатки человека в своем дальнейшем развитии необходимо
порождают одинаковые идеи. Таково и кантовское учение о развитии,
для которого история человечества — развитие «природных задатков»
в направлении, определяемом «намерениями природы». Но это воззрение*
знаменует сомнительного достоинства возврат к теологическому строю
мышления, ибо, в конце-кбнцов, кто такое эти «намерения природы», как.
не божественное провидение?
56
Другое направление, которое можно назвать
географически-антропологическим, объяснение одинаковости или сходства воззрений у
различных народов искало в однородности окружающей их природы. Не
одинаковые задатки, а одинаковые географические и климатические
влияния,— утверждало это направление, — вот в чем причина одинаковых
нравов и учреждений. С наибольшей рельефностью этот взгляд выражен
в сочинениях Иоганна Готфрида Гердера по философии истории.
Воздействие климата в смысле Гердера, это — не только влияние погоды на
тело и дух, не только влияние свойств почвы, животного и растительного"
мира на добывание средств существования, но и влияние естественных
условий па характер труда, на экономическую деятельность обитателей,
имеющую задачей поддероюание их жизни. Если в одном месте рано
развилась охота, в другом скотоводство, в третьих странах земледелие или
судоходство, то это стоит в тесной связи с различными условиями,
которые природа отдельных областей создает для обитателей в отношении
к добыванию средств существования и развитию техники. Охота никогда,
не получит выдающегося значения на островах, где нет дичи,
являющейся предметом охоты, рыболовство — на континентах, бедных водами,
земледелие — на засушливых плоскогорьях. Эти влияния всей
естественной обстановки оказывают определяющее действие как на
нравственность и общественные учреждения, так и на религиозные
представления людей, в особенности на мифологию.
Теория Гердера сначала прошла мало замеченной в сфере
исторических наук, по крайней мере в Германии, где интерес к вопросам
этнологии обнаруживали только очень узкие круги ученых. И в особенности
гердеровские попытки причинного объяснения остались незамеченными
в области изучения религии. Вопрос о сущности и возникновении
религии превратился в особый вопрос спекулятивной философии, — в
Германии в первую очередь того направления, которое по освобождении от
французского господства приобрело неоспоримое преобладание:
философии Гегеля. Правда, философия Гегеля видит в развитии религии, как
и в развитии вообще, диалектическое саморазвитие сознания; но, хотя
Гегель пытается разрешить вопрос о развитии религии чисто абстрактно,
не привлекая к рассмотрению разнообразнейших религиозных воззрений
примитивных народов, исключительно при помощи метафизического
умозрения, тем не менее он признает, что религия постоянно развивается,
что процесс развития религиозных отношений непрерывен, и таким
образом распространяет на изучение религии идею закономерного развития.
Но то, что Гегель говорит в своей философии религии о фазах развития
религиозного'сознания, большею частью заключается лишь ц.
идеологических построениях, не выдерживающих критики.
Людвиг Фейербах в своих двух работах «Сущность христианства»
(1841 г.) и «Сущность религии» (1845 г.) развивает взгляд, что чувственно'
воспринимаемый мир—единственно действительное, а человеческое
сознание — исключительно функция мозга. Дух, мышление — это только*
высший продукт материи. Человек со всеми его духовными способностями
тоже продукт исключительно природы, и потому его сознание
обусловливается и определяется его материальной сущностью (его природой). Но
если человек может мыслить лишь то, что соответствует способностям
создавать представления, обусловливаемым его существом, то и его
представления о боге, его сознание бога есть не что иное, как лишь сознание
его собственного существа, и так называемое познание бога есть лишь
самопознание. Таким образом Фейербах пришел к тезису: «абсолютное
57
существо, бог человека, есть его собственное существо». В своем боге
человек объективирует самого себя, т.-е. свое собственное существо', и
затем свое «я» делает объектом этого объективированного существа,
превратившегося в субъект (в бога). Поэтому, по выражению Фейербаха,
«божественное существо есть не что иное, как человеческое существо или,
точнее: существо человека, отделенное от ограничений индивидуального,
т.-е. созерцаемое и чтимое как другое, особое существо, отличное от него,—
а потому все определения божеского существа суть определения
человеческого' существа».
Таким образом положение «Бытия»: «Бог создал: человека по своему
образу и подобию», Фейербах в известном смысле перевертывает и
получает положение: человек создает себе бога по своему образу и подобию.
Следовательно, предикаты божества — это только антропоморфизмы
(человеческие представления); но в своем боге человек между прочим
утверждает и то, что он отрицает в себе самом. Бог бесконечен, человек
конечен; бог всесилен, человек бессилен и т. д.
Недостаток воззрений Фейербаха тот, что под существом человека,
отражающегося в представлениях человека о боге, он разумеет не
исторически обусловленное, постоянно изменяющееся существо человека; в этом
существе, совершенно в духе старинного философского материализма, он
видит нечто данное от природы. Коротко говоря, человек для него*
продукт природы, естественное существо, определяемое в своих жизненных
проявлениях своими полученными от природы свойствами, а не
исторически развившееся и определяемое историей общественное существо, —
не осадок определенного социального развития. Он еще не видал, что и
«религиозный дух» человека, исходный пункт для него, есть не нечто
естественное, неизменно пребывающее, а порождение общества,
обнаруживающее на различных ступенях общественного- развития совершенно
различные характерные черты г). Но как бы то ни было, теперь прямо
было высказано, что все религии — дело человеческое, и что, хотя
человек наделяет своих богов сверхчеловеческими силами, в действительности
приписывает им по существу свои собственные свойства, т.-е. в своих
представлениях о боге исходит из самого себя, из своего собственного
существа.
Но этим еще не было сказано, какие из этих представлений
послужили исходной точкой в развитии религии. Оставался открытым вопрос:
«как мыслил себе человек своих первых богов и как он им поклонялся?»
В половине прошлого века почти общий ответ гласил: «История религии
необходимо начинается естественной религией, поклонением силам
природы». Судя о людях по своим собственным ощущениям, попросту
предполагали, что на низших ступенях развития человек жил в постоянном
угнетающем страхе перед мощью сил природы. Совершенно непонятные
для него явления природы, как, напр., молния и гром, восход и заход
солнца, землетрясения и бури, будто бы порождали в нем чувство
беспомощной зависимости от сил природы, и, охваченный непреодолимым
стремлением предотвратить угрозу со стороны этих сверхчеловеческих
сил и снискать их благоволение, он начал поклоняться и молиться им;
при том первобытный человек будто бы сначала поклонялся силам
природа!, как таковым, а впоследствии стал искать за ними мощные боже-
*) Это значит, что Фейербах не мог додуматься до строго-материалистического
объяснения общественных явлений; это было сделано лишь позже его учениками —
Марксом и Энгельсом. — Прим. ред.
58
стенные существа и в соответствии с этим все более переходил к
персонификации, к олицетворению сил природы.
Впоследствии мы увидим, что этот взгляд, разделяемый еще и теперь
некоторыми историками религии, совершенно' неправильный; но,
принимая во внимание уровень изысканий по первобытной истории и состояние
этнографии в половине XIX века, он был вполне понятен. После же того,
как был спасен от забвения древний культурный мир, в течение
тысячелетий погребенный под мусором и развалинами, чем глубже проникало
исследование в мир религиозных сказаний у древних народов, тем более
приходило оно к убеждению, что у них всех некогда господствовал культ
природы и что многие из образов их богов представляли не что иное, как
более или менее фантастические персонификации сил природы. И с той
чрезмерной поспешностью, которая уже много раз вводила науку в
соблазн выводов, вредных для ее дальнейшего развития, из этого сделали
тот вывод, будто этот культ природы — низшая ступень всякой религии.
Воображали, будто в религиозных песнях и гимнах «Ригведы»,
древнейшего собрания санскритской литературы, нашли первобытные документы
всякой религии.
Это учение о первоначальности культа природы, главным
представителем которого в Англии был оксфордский профессор Макс Мюллер,
оказало самое сильное влияние и па Карла Маркса и Фридриха Энгельса.
Опираясь на авторитет санскритологов, они просто признали, что культ
природы представляет первую ступень в религиозно-историческом
процессе развития, и внесли в материалистическое понимание истории
соответствующую поправку, заявив, что только на сравнительно высокой
ступени развития на религиозную идеологию оказывают воздействие и
отношения общественной жизни г). Так, например, Энгельс в своем
«Анти-Дюринге» развивает мысль о том, что на первых ступенях истории
комплексы религиозных представлений определялись силами природы;
только много позже в качестве формирующих сил на ряду с силами
природы выступили и общественные силы (т.-е. социальные факторы,
определяемые строем хозяйства). Энгельс не говорит, до каких пределов
простираются эти «первые ступени истории»; но из того, что в
доказательство воздействия сил природы он ссылается на индийцев, персов,
греков, римлян, германцев, следует, что в их религиях он все егце видел
отражение сил природы. Таким образом, если оставить в стороне
буддизм, действие собственно социальных сил начинается только с
христианством и исламом.
Каким бы ошибочным ни представлялся нам теперь да основании
результатов этнологических исследований тот взтляд, будто-религия
началась поклонением силам природы, однако в основе концепции
Маркса-Энгельса лежит, несомненно, правильная идея. И это правильное — тот
взгляд, что на низших ступенях своего развития человек, хотя бы он жил
общинами-ордами, все же был естественным существом в несравненно
*) Это не вполне правильно: никаких «поправок» в исторический материализм
Маркс и Энгельс не внесли, ибо исторический материализм, являясь методом изучения
общественно-исторических явлений, возник и развился совершенно независимо от
исследований Мюллера и его идей о возникновении религии. Основополжники
этого метода, в частности Энгельс, опираясь на науку того времени, просто
использовали казавшийся научно-обоснованным один из выводов учения Мюллера, стараясь
материалистически объяснить одно из конкретных общественных явлений —
эволюцию религиозного миропонимания. Следовательно, отказ от идей Мюллера вовсе не
означает изменение того или иного положения материалистического понимания
истории. — Прим. ред.
59
большей мере, чем общественным существом, и потому первоначальна
чувствовал свою зависимость от природы несравненно сильнее, чем
зависимость от жизненных отношений своей общины. Ошибочно только,,
коде тут же предполагают, будто силы природы прежде всего породили
в нем чувство этой зависимости и с наибольшею силой владели его
фантазией. В действительности не явления внешней природы, как, напр.,
молния, гром, землетрясение, буря, ливень и т. д., а его собственная
природа, его возникновение, развитие, исчезновение и преоюде всего смерть,—-
вот что раньше всего пробудило в человеке чувство страха и зависимости
и выдвинуло таинственные загадки перед его примитивной способностью
мышления. С другой стороны, даже человек на самых низких ступенях
развития существовал не только в природе, но в то же время и в общине
с -себе подобными; а это общественная жизнь, т.-е. создаваемые ею условия
существования, как показывает пример современных дикарей, стоящдх
на низкой ступени развития, уже очень рано, задолго до той ступени,
до которой, по мнению Энгельса, еще не добрались даже древние индусы,
персы, греки и римляне, оказывала быстро повышавшееся, постоянно*
растущее влияние на мир его религиозных представлений.
Но в то время, когда сравнительные языковедение и мифология еще
усиливались воссоздать первые шаги развития религии, опираясь на тог
материал религиозных сказаний, какой дают Веды, — в это самое время
этнология, собирая записанные миссионерами, европейскими
переселенцами и путешественниками-исследователями наблюдения относительно
веры в ботов и форм культа у так называемых дикарей, накопляла
материал для строго научного индуктивного исследования зачатков религии.
В связи с ростом колонизаторской и миссионерской деятельности этот
материал, нолученпый из наблюдений, уже несколько десятилетий тому
назад разросся р огромные труды. Однако в той форме, как он
передавался, он был непригоден для использования и нуждался в основательном
критическом просеивании: ведь большинство наблюдателей, в особенности
миссионеры, были (да часто еще и теперь остаются) в плену самых
наивных богословско-догматических представлений. Иудейско-христианская
религия была для них не просто одна из конкретных религий на ряду
с многочисленными другими, не одна из исторически обусловленных
ступеней в общем развитии религии, а единственно откровенная, и
правильная религия. В их глазах всякое уклонение от боговдохновенных
учений этой религии представляет если и не прямое дело сатаны, то во
всяком случае греховное заблуждение, отпадение от истинной веры.
И если даже такая наивно-богословская предвзятость не затемняла
способности к наблюдениям и суждениям, все же большинство наблюдателей
обнаруживает слишком большую склонность смотреть через культурные
очки, т.-е. оценивать религиозные воззрения дикарей со своей собственной
религиозно-этической точки зрения, следовательно, приписывать им
склонности, мотивы, ассоциадии идей культурного человека, хотя
эти мотивы и сочетания идей являются результатом длинного
процесса развития, в котором дикарь представляет только первую
ступень.
Насколько я знаю, первой работой, которая, опираясь на
этнологические исследования, задалась целью противопоставить факты этнологии
тем построениям религии, которые мы находим у санскритологов, была
вышедшая в 1871 г. «Первобытная культура» Эдуарда Бернета Тэйлора.
Как почти все попытки обосновать новые научные воззрения, эта работа
заключает в себе немало поверхностного. Материалы этнологических
60
наблюдений получили- в существенном правильную оценку, они с полной
решительностью и определенностью противопоставляются умозрительным
построением хода развития. Что касается первой найденной Тэйлором
фазы в развитии религиозных представлений, так называемого
«анимизма» (веры в обладание душой), то Тэйлор идет слишком далеко, считая
-ее чем-то единым и завершенным в себе. Он еще слишком слабо различает
последовательность в развитии тех различных комплексов религиозных
идей, которые охватываются широкими рамками анимизма, и к тому же
почти совершенно не останавливается на многосложных переходных
ступенях к позднейшим, высшим формам развития. Но этим делом занялись
<его продолжатели; и, действительно', последователи Тэйлора — в Англии
преимущественно Герберт Спенсер и Эндрю Ланг, в Германии в
особенности Юлиус Липперт, — уже много дали в этой области.
С того времени появился длинный ряд дальнейших исследований
о религиях диких народов, стоящих на низкой ступени развития,—
среди них, конечно, очень много такого, что не представляет никакой
ценности или представляет лишь малую ценность. Тем не менее в своей
•совокупности они ясно показывают, что религиозные представления так
называмых «дикарей» определяются не теми впечатлениями, которые
производят на них силы или явления природы; они по мере культурного
развития, все в более возрастаюгцеи степени определяются воззрениями
на социальную оюизнь, — которые в свою очередь зависят от способа
добывания средств существования. Конечно, — так как всякий образ,
существующий в представлении, обусловливается лежащим в его основе
восприятием (субстратом), — то в известном смысле можно сказать, что
как окружающий мир природы (естественная обстановка), так и
социальная среда (общественная жизнь) оказывают определяющее воздействие
на религиозную идеологию; но не говоря уже о том, что воззрения на
природу в большой степени зависят от того, насколько успел человек
технически использовать силы природы в производстве своей
материальной жизни, образы, получаемые в результате созерцания природы, дают
только материал для внешних украшений, — хотелось бы сказать:
почти только придают местный колорит для религиозного мысленного
построения.
Совершенно естественно, что островитянин представляет себе
сотворение мира иначе, чем обитатель засушливого плоскогорья. Первый,
который видит вокруг себя широкое, бесконечное море, в соответствии
с образом своих повседневных созерцаний предполагает, что сначала вся
земля состояла из воды — великого первичного моря, и лишь
впоследствии из нее вынырнули острова. Напротив, обитатель плоскогорья
представляет себе первоначальную землю в виде голой, пустынной равнины,
которая сделалась плодородной лишь благодаря пробившимся ключам
воды или дождям. Осровитянин относит страну своих духов или богов
на отдаленные острова, туда, за широкий .горизонт, где восходит или
опускается солнце. Напротив, духи обитателя гор пребываю на высоких
горах или в недоступных ущельях. На островах духов для обитателей
тропиков иод жарким, знойным солнцем растут мощные пальмы и блато-
уханные цветы; в высшем мире, в царстве теней полярного человека все
покрыто снегом и льдом.
Следовательно, в фантастических мифах каждого народа находят
себе отражение образы, даваемые созерцанием окружающей его природы.
Но кто через этот внешний локальный колорит доберется до собственно
религиозного содержания представлений, тот скоро откроет, что они обу-
61
словливаются не так называемыми воздействиями природы, а социальным
жизнепониманием. Если мы, напр., поставим себе вопрос, как
первобытные народы представляют себе своего творца или своих творцов мира,
какими свойствами наделяют их, как мыслят свои собственные отношения
к этим богам, чего требуют от них и т. д., то мы тотчас же увидим, что
здесь решительно ничего не поделаешь с прекрасным учением о том,
будто религиозные воззрения обусловливаются силами природы: эти
воззрения найдут себе объяснение лишь в том случае, если мы будем
исходить из отношений социальной жизни.
(«Возникновение религии и веры и бога»).
И. И. Степанов
ДАННЫЕ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ЗАЧАТКОВ РЕЛИГИИ
Древность остатков первобытного человека определяется по
древности геологических пластов, в которых они найдены, по остаткам (костям)
животных, которые служили этому человеку пищей, по сохранившимся
от него изображениям этих животных древних геологических эпох:
мамонта, бизона, благородного оленя и т. д. Очевидно, он был современником
этих животных.
Опираясь на совокупность таких данных, современная наука
пришла к выводу, что уже за десятки, даже за сотни тысячелетий до нашего
времени человек научился делать орудия из грубо обтесанных камней
(палеолитическая или древне-каменная эпоха), и что пятнадцать или
двадцать тысячелетий тому назад он начал отшлифовывать и вообще
тоньше обделывать камни для своих орудий (неолитическая или ново-
каменная эпоха). Когда Австралия и некоторые острова Тихого океана
были открыты европейцами', дикари, жившие там, еще не вышли из этой
эпохи, да и теперь выходят из нее с большой медленностью.
О зародышевых религиозных представлениях ископаемого человека
можно судить по тому, как он погребал мертвых, и опять-таки по
сохранившимся от него изображениям, сделанным из кости и камня или
начерченным и вырезанным на кости и камне. Для истолкования этих
находок приходится обращаться к данным относительно обычаев^
обрядов и воззрений современных дикарей, стоящих на самой низкой
ступени развития.
Но этот материал был испорчен при самом его собирании. Первыми
европейцами, являвшимися во вновь открытые страны и на острова были
купцы и миссионеры (попы и монахи). В то время, как купцы, не
отличавшиеся от разбойников, предавались грабежу, миссионеры
принимались за обращение дикарей в христианство и вступали с ними в разговоры
о вере. Таким образом о верованиях дикарей, еще не подвергшихся
европейским воздействиям, мы узнаем больше всего от людей, у которых не
являлось ни малейшего сомнения в правильности, в историчности
библейских легенд о сотворении мира и человека. Они не просто рассказывали
о воззрениях дикарей, — они с самого начала их истолковывали, иногда
самым диковинным образом.
Так, например, они увидали, что на островах Великого океана и
в Перу, куда до того времени ни разу не ступала христианская нога,
язычники знают изображение креста и поклоняются ему. Миссионеры
62
решали: значит, какой-нибудь апостол был восхищен духом святым и
перенесен в эти страны для проповеди христианства; только об этом не
рассказано в «Деяниях» и «Посланиях» апостолов. На этом они
успокаивались.
Только в новейшее время наука раскрыла, что крест является
священным символом для многих древних, дохристианских религий, и что
он был таким символом уже для первобытных времен. Изучая развитие
креста, наука показала, что его первобытная форма изображала
инструмент, применявшийся для добывания огня, и что именно
обычный способ добывания последнего послужил основой для мифов
о рождении божественното младенца в яслях, о поклонении ему волхвов
(или царей) и т. п.
Но ученые долгое время замалчивали, что христианство усвоило
крест от тех языческих религий, среди которых оно возникло, и что
легенда о повешении Иисуса на кресте появилась не раньше второго века
нашего летосчисления (римляне не распинали преступников, не
прибивали их руки и ноги гвоздями, что, однако, не делало смерть менее
мучительной).
Миссионеры находили таких дикарей, у которых не было никакого
представления о боге, но уже появилась вера, что в человеке два естества—
тело и душа, которая, впрочем, со временем тоже умирает. Миссионеры
начинали фантазировать: эти дикари — потомки Хама или потомки
какой-нибудь народности, в свое время иоповедывавшей христианскую
или иудейскую веру. За грехи бог предал людей проклятию, и они, уже
отпавшие от истинного бота, перезабыли почти все, что бот раскрыл
Адаму, Аврааму, вообще праотцам, пророкам и апостолам. У них
сохранились только смутные и скудные воспоминания из всего того, во что-
веровали' их, отдаленные предки.
А затем миссионеры смело шли дальше и начинали уверять, что
обезьяны — потомки греховных людей, предавшихся дьяволу, что они
представляют дальнейшую степень божественного возмездия по
сравнению с дикарями.
Все, что миссионеры узнавали от дикарей, они с благочестивым
усердием подгопялгь под библейские легенды. В дикарских воззрениях
они видели остатки библейских воззрений, осколки веры, полученной из
откровений библейского и христианского бота. Им была чужда та мысль,
что религия вообще развивалась совершенно так же, как развивалась
техника, экономическая жизнь, наука, как развивался сам человек. Они
не хотели и не могли притти к единственно правильному выводу: у
древнейшего предка человека, едва выделившегося из животного царства., не
было никаких представлений о боге, творце и вседержителе: мира, не было
и зародышевой религии. Медленно зарождалось у него представление
о душе. Только потом он стал приходить к более сложным религиозным
представлениям. Дикарские религии превратились в более развитые:
ассиро-вавилонскую, египетскую, финикийскую, персидскую,
первоначальную иудейскую. Но и в самых сложных религиях, несмотря на все их
развитие, сохранилось много остатков (рудиментов) от дикарских и даже
еще более первобытных воззрений.
Но испорчен не только первоначальный материал: нередко еще
больше портят его историки культуры, подвергающие его разработке.
И это тем более, что представители духовного сословия до сих пор
занимали видное место среди исследователей древнейших ступеней
человеческой культуры.
6&
Как ни испорчен первоначальный материал благочестивыми
христианскими исследователями жизни и быта дикарей, и как ни запутан
он при позднейшей обработке, при критическом отношении к нему он
дает многое для того, чтобы установить, в каком порядке возникали и
развивались религиозные представления человека.
(«Очерк развития религиозных верований».).
П. Красиков
ВЕРИЛ ЛИ ПЕРВОБЫТНЫЙ ЧЕЛОВЕК В СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ
Представление о сверхъестественных силах вполне отсутствовало
у человека, пока он не обладал никакими другими орудиями
производства, кроме естественных, т.-е. своих рук, ног, зубов и т. д. Такое же
представление, несомненно, отсутствует и у животных. Понятие
сверхъестественности, т.-е. противоречия и антагонизма с природой, выделение
себя и вместе с собой каких-либо предметов из природы, развивалось
только по мере накопления кое-какого общественного опыта в
употреблении искусственных органов, при добывании пищи и в борьбе за
существование, т.-е. орудий производства и оружия, т.-е. вещей как бы изъ-
емлемых, выделяемых из природы, дающих людям особую силу. Все,
в чем выражался этот опыт, было и в то же время самым дорогим, самым
ценным в глазах общества, дикарей, дающим возможность видоизменять,
нарушать в выгодную для жизни их обладателей сторону зоологические,
заурядные способы этой борьбы. Недаром в древности под словом
«кудесник» именно разумелся тот, кто знает искусственные, какие-то
необычайные и более действительные методы, способы этой борьбы и власти
кад природой.
Искусство, хитрость, знахарство, знание (ведение), вещий, ведьма,
зедовство, завет, завещание, — все эти понятия, образовавшиеся в
течение веков и тысячелетий на почве мало-по-малу растущего опыта,
являются л о существу однородными и говорят нам об одном: человечество
много тысяч лет назад путем бесконечно малых приобретений в технике
труда научилось и стало мало-по-малу прибегать к таким приемам
в борьбе за существование, каких в «природных» свойствах человека,
как ему кажется, нет, которые надо получить от кого-то, узнать,
усваивать, применять на деле, сохранять, и которые по отношению к обычному
ходу его зоологической «естественной» жизни среди природы и себе
подобных могут ставить его в какое-то особое выгодное отношение, в
отношение трудовое, производственное, творческое.
Все эти общественные приемы борьбы с природой непременно
связаны с какими-то орудиями, инструментами, с каким-либо специальным
способом охоты, ловли и приручения животных, обработки земли и т. д.,
т.-е. связаны с определенной техникой и организацией общественного
труда. Каждый из таких способов, полученных от старых членов
общества в готовом уже выработанном тысячелетиями виде, являлся сверхъ-
естественым с точки зрения получающих его дикарей, т.-е.
обусловливался в их глазах не свойствами той же природы, не использованием
людьми ее же законов, а специальной волей и особой творческой, силой
оамих людей, живших ранее, и употребляемых ими вещей,
первоначально вполне слитых с природой и только мало-по-малу отделив-
64
шихся от природы, благодаря именно этим 'искусственным способам
борьбы с нею.
Вот почему, пока у самого человека отсутствует такое творчество,
которое выражается в изображении, применении им все новых и новых
искусственных органов, т.-е. орудий производства, инструментов,
а в зависимости от них и способов войны и охоты, все явления природы,
как бы благоприятны или неблагоприятны и страшны они ни были для
него в сущности, никоим образом не могли казаться ему неестественными,
т.-е. производимыми какой бы то ни было посторонней природе волей,
ибо и сам он ничего не производил и волей своей никоим образом не мог
и не умел нарушать «естественного» хода существования кате своето, так
и слитой с ним воедино природы/
Чрезвычайно заблуждается тот, кто думает, что дикарь, не умевший
искусственно заставлять природу давать ему что-либо, поражался
величественными грозными явлениями природы и умилялся перед
благотворными свойствами солнца, дождя и т. д., и что эти явления природы дали
ему материал для обожествления сил природы («естественная религия»).
Никакой «естественной» религии, конечно, никогда не могло быть, ибо
человек стал познавать мир, как нечто от себя отличное только по мере
ощупывания его своими искусственными органами, только по мере того,
как научился навязывать ему с помощью их свою волю в производстве
нужных ему продуктов, только по мере того, как трудовой процесс, вместе
с развитием речи, дал ему первичное понятие о причине и следствии,
какового понятия до применения общественных трудовых процессов и
искусственных органов или инструментов у него не существовало и не мотло
существовать. И все великолепные и грозные явления природы были для
него величинами, раз навсегда данными, совершенно лишенными
персональной активности и причинности и вовсе не нуждающимися в каком-
либо объяснении, тем более в почитании, подобно тому, какими они
являются и теперь для всех остальных животных. Вое явления природы,
с точки зрения причинности, стали доступны специальному вниманию
и наблюдению человека только по мере того, как явления эти втягивались
в орбиту этого внимания через трудовые процессы, преломляясь через
их отношение к условиям и результатам этих процессов, т.-е. тогда, когда
человек научился воздействовать в своих видах на природу совершенно
иначе, чем воздействует на нее бык или лошадь. Следовательно, человек
познавал мир с точки зрения причинности (воли) только в меру того,
как те или иные явления этого мира представлялись ему связанными
с его трудовыми процессами, от которых все более и более становилось
в зависимость его собственное существование.
Если до этого и возможно было появление в его голове каких-либо
фантастических образов вообще, подобно тому, как они имеются, конечно,
и в голове собаки, кошки, быка и т. д., то образы эти имели совершенно*
тот же простейший фотографический характер и содержание, как и сами
воспроизводимые воображением «натуральные» предметы. Шум ветра,
конечно, и он мог принять за что-либо другое и даже более странь
ное, но и только: понятие о воле, цели, причинности здесь пока
отсутствует.
Кошка может принять какой-либо звук за явление, производимое
мышью, и соответственно настроиться, но она может думать о реальной,
съедобной мыши, а не о какой-либо чудесной мыши, которую, например,
можно было бы есть в течение всей зимы или которую нужно
уничтожить за то, что она грызет запасы хозяина.
Г. Гурев б
65
Животное, зверь — большой материалист и эгоцентрист1). Каждый
образ в его мозгу — реален.
Человек — пока он зверь — тоже. Он упирается в борьбе за
существование только на свои лапы и зубы, скорость бега, на свой
зоологический инстинкт и навык. Все внимание и все способности его
направлены на непосредственное удовлетворение самых реальных потребностей
организма.
Вот почему можно сказать, что действия животных объективно
являются как бы составной частью процессов природы. Никаких чудес,
т.-е. «искусственно» кем бы то ни было созданных условий борьбы у них
нет. Между собой и природой они ничего не помещают, представления
о причине и следствии для них не существует.
Наоборот, у животного, делающего орудия, — у человека,
искусственно, при помощи рычага, камня, огня и т. д. удесятеряющего силу
своих зубов, ногтей, ног, рук и т. д., каждый такой искусственный шанс
в коллективной борьбе за существование, являясь' результатом его
собственного труда, его организованности, изобретательности, знания, опыта,
накопленного и переданного ему отцами и матерями, является, как нечто-
совершенно отличное от обычной жизни окружающей природы, как
фактор, нарушающий его обычные порядки, подчиняющий ее его воле,
преследующий определенные, поставленные им в борьбе с нею задачи.
(«Сверхъестественная сила», ст. в сб. «Коммунизм и религия»).
Г. Кунов
ВОЗНИКНОВЕНИЕ АНИМИЗМА И ВЕРЫ В БОГА
Зарождение представлений о душе и духах
Известный этнолог и путешественник-исследователь Карл фон-ден-
Штейнен рассказывает, что когда он говорил с бакаири об утверждении:
«каждому придется умирать», они оспаривали его правильность. Они,
правда, полагали, что человек может умереть; но о «придется» они не
хотели и слышать. Это положение казалось им таким же спорным, как,
напр., такое: «всем людям придется быть убитыми». «Тогда я впервые
узнал, — заявляет изумленный Карл фон-ден-Штейнен, — что ба,каири
не знает никакого «придется»; он еще не пришел к тому, чтобы из ряда
с постоянным однообразием повторяющихся явлений вывести всеобщую
необходимость; особенно не в состоянии он понять, что каждому придется
умирать. От него далеко та мысль, которую мы усваиваем в младших
классах гимназии: никто не может избежать смерти».
Что представляется Карлу фон-ден-Штейнену таким поразительным
в бакаири, это самое можно наблюдать у всех так называемых диких
народов даже у таких, которые, подобно меланезийцам и полинезийцам,
достигли уже сравнительно высокой ступени развития. Что человек может
умереть, — этим опытом они обладают; но что ему придется умереть, что
смерть — закономерное необходимое завершение всякой жизни, это им
непонятно. И, принимая во внимание характер их мышления и их сферу
*) То-есть животное всегда ставит себя в центре внимания, всегда 'считается
лишь со своими непосредственными интересами (это — я, центр — средоточие). —
Прим. ред.
ее
опыта, это как нельзя более естественно. Дикарь в общем живет тесно
ограниченной, простой жизыо рефлексов; раздражение и действие стоят
в непосредственной связи между собою. Его мышление едва ли идет
дальше материала его чувственных восприятий. Поэтому у него нет
представления об общей закономерности. Чтобы познать общую закономерную
истину, необходимо связать многосложные и многообразные частные
явления в одну общую идею и, связывая их, остановить внимание только на
определенных одинаковых особенностях и сторонах этих явлений,
остальные же, напротив, игнорировать. Дикарь мыслит, если можно так
выразиться, чисто интуитивно, исходя из своих непосредственных восприятий.
Поэтому дикарь, напр., австралийский негр, относится к смерти
совершенно иначе, чем мы. Мы живем в больших обществах, где случаи смерти
часты. Мы видим, что на кладбищах погребены сотни и тысячи
умерших, и наши исторические рассказы повествуют о миллионах умерших
в ряду бесчисленных поколений, а познание, почерпнутое из опыта
многих веков, в то же время учит нас: «все живущее преходит!»
У австралийского' негра нет всего этого сложного опыта. Конечно,
он знает, что в его маленькой, группе, а также и в других некоторые уже
умирали; но наскольгсо много их было и насколько давно это было, об
этом он не может судить: по большей части он умеет считать только до
десяти, редко до двадцати, и совершенно не знает исчисления времени
по годам, десятилетиям, столетиям. Возможно, он знал еще своих дедов.
Но все, что лежит дальше позади, это, представляется ему, было очень,
очень давно, при чем он ближайшим образом не различает различных
промежутков времени. А в ;гой маленькой группе из сорока-пятидесяти
лиц, в которой протекает его жизнь, умирает кто-нибудь лишь
сравнительно редко. Смерть — отнюдь не заурядное явление, и если порой кто-
нибудь и умирает, то он по большей части или падает в борьбе, или же
отходит от ран, полученных на охоте или во время переходов. Смерть
вследствие старческой слабости представляет нечто необычное
Таким образом, хотя австралийский негр и не понимает внутренней
связи, для него очень понятно, если кто-нибудь умирает от ран: ведь он
часто видал, что жизнь отлетает от задетого копьем или сраженного
дубиной. Таков же конец и животных, за которыми он охотился. Тем не менее
он не понимает, что смерть может наступить также как естественная
развязка, без ран, источающих кровь. По его мнению, для смерти здесь нет
никакой причины, и, так как он ее не знает, то он ищет каких-нибудь
скрытых от него сверхчувственных причин, т.-е. естественную смерть
он приписывает вмешательству каких-то неизвестных влияний,
волшебству.
Увидав этот факт, Джон Фрэзер справедливо говорит о туземцах
в австралийской колонии Новый Южный Уэльс: «Если туземец будет
убит в сражении или настолько тяжело ранен, что умрет от ран, если он
будет убит упавшей балкой или при каком-либо ином доступном
наблюдению происшествии, — это не приводит его сотоварищей в изумление,
потому что причина смерти здесь очевидна. - Но совершенно иное будет
в том случае, если кто-нибудь заболеет или умрет без такой видимой
причины. Здесь в качестве причины болезни всегда предполагается
тайная злоба какого-нибудь злого духа, скрытного заклинателя или
колдуна, который по собственному почцну или по желанию других,
пользуясь своим колдовским искусством, ввел что-то такое в тело больного,
от чего он будет хворать и умрет. По всеобще распространенному
твердому убеждению наших туземцев человек умирает не потому, что изно-
5*
67
свелась его жизненная машина, а потому, что кё.кой-то враг навел на него
колдовство».
Болдуин Спенсер и Ф. Д. Гиллен то же пишут о туземцах южной и
центральной Австралии: «Вера, что кто-нибудь может умереть
естественной смертью, вещь, совершенно неведомая для туземных, орд в
центральной Австралии. Как бы отары и дряхлы ни были мужчина или
женщина, если они умирают, тотчас же признается, что смерть — следствие
колдовского искусства какото-нибудь врага».
Но как приходит смерть? Дикарь наблюдает как на человеке, так
и на животном, убитом на охоте, что подвижное, живое до того времени
тело, едва лишь вытечет теплая кровь и прекратится дыхание, цепенеет
и холодеет, — 'становится неподвижным. В соответствии со своими
чувственными восприятиями, он выводит из этого, что вместе с кровью или
дыханием из тела улетучилось, т.-е. вышло, то, что до того времени
двигало тело. Но где теперь эта жизнь? Дикарь не может понять того, что
жизнь — это только функция тела и что вместе с ним она разрушается.
Такое представление возникает только тогда, когда человеческое тело
подверглось точному изучению и когда познаны как условия жизни, так
и жизненная деятельность внешних и внутренних органов.
Все дикие и полукультурные народы, совершенно естественно, —
дуалисты. Тело и жизнь (дух) представляют для них нечто совершенно
различное, существующее одно возле другого, — и при том тело еймо по
себе неподвижно и бездеятельно. Оно становится живым лишь при том
условии, если в него входит жизнь (дух) и «оживляет» его. Таким
образом дикарь прямо признает, что жизнь, вышедшая из умершего челове-
ческою тела, сама по себе, одна ведет обособленно существование и что
все жизненные или духовные силы, которыми раньше обладал умерший,
продолжают после того существовать в этой жизни (душе), вылетевшей
из мертвого тела.
Это представление укрепляется благодаря тому, что в сновидении,—
а большинство дикарей очень часто видит сны, — дикарь нередко
встречается со своими скончавшимися родственниками или и сам совершает
всевозможные действия. Но образы сна для него — не игра фантазии,
а действительность. Как и некоторые суеверные культурные люди до сих
пор верят, что умершие родственники, явившиеся им во сне,
действительно их посетили, так и дикарь, увидев во сне умершего, верит, что
у него был блуждающий дух (душа) последнего. И если сам он действует
ji сновидении, то это объясняется для него просто тем, что обитающая
в нем душа во время его сна вышла из него, чтобы в каких-либо других
местах сделать то, что показал ему сон. Австралийскому негру, который
видел во сне самого себя, никто не сумел бы втолковать, что ночью его
душа не бродила по разным местам. Поэтому некоторые племена
полагают, что лежащего в глубоком сне не следует будить слишком быстро:
ведь может случиться, что ето душа в отлучке и у нее не будет
необходимого времени для того, чтобы возвратиться. У. Гауитт, один из лучших
знатоков австралийско-негритянских племен, раесг^азывает. что один
курнэ, с которым он говорил о душах умерших, следующим образом
обосновывал свою веру в души: «Я все же это так, потому что часто, когда
я сплю, я иду в далекую страну, вижу других людей, вижу даже тех,
которые оавно мертвы, и говорю с ними».
Точно так же австралийский миссионер Джордж Тэплин в своей
работе .о нарриниери, живущих по нижнему течению Муррея.
рассказывает, что дикари в области его миссии никак не могли понять, что снови-
68
дения — только пена. Они не в состоянии провести разграничительную
черту между своими снами и действительностью. Что переживалось ими
во сне, это, по их мнению действительно переживала их душа.
Эта вера в духов подкрепляется у туземцев благодаря тому, что
среди них довольно часто случаются явления, сопровождающие
лихорадку и столбняк. Не представляют ничего необычного случаи, когда
вследствие большой потери крови, сильных ударов дубиной по голове,
вследствие отравлений или продолжительного голодания туземец впадает
в обморочное состояние или в каталепсию, и, несмотря на все-старания
родственников и врачевателей (колдунов), его долго не удается
пробудить, а потом он приходит в себя. Дикарь, который ничего не понимает
в этих явлениях, приходит к выводу, что душа уже уходила из тела, но
в конце концов, по собственному ли побуждению щи вынужденная
приемами врачевателей, возвратилась в покинутое тело.
Из этого возникло то убеждение, что в ближайшие дни по смерти
дух предпочитает оставаться близ тела и что в его силах возвратиться
в последнее. Поэтому и на рассматриваемой ступени развития мертвых
часто погребают лишь после того, как они начнут разлагаться. Да и
после того их по большей части не хоронят немедленно, а сначала,
завернув в цыновки или кожи, выставляют на деревьях или деревянных
подстановках, чтобы их души с большими удобствами могли возвратиться
к ним; в конце же концов, чтобы дать душе возможность и по истечении:
ледель и месяцев опять соединиться с мертвым телом, приходят к тому,
что стараются по возможности дольше сохранить тело посредством
вяления, сушения или копчения.
Если, напр., в австралийской орде, — а эти группы даже в
плодороднейших и наиболее богатых дичью областях австралийского материка
редко составляют более 50—60 человек (считая мужчин, женщин и
детей),— умирает один из ее членов, то труп обыкновенно погребается не
тотчас же. Так как все еще остается возможность, что душа,
блуждающая поблизости от трупа, попытается возвратиться в него, то труп
завертывают в шкуры, цыновки, тростник, древесную кору или ветви и или
выставляют на сучьях деревьев или на нескольких столбах устраиваются
особые подмостки, к которым затем привязывают тело. По истечении
нескольких месяцев, иногда даже нескольких лет, ближайшие
родственники снимают скелет, снова закутывают и обматывают его и или
закапывают в могилу или же — особенно в гористых областях, где твердый
камень часто покрыт лишь тонким слоем земли — помещают в пещерах,
расщелинах, пропастях и т. д.
Знаменательно, далее, для того, как смотрят на дело австралийские
негры, то обстоятельство, что почти всегда — погребается ли мертвый
немедленно или сначала оставляется на деревьях и на деревянных
помостах — около обвязанного трупа ставят какую-нибудь сырую или
жареную пищу и деревянную миску с водой, потому что душа умершего,
как прежде, нуждается в пище и без пищи погибла бы. Тепло тоже
необходимо для души. Поэтому в восточных горных областях Новой
Голландии, где ночи часто бывают чувствительно холодные, в течение
нескольких суток около трупа по заходе солнца разжигается большой
костер. У отлетевшей души та же потребность, как у живого человека:
ночью защитить себя от холода, греясь около костра.
В Новом Южном Уэльсе и Кинслэнде, а также в приморской части
Южной Австралии, в областях, где вследствие сырого и влажного климата
и множества мух трупы разлагаются очень быстро, у некоторых более
69
развитых туземных племен найден другой способ для того, чтобы в первое
время по смерти сделать для души возможным возвращение в то тело,
в котором она жила до сих пор: они превращают трупы в мумии. Когда
начинается разложение, мертвый с подогнутыми ногами и
распростертыми руками привязывается к похожим на козлы высоким, до двух
метров, подставкам и под ним два-три дня поддерживается слабый, но
сильно чадящий огонь. Конечно, такой упрощенный способ не приводит
к полному превращению трупа в мумию, но, во всяком случае,
разложение задерживается на две, на три недели.
Но гбе же именно находится душа в живом человеческом теле! По
воззрениям большинства современных диких народов, стоящих на самой
низкой ступени развития, в теплой крови или в дышащей груди. Этот
взгляд становится вполне понятным, если принять во внимание
чувственные восприятия дикаря, основывающиеся на чисто внешних
наблюдениях. Если он убивает на охоте зверя или причиняет своему врагу
тяжелые раны в борьбе, то из ран вытекает теплая красная кровь; если не
удается приостановить кровотечение, тело цепенеет и коченеет, вытекшая
теплая кровь сгущается и охладевает. Следовательно, жизнь, душа
раньше находилась в крови. Одновременно с кровью душа оставляла тело,
и по мере того, как уменьшалась теплота, душа покидала и кровь.
Осталась только обездушенная материя. Эта вера вполне соответствует
повседневному опыту дикаря, и такие воззрения повсюду распространены
у охотничьих и ниже стоящих пастушеских народов, — т.-е. у таких
скотоводческих племен, которые разводят скот главным образом на убой и
в меньшей мере — для получения молочных продуктов: в этих случаях
туземец каждый день снова и снова наблюдает одно и то же на охоте
и при убое скота.
Иное у племен, живущих на островах и прибрежьях, где нет
животных, за которыми можно было бы охотиться; здесь животная пища
состоит почти исключительно из рыбы, молюсков, пресмыкающихся,
следовательно, из животных с холодной кровью. Правда, и там мы иногда
встречаемся с тем представлением, что душа находится в крови, но по
наиболее распространенному среди таких народов воззрению ее
местопребывание — грудь, которая явственно движется при каждом дыхании,
даже во сне. Напротив, когда наступает смерть, она становится
неподвижной, — 'Следовательно, с последним дыханием умирающего отлетает и его
душа, его жизнь.
Шаг вперед представляет уже то воззрение, которое мы встречаем
у различных племен Новой Гвинеи, Соломоновых островов, Новой
Каледонии и Полинезийского архипелага: душа (дух) человека обитает в
черепе, особенно же в глазах или позади глаз. Вопреки тому, что можно
было бы предположить, этот взгляд вытекает не из признания, что
мышление— функция мозга, заключающего-ся в черепе, а из того
наблюдения, что все движения чувства, — или, рассуждая так, как расуждают
народы, стоящир на этой ступени развития, — все проявления души
человека отражаются на его лице, преимущественно в его глазах, после же
смерти глаза без всякого выражения вперены вдаль. У народов,
живущих под солнечным голубым небом' Полинезии, о которых в большей
мере, чем о каких-либо других, можно было бы сказать, что они то в
восторге поднимаются до небес, то печальны как могила, — у этих народов
в особенности распространено такое представление: душа обитает в
глазах или за глазами, и если человек смеется, это смеется его душа, если
же он плачет, его душа разрывается от горести. У гавайцев даже слезные
70
железы, из которых «душа плачет», получили поэтическое название
«луахане», т.-е. пещеры души,
У народов, стоящих на еще более высокой ступени, напр., у древне-
американских культурных народов, седалищем души признается между
прочим «сердце». Это — значительно более позднее воззрение; оно
появляется лишь после того, как, человек узнает, что сердце — центр
кровообращения и что нарушение деятельности сердца, вследствие ли
поранения или от других причин, ведет за собою смерть, бегство души.
Очень яркий свет на мир таких представлений у диких народов
бросают обычные у них выражения для обозначения души, жизни,
движения. У народов, стоящих на низкой ступени, часто одним и тем же
.словом обозначается жизненная сила, движение, душа, дух, тень,
дыхание. Так, напр., у австралийских нарриниери слово «пантари» означает
одновременно и жизненную деятельность и ту тень, которую
отбрасывает человеческое тело. У курнэ душа называется ямбо — тень. Вира-
джури называют дух скончавшегося члена своей орды джир, жизненная
сила; бигамбулы называют его мату, тень; даери — мура, жизнь и т. д.
Однако у некоторых австралийских племен «дух» называется словом,
прямое значение которого—«сила» умершего, юинсы же называют дух
даже тулугал, т.-е. «принадлежащий могиле» (tulu — могила, gal —
относящийся, принадлежащий).
Итак, душа, или дух, как показывают эти выражения, это — только
неуловимый призрак, бестелесная вещь, которая состоит не из твердой
осязательной и видимой материи и потому может помещаться не только
в груди, но даже в крови и в тесном черепе. Однако даже фантазия,
возвысившаяся над простым воспроизводством грубых образов чувственных
восприятий, не в состоянии представить себе духа, бестелесного существа,
не имеющего никаких органов чувств, и все же способного видеть,
обонять, слышать, чувствовать, мыслить. Ведь наши современные
духовидцы и верующие в существование духов по той же причине вынуждены
наделять своих духов телом, хотя бы то было лишь так называемое
астральное тело, что является иным названием для того же самого ничто.
И, если их спрашивают, как же они узнали, что явившийся их дух —
дух одного из их умерших родственников или знакомых, они отвечают,
что у духа были несомненно те же черты, тот же приветливый или
острШ взгляд, те же светлые или темные волосы, такая же борода, как
у покойника.
Даже одежды всякого рода духи наших спиритов считают
необходимыми для прикрытия своей наготы, ибо, как современные духи, они
обладают сильно развитым чувством стыда. И вот мы, дальше
расспрашивая о том, как духи выглядели, узнаем, что они были в развевающихся
мантиях и накидках, иногда в длинных рубахах, мундирах и ризах.
Повидимому, духи пока еще не любят черного фрака и белого
жилета. А если мы пойдем еще далее в расследовании, как вели себя
духи, мы в конце концо-в слышим, что они по большей части делали
разные глупости: например, духи, вызываемые на спиритических сеансах,
наибольшее удовольствие находят в том, чтобы потрогать
присутствующих по лицу, бросить им в голову букетом цветов, ворочать столы и
стулья, шаркать ногами и т. д.
Если же мы возвратимся назад, к средним векам, и познакомимся
с легендами о святых и дьяволах, то мы узнаем, что духи святых плачут,
истекают кровью, воют, как земные люди, что от злых духов
(дьявольских духов) разит смолой и серой, что у них рога, копыта козла или ло-
71
шади, что они вступают в борьбу с людьми и нередко выходят из нее
ранеными и побитыми.
Простые дикари еще менее, чем средневековые люди с их верой
в святых и дьяволов, могли бы представить себе бестелесного духа, и
потому мы видели, что в их рассказах о душах душа (дух) всегда просто
отожествляется с покойником (или трупом). Хотя духи вообще
невидимы, однако они выглядят совершенно таге же, как покойник. У них
такие же -особенности, они борются между собою, они наносят друг другу
раны, от них пахнет, они страдают от голода и жажды и особое
удовольствие находят в том, чтобы есть, пить и плясать.
Это же надо сказать не только об австралийских неграх, но и о
стоящих на несравненно более высокой ступени культурного развития
туземцах Новой Гвинеи, архипелагов Бисмарка и Соломонова, островов Банка,
Новых Гебридских, Каролинских и т. д. В мифах этих народов мы
постоянно встречаемся с тем взглядом, что блуждающие духи покойных
имеют совершенно такую же фигуру, особенности и привычки, какие
имели при жизни покойники:. Если женщина при своей жизни была
грязным и сварливым существом, то ее дух оказывается столь же грязным
и сварливым. Если человек умер в преклонной старости, когда он стал
уже немощным и дряхлым, таким же дряхлым и немощным будет и его
дух. И если от умершего при жизни был дурной запах, то так же воняет
и 013 его духа. Даже те раны и увечья, которые кто-нибудь при жизни
получил в борьбе или вследствие несчастного случая, переходят на его дух.
Так, напр., пелауанцы (обитатели островов Пелау, относящихся к
Каролинской группе) веруют, что дух человека, потерявшего в битве кисть
или целую руку, будет без них блуждать и в далекой невидимой стране
духов. Это совершенно понятно: никто не в состоянии представить себе
духа, у которого нет тела, нет определенной фигуры, и который однако
обладает способностями человеческого тела. При том сновидец
совершенно естественно представляет себе умершего родственника в том виде,
как знал его прежде и каким он сохраняет его в своем воспоминании.
Нередко дух до такой степени отожествляется с телом, в котором он
некогда жил, что в процедуре, которую после смерти проделали над телом
умершего, начинают видеть процедуру, проделанную над духом.
Необходимо, напр., воспрепятствовать тому, чтобы дух мстительного человека
«бродил» около своих оставшихся в живых родственников и угрожал им
своей местью. С этой целью у некоторых австралийских племен члены
трупа связываются вместе, руки крепко притягиваются к телу,
покойнику переламывается, хребет или даже голова отделяется от туловища.
Так, напр., миссионер'Зиберт сообщает об ордах дайери, что, прежде чем
похоронить покойника, они гуго скручивают у него оба большие пальца
и затем обе руки связываются за спиной: чтобы покойник как-нибудь не
освободился, эти пальцы складываются вместе и потом так туго
обматываются тонкой веревкой, что часто она прорезает мясо до самых костей.
Кроме того, могилу на несколько метров вокруг очищают от всякой
травы и порослей и в первую неделю после погребения каждый вечер
посыпают это пространство песком и землей и на следующее утро смотрят,
нет ли здесь следов ног. Если заметят такие следы, то покойника
вырывают из могилы, крепче стягивают и закапывают в другую могилу: по
воззрениям дайери следы доказывают, что отошедший дух покойного
недоволен местом погребения.
Такие же обычаи мы наблюдаем у туземцев группы островов в Тор-
ресовом проливе (между северной Австралией и Новой Гвинеей), а также
72
у некоторых папуасских племен. Как известно, даже в настоящее время
в южной России, в Венгрии и на Балканском полуострове широко
распространено поверье, что некоторые виновные в тяжких преступлениях
покойники по ночам тайно поднимаются из своих могил в виде так
называемых вампиров, с той целью, чтобы сосать кровь из живых (душа, как
мы уже упоминали, по представлениям многих диких народов находится
в крови). Для того, чтобы обезвредить таких вампиров, существуй
только одно средство: выкопать труп, проколоть ему сердце заостренным
колом, отрубить голову и весь труп сжечь без остатка.
Противоречия, заключающиеся в этих разнообразных воззрениях,
как показывает сопоставление тех представлений о духах,* какие
встречаются у австралийских негров, сначала не сознаются наивным умом
дикаря. Вопрос: да как же это такое дух, сформированный вполне по
образу и подобию человека, может помещаться в крови или в груди
человека, так же не существует для дикаря, как и вопрос, каким способом дух,
обладающий такой формой, может с дыханием или кровью изойти из
обитаемого им тела. Тем не менее уже очень рано поднимаются
всевозможные сомнения на тот счет, что душа в человеческом теле имеет форму
человека. Все с большей отчетливостью вырабатывается то представление,
что душа, пока она обитает в человеческом теле, является просто тонкой,
воздушной субстанцией: это — невидимое, хотя иногда светящееся,
фосфоресцирующее вещество (духовная материя), которое становится
заметным благодаря его теплоте и которое лишь по отделении от обитаемого им
до того времени тела сгущается в дух, имеющий человеческий образ.
Зачатки культа духов
По мнению австралийских негров, у духов совершенно такие же
формы тела, органы чувств, потребности и слабости, как у людей.
Поэтому для своего существования они нуждаются и в пище. В
особенности жаждут они крови, потому что, как'упомянуто выше, дикари,
оставшиеся на .низшей ступени развития, веруют, что душа помещается
в крови. Поэтому кровь-—эта та пища, к которой больше всего
стремятся души. В связи с этим культ на низших ступенях развития
религии сводится преимущественно к тому, что духам родственников,
благоволение которых хотели бы снискать, дают пищу, а враждебных духов
чужих групп и племен стараются отогнать всевозможными действиями.
Всеобщий обычай у австралийцев — в течение дней и недель ставить на
могилу покойника пищу (жареное мясо, а также различные кушанья из
сырых корней и плодов), чтобы отошедшая душа могла наслаждаться ек>
и не делала злобных выходок.
И даже в позднейшее время по разным важным поводам духу все
еше часто предлагается пища: в известных случаях, напр., на больших
праздниках весны, на торежствах по случаю достижения зрелости, -при
вызывании дождя заклинаниями и т. д., духам приносится и
человеческая кровь. Некоторые из мужчин открывают себе мелкие жилы на
груди, на предплечьи или на запястьи и дают крови, предварительно
побрызгав ею на воздух, стекать на землю или в воду, при чем они или
окружающие призывают соответствующих духов вкусить крови.
Однако простой дикарь полагает, что отогнать и удалить злых
духов еще важнее, чем снискать благоволение добрых: злые духи— в
подавляющем большинстве. Благорасположенными считаются только духи
ближайших родственников или хотя бы члены своей собственной орды,
да и то не ьсегда; напротив, духи умерших из чужих орд и племен все
73
считаются враждебно настроенными духами. Это само собою понятно:
всех членов чуждых орд австралийские негры считают врагами, — и
врагами же считают они отошедшие души умерших из этих орд. Поэтому
самым важным делом австралийский негр считает избежать нападений
этих враждебных духов. Он стремится достигнуть этой цели, отпугивая
их всевозможными способами: поднимая резкий неприятный шум и
грохот, крик, стук, треск, разводя большие яркие костры, покрывая свое
тело символическими изображениями, творя заклинания. Страх,
охватывающий австралийского туземца темной ночью, тревога, с какой он
прислушивается ко всякому шуму, который представляется ему
необычным, — вое это с его точки зрения тоже вызывается духами.
В отношениях к добрым духам в свою очередь старательно
воспроизводятся обычные отношения между людьми. Только дух умершего отца
или умершей матери, пожалуй, также еще дух скончавшегося дяди по
отцу или по матери, иногда согласится оказать одолжение своим живым
родственникам без всякого вознаграждения; вообще же дух, если
живущий желает исполнения своих желаний, должен быть вознагражден за это
жертвами в виде пищи или крови, — или, по меньшей мере, ему следует
дать полную уверенность, что он получит такие дары в будущем, при
этом величина жертвы должна сообразоваться с величиною тех трудов,
которых, по господствующим воззрениям, потребует от духа исполнение
обращенных к нему требований. Первоначальный культ духов вполне
построен на принципе: «я даю тебе, чтобы и ты кое-что дал мне».
За те жертвы пищей, напитками или кровью, которые дикарь
приносит духу, он всегда требует обратных даров, которыми, согласно его
взглядам, жертва по меньшей мере уравновешивается: иначе весь обмен был бы
бесцелен. И австралийский туземец, действительно, совершенно прямо
говорит в своих кратких призывах, которыми он сопровождает свои
жертвенные действия, — собственно молитва еще не вошла в обыкновение, —
что он дает исключительно с той целью, чтобы получить за то нечто
большее. Так, напр., австралийский негр, принося духу своего деда
печеные коренья или жареные почки, с полной наивностью говорит: «здесь
ты получаешь нечто хорошее для еды, позаботься оюе о том, чтобы я
сегодня на охоте добыл кенгуру!» Быть может, к этому он еще наивно
добавит: «тогда и тебе кое-что перепадет!» Следовательно, австралийский
негр в этом отношении вполне сходится с маленьким мальчиком, который
накануне святочной ночи молится: «.милосердный боже, скажи
святочному человеку, чтобы он принес мне качельную лошадку; тогда ты со
своей стороны можешь взять себе место оловянного солдатика». И даже
на несравненно более высокой ступени развития в жертвах видят
плату духам или богам-предкам за уже полученные или
испрашиваемые услуги.
Дикарь, повидимому, совершенно не сознает курьезной
непоследовательности таких обращений: той непоследовательности, что если дух
предка в силах даровать своим потомкам большие количества свиней,
рыбы, плодов и т. д., он, казалось бы, должен обладать способностью сам
достать необходимую пищу для утоления своего собственного голода и
жажды. Но уж на так ли более высокой ступени стоят некоторые из
наших культурных людей, которые немало гордятся своим хорошим
школьным образованием и которые тем не менее воображают, что они могут
купить исполнение своих желаний, если они пообещают своему богу
пожертвовать в его церкви восковые свечи, статуи для алтаря, лампада,
распятия и т. п.?
74
На этом уровне развития, на котором стоят австралийские туземцы,
потребности остаются еще очень немногосложными; поэтому желания,
с которыми они обращаются к духам предков, сводятся почти
исключительно к тому, чтобы те постарались о хорошей добыче от охоты и рыбной
ловли, умножили дико растущие плоды и коренья, которые служат пищей
(австралийские негры еще не дошли до возделывания земли и до
скотоводства), ниспослали дождь на иссохшую землю и помогали своим
живым родственникам в борьбе против врагов. Кроме того, огромную роль
играет моление, чтобы они избавили больное тело от болезни или наслали
болезнь на врага и умертвили его. Однако в большинстве орд считается
уже недостаточным призывать духа и приносить пищу ему в жерву.
Чтобы жертва оказала свое действие, необходимо принести ее
надлежащим образом, и, чтобы дух действительно сумел получить приносимый
ему дар, надо принести ее на подобающем месте, — иногда с
произнесением старинных формул, которыми пользовались еще предки и которые
уже тогда оказались действительными.
Чтобы дело было надежнее, австралийский негр, особенно в
затруднительных случаях, часто обращается к помощи колдуна или
заклинателя духов, — в каждой сравнительно крупной орде таких шаманов
имеется два или три. Волшебство и заклинания не представляют для них
особой профессии: к ним обращаются не настолько часто и к тому же их
содействие оплачивают слишком плохо. Колдун ведет совершенно такую
же жизнь, как остальные члены орды. Вместе с ними он кочует,
охотится, ловит .рыбу и на общих совещаниях пользуется не большим
влиянием, чем остальные взрослые мужчины, члены орды. Но когда требуется
побудить дух к какому-либо особенно важному действию или избавить
заболевшего от колдовских чар, от его страданий, то призывают колдуна,
который ведь не только не лучше всех знает старинные формулы заклинаний
но обыкновенно и располагает всевозможными реликвиями (мощами и
частицами мощей) умерших, напр., их волосами, суставами пальцев,
костями, зубами и т. д.; благодаря этим драгоценным предметам он
получает известную власть над духами соответственных мертвецов: пусть
умершие давным-давно истлели,—у их духов все еще сохраняется
великое тяготение ко всем членам тела, которое некогда одухотворялось ими.
А ведь, кроме таких бесценных реликвий, у заклинателя
обыкновенно имеются еще всяческие колдовские принадлежности: Трещотки,
небольшие палки, покрытые волосами, перьями и всевозможными
рисунками, камни редкостной формы и т. д. По воззрениям, господствующим
среди австралийских негров, известной волшебной силой обладает не
только все, чем некогда пользовался дух и что он покинул: дух может
вселяться также в животных, деревья и камни, и все предметы,
приготовленные из такого материала, некогда «одержимого духом», являются для духа
священными. Если, согласно распространенным воззрениям, такие
волшебные предметы привлекают его не в такой мере, как члены его
прежнего земного тела, то все же и они оказывают на него некоторое влияние.
К особым задачам заклинателя относится «изгнание болезни». Как
австралийский негр не понимает естественной смерти, так не понимает
он и того, что кто-нибудь может чувствовать себя больным и испытывать
внутренние страдания, если нет для того явственных внешних причин.
Из опыта он знает, что если кто-нибудь ранен копьем или бумерангом,
если в ногу вонзятся шипы или острые камни или если в пути и при
взлезании случится поцарапаться в колючих кустарниках и об углы
скал, — то появятся раны, и они будут гноиться, если не удалить вон-
75
зившегося наконечника копья, обломков шипов; но он не может понять,
каким образом без такого внешнего поражения в какой-либо части тела
могли бы возникнуть жестокие боли. Поэтому, испытывая внутреннюю
боль, он решает, что невидимым образом -в болящую часть тела попал
камень, осколок или шип. Но кто же мог это сделать? Конечно, только
злой, недоброжелательный дух.
Австралийский негр тем скорее склоняется к такому выводу, что
мышечный ревматизм, переломы костей, заразительные нарывы и
опухоли очень частое явление среди туземцев Австралии. Если эта часть
тела распухла и опухоль сделалась твердой, не является ли это
несомненным доказательством, что там что-то есть? Так как там теперь есть что-то,
чего не было раньше, то именно по такой" причине эта часть тела
распухла: ведь для предмета, введенного колдовством, необходимо место.
Но раз так, то нечто, сидящее в теле, можно будет и удалить из него.
Надо пригласить заклинателя. Он осматривает больное место и заявляет,
что там, действительно, камень или кусочек дерева. Посредством
разнообразнейших манипуляций он призывает духа, мнет, выдавливает и
высасывает больное место, в заключение вынимает из своего рта камешек
или лучинку, которую он, разумеется, раньше незаметно вложил в рот,
а по его словам — высосал из тела больного. Если больной
выздоравливает, это будет бесспорным свидетельством, что колдовские приемы
помогли и заклинатель основательно знает свое дело; если же манипуляции
не помогли, это совершенно просто объясняется тем, что дух, который
что-то ввел в тело, сильнее того, которого призывали для исцеления.
Но если заклинатель с помощью духа может исцелить, человека от
боли и страданий, то он при помощи определенных приемов может навести
на него болезнь и смерть. Для этого колдуну требуется получить от
человека, на которого он хочеть навести свои чары, что-нибудь такое, что
раньше относилось к его телу или приходило с ним в ближайшее
соприкосновение. В наибольшей мере обеспечивают желанное действие волосы,
ногти, кровь, слюна, испражнения; но при известных обстоятельствах
для этого достаточно обглоданной кости, рыбьих костей (так как они
соприкасались с дыханием обреченного'), остатков пищи, а по воззрениям
некоторых длемен - - куска кожи, ремня, повязки для волос или какого-
нибудь простого украшения, которое некогда носила обреченная жертва.
Колдун прикрепляет этот предмет *— обыкновенно надо добыть очень
немного — смолой или замазкой к деревянной палочке или к кости
животного, иногда разрисовывает ее таинственными рисунками или на время
кладет около трупа,, чтобы она для усиления своего действия притянула
отлетающий из трупа дух. Когда все это сделано, колдун среди
ужасающих проклятий сжигает палку или кость. Как уничтожается кость или
палка, так погибнет и тело того, кого таким образом околдовали.
Некоторые этнологи признают этих колдунов австралийских племен
обманщиками: эти наблюдатели, при своей вере в разум, не могут
допустить, чтобы такой австралийский лекарь серьезно сам верил в свой
ребяческие махинации. И, прежде всего, не может же такой человек верить,
что он действительно извлек из больной части тела камни и кусочки
дерева, которые он, после высасывания больной части тела, выдает за
причину болезни: ведь, несомненно, что раньше он сам запрятал эти
предметы в свой рот. Однако совершенно иначе думают те, кто десятилетиями
поддерживал сношения с туземцами Австралии и дошел до более
глубокого понимания их воззрений и способа умозаключений. Так, напр.,
А. У. Гоуитт полагает: «Если даже признать все, что рассказывается об
76
обманах чернокожих лекарей, и допустить, что многие — простые
обманщики и лжецы, то все же окажется еще много и таких, которые с полной
верой относятся к своим собственным силам и к силам других. Я
убежден, что люди из племени ;курнэ и вираюри верят, что вещи, о которых
они рассказывают, именно таковы, и что они все это в действительности
испытали».
На мой взгляд, Гоуитт совершенно прав. Я склонен пойти дальше
и сказать, что среди австралийских кудесников сознательные обманщики
встречаются очень редко. Может быть, некоторые действительно
утратили веру в свои махинации; но подавляющее большинство, несомненно,
.глубоко и непоколебимо убеждено в действительности своих приемов.
Вероятно, некоторые читатели, ближайшим образом не изучавшие
психологии дикарей, стоящих на низкой ступени развитая, возразят мне: да
не может же быть, чтобы австралийский колдун, который перед
высасыванием сам положил себе в рот камень или деревяшку, чтобы он верил,
будто высосал их из больной части тела. Я отвечу на это, что
австралийский заклинатель вообще не дает себе отчета о значении, смысле и
внутренней связи отдельных обрядов. Старый заклинатель, большею частью
отец или старый родственник, передал ему в дни его юности эти обряды
как таинственные и давно испробованные, и он начинает их применять,
не ставя себе вопроса, почему и зачем в том или ином случае надо такие,
а не иные приемы. Охваченный наивным ужасом, он принимает обряд
как целое, отдельные части которого могут оказать свое действие, должны
быть соединены именно так, как он заучил в свое время. Но что эти
обряды оказывают действие, в этом, кажется ему, он часто имел
возможность убедиться на собственном опыте: если очень многие после его
приемов не почувствовали облегчения, то столь же многие выздоровели.
От культа духов к культу тотема и предков
Из веры в души и духов развился культ тотемов и предков.
Тотемистический союз — это группа, построенная на кровном родстве,
обыкновенно называющая себя именем какого-нибудь животного или
растения и воспрещающая половые отношения между своими членами.
Сначала нет никакого поклонения тому животному илн растению,
которое служит тотемом. У австралийских нарриниери (южная
Австралия), учреждения которых дают наиболее наглядное представление об
этой ступени развития, за тотемистическим животным без малейших
угрызений совести охотятся чг едят его: первоначально в тотемистическом
имени нет ничего священного. Это — просто название, имеющее целью
установить общность крови или, как обыкновенно говорят австралийцы,
«общность плоти», недаром у тех же нарриниери слово «нгаите», которым
обыкновенно называют тотем, означает просто приятель, друг, товарищ,—■
именно товарищ по происхождению. Конечно, впоследствии тотем
становится чем-то священным, достойным почитания. Чем сильнее в
тотемистических союзах развивается сознание того, что это —союзы,
связанные общностью крови, что все их члены — общего происхождения и
родства, тем более значительную роль среди духов умерших родственников
начинают играть духи предков из времен возникновения
тотемистического союза, в особенности же мифические основатели тотемистических
союзов. Они превращаются в чтимых родоначальников тотемистического
ооюза, который обязан им своим возникновением, своими правилами и
самым существованием: напротив, духи тех, кто умер лишь позже,
77
в последних поколениях, считаются духами-покровителями низшего
ранга и силы.
В то же время обращающиеся в тотемистическом союзе старинные
предания о возникновении первых предков, о прежних скитаниях, борьбе
и деяниях переносятся на основателя рода. Дух-тотем становится для
рода героем, который уже в то время, когда он на земле еще заключался
в телесной оболочке, обладал сверхчеловеческими силами и совершал
сверхчеловеческие деяния. И эти геороичёские деяния, в особенности
свое зарождение первый предок проделал в образе ястреба, вомбата,
казуара, — в образе того самого животного, которое.является тотемом для
потомства и по которому последнее получило свое имя. Таким способом
позднейшее время, которое уже ничего не знает о естественном
возникновении тогемистических групп, старается объяснить свое наименование по
животным. Мы видим поэтому, что в сказаниях народов, стоящих на
низкой ступени развития, их родовые божества и божества-предки
обыкновенно представляются в виде исполинских сухопутных или водных
животных, которые, однако, думают, говорят, действуют, как люди,
а иногда принимают и человеческий образ.
У австралийских негров можно ясно проследить первые ступени
этого развития. Так, напр., центрально-австралийские племена арунта
(аранда) и варамунга оказывают известное почитание и духам умерших
в самое недавнее время. Но несравненно более мощными признаются
духи алчсринга или, как называют их, варамунга, духи вингара, т.-о.
древние духи древних предков рода. Согласно «Glossary» Д. Г. Гиллена,
на языке арунта алчеринга означает те отдаленные времена, когда будто
бы жили мифические предки рода. И, действительно, если
познакомиться с древними сказаниями о происхождении варамунга и арунта, то
мы тотчас же увдим, что духи вингара и алчеринга — это просто духи
самих основателей родовых групп или их «первородных».
Как само собой разумеется, отдельные туземно-австралийские
племена представляют себе отца двоих родов и их прежнюю земную жизнь
в различном виде. По одним сказаниям о происхождении тотема, он
постоянно появлялся в образе животного, по другим — он был человеком и
только временно, для совершения своих деяний, принимал вид
тотемистического животного, по третьим он был получеловек, полуживотное.
И, как различны были образы первых божественных предков, столь же
разнообразными путями возникли и тотемистические союзы. По большей
части они возникали таким способом, что предок вступал в половые
сношения с женщиной или с самкой-животным и порождал потомство,
которое затем опять-таки размножалось путем половых сношений. Но
нередко он создавал первых тотемистических предков таким способом, что
превращал животных в людей или из себя самого порождал потомство.
Точно так же первородные этого тотемистического отца не всегда с самого
начала были вполне людьми: многие сказания обрисовывают их
получеловеками, у которых еще сохраняются всевозможные принадлежности
тотемистического животного: крылья, копыта, когти, клюв и т. д.; только'
в следующем поколении они вполпе приобретают вид человека.
Здесь достаточно будет немногих примеров для иллюстрации.
По сказаниям о происхождении урабунна, или, как они сами себя
называют, нгарабанна (первое название, урабунна, дали им соседние
племена), живущих в южной Австралии к северо-западу от озера Эйра,
первые предки тотемистических союзов во времена уларака (первобытные
времена) еще не имели человеческого образа. Это были животные, кото-
78
рые однако мыслили и действовали, как люди, и обладали при том
разнообразнейшими сверхчеловеческими способностями: так, напр., они могли
летать, делаться невидимыми, уходит в землю, вселяться в скалы или
деревья. После всевозможных курьезных подвигов они порождали
(каким образом, об этом не рассказывается) потомков, имевших вид
наполовину животных, а эти потомки перед тем, как в позднейшее время
покинуть землю и, подобно своим отцам, нырнуть в реки и озера или уйти
в землю, оставили на земле множество маиаурли (дети-духи, потомство-
духи), которые впоследствии превратились вполне в людей, вступали
в браки между собою и породили первых людей, настоящдх предков
отдельных тотемистических групп.
Когда эти предки, имевшие вид людей, умирали, их души не
погибали вместе с ними. Они опять превращались в маиаурли, и
некоторые из них в невидимом образе перелетали с места на место, а другие
входили в камни и деревья, особенно близ тех мест, где некогда, в седые
первобытные времена, исчезли основатели тотема. Там они ждут только
случая, когда какая-нибудь женщина забеременеет; тогда они входят
в нее и одушевляют зародыш, душа которого таким образом ведет свое
происхождение собственно от первого предка. Но одушевляя таким
образом, дух предка должен в точности считаться с тотемистическими
подразделениями и брачными правилами урабунна; если он ошибется,
он погрешит против крови того потомка, к которому принадлежит
женщина: проступок, который во всяком случае повлечет за собою смерть
этой женщины.
По всей вероятности, наделение первого предка образом
тотемистического животного произошло следующим образом. В позднейшие
времена,— когда давным-давно было забыто возникновение обычая давать
экзогамным группам имена животных, чтобы установить происхождение
членов этих групп, — туземцы часто ставили вопрос, откуда взялись
у тотемистических союзов имена животных, и пришли к решению, что
предком рода было животное или, по меньшей мере, что предок во время
порождения своего потомка имел образ животного. Если только это
мнение сделалось общепризнанным, не представлял особенных трудностей
и второй вывод: именно1, что первые потомки тотема-бога тоже были еще
наполовину животными. В самом деле, так как животные всегда
рождают животных, то оставался только один шаг до того представления,
что потомки, порожденные основателем тотема, тоже еще не были
действительными людьми, а лишь позже приняли вполне человеческий
образ: или благодаря самостоятельному превращению, или благодаря
чарам первого прародителя.
Эти «первородные» тотемистических божеств, нередко получающие
в позднейшее время название «сыновей божиих», «богорожденных», «бо-
городных», «родоначальников» и т. д., у некоторых диких народов
занимают в дальнейшем ходе развития весьма почетное положение: они
считаются своего рода полубогами, которые, хотя они и не могут равняться
по величию с собственно родовыми или'тотемистическими богами, однако,
по словам мифов, получили от своего «божественного отца» известные
сверхчеловеческие силы и уже при своей земной жизни совершали
всевозможные великие героические подвиги.
Но, проводя такое различие между обыкновенными духами недавно
умерших и духами изначальных предков своих тотемистических групп,
австралийские негры пошли дальше. У них — хотя далеко не повсюду —
все же в некоторых случаях уже возникли кровные союзы, которые
79
в этнологии обычно называются «главными тотемами» и которые, выходя
за пределы отдельного тотема, сплачивают несколько тотемистических
групп в один братский (фратриархальный) союз. И там, где это развитие
до известной степени завершилось, где союз превратился в тесно
сплоченную братскую организацию, мы обыкновенно встречаемся с верой
в единого общего праотца этого союза, в единого изначального
прародителя, который, конечно, много старше, чем первые предки отдельных
тотемов. Он считается теперь «самым первым из всех». — и от него
ведут теперь свое происхождение основатели тотемов.
От культа предков к культу природы
Таким образом, из первоначального почитания духов возникает
почитание предков, а из последнего в свою очередь в дальнейшем ходе
развития возникают культ природы. Нетрудно ответить на вопрос, как
это происходит. Уже у полинезийцев мы наблюдали, что задачей богов-
предков становятся попечения о средствах существования для их
потомков и что так как на этой ступени развития добывание средств к жизни
в огромной степени зависит от сил природы, то важнейшими функциями
племенных или родовых богов становится посылать ветер, дождь,
солнечный свет и т. д. Чем белыпе все существование человека зависит от
продуктов земли, а следовательно, от сил природы,, которые насильственно
и мощно вторгаются в его борьбу за существование и часто в неско'лько
минут, играючи, уничтожают, казалось, уже обеспеченные результаты
его труда и усилий, тем решительнее главной деятельностью
богов-предков становится направление этих сил природы в сторону,
соответствующую потребностям, потомков. Там, где палящее солнце неделями и
месяцами иссушает поля и пастбища, главной функцией племенного бога
становится производство дождя; а если дождю обыкновенно предшествует
гроза, он должен сгонять тучи и разряжать их, бросив громовую стрелу.
Иное положение в тех случаях, когда орошение производится рекой, по
временам выступающей из берегов: здесь особой задачей бога становится
такое умножение вод в священной реке, чтобы она напитала соседние
поля. В третьей области, в болотистом прибрежном районе, где
поднимаются тяжелые серые туманы и испарения, приносящие убийственную
лихорадку, от племенного бога требуют прежде всего, чтобы он смел
испарения посредством прохладного, освежающего ветра. Таким образом,
в зависимости от условий жизни и потребностей почитателей, богам
отводятся разнообразнейшие функции, а этими главными и особенными
функциями в свою очередь определяются различные атрибуты и
свойства, которыми почитатели наделяют их в своих представлениях. Бот,
ниспосылающий солнечный свет, становится «лучезарным», «сияющим»,
«пламенным», «возбуждающим плодовитость» богом; бог, направляющий
ветер,—«ревущим», «неистовым», «буйствующим», «сгоняющим облака»,
^взрывающим облака», «взрывающим море», «ниспровергающим горы»,
«свистящим» или «разрушающим» богом.. Й если этих богов
представляют изображениями, то, чтобы обозначить их особенности, придают им
всевозможные символические атрибуты, стоящие в связи с их
деятельностью: так называемый солнечный бог изображается с солнечным
диском в круге света или короне лучей, с початками плодов, с некоторыми
земледельческими орудиями (сери, лопата, мотыка); бог дождя — с
радугой, водяными растениями, с зигзагами молнии и т. д.
Даже у племен, у которых тотемистическая или родовая
организация остается в полной силе, та особенность племенного или родового
80
бога, что он-—владыка той или иной (или нескольких) определенной
силы природы, при известных условиях до такой степени оттесняет его
свойства предка, что в молитвах и гимнах к этим прародителям
несравненно чаще обращаются как к «господу солнца», «нисшсылателю
дождя», «подателю плодов», чем как к праотцу и отцу племени. Если же
в конце-концов вследствие завоеваний, смешений с другими народами,
выселений, кастового и сословного расслоения старая, построенная на
роде правовая организация сламывается и сменяется политической
организацией, основанной уже не на родственном,, а на сословном
расчленении и на размежевании между различными общинами, то старые боги
скоро совершенно утрачивают свой характер как предки. Вместо культа
предков выдвигается культ природы.
Каким об разом Индра из бога-предка племе'ни
превратился в бога природы
Известное мифологическое объяснение, будто первобытный человек,
подавленный впечатлением от неподдающихся обузданию сил природы,
увидал в этих силах действие мощных богов и начал смотреть на этих
богов, как на персонифицированные (олицетворенные) силы природы,
представляет не что иное, как пустую, ничем не подтверждаемую догадку.
Ложность ее доказывается уже тем фактом, что культ природы всегда
выступает лишь на определенной ступени экономического развития и что-
его не наблюдается у примитивных диких народов, как бы обычны ни
были в обитаемой ими области подавляющие явления природы:
огнедышащие кратеры, ливни, ураганы, наводнения и т. д.
Культ природы возникает не из более или менее сильного
впечатления, производимого на запуганного человека силами природы, а из
познания человеком того обстоятельства, что его существование в полной
мере зависит от действия сил природы и что весь его труд не в состоянии
обеспечить ему средства существования, если ему не благоприятствуют
силы природы.
Бо это чувство зависимости возникает лишь с того времени, когда
земледелие и скотоводство приобретают такое значение, что они
становятся основным условием существования всего народа. Сначала человек
должен почувствовать, что силы природы — величайшие из всеис
экономических сил, что они являются определяющими факторами его
экономического бытия, и лишь после того у него является стремление
посредством призывов и заклинаний заставить эти силы служить добыванию
средств су шествования.
Главные боги индо-арийской мифологии первоначально тоже были
отнюдь не персонифицированными божественными представителями
определенных сил природы, а просто божествами племени и родов, и лишь
мало-по-малу из общих богов-покровителей своих племен и родов они
превратились в повелителей определенных сил природы. В качестве
иллюстрации того, как возникали эти боги, я избираю Индру,
относительно которого мифологи говорят, будто в нем следует видеть
персонификацию (олицетворение) солнца и неба.
Для меня всегда оставалось неясным, почему Индре оказывается
такая великая честь: по древнейшим восхваляющим его гимнам Ригведы
он не имеет ничего общего с солнцем. Поскольку он ставится в них
в известную связь с известными явлениями природа, его скорее можно
было бы назвать богом грома: некоторые места называют его богом
«вооруженным громовыми стрелами», и «стреловержцем». Но и эти функции
Г. Гурев 6
81
Индра исполняет в известном смысле лишь между прочим: в битвах
против врагов, в особенности против даза или дазиу, первоначального
дравидского населения Индии. Главным же образом Индра — бог войны
и бог-покровитель, при том в первую очередь только одного арийского
племени, именно могущественного племени тритсу, «охватывающего
многие кланы и роды». Только он и является «царем племени», чтимым
под видом быка; и даже в поеднейших гимнах его &ще часто называют
господом племени (предводителем племени).
Но Индра преуспевает. Теснимые вторгшимися через Пенджаб
(Пятиречье) новыми полчищами пяти арийских племен — иаду, ану,
другиу, турваза и пуру, и соединившимися с ними дазиу (дравиды),
находившимися под командой главного предводителя Самбара, тритсу видят
себя вынужденными вступить в борьбу против этих полчищ. На реке
Иамуна произошла отчаянная битва между племенем тритсу, которым
предводительствовал его царь Судас и к которому присоединились мелкие
соседние племена пакта, бхалама, алина, вишанин и сива, и между
упомянутым выше арийско-дравидским союзом племен. Благодаря помощи
Индры, разрушившего, как рассказывает миф, сооруженную дравидами
плотину, которая должна была отрезать тритсу и их союзников от воды,
тритсу одержали полную победу. Часть вражеских племен была
отброшена обратно, другая часть была покорена и вынуждена платить большую
дань. Вражеские предводители Беда (вождь арийцев) и Самбара
(главный предводитель дазиу) пали в сражении, которое, так как в нем
будто бы сражались десять радж, впоследствии получило название
«битвы десяти царей».
Индра одержал победу над Вритрой, верховным демоном дазиу, и,
как говорится в одном гимне Ригведы, показал себя «сильным, подобно
быку, защитником арийцев» против дазиу, «чернокожих».
Далеко распространилась его слава как военного вооюдя. В
десятках гимнов прославляются героические деяния его и
покровительствуемого им Оудаса, царя тритсу, происходившего из рода Диводазаса.
Племя тритсу со своими союзниками добилось гегемонии, а с его
мощью возвышался и блеск Индры, могучего бога битв, уничтожившего
туземных дазиу. Но гимнам можно с полной ясностью проследить, как
все дальше распространялось его почитание и как перед ним начинает
отступать на задний план даже значение Варуны, который некогда отнял
у Диауса Питара главенство над азурами. Индра в известном смысле
превращается в национального бота войны и сражений, в великого бога-
покровителя арийцев против дазиу,
Индра выдвигается на первое место как божественный
национальный герой арийцев, ведущих борьбу против дазиу за новые обиталища.
Его слава тем шире распространяется среди арийских племен, чем более
дазиу, дравиды их натиском оттесняются к югу. Однако признание
Индры распространено не повсюду. Как ясно видно из некоторых гимнов
Ригведы, отдельные племена еще долго удерживают у себя культ Варуны
и прославляют его как «древнейшего» бога, древнего повелителя азуров;
напротив, другие племена ставят Варуну, как равноправного бога, рядом
с Индрой.
Однако слава Индры проникала все дальше. Один древний бог
азуров за другим подчиняется Индре, — даже Агни, «перворожденный
ангирасов», подчинивший себе огонь, Агни, который из «небогов»
поднялся до положения мощного бога. И ему пришлось примириться с тем,
что он был включен в оонм тех старых богов, которые склонились пред
82
скипетром Индры. Автор гимна 124 девятой книги Ригведы изображает
это обстоятельство в поэтической форме таким образом, что Агни, вида,
как растет мощь Индры и увеличивается количество приносимых ему
жертв, поворачивается спиной к Варуне и переходит на сторону Индры.
Господство перехооит от Варуны к Индре, — и вместе с тем изменяется
образ' бога-Индры. В древнейших гимнах он является мощным богом
войны, «покорителям врагов» и мыслится в образе могучего ревущего
быка, который бешено обрушивается на вражеские ряды и разметывает
их в стороны: символ суровой, грубой силы. Его главная функция —
борьба против дазиу; кроме того, в его же задачу входит наполнять
быками стойла его поклонников и, так как он — бог-громовержец,
ниспосылать из грозовых облаков дождь, который освежил бы иссохшие
пастбища. Владыка быков, податель коров, умножитель скота, — это
наиболее обычные .выражения, в которых Индру чевствуют певцы того
времени; они совершенно понятны у народа-завоевателя, богатства
которого все еще заключались главным образом в стадах скота.
Но после того, как в борьбе, длившейся столетия, удалось
совершенно покорить дазиу, после того, как установился мир и земледелие
приобрело несравненно более важное значение, чем скотоводство, Индра
выступил в новом образе. К чему народу, живущему в мире, неистовый
бог войны? Главной задачей Индры становятся теперь попечения о
произрастании полевых плодов и о ниспослании теплых солнечных лучей,
под которыми созревают полевые растения. Он является теперь в.гимнах
богом солнца, который каждое утро запрягает в колесницу солнца пару
рыжих лошадей и везет в ней солнечный шар но шатру неба. Индра
становится богом солнца! В то же время он утрачивает образ
страшного быка. Он уже^ не рычит, как громадный яростный бык. Он
превращается в кроткого, благодетельного, можно почти сказать —
благодушного бога, который снисходительно относится к слабостям крестьян-
арийцев, достигших Зажиточности в этот новый период, и следует
прекрасному правилу: живи и жить давай другим. Подобно своим
поклонникам — жизнерадостным, грубым, чувственным крестьянам того
времени, которые любили поесть и выпить, — Индра тоже не гнушается
хорошей выпивки. И он, добрый Индра, способен выпивать колоссальное
количество. В Ригведе, книга восьмая, 66, рассказывается, что Индра
может выпить разом тридцать боченков вина сома; в книге I, 30, он
сравнивается с огромным мехом, который приходятся наполнять снова
и снова; а книга X, 43, говорит даже, что он вливает в себя сому, как реки
льются в море. В результате Индра нередко напивается допьяна, и
в пьяном угаре в его голову приходят всякие курьезные выдумки: так,
напр., он хочет перевернуть или разнести всю землю. Однако он этого
не делает, потому что он — добрый, человеколюбивый бог.
Но эта слава Индры продолжалась в течение лишь некоторого
времени. Благосостояние свободных арийцев крестьян стало падать.
Имущественные различия становились все более глубокими, кастовые
противоположности, которых в Ригведе нет еще и следа, все более острыми.
Господство захватила каста жрецов-браманов, и на трон добродушного
народного мужипкого бога Индры взошел аристократический царь-бог
жреческой касты: Бригаспаты, превратившийся в Браму.
Таким образом, параллельно экономическому развитию, изменяется
характер Индры: из бога племени тритсу он превращается в неистового
бога войны, потом в хранителя стад, ниспосылателя влаги, милосердного
народного бога солнца, и каждое из этих его превращений вызывается
в*
83
новой фазой в экономическом развитии его почитателей. Это —
подтверждение того положения Фейербаха, что каждый народ вкладывает в своих
ботов свое собственное существо. Но хотя и в позднейшее время Йндра
прославляется преимущественно как управляющий колесницей солнца,
однако в нем никогда н& чтили исключительно так называемого «бог&
солнца»: даже в новейших гимнах Ригведы его еще часто молят о
ниспослании дождя, о защите деревень, об умножении запасов и стад.
Мы не станем касаться того, как брамаизм вырос из религии Веды:
здесь мы хотели только показать, что и древне-индийская религия,
которую так часто представляют наиболее чистой формой будто бы
изначальной религии природы, в действительности имела своей исходной точкой
культ духов и предков. Следовательно, и в данном случае подтверждается
то положение, что все развитие религии идет по одинаковым
закономерным путям, — представляет не свободную игру фантазии, а мысленный
осадок определенных жизненных отношений.
(«Возникновение религии и веры в бога»).
И. И. Степанов.
ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ РЕЛИГИОЗНЫХ ВЕРОВАНИЙ г)
Эволюция представлений о смерти и душе
Все силы первобытного человека уходили на добывание пищд. Не
оставалось времени на производство орудий. Палка, камень и т. д.
применялись в их натуральном виде, от случая к случаю; применение
орудий еще не сделалось постоянным и регулярным. Размышлять об
окружающем и о самом себе этот человек был так же мало 'способен, как заяц,
волк и т. д.
Человек, растерзанный хищным зверем или убитый в сражении
с враждебной человеческой группой, покидался сородичами. Когда
истощались запасы пищи в известной области и группа перекочевывала в
другую, она должна была просто бросать заболевших, как еще теперь
некоторые дикие и полукультурные народы убивают или оставляют своих
стариков .на произвол судьбы. При отсутствии прирученных животных
группа не 'могла тащить с собой больных, но не могла и оставаться из-за
них продолжительное время на одном месте.
С развитием техники, "а следовательно, с повышением
производительности труда, стало возможным производство прибавочного продукта,
т.-е. для первобытных времен — некоторого избытка над темг что было
безусловно, физиологически необходимо для существования группы. По-
г) Тов. Степанов, как видно из его «Очерка», в общем, стоит на точке зрения
Кунова, развивая его основные положения и вместе с тем исправляя его пробелы и
слабые места. Дело в том, что, несмотря на весьма важное научное значение воззрений
Кунова на происхождение и развитие религии, некоторые его объяснения явно
неудовлетворительны с точки зрения исторического материализма. Ибо дикарь у Кунова
как-то является очень уж современным человеком, который, предаваясь
размышлениям над явлениями жизни и смерти, приходит к анимистическим представлениям.
Степанов, исправляя и дополняя эти объяснения, развивает тот взгляд, что в
действительности «бытие», «практика» — в данлом случае развитие попечения о больных и
культ мертвых» — здесь определила формы сознания. Некоторые поправки вносит
Степанов и в куновские воззрения о тотемизме, загробном царстве и т. д. Иначе сео^е
рисует зарождение религии т. М. Покровский (см. об этом его статью), что привело
к интересной дисскуссии. — Прим. ред.
84
кидая больного (или, на позднейших ступенях развития, дряхлого
старика), группа уже оставляет при нем некоторое количество пищи и
сосуды с водой. Случалось, что оставленный в обморочном или
бессознательном состоянии, придя в себя и подкрепившись оставленным, дотонял
свою группу.
Отношение к заболевшим, к находящимся в обморочном состоянии,
к временно утратившим способность двигаться на первых ступенях
культуры едва ли значительно отличалось от отношения к умершим.
В самом деле, что такое смерть для опыта первобытного человека?
В сражении ошеломили человека ударом по голове, и он упал
бездыханный. Но через несколько времени он «пришел в себя», встал и пошел.
Оставили человека со съестными припасами на прежней стоянке. Он не
шевелился, может быть, не дышал или почти1 не дышал. А через два-три
дня он нагнал своих. А в третьем случае — оставили человека, да так
и не дождались его возвращения. Но значит ли это, что он вообще не
возвратится? Может быть, он еще не пришел б себя, но впоследствии еще
придет, или пришел в себя, но потерял след своей группы, заблудился
и теперь где-нибудь бродит один.
Ошибочно думать, будто, когда открывают могильник, то
погребальные обряды говорят непременно о существовании «культа мертвых».
И еще ошибочнее предполагать, будто они говорят о «культе душ»,
следовательно, о возникновении того дуализма, который различает в
человеке две сущности (или существа): тело и душу. Между смертью и
временным обморочным состоянием, между мертвым и больным для
первобытного человека нет резкой разницы и глубокой разграничительной
черты. Возможно, что доисторическому человеку казалось, что он
оставляет припасы больному, а мы открываем здесь «культ мертвых» и
зарождение верований в существование «души».
Для первобытного человека не было самоочевидной разницы между
явлениями смерти, бессознательного состояния и сна. Во сне человек
тоже неподвижен, и после сна ему тоже надо «притти в себя». Обморок
переходит в сон, и тот и другой неотличимы от смерти. Первобытный
человек едва ли мог сказать с полной уверенностью, что его сородич умер:
до наступления разложения все еще можно было думать, что он просто
спит. А пока человек был преимущественно собирателем пищи, он не
всегда оставался на стоянке настолько долго, чтобы явления разложения
успели начаться.
В связи с этим древнейшая форма погребения, встречающаяся уже
в первоначальный период палеолитической эпохи, — погребение
человека в лежачем положении, часто на боку, в таком виде, как будто он
спит. Эта форма сохранилась с небольшими 'видоизменениями, у
некоторых современных дикарей и у высококультурных народов.
Здесь еще нет представления о «душе», как о чем-то отличном
от «тела», нет представления о мнимой двойственности человеческого
существа и нет даже отчетливого понимания смерти, с которой
заканчиваются, прекращаются все процессы и явления живого организма.
К тому же образы сновидений для первобытдого человека до полной
неразличимости перемешиваются с реальными предметами. И если он
видел во сне давно брошенного сородича, около которого были оставлены
жизненные припасы и некоторые орудия, то его невозможно разубедить
в том, что к нему приходил не сам покойник: напротив, для него этот
человек еще где-то живет, где-то блуждает, охотится и по временам
навещает знавших его.
85
Точно так же и святые в житиях не отличали своих сновидений и*
галлюцинаций от действительной жизни. Поэтому им казалось, что они
постоянно встречаются и разговаривают с ангелами, праведниками
и бесами.
Для дикаря нет устойчивой и отчетливой границы между реальцьщ
жиром и образами фантазии: последние для него иногда столь же реальны,
как ето чувственные восприятия. Только накопление и обогащение
трудового опыта вело человечество к расширяющемуся пониманию
необходимой, причинной связи явлений и тем самым проводило все более
отчетливую черту между естественным, возможным — и фантастическим,
невозможным.
Но в донце-концов и первобытный человек приходит к убеждению,
что «сон», при котором человек начинает разлагаться, это — не тот «сон»,
после которого он через более или менее короткое время «приходит
в себя». Зарождается мысль, что в первом случае о сородичем произошли
какие-то крупные перемены.
Новый шаг вперед в развитии дикарских представлений о жизни
и смерти связан с переходом от простого собирания пищи к охоте и
скотоводству (приручение животных), следовательно, с значительным
повышением производственной" техники.
Дикарям (как и первобытному человеку) не приходится наблюдать
случаев естественной смерти от болезни или старческой дряхлости: и
больных и стариков они были вынуждены бросать.
Но насильственная смерть — от хищных животных, в сражениях,
а также смерть животных от ран — обычное явление, которое постоянно
доводится наблюдать охотнику и скотоводу. Вытекла кровь,
прекратилось дыхание, — и все попытки оживить человека или животное уже ни
к чему не приводят. Через некоторое время он начинает разлагаться,
а затем от него останутся одни кости, если звери их не растащат.
В некоторых случаях человек, уже не обнаруживавший признаков
жизни, оживал, а в других все меры оживления оказывались
бессильными. Первобытный человек не знает, что все явления его жизни
есть не что иное, как явления деятельности организма, тела и что вне
тела, вне организма пет пикапом жизпи. Он мыслит иначе. Он.
говорит,, что с кровью, с дыханием от человека отделилось какое-то
особенное существо, которое он так и называет «жизненной силой»,
«дыханием» или «душой».
Он знает, что когда берет палку, камень или дубинку в руки; эта
дубинка приходит в движение. Но едва рука оставит орудие, оно, будет
неподвижно. Ему кажется, что и в человеке сидит что-то такое, что
приводит тело в движение, дает ему жизнь, как человек дает движение
какому-нибудь орудию. «Душа» но отношению к телу — то же, что человек
по отношению к орудию. Человек, несмотря ни на что, не оживает, —
значит, из него ушло существо', которое его двигало и оживляло, значит,
орудие покинуто существом, которое через него действовало.
О этой точки зрения истолковываются теперь и сновидения.
Человек лежал -на месте, спал, был без сознания. А когда он проснулся, то
рассказал, что был в той области, в которой устраивали стоянку в
прошлом году, и охотился там на диких коз. Даже полукультурные люди,
а иногда и люди, которые считают себя высококультурными, никак не
согласятся, что это — исключительно сновидение, что спящий человек
целиком остается на месте, и ничто из него не отлучается в знакомые или
неведомые края. А для дикаря единственное объяснение таково: во сне
86
«жизнь», «душа» может отлетать, отлучаться от тела и, сравнительно
легко переносясь по обширным пространствам, может посещать
отдаленные области, охотиться, встречаться с такими же душами давно
«отошедших» сородичей и еще живых родственников и врагов. Поэтому1 слова
«пришел в себя» имеют для дикаря тот смысл, что душа опять
возвратилась в тело и оживила его. Но она могла бы и не возвратиться. Тогда
наступила бы смерть.
Поэтому миссионеры не могли удивить дикарей рассказами (\
воскресении или воскрешении из мертвых. Для них всякое пробуждение —
воскресение. И каждый раз, когда они криками и толчками «приводят
в -себя» человека, впавшего в обморочное состояние, они убеждены, что
совершают воскрешение: заставляют отлетевшую душу возвратиться
в тело. Поэтому христианские миссионеры были немало огорчены, когда
они убедились, что их рассказ о воскресении Иисуса не производит на
дикарей никакого впечатления. И не даром в евангелии, чтобы
подчеркнуть особую чудесность воскрешения Лазаря, особо указывается,
что его труп уже начал «смердить». В эпоху составления евангелия
не особенно удивились бы . воскрешению совсем недавно
скончавшегося человека.
Для первоначальных представлений душа тоже материальное,
телесное существо, только более тонкое, чем собственное тело. Как
сравнительно менее твердая и менее неподатливая рука управляет твердым и
неподатливым орудием, главная часть которого состоит из камня, так и
душа, при «своей относительно меньшей материальности, тем не менее
управляет грубо-материальным телом.
Для первобытного мышления4не -существовало отчетливого
разграничения между «покойником» и «мертвецом», «привидением» и «душой»,
И для современных деревенских представлений «мертвецы», будто бы
выходящие из могил, являются то ли «душами» покойников, то
ли самими покойниками, облеченными в саваны, как> они были
при погребении.
Представления о «нематериальной душе» развивались медленно.
И для большинства современных верующих людей «душа» не тоньше, чем
выдыхаемый воздух. Ее, при известном уменьи, можно поймать, зажать
в руке, посадить в горшок и т. д.
Благодаря своей относительной тонкости и эластичности, душа
способна проникать через маленькую щель. Но так как она все же
«бестелесно-телесное» существо, то эта ее способность не беспредельна.
Поэтому, когда с развитием погребальных обрядов покойника начинают
класть в гроб, зарывать в землю, замуровывать в пещерах, оставляется
отверстие с той целью, чтобы душа могла добраться до тела, к которому
у нее всегда остается величайшее влечение.
Представления о душе, пока она остается в теле человека, у разных
народов различные, но вообще очень смутные. Большинство полагает,
что она не имеет здесь определенной формы и вылетает из умирающего,
как пар. Но некоторые думают, что она как-то распространена во всем
теле. При смерти она выходит из тела, как «тело из одежды», или «рука
из перчатки». О такой точки зрения будет' последовательно обычное
представление, что если у какого-нибудь человека отрубили руку, то
и его душа будет безрукая: очевидно, та частица души, которая была
в руке, погибает, будучи отделена от души в целом. Несмотря на то,
в большинстве случаев вырабатывается воззрение, что главным
местопребыванием души является сердце или череп. Основание самоочевид-
87
ное и простое: ударом в сердце или по голове «душа» вернее всею
«выгоняется» из тела («дух вон»). Но это воззрение, несмотря на все свое
противоречие с предыдущим, на практике легко уживается с ним.
В первые дни, в особенности в первые 2 — 3 дня, т.-е. пока не
начнется явственное разложение трупа, душа, по господствующим у
разных пародов воззрениям, бродит близ покинутого жилья, держится около
тела и все еще может возвратиться в него; случаи «воскресения»,
«возвращения к жизни», возвращения сознания по истечении таких
небольших промежутков времени могли встречаться в опыте дикаря. Поэтому
погребение обыкновенно назначается на 2 — з день. И «воскресение
Иисуса» в третий (в действительности, на второй) день по смерти является
отголоском этих первобытных воззрений: дух, душа, которую он
«испустил» в пятницу, в ночь на воскресение возвратилась к нему.
Окончательно расставшись с телом, душа начинает вести
самостоятельное существование. Она становится духом, т.-е. точной копией
покойника: ето рост, его волосы, те рубцы, которые были у него на лице,
тот посох' в руке, который он носил при жизни, та же хромоногостъ
и т. д. — и те же одежды. Таким образом дикарь в сущности уже
принимает,; что душа есть и у посоха, и у одежд.
Представление о духе пережили такую же эволюцию, как
представления о душе. В конце-концов дух тоже превращается в бестелеоно-
телесное, нематериально-лшге^жсишое существо. Он, как и душа, просто
тоньше тела. — но и только*. Точнее говоря, это — не дух, а тонкое
«эфирное» тело. Но эфирность эта довольно грубая. Дух своей эфирной рукой
может наносить чувствительные удары, может таскать коров, вообще
поднимать большие тяжести. Его прикосновение может быть очень не мягким
и не нежным. Если уметь выспросить, то окажется, что верующие, напр.,
в существование домового считают его собственно не духом, а особенным
телесным существом; но в отличие от обычного телесного существа
домовой может пробраться через самую маленькую скважину.
Во многих высших религиях полностью сохранились такие
представления о душе и духах. Так, для православия тодько бог — истинно
духовное существо. Но уже ангелы не совершенно бесплотны. А душа
человеческая есть тонкое, «астральное», но все же тело.
Попечение о покидаемых больных в ряде переходных звеньев
неразрывно связывается с заботами об «отшедших» от своей группы, —■
о покойниках. Они снабжаются всем необходимым для существования.
Первоначальные представления о их мнимых потребностях столь же
материалистичны, как представления о реальных потребностях больных.
О развитием дуализма, с развитием представлений о душе, как
утонченной копии тела, в «жертву» покойникам начинают приносить только те
части, которые считаются преимущественным, главным
местопребыванием души: сердце, печень, кровь и т. Д. Позже развиваются
«всесожжения», грубо материальная пища сменяется душою пищи,
поднимающейся в жертвенном дыме.
Для этой ступени развития характерен рассказ Геродота о
коринфском тиране Периандре. Вызванная последним тень жены отказывается
отвечать ему, потому что ей очень холодно: Периандр положил в ее
могилу одежды, но не сжег их, и они, очевидно, их душа — не последовали
за нею.
Но «кутья» при погребениях, кисель на тризнах, пасхальные яйца,
кусочки кулича и пасхи, приносимые на могилы покойников, еще и
теперь напоминают о том, что около покойников оставляли такие же пи-
88
щевые припасы, как потребляемые живыми и оставляемые около
больных.
По первоначальным представлениям, душа существует лишь до тех
пор, пока сородичи помнят о покойнике и прикармливают его душу. Чем
меньше вспоминают о ней и поддерживают ее жертвами, тем более хиреет
она и, наконец, угасает, если раньше не будет съедена какой-нибудь
изголодавшейся более сильной душой.
Но у некоторых народов сохраняется представление, что душа и по
истечении долгого времени может возвратиться в тело. Значит, его
необходимо сохранить. Впрочем, это — уже очень поздние религии. Таким
образом развивается обычай бальзамировать покойников.
От египтян вера в «воскресение мертвых», т.-е. в соединение души
с телом, в общее воскрешение, перешла к христианству.
Культ дух о в-предков и тотемизм
О дальнейшим развитием техники, с усложнением охоты (не только
на сухопутных, но и на морских животных) и скотоводства, с
увеличением роли земледелия начинается разделение организаторских и
исполнительских функций. Старейшина (или просто старик) превращается
в хранителя обобщенных форм трудового опыта, накопленного родовой
общиной в ряду поколений. Он одновременно и метеоролог, и астроном
(пли астролог), и агроном, и врачеватель и т. д.
Конечно, нельзя представлять себе первоначального организатора
по образцу какого-нибудь царька или верховного жреца позднейших
ступеней развития. Но только при стадном зоологическом (существовании,
только при самой примитивной технике, едва возвысившейся над
«собиранием пищи», вое взрослые члены группы в равной мере были
хранителями обобщенного трудового опыта. О течением времени начинается
выделение людей, обладающих сравнительно большим опытом и
обогащающих его новыми наблюдениями и приметами. На первых порах еще
нет отношений властвования и подчинения. Пример, инициатива,
указания,— всего этого совершенно достаточно для того, чтобы
«организовать» трудовые операции членов группы. Как бы то ни было, это —
первичные ступени разделения организаторского и исполнительского труда.
Но в ходе развития создается их углубляющееся расхождение.
Совершенно естественно в воспоминаниях общины души
организаторов (или сами прежние организаторы) особо выделяются из ряда душ
рядовых умерших. И деятельность живых организаторов неизбежно
переплетается с заклинаниями и магическими действиями, посредством
которых призывается помощь духа умершего организатора — или духов
целого ряда организаторов-предшественников. С течением времени более
отдаленные из них сливаются в воспоминаниях в один образ, в
организатора вообще, в великого предка, которому община обязана всем: он
научил ее устройству облав, приручил некоторых диких животных,
положил начало возделыванию земли, производству орудий, добыванию
огня, приготовлению пищи, заповедал все обычаи и обряды. При
отсутствии уменья считать время, при бедности языка, в котором иногда нет
слов для особото обозначения даже прадеда, все отдаленные предки
нередко называются одним общим словом «старик». Таким образом
исчезает возможность различать отдельных предков, и все приобретения
группы, самое ее существование приписываются действию одного1
великого предка, «большого старика», который становится своего рода
Моисеем для этой группы. И даже больше: он породил группу, научил возде-
89
лыванию растений и приручению животных; он создал, сотворил свою
группу, растения и животных.
Може1 быть, с наибольшей отчетливостью связывание самых
Простых и рациональных действий с воспоминаниями о предках (или их
душах и духах) отражается на искусстве врачевания. Оно сводится
к извлечению из тела больного предметов, будто бы введенных в него
посредством колдовства, к изгнанию и отогнанию «злых духов»
(«одержимость», «бесноватость» евангелия). И хотя бы при этом применялись такие
целесообразные способы, как растирание (массаж), припарки, настои из
лекарственных трав, выздоровление приписывается не их действию, а
действию духов предков, которые призывались на помощь посредством
заклинаний, сопровождающих врачевание. «Злые духи» изгоняются
«добрыми духами», — именем предков, к которым относится все
волшебное искусство врачевания.
Вообще все болезни приписываются влиянию злых духов, которые
вселяются в тело человека, начинают управлять его телом, как своим
орудием, и тем самым мешают нормальной деятельности этого орудия.
Родовые группы, занимавшие определенную территорию, встречались
в своих блужданиях, потом опять расходились. Достигнув известных
размеров, группа выделяла из себя новые группы-дочери. Встречи бывали
враждебные, но бывали и мирйые, заканчивавшиеся обменом подарками,
который послужил началом обмена вообще. Связи между группами
начинали расширяться. Возникали первичные формы племени.
Группы различались между собою названиями, которые
первоначально отмечали, вероятно, их местонахождение: группа горы, группа
реки, группа моря или озера, группа пещер, группа леса. Но очень рано
группы начали получать свое имя от тех животных или растений, которые
употреблялись в пищу и которыми были особенно богаты занимаемые ими
области: появились группы горного козла, дикой утки, кенгуру, собаки,
черепахи, банана, смоковницы и т. д. Эти животные и растения
превратились в родовые значки, в гербы, в тотемы соответствующих групп.
Когда речь шла о близких по времени происшествиях, для всякого
было ясно, что означали такие, например, слова: «казуар убил кенгуру».
Всякий понимал, что человек из рода казуара убил члена рода кенгуру.
Но чем дальше назад шли воспоминания, тем фантастичнее становились
представления о действительных соотношениях. Если, например,
говорили: «змея сделалась мужем банана и от этого брака родился медведь,
от которого пошел род этого имени», то с течением времени все эти слова
принимались в их буквальном значении: настоящая змея вошла в
настоящее банановое дерево, и это дерево родило медведя.
В соотношениях между тотемами мифы отразили реальные
экономические отношения между группами.
Таким образом предки людей превратились в животных и растения.
И то почитание, поклонение, тот культ, которым окружалась память
мифического предка, основателя рода, превратился в культ того или иното
животного. Так возникло поклонение животным и растениям. Конечно,
тотемы-животные мыслились со всеми человеческими свойствами и
способностями, только соответственно усиленными. Первопредки родовых
групп стали превращаться в тотемистичеокие (или тотемные) божества
(о других источниках тотемистических представлений см. в
следующей главе).
Прежние историки культуры, да в значительной степени и
теперешние, обыкновенно очень торопятся. Вообразив себе дикаря, глубоко-
90
мысленно, наподобие современного человека, размышляющего над
«таинственными явлениями смерти», порождающими в нем страх, они быстро
приводят его к представлениям о душе, как о незримом существе, дающем
телу жизнь и способность движений. А затем дикарь для них разом
переносит свое представление о душе, как причине движений и жизни, на
вое предметы внешней природы, которые привлекают его внимание, в
особенности же на предметы, которые порождают в нем 'страх или приносят
большую пользу: орел, лев, медведь, лисица, крокодил, солнце, луна,
смоковница, банане черепаха, — все они наделяются душами, подобными
человеческой, и всех их первобытный человек хочет умилостивить,
наподобие человеческих душ, духов своих предков.
Идя таким форсированным шагом, историки культуры быстро
приходят к «культу природы», к поклонению ее -силам и начинают говорить
об «изначальности» этого культа.
Их не останавливает то простое соображение, что если душа
человека является копией человека, то и душа крокодилов, львов, орлов,
лисиц, черепах, бананов, реки озера, оолнца и т. д. должны быть та-,
кими же копиями этих одушевленных и неодушевленных предметов.
Между тем, они мыслятся с антропоморфными человекоподобными
свойствами. Как могло бы это случиться?
Ответ может быть только один: очевидно, «бытие» уже как-то
породнило человека с кенгуру, черепахой, скалой, бананом и т. д., сблизило
образ человека с образом медведя, реки, озера, лебедя. Как бы иначе
можно было приносить человека и животных в пищу, в жертву банану,
камню, ручью? Это было бы положительно бессмысленно.
А затем — как бы это такое, при изначальности культа природы,
человек пришел к той мысли, что смоковницу, банан или луну можно
умилостивить, принести им в жертву птиц, зерна или плоды? Несомненно,
первоначальной стадией был «культ мертвых», лишь медленно
отщеплявшийся от попечений об оставляемых больных и столь же медленно — или
еще медленнее — переходивший в «культ душ».
Мы нисколько не продвигаемся вперед, если некоторые историки
культуры указывают на тот несомненнейший факт, что первобытный
человек охватывается страхом, когда он убегает от лесного пожара
или попадает к водопаду. Отсюда еще очень далекий путь до поклон-
нения огню или водопаду. Человек убегает от -них, охваченный таким
же страхом, как заяц, мышь или насекомое, у которых, однако, на этом
основании мы еще не предполагаем наличности «натуралистической
религии», хотя бы и самой примитивной. Страх! первобытного
человека пеоед пожаром, водопадом и т. д. мог быть чужд всяких
элементов антропоморфизма, который необходимо предполагается культом
лрироды.
Историки культуры, отстаивая изначальность культа природа,
иногда ссылаются на то, что антропоморфические представления
являются чуть ли не прирожденными для человека: Они напоминают
о ребенке, который бьет стул, о который он ушибся, или требует, чтобы
другие наказали дверь, которая защемила его палец, Но еще М. Гюйо
в «Безрелигиозности будущего» указал, что источник такого
антропоморфизма не в самом ребенке, а во внушениях матери, нянек и вообще
окружающих. Собственные наблюдения над детьми убедили меня, что Гюйо
абсолютно прав.
С течением времени, по мере накопления опыта, утрачивалось
«легковерие дикаря». Богов-предков начали изображать в виде полулюдей
91
(Египет, Месопотамия). А затем ботов стали представлять в человеческом
обраэе; но и здесь животные, являющиеся символом соответствующих
богов, все еще изображаются рядом с богами и напоминают о
происхождении их из тотемистических животных и растений (бык при Иегове,
боге иудеев, орел, сова, змея, собака, лев, кабан, лань, крокодил, маслина
и т. д. Примеры — в Египте, Персии, древней Греции и у древнейшего
Израиля, у которого, впрочем, и от быка впоследствии остались шэтти
только рога жертвенника). О течением времени утрачивалось всякое
воспоминание о том, что коршун, лев, кабан и т. д. только потому могли
сделаться символом того или иного бога, что некогда бога представляли
в виде этого животного, являвшегося тотемистическим предком той или
иной группы. В объяснение таких символов, сделавшихся непонятными,
со временем явились «истолковательные мифы»: такой-то бог в свое время
сразил чудовищного льва, быка, дракона, кабана и т. д., — и потому при
его изображении изображаются и эти животные. Таким образом
животное, почитавшееся некогда, как тотемистический предок племени,
превращается мифом в злое божество, в титана; в чудовище, уничтоженное
богом-покровителем этого племени.
Сначала мясо тотемистических животных, плоды и семена
тотемистических растений употреблялись в пищу родовыми группами, которые
считали себя их потомками, вероятно, составляли даже главную пищу.
Для человека, который был каннибалом, людоедом, не было ничего
отталкивающего в той мысли, что он поедает своих предков.
Но со временем это изменяется: вводятся новые и новые
ограничения: детям, юношам, а затем и взрослым воспрещается вкушать от
своего тотемистического животного или растения, потом оно вообще мо-
дат сделаться запретным, заповедным для данной группы (на него
накладывается табу), на известные сроки для всех воспрещается охота за
ним, собирание плодов и семян (зарождение постов).
Такие ограничения проводились постепенно, в связи с
накоплением трудового опыта. Наблюдения показали, что растения исчезают,
если, преждевременно собирая плоды и семена, не дают им обсемениться;
животные переводятся, если охота не оставляет им возможности принести
помет и выходить молодняк.
Конечно, все эти запреты неизбежно принимают вид заповедей
предков и связываются с поклонением им, с воспоминанием тех или иных
событий из их прежнего существования, когда они жили среди людей
и давали им свои назидания.
Запрет снимается, для окружающих групп начинается время охоты
и сбора плодов и семян. Этот момент соответствующая тотемистическая
группа ознаменовывает торжеством, в котором опять-таки вспоминаются
и в различных обрядностях воспроизводятся известные события из жизни
предка-тотема. Эти моменты — лов рыбы (метание икры), охота за тем или
иным животным (ежегодное передвижение стад из одних пастбищ в
другие и т. п.), сбор кореньев, плодов и семян (созревание) — совпадают
с определенными временами года. Таким образом зарождаются
постоянные празднества в честь предков-покровителей. Они неизменно
сопровождаются громадными пиршествами, вознаграждающими за истекший
пост. Для своего времени все это было экономически-рационально
(разумно, целесообразно), все это имело производственное значение. Но
определение моментов, решающих для Ьсей экономики данной группы,
приобретало такой характер-, как будто все дело сводилось к определению
моментов, когда надо приносить жертвы предкам.
82
Группам, соседним с группою кенгуру или банана, казалось, что
благодаря своим молениям, заклинаниям, жертвам, приносимым своему
великому предку, кенгуру или банану, благодаря постам, праздникам и
церемониям (которые очень неточно называются «играми», вернее было бы
называть их «'мистериями», «таинствами») эта группа приобретает
особую силу и власть над бананами и кенгуру; без этих обрядов кенгуру
перевелись бы и не происходило бы «умножения всех плодов земных».
Перед нами не просто зародыш молебствий о ниспослании или
прекращении дождя, но уже сами эти молебны.
Воспрещая для своих членов охоту за своими тотемистическими
животными, группа кенгуру позволяет соседям-союзникам, родственным
группам охотиться за ними в сроки, предписываемые заветами ее
предков; но зато в периоды, отмечаемые такими же религиозными торжествами
в союзных группах, принадлежащих к тому же племени, охотится за их
тотемистическими животными и собирает плоды и семена их
тотемистических растений. Эта сложная сеть запретов (табу) и разрешений
известных видов пищи в известные периоды года переплетается с
соответствующей ей системой брачных запретов и разрешений (развитие так
называемого экзогамного брака) и вместе с меновыми отношениями все
более сближает соседние общины.
Тотемистические запреты обычно не носят абсолютного характера.
Когда наступает период охоты, напр., на кенгуру, соседние группы
приносят «починки» своей добычи в группу кенгуру, и старейшина
последней благоговейно вкушает от плоти своего божественного предка.
Встречаются и еще дальше идущие в том же направлении обычаи. Напр., хотя
бык до очень поздних времен оставался символом Ягве (или Ягу — Иеговы
библии), но это не мешало евреям убивать и бить быков.
Следует особо отметить случаи, когда тотемистическое животное
являлось главным жертвенным животным. Убивая это животное и
источая из него кровь, старейшины (подобные «судьям» библии) или жрецы
этой кровью кропили верующих, сами вкушали этой крови и
«причащали» ею BGex верующих, а остальную часть крови приносили в жертв;?
богам, обмазывая ею идолов, возливая ее на жертвенник или на костер.
То же было и с мясом («плотью») жертвенного животного.
Для некоторых народностей и религий можно проследить, что такие
жертвоприношения—смягченная форма древнейших жертвоприношений,
когда бот символизировался не жертвенным животным, а человеком.
Однако животное, приносимое в жертву, не всегда было «выкупом» за
человеческие жертвоприношения, обычные в древнейшие времена, когда
предки данной группы были еще людоедами. Развитие тотемистических
воззрений и само по себе, непосредственно, могло приводить к принесению
в жертву животных. Но у Израиля, например, принесение в жертву
животных развилось и в качестве выкупа за человеческие жертвы.
В ходе развития у некоторых племен совершаются и другие подмены
жертв. С возрастанием значения земледелия человек, приносимый
в жертву, заменяется фигурой человека, выпеченной из муки, кровь —
вином, которое возливается на эту фигуру. Таким образом «таинство
причащения» становится бескровною жертвой уже у некоторых
диких народов. И христианская просвира в древности выпекалась
в виде человека или агнца (ягненка). В пасхальном куличе
(греческая «баба», украинский «мужик») уже только название
напоминает о длинной эволюции от человеческих жертвоприношений
к бескровным жертвам.
93
В церемониях, сопровождающих вкушение от плоти тотема
(«таинствах», «мистериях»), вкушающий от плоти и крови своего бота тем
самым свидетельствовал, что он — плоть от плоти и кровь от крови его,
и что его душа—частица души предка. Он возобновлял свой союз,
«завет» с предком или, точнее, с его духом: обязывался кормить его,
принося ему жертвы, и не дать ему угаснуть, но зато ожидал от него
постоянной помощи для своей группы: ниспослания всех плодов земных,
удачи в охоте, умножений стад, победы над враждебными группами,
избавления от болезней и всяких напастей; в том числе «и от злобных
действий многочисленных враждебных или злых духов. Это был договор,
союз, основанный на взаимности услуг.
Таково происхождение еврейского праздника пасхи с приносимым
в жертву «агнцем» (ягненком). А в христианстве этот союз с богом
изображается причащением, развившимся из еврейской пасхи, и из обрядов у
языческих народов, среди которых возникли первые христианские общины.
Развитие племенных и национальных богов;
обожествление сил природы
Возрастающее сближение, а затем и объединение родовых групп
в «племена» («колена» библии), а затем племен в «нации» и «государства»
находит себе отражение в религиозных представлениях.
Объединением охватываются общины, находящиеся приблизительно
на одном уровне экономичеокЪго развития, а следовательно, и сословного
расчленения, а следовательно, близкие между собою по религиозным
представлениям. Все основные реальные внутриродовые и междуродовые
отношения мыслятся в форме отношений богов-предков, тотемистических
богов. И всякое изменение в этих отношениях с течением времени
регистрируется мифологией. И это тем легче, что находящиеся в процессе
объединения группы связываются сложными отношениями родства,
исключающими брачные отношения между членами одних групп,
разрешающими их между членами других.
Развивающиеся родственные связи между группами, по мере того
как утрачиваются воспоминания об их происхождении из реальных
отношений родовых общин, начинают мыслиться в форме отношений родства
между тотемистическими богами. Если не допускаются браки, напр.г
между членами родов казуара и кенгуру, это истолковывается таким
образом, что они единоутробные родственники, дети одной матери, напр.,
черепахи. Ступени родства между группами, играющие возрастающую
роль в системе исключений и разрешений половых отношений,
представляются как ступени родства между тотемистическими предками.
Обычно наблюдается такое явление, что родовая группа, стоящая
в центре развертывающихся меновых отношений, экономически и
политически подчиняет себе окрестные группы и становится «собирателем»
племени. Она, иногда принудительно, насаждает культ своего бога-предка
среди подчиняемых групп. Он становится первопредком, становится тем
богом, который породил богов-предков объединяемых групп. Возникает
пантеон, т.-е. собрание, сонм богов данного племени.
Тотемистический бог, предок определенной родовой группы, всегда
оставался более или менее близким для нее и мыслился с такими
свойствами, которые хотя и превосходят силы людей, но все же не
исключают возможности борьбы между людьми и этим божеством. Теперь, —•
как раз потому, что одна из групп стала во главе соседей, — ее
тотемистический предок возвышается над патронами-предками соседних групп,.
94
как главное божество племени — над богами второго и третьего ранга.
Последние мыслятся уже только как полубоги:, как «герои», а племенной
бог превращается собственно в бога.
Те же явления повторяются и на -следующей ступени развития,
когда, с ростом прибавочного продукта и развитием меновых отношений,
племена, сближаясь между собою, дают начало тем формам, которые
называются древними государствами. Бот господствующего племени
становится главою богов, господствующим богом. Ему подчиняются
племенные боги, которые превращаются мифологией в родственников главного
бога по нисходящей линии. Ниже их стоят боги отдельных рядовых групп
которые уже на предыдущей ступени развития были объединены в семьш
племенных богов. И, наконец, еще ниже — боги-покровители отдельных
больших или индивидуальных семей, предки этих семей.
Предку родовой группы жертвы приносятся только данной группой.
Жертвенники (алтари) богу племени воздвигаются всеми
объединяющимися группами, а богу господствующего племени, превращающемуся
в главного бога, воздвигаются храмы и приносятся жертвы повсюду, куда
распространяется влияние этого племени, и даже повсюду, где живуг
члены данной нации.
Этот бог дал своему племени победу и господство над остальными
племенами и над их богами-покровителями. Следовательно, он — веемо-
гущий бог. Он незримо присутствует везде, где ему возносят молитвы
и воздают жертвы. Следовательно, он — дух, вездесущее к
всеведущее существо.
«Национальный» бог возносится в ходе развития настолько высоко,,
что он считается уже сверхъестественным существом, по своим силам
бесконечно превосходящим людей. Он превращается во внемировое и
надмировое существо. Он уже настолько далек от людей, что исчезает
всякая мысль о телесном, физическом родстве с ним, о физическом
происхождении всех людей от этого обожествленного предка. На
позднейших ступенях религии утрачивается всякое воспоминание о том, что
в последовательном ходе развития в это Сверхъестественное существо,
в этого бога, в творца людей и мира, превратился предок одной из
объединившихся родовых групп. Это существо признается теперь
непостижимым, непознаваемым для человеча. Таким образом мы вступаем уже
в область так называемых великих религий: ассиро-вавилонской,
египетской, иудейской, персидской, и приближаемся к христианству.
Но еще долго сохраняется то представление, что это всемогущее
существо само нуждается в пище, — в жертвах, приносимых людьми,
и без жертвы захиреет и умрет. За 800—600 лет до начала нашего
летосчисления соседи евреев начали против них борьбу на уничтожение —
на уничтожение и их национального бога. В эпоху вавилонского плена
евреям казалось, что все уже кончено и с их нацией и с их Иеговой:
храм его разрушен, восторжествовали другие бо-ги, их бот должен умереть.
Работою пророков и жрецов найден был выход: Иегова — не один среди
многих богов других наций, он — единственный господин мира, он в
будущем ниспровергнет жертвенники и храмы других богов и после тяжких
испытаний приведет свой избранный народ к господству над всеми наро-
дами земли. Тогда его признают повсюду и повсюду станут приносить
ему жертвы.
С этого времени жертвы Иегове утрачивают свое былое реальное,
значение как действительная пища, без которой бог не может
существовать, и приобретают в истолкованиях жрецов чисто символическое значе-
95
ние. А некоторые пророки идут дальше и отвергают всякие
материальные жертвы.
Рим, сохранявший некоторую автономию за областями и странами,
которые он завоевал, и в своей религиозной политике действовал так,
как па низших ступенях развития действовало племя, являвшееся
национальным объединителем соседних племен. Он не отвергал культов
соседей, не уничтожал их, а, напротив, усваивал, — и усваивал потому,
что' некоторые из этих культов соответствовали более высокой ступени
развития. При чрезвычайно быстром развитии Рима и при большом
консерватизме всех религий римский пантеон и римские религиозные
представления до самого конца сохраняли в себе слишком много от
ранних ступеней развития с их сравнительно узкими и слабыми связями,
с их зачаточной централизацией.
Благодаря усвоению Римом восточных культов, успевших отразить
в себе отношения менового общества с его противоречиями и борьбой,
получалась «сборная» религия («синкретизм»), в которой туземные боги
стали бледнеть и стушевываться перед богами восточных религий. Вместе
с тем подготовлялась почва для возникновения и распространения
христианства.
Возвратимся, однако, к тем ступеням развития, когда возникали
«нации», и божества объединяемых племен составляли общий пантеон.
О объединением богов в общий пантеон, в сонм национальных
{а раньше племенных) богов, изменялись те атрибуты, или специальные,
особые свойства, которые приписывались им людьми.
Представил! себе какого-нибудь египетского жреца или
ассиро-вавилонского мага. Он должен был определить время, когда начнется
разлив реки — Нила, Тигра или Евфрата. Эти разливы происходят
в определенный период года, благодаря, весеннему таянию снегов на горах,
находящихся в верхнем течении этих рек. Жрец наблюдает за движением
звезд, применяет все знания и приметы, усвоенные им от длинного ряда
прежних жрецов, которые в свою очередь получили их от более древних
организаторов. Вереница этих организаторов сливается в образ
мифического великого первопредка. Хотя бы и с великой медленностью, запас
примет и знаний все обогащался из поколения'в поколение. Для жреца
и всех египтян жреческая деятельность имела таинственный характер,
принимала вид общения с предками, .молитвенных действий,
жертвоприношений. Известные взаимные соотношения светил, указывающие на
близость того периода, когда происходят разливы, служили в глазах
жрецов показателем, что наступают дни, когда предки, в связи с
воспоминаниями об их «земной жизни», требует жертв. Начинались
празднества в честь этого бога-предка, приносились жертвы, а затем
наступал разлив, и совершалось распределение воды по полям,
подготовленным к посеву.
В глазах жреца и его общины разливы наступали потому, что богам
приносят жертвы, а боги в воздаяние за это увеличивают тепло и
вызывают таяние снегов. Предок превращался в надмировую силу,
управляющую движением солнца, в солнечного бога.
Таким образом мы подошли к зарождению так называемых
солярных мифов, т.-е. сказаний, истолковывающих видимое движение солнца,
смену времен года, наступление периодов, решающих для всей экономики,
как историю личного существа, великого бога, который гибнет в борьбе
с враждебными силами, но затем по истечении известного времени опять
воскресает (мифы об Озирисе, Иштар, Митре, Адонисе, Дионисе и т. д.).
96
Мифологи и этнологи обычно идут по другому пути. Они уверяют,
будто первобытный человек, без всяких посредствующих звеньев,
наделяет солнце человекоподобной душой, потому что оно «движется», и
затем начинает поклоняться ему, как божеству, потому что оно разгоняет
тьму и является источником жизни. «Натуралистическое» истолкование
«культа солнца» готово.
Но, спрашивается, каким образом первобытный человек мог бы
дойти до такой мысли, что солнце научило людей возделыванию земли,
гончарному, кузнечному делу, искусству строить суда и т. д. Очевидно,
все это некогда должно было приписываться «великому первопредку»,
«большему старику», и только впоследствии этот первопредок указанным
выше способом мог превратиться в божество, управляющее движением
солнца, в самое солнце, тем самым приводя к превращению солнца в
божество, в какого-нибудь Озириса или Митру. Значит, сначала был культ
великого предка, и только затем этот предок отождествляется с солнцем
У нас нет никаких оснований предполагать, что первобытный человек
антропоморфизировал природу, уподобил ее себе чистсг фантастическим
путем вольной игры фантазии.
Точно таким же способом у разных родовых групп (или племен)
возникают представления, что их боги-предки или умножают количество
кенгуру, или увеличивают плодовитость банановой пальмы, или нагоняют
тучи и ниспосылают дождь, или пригоняют к берегам стада сельдей и
лососей, или управляют ветром и т. д. В зависимости от особого характера
хозяйства родовых групп, еще до их объединения, в их богах-предках
намечались известные- особенности, более или менее связывавшие их
о теми или иными явлениями природы.
О объединением групп в племена эти особые свойства усиливаются
и выступают с большей выпуклостью. Если преимущественным
источником существования какой-нибудь приморской общины было
рыболовство, она мыслила своего божественного предка, вероятно, в образе рыбы
или наполовину рыбы, наполовину человека и вооружала его гарпуном.
Но этот предок был не только покровителем рыбаков: так как группа
занималась и охотой и земледелием, то группа веровала, что он научил
ее и этим промыслам, что он был вообще ее патроном (покровителем),
охранял ее поля и ее стада прирученных животных.
Когда эта группа вступала в союз с соседями, она находила у них
богов-предков с иными свойствами. Так, напр., у земледельческой группы
бог представлялся в образе человека со снопом пшеницы, что указывало
на главную область его деятельности; у охотничьей — в образе человека
с натянутым луком в руке и колчаном за спиною, и т. д. Раз все эти богат
объединились в общий пантеон племени, добавочные, побочные свойства
этих богов начинали бледнеть, стушевываться, отпадать, а специальные
свойства превращались в их основную характеристику. Уже здесь
появляются боги (или богини) моря, ветра, плодородия, полей, земли, стад,
«тучегонители», «громовержцы» и т. д. Этим богам приписывается
исключительное заведывание и управление определенными силами природы.
На основе культа предков, в связи с общим характером экономики,
возникают натуралистические религии.
Но ошибочно было бы думать, что в этих религиях человек,
действительно поклоняется силам природы, как таковым: солнцу, луне,
Венере, Марсу, морю, реке, ветру и т. д. в их натуральной форме. Это
значило бы за религиозными миражами и туманами не видеть реальных
отношений. Действительным, реальным центром и объектом натурали-
Г. Гурев 7
97
стических религий тоже остается сам человек, его деятельность, его
практика. В фантастических формах «натуралистических религий» человек
организует свою производственную деятельность и отображает свой
нарастающий трудовой опыт. Например, праздники «солнечного цикла» с
самого начала имели непосредственное производственное значение и всегда
сохраняют его (начало земледельческих работ, сбор урожая хлеба или
винограда, начало выгона скота на подножный корм и т. д.).
Процессы, которые наблюдаются при объединении отдельных
родовых групп («орд») в племена, продолжаются и получают более широкое
поле для своего действия, когда племена сплачиваются в примитивные-
государства, А если еще на предыдущей ступени развития у
отдельных групп были такие тотемы, как -солнце, луна, озеро и т. д., то это
лишь облегчало и ускоряло распределение богов между различными
«ведомствами».
Наблюдая за движением светил, которые своим положением
указывали на близость моментов, важных для существования группы, напр.,
времени посева или лова, жрец приходил к отожествлению тех или иных
светил со своими тотемистическими предками, покровителями решающих
отраслей экономической деятельности: повторялось то же самое, что мы
уже видели, когда выяснили, как возник «культ солнца». А затем
важнейшие происшествия из жизни предков уже переносились мифами
на небо, в звездный мир. Небесные светила и созвездия получали
названия богов: Диана, Марс, Венера, Сатурн, Юпитер,—или даже
тотемистических божеств: Овен, Козерог, Кенгуру и т. д. Внутренняя логика вела
к дальнейшему развитию мифологии в том же направлении, и религии
приобретали такой характер, что некоторые исследователи называют
их «астральными» и буквально во всяком мифе, несмотря ни на
что, хотят раскрыть «астральное ядро» или «астральную»
(«звездную») первооснову.
Но раз мифология перенесла на небо, в мир звезд, отношения между
богами и первопредками, то получался вывод: взаимным положением
светил определяются будущие человеческие судьбы. Надо «родиться под.
счастливой звездой» (астрология).
(«Очерк развития религиозных верований»).
ОСНОВНЫЕ СТУПЕНИ В РАЗВИТИИ АНИМИЗМА
Некоторые ученые думают, что религия возникла из чувства страха,
перед грозными явлениями природы, а чувство страха перед грозными
явлениями свойственно и животным: напримея, птицы, мыши, зайцы,
львы, тигры в ужасе спасаются от пожара, в ужасе бегут от огня. Лошадь,
случайно услышав шум водопада, сотрясается, может в ужасе броситься
назад. Вот, говорят, готово — страх перед явлениями природы! Страх —
начало преклонения. Бороться эти животные с грозными явлениями
не могут, они просто спасаются от них бегством. То же самое и с
человеком: так как человек не может преодолеть этой стихии, то он стремится
умилостивить 'ее. Вот вам начало культа. В наивной форме это воззрение
сводится к следующему: крокодил страшен, ему начинают поклоняться;
лев, тигр — чудовищны, их стремятся умилостивить. Убедительно, но
только на первый взгляд. Разберемся. Огонь, льва, тигра стремятся
умилостивить. Каким образом? Таким образом, что дают им жертву,
пищу, падают ие<ред ними на колени, словом, делают то же самое, что
98
делают, когда хотят умилостивить сильного, но в то же время
враждебного человека.
Замечаете, какой прыжок происходит? Мышь бежит от огня не
потому, что она считает огонь -сильной мышью, а просто-напросто
спасается потому, что дым охватывает ее, потому что жар от лесного или
степного пожара обжигает ее. То же самое и лошадь прядет ушами,
становится на. дыбы, когда слышит шум водопада, не потому, что она видит
в водопаде нечто подобное лошади, а просто-напросто потому, что она
физически содрогается, ожидая опасности, потому что рефлексы всех
животных таковы, организм таков, что автоматически отзывается на эти
звуки, на эти явления.
Значит, для того, чтобы видеть какое-то живое существо в этих
силах природы, требуются какие-то промежуточные звенья. В чем
заключаются эти промежуточные звенья? Вы видите, в чем заключается здесь
прыжок: в том, что напуганные водопадом, тигром, львом, солнцем, грозой,
люди начинают видеть в них существа, подобные человеку. У нас дикарь,
первобытный человек, разом начинает логически рассуждать. Но ясно,
что раньше должно было произойти сближение между крокодилом и
человеком для того, чтобы человек стал видеть в крокодиле нечто подобное
душе, подобное человеческой душе. Очевидно, представление о душе
возникло раньше, чем душою наделили солнце. И столь же очевидно, что
люди предварительно должны были наделить душой солнце, водопад,
превратить их в человекоподобные существа, — иначе они не могли бы
приносить им жертвы.
Как же развивалось представление о душе? Вот вкратце
главнейшие ступени.
Сначала перед нами первобытные люди, которые живут
исключительно собиранием пищи, бродят маленькими группами, маленькими
общинами по 10—15 человек. Каменные, самые несовершенные орудия.
Собирают насекомых, улиток, лятушек, червяков, также корни и плода
и зерна в том виде, в каком они существуют в природе. Человека
ошеломили: искусал дикий зверь или нанесли удар в сражении. Что с ним
делать? Тащить за собой нельзя — бросают его; он, но всей вероятности,
погибает. Излишков нет никаких.
Вторая ступень: появились некоторые излишки, потому что
техника стала совершеннее. Вольного оставляют, но около него оставляют
орудия, может быть, оставляют около него камень с деревянной
рукояткой, которая лыком скреплена с камнем, оставляют посудину с питьем,
оставляют некоторое количество пищи. Через некоторое время человек
этот приходит в себя и догоняет всех остальных. Человек выздоровел,
человек возвратился к своим.
Дальнейшая ступень: стукнули его в сражении молотком по голове.
Он недвижим — его оставили тоже с запасами. Проходит некоторое
рремя, — он догоняет свою группу: он воскрес из мертвых. Ясного
разграничения между смертью и обморочным состоянием нет. Из этого
обстоятельства и из явления сновидений постепенно возникает
представление, что в человеке два существа: тело и потом еще какое-то существо,
которое животворит тело. При ударе это существо вышибается из тела,
жизнь из него вышибается. Возникает дуализм: душа и тело; но душа
вначале представляется, как нечто материальное, менее материальное,
менее плотное и твердое, чем тело, но тем не менее материальное.
Как возникло это представление? Человек уже применял орудия:
каменный топор, молоток, палку. Они сами по себе недвижимы. Человек
7*
99
берет их в руки — они начинают двигаться: человек то, что движет
орудием. Что такое душа? Душа — то, что движет телом человека.
Смотрите — тут умозаключение по образцу орудия. Вот так возникает
дуалистическое представление о душе и теле. Точно таким же образом
возникает представление о загробной жизни. Человека бросают в пещеру
больным или мертвым — они сами хорошенько не знают, находится ли
человек в обморочном состоянии, или же он умер, — оставляют ето
с запасами. Он так и не догнал других. Где теперь этот человек? В
пещерах. Откуда появились наши предки? Из пещер, появились из камня.
Теперь о том, как развивались представления о загробной жизни.
Трупы в некоторых случаях выбрасываются, их поедает, скажем,
крокодил. Где предок? В крокодиле. Крокодил поел предка,—предок в
крокодил. Выплывает крокодил, вместе с ним выплывает предок. Что такое
наш предок? Крокодил. Трупы пожирают львы. Где наш предок? Во льве.
Появляется лев, вместе с ним появляется предок. Обожествление
чудовища получает самое естественное объяснение. Таким образом,
выясняются многочисленные явления тотемизма. Орел, коршун, тоже
пожирают трупы. Кто наш предок? Коршун. Таким же способом возникают
представления, что наш предок — солнце, луна, растения. Культ
природы получает достаточное объяснение.
Итак, сначала раздвоение человека на душу и тело, затем особое
почитание предков, в первую очередь, предков-организаторов. Прошлые
организаторы сливаются в воспоминаниях в образ какого-то одного
великого организатора, в один мифический образ Моисея, Ягве (Иегова),
и Иакова. Этот предок руководил всей деятельностью; от него, от этого
мифического предка, род ведет свое начало, и так окак этот собирательный
предок руководил осей экономической деятельностью, то возникало такое
представление, что он создал весь свой род. Так возникают мифы о
сотворении человека и о том, что этот первоорганизатор научил всем'
искусствам, земледелию, ремеслам.
(«Основные течения в антирелигиозной пропаганде»).
М. Я. Покровский
ПЕРВОБЫТНЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
Страх смерти и боязнь покойников1)
Прежзе чем человек дошел до представления о богах или вообще
о духах, он более всето на свете боялся покойников. Страх этот —
явление настолько естественное, что трудно найти человека, который бы
никогда не испытывал его, хотя бы в слабой степени. Его знают не только
люди, а и животные. Пушкин, описывая, как Зарецкий увозил с места
дуэли убитого Ленского, не позабыл отметить, что лошади, почуяв
мертвого, храпели и бились. Опытные люди говорят, что медведь никогда не
трогает мертвого — и чтобы спастись от него, нужно притвориться,
мертвым и лежать неподвижно. У человека чувство это плохо поддается
воле. Теоретически можно сколько угодно отрицать этот страх, находить
1) Излагаемая здесь точка зрения во многом отличается от куновской и степа-
новской. Наиболее четко отличительные черты этих точек зрения выявлены в ряде
интересных полемических .статей Покровского и Степанова, подвившихся в 1922—23 гг.
(основные 'из этих статей здесь приведены) — Прим. ред.
1С0
его смешным и глупым, но вряд ли найдется много людей, которые бы
с удовольствием переночевали на :кладбище. С ним может справиться
только или привычка, способная притупить, путем частого повторения,
какое угодно чувство — отсюда всем известное равнодушие к мертвым
могильщиков и врачей, — или его может подавить другой сильный аффект
того же порядка. Один офицер, проделавший наполеоновские кампании
начала прошлого столетия, рассказывает в своих записках, что накануне-
битвы в Фрвдланде он отлично выспался1 — на трупе убитого француза.
Здесь смерть была так близка, что непосредственная опасность пуль и
ядер вовсе заглушала впечатление, какое обычно производит на нас
символ смерти — труп. Ибо страх перед покойником есть не что иное, как
особая форма страха смерти. Этим психологическая основа первобытной
религии сводится к общему корню всей нашей сознательной
деятельности — заботе о самосохранении.
Боязливое чувство возбуждается в первобытном человеке не только
видом умершего, но и при взгляде на умирающего. У дикаря больной*
вызывает суеверный страх. Один араб, Ибн-Фадлан, который в первой
половине X столетия бывал на Волге и видел там русских, приезжавших
по торговым делам, вот что рассказывает об их обычаях. «Если один из
них заболеет, они, устраивают ему в отдалении от себя шатер и ставят
рядом с ним несколько хлеба и воды. Близко к больному они никогда
не подходят и не говорят с ним, даже более того: они не посещают его за
все время болезни, особенно, если он бедняк или раб. Когда больной
выздоровеет и встанет с постели, он возвращается к своим». Руссы Ибн-
Фадлана — скандинавы они были или славяне, для нас в данном случае
безразлично — применяли, не сознавая этого, тот метод «разобщения»,
который теперь рекомендуют врачи в случаях заразной болезни: такая
«профилактика» суеверия по своим практическим результатам была
так же полезна дикарю, как и наши сознательно принимаемые
профилактические меры. Вот один пример, показывающий, как полезен
может быть на низших ступенях развития тот страх смерти, который
лежит в основе дикой религии: и эта последняя была одним из средств
борьбы за жизнь.
Но само собою разумеется, что дикарь представлял себе опасность от
мертвого или умирающего не так, как представляем себе ее мы. Мы боимся
заразиться, боимся, что в наш организм проникнет нечто, разрушившее
или разрушающее организм нашего, ближнего. Такие сложные
соображения были совершенно чужды первобытному человеку: для него
источником опасности был, как мы сейчас увидим, прежде всего — сам покойник.
Такой взгляд, естественно, предполагает, что этот последний мог как-то
действовать, что он, собственно говоря, живет, только особенной,
непохожей на нашу жизнью: корень всех представлений о будущей жизни
лежит именно здесь, в этой вере в непрекращаемость жизни со смертью.
Как могло возникнуть такое представление?
Обыкновенно его ставят в связь с теми представлениями, которые-
дает человеку сон. Спящий, как мертвый, лежит без движения и без
сознания; потом, проснувшись, снова начинает «жить» до следующего сна.
Может ли проснугься мертвый? Случаи «обмирания», обморока или
летаргии должны были навести на мысль, что и это не невозможно. Так
объективное наблюдение сна и пробуждения давало хорошо нам знакомую
идею — воскресения мертвых. Взгляните на любую картину страшного
суда—(воскресение мертвых там изображено в овиде именно пробуждения:
мертвый — это спящий, только он спит так крепко, что лишь труба
101
архангела может его разбудить. Масса следов такого представления
осталась в языке и народных поверьях до наших дней. Умершего мы
называем—«усопшим»—уснувшим. О мертвой рыбе говорят, что она уснула:
наоборот, о животных, впадающих в зимнюю спячку, говорят, что они
замирают на зиму. В то же время «яСивой» и «бодрствующий» —
синонимы: «мы приехали на жилых», значит, мы приехали, -когда еще никто
не спал. В Архангельской губернии лет семьдесят назад существовало
поверье, что кто хорошо, крепко спит — например, тотчас засыпает как-
только ляжет в постель, — тот долго не проживет. Весь этот цикл идей
резюмируется поговоркой: «сон смерти брат».
Эта объективная сторона сна пополнялась целым рядом
субъективных впечатлений, которые давались сновидениями. Умершего накануне,
родственника дикарь встречал во сне живым, говорил с ним об общих
делах, вместе охотился и воевал. Более нервные натуры видели умершего
и «наяву», в галлюцинациях. Какое должен был из всего этого вывести
заключение первобытный человек, которому психология сна была так же
неведома, как и причины галлюцинаций? Объяснение одно — мертвые
так же живут, но особой жизнью, незаметной для нас днем, во время
бодрствования. Чтобы принять участие в этой жизни, нужно самому
приблизиться к мертвому состоянию, т.-е. уснуть, что всего чаще бывает
ночью. Итак, живые днем работают, а ночью спят — мертвые же днем
спят и выходят на работу ночью. Сновидение истолковывает дикарю
сходство спящего и мертвого человека: оба находятся в одной области,
один на короткое время, другой — дольше. Так зарождается
представление о загробном мире, который на первых порах сливается с миром
сновидений.
Само собою разумеется, что объяснение смерти у первобытного
человека не было так сознательно, как оно выходит у нас. Нет ничего
ошибочнее, как представлять себе миросозерцание дикаря источником его
религии: .миросозерцание, наоборот, само складывалось на почве
известных, готовых уже, религиозных эмоций. В корне первобытной религии
лежит не какое-либо объяснение, а всего вероятнее именно отсутствие
объяснений. В сколько-нибудь культурной среде все-таки есть
некоторое понятие о физических причинах смерти, хотя бы самое туманное.
У дикаря его часто вогвсе нет. Если на умершем нет «-знаков насилия»,
ран и т. п., для первобытного ума совершенная загадка, что перевело
человека в разряд «усопших». «По всей Полинезии, — говорит один
путешественник, — ни у одного человека нет представления о естественной
смерти: смерть всегда объясняется тем, что человек как-нибудь обидел
богов». Полинезийцы принадлежат к сравнительно культурным
племенам — потому у них и являются на сцене «боги». У бразильских
индейцев, стоящих, как мы знаем, на самой низкой ступени развития,
виновником смерти обыкновенно Является просто покойник, чаще? всего
кто-нибудь из убитых умершим. Такое же представление о смерти, как
непременно об убийстве, совершенном «силой нездешнею», широко
распространено по всей Африке. Черный доктор — он же и жрец — конечно,
ищет не причины смерти, а ее виновника. А в Новой Зеландии, у маори,
жрецом и доктором можно было сделаться, только доказав свою
способность убивать таинственным образом: только когда человек мог какую-
нибудь смерть в среде окружающих приписать своему влиянию, за ним
соглашались признавать способность — спасать других от смерти.
Остатки этого убеждения, что ©сякая смерть есть убийство, доходят, даже
в культурной среде, до очень близкого к нам времени — а в народных
102
массах до наших дней. В разгаре итальянского возрождения папа
Александр Борджиа стяжал себе историческую репутацию отравителя,
благодаря эпидемии брюшного тифа, от которого умер и он сам. Целый
ряд других средневековых легенд об отравлениях у нас и в Западной
Европе, все обвинения против Годунова, против Шуйского, например,
сотни тысяч процессов о колдовстве, — все это прежде всего создано
полным неведением физических причин смерти. А о том, как по убеждению
крестьян, доктора «пускают холеру», читателям, верно, приходилось
слышать самим — случай, для подтверждения которого цитаты
совершенно излишни. Со словом «смерть» не соединялось — а у многих и до
•сих пор не соединяется — никакого определенного представления:
покойник — это нечто неизвестное, тем более страшное именно в оилу этой
неизвестности. В основе религиозного мышления у дикаря лежит не
представление, не логическая работа мысли, но аффект — исходная точка
всякого сознательного процесса вообще.
Культ предков и анимизм
Полное отсутствие отвлечения и способности к отвлечению на
низших ступенях религиозного развития дает себя чувствовать очень ярко
в первобытном культе. Для современных людей культ имеет чисто
символическое значение — обряды лишь средство внешним образом выражать
религиозное настроение. В древнее время культ отнюдь не был только
символом, он удовлетворял вполне реальной цели. Прежде, чем человек
дошел до представления, что «бог есть дух и поклоняться ему следует
в духе и истине», он просто кормил своего бога, — а раньше, чем.он
получал представление о боте или о ботах, он кормил покойников. Нам еще
очень близок и понятен тот способ мышления, который загробное
существование представляет, как существование «души» отдельно от, тела.
Но прежде, чем дойти до такой далекой абстракции, как «дух» и «тело»,
человек представлял себе загробное существование чисто материальным.
Раньше, чем сложилось представление о «бессмертии души»,
господствовало мнение, что по смерти продолжает существовать сама физическая
личность. Мы уже отвыкли думать таким образом, но когда нам
приходится выразить в слове и конкретным образом наше представление
о «духе» умершего, на язык у нас сами собой попадают исконные
формулы, которые грубейшим образом смешивают «мертвеца» с «призраком»,
т.-е. «дух» с «телом». Шекспир не был дикарем, и теоретически, вероятно,
представлял себе различие «души» от «тела». Но кот да его Гамлет видит
призрак отца, он обращается к нему с такими словами:
Скажи, зачем твои святые кости расторгли саван свой?
Зачем гробница, куда тебя мы с миром опустили,
Разверзла мраморный тяжелый зев и вновь исторгнут тебя?
Гамлет говорит так, как если бы он видел перед собою труп своего
отца, вставший из гроба. Но что для Шекспира только уже слова, для
первобытного человека — твердое верование, не смущаемое никакими
критическими соображениями. Некоторые австралийские племена
связывают своим покойникам большие пальцы нот, а сами ноги затем при-
кручвают к спине, чтобы лишить их возможности выходить из могилы
и беспокоить живых. Другие, с тою же целью — иммобилизация
покойника — вынимают у него коленные чашки. «Основная мысль всех этих
погребальных обрядов. — говорит о бразильских индейцах
путешественник фон-ден-Штейнен, — страх, что покойник вернется и будет хва-
103
гать живых». О целью предотвратить это, стараются не дать покойнику
поводов к обратной экшедици на «этот» свет: сжигают, например, все
предметы, лично принадлежавшие умершему и, путем особой пантомимы
(мертвый, ведь, не понимает обычного языка), дают ему понять, что
в деревне ему больше искать нечего. Нередко сжигают и хижину, где жил
умерший: гигиеническое значение всех этих мер, в случае смерти от
заразы, напримр, читатель, конечно, уже сам заметил. Суеверный страх
перед мертвыми и здесь помогает борьбе за жизнь. В наших религиозных
поверьях эта ступень религиозного сознания до сих пор отражается
чрезвычайно ярко. С этим именно циклом идей связан страх перед откры-
гыми глазами покойника: их непременно нужно закрыть — это он
высматривает, кого, бы ему утащить из живых. Сюда же относится обычай
выносить покойника из дому непременно ногами вперед, чтобы он не
нашел дО'роги домой; в древнее время для той же цели тело выносили и
не обычным путем, а, например, разбирали пол и спускали, таким
образом, из верхнего этажа в нижний: так было поотуллено при
похоронах св. Владимира. Самый обычай закапывать мертвых в землю,
несомненно, вызван подобными же соображениями: на это указывает уже
поверье, что если могила обвалится, образуется яма, то дело плохо —
мертвец ищет себе товарища, нужно ждать другого покойника. Таким
образом, наш способ погребения является самым старым, более древним,
чем сожжение трупа, например; удержался же этот способ, по всей
вероятности как более экономный и более демократический. Сожжение было
доступно только богатым людям — и в языческую эпоху жгли, по всей
вероятности, трупы только вождей и вообще «видных» людей, а не
простонародья. Адоптировав именно способ «погребения», а не сожжения,
христианская церковь шла навстречу привычкам и потребностям массы.
Наиболее популярным образчиком этого цикла идей является вера
в вампиров или вурдалаков — мертвецов, сосущих кровь у живых. Но
это уже-конец той эпохи, которую можно назвать эпохой чистого
материализма в религии. Вампир сосет кровь, т.-е. жизненное начало, «душу»
человека. Не надо смущаться тем, что кровь — предмет весьма мате-
ральный: «душа» начала именно с материального существования, чтобы
лишь позже перейти к «духовному». Это мы сейчас увидим подробнее.
Затем, и сам вампир не совсем обыкновенный покойник: он может
превращаться («оборотень»), может пролезть в какую-либо щель и т. п.
Можно думать, что ©ера в вампиров явилась именно на смену страху
перед мертвецами вообще, и именно в связи с переходом к более
мирному и спокойному, оседлому образу жизни. Пока славянин был
кочевым земледельцем, его существование было ненадежно, катастрофа до
такой степени грозила на каждом шагу, что ©се покойники оказывались
вредными, для всякого находилось занятие, как у современных
австралийцев. Более спокойная, более оседлая жизнь с уменьшением
числа случайностей должна была показать безобидность большинства
покойников; но так как катастрофы все же случались, бывали по
временам эпидемии и т. п. — то, значит, некоторые покойники все же очень
злы. Как именно покойник становится злым, на этот счет народная
философия колебалась. Иногда умершего делал вампиром недостаток
заботливости о нем живых: если, например, кошке позволяли перепрыгнуть
через мертвое тело, это могло озлобить умершего; иногда виною был
особенно трагический род смерти; по другому поверью, молодые женщины,
умершие в родах, становились упырями. Как бы то ни было, страх перед
некоторыми* определенными покойниками свидетельствовал об упадке
104
страха перед покойниками вообще, А так как культ зародился еще на
предыдущей ступени, то прежде чем перейти к дальнейшему, нам и надо
познакомиться с этим логическим выводом религиозного материализма.
Превосходный образчик возникновения культа дает нам один точно
зарегистрированный случай, имевший место в британской центральной
Африке. Поля одного тамошнего племени опустошала саранча. Туземцы
долго не могли доискаться «виновника бедствия (что был виновник,
разумелось само собой). Наконец, одному из старшин явился во сне незадолго
перед тем умерший вождь, Шишка, и сказал, что саранчу наслал он —
за то, что его неблагодарные подданные заставляют его на том свете
умирать от жажды: он совсем не получает пива. Любителю пива была
принесена жертва, т.-е. вылит кувшин пива на то место, где он был
похоронен, и обещана регулярная доставка любимого им напитка. Все это
происходило, можно сказать, при ярком свете цивилизации: самый
случай имел место в 1894 году. Ставший теперь (новым божеством Шипока
вовсе не какая-нибудь мифическая личность: он жил и здравствовал
во времена Ливингстона, которому неоднократно приходилось иметь с ним
дело на этом свете. Таинственную силу он получил только благодаря
тому, что стал покойником.
Случай из жизни современной Африки превосходно комментирует
нам старинные русские обычаи, до сих пор уцелевшие в глухих местах.
Наиболее любопытными из них являются белорусские «дзяды».
«Дзяды» — это праздник не предков, а всех умерших вообще: дети,
умершие в раннем возрасте, тоже причисляются к «дзядам». В начале ноября
все население готовится встречать «дзядов». Изба чисто метется и моется.
Готовится масса, кушаний, при чем самое главное, основное блюдо, горох,
стряпается без соли: так стар этот обычай, пришедший от тех времен,
когда даже употребления соли человек не знал! Все садятся за стол и
первую ложку всякого кушанья или питья оставляют «дзядам». Ее или
выливают на стол, или отливают в особый горшочек, который ставится
на окне. Невеселый это пир, по словах тех, кто его видал. Обедающие
сидят молча, напряженно прислушиваясь к малейшему звуку: шум
ветра, шорох листьев, скрип двери, — все истолковывается, как признак
присутствия «дзядов». Видеть их — дано только некоторым,
преимущественно больным и убогим; так, один глухонемой мальчик, никогда ничем
не выражавший своих чувств, вечно бесстрастный и апатичный, вдруг
рассмеялся однажды на «дзядах». Когда его стали расспрашивать, он
объяснил кое-как, что видел очень смешного дядю, который нес в зубах
пестро раскрашенную дугу; мальчик через несколько дней умер. Стали
припоминать — вспомнили, что дед хозяина дома когда-то обвинялся
в том, что он украл дугу; он, значит, с ней и таскается. Не у славян,
а у инородцев восточной России мы находим еще более реалистический
способ кормления покойников: в могильной насыпи, около того места,
где лежит голова, выкапывают ямку, и в нее льют пиво. Но если у славян
не сохранился такой обычай, имеются очень заметные его остатки
(переживания). Обычай христосоваться с мертвым на Пасху сохранился
доселе даже и не в очень глухих метах, при чем разговляются
обязательно па самой могиле; предполагается, очевидно, что докойник каким-то
образом участвует в трапезе. Одно красное яйцо непременно оставляется
на могиле — непосредственно для ее обитателя.'
Как видит читатель, то, что обыкновенно рассматривается, как
наиболее первичная форма религии, вера в духов, умерших, анимизм и культ
предков, вовсе не так еще стары: страх перед покойниками и логически
105
вытекающий из него культ покойников — еще старше. Понятие души или
духа — вовсе не такое простое понятие, и как оно возникло — вопрос до
сих пор еще не разрешенный. Создание этого понятия, несомненно, было
первым шагом дикой философии — при чем материал для последней дали,
по всей вероятности, наблюдения над трупом и актом смерти. Во
многих случаях тело исчезало в самый момент смерти — человек тонул или
сгорал в огне. В то же время умершего продолжали видеть во сне: стало
быть, он как-то существовал, хотя его физическая личность на глазах
у всех- исчезла. Очевидно то, что является по смерти, — не совсем сам
покойник, а что-то другое. Наиболее близким сюда является
представление о двойнике — существе, во всем подобном данному человеку, но
отдельном. Поверье, что видеть своего двойника предвещает смерть,
основывается именно на этом: душа уже оставила свое земное жилище
на время — скоро она расстанется с ним совсем. Галлюцинация этого
рода, хотя и не очень часто, встречается, но все же вполне возможна —
есть точно зарегистрированные случаи даже для XIX столетия. Учение
о двойниках было большим открытием для своего времени, так как оно
объясняло массу явлений, бывших для джкаря загадкой. Спящий иногда
видит себя за много верст от того места, где спит: как это возможно? Он
видит себя в обстановке ему совершенно незнакомой: как он туда
попадает? Представление о двойнике давало ключ ко всему этому. Из
славянских племен оно всего более разработано у славян южных, живущих
по берегам Адриатического моря. Эти славяне уверены, что у каждого
человека есть свой ведогонъ — существо, бодрствующее, когда он спит,
то-есть уже при жизни обладающее свойством покойника, живущето по
ночам, когда живые спят. Выходя из человека ночью, ведогонь может
странствовать, вступать в битву с другими ведогонями (буря — это бой
ведогоней), быть при этом убитым: и тогда человек, из которого вышел
ведогонь, умирает. Итальянские ведогони тучами прилетают к
Далматскому берегу и тут сражаются с туземными; массовая гибель ведогоней
дает, как видите, весьма удовлетворительное объяснение для эпидемий.
Имея понятие о дулю, адриатичеокие славяне не имеют таким
образом никакого понятия о бессмертии души, если оставаться в пределах их
«языческих» верований, разумеется. Двойник человека может погибнуть,
как и он сам — быть убитым в драке. Но эти драки отнюдь не есть ^то-то
символическое — это самая настоящая материальная драка; ведогони
бьют дург друга вырванными с корнями деревьями; швыряют друг в друга
камнями. Очевидно, что и самый ведогонь есть нечто, вполне
материальное, как н то тело, в котором он обитает: став анимистами, южные
славяне, еще не переехали быть материалистами. Как ни противоречиво нам
кажется понятие «материальной души», но именно этими понятиями
люди довольствовались тысячи лет, ими довольствуются и теперь дикари
и даже народные массы цивилизованных стран. Понятие о «бесплотном
духе» — нетчо очень, сравнительно, новое. В Европе оно не старше
античной, греко-римской культуры, и усвоено было всеми образованными
людьми с распространением христианства. Необразованные же люди и
до сих пор не могут себе представить «душу» без материальной оболочки.
То это бабочка: в Ярославской губернии мотылек так и называется «ду-
шичкой»: в Херсонской — влетевшая в окно ночная бабочка — душа
умершего, напоминающего о себе; близкие после этого устраивают
поминки—собирают нищих и кормят их. То это муха: «в Малороссии, —
говорит Афанасьев, — возвращаясь с кладбища, после похорон, старухи
садятся на целую ночь караулить душу усопшего и ставят на стол сыту.
106
т.-е. мед, разведенный водой; они убеждены, что душа непременно
прилетит в образе мухи и станет пить приготовленный для нее напиток».
Наиболее нам знакомо и близко представление о душе, как о птице: отсюда
поверье, что не следует есть голубей, и изображение святого духа в виде
голубя; последнее напоминает нам, что представление гораздо шире
славянской и вообще какой бы то ни было племенной основы. Торговцы
Московского Охотного Ряда, прикармливающие голубей, воспроизводят
обычай такой седой древности, о какой сами они не имеют никакого
понятия. А наиболее «духовным» изображением «духа» является, как
свидетельствует сама этимология слова, дыхание. Отсутствие дыхания —
наиболее очевидный признак смерти. В то же время это нечто такое, что
легко можно видеть: когда на холоду пар, -вылетающий изо рта при
дыхании, быстро сгущается, говорят, «дух виден». Этот «дух» и есть душа
человека: когда умирал великий князь Василий Иванович (отец
Грозного), около его постели стоял его любимый дворецкий Шигона Поджогин.
«И види Шигона дух его отшедше, яко дымец жал».
Экономический интерес в культе предков
Переход к анимизму ничего таким образом не меняет в практике
первобытной религии. Культ покойников, т.-е. кормление покойников,
остается на своем месте: все равно, самого ли мертвеца или его
материального двойника — кормить нужно. Дальнейший шаг вперед выражается
не в изменении культа, а в его организации: из массы покойников
выделяются такие, кормление которых остановится особенно необходимым для
-живых и, по своим результатам, особенно целесообразно.
Уже культ покойников вдохновлялся . не одним страхом перед
неведомыми существами, но также интересом. Покойники могут не только
повредить, если не угодить им, но и помочь, если угодить им сумеешь.
У тех же инородцев восточной России, которые кормят своих мертвецов
через дырочку в могиле, есть и такой обычай: на могилу — обыкновенно
родственника — приносят яйца, масло, даже деньги, ставят все это на
могильную насыпь и при этом говорят: вот тебе, Семен (имя покойника),
на! это принесла тебе Марья (хозяйка), береги у нее скотину и хлеб;
когда я буду жать, корми цыплят и смотри за домом. Покойник получает
корм не даром, таким образом: за это он должен был помогать живым по
хозяйству. Но, очевидно, что эта последняя функция больше всего
подходила тому из мертвых, кто при жизни стоял во главе хозяйства. А так
как большак, домовик, дед—как бы ни назывался глава большой
патриархальной семьи — был и самым страшным членом семьи, от которого
зависело не только благополучие домочадцев, но и их жизнь, то два
мотива, определявшие культ покойников, по отношению к нему сливались.
Страх перед живым переносился и на мертвого: уж если мертвый вообще
страшен, то мертвый хозяин в особенности. И уж если кто может помочь
по хозяйству, то опять-таки он же, мертвый большак. Так зародился
культ предков — наиболее живая до сих пор форма первобытной религии.
Ибо центр этого культа, мертвый хозяин, это, конечно, как читатель уже
догадался, всем нам хорошо известный дедушка-домовой, которого народ
так иногда и зовет — «хозяином».
Христианская церковь зачислила домового в разряд бесов: есть
даже особая молитва «от проклятого беса хороможителя». Как всякий
покойник, он, конечно, и страшен, а дурная его привычка — душить
.людей по ночам (у чехов это поверье сохранилось в более исконной форме;
они говорят «мертвый давил меня») — способна укрепить .как раз эту
107
сторону его репуталии. Но уже старые исследователи давно подмен
тили, что экономически-положительная сторона в поверьях о
домовом далеко перевешивает его отрицательную сторону. «Домовой есть
идеал хозяина, как понимает ето русский человек», говорит один из этих
исследователей, Афанасьев. Он видит всякую мелочь, неустанно
хлопочет и заботится, чтобы все было .в порядке и наготове — здесь
подсобить работнику, там поправить его промах; по ночам слышно, как он
стучит и хлопает за разными поделками, ему приятен приплод домашних
птиц и животных; он не терпит излишних расходов и сердится за них,
словом, домовой склонен к труду, кропотлив и расчетлив. Если ему жилье
по душе придется, то он служит домочадцам и их старейшине, ровно в
кабалу пошел: смотрит за всем домом и двором «пуще хозяйского глаза»,
блюдет семейные интересы и радеет об имуществе «пуще заботливого
мужика», охраняет лошадей, коров, овец, свиней... Он надзирает и за
домашнею птицею (особенно курами), за овином, огородом, конюшней,
хлевом и амбарами ... Мужику, который сумеет угодить домовому, удача
за удачей: покупает он дешевле всех, продает с прибылью, рожь его
цветет невредимо — в то же самое время, как у соседей побита градом
и т. д. Совершенно естественно1, что народ там, где он действует
подчиняясь влиянию не христианского духовенства, а своих вековых
привычек, старается не избавиться от «проклятого беса» при помощи молитв,
а удержать при себе? при своем доме и хозяйстве эту полезную силу.
Особенно выразительны для этой стороны дела те обряды, которыми
сопровождается или, по крайней мере, сопровождался в середине прошлого
столетия — у русского крестьянства переход на житье в новую избу,
на новоселье. «В Пермской губернии, — рассказывает тот же автор, —
переход на новоселье бывает ночью, как только пропоют первые петухи.
Старуха-хозяйка покрывает стол скатертью и приносит на него хлеб-соль;
домохозяин затепливает свечу перед образами, и, когда все помолятся
богу, снимает с божницы икону и кладет себе за пазуху, подходит
к голубцу, отворяет дверь в подполье, наклоняется туда и говорит: «сусе-
душко, братанушко! пойдем в новый дом; как жили в старом доме хорошо
и благо, так будем жить ив новом; ты люби мой скот и семейство!».
Потом хозяин берет в руки петуха и курицу, хозяйка хлеб-соль и квашню,
прочие члены семьи забирают другие вещи, и все отправляются к новому
дому. Прежде всего хозяин пускает в избу петуха с курицей и
дожидается, чтобы петух пропел на новосельи; затем уже входит сам, ставит
икону на божницу, и, открывая голубец, говорит: «приходи-ка, еосе-
дупшо-братанушко!". Следует общая семейная молитва, которую творят,
обращаясь к переднему углу; хозяйка накрывает стол, кладет на него
хлеб-соль, затапливает печь и принимается за стряпню». В этом варианте
«новоселья» всего характернее сочетание христианского обряда с культом
предков; они не только не мешают друг другу, но слились в одно
неразрывное целое. В других вариантах «языческий», дохристианский обряд
сохранился лучше. Переходящий на новое жилье дедушка-домовой
символизируется горшком, наполненным горячими угольями со старого
очага. Горшок этот разбивают в новой избе, и уголь — непременно
ночью — закапывают под передний угол. Повторяются обычные формулы
(«милости просим, дедушка, к нам на новое жиитье!»), выносится
навстречу домовому хлеб-соль (жертва) и т. д. Но при этом центр старого
культа — очаг, огнище — заслоняет принадлежности первого —
христианские иконы. Петух и курица тоже, разумеется, жертвы: только
экономии ради они приносятся обычно лишь символически. Но в исклю-
108
чительных случаях, когда дедушка разгневан невнимательным
отношением своих потомков, котда, например, ему забыли в определенный день
доставить на загнеток горшок с кашей — приносится жертва уже
реальная, а не символическая: петуха режут и кровью его обмазывают все
углы. Тогда разгневанный домовой утихает и снова становится полезен
по хозяйству. Раз в год, впрочем, эта жертва приносится и без особого
повода^— это бывает 1 ноября, как раз около тогр же времени, когда
справляются белорусские «дзяды». В этот день убивают петуха, ноги его
(судя по подробностям обряда, вероятно, и голову) бросают на верх
избы, а остальное съедают за семейным обедом. Только в одном случае
<\проклятый бес хороможитель» оправдывает дурную репутацию,
созданную ему христианским духовенством, — это,,если чужой домовой
заберется. Чужой домо.вой, умерший глава чужого — т.-е. в первобытные
времена враждебного хозяйства — «чорт страшный» и по народным, до
христианским понятиям. Когда чужой домовой пересилит хозяйского,
то начинает выживать из дому всех жильцов, причинГяя им беспокойство
и вред; он щиплет домашних животных и птиц, у скотины отнимает
корм, лошадям спутывает гривы и замучивает их ездою, сбрасывает
хозяина с саней или телеги, раздевает его во время ночи, стаскивает с
постели, наваливается на сонных домочадцев, душит и щиплет их до синих
пятен, хлопает без нужды дверями и мешает всякому делу, всякой работе.
Чтобы избавиться от бед^>1, хозяин и его родичи совершают обряд
изгнания чужого домовото. Для ртаго они ударяют по стенам и по
заборам метлами и приговаривают: «чужой домовой, поди домой!».
А вечером в то же день наряжаются в лучшие праздничные платья,
находят на двор и начинают призыв своего домового в следующих
выражениях: «дедушка, домовой! приходи к нам домой — дом домитъ
и скотину водить".
Итак, свой дедушка — всегда сила экономически полезная. При
жизни он был полезен в кругу конкретных мелочей данного хозяйства.
Став «духом», не расширил ли он район своей полезности? Мертвый ведь
сильнее живого.
Стихийные божества
Мы уже видели, что домовому приписываются некоторые силы,
превышающие компетенции живого, реального, хозяина: он может дать
урожай, устроить так, чтобы скотина пло|дилась и т. п. Все, чего
первобытный человек не понимает сам, он относит на долю своих покойников.
Урожай зависит от атмосферных явлений: не 'зависят ли и эти
последствия от мертвых? Пишущему эти строки в детстве приходилось
слышать поверье, что, если кто-нибудь утонет, шесть недель будет итти дождь.
Далматские «ведогони» являются прямыми и непосредственными
виновниками бурь на Адриатическом море: бури — это битвы ведогоней между
собой. В древне-индийских гимнах отцы носятся в тучах и проливают
дождь на поля своих потомков. У нас в России есть замечательная
загадка, символизирующая грозу: «гроб плывет, мертвец ревет, ладан
пышет, свечи торят». Форма загадки явно отразила на себе влияние
христианского обряда (свечи и ладан), но мертвец пришел сюда, конечно,
из дохристианского прошлого. А когда весною повеет теплом, народ
говорит: «родители вздохнули». Нужно быть очень предубежденным
человеком, чтобы в массе таких мелких, но характерных черт не подметить
того пути, которыми прошли на небо атмосферные божества. В туче и
грозе, в дожде и солнечном сиянии для первобытного человека работали
109
все те же покойники, которые помотали или вредили ему в его хозяйстве
и на первом месте — покойники-предки.
«Народные поверья сообщают многие аналогические черты, которые
обнаруживают сродство домового с водяным, — говорит тот же
цитированный нами исследователь. — В характере водяного даже заметны следы
этого древнейшего представления. Наши крестьяне называют его тем же
именем дедушки, какое присваивается домовому; имя это дается иногда
и лешему». Само собой разумеется, что для нашего исследователя это
означает, что и домовой, и водяной, и леший никогда не были «облачными
духами» — ход развития представляется ему как раз в обратном порядке:
не духи покойников взошли на небо и стали атмосферными божествами,
а, наоборот, атмосферные божества превратились в земных духов.
Достаточно присмотреться к наружности водяното, чтобы угадать его настоящее
происхождение. «Народ представляет водяного голым стариком, с
большим одутловатым брюхом и опухшим лицом»: по мнению нашего автора
это «вполне соответствует его стихийному характеру», — а в
действительности это значит, что водяного народ рисует себе разбухшим
утопленником. Иногда он весь в тине. Иногда это смешение водяного с утонувшим
человеком доходит до полного отождествления. Раз рыбак увидел по реке
плывущее тело утопленника, он взял его к себе в лодку — а утопленник,
вдруг как вскочит, захохотал, бросился в воду и был таков. Это,
оказалось, был водяной, которому захотелось пошутить. Свита водяного,
русалки, это в народных поверьях уже прямо и непосредственно
утопленницы или души утопленниц. Имя русалок показывает, до какой степени
консервативна народная религия, как бы ни менялись ее формы. Это имя,
несомненно, очень сравнительно, новое — относится к христианской
эпохе: оно взято с греческого — в Византии Rousalia, «розовая пасха»,
называется троицын день, христианизирванная форма одного из
популярнейших языческих праздников. В то *же время водяные божества, и
именно женского пола, засвидетельствован^ у славян для очень раннего
времени — о них говорят византийские писатели VI века по Р. X. У
западных и южных славян сохранилось для них и туземное название —
вилы, что один русский исследователь сопоставляет с литовским welis,
довольно точно соответствующим белорусскому «дзяды». К этому цадо
прибавить, что и самый праздник «русалки», по своему первоначальному
значению, был праздником мертвых. 'Откуда бы мы ни пошли, мы всюду
наткнемся на культ покойников.
Леший по своему происхождению — родной брат водяному, а стало
быть и домовому. В, народных рассказах домовой — маленький старик,
ростом с пятилетнего ребенка, с огромной всклокоченной бородой. Леший
иногда/ сам превращается в ребенка и забирается в люльку — с самой
невинной целью: полакомиться человеческими кушаньями. Но если
захватить его врасплох за этим занятием, то увидишь
маленького-маленького старичка с длинной бородой. Такой образ действий объясняется
тем, что он не имеет регулярного культа — ему не приносится
постоянных жертв. Косвенное, но очень сильное доказательство того, что древние
славняе не были охотниками, какими их часто' хотели изобразить: у
охотничьего племени лесной бог занимал бы более почетное положение.
Экономическое значение воды и реки, напротив, в быту всякого народа
огромное. Культ водяного поэтому не только имеет правильную форму, но- и
гораздо грандиознее культа домашнего божества. Домовому, в экстренных
случаях, приносят в жертву петуха. Водяного, в наиболее грозные часы
его деятельности, в пору разлива рек кормят лошадью, при чем лошадь
1,10
покупают хорошую (обязательно не торгуясь, чтобы водяной не обиделся,
что для него жадничают), откармливают ее и украшают лентами прежде,
чем спустить в прорубь или утопить в реке, если она уже вскрылась. Если
мы вспомним, как дорог был скот в древней Руси, мы еще лучше оценим
всю значительность этой жертвы. В самом худшем случае для водяного
зарезывают черную свинью, т.-е. во всяком случае, животное более
экономически ценное, чем петух. Домовой был ботом для одной семьи,
водяной для целой округи, для одной или нескольких деревень,
расположенных на данной речке.
Очень характерно, что в народной религии устойчивее всего
оказались «низшие божества». Домового, водяного, лешего знает и теперь
всякий. Древне-славянского бога, громовика Перуна, помнят только
белоруссы — наибольшие консерваторы в религии, как мы уже знаем.
Они представляют его себе человеком с длинной, рыжей, золотистой
бородой; он повелевает массой громовых и вихревых духов «гарцуков» —
очень похожих по своим функциям на южно-славянских ведогоней;
такую же красную бороду имеет и «дзедка», бог-хранитель золотых кладов.
Одно новгородское предание, дошедшее к нам в чрезвычайно поздней
форме, намекает на весьма возможную связь громовика с водяным. По
этому преданию, чародей Волхов жил в реке, которая от него и получила
свое название; он топил всех, кто ему не поклонялся: народ называл его
Перуном и Громом. Если бы можно было этому преданию придавать
значение отголоска народных выражений, у нас был бы очень ценный след
того пути, каким боги шли на небо с земли. У соседних славян-литовцев
(литовский язык наиболее архаический ив существующих доныне
индоевропейских) эта связь яснее: когда гремит гром, литвины говорят «werzajs
barrahs» старик ворчит. У идола Перуна, поставленного в Киеве
Владимиром, была серебряная голова и золотые усы: другими словами, статуя
стремилась изобразить седоволосого старца. Это не могло быть
случайностью. Относительно других ботов, например, Белеса, о котором сейчас
будет речь, мы знаем, что они были дедами: в «Слове о полку Игореве»
Баян называется Велесовым внуком. Относительно русского громовника
у нас нет таких прямых показаний, но аналогия с другими славянскими
ботами, во-первых, аналотия с громовниками других индо-европейских
племен, во-вторых, делает более, чем вероятным, что отцом или дедом был
первоначально и он.
Перун (от пьрати — ударять: образовано также, как скак-ун,
ворчун и т. п.) был, вероятно, первым славянским богом, в хронологическом
смысле: в этом случае славянское религиозное развитие шло тем же
путем, как и развитие всех индо-европейских племен, у которых громов-
ник раньше всего выделился из массы духов. Без имени Перуна у нас уже
есть документальные доказательства культа громовника у славян VI века
по Р. X. К этому веку относится византийский писатель Прокопий,
записавший о славянах: «Одного только бога, производителя грозы,
признают они единым владыкою всего сущего, и ему закалывают быков и
всякие жертвы». Это, разумеется, вовсе не значит, что славяне исповедывали
единобожие: «впрочем, они чтут и реки, и силы, и разные другие
божества», прибавляет Прокопий. Бог грома только раньше
индивидуализировался. Обожествление грозы стоит, конечно, в связи не с детским
страхом перед молнией, как думали когда-то: и дикарь должен был очень
скоро заметить, что молния — вещь сравнительно 'безобидная, убивает
очень редко. Но ливень, сопровождающий грозу, является
спасителем урожал: славянское просо в пристепных местностях* больше всего*
111
должно было бояться засухи. Хозяйственная полезность Перуна, как и
у домового, должна была перевешивать его «страшные» особенности.
Отсюда и самое слово «перун» означает не только «молнию»
(значение, в котором оно сохранилось доселе у тех же белоруссов), но и
вообще небо.
В одном древне-русском памятнике на вопрос: «сколько небес»?
дается ответ: «перун есть мног». Гроза с ливнем первоначально
представлялась главным, основным благом, которое посылает небо ). Солнце,
которого на юге летом всегда скорее больше, чем нужно, обожестййлось
лозже грозы. Кик божественное существо, оно получило у славян
название Дажьбога. Корень слова бог и бог-атетво — один и тот же;
в санскритском, —■ bhaga означает в одно и то же время и «господь» и
«счастье», «удача» — при чем последнее значение основное. Первая же
половина «Дажьбога», несомненно, происходит от глагола «дать». Дажь-
бог, таким образом, «податель благ» или счастья», во всяком случае,
«дающий бог». Что это было именно солнечное божество, доказывается
тем, что через Дажьбога летописец перевел греческого Гелиоса—{солнце).
По всему судя, этот «дед» (киевские славяне были, как известно, именно
«внуками Дажьбога» — так их называет «Олово о полку Игореве»)
пользовался меньшим почетом и влиянием, чем дед — громовник. Рядом
с последним мы встречаем в официальных документах славянского
язычества, договорах русских о греками, только одно божество: Волоса или
Белеса, «скотья бога». Последнее название, принадлежащее самой
летописи (если не прямо самому документу), повидимому, устраняет всякие
сомнения насчет экономического значения этого третьего члена
славянского пантеона: Волос, очевидно, был богом скотоводства, как Перун и
Дажьбог — земледелия. И, тем не менее, приходится отметить, что в
современных поверьях Волос также является покровителем пашни и
жйитва: первый пучок колосьев завязывают особым образом «Володке на
бородку»; он является неприкосновенным — это- старинная жертва.
Иногда особенным образом завязывают и украшают весь первый сноп,
который тогда получает название «житного деда». Это двойное значение
Волоса заставляет вспомнить двойное значение слова «скот» в
древнерусском языке: оно обозначало не только совокупность полезных для
человека животных, но и вообще богатство и даже прямо «деньги».
«Скотий бог» был, по всей вероятности, -ботом всяческого изобилия, не только
животного, а по своему стихийному значению он был одной из ипостасей
того же Перуна. В некоторых местностях России, совершая тот же обряд
над первыми колосьями, говорят не «завязывать Волосу бороду», а
«завязать бороду Илье»; а Илья-пророк, в христианской мифологии, как это
твердо установлено, занял место именно Перуна. Что у последнего был
такой дубликат, — нисколько не удивительно: дубликат был и у других
богов, для солнца, кроме Дажьбога, мы встречаем еще Хорса, который,
опять-таки, по некоторым указаниям, является и громовым божеством.
Если бы мы лучше знали мифологию отдельных славянских племен, для
нас, вероятно, было бы понятнее это разнообразие их функций. Очень мо-
может быть, что то, что в одном месте называлось Перуном, в другом
носило название Хорса, а втретъем — Волоса. Приурочение же их к тем или
иеым значениям было последствием дальнейшей теоретизации, навеянной
античными образцами, пришедшими к нам через византийскую литера-
х) Сравни совремнное народное поверье, что после первой грозы весной нужно
умыться «грозовой водой», водой первого ливня, это дает здоровье и счастье. — Автор.
112
ТУРУ — и влияние которых отчетливо чувствуется в летописи. Но наши
сведения о древне-русском пантеоне так скудны, что приходится
ограничиваться догадками.
(«Очерк истории русской культуры», ч. II).
Н. И. Бухарин
ПОД ВЛИЯНИЕМ ЧЕГО ВОЗНИКЛА РЕЛИГИЯ?
«Сущность» религии состоит в «вере» в сверхъестественные силы,
в чудесных духов (одного или многих, грубых или весьма неуловимых
и эфирных — все равно). Это понятие «духа», «души» и т. д. возникло
как отражение особой экономической структуры общества, когда
выделился «старший в роде» или позднее патриарх (при патриархе; то же,
по существу, и при патриархате), когда, другими словами, разделение
труда привело к выделению организаторского труда, труда по
управлению и т. д. В производстве старший в роде как хранитель всего
накопленного опыта организует, управляет, приказывает, намечает план
работ, является деятельным, «творческим» началом, в то время как
другие повинуются, выполняют приказания, подчиняются свыше
установленному плану, действуют по чужой воле. Это отношение производства и
сделалось моделью для рассмотрения всего существующего и самого
человека, прежде всего. Человек распался на душу и тело. «Душа» —
это то, что руководит «телом». Душа настолько же «выше тела-, насколько
организатор и управитель выше простого исполнителя (у Аристотеля
есть где-то сравнение души с господином, а тела с рабом). По такому же
образцу стал рассматриваться и весь остальной мир: стали думать, что
за всякой вещью сидит «дух» этой вещи; вся природа оказалась
одухотворенной (это воззрение называется в науке «анимизмом» от латинското
слова «анимэ» — душа или «анимус» — дух). Раз возникло такое
представление, то оно привело неизбежно и к религии, которая началась с
почитания (культа) предков, старших в роде, управителей, организаторов.
Их «души» пли «духи», натурально, рассматривалить, как наиболее
знающие, опытные, могущественные духи, которые могут помочь, от
которых зависит все совершающееся в мире. Это и есть уже религия.
Значит, самое происхождение религии показывает, что она возникла, как
отображение производственных отношений (именно тех из них, где
налицо господство — подчинение) и обусловливаемого ими политического
строя. Религия объясняла весь мир по тому образцу, по которому
объяснялась жизнь внутри общества.
Вышеприведенная теория происхождения религии, которую мы
считаем абсолютно дравильной, принадлежит А. Богданову и впервые была
им формулирована в сборнике «Из психологии общества». Позднейшие
специальные исследования вполне подтвердили эту догадку1). Очень
близко к ней подходит Г. Кунов. Критикуя взгляд, по которому религия
произошла из различных впечатлений от внешней природы, Кунов совер-
*) Совсем иначе оценивает эту теорию Плеханов в своих статьях о религии
(см. следующий отрывок), правильно отмечая то обстоятельство, что формулировка:
«религия есть копия общественного строя» неправильно по отношению к религии
самых первобытных народов, но совершенно правильна по отношению к религии
народов, разделенных на классы. — Прим. ред.
Г. Гурев 8
113
шенно справедливо пишет: «Конечно, так как всякий образ,
существующий в представлении, обусловливается лежащим в его основе
восприятием (субстратом), то в известном смысле можно сказать, что как
окружающий мир природы (естественная обстановка), так и социальная среда
(общественная жизнь) оказывает определяющее Ёоздействие на
религиозную идеологию; но, не говоря уже о том, что воззрения на природу
в большей степени зависят от того, насколько успел человек технически
использовать силы природы в производстве своей материальной жизни, —
образы, получаемые в результате созерцания природы дают только
материал для внешних украшений, — хотелось бы сказать: почти только
придают местный колорит для религиозного мысленного построения».
Однако, Кунов не доводит до конца этой точки зрения и поэтому
наивничает совершенно недопустимо. Так, мы читаем, что «дикие и полу-
к/ультурные народы совершенно естественно дуалисты». Это вроде того,
как у Адама Смита «обмен» — «совершенно естественное» свойство
человека, или же вроде объяснения того, как произошла наука: у людей-де есть
врожденная слабость «к причинному объяснению». По Кунову распад
человека на душу и тело укрепляется видениями сна и обморока (как
будто что-то уходит из тела, затем снова приходит). Но «укрепляться»
может только то, что уже имеется. Быть может, смерть служит таким
явлением, которое создает представление о «душе», отдельной от тела.
Но сам Кунов приводит примеры, когда дикари не понимают
необходимости естественной смерти. Более того, самую смерть некоторые племена.
(Джон Фрезер сообщает это об австралийцах в Новом Южном Уэльсе)
приписывают обычно «тайной злобе какого-нибудь духа». Значит, и это*
ровно ничего не объясняет. (Кстати сказать, т. М. Н. Покровский выводит
религию из страха к смерти, боязни покойников и т. д. Но как же быть;,
когда нет даже понятия о том, что «все люди смертны»? Ясно, что
историческую категорию, имеющую свое историческое начало, т. Покровский
взял в качестве почти «естественной»). У Кунова религия развивается
так: зачатки культа духов, затем культ тотема (так называются
животные, птицы или растения, которые были племенными знаками-гербами)
и предков. Но во всех почти примерах, приводимых Куновым, его «самые
первоначальные» духи и суть духи предков. Кунов пишет:
«благорасположенными считаются только духи ближайших родственников или
хотя бы члены своей собственной орды, да и то не всегда: напротив, духи
умерших из чужих орд и племен все считаются враждебно настроенными
духами». При этом дух отца и матери, дух деда и «прародителя»,
именуется как «отче» и т. д. У Кунова таким образом, не сведены концы
с концами. То он соглашается с формулой, что религиозные
представления вызываются «впечатлениями от общественной жизни», то товорит
не об общественной природе, а о «собственной природе», «возникновении»
и „.. «прежде всего смерти». Но вряд ли Кунов отважится назвать смерть
и рождение специфически общественными явлениями. На самом деле то,
что относится к внешней природе, то относится и к биологической
природе человека: впечатления от всех этих явлений (смерть, сон, обморок,
точно так же, как и гроза, буря, землетрясения, блуждающие огни, солнце-
и т. д.) дают подсобный материал для того, чтобы этот материал был
выстроен и подобран под углом зрения дуализма [мысли о двух началах,
духовном и телесном), который вовсе не прирожден, а вытекает именно
из основных условий общественной жизни.
(«Теория исторического материализма»).
114
Г. Б. Плеханов
ОБЩЕСТВЕННОЕ БЫТИЕ И РЕЛИГИОЗНОЕ СОЗНАНИЕ ДИКАРЕЙ
Анимизм и авторитарные отношения
А. Богданов пытался установить наличность «особенной связи между
анимистическим дуализмом и авторитарными общественными формами».
Не отвергая совершенно принятой теперь среди этнологов теории
анимизма, т. Богданов находит, однако, ее неудовлетворительной. Он думает,
что она «может правильно указывать тот психический материал, который
послужил, по крайней мере, отчасти, для построения анимистических
взглядов; но остается вопрос: почему из этого материала возникла форма
мышления, являющаяся основной и всеобщей на известной ступени
развития». И вот на этот вопрос т. Богданов отвечает признанием особенной
«связи между анимистическим дуализмом и авторитарными формами.
Анимистический дуализм является, по его мнению, отражением
общественного дуализма, дуализма между высшими и низшими, между
организаторами и организуемыми. Он говорит: «пусть перед нами общество,
в котором авторитарные отношения охватывают всю систему
производства, так что каждое общественно-трудовое действие разлагается на
активно-организаторский и пассивно-исполнительский элементы. Таким
образом, целая громадная область опыта — сфера непосредственного
производства— неизбежно познается членами общества по определенному
типу — по типу однородной действенности, в которой постоянно
сочетаются элементы организаторские и исполнительские». А когда человек
привыкает понимать свои трудовые отношения к внешнему миру, как
проявления активной, организующей воли, воздействующей на пассивную
силу исполнителей, тогда «то же самое начинает он находить во всяком
явлении». И тогда возникают в его представлении души вещей. «Он видит
движение солнца, течение воды, сльппит шелест листьев, ощущает дождь
и ветер, и для него всего легче представлять все это таким же способом,
каким представляет он свою общественно-трудовую жизнь: за внешней
силой, которая прямо действует на него, он предполагает личную волю,
которая ее направляет; и хотя эта воля для него невидима, тем не менее
она непосредственно достоверна, потому что без нее ему непонятно
явление». Это очень хорошо. Так хорошо, что г. Шулятиков написал, на
основании мысли г. Богданова, целую историю новой философии. Одно
плохо: хорошая мысль г. Богданова противоречит действительности.
Очень возможно, даже вероятно, что анимизм не был самым первым
шагом в- развитии человеческих представлений о мире. Вероятно, прав
был М. Гюйо, полагавший, что «исходный момент религиозной
метафизики заключается в своеобразном туманном монистичесдом взгляде не
на божественное начало, не на божество... но на душу и тело, которые
вначале мыслились как единственное целое». Если это так, то анимизм
надо считать вторым шагом в развитии указанных представлений.
М. Гюйо так и говорит: «Ближайшею по времени к этой концепции
является концепция самостоятельных душ, дуновений, одухотворяющих
тела, духов, способных покидать свое жилище. Эта концепция известна
у историков религий под именем анимизма. Она обращает на себя
внимание, прежде всего, своим дуалистическим характером. В основе ее
лежит взгляд на противоположность между душою и телом». Как бы там
ни было, но факт тот, что анимизм развивается уже у первобытных
народов, совершенно чуждых «авторитарной» организации общества. Г. Бог-
8*
115
данов очень ошибается, утверждая со свойственной ему смелостью:
«известно, что на самых ранних ступенях общественного развития, у
самых низкостоящих племен, анимизма еще нет, представление о духовном
начале совершенно отсутствует». Нет, это совсем не «известно»!
Этнология лишена возможности наблюдать те человеческие племена, которые
придерживались «своеобразного туманного монистического взгляда»;
она не знает их. Наоборот: самые низшие из всех племен, доступных
наблюдению этнологии, — так называемые низшие охотники, —
придерживаются анимизма. Всякому известно, что к числу таких племен
принадлежат, например, цейлонские веддахи. Однако, по свидетельству
Пауля Заразина, они верят в существование души после смерти. Другой
исследователь, Эмиль Дешан, высказывается еще категоричнее. Он
утверждает, что, по мнению веддахов, каждый умерший человек становится
«демоном», т.-е. духом, и что вследствие этого духи весьма многочисленны,
Веддахи приписывают им свои неудачи. 1*о же мы видим у негритосов
Андаманских островов; то же — у бушменов; то же—у австралийцев;
словом, то же — у всех «низших охотников». Эскимосы Гудзонова залива, не
очень далеко опередившие этих охотников, тоже являются убежденными
анимистами; у них есть духи воды, духи туч, духи ветров, духи облаков
и т. д. Если мы пожелаем узнать, какой степени развития, достигли
«авторитарные» отношения между эскимосами, то мы услышим, что у них
вовсе нет никакого начальства, т.-е. никакой «авторитарности». Правда,
и у этих эскимосов есть вожди, но власть этих вождей ничтожна, да и
к тому же они находятся обыкновенно под влиянием, так называемых
английскими исследователями, «людей медицины», т.-е. колдунов, т.-е.
людей, состоящих в сношениях с духами. У эскимосов еще очень сильны
остатки первобытного родового коммунизма. Что же касается до таких
низших племен, как веддахи, то их надо признать настоящим и,
по-своему, безупречными коммунистами. Где же тут авторитарные отношения
производства? Само собою разумеется, что представление первобытных
охотничьих племен о духе далеко не лишено характера материальности:
духи этих племен еще не имеют той невещественной природы, какая
свойственна, например, богу современных христиан или тем «элементам»,
которые играют такую важную роль в «естественно-научной» философии
Эрнеста Маха. Когда «дикарь» хочет вообразить духа, он очень часто
воображает его в виде маленького человека. В таком представлении,
конечно, много «вещественности». Но, во-первых, оно свойственно было,
скажем, и тому художнику XIV века (был ли это Орканья или кто
другой), который написал на одной из стен пизанокото кладбища
знаменитую фреску «Торжество смерти». Пусть г. Богданов посмотрит эту фреску
или хоть ее фотографию: он убедится, что человеческие души
изображены на ней именно в виде маленьких людей, обладающих всеми
признаками вещественности вплоть до, тонзуры на голове той жирной души
католического священника, которую за руки тащит ангел, желающий
отнести ее -в рай, а за ноги держит (тоже обладающий всеми признаками
вещественности) дьявол, как это по всему видно, собирающийся
водворить ее в аду. Г. Богданов скажет, может быть, что XIV век тоже не знал
настоящего анимизма. Но в таком случае, котда же появился этот
настоящий анимизм? Ведь не тогда же, когда возникла так называемая
«эмпириомонистическая фолософия».
Во-вторых, надо помнить еще и вот что. Все наши представления
по самой простой необходимости имеют ««вещественный» характер. Все дело
тут в большем или меньшем числе свойственных данному представлению
116
«вещественных» признаков. Чем меньше таких признаков, тем
отвлеченнее это представление, и тем более склонны мы приписывать ему
нематериальную природу. Тут происходит как бы дестилляция представлений,
возникающих у человека в процессе его воздействия на внешнюю природу.
И нельзя не признать, что уже низшие охотники очень далеко отходят
на пути такой дестилляции. Если представление о духе крепко срастается
у них (как известно, не только у них), с представлением о дыхании, то
это, между прочим, потому, что один из результатов дыхания, —
движение выдыхаемого воздуха, — с одной стороны, несомненно, существует,
а с другой — почти совершенно недоступен нашим внешним чувствам1).
Чтобы составить себе представление о духе, уже «дикарь» старается
вообразить себе нечто такое, что не действует на наши внешние чувства.
Смотря на глаз своего собеседника, он видит иногда на внешней роговой
оболочке маленькое изображение человека. Это изображение он и
считает душою говорящего с ним2). Он принимает это изображение за душу
потому, что считает его совершенно нематериальным, т.-е. неуловимым
и недоступным пи для какото воздействия с его стороны.^, Он забывает
при этом, что он видит это изображение, т.-е., что оно действует на его
глаз. Вопрос о том, почему анимистическая форма мышления является
«основной, всеобщей на известной ступени развития», получает
правильный смысл лишь в совершенно другой формулировке. Он должен гласить:
почему вера в богов сохраняется даже в таких цивилизованных
обществах, производительные силы которых достигли очень высокой степени
развития и которые, таким образом, приобрели значительную власть над
природой? На этот вопрос уже давно дали ответ основатели лаучного
социализма, и я изложил этот ответ в одном из своих открытых писем
к г. Богданову. Но, чтобы вполне понять его, необходимо окончательно
разобраться в занимающем нас теперь вопросе о происхождении
анимизма.
На этот счет мы тоже находим интересные указания у одното из
основателей научного социализма, именно — Фридриха Энгельса. В своей
замечательной работе «Людвиг Фейербах» он указал на то, что люди
создают представления о душе потому, что они не знают (строения своего
тела и не умеют объяснить сновидения. В подтверждение этого Энгельс,
ссылаясь на Имтурна, делает следующее совершенно верное замечание:
«еще и теперь у дикарей и варваров низшей ступени повсеместно
распространено то представление, что снящиеся люди суть души, на время
покидающие тело; при этом на человека, виденного во сне, возлагается
ответственность за те его поступки, которые снились видевшему сон» 3).
Дело не в авторитарной организации производства, — которая у
дикарей отсутствует, а у варваров низшей ступени находится еще в
зачаточном состоянии; дело в технических условиях, при которых
первобытный человек борется, за свое существование.
Его производительные силы очень мало развиты; его власть над
природой ничтожна. А ведь в развитии человеческой мысли практика всегда
предшествует теории: чем шире круг воздействия человека на природу
*) Другой причиной этого сочетания представлений служит тот факт, что
прекращение дыхания свидетельствует о прекращении жизни. — Автор.
2) У Тейлора это изображение носит название «зрачкового образа». Э. Монсэр
ставит обычай закрывать глаза покойнику в связь с этим' взглядом на «зрачковой
образ» каж на душу. — Автор.
3) Этот отрывок из Энгельса приведет в первом огдоезе настоящей
хрестоматии. — Прим. ред.
117
тем шире и правильнее его понятия о ней. И наоборот, чем уже этот круг,
тем беднее его теория. А чем беднее его теория, тем более склонец
он объяснить с помощью фантазии: те явления, которые почему-
либо привлекают к себе его внимание. В основе всех фантастических
объяснений жизни природы лежит суждение по аналогии. Наблюдая
свои собственные действия, человек видит, что им предшествуют
соответствующие им желания, или, — чтобы употребить выражение более
близкое к его образу мыслей, — что эти действия вызываются этими
желаниями. Поэтому он думает, что и поразившие его явления природы были
вызваны чьей-то волей. Предполагаемые существа, волей которых
вызываются поражающие его явления природы, остаются недоступными для
его внешних чувств. Поэтому он считает их подобньми человеческой
душе, которая, как мы уже знаем, невещественна в указанном выше
омысле. И это предположение о том, что явления природы вызываются
волею существ, недоступных для его внешних чувств, или доступных для
них лишь в самой малой степени, развивается и упрочивается под
влиянием его охотничьего образа жизни. Это может показаться парадоксом,
но это действительно так: охота, как источник существования,
располагает человека к спиритуализму.
Энгельс говорит в своей книге «О происхождении семьи, частной
собственности, и государства», что племена, живущие исключительно
охотой, «фигурируют», только в книгах, потому что- охота является^
слишком ненадежным источником существования. Это совершенно
верно. Так называемые низшие охотничьи племена питаются не только
мясом убитых на охоте животных, но также, не говоря уже о рыбах и
моллюсках, растительными корнями и клубнями. И при всем том,
современная этнология все более и более убеждает нас, что охота определяет
собою весь образ мыслей «дикого» человека. Его миросозерцание и даже
его эстетические вкусы являются миросозерцанием и вкусами зверолова.
В своем этюде об искусстве (см. мой сборник «За двадцать лет»), я,
высказав тот же взгляд на миросозерцание и вкусы «дикаря», сослался на
фон-ден-Штейнена, так хорошо изучившего быт и нравы бразильских
индейцев. Теперь я повторю эту ссылку.
«Мы только тогда поймем- этих людей, — говорит он, — когда станем
рассматривать их как создание охотничьего быта. Важнейшая часть
всего их опыта связана с животным миром, и на основании этого опыта
составилось их миросозерцание. Соответственно этому и их
художественные мотивы с удручающим однообразием заимствуются из мира
животных. Можно сказать, что все их удивительно богатое искусство коренится
в охотничьей жизни». И в той же жизни коренится вся их мифология.
«Мы должны, — говорит только что цитированный мною фон-ден-Штей-
нен, продолжая характеризовать психологию бразильских индейцев,—
совершенно стереть в своих мыслях всякую границу между человеком и
животным. Конечно, у животного нет лука со стрелами и палок для
выбивания зерен маиса, но к этому и сводится в глазах индейца главное
различие между ним и животным. Но если нет границы между человеком
и животным, и если человек имеет душу, то, очевидно, должно иметь ее
и животное. Таким образом, когда дикарь, рассуждая о явлениях
природы, судит по аналогии, то он судит не только по аналогии с самим собою,
но по аналогии со всем животным миром.
Подобно человеку, животные умирают. Их смерть так же, как и
смерть людей, объясняется тем, что их души покидают их тело. Этим
еще более расширяется область анимистических представлений. Мало-
118
по-малу, но, вопреки г. Богданову, задолго до того, как возникает
авторитарная организация производства, — весь мир оказывается
населенным духами, и каждое явление природы, которое обращает на себя
внимание первобытного человека, получает свое «духовное» объяснение.
Чтобы понять, как произошел анимизм, нет никакой надобности
апеллировать к авторитарной организации производства, совсем не
существующей на первой стадии общественного развития.
Что авторитарная организация, — и не только производства, но и
всего общественного быта, — раз возникнув, начинает оказывать
огромное влияние на религиозные представления,, это совершенно неоспоримо.
Это лишь частный случай того общего правила, согласно которому
в обществе, разделенном на классы, развитие идеологий совершается под
сильнейшим влиянием междуклассовых отношений. Мне уже не раз
приходилось ссылаться на это правило, говоря об искусстве. Но это правило,
как и всякое другое, может быть понято верно, а может так же быть
истолковано в карикатурном смысле. Г. Богданов, к сожалению,
предпочел карикатурное истолкование, вследствие чего и приписал
авторитарным отношениям решающую роль даже в таком обществе, в котором
их вовсе не существует.
Атмизм и магия в первобытном миросозерцании
Тэйлор говорит: «Древняя анимистическая теория жизни,
рассматривающая отправления ее как действие души, объясняет многие из
физических и умственных состояний теорией отлетания всей души или
некоторых из составляющих ее духов. Эта теория имеет очень широкое
и твердое положение в биологии диких». Далее Тэйлор приводит немало
примеров, подтверждающих эту^ его мысль. О человеке, находящемся
в бесчувственном состоянии, южные австралийцы говорят, что он без
души. Того же^ мнения держатся и туземцы Фиджи. Они думают, кроме
того, что если позвать душу, покинувшую тело, то она может вернуться.
Случается поэтому, что больной фиджиец, лежа на земле, громко кричит,
призывая назад свою душу. Татарские расы северной Азии строго
держатся теории отлетания души при болезни, и в буддистских племенах
ламы употребляют торжественные заклинания для того, чтобы вернуть
больному душу, похищенную у него злым духом. Таких примеров очень
много у Тэйлора, да, конечно, и не только у Тэйлора, и они без сомнения,
очень убедительны. Но пример буддистских лам, которые своими закли-
найиями заставляют злого духа вернуть душу, похищенную им у
человека, вызывает такие вопросы: стало быть, есть какая-то сила,
подчиняющая себе духов? А если такая сила существует, то не следует ли
отсюда, что теория анимизма даже в представлении дикарей объясняет
собою далеко не все явления природы.
На оба эти вопроса приходится дать утвердительный ответ. Да,
первобытный человек признает существование такой силы, которая
подчиняет своей воле даже духов. Да, анимистическая теория не все
объясняет даже в физике и биологии первобытного человека.
Почему же это? Да просто потому, что анимизм, — как и вообще
<ширитуализм, — на самом деле не объясняет ни одного явление
природы.
Возьмем один из приводимых Тэйлором примеров.
Больной фиджиец зовет назад свою душу. Он объясняет свою
болезнь ее уходом. Но пока он не выздоровел, его болезнь идет своим ходом,
и так как душа ушла, то ясно, что дальнейшее течение болезни
119
обусловливается действием какой-то другой силы, а не
присутствием души, которым объясняется, очевидно, только нормальное
состояние организма.
Далее. Большой фиджиец, громко звавший назад свою душу,
умирает. Его душа не захотела последовать его приглашению, не дернулась
в его тело. Его труп начинает разлагаться. Если смерть объясняется
гем, что душа ушла из тела, то опять ясно, что процесс разложения трупа-
объясняется какими-то другими причинами, а не действием
отсутствующей души. Подобных фактов можно указать великое множество. Их
неоспоримая наличность и отражается в сознании первобытного человека,
в виде убеждения в том, что есть какая-то сила или какие-то силы,
способные влиять даже на волю духов. Вследствие такого убеждения буддистский
лама и прибегает к заклинаниям, которые должны, по его мнению,
принудить злого духа вернуть назад похищенную им человеческую душу.
Его заклинания принадлежат к обширной области первобытной магии.
Некоторые новейшие исследователи считают магию как бы
естествознанием первобытного человека. Они видят в ней зачаточное
убеждение в закономерности явлений природы. Так, Фрэзер пишет: «Ее
основное убеждение есть основа современной науки: вся система покоится
на кере, конечно, слепой, но твердой и реальной, в то, что в природе
существует порядок и единообразие». В этом смысле Фрэзер считает магию,
вместе с наукой, прямо противоположной религии, которая основывается
на убеждении в том, что единообразный порядок природы может быть
нарушен богом или богами по просьбе людей. В этом есть большая доля
правды. Магия противоположна религии в том смысле, что религиозный
человек объясняет явления природы волей субъекта (духа, бога), между
тем как человек, который обращается к помощи магии, старается
открыть объективную причину, определяющую собой эту волю.
Указываемая Фрэзером противоположность между религией, с одной стороны,
и магией и наукой, с другой, — есть противоположность между
субъективным и объективным методами объяснения явлений. Эта
противоположность, несомненно, обнаруживается уже и в представлениях дикарей.
Но не следует забывать при этом, что между наукой и магией есть в
высшей степени важное различие. Наука старается открыть причинную
связь явлений там, где магия довольствуется простой ассоциацией идей,
простым символизмом, который сам может основываться лишь на
недостаточно ясном различии между тем, что происходит в голове человека,
и тем, что совершается в действительности. Пример: чтобы вызвать
дождь, краснокожий американский колдун льет известным образом воду
с крыши своей хижины. Вид и шум текущей с крыши воды напоминает
ему о дожде, и он убежден, что этой ассоциации идей достаточно для
того, чтобы вызвать дождь. Если дождь в самом деле пойдет после того
как вода будет пролита на крыше, то краснокожий колдун объяснит это
магическим действием своей операции. Этого достаточно, чтобы
показать, какое неизмеримое расстояние отделяет магию от науки.
Магия делает ту самую ошибку, которая в высокой степени
свойственна современному эмпириомонизму. Она смешивает объективные
явления с субъективными. И именно потому, что она смешивает их,
свойственный ей ход идей не устраняет хода идей, свойственного анимизму.
Магия дополняется анимизмом; анимизм дополняется магией. Это мы
на каждом шагу видим решительно во всех религиях. Магические
действия являются составной частью всякого культа.
120
Первые боги-тотемы
Первобытный человек считает себя очень бдизким к животному.
Ввиду этого становится понятным то странное, на первый ©згляд,
обстоятельство, что дикие племена считают себя связанными с ними у зама
кровного родства.
Тотемизм характеризуется верой в существование родства между
данным кровным союзом людей и данным видом животных. Говоря это,
я имею в виду так называемый животный тотемизм. Кроме него, есть
растительный тотемизм, характеризующийся ворой в существование
взаимной связи между людьми и растениями. Я не буду распространяться
здесь о нем, так как его природа будет достаточно ясна для всякого, кто
составит себе правильное понятие о животном тотемизме. Притом же есть
вое основания думать, что растительный тотемизм возник значительно
позже животного тотемизма, на основе представлений, связанных с
животным тотемизмом.
Для наглядаости возьмем пример. Положим, что данный клан
считает своим тотемом черепаху. В таком случае он убежден, что
черепаха находится с ним в кровном родстве, вследствие чего она не только
не станет вредить ему, но, напротив, будет оказывать его членам всякое
покровительство. Со своей стороны, члены этого клана не должны вредить
черепахе. Ее убийство считается грехом, и если кто-нибудь из них
случайно найдет мертвую черепаху, то он обязан будет похоронить ее с теми
обрядами, какие соблюдаются при похоронах членов его клана. А если бы
крайняя нужда, — скажем, голод, — вынудила его убить черепаху, то он
должен был бы торжественно извиниться перед ней в такой явной
непочтительности. Когда недостаток в пище вынуждает краснокожего,
считающего своим тотемом медведя, убить этого зверя, то он не только
извиняется перед ним в этом, но и приглашает его поесть своего собственного
мяса на пиру, которым сопровождается счастливая охота на него. Я не
знаю, всегда ли смягчается медведь в виду такой необычайной
любезности, но факт тот, что животное-тотем умеет жестоко мстить своим
родственникам-людям за свое убийство. Так, туземцы о-ва Самоа,
считающие тотемом черепаху, уверяют, что если кто-нибудь из них позволит
себе поесть ее мяса, то непременно заболеет. Они прибавляют, что не раз
сами слышали, как кто-то, находившийся в теле такого больного, говорил:
«он меня съел, за это я его убиваю». Очевидно, что это говорил дух
съеденной черепахи. Но зато, если люди умеют чтить свой тотем, он
относится к ним очень благосклонно. Так, в Оенегамбшг негры клана
скорпиона никогда не подвергаются укушению со стороны этих животных,
отличающихся особенной ядовитостью в той местности. Но этого мало.
В той же Сенегамбии члены клана змеи имеют завидную способность
одним своим прикосновением исцелять людей, укушенных змеей.
В Австралии животное-тотем, — например, кенгуру, — извещает своих
родственников-людей о приближении неприятеля. Австралийское же
племя кернаи, тотемом которого служит ворона, узнает по ее карканию
свое будущее. На о-ве Самоа туземцы клана совы, отправляясь на охоту,
наблюдали полет этой птицы: если она летела в направлении к
неприятелю, это значило, что следует нападать на него; если же она удалялась
в обратном направлении, то из этого заключали, что нужно отступать
и-т. д. Некоторые из них имели, поэтому, ручных сов, к услугам которых
и обращались в случае военных действий.
121
Иногда животное-тотем оказывает услуги, так сказать,
метеорологического свойства. Во время тумана краснокожие из клана черепахи
племени омага (в Северной Америке) рисуют на песке черепаху с головой,
обращенной к югу, и кдадут на этот рисунок немного табаку. Они
надеются разогнать таким образом туман.
Не вдаваясь в дальнейшие подробности насчет тотемизма, прибавлю
еще вот что. Когда данный клан подразделяется на две части, тогда и его
тотем принимает частичный характер. Так появились, например, кланы
серых волков и желтых волков у ирокезов, больших черепах и малых
черепах у них же и т. д. А когда два клана сливаются между собою,
тогда их общий тотем является чем-то вроде греческой химеры: его
воображают состоящим из двух различных животных.
Первобытный человек не только допускает возможность родства
между ним и данным животным видом, но сплошь да рядом ведет от этого
вида свою родословную и считает себя обязанным ему ©семи своими
небогатыми культурными приобретениями. И это опять нисколько не
удивляет современных этнологов. Не раз цитированный мною фон-ден-Штей-
нен, говорит: «В самом деле, индеец обязан животным самой важной
частью своей культуры... Их зубы, кости, раковины являются его
орудиями труда, без которых он не мог бы выделывать ни своего оружия, ни
своей утвари. И каждому ребенку известно, что животные, охота на
которых является необходимым предварительным условием такой выделки,
до сих пор доставляют все эти необходимейшие вещи». Совершенно,то же
узнаем мы от Эренрейха: «Животные доставляют человеку орудия труда
и культурные растения, и их мифы рассказывают, как человек получил
эти блага от своих животных собратьев». В Северной Америке вся
мифология племени тлинкитов вращается, по совершенно верному выражению
А. Краузе, вокруг Эла, ворона, играющего роль творца мира и благодетеля
человечества. Мифология бушменов, несомненно, принадлежащих к числу
самых низших охотников, характеризуется, как говорит Э. Лепт, — тем,
что животные играют в ней почти исключительную роль, при чем
особенно отличается некий Kara (или И.—Каджен), который есть не кто
иной, как саранча.
В мифологии туземных пленем Австралии животные тоже
занимают первое место, при чем не безынтересно будет заметить, что
некоторые из них играют роль Прометея,- стараясь доставить людям огонь.
Правда, в австралийской мифологии другие животные стараются скрыть
от людей употребление огня. Но это, конечно, не изменяет дела, Н все
это как нельзя яснее показывает нам, что в миросозерцании дикаря,
в самом деле, нет границ между ним и животным, и все это делает
понятным для нас тот факт, что первоначально человек воображает своих ботав
в виде животных. Греческий философ Коенофонт ошибался, говоря, что
человек всегда творит своего бога по своему образу и подобию. Нет,
сначала он творит его по образу и подобию животного. Человекоподобные
боги возникают лишь впоследствии как результат новых успехов
человека в деле развития своих производительных сил. Но и впоследствии
в религиозных представлениях людей долго сохраняются глубокие сяеды
зооморфизма. Достаточно напомнить о поклонении животным в древнем
Египте и о том, что статуи, изображающие египетских богов, очень часто
имели звериные головы.
Однако, что же такое бог? Нам. известно, что первобытный человек
верит в существование многочисленных духов. Но далеко не всякий дух
есть бог. Очень долго верили, — а многие верят и поныне. — в существо-
122
ваниа дьявола. Однако, дьявол — не бог. В чем же заключается
отличительные признаки этого последнето понятия?
По определению Пейна, бог есть «благорасположенный» (к
человеку— Г. П.) дух, который воплощается в известном материальном
предмете, обыкновенно служащем ему изображением (идолом — Г. П.) и
которому люди приносят в жертву пищу, питье и т. д., в надежде получить
от него за это помощь в своих житейских делах.
Это определение должно быть признано правильным в применении
к очень длинному культурному периоду. Но оно не совсем правильно
в применении к первым шагам человека.
Пока человек представляет себе своего бога в виде зверя, он
считает его воплощенным не в каком-нибудь неодушевленном предмете,
а именно в данной животной породе. Животные, служащие тотемами,
должны быть признаны самыми первыми богами, каким только
поклонялось человечество.
Кроме того, данное Пейном определение предполагает такую степень
индивидуализации богов, которая достигается опять-таки, далеко не сразу.
В эпоху тотемизма богом служит не индивидуум и не более или • менее
многочисленная группа индивидуумов, а целый животный вид или целая
животная разновидность: медведь, черепаха, волк, крокодил, сова, орел,
рак, скорпион и т. д. Человеческая личность еще совсем не выделяется
из кровного союза, и сообразно этому, еще совсем не начинается процесс
индивидуализация богов. В этот первый период мы встречаемся с тем
замечательным явлением, что бог — точнее: божественный клан, — не
заботится о человеческой нравственноЪти, как это делает, например, бог
христианский, еврейский, магометанский и т. п. Первобытный божественный
клан наказывает людей только за их грехи по отношению к нему самому.
Мы знаем, что если туземец о-ва Самоа съест свой тотем-черепаху, то он
наказывается за это болезнью и смертью. Но и тут первоначально
наказанию подвергается не отдельное лицо, а весь его кровный союз: кровная
месть есть основное правило первобытной Фемиды. Замечу, меж^у
прочим, что именно поэтому первобытный человек отнюдь не может быть
склонен к тому, что мы теперь называем свободой вероисповедания: бог
карает его за грехи его сородича, — иногда, как это делал Иегова, до
четвертого колена, — поэтому самое простое благоразумие требует от него,
чтобы он внимательно следил за тем, как ведут себя эти последние по
отношению к богу. Бытие определяет собою сознание.
На почве такой психологии вырастают, например, следующие
факты: Спенсер и Джилен сообщают, что некоторые туземцы центральной
Австралии воспитывают своих детей, как сказали бы мы теперь, «в страхе
божьем», т.-е. уверяют их, что за известные дурные поступки они будут
наказаны некоторыми духами. А когда молодые люди достигают
совершеннолетия и становятся полноправными членами племени, тотда они
узнают от стариков, которые проделывают над ними известные обряды,
сопровождающие признание их совершеннолетия, что духов, требующих
от них известного поведения, вовсе нет, а наказывать их за дурные
поступки будет само племя. И совершенно то же самое сообщает У. С. Бер-
клэй о некоторых огнеземельцах. Они уверяют своих детей, что их за
шалости накажет дух леса (очевидно, соответствующий нашему лешему),
или дух гор, или дух облаков и т. п. И для того, чтобы окончательно
убедить их в существовании этих духовных педагогов, они, так сказать,
наряжаются духами, обвешивая себя ветками, вымазываясь белой
краской, — словом, придавая себе страшный для ребенка вид. Но когда дети
123
(т.-е., собственно, мальчики) достигают четырнадцатилетнего возраста и
признаются совершеннолетними, то старики, преподав им целый кодекс
нравственности, признаются, что роль страшных духов-педагогов играли
их же соплеменники, а для большей убедительности они сообщают им,
как совершается процесс переодевания в таких духов. Будучи
посвящены в эту важную тайну, они обязываются свято хранить ее от детей
и женщин. Тому, кто нарушит эту тайну, грозит смертная казнь.
Австралийцы и огнеземельцы принадлежат к числу самых низких
между известными теперь дикими племенами. Они отнюдь не
сомневаются в существовании духов, но они думают, что только ребенок может
верить, будто духи интересуются человеческой нравственностью*. На этой
стадии общественного развития нравственность существует независима
от анимистических представлений. Впоследствии она крепко срастается
с ним. Мы скоро увидим, какими общественными причинами вызывается
это интересное психологическое явление. Теперь же мы должны
остановиться на некоторых интересных пережитках тотемизма.
Несмотря на общераспространенное запрещение убивать животное,
служащее тотемом, существует обычай есть это животное, соблюдая при
этом известные религиозные обряды. Это, на первый взгляд,
парадоксальное явление объясняется тем, что клан, считавший себя связанным узами
тесного родства с данными животными, надеялся и считал нужным
закрепить эту связь, торжественно съедая мясо этого животного. Совершенное
по такому мотиву убийство священного животного считалось не грехом,
а, напротив, делом благочестия. Первобытная религия, запрещавшая
людям убивать своего бога, требовала от них, однако, чтобы они ели его
время от времени. На более высоких ступенях религиозного развития
этот обычай заменился обычаем приносить богу человеческие жертвы.
Так, жители древней Аркадии время от времени приносили Зевесу
человеческую жертву, при чем ели мясо принесенного в жертву человека и
считали себя тогда превращенными в волков, почему и называли друг-
друга волками, а своего Зевеса волкообразным. Тут, ясно, что
человеческая жертва заменила собою имевшее некогда место периодическое едение
мяса волка, служившего тотемом.
Аркадские люди-«волки», торжественно евшие когда-то волчье
мясо, стали потом есть мясо человека. Человека этого приносили в жертву
Зевесу. Но Зевес представлялся при этом волкообразным. Эта его волко-
образность показывает, что он занял место старого бога-волка, вырос из
волка, благодаря длинному процессу общественного развития. Если
человек верил в существование кровной связи между ним и животным, то
неудивительно, что и бот его, сделавшись человекообразным, не утратил
еще воспоминания о своих старых родственниках-животных. Когда жи-
вотнообразное (зооморфическое) представление о боге уступает место
человекообразному (антропоморфическому) представлению о нем, тогда
животное, бывшее прежде тотемом, становится так называемым
атрибутом. Известно, напр., что у древних греков орел был атрибутом Зевеса,
сова — атрибутом Минервы, и т. д.
Экономические условия исчезновения тотемизма
Почему же разложился тотемизм? Вследствие изменения
материальных условий человеческой жизни.
Изменение материальных условий жизни заключается, прежде
всего, в том, что растут производительные силы первобытного человека,
т.-е., другими словами, в том, что увеличивается его власть над природой.
124
А увеличение его власти над природой изменяет его отношение к ней.
Маркс сказал, что, воздействуя на внешнюю природу, человек, изменяет
свою собственную природу. К этому надо прцбавить, что, изменяя свою
собственную природу, человек изменяет, между прочим, и свои
представления об окружающем-его мире. Но когда изменяются его представления
об окружающем его мире, то естественно', что происходит более или менее
коренная перемена и в его религиозных представлениях. Было, как мы
уже знаем, время, когда человек не только не противополагал себя
животным, но, наоборот, в очень многих случаях склонен был признавать
их превосходство над ним. Это было время возникновения тотемизма.
Потом постепенно наступило другое время, когда человек стал сознавать
свое превосходство над животщям и противопоставлять себя им. Тогда
тотемизм необходимо должен был исчезнуть. Своей крайней степени
противопоставление человека животному миру достигло в христианской
религии; но началось оно, конечно, несравненно раньше. Чтобы объяснить
читателю его возникновение, я сошлюсь на г. Богданова. Его теория
«авторитарной организации» первобытного производства карикатурна.
Но та мысль, карикатуру которой представил нам г.^Богданов,
совершенно правильна: при наличности «авторитарных отношений»
распорядитель смотрит сверху вниз на своего подчиненного; поэтому он не
стремится уподоблять себя подчиненному, а старается противопоставить себя
ему. Нам остается, стало быть, только допустить наличность
«авторитарных» отношений человека к животному, чтобы понять психологическую
подкладку интересующего нас здесь противопоставления. Такие
отношения и действительно находятся налицо там, где человек, приручив
животное, пользуется им как средством для удовлетворения своих
потребностей. Поэтому мы можем сказать, что эксплоатация животного
человеком обусловливает собою то, что человек делается склонным
противопоставлять себя животному. Склонность эта проявляется далеко не
сразу. Многие пастушеские племена, — скажем, африканское племя
батока в верховьях реки Замбези, — конечно, эксплоатируют своих
быков и коров, но в то же время они, по выражению Швейнфурта, почти
боготворят их, убивая только в крайнем случае, и пользуются только их
молоком. Человек племени батока непрочь сделать себя похожим на
корову, вследствие чего вырывает себе верхние резцы. Тут еще далеко до
противопоставления х). Но когда человек запрягает вола в плуг или
лошадь в телегу, то у него трудно уже предположить большую 'склонность
уподоблять себя животному. Земледелец любит свой домашний скот и
гордится его хорошим состоянием. Он готов отдать его под
покровительство особого бога. Известно, что у нас в некоторых местностях Фрол и
Лавр считаются покровителями домашнего скота, почему им служат
особые молебны, которые совершаются под открытым небом и на (которых
присутствует, как известно, скот, со всех сторон сгоняемый молящимися
крестьянами. Г. И. Успенский говорит в одном из своих очерков, что
слово «саваоф» произносится крестьянами как «самоов» и понимается
в смысле самого овечьего бога, т.-е. самого надежного покровителя овец.
*) Первоначальная религия персов, т. е. их религия в эпоху, предшествовавшую
Зороастру, была религией пастушеского народа. Корова и собака считались
священными и даже божественными. Они играли большую роль в древне-персидской
мифологии и космогонии и оставили след свой даже ка языке. Выражение: «я дал в
изобилии корму коровам», значило вообще: «я вполне исполнил свои обязанности»
Выражение: «я прдобрел корову», значило: «я своим хорошим поведением заслужил
блаженство на небе по смерти», и т. п. Вряд ли можно найти более яркий пример
того, как сознание человека определяется его бытием. — Автор.
125
Но само собою понятно, что и этот «самый овечий» бог не имел в
представлении собеседников Успенского бараньего вида. Земледельческий быт
мало благоприятствует зооморфизму религиозных представлений. Правда*
религия всегда очень консервативна; она всегда очень упорно держится
за старое. Но старые представления, выросшие на почве охотничьего
быта, слишком мало соответствуют условиям земледельческого труда,
а потому исчезают с большей или меньшей скоростью. Древний Египет
сохранил нам, в виде богов <х> звериными и птичьими головами,
многочисленные следы, оставленные процессом вырастания богов-людей из
богов-животных.
Теперь я прошу читателя опять припомнить знаменитые слова:
«если бы быки имели религию, то их боги были бы быками». Ксенофонт
не допускал той мысли, что человек тоже может представить себе своего
бога в виде быка. Он держался в этом случае представлений, выросших
на почве земледельческого быта, который, достигнув значительной
степени развитие, предполагает существование «авторитарных» отношений
между человеком и быком. Но откуда же берутся такие отношения? Как
вообще совершается приручение животных?
Современная этнология ставит его в причинную связь с тотемизмом.
Когда люди считают себя обязанными заботиться о данном виде или
данной разновидности животных, то понятно, что они приручают тех из них,
коотрые по своему характеру, — у разных животных пород, как известно,
разный характер, — способны к приручению. Но от приручения
животных прямой, хотя и далекий путь ведет к их эксплоатации и, между
прочим, к пользованию их рабочей силой. Что же выходит?
Когда человек начинает пользоваться рабочей силой животных,
ш тем самым в очень значительной мере увеличивает свои
производительные силы. А увеличение производительных сил дает толчок развитию
общественно-экономических отношений. Кажется, как будто бы мы
пришли к выводу, несогласному с коренным положением исторического
материализма. Это положение гласит: не бытие определяется сознанием,
а сознание бытием. Но я привожу факт, который, как будто,
показывает, что бытие людей, — их экономическое бытие, развитие их
экономических отношений, — наоборот, определяется их религиозным сознанием.
Тотемизм ведет к приручению животных; приручение животных дает
возможность эксплоатировать рабочую силу некоторых из них, а начало
такой эксплоатации составляет эпоху в развитии производительных сил
общества, а. следовательно, и его экономического строя. Что сказать
об этом?
Недавно некоторые немецкие ученые говорили по этому поводу, что
новейшие успехи этнологии опровергают историческую теорию Маркса.
Укажу хотя бы на Э. Гана, который в 1896 г. написал весьма ценное
сочинение, заключающее в себе множество драгоценнейших фактических
данных; но он очень плохо понял исторический материализм; не лучше,
чем «ревизионисты», появившиеся несколько лет спустя и вообразившие,
будто теория исторического материализма не оставляет никакого места
для воздействия сознания людей на их общественное бытие. «Ревизией
нисты» видели в этом «односторонность» исторической теории Маркса —
Энгельса. И когда в сочинениях или письмах Маркса или Энгельса им
встречались места, показывавшие, что этот упрек в односторонности был
швеш неоснователен, они говорили: эти места относятся к позднейшему
периоду жизни основателей научного социализма, та тому периоду, когда
они сами заметили свою односторонность и постарались ее исправить.
126
В другом месте я обнаружил, смею сказать, всю вздорность этой
аргументации. Анализом содержания манифеста, написанного Марксом и
Энгельсом в первый период их литературной деятельности, я показал, что
их исторический материализм всегда признавал, что человеческое
сознание, вырастающее из данного общественного бытия, в свою очередь
воздействует на это бытие, способствуя этим его дальнейшему развитию,
обусловливающему новое изменение в идеологической области.
Исторический материализм не отрицает взаимодействия между человеческим
сознанием и общественным бытием. Он только говорит, что факт
взаимодействия между двумя данными силами еще не решает вопроса об их
происхождении. И, переходя к этому последнему вопросу, он
устанавливает причинную зависимость данного содержания сознания от данного
вида бытия.
Приручение животных, — если оно в самом деле явилось следствием
тотемизма *),— может служить наглядным пояснением этой теории. На
данной экономической основе, — первоначальный охотничий быт, —
возникает первоначальная форма религиозного сознания: тотемизм. Эта
форма религиозного сознания вызывает и упрочивает такие отношения
между первобытным охотником и некоторыми видами животных, которые
обусловливают весьма значительное увеличение производительных сил
охотничьего общества. Увеличение этих производительных сил изменяет
отношение человека к природе и, главным образом, его представление
о животном мире. Человек начинает противопоставлять себя животному.
Это дает очень сильный толчок антроломорфизации его представлений
о богах: тотемизм отживает свой век. Бытие вызьгоает сознание, которое
воздействует на него и тем самым подготовляет свое собственное
дальнейшее изменение.
Если вы сравните так называемый Новый Свет со Старым, то вы
увидите, что тотемизм оказался гораздо более живучим в первом, нежели
во втором. Почему это? Потому что в Новом Свете, — за исключением
одной ламы, — не было таких животных, которые, будучи приручены,
могли бы иметь большое значение в экономической жизни человека.
Стало быть, там отсутствовало одно из важнейших экономических
условий исчезновения тотемизма. Наоборот, такие условия находились
налицо в Старом Свете, и потому тотемивм скорее разложился там, очистив
место для новых форм религиозного сознания.
Но, указав на этот, по-моему, чрезвычайно важный факт, я
обнаружил только одну сторону диалектического процесса общественного
развития. Теперь нужно взглянуть на другую его сторону.
Выражение в религии отношений между людьми
Льюис Г. Морган в своей известной книге «Первобытные общества»
замечает, что религиозные торжества в древнем Риме первоначально
связаны были больше с родом, нежеле с семьею. Это неоспоримо, и это
объясняется тем, что не семья предшествовала кровному родовому союзу,
а, напротив, кровный родовой союз (предшествовал семье. Римская
патриархальная семья возникла сравнительно очень поздно из разложения
родового быта под влиянием земледелия и рабства. Но когда возникла
эта семья, появились также семейные боги и семейное богослужение,
*) Я говорю: «если», потому что тут мы имеем дело с гипотезой очень
остроумной, но все-таки остающейся пока именно только гипотезой. И во всяком случае
крайне трудно допустить, чтобы тотемизм был единственным источником приручения
животных. — Автор.
127
в котором роль священника исполнялась главою семьи. Общественное
бытие и здесь определило собою религиозное сознание.
Боги патриархальной семьи были богами-предками. И поскольку
члены такой семьи имели родственную привязанность к ее главе,
постольку эта чувства переносились на богов-предков. Так создавалась
психологическая основа для того настроения, при котором человек
считает себя обязанным любить бога, как дети любят отца. Первобытный
человек не знал отца, как данного индивидуума. Словом «отец» обозначался
у него каждый член его кровного союза, достигший известного возраста.
Поэтому у него не могло быть сыновней обязанности в нашем смысле.
Чувство этого рода заменялось у него сознанием солидарности со всем
кровным союзом. Мы уже видели, как это сознание расширилось до
сознания солидарности с божественным животным — тотемом. Теперь мы
видим другое. Эволюция настроений обусловливается эволюцией
общественных отношений.
Но разложение кровного союза ведет не только к образованию
семьи. Племенная организация заменяется государственной. Что такое
государство?
Государство, как и религию, определяли очень различно.
Американский этнолог Пауэль определяет его так: «Государство есть
политическое тело, организованная группа людей с установленным
правительством и с определенными законами. Я думаю, что это определение
следовало бы кое в чем изменить и кое в чем дополнить. Но здесь я могу
вполне удовольствоваться им.
Раз возникло правительство, возникают известные отношения
между правящими и управляемыми. За правящими признается
обязанность заботиться о благосостоянии управляемых; за управляемыми
признается обязанность подчиняться правителям. Кроме того, там, где
существуют определенные законы, естественно существуют также.их
профессиональные охранители: законодатели и судьи. И все эти отношения
между людьми получают свое фантастическое выражение в религии.
Боги становятся небесными царями и небесными судьями. Если
австралиец и огнеземелец считают достойным только детей то верование, что
духи наказывают людей за дурное поведение, то теперь, с возникновением
государства, это верование становится очень распространенным и весьма
прочным. Таким образом, анимистические представления крепко
срастаются с нравственностью.
Первобытный человек думает, что после смерти его существование
будет совершенно таким же, каким было при жизни. А если он и
допускает какие-нибудь различия в этом случае, то они не имеют никакого
отношения к его нравственности. Если он думает, что ето кровный союз
произошел от черепахи, то он будет очень склонен предполагать, что и сам
он по смерти сделается черепахой. Для него выражение: «почить в бозе»,
значило бы: «вновь принять образ зверя, или рыбы, или птицы, или
насекомого и т. д.». Остаток этого верования мы видим в учении о
переселении душ, очень распространенном даже у цивилизованных народов.
Так, например, Индия является классической страной этого учения. Но
у цивилизованных народов вера в переселенце душ тесно срастается
с убеждением в том, что человек получает после своей смерти возмездие
за свое поведение. «В книге Ману, — говорит Тэйлор, — установлены
законы, по которым души, обладающие добрыми качествами, приобретают
божественную природу, тогда как души, которые управляются только
своими страстями, принимают вновь человеческий образ; наконец, души
128
погруженные во мрак зла, понижаются до степени животных. Таким
образом, ряд переселений души идет в нисходящем порядке от богов и
святых через ряды высших аскетов, брахманов, нимф, царей и министров
к актерам, пьяницам, птицам, плясунам, мошенникам, слонам, лошадям,
судрам, варварам, диким зверям, змеям, червям, насекомым и
неодушевленным предметам. Хотя отношение между преступлением в одной
жизни ж наказанием в другой, по большей части, темно, в кодексе
искупительного странствования душ можно, однако, усмотреть стремление
к соответственности возмездия и намерение наказать грешника ето же
собственным грехом».
Верование в переселение души есть пережиток от той чрезвычайно
отдаленной эпохи, когда в представлении людей еще не 'существовало
границы между человеком и животным. Этот пережиток не вбзде был
одинаково прочен. В веровании древних египтян мы видим на него лишь
слабые намеки. Но его отсутствие не мешало египтянам быть
убежденными, что на том свете есть судьи, карающие или награждающие людей
при их жизни. В Египте, как и везде, это убеждение вырабатывалось не
сразу. В первую эпоху существования Египетского государства, повиди-
мому, считалось, что поведение человека при его жизни не имеет никакого
влияния на его существование за гробом. И только впоследствии, в Фи-
ванскую эпоху утвердился противоположный взгляд.
Согласно египетским верованиям, душа человека подвергалась после
его смерти суду, притовором которого и определялось ее дальнейшее
существование. Но замечательно, что эта перспектива божественного суда
не устраняла у древних египтян той мысли, что люди различных
общественных классов и за гробом будут нести различное существование1.
Египет — земледельческая страна целиком зависящая в своем
существовании от разливов Нила. Чтобы упорядочить эти разливы, уже
в самой глубокой древности была создана целая система каналов: Работа
на этих каналах являлась натуральной повинностью египетского
крестьянина. Но люди высших классов отделывались от нее, «поставляя за себя
заместителей. Это обстоятельство отразилось и на представлениях
египтян о загробном существовании.
Египетский крестьянин был убежден, что его и на том свете заставят
рыть и чистить каналы; но он мирился с этим, утешая себя, вероятно,
тем соображением, что ему «некуда податься». Людям же высших классов
очень не нравилась такая перспектива, и для их успокоения было
придумано очень простое средство: в их могилы клали множество кукол
(«ушебти»), души которых и должны были за них работать на том свете.
Но самых предусмотрительных людей не успокаивала и так&я
предосторожность; они спрашивали себя: «а что будет, если души этих кукол
откажутся работать за меня и перейдут к моим врагам». Чтобы этого не
случилось, некоторые из них, — очевидно, самые благоразумные и самые
изобретательные, — приказывали делать на куклах такую назидательную
надпись: «слушайся только того, кто тебя сделал; не слушайся его врага».
Если от египтян мы обратимся к древним грекам, то увидим, что
и у них представление о загробной жизни лишь постепенно сочеталось
с представлением о наказании в будущей жизни за земные грехи. Правда,
Одиссей уже встречает в Аиде «Зевесова мудрого сына Миноса», который
судил тени умерших:
Окжютр -в деснице держа золотой, там умерших судил он
Сидя; они же его приговора, кто сидя, яьто стоя,
Ждали в пространном, с вратами широкими, доме Аида.
Г. Гурев 9
129
Но описывая дальше пребывание теней в Аиде, Одиссей упоминает
о мучениях только таких выдающихся грешников, как Титий, Сизиф,
Тантал, погрешивших, главным образом, против богов; остальные же тени
усопших, по своему образу существования, ничем не отличаются друг
от друга: «милая матерь» Улисса Антиклея находится в том же самом
месте, как и злодейка жена Эрифила:
Гнусно предавшая мужа, прельстясь золотым ожерельем ...
Это совсем не то, что мы видим у Данте, который в своей
«Божественной комедии»- распределяет муки и блажество людей в строгой
сообразности с их земным поведением. Притом же у греков героического
периода тени царей, спустившись в Аид, остаются царями, а тени
подданных— подданными. В «Одиссее» Улисс говорит Ахиллу:
... живого тебя мы, как бога бессмертного, чтили;
Здесь же, над мертвыми царствуя, столь же велик ты, как в жизни
Некогда был; не ропщи же на смерть, Ахилл богоравный,
А в эпоху Платона уже было, повидимому, распространено,
убеждение в том, что посмертное существование 'людей вполне определяется их
поведением на земле. Платон учил, что людей ожидает на том свете
награда за добродетель и наказание за грехи. В десятой книге своей
«Республики» он заставляет памфилийца Эра, душа которого побывала на
том свете, описывать страшные муки грешников, особенно отцеубийц и
тиранов.
Интересно, что их мучат ужасные чудовища, кажущиеся
огненными. В этих чудовищах не трудно узнать предков христианских
дьяволов.
(«О религии»).
М. И. Покровский
В ЗАЩИТУ ТЕОРИИ СТРАХА СМЕРТИ
Со времен Титат Лукреция Кара и до наших дней, т.-е. в течение
без малого двух тысяч лет, все материалисты были убеждены, что
в основе религии лежит чувство страха. «Первых богов на земле создал
страх», — этот стих Лукреция можно было бы поставить эпиграфом всех
рассуждений писателей-материалистов о происхождении религии.
И именно потому, что в основе религии лежит это рабское, сковывающее
мысль и волю человека, чувство страха, столь помогающее эжшлоата-
ции,—коммунизм является столь непримиримым врагом религии. На
всякие «нэпы» мы идем — но попа в школу не пускаем, и ъ разгаре
нэповской весны мы дали звонкую оплеуху эксплоататору страха смерти,
отняв у него золото, награбленное им у экоплоатируемых им людей.
Мы идем тут в ногу с материалистами всех времен и народов,
повторяю. Конечно, нематериалисты относятся к делу иначе. Например.
А. А. Богданов (миросозерцание которого, как известно, очень близко
к новейшим формам идеализма, махизму и т. п.) учит нас, что «в
религиозном чувстве существенен и характерен вовсе не страх, а именно
преклонение — чувство авторитарного происхождения, как и вое
религиозное мышление есть авторитарная идеология».
130
Не подлежит сомнению, что религиозная идеология есть
«авторитарная», попросту говоря, рабская идеология. Я не собираюсь спорить
с А. А. Богдановым о том, какое чувство связывается у раба с его
отношениями к господину: низменное ли чувство страха, или возвышенное
и благородное чувство уважения, признания авторитета и т. п. Лично
я думаю, что страх, — но идеалисты со мною, конечно, не согласятся и
станут, может быть, толковать, что крепостной подчинялся своему барину
не из страха, а из благодарности к нему, как к организатору хозяйства
и т. п. Спорить на эту тему можно бы долго и довольно беоплодно, ибо
основы мировоззрения спорящих слишком различны. Скажу только, что
в этом А. А. Богданов, быть мож!ет, сам того не замечая, примыкает
к очень обширному кругу так называемых «натуристических»
представлений о происхождении религии, являвшихся одной из тыловых позиций
в опоре идеалистов с материалистами fe данной области. «Натуристы» и
старались именно подставить на место страха в религии разные
возвышенные чувства — удивление и восторг перед чудесами природы, «идею
бесконечности», рождавшуюся из созерцания небесного свода, морского
простора и т. п. Оригинальность А. А. Богданова заключается в том, что
он этому «географическому», так сказать, натуризму дает социальное
истолкование, оставаясь, однако, верным общему идеалистическому
характеру схемы.
Но если с А. А. Богдановым можно не спорить — не потому, чтобы
он не стоил этого, а потому, что спор завлек бы нас слишком далеко от
нашей темы — хуже обстоит дело с мыслителями, которые и субъективно,
и, казалось бы, объективно без всякого спора принадлежат к разряду
материалистов. Что Богданов попал в русло идеалистических
представлений о происхождении религии, это естественно: на то он и махист.
Но когда мы читаем у Н. И. Бухарина такую тираду: «Кстати сказать,
тов. М. Н. Покровский выводит релдгию из страха к (?) смерти, боязни
покойников и так далее. Но как же быть, когда нет даже понятия
о том, что «все люди смертны»? Ясно, что историческую категорию,
имеющую свое историческое начало, тов. Покровский взял в
качестве почти «естественной», — то тут уже 'воздержанием от спора
не обойдешься.
В пяти строчках тов. Бухарина целый ряд недоразумений. Прежде
всего, каждый мало-мальски диалектически мыслящий читатель
неизбежно споткнется об утверждение, что для страха смерти, т.-е. для
эмоции, непроизводительного чувства, необходима наличность «понятия»,
«понятия о том, что все люди смертны». Значит, когда голодная собака
ищет, что бы поесть, у нее есть «понятие» о том, что все живое питается?
Значит, не понятия развиваются на основе известной деятельности,
оформляя и осмысливая ее для действующего, а действующий сначала
вырабатывает понятия, а потом уже «по своим понятиям» действует?
Чем же это отличается от метафизики XVII—XVIII столетий, когда для
образования государства считали необходимым предварительное
образование понятия о государстве и его задачах (теория общественного
договора), для образования хозяйства — понятия об экономическом интересе
(«хозяйствующий индивидуум») и т. п.? Марксизм акак раз очистил
почву ото всех этих «общественных договоров» и «хозяйствующих
индивидуумов», а тов. Бухарин в данном частном вопросе преспокойно
возвращается к точкам зрения Гоббза, Руссо и Адама Смита. Чтобы, говорит,
религия возникла из страха смерти, нужно, чтобы было понятие о
неизбежности смерти.
ъ*
131
Нет, тов. Бухарин: именно потому, что дикарю непопятно, что такое
смерть, он до такой степени боится смерти. Того, что понятно, не боятся.
Когда на поле сражения молодой, неопытный красноармеец «кланяется»
овистящим пулям, то это не потому, что он хорошо знает теорию стрельбы,
а потому, что он ее совсем не знает. Старый, опытный вояка окажет ему:
«свистнула, значит пролегела» и кланяться нечему. Человек, который
дошел до1 сознания, что «вое люди смертны», будет бояться смерти
меньше, чем кто бы то ни было. Ибо чего же, в самом деле, бояться
неизбежного? Двум смертям не бывать, одной не миновать! А вот, (когда
смерть является таинственной, непонятной случайностью, она страшна —
и естественно стремление ее избежать, ибо ни у кого нет еще понятия,
что смерть неизбежна. Для развития многообразных форм борьбы за
жизнь это отсутствие понятия о неизбежности смерти было, на ранних
ступенях развития, весьма полезно — в этом социальное значение,
социальный смысл страха смерти. И, как мы увидим дальше, тот страх
в известном смысле был даже организующей силой. Но он был тем
страшнее, чем менее было ясно, что такое смерть.
Но тут на помощь тов. Бухарину приходит другой несомненный
материалист, тов. И. И. Степанов. Он берет быка за рога и заявляет прямо
и открыто: «Для дикаря нет разницы -между чувственным и надчувствен-
ным миром, миром его восприятий и миром фантазии; грез, сновидений,
галлюцинаций. А вместе с тем ему чуждо и представление о смерти, как
прекращении существования».
Не только понятия о том, что «все люди смертны», нет, но вообще
понятия о смерти нет. А откуда же тогда взяться страху смерти? Нельзя
бояться того, о чем и «понятия не имеешь» — понятия уже не в
философском, а в житейском смысле слова. Ребенку ничего не стоит играть
с ручной гранатой — ему и в голову не приходит, что эта штука» убить
может. Дикарь бесстрашно возьмется за проволоку электрического
трамвая, как за простую веревку. Ну, а .раз нет никагого «представления
о смерти», странно обосновывать страхом смерти что бы то ни было.
И тов. Степанов делает из этого соответствующие логические выводы,
говоря:' Тов. М. Н. Покровский положил в основу всех религиозных
верований «страх смерти». Мне всегда казалось, что он избрал недоказуемое
положение, более того — положение, опровергаемое несомненными
фактами, и еще более ухудшил дело, придав «страху смерти» внеисториче-
ский, подысто-рический, почти биологический характер. На
биологических фактах и отношениях, будет ли то мнимо присущий всем людям на
всех ступенях культуры «страх смерти» или действительно постоянная
потребность в предметах питания, на неизменных биологических фактах
и отношениях нельзя построить историю человеческой культуры. Для
историка культуры они имеют едва ли большее значение,, чем то
обстоятельство, что человек шествует по пути развития с самого начала на
двух нотах»..
В правильном, относительно, утверждении тов. Степанова о
неразличении дикарем сна и действительности, все же есть преувеличение:
ибо субъект, совершенно не различающий этих двух вещей, это уже и не
дикарь, это бредящий тифозный больной, который ни к какой
хозяйственной деятельности неспособен. Тут все дело опять в том, что дикарь
не понимает, в чем различие, почему и склонен придавать яркому
сновидению или таллюцинации реальность, которой у них нет. Но если он
во сне, например, убьет птицу, то он в бадрственном состоянии не
примется ее жарить, а только попытается установить какую-то фантасти-
132
ческую связь между своим сновидением и своей реальной охотой
нынешнего дня.
Но вернемся к первой цитате. Итак, дикарю «чуждо представление
о смерти, как прекращении существования». Что значит эта прибавка,
явно имеющая целью «смягчить» утверждение, самому автору резонно
показавшееся чересчур смелым? Что значит «прекращение
существования»? Я опять осмеливаюсь утверждать, что это — понятие чрезвычайной
сложности, с которым, боюсь, не оправится не только дикарь, но и многие
российские интеллигенты. О чем идет речь? О «прекращении
существования» нашего организма? Но из него ни один атом не исчезает бес-
следнно — они только переходят в новые сочетания. О прекращении пашей
сознательной жизни? Но она прерывается каждым обмороком, a jb
случаях летаргии и анабиоза (последний, теоретически, может продолжаться
месяцами) этот перерыв может быть неопределенно продолжителен.
О каждом третьем покойнике кумушки рассказывают, что «похоронили
живого: лежит, румянец во всю щеку, чуть что не дышит».... А кумушки
иной раз не только кончили гимназию, но и на курсах побывали...
Действительно, научные методы безошибочного распознавания хотя бы
только начала разложения, я категорически утверждаю, еще несовсем
недавно известны были не всем врачам.
Вы видите, мы очень далеко от дикарей. Тов. Степанов занял
позицию куда рискованнее тов. Бухарину. Если брать его определение
целиком, оно верно, но абсолютно бессодержательно —■ такого экзамена не
выдержит не только дикарь, но ни один средний, рядовой «культурный
человек». Никто (кроме хорошо образованных научно врачей и вообще
естественников) не имеет ясного представления о «прекращении
существования». А если откинуть это «прекращение существования»,
получается рискованнейший парадокс, какой я встречала моей жизни. Полут
чается утверждение, что дикарю «чуждо представление о смерти». Между
тем, тов. Степанов дальше адет по линии этого парадокса. Он пишет:
«Дикарям (кале и первобытному человеку) не приходится наблюдать
случаев естественной смерти от болезни или старческой дряхлости: и
больных и стариков они были вынуждены бросать». «Поэтому миссионеры
не могли удивить дикарей рассказами о воскресении или воскрешении
из мертвых. Для них (дикарей) всякое пробуждение — воскресение».
Что дикарь не понимает, что такое смерть,—это совершенно Зерно:
на этом непонимании и зиждется его преувеличенный страх смерти. Но
он великолепно' знает смерть по'своей охотничьей и военной практике.
Он отлично знает, когда подбитый его стрелой зверь действительно издох,
и к нему можно подойти безопасно, чтобы снять с него шкуру.
И убитого врага он, поверьте, сумеет отличить от сонного. Иначе
никому не пришло бы в голову нападать на сонных — ведь это все
равно, что покойники.
От всех своих, более чем рискованных, домыслов тов. Степанов
мог бы застраховать себя очень, легко, выйдя из заколдованного круга
обычных сочинений по истории религии и прочитав пару просто
этнографических книжек об этих самых дикарях. Там он нашел бы в
изобилии фактичешке иллюстрации того, как отлично на практике дикари
знают, что такое смерть, что такое покойник, какую роль играет страх
перед покойником в быту дикаря, и какие «противо-покойницкие» меры
способны дикари принимать; обнаруживая при этом даже знание
анатомии (обычай вынимать коленные чашки трупа, чтобы помешать ему
ходить).
133
Тов. Степанов, чувствуя трудность своей позиции, пытается
отделить «страх смерти» от «страха трупа». Страх трупа, говорит он,
действительно существует, и тов. Степанов делает мне кшллнмент, что я
будто бы, прогрессировал, заменив страх смерти во втором'издании
«Сжатого очерка русской истории» страхом трупа. Если такал замена была,
то она носит чисто редакционный характер — ибо уже во II части
«Очерка истории русской культуры» черным по белому написано: «страх
перед покойником есть не что иное, как особая форма страха смерти».
Покойника боятся именно потому, что он может — и стремится, по
мнению дикаря, — превратить других в себе подобных, наделать побольше
покойников. И дикарь не побоится трупа мыши, воробья и лягушки, но
труп человека или труп существа, которое для дикаря сильнее человека—
крупного хищного зверя, например, — внушает суеверный ужас.
Тов. Степанов, сколько угодно, может называть это положение «не-
доказеумым»—я утверждаю, что оно неопровержимо. Лучшим
доказательством служит именно последняя статья тов. Степанова, где он, в
последний раз обругавшись по поводу моей зловредной теории, дальше на
протяжении целого печатного листа вдет по ее руслу, оставляя читателя
в недоумении, что же заставляло дцкаря бояться покойников, коли убить
они не могут? А если покойника боялись, потому что он может убить, то
не прав ли я, утверждая, что страх покойника есть, в сущности, страх
смерти? Правда, внизу стр. 105 тов. Степанов говорит еще о пользе,
которой ожидали от покойника. Но тут смешеаие стадий религиозного
развития. Покойник как сила благотворная («свой домовой») — явление
гораздо более поздней стадии, когда уже не только анимизм, но и культ
предков был налицо, явление эпохи более или менее оседлого земледелия.
Бродячая орда — а именно по отношению к ней и приходится говорить
о «первобытных» верованиях — ничего, кроме страха, перед своими
покойниками не испытывала.
Совершенно правильно со своей точки зрения А. А. Богданов
я берет эту более позднюю стадию за исходный пункт религиозного
развития вообще. Для него «объективный корень религии — культ предков».
Лет шестьдесят назад так все думали. Точно так же, как лет шестьдесят
назад iBce были уверены, что «родовой быт» — древнейшая форма
общественной организации. Беда в том, что мы имеем не только религиозные
эмоции, но религиозные верования, вполне оформленные, с зачатками
культа, для стадии гораздо более примитивной, чем «родовой быт» и
оседлое земледелие. Примерами этого полны работы Кунова, полна и новая
книга Эйльдермана г). И тот, и другой иллюстрируют «первобытные веро-
1) Речь идет о труде коммуниста Эйльдермана «Первобытный коммунизм и
первобытная религия» (имеется в русском переводе), посвященном .разбору ю .критике
идей Кунова. В этой работе имеется очень много ценных мыслей, но основная ее идея
очень наивна и упрощенна. Вот как характеризует эту идею Степанов: «Вся религия,
все религии и всё в каждой религии — сплошная ложь, выдумка и изобретение жрецов
или врачевателей, зародышевой'формы .жрецов. -Все это — непрерывное грубое
надувательство, имеющее задачей заставить «народ» приносит богатые дары жреческому
сословию. Явления, характерные для позднейших эпох, когда жрецы превратились
в паразитическое сословие, экономически излишнее и даже вредное, Эйльдерман, не
долго раздумывая, переносит на такие ступени культуры, когда жреческое сословие
еще выполняло вполне определенные экономические функции, и даже на такие
ступени, когда жреческого сословия еще не было в зародыше. В своем стремлении, —
в противоположность известному позднейшему иримечалшю к «первым строкам
«Коммунистического Манифеста», — открыть борьбу классов на ©сем протяжении развития
человечества, Эйльдерман, воображая, что он последовательнейший
историк-материалист, в действительности дает такие образчики чисто идеалистического понимания
134
вания» по австралийским неграм — типичным бродячим охотникам, с
зачатками кочевого земледелия, но никак не представителям оседлой
земледельческой культуры. Никакой «большой семьи», с
патриархом-большаком <во главе, у них еще не сложилось, а религия есть. Откуда же она
могла взяться, по богдановской-то схеме?
Порывать с двухтътсячелетней традицией материализма и
выдвигать совершенно новую теорию происхождения и развития релитии нет,
таким образом, никаких оснований. Тем более, что в погоне за
совершенно новыми концепциями, уважаемые авторы, мною цитированные,
забыли выполнить -свой основной марксистский долг — связать развитие
релитии с объективными условиями, это развитие определившими. Это
опять-таки попытался сделать А. А. Богданов.— неудачно в том смысле,
что его исходная форма не может быть названа «первобытной». Его
попросту повторил тов. Бухарин, не прибавив ни одного аргументами
целиком усвоив богдановское индивидуалистическое, т.-е. идеалистическое,
представление о самой большой семье, где, якобы, впервые зародилась и
религиозная идеология. Он пишет об этой большой семье: «В
производстве старший в роде, как хранитель всего «накопленного' опыта,
организует, управляет, приказывает, намечает план работ, является
деятельным, «творческим» началом, в то время, как другие повинуются,
выполняют приказания, подчиняются свыше установленному плану, действуют
по чужой воле».
Никогда в реальной «большой семье» ничего подобного не бывает.
Живет она по традиции, «план» ее работ намечается принудительным
севооборотом, и большак есть хранитель трудовой дисциплины, а вовсе
не интеллект все организующий. Такие порядки, какие тов. Бухарин
живописует, вслед за А. А. Богдановым, существуют на современной
фабрике, а вовсе не в древней семье. «По чужой воле» действуют в этой
семье все, не исключая и большака, только он творит волю не кого-либо
из живых членов семьи, а волю обычая, волю умерших предков: ею он
и силен. Но ею же он и сам связан — нарушить обычай ему и в голову
не придет.
Но если попытка А. А. Богданова открыть производственный смысл
религии исторически и неудачна, неудачна и со стороны фактического
обоснования, и со стороны истолкования фактов, то методологически она
совершенно законна. Конечно, не условия производства «большой семьи»
создали религию — и с&мо это производство1 отнюдь не носило столь
«современного», похожего на капиталистическое предариятие, характера,
как это кажется А. А. Богданову и его последователям. Но какие-то
условия производства создали религиозную идеологию и какой-то
производственный смысл эта идеология имеет. Между тем ни один из авторов,
писавших об этом сюжете, не исключая Кунова, к этому вопросу не умел
подойти. Если бы тов. И. И. Степанов, вместо того, чтобы нападать, в моем
скромном лице, на материалистическую историю религии вообще, напал
истории, каких мало найдешь даже у историков-просветителей XVIII века. Таким
образом у него оказывается, напр., что душа — своекорыстная выдумка, чистое
измышление жрецов (или врачевателей). И его уже нисколько не интересует, какие группы
явлений могли натолкнуть жрецов на эту и на другие выдумки. Жрецы наделяются
такими мыслительными способностями, которые нельзя не признать прямо чудесными.
И «(классовые» антагонизмы /представляются для древнейших эпох человечества
настолько обостренными, что дальнейшему развитию оставалось добавить в этом
отношении лишь очень немногое. Но, в общем, слабая книга. Эйльдермана забрасывает
несколько мыслей, которые заслуживают всяческого внимания, и местами,
действительно, может служить для восполнения Кунова». — Прим. ред.
135
на материалистов — историков религии за то, что они не довели своего
дела до .конца, не вскрыли подлинного экономического основания
религии, он был бы совершенно прав.
Дальнейшие строки, конечно, не претендуют на то, чтобы
пополнить этот пробел: для этого нужен ряд исследований, а для них одному
ученому понадобились бы годы, и не малые (коллективно можно бы
кончить дело скорее).
Эти строки, как не опирающиеся на свежий этнологический и
исторический материал, имеют цены не больше, чем всякие другие общие
рассуждения. Но так как историю религии у русских марксистов
заменяют, пока-что, именно общие рассуждения, то чем же я — все-таки
когда-то занимавшийся данной темой вплотную — хуже других?
Кое-какой материал — не то, чтобы очень новый, но все же, так
сказать, «свежепросеянный» —под руками имеется в не раз уже
названной книжке Эйльдермана. Неудачная в своей основной идее,
отталкивающая местами своим возвратом к наивным толкованиям
«просветителей» XVIII века, книга все же содержит в себе массу отдельных ценных
мыслей и огромный, хорошо подобранный аппарат выдержек из
различных этнологических (отчасти и археологических — и это уже совсем
свежо) работ. Конечно, никто не согласится с Эйльдерманом, что
религию выдумали старики, чтобы работоспособная молодежь их кормила, —
основная идея книги, если ее выразить кратчайшим образом. Но уже то,
что Эйльдерман вводит совершенно новый для истории религии мотив —
мотив эксплоатации, притом не личной, а классовой, заставило бы
обратить внимание на его книжку. Пусть эту эксплоатацию он понимает
слишком наивно, пусть в его концепции больше от Бакунина, чем от
Маркса, все же он нащупал некоторое недостававшее звено между
биологией и историей (если бы И. И. Степанов упрекал меня в отсутствии этого
звена, он опять был бы прав). А у него не только это. Еще более ценной
из его «попутных» мыслей является устанавливаемая им связь между
первобытной религией и первобытной медициной.
Что первобытный жрец, колдун, является в то же время и врачом,
это, конечно, известно давным-давно. Но до сих пор' молча принималось,
что он врач потому, что он колдун. Его колдовская сила заставляет
людей обращаться к нему за исцелением физических недугов. Как раз;
наоборот, говорит Эйльдерман: «путь к религии часто ведет через
медицину». Первобытный знахарь обладает массой практически-полезных
сведений. Длинным рядом цитат Эйльдерман устанавливает, что «дикий
доктор» имеет зачатки представлений о гидротерапии, о массаже, умеет
дать слабительное, вызвать рвоту, приготовить то или другое лекарство
(употреблению хинина, например, научились ведь в конечном счете от
южно-американских индейцев); особенно велико его искусство в разных
мелких хирургических операциях. Если бы его деятельность была
сплошным шарлатанством, он быстро потерял бы кредит. Но то, что он
иногда «помогает» — ив гораздо большем числе случаев, благодаря своей
огромной опытности, умеет предсказывать ход болезни, возвышает его
авторитет все больше и больше. Шарлатанство возникает уже на
дальнейшей ступени, когда «доктор», по уверению Эйльдермана, доходит до
такого «нахальства, что начинает «лечить» — мертвых. Этим наш автор
объясняет возникновение древнейших погребальных обрядов.
С этим опять можно не соглашаться — особенно с утверждением
Эйльдермана, что «дикий доктор» проделывает свои шарлатанские штуки
над мертвыми сознательно. Но что он, как и другие дикари, не имеет
136
ясного представления о том, что такое смерть, и может добросовестно
считать умершего живым еще некоторое время после смерти, это вполне
допустимо. Традиционный трехдневный срок, в течение которого и
в наши дни проявляется наибольшая заботливость о трупе (обмывание,
обряживание, положение в гроб, панихида по нескольку раз в день
и т. п.), находил бы здесь себе хорошее объяснение. Но это, в сущности,
не так важно. Важнее то, что при отсутствии у дикаря понятия о
неизбежности смерти, власть врача над больным гораздо больше, чем в наши
дни. Для культурного человека врач — спаситель лишь относительно:
он может отсрочить конец, вернуть или спасти работоспособность, но и
только. Для дикаря он спаситель абсолютный — без него помрешь, с ним,
может быть, не помрешь совсем (сравни наших попов, обещающих
«жизнь вечную»).
Теперь, в какой экономической обстановке эта власть должна была
проявляться с особенной силой? Не в быту оседлого земледельца, конечно.
Первобытное земледельческое население больше всего страдало от
эпидемий, против которых и новейшая медицина, до открытия бактерий,
была бессильна. Конечно, власть над умами доктор-жрец сохранял и
в этот период — ужас массовой смерти порабощает людей больше, чем
что бы то ни было. Но реальной пользы «дикий доктор» тут принести
не мот, а стало быть, не было почвы и для -его реального господства,
потому что реальное господство опирается всегда на реальную силу, не
на то, что люди думают о человеке, а на то, что он, действительно, может.
Объективно-хозяйственная роль «доктора» относится, несомненно, к
предшествующему периоду, периоду охоты и бродячего земледелия.
Непрестанная борьба с природой во всех формах наносит маленькой дикой орде
громадные потери. Ежедневно то тот, то другой дикарь становится
жертвой несчастного случая. Врач тут, как тут — он сумеет «поставить на
ноги» выведенного из строя, сумеет предупредить от опасности. Орда,
где лучше поставлена «медицина», несомненно, будет наиболее боевой и
трудоспособной. А плохо обслуживаемая своими «врачами» орда
рискует вымереть или потерять такую часть своего состава, что будет смята
в борьбе с лучше выстоявшими ордами-ооперницами.
В такой обстановке, всего вероятнее, возникает власть определенной
общественной группы над своими сородичами. Что эта группа на основе
приобретенной власти, начинает этих сородичей эксплоатировать, это
даже более, чем вероятно. И никакой надобности нет предаолагать здесь
сознательный обман — чем портит всю свою концепцию Эйльдерман.
Дикий врач сам не понимает смерти, и сам поэтому боится смерти может
быть больше даже, чем его пациенты. И он, несомненно, больше их знает,
какую реальную опасность представляет труп. Случаи заражения от
трупа с врачами нередки и теперь, и теперь врачи заражаются в
несколько раз чаще неоврачей — нет никаких оснований думать, чтобы
в первобытные времена было иначе. Идеология, основанная на боязни
мертвецов, скорее всего могла возникнуть во «врачебной» среде —
единственной «интеллигентной» среде дикой орды. Не нужно забывать, что,
как наиболее думающие люда племени, идеологию вырабатывали именно
«врачи». Они были и первыми философами — из их среды выходили и
первые «организаторы»: это, в сущности, был один слой первобытной
«интеллигенции ».
Состояла она из обманщиков, или нет — объективно она эксплоа-
тировала страх смерти, ибо без него не было бы всего остального. И этот
страх, поскольку он вызывался реальными условиями дакарского суще-
13?
ствования, оказывался экономически-прогрессивной, толкающей вперед
хозяйство, силой. Для содержания первобытной «интеллигенции»
прибавочный продукт был столь же необходим, как и для современной нам.
Мы видели, что чем сильнее была «интеллигенция» данной орды, тем
больше шансов ввела последняя выстоять в конкуренции с другими
ордами. Чем больше прибавочного продукта, тем сильнее орда — так
можно экономически формулировать складывающиеся отношения. Но
что могло заставить первобытного охотника, у которого еды всегда в обрез,
откладывать часть для других? Принуждение свыше, в этом быту, при
неуловимости принуждаемых, менее всего можно себе вообразить. Для
того, чтобы человек стал, урывая у себя последнее, создавать прибавочный
продукт, нужен был внутренний стимул огромной силы, и только страх
смерти мог быть таким стимулом. Сам не доем, а «врача», который может
мне «спасти жизнь» (выражение-то какое характерное!), накормлю — эта
идеология для пациента была так же естественна, как идеология «страха
покойников» для врача. А вместе обе эти идеологии, помогая одна
другой, осмысливали те гигантские усилия, которых требовал от
первобытного человека каждый шаг вперед em хозяйства.
Тт. Бухарин и Степанов видят, что страх смерти на ранних
ступенях развитая — «вовсе не такая вредная вещь. И даже не на очень
ранних: ибо все средневековое докапиталистическое накопление, во
главе которого шла церковь, шло под знаменем все того же страха смерти.
Груды золота церковных ризниц, это — овеществленный страх смерти
миллионов верующих. А на средневековом накоплении вырос.
современный капитализм — и, значит, современная паука. Что. эта последняя,
в силу исторической диалектики, должна была ликвидировать то, что ее
породило, это не может удивить ни одного марксиста. Но в данном
случае работа диалектического процесса еще далека от завершения.
Отрицание страха смерти еще долго будет делом борьбы — борьбы все более
и более успешной, по мере вое новых и новых побед науки над смертью.
И только окончательная победа вырвет почву из-под ног у религии
навсегда.
(«Страх страха смерти и производственное значение религии» в журн. «Под
знаменем марксизма», № 9—10 за 1922 г.).
И. II. Степанов
ПРОТИВ ТЕОРИИ СТРАХА СМЕРТИ
Допустим, что, начиная с Лукреция, в традиции материализма
вошло искать источники религии в чувстве страха. Но ведь этот страх мог
порождаться самыми разнообразными причинами. Это мог быть: 1) страх
перед стихийными силами природы; 2) страх перед запугиваниями
ловкого жреца; 3) страх смерти; 4) страх перед стихийной властью
общественных отношений.
Неужели тов. Покровский станет отрицать, что материалисты
XVIII века приписывали большое значение тем эмоциям, которые
отмечены под пунктами первым и вторым? Или, быть может, он скажет,
что все «страхи» в конечном счете сводятся к одному универсальному
для него «страху смерти»?
Однако, я очень уступчив. Уступчив потому, что все это для меня
пока не главное сражение, а легонькая разведка. И вот, по своей уступ-
138
чивости, я соглашусь, что тов. Покровский нрав в своей
историко-литературной справке и что материализм, действительно, уже две тысячи
лет тому назад решил, что «первых ботов на земле создал страх». Но
действительно ли объяснение религии страхом вообще и страхом смерти
в особенности настолько глубоко, внутренно, принципиально, необходимо
связано с существом материалистической философии, хотя бы и до-
марксовокой? Действительно ли отрицание этого страха в конечном счете
равносильно отрицанию материализма?
Но есть вопрос и поважнее: с какого это времени все воззрения
старых материалистов, в особенности же их исторические воззрения,
стали обязательными для исторических материалистов, для марксистов?
Маркс писал: «Недостатки абстрактного естественно-научного
материализма, исключающего исторический процесс, обнаруживаются уже
в абстрактных и идеологических представлениях его защитников, едва
лишь они решаются выйти за пределы своей специальности» («Капитал»,
т. I, гл. XIII). И мне кажется, что эти слова Маркса призывают к самой
критической оценке исторических экскурсов естественно-научных
материалистов, хотя бы за ними имелась и двухтысячелетия давность.
А затем пойдем к делу чуточку ближе. Вторая глава «Людвига
Фейербаха» Энгельса начинается выяснением того, как возникло
представление о бессмертии души. Его объяснения можно признать
недостаточными, даже неудовлетворительными. Но сейчас дело не в них, а ©
следующих за ними строках. Энгельс пишет: «на этой ступени развития
оно (представление о бессмертии души) является не утешением, а
неотвратимым роком; довольно часто, напр., у греков, бессмертие души
считалось полооюительно несчастием».
Поразительно верное замечание. Для христианства (как, пожалуй,
и для, буддизма) тоже правильнее было бы говорить -не о «страхе смерти»,
а скорее о «страхе жизни», — страхе «загробного» существования. В
христианстве он играл куда более «дисциплинирующую» роль, чем страх
смерти. Точно так же известная часть интеллигенции в настоящее время
запово «создает ботов» не из «страха смерти», а благодаря испугу перед
жизнью. Этот испуг оставляет перед ней только два убежища: или бог, —
или самоубийство. Смерть нестрашна по сравнению сжизнью: вот в
какой обстановке происходит -воскресение ботов.
Если тов. Покровский скажет, что этот испуг перед жизнью
порожден смертью, только не смертью особи, а смертью класса, то он тем
самым сдаст свою позицию и отступит от «двухтысячелетней традиции
материализма». Если он скажет, что надраено я беру примеры из
области современной религиозной жизни и что они не имеют касательства
к предмету спора, то я просто напомню, в чем я видел ошибку тов.
Покровского. Я ее видел, во-первых, в том, что «страх смерти» лежит для
него в основе не только возникновения, но и всей истории религии; и, во-
вторых, в том, что он придал этому «страху смерти» «внеисторический,
надысторический. почти биологический характер».
Насколько был далек Энгельс — не правда ли, тоже материалист? —
от воззрений тов. Покровского, лучше всего показывает следующее:
в своем «Фейербахе» он находил, что удручает не мысль о смерти, не
страх смерти, а как раз наоборот: представление о личном бессмертии.
Это — нечто прямо противоположное «материализму» т. Покровского.
Боюсь, не произошла ли с тов. Покровским досадная ошибка.
Не материализм, естественно-научный или исторический, должен
исходить из страха смерти в объяснениях того, как возникли и держатся ре-
139
лигии. Это — не материалистический, а скорее религиозный способ
объяснения и воздействий. Но для нас недостаточно убедительно то, что
думают и говорят о себе сами религии.
Чтобы выяснить метод Маркса в его применениях к изучению
религии, достаточно будет немногих строк.
« Критика релитии оканчивается учением, что высшее существо
для человека — сам человек, следовательно, категорическим
императивом: ниспровергнуть все отношения, в которых человек является
приниженным, порабощенным, сброшенным, презренным существом», («К
критике гегелевской философии права»). Это — из работы Маркса,
относящейся к сороковым годам. А вот выписка из «Капитала», из его первого
тома: «Религиозное отображение действительного мира вообще может
исчезнуть лишь тогда, когда отношения практической повседневной жизни
людей будтт выражаться в прозрачных и разумных связях их между
собою и с природой».
Я очень просил бы запомнить эти цитаты и сопоставить с ними
заключительные строки статьи тов. Покровского. «Отрицание страха
смерти, — пишет он, — еще долго будет делом борьбы, — борьбы все
более и более успешной, по мере все новых и новых побед науки над
смертью. И только окончательная победа вырвет почву из-под нот у
религии навсегда».
Исторический материализм: корни религии — в том мире, который
находит каждая ступень религиозного развития, в способе производства
и обмена, в производственных отношениях, принижающих,
порабощающих человека.
Тов. Покровский: корни религии — в страхе смерти.
Исторический материализм: окончательно религия уничтожится
ниспровержением общественных отношений, принижающих,
порабощающих человека, окончательной победой пролетариата.
Тов. Покровский: окончательно религия уничтожится
окончательной победой... науки над смертью.
Исторический материализм: строя коммунистическое общество,
борясь за него, вы идете к окончательной разделке со. всякой религией.
Тов. Покровский: А <в самом деле, что должен тут сказать тов. М. Н.
Покровский? Сдается, что логика требует такого заключения его статьи:
«Только окончательное разрешение проблемы омоложения вырвет почву
из-под нот религии навсегда».
Но что бы он ни сказал, уже и сказанного им достаточно. Трудно
представить себе более полный разрыв — не с «двухтысячелетием
традицией материализма», а с историко-материалистическим методом. И нельзя
представить себе более полной противоположности тому
революционному контексту, в котором у Маркса и Энгельса всегда стояла борьба
с религией.
Тов. Покровский пишет: «По своему происхождению религиозные
эмоции не связаны ни с хозяйством, ни с правом: в основе религии лежит
факт, почти столь же физиологический, как потребность питания, —
страх смерти».
Допустим, что это так. Предположим даже, что «религиозные
эмоции» ,не были чужды зоологическому предку человека. Можно было бы
припомнить, что некоторые историки /религии начинают дело с экскурсов
в область собачьей психологии и что Анатоль Франс дал составленный
с обычным для него тонким остроумием собачий катехивис или' символ
веры, удивительно напоминающий во многих частях человеческие сим-
140
волы веры и катехизисы («Мысли Рике»). Согласимся, что,религиозные
эмоции почти столь же «изначальны» для человека, как половые
эмоции. Но что же из этого следует?
Для то.в. Покровского следует очень многое, — все. «Это чувство,—
пишет он, — историку культуры приходится принять, 1как данное, и
в этом широчайшем смысле религия, конечно, есть «частное дело
каждого»; ей место не в истории культуры, а в психологии».
Применяя метод тов. Покровского, следует сказать и так: «Это
чувство — половые эмоции — историку культуры приходится
принять, как данное, и в этом широчайшем смысле половая любовь,
конечно, есть «частное дело каждого»; ей место не в истории культуры,
а в психологии».
Правильны ли эти рассуждения? Они элементарно неправильны
*г давным-давно опровергнуты историческим материализмом. Ибо
«человеческая сущность не есть нечто абстрактное, живущее в отдельных
индивидах, — в овоей действительности она есть совокупность
общественных отношений».
Мне нечего говорить, что я цитирую Маркса, его тезисы о
Фейербахе, написанные в 1845 году и известные буквально всякому марксисту.
Но как ни ясно дело, я все же остановлюсь на этих тезисах и постараюсь,
пользуясь очень удобным случаем, который дает тов. Покровский,
выяснить, каково соотношение между естественно-научным и историческим
материализмом п в каком смысле, а главное в какой мере исторический
материализм «принимает, как данное», анатомические, физиологические,
психологические и биологические факты.
В психике дикаря, по отзывам всех путешественников, много
«ребяческого», — такого, что живо' напоминает детей цивилизованного
человечества. Он целиком поддается впечатлениям момента, неуравновешен,
способен переходить из одной крайности в другую. Его действия имеют
автоматический, рефлекторный характер.
Биолог скажет, что наперед следовало ожидать сходства в психике
дикаря и цивилизованного ребенка: развитием особи вообще повторяется
история вида, и в данном случае развитием ребенка от самого его
рождения и до зрелого возраста повторяется история человечества.
Анатом приложит свою руку к этому делу и расскажет, как
изменяется с развитием ребенка его нервно-мозговая система. Он покажет,
какой сравнительной непосредственностью характеризуются
первоначальные связи между центрами восприятий и двигательньми центрами
и как с течением времени ослабляется эта непосредственность благодаря
тому, что развиваются, растут и крепнут мозговые центры, являющиеся
аккумуляторами и конденсаторами нервно-мозговой энергии,
варьируются и усложняются связи между нейронами.
Физиолог тоже не останется без работы. Он покажет, какое
жизненное значение для ребенка имеет рефлекторный характер многих
движений и отправлений. Но для многих случаев непосредственность,
характеризующая реакции детского организма на раздражения, не играет
ни положительной, ни отрицательной роли в жизни маленького
человечка, во многих случаях даже вредна. Он не имеет положительного
физиологического значения. Это — рудиментарные явления.
Объяснения их надо искать в биологии (или в антропологии, как ее отрасли),
г.-е. в прошлой истории человечества: или его зоологических предков.
Исторический материалист, — что делать тут историческому
материалисту? Молчать? Принять рефлекторность дикаря и ребенка как
141
физиологический факт? Оказать, что все это нисколько не касается
истории культуры, что это — дело психологии?
Но это значило бы принимать «человеческую сущность за нечто
абстрактное, живущее в отдельных индивидуумах»; это значило бы
«представлять себе ее как «род», как внутреннюю немую общность, чисто
зоологически связывающую многих индивидуумов». И это значило бы
забывать, что «в своей действительности человеческая сущность есть
совокупность общественных отношений», что перед нами «общественный
продукт» и что «тот отвлеченный индивидуум (дикарь), которого мы
анализируем, в действительности принадлежит определенной форме
общества».
Поэтому первая поправка, которую необходимо ввести в
утверждения тов. Покровского, будет такова: религиозные эмоции должны
рассматриваться не в их статике, а в их движении, развитии, т.-е. не просто
психологией, не психологией вообще, а, если угодно, генетической
психологией, понимая под последней изучение психо-мозговых процессов,
как общественного продукта.
Но эта первая поправка опрокидывает все положения тов.
Покровского: во всех, и в широчайших, и в самых узких смыслах, место
религии — в истории культуры, потому что без истории культуры невозможна
никакая генетическая психология.
Но возвращаемся к нашему дикарю, который из абстрактной
«человеческой сущности», из зоологической особи уже превратился для нас
в общественный продукт, в создание определенных общественных
отношений. Мы уже видели, что быт этого дикаря — область «рефлексологии».
В истолковании развития вида — человечества — исторический
материалист должен сделать то же самое, что физиолог для объяснения развития
особи от грудного до зрелого возраста. Он должен показать, какое
жизненное значение имеет перевес простых рефлексов среди тех
общественных отношений, в которых существует дикарь. Он должен показать
дальше, каким образом развитие общественных отношений делает
необходимым сужение области простых рефлексов. А это, как мы уже знаем,
предполагает, в свою очередь, что совершаются перемены и в
анатомическом строении нервно-мозговой системы.
Вот какие безграничные претензии у историческото материалиста.
Психологических, физиологических и даже анатомических фактов
исторический материализм вовсе не игнорирует. Но он и не принимает их
как нечто данное, твердое, жесткое. Он ищет объяснения специфическим
формам их развития в общественном бытии человека, в способе
производства, в производственных отношениях, в их развитии. Как нечто данное,
готовое он берет их от биологии с того периода, когда окончивается
зоологическое прошлое человека и начинается его человеческая история.
Историк культуры берет готовым от биологии человека как
существо, держащееся на двух ногах, способное применять орудия, а затем
и делать их. Если мы примем остроумную гипотезу Энгельса, согласно
которой именно применение орудий и повело к окончательному и
решительному превращению человека в двуногое существо, а его передних
конечностей — в хватательный орган, то соответствующий период в
развитии человека можно будет признать сопредельным периодом для
зоологии и для истории человеческой культуры. Но как только человек твердо
стал на задние конечности и превратился в «существо, делающее
орудия», собственно зоологии нечего больше делать. Однако, и историк
культуры просто устанавливает, что перед ней — уже человек и что
142
отныне его история становится в прямую зависимость от способа
производства, а способ производства определяется развитием
производительных сил, а их развитие определяется уровнем техники. О тем фактом,
что человек держится на двух ногах, историку культуры дальше
нечего делать, — и ничего плодотворного из этого факта он больше
не высосет.
Потому-то я и оказал, что такие неизменные факты и отношения,
как мнимо присущий всем людям на всех ступенях культуры «страх
смерти» или действительно постоянная потребность в предметах
питания, «имеют для историка культуры едва ли большее значение, чем то
обстоятельство, что человек шествует по пути развития с самого начала
на двух ногах».
Оказать, что в основе человеческого хозяйства лежат
физиологические потребности питания и воспроизводства, это значит ничего не
сказать, не сдвинуться с места в изучении истории человеческого хозяйства.
Хотя бы мы десять и сто раз повторили об этой физиологической основе,
мы будем иметь дело только с том «природным веществом», которое
культура получила тотовым от природы-матери, и ничего не поймем ни в
динамике, ни в'отношениях капиталистического хозяйства. Действительное
понимание хозяйства начинается только с того момента, как мы
обращаемся к отцу культурного человека, к труду, в процессе которого
человек изменяет формы вещества, взятого или усвоенного от природы, —
изменяет, воссоздает между прочим и самого себя, превращаясь из
Naturstoff Naturmensch'a в Kulturprodukt Kulturmensch'a (из природного
вещества, сына природы, в продукт культуры и в человека культуры, —
каждый раз определенной культуры или определенной ступени
культуры, — в «общественный продукт», в «продукт» определенной формы
общества).
Так обстоит дело с несомненно физиологическими потребностями
питания и воспроизводства. А в основу религии тов. Покровскй кладет
факт, который, по ето мнению, липш «почти» физиологический факт, —
«страх смерт».
«Страх смерти» это, конечно, страх индивидуального уничтожения
данной особи, это страх, который, насколько можно судить по последней
статье тов. Покровского, окончательно преодолевается только грядущей
окончательной победой науки над смертью, такой победой, которая, надо
полагать, даст, не иллюзорное, а действительно личное бессмертие.
Но ведь для возникновения такого страха смерти необходимы известные
исторические предпосылки. Особь должна настолько выделиться из
своей группы и настолько отделять себя от нее, что она должна
чувствовать себя особью, личностью, индивидуальностью.
Возьмем стадо одичавших коров или косяк лошадей. Казалось бы,
вожак его, бык или жеребец, уже достаточно развился в «личность»,
в особь, противопоставляющую себя табуну: в некоторых отношениях
это — почти самодержец.
Достаточно известно, как ведут себя такие самодержцы в случае
нападения хищных зверей: они — на самых опасных позициях,, овит,
можно сказать, сами лезут в пасть смерти.
Да, конечно, все стадо охватывается страхом уничтожения. Но этот
страх обеспечивает не самосохранение особи, а сохранение вида. Поэтому,
если уж на то пошло, его правильнее назвать не «почти
физиологическим», а биологическим фактом. Индивидуалистического^' личного в нем
очень мало или нет ничего. Этот страх превращает быка шли жоребда
143
ae jb «шкурника», а в героя, которому абсолютно чужда боязнь за свою
шкуру.
Странным образом тов. Покровский знает страх смерти только
в индивидуалистических, физиологических, филистерских формах, —
да простит мне дорогой для меня старый товарищ М. Н. Покровский это
выражение. И в соответствии с этим он знает в истории только два
способа преодоления смерти и страха смерти: иллюзорный — на путях
религии, -в прошлом, индивидуалистический, посредством «новых побед
науки над смертью», — в будущем. Мне сдается, что и этот способ
окажется не менее иллюзорным, чем первый, и что, следовательно,
намечаемое тов. Покровским преодоление смерти стоит религиозного. Во
всяком случае, практическая ценность обоих способов для современного
человечества совершенно одинакова.
«Страх смерти — почти физиологический факт». Историку
незачем * напоминать, какое абсолютное презренно, к смерти обнаруживали
все племена и народности, у которых разложение родовой сплоченности
зашло еще не слишком далеко, с каким полным самозабвением бросались
в бой индейцы, готтентоты, германцы, скандинавы, арабы и т. д.
Или тов. Покровский скажет, что эти примеры говорят в его пользу?
Может быть, все дело в том, что у этих народностей религия успела
выполнить полагающуюся ей работу и, создав иллюзию загробных
блаженств, преодолела страх смерти, в особенности смерти в бою? Но
рассуждать так, это значит опять-таки перевертывать действительные
отношения, ставить их на голову, безнадежно спутывать действия людей
с теми истолкованиями и мотивировками, которые они-дают этим
действиям, принимать внешнюю видимость явлений за самое их существо.
«Вначале было дело». Родовая община стоит на границе зооло-
гическото существа и общественного человека. В ней еще много
биологической сплоченности. Но и примитивная экономика все еще делает
сплоченность безусловной заповедью самосохранения. Биологический страх
уничтожения начинает переходить в социальный, родовой страх
уничтожения, поскольку Naturmensch, «дитя природы», вещество, полученное
от природы, уже превращается посредством труда в «общественный
продукт», созидаемый «определенной формой общества». Этот «страх» по
своим проявлениям представляет прямую противоположность
физиологическому, шкурническому «страху смерти». Религия просто
санкционирует, освящает фактические отношения. Личность — только орудие
сохранения рода. Самостоятельной ценности она не имеет. Религия всего
лишь истолковывала по-своему, почему личности чужд страх смерти.
Только и всего, не больше этого!
Тов Покровский, если бы он не был в плену своей концепции, мог бы
порассказать много любопытного о том, как умирали в разные эпохи
и в разных классах римского общества, в эпоху итальянского
Возрождения, на разных стадиях Великой революции в разных слоях! французского
общества. А потом стоило бы вспомнить «Смерть Ивана Ильича» и
Платона Каратаева, смерть в «Хозяине и работнике», описания «мужицкой»
смерти у Тургенева, Мопассана и т. д. Действительность бесконечно шире
и сложнее, чем «почти» физиологический страх смерти, и религия только
в некоторых случаях находится в той или иной связи с этим страхом,
и бывает, что «почти физиологический» страх смерти преодолевается без
всякой религии, — и без всяких «новых и новых побед науки над
смертью», которые /в каком-то мистическом будущем должны вырвать
всякие корни религии.
144
С какой бы стороны мы ни подошли к делу, получается один и тот же
вывод: 1) тов. Покровский нарушил все требования марксистской мето^-
дологии, положив в основу всех религиозных верований «страх смерти»;
2) он еще больше нарушил эти требования, придав «страху смерти» вне-
исторический, надысторический, почти биологический ((как видим,
больше того: физиологический характер).
Религия у тов. Покровского лежит в начале познания, — можно
сказать, — открывает познание. Он говорит: «Религиозные идеи были
первыми попытками человеческой мысли обобщить и понять окружающее.
Эта мысль ранее всего ухватилась за то, что было всего менее понятно,
всего более таинственно. Если, по справедливому замечанию греческого
мыслителя, в корне всякой философии лежит любопытство, то в (корне
самого любопытства всегда лежит очень сильная эмоция: а что может
дать более сильную эмоцию, чем вид смерти? Когда человек начал
рассуждать о вещах более обычных, религиозное мышление вошло уже ему
в плоть и кровь, новые мысли входили ,в готовый уже кадр твердо
укоренившихся религиозных представлений. И если. при помощи религии
человек раньше всего «понял» мир, то всякое дальнейшее понимание
приходило к нему через религию. («Очерк», часть II).
Стоит вчитаться в эти строки, чтобы разом (понять .весь изъян
основных построений тов. Покровского. Он предполагает человека с
современной психологией, который с самого начала входит в мир с
озабоченно нахмуренным челом и с глубокомысленно приставленным пальцем
ко лбу; человека, который движется «любопытством», который
резонерствует («рассуждает») и перед «видом смерти» окончательно
останавливается с разинутым от изумления ртом. Форменная робинзонада!
Тов. Покровский совершенно упустил из виду, что человеческая
мысль «'раньше всего» ухватилась не за то, «что было менее всего
понятно, всего более таинственно» и т. д. «Раньше всего» человек понимал
мир не при помощи религии, а при помощи труда, при помощи труда,
изменяющего внешние условия и подчиняющего их человеку. «Раньше
всего» человек начал «понимать мир» при помощи своего «способа
производства материальной жизни»> Плод, сбитый палкой, не летит вверх,
а падает на землю; от удара камнем некоторые камни разбиваются по
ровным плоскостям; под кокосовой пальмой время' от времени можно
найти 'кокосовые орехи: разве же это не понимание мира, приходящее
через труд? И разве оно не раньше всякого религиозного понимания, не
стоит на хранице зоологического человека? По обьпсновению хорошо и
кратко это выражено Плехановым: «человек побуждается к
размышлению главным образом теми ощущениями, которые испытывает в процессе
своего воздействия на внешний мир».
В своей статье тов. Покровский очень энергично выступает против
того воззрения, что «объективный корень религии — культ предков».
А между тем в его «Очерке» мы читаем: «Так зародился культ предков •—
наиболее оюивая до сих пор форма первобытной религии» ... «Чужой
домовой, умерший глава чужого, т.-е. в первобытные времена враждебного
хозяйства — „чорт страшный" и по народным, дохристианским понятиям».
И, наконец: «в туче и грозе, в дожде и солнечном сиянии для
первобытного человека работали все те же покойники, которые помотали или
вредили ему в его хозяйстве и, на первом месте, покойники-предки».
Тов. Покровский с завидной быстротой находит замену культу
предков. Он цитирует слова Эйльдермана: «путь к религии часто
(подчеркнуто мною. И. С.) ведет через медицину». Это «часто» в дальнейших
Г. Гурев 10
146
соображениях тов. Покровского отпадает: он буквально в два счета
создает своего рода «врачебно-монистическую» теорию происхождения
жреческой профессии, а затем «врачебный» монизм столь же быстро
сменяется «смертным монизмом». Власть «дикого доктора» вытекает из
того, что «с ним, может бьць, не помрешь вовсе». В конце концов, от
правильного ограничения Эйльдермана («часто», т.-е. не всегда) ничего не
остается: «Идеология, основанная на боязни мертвецов, скорее всею
могла возникнуть во «врачебной» ореде, единственно «интеллигентной»
среде дикой орды. Не нужно забывать, что, как наиболее думающие люди
племени, идеологию вырабатывали именно «врачи». Они были и (первыми
философами — из их среды выходили и первые «организаторы»: это,
в сущности, был один слой первобытной «интеллигенции».
Bicero этого тов. Покровскому еще мало. «Страх смерти» у него
такой империалист, каких еще и мир не видал: «все средневековое
капиталистическое накопление, во главе которого шла церковь, шло под
знаком все того же страха смерти. Груды золота церковных ризниц — это
овеществленный страх смерти миллионов верующих. А на
средневековом накоплении вырос современный капитализм — и, значит,
современная наука».
Что первобытная медицина — далеко не одно шарлатанство, и что
она послужила одним из корней жреческой профессии, это давно
известно, и в частности у меня кое-что сказано об этом еще в I томе «Курса
политической экономии». Но отсюда дистанция огромного размера до
монистического построения всей истории жреческого сословия на
медицине. И еще дальше до того, чтобы видеть единственно во «врачебной»
среде людей, вырабатывающих не только религиозную идеологию, но
и "идеологию вообще, и не только вырабатывавших идеологию, но и
бывших «первыми организаторами».
Тов. Покровский говорит об экономическом, производственном
значении здравоохранения в период охоты и бродячего земледелия: «Орда,
где лучше поставлена «медицина», несомнено, будет наиболее бое- и
трудоспособной. А плохо обслуживаемая своими «врачами» орда рискует
вымереть или потерять такую часть своего состава, что будет омята
в борьбе с лучше выстоявшими ордами-соперницами». В этой
«здравоохранительной» роли «диких докторов» тов. Покровский видит
объяснение возникновения — «власти определенной общественной группы над
своими сородичами».
А дальше еще хуже. Как «наиболее думающие люди племени»,
именно ррачи вырабатывали идеологию. И будучи первьжи философами,
они дали и первых организаторов.
Биологические соображения тов. Покровского не устраняют того
факта, что он забывает о «человеческой чувственной деятельности»,
о «практике». Он совершенно игнорирует организаторскую роль
жреческой профессии. Он забывает, напр., о тех несомненных исторических
фактах, о которых, следуя за Л. Мечниковым, несколько раз повторяв
Плеханов. И нельзя же до такой степени игнорировать колоссальную
организаторскую роль средневековой церкви, превратившую ее в
громадную общественную силу и сделавшую страшными ее угрозы. И не
только страшными, но и реальными: было время, когда отпадение или
отлучение от этой громадной силы угрожало экономической и
политической смертью и королям и народностям. Неужели же надо напоминать
об этом тов. Покровскому? И неужели придется писать такие пародии на
его изображение исторического процесса: «римская церковь, умело
146
использовав почти физиологический страх смерти, подчинила себе
галлов, франков, саксов, готов и т. д. и стала лопатами загребать сокровища,
на которых вырос современный капитализм и современная наука». Да
ведь это в сущности и не пародия, а очень точное изложение («Груды
золота церковных ризниц — это овеществленный страх смерти миллионов
верующих»). Неужели же за полтораста лет с эпохи Вольтера
историческая наука не сдвинулась с места?
Материалистическое истолкование природы не оставляют боту
места в мире, историко-материалистическое истолкование человеческого
общества отводит боту определенное место в истории, раскрывая, как он
возник и как он погибает. Корни же религии тов. Покровского и его бота—
не в человеческой истории, а «почти в физиологии». Его бот за пределами
досягаемости для материалистического понимания природы и общества.
Его может ущемить только «окончательная победа науки над смертью».
В таком случае следовало бы быть последовательным до конца и
сказать, что марксизм, собственно, ни о кадкой стороны не 'касается этой
области, что она целиком относится к ведению медицинских факультетов
и что действительное поражение бога подготовляется в лабораториях,
разрешающих вопрос о победе науки над смертью. Марксистской армии,
историческому материализму здесь делать нечего. Они могут развернуть
только иллюзорную, а не действительную борьбу с религией.
Таково должно быть последнее слово историш-религиозной тео(рии
тов. Покровского1).
(«Страх смерти против исторического материализма» в жури. «Под знаменем
марксизма», 1922 г., № 11—i2).
1) Тов. Покровский ответил на возражения т. Степанова отдельной статьей.
Тов. Степанов в свою очередь не оставил без внимания новый ответ т.
Покровского, а последний после этого еще раз выступил в защиту своего взгляда. Мы не
приводим здесь отрывков из этих статей, считая, что приведенного материала -вполне
достаточно для выяснения офеих этих точек зрения на возникновение религии. —
Прим. ред.
10*
147
ОТДЕЛ ТРЕТИЙ
Из истории современных верований.
К. Каутский
ПРОИСХОЖДЕНИЕ ПЕРВОБЫТНОЙ БИБЛЕЙСКОЙ ИСТОРИИ
Всякая священная история проходит три стадии развития. В первой
стадии она без критики принимается в том виде, в каком она написана.
Во второй стадии сам рассказ еще не возбуждает недоверия, пытаются
только все чудесное в нем свести к естественным причинам, хотят
объяснить его. Первая стадия — вера, вторая — рационализм. Древние
народы не вышли из второй стадии, что доказывает толкование римских
и греческих исторических сказаний просвещенными умами эпохи
императоров. Они, напр., нисколько не сомневались в существовании Ромула и
Рема. Они даже не колеблясь, признавали, что оба основателя Рима
вскормлены волчицей. Но так как слово «волчица» (lupa) у римлян в
переносном смысле обозначает также публичную женщину, то они
совершенно просто объясняли первобытное предание тем, что Ромул и Рем были
вскормлены публичной женщиной.
Наше время тоже недалеко' ушло от периода рационализма.
Верующие и неверующие, теисты и атеисты еще в настоящее время
ограничиваются тем, что признают истиной рассказы библии и стараются только
объяснить все чудесное в них. Но все-таки начало уже сделано.
Библейские рассказы переходят в третью стадию развития — в стадию
исследования дошедших до нас рассказов, а потому ощущается потребность не
в их объяснении, но в исследовании, не в рационализме, а в критицизме.
К сожалению, библия, особенно ветхий завет, встречает в последнее
время необыкновенное, но легко объяснимое равнодушие светского мира.
Такое отношение несправедливо. Можно думать о библии что угодно,
но во всяком случае надо признать, что она до сих пор еще определяет
чувства и мысли громадной массы населения ib большей степени, чем
какая бы то ни 5ыло другая книга, так что даже в самом просвещенном
человеке все еще остаются следы внушенных ею воззрений и с этой-то
точки зрения она, действительно, заслуживает названия «книга книг».
Й именно для светской науки было бы в высшей степени необходимо
хоть раз заняться критикой библии. До сих пор ею исключительно
занимались протестантские теологи и мы, поскольку дело будет итти о
библии, в последующем изложении будем опираться на результаты исследо-
148
ваний протестантской теологии. Однако и это имеет свою хорошую
сторону. Всякое возражение со стороны набожных должно замолкнуть, если
не только неверующие, но сами служители бога до основания разрушили
веру в непогрешимость библии.
И, что еще важнее, круги, вообще занимающиеся критикой библии,
пришли уже к согласию относительно самого главного. Этим, конечно,
не сказано, что среди критиков библии господствует полное согласие.
Напротив, борьба различных направлений в этой области знания так же
ожесточенна, как и во всех других, и это вполне естественно. Человеку
ничего не дается без борьбы и за обладание истиной ему тоже
приходится бороться.
Одним из самых интересных спорных вопросов для критиков библии
является вопрос о возникновении первоначальной библейской истории,
т.-е. рассказов о сотворении мира, о рае, о потомках Адама, о потопе и
вавилонском столпотворении. Во всех отношениях интересно выяснить
положение этого вопроса и заключающегося там материала; не только
в высшей степени интересен сам по себе предмет, но исследование спорных
воррооов знакомит нас также с современным состоянием критики библии:
к тому же при исследовании мы воспользуемся внебиблейским
материалом, именно доисторическими сказаниями халдеев, на что прежде в
истории израиля не обращали достаточного внимания.
Рассмотрим сначала эти последние, тогда нам станет ясно, в чем
заключается суть этих спорных вопросов.
Доисторические сказания халдеев
Прежде всего мы должны выяснить, кто такие были халдеи?
Последние составляли господствующий класс в вавилонском государстве.
Первобытными жителями Халдеи были хамиты или кушиты, над
которыми господствовала туранская раса аккад. Самое название халдеев
появляется только в девятом столетий до р. X. у ассирийцев:
К счастью, первобытные предания этого народа сохранились для нас
в виде отрывков одного сочинения, написанного в III столетии до р. X.
одним халдейским священником, по имени Берозус — именно история
Вавилона в 3-х книгах, начиная от сотворения мира.
Вначале был мрак и вода, начинает Берозус, и в воде жили
старинные существа, над которыми царствовала женщина, по имени Оморка
(материя). И Белл разделил мрак и женщину на две части и одну часть
сделал землей, другую — небом, расставвл звезды, солнце и луну, отвел
воду и распределил по всей земле, и привел мир в порядок. Но
вышеупомянутые существа не могли переносить света и умирали. Тогда Белл
снял себе голову и повелел одному из богов смешать свою кровь с землей
и из этого образовать людей и животных.
Берозус рассказывает дальше, что после того, как люди научились
от рыбы-человека Оанесса искусствам и наукам, над Халдеей
господствовал ряд (10) царей.
Последнему из них, Ксисутросу, Белл сообщил, что он произведет
громадное наводнение. Вследствие этого Ксисутрос построил ковчег, взял
с собой пищу, питье и животных и поселился на нем со своими
родственниками, когда разразился потоп. Таким образом он спасся. Когда дождь
прекратился, Ксисутрос выпустил нескольких птиц, но они вернулись
обратно, так как не нашли места для отдыха. По истечении нескольких
дней он опять выпустил птиц, которые вернулись с грязью на ногах.
Но птицы, выпущенные в третий раз, не вернулись совсем. Тогда Ксису-
149
трос вышел из ковчега и увидел, что он стоит на горе. Он принес жертву
богу и был взят на небо за свое благочестие.
Все это сильно напоминает нам соответствующие рассказы библии.
У Берозуса мы также встречаем рассказ о вавилонском
столпотворении. Он рассказывает, что в то время, когда люди жили еще вместе
и говорили на одном языке, они хотелзи построить чрезвычайно высокую
башню с целью достигнуть неба. Но боги послали страшный вихрь,
который разрушил творение людей, и смешались их языки. Отсюда
происходит название Вавилон.
Сходство этих рассказов Берозуса с библейскими сразу бросается
в глаза, но, несмотря на это, не умели до сих пор объяснить этого
сходства: Берозус мот просто заимствовать эти рассказы из библии и
переработать их в языческие.
Но рассказы Берозуса получают неожиданно новое освещение,
благодаря древним халдейским клинообразным надписям. В этом отношении
важны надписи, найденные в Ниневии Генрихом Ляйардогм и изданные
Смитом. Они содержат отрывки из древеего эпоса. В одном из них
описывается сотворение мира в семь дней. Сначала из хаоса были
созданы боги, потом последовали различные творческие акты в той же
последовательности, как в библии, однако, с той разницей, что каждый
из них приписан отдельному богу. Этот рассказ представляет собой, пови-
димому, ассирийскую версию истории сотворения, так как .каждая из
больших халдейско-ассирийских церковных школ имела свое собственное
изложение предания.
Другой из этих отрывков дает нам описание потопа. Последнее
составляет собой одиннадцатую песню большой этической поэмы города
Урук, которая написана по меньшей мере 3.500 лет назад, но, кажется,
списана с более старого оригинала. Это описание потопа гораздо ближе
к библейскому рассказу, чем рассказ Берозуса, и отличается от обоих
своей большой живостью и наглядностью.
Для примера приведем здесь одно место, в котором описывается
гроза, сопровождавшая потоп: «На утро поднялась яростная буря, дадеко
простираясь на горизонте неба. Бог Бин гремел посреди неба, и небо и
Сарн выступили против нас. Духи_ разрушения носились над горами
и долинами. Разрушитель Пергал поражал; Адар подвигался вперед и
опускался на землю. Духи несли разрушение и, сверкая, пролетели над
землей. Наводнение Бина простиралось до самого неба. Блестящая земля
превратилась в пустыню; потоп очистил поверхность земли ... (пропуск),
он устранил всю жизнь с лица земли... жестокая буря над народом
распространилась даже на небо. Брат не видел брата; !буря не пощадила
народа. На небе ее боялись боги и искали убежища; они поднялись на
самое высокое небо и съежились, как собаки, поджимающие свои хвосты».
Едва ли можно изобразить более выразительно ярость бури.
Раскопки в области древнего Вавилона и Ниневии дают еще другиег
правда, незначительные сведения, относящиеся к первобытной истории,
иногда обнаруживающие сходство с библией в еще большей степени, чем
рассказы Берозуса.
Менее достоверно также, было ли известно вавилонянам предание
о грехопадении человека. Во всяком случае, была найдена печать с
изображением, которое многие считают изображением грехопадения. Там
изображены два лица, которые сидят перед деревом жизни, на котором
висят плоды: оба они протягивают к дереву руки; позади левой фигуры
поднимается большая змея. Этому не соответствует только то, что обе
150
фигуры сидят на стульях и одеты, а у одной из них на голове два
рота. В противоположность Ленорману, Дилльман из этого заключает,
что две фигуры изображают богов. Во всяком случае этот вопрос
нерешенный.
С своей стороны Дилльман нашел рай у ассирийцев и вавилонян
в виде горы богов. По его мнению, у иудеев должно было первоначально
существовать представление о рае как горе, полной божественных сокровищ,
охраняемой херувимами (сравни Иезекииль, гл. XXVIII, ст. 13—16).
У вавилонян и ассирийцев мы тоже находим древо жизни и
херувимов. В Ниневии были выкопаны колоссальные статуи, изображающие
крылатых быков или львов с мужскими головами. В британском музее
есть несколько таких статуй и нельзя не обратить внимания на эти
строгие величавые фигуры. Ассирийцы ставили, обыкновенно, таких колоссов
в качестве сторожей у ворот городов и дворцов. Такой колосс называется
у ассирийцев херувимом. Таким образом, мы теперь знаем, © каком виде
люди представляли себе сторожей рая.
Благодаря всем этим открытиям, рассказы Берозуеа впервые
получили правильное освещение. В настоящее время признано и установлено
всеми, занимающимися этим предметом, то, что целый ряд первобытных
преданий вавилонян представляет поразительное сходство с
соответствующими рассказами библии, — сходство, которое нельзя признать
случайным явлением:.
Но, с другой стороны, также установлено, что эти предания являются
очень древним достоянием вавилонян, так что они не могли
заимствовать их у евреев.
В этих пределах господствует согласие. Но откуда это сходство?
Это является очень спорным вопросом. Один утверждают, что
относящиеся сюда предания были общим достоянием евреев и вавилонян, когда
последние вместе с евреями заселяли свою начальную родину. И те и
другие развили их независимо друг от друга. Согласно второму взгляду,
евреи переняли эти предания от вавилонян, притом уже в позднейшее
время, может быть, во время вавилонского пленения.
Если второй взгляд правилен, то большая часть библейской
первоначальной истории оказывается чисто языческим продуктом, ц вместе
с этим исчезает последнее основание употреблять библию тгттог тт^тжовных
целей. Первый взгляд, напротив, все еще оставляет какой-то туман в
истории возникновения первоначальных библейских преданий, и, таким
образом, все еще оставляет для верующих в божественное откровение
укромный уголок, в котором он может удержаться после того, как уже
вытеснен из библии со всех остальных позиций.
К первому взгляду склоняются, конечно, все ортодоксальные
теологи, насколько они вообще занимаются критикой библии; этим, конечно,
не оказано, что некоторые свободомыслящие люди не придерживаются
этого взгляда.
Второй взгляд, наоборот, могут признавать только люди, которые
хотя бы даже и назывались теологами, фактически совершенно порвали
с основными принципами церковной веры.
Таким образом, спорный вопрос не является простым вопросом
той или другой теологической школы: он представляет интерес и для
светского мира. Но за или против вышеуказанных положений может
высказаться и судить только тот, кто знаком с историей библейской
историография.
Поэтому мы должны сделать маленькое отступление в эту область.
151
Библейская историография
В начале нашей статьи мы сказали, что девизом современной науки
является не «объяснение», но «критика» как библейских, так и вюех
других исторических рассказов и, прежде всего, критика их источников.
Принцип всякой исторической критики источников заключается
в том, чтобы восстановить первоначальный буквальный текст этого
источника.
Ни одна историческая книга древности не дошла до нас в
неизмененном, первоначальном виде; все они прошли через руки переписчиков
и иногда, поистине, невежественных. Неудивительно, что туда вкрались
многочисленные ошибки и описки, очень затрудняющие исследования,
а иногда совершенно извращающие смысл. Устранить эти ошибки,
восстановить неподдельный первоначальный текст всякой древней
исторической книги, является первой и относительно самой легкой задачей
критики источников. Это дело, главным образом, филологии.
Библейская критика тоже начинает с попытки восстановить настоя-,
щий первоначальный текст, свободный от затрудняющих исследование
примесей позднейших столетий. Эта критика оставляет все еще не нару-
шимым характер библии как священного писания, хотя она вместе с тем
доказала, что некоторые очень важные для церкви места основаны только
на ошибках или,, что еще хуже, на преднамеренном изменении
первоначального текста.
Но историческая книга делает еще один шаг дальше: после того
как она установит, как было написано историческое сочинение, она
исследует, при каких обстоятельствах оно появилось, при каких условиях
жил составитель, к какой партии, к какому сословию он принадлежал
и какую цель преследовал при составлении своего сочинения.
В настоящее время перед историком стоит задача не только понять
историю из сочинения прежних историков, но научиться понимать
историков из истории их времен. Кто оставляет в тени эту часть критики
источников, тот не заслуживает названия современного историка.
Такая критика имеет значение для исторических писателей всех
времен: для писателей фрунцузкой революции, как и для историков
времен Клеона и Каталины. Аристократический писатель будет
рассказывать о французской революции 1789 г. совершенно иначе, чем
демократический, даже если бы оба относились к делу вполне добросовестно.
Но по отношению к древним писателям необходима двойная
осторожность, так как им' был совершенно чужд тот взгляд, что литературный
обман является чем-то нечестным.
С величайшей наивностью и откровенностью они прилаживают
факты так, как это им удобнее; им ничего не.стоило выдумать .новое,
когда нужно было разрешить противоречие или объяснить непонятное
и т. д. Историография древних, поскольку она не являлась хроникой или
мемуарами, преследовала прежде всего педагогическую цель. Писали для
назидания и примера. Это относится как к Геродоту и к Ливию, так
и к библии. Здесь, как и там, поэтому необходимым и неизбежным
предварительным условием понимания является ответ на вопрос: каких
взглядов придерживался составитель истории, и чьи он интересы
защищал?
Но по отношению к библейской истории на этот вопрос ответить
не особенно легко, ввиду одной особенности древней иудейской
историографии или, лучше сказать, вообще всей древней иудейской литературы.
152
Bi я она анонимна. Нам неизвестен составитель ни одного из дошедших
до нас сочинений. Впооледствии, конечно, различные ив этих сочинений
были приписаны известным авторам; думали, напр., что так называемые
«пять книг Моисея» составлены, действительно, Моисеем11). Поэтому
самая важная задача библейской исторической критики состояла в том,
чтобы прежде всего исследовать, каким составителям принадлежат
различные части библейской истории.
Эта задача в главных пунктах уже разрешена в настоящее времяъ
и если мы не знаем имен составителей, то мы знаем время, когда они жили,
положение, какое они занимали, и цели, к которым они стремились.
Слишком далеко нас отвлекла 'бы задача проследить это для всею
ветхого завета. Мы хотим только привести результаты этих исследований,
поскольку они относятся к первоначальной библейской истории.
Теперь уже установлено и всеми признано, что не все эти рассказы
принадлежат одному составителю.
Пятикнижие представляет в сущности два рассказа,
переработанные позднейшим составителем в одно целое с прибавлением вставок. Один
из них, в свою очередь, составлен из соединения, двух других. Самый
древний из этих трех рассказов относится к IX столетию до р. X.
Составителя его, обыкновенно, называют иеговистом, так как он
последовательно употребляет имя Иеговы в качестве бога. Его рассказ был соединен
с более ранним рассказом, так называемого, младшего элотиста
(прозванного так потому, что, по его мнению, первоначально бога почитали под
именем Элогима, и только благодаря Моисею стало известным имя Иеговы)
в одно общее сочинение писателем, жившим приблизительно в конце
VII столетия. Вероятно, он написал его только после 621 г. до р. X. Велль-
гаузен называет его иеговистом.
Сохранилась только эта переработка: два рассказа, на которых она
основана, потеряны. Таков один источник первоначальной библейской
истории.
Другим источником является, так называемое, основное сочинение
или священнозаконие. Его считали до сих пор самым старым из
библейских сочинений, но как доказывает глубокое и добросовестное
исследование Велльгаузена, оно было переработано во время вавилонского
пленения одним жившим в плену иудеем, принадлежавшим к духовной касте,
который, конечно, приспособил всю историю для своих нужд. Оба эти
сочинения, иеговвдта и священнозаконие, в свою очередь, 'были
переработаны в одно целое, дошедшее до нас под названием пяти книг Моисея,
одним редактором, священнослужителем, повидимому, вскоре после
конца исхода, в V столетии. Здесь, конечно, не обошлось без
многочисленных и разнообразных помарок и приписок. Но несмотря на все
это — и как раз к нашему счастью — переработка была так плоха и
бездарна, что обе части могут быть еще очень хорошо узнаны.
Достаточно нескольких указаний, чтобы это сделалось ясным даже
для неспециалистов.
Начало первой книги Моисея (так называемого генезиса) ведет
происхождение от составителя священнозакония, именно, овся I и II гл.
до 4 стиха, и содержит рассказ о том. как бог своим словом создал из
хаоса (а не из ничего) мир в течение б дней под ряд. Весь рассказ носит
*) В настоящее время ясно не только то, что пятикнижие не написано ни Мои-
*еем, ни «в его (время, но и то, что Моисей является не исторической, а мифической,
сказочной личностью, подобно Ииоусу хриоту, Будде и т. и. —Прим. ред.
158
характер размышления, в нем нет ничего самобытного, да и весь план
рассказа неестествен. Трем дням сотворения приписано 4 дела; третьему
и шестому-—два; каждому из остальных только одно. Искусственно
также то, что* дело четвертого дня соответствует первому, дело 5 дня —
вторым и б дня — 3-му.
В первый день бог создал свет, на четвертый — светила: солнце,
луну и звезды. На второй день бог разделил воду твердью и отделил
воду под твердью от воды над твердью, последнюю бог назвал небом
(небесная твердь, согласно этому взгляду, является почвой надземного
моря). Соответственно этому отделению неба и воды, на пятый день
созданы водные животные и птицы. На третатй день бот приказывает земле
выступить из воды — бог ж создает ни земли, "ни воды; и та и другая,
по этому рассказу, были уже с начала сотворения мира, но не были еще
разделены. Из земли он приказывает произрасти зелени, травам и
плодовым деревьям — еще до сотворения солнца, луны и звезд. Соответственно
этому, на шестой день, по приказанию бога из земли вырастают земные
животные, и он создает человека.
Этот параллелизм слишком искусственен, чтобы не обратить на себя
внимания. Еще Гердер указал на это в 1774 г. в своей книге о «Самом
древнем первоначальном рассказе о человеческом роде» (т. I, стр. 108).
Рассказ священнозакония кончается благословением седьмого дня.
в который "бог почил.
Редактор 5 кн. Моисея присоединил к этому рассказу другой,
передающий происхождение мира совсем иначе. Рассказ начинается так:
«В день, когда Иегова произвел небо и землю, не было еще никаких
нолевых кустарников на земле, ни какой-либо травы, ибо Иегова не
посылал дождя на землю и не было человека для возделывания почвы».
Здесь небо и земля произведены в один день, а не созданы.
Там еще не было никакой травы! Что бог уже на третий день
повелел ей произрасти, это вовсе не затрудняет редактора.
Туман покрывает землю и тут Иегова произвел человека и вдунул
ему в нос дыхание жизни. Тот же Иегова насадил на земле сад и
поселил там человека. Но человек, соскучился, и бог заключил, что ему
нужно дать помощника, и сотворил из земли животных, чтобы
порадовать человека. Но бог оказался несчастливым в стремлении доставить
человеку общество.
«Звери—живые свидетели его неудачного опыта», говорит проф.
теологии Велльгаузен, ибо в библии оказано: «Для человека не нашлось
помощника, подобного ему». Тогда Иегова создал женщину и увидел, что
человек остался доволен такой помощью. Как только человек увидел ее,
он радостно воскликнул: «Это есть именно (согласно переводу Шрадера)
кость от кости моей, плоть от плоти моей!»
Как отличается этот рассказ от первого!
Согласно первому рассказу, животные были созданы раньше
людей, по второму — после человека, чтобы порадовать его. В священно-
законии бот создал одновременно мужчину и женщину: «Мужчиной и
женщиной сотворил их» (I гл., ст. 27). У иеговиста сначала был создан
мужчина, а потом уже, после различных опытов, женщина».
Но не только по содержанию, но и по характеру оба рассказа
совершенно различны. В свяшеннозаконии бог изображен уж очень
метафизически, личности его нигде не выступает, он — дух, одного слова
достаточно, чтобы появилось все, что он захочет. Тем самобытнее, и наивнее
выступает перед нами бог в рассказе иеговизста. Здесь 'бог — действующее
154
лицо. Он сам принимается возделывать сад, а также сам производит
мужчину, а потом животных и женщину. Весь рассказ о грехопадении,
о Каине и Авеле принадлежит иеговисту. Везде бог выступает как
личность. Он прогуливается по саду в прохладе вечера и только после долгих
расспросов приходит к мысли, что Адам и Ева съели плоды с дерева
познания, он сам также делает им одежду и т. д. Иегова произносит даже
угрозы, которые потом не исполняет. Он угрожает человеку: «В день,
когда ты вкусишь с дерева познания, ты умрешь», но Адам не умирает
после того, как он вкусил запрещенный плод, а продолжает жить еще
несколько столетий. Угрозу нельзя понимать в том смысле, будто смерть
появилась на свет благодаря грехопадению Адама. Человек не создан
бессмертным. Когда человек вкусил от дерева познания, то Иегова,
выразительно сказал: «Смотри, человек стал, как один из нас, так что он
знает полезное и вредное, и теперь как бы он не простер руки своей и не
взял также от дерева жизни и не стал жить вечно».
Из этого места вытекает еще один очень важный факт. Иегова
изгнав людей из рая не в наказание, но из страха перед ними. Благодаря
познанию, человек сам почти стал равным богу, ему только
недоставало еще бессмертия. Чтобы он не достиг еще и этого, он был изгнан
из рая.
Познание «добра» и «зла» надо представлять себе «не в моральном.
а в физическом смысле. Перевод «вредно и полезно» гораздо лучше
передает первоначальный смысл, чем выражение «добро и зло». Рассказ о
грехопадении тоже не шапне соответствует первоначальному пониманию.
Весь рассказ наивен, несложен, безыскусствен и вполне
соответствует по своему характеру преданиям других народов. Совсем другое
представляет рассказ священнозакония, обдуманная, искусно
составленная гипотеза происхождендя мира.
Всякий, кто хоть раз обратил внимание на эти рассказы, не может
отрицать их различия, и так как протестантские теологи доказали это
различие и проследили его на протяжении всех пяти книг Моисея, так
как в кругах, занимающихся библейской критикой, благочестивы они
или нет, это различие общепризнано, то не мешало бы открыть глаза на
это и наиболее верующим.
Откуда произошли библейские рассек азы о
первобытной истории.
Результат нашего предыдущего исследования основан на том, что
мы подробнее рассматриваем самый вопрос. Он должен быть, поставлен
так: каково, во-первых, происхождение рассказа «иеговиста» и рассказа
священнозакония, во-вторых.
Рассмотрим теперь по порядку отдельные рассказы.
Библия дает нам два рассказа о сотворении мира — более древний
и более поздний, из них один противоречит другому, и оба не могут быть
продуктом одного и того же религиозного мировоззрения. Если мы, кроме
этого, примем во внимание, что более древний рассказ гораздо наивнее
Оолее позднего, составленного по намеченному плану; далее, что более
поздний рассказ возник сначала в Вавилонии, в то время как более
древний, противоречащий первому, был известен в Израиле еще задолго до
завоевания Иерусалима Навуходоносором (586); если, наконец, мы
примем во .внимание, что история сотворения мира в священнозаконии
представляет поразительное сходство с вавилонской историей, то мы должны
притти к заключению, что рассказ, находящийся в начале ветхого завета,
155
является не чем иным, как иудейской обработкой халдейской гипотезы
о возникновении мира.
Ни в каком случае не может быть здесь речи об общем
первоначальном предании.
Но как обстоит дело с рассказом иеговиста? Последний совершенно
свободен от вавилонских особенностей. Мы, правда, находим там
ассирийских херувимов, но последние не относятся к существу предания и легко
могли быть привнесены извне. Иудеи же в X столетии находились в
разнообразных сношениях с ассирийцами. Очень сомнительно, было ли у
вавилонян предание о грехопадении, так же как и то, имеет ли какую-либо
связь их гора богов с раем израильтян. О Каине и Авеле (рассказ, при
надлежащий иеговисту) вавилоняне ничего не знали. Поэтому было бы
слишком поспешным признавать родство рассказа иеговиста о
первоначальной истории с рассказом вавилонян, основываясь только на столь
шатких указаниях.
Конечно, ответить на вопрос, откуда произошли эти рассказы о
сотворении мира, мы не в состоянии. Мы не можем сказать, являются ли
они первоначальным достоянием евреев или другого народа. Мы хотим
только обратить внимание па то обстоятельство, которое "до отх пор,
насколько мы знаем, не было замечено: вавилонская история1 сотворения
мира имеет происхождение от народа, который жил у -моря, и постоянно
имел дело с водой. Евфрат ежегодно затоплял берета, подобно Нилу.
Поэтому в рассказе вавилонян вначале была вода. В рассказе иеговиста
о сотворении мира вначале, наоборот, господствует засуха, так как
Иегова не дает дождя. Такое представление могло возникнуть только
у народа, заселявшего пустыню.
Но откуда бы ни происходили у иеговиста представления о
сотворении мира, нет никаких оснований признавать, что у евреев и халдеев
было общее первоначальное предание.
О потомках Адама мы можем вкратце сказать следующее: по
иеговисту в 4 главе I книги Моисея мы находим 7 поколений от Адама
(исключительно) до Ноя. Наоборот, в священнозаконии, именно в V главе,
о Каине и Авеле совершенно не упоминается, сыном Адама является Сиф
и в измененном порядке со многими вставками насчитывается, включая
Адама, 10 поколений до Ноя.
Кроме того, иеговист не называет никаких чисел, а священнозаконие
очень точно высчитывает продолжительность жизни каждого из
Адамитов. Еще Эвальд обратил внимание на искусственность этих чисел. Он
указал на то, что эти числа по сравнению с позднейшим соответствуют
взгляду, что здесь представлепы четыре века с максимальной
продолжительностью жизни по 1000, 500, 250 и 125 лет. До Ноя, второго
родоначальника человечества, была первая максимальная
продолжительность жизни.
От Сима, родоначальника семитов, до Евера, героя еврейского эпоса,
максимальная продолжительность жизни достигает 500 лет; от Евера до
Израиля (Якова), родоначальника израильтян — 250 лет. О этого
времени она достигает только 125 лет. Лучше, кажется, нельзя играть
с числами.
Иудеи перед исходом были совсем чужды такой игре с числами. Они
познакомились с ней'в Вавилоне у халдеев, народа математиков и
астрономов. В известиях Берозуса, как и в священнозаконии, мы тоже
находим 10 поколений от сотворения мира до потопа, только здесь они
представлены в виде Ю царей. Берозус мог даже точно передаяъ нам годы
Г56
этих царствований. Только халдеи дэли своей фантазии свободный полег.
У них насчитывается по 10 тысяч лет правления на каждого царя до
потопа. После потопа следуют два царя, правления которых
продолжаются по 1.000 лет, после этого 84 царя по нескольку сот лет правления,
пока, наконец, не устанавливается обыкновенная продолжительность
жизни.
Если мы примем все это во внимание, то нам не останется ничего
другого, как только подтвердить здесь наш первоначальный взгляд на
историю сотворения мира: священнозаконие и иеговист стоят по
отношению друг к другу в неразрешимом противоречии. Священнозаконие про*
являем и здесь недостаток первобытной наивности, расчет и
искусственность во всем, что носит халдейский характер. Поэтому мы и здесь должны
притти к убеждению, что сходство священнозакония с вавилонскими
сказаниями основывается не на первоначальной их общности^ а на иудейской
переработке вавилонского материала. Теперь мы перейдем к потопу. Здесь
у нас является неожиданное затруднение. Именно, мы находим рассказ
о великом потопе у обоих составителей. Оба рассказа соединены
редактором в оддн и притом так же неловко, как мы уже часто у него замечали.
Мы хотим немного охарактеризовать оба рассказа. Рассказ иеговиста
начинается с VI главы 5 стиха: «И увидел Иегова, что велики пороки людей
на земле, и все помыслы и чувства их сердца все время оставались суетно-
порочны. И раскаялся Иегова, что создал человека на земле, и вос-
скорбел в сердце своем, и сказал Иегова: «Истреблю с лица земли людей,
которых я сотворил, от человека до скотов и гадов, и птиц небесных, ибо
я раскаялся, что создал их». Ной же «обрел благодать перед очами
Иеговы».
Здесь редактор присоединяет начало рассказа священнозакония.
Вот житье Ноя: «Вой был человек праведный и непорочный среди своих
современников. Ной жил в согласии с богом; и родились у Ноя три
сына — Сим, Хам и Иафет. Но земля растлилась перед лицом бога, и
наполнилась земля злодеями. И воззрел бог на землю и увидел, что она
растлена, ибо всякая плоть извратила свой путь на земле. И сказал бог
Ною: «пришел конец всякой плоти», и т. д. Уже из этого отрывка можно
заметить полное различие в характере обоих рассказов. Как наивно еще
передает его иеговист!
Бог у него не что иное, как высший человек, он испытывает
раскаяние и сострадание: в своем гневе он порешил уничтожить всех людей, но,
наконец, умилостивился над Ноем. Совсем иначе изображает нам бога
составитель священнозакония. Последний имеет уже за собой
философскую школу и осторожно избегает всего, что может указать на слабость
божественного духа. У него бог не раскаивается, что создал людей. Он
яе решается сразу уничтожить всех людей без исключения. Сначала он
обращается к Ною.
В другом отношении в этих рассказах имеются очень большие
противоречия. Иеговист дает обыкновенные числа: священные 7 и 40. На
7-й денй наступил потоп и продолжался 40 дней. Более точного
определения времени нет. Напротив, священнозаконие знает очень точно, что
потоп начался в 600-й год Ноя, на 17-й день второго месяца, за 14 дней
до того, когда солнце взошло в знак Козерога — соответствено
халдейской гипотезе, что большие наводнения бывают тогда, когда солнце, луна
и 5 планет войдут в знак Козерога (халдеям был уже известен зодиак).
Сто пятьдесят дней продолжался, согласно священнозаконию,
потоп, потом вода спала и на 17-й день 7-го месяца ковчег остановился на
157
горе Арарат в Армении, согласно клинообразным надписям в стране
Низир, т.-е. также в Армении. Иеговист об этом ничего не -знает. На
7-й день 10-го месяца показались, по словам священнозакония, верхушки
гор, т.-е. во время летнего поворота солнца, когда, обыкновенно, опадают
воды Евфрата и Тигра, наводняющие страну. Какое соответствие с
природой и вавилонским календарем!
У нас нехватило бы места, если бы мы захотели еще дальше
проследить вавилонский характер рассказа о потопе, описанном священнозако-
нием. Довольно и того, что халдейское влияние при составлении этого
рассказа становится вне всяких сомнений.
Но, тем не менее, остается тот факт, что описание потопа находится
также у иеговиста, хотя и в более наивном первоначальном виде. Не
наталкиваемся ли мы, наконец, на давно ожидаемое первоначальное
семитское предание?
Мы думаем, что и этот вопрос можно осветить с помощью открытия
Ленормана, которое, по нашему мнению, до сих пор недостаточно
оценено: именно, что предание о потопе, которое мы находим у вавилонян,
не является первоначальным достоянием халдеев, а исходит от
кушитского первобытного народа, заселявшего долину Евфрата до переселения
аккадийцев, и что кушиты были после этого покорены халдеями, которые
от этого относительно высокообразованного народа переняли предание
о потопе.
Если это действительно так, а у нас есть все основания принять
эту гипотезу, то здесь мы имеем общее 'всем семитам первоначальное
предание, выражением которого должна служить библия.
Но гипотеза Ленормана объясняет нам, почему, несмотря на это,
предание о потопе имеется у иудеев, как у хаддеев. Кушиты
занимали первоначально широкую область от Нильской долины до
Индостана от южных берегов Аравии до Персии. В Индии были покорены
вторгшимися арийцами и низведены к касте Сура. Арийцы так же, как
и халдеи, приобрели от них знания и, между прочим, переняли и
предание о потопе.
В Ханаане тоже жили кушиты. Сначала они были покорены
вторгшимися ханаанцами, пока последние, в свою очередь, не подпали под
власть израильтян во время их переселения. Если халдеи и арийцы
переняли у кушитов предание о потопе, почему бы и израильтяне не могли
этого сделать?
Если это так — правда, в настоящее время нельзя или, может быть,
пока еще нельзя доказать этого, — то в рассказе о великом потопе мы
имеем, во всяком случае, общее первобытное сказание, но не семитов,
а кушитов — которое было отдельно переработано халдеями и Израиль
тянами, пока их не соединил воедино некий вавилонский иудей.
Во всяком случае, кушитское происхождение предания о потопе
остается покуда гипотезой, но она из всех до сих пор придуманных
гипотез проще и естественнее всего объясняет факты, и убедительных
доказательств против нее до сих пор еще не было представлено.
Поэтому и здесь мы можем отвергнуть представление о библейском
предании общем с семитами.
Мы подошли к рассказу о вавилонском столпотворении. Но
последний не нуждается в каком-либо особенном исследовании. Он, бесспорно,
является чисто вавилонским местным преданием; кроме того, его нет ни
у еговиста, ни в священнозаконии, но он был 'впервые включен
редактором: V столетия. Поэтому не подлежит сомнению, что этот рассказ
158
происходит от вавилонян. Вместе с этим наше исследование подошло
к концу.
Вели мы вкратце формулируем результаты его, то найдем:
1) Что так называемые «пять книг Моисея» не являются одним
общим сочинением, составленным Моисеем, но композицией,
сфабрикованной в V столетии из разных книг, из которых для истории сотворения
мира были взяты две* книга иеговиста, написанная в Иудее и
принадлежащая к концу VII столетия, и книга священнозакония, составленная
одним священнослужителем в VI столетии.
2) Что часть, принадлежащая иеговисту, — наивна и самобытна.
В ней Иегова имеет чисто человеческие черты — ненависть, гнев, страх,
раскаяние ... Иегова создает не своим словом, но трудом своих рук: в ней
нет никакого следа комбинаций над числами, чисел года, месяца и даже
дня. Совсем другую картину представляет священнозаконие, сочинение
иудея по тогдашним понятиям ученого, метафизически образованного,
ознакомленного с халдейской мудростью, который соответственно этому
в большей степени одухотворяет бога, старается освободить его от
недостатков, но с другой стороны — любит оперировать с числами, очень
хорошо умеет обходиться с ясалендарем и, в сущности, дает только
изложение халдейского учения, приспособленного к нуждам иудейской
священнической касты.
Халдейским является изложение сотворения мира из хаоса в
течение семи дней, халдейские—10 родоначальников,
халдейско-кушитского происхождения — потом, халдейское — вавилонское
столпотворение.
Специально иудейского материала поэтому очень мало в первых
двух главах генезиса, и это малое перемешано с чуждыми элементами.
Но даже это специальное иудейское показывает нам религиозное
воззрение, очень мало согласующееся, если так можно выразиться с
иудейской церковью.
Зато те места,, в которых проскальзывает одухотворенное
метафизическое понимание бога, возникли под языческим влиянием, именно под
влиянием халдейской мудрости.
Habent sua fata libelli (книги имеют свою судьбу): епископ Бвсевий
из Кесарии (жил от 270 до 340 по р. X.) один из самых ученых отцов
церкви, воспользовался отрывками Берозуса, чтобы свидетельством
восточных языческих преданий подкрепить значение библии.
Странная ирония судьбы хочет, чтобы те же отрывки, которые уже
со времени эпохи возрождения обратили на себя внимание ученых, стали
исходным пунктом для исследований, менее всего внушающих уважение
к библии. И разве не ирония судьбы, что результаты этих
исследований до оих пор не были известны, кроме как в кругу протестантских
теологов, и что выдающиеся писатели всемирной истории так же, как
египтологи и ассириологи, не имеют о них в настоящее время никакого
понятия?
Наконец, пришло уже время, когда светская наука должна
обратиться к критике библии. До сих пор она довольствовалась тем, что
верила или сомневалась.
Но и в этой области можно знать.
(Написано в 1883 году).
159
Штоде
СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ БИБЛЕЙСКОГО СКАЗАНИЯ О ПОТОПЕ
Вот библейская легенда о потопе, разложенная на два различных
первоначально самостоятельных рассказа (иеговиста и элогиста).
Бытие, гл. VI, ст. 13. И оказал Элогим Ною: конец всякой плоти
пришел предо мною, потому что наполнилась земля злодеяниями от них;
и вот я -истреблю их от земли. (14) Сделай себе ковчег из дерева гофер;
отделения оделай в,ковчеге и осмоли его смолою внутри и снаружи, (15)
И сделай его так: длина ковчега триста локтей, ширина его пятьдесят
локтей, а высота его тридцать локтей. (16) И сделай отверстие в ковчеге,
и «в локоть сведи его кверху; и дверь в ковчеге сделай сбоку его; нижнее,
второе и третье жилье устрой в нем. (17) И вот я наведу потоп водный на
землю, чтобы истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни, под
небесами; все, что на земле, лишится плоти* (18) И поставлю я завет мой
с тобою: и войдешь в ковчег ты и сыновья твои, и жена твоя, и жены
сынов твоих с тобою. (19) Из всех животных, от всякой плоти по паре,
введи в ковчег, чтоб они остались с тобою в живых; мужского пола и
женского — они пусть будут. (20) Из птиц по роду их, и из скотов по роду
их, из всех пресмыкающихся по земле по роду их, из всех по паре войдут
к тебе, чтобы остались в живых. (21) А ты возьми себе всякой пищи,
какой питаются, и собери к себе, и будет она для тебя и для них пищею.
(22) И сделал Ной вое, что повелел ему Элогим, так и сделал. Глава УН,
ст. (1) И сказал Ягве Ною: войди ты и все семейство твое в ковчег, потому
что тебя увидел я праведным предо мною в этом роде. (2) И всякого скота
чистого возьми себе по семи, а из скота нечистого — по два. (3) Также из
птиц небесных по семи мужского пола и женского, чтобы сохранить семя
по всей земле; (4) потому что через семь дней я стану изливать дождь на
землю сорок дней и сорок ночей и истреблю все существующее, что я
создал, с лица земли. (5) Ной сделал все, что Ягве повелел ему. (в) Ной же
был шестисот лет, когда потоп водный пришел на землю. (7) И вошел Ной
и сыновья его, и жена его, и жены сынов его с ним в ковчег от воб потопа.
(8) И из скотов чистых, и из скотов нечистых, и из птиц, и из всех пре^,
смыкающихся на земле (9) по паре мужского пола и женского,—вошли
к Ною в ковчег, как Элогим повелел Ною. (10) Спустя семь дней воды
потопа пришли иа землю. (11) В шестисотом году жизни Ноевой, во
втором месяце, в семнадцатый день месяца, в этот день разверзлись все
источники великой бездны, и окна небесные отворились (12) и был дождь на
земле сорок дней и сорок ночей. (13) В этот самый день вошли в ковчег
Ной и Сим, Хам и Иафет, сыновья Ноевы, и жена Ноева, и три жены
сынов его с ними; (14) они, и все звери по роду его, и всякий скот по роду
его, и все гады, пресмыкающиеся по земле по роду их, и все летающие
по роду их, все птицы, вое крылатые. (15) И вошел к Ною в ковчег по
паре от всякой плоти, в которой есть дух жизни. (16) И вошедшие
мужской и женский пол всякой плоти вошли, как повелел ему Элогим. И
затворил Ягве за ним ковчег г). (17) И было наводнение сорок дней на земле,
и умножилась вода и подняла ковчег, и он возвысился над землею*
(18) И усиливалась вода и весьма умножалась на земле, и плавал ковчег
на поверхности вод. (19) И ©ода усилилась чрезвычайно на земле, так что
покрылись все высокие горы, какие есть под всем небом. (20) На пят-
г) Яоно. что эти слова сначала находились после 10-го стиха. — Прим. авт.
160
наддать локтей поднялась над ними вода, и покрылись горы. (21) И
лишилась жизни всякая плоть, движущаяся по земле: и птицы, и скоты,
и звери, и все гады, ползающие по земле и все люди. (22) Все, что имело
дыхание духа жизни в ноздрях своих, все, что на суше, умерло. (23)
И истребилось всякое существо, которое было на поверхности земли, от
человека до скота и гадов, и птиц небесных, истребились они с земли,
остался только Ной и что с ним в ковчеге. (24) И усилилась вода на
земле сто пятьдесят дней. Гл. VIII, ст. (1) И вспомнил Элогим о Ное, в
о всех зверях, и о всех скотах, бывших с ним в ковчеге; и навел Элогим
ветер на землю, и воды остановились. (2) И закрылись источники бездны
и окна небесные, и перестал дождь с неба. (3) И возвращалась вода
с земли постепенно, и -стала убывать вода по прошествии ста пятидесяти
дней. (4) И остановился ковчег в седьмом месяце в семнадцатый день
месяца на горах Араратских. (5) И вода постоянно убывала до десятого
месяца; в первый день десятого месяца показались верхи гор. (6) И было
по прошествии сорока дней Ной открыл сделанное им окно ковчега.
(7) И выпустил ворона, и он, вылетев, отлетал и прилетал, пока
осушилась земля от воды. (8) Выпустил от себя голубя, чтобы видеть9
убыла ли вода с лица земли. (9) Но голубь не нашел места покоя для
ног своих и возвратился к нему в ковчег, потому что вода была еще па
поверхности всей земли; и он простер руку свою, и взял его, и принял
его к себе в ковчег. (10) И подождал еще семь дней других, и опять
выпустил голубя из ковчега. (11) И возвратился к нему голубь в вечернее
время, и вот сорванный масличный лист во рту у него, и узнал Ной, что
вода убыла с земли. (12) И подождал еще семь дней других, и выпустил
голубя, и он уже больше не возвращался к нему. (13) И было шестьсот
первого года жизни Ноевой, в первый день второго месяца иссякла вода
на земле; и открыл Ной кровлю ковчега, и посмотрел, и вот обсохла
поверхность земли. (14) И во втором месяце, двадцать седьмой день месяца
высохла 'земля. (15) И сказал Элогим Ною, говоря: (16) выйди из ковчега
ты и жена твоя, и сыновья твои, и жены сынов твоих с тобою (17) Всех
животных, которые с тобой, от всякой плоти: из птиц, и скотов, и всех
гадов, пресмыкающихся по земле, выведи с собою; пусть разойдутся они
по земле, и пусть плодятся и размножаются на земле. (18) И вышел Ной,
и сыновья его, и жена его, и жены сынов его с ним. (19) Все звери, все
гады и все птицы, все движущиеся по земле, по родам своим вышли из
ковчега. (20) И построил Ной жертвенник Ягве; и взял из всякого скота
чистого и из всех птиц чистых и принес во всесожжение на
жертвеннике. (20) И обонял Ягве приятное благоухание, и сказал Ягве в сердце
своем: не буду больше проклинать земли за человека, потому что
помышления сердца человеческого — зло от юности его; и не буду больше
поражать все живущее, как я сделал. (21) Впредь во все дни земли
сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не
прекратятся.
Если читатель книги выключит напечатанное курсивом, то
получит два самостоятельных рассказа (они немного повреждены, так как при
соединении их пришлось компилятору кое-где изменить), различающихся
между собой как по форме, так и по содержанию. Один называет бота
Ягве; другой — Элогим. Один ведет счет по летам Ноя, месяцам и дням;
другой — нет. По одному, потоп продолжался целый год, ровно 150 дней
вода на земле прибывает. По другому, после 7 дней 'подготовительного
периода начинается 40-дневный дождь (о раскрытии великой бездны
рассказ этот совсем не говорит), и в течение последующих трех
семита Гурев И
161
дневных сроков вода спадает. Один не знает никакого различия между
чистыми и нечистыми животными и, в «связи с этим, никакой жертвы
после счастливого спасения. Другой рассказывает о жертве и делит
животных на чистых и нечистых.
(Пр'илож. к Сандерленду «Священные книги в свете на/ужи»).
И. И. Степанов
КАК ВОЗНИК ЕВРЕЙСКО-ХРИСТИАНСКИЙ БОГ г)
Был ли Ягве с самого начала богом нации?
Уже та (внешняя форма, которая (придана библейской истории об
исходе израильского народа из Египта и о его 'Сорокалетнем
странствовании в пустыне, показывает, что эта история — просто миф; при том —
если оставить в стороне, может быть, миф об Иосифе, —«в этом мифе еще
меньше действительно исторического содержания, чем в -сказаниях о
праотцах (патриархах). Едва ли можно сочетать большие противоречия,
чем представляют объединенные в Библии рассказы элогиста и ягвиста
об исходе из Египта; и противоречия эти — не только в частностях и
второстепенных вещах, но и в самой основе, в самом остове мифа. Из
этого следует, что в Иудее и в области колена Ефремова существовали
тогда два варианта этого мифа, коренным образом отличавшиеся один
от другого. Такое явление наблюдается обыкновенно в тех случаях, когда
за мифом нет исторической подоплеки, которая могла бы оставить
глубокий след в народном сознании и в народных преданиях.
Вот некоторые примеры противоречий.
По тому сказанию, которое передает яг/вист, израильтяне до исхода
из Египта жили на пастбищах Гесем; так как они были пастухи овец.
«И сказал Иосиф братьям своим и дому отца своего... я пойду, извещу
фараона и скажу ему... эти люди пастухи овец, ибо скотоводы они, и
мелкий, и крупный скот свой, и все, что у них, привели шш. Если фараон:
призовет вас и скажет: какое занятие ваше? то вы скажите: мы, рабы,
твои, скотоводами были от юности нашей доныне, и мы и отцы наши, —
чтобы вас поселили в земле Гесем. Ибо мерзость для египтян всякий
пастух овец» (Бытие, глава 46, стихи 31—34). «И жил Израиль в земле
египетской, в земле Гесем, и владели они ею» (г± 47, стих 27).
Напротив, по сказанию, переданному элегистом, израильтяне были
земледельцы и жили среди египетского населения в земле Рамсес,
которая, как известно, была плодороднейшей частью Египта и была сплошь
*) Верующие евреи и христиане, основываясь на мнимой богооткровенности
иудейской религии, считают, что евреи были искони монотеистами, что иудейская
религия развевалась не так, как другие религии. Однако, "анализ ветхозаветных
повествований и сопоставление их с верованиями других народов, находящихся
в различных стадиях культурного развития, совершенно разбил этот взгляд.
Особенно убедительно это было сделано Куновым в его исследовании
«Телеологическая или этнологическая история религии». Здесь ясно показано, что евреи
проделали обычный путь развития религиозных верований: анимизм, культ духов,
культ предков, тотемизм (родовые боги — тотемы), племенные боги,
общенациональный бог Эта работа Кунова, не имеющаяся в русском переводе, (в существенном
изложена т. Степановым в книге «Происхождение нашего бога». В нашей
хрестоматии (в немного сокращенном виде) приведена часть этой книги, доказывающая»
что народ израильский не был издревле монотеистом, что его бог, которого
христианство считает и своим богом, возник так же, как боги других религий.—
Прим. ред.
162
занята земледелием: «И поселил Иосиф отца своего и братьев своих, и дал
им владение в земле египетской, в лучшей части земли, «в земле Рамсес,
как повелел фараон» (глава 47, стих 11).
И то и другое одинаково неправдоподобно. Маленький Гесем не мог
дать пропитание такому многочисленному пастушескому народу, каким
описывают нам народ израильский при его исходе из Египта. А если, как,
следует из элогиста, израильтяне занимались в Египте земледелием, как
могли бы они выйти из Египта кочевым народом?
Далее, хотя элотист рассказывает, что израильтяне расселились,
среди египетского населения, однако по его же -сообщению они составляли
особый, самостоятельный народ, более многочисленный и сильный, чем
египетский; в такой мере многочисленный, что египтяне увидали в этом
опасность для собственного государства. Согласно же ягвисту, который
рассказывает, что евреи были поселены отдельно от презиравших их
египтян («Ибо мерзость для египтян всякий пастух овец») и жили в земле
Гесем, как пастухи, выходит, что у египтян вовсе не было такого страха,
перед потомками Иакова, как пред большим народом: иначе они не
рискнули бы обременять израильтян непомерным барщинным трудом.
Ведь в «Исходе» (глава 1, стихи 11, 13—14) сказано, что израильтяне
должны были строить фараону города и в то же время выполнять всякие
земледельческие работы, — замечательно подходящее занятие для
кочевников, пастухов овец!
Что ни фраза, то противоречие или невозможность.
Если бы исход евреев из Египта и гибель египетского войска не были
простой выдумкой, то мы должны были бы найти хоть какое-нибудь
указание на это событие в египетских исторических записях. И как раз
история Египта в четырнадцатом и тринадцатом столетиях до Р. X. — в эпоху
к которой по Библии относится пребывание евреев в Египте и т. д., —
известна нам с большими подробностями. Почти за каждый год нам
известны важнейшие события, а зачастую даже и совсем второстепенные
происшествия. И однако египетские исторические письмена ни словом
не упоминают о выходе евреев или о гибели египетского войска в
Красном море.
Этим мы вовсе не хотим сказать, что под мифом об исходе нет
никакой исторической подоплеки. Такие мифы редко или никогда не
возникают, если нет воспоминаний о каких-либо действительных
происшествиях. Может быть, поводом к образованию этого мифа послужило
изгнание из Египта гиксов, семитического пастушеского народа; около
2100 года до р. X. он вторгся в дельту Нила и завоевал Нижний Египет,
но в XVII столетии был изгнан царями Верхнего Египта. Может быть
основы этого оказания следует искать в том, что часть евреев-номадов,
кочевавших на юго-западе Сирийской пустыни, одно время находилась
иод египетским владычеством. Но, быть может, в основе мифа об исходе
лежат ханаанские воспоминания о том времени,. когда при Тутмозисах
Втором и Третьем (XV столетие до р. X.), египтяне распространили свое
господство до Финикии и Месопотамии и наложили на покорных
ханаанских князей тяжелые дани: в одном египетском списке данников,
которые должны были платить дань Тутмозису III, среди ханаанских
округов приведены два с такими названиями: Иаков-Эл и Иосиф-Эл. Но
каким бы образом ни возникли сказания об исходе из Египта, не
никаких доказательств, что такое событие действительно совершилось; это
прямо признают и отдельные исследователи-богословы, напр. Штаде и
Велльгаузен.
11*
1ьа
Совершенно то же следует сказать и о сорокалетнем странствовании
по пустыне. Полная бессмыслица, будто в пустынных степях,
находящихся к югу и западу от Палестины, в течение многих годов мот бы
бродить скотоводческий народ, состоящий из десяти или двенадцати племен
(колен). В такой области, бедной водою и растительностью-, могла бы
кочевать скотоводческая группа самое большее в несколько сот человек.
Даже в несравненно более плодородных пустынных областях западной
Аравии орды номадов составляют в настоящее время несколько сот
человек только в совершенно исключительных случаях, — обыкновенно же
мы находим здесь орды всего в 20—30 шатров, с 60—70—80 обитателями.
Общая, совместная жизнь десятков тысяч человек положительно
невозможна.
Поэтому позднейшие израильтяне, которые еще были знакомы
с природой таких пустынных областей, тоже не могли освоиться с мыслью,
что там некогда кочевал целый народ. По библейскому рассказу, уже на
третий день по исходе евреи начали страдать от смертельных мук жажды,
а вскоре затем, несмотря на взятые из Египта запасы, им стала угрожать
голодная смерть. Но тут выступает Ягве. Он повелевает, чтобы
проистекали источники, и хлеб падал с неба, и притом падал каждый день, а по
пятницам- даже в двойном количестве, — пусть его избранный народ не
оскверняет субботы собиранием хлеба. Вдобавок к этому Ягве в
известное время давал еще и мясную пищу, заставляя стаи птиц налетать на
израильтян. По взглядам позднейших израильтян, только таким
способом и могли существовать их предки в мертвых пустынях.
Неужели же эту пищу, ежедневно ниспосылаемую Ягве с неба, мы
тоже должны принимать за исторический факт? Но ведь даже для
некоторых богословов, верующих в чудеса, такой способ пропитания требует
слишком многого от их готовности верить. А если так, то остается только
предполагать, что кочующие евреи жили тогда в пустыне, рассеянные и
разделенные на мелкие орды, находившиеся под руководством
старейшин и связанные между собою родственными отношениями.. Жили так же,
как живут в настоящее время номады Сирийской пустыни и стенных
областей Ирана, Туркестана и Сибири. То-есть вели такой образ жизни,
о котором ясное представление, хотя и в легендарно прикрашенной форме,
дают нам библейские рассказы о праотцах Аврааме, Иакове, Исаве и т. д.
Уже однородность племенной и семейной организации у евреев и
древних арабов говорит за то, что образ жизни первых следовало бы
сравнить с образом жизни вторых. До времен и во времена Магомета
племя у арабов распадалось на родовые группы, называвшиеся по-арабски
ботун (единственное число батн;, т.-е. чрево, материнское чрево: члены
этих родовых групп полагали, что все они произошли от одного чрева:
поэтому и члены одного и того же батна назывались логум, людьми
«общей плоти». Большая часть этих родовых групп называли себя по
имени животных:, так же, как северо-американские индейцы. Таким
образом мы часто встречаем роды с названиями асад (лев), бжр (молодой
верблюд), тагуриагш (осел), иада (овца), гамама (голубь), ганаш (один
из видов змей), дгиб (шакал), добейта (гиена) и т. д. У каждого такого
рода был свой бог-предок, которого часто представляли в образе
животного, — по нему-то род и получал свое название, — или о котором по
меньшей мере думали, что он по временам принимал образ этого
животного (тотемистического животного). Он считался отцом соответствующей
родовой группы, а все члены последней—его потомками. Поэтому
последние прямо называли себя потомством своего бога-лредка, напр., бану
164
асад (потомство льва), бану-бакр (потомство верблюда), бану-дгиб
(потомство шакала) и т. д. В этом случае слово «бану» имеет такое же значение',
как слово мак (сын, потомок) перед собственными именами у шотландцев
или буква О (сокращение от оган, внук) перед собственными именами
у ирландцев. Например, Мак-Дональд — потомок Дональда, О'Коннор —
потомок Коннора. Но бану — множественное число и обозначает всю
совокупность потомков.
Каждый батн в свою очередь разделяется на несколько мелких групп
(по-арабски гаии), члены которых связаны отношениями кровного
родства; эти группы называются «домами» и «лагерями» (соответствующее
слово означает скорее общую, совместную жизнь); их можно сравнить
с большой патриархальной семьей, с которой мы встречаемся у болыпинг
ства кочевых народов. У каждой гаии имеется свой особый предводитель
(патриарх семьи) и свой семейный бог-предок. В составе более или менее
обширной территории племени и рода ей принадлежали особые выпасы
и (водопой. Все члены гаии считались близкими кровными
родственниками и были обязаны оказывать друг другу взаимную помощь; в число
их обязанностей входила и кровная месть.
Древне-еврейская организация родства в точности соответствует
этой древне-арабской организации. Еврейское племя (шебет, колено)
тоже разделялось на несколько больших или меньших родовых групп
(по-еврейски миспаха), из которых каждая в свою очередь распадалась
на несколько «домов отцов». Мы не знаем, каков был строй этих родовых
групп во время жизни в пустыне. Но еще в первые столетия по занятии
Ханаана у каждой миспахи была своя особая область, во главе которой
был свой особый родовой или местный бог. Миспаха одновременно была
родовой и территориально^ группой с единым общим культом. Об этих
родовых группах часто упоминается в книгах Моисеевых, особенно в
«Бытии», а также в «Книге судей Израилевых», в «Книгах Царств» и в «Па-
ралипоменон». Так, напр., в «Первой книге царства», глава 10, стих 19
и след., говорится: «Итак, предстаньте теперь пред господом по племенам
(в русском переводе вместо племени стоит колено, а вместо рода
совершенно произвольно — племя. Впрочем «племя» в этом случае означает
просто «поколение», «потомство» такого-то) и по тысячам вашим. И велел
Самуил подходить всем племенам Израилевым, и пал (жребий) на племя
Вениаминово. И велел подходить племени Вениаминову по родам его,
и пал тогда (жребий) на миспаху (род) Матриову. И велел подходить роду
Матриеву муж за мужем, и пал жребий на Саула, сына Кисова».
Рассказ — очень характерный: сначала жребием определяется
племя, затем родовая группа и только после того отдельное лицо, именно
Саул, сын Кисов, т.-е. Саул из дома (большой семьи) Киса.
Из ветхозаветных писаний можно привести многочисленные моста
в подтверждение того, что каждая миспаха составляла группу со своей
особой территорией и своим особым культом. Несомненно, наиболее
интересные в этом отношении места — «Первая книга царств», глава 20,
сгихи 6 и 20. Давид говорит своему кровному другу Ионафану, чтобы тот
оправдал его отсутствие перед Саулом следующими словами: «Если отец
твой спросит обо мне, ты скажи: Давид выпросился у меня сходить в свой
город Вифлеем, потому что там годичное жертвоприношение его миспахи»
(его рода. По синодскому изданию — «всего родства его»). И,
действительно, Ионафан оправдывает Давида, ложно уверяя Саула будто
миспаха Давида совершает в родном своем городе жертвоприношение всем
родом, и будто братья Давида по роду потребовали, чтобы и он принял
165
в нем участие (в синодском издании жертвоприношение всей миопахи
превратилось в «родственное жертвоприношение», и весь особый смысл
этого места 'совершенно утратился). К сожалению, указанные места
ничего не говорят о том, в честь каких родовых богов устраивали родовые
группы ежегодные торжественные жертвоприношения. Бо из других мест
ясно вытекает, что это были терафимы.
Подобно членам арабского батн, члены еврейской миопахи видели
в себе кровных родственников; в известных случаях на них тоже лежала
обязанность кровной мести.
Точно так же арабы предполагали,, что они происходят от общего
предка, который, как показывает уже слово «эл», часто присоединяемое
к его имени, мыслился богом, и потомками которого они 'себя называли.
Различие только в том, что употребительное у евреев слово «бне» или
«беке», по своему смыслу точно соответствующее арабскому «бану»,
применялось не только к потомкам предка данного рода, но и к потомкам
предка целого племени. В ветхозаветных писаниях постоянно
встречаются такие выражения, как бене Иосиф, бене Иуда, бене Дан, бене Гад,
бене Рахиль, бене Лия, бене Измаил, бене Израиль и даже -бене Ягве:
выражения, которые в русском переводе библии обыкновенно передаются
словами: дети или сыны Иосифа, сыны Дана, дети Иуды, но в
действительности означали все потомство этих отцов и матерей племени, при том
потомство по плоти в физическом смысле. Таким образом слова: бене
Ягве, дети (сыны) Ягве, употреблялись не как образные выражения и
означали не просто почитателей Ягве, а прямо рожденных их потомков;
совершенно так же, как под бене Хамос следует разуметь физических
потомков £юга моавитян Хамоса и т. д. И не даром во «Второзаконии»,
глава 32, стих 6, в так называемой песни Моисеевой, говорится: «Не он ли
(Ягве) отец твой, который породил тебя, который даровал тебе бытие и
существование»? (В синодском издании все это затушевано до
неузнаваемости истинного смысла: «Не он ли отец твой, который усвоил тебя,
создал тебя и устроил тебя? В особенности хорошо слово «усвоил», в
которое можно вкладывать какое-угодно содержание).
В качестве подразделения миспахи (рода) мы находим «дом отцов»,
патриархальную большую семьи. Она не была похожа на современную
нашу отдельную семью, которая состоит из мужа, жены и их детей.
К большой семье, кроме отца дома и ето жен, принадлежали их сыновья
и внуки с их женами и детьми, а также слуги и рабы, если они были
обрезанные и потому могли принимать участие в праздновании пасхи. В этих
семейных общинах «отец» был почти неограниченным владыкой.
Женщины и дети в сущности считались его собственностью. Он мог прогнать
жену, которую покупал за деньги (по-еврейски «мотар»), мот, если бы
захотел, продать своих, детей в рабство. В древнейшие времена ему, по-
видимому, принадлежало даже право карать смертью непослушных
детей,— право, которое впоследствии подверглось ограничениям и было
наконец, передано судам (см. «Второзаконие», глава 21, стихи 18—21).
«Если у кого будет сын буйный и непокорный, неповинующийся
голосу отца своего и голосу матери своей, и они наказывали его, но он
не слушает их, — то отец его и мать его пусть возьмут его и приведут его
к старейшинам города 'своего и к воротам своего местопребывания и.
скажут старейшинам города своего: «сей сын наш буен и непокорен, не
слушает слов наших, мот и пьяница»; тогда все жители города его пусть
побьют его камнями до смерти: и так истреби зло из среды себя, и все
израильтяне услышат и убоятся».
166
В тесной связи с этой организацией родства стоит разделение на
тысячи, сотни и десятки, которое, согласно сказанию, впервые было
введено Моисеем (см. «Исход», глава 18, стихи 17—26). Правда,
христианские и иудейские богословы утверждали, что это разделение было чисто
военным разделением, подобно разделению современных армий на
дивизии, бригады, полки и т. д. Но этому предположению прямо
противоречит целый ряд мест из писания, которые говорят, что народ
израильский был разделен таким образом не на случай военных действий, а для
постоянного обычного управления: тысячи упоминаются, как
административные округа. Оловом, мы с уверенностью можем предполагать, что.
как у древних народов, у которых можно проследить разделение на
тысячи, сотни и десятки: у германцев, татар, древних перуанцев, так и
у евреев это разделение совпадало с организацией родов. Десяток
соответствует «дому отцов», сотня — родовой группе, тысяча — нередш>
упоминаемому в ветхом завете подплемени (подколену), главному роду
(фратрии), межродовому (союзу). Примеры легко найти в «Книге Иисуса
Навила», главы 16 и 17, где говорится о распределении земли между
коленами, подколенами и т. д.
Но если евреи, пока они вели жизнь кочевников, еще не составляли
нации, а распадались на разъединенные роды и семейные общины, то
этим самым доказано, что все толки о древнем «национальном боге» Ягве
и об израильтянах, которые будто бы уже в пустыне объединились в
«нацию» с одними и теми же юридическими учреждениями и с одним и
тем же культом, представляют пустую болтовню. Нигде в мире мы не
могли бы видеть, чтобы такие пастушеские народности создавали
прочные, устойчивые национально-государственные организации. Даже племя
представляет форму, лишенную внутренней -сплоченности, если только
исключительно благоприятные географические условия не 'способствуют
сравнительно тесным связям между отдельными родственными группами.
Основа и ядро социального строя — выросшие на почве кровного родства
род и большая семья. Утверждение, будто евреи уже во время своей
кочевой жизни в пустыне поклонялись национальному богу, сводится
просто к изумительному утверждению: хотя они еще не были нацией, но
у них уже был национальный бог. Столь же глубокомысленно
утверждение, как если бы мы оказали: в такую-то эпоху еще не было племен, но
были уже предводители племен, не было еще домов и избушек, но уже
были города.
Нация возникает лишь с того времени, когда несколько племен
доходят до прочного расселения и путем ли союза, путем ли подчинения
одних племен другими, создают своего рода политическое управление
с общими учреждениями. Но и после того из почитания родовых и
племенных богов лишь с большой медленностью развивается культ
национального бога. Это происходит обыкновенно таким способом, что
однородные божества различных племен отожествляются между собою, т.-е.
в них начинают видеть одно и то же божество и переносят на него,
объединяют в нем различные особые атрибуты, с которыми его до того времени
представляли отдельные племена; или же это осуществляется таким
способом, что одно из племен достигает руководящего
положения, и вместе с тем его бог становится гошодствующим,
главным богом.
Однако этот процесс, как и все развитие религии, совершается
медленно, от ступени к ступени. Мы знаем много народностей в
древности и в новое время, которые уже превратились в «нации», но, тем не
167
менее, у них нет национального бота. Даже у индейцев Северной Америки
в эпоху открытия последней, некоторые родственные племена успели
объединиться в так называемые «нации». Так, напр., шесть племен
ирокезов составили ирокезскую нацию, шесть племен криков, а впоследствии
и начезов — союз криков, семь великих «огней» дакотских! племен — союз
дакотов, три близко родственные племени: одживбеи, оттава и поттават-
тамис — союз аттава; а на плоскогорье Анагуак, в современной Мексике,
три племени нагуатлак: ацтеки, тлакопаны и текцуканы, соединились
в союз ацтеков, в «мексиканское царство», как называют его старинные
испанские историки. Однако, мы тщетно искали бы там культа
национального бога.
Только у древних перуанцев мы наблюдаем, кж возникает
своеобразный культ национального бога. И там Виракоча первоначально был
просто племенным богом, богом-творцом только племен кечуа; каждое из
этих племен, поклонявшихся ему, представляло его с особыми
атрибутами и называло различными почетными, именами. Но с течением
времени эти племена посредством союзов и завоевания тесно 'спаялись с
племенем инков и начали видеть в себе по отношению к вновь завоевываемым
племенам основное ядро, первоначальный фундамент, первичный народ
государства. Одновременно с тем в мифах и молитвах обнаруживается
тот взгляд, что Виракоча — бог творец всех племен кечуа, и что различны
только его проявления в различных племенах. Те атрибуты и особые
формы почитания, которые приписывались и оказывались этому богу
в отдельных областях, теперь соединяются в нем, он в одно и то же время
становится творцом племени и тво'рцом народа, «первоосновой всех
вещей», «все сотворившим», «всепроникающем», «вездесущем, «живо-
творцем земли, ее «вседержителем» и т. д.; он же сотворил и остальных
богов и указал им особые области их деятельности.
С этого времени во всех племенах, покоренных инками, начинают
строить храмы и выделять церковные земли не только четырем главным
родовым божествам инков, но и Виракоче или Пачакамаку. Он
становится «каилла Виракоча», «вездесущим творцом», все создавшим, не
только в гимнах: он становится таковым и потому, что теперь повсюду,
в области всех племен, объединивпшхся в государство Перу, возникают
особые места поклонения ему. Служение ему и жертвоприношения
превращаются в особую обязанность, в должность одного отдельного рода
инков, аиллу (мхГепахи, как следовало бы назвать его по-еврейски):
совершенно так же, как у евреев жертвоприношения Ягве сделались особой
функцией, особой должностью левитов.
В то же время инки старались сосредоточить главное богослужение
в Кумко, столице всего государства; там же устраивался «капак коча»,
«великий праздник творца», с его многочисленными человеческими
жертвоприношениями.
Таким же образом шло развитие и в Египте, Вавилоне, Индии и т. д.
Повсюду мы наблюдаем, что национальный бог возникает только после
того, как образуются нации и национальные государства. Но богословы,
писавшие историю израильской религии, хотят заставить нас поверить
им, будто бы развитие Израиля шло в обратном направлении. Там
будто бы сначала возник национальный бог и лишь потом возникш
нация. Так, напр., Велльгаузен полагает: «К политическому единству
Израиль пришел лишь постепенно, благодаря подготовительной работе
религии, как народ Ягве. А профессор Рудольф Оменд решительно
заявляет, что Израиль превратился в народ не в длинном ходе июториче-
168
сшго развития, а просто таким способом, что Моисей дал ему единого
бога. Нехватает только, чтобы профессор начал уверять: союз еврейских
племен существовал раньше, чем появились эти племена! Следовательно,
сначала существовал народный бог, потом возник народный,
национальный культ и лишь после того появился народ. Но откуда эта курьезная
последовательность развития, стоящая в полном противоречии со всеми
наблюдениями? Да оттуда, что эта сказка помещена в книгах Моисеевых,
т.-е. оттого, что ягвист так представляет порядок развития. В этом — все
доказательство. Сам профессор Оменд признает этот факт в следующих
прекрасных выражениях: «Только из исторической жизни, как она
обрисовывается ветхозаветной религией, мы узнаем историческую истину, и
эта религия является здесь религией, данной от бога».
Так как ягвист представляет дело в таком виде, то так оно и было
в действительности. Ах, если бы господа богословы не ограничивались
изучением истории израильской религии, а занимались бы и всеобщей
историей религии* при том не только с богословской, но и с экономической
точки зрения; т.-е. если бы они стремились объяснить историю религии
каждого народа из хода его социального развития, из условий его
экономического существования, тогда они знали бы, что эта ссылка на рассказ
ягвиста не имеет абсолютно никакой ценности. Ведь такого рода
сообщениями, касающимися религии, то, что развилось впоследствии,
переносится в прежние времена. Как бы поздно ли возник у известного народа
культ национального бога, мы почти всегда видим, что по религиозным
преданиям, возникшим после усвоения этого культа, народный бог
существовал при начале всех вещей. Он существовал извека, искони; он
создал народ; он умножал этот народ и обеспечивал его процветание; он
указал ему его обиталище, дал ему законы его культа. Он искони, с
незапамятных времен, спасал, охранял свой избранный народ и карал его за
пороки. Этот рассказ, внешне в различных версиях и с различными
украшениями, в зависимости от особых условий развития и культурного
уровня отдельных народов, по существу совершенно одинаково звучит
110чги во всех дошедших до нас религиозных преданиях.
Но богословы, историки Израиля, идут еще дальше. Мало того, что
по их утверждению, евреи уже в пустыне поклонялись Япве, как
национальному богу: этот Ягве был, кроме того, единым богом, который не
терпел никаких иных богов рядом с собою. Уже в пустыне евреи были
решительными монотеистами.
Это противоречит всем наблюдениям над другими народами, как
кочевниками, так и земледельцами. Древние культурные и полукультурные
народы Дзии, Африки, Америки и восточной части Средиземного моря
в культурном отношении некогда стояли, несомненно, много выше, чем
орды евреев, вторгшиеся в Ханаан из пустыни; но ни- один из этих
народов не дошел до монотеизма (единобожия). Кроме своих так называемых
национальных богов, все они почитали еще более или менее обширный
сонм богов низшей ступени. Но господа богословы знают, как
извернуться. В природе евреев, уверяют они, совершенно особая склонность
к монотеизму, в известном роде особенный инстинкт, влекущий народ
к монотеизму.
Предположим на минуту, что у евреев, действительно, был такой
особенный инстинкт, и что уже в пустыне они поклонялись Ягве как
единому богу. Тогда нам придется допустить, что, вследствие мудрого
промысла божьего, они были монотеистами искони, уже на ранних, низших
ступенях 'своего развития, — или же мы должны думать, что они о*кшча-
16-9
тельно разделались со своим прежним многобожием (политеивмом) еще
до занятия Ханаана, и что, как и у других кочевых племен, это
многобожие было просто особого рода культом предков и душ. Значит, они уже
до занятия Ханаана оставили позади прежний культ предков, преодолели
его. Но как же объяснить в таком случае, что орды евреев, вторгшихся
через Иордан в 'северный Ханаан, несмотря на свое особенное природное
предрасположение к монотеизму и несмотря на то, что внутренно они
преодолели старинный культ предков, немедленно усвоили от
побежденного туземного населения культ Ваала, терафимов и домашних богов, и
усвоили этот культ в его сравнительно грубой, отсталой форме? И еще
одно странное обстоятельство: то внутреннее преодоление политеизма и те
монотеистические инстинкты евреев, о которых толкуют
историки-богословы, не помешали евреям разом обратиться к древне-халдейскому
культу предков и отбросить культ Ягве, — и это поклонение предкам
настолько прочно и глубоко коренится в монотеистических умах или
сердцах израильтян, что все племенные усилия пророков не в состоянии
вытеснить его, и что оно удерживается до эпохи после вавилонского
пленения.
Не следует ли признать, что воззрения историков-богословов
глубоко ошибочны? Не следует ли думать, что в кочевую эпоху евреев Ягве
был не национальным богом, а лишь ботом племени и богом-предком для
некоторой части евреев-номадов, и что только в Палестине по причинам
политического свойства он превратился в национального бога?
Эти вопросы напрашиваются оами собою.
Древний Ягве
Что такое был Ягве доханаанской эпохи? Нелегко ответить на
этот вопрос. Древнейшие еврейские сочинения сообщают на этот счет
такие взгляды и предания, которые возникли в Ханаане многими
столетиями позже и к тому же во многих пунктах подвергались
«исправлениям» в интересах иудейских жрецов-левитов. Но некоторые из
древнейших преданий все же дают для исследования известные спорны?
пункты.
Прежде всего следует установить, что вошедшее в современную
«Вторую книгу Моисееву» («Исход») мифическое сообщение о походе
еврейских племен к Синаю, о том, как Ягве открылся там, дал свои законы
и ввел свой культ во всем народе израильском, взято исключительно из
элогистского сочинения. Ягвист ничего не знает об этом сказании. У него
Моисей возвращается в Египет из земли Мадиамской (т.-е. из
северо-западной Аравии) при следующих обстоятельствах («Исход» главы 3 и 4).
Когда он пас стадо близ Хорива, Ягве явилзся ему в пламени огня
тернового куста и велел вывести израильский народ из Египта. Моисей
подчиняется повелению. Двенадцать колен выходят из земли Гесем, их
преследуют египтяне, но, устрашенные отненньж видом Ягве, гонятся за
израильтянами по дну Красного моря, осушенного восточным ветром, и там
погибают, потопленные возвратившейся на свое место водой («Исход»,
глава 14). Ягвист не знает такого сказания, согласно которому и сыны
Израилевы сначала прошли по осушенному дну Красного (Чермното по
Бибили) моря. Из земли Геоемюкой Моисей идет к Массе и Мериве
в оазисе Кадес, высекает там воду из скалы для умирающих от жажды
израильтян («Исход», глава 17, стихи 1 — 7), ведет их к победе против
напавших амалекитян («Исход», глава 17, стихи 8—13) и затем сам
делается верховным: судьею Израиля: «На другой день сел Моисей судить
170
народ, и стоял народ пред Моисеем с утра до вечера» («Исход», глава 18.
стих 13).
Моисей избирает старейшин и судей и внушает им уставы и законы,
по которым они должны действовать (глава 18, статьи 14 — 26). Таким
образом в ягвистском сообщении отсутствует весь поход к Синаю, все
прямое законодательство Ягве и т. д. Напротив, Моисей собственной
властью, как доверенный Ягве, издает закон в оазисе Кадес. И этот
рассказ ягвиста подтверждается преданиями, вошедшими в другие мифы.
Мерива в Кадес упоминается уже' в несравненно более раннее время, как
древний священный источник («Бытие», глава 14* стих 7). И далее, в
других местах, напр., в иудейско-левитоком хвалебном гимне,
присоединенном в виде «благословения Моисея» к «Второзаконию» (глава 33.
стих 16), Ягве называется не богом, восседающим на Синае, а богом,
обитающим в терновом кусте: «Благословение явившегося в терновом кусте
да придет на главу Иосифа». Из этой коренной разницы обоих сообщений
получается тот вывод, что в эпоху, когда ягвист (иудейский левит)
составлял свой рассказ, сказание о походе к Синаю и о данных там богом
заповедях, по всей вероятности, еще не получило всеобщего
распространения в Иудее, — или по крайней мере не все считали его
правдоподобным и заслуживающим внимания.
Итак, пред нами прежде вселю тот факт, что, сотлаоно одному
преданию, Ягве был первоначально богом, обитающим на Синае, откуда он
дал народу израильскому свои законы, а по другому сказанию он
пребывает в столпе пламени (огонь из земли) среди тернового куста в оазисе
или близ оа;зиса Кадес (Кадес — значит святыня), и в этом же оазисе
Моисей дал законы назначенным им судьям. К этому присоединяется
тот дальнейший факт, что у многих ветхозаветных писателей
сохранилось воспоминание о том, что при прохожении еврейских племен через
оазис Кадес у вод Меривы (Мерива значит спор, битва, распря. В
синодском издании русского перевода «Мерива» передается словами:
«искушение и укорение». «Исход», глава 17, примечание к стиху 7), между
евреями произошло жестокое столкновение, закончившееся поражением
колен Левин и Симеона и уничтожением их притязаний на
политическую самостоятельность.
Первое из этих указаний .мы находим в так называемом «благосло-,
вении Иакова» («Бытие», глава 49), — древнем гимне, который описывает
достоинства колен и занимаемые ими области и наряду с песнью Деворы
(«Книга судей израилевых», глава 5), принадлежит к числу древнейших
произведений, вошедших в Библию. В «благословении Иакова», «Бытие»,
тлава 49, стихи 5—7, говорится: «Симеон и Левия, братья, орудия
дерзости мечи (ножи) их. Я не хочу участвовать в их планах и иметь что-
либо общее с решениями их собраний. Во гневе своем они убили мужей
и в надменности своей искалечили (надругались) быка. Проклят гнев их,
ибо был столь жесток, и ярость их, ибо была столь свирепа. Разделю их
между Иаковым (т.-е. потомками Иакова) и рассею^их в Израиле»
(основной смысл русского перевода в синодском издании такой же, но он
совершенно затушеван вычурной искусственностью выражений. Например,
там мы читаем: «в совет их да не внидет душа моя, и к собранию их да не
приобщится слава моя; ибо они во гневе своем убили мужа и по прихоти
своей перерезали жилы тельца»).
Смысл этих слов может быть только один: племена, или, точнее,
роды Симеона и Левин (Симеон и Левий — тотемистические имена, а не
названия племен; бене Симеон обозначает потомство гиены; бене Левин—
171
потомство дикой коровы) обнажили мечи против других участников
похода, убили некоторых из них и изувечили «быка», т.-е. быка,
изображавшего Ягве: еще в течение нескольких столетий после того времени Ягве
представляли в Иудее в образе быка («тельца» русского перевода Библии
в синодском издании). За это на них пало проклятие Ягве. Они лишились
политического равноправия и должны были жить рассеянными среда
других еврейских племен- (колен).
Это истолкование подтверждается дриводимым у элогиста
вариантом предания, зшисанным позже по меньшей мере двумя столетиями.
Он рассказывает («Исход», глава 32, стихи 26 — 28), как Моисей,
разгневанный тем, что израильтяне сделали золотую статую молодого бьжа
(«литого тельца», говорится в синодском издании русского перевода),
стал в воротах израильского стана и воскликнул: «кто принадлежит Ягве
(«кто господень», значится в синодском издании), иди ко мне!» Затем
рассказ продолжает: «И собрались вокруг него ©се левиты. Он же оказал
им: «так говорит Ягве, бог Израиля: да опояшется каждый мечом и
пройдите по стану от одного входа до другого и обратно и убивайте всякого,
кто бы он ни был, братьев, друзей, родственников. И сделали левиты по
приказанию Моисея. И пало в тот день из народа около трех тысяч
человек».
Таким образом и из этого рассказа следует, что между евреями во
время похода произошло кровавое столкновение.
Другое доказательство дают следующие олова о Левин, находящиеся
в так называемом благословении Моисея («Второзаконие», глава 33).
О колене (роде) Левин там говорится: «Туммим твой и урим твой
(принадлежности гаданий) принадлежат мужам благорасположенного к тебе,
которого ты искусил при Маосе, против которого ты 'сражался при водах
Мертвы». Из этого следует, что, вопреки элогистскому сообщению', племя
Левин некогда сражалось при Мериве в Кадесе не за Ягве, — который
в данное время был благорасположен к нему, — а, как говорит только что
приведенная более древняя цитата, против Ягве.
Глава 20 «Четвертой книги Моисеевой» («Числа») рассказывает это
старое предание по-другому. Стих 13 говорит: «Это — вода Меривы, у
которой вошли в распрю сыны Израилевы с Ягвб». Но, как следует из
стихов 2 — 5, израильтяне не потому «вошли в распрю с. Ягве», что отйали
от него, а потому, что он не давал им-воды. Но это — позднейшая версия,
позднейшее истолкование событий, на что отчасти указывает стих 24
той же главы: «Пусть Аарон присоединится к своим сотоварищам по
колену, ибо он не войдет в землю, которую я дал потомкам Израиля, так
как при водах Меривы он действовал вопреки моему повелению».
Выходит, что воды Меривы уже существовали, и их не приходилось
ударами жезла изводить из скалы. И, далее, Аарону возвещается смерть
за то, что он действовал у Меривы вопреки велению Ягве и изготовил
статую бьжа (золотого тельца). А во «Второзаконии», глава 32, стихи
49 — 52, и Моисей присуждается к смерти за то, что при Мериве среда
израильского стана он согрешил против Ягве и нарушил верность ему.
Что же произошло в водах Меривы? С некоторой степенью
вероятности мы можем остановиться на следующем.
Из северо-западной Аравии, области, занятой племенем мадиами-
тян,, то племя или та часть племени, которая впоследствии послужила,
ядром племени Иуды (по-еврейски Иеогуда), была оттеснена к северу'и
постепенно отовинута до оазиса Кадес. Здесь оттесненные натолкнулись на
две родовых группы, находившиеся между собою в союзнических" отноше-
172
ниях, группы Левин и Симеона, до того времени владевшие оазисом.
Между этими группами и пришельцами разразилась борьба из-за
обладания источниками Меривы и тамошней святыней, о-гненным столбом
(подземным огнем) в терновом кусте. Бене (дети, потомство) Левин и
Симеона напали на стан Иуды ,убили несколько мужчин и изуродовали
«образ быка», т.-е. выставленную в стане статую племенного бога,
которому поклонялись бене Иуды, и которого они по всей видимости
представляли обитающим на горе (можно не останавливаться на вопросе, был ли
этой горою Синай). Но бене Иуды отомстили. Они покорили левитов и
колено Симеоново, овладели оазисом и присоединили остатки
побежденных к своему племени, — но не как равнопрнвую составную часть, а как
зависимых, своето рода вассалов.
За время пребывания в оазисе Кадес, длившегося по всей
вероятности в течение нескольких поколений, обряды культа, принесенные
с собою бене Иуды, в значительной степени перемешались с ритуальными
обычаями, существовавшими в некоторых пунктах Кадеса. Для бене
Иуды огонь из земли был появлением: их старого племенного бога. И уже
в ближайших поколениях возникла легенда, что «ел», пребывающий
в подземном огне, в виде огненного столба последовал за своим племенем
из своего прежнего местопребывания на горе и вместе со своим
потомством обосновался в Кадесе. Этот взгляд сказывается в различных местах
ветхозаветных писаний, — хотя в различных местных версиях. Так,
напр., по некоторым из этих местных сказаний Ягве сначала поселяется
в горах Севр, расположенных к юго-западу от Кадеса, и лишь потом
переселяется в Кадес. Так, напр., в начале «благословения Моисеева»
(«Второзаконие», глава 33, стих 2), говорится: «Ягве пришел от Синаи, он
блистал им (бене Иуды) от Сеира, он воссиял от горы Фарана и пошел в Ме-
риву-Кадес,—одесную пылающий огнь».
Таким образом для бене Иуды представление об их старом боге-
предке, обитающем: на горе Синае, — связалось с пламенеющим
огненным столбом в терновом кусте. Напротив, левиты и симеониты крепко
держались старых традиций. В течение нескольких столетий сказание
о том, что Ягве раньше пребывал на Синае, оставалось чуждым для них.
Ягве для них,—это был тот, который горит «среди терноваго куста» и
который искони почитался их предками в этом авятилище. Отсюда — то
странное на первый взгляд явление, что даже в значительно
позднейшее время левиты игнорировали сказание о Синае и сами называли
себя настоящими древнейшими поклонниками Ягве, которые в
наиболее чистом виде соблюдают древние обряды, относящиеся к культу
Ягве. Потому-то и в уже упоминавшемся благословении Моисея о
левитах говорится: «Ибо они хранят твои (Ягве) заповеди и завет твой
соблюдают».
Из Кадеса коотено Иуды, ведя борьбу с амаликитянами и эдомитя-
нами, проникло ъ горы пооднейшей Иудеи, при случае, чтобы обеспечить
себе поддержку, вступало в союзы с родами эдомитян и затем
разместилось к западу от Мертвого озера, где ош> мало-по-малу перешло от
кочевого быта к земледелию. Стихи S —12 в главе 49 «Бытия»
(«благословение Иакова») очень ясно обрисовывают нам эту фазу развития:
«Молодой лев Иуда. Хищничеством ты, мой сын, поднялся. Теперь он
вытянулся, улегся, как лев и его львица. Кто спугнет его? .. Он привязывает
к виноградной лозе осленка своего и к лозе лучшего винограда осленка
ослицы своей. Он моет в вине одежду свою и в крови гроздьев одеяние
свое. Глаза его мрачны от вина и белы зубы его от молока».
173
Племя (колено) Иуды, которое так долго существовало
скотоводством и, подобно льву, разбоем в пустыне, перешло к земледелию. Вместе
с тем изменились воззрения на бога и обрядности культа. Ягве, бог
племени кочевников, превратился в бога хранителей полей, покровителя
земледелия, главной заботой которого теперь становится процветание
полевых растений, ниспослание солнечного света и дождя. В то же время
изменился и характер жертвоприношений: кроме жертв человеческих и
животными, начали приносить жертвы «первинками («начатками»)
поля», — зерно, хлеб, вино и масло. Возникли постоянные места культа
со своими особыми жертвенниками (алтарями) и жреческим сословием,
живущим около этих мест; оно наделялось собственными землями,
оброками (десятинами) и дарами.
Но тогда открылась новая эра для левитов, былых хранителей огня
Ягве в Кадосе. Бене Иуды поделили завоеванную землю между собою по
тысячам и сотням и занялись хозяйственной деятельностью как пастухи
и земледельцы. В оесверо-востбчной части завоеванного Эдома (Идумен)
земля была выделена и симеонитам. Но их земля, как ©ерно сообщает
«Книга Иисуса Навина» (глава 19, стихи 1—9), не составляла сплошной
особой территории и особого политическото целого, а представляла
области, рассеянные между областями бене Иуды. В результате они в
несколько столетий совершенно 'растворились среди окрестного населения
и почти не упоминаются в позднейшей истории Иудеи.
Иначе было с левитами. Им вообще не отвели определенных
областей; они были таким образом вынуждены искать прибежища у
состоятельных иудейских поселенцев. В особенности успешно находили они те
или иные занятия при возникавших в большом количестве новых местах
культа; не даром они, былые хранители святилища Ягве в Кадесе,
считались наилучшими знатоками древних ритуальных обрядов и
религиозных правил. Но они по большей части не были верховными, главными
жрецами: выршие должности доставались жрецам из господствующих
иудейских родов. В отличие от левитов («колена левиина») они
впоследствии называли себя ааронитами («колено аароново»).
Но количество священных мест все увеличивалось, культ Ягве с
возникновением царства иудейского народа распространился на области
северо-израильских племен, при Соломоне служение Ягве
централизовалось в Иерусалиме, религиозные обряды скоро усложнились. Вместе
с тем положение левитов все более возвышалось, хотя в некоторых
случаях аарониты вели против них решительную борьбу и иногда оттесняли
на задний план.. Но "наиболее влиятельного положения, наибольшей силы
достигли левиты по возвращении из вавилонского плена и по
возрождении иудейского царства.
Таким образом Ягве первоначально был племенным богом-предком
только иудейского племена (колена) и присоединенных к нему чужих
родовых групп. Как мы увидим из следующей главы, северо-израильские
племена восприняли культ Ягве от иудейского населения
лишь.впоследствии, по возникновении израильского царства. Но даже и в области
Иудеи Ягве не был единым богом. Мы уже не говорим о том, что одна
часть населения, храня предания о Синае, представляла Ягве и
поклонялась ему в образе быка, а другая часть, под влиянием левитских
воззрений, почитала его в образе пламенеющего столба пламени, подземного
огня Кадеса. Кроме того, в широких кругах находила еще поклонение
и змея Нехуштан. Это по всей вероятности был бог какого-нибудь
арабского или ханаанского клана (рода), в свое время растворившегося в пле-
174
мени Иуды и передавшего ему свой культ. В «Четвертой книге
Моисеевой» («Числа»), глава 21, стихи 4—8, рассказывается, что, когда народ
стал роптать на Моисея, выведшего его в пустыню, где нет ни хлеба, ни
воды, — «послал господь на народ ядовитых змеев, которые жалили
народ, и умерло множество народа из сынов Израилевых... И сказал
господь Моисею: сделай себе медного змея и выставь его на знамя, и если
ужалит змей какого-либо человека, ужаленный, взглянув на него,
останется жив. И сделал Моисей медного змея и выставил его на знамя, и
когда змей жалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив».
Это — явным образом позднейшее объяснение культа змеи,
возникшее в эпоху, когда уже утратилось представление о действительных
источниках этого культа. Выходило, как будто и змее поклонялись по
повелению Ягве и, как будто культ змеи был культом самого Ягве. Позже,
когда в Иерусалиме был построен храм Ягве, там нашло себе место и
«медное изображение» этой змеи, перед которым поставили жертвенник
(кадильник). И лишь Езекия, царь Иудеи (около 700 лет до р. X.), как
рассказывается в «Четвертой книге царств», глава 18, стих 4, велел
уничтожить этото идола и положил конец культу змеи.
Кроме того, мы видим, что в Иудее, как и в северном Израильском
царстве того времени, культ терафимов имел всеобщее распространение.
Но богословы, отстаивающие то воззрение, что у еврейского народа всегда
было особое внутреннее предрасположение к монотеизму, стараются и
здесь извернуться. Они ссылаются на рассказ о том, как некий Миха
сделал терафима и нанял молодого левита, который сделался
священником и совершал богослужение пред терафимом («Книга судей
Израилевых», глава 17). При этом они заявляют, будто бы культ терафимов
совершался во славу Ягве. Другими словами: еврейские племена во славу
Ягве поклонялись родовым богам-предкам, которых они представляли
себе в образе отчасти людей, отчасти животных.
Такое смелое утверждение может высказать только человек,
который ничего не знал ни об организации родства у первобытных народов,
ни о существующем у них культе предков и душ. Да, впрочем,
большинство этих господ действительно незнакомо сколько-нибудь близко с
культом предков и тотемов. Для них существует только иудейская и
христианская религия, а затем разве еще естественная религия (культ сил
природы). Но если даже они не/понимают культа предков у родовых
групп, все же они должны были бы обратить внимание на то, что
у каждой миопахи был свой особенный терафим, и что терафимов
представляли себе совсем не в таком образе, как Ягве. Можно сослаться на
главу 19 из «Первой книги царств», где рассказывается, как Мелхола,
жена Давида, спасая мужа от посланных Саулом слуг, положила
терафима в постель, покрыла одеждой и выдала за будто бы заболевшего
Давида. Следовательно, терафим рода Давидова имел вид человека. К тому
же жрецы Ягве, до некоторой степени укрепив свое положение, начали
решительную борьбу против культа терафимов. Но ведь эта борьба
была бы совершенно бесцельна, если бы этот культ был просто особой
формой поклонения Ягве.
Однако, большинство ученых богословов, занятых критикой
Библии, не ограничиваются тем, что они выдумывают древне-еврейский
монотеизм: они утверждают кроме того, что Ягве был богом природы, и что
его религия была чистой формой естественной религии. При этом они
действует по зовольно упрощенному рецепту. Они с самого начала
утверждают: всякая первоначальная религия—поклонение силам природы,
Ъ7&
естественная религия. А следом за тем делают такой вывод: так как
древние евреи тоже были еще грубым народом пустыни, то, значит, их
религия должна была представлять культ природы. Но культ природы
предполагает бога природы, а потому и Ягве был богом природы.
Пусть так. Но в таком случае какое же явление природы
олицетворялось в Ягве? Некоторые либеральные богословы, ссылаясь на главу 19
«Исхода», говорят, что первоначальный Ягве был бот вулкана и огня, и
поклонение Ягве возникло с того времени, как евреи на своей родине,
в северной Аравии, пережили вулканическое извержение. Однако, этот
вывод противоречит всей действительной истории религий. И в первую
очередь напрашивается вопрос: ну, а до того времени, как евреи
наблюдали извержение вулкана, — что же, была ли у них какая-нибудь
религия, или же тогда у них еще не было никакого культа, никакого
представления о боге? Предположение, что у них раньше не было никакой
религии, противоречит тому бесспорному факту, что та или иная религия
есть у всех диких народов, даже у таких, которые стоят на бесконечно
более 'низкой ступени развития, чем древние евреи. Следовательно и
у евреев уже была своя религия. А так как, — что является
общепризнанным фактом, арабы до своего обращения в магометанство почитали
богов-предков, то следует предполагать, что культ предков существовал
и у древних евреев. Пусть же эти евреи, уже знавшие культ предков,
действительно пережили такое новое для них явление, как вулканическое
извержение; какое влияние оказало бы это на ит прежние представления
о боге? Расстались ли бы они просто со своим старым культом и
перешли бы к культу природы? Кто думает так, тот никогда не поймет хода
религиозного развития диких и полукультурных народов.
Укоренившиеся религиозные представления так легко не отбрасываются. В
вулканическом извержении евреи увидели бы скорее всего проявление, быть
может, появление одного из сильнейших своих богов-предков, — или же
решили бы, что это ужасное зрелище — враждебное выступлению
мощного бога-предка, чуждого их племени. Если бы впечатление,
произведенное таким явлением природы, оказалось достаточно сильным и на
долгое время дало бы работу их фантазии, в результате всего этого они
приписали бы своему главному богу: предку власть вызывать огонь из
земли и перенесли бы его главное местопребывание на огнедышащую
гору. Собственно же культ вследствие вулканического извержения не
испытал бы никаких перемен; и во всяком случае поклонение предкам
не превратилось бы от этого в культ природа.
Тот взгляд, будто бы зрелище изумительных явлений природы
непосредственно наталкивает наивный ум первобытного человека на
поклонение природе, ошибочен в самой своей основе. Многие дикари живут
среди величественной природы. Но хотя окружающая природа оказывает
известное влияние на их космогонические представления, — т.-е. на
представления о возникновении мира, — тем не менее мы не находим у них
никаких признаков естественной религии, а в зависимости от уровня
их развития наблюдаем культ духов, тотемов, демонов или предков.
К культу природы приводит не просто вид тех или иных явлений
природы, а лишь сознание зависимости собственного существования от сил
природы. Культ природы возникает только с того времени, когда человек
начинает чувствовать полную зависимость ©сего своего бытия от
природы, когда он видит, с какой непреодолимой силой вторгается она
в его борьбу за существование и играючи уничтожает результаты его
тягостного труда; значит, культ природы возникает с того времени, когда
П6
земледелие развилось настолько, что плоды его становятся важнейшими,
необходимейшими средствами человеческого существования.
Превращение Ягве в народного в национального
бога
В северные области Палестины культ Ягве проник много позже,
хотя вторгшиеся туда еврейские племена много раньше, чем н Иудее,
«сделались оседлыми и перешли к созданию отдельных племенных
государств. Уже в египетских документах, относящихся к эпохе Тутмо-
зиеа III, рассказывается, что на египетские владения в Палестине
постоянно нападают воинственные племена пустыни, — «хабири». Повиди-
мому, так назывались тогда евреи у египтян. По всей вероятности, цари
ханаанских племен сами вызывают эти орды из пустыни, чтобы с их
помощью избавиться- от етипетского господства. И действительно, этого
удалось достигнуть. Но призванные евреи, свергнув господство' египтян,
не ушли обратно, обосновались в стране. Они отчасти оттеснили
ханаанское население, отчасти перемешались с ним, т.-е-. включили отдельные
части туземных племен и родов в свои родовые организации, принеседные
ими из пустыни. Таким образом после многих передвижек и перетасовок
к западу и востоку от Иордана из колонизации и внутренней борьбы
возникли мелкие племенные государства, распадавшиеся на области тысяч
и сотен и управлявшиеся «начальниками (вождями) и старейшинами».
Пока позднейшие племена (колена) Ефрема, Манассии, Рувима,
Гада, Завулона, Иссахара и т. д. еще кочевали в пустыне, они, вопреки
«Пятикнижию», еще не представляли чего-то сложившегося,
выделившегося: они образовались уже в Палестине, из родовой организации
вторгшихся орд евреев. Это доказывают уже названия еврейских племен,
которые отчасти представляют 'имена не древне-еврейских предков,
а мест, захваченных в Палестине; о том же ясно говорят и некоторые
позднейшие предания. Так, напр., имя Вениамин — первоначально не имя
того или иного лица. Оно означает «южный», т.-е. «южная», живущая на
юге, часть племени. Следовательно, оно просто указывает на положение
захваченной области. Объясняется оно тем, что область была захвачена
частью племени Ефрема-Манаосии, направлявшейся с севера, по всей
вероятности, для военного похода; да и само маленькое племя Вениами-
ново первоначально представляло, понидимому, всего лишь колонию,
тысячу, выделившуюся из племени Ефрема. Точно так же позднейшее
племя Дана сначала было колонией тысячей племени Ефремова,
расселившейся на берегу моря к западу от тор Ефрема. Впоследствие,
оттесненное жившими на юте филистимлянами, оно продвинулось в страну
гетов, лежащую к северу от Генисаретокого озера, завоевало область
Ешана и сделалось здесь самостоятельным.
Таким образом еврейские племена, это — сравнительно новые
образования, возникшие лишь по расселении в Ханаане и еще не
существовавшие в эпоху жизни в пустыне. Но это вовсе не значит, что в то время
евреи еще не разделялись на племена и роды. Разделение на крупные
и мелкие родовые группы, или на тысячи и сотни, много древнее, чем
расселение в Палестине; возможно, что оно существовало у «хабиров»
(евреев) и их предков уже целые тысячелетия. Возникновение ноных
племен не следует представлять таким образом, как будто, н борыбе с ха-
нанеянами были разрушены все старые родовые организации и возникла
хаотически перемешанная и перепутанная народная масса, из которой
лютом развились совершенно новые роды и племена. Напротив, с
Heroic. Гурев 12
177
мненностью видно, что захват земли и ее заселение повсюду совершались
тысячами и сотнями. Но в одних случаях родственные тысячи и сотни
были разорваны, разъединены и оттеснены в различные области, где они
вступали в союзы и перемешивались с жившими там деревенскими и
родовыми общинами; напротив, в других случаях в непосредственном
соседстве расселялись родовые группы, которые первоначально
принадлежали к совершенно различным племенам хабири. Только посредством
соединения и сплочения в крупные областные союзы таких родов,
которые жили в соседстве, или же, как мы видели, посредством отщепления
и обособления прежних тысяч возникали те местные племена, которые
в ветхозаветных писаниях перечисляются, как двенадцать колен
Израилевых.
Даже спустя несколько столетий по покорении хананеян, еще в
одиннадцатом веке до р. X., внутренняя связь между еврейскими племенами
была очень слабая. Князей племен в точном значении этого слова, по-
видимому, не было. В древних преданиях упоминаются исключительно
«нагиды» и «сикны», «главы» различных мелких округов, «шофеты»,
«казины», главной задачей которых было судить и организовать
общественный разбор судебных дел. Поэтому в русском переводе Библии они
обыкновенно называются «судьями» и старшинами или «старейшинами».
Это по всей вероятности;— натриархи отдельных родов, входивших в
состав тоге или иного племени.
Еще более слабой была связь между составными частями
различных племен. Повидимому, только веков за двенадцать до р. X. начали
возникать боевые союзы еврейских племен против надвигающдхся
северно-ханаанских или финикийских племен. Древнейшим историческим
сообщением о таком объединении еврейских племен и тысяч, имевшем
целью отразить натиск врагов, является песнь Деворы, один из
древнейших памятников, вошедших в состав ветхозаветных писаний. Согласно
этому документу, племена Ефрема, Вениамина, Иссахара, Неффалима,
Завулона и Махира некогда общими силами разбили хананеян в равнине
Киссона; племя Махира, это племя Манаосии, или, точнее, она из
больших тысяч этого племени: боне (потомки) Махира составили только
одно подразделение, одну фратрию племени Манассии. Напротив,
пастушеские племена Гада и Рувима, жившие к востоку от Иордана, равно
как и обитавшие на морском берегу Племена Дана и Асира, безучастно
взирали на борьбу. О племени Иуды в песне Деворы совершенно не
упоминается: в то время оно еще как бы не существовало для евреев север-,
ной Палестины, отделенных от него чисто ханаанскими по населению
областями.
Такие случайные военные союзы возникали неоднократно; но едва
удавалосЪ устранить опасность, как и объединение) наступил конец.
Каждое племя и каждая тысяча опять видели в себе самостоятельные группы.
И только в одиннадцатом веке, чтобы уничтожить соперничество между
еврейскими племенами и сплотить их против внешних врагов, начали
назначать главных предводителей выборами. Таким образом возникло
так-называемое народное «царство». Сначала оно, как рассказывает
Библия, ограничивалось пределами племени Вениамина, т.-е. Ефрема: в то
время племя Вениамина было просто колонией племени Ефрема; но потом
основой этого царства сделалось племя Иуды, которое все более
усиливалось, так как оно подчиняло себе пограничные ханаанские области.
Некоторые богословы тоже признают, что еврейские племена
возникли только в Палестине. Несмотря на то, они утверждают, будто все
178
еврейское население, проникшее в Палестину, искони; почитало в Ягве
общего национального бога; и хотя в древнейших источниках говорится
о культуре элогимов, терафимов и семейных богов, однако для богословов
это многобожие объясняется очень просто: всеобщим отпадением от культа
Ягве. Они говорят даже, что, конечно же, культ Ягве- был
господствующим среди евреев, переселившихся в Палестину: ведь по «Книге судей
Израилевых» и по «Книгам царств» он был той силой, которая снова и
снова сплачивала израильтян и в конце-концов объединила их в
теократию, в божие царство. Это — превосходный вывод из изложенной
нами теории: сначала возник национальный бот и национальная религия
и лишь после того возникла нация. Но в данном случае эта теория
оказывается еще более нелепой: у нас нет никаких указаний, чтобы до
переселения в Ханаан существовали сколько-нибудь тесные связи между
южноеврейскими и северо-еврейскими племенами'. Племя Иуды вместе с
родами Левин и Симеона проникло в позднейшую свою область — к западу
от Соленого озера — с юго-запада черее область амалекитян и эдомитян.
Напротив, севернще израильтяне вторглись в Палестину с северо-востока
через Иордан и в течение нескольких столетий по своем расселении,
кад показывает песнь Деворы, еще ничего не знали о существовании
своих южных родственников по расе. Однако, хотя раньше не было ника-
дой связи между ними, богословы хотят уверить нас, будто Израиль
искони был единым народом, с однородными социальными
учреждениями и одним и тем же культом Ягве, — и все это исключительно по тем
основаниям, что спустя более чем столетие иудейские жрецы (левиты)
из политических и религиозных соображений отстаивали эти взгляды.
Но самое любопытное заключается в том, что, если мы обратимся
к исследованию книг «Судей Израилевых» и «Царств» и постараемся
устранить все позднейшие вставки, дополнения и переработки, то мы
ясно увидим,, что поклонение племени богам-предкам; элогимам, родовым
ботам-предкам, теоафимам и семейным или домашним богам имело
всеобщее распространение. Конечно, во многих случаях заметны ханаанские
и финикийские влияния. Но если эти влияния проявлялись с такой
легкостью, между, тем, как другие учреждения и особенности, принесенные
из пустыни, обладали большой 'силой сопротивления и удерживались
в течение мнотих столетий, то из этого следует только один вывод: надо
полагать, что у ханаанского культа предков были чрезвычайно
многочисленные точки соприкосновения, большое сходство с еврейским культом.
Этот взгляд на древнее состояние религии у северных израильтян
подтверждается тем обстоятельством, что то, что преподносят нам в виде
культа у северных израильтян, в действительности вовсе не было
культом Ягве. Что общето с культом Ягве имеют, напр., те действия, которые
предпринимает при жертвоприношении ягвистский герой Гедеон?
В «Книге судей» (глава 6, стихи 16—21) об этом говорится так: «И
сказал ему господь, я буду с тобою, и ты поразишь мадианитян, как одного
человека. Гедеон сказал ему: если я обрел благодать пред очами твоими,
то сделай мне знамение, что ты говоришь со мною: не уходи отсюда,
доколе я не приду к тебе и не принесу дара моего и не предложу тебе. Он
сказал: я останусь до возвращения твоего. Гедеон пошел и приготовил
козленка и опресноков из ефы муки; мясо положил в корзинку, а
похлебку влил в горшок и принес к нему под дуб и предложил. И сказал
ему ангел божий: возьми мясо и опресноки и положи «да сей камень, и
вылей похлебку. Он так и сделал. Ангел господень, простерши (конец
жезла, который был в руке его, прикоснулся к мясу и опреснокам; и вы-
12*
179
шел огонь из камня и поел мясо и опресноки; и ангел господень скрылся
ив глаз его».
В «Книге судей» это называется жертвоприношением Ягве, так как
сам малак (вестник) Ягве указывает, как надо приносить жертву; тем не
менее жрецы Ягве из Иудеи признали бы, что все эти действия —<
отвратительнейшее идолослужение. Однако не только Гедеон, но и сам старый
Самуил, этот столп ягвизма, настолько плохо знает ягвистское ритуаль-
неы обряды, что он приносит жертву «на высоте», т.-е. соединяет
пасхальное жертвоприношение Ягве с культом бамы, — древне-ханаанским
культом родового бога-предка, 'совершавшимся на вершинах гор.
Да в оущности в ветхозаветных писаниях мы и не находим никакого
указания на то, чтобы у северно-израильских племен были какие-нибудь
места для культа Ягве; напротив, в древнее время у каждого племени
был свой «эл» и свои главные места культа, — своего рода главное
местопребывание бота данного племени. Так, напр., главное место культа у бене
(потомков) Гада было в Маханаиме (что означает «двойной стан»,
«двойное место», — «двойное седалище эла»), у бене Рувима — в Пенуэле (что
означаем вид, т.-е. появление эла), у бена Вениамина — в Вефиле (что
означает «дом эла»), у бене Завулона — на горе Табор (Фавор), у бене
Дана — в Дане (таково позднейшее название места Ланса или Ешана,
получившееся от имени мифического предка этой миспахи), у бене Ма-
наосии —■ в Сихеме и т. д. К сожалению, невозможно установить, в каком
образе почитались элогимы различных племен в этих главных местах
совершавшихся пред ними жертвоприношений. -Только об эле Вефиля
и об эле Сихема мы знаем, что их представляли в образе быка.
Однако историки религии уверяют, будто у них есть доказательство
того утверждения, что и на севере Палестины поклонялись Ягве с
древнейших времен. В некоторых из древнейших частей «Книги судей»,
в особенности в песне Деворы (глава 5), одном из древнейших
памятников еврейской литературы, — возможно даже, что в самом древнем, —
Ягве уже называется богом Израиля. Хотя этим еще не доказано, что
евреи уже из пустыни принесли с собой Ягве как национального бога,
тем не менее получается тот вывод, что культ его был известен в
северной Палестине, надо полагать, в/двенадцатом или одиннадцатом веке.
Но в действительности и песнь Деворы не представляет чего-либо единого
и цельного. Для вящшей славы ягвизма и этот литературный памятник
впоследствии был дополнен и подправлен.
Однако ягвист, который принялся за это, был такой же
простодушный человек, как и многие современные благочестивые люди в
Израиле и вне Израиля. Он с такой наивностью ввел свои дополнения, что
еще и теперь можно доказать, что это — просто позднейшие вставки.
Ему важно было одно: воспеть хвалу своему Ягве. Все событие
интересовало его лишь постольку, поскольку оно давало случай восславить
Яг$е. Поэтому он разом начинает прославлением Ягве («хвала Ягве за то,
что вожди повели во Израиле»), не замечая, что там же имеются
следующие слова: «Избрали новых элогимов».' Оловом, все места, которые
говорят о Ягве, оказываются дополнениями ягвиста, перерабатывающего песнь
в позднейшее время. В древнем тексте нигде не упоминается о Ягве;
напротив, запщтники сражающихся еврейских войск — элогимы, которые
ведут борьбу за них со звезд и дают им победу.
В таком случае и Ягве сделался национальным богом, а его культ—
национальной религией лишь с того времени, как еврейские племена
объединились в государство: в одиннадцатом веке, когда племя Иуды, все
180
более усиливаясь, достигло гегемонии, первенства, и когда при Давиде
возникло царство иудейского народа. О образованием из раздробленных
до того времени племенных государств единого государства, управляемого
из одного центра, национального государства, возник и национальный бот
или бог всего государства, а это положение государственного бога
досталось, как оно доставалось повсюду, племенному богу руководящего,
господствующего племени, иудейскому Ягве. Благодаря покровительству
Давида и Соломона, в северных частях государства повсюду возникли
жертвенники и места культа великого Яше, который превратил свой
народ в могущественное царство. А около этих мест культа скопились
многочисленные жрецы-левиты, которые как из собственных
экономических интересов, так и по национальным соображениям вели [пропаганду
за своего Ягве, за былого бога иудейского племени, который превратился
в бога-патрона нового царства.
Вместе с силой Иудеи возвышалось и господствующее положение
Ягве, в особенности с того времени тк, Давид взял Сион, крепость
иевусеев («Вторая Книга царств», глава 5, стихи 6—9) и сделал его
резиденцией своего правительства, а Соломон, не останавливаясь пред
колоссальными расходами, построил на этом месте великолепный храм—
центральный пунт культа Ягве для всего государства.
Однако этот блестящий период еврейской религии продолжался
воерх) около одного столетия. Гнет Иудеи слишком* тяжело ложился на
племена севера. При самодержавном царе Ровоаме (щ> обычному
исчислению времени, в 975 г. до р. X.) государство разделилось. Северные
племена отложились от Иудеи, отложились и племя Вениаминово: оно, как
вопреки «Третьей книге царств», глава 12, стих 20, единогласно признали
современные историки, примкнуло не к Иудее, а та северному царству,
во главе которого стало племя Ефремове.
Разделение царства имело самое роковое значение для всей нации.
Роль значительной державы, завоеванная при Давиде и Соломоне,
отошла в прошлое. Разделенный, охваченный внутренними противоречиями
еврейский народ ужечне находил в себе сил для того, чтобы отражать
натиск окружавших его враждебных народностей. Палестина сделалась
центром ожесточенной борьбы, объектом частых (иноземных вторжений.
На крайнем севере, как и в области к востоку от Иордана, утрачивалась
одна часть страны за другою.
В северном царстве, в Самарии, культ Ягве претерпел существенное
ограничение. Поклонение старым племенным божествам, иногда
вытеснявшееся при новых условиях, сложившихся по возникновении
Иудейского царства, теперь победоносно выдвинулось на первый план. Новые
цари северного государства по политическим соображениям оказывали
ему особое покровительство. Бели бы местопребыванием главного бота
страны остался Иерусалим, столица враждебного Иудейского царства, это
знаменовало бы, насколько слабо их собственное государство, и постоянно
напоминало бы о былом политическом единстве. Такие чисто
политические 'соображения, по которым опять был восстановлен старинный культ
племенных ботов, Прямо и ясно высказаны в ветхозаветных писаниях.
Так, напр., в «Третьей книге царств» (глава 13, стихи 26—29) говорится:
«И говорит Иеровоам (новый самаритянский царь) в сердце своем
царство может опять перейти к дому Давидову; если народ сей будет ходить
в Иерусалим для жертвоприношения в храме Ягве, то сердце народа сего
обратится к государю своему, к Ровоаму, царю Иудейскому. И,
поразмыслив, царь сделал из золота двух молодых быков и сказал народу:
181
довольно ходили в Иерусалим. Вот боги твои, израиль, которые вывели
тебя из Египта. И поставил одного в Вефиле, а другого в Дане».
Но в течение столетия иудейской темонии культ Ягве и у
израильтян севера укрепился слишком сильно для того, чтобы можно было просто
и безболезненно его уничтожить. Жрецы Ягве повсюду пустили корни
и, несмотря на все преследования, держались за свой культ из-за
собственных интересов. При состоянии, сложившемся в израиле, они нашли
для своих стремлений сильных союзников. Под тяжелыми ударами
судьбы, которые скоро обрушились на северное царство, при
нескончаемой внешней и внутренней борьбе, при упадке торговли и разорении
крестьянства, народ подвергавшийся частым иноземным вторжениям
вспоминал те прошлые времена, когда Самария быле еще соединена
с Иудеей, как блестящую эпоху израильской истории, как доброе старое
время всеобщего благополучия, — а это время было связано с
поклонением Ягве как национальному, народному богу. Жрецы Ягве без особых
усилий с их стороны могли изображать народу дело таким образом, как-
будто надвинувшиеся бедствия, в противоположность былой силе израиля
представляют следствие отпадения от Ягве.
К этому присоединилось то обстоятельство, что 'старинный культ
,родовых богов и богов-предков приобретал все более аристократический
характер. Обосновываясь в Ханаане, евреи расселялись в завоеванной
стране по тысячам, сотням и десяткам. Каждая из таких групп
получала свой определенный участок вемли. Самой медкой из таких групп
был десяток, «дом отцов», который представлял домовую1 или дворовую
общину и находился под управлением главы большой семьи, патриарха.
Сыновья и внуки со своимц женами и детьми оставались при отце дома
и сообща обрабатывали участок, состоявший во владении семьи. Но
уже в девятом, в особенности же .в восьмом веке до р. X. началось
быстрое разложение такого патриархально-семейного хозяйства. Все1 больше
ширилось и росло индивидуальное мелкокрестьянское хозяйство»,
а вместе с тем разверзалась зияющая пропасть, создаваемая
различиями богатства и собственности. Наряду с крупными и мелкими
землевладельцами возник слой свободных безземельных, далимов, а наряду
с последними слой аниджимов, — несвободных и долговых, кабальных
рабов, тех, которые за неуплату долгов и аренды ©месте со своими детьми
попали в «холопство».
Безземельные становились в то же время и безродными: они
утрачивали всякую связь со евоим родом (миспахой), а вместе с тем и право
на его защиту и помощь. Несвободные превращались в прислугу, в
зависимых членов тех семейств, которые приобретали их в качестве холопов
и рабов. Что касается свободных безземельных, они в поисках за работой
устремлялись в города и крупные селения, чтобы сделаться там рабочими
мелким торговцем или ремесленниками. Если даже с течением времени
они приобретали там права гражданства, они не делались от этого
членами господствующих там родов и не получали права участвовать в
городском управлении, входить в коллетии старейшин, составлявшиеся из
избранных родами. Уже в восьмом веке подавляющая часть беднейшего
населения в израильских городах оказывалась вне союза родов, вне
родовой организации. «Роды», — это были богатые в первую очередь «гиб-
боре хайл», воины, те землевладельцы, которые по размерам своей
собственности были обязаны нести военную службу.
Но, утратив членство в роде, бедный вместе с тем утрачивал
своего родового бота. Он уже не принимал участия в культе преддов
182
своего рода. Тем решительнее более или менее пролетаризованная масса,
стоящая вне «родов», обращалась к культу великого Ягве, который был
не только богом того или иного рода, богом не только ненавистных
землевладельцев, но всего народа. И жрецы Ягве сумели использовать
такой оборот. Чем более культ богов семейных и родовых превращался
в аристократический культ, тем решительнее, как ясно следует из речей
пророков, их Ягве делался демократических богом, богом нуждающихся.
Они требовали возврата к древним порядкам, установленным Ягве,—
к тому строю нравов и учреждений, когда «сильные еще не пожирали
парод, как людоеды» и, «подобно мельничным камням, не перемалывали
бедных». Жрецам Ягве, в особенности левитам, и самим приходилось
вести тяжелую борьбу против родов. Уничтожение старого культа
предков принесло бы для них возвышение их собственного положения и
доходов. В особенности были они заинтересованы в осуществлении того
требования, чтобы у заримов — начальников родов, отняли их судебное
звание и опять обратились к божественным заповедям Ягве: ведь только
они, жрецы Ягве, были (полномочными истолкователями этих
заповедей.
Тем не менее культ предков в Самарин и Иудее продержался бы,
вероятно, еще много столетий, если бы покорение обоих царств
ассириянами и вавилонянами не повело к полному уничтожению древнего
родового строя. В 722 г. до р. X. Самария была разрушена Саргоном, царем
ассирийским и, как гласит одна надпись Саргана, 27.280 знатных
израильтян подверглись выселению. Вместо них в земле израильской
были поселены халдейские и ассирийские колонисты. В 720 г. часть
Самарии в союзе с Арпадом, Дамаском и Емаф'ом опять восстала, чтобы
свергнуть ассирийское иго. Но лишенное всякою плана восстание
легко и быстро было подавлено. Последовали дальнейшие выселения.
Сила израиля была окончательно сдомлена.
С этого времени Иудея сделалась единственным носителем нацш>
налъных упований израильтян и единственным хранителем культа Ягве.
Но в 597 г. Иудейское царство тоже пало жертвою нападений со стороны
Вавилона. Вавилоняне завоевали Иерусалим и увели, в плен большую
часть «гибборе хайл», землевладельцев, обязанных нести военную службу
«родов». В стране были оставлены только часть городского
перемешанного населения и «даллат ат гаары» — бедное сельское население. А когда
оставленные, уповая на помощь Ягве, сделали повторную попытку
свергнуть вавилонское иго, в 586 году, после новою завоевания Иерусалима
жители Иудеи, способные носить оружие, тоже были уведены в плен.
Правда, в вавилонском плену первое время родовая организация
еще сохранялась, и даже возвращение из плена отчасти совершалось по
родам. На это вполне определенно указывает глава седьмая «Книга Нее-
мии»: «Вот жители страны, которые отправились из пленников,
переселенных Навуходоносором, царем Вавилонским, и возвратились в
Иерусалим и Иудею, каждый в свой город... сыновей Пароша две тысячи сто
семьдесят два, сыновей Сафатии триста шестьдесят два, сыновей Пахаф-
Моава, из сыновей Иисуса и Иоава, две тысячи восемьсот двенадцать ...
Сыновей Иммера тысяча пятьдесят два, сыновей Пашхура тысяча двести
сорок семь» и т. д. Но в этой же главе говорится: «И вот вышедшие из
Телмелаха, Телхарши, Херув-Аддона и Иммера; но они не могли
показать о поколении (колене) своем и о племени (роде) своем, от израиля ли
они... И из священников: сыновья Ховаии, сыновья Гаккоца, сыновья
Верзиллия ... Они искали родословной) своей записи, и не нашлось, и
183
потому исключены из священства». Совершенно такие же условия, при
которых происходило возвращение из вавилонского плена,
обрисовываются в главе' второй «Первой книги Ездры».
Таким образом возвращение совершалось не цельными и
'сплоченными родами, а отдельными раздробленными частями, которые скоро
растворились в «безродном» населении, оставшемся в Иудее. Родовой
строй был совершенно разрушен, хотя страсть к установлению своей
родословной удерживалась еще в течение долгого времени. На место
родового строя выступило жреческое государство, теократия. А с
уничтожением старинной родовой организации неизбежно пал и культ родовых
предков. Но тем больше усиливался в новом Иудейском царстве культ-
национального бога Ягве, который победил вавилонян и воссоздал Иудею.
Около поклонения ему сосредоточились все стремления к политическому
единству, к защите самостоятельности, охране своей народности, со всех
сторон окруженной миром чужих народов.
Следовательно, иудейский монотеизм возник из особых условий со^
циального развития евреев, а не был результатом этических
размышлений о боге.
* *
*
Итак, Ягве развился в национального бога таким же способом, как-
национальные боти возникали,у других народов. Он возник благодаря
развитию политической, государственной организации из прежнего
общинно-родового строя. Отличие от других государств древности
заключается только в том, что, вследствие более быстрого разложения семейного
коммунизма и неоднократного увода землевладельческих, консервативных
элементов в плен, родовая организация, а вместе с тем и культ родовых и
семейных богов были разрушены здесь быстрее, чем в других странах.
Следовательно, если так называемый иудейский монотеизм появился здесь
быстрее, чем в других государствах древности, то это — не результат
особого предрасположения евреев к монотеизму и не результат их более
высокой нравственности или более глубокого отношения к идее бога:
это—результат их социального развития, которое, хотя шла оно в общем по тем же-
путям, как у других народов древнего мира, однако сравнительно рана
привело к образованию теократического прочного государства,
построенного не на общинно-родовой, а на политической организации.
Таким же пустым вымыслом, каав это особое предрасположение
еврейского ума к монотеизму, является и утверждение, будто Ягве сначала
был богом природы, богом воздуха, ветра, грома, вулкана, огня. Подобно
всем богам у семитических народов, Ягве сначала тоже был
богом-предком и в его культе даже в позднейшую эпоху особенные формы, которыми
характеризуется почитание предков и духов (душ), сохранялись в более-
отчетливом виде, чем в культе большинства богов Египта и Вавилона.
Так как в этих государствах все экономические существование уже-
в раннюкг эпоху попало в полную зависимость от .воздействия сил
природы, то боги превратились там в богов-покровителей земледелия,
подателей тепла и воды и т. д. в несравненно большей мере, чем
еврейские элогимы.
Но чтобы таким образом понять характер еврейской религии,
необходимо совершенно' отбросить тот старинный богословский взгляд*
который видит в иудейской религии Ягве дохристианскую религию вообще,
особенным образом откровенную самим богом. Необходимо подходить
184
к изучению еврейской религии исключительно так же, как и к
исследованию любой из сотни других религий: это — продукт естественного
развития, складывавшийся по тем з£е законам, как развивалась всякая другая
религия, и потому к ней приложимы общие законы, выведенные из
изучения других религий. Поэтому было бы ошибочно думать, будто
исключительно путем критики текста и языка того литературного материала,
который дает нам ветхий завет, можно притти к пониманию
действительного характера древне-еврейской религии. Конечно, эта критика имеет
свою определенную ценность. Но она может раскрыть только одно: там-то
имеются противоречия, там-то соединены разнородные сообщения, там-то
сделаны дополнения, вычеркивания, перетасовки. Напротив, она не в
состоянии объяснить всего психологического построения религии и его
исторических основ, коренящихся в условиях существования еврейских
племен. Это познание мы получим лишь в том случае, если постараемся
исследовать еврейскую религию в ее первых зачатках, если увидим в ней
просто один из этапов в общем процессе развития религии, проследим
предшествующие ступени у других народов и возьмем библейские
рассказы как сырой материал, который может претендовать на признание
лишь постольку, поскольку он психологически согласуется с
результатами общего изучения религии. Но при этом не обойтись без этнологии
(народоведения — сравнительного изучения быта, .учреждений и
воззрений у разных народов). Этнология же совпадает с социологией, т.-е.
с наукой о закономерном ходе развития человека.
Этот метод раскрыл нам действительную историю иудейского бога,,
которого христианский мир признает и своим богом.
(«Происхождение нашего бога»).
К. Каутский
ЕВРЕЙСКИЙ И ХРИСТИАНСКИЙ МОНОТЕИЗМ
Представления о божестве у первобытных народов всегда очень
неопределенны и запутаны. Они никогда не облекаются в такую
отчетливую форму, какую они приобретают в мифологиях ученых
исследователей. Отдельные божества представляются ю»чень неясными и не
отграничиваются друг от друга вполне отчетливо. Это — неизвестные,
таинственные личности, оказывающие воздействие на природу и людей,
приносящие им счастье или несчастье, но они являются еще в более
призрачных и расплывающихся очертаниях, чем образы сновидений.
Единственное определенное отличие одного божества от другого
заключается на этой 'стадии ъ их локализации. Всякая местность,
возбуждающая воображение первобытного человека, представляется ему как
местопребывание определенного божества. Высокие горы или отдельные
скалы, своеобразно расположенные рощи и даже отдельные кущи
старых деревьев, источники, пещеры наделяются известного рода святостью
как жилища ботов. Но и камни или пни, имеющие своеобразную форму,
могут также считаться местопребыванием божества, святилищем,
обладание которым обеспечивает помощь божества, живущего в нем. Каждое
племя, каждый род старался приобрести такое -святилище, овладеть
таким фетишем. То же самое приходится сказать и о иудеях, религиозные
представления которых первоначально вполне соответствовали этой ста-
185
дии и были очень далеки от монотеизма. Святилища израильтян в первое
время были такими фетишами, начиная от «идолов» (терафим), которые
Яков украл у своего тестя Лавана, и вплоть до ковчега, местопребывания
Ягве, приносившего победу, дождь и богатство тем, кто законно владел
этим ковчегом. Священные камни, бывшие предметом почитания
финикиян и израильтян, но&или название «вефилей», жилщ богов.
На этой стадии развития боти отдельных местностей и фетишей
очень мало индивидуализируются и очень часто носят общее название;
так, у израильтян и финикиян многие боги назывались, например, Эль
(во множественном числе — Элогим), а другие назывались у финикиян
Ваал — господин. «Несмотря на общее название, все эти Ваалы были
вполне различные существа. Для отличия часто ограничивались
прибавлением названия места, где оказывалось почитание соответствующему
богу».
Более резкая диференциандя отдельных божеств в народном
сознании сделалась возможной только тогда, когда искусство достигло
такой высокой степени развития, что могло индивидуализировать и
идеализировать человеческие образы, создавать определенные, вполне
своеобразные фигуры, отличавшиеся .сверхчеловеческой красотой, высотой или
величиной, или внушавшие особенный страх. Только тогда многобожие
получило материальную основу, невидимые боги стали видимыми и
получили для каждого одну и ту же форму. Отдельные боги были надолго
диференцированы друг от друга, так что уже невозможно было смешать
их друг с другом. Из сонма бесчисленных духовных 'Существ, кипевших
В; фантазии первобытного человека, можно было выделить некоторые
фигуры и индивидуализировать их.
В Египте мы особенно отчетливо можем проследить, как с развитием
живописи и скульптуры растет число отдельных богов. Не -случайностью
является и то обстоятельство, что в Греции апогей развития
художественной промышленности и искусства изображения человека совпадает с
наибольшими многообразием и резкой инргвидуализацией мира богов.
И именно в силу отсталого состояния промышленности и искусства
израильтянам не удалось проделать шаг вперед, сделанный народами
более развитыми индустриально и художественно, т.-е. процесс вытеснения
фетиша, местопребывание духа или бога, его изображением. Они в этом
отношении остались на стадии бедуинского миросозерцания. Создавать
изображения собственных богов им не удавалось, идолы, с которыми они
знакомились, были изображения богов, принадлежавших чужим, врагам,
они импортировались из-за границы или представляли подражание им.
Этим объясняется ненависть патриотов к таким изображениям.
Это являлось результатом отсталости, но она должна была облегчить
израильтянам победу над политеизмом, как только они познакомились
с философским, этическим монотеизмом, который возник в эпоху
высшего развития древнего мира в различных крупных городах. Там, где
в сознании народа укоренились определенные изображения различных
божеств, для политеизма создана была прочная основа, которую трудно
было разрушить. Напротив, неопределенность образа божества, а также
одинаковость названия его в различных местностях прелагали путь для
популяризации идеи единого божества, в сравнении с которыми все
другие невидимые боги являются низшими существами.
Как бы то ни было, не, случайно же все монотеистические народные
религии пустили впервые корни среди народов, проникнутых еще
мышлением, свойственным кочевому периоду и не знавших высокого развития
Т86
промышленности и искусства: наряду с иудеями восприняли монотеизм
персы и затем арабы, как только они пришли в соприкосновение с более
высокой городской культурой. К монотеистическим религиям следует
причислить не только ислам, но и религию Зенд-Авесты. Последняя тоже
знает только одного повелителя и творца мира, Агура:Мазду (Ормузда).
Ангро-Майна (Ариман) есть более низший дух, ка*с сатана.
Может показаться странным, что отсталые формы легче усваивают
и развивают дальше известный прогресс, чем более развитые, но это —
факт, с которым мы встречаемся уже в эволюции организмов. Высшие
организмы часто хуже приспособляются и легче вымирают, чем низшие,
обладающие менее специализированными органами и потому легче
приспособляющиеся к новым условиям. Но у человека его органы
развиваются не только бессознательно: наряду с своими естественными
органами он вполне сознательно создает новые, искусственные, производству
которых он может научиться у других людей. Поскольку речь идет о
таких искусственных формах, отдельных люда или группы могут
перескочить даже целую стадию развития, конечно, только тогда, когда она уже
до -них была достигнута другими, у которых они усвоили ее результаты.
Многие крестьянские селения ввели электрическое освещение скорее, чем
некоторые города, где уже был вложен большой капитал в газовое
освещение. Крестьянское селение могло совершить скачок от керосиновой
лампы к электрическому освещению, минуя освещение газом, но только
потому, что в крупных городах технике удалось устроить освещение
электричеством. Крестьянское селение не было бы в состоянии развить эти
знания вполне самостоятельно. Так и монотеизм нашел доступ к
народным массам у иудеев и персов гораздо легче, чем у египтян, вавилонян
и эллинов, но впервые идея бота была развита философами этих
высокоразвитых культурных наций.
* *
Монотеизм, вера в единого бога, не был свойственен только
христианству. И в данном случае можно проследить экономические корни,
из которых выросла эта идея.
Жители крупных городов уходили из-под непосредственного
влияния природы, разлагались все традиционные организации, в которых
отдельный индивидуум находил прежде твердую нравственную' опору;
наконец, интерес к собственному «я» становился главной задачей
мышления, которое все больше переходило от исследования внепшего мира
к размышлению о собственных ощущениях и потребностях.
Вначале боги служили для объяснения тех явлений природы,
закономерная связь которых не была известна. Такие явления были крайне
многочисленны и весьма разнообразны. Для объяснения и£ приходилось
принимать существование многообразных, различных богов, мрачных и
веселых, жестоких и мягких, мужских и женских. Чем больше
развивалось понимание закономерных зависимостей в природе, тем более излиш-
ными становились боги. Но в ходе тысячелетий они пустили слишком
глубокие корни в мышлении человечества, слишком тесно переплелись,
с обыденными занятиями, да и познание природы имело еще слишком
много пробелов, чтобы положить конец вере в богов. Все больше и больше
эти боги рытеснялись из одной сферы деятельности в друтую; все больше
превращались они из постоянных неразлучных товарищей людей
в сверхъестественные чудесные явления; из обитателей земли—в жителей
187
надземных сфер, небес; из деятельных, энергичных работников и борцов,
приводивших в движение весь мир — as бесстрастных зрителей игры
миров.
В конце-концов прогресс естественных наук вытеснил бы их
окончательно, если бы развитие больших городов и изображенный нами
экономический упадок не вызвали отчуждения от природы и не поставили
на первый план в области мышления изучение самого духа, т.-е. не
естественно-научное исследование всей совокупности опытных
духовных процессов, а изучение, в котором собственный дух индивидуума
становится источником всего познания о себе самом и уже таким
образом открывает ключ ко всей философской премудрости, к
познанию мира.
Несмотря на разнообразие движения и потребностей души, сама она
мыслилась единой и нераздельной. Естественно-научное понимание
сделало бы отсюда вывод о закономерности всей психической деятельности.
Но именно тогда начался процесс разложения старых нравственных основ,
отразившийся в сознании людей, как освобождение от всякой
зависимости, как свобода воли отдельной личности. Единство человеческой
психики могло быть, повидимому, объяснено только таким путем, что
человеческий дух есть часть одного и того же духа, эманацией и прообразом
которого является единая, непостижимая душа в каждом отдельном
человеке И такой же непротяженной, как эта отдельная душа, является
общая душа, мировая душа. Но она существует и действует во всех
людях, следовательно, она вездесуща и всеведуща, от нее не могут быть
скрыты самые тайные помыслвд. Перевес этического интереса над
естественно-историческим, из которого вытекала эта гипотеза всемирной
души, придал также последней нравственный, характер. Она стала
вместилищем всех этических идеалов, занимавших тогда людей. Но чтобы
стать таковою, она должна была быть отделена от физической природы,
которая прилепляется к душе человека и затемняет ее нравственное
содержание. Так развилось понятие нового божества. Последнее могло
быть только единым, соответственно единству души отдельных людей,
в противоположность множественности богов античного мира,
соответствовавшей многообразию явлений природы вне нас. И новое божество
стояло вне. природы и над природой, оно уже существовало до природы,
созданной именно им, в противоположность старым богам, которые сами
были частью этой природы и не были старше ее.
Но в какой бы чистой и нравственной оболочке ни выступали новые
духовные интересы человека, и все же совершенно игнорировать природу
нельзя было. А так как одновременно с этим естествознание все больше
приходило в упадок, то для объяснения природы приходилось опять
прибегать к допущению сверхчеловеческих личных влияний. Но высшие
существа, которые теперь вмешивались в естественный ход вещей, были уже
не суверенные боги: как некогда они были подчинены мировой душе, так,
по понятиям того времени, природа подчинена была богу, а тело — духу.
Они были посредниками между богом и людьми.
Эта концепция получает еще поддержку в политическом развитии.
Падение республики богов на небе совершалось параллельно с гибелью
республики в Риме; бог становился всемогущим императором небесных
сфер и так же, как и земной кесарь, имел свой придворный штат, святых
и ангелов, и свою республиканскую оппозицию, дьявола и его рать.
В конце концов небесная бюрократия, ангелы, были разделены на
такие же классы, на какие император разделил свою земную бюрократию,
186
и среди ангелов гордость рангом и титулом, -повидимшу, была так же
развита, как и среди чиновников императора.
Оо времени Константина придворные и чиновники были разделены
на различные ранги, из которых каждый носил особый титул. Так, среди
них имеются: 1) gloriosi, выоокопревосходительные — так назывались
консулы; 2) nobilissimi, высокоблагородные — так назывались принцы
крови; 3) patricii, бароны. Кроме этих классов дворянства были еще
следующие ранги высшей бюрократии: 4) illustres, просвещенные; 5) specta-
biles, досточтимые; 6) clarissimi, славнейшие. Ниже их стояли: 7) perfec-
tissimi, совершеннейшие; 2) egxegii, превосходительные и 9) comites,
«тайные советники».
На такой же манер организован небесный придворный штат.
Католические богословы знают это досконально. Так, например, «Dictionnaire
de la Theologie catholique»> в статье «Ангелы», сообщает о бесчисленных
ратях ангелов и продолжает: «В том бесконечном количестве ангелы
составляют различные классы, и церковь на втором соборе в
Константинополе в 553 г. высказалась против мнения Оригена, что все они по
сущности своей, добродетелям, свойствам и т. д. равны между собой».
Существует девять ангельских ликов, из которых каждые три составляют один
чин. Это: 1) серафимы, 2) херувимы, 3) престолы, 4) власти, 5)
добродетели, 6) силы, 7) начала, 8) архангелы, '9) ангелы (слово «ангел» означает
«вестник»).
«Не подлежит никакому сомнению, — замечает католический
теолог, — что простые ангелы составляют самый многочисленный класс,
а серафимы — наименее многочисленный».
Так ведется и на земле. Превосходительств очень мало, но простых
почтальонов бесчисленное количество.
Дальше сообщается следующее: «Ангелы живут с богом в тесном
и личном общении. Оно проявляется в бесконечной преданности,
совершенном подчинении, исключительной любви, полном и радостном
самоотречении, непоколебимой верности, ненарушимом послушании, глубоком
почтении, бесконечной благодарности, в молитве, выражающейся в
непрестанном славословии, постоянном возвеличении, священном
воодушевлении».
Точно такого же радостного послушания требовали императоры от
своих придворных и чиновников. Это был идеал византизма.
Мы видим, что в создании образа бога императорский деспотизм
принимал не меньшее участие, чем философия, которая оо времени
Платона все более действовала в духе монотеизма.
Эта философия до такой степени соответствовала всеобщему
настроению и чувству, что она быстро проникла в народное сознание. Так, уже
у Плавта, представителя художественной комедии, жившего в третьем
столетии до р. X. и передававшего в своих комедиях только популярную
философию того времени, мы встречаем такие места, как следующее,
в котором раб просит о милости:
Но жив господь, он знает все дела людей,
И с сыном он твоим поступит так, как ты со мной:
Воздаст за доброе он дело, но и за злодейство он воздаст.
Это уже вполне христианская концепция бога: Но этот монотеизм
был еще очень наивен, и легко мирился с существованием старых богов.
Даже христианам, серьезно верившим в чудеса язычников,, не приходило
в голову сомдеваться в их существовании. Но бог монотеизма не терпел
189
рядом с собой никакого другого бога, он хотел быть самодержцем. И если
языческие боги не хотели подчиниться ему и войти в его придворный
штат, то им оставалась только та роль — правда, очень сомнительного
свойства, — которую играла республиканская оппозиция при первых
императорах. Она заключалась в попытках сделать ту или иную пакость
своему всемогущему господину и восстановить против него бравых
подданных без всякой надежды низвергнуть его, а только ради того, чтобы
причинить ему при случае огорчение.
Но и этот нетерпимый, уверенный в сшей непобедимости монотеизм,
ни на мгновение не сомневающийся в превосходстве и всемогуществе
своего бога, развился уже до возникновения христианства — правда, не
среди язычников, а у иудеев, маленького своеобразного народа. Иудейство
еще сильнее развило веру в спасителя и обязанность взаимной поддержки
и тесного единения, удовлетворяя таким образом потребности того
времени в лучшей степени, чем какая-либо другая нация или группа
населения. Оно дало могучий толчок учению, выросшему из этих потребностей,
и доставило некоторые из наиболее важных его элементов.
(«Происхождение христианства»).
Г. Б. Плеханов
ЗАВИСИМОСТЬ МИФОЛОГИИ ОТ ТЕХНИКИ
Мы видели, что анимизм по самой природе своей не способен дать
сколько-нибудь удовлетворительное объяснение явлений, и что даже
дикарь, твердо держащийся анимизма, далеко не всегда прибегает к
анимистическим объяснениям. Теперь нам пора спросить себя: какой же,
однако, вид принимают эти объяснения там, где люди
удовлетворяются ими?
Человек убежден, что даннюе явление есть действие такого-то духа.
Но каким же образом может он представить себе тот процесс, с помощью
которого данный дух вызвал данное явление? Само собой понятно, что
этот процесс непременно будет напоминать собой тот или другой из *тех
процессов, с помощью которых сам человек вызывает желательные для
него явления.
Вот яркий пример. Некоторые полинезийцы на вопрос о том, откуда
взялся мир, отвечают: однажды бог сидел с удочкой на берегу моря, и
вдруг вытащил на крючке мир вместо рыбы. Первобытный рыболов
представляет себе действия бога по образу своих собственных действий, и так
поступает не один рыболов. Но действия «дикаря» заключены*в очень
узкие пределы крайне низким уровнем его техники. Библия говорит:
«И создал господь бот человека из праха земного, и вдунул в лицо его
дыхание жизни, и стал человек душой живой» («Бытие», гл. 4, ст. 7).
А когда Адам оогрешид, бог возвестил ему: «Прах ты и в прах
возвратишься» («Бытие», гл. 3, ст. 19). Убеждение в том, что человек был
сделан богом из «праха», точнее, из земли, еще точнее, из глины, очень
распространено в среде первобытных племен. Но это очень
распространенное убеждение предполагает известное состояние техники, а именно —
знание людьми горшечного искусства. А это знание приобретается
первобытным человеком далеко не сразу. Цейлонские веддахи до сих пор не
имеют его.
190
Поэтому, им не смогло бы притти в голову, что человек был сделан
богом из «земли», подобно тому, как горшок делается горшечникой из
глины. Характер первобытной космогонии вообще определяется
характером первобытной техники.
Нужно заметить, однако, — и это чрезвычайно важно для
выяснения причинной зависимости мышления от бытия, — что в первобытной
мифологии редко говорится о сотворении мира и человека. Дикарь
«творит» сравнительно мало; его производство ограничивается, главным оора-
зом, тем, что он с большей или меньшей затратой труда добывает,
присваивает себе то, что создается природой помимо его творческих усилий:
мужчина ловит рыб и убивает животных, между тем как женщина
вырывает коренья и клубни диких растений. Дикарь не творит всех
животных, ловля которых поддерживает его существование; но его
существование зависит от того, насколько он -знает привычки этих животных,
насколько ему известны те места, где они водятся и т. д. Вот, почему
основным вопросом, на который отвечает его философия, является вопрос не
о том, кто создал человека и животных, а о том, откуда они пришли. Раз
придуман ответ на этот коренной вопрос, первобытный охотник
удовлетворен, и его любознательность не выдвигает перед ним новых вопросов.
Для того, чтобы она выдвинула их, ему нужно предварительно сделать
новые шаги в области технического развития.
Для примера укажу на следующий, миф австралийцев племени
дайера. «В начале земля открылась посреди озера Перигунди, и из
трещины вышло одно животдое за другим: кеуельке — ворон; кетерерод —
поугай; уерукети эму — австралийский страус и т. д. Они еще не были
вполне сформированы, и у них недоставало членов и органов чувств,
поэтому они легли на дюнах, окружавших озеро. Так как они лежали
растянувшись на песке, то их силы возросли под действием солнца, и они стали
капа (т.-е. совершенными людьми) и, став такими, разошлись по BiceM
направлениям». Вот и все. Здесь, как видите, бог ровно ничего не делает:
земля сама открывается, и из нее выходят существа, правда, не совсем
еще сформированные, но сами собой формирующиеся под благодетельным
действием солнца. Современный христианин сказал бы, что такая теория
могла быть придумана только атеистом, и она, в самом деле, должна быть
отнесена к числу тех теорий, которые стараются объяснить эволюцию
живых существ, не прибегая к «гипотезе бога».
Это тоже может показаться парадоксом, но это неоспоримо так:
первобытный охотник — эволюционист по преимуществу. Во> всех
известных нам действительно первобытных мифах говорится не о создании
человека и животных, а об их развитии. Вот несколько примеров. Чтобы
покончить с Австралией, на которую я только-что ссылался, я укажу на
то, как, по рассказам австралийцев племени наррипайери, произошли
некоторые рыбы. Жили-были два охотника: Неррендир и Нипилл. Они
вместе ловили рыбу в одном озере. Нипилл поймал огромную рыбу, а его
товарищ разрезал 'ее на куски и бросил эти куски в воду. Из каждого
куска произошла особая порода рыб. Некоторые другие породы рыб имеют
иное происхождение: они произошли из плоских камней, которые были
брошены в воду одним из упомянутых выше двух охотников. Это очень
далеко от христианской космогонии, но это недалеко от того греческого
мифа, согласно которому люди произошли из камней.
Если из эквалиптовых лесов Австралии мы перенесемся в песчаные
пустыни Южной Африки, то мы найдем там, очевидно, очень древний
миф бушменов, открывающий нам, что люди и животные вышли из де*
191
щеры или из трещины в земной поверхности где-то на севере, где, как
уверяют сведующие люди, до сих пор видны следы, оставленные первыми
людьми и первыми животными. Этот миф сообщен миссионером Маффа-
том, считающим его совершенно нелепым. Но тот же Маффат признается,
что бушмены, в свою очередь, находили нелепым его рассказ о сотворении
мира: «вы. — говорили они, — не были в раю и не можете знать, что там
произошло; а мы можем найти оставшиеся на песке следы первого
человека»-.
История умалчивает о том, насколько убедительно возразил
почтенный христианин на этот, не лишенный остроумия, довод.
Недалеко от бушменов живет, — может быть, теперь вернее было бы
сказать: жило — племя овагереро, с которым немцы недавно вели такую
бесчеловечно-истребительскую войну. Овагереро гораздо развитее
бушменов; это не охотники, а типичные скотоводы. По их рассказам, первый
человек и первая женщина вышли из дерева, омумбо-ромбонго. Из того же
дерева вышел крупный рогатый скот, между тем, как мелкий рогатый скот
вышел из одной плоской скалы. Некоторые зулусы думают, что люди
вышли из тростника, а по мнению других, они вышли из-под земли.
В Новой Мексике индейцы племеди навахо рассказывают, что все
американцы жили первоначально в пещере, а потом прорыли дыру и
вышли наружу. Вместе с ними вышли и вое животные.
В этих последних мифах речь идет, правда, не об эволюции живых
существ, но об их появлении в готовом виде. Однако, это нисколько не
противоречит сказанному мною. В данном случае, для меня главное дело
не в том, явились ли живые существа в результате процесса развития,
или же всегда существовали в настоящем виде. Оно состоит в том, были ли
эти существа сотворены тем или другим духом. И мы видим, что ни один
из приведенных мною мифов не говорит об их сотворении. Мало того.
Эренрейх, основательно изучивший индейцев Южной Америки, говорит,
что там, где люди и животные считаются вышедшими из земли, никто уже
не спрашивает, откуда же они там ваялись. В другом месте, тот же автор
замечает, что там, где мифы выводят людей из-под земли, ничего не
упоминается об их 'сотворении. Впрочем, он сам несколько ограничивает это
замечание. По его словам, туземцы жной Америки уверены, что люди
всегда существовали, но только их было очень мало и потому все-таки
понадобилось впоследствии сотворять новых людей. Это, несомненно, уже
переход от старой мифологии к новой, отражающей -в себе успехи техники и
соответствующее им увеличение творческой деятельности человека в
процессе добывания им средств к жизни. Тот же Эренрейх приводит пример,
как нельзя лучше обнаруживающий тесную связь мифологии с первыми,
неверными шагами техники. Мы узнаем от него, что, согласно мифу,
господствующему у племени гварайо, человек был соадан из глины, но
что создать его таким образом удалось лишь после некоторых неудачных
попыток.
Итак, миф о сотворении человека возникает не сразу. Он
предполагает некоторые, с нашей нынешней точки зрения невысокие, но на
самом деле чрезвычайно важные успехи техники. И, чем больше
совершенствуется техника, чем больше растут производительные силы человека,
чем более увеличивается его власть над природой, тем более упрочивается
миф о создании мира богом1). Так продолжается до тех пор, пока диалек-
*) В одной из местностей древнего Египта бог Хнум изображался в виде
горшечники,, лепящего яйцо. Это было то первоначальное яйцо, из которого раз-
192
тика человеческого развития не поднимает власть человека над природой
на такую высоту, из которой «гипотеза бога», создающего мир,
оказывается ненужной. Тогда человек покидает эту гипотезу, — подобно тому,
как достигший совершеннолетия австралиец покидает гипотезу духа,
карающего детей за шалости, и возвращается на точку зрения эволюции,
характеризующей собой один из первых этапов развития его мысли. Но
теперь он обосновывает эту гипотезу с помощью всего того огромного
запаса знаний, который приобретается им в процессе своего собственного
развития. В этом случае последняя фаза похожа на первую, только она
неизмеримо богаче содержанием.
(«О религии»).
Г. Кунов
МИФЫ О СОТВОРЕНИИ МИРА У ДИКАРЕЙ И В БИБЛИИ
Мир дикого, это — то, что он воспринимает вокруг себя. Это — та
часть земной поверхности, на которой он живет, вода и атмосфера,
окружающая его область, явления природы, разыгрывающиеся в этом
пространстве. Он ничего не знает о широком мире, существующем для
образованного европейца, и точно так же ничего не знает о той охватывающей
многие тысячелетия истории, которая говорит о возникновении и развитии
этого мира. Его мир, это — лишь маленький, ограниченный, местный
отрезок нашего мира. Точно так же понятие создания или сотворения
в представлениях дикаря имеет совершенно иное значение, чем в
современной христианской мифологии. Дикарь не понимает творения из
ничего; это для него нечто неуловимое: из ничего не будет ничего.
Сотворение для него — исключительно придание новых форм, преобразование.
«Ум язычников, — говорит миссионер Уильям Уайт Гилль, — не
схватывает понятия высшего существа, из ничего сотворившего весь мир. Если
боги делают что-нибудь, то неизменно каждый раз предполагается, что
сырой материал, по крайней мере отчасти, существовал уже ршыпе».
Сотворение одним только велением свыше для дикаря, стоящего на
низшей ступени развития, тоже представляет нечто совершенно
непонятное. On знает только претворение, преобразование посредством затраты
труда. В соответствии с этим в древних мифах о возникновении и
сотворении у диких народов никогда не бывает так, чтобы божество
оперировало только властным велением. Если в мифах рассказывается, напр.,
что такой-то бог создал такой-то остров, то они говорят о том, как этот
бог сбрасывал камни и землю с неба, как он от какой-нибудь далекой
страны отрывал целые куски и в каком-нибудь другом месте вытряхивал
их в море, как он огромными сетями вылавливал из морской глубины
огромные массы земли и складывал их вместе и т. д.
Таким образом даже у тех австралийских племен, которые стояли на
такой высокой степени развития, что они уже перешли к почитанию
тотемистических божеств и так называемых всеотцев, представления о
возникновении рода человеческого и природы до чрезвычайности бедны содержа-
вился весь мир. Это — эклектический миф, соединяющий в себе первобытную
эволюционную теорию с учением о сотворении мира богом. В Мемфисе рассказывали,
что бог Фта построил мир, как каменщик строит здание. В Саисе верили, что мир
был соткан одной богиней и т. д. — Автор.
Г. Гурез 13
193
нием. Это соответствует малым размерам той части мира, которую знают
австралийцы, и гнетущему однообразию их образа жизни. В их
космогонических мифах земля предполагается уже давным-давно существующей,
нередко даже покрытой деревьями и заселенной. Великие деяния
прародителя, овсеотца, сводятся исключительно к тому, что он рождает потомство
(или в порядке естественного полового зарождения или же таким
способом, что он превращает в человека какое-либо животное), назначает
последнему какую-нибудь область и затем производит в ней всевозможные
изменения, повышающие ее обитаемость: напр., выкапывает родники и
водоемы, выравнивает скалистые вершины, делает солнце и ставит его на
небо и т. д. К тому же эти дела всеотца часто оказываются совершенно
недостаточными. Так, напр., в одном мифе у вотьабалук (западная
Виктория) рассказывается, что их предок «буньил» так плохо прикрепил
солнце к небесному своду, что оно не могло подниматься пока, наконец,
тотемистический бог рода сороки не отвязал солнца и не подтолкнул его
вверх длинной палкой.
Но чем более расширяются способы добывания средств
существования у первобытного человека, следовательно, чем шире и многообразнее-
становится его кругозор, тем более сложным и хлопотливым актом
становится мироздание по его представлениям. Хотя в мифах этих высших
ступеней творение тоже никогда не совершается из ничего, а, напротив,
всегда предполагается, что хаос уже существовал, тем не менее оказы-
ватся необходимым длинный ряд сложных божественные актов для того,
чтобы из этого хаоса мало-по-малу вышел современный мир.
Вот некоторые примеры.
Широко распространенный космогонический миф самоанцев (у
самоанцев существует несколько таких мифов), который в такой же
редакции мы встречаем на Гаваи (Сандвичевых островах) и Таити, и
который таким образом, надо полагать, сложился уже до ответвления вос-
точно-полинезского от западно-полинезского населения, в коротком]
изложении рассказывает следующее.
Вначале было широкое море, бесконечная водная гладь. Над нею
сводом стояло небо, на котором обитал тангалоа со своими божественными
детями. Он послал свою дочь, принявшую вид птицы-ржанки, вниз
посмотреть на землю. Она не увидела никакой земли. Печальная
возвращалась назад дочь тангалоа. Однако тот еще раз послал ее для
исследования, и теперь она нашла, что искала. В море образовался большой
остров из ила, превратившийся потом в трясину, и, наконец, в твердую
землю (по третьему, позднейшему варианту мифа дочь тангалоа опять не
нашла никакой земли, и тогда тангалоа сбросил со свода небесного в море
огромный обломок скалы — позднейший остров Оаваи, — а потом еще
скалу — позднейший Уполу). Затеям тангалоа послал птицу-ржанку вниз
с вьющимся растением и велел посадить его в толкую землю. Растение
процветало и размножалось, и на его корнях в теплой и сырой почве
возникли клещи и червеобразные пауки, первые живые существа на земле.
Из них мало-по-малу произошли другие ползающие и ракообразные
животные, пока, наконец, в новейший период земли из животного царства
не вышел человек.
Для того, кто не понимает психики дикаря, миф представляется
произвольной красочной игрой фантазии, — и, однако, все образы,
созданные здесь мышлением, основываются на чувственных восприятиях,
на наблюдении природы. Так как островитянин видит вокруг себя
широкое море, и его остров — просто маленькая твердая поверхность среди
194
этого моря, то первый акт создания он совершенно естественно мыслит
таким образом, что сначала было великое первозданное водное
пространство, на котором лишь позже возникли островные поверхности. Каким
способом? Или так, что силою духов были сброшены вниз массы земли,
или так, что волны нанесли в одно место массы ила, которые, как
рассказывает только что приведенный миф, сначала образовали просто трясижу
и лишь потом превратились в более прочную почву: процесс, наблюдать
который у островитянина на юге Тихого океана часто представляется
случай. И на таких-то илистых островах, выброшенных морем,
накопляются всевозможные водные растения (фукусы и другие водоросли).
Они пускают корни, и среди корней возникают, выводясь под лучами
солнца, личинки и болотные черви. Все — процессы, которые дикарь
почти каждый день наблюдает на илистых отложениях береговой полосы.
Итак, обитатели островов и побережий, так как они видят вокруг
себя широкое море, представляют себе первоначальное состояние земли
в виде широкого водного или илистого пространства, из которого лишь
позже показалась твердая земля (благодаря вмешательству первопредка
или благодаря естественному отделению ила). Совершенно так же
пастушеские народы, обитающие в степях, на плоскогорьях и в пустынях,
полагают, что сначала земля была голой, пустынной поверхностью, может
быть только кое-где покрытой небольшим количеством травы. Поэтому
начальный творческий акт их верховного предка-бога обыкновенно
заключается в том, что он, ниспослав дождь, чарами вызвав источники или
шера, оплодотворяет землю, заставляет произрасти траву, зелень и
кустарники и потом создает животных прирученных соответствующими
пастушескими народами.
Таким образом, напр., масаи (на севере германских владений
в восточной Африке) полагают, что сначала земля была безжизненной
иссохшей пустыней, которая охранялась особым драконом, по названию
ненаунир. Но вот однажды с неба спустился нгаи, предок племени, и
победил дракона, из тела которого вытекло много теплой крови,
оплодотворившей землю, так что в сухой пустыне возник пышный растительный
мир. Потом нгаи сделал солнце, луну и звезды и, наконец, первых людей
(каким образом, об этом не говорится), прародителей масаи. Мужчину
маитумбе он сделал на небе и потом опустил его на землю; напротив,
женщина наитерогоб. вьппла из земли (миф ясно раскрьгоает то воззрение
масаи, что мужчина много более благороден, чем женщина). Нгаи для
обоих указал обиталище в оазисе, возникшем из крови дракона; но так
как они обнаружили непослушание, то он отправил их в пустыню. Но там
не было никаких плодовых деревьев. Поэтому он решил дать им скот и
повелел им превратиться в скотоводов. Он разрезал на ремни большую
бычачью кожу и на них спустил на землю коров, ослов (и козлов. Но
первоначально — ни одной овцы. Только позже, после многочисленных
молений прародителей, он велел ей свалиться на землю. Таким образом
масаи получили свой скот; а так как от первой пары родились сыновья
и дочери, которые в свою очередь оставили многочисленных потомков, то
масаи скоро сделались большим народом.
Конечно, существуют многочисленные переходы и промежуточные
звенья между представлениями народов-островитян, занимающихся
рыболовством, и представлениями пастухов-номадов. Когда рыболовческие
народы, вытесненные из своих прибрежных обиталищ, идут внутрь страны
и подпадают влияниям исстари осевшего там населения, живущего
возделыванием земли, или когда пастушеские народы, привлекаемые богат-
13*
195
^огвом, проникают в богатые прибрежные страны, часто возникают
всевозможные помеси из таких мифов, при чем отдельные представления
нередко находятся в -вопиющем: противоречии между собою. Такую же
смесь представляет и tgt миф о сотворении, который рассказывается
в двух первых главах «Бытия» (первой книге Моисея). В нем
заключаются два совершенно различных понимания и рассказа, из которых
первый, составляющий первую главу и четыре первых стиха второй главы,
критики Библии обыкновенно называют мифом о сотворении, взятым из
жреческого сочинения, а второй (глава 2, стихи 5—25) — подвергшимся
позднейшей переработке и дополнению мифом о сотворении, записанным
одним иудейским священником (так называемым ягвистом).
В том пересмотренном переводе Библии, который издан
профессором Каучем при сотрудничестве десяти других профессоров богословия,
первые пять стихов первой главы гласят так:
«В начале сотворил бог небо и землю. Земля же была пуста и
пустынна (по-еврейски: тогу-вабогу), и тьма лежала на океане (по-еврейски:
тегом), и дух божий (по-еврейски: руах Элогим) носился над -водою
(га маим). И сказал бог (Элогим): „да будет едет!" И стал свет. И увидел
бог, что свет хорош, и отделил бог свет от тьмы. И назвал бог свет днем,
•а тьму он назвал ночью. И был вечер, и было утро — день первый».
Перевод лучше, чем в Библии Лютера. Однако и этот
пересмотренный текст не воспроизводит точного первоначального смысла только что
приведенного мифа, пересказывающего сумерийско-вавилонокий миф
о сотворении. Если мы оставим в стороне лишь много позже вставленную
фразу: «В начале сотворил бог небо и землю», то в приведенных строках
мы встречаемся не"с тем взглядом, на который наводит перевод, что
сначала земля была «пустой и пустынной» поверхностью, а с тем взглядом,
что она представляла великую первобытную водную гладь. Перевод
еврейских слов: «тогу вабогу», словами «пуста и пустынна» совершенно не
соответствует первоначальному смыслу этих слов: «боту» есть не что иное,
как сумерийское слово «ба'у», первобытные воды. Следовательно,
приведенное место Библии в точном переводе должно бы гласить: «земля же
была первобытной водной гладью».
Что этот перевод — единственно правильный и верный, доказывается
уже непосредственно следующим предложением: «И тьма лежала (висела)
на океане». Если земля была сначала просто пустой (в русском переводе
«Библии» «безвидной». Перев.) и пустынной гладью, откуда же в таком
случае разом появляется этот океан? Та оговорка, что кроме пустой сухой
поверхности на земле было еще и большое море, не имела бы смысла, так
как в' стихах 6—8 'рассказывается, что второй творческий акт бога
заключался в том, что он сделал между водами отделяющую стену (твердь),
т.-е. разделил земные воды от вод вверху (от вод по ту сторону небесного
свода1). И лишь после того, как это произошло, «Элогим» (собственно
-1) В мифологии древних народов мы часто встречаемся с тем представлением,
что над небесным сводом находится второе большое море. Сумерийцы и шедшие
по их стопам вавилоняне верили, что над великой «раздельной стеной», т. е. над
твердью неба, имеющей форму свода, стоят большие массы находящейся в
движении воды, которые удерживаются от падения только мощными задвижками.
В* Ригведе, древнейшем произведении арийцев-индусов, мы тоже часто встречаемся
с представлением о широком первобытном море, находящемся над небесным сводом.
То же представление мы находим вЬ многих мифах народностей на юге Великого
океана, напр., у новозеландцев; как они думают, всемирный потоп произошел
вследствие того, что бог Таваки в гневе так сильно топнул в дно небесного свода, что
он проломился, и воды верхнего океана хлынули на землю. — Автор.
196
«боги», потому что «Элогим» — форма множественного числа) в третий
день творения перехрдит к тому, чтобы заставить землю выступить из
первобытных ©од. Именно, в стихах 9—10 говорится: «И сказал Элогим:
да соберется вода, которая под небом (т.-е. вода, находящаяся под небом,
в противоположность воде, находящейся наверху небесного свода), в одно
мест так, чтобы делалась видимой суша. И назвал бот сушу землею, и
собрание вод назвал морем». Итак, лишь тогда, в третий день творения,
из первобытных вод появилась земля; следовательно, ее еще не было при
самом начале творения!
К тому же в стихе 2: «и тьма лежала на океане», этот океан
называется не тем словом, каким обычно обозначается море, а словом tehom,
происходящим от сумерийского слова «tamtu» и означающим
«первобытное мировое море».
Над этими широкими первобытными водами, — так говорится
дальше в тексте мифа, — сначала носился «дух», или, правильнее,
«дыхание» бога: ведь «ruach elohim», точно говоря, значит «дыхание Эло-
гима». Следовательно, здесь, как еще и в настоящее время у некоторых
диких народов, дыхание просто отожествляется с душою (духом).
Но так как глубокая тьма вое еще покрывала первобытные воды, то
Элогим трудом своего первого дня создал свет, — пробуждения дня. «Он»,
говорится в тексте Библии, «отделил свет от тьмы и назвал свет днем,
а тьму ночью». Но что это был за свет? Имеется ли при этом в виду
солнце? Этого не может быть: в стихах 14—18 рассказывается нам, что
только в четвертый день бог (Элогим) сделал два светила и звезды и
поставил их на тверди небесной. Но что же такое за свет, сотворенный богом
уже в первый день творения? Не может быть, чтобы он для
препровождения времени создавал солнце дважды: один раз в первый день, — и потом
еще раз во второй день творения?
Критика Библии со своими истолкованиями по сей день беспомощно
ходит вокруг этого, повидимому, двоекратного творения; и однако для
того, кто знаком с мифами о сотворении у народов на юте Великого океана,
дело объясняется весьма просто. Для народов, которые еще не проникли
в тайны солнечной системы, солнце не является подателем дневного света.
Из того простого факта, что светло и темно становится в то время, когда
на небе не видно солнца или луны, для народов этой ступени развития
вытекает тот вывод, что дневной свет не зависит от солнечного света, что
тот и другой представляют нечто различное. Поэтому в мифах народов
на юге Великого океана за периодом «первобытной» ночи обыкновенно
немедленно следует период «света», «пробуждения дня», «появления
света», «рассвета», хотя еще нег солнца, и оно возникает лишь в
дальнейшем ходе развития мира;
Весьма характерно в этом отношении изменение понятия «дневной
свет» у древних перуанцев. Первоначально дневной свет (пуншау)
представлял в их тлазах нечто вполне безличное, — просто свет,
противоположный ночному мраку (тута). Затем, когда возникает понимание, что
дневной свет—результат светящейся силы солнца, дневной свет в
известном смысле персонифицируется (олицетворяется), называется в молитвах
апупуншау (т.-е. господин — или господь — дневного света) и потом
отожествляется с инти, солнцем.
То же относится и к сумерийцам, которые первоначально считали
дневной свет явлением, независимым, от солнечного света; но их
преемники, семитические вавилоняне, знали причину смены дня и ночи; для
них солнце было дневным светилом, луна — ночным. И уже уломинав-
19*7
шееся место в главе первой, стихи 14—18, возникло лишь много позже,
в эпоху, когда астрономия у вавилонян уопела 'сделать крупные
завоевания. В противном случае в стихе 14 не говрилось бы, что светила должны
служить «для знамений и времен и дней и годов».
С этим представлением, что вначале земля была окружена
огромным первобытным морем, вполне согласуется и то обстоятельство, что
затем, согласно стихам 20—27, Элотим в дальнейшем ходе своей
творческой работы творит сначала морских животных и «душу животных
пресмыкающихся, живущих в воде», потом птиц, скот (домашних животных),
пресмыкающихся, диких животных и, наконец, людей, — притом
одновременно пару людей, мужчину и женщину.
Все это — космогонические представления, встречающиеся только
у островитян и побережных народностей, для которых море доставляет
наибольшую часть средств существования. Израильтяне восприняли эти
представления от семитических вавилонян, а последние в свою очередь,
от покоренных ими обитателей области Евфрата и Тигра, от сумерийцев.
Но откуда сумерийцы взяли эти представления о сотворении мира?
Трудно с уверенностью ответить на этот вопрос. Перед своим вторжением
в долину Евфрата они по всей вероятности некогда в течение долгого
времени жили на берегу моря, — может быть, Каспийского или Аравийского;
но может быть и так, что они в свою очередь заимствовали эти
представления о первобытных водах у какого-либо другого народа.
В резкой противоположности этому стоит рассказ о сотворении мира
во второй главе первой книги Моисея, который в точном переводе
начинается следующими словами:
«В то время, когда Ягу-Элогим А) создал землю и небо (на еврейском
языке нет слова, означающето «вселенная» или «мир», а потому в тексте
Моисея всегда говорится в соответствующих случаях «земля и небо» или
«небо и земля»), — и всякого полевого кустарника еще не было на земле,
и всякой полевой травы еще не было на земле; ибо Ягу-Элогим еще не
посылал дождя па землю, и не было человека для возделывания земли; и
поток (масса воды) вырвался из земли и оросил все лицо земли, — тогда
сделал Ягу-Элогим человека из праха полей земли (конечно, правильнее:
*) Имя главного иудейского бога, который, впрочем, сначала был лишь
особым богом племени (колена) Иуды (по-еврейски: Иегуда или Ягуда), я передаю
словом «Ягу», хотя новейшая критика Библии воспроизводит его словом «Ягфе»
или «Ягве». На еврейском языке, на котором гласные при письме выпускаются,
это имя бога звучит Jhvh, а массореты (толковники, — иудейские книжники,
которые по разрушении иудейского царства собирали и заново редактировали
ветхозаветное писание) впоследствии подставили под это название гласные слова «адонаи»,
чтобы показать, что при чтении вслух вместо слова Jhvh должно произноситься
слово адонаи (господь). Это повело к тому, что раньше, между прочим и Лютером,
слово Jhvh переводилось словом «Иегова». Когда впоследствии теология открыла,
что это неверно, стали писать jahve, jahveh, jahw (Ягве) и т. д. Однако, как
недавно установлено с полной несомненностью, и этот выговор неправилен. Именно,
когда начали разбирать клинообразные надписи, то открыли, что в древних текстах
клинообразных письмен имя этого иудейского бога часто обозначается, как «ja'u»,
и тогда разные исследователи высказали мнение, что неправильно до того времени
читали «jahve» или «jahwe» (Ягве), — что древне-еврейский бог назывался «Jahu»
(Ягу, Jahuh). Однако, в первое время представлялось еще довольно сомнительным,
тожествен ли иудейский «Ягве» с «Ягу» клинообразных надписей. Но вот несколько
лет тому назад в развалинах Элефантины близ Ассуана в Египте было найден©
несколько документов (папирусов), написанных на арамейском языке, и между
прочим один папирус иудейской военной колонии, относящейся к У веку до Р. X.;
в нем главный иудейский бог постоянно называется «Jahu». Поэтому едва ли
можно сомневаться, что слово «Jhvh» должно читаться не «Ягве», а «Ягу» ила
«Ягут». — Автор.
193
земли-матери», потому что стоящее здесь слово — adamah, — это лишь
женская форма слова adam — имени первого человека) и вдунул в ето
нос дыхание жизни (душу). И стал человек живым существом.
В этом сказании о сотворении — несомненно, заимствованном из
позднейшего мифа и сжатом в несколько строчек, — тоже с самого начала
предполагается, что земля уже существовала, но она была совершенно
голая, так как Ягу-Элогим еще не посылал дождя. И еще не было людей
для того, чтобы возделывать землю; однако совершенно сам собою, — без
всякого содействия Ягу-Элогима, — из земли вырвался поток (масса
воды), который смочил поверхность земли. Лишь после того, как было
создано плодородие земли, Ягу-Элогим сотворил из земли первых людей,
сначала только мужчину, вдохнул в него жизнь и поместил его затем
в саду Эдеме, в раю, лежащем далеко на востоке. Однако Адам начал
скучать, и чтобы создать для него общество, Ягу-Элогим начал делать <—
тоже из земли — разнообразных четвероногих и птиц — водных
животных этот миф вообще не знает—и 'Приводил их к человеку, который давал
им названия по своему усмотрению. Но так как первый человек
(мужчина) был все еще недоволен, то Ягу навел на него сон, взял у него ребро
(точнее, часть бока) и сделал из последнего женщину для него.
Этот миф мог возникнуть толыко среди земледельческого народа,
обитающего в засушливых странах и часто тщетно ожидающего дождя.
Потому что в этой легенде — позже вставленное впереди предложение:
«когда Ягу-Элогим создал землю и небо», я оставляю пока в стороне —
в качестве первобытного состояния предполагается сухая земля без вод,
голая поверхность, на которой ничего не фастет, так как еще нет
возделывателя: представление, которое могло возникнуть только у народа,
жившего в безводной стране и уже занимавшегося земледелием, но не
знакомого с пынщой растительностью рек и лесов; иначе был бы
необъясним тот взгляд, что для произрастания растений необходимо
возделывание земли человеком. Кроме того, автору этого рассказа
совершенно чуждо представление о великих водах, морях и озерах. И вот
Ягу-Элогим создал только полевых животных и .птиц; животных,
живущих в воде, по этому мифу о сотворении совершенно не существует.
Впоследствии оба мифа о сотворении были прилажены один к
другому и, несмотря на их внутренние противоречия, соединены в один миф.
Но и этим не удовлетворились обрабатывавшие тексты, — по всей
вероятности происходила неоднократная переработка текстов: первоначальные
наивные представления о боге они приспособили к своим более передовым
представлениям и контрабандой ввели в оба текста мифа отдельные
предложения, которые раньше не могли бы стоять в них. В самом начале
первой главы говорится: «Вначале сотворил Элогим небо и землю».
И однако вслед за тем рассказывается, что земля была пуста и пустынна,
представляла хаос, и дух божий носился над первобытными водами. Или,
быть может, Элогим сотворил и хаос, первобытные воды? Но почему же
в таком случае он не создал разом плодородную землю? Странно в
самом деле, что этот миф о сотворении заставляет Элогима 'создавать
сначала неупорядоченную пустынную массу, первобытное море, и лишь
потом, в новых и новых повторных актах совершенствующего
вмешательства того же самого бога, приводит к тому, что из хаоса вступают в
существование отдельные заключающиеся в нем части. Это предположение,
что мир развился из первоначального хаоса, не имеет ничего общего с
понятием сотворения вселенной всемогущим богом, который своим словом
мог создать мир из ничего. По самому понятию хаоса, он не был согво-
199
рен. С лонятием хаоса связывается представление о естественном
процессе развития, с понятием сотворения — представление о внезапном
сверхъестественном возникновении. К тому же мы видим, что в сумерий-
ском мифе о сотворении, от которого окольным путем через вавилонских
семитов заимствовано это представление первобытного праморя, последнее
представляется не чем-то таким, что создано богом: для
соответствующего коуга представлений оно искони существовало. Таким образом не
остается ничего иного, как только предположить, что слова: «Вначале
сотворил Элогим небо и землю», были вставлены лишь впоследствии, -^
к вящшей славе Ягу-Элогима.
Но благочестивое усердие только вредит, — и, как часто бывало
с ветхозаветным текстом, люди, перерабатывавшие дошедшие до них
древние мифы, совсем не заметили, что они, сделав свою вставку, впали
в противоречие с последующими стихами 6—8. Они представили дело»
таким образом, что бог сначала сотворил небо, а потом землю. Но
согласно указанным стихам, небо возникло лишь во второй день творения
таким способом, что Элогим сделал «раздельную стену» между
первобытными водами, т.-е. воздвиг небесный свод.
Но те же благочестивые старания людей, обрабатывавших текст
впоследствии: того творящею бота, который лишь тяжелым трудом
создает мир, заменить всесильным богом, которому стоит только
произнести веление, чтобы разом возникло желаемое,,— эти старания опять
дают знать о себе в первой главе. Так, напр., в «Первой книге Моисеевой»
(«Бытие»), глава первая, стихи 6—8, говорится:
«И оказал бог: «Да будет твердая стена (по-еврейски: rakia)
посреди воды, и да отделит она воду от воды». И бог сделал твердую стену
и отделил так воды, которые под стеною, от вод, которые над стеною.
И стало так. И назвал бог раздельную стену небом. И был вечер, и было-
утро: день второй.
«И сказал бог: „Да соберется вода, которая под небом, в одно место
так, чтобы сделалась видимой суша". И стало так».
Следовательно, сначала Элогим повелевает: «Да будет твердая
стена посреди воды!» И тотчас это делается по его повелению. А потом
трудом собственных рук он еще раз делает такую стену; тяжелая работа,
требующая от него такого напряжения, что он, сделав в следующие
четыре дня солнце, луну и звезды, животных, растения и людей, в седьмой
день должен был получить отдых от своего сурового труда.
Здесь явным образом слиты между собою двоякого рода воззрения:
одно древнейшее, согласно которому бог делает мир тяжелым личным
трудом, и другое, много более позднее, согласно которому бог творит
мир своим божественным велением. Последнее понимание несовместимо
с тем, чтобы бог на седьмой день отдыхал: ведь, сказав в каждый из
шести дней по полдюжине или даже по целой дюжине слов, не мог же
всемогущий бог устать 'настолько, чтобы на седьмой день отдых сделался
необходимым для него. Поэтому остается только предположить, что
в двух первых главах Бытия («Первой книге Моисеевой») первоначально
говорилось только о том, как бог «делал», и фразы: «Вначале сотворил
бог небо и землю» или «И сказал бог: да будет» и т. д., были вставлены
лишь много позже.
(«Возникновение религии и веры в бога»).
200
И. Я. Степаноа
ВОЗНИКНОВЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ВЕРОВАНИЙ О ЗАГРОБНОМ
МИРЕ
Ранние христианские представления о загробных блаженствах и
мучениях, о рае и аде была ярки, просты, отчетливы, красочны. Один
из отцов христианской церкви Ириней писал: «Тогда будет расти
виноград, — от каждого корня десять тысяч лоз, на каждой лозе десять тысяч,
больших ветвей, на каждой большой ветви десять тысяч мелких, и на
каждой такой ветви десять тысяч кистей, и в каждой кисти десять тысяч
ягод, а в каждой ягоде на двадцать ведер вина».
И не только целые моря и океаны вина будут доступны для
праведников, которые на земле пили одну воду: они будут наслаждаться и
любовными радостями. «Молодые девушки, — пишет тот же Ириней,
возведенный церковью во святые, — будут развлекаться в обществе юношей;
такие же права и возможности будут у старцев, и среди наслаждений
не останется места печалям».
Это очень похоже на магометанский рай с его гуриями. Вот только
насчет вина у магометан было строго.
Очень ярко и красочно расписывались райские блаженства святыми
отцами. Образованные люди начали конфузиться их. Богословы в один
голос объявили, что это — языческие представления, что они был
снисходительной уступкой грубой толпе, неспособной возвыситься до
понимания тонкого, бесплотно, духовного.
Нет и не будет никаких плотских, телесных мук и наслаждений
в аду и раю. Все это надо понимать «духовно» и «иносказательно»:
терзания совести грешников, — у которых тогда явится такая совестливость,
какой у них на земле не было и в помине, — эти терзания будут столь
мучительными, болезненными, непрестанными и жгучими, что их можно
уподобть действию вечного неугасимого пламени на тело, горящее и не
сгорающее в этом огне.
И не будет для праведников никаких райских садов с вечно
поющими ангелами и птицами, с благоухающими цветами, с деревьями и
кустами, которые сгибаются от невиданных на земле плодов и громадных
кистей винограда. Блаженство — в близости к творцу, в его лицезрении7
в растворении в нем. Цветы, плоды, виноград, нища и питье будут
совершенно злишни уже по той причине, что у бесплотного существа,
у души нет никаких физических потребностей, она не нуждается
в одежде, пище, питье и в плотских наслаждениях. Все это надо
понимать тоже духовно, иносказательно. Мы, а в особенности грубая,
непросвещенная толпа, не в состоянии представить себе всей глубины и
величия блаженства, ожидающего праведников, когда они будут ближе
к богу. Но для нас необходимы воспитательные воздействия, необходимо,
чтобы мы знали, как велика ожидающая нас награда. Ну, и тут уж
ничего не поделаешь: это 'блаженство, ожидающее праведников и нам
неведомое, превосходящее все, что мы знаем, приходится сравнивать с тем
единственным, что мы ясно представляем себе, т.-е. с плотскими
наслаждениями.
Не все гладко в этих конфузливых поповских истолкованиях.
Вернее сказать, все в них не ладно и не гладко. И самое главное: по
христианскому вероучению, для будущей вечной жизни воскреснут не
только души, но и тела. Но какой же смысл в воскресении тела и ка-
201
кое же это будет тело, если оно не будет видеть, слышать и обонять, не
будет -способно к наслаждениям и страданиям, как всякое живое тело?
Очевидно, человек воскреснет целиком, душою и телом, только затем,
чтобы целиком, душою и телом, получить воздаяние за те деяния, которые
он совершал душою и телом. И что значит быть дальше или блмже
к вездесущему богу? Если он, действительно, вездесущий, то он всегда
находится повсюду, — и во всякой твари, и во всяком человеке, в
праведнике и грешнике.
Однако мы не станем останавливаться на таких стараниях
облагообразить первоначальные христианские представления, очистить их от
того, что начинает казаться грубым, нелепым и дикарским современному
человеку. Для нас интересны именно наиболее обычные, самые
распространенные христианские представления об аде и рае. Интересны те
представления, которые удерживались "на протяжении всех средних веков.
Интересны представления, которые священники и теперь внушают
верующей толпе и которые они излагают не только в устных беседах, но и в
печатных произведениях. Почитайте, напр., статьи, прилагаемые к так
называемым «поминаньям» или«синодикам» и доказывающие, насколько
важно поминовение усопших. Такие же простые, «народные»
представления об аде и рае разделялись и ©семи праведниками, о которых
рассказывается в «Житиях святых».
У христиан очень разнообразные представления о загробной жизни.
Взять хотя бы рай. Первоначально это был земной сад, находящийся
«на востоке», приблизительно там, где лежит Месопотамия. Затем этот
рай пришлось эвакуировать, — должно быть, человеческое население
слишком выросло и перед опасностью уплотнения рай был переброшен
«на небо», в «горний (горные) высоты», за облака. По уверениям
некоторых праведников, это — все тот же роскошный сад. Но горожане,
в особенности связанные с Константинополем, представляли себе рай как
город, составленный из многочисленных «обителей». Каждая обитель —
дворец, отведенный какому-нибудь сановному святому. Его стража
составляется из ангелов, его придворный штат — из праведников чином
пониже. В роскошном саду блаженное житие сводится к песням, пище
и питию. В обители-дворце святой неизменно и, должно быть,
безотлучно восседает на престоле и наслаждается, повидимому,
сознанием своего высокого положения. За свои заслуги перед господом он
становится на том свете кем-то очень похожим на византийского
(греческого) императора. А праведники помельче и посерее становятся его
придворными.
Дело с адом тоже несколько сложнее, чем обыкновенно думают.
О одной стороны, ад — пекло, в котором грешники, подвешенные крючком
за ребро, поджариваются на неугасимом огне, варятся в котлах,
наполненных кипящей смолой или серой, выливаются на раскаленные добела
сковородки, подвергаются пыткам при помощи всех орудий, до каких
только додумалось 'Средневековое судопроизводство и духовенство,
начавшее поход против сектантов, еретиков, раскольников, иноверцев и
людей, усомнившихся в святости духовенства и его учений. Палачи-
дьяволы вооружены вилами, крючками, щипцами, клещами, тисками,
пилами, гвоздями, скребницами, — громадным подбором разных
дьявольских инструментов.
Но с другой стороны ад — «тьма кромешная», темное, мрачное
место, куда не проникает ни один луч света и где слышится только
неумолчный ддад: и скрежет вубов. Священники с присущей им уверен-
2№
ностью и знанием дела рассказывают, что «тьма кромешная»
действительно существует и что, кроме нее, существует еще «тьма внешняя»,,
кажется, не до такой степени мрачная, но вое же достаточно
неприглядная и неуютная.
Но и этим разнообразие загробных стран еще не исчерпывается.
По христианским воззрениям, возмутившиееяя против бога ангелы,
потерпев поражение в решительной битве, были низвергнуты в какую-то
«бездну». Хотя, как показывает название, это — пространство «без дна»,
т.-е. бесконечной глубины, они, видимо, как-то выкарабкались из пучины
и новыми способами возобновили борьбу с вседержителем, не утрачивая
надежды на конечный успех.
В евангелиях тоже упоминается об этой таинственной «'бездне».
Когда Иисус встретился с бесноватым (по другим рассказам — с двумя
бесноватыми), в котором поселился легион дьяволов, и захотел исцелить
его, бесы взмолились: «делай с нами, что хочешь! Только не посылай нас
в бездну. А самое лучшее — разреши нам перебраться в стадо свиней».
Как известно, христианское человеколюбие почему-то на этот раз
сменилось у Иисуса бесолюбием, и он одним своим словом уничтожил стадо
в 6.000 свиней, низвергшихся по переселении в них дьяволов в пучину
морскую. Из евангелий не видно, за что такая жестокая кара обрушилась
на владельцев свиней и чем сами свиньи провинились перед Иисусом.
А бесы, видимо, были ращ, что их послали не в «бездну», а всего лишь
в морскую глубину.
«Бездна» упоминается и во многих христианских сказаниях о
загробных странствованиях души человеческой. Душа бредет к светлому
царству по узкой тропе, среди пропастей и обрывов. И если ей не дадут
надежного проводника, который поддержал бы ее на опасных
головокружительных местах, она сорвется и полетит в эту самую «бездну», где ее
примут дьяволы, которые жадно поджидают своей добычи, «адовой
жратвы».
Существует и еще одно представление о царстве дьявола. Согласно
этому представлению, бес — «князь власти воздушные», т.-е. он сам и его
силы населяют главным образом воздушные пространства. Земля —
царство человека, «небо» — божие царство, а средина между ними, воздух,
подчинена дьяволу, который устраивает здесь таможенные заставы,
преграждающие путь на небо («шествие души по мытарствам», т.-е.
таможенным заставам, на которых взимается «мыт» или «мытное», т.-е.
таможенные пошлины).
Этого пока достаточно. Мы видим, что в христианстве уживаются
различные преставления о загробной жизни, иногда прямо исключающие
друг друга. Научная история этих представлений показала бы, что только
очень немногие из них сложились в самом христианстве. А вернее будет
сказать, что христианство просто усвоило те верования и представления,
которые оно нашло в ранее существовавших религиях: у евреев, египтян,
персов, греков и т. д. Само оно очень немногое добавило к этим
представлениям.
Но то же самое значительно раньше произошло и с теми религиями,
у которых христианство взяло представления о «царстве мертвых»:
с иудейской, египетской, вавилонской, персидской, греческой,
финикийской (сирийской) и т. д. Основу своих воззрений эти религии нашли
готовой: юна выработалась уже в древнейший период истории человечества,
отделенный от нас многими тысячелетиями. Она зародилась в тот период,
когда человек был еще «первобытным человеком», стоявшим на такой
-зоз
ступени развития, что даже самые отсталые современные дикари
выше его.
Значит, чтобы выяснить происхождение христианских воззрений на
загробную жизнь, нам приходится возвращаться назад очень далеко, на
десятки тысячелетий.
Отношения первобытного человека к покойнику отличаются
двойственностью и кажущейся непоследовательностью.
С одной стороны, покойник становится каким-то другим, не похожим
на живого человека. Он начинает разлагаться, его близость делается
тягостной для живых. Но еще до разложения он превращается в существо,
способное причинять и действительно причиняющее вред живым. Уже
очень рано первобытный человек мог наблюдать случаи, когда
приближение к покойнику и в особенности соприкосновение с ним влекло за собою
немедленное заболевание и смерть.
Современная наука дала полное объяснение таких случаев. Оспа,
сыпной тиф, чума передаются через одежду покойника, через клопов,
блох и вшей, которые покидают холодеющий труп, перебираются на живых
и укусами вносят в их кровь те микробы, те мельчайшие, невидимые
простым глазом, различимые лишь под сильным микроскопом организмы,
которыми причиняются заразные болезни. Но первобытному человеку
было далеко до таких объяснений. Он говорил себе: раньше этот родич
жил со своей группой, помогал ей, делил с нею все труды и опасности.
Он был знаком, он был понятен, как все остальные люди. Теперь с ним
что-то произошло, он сделался опасным существом, с которым надо
соблюдать величайшую осторожность, — иначе он повредит. Отсюда —
стремление так прибрать и припрятать или упрятать его, чтобы он не мог
причинить зла оставшимся в живых.
Но то существо, которое продолжает жить после смерти, «душа»,
«дух», это, ведь, — душа сородича, который был членом группы, и от
которого она получала постоянную поддержку и помощь. Отделившись,
отойдя от своих, он остается их сородичем. Значит, от него можно
ожидать всяческого покровительства. Необходимо только не утрачивать его
расположения. Значит, следует озаботиться о нем и в особенности
подкармливать его. Опасный для своих, если бы его раздражалц, он будет
тогда их сильным защитником, ограждающим от несчастий,
отвращающим всякое зло от своей родной группы. Значит, необходимо сделать так,
чтобы покойник (или его «дух») держался близ группы, не заболел, не
погиб от голода. А так как у него сохраняется тяготение к своему телуг
то полезно иметь при себе хотя бы частицу его, — ноготь, зуб, косточку,
еще лучше череп («мощи» и «частицы мощей»). От них не бывает таких
несчастий, как от разлагающегося трупа. Еще лучше, если «останки»,
весь скелет покойника, будет лежать по соседству с покинутой им
группой. Но это становится осуществимым только на довольно высокой
ступени развития производительных сил.
Эти противоречия в верованиях и поведении первобытного человека
не могут нас удивлять. Они сохраняются и в современности. О одной
стороны, покойник окружается такими выражениями любви, которые он не
всегда видел при жизни, и смерть дает оставшимся живым глубже
почувствовать, как действительно дорог был для них покойник. Но, с друтой
стороны, в деревне лишь немногие согласятся в одиночку ночевать в той
избе, где находится покойник.
Итак, в ходе человеческого развития выдвигались двойственные
задачи. С одной стороны, надо было отделаться от трупа, поставить ото
2Ю4
в такое положение, чтобы он не мог вредить живым. А с другой стороны,
надо было устроиться таким образом, чтобы при первой же
необходимости покойник мог притти па помощь и захотел притти на помощь,
к своей родовой группе.
На этой основе развиваются различные способы погребения и
различные формы культа покойников.
О переходом от «собирания» добычи к сравнительно регулярному
производству, с возникновением зачатков земледелия, скотоводства и
охоты (к ней надо отнести и рыболовство), плотность ресселения вообще
могла увеличиться. Родовые группы возросли в своих размерах, а
расстояния, на которые передвигалась каждая из них в, своих периодических
переходах, не увеличились или увеличились в сравнительно небольшой
степени. Увеличение числа родовых групп, существовавших в
определенной области, в свою очередь заставляло каждую из них потесниться.
И хотя бы группа оставалась лолрежнему бродячей, кочевой группой,
размах ее блужданий все более сокращался. Намечалась главная стоянка,
центр ее передвижений, к которому она чаще всего возвращалась и в
котором дольше всего задерживалась: для обора ли плодов и семян,
составлявших главную основу ее питания, для рыбной ли ловли, для отдыха
ли в дождливое время-. Начали возникать, если не постоянные поселки,
то известные приспособления, которые легко возобновлялись при каждом
возвращении на старое место. Таким «приспособлением» могла быть,
напр., пещера или ряд пещер и несколько камней, подобранных таким
образом, чтобы с случаях необходимости закрывать ими вход; или же
это было всего лишь расчищенное место для установки шатра, с
«очагом»,—грудой камней,—для разведения 'костра и защиты его от ветра. Как
ни просты были такие приспособления, они были уже готовы, их не
приходилось 'вновь создавать, и потому этого было достаточно, чтобы группа
снова и снова возвращалась на прежнее место. Это еще не оседлость, но,
во всяком случае, некоторый этап в направлении к оседлому быту.
Но в то время, как возникал центр для живых, возникал и центр,
штаб-квартира, для покойников. Хорошо иметь по соседству с собою всех
«предков», всех «стариков», которым род обязан всем, что он умеет и чем
обладает, прародителей, которые научили его делать орудия, рыболовные
онасти, сеять растения, пользоваться ходом рыбы в определенное время
года, применять известные способы врачевания. Находясь близко в центре
кочевок, эти мудрые «старики» всегда могут быстро притти на помощь
своим «детям», своим потомкам.
Таким образом около главной стоянки начало возникать
«кладбище», употребляя современное название. Всех покойников хоронили
к одному месту. В Библии часто встречается выражение: «приложился
к отцам». Оно означает «умер». Его следует понимать в буквальном
смысле: труп нового покойника положили там, где уже лежали кости его
предков. Так, напр., Авраам «Бытия» похоронил свою жену Сарру в
пещере Махпела, затем там же был похоронен сам, потом там же был
погребен Исаак, «приложившийся» таким образом к своим отцам, а
впоследствии все в той же пещере был похоронен даже Иаков, хотя он, по
рассказу «Бытия», умер в далеком Египте. Все они вошли в это странное
«лоно Авраамово», над которым я ломал голову, когда меня заставляли
зубрить «священную историю». Средства передвижения и
производительность труда настолько возросли к эпохе составления «Бытия», что авторы
этих сказаний не видели уже никаких затруднений в переправке костей
Иакова из Египта в Палестину.
205
Древнейшие из открытых до настоящего времени «могильников» —
скелеты как раз в пещерах. Эти погребения отделены от нашей эпохи
несколькими десятками тысячелетий. Нет оснований утверждать, что все
первобытные люди были троглодитами, пещерными жителями, и что не
было других, при том еще более древних способов погребения. До нас
дошло только кое-что из того, что сохранилось, что вообще могло
сохраниться, так как находилось в условиях, наиболее препятствующих
полному разрушению.
Если группа вытеснялась из торной страны в равнину, где нет
'никаких пещер, этот способ погребения должен был измениться. Но
напоминание о пещере-могильнике во всяком случае сохранилось. Самое простое
подражание пещерному погребению, это — когда труп заваливался
грудой камней. Возможно, что в некоторых случаях даже могила, т.-е. яма,
выкопанная в земле, воспроизводила пещеру. Камни, завалившие вход
в пещеру, вероятно, служили двоякой цели: и не допустить до трупа
хищных зверей, и затруднить для покойника беспорядочные прогулки,
которые были бы способны причинить живым крупные неприятности.
Той же цели служил и тяжелый камень, который обыкновенно клали
наверху могилы.
Этот намогильный камень сохранился и в современных погребениях.
Но с течением времени он получил совершенно иное истолкование: он
должен отметить место, где погребен тот или иной покойник, а вовсе не
воспрепятствовать блужданиям мертвеца. А из этого надгробного камня
развился намогильный памятник.
Пещера ли, в которой погребались члены данной группы, груды ли
камней над останками, несколько ли могил, расположенных по
соседству, — во всяком случае рядом с главной стоянкой группы,
с селением живых, возникал «некрополь», город мертвых, обитель
покойников.
В горных областях применялся, а у некоторых диких и
полукультурных племен еще и теперь применяется и другой способ погребения,
кроме пещерного. Трупы просто сбрасываются в пропасть, в «бездну»,
расположенную где-нибудь недалеко от селения группы или ет ее
главной, центральной стоянки.
Прибрежные группы, существование которых было связано о морем
или рекой (рыболовство и морское звероловство), практиковали, иногда
и теперь практикуют, способ погребения, соответствующий их быту. Они
попросту сбрасывали трупы в определенном месте в воду и следом за ними
или вместе о ними препровождали орудия и снасти, необходимые в их
промысле.
Развитая, высшая форма этого погребения — погребение в
челноке (или «ладье» — древне-славянские и норманские погребения).
Покойника сажали в челнок, давали ему в руки весло и гарпун, клали
около него рыболовные снасти и отталкивали его от берета. Он пускался
в «загробное странствование», к предкам, которые в свое время таким же
способом отправились в путь.
Для бродячей группы не всегда осуществима переправка трупа от
места смерти к общему месту погребения, к «кладбищу». Но не так-то
важно похоронить весь труп, который все равно в непродолжительном
времени разложится. Будет вполне достаточно похоронить на общем
кладбище кости покойного. О одной стороны, удерживаемый останками,
покойник (его «дух») не будет бродить без толку по свету и не станет
тревожить живущих. А с другой стороны, по этой самой причине ооро-
206
дичи могут уповать на его быструю помощь каждый раз, когда это
потребуется: можно будет пойти к его могиле, рассказать ему обо всем,
попросить совета и содействия.
О течением времени выработался ряд примеров, облегчающих и
ускоряющих получение костяка. Например, труп выставляется, хотя бы
на короткое время, на холме, на горной возвышенности. Благодаря этому
дух, если бы он захотел возвратиться в покинутое тело, скоро заметит
его. Но здесь же его скоро заметят и плотоядные птицы, которые
слетятся на труп и очистят его от разлагающихся частей. Затем остается
только окончательно очистить кости посредством скребка, — и тогда
легко и перенести их к месту общего погребения и отделить части или
частицы для постоянного ношения при себе (амулеты, талисманы,
«мощи»).
В лесистых местностях обычное явление — погребение, хотя бы
временное, в дупле дерева. Но в них встречается и другой способ
погребения, назначение которое такое же, как выставление трупа на
возвышенностях: труп привязывается к деревьям. В некоторых случаях
устраиваются высокие подмостки, на которые и кладут труп. Птицы и здесь
обдирают мясо от костей.
У некоторых народностей труп целиком подвергается таким
воздействиям, чтобы после них он дольше не разлатался. Его «вялят» или
«коптят» над дымом костра.
В дальнейшем, сравнительно поздно, развивается обычай сожжения
трупов. В таких случаях «хоронят» только «прах», собираемый к какой-
нибудь сосуд, в погребальную урну.
Каков бы ни был способ погребения, и какова бы ни была его
стадия: предварительное или окончательное погребение, покойник
снабжается всем, что служит удовлетворен!) потребностей живых людей:
пищей, напитками, оружием, некоторыми орудиями, и т. д. Нередко около
трупа, выставленного на возвышенности или в лесу, в течение некоторого
времени поддерживается постоянный огонь. Все это делается с того
времени, когда развитие производительных сил сделало возможным
попечение о больных, которые хотя и покидались группой, но при этом
снабжались некоторыми необходимейшими припасами. И так как бывали
случаи, когда эти припасы спасали некоторых больных, то каким образом
могло бы первобытному человеку нритти в голову, что подобные заботы
совершенно бесполезны для их покидаемых сородичей, которых мы
называем мертвыми, навсегда утратившими жизнь, а вместе с тем и все
потребности, связанные с жизнью и деятельностью организма? Ведь
непосредственно ничего не говорит дикарю, что этот человек умер и, как
утративший жизнь, уже не нуждается ни в чем, что необходимо для
поддержания жизни.
Нетрудно видеть, что о «загробной жизни» получают полное,
исчерпывающее объяснение «в погребальных обычаях».
Погребения в пещерах, под грудами камней, в могилах. Где
покойники, где предай, где «старики»?
«Под землей», в «недрах земли». Там мрачно, беспросветно, темно,
холодно. Это — Аид («ад») древних греков («Одиссея»), Шеол древних
израильтян. «Тени» («духи») покойников там постоянно дрожат и не
могут согреться. Жадной и жалкой толпой слетаются они к костру.
Нетерпеливо стремятся к крови жертвенного животного, потому что
горячая кровь, это — жизнь, это — тепло. Существование столь безнадежно,
беспросветно и мрачно, что богорожденный герой, «царь» Ахилл, согла-
20Т
оился бы превратиться в презираемого зяатью простого поденщика,
если бы этой ценой можно было возвратиться на землю.
Обычные представления о бесах и ангелах явным образом
связаны с пещерными погребениями. При входе в пещеру вокруг начинают
метаться срывающиеся откуда-то летучие мыши, черные, с
перепончатыми крыльями, — с совершенно такими крыльями, какие полагаются
у дьявола.
Остальные принадлежности христианского чорта: козлиные
копыта, шерсть, рожки, форма ушей, заимствованы у древне-греческих
богов, у сатиров: божества древнейших религий вообще превращаются
в нечистую силу для высших, позднейших религий. Перед входом в
пещеру сияет солнце, в его лучах на карнизах и уступах скалы воркуют
голуби. Голубь — священная птица в древних азиатских странах по
Средиземному морю, и его крылья перешли к христианскому ангелу,
который, кроме того, заимствовал некоторые черты от древне-треческого
божества, от Амура, но превратился в бесполое существо.
Погребения на горных возвышенностях. Обиталища «стариков» —
там, высоко, над облаками, на каком-нибудь Олимпе или Синае, на небе,
среди постоянного солнечного сияния. Но труден и опасен путь в это
лучезарное царство. Один неверный шаг — и покойник (или его душа)
летит в «бездну, в мрачную пропасть, куда никогда не заглянет'
солнце, где его поджидают «духи мрака». Нелегко пробраться по
этим узким тропам, с шаткими мостками^ кое-где положенными над
обрывами.
Погребения сбрасыванием в воду или в челноке, который вместе
о трупом, снаряженным для далекого странствования, отталкивается от
берега. Первобытный человек просто описывает реальные отношения и
просто отражает в своем сознании формы «бытия», когда он говорит, что
покойники добираются до своей страны через широкие воды или через
большую реку. А если впоследствии покойников станут 'снаряжать
в дальний путь без челноков, то потребуется какой-нибудь перевозчик
Харон для доставки теней в страну мертвых. Она лежит за рекой, за
морем, по ту сторону океана.
Погребения в древесном дупле, на деревьях, в рощах. Страх трупа
переплетается со страхом покойника, а с постепенным раздвоением
покойника на тело и на покинувший его дух превращается в страх
«привидений» или «духов». Наиболее напряженным он становится по ночам, когдн
зрение, наиболее острый способ восприятий, отказывается служить и во
всяком случае становится ненадежным, обманчивым. Поэтому люди
веруют, будто всякая нечисть выходит на свой промысел по ночам, особенно
в полночь, в самое темное время. И по той же причине дикари, — да и
многие современные люди так называемой высокой культуры,
называющие себя «образованными»* ночью постараются подальше обойти
кладбище. Около рощи, где погребались его старики, дикарь проходит только
днем, котда она залита сиянием солнца, когда здесь порхают и поют
птицы, благоухают цветы, и на лучах света отливают яркими красками
многочисленные плоды. Сад представляется тем более богатым и лыш-
лым, что на всю рощу и на плоды обыкновенно накладывается «табу»,
т.-е., воспрещается срывать и есть эти плоды, так как они
предоставляются в искючительное пользование покойников. Это — земной рай,
представляемый в виде роскошного сада.
Итак, «предки», т.-е. жившие прежде, «старики», те. от которых
начался данный род, «родоначальники», — где они? Ответы будут раз-
208
яые, в зависимости от способов погребения: в скале, в пещере, в «камне»,—
так как гора нередко называется «камнем» (даже у нас: Павдинский
камень и т. д.), — в деревне, в «горних (горных) обителях», в саду, в
«большой яме с водой» (озере или море), в реке, за «водной гладью» и т. д.
Эти ответы — не результат каких-нибудь сложных и хитроумных
умозаключений. Они просто «высказывают то, что ость». И эти ответы отнюдь
пе означают, что в пещере, под землей, в озере находятся кости отцов,
или отцы, которые умерли, перестали существовать. Нет, они утверждают,
что «старики», некогда жившие с ними, находятся теперь в «большой
яме с водой, в дереве, в камне». Это — их обычное, постоянное
местопребывание. И что можно возразить против такого утверждения? Да и как
мы сумели бы возразить, принимая во внимание бедность первобытного
.языка, которому еще не приходится различать оттенков понятий, так как
такое различение не имело бы никакого практического, никакого
жизненного значения для группы и не находило бы опоры в ее постоянном
опыте?
Но если «старики», «прародители» в пещере, в дереве, в озере,
в камне, на горных вершинах, то в свае время, в незапамятные времена,
чтобы появиться на земле и дать начало своему роду («'сотворение
человека»), они должны были выйти из пещеры, из-под земли, из дерева, ив
камня, спуститься с горы, сойти с неба. Таким образом мы добираемся до
источника многочисленных мифов (сказаний) о происхождении первых
людей или их богоподобных «родоначальников». И здесь же мы получаем
объяснение, каким образом могли возникнуть такие «тотемы», — т.-е., если
угодно, «гербы» родовых групп, являющиеся в то же время изображением
«первопредков», «прародителей» этих групп, — такие тотемы, как напр.,
камень, пещера, озеро, небо, банан и т. д.
В так называемых книгах нового завета для грешников отводится
«тьма кромешная» но кроме того и «геенна огненная». «Тьма кромешная»,
.это — то же, что Аид древних греков, Шеол израильтян. Что касается
пламенного, огненйого ада, то представления о нем возникли после на-
слышки об «огнедышащих» горах, о вулканах, или дюсле
непосредственного знакомства с ними и с горючими источниками, вытекающими та
земли. Раз покойники «под землей» (погребения в могилах), и раз там
горячо, и оттуда постоянно извергается дламя, то выходит, что покойники
горят в пламени.
Возможно, опорой для такого верования послужило также сожжение
покойников на кострах, развивавшееся сравнительно1 поздно и
предполагающее сравнительно выработанные представления о душе. Сожжение
покойников практикуется только на довольно высоких ступенях
культуры, так как уже заготовка топлива, необходимого для этого погребения,
превышает возможности первобытной техники.
Развитие производительной силы человеческого труда приводило
не только к увеличению плотности населения, но и к возрастающему
сближению между группами. Возникала сложная сеть меновых отношений
и не менее сложная сеть отношений родства. Узкие общинные связи рас*
ширялись в более широкие общественные связи и дополнялись ими.
Складывались политические объединения, которые выходили за рамки
собственно кровных или родовых организаций. Затем на новой, более
высокой ступени развития то же явление опять повторялось.
Экономическое и политическое объединение шло расширяющимися кругами: от
родовой группы к так называемому «племени», от «племен» к
«народностям» и к первоначальным «государствам».
Г. Гурев 14
209
Экономически связывались, политически соподчинялись, а вместе
с тем все теснее соприкасались друг с другом группы, в идеологии
которых отслоился далеко не тожественный и даже не однородный опыт.
Сталкивались прибрежные и континентальные, горные и равнинные
обитатели, зачаточные скотоводы с зачаточными рыболовами, первобытные
земледельцы с первобытными охотниками. Происходило обогащение
представлений, понятий, воззрений, языка, — впервые складывался более
или менее развитой общий язык, — а вместе с тем происходило и
смешение различных идеологических элементов.
Объединялись и религиозные представления, — объединялись с ве-
«жичайшею. легкостью, так как между ними с самого начала было почти
полное тожество. Отличались они лишь некоторыми частностями, может
быть, названиями тех предков, которые были предметом культа, местной
окраской. При близости уровней экономического развития, одинаково
низкого для всех объединяемых групп, дальше этого едва ли
заходили различия между религиозными воззрениями.
Но объединение воззрений, сталкивая их, порождало внутренние
противоречия, полную несогласованность. Где предки, где старики? Они
под землей, во мраке и холоде. Но они и над облаками, окруженные
вечным сиянием солнца. Они испытывают постоянные муки тьмы, голода
и холода, но они и наслаждаются в роскошных садах, изобилующих всем,
что может украсить жизнь человека. Они, пользуясь современным
развитым словоупотреблением, в аду, — но в то же время они и в раю.
И под землей, и на небе.
Как примирить эти противоречия? Как внести согласование в эту
казалось бы, абсолютную несогласованность?
Но эти противоречия существуют только для нас. То самое
развитие, которое их создавало, — оно же их и примиряло или уничтожало. Те
самые социальные силы, которые, столкнув разнородные воззрения, тем
самым вскрывали их несогласованность, в то же время давали им со-
циальпое согласование и примирение.
Уже4 для возникновения обмена между родовыми группами было
необходимо некоторое повышение производительности человеческого труда.
А оно в свою очередь предлагает не только повышение техники, но и
неразрывно связанное с ним накопление своего рода рецептов, примет, на
выков, сведений, знаний о свойствах материалов, о последовательности,
о связи и периодичности известных явлений природа, о способах
предусмотреть и использовать их наступление. Начинается выделение из
состава группы знахаря, лекаря, старейшины, организатора, руководителя
производственной деятельности, хранителя этих примет и правил, и
возвышение его над рядовыми членами группы.
Дальнейшее повышение производительности труда делает
возможными более тесные отношения между группами и в то же время связанное
с расширением зародышевой «технологии» и «науки», обусловливает
развитие более высоких степеней организаторской деятельности. Наиболее
быстро это развитие в тех случаях, когда производственная деятельность
требует упорядочения, регулирования* выводящего за пределы отдельной
группы. Таков, напр., случай, когда необходимо общее использование
речных разливов для земледелия. Здесь очень важно более или менне
точно предусмотреть время разлива, подготовить все необходимое для
равномерного распределения воды но полям и для отвода ее в запасные
хранилища. На этой основе развивалась власть жрецов и возникали
фавнмжшдао широкие и прочные политические объединения в Египте,
210
Мессопотамии и Китае (разливы Нила, Тигра и Евфрата, Гоанго и Янтсе-
кианга). Но таковы же и самые обыкновенные случаи, когда необходимо
хотя бы просто разграничение пастбищ или земель, возделываемых
соседними общинами. А если сообща устраивается охота и
предпринимаются военные походы, то над предводителями групповых дружин
поднимается общий предводитель всей боевой силы объединяющихся групп,
общий военный организатор.
Так возникает, растет и углубляется разделение организаторского
ж исполнительского труда. Это — начало классового расслоения
общества, расщепления его на эксплоататоров и эксплоатируемых. С
течением времени эксплоататоры присваивают себе все большую долю
прибавочного продукта, все определеннее превращаются в богатых, в
носителей власти, которым противостоит растущая масса неимущих,
безвластных, подвластных. Организаторы мирной производственной
деятельности в некоторых случаях обособляются в особую группу, и высшая
их категория составляет жреческое сословие; организаторы же военной
деятельности превращается в сословие воинов, предводителей, дворян,
царьков. Но бывает и так, что организация мирно-производственных
отношений сливается с военно-организаторской деятельностью в руках
одного сословия.
Организаторы, — старейшины, врачевателя, знахари, жрецы,
шаманы, священники, вожди, предводители, воины,— со своими доходами
и имуществами стараются выделиться из состава некогда единой родовой
группы и, действительно достигают сваей цели. Родовая группа
распадается на отдельные семьи.
Богатства живых идут на пользу покойникам.
Наследник не забывает своих покойных родителей. Ежедневно он
уделяет им часгь своей пищи и напитков. Значит, в загробном мире им
есть, что пить и есть. Они не хилеют, не умирают. Они остаются живыми
и, способными к деятельности. Они покровительствуют пекущемуся о них
наследнику: умножают его стада и рабов, благословляют победой его
оружие, увеличивают дани, собираемые с подчиняемых его власти соседей,
наполняют амбары, житницы и погреба.
Когда умрет и этот наследник, его преемники устроят пышную
тризну, на которой не будет недостатка ни в крупном, ни в мелком скоте,
ни в птице, ни; в возлияниях. В провожатые ему пошлют на тот свет
нескольких рабов и пленников, убиваемых и, быть может, сожщаемых вместе
с его трупом, нескольких воинов, которые падут на турнире, устроенном
при его погребении (корень средневековых турниров — в погребальных
обычаях), всех или хотя бы нескольких жен. Ему дадут оружие и другие
боевые доспехи, его снабдят всем необходимым для трудного и далекого
странствования: боевым конем, ладьей, санями. драгоценностями
одеждой.
Значит, с самого начала он вступает на тот свет, как могущественное
существо, сила которого увеличивается всеми силами огромной свиты,
стад и богатств, погребаемых с ним. Но и этого еще недостаточно: там его
встретят благожелательные предки, сохранившие свою силу благодаря его
неустанным попечениям. В благодарность за то, что он всегда поил их
кровью жертвенных животных, кормил хлебом и мясом, услаждал вином
и плодами, они встретят его и поведут по трудным и опасным путям,
которые они уже изведали. Они предостерегут его от фальшивых мостков,
обойдут злых духов, жадно подкарауливающих добычу, предупредят о
готовящемся нападении из засады, передадут заклинания, которыми отго-
14*
211
няется злая сила, не потеряются среди запутанных и извилистых горных
тропинок, укажут место, где можно передохнуть. На худой конец есть
чем откупиться от злых и злобных сил; можно бросить им раба, дать часть
одежд и украшений. А жертвы, которые все еще приносятся оставшимися
на земле родственниками: волы, козы, овцы, всякая птица, их кровь, их
тук (сало), хлеб, вино, плоды и коренья будут снова и снова
подкреплять силы покойника для преодоления остатка пути. Так ново-
преставившийся со своей свитой и богатствами дойдет до «горных высот»,
до самого высокого неба и начнет вести в раю блаженную жизнь. Он
займет здесь совершенно такое же положение, как занимал в «этой
жизни».
Ясно, что рай существует для богатых, для знати.
Совсем не то с каким-нибудь членом рядовой семьи, с экеплоати-
руемым, с бедняком, в особенности с рабом.
Плохо живется покойникам такой семьи. Оставшиеся в живых ее
члены и сами едва перебиваются. Где же тут делиться с покойниками?
Откуда взять для них пищу и питье? В первое время по смерти о них
вспоминают: бросят для них несколько крошек хлеба в огонь очага, если
только у семьи есть свой очаг, плеснут несколько капель какого-нибудь
напитка, в слабой степени способного оживить и поддержать силы.
А затем и очень скоро, за гнетом тяжелых забот совсем забывают
о мертвых.
И влачат они жалкое существование, всеми оставленные и
брошенные, чахлые, и хилые, и чахнут все больше. Они еле двигаются, они всегда.
в мучительном состоянии, голодного и холодного полусна. И ничем не
могут они оградиться от нападения злых духов, которые поддерживают
свое существование, пожирая души покойников. Впрочем, как только
живущие о них забывают и перестают доставлять для них пищу, они все
равно погибают. А у раба вообще нет семьи. Вспоминать его некому.
Поэтому крайне сомнительно, чтобы у него была душа, которая пережила бы
его тело.
Умирает новый член из той же бедной семьи. Скудно снаряжают
его в дальнее странствование. Вели успело произойти полное отслоение
сословия воинов, покойнику не дадут никакого оружия, и будет он
пробираться по тому свету такой же безоружный и такой же беззащитный
перед нападениями враждебных сил, как был в Здешней жизни. Так же
скудны будут и пищевьде припасы: тсакой-нибудь голубь или куренок,
несколько яиц, горсть зерна, немного вина, сильно разбавленною водой.
Долго ли этим просуществуешь? И пойдет дух по неведомым тропинкам,
запуганный, угнетенный, голодный и слабый. И никто не встретит его,
не найдет он доброжелательного проводника: за отсутствием пищи, все
его родственники погибли, а из сильных чужих никто его не знает, не
помнит и просто не захочет заметить, как какую-то маленькую козявку.
С самого начала он потеряется и заблудится. Налетит злой дух, дрогнет
нога. — и полетит бедняга в бездну, в недра земли и сделается
жертвою ада.
Ад существует для бедняков. Это —■ возмездие за грех бедности, за
забвение «потустороннего» мира, за пренебрежение своими
обязанностями по отношению к родственникам, к членам своей группы, за то, что
вся жизнь бедняка наполнена заботами только о себе, только об «этой
жизни», и все помыслы направляются только на «земные дела».
(«О душе, загробной жизни, о боге и -бессмертии»).
212
Д. Лафарг
ПОНЯТИЕ ДУШИ И ПОТУСТОРОННЕЙ ЖИЗНИ У ХРИСТИАН
ПЕРВЫХ ВЕКОВ.
Понятие о душе и относящемся к ней учении о воздаянии 'за гробом,
а также понятия о рае и аде уже в течение столетий были
распространены во всех слоях населения античного мира, когда ими овладели
христиане, чтобы использовать их для основания новой религии, которой они
сумели предать характер демократический и космополитический.
Апостолы последовали умному совету св. Павла1) и отвергли неприятный
обряд обрезания, который значительно уменьшил бы число вновь
обращенных. Мужчин и женщин без различия национальности и
социального класса, к которому они принадлежали, христиане приглашали
вступать в новую веру и без разбора допускали без каких-либо
посвятительных обрядов и вступных взносов. «Деяния апостолов» сообщают, что
однажды в один день было обращено и принято три тысячи лиц.
Повсюду, где им удавалось найти несколько верующих, они организовыь
вали их в церковные общины, которые потом становились центрами
пропаганды. Элевсинская богиня, не понимавшая потребностей своего
времени, требовала от посвященных знания греческого языка, для нее были
варвары все, говорившие на других языках. Иерусалимский бог, который
лучше понимал, что товарное производство требовало от купцов знания
языков, которое позволяло им поддерживать торговлю с цивилизованными
и варварскими народами, не предъявлял никаких требований по поводу
языка. Он сообщил своим апостолам дар говорить на многих языках.
Многочисленные иудеи, занимавшиеся торговлей и низшими ремеслами
в городах древнего мира, уже владели этим даром. Апостолы прежде
всего обращались к маленьким людям, к ремесленникам, бедным и
несчастным, которые больше богачей нуждались в надежде на
потустороннюю жизнь, чтобы поддержать силы и утешиться в несправедливостях
и страданиях, которые они терпели; им ведь они не видели конца, даже
если бы восставали и возмущались.
Когда христиане начали собирать прозелитов в богатых и
образованных классах, им припщось заимствовать мораль и
спиритуалистическую философию у платоновской софистики, чтобы завершить свое
религиозное учение. Но апостолы раньше нашли в простых, грубых формах
понятия души, рая и ада в иудейской среде, которые были необходимы,
чтобы придать пропаганде ту непреодолимую силу, благодаря которой
только и оказалось возможным для нее проникнуть в суеверные,
невежественные и несчастные массы, которые желательно было обратить
в новую веру.
Иудейские города тоже были театром экономических событий и
политической борьбы, подобно тому, как они потрясли промышленные и
торговые города Малой Азии, Греции и Италии. Патриархальная семья
разложилась, и ее домовые общины распались — образовалась семья
буржуазная. Граждане, которые вновь получили свою нематериальную душу
и зато утратили свое материальное имущество, соединились с
ремесленниками, лавочниками и промышленниками, чтобы лишить богачей их
*) Имеются серьезные основания думать, что Павел подобно Иисусу христу,
является мифической, реально не существовавшей личностью. Стало быть, послания
Павла написаны но им, а рядом других авторов. — Прим. ред.
2 та:
политических нрав и их владений. Иегова, патриархальный бот Авра&ма,
изменился и стал демагогическим богом бедных и простых граждан, чего
не хотели и не могли Зевс и другие боги греко-латинского язычества. За
семьсот лет до христианской эры его пророки громовым толооом
возвещали богатым в Иудее, что бедным будет оказана справедливость, и они
разделять между собой имущества своих притеснителей. Исайя
пророчествует: «Господь вступает в суд со старейшинами народа и князьями
его... И будет препоясанием чресл его правда,^ и препоясанием бедр
его — истины... Горе вам, прибавляющие дом к дому, присоединяющие
поле к полю, так что другим не останется места, как будто вы одни
поселены на земле.. .Я накажу мир за зло и уничтожу надменность прите-
снителей... И младенцы их будут разбиты пред глазами их, домы их
будут разграблены, и жены их обесчещены» . .*. (Исайя III, 14; XI, 5; V, 8;
XIII, 11 и 16). Восставшие демократы заставили Иегову нести
ответственность за гребежи и резню, которые они произвели. Это божеское соучастие
характерно для иудейских демократов. Греки и римляне не позволяли
своим богам и богиням вмешиваться в их гражданские бойны. Иегова —
единственный демагогический бог в пантеоне наций на берегах
Средиземного моря. И именно потому, что иудеи превратили бога патриархов
в дикого демагога, он, удостоился чести быть избранным буржуазной
демократией в качестве высшего божества.
Бедняки переходили в новую веру, потому что апостолы сказали им,
что Исайя пророчествует следующее: «Беднейшие будут накормлены, и
нищие будут покоиться в безопасности... Я сделаю то, что люди будут
дороже чистого золота, и мужи — дороже золота офирского ... В
Иерусалиме не будут строить домов, чтобы другой жил, не будут насаждать,
чтобы другой ел... не будут трудиться напрасно... А вы будете
радоваться и веселиться вовеки о том, что, я творю: ибо вот я творю Иерусалим
веселием и народ его радостью»... Предвечный тогда уже предупредил
самые смелые фантазии Фурье и обещал мир животным так же, как и
людям: «Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать
вместе с козленком, и теленком и молодой лев будут вместе, и малое дитя
будет водить их» (Исайя XIV, 30; XIV, 12; LXV, 19—22; XI, 6—7).
Этот предвечный демагог однако не удовольствовался обещанием
земного счастья. Она возвещает, что он построит и восхитительный
Иерусалим, в котором будут жить его избранные после смерти: «Оживут
мертвецы твои, восстанут мертвые тела. Воспряните и торжествуйте,
поверженные в прахе, ибо роса твоя, роса растений, и земля извергнет мертвецов...
Взгляните на Сион, город праздничных собраний наших: глаза твои
увидят Иерусалим, жилище мирное, непоколебимую скинию... Но тогда
разделят добычу и награбленное в народе, даже бессильные будут грабить
во всю, и ни один житель не скажет: «я страдаю». И чтобы радость
избранных сделать полной, они увидят, как их враги будут гореть >в неугасимом
огне». (Исайя XXVI, 19; XXXII, 20, 23; LXVI, 24). Апостолы этими
заманчивыми предсказаниями приводили бедных и несчастных в радостное
настроение. Беспрерывно они повторяли им, что конец света близок, и
что они 'войдут в обещанный Иерусалим, где будут жить в свое
удовольствие, а их притеснители жариться в вечном огне.
Такие радужные надежды дойжны были опьянять первых христиан.
Они, которые кипели ненавистью и гневом и никогда не могли
удовлетворить своих желаний, чувствовали себя слишком бессильными, чтобы
подняться подобно демократическим массам Греции и Иудеи, чтобы
'низвергнуть сильных и разделить их богатство. Героический период демо-
214
кратии миновал. Иисус и: апостолы осудали употребление меча; они про-
поведывали смирение, подобно стоикам и иудеям, имевшим свои
многочисленные колонии в главных городах Римской империи.
Первые христиане были совершенно неспособны даже только думать
о возмущении и настолько были далеки от ©сякой идеи земного
освобождения, что апостолы, приглашавшие бедных и порабощенных к
принятию новой веры, ни разу не подумали о том, чтобы их освободить.
Напротив, они предписывали «каждому оставаться в том положении, в котором
находился, когда был призван» (1 Послание к коринфянам). Ов. Петр
и Па(вел убеждают рабов не бежать, но быть еще покорнее земным
господам, чтобы снискать этим небесную милость. Апостолы и отцы церкви
вопреки их заявлениям о любви к народу, не угрожали правам,
приобретенным богатыми. И так как последние, как и первые, желали счастья
по ту сторону гроба, и за это не требовалось жертвовать своими
богатствами в этой жизни, то и они присоединились к новой религии,
обещавшей им счастье. Этот двойственный характер, с одной стороны
дружественный народу, с другой олигархии богатых, обеспечивал христианству
успех у богатых и бедных.
Первые христиане, которые не были бунтарями, как демократы
античных городов11), довольствовались, подобно орфикам. образованием
маленьких общин, не знавших, что «мое» и что «твое». «Деяния
апостолов» дают в высшей степени важные объяснения относительно этих
общин. Их члены причащались и делались святыми, осуществляя,
разумеется самым скудным образом, счастье, которое Иегова обещал своим
верующим. Если подумать о богатом пире, который устраивали
демократы Греции и Иудеи, перебив побежденных богачей и завладев их
имуществом, то христианский паек кажется весьма скудным для святых.
Овятые верующие, т.-е. христиане, жившие вне этих общин, не могли
вобше на земле давать простор своей ненависти или гневу и удовлетворить
своих желаний; значит, они довольствовались ожиданием полного
удовлетворения своих желаний от будущей жизни. Христианская община
была только платежом в счет тех радостей, которые они обещали себе на
небе. Когда христианство восторжествовало, эти примитивные братские
общины превращаются в монастыри грубых и скотских монахов, которые
служили епископам и попам при их насильственных деяниях.
Непреодолимая приманка для всех, принимавших новую религию,
состояла в обещании будущей жизни. Доступ был свободен для всех.
Апостолы всем приходившим сообщали учение о счастьи за гробом безо-
всяких вступительных формальностей, без соблюдения которых к
таинству прежде не допускали непосвященных. В христианство обращали
большими массами. В средние века папские легаты приказывали перед
битвой исповедывать и разрешать от грехов войска, шедшие убивать
еретиков. «Деяния апостолов» (II, 41—42) рассказывают: «Присоединилось
в тот же день более 3.000. И они постоянно пребывали в учении
апостолов, в общении, в преломлении хлебай в молитвах». Апостолы, особенно
св. Петр, были практичными людьми, которые обрабатывали души,
наполняя желудок.
Идея, которую составили себе христиане первых веков о душе,
походила на понятие дикарей. Душа была чем-то вроде второго я,
освобождавшегося от тесной оболочки во время сна и после смерти. «Те, кото-
*) Это верно по отношению лишь к позднейшему, а не к самому начальному
христианству. См. отд. IX. — Прим. ред.
215
рые спят, мертвы», говорит Павел в «1 Послании к коринфянам». Чтобы
их пробудить, стоит только второму я опять вернуться в тело. Тертуллиан
сообщает, что богатые христиане, подобно египтянам, бальзамировали
своих умерших, чтобы сохранить для души жилище, и на этом основании
христианство запрещает оожигание трупов и предписывает зарывать
в землю. В воскресение путем возвращения души в тело верили еще во
время св. Августина, который в доказательство этой истины делает
заимствования у языческих авторов.
Быть может, за исключением св. Павла, апостолы ничего не-знали
о выводах спиритуализма у греческих софистов, и, если бы они были им
известны, они не стали бы с ними считаться. Нематериальная душа
философов не показалась бы им чем-нибудь ценным. Подобно своим
новообращенным они занимались только телом, воскресения которого желали.
Исайя и его демагогический бог уже лучше устроили свое дело. «Как же
должны мертвые воскреснуть?» спрашивали святого Павла. Где будут
жить их души? Этот вопрос поставил его в затруднение, из которого он
вышел, потерявшись в софистических увертках; фантазируя о «теле
душевном» и «теле духовном» и просто уверяя, что тленное тело «воскреснет
нетленным». (Первое послание к коринфянам XV, 35 — 44).
Св. Августин не сомневался в слове апостола и также обещ,ал
нетленность тела, которое христианство не так сильно презирало, как
орфизм. Св. Павел был прежде всего агитатором-демагогом, хотя и
хвалился, что он ученый. По его мнению, массу лучше всего убедить,
беспрестанно повторяя и с убеждением преподнося ей какой-нибудь факт—
истинный или ложный; и этот прием предпочтительнее самых тонких
исследований софистики. И он смело заявлял, что Иисус воскрес во
плоти, что Кифа видел его, а также двенадцать апостолов, пятьсот
учеников, Иаков и, наконец, и он, сам Павел. Но если воскрес Иисус, тогда
воскреснут и другие умершие: ведь «если нет воскресения мертвых, то и
Христос не воскрес». (Первое послание к коринфянам XV, 5, 8, 13). Кого-
не убедят такие неопровержимые доказательства? Св. Августин приводит
одно доказательство точно такого же рода. Он говорит, что во всем мире
проповедуется учение о воскресении христовом и его вознесении во плоти,
в которой он и воскрес. Как мог бы весь мцр ему поверить, если бы оно
не было достоверно?
Ссылались и на Исайю, который предсказывает воскресение, и на
святого Луку, который рассказал о нем. Христиане верили в эти
неопровержимые аргументы так крепко и упорно, что спорили больше о том,
воскрес ли Иисус с крайней плотью или без нее. Апостолые и
христианские ученые, которые не очень высоко стояли над умственным уровнем
суеверных масс, которые они поучали, прежде всегр поддавались их
собственным аргументам. Но отсюда они почерпали и силу для своей
пропаганды, поэтому последняя и действовала так могущественно.
Первые христиане гораздо менее дикарей были идеалистами и не
могли себе представить существования души независимо от тела. Оргиен
утверждал, что один бог бестелесен, а св. Василий приписывал ангелам
видимое тело. Тертуллиан приводит решающие мотивы в пользу
бессмертия тела. Од говорит: «Человек безусловно должен превратиться в то, чем
он был, чтобы получить от бога заслуженное наказание или награду...
Душу иначе нельзя было бы воспринять, если бы она не была связана
с плотной материей, и эта материя есть плоть... и душа в теле и вместе
с телом заслуживает того обхождения, которое она будет испытывать по
судному приговору бога».
21ft
Апостолы, отцы церкви и верующие могли верить -в страдания и
радости загробной жизни только тогда, когда в них участвовало и тело.
Однако от воскресения тела возникли затруднения, которые дикари
избегли благодаря бесплотности их души. Отцам церкви приходилось
сильно ломать себе голову над разрешением этого вопроса. Святой
Августин сохранил в назидание верующих несколько результатов этой
мыслительной работы. Спрашивали: Как воскреснут мертвые? Будут ли они
молоды или стары, безобразны или прекрасны? Так как на небе должно-
царствовать равенство, то вопрос решался в том смысле, что все тела
должны воскреснуть одинаковой величины, одинаковой красоты и
одинакового возраста. Несходные должны стать однородными, а так как
Христос в момент смерти достиг возраста полного развития, то и все покойные
должны быть в таком же возрасте. Старики должны помолодеть, чтобы
не быть старше, юнощи постареть, чтобы сравняться со всеми. Будут ли
женшины допущены в рай? Этот вопрос подал повод к бесчисленным
спорам и серьезной головоломке. Несмотря на все желание, нельзя, было
все-таки закрыть перед их носом дверь. К тому же они были слишком
многочисленны в христианских общинах и играли там большую роль.
Богатые из них отличались щедрость^, и все они были мужественными
и восторженными пропагандистками. Поэтому пришлось согласиться на
допущение их на небо, так как на земле нуждались в их имуществе и
самоотвержении. Но они могли попасть туда, лишь отказавшись при входе
от своего пола. Решено было предоставить им воскресение только «в виде
мужчин, потому что, без сомнения, опасались, что избранные в раю будут
так же усердно предаваться блуду, как многие святые в общинах. Св. Петр
и св. Павел, по крайней мере, очень на это жалуются. Дикари, не
видевшие в половых сношениях ничего бездравственного и позорного, решали
вопрос тем, что оставляли их и на том свете. Там отпадало даже
неудобство детских ссор, так как женщины, ставшие лишь тенями, не могли
рожать. Другие отцы церкви утверждали, что женщины воскреснут как
таковые, но на небе им это будет бесполезно, так как единственное занятие
и единственная радость избранных будет состоять в созерцании бога.
Эта трудная и важная проблема не была еще решена ко времени святого*
Августина. Решена ли она теперь? Святой епископ Гиппонский
склонялся ко второму воззрению; но его сильный ум тревожили еще другие
вопросы такой же важности. Если избранные должны все время
созерцать господа, то разве могут они не закрывать глаз? И он делает здесь
мудрое замечание: конечно, было бы очень неприятно никогда не смыкать
век, но еще неприятнее даже на мгновение отказаться от созерцания
господа. И этому блестящему светочу христианства приходится выйти
из затруднения посредством заявления, что верующие видят черты лика
божия, даже закрывая глаза. Все эти острые проблемы догмы о
воскресении разъясняются в двадцать второй и последней книге «О царстве
Оожием». «Это несравненное мастерское произведение учености, это-
благородное изображение христианской религии» просто буквальное и
иногда запутанное и поверхностное размазывание сильной и живой
«Апологетики» Тертуллиана.
Христианство, наследовавшее мистериям, обещало бессмертие души
и счастие за гробом. «Я хлеб жизни, сошедший с неба», сказал Иисус.
«Кто ест этот хлеб, будет жить вечно, и хлеб, который исходит от меня,
есть моя плоть. Кто вкушает мое тело и пьет мою кровь, живет во мне и
я живу в нем». Новые богослужения, возникшие в античном мире, снова
воплотили в своих церемониях обычаи первобытных времен. Посвящен-
217
яые в мистерии: Диониса и орфизма устраивали трапезу, за которой ели
сырое мясо. Имелось в виду этим вызвать воспоминание о том времени,
когда люди еще не знали употребления огня при приготовлении пищд.
Христианское причащение.с его мистическим вкушением бого-человека
вызывало воспоминание о каннибальских пирах дикарей. Верующие,
участвовавшие в этой торжественной трапбзе — при чем христос вместо
агнца является одновременно и жертвой и главным судьей — спасаются
во всяком случае безо всякого с их стороны содействия, что бы они ни
совершили, потому что в них живет Иисус. И ведь было бы верхом
непристойности, если бы бог отец осудил собственного сына Иисуса на
вечные адские муки. Значит, кто вкусил тело Иисуса, мот, как золото,
валяться в грязи и не запачкаться.
Подобно мистериям, христианство начало с того, что обеспечило
своим верующим полнейшую безнаказанность. Эта вера была
распространена еще во время св. Августина, который нашел ее слишком прямое
линейной. И все-таки этот снисходительный отец церкви, который на
вечные мучения обрекает тех, которые не присоединяются к новой вере,
уверяет, «что верующие, впавшие в ересь и вернувшиеся к
идолопоклонству (это — два самых страшных преступления, какие может совершить
христианин), не умрут вечной смертью, так как они вкусили от тела
спасителя. Несомненно, их наказание будет продолжено по мере их
безбожия, но оно не будет вечным». Ад и его вечные муки были изобретены
только для неверующих. Католическая церковь и поныне исповедует
тот же догмат. Никакото спасения вне церкви — проповедует она.
Апостолы приглашали присоединяться к новой вере всех людей
без различия национальности, общественного положения и
нравственности. Они организовывали и группировали их в противоположность
к обществу неверных, которых следовало, по крайней мере., ненавидеть,
если не вести с ними борьбу. Космополитический и народный
христианский бог, не различавший рабов от свообдных, бедных от богатых,
преступников и порочных от невинных и добродетельных, все-таки делил
людей на два враждебных лагеря: верующих и неверных. Те, которые
принимали веру, крестились и причащались, спасались, даже предаваясь
•порокам внутри христианской общины, в чем их обвиняют св. Петр^ и
св. Павел; они были уверены в вечном спаеонии. Неверные же, как бы
добродетельно ни жили, были осуждены на то, чтобы гореть вечно в
«адском пламени». «Их тело не умрет, и отонь, сжигающий их, не угаснет».
Но вечное поджаривание встретило возражение. Именно, в
возражении ссылались на ,то, что несвойственно от природы человеческому
телу вечно гореть и не погибнуть. Но св. Августин, умеющий на все дать
ответ, с невозмутимой серьезностью уверяет, что, по учению св. Писания,
до грехопадения человеческому телу (свойственно было от природы
бессмертие, и что умершие при воскресении возвращались в это первобытное
состояние. «Значит, тело может гореть — и не погибнуть». Тертуллиан
заявляет, что, «адское пламя делает тело нетленным, потому, что суще-
ствует двоякого рода огонь: один,, который разрушает, и другой, который
сохраняет. Так горят и вулканические горы всегда и все-таки
продолжают существовать». К аргументам Тертуллиана св. Августин
прибавляет: «Посмотрите на саламандру: она живет в огне». Но, возражал
неверующий; огонь уживается с природою саламандры, значит — она
от него не страдает. — Бог это изменит, отвечал ученый отец церкви, он
позаботится о том, чтобы огонь не мирился с природой осужденных. —
Но ведь к непрерывному страданию можно привыкнуть, и наступит мо-
218
мент, когда его перестанут чувствовать. — Этого не бойтесь, гласил
торжественный ответ кроткого отца церкви, — бог постоянно будет
возобновлять страдания осужденных.
Бот христиан, которого философы и моралисты либеральной
буржуазии охотно выставляют образцом кротости п человеколюбия, был
в первые века нашего летосчисления свирепым палачом, который
оказывался не только непримиримым, но и изобретательным. Ов. Павел
говорит: «Нам... отрада явление господа Иисуса с неба, с ангелами силы
его, в пламенеющем огне совершающего отмщение непознавпиш бога и
непокоряющимся благословению господа нашего Иисуса христа, которые
подвергнутся наказанию, вечной гибели от лица господа и от славы
могущества его». (Второе послание к фессалоникийцам I, 7—9). Зевс
велел мучить своих врагов вдали от себя: Прометей томился на Кавказе,
Тантал в Тартаре. Новый бог, думающий, что верующие в него обладают
такой же безжалостной душой палача; как и он сам, обещает им в
качестве одной из небесных радостей возвышающее зрелище вечных мук
осужденных (Исайя LXVI, 24).
Христианство не принесло с собой «любви к ближнему»; оно,
напротив, снова пробудило месть античного мира с ее страстью и
обрядностью. Дикарь и варвар успокаиваются только тогда, когда могут
отомстить собственноручно. Когда буржуазная власть отняла у
индивидуума право мстить за себя, сын потерпевшего или за отсутствием
такового ближайший родственник присутствовал при наказаний
преступника, чтобы таким образом удовлетворить свою месть, которой он не мог
уже совершить собственноручно. Так бывало в Афинах — Афинах Пе-
рикла и философов. Иисус, говорит св. Павел, будет сам мстить за себя
неверным. Бог отец и избранные будут вечно наслаждаться их
страданиями. Муки неверных самым блестящим образом свидетельствовали
о мощи и славе господа.
Но когда христианство начало проникать и в цивилизованные слои
языческого общества, богу и его сыну Иисусу пришлось несколько
цивилизоваться, чтобы стать на равную высоту с ними. Они оставили
привычку мстить сами за себя и присутствовать при мучениях жертвы.
Они предоставили наказание неверных подчиненным властям, чертям,
и притом только в аду, не на их глазах. Дикари избавлялись от злых
духов, мучивших их, посылая их в места блаженства, где они могли
продолжать свою жизнь после смерти. Христиане думали, что города и
села лучше всего освободить от чертей, делавших их небезопасными, если
запереть их в ад и там же назначить им приятное занятие мучить
мертвых вместо живых. До них уже язычники думали о том, чтобы
доставить им это развлечение. Платон им предоставил мучить грешников.
Гесиод, не зная, что с ними делать, превратил их в полицейских и
жандармов Зевса и богини справедливости.
Христианство не внесло ничего новото. Оно даже не само выдумало
свои нелепости и свои грубые суеверия. Оно только обладало
несравненным искусством, которым не обладали ни мистерии ни орфизм,
удовлетворять интеллектуальные и сентиментальные потребности, желания и
страсти народных масс своего времени. Оно разделяло ненависть бедных
к богатым и умело успокоить богачей, откладывая до будущей жизни
сглаживание несправедливостей судьбы,' неравенство сословий и
благосостояния, а также награду за добродетели. Несмотря на свою
демагогическую манеру держаться, оно с самого начала было предохранительным
клапаном для состоятельных классов. Ему удалось придать себе космо-
219
политический и демократический характер, которого требовали товарное
производство и товарообмен, отменив посвятительные обряды, которыми
обставили себя мистерии, и не ограничивая своего культа одним городом
или одной нацией, но напротив — распространяя его всюду. Оно
принимало в свое лоно всех людей без различия расы и положения и соединило
все общины в церковйую организацию, которая <в конце концов
превратилась в господство духовенства. Сначала оно привлекло бедный,
несчастный, суеверный и невежественный народ, снова восприняв и
осуществив предания и идеи дикарей, вошедшие в моду и ставшие
популярными благодаря* мистериям. После того как оно овладело этим опорным
пунктом и приобрело оборонительные и наступательные силы, оно
приступило к завоеванию умственно более высоко стоящих и образованных
классов, искусно воспользовавшись спиритуалистическими выводами
греческой философии и сумев прикрыть свою первоначальную грубость
маской мнимой сладенькой святости, которую должна носить религия
экоплоататорской, гуманной буржуазии.
(«Происхождение и развитие понятия о душе»).
М. Рейснер
БОГ И ЗАГРОБНЫЙ МИР МАГОМЕТАНСТВА
Я г в е, Аллах и арабская торговля
Основные идеи юдаизма получили двоякое развитие. О одной
стороны они, объединившись с плодами эллинизма, выразились в различных
течениях христианства и этим дали начало западно-европейской и
отчасти византийской теократии, которые наложили свою печать на
развитие европейской мысли г). Другое течение отразилось бесспорно на
основной арабской религии — мусульманстве, и этим сроднилось с одним
пз новейших течений восточной же теократии, охватившей собою не
только Африку и Азию, но в известной степени восточную Европу и
Пиренейский полуостров.
Мусульманская идеология родилась около крупного центра
торговых путей, сосредоточенного возле Мбкки и Ятриба, позднейшей Медины.
Караванная торговля арабов происходила в крупном объеме и уже
носила некоторые черты, сближавшие ее с современными формами крупных
предприятий. Мелкие капиталы участвовали в караванной торговле при
помощи многочисленных вкладов на сооружение караванов, благодаря
чему создавались порой весьма крупные торговые экспедиции. Из таких
городов, как Мекка, ежегодно отправлялись караваны осенью в Емен и
Абиссинию, весной — в Сирию. Предметами вывоза была кожа, ладан^
клей, драгоценные металлы; предметами ввоза — разного рода ткани,
шелк и предметы роскоши. По сведениям от начала VII века мы имеем
до шести экспедиций такого рода. В их состав входили многие тысячи
груженых верблюдов со стоимостью товаров до 50 000 золотых динариев
(динарий равняется 15 франкам). Богатые купцы обыкновенно
становились во главе экспедиции и удерживали до половины всей прибыли в свою
*) 0 социальных причинах возникновения христианства см. в отд. IX.
Прим. ред.
220
пользу, но остальная половина шла на вознаграждение тех мелких
вкладчиков, которые участвовали в сооружении каравана иногда не более как
одним или двумя динариями.
Караванная торговля Аравии, которая шла проторенными путями
через пустыни от одного населенного пункта к другому и от одного оазиса
с колодцами к следующему, -дополнялась также морской торговлей
арабов, служивших посредниками между Азией, а в частности—Индией и
'Средиземным морем. Впоследствии, при установлении арабского
владычества на южных и восточных берегах Средиземного моря, эта торговля
получила очень крупное развитие. С одной стороны, арабские караваны
шли из Сирии на восток через Алеппо и Багдад, а с другой — по
Красному морю они добирались до Персидского залива и вывозили оттуда
товары, которые на другом конце тороговото пути подхватывались
венецианскими, генуэзскими галерами. Такое значение аравийских
торговых путей особенно в эпоху ожесточенной борьбы между Византией и
Новоперсидским царством, которые принимали на службу целые
арабские племена, должно было необходимо привести к крупным изменениям
как в самой Аравии, так и в отношении этой страны к ее ближайшим
соседям. Ибо совершенно очевидно, что 'интересам крупной арабской
торговли жестоко противоречил факт полной разрозненности кочующих
и оседлых арабов северной и южной стороны Аравии, населенной в
первой своей части разбойниками-кочевниками, а в южной — оседлыми и
подчас весьма состоятельными участниками международного торгового
оборота. Ибо естественно, что кочующие арабы, хозяйство которых
исчерпывалось наличностью верблюда и лошади, представляли собой
постоянную угрозу торговым путям и караванам, так как поскольку они,
с одной стороны, являлись проводниками и наемной охраной каравана,
постольку же при малейшей возможности они занимались грабежом.
Распадение же всех этих групп на бесчисленное количество друг от друга
независимых родов делало совершенно невозможным какое-нибудь
общее соглашение с ними в общих интересах, хотя бы в виде уплаты дани
какому-нибудь одному крупному вождю или шейху.
Потребности мировой торговли совершенно необходим/) толкали
арабов, особенно же ведущих караванную торговлю, к необходимости
объединения и общей организации. Только таким образом было возможно
обеспечить безопасность торговых путей и этим самым защитить торговлю
от ежеминутных и притом очень тяжелых потрясений. Крупные убытки
от непрестанных грабежей, от которых не спасали даже сравнительно
большие караваны, были основным и чрезвычайно веским аргументом
в пользу арабского объединения. Характерно, что так как мелкие
вкладчики караванной торговли страдали не только не меньше, но, наоборот,
значительно больше от отсутствия безопасности торговых путей, то и
мысль об объединении всех арабов, как кочевых, так и оседлых, в одну
великую общину родилась в толове именно мелкого торговца Магомета
(Мухамеда), сына Абдалаха из рода Гашима, который и принадлежал
к господствующему в городе Мекке племени корейшитов, но в то же время
отнюдь не был в числе знатнейших граждан. Нас не итересует здесь
его деятельность в качестве религиозного реформатора как такового.
Достаточно сказать, что Магомет выступил со своею религиозной
проповедью отнюдь не в молодые годы, а следовательно имел полную
возможность использовать и свой жизненный опыт в качестве торговца и те
познания, которые он приобрел о различных религиях среди весьма
смешанного населения торговых городов. Не надо забывать, что в этих цен-
221
трах арабской торговли находились в большом числе не только иудеи,
персы, но многочисленные христиане всевозможных сект и исповеданий.
Надлежит отметить также и другой момент, а именно тот, что
проповедь Магомета имела успех вовсе не потому, чтобы ему удалось войти
в широкие массы и сразу понять их движение при помощи удачно
найденной идеологии, отвечающей их социальным и в особенности классовым
интересам. Такого успеха в качестве проповедника и пророка Матомет
не имел. Его учение привлекло к себе внимание и последователей лишь
под влиянием весьма реальных фактов и доказательств. К ним
принадлежат в первую голову его удачные опыты по организации торговой
конкуренции города Ятриба с Меккою и использование системы грабежа по
отношению к караванам Мекки. Как свидетельствуют всё' исследователи,
Магомет проявил себя здесь не только как пламенный щюрок и
религиозный проповедник, но как превосходный организатор,, которому в высшей
степени пошло на пользу его новое учение. Первые начатки Корана,
таким образом, оправдали себя на практике как превосходное орудие
организации и единства, и если под знамя этого учения начался
основательный приток верующих, то опять-таки не под влиянием какой-то
религиозной жажды, а отлично обнаруживших еебя на деле предписаний
нового закона. Единая организация первоначальной
военно-религиозной общины настолько оправдала себя, что, во-первых, стала ячейкой,
из которой развилось грандиозное здание мусульманского халифата, а,
во-вторых, доставила Корану высшую руководящую и
организационную роль в создании мусульманской теократии. Если искать аналогии
в западно-европейском религиозном движении, способной напомнить
возникновение и рост мусульманства, то ближе всего сюда подходят
различные течения европейской реформации, которые точно так же возникли
под непосредственным давлением капитала и в первую
голову—.капитала торгового.
Здесь возникает естественный, вопрос, который подсказывается
наличностью в Аравии монотеистических религий, которые могли
непосредственно дать идею единства в лице либо христианского бога, либо
иудейского Ягве, так как, казалось бы, наиболее простым и дешевым способом
для создания нужной арабам идеологии могло служить основное донятие
единого божества, лежавшее в центре и. тех и других верований. И если
даже считать, что христианские течения были недостаточно представлены
в городах Аравии и производили укрепление не столько единобожия,
сколько многобожия, то спрашивается, почему столь последовательный
образ еврейского Ягве не был непосредственно заимствован арабами,
а следовательно, не повлек за собою прямого обращения их к иудейству.
Действительно в Коране находим мы весьма многочисленные места, где
Магомет полемизирует с христианством именно на почве единобожия и
многобожия. Как кажется, местные христианские верования у нею
оставили совершенно твердое впечатление, что христиане веруют не в
одного бога, а в нескольких, при чем наравне с богом отцом они почитают
не только бога сына, т.-е. Иисуса, но также и богиню мать, а именно деву
Марию. Такое представление божества в виде особого божественного
семейства, где в наличности имеется и отец, и мать, и сын, уже потому
было для Магомета неприемлемо, что местные язычники, поклонники
родовых божеств в виде священных камней, не раз предлагали Магомету
устроить родственное сближение между богом отцом и старшими
богинями путем провозглашения последних непосредственными дочерьми ма-
гометова бога отца.
222
Вот почему одним «из основных признаков божества, по учению
Магомета, является лишение его свойств отца и главы какого бы то ни было
божественного семейства. Отрицание отеческого характера и семейных
связей между богами или даже лицами одной какой-нибудь троицы
направлено у него как против многобожия, так и христианства: «Он —
создатель небес и земли; откуда будут у него дети, когда у него не бывало
подруги?». Или, как сказано в другом месте, бог «никогда не имел
детей». А поэтому у него «не было соучастников царствования», для него
«никогда не требовался какой-либо защитник от унижений». Даже более
того, «богу несвойственно иметь детей». Если же Магомет вместе с
христианами готов признать непорочное зачатие девой Марией Иисуса от
бога, как творца, то именно потому, что Иисус почитается здесь лишь
в качестве человека и божьего посланника, рождающегося от/ Марии
несколько чудесным путем: рождение происходит от духа божьего без
всякого отца, ибо предполагается, что для бога нет ничего невозможного.
Но это нисколько не значит, чтобы можно было «милостивому уовоять
детей». «Милостивому несвойственно иметь детей», а Иисус есть не сын,
не бог, а чудесным образом созданное творение божие. Как говорит бог:
«В сохранившую детство свое вдохнули мы от духа нашего и поставили
ее и сына ее знамением для миров». И такое отрицание наличности у бога
детей Магомет объясняет в другом месте: «У бота нет никаких детей, —
вместе с ним нет никакого бога. В противном случае каждый бог
-захватил бы то, что сотворил он, и одни из них были бы выше других».
Другими словами, было бы нарушено всякое единство, а между ботами
могло бы возникнуть некоторое соперничество. И что Магомет в данном
случае был не совсем неправ, показывает общий миф о боге отце и сыне,
где первый подвергает второго мучительным истязаниям и даже смерти ...
Нельзя не видеть, что такое лишение бога отцовских черт и отцовского
характера сразу налагает на Аллаха магометан особые черты некоторой
трезвости и холодности, резко отличающей его от бога христианского.
Сближение, таким образом, остается только между Аллахом и Ягве.
Нет никакого сомнения, что между этими двумя образами божества
существует громадное сходство. И не даром Магомет в своем учении
делает постоянные и чрезвычайно обширные ссылки на библейскую
историю, заповеди Ягве, его закон и пророков. По толкованию мусульманского
проповедника, Аллах и есть собственно тот же Ягве, который лишь послал
нового пророка в лице Магомета, а, с ним вместе дополнил и исправил
ветхий завет новым учением, которое должно заменить собою старый
еврейский закон. И если мы вчитаемся в Коран, то увидим, что на самом
деле заимствования Магомета у юдаизма так велики, что без натяжки
мусульманство, подобно христианству, можно считать одним из прямых
и непосредственных преемников библейского закона. Воспринята и
основная заповедь обрезания у евреев, заимствованы основные положения
десяти заповедей, использовано и понятие божества, которое избрало
определенный народ и намерено доставить этому народу всевозможное
блаженство под условием точного исполнения божьих велений и запретов.
В особенности воспринята Кораном та обширная система материальных
наказаний на земле и после смерти, так же как соблазнительнейших
наград в этом и том царстве, которая отличает собой чрезвычайно резко
всю систему древне-израильской идеологии. С этой стороны, можно
сказать, иудейство вполне подходило к запросам арабского купечества, и
то же самое должно заметить о ряде правовых положений, находящихся
в Библии. Отношение к рабам, положение женщины, даже ряд правил,
223
имеющих целью поддержку социально слабых элементов, — все это не
только годится, но и на самом деле входит в идеологию и правовой строй
мусульманства. Казалось бы, ничто не препятствует общей рецепции
юдаизма со стороны арабского населения, а следовательно, и наиболее
экономному разрешению- вопроса об организации и единстве. И даже те
специальные военные и завоевательные обетования, которые были даны
Ягве избранному народу, могли бы быть без труда перенесены на арабов,
способных таким путем влиться в общий состав еврейской религиозной
общины, укрепить и расширить ее. Как мы знаем из истории Магомета,
он неоднократно делал усилия и попытки к сближению с оседлым в
Аравии еврейством и особенно чувствительно был затронут крайне
отрицательным отношением их к новой религии. В Коране остались до сих пор
многочисленные страницы, где Матомет горько жалуется па евреев за
их неспособность увидеть в мусульманстве религию Авраама, Исаака
и Иакова и нетерпимость, с которой они встречали все его усилия
дополнить старый закон и отчасти заменить его богооткровенным
Кораном.
И однако же такое объединение было совершенно невозможно, —■
ж это по двум основаниям. Во-первых, еврейство не могло сделать нужных
уступок, а во-вторых, интересы арабов далеко не могли бы
удовлетвориться даже самыми широкими их уступками. После разрушения
Иерусалима еврейский закон уже был лишен той жизненной основы, которая
сообщала ему способность к дальнейшим изменениям, он перешел, что
называется, на консервацию в общинах диаспоры, и притом в той своей
форме, которую наложила на него теократия иерусалимского жречества.
И если был еще возможен какой-либо пророк среди евреев, то за потерею
Палестины лишь в среде и на почве общин рассеяния. Вместе с тем
«с падением второго храма настолько уже закончилась эпоха обычных
пророков, что появление пророка в диаспоре не могло означать ничего
другого, как сошествие на землю последнего пророка благовестника, т.-е
сына божьего или мессии. Относительно же такого пророка и мессии
существовало совершенно определенное ожидание, что он выйдет
непременно из среды самого избранного народа, и даже из племени давидова.
Магомет абсолютно не был удовлетворен этими требованиями, и не в его
целях было ставить себя в ответственное и затруднительное положение
великого чудотворца и спасителя. Но если бы даже арабские иудеи
пошли на самые широкие уступки, то и тут ничего бы не вышло потому,
что они никоим образом не смогли бы отказаться ни от теократического
устройства, ни от мессии, а за отсутствием каких-либо законных форм
религиозного законодательства не смогли бы легализовать для всего
еврейства своих уступок. Слишком сложный багаж вынесли они с собой
из своего исторического прошлого и приспособить, да еще в законной
форме, свою тонко разработанную космогонию, историю, догматику,
нравственное и юридическое законодательство и социальный строй к
потребностям полуварварского разбойничьего и торгового народа для них было
совершенно немыслимо. Попросту говоря, здесь встретились идеологии
двух народов: одного, только выходящего на широкую историческую
арену, другого — уже завершившего свою основную культурную работу
и лишенного каких бы то ни было надежд на широкое национальное
существование. И если даже существует известное сходство между
первыми выступлениями древне-еврейских семитов и начальными шагами
семитов-арабов, то во всяком случае последние должны были снова начать
с самого начала тот путь, который: уже проделан евреями.
224
Вопросы крайнего упрощения сложной исторической,
метафизической, нравственной и юридической ткани старого закона нуждались
в разрешении не только потому, что мы здесь имеем начало и конец в
некоторых пунктах сходного процесса: в основе несходства лежали и другие
более глубокие причины. Завоевание Ханаала превратило, как можно
догадываться на основании достаточных данных, еврейских кочевников
в земледельцев. Лишь .впоследствии к этому основному крестьянству и
сельскохозяйственному ядру присоединились наслоения, с одной староны,
феодальной собственности, а с другой — торгового капитала. Поэтому
вся идеология древнего юдаизма была от начала до конца проникнута
именно земледельческими и широкими крестьянскими интересами. Как
мы уже видели выше, основным содержанием всех договоров с богом и
различных обетовании были прежде всего земли и возможность
процветания мелкого хозяйства. Пророки приходили главным образом к, этой
крестьянской массе и вещали ей грядущий мужицкий рай. Сам мессия
есть лишь орудие для выполнения этой основной задачи. На крестьянстве
основывалась теократия второго храма. И даже в моменты наибольшего
развития еврейского торгового капитала основным тоном и важнейшим
содержанием религиозной идеологии был крестьянский мир земледельца,
сидящего под своей смоковницей и виноградниками. Этот мотив,
осложненный эллинистической идеей искупления, дал возможность
впоследствии объединить Библию с европейской культурой, где крестьянин
долгое время сохранял свое господствующее положение в производстве.
Несомненно, оседлые арабы представляли собой в большинстве подобную
категорию мелких земледельцев. В Коране, как мы увидим дальше,
большую роль играют и каналы орошения, и ручьи, и виноградники, и
смоковницы, упоминаются и хлебные поля. Но едва ли не главную роль
играют финиковые пальмы оазисов, стада верблюдов и овец, табуны
лошадей и что еще характернее — корабли и мореходные суда среди волн
бурного моря. С другой же стороны, весь Коран по своему трезвому
рационализму, сухой расчетливости, постоянному измерению и вз1вешива-
нию, так же как индивидуалистическому характеру, носит ярко
выраженные черты интересов не крестьянства, а торгового да еще вдобавок
воинствующего капитала. Основные классовые интересы, которые ищут своего
удовлетворения в этой книге нового закона, это—совершенно явные,
а порою даже весьма грубо выраженные интересы мелкой и крупной
тортовой буржуазии. В ряде очень существенных пунктов они
совершенно противоречат классовым интересам земледельца, наложившего
свою печать на библейский закон Ягве. Такое классовое несовпадение
двух идеологических систем само собой исключило и возможность более
или менее полного и широкого' принятия арабами иудейского вероучения.
Алл ах -х озяин
Если мы теп.ерь обратимся к самому понятию божества в
Коране, мы сразу же должны будем отметить специфический
характер торгово-индивидуалистической идеологии. Уже отсутствие
отеческих свойств превращает самого бога в подлинного
индивида, который лишь из самого себя почерпает все проявления своей
личности. С этой стороны Коран дает нам совершенно
исключительное напряжение личного начала в божестве: «Он — бот — един,
крепкий бог. Он не рождал и не рожден: равного ему кого-либо не бывало».
«Богу принадлежит царственная власть над небесами, землею и над тем,
что есть между ними. К нему возвращение всего... Он прощает тому,
Г. Гурев 15
225
кому хочет, и наказывает того, кого хочет». «Он полновластен над
своими рабами». «Ни один лист древесный не падает без его ведома». «Он
производит творение и со временем опять уничтожает его». Как сам бот
говорит своими собственными устами, даже при сотворении людей и
гениев он признавал только свои 'собственные личные цели. «Я, —
говорит он, — 'сотворил гениев и людей только для того, чтобы они
поклонялись мне». Или, как он говорит в другом месте: «Мы сотворили небеса,
землю и то, что между ними, только для проявления истины». В основе
акта творения, следовательно, лежит исключительно личная воля
божества. И совершенно так же он лично руководит всею жизнью на земле,
а в особенности жизнью и деятельностью людей. На этом основано и
предопределение, которое для земных тварей приводит к неизбежной и
рабской зависимости от воли творца. «Всякому имеющему душу надобно
умереть не иначе, как по воле бога, сообразно книге, в которой
определено время жизни». Точно так же и во время самой жизни: «Все дела
во власти бога». «Каждому из вас, — говорит бог, — мы вложили уста©
и дорогу». «Кого бог захочет подвергнуть искушениям, того тебе никак
не защитить от бога. Тем, у которых сердец бог не захочет очистить,
будет посрамление в здешней жизни, будет великая мука в будущей
жизни». Он «может послать на вас казнь или сверху или снизу, из-под
нот, или одеть вас одеждой разногласий и заставить вкусить еды друг от
друга». «По своей воле бог оставляет некоторых людей», чтобы они
«исступленные скитались по распутиям нечестия». «Если бы он захотел
то всех ... поставил бы на прямой путь». По своему желанию, однако,
сотворил он «для геенны... великое число гениев и человеком: у них
сердца, не понимающие... у них очи, не видящие... у них уши, не
слышащие ... они — как скоты, и даже больше, чем они, — блуждают».
Некоторых людей бог «незаметно» доводит «до погибели, так что они того
и не узнают». Иногда по воле бога все 'Свершается так, чтобы некоторые
люди «и издохли неверными». «Душа может веровать только по
изволению бога». Даже в тех случаях, когда бог сначала доставлял «житейские
выгоды», он делает это для того, чтобы впоследствии их постигла «лютад
казнь». «Бог вводит в заблуждение, кого хочет, и ведет прямо, кого
хочет». «В этом бог ничем не связан, кроме своей собственной воли». «Бог
делает, что хочет». Это относится и к целым народам:—никакой народ
не ускорит наступления назначенной для него поры и не отсрочит ее».
Поэтому иногда на запросы пророков бог прямо отвечает: «Это так >с
тобой устроил я для себя».
Приведенные положения Корана не оставляют ни малейшего
сомнения в том, что мы имеем дело не только не с каким-то предопределением,
которое носило бы общий характер фатума или судьбы, обязательной
для бога и людей, как это было в древне-греческой религии, или хотя бы
общей и равной для одних людей, но встречаемся с личной волей
божества, принимающей полнейший характер личното произвола. Это, можно
сказать, весьма энергичный и деятельный хозяин, который дела свои
ведет преимущественно без посредства приказчиков и сам определяет,
кого ему желательно пустить по одной дороге и кого по другой, какую
степень свободы предоставить тому или иному, какими бедствиями или
испытаниями обставить отдельное лицо, семьи и народы, причем, однако,
этот личный бог предпочитает, согласно данному им откровению, иметь
дело, как это принято в хороших коммерческих отношениях, с
отдельными людьми лично или непосредственно с тем, чтобы получить
желательные нужные ему результаты. Такой бш1 менее всего «склонен связы-
226
вать свою свободу каким-то особым договором или взаимными
обещаниями. Он действует, как купец, избирающий пути там, где это ему
наиболее выгодно, и оставляет за собой возможно широкую -свободу
действия. Такая аналогия между действиями богатого и мудрого
коммерсанта, с одной стороны, и бога по учению Корана, — с другой, получает
подтверждение далеко не только на основе приведенных нами
соображений. Напротив того, Коран, хотя и несколько непоследовательно,
указывает на некоторую борьбу между человеком и богом, которая ведется,
конечно, лишь в рамках, назначенных самим божеством, и приводит к
непременной победе бога над человеком. Это своего рода игра или
божественный спорт, исход которого предопределен в пользу сильнейшей
стороны. Вполне естественно, что человек в таких случаях прибегает не
к силе, которой у него нет, но к общему орудию всех слабых — к
хитрости. Как тут происходит дело? На это Коран отвечает без малейших
колебаний. «Они хитрили, и бог хитрил: но бог самый иокуосный из
хитрецов». Иногда люди, постигнутые несчастьем, пробуют обмануть бога,
тогда они умоляют его, «и лежа, и сидя, и стоя», но когда бог удаляет
от него несчастие, тогда человек «уходит, как будто он никогда не
умолял ... о удалении постигшего его несчастия». Но никакие ухищрения
не помогут: «Бог быстрее всех в ухищрениях». «Хитрость во всей своей
полноте у бога: он знает, что усвояет себе каждая душа». И если люди
«ухитрились своей хитростью», то и бот «ухитрился своей хитростью,
так что они и не догадались».
Такая хитрость всемогущего бота по отношению к слабой твари,
которая является полной игрушкой в руках своего всемогущего хозяина,
вызывает, конечно, довольно горькое чувство, ибо божия «хитрость
верна». Она выглядит несравненно хуже хитрости абсолютного духа
в философии Гегеля, при помощи ее стремящегося к диалектике
саморазвития и самопознания. У Магомета это просто обожествление
крупного капшталиста-комерсанта, который в наперед рассчитанной
безошибочной игре ставит ловушку несчастной бедной и забавляется тем, как
его маленькую хитрость он побеждает своими ловкими и страшными
ухищрениями. Перед нами бог не только в качестве индивида, как мы
его встречаем на любом рынке, но и прямо во образе какого-то
обожествленного, на небе водворившегося всемогущего купца.
Рай и ад Магомета
Как известно, одним из принципов' хорошего ведения дел является
умело поставленная реклама. И если мы с этой точки зрения подойдем
к Корану, то не можем отказаться от впечатления, что перед нами
имеется один из лучших образцов именно этого рода искусства. В
живописании тех благ, которые может получить -в виде награды тот или иной
верующий, давший боту хорошую ссуду, Магомет не знает себе равных.
Уже с внешней формы Коран представляет собой подобие поэтического
произведения, ибо написан стихами, хотя сам пророк отрицает звание
поэта. Но где доходит он до высочайшего напряжения «поэтического
дара, — это в тех местах, где он соблазнительнейшим образом рисует
блага, ожидающие верных, покорных, послушных и щедрых на
милостыни и жертвы для божьего дела. Надо отметить, что такие обещания
здесь даются с гораздо большим благоразумием, нежели это мы видели
на примере древне-израильского Явве. Как мы уже могли убедиться,
у евреев натрада должна была последовать уже на земле и только Книга
Иова знаменует собою переворот, когда с великой горечью и болью ввиду
15*
227
трагических судеб, постигших Израиля, пришлось отказаться от земных
наград и наказаний в пользу небес. Уже христианство в своей
социальной идеологии сделало тот счастливый шаг, что оно, за исключением
сектантских течений, перенесло окончательный расчет <с господом богом
в потусторонний мир и тем избегло реального контроля на местах.
Мусульманство в этом отношении следует скорее христианству, чем
иудейству. Здесь тоже, конечно,-имеется и расчет на земные блага. Не даром
изображается сила божия и ее богатства в различных явлениях здесь на
земле и мезаду прочим в различных видах удачи и счастия здешнего
бытия. Но Коран гораздо осторожнее еврейства. Когда выставляются
все дары и благодеяния природы и человеческого общества,
производимые и создаваемые богом, то, по общему правилу, Магомет главным
образом напирает не на будущие, а уже на совершившиеся благодения и
требует за них непрестанно все новой и новой благодарности. Поэтому и
в число людей не угодных богу, входит в качестве особой и довольной
крупной категории именно разряд неблагодарных, неспособных оценить
все блатодеяния божества, начиная от солнца и звезд, семи сфер неба,
покоящегося бе>з столбов, и кончая маслиной, мулами и кораблями при
перевозке товаров. За это должно быть «благодарными», но не этот земной
фонд является главным основанием для дедовых отношений между
верными и богом. Здесь Магомет тем более осторожен, что, как он
подтверждает не раз и сам, земные богатства часто сопровождают тяжелое
нечестие и грехи, а земное благополучие уже потому нельзя считать наверно
обеспеченным, что бог весьма часто подвергает даже праведников
различным испытаниям и бедствиям, дабы этим самым измерить силу их
праведности и долготерпения. Пример Иова играет в Коране весьма
значительную роль, и Магомет не прочь считать самого Иова одним из
посланников божиих. Такой неуверенностью в земных судьбах человека
объясняется и довольно скептическая формула, которую мы довольно часто
встречаем на страницах Корана. Она гласит, как своеобразное
обращение к верующим: «Может быть, вы будете счастливы».
Но есть другая область, где пророк чувствует себя гораздо свободнее
и где он может без стеснения раскрыть великолепные витрины
приготовленных богом благ для его верных. Это потусторонний мир,
начинающийся с момента смерти и последующего воскресения. Последние
события не представляют для Магомета' ни малейших затруднений. В своей
полемике с людьми, отрицающими жизнь после гроба, он аргументирует
чрезвычайно удачно, и при том, при помощи весьма рациональной и даже
натуралистической философии. Он несколько раз повторяет в Коране
одну любопытную формулу, которая дает представление о 'Своеобразной
диалектике творения: «Истинно, бог, выводящий росток из хлебного
зерна, из финиковой косточки, изводит живое из мертвого и мертвое
изводит из живого» (с. 6, ст. 95). Таков действительно непреложный закон
природы, который в устах Магомета становится одним из признаков
всемогущества божия. О этой точки зрения действительно оспаривать
возможность воскресения мертвых нельзя, и недаром наш пророк так часто
рисует процесс происхождения различных существ как одно из
проявлений великого божественного производства. Воскресение мертвых есть
поэтому лишь второе рождение в силу того же произвола божества, и ond
отворяет двери в новую жизнь, где мы встречаемся с чудесным выбором
товара божественного капиталиста. Мы выдвигаем здесь на первый план
именно райские оклады всяких блаженств. Конечно, божий суд для
неисправных должников влечет за собою и нечто иное. В виде сверхъесте-
228
ственного долгового отделения вырастают перед нами грозные картины
ада и соответственно адских мучений. Мы на них остановимся несколько
ниже, ибо не им отводится первая и основная роль. Подобно тому как
всякая упорядоченная торговля рассчитывает прежде всего на честного
и солидного клиента, так и в идеологии мусульманства основная роль
предоставлена не аду, но раю. Простое сравнение того места, которое
уделяется сравнительному изображению рая и ада, дает нам понять, что
террору и методам устрашения во всяком случае здесь отводится
второстепенное место. Бог устами Магомета прежде всего старается привлечь
людей в состав клиентов великого райского дома путем предъявления
подробнейших каталогов тех благ, которые выставлены в райских
обителях и становятся доступными всем, даже самым скромным клиентам,
т.-е. верующим, честно выполнявшим свои обязательства по отношению
к божественному хозяину.
Изображение рая в той системе Корана, какую эта книга имеет
сейчас, дает в общем постепенно развивающееся богатство материальных и
нематериальных благ. Можно сказать, что изобилие и краски райского
блаженства постепенно развиваются и накапливаются, пока уже в
последних главах Корана не дают изумительной картины всяческого
блаженства. Начинается это последовательное развитие с того, что
проводится параллель между земными и небесными благами: «Обольстительна
для людей страстная привязанность к женщинам, к сынам, к
полновесным талантам золота и серебра, к отличным коням, к стадам скота, к
полям, но это наслаждение только в здешней жизни, прекраснее же жилище
у бога». Но это жилище, как мы увидим дальше, качественно весьма мало
отличается от «здешней жизни». Напротив, «сады утех», или «сады
радости», представляют собой щ что иное, как лишь безмерное увеличение
земных благ, но с тем отличием, что ни труд, ни болезни, ни горе более
не смешиваются с невозмутимым блаженством: «Для благочестивых
у господа — их сады, по которым текут реки». В этих садах «они будут
вечно с чистыми супругами под благоволением божьим». Количественный
признак дает указание и на «обширность» таких садов, которая так же
велика, как обширность небес. Особенно подчеркивается наличность в этих
садах «рек», которым дано вечное течение. Такое сочетание-
растительности и реки или вообще постоянно текущих источников живо нашми-
нает нам аравийские оазисы, единственные места отрады и утешения для
кочующих или идущих с караванами бедуинов. Величайшее благо земли»
по представлению жителей пустыни, перенесено целиком на небеса и
является там одним из наиболее соблазнительных благ божьего рая.
«Сады, по которым теку реки», это—основа всей божественной торговли.
К этому еще иногда присоединяется укрывающая от солнца «тенистая
тень». И не надо думать, будто обитатели рая далеко уйдут от
свойственной им земной психики. Конечно, между ними водворится великий мир,
да и трудно представить себе иную картину среда такого невероятного
изобилия и блаженства. Но по отношению к другим людям, оставшимся
по ту сторону райских врат, они сохранят достаточное количество
эгоизма и злобы. Характерны для этого картинки, которые рисует нам
Магомет, где изображается разговор между блаженствующими праведниками
и наказанными грешниками через особую завесу или преграды, лежащие
между ними. Первое движение блаженных после помещения их в сады
утех будет состоять в том, что, взирая на обитателей огня или ада, они
воскликнут: «Господь нашь, не помещай нас купно с людьми
беззаконными». Когда же обитатели огня станут просить райских жителей о том,
229>
чтобы они излили от рая на страдальцев какую-либо малость воды или
что-либо из того, чем «наделил» их бот, то лраведные в чисто земном
самодовольстве скажут: «бог и то и другое запретил для неверных». Такое
настроение у обитателей рая отнюдь нельзя назвать ни милосердным, ни
даже лишенным самых грубых признаков эгоизма, какие свойственны
и на земле имущим по отношению к неимущим. Благодаря материальной
и рационалистической окраске Корана весьма прозрачно рисуется нам
подлинная земная и вместе с тем классовая подоплека противоположения
рая и ада, которое мы не раз встретим в весьма мистических учениях
важнейших религий, ибо рай есть не что иное, как дальнейшее развитие
тех благ, которые дает богатство, ад — тех жучений, которые и без того
присущи бедности и в особенности нищете. Фантастические символы и
образы, которыми так часто окружаются эти два полюса потустороннего
мира, -с успехом скрывают истинную подоплеку такого
противоположения, В Коране, благодаря его трезвости и реализму, эти следы выступают
с необычайной яркостью. Богачи небес, или праведные,
противополагаются нищим ада, как собственники неимущим, и неудивительно, что
речь их звучит буквально так, же, как любой отказ богатого на крик
о помощи со стороны бедняка. Между землей и небесами
устанавливается только одна, разница. И если на земле иногда праведные
страдают, а грешники богатеют, то на небесах классовое разделение получает
полную законность и облик совершенной справедливости: в богачи здесь
попадают только праведные, а грешники целиком нисходят на положение
мучимых и страдающих.
Развитие рая идет далее именно в направлений все возрастающего
богатства — от простого пребывания под «тенистою тенью» среди вечных
рек эдемского сада вплоть до прекрасно обставленной и омеблированной
квартиры или, вернее, общежития привилегированных обитателей небес.
Уже в 13-й суре среди блат рая упоминаются всевозможные закуски и
блюда, ибо «снеди в нем (в раю) постоянны». К этому постепенно
присоединяется и некоторое духовное благо, которое, впрочем, отграничивается
лишь отношениями внутри самого ада. Как говорит бог: «мы отнимем
ту ненависть, какая была в сердцах их: они, как братья, будут сидеть
одни против других на ложах». Интересно отметить, что у этих
праведников предшествующая «земная ненависть» отнюдь не препятствует им
попасть в рай. Эдемский сад вместе с тем несколько усложняется
обстановкой, ибо постепенно появляется «ложа».
Следующие главы Корана делают и дальнейшие надбавки. Вдобавок
к ложам уже упоминаются «золотые запястья», «зеленые одежды из
штофа и атласа». В дальнейшем изложении на золотых запястьях
появляются и жемчуга. Подтверждается, что «одежда на них (праведных)
там будет шелковая». Вообще же жизнь будет «благоустроенная». Пища
обогащается появлением «плодов и всего, чего только потребуют». Что
касается супруг, то они тоже «возлягут на седалищах». Наряду с пищею
постепенно обещается и питие. В раю будут обносить всех «круговою1,
чашею, с влагой прозрачной, сладостью для пьющих», от которой, в отличие
от земных вин, «не будет головной боли, от которой не опьянеют». Этот
мотив блаженного пьянства без опьянения развивается затем весьма
подробно. И мы постепенно узнаем, что в «золотых кубках» будет налито
питие, «от которого не бывает ни празднословия, ни возбуждения ко
греху», которое имеет в качестве приправы имбирь и приготовлено на
камфаре из источника, называемого селъсебиль. Но, как мы можем
догадываться, это будет не единственный напиток, ибо там же будет пода-
230
ваться «вино наилучшее, запечатанное»: печать на нем—моохус ... оно
растворено влагою Хаснима — источника, из которого пьют
приближенные к богу». Для желающих не будет недостатка в реках не только из
воды, но из молока, «вина, приятного для пьющих», и «из меда
очищенного». Такому же развитию подвергаются и все остальные обещанные
в садах утех блага. Кушания и питания будут подаваться на золотых
блюдах и кубках. Для услуг появятся в саду отроки «подобные
оберегаемым жемчужинам». Эти вечно юные отроки будут разносить не только
кубки, братины, «чаши с напитком», «с плодами», но и «с мясами птиц,
каких пожелают». К золотым кубкам присоединяются и серебряные и
хрустальные. Юноши приобретают вид «рассыпанного жемчуга». В таком
же объеме возрастают и вое остальные богатства. У постели появляется
«подкладка из шелковых тканей». Под деревьями возникают «шатры».
Спасенные возлежат, уже «облокотившись на зеленые подушки и на
прекрасные габкарийские ковры», наряду о шелковыми тканями
появляются «одежды из зеленого атласа», и соответственно расцветает
пышность окружающей природы: среди деревьев вырастают «лотосы, не
имеющие шипов», «бананы, на которых висят ряды плодов», к ним
присоединяются и пальмы, и гранаты, и (всякие иные деревья разных родов.
Но воистину завершением этой жизни безгранично богатых людей
являются их любовные утехи. Само собой разумеется, что Магомет
весьма мало заботится о доставлении женщинам счастья любви. Он
на них смотрит целиком как на своего рода инструменты блаженства,
которые тем более доступны человеку, чем он богаче и важнее. Поэтому
уже на земле пророк предоставил себе девять жен, не считая
невольниц, а остальным верным дал возможность приобретать до четырех
законных жен в прибавку к различным невольницам. Покупать этих жен,
конечно, могли только богатые. И вот ©то счастье богачей переносится
и в райскую обитель. В Эдеме у каждого будут жены, «скромные
взглядами, светлоокие, подобные бережно хранимым яйцам». Они будут
«равными по возрасту», т.-е. вечно молодыми. По наружности они
изображаются как добротные, красивые, черноокие, «чернозецичные, волоокие,
подобные хранимым жемчужинам». При чем выходят они в раю замуж
«девами, мужьям милыми», другими словами, в раю будет сосредоточен
самый наилучший живой товар, какой только можно было найти в семьях
и на базарах Востока. Этим заканчиваются датериальнейшие блага
великого рая, который только может создать фантазии богатого человека.
Можно сказать поэтому без преувеличения, что верующие, которые
честно выполнят свои обязанности по сделке с господом богом, станут
прямо миллионерами и неслыханными богачами в царстве небесном.
Характерно, что среди благ, указанных в раю, нет почти ни одного-,
которого нельзя было бы обеспечить при помощи крупных денег и приобрести
на рынке. Вечное здоровье и молодость представляют здесь как бы
единственное исключение.
Мы остановились довольно подробно на рае Магомета именно ввиду
громадного социального значения этой картины. Повторяю, в отличие от
затемненных и затушеванных образов райской награды, находимой нами
в других мировых религиях, здесь все необычайно просто и ясно.
Классовое разделение, взятое меньше всего со стороны производственного
положения класса, но исключительно со стороны потребительской
возможности и участия в распределении, здесь служит прямой основой для
отражения земного блаженства богачей на небесные обители, где тот же богач,
наслаждающийся жизнью, приобретает идеальные черты и отнюдь не ка-
231
чественно, но количественно восполняет недостающее на земле.
Христиане поступали со своим раем более прикрыто и строили его обходными
путями. Несомненно, каждый верующий христианин, принадлежащий
по крайней мере к широкой массе «труждающихся» и «обремененных»^
не мог представить себе иного рая, как того покоя, свободы, счастья и
блаженства, какое на земле становится уделом лишь имущих и в особенности
богатых людей. Такова во всяком случае добрая половина, а то и две трети
райских ожиданий и надежд у христиан, и лишь меньшинство способна
представлять себе рай в качестве совершенно лишенной материи жизни,
где находит завершение идеал полного, а подчас и болезненно
извращенного самоистязания и самоотречения. В этом отношении мусульманства
поступило гораздо практичнее, поскольку оно вовсе устранило
самоотречение и прямо возвело в идеал блаженства утехи и радости
исключительно богатого человека. Здесь не только положительная, утилитарная
и коммерчески подсчитанная сторона одной из мировых религий, но и
мотивация, по своей крайней простоте, грубости и вместе реальности
доступная всякому, кто желает не убивать себя, а, наооброт, наслаждаться
жизнью, подобно тому, как ею наслаждаются немногие избранные.
Превращение всех верных, послушных, щеорых на милостыню и
самоотверженных попита! елей бога в богачей и миллионеров загробного рая — одна
из важнейших идей мусульманской идеологии, которая способна была
привлечь к себе не только состоятельных людей, уже имеющих некоторый
вкус в использовании богатства, но и бесчисленные массы бедноты,
поскольку они верили и могли поверить, что в будущем мире каждый из них
будет возлежать в шатре среди дивного сада, оденется в атлас и шелк,
украсится драгоценностями, будет закусывать мясом изысканных птиц,
запивать эту пищу чудесным вином, пользоваться райскими фруктами
и в довершение всего иметь в своем полном и неограниченном
распоряжении, можно сказать без преувеличения, в рабской от себя зависимости
и прекрасных отроков и восхитительнейших женщин. Если бы
современные* христиане или по крайней мере мусульмане попробовали
несколько модернизировать свой рай, то они поступили бы вполне
последовательно, если бы перенесли в нега идеализацию блаженств какого-нибудь
американского милилардера, с его дивными яхтами и автомобилями,
пьппными дворцами, собственными поездами и аэропланами. Именно так
поступил в свое время Магомет при. описании тех богатств, которые может
приобрести всякий «заложник» господа, если он выполнит честно условия
сделки, заключенной с божественным сверхкапиталистом.
Что касается вопроса о постановке религиозного террора в системе
Корана, то она не заслуживает такого серьезного внимания. По существу
она не выходит из пределов того, что мы имеем в религиозном
законодательстве других народов, а во многих пунктах даже уступает ему. Такого
напряжения угрожающих и злостных картин, какое мы имеем в системе
индусского переселения душ, египетского посмертного наказания,
иудейской казни здесь, на земле, и страшного христианского ада, у Магомета
мы, не найдем. Что касается земных наказаний, то они 'сводятся у него
преимущественно к картинам бедствий, заимствованных из Ветхого
Завета, дополненных по разным апокрифам и современной ему практике,
и исчерпываются карами за непризнание различных посланников божьих
и пророков,,пришедших для возвещения истины. О утомительной
регулярностью повторяются в Коране истории Авраама, Ноя, Моисея, Гуда
и непризнавших его гадян, отвергнувших Салиха феммудян, сограждан
Лота, жителей Эйки и Шогаиба и т. п. На ©сех этих случаях демонстри-
2S2
руется гнев божий, приводящий к страшным мучениям и полному
истреблению неверных. Подобные же истории приурочиваются и к Иисусу,
к Ионе, Исмаилу, Идрусу и т. д.
Весь этот материал имел и имеет свою ценность исключительно для
пропаганды прозелитизма и ислама среди неверных. Что касается
наказаний на земле, то они опять-таки приурочиваются исключительно к
восстанию против пророков и непрзнания единого бога. Для обычных
грешников, уже потому нельзя считать земные лишения и беды
исключительным признаком наказания за грехи, что, как мы знаем, весьма
часто господь именно такими несчастьям^ и страданием испытывает
праведность, которая впоследствии вознаграждается за все ею понесенное на
земле. Посмертное наказание по учению Магомета, совершается в полном
согласии с христианским учением в особом месте — в аду, где мы находим
все, так сказать, общепринятые признаки такого мучения. Здесь и огнь
геенный, и выжигаемые на лбах, боках и спинах раскаленные клейма; там
раздаются «вопли их — визг и рык ослов»; поят этих несчастных
«отвратительною гноевидною водой», «смерть со всех сторон будет подступать
к ним, но они не будут мертвыми, и позади их жестокая мука». «Когда
они будут умолять о помощи, им помогут водою, подобной растопленному
металлу, которая будет жечь их лица»; неверующие будут в особых
одеждах «из огня», на головы их «будет возливаема кипящая вода. Ею
будут Обваряемы и внутренности их и кожа; для них там будут рожны
железные». Когда же они будут пытаться выйти из ада, они будут
возвращаемы в него с злобным увещанием: «Наслаждайтесь мукою в
пламени». Питать грешников будут плодами дерева заккум, похожим на
«головы дьяволов», поить их будут «кипящим раствором» или же
«смрадной гнилью». Сама пища из дерева заккум будет, как «расплавленная
медь», она будет кипеть во чреве, «как кипит кипящая вода».
Отметим здесь, яо сравнению с, христианским адом, некоторую
сравнительную мягкость ада мусульманского, так как, во-первых, пророк
не утверждает, что наказание во всех случаях без исключения будет
вечным, и предполагает, что всемогущий бог может в крайнем случае его
сократить, а с другой стороны, как очевидно, все наказания сводятся
почти исключительно к страшному зною и весьма скверному питанию.
Нельзя не узн&ть и здесь некоторого возведения до крайних пределов тех
наличных бедствий, которые в Аравии были уделом всяческой бедноты.
Безумно страдали от зноя те, у кого не было ни крыши, ни воды, ни тени.
Пили гнилую воду нищие города и бродяги пустыни, не имеющие
возможности добыть воды из чистого источника. Питались пищей весьма
скудной, а подчас испытывали жжение от голода те же бедняки, которых
наблюдал вокруг себя Магомет. Надбавкой здесь является лишь возведение
в превосходную степень всех этих бедствий, особенно же страданий от зноя,
жары и палящего пламени. В общем и целом ад Магомета не столь
страшен, как другие религиозные застенки и небесные тюрьмы. Долговая
тюрьма Корана играет бесспорно второстепенную роль наряду с
могущественным притяжением сосредоточенного в раю богатства утех и
наслаждений.
(«Идеология Востока»).
2<3в
ОТДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ЕСТЬ ЛИ БОГ
Г. В. Плеханов
ПЕРЕЖИВАЕТ ЛИ РЕЛИГИЯ ЭВОЛЮЦИЮ ИЛИ УМИРАЕТ?
Вы позволите мне, отвечая на ваш вопрос1), стать на точку зрения
сощгально-эволюционную и формулировать ого следующим образом: но
является ли исчезновение религии естественным концом ее эволюции?
Для того, чтобы ответить на этот вопрос, отдадим себе отчет в том, чем
была до сего времени эта эволюция.
Но прежде всего, что та.кое религия? Если мы воспользуемся тем
определением, которое Эдуард Б. Тэйлор называет «минимальным», ю
мы скажем, что религия есть вера в духовные существа, живущие рядом
с телами и процессами природы. Эта вера является необходимым
элементом всякой религии и служит в то же ©ремя для объяснения всех явлений
природы. На более высокой стадии социальной эволюции к этому
примитивному элементу присоединяется еще новый, моральный элемент. Связь
обоих элементов с течением времени становится все более тесной.
Наконец, доходим до того, что я мог бы назвать «максимальным»
определением религии: вера в духовные существа, связанная с моралью и
служащая ей санкцией. Вот почему многие полагают, что сущность
религии заключается в морали. Но мы далеки еще от конца этой эволюции.
Связь между моралью и религией, казавшаяся неразрывной, должна
исчезнуть благодаря прогрессу человеческото разума.
Научное объяснение феноменов может быть только
материалистическим. Вмешательство духовных существ, которое в глазах дикаря
объясняет все, ничего не объясняет в глазах какого-нибудь Вертело;
значение такого объяснения падает для каждого цивилизованного человека.
по мере того, как он усваивает результаты работы науки.
Если многие верят в существование духов и сверхъестественных
существ, то это потому, что по разным причинам они не смогли победить
препятствий по пути к научной точке зрения.
Когда препятствия эти будут устранены —■ а все заставляет думать
что это будет делом социальной эволюции, — исчезнет всякий след оуигра-
1) Статья представляет собой ответ на анкету о судьбах религии,
произведенного журналом «Мвгснге de France» в 1907 г —Прим. ред.
234
натуралистической концепции, а мораль вынуждена будет занять свое
независимое место.
Религия в максимальном смысле отживает. Что касается
религиозного чувства, то очевидно, что оно исчезнет ©след за религиозной идеей.
Но в чувствах, конечно, больше консерватизма, чем в идеях. Будут иметь
место различные пережитки; народятся ублюдочные концепции мира,
полуматериалистические, полу спиритуалистические; но и пережитки эти
осуждены на исчезновение в свой черед, в особенности, по исчезновении
некоторых убеждений, якобы санкционированных религией. Прогресс
человечества несет с собой смертельный приговор и религиозной идее и
религиозному чувству. Только робкие или заинтересованные выражают
опасение за судьбу морали. Мораль способна вести самостоятельное
существование. Вера в духовные существа даже и теперь далека от того,
чтобы быть опорой морали; напротив, религиозные (верования
цивилизованных наций нашего времени отстали от их морального развития.
Клиффорд справедливо замечает: «Если бы люди не были лучше
своих религий, мир бы бы адом».
(«Ответ на анкету»).
Ч. Бредлоу
КРУШЕНИЕ ИДЕЙ СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОГО *)
Вера в сверхъестественнре у различных народов выражалась
различно. С течение времени она постепенно теряла свою первоначальную
грубую форму и облекалась в более утонченную, какая 'сохраняется и по
сие время. Сначала человек, не мог объяснить себе ни одного из
совершившихся вокруг него явлений, а потому приписывал все
сверхъестественной силе. Таким образом, он сделал бога непосредственною
причиною бури и хорошей погоды, развития растений и животных, виновником
счастья, несчастья и судьбы человеческой. Короче сказать, когда он
вообразил себе существование одного сверхъестественного существа или
множества таких существ, то стал верить, что вякое такое существо
постоянно вмешивается во все происходящее, и признавать его самою
могучею и деятельною силой во всей вселенной.
Но, мало-ло-малу, в течение веков, наука доказала нам, что вое
видимые явления совершаются вследствие естественных причин и что при
внимательном изучении всякое воображаемое таинственное действие
оказывается совершенно естественным результатом природных сил.
Таким-то- образом представление о непосредственном сверхъестественном
вмешательстве постепенно уступало место более верному учению о
вторичных причинах. Хотя идея о сверхъестественном существе еще
удержана некоторыми учеными, но они не делают уже из этого существа
активного деятеля всех явлений природы, а веруют только, что оно в начале
создало природу и предписало ей законы, в силу которых все в природе
должно совершаться само собою. Это (Весьма обыкновенное верование
людей, которых убедило естествознание в том, что в природе ничто не может
удалиться от влияния неизбежных законов, что все совершается только
*) Данный отрывок характерен, главным образом, тем, что ярко выражает
ючку зрения современного буржуазного (вульгарного, путаного) атеиста. ,не
стоящего ига точке з'реиия последовательного, диалектического материализма. —'При.и. ред
235
в силу их и что не замечается ни малейшеаю признака какого-
нибудь постороннего вмешательства в природу вещей. Но, к
сожалению, такие люди все еще хотят примирить подобное отсутствие
вмешательства сверхъестественной силы с господствующими
религиозными верованиями.
Обыкновенная вера признает, что сверхъестественная сила
действует повсюду, и утверждает, что не только весь мир, одушевленный и
неодушевленный, был первоначально создан сверхъестественным
существом, но еще и то, что это существо постоянно вмешивается в дела
людские даже и по сие время. Так, христиане верят, что бог ниспосылает
нам здоровье и болезнь, счастье и несчастье. Они веруют, что его дух
действует на нашу духовную сторону так, что обращает нас на путь
святости или же. напротив, закореняет нас в неверии. Если мы станем
внимательно изучать христианские учения, то найдем, что идея
божественного вмешательства в природу должна была постепенно, шаг за шагом,
уступать место идее естественной причинности. В геологии, астрономии,
химии, физике, ботанике, зоологии и пр. ни один образованный человек
никогда не подумает прибегать к идее сверхъестественного вмешательства
для объяснения наблюдаемых явлений. Даже и человеку, незнакомому
с наукой, едва ли придет в голову мысль, что химические изменения,
суточное обращение земли, рост деревьев, совершаются вследствие
непосредственного сверхъестественного вмешательства. Не без упорной и долгой
борьбы супернатурализм отказался от своей власти над наукой, поле
битвы оспаривалось вершок за вершком, и прежде чем истина взяла верх,
много астрономов и геолотов подверглось отлучению со стороны
приверженцев супернатурализма за «нечестивую» теорию естественной
причинности.
В настоящее время продолжают еще, однако, признавать
непосредственное вмешательство божества в область духа. Теперь едва ли кто
нибудь верит, что бог непосредственно-действует-на вещественный мир,
с целью производить в нем перемены, так, напр., заставлять реку течь
вверх или уничтожать естественные действия химического средства;
подобные изменения очевидно невозможны, и мы видим, что они никогда
не случаются. Но люди верят еще, что бог изменяет наши мыыш, что он
постоянно действует на нашу духовную сторону и возбуждает в нас
радость или печаль, веру и неверие.
Впрочем, нельзя сказать, чтобы вера в подчинение материальных
явлений действию сверхъестественного вмешательства совершенно уже
исчезла. Она не касается только тех естественных явлний, которые
теперь вполне понятны и доказаны. Но в тех отраслях науки, где нет еще
точных доказательств закономерности явлений, существует еще вера
в сверхъестественную силу. Многие, напр., верят, что погода и времена
года подлежат сверхъестественному вмешательству. Какой-нибудь
случай, вроде болезни картофеля; естественная причина которой еще не
открыта, также приписывается влиянию сверхъестественной силы.
Болезни нашего тела, в особенности те из них, которые особенно страшны,
как холера, весьма часто объясняются делом божественной воли. Вот
почему к этому божеству возносятся молитвы о ниспослании дождя,
хорошей погоды, об избавлении от болезни картофеля и о даровании здравия
больному человеку. Кто возносит подобные молитвы, не думает, конечно,
о том, что молить бога о здравии так же глупо, как просить его построить
город или разрешить математическую задачу. Такая мольба основана
на радикально ложном предположении, будто сверхъестественное вмеша-
236
тельстео в природу может отменить ее законы, которые управляют
временами года, погодою и здоровьем картофеля и человеческого тела. Эти
законы неизменны и неотменимы точно так же, как и законы математики
или строительного искусства. Всякий чувствует совершенную
бесполезность молить бога построить ему дом и находит подобную молитву
детскою и глупою; но в то же время он не думает о том, что молитва о
вмешательстве бога в естественные отправления организма или в течение
времен года точно так же нелепа.
Законы духа определенны и неизменны не менее законов материи.
Чем внимательнее мы всматриваемся в явления духовной жизни в нас
самих и других, тем яснее понимаем, что они, как и все явления мира
вещественного, абсолютно и вполне зависят от естественных причин и
никогда ни в каком случае не подлежат ни малейшему сверхъестественному
влиянию. Развитие наук, изучающих духовную и нравственную сторону
человека *), было задержано по незнанию этой великой истины; вот по*
чему физические науки сделали в последнее время громадные успехи меж
тем, как науки нравственные остались сравнительно без развития.
Физиология, наука об отправлениях живого тела долго не могла развиваться
под влиянием догматической веры в какой-то «жизненный принцип»,
в какую-то неопределенную сверхъестественную силу, относительно
которой предполагали, что она управляет отправлениями тела и находится
совершенно вне нашего познания. Вследствие этого всякое жизненное
действие приписывалось этому принципу; всякое изучение считалось
нечестием. Но теперь мы знаем, что все жизненные действия
совершаются по определенным законам, которые естественны и доступны
нашему пониманию точно так "же, как и законы физические, несмотря на
их сложность. Развитие наук нравственных и психологических
задерживается верою, что дух есть^ сущность особенного, непостижимого
свойства, что он прямо подчиняется влиянию сверхъестественного
вмешательства, а не управляется теми же определенными и понятными
законами, как и вся остальная природа. Но истина заключается в том, что
деятельность духа абсолютно независима от всякого постороннего
вмешательства, как и деятельность вещества. Законы природы никогда не
нарушаются. В нас не зарождается ни одной мысли, не совершается ни
одного душевного' движения, которое не зависело бы вполне от
естественных причин. Законы душевных движений и мыслей, условия, от которых
зависит счастье или печаль, добродетель или порок так же верны и
неизменны, как и законы химии; мы способны открыть и понять их, хотя
вследствие большей сложности нравственных явлений и труднее
определить их.
Нет вреднее веры, которая побуждает нас думать, что душевное и
телесное здоровье может получиться при помощи сверхъестественных
средств. Такая вера мешает нам ясно видеть единственные средства,
которые могут быть нам полезны, т.-е. естественные средства. Она
парализует наши усилия, побуждая нас полагаться на такую помощь, которая
никогда не была и не может быть никому оказана. В прежнее время при
лечении телесных болезней был обычай прибегать к молитвам и
религиозным обрядам, вместо естественных средств; но, к счастью человечества.
*) Под «нравственными науками» автор подразумевает так называемые «науки
о духе» или «гуманитарные науки», которые собственно говоря являются науками
общественными, изучающими взаимные отношения людей (этиология, история,
этика и пр.) —Прим. ред.
237
такая вера почти совершенно исчезла, а молитвы об ищелении больного
посредством нарушения естественных законов повторяются теперь только
для -соблюдения формы, в которую никто не верит. Неужели кто-нибудь,
при виде умирающего от рака или чахотки, станет ожидать, что силою
сверхъестественного вмешательства отменится неизбежный исход
болезни?
Нельзя ожидать, чтобы человечество наслаждалось счастьем, пока
господствуют сулернатуралистические воззрения, пока ко всем условиям
счастья и несчастья, ко всем добродетелям и порокам, к здоровому и
болезненному состоянию будут относиться одинаковым образом, т.-е. пока
во всем будут видеть влияние сверхъестественного авторитета, а не
действие самой природы с ее бесконечным разнообразием, с прекрасною и
непогрешимою цепью естественной причинности. Взгляните на страшную
нищету и преступления, среди которых мы живем. Во многих слоях своих
наше общество, в нравственном отношении, представляет чумной лазарет,
на который нельзя смотреть без ужаса. Бесконечность этих несчастий
происходит прямо от нашего незнания естественных законов счастья и,
кроме того, от пагубного предрассудка, будто исцеление этих зол зависит
от сверхъестественной воли. Что могут сделать молитвы о том, чтобы бог
сжалился над бедными, уничтожил нищету, пьянство и проституцию?
Все молитвы не устранят ни одного горя или порока. Одно лишь
внимательное изучение естественных причин, порождающих несчастья, а также
тех условий, при которых возможно счастье, создает для нас лучшее
положение. Сколько потеряно драгоценного времени! Сколько страданий,
горя и унижения породила вера в сверхъестественную помощь, которая
всегда была только призраком!
Идея сверхъестественного парализовала все попытки и усилия людей
уничтожить нищету и страдания. Но сама нищета считалась
необходимым злом, которое должно терйеть человечество в наказание <за
гордость и грех. С этой точки зрения, в течение веков смотрели так же на
болезнь, пока успехи медицинской науки не доказали, что она происходит
просто от нарушения физических законов. «Так было угодно богу» или
«десница божия тяготела над ним»! вот постоянные фразы на устах тех,
кто думал всегда о боге и о его вмешательстве. Точно так же и моралисты-
спиритуалисты, и попы не придают никакого 'значения всем стремлениям
возвысить и улучшить жизнь человечества. «Это никогда не удастся, —
говорят они/— потому что главная причина нищеты и всех других
социальных зол заключается в естественной, прирожденной человеку
испорченности; кроме того, разве не сказано в Библии, что «бедные никогда
не исчезнут с лица земли»? Таким образом они довольствуются
молитвами о сверхъестественном вмешательстве для изменения греховной воли
людей и не принимают участия в надеждах и целей исследователей,
идущих естественным путем. Но такой исследователь, возмущенный при
виде того унизительного состояния, в котором теперь находится
человечество, в то же время не теряет никогда надежды, потому что не может
аабыть той великой истины, что все страдания происходят от естественных
причин и от нарушения естественных законов. Вот почему для него не
существует никакого сверхъестественного препятствия к их устранению.
Изучая, как следует, различные причины счастья и несчастья, порока и
добродетели, 'нищеты и преступления, примеры которых мы видим вокруг
себя в бесчисленном разнообразии человеческой жизни, мы получим со
временем возможность уничтожить эти бедствия, по крайней мере
в весьма значительной степени. Со временем все мы оценим сравнитель-
238
ное значение этих двух противоположных точек зрения на судьбу
человечества4').
Таким образом, чем глубже мы поймем явления природы, явления
духа и материи, тем более убедимся в.том, что всякое действие происходит
от естественных причин и что везде господствуют постоянные и
неизменные законы, от которых никогда и ни в каких случаях не бывает
отступлений. Ни в области духа, ни в области вещества никогда не бывает и тени
какого-нибудь признака сверхъестественного вмешательства. Эта
великая истина лежит в основе вое£ наук и недалеко то время, котда все
должны будут признать ее всецело как для наук физических, так и
моральных. "Поняв ичусвоив эту истину, мы увидим совершенную
бесполезность искать вне природы причин счастья и несчастья, или вообще
всякого явления в мире физическом и нравственном. Вое мы поймем
окончательно нелепость молитв о сверхъестественном нарушении тех чудных
законов, удивительная точность и неизменность которых составляет
главное их достоинство и основу нашей собственной безопасности. Скоро
в области духа, как и в области вещества придется совершенно
отказаться от учения о непосредственном вмешательстве. Все мы должны
признать, что если только божество и существует, то по крайней мере оно
никогда и ни в каком случае не вмешивается в естественный ход вещей.
Таким образом моралист, относящий все к сверхъестественному влиянию,
скоро будет неизбежно принужден принять, по крайней мере, учение
о вторичных причинах для объяснения явлений, совершающихся как
в области духа, так и в мире вещественном.
Рассмотрим же теперь это учение о вторичных причинах. Оно
сохраняет еще, к сожалению, идею верховного сверхъестественного
существа и верит, что это существо первоначально создало вещественный мир
и дало ему законы, которые впоследствии не должны бы никогда
нарушаться, исключая одного случая: сотворения различных видов животных
и растений, чего, как предполагает это учение, природа сама, без помощи
божьей, не может сделать. Сверхъестественные действия, о которых
повествует Библия, признаются некоторыми в том предположении, будто бы
бог "принял особенные меры для чудесных происшествий. Таким образом,
по учению о вторичных причинах, сверхъестественные силы действовали
во вселенной только в двух эпохах, именно: при самом, создании, а потом
при сотворении -различных пород живых существ. Законы, однажды
установленные, по этому учению никогда не нарушались, а
сверхъестественная деятельность теперь никогда не проявляется в мире; мы должны
допускать существование бога только как силу, сохраняющую и поддер-
жт*вающую природу.
Это учение гораздо предпочтительнее учения о прямом
сверхъестественном вмешательстве. Оно устраняет отчасти вздорную идею о
вмешательстве, ограничивая прямые действия первичной причины только
начальным созданием, а потому и позволяет исследовать те законы, кошрые
были сперва установлены, и действовать сообразно с ними. Оно не оста-
*) Эти рассуждения Бредлоу имеют абстрактный или даже чисто словесный
характер в виду того, что как буржуазный мыслитель он ле умазывает на то, каковы
именно те «естественные 'причины», от которых происходят социальные явления,
в том числе нищета преступления я т. nv Эти причины раскрыты Марксом и
Энгельсом: их учение—научный коммунизм—не только говорит нам о состоянии и
движущих ^илах современного общестза, но и указывает, как изменить это общество, чтобы
навсегда уничтожить аксплоатацию человека человеком, нищету, тгрестушгения
и т. и. — Прим. ред.
fm
вляет людям никакой надежды на сверхъестественную помощь и
устраняет мысль о том, что для человека обязательно или выгодно искать такой
помощи. Учение о вторичных причинах в мире физических явлений
господствует теперь между людьми науки, которые считают себя
христианами, и допускает значительную свободу исследования природы.
Желательно, чтобы в моральной науке господствовала такая же степень
свободы. Но учение о непосредственном сверхъестественном
вмешательстве так глубоко укоренилось, а вся история христианства так
неразрывно связана с ним, что даже теория о вторичных причинах не
допускается для нравственных явлений.
Учение о вторичных причинах не эдожет, разумеется, считаться
истинным и удовлетворительным. По какому праву можем мы
утверждать, что сверхъестественная сила поддерживает деятельность природы
или даже что она вообще существует, если мы никогда и нигде не видим
ни малейшего признака ее присутствия или действия? Если в явлениях
духа или вещества никогда не замечено никакой другой силы, кроме
естественной, то на каком же основании можно предполагать существование
сверхъестественной силы? Фраза, что вселенная поддерживается
сверхъестественною силою, несмотря на то, что эта сила никогда не вмешивается
в естественные явления, совершенно бессмысленна. Когда мы видим, что
соединение кислорода и водорода производит воду, или замечаем, что
известные ощущения возбуждает в нас чувство радости, то говорим, что
эти действия вызываются естественными свойствами химических тел или
психических настроений. Эти естественные свойства или силы достаточны
сами по себе для произведения известного результата; вот почему
совершенно неуместно предполагать, будто помимо и кроме этих сил действует
еще какой-нибудь сверхъестественный деятель, который по своей воле
заставляет их действовать. Воображать себе существование такой
лишней, добавочной силы, какая вовсе не обнаруживается в совершающихся
перед нами явлениях, значит отрекаться от здравого смысла и истинной
философии.
Но учение о вторичных причинах, кроме того, что признает
существование этой отрицательной, поддерживающей силы, утверждает еще
что сверхъестественный деятель участвовал в сотворении растительного
и животного царства. Здесь он действовал уже не просто как сила,
поддерживающая законы, неизменно установленные, но непосредственно
давая веществу новое направление и новые формы, которые без его
помощи оно не могло бы принять. Но очевидно, что учение о
сверхъестественном вмешательстве не может быть принято теперь, при современном
состоянии науки. Теперь нельзя уже .воображать, что развитие и рост
даже самого высшего животного, даже самых сложных наших органов
совершается в силу каких-то сверхъестественных причин. Ни одному
физиологу не придет теперь в голову безумная мысль объяснять какое-
нибудь жизненное явление иначе, как естественными причинами. Кто
вздумал бы приписывать развитие какого-нибудь органа, еще не вполне
исследованного, непосредственной деятельности сверхъестественной силы,
тот считался бы сумасшедшим.
На каком же разумном основании можно, после этото, утверждать,
что какая-то сверхъестественная сила действовала при сотворении живых
организмов! Естественное состояние, которое приводится еще,
заключается в том, что для нас будто непонятно, каким образом такие чудные
организмы могли первоначально возникнуть под влиянием естественных
сил. Но шю предполагает, что есть границы могуществу природы, тот
240
мало знает ее. Чего не может сделать природа? Кто изучал развитие и
рост живого организма, кто размышлял о поразительных явлениях,
наблюдаемых при этом, тот не допустит мысли об ограниченном могуществе
природы. Человеческое существо зарождается в такой ничтожной
клеточке, которую нельзя приметить невооруженным глазом. В этой
клеточке, как в колыбели, покоятся силы и нашего духа и тела; эти самые
•силы, естественность которых никто не решался отрицать, дают развитие
всему нашему организму и доводят его до известной степени физического
и умственного совершенства. Таким образом в сущности мы сами себя
творим, потому что представлять себе, будто какая-нибудь внешняя
сверхъестественная сила хоть сколько-нибудь помогает нашему
развитию, — значит лишаться рассудка. Кто обратит только внимание на
сосредоточение природных сил в этой первичной маленькой клеточке и на
то, как развивается деятельность этих сил физических и психических,
которые действуют взаимно друг на друга, тот заметит с изумлением, до
какой степени разнообразно и бесконечно действие природы. Что может
быть чудеснее этого действия? Могли бы мы когда-нибудь прежде думать,
что в нас, как части природы, существуют такие силы?. На каком же
основании думать, что природа, которая без посторонней помощи может
развиваться в нас, не могла и в самом начале, также без всякой помощи
сама создать различные формы растительной и животной жизни? Почему
заподозрили мы ее в бессилии, заменив ее другою, бессмысленною,
сверхъестественною силой?
Чем более мы размышляем, чем более мы изучаем развитие и
последовательную преемственность на земле одушевленных существ, тем
глубже укореняется в нас убеждение в том, что все эти явления зависят
вполне и абсолютно от естественных сил и что сверхъестественный
деятель не участвовал в создании точно так же, как не участвует и в
развитии жизни. Мы приходим неизбежно к такому заключению. В истории
развития живых существ, растений и животных мы видм те же чудные
признаки постоянной верности определенному плану и абсолютного
повиновения неизменным и определенным законам, какие находим везде
в природе. Многие из этих законов органического строения уже открыты;
таков закон неизменного развития частного, более специализованного
из более общего; таков закон единства типа и отправлений и пр. Одни
только исследования подобного рода, а не пресловутое благочестие,
которое восхищается своим создателем, могут дать нам верное понятие о
начале жизни. Чем глубже человек изучает эти явления, тем сильнее
убеждается в существовании: естественной связи между всеми живыми
'Существами. Уже Кювье задавал вопрос: «Почему и органическая жизнь не
будет иметь когда-нибудь своего Ньютона?». А между тем все попытки
объяснить начало жизни действием естественных сил и придать этому
объяснению научный вид, как это 'сделано для астрономии, геологии,
физиологии и проч., считаются просто богохульством. Но такие попытки,
напротив того, заслуживают одобрения, вот почему мы обязаны Дарвину
глубочайшей благодарностью за его старания доказать, каким образом
жизнь могла возникнуть, а живые существа постепенно
совершенствоваться без всякого сверхъестественного вмешательства. Мы можем быть
совершенно уверены в том, что так было, хотя может быть потребуются
целые столетия самых прилежных исследований, чтобы сказать, каким
именно образом это 'совершалось. Идея сверхъестественное
вмешательства парализует всякую науку. Если мы не имеем дела с естественными
явлениями, то все наши рассуждения будут вздорны. Предвзятая йера
Г. Гурев 16
241
в такого рода вмешательство всегда содействовала успокоению умов
такими объяснениями, которые ничего не объясняют, и всегда мешала
развитию основательного исследования. Такие люди, как Оуэн, Окен, Гете,
Кювье, Дарвин — настоящие Галилеи в науке органической жизни.
Результаты их открытий также неизбежно изгоняют из этой области знания
идею сверхъестественного вмешательства, как изгнали ее исследования
Галилея из науки о движении небесных сфер.
Таким образом приходится окончательно убедиться в том, что жизнь
началась также абсолютно независимо от сверхъестественного
вмешательства, как независимо от него она развилась и продолжалась по сие время.
Мы не видим теперь ничего похожего на то, что могло быть при начале
жизни; все живые существа происходят (или, по крайней мере, нам
кажется, что они происходят) от подобных им родителей. Это
обстоятельство и составляет всю трудность решения задачи. Но еще труднее
объяснить себе необходимость сверхъестественного вмешательства,
которое никогда не было замечено. В настоящее время мы не можем отыскать
даже и признака такого вмешательства; если бы народные предания не
сохранили вымышленных примеров такого вмешательства, то нам никогда
не вздумалось бы прибегать к подобного рода объяснениям. Вопрос
состоит именно в том, что более вероятно: то ли, что сверхъестественная
сила действовала когда-нибудь, чего не допускает современное знание и
считает такое заблуждение крайне вредным для развития человечества,,
или то, что в этом случае, как и во многих других, мы не оценили
могущества природы и захотели ограничить ее деятельность. Мы не можем
понять, каким образом природа без посторонней помощи могла дать начало
жизни, а потому решаемся догматически утверждать, что она не могла
этого сделать. Знаем ли мы, что она может и чего она не может? Каждый
беспристрастный мыслитель должен сознаться в своем неведении этого
предмета и прежде чем судить о нем, обязан изучать силы природы.
Какое значение в таком трудном вопросе могут иметь суждения людей,
которые так мало знают истину, что не видят даже неизменности законов,
действующих в окружающей нас природе? Эти люди не замечают, что
законы времен года, здоровья и болезни, тела и духа так же тдчны, как и
законы химии. Эти люди просят сверхъестественного вмешательства, для
ниспослания хорошей погоды, хотя признаются, что безумно умолять
о подобной помощи для постройки дома или очистки города от нечистот.
А между тем на эти заблуждения смотрят, как на выражение набожности,
и всякого, кто доказывает вред подобных заблуждений, считают врагом
человечества.
Остается сделать только один шаг, чтобы от сознания естественного
хода явлений дойти до убеждения в том, что и начало жизни, непонятное
еще для нас, совершалось также совершенно естественным путем. Точно
так же, следуя но этому пути, придется окончательно устранить идею
сверхъестественного вмешательства в первоначальное происхождение
вещества. Впрочем, вообразить бесконечность материи так же нетрудно,
как представить себе естественное происхождение жизни. Мы видим, что
материя существует совершенно независимо; она имеет свои собственные,
неизменные законы бытия и действия. Изучая ее ближе, мы находим, что
она абсолютно неразрушима и бесконечна. Если в этом отношении мы
будем следовать единственно истинному руководящему началу всякого
исследования, т.-е. станем рассуждать о видимом и на основании его
судить о невидимом, то должны будем заключить, что материя бесконечна
и каждая частица ее существовала и будет существо(вать вечно. Кроме
242
слепой веры в «авторитет», ничто другое не может заставить нас
рассуждать иначе. С другой стороны, предположение, что дух сотворил
материю, совершенно неосновательно и бездоказательно. Для такой
гипотезы нельзя найти ни малейшей аналогии. Она возникла в ту эпоху,,
когда разум человеческий был еще в детстве, когда связь между мозгом
и умом была неизвестна и когда всякая новая форма, какую давал человек
веществу, называлась словом «творение». Теперь мы знаем, что никакого
творения, в собственном смысле слова, никогда не бывает, что ни один
новый элемент не создается какою-нибудь постороннею силою и что*
законы одной чисти природы не изменяются в угоду другой ее части.
На каком основании решаемся мы утверждать, что дух бесконечнее,
возвышеннее или могущественнее материи, что он может творить ее,
давать ей законы и подчинять ее своему произволу? Увы! Род человеческий
уже дорого поплатился и теперь еще платит за эту громадную
несправедливость относительно великой составной части нашего существа.
Неужели легче вообразить бесконечность духа, чем материи? Нисколько?
Если мы пе имеем никакого основания отрицать бесконечности материи,
а напротив того — должны признавать ее, то, с другой стороны, ничто пе
позволяет нам предполагать, что дух также бесконечен. Дух есть живая
сущность, а все живое, по самым первым условиям своего существования,
подлежит изменению и, следовательно, — смерти. Дух абсолютно
неотделим от преходяпщх форм вещества, а потому и сам есть нечто
преходящее. Он вовсе не сила, чуждая остальной природе, но
вполне естественная сила, нераздельно и взаимно соединенная?
с остальными.
Кто изучал развитие и успехи физиологи, тот не мог не изумиться
при виде бесчисленных случаев, когда те явления, которые прежде
обыкновенно считались чисто 'жизненными, а следовательно, непохожими на
физические и для нас непонятными, постепенно оказывались чисто
физическими. Так, например, о процессе пищеварения долго думали, что
он — чисто жизненный процесс, между тем как теперь все согласны, что
он — физический, совершающийся по законам химии, теплоты и проч.
Таким образом и существенная часть дыхания, т.-е. принятие организмом
кислорода, угольной кислоты совершается по чисто физическим законам
диффузии газов и проч. Развитие животной теплоты происходит
вследствие химического соединения кислорода с углеродом во всем организме
и представляет точно такой же физический процесс, как и горение
в печке. Можно было бы привести много и других примеров, но и этих
вполне достаточно для доказательства того, что физиология стремится во
всех направлениях изгонять из понятия об организме прежнюю
неопределенную идею какого-то независимого жизненного начала и постепенно
более и более подставлять на его место понятные физические законы. На
основании того, что прежде было уже сделано в этом направлении и тех
выводов, которые мы можем делать, кажется в высшей степени вероятно,
что все жизненные явления в действительности вызываются физическими
силами, действующими при известных новых условиях. Кто убежден
в естественном происхождении жизни, тот придет также к этому
заключению на основании выводов *а priori. Если происхождение жизни
зависело несомненно от действия естественных физических сил, то все так
называемые жизненные силы должны были произойти от сил физических
путем обнаружения и развития тех свойств, которые присущи веществу,
но находились в скрытом состоянии до тех пор, пока не были вызваны
к деятельности благоприятными обстоятельствами.
16*
24S
Достоверно известно, что в нашем организме всякое малейшее
движение мышечного волокна, всякая мысль и всякое ощущение неизбежно
сопровождается химическими, механическими и другими физическими
изменениями. Какая же связь существует между этими химическими и
механическими изменениями, с одной стороны, и мыслью и чувством,
с другой? Легко клеймить названием материализма1) все такие
исследования о связи духа и вещества, как исследования Либиха, Майера и
других, и-довольствоваться объяснениями, которые ничего не объясняют, как
старое учение о жизненном начале. Можно ли унизить душу, если
сравнить ее с матернею? Можно ли предполагать, что в умственном
явлении есть что-нибудь более возвышенное и удивительное, чем в
обыкновенном и неуловимом химическом изменении, которое сопровождает эта
явление? Здесь, как и во всех других предвзятых идеях, существовало
постоянное стремление унижать материю; но это доказывает только, что для
большинства людей еще сокрыта настоящая красота природы, что они
не видят величия естественного мира. Они не хотят видеть природу
такой, какой она является на деле, а предпочитают мысленно строить
себе воображаемый и исковерканный образ ее. Но кто твердо стоит па
почве естествознания, тот с восхищением сознает ту достоверную истину,
что существует неразрывная связь и единство физических и умственных
явлений. Он не станет утверждать голословно, что запутанная задача
разрешена, или что глубокое чувство любви и преданности проявилось
только в силу известных умственных процессов, а скажет вернее, что это
совершилось вследствие некоторых химических действий, о которых мы
не имеем еще точного понятия. Обыкновенное выражение, что животные
и растительные вещества, которыми мы питаемся, «поддерживают
жизнь»,—совершенно ошибочно. На самом деле, эти вещества становятся
жизнью; другими словами —они превращаются в нас самих, а присущие
им жизненные свойства вызываются к деятельности.
Все побуждает нас думать, что химические, механические и другие
действующие физические силы неотделимы от умственных явлений. Мы
принуждены также думать, что если эти силы проявляются в
деятельности мозга, то они одарены самосознанием. Вещество в форме мускула
может сокращаться, а в форме живой, нервной субстанции может думать.
Каким-то образом мысль соединена с фосфором и является так или иначе
напряжением и развитием свойств .естественно-присущих этому веществу
и другим составным частям мозга, но как это происходит — до сих пор
еще совершенно неизвестно. Рассуждая, мы отдаем себе отчет в том, что
если каждый умственный процесс, как и всякий другой акт жизни,
сопровождается химическим действием, то и всякая перемена в умственном
состоянии должна совершаться соответственным изменением этих
химических действий. Различие между радостью и отчаянием определяется
различным состоянием химических изменений, которые их сопровождают.
Изучая историю образования земли, мы придем к убеждению в том,
что материя существовала задолго до духа, или, другими словами, что
простейшие химические соединения действовали задолго до соединения
более сложных, которые происходили сравнительно недавно. Развитие
духа — позднейшее проявление естественных сил. Следуя по истинному
*) Несмотря на то, что защищаемые Бредлоу идеи ,в общем являются
материалистическими, он, как буржуазный мыслитель, боится их так называть, считая,
что это может сильно навредить их распространению в «образованном обществе»,
по этой же причине он вместо слова «атеизм» употребляет -совсем: яге подходящее
выражение «естественная религия». — Прим. ред.
244
пути наведения, мы придем снова к тому заключению, что наша
бесконечно-сложная субстанция могла явиться только результатом целой
мириады веков развития. Оглядываясь назад, на бесконечные факты,
открываемые геологиею, мы видим, до какой степени медленно развивает
природа это самое чудесное из всех своих произведений. Только целым
рядом развития растений, жизнь которых чисто творческая,
закладывается основание для развития ума, которое является разрушительным.
В цепи живых существ умственная деятельность постепенно развивается
так медленно, что для нее, вероятно, требуются миллионы веков, пока она
достигает, наконец, значения человеческого. Мы можем убедиться в том,
что эти чудные и бесконечно-продолжительные усилия не пропадали
даром и что без этой необыкновенно медленной выработки наш ум не
мог бы развиться и, дать нам самосознание. Принцип прогресса, повиди-
мому, прирожден природе: делать из самой сложной субстанции начало
всех вещей — значит совершенно противоречить естественному ходу
вещей.
Сверхъестественное, в каком бы то ни было виде или образе,
абсолютно и непонятно для человеческого ума; всякая попытка постигнуть
его приводила к нелепости и противоречию. Мыслящее начало без мозга,
дух без материи, жизнь без изменений, без начала или конца, личность,
неограниченная в пространстве или в познавательной способности, не
знающая ни радости, ни печали, а между тем исполненная любви,
милосердия и нежности, — короче оказать, всевозможные естественные
свойства, которые придавались сверхъестественному существу, были
противоречивы и отрицательны. Для нас абсолютно невозможно составить себе
даже малейшее представление о сверхъестественном существе. В самого
деле, разве мы можем представить себе что-нибудь вне природы; для нас
возможно только составить смесь естественных, но противоположных
свойств.
Таким образом все приводит нас к глубокому и искреннему
убеждению, что природа — все, что ни выше, ни ниже ее, и наряду с нею нет
ничего. Эта великая истина лежит в основании современного мышления
и составляет важнейший из всех выводов, до которых когда-нибудь
доходил род человеческий.
(«Естественная религия»).
Э. Геккель,
РЕЛИГИОЗНОЕ 1МИР0В033РЕНИЕ И СОВРЕМЕННАЯ КАРТИНА
ВСЕЛЕННОЙ
Характерную черту отсталого религиозного мировоззрения
составляет антропизм. Под этим словом я понимаю весь комплекс тех широка
распространенных ошибочных представлений, которые ставят
человеческий организм в противоположность ко всей прочей природе, видят в нем
конечную цель органического мироздания, богоподобное существо,
принципиально отличающееся от прочей природы. При ближайшем
рассмотрении этого очень распространенного круга представлений оказывается,
что он состоит собственно из трех различных догматов; мы различаем
в них заблуждение антропоцентрическое, антропоморфическое и аитро-
полатрическое.
245>
I. Антропоцентрический догмат сводится к тому представлению,
что человек есть нарочитое средоточие и конечная цель всей земной
жизни или, в более широких размерах, всего мира. Это заблуждение и
теперь еще господствует в большей части нашего культурного мира, так
как оно очень на руку человеческому себялюбию и, кроме того, теснейшим
образом срослось с тремя великими средиземными религиями, с догмами
учений Моисея, Христа и Магомета.
II. Антропоморфический догмат тоже связан с мифами о сотворении
мира, имеющимися в вышеупомянутых трех религиях, а также во многих
других. Он сравнивает сотворение мира и правящее миром божество
с искусственными продуктами любого техника или «инженер-механика»,
с государственным управлением мудрого властителя. «Господь бог»,
творец, вседержитель и владыка вселенной представляется нам в своих дей:
ствияХ и помышлениях совершенно по образу и подобию человека. Из
этого следует затем обратный вывод, что человек есть богоподобное
существо. «Бог создал человека по образу и подобию своему». Наивная
древняя мифология — гомотеизм чистейшей воды: она облекает своих богов
в плоть и кровь, придает им вид человека. Не так рельефна современная
мистическая теософия, которая поклоняется личному богу, как существу
«невидимому» — газообразному, значит! — и в то же время приписывает
ему человеческие мысли, слова и действия; таким путем она приходит
к парадоксальному понятию «газообразного позвоночного животного».
III. Антрополатрический догмат сам собой вытекает из этого
уподобления божества душевной деятельности человека; он ведет к,
преклонению перед божественным характером человеческого организма,
к «аптропистической мании величия». Отсюда, в свою очередь, следует
излюбленная «вера в личное бессмертие души», а также дуалистический
догмат о действительной природе человека: «бессмертная душа» наша
только на время поселяется в нашем бренном теле. Эти три антрописти-
ческие догмата с течением времени принимали разнообразные формы,
сообразно с различными религиями; они получали громадное значение
и стали источником крайне опасных заблуждений. Основанное на них
антропистическое мировоззрение находится в непримиримом
противоречии с нашим монистическим познанием природы; его опровергает уже
одна космологическая перспектива этого последнего.
Космологическая перспектива нашего монизма не только
обнаруживает несостоятельность этих трех антропистических догматов, но
разбивает также многие другие воззрения дуалистической философии и орто-
доксальной религии. Под космологической перспективой мы понимаем
ту всеобъемлющую картину вселенной, которая открывается нам с
высшего пункта, достигнутого нашим монистическим познанием природы.
Она ставит перед нами следующие важные «космологические тезисы»,
которые мы считаем в большинстве случаев уже совершенно доказанными
в наше время.
1) Вселенная (мир, космос) вечна, бесконечна и безразлична. 2)
Субстанция ее с обоими своими атрибутами (материя и энергия) заполняет
собой бесконечное пространство и находится в процессе вечного
движения, 3) Это движение происходит в бесконечном времени в виде единого,
цельного развития с периодической сменой жизни и смерти, прогресса и
регресса. 4) Бесчисленные мировые тела, находящиеся в мировом эфире,
все подчинены закону субстанции; в то время как в одной части
вселенной мировые тела находятся в процессе упадка и постепенного
разрушения, в другой части вселенной происходят новообразования и дальнейшая
246
эволюция. 5) Наше, солнце есть одно из этих бесчдаждных преходящих
мировых тел, а наша земля — одна из многочисленных, также
преходящих, планет, вращающихся вокруг него. 6) Наша земля проделала долгий
процесс охлаждения, прежде чем на ней могла появиться вода, как
жидкость — это первое условие органической жизни. 7) Последовавший затем
биогенетический процесс, т.-е. медленная эволюция и преобразование
бесчисленных органических форм, продолжался много миллионов лет
(гораздо более ста миллионов!). 8) Между различными родами животных,
развившихся в дальнейшем ходе биогенетического процесса на нашей
земле, позвоночные оставили далеко позади себя все остальные. 9) Как
самая важная отрасль позвоночных, возник в сравнительно позднее время
(в третичный период) из низших пресмыкающихся и амфибрий, класс
млекопитающих. 10) Самым совершенным и развитым отпрыском этого класса
являются приматы, возникшие лишь в начале третичного периода (по
меньшей мере, три милилона лет то^у назад) из низших плацентных
(Prochoriata). 11) Самым юным и совершенным отпрыском ветви приматов
является человек, который развился лишь к концу третичного периода
из ряда человекоподобных обезьян. 12) Следовательно, так называемая
«всемирная история» — небольшой промежуток времени в несколько
тысячелетий, в продолжение которого разыгрывается культурная история
человечества — является лишь коротким эпизодом в длинной эволюции
органической жизни на земле точно так же, как эта эволюция, в свою
очередь, оказывается лишь малой частицей в истории нашей планетной
системы; наша мать-земля оказывается лишь ничтожной пылинкой во
вселенной, точно так же отдельный человек является лишь ничтожным
зерном протоплазмы в преходящей органической природе.
Эта грандиозная космологическая перспектива дает на наш взгляд
самый верный масштаб и самую широкую точку зрения для разрешения
окружающих нас великих мировых загадок. Она ярко освещает
верховную «роль человека в природе» и вместе с тем опровергает столь
распространенную у нас антропистическую манию величия, опровергает
высокомерные притязания человека на центральную роль в бесконечной
вселенной, на какое-то исключительное положение по отношению ко всему
остальному миру. Это безграничное высокомерие побудило тщеславного
человека считать себя «подобием бога» на земле, требовать для своей
бренной личности «вечной жизни» и воображать себя полным господином
своей воли. Нелепая мания цезаризма у какого-нибудь Калигулы
является лишь разновидностью этого высокомерного самопоклонения
человека. Только отказавшись от этой безумной манил величия и ставши
на точку зрения космологической перспективы, мы можем приступить
к решению мировых загадок.
(«Мировые загадки»).
Ф. Энгельс
КРУШЕНИЕ УЧЕНИЯ О НЕИЗМЕННОСТИ МИРА
Современное естествознание, которое одно лишь достигло
всестороннего, систематического, научного развития, в противоположность
гениальным натурфилософским догадкам древних и весьма важным, но
спорадическим и оставшимся по большей части безрезультатными открытиям
247
арабов, — современное естествознание, как и вся новейшая история,
датируется от той знаменательной эпохи, которую мы, немцы, называем по
приключившемуся с нами тогда национальному несчастью реформацией^
французы ренессансом, а итальянцы — квинквеченто, и содержание
которой не исчерпывается ни одним из этих наименований. Это эпоха,
начинающаяся со второй половины XV столетия. Королевская власть,
опираясь на горожан, сломила мощь феодального дворянства и основала
крупные, по существу национальные монархии, в которых получили свое
развитие современные европейские нации и современное буржуазное
общество; и в то время как буржуазия и дворянство еще ожесточенно
боролись между собой, немецкая крестьянская война пророчески указала на
грядущие классовые битвы, ибо в ней на арену выступили не только
восставшие крестьяне — в этом не было ничего нового, — но за ними
показались начатки современного пролетариата с красным знаменем в руках и
с требованием общности имущества на устах. В спасенных при гибели
Византии рукописях, в вырытых из развалин Рима античных статуях
перед изумленным Западом предстал новый мир — греческая древность;
перед светлыми образами ее исчезали призраки средневековья; в Италии
достигло неслыханного расцвета искусство, которое явилось точно отблеск
классической древности и которое в дальнейшем никогда уже не
подымалось до такой высоты. В Италии, Франции, Германии возникла новая,
первая современная литература; Англия и Испания пережили вскоре
затем свою классическую литературную эпоху. Рамки старото Orbis
ten-arum были разбиты; только теперь собственно была открыта земля
и положены основы для позднейшей мировой торговли и для перехода
ремесла в мануфактуру, явившуюся, в свою очередь, исходным пунктом
современной крупной промышленности. Духовная диктатура церкви
была сломлена, германские народы в своем большинстве приняли
протестантизм, Между тем как у романских народов стало вое более и более
укореняться перешедшее от арабов и питавшееся новооткрытой греческой
философией жизнерадостное свободомыслие, подготовившее материализм
XVIII столетия.
Это был величайший прогрессивный переворот, пережитый до тога
человечеством, эпоха, которая .нуждалась в титанах и которая породила
титанов по силе мысли, страстности и характера, по многосторонности и
учености. Люди, основавшие современное господство буржуазии, были
чем угодно, но только не буржуазно-ограниченными. Наоборот, они были
более или менее обвеяны авантюрным характером своего времени. Тогда
не было почти ни одного крупного человека, который не совершил бы
далеких путешествий* не говорил бы на четырех иди пяти языках, не
блистал бы в нескольких областях творчества. Леонардо да-Винчи был не
только великим художником, но и великим математиком, механиком и
инженером, которому обязаны важными открытиями самые
разнообразные отрасли физики. Альбрехт Дюрер был художником, гравером,
скульптором, архитектором и, кроме того, изобрел систему фортификации,
содержащую в себе многие идеи, развитые значительно позже Монталам-
бером и новейшим немецким, учением о крепостях. Маккиавелли был
государственным деятелем, историком, поэтом и, кроме того, первым
достойным упоминания военным писателем нового времени. Лютер
вычистил не только авгиевы конюшни церкви, но и конюшни немецкого языка,
создал современную немецкую прозу и сочинил текст и мелодию того,
пропитанного чувством победы, хорала, который стал марсельезой
XVI века. Люди того времени не стали еще рабами разделения труда,
248
ограничивающее, калечащее действие которого мы таж, часто наблюдаем
на их преемниках. Но что особенно характерно для них, так это то, что
они почти все живут всеми интересами своего времени, принимают
участие в практической борьбе, становятся на сторону той или иной партии
и борются кто словом и пером, кто мечом, а кто и тем и другим. Отсюда
та полнота и сила характера, которая делает из 'них цельных людей.
Кабинетные ученые являлись тогда исключениями1; это либо люди второго
и третьего ранга, либо благоразумные филистеры, не желающие обжечь
тебе пальцев.
И естествознание развивалось тогда в обстановке всеобщей
революции, будучи само насквозь революционно: ведь оно должно было еще
завоевать себе право на существование. Вместе с великими итальянцами,
от которых датирует новейшая философия, оно дало своих мучеников для
костров и темниц инквизиции. И характерно, что протестанты
предупредили католиков в преследовании свободного естествознания. Кальвин
сжег .Сервета, который был близок к открытию кровообращения, и при
этом заставил жарить его живым два часа; инквизиция
удовольствовалась по крайней мере тем, что просто сожгла Джорджано Бруно.
Революционным актом, которым естествознание заявило о своей
независимости и как бы повторило лютеровское сожжение папской буллы,
было издание бессмертного творения, в котором Коперник бросил — хотя
и скромно и, так сказать, лишь на ложе смерти — перчатку церковному
авторитету в естественных делах. Отсюда датирует освобождение
естествознания от теологии, хотя выяснение отдельных взаимных претензий
затянулось до нашего времени, не завершившись еще и теперь во многих
головах. Оттуда же пошло гигантскими шагами развитие наук, которое
выигрывало в силе, если можно так выразиться, пропорционально
квадрату расстояния (во времени) от своего исходното пункта. Точно нужно
было доказать миру, что отныне и для высшего продукта органической
матери, для человеческого духа, как и для неогранического вещества,
будет иметь силу закон об обратной пропорциональности движения.
Главная задача, которая предстояла естествознанию в начавшемся
теперь первом периоде его развития, заключалась в том, чтобы справиться
с имевшимся налицо материалом. Во всех, областях приходилось
начинать с самого начала. Древность имела Евклида и солнечную систему
Птоломея, арабы—десятичное счисление, начала алгебры, современную
систему счисления и алхимию; христианское средневековье не оставило
ничего. При таком положении вещей естественно, что первое место
заняла элементарнейшая отрасль естествознания — механика земных и
небесных тел, а наряду с ней, на службе у нее, открытие и
усовершенствование математических методов. Здесь были совершены великие дела.
В конце рассматриваемого периода, отмеченного именами Ньютона и
Линнея, эти отрасли знания получили известное завершение. Важнейшие
математические методы были установлены в основных чертах:
аналитическая геометрия главным образом Декартом, логарифмы — Непером, ди-
ференциальное и интегральное исчисления — Лейбницем и, может быть
Ньютоном. То же самое можно сказать о механике твердых тел,
главные законы которой были выяснены раз навсегда. Наконец, в астрономии
солнечной системы Кеплер открыл законы движения планет, а Ньютон
объяснил их общими законами движения материи. Остальные отрасли
естествознания были еще далеки от такого предварительного завершения
Механику жидких и газообразных тел удалось несколько обработать лишь
к концу указанного периода. Физика в собственном смысле слова была
249-
еще в самой первоначальной стадии, за исключением оптики, успехи
которой были вызваны практическими потребностями астрономии. Химия
эмансипировалась от алхимии только благодаря теории флогистона.
Геология еще не вышла из эмбриональной стадии минералогии и поэтому
не могла еще существовать палеонтология. Наконец, в области биологии
занимались главным образом накоплением и первым отбором
колоссального материала как ботанического и зоологического, так анатомического
и собственно физиологического. О сравнении между собой форм жизни,
об изучении их географического распространения, их климатологических
и т. д. условий еще не могло быть и речи. Здесь только ботаника и
зоология достигли некоторого завершения благодаря Линнею.
Но что особенно характеризует рассматриваемый период, так это —
образование известного цельного мировоззрения, центром которого
является учение об абсолютной неизменности природы. Согласно этому
взгляду, природа, каким бы путем она ни возникла, раз она уже имеется
налицо, остается всегда неизменной, пока она существует. Планеты и
-спутники их, приведенные раз в движение таинственным «первым
толчком», продолжают кружиться по предначертанным им эллипсам вовеки
веков, или, во всяком случае, до скончания всех вещей. Звезды покоятся
навсегда неподвижные на своих местах, удерживая друг друга благодаря
«всеобщему тяготению». Земля остается от века или от дня своего
творения (в зависимости от точки зрения) одиноковой, неизменной. Теперешние
«пять частей света» существовали всегда, имели всегда те же самые
горы и долины, те же реки, тот же климат, ту же флору и фауну, если пе
говорить об изменениях, внесенных рукой человека. Виды растений и
животных были установлены раз навсегда при их возникновении, равное
порождало всегда равное, и Линней делал уже -большую уступку, когда
говорил, что благодаря скрещиванию местами могли возникнуть новые
виды. В противоположность истории человечества, развивающейся во
времени, истории природы приписывалось только возникновение в
пространстве. За цриродой отрицали всякое изменение, всякое развитие.
Революционное вначале естествознание оказалось вдруг перед насквозь
консервативной природой, в которой все было и остается теперь таким же,
каким оно было извечно, и в которой все должно было оставаться до
скончания мира или вовеки веков таким, каким оно было с самого
начала.
Хотя естествознание первой половины XVIH века поднималось
высоко над греческой древностью с точки зрения объема своих познаний
и даже с точки зрения отбора материала, но оно далеко уступало ей
в смысле идеального одоления этого материала, в смысле всеобщего
мировоззрения. Для греческих философов мир был по существу чем-то
возникшим из хаоса, чем-то развившимся, чем-то ставшим. Для естество^
испытателя рассматриваемого нами периода он был чем-то окостенелым,
неизменным, а для большинства чем-то созданными сразу. Наука все
еще глубоко сидела в теологии. Она повсюду искала и находила, в каче-
отве последней причины толчок извне, необъяснимый из самой природы.
Если притяжение, торжественно названное Ньютоном всеобщим
тяготением, и рассматривается как существенное свойство материи, то где
источник непонятной тангенциальной силы, дающей начало планетным
орбитам? Как возникли бесчисленные виды животных и растений? Как
в особенности возник человек, относительно которого было твердо
принято, что он существует не от века? На все подобные вопросы
естествознание слишком часто отвечало ссылкой на творца всех вещей. Коперник
260
в начале рассматриваемого нами периода дает отставку теологии; Ньютон
завершает этот период постулатом божественного первого толчка. Высшая
всеобщая идея естествознания рассматриваемого периода это — мысль
о целесообразности естественных процессов, плоская вольфовская
теология, согласно которой кошки были созданы, чтобы пожирать мышей,
мыши, — чтобы быть пожираемыми кошками, а вся природа, — чтобы
доказать мудрость творца. Нужно считать огромным достоинством и
честью тогдашней философии, что она не поддалась влиянию
ограниченной точки зрения тогдашнего естествознания, что она — начиная от
Спинозы и кончая великими французскими материалистами — настойчиво
пыталась объяснить мир из него самого, предоставив детальное
оправдание этого естествознанию будущего.
Я отношу к этому периоду еще и материалистов XVIII века, потому
ято в их распоряжении не было иного естественно-научного материала,
чем описанный выше. Составившее эпоху произведение Канта было им
неизвестно, а Лаплас явился долго спустя после них. Не забудем, что
хотя прогресс науки совешенно подкопал это устарелое мировоззрение,
но вся первая половина XIX века все еще находится под его влиянием
и по существу его преподают еще теперь во всех школах.
Первая брешь в этом окаменелом мировоззрении была пробита не
естествоиспытателем, а философом. В 1757 г. появилась «Всеобщая
естественная история и теория неба» Канта. Вопрос о первом толчке был
здесь устранен; земля и вся солнечная система предстали как нечто
ставшее в ходе времени. Если бы подавляющее большинство
естествоиспытателей не ощущало перед мышлением того страха, который Ньютон выразил
-своим предостережением физика, берегись метафизики! —то они должны
<были бы извлечь из одного этого гениального открытия Канта такие
следствия, которые сберегли бы им босконечные блуждания по кривопутьям
и колоссальное количество потраченного в ложном* направлении времени
и труда. В открытии Канта лежал зародыш всего дальнейшего прогресса.
Если земля была чем-то ставшим, то чем-то ставшим должны были быть
также ее теперешнее геологическое, климатическое, географическое
состояние, ее растения и животные, и она должна была иметь историю не
только в пространстве, но и во времени. Если бы стали немедленно и
решительно работать в этом направлении, то естествознание ушло бы в
настоящее время значительно дальше места, где оно находится. Но что
путного могло выйти из философии? Сочинение Канта не имело,
непосредственного влияния пока, долгие годы спустя, Лаплас и Гершель не
развили и не обосновали его содержания, подготовив таким образом
торжество «небулярной гипотезе». Дальнейшие открытия закрепили,
наконец, ее победу; важнейшими из них были установление собственного
движения неподвижных звезд, доказательство существования
оказывающей сопротивление среды в мировом пространстве, установленное
спектральным анализом химическое тождество мировой материи и
существование таких раскаленных туманных масс, какие предполагал Кант.
Но позволительно усомниться, пришло ли бы естествоиспытателям
в голову заметить противоречие между учениями об изменяющейся земле
и о существующих на ней неизменных организмах, если бы
зарождавшемуся пониманию того, что природа не есть, а становится и погибает, не
явилась помощь с другой стороны. Возникла геология, которая выявила
не только наличность образовавшихся друг после друга и расположенных
друг над другом геологических слоев, но и сохранившиеся в этих слоях
раковины и скелеты вымерших животных, стволы, листья и плоды несу-
25U
ществующих более растений. Пришлось признать, что историю во
времени имеет не только земля, взятая в целом, но и ее теперешняя поверх-
ность и живущие на ней растения и животные. Признание это произошло'
первоначально, не без труда. Теория Кювье о претерпеваемых землей
революциях была революционна на словах и реакционна на деле. На места
акта божественного творения она поставила целый ряд подобных твор
ческих актов и сделала из чуда существенный рычаг природы. Лишь
Ляйелль- внес здравый смысл в геологию; заменив внезапные, вызванные
кайризом творца, революции постепенными действиями медленного
преобразования земли.
Теорию Ляйелля было еще труднее примирить с гипотезой
постоянства органических видов, чем все предшествовавшие ей теории. Мысль
о постепенном преобразовании земной поверхности и всех условий жизни
на ней приводила непосредственно к учению о постепенном
преобразовании организмов и их приспособлении к изменяющейся среде, приводила
к учению об изменчивости видов. Однако, традиция является силой не
только в католической церкви, но и в естествознании. Сам Ляйелль в
течение долгих лет не замечал этого противоречия, а его ученики и того
менее. Это можно объяснить только утвердившимся в это время в
естествознании разделением труда, благодаря которому каждый
ограничивается своей специальной областью знания и немногие лишь способны
обозреть его в целом.
Между тем в физике произошел огромный сдвиг вперед,
результаты которого были почти одновременно резюмированы тремя различными
людьми в столь знаменательном для этой отрасли естествознания
1842 году. Майер в Гейдельберге и Джоуль в Манчестере доказали
превращение теплоты в механическую силу и механической силы в теплоту.
Установление механического эквивалента теплоты покончило об всеми
сомнениями по этому поводу. В то же время Грове — Отнюдь не
профессиональный естествоиспытатель, а английский адвокат — доказал при
помощи простой обработки накопившегося физического материала, что все-
так - называемые физические силы — механическая сила, теплота, свет,
электричество, магнетизм и даже так называемая химическая сила —
переходят при известных условиях друг в друга без какой бы то ни было
потери силы, и таким образом доказал, задним числом при помощи
физических методов, теорему Декарта, что количество имеющегося в мире
движения неизменно. Благодаря этому различные физические силы — эти,
так сказать, неизменные «виды» физики — превратились в различно-
диференцированные и переходящие по определенным законам друг
в друга формы движения материи. В науке удалось избавиться от
случайности наличия такого-то и такого-то количества физических сил,
ибо была доказана их взаимная связь и переходны друг в друга.
Подобно астрономии, и физика пришла к тому неизбежному
результату, что последним выводом является вечный круговорот движущейся:
материи.
Удивительно быстрое развитие химии после Лавуазье и особенна
после Дальтона разрушало, с другой стороны, старое представление*
о природе. Благодаря получению неорганическим путем производив
шихся до того лишь в живых организмах соединений было доказано, что
законы химии имеют ту же силу для органических тел, как и для
неорганических и была заполнена значительная часть остававшейся еще после
Канта непроходимой пропасти между неорганической и органической
природой.
252
Наконец, и в области геологического исследования начатые в
середине прошлого столетия, систематически организуемые научные
путешествия, экспедиции, более точное изучение европейских колоний во всех
частях света живущими там специалистами,, далее успехи палеонтологии,
анатомии, физиологии вообще, в особенности со времени систематического
применения микроскопа и открытия клетки, — все это накопило столько
материала, что стало возможным — и в то же время необходимым —
применение сравнительного метода. С одной стороны, благодаря
сравнительной физической географии были установлены условия жизни различных
флор и фаун, а с другой, — были сравнены между собою различные
организмы в отношении их гомологичных органов, и притом не только в
зрелом возрасте, но и на всех ступенях их развития. Чем глубже проникало
это исследование, чем точнее оно делалось, тем больше расплывался
застывший традиционный образ неизменной органической природы. Не
только безнадежно исчезали границы между отдельными видами растений
я животных, не появлялись животные, как амфиокс и лепидосирена,
которые точно издевались над всеми существовавшими до того
классификациями,— и, наконец, были найдены организмы, относительно которых
нельзя было даже сказать, относятся ли они к животному миру или
к растительному. Пробелы палеонтологической летописи все более и более
заполнялись, заставляя даже самых упорных ученых признать
поразительный параллелизм, существующий между историей развития
органического мира в целом и историей развития отдельных организмов, давая
таким образом ариаднину нить из того лабиринта, в котором казалось,
окончательно запутались ботаника и зоология. Характерно, что почти
одновременно с нападением Канта на учение о вечности солнечной
системы К. Вольф произвел в 1759 г. первое нападение на теорию
постоянства видов, провозгласив учение об их развитии. Но то, что было у него
только гениальным предвосхищением, то приняло более конкретные формы
у Окена, Ламарка, Бера и было победоносно проведено ровно сто лет
спустя, в 1859 г., Дарвином. Почти одновременно было констатировано,
что протоплазма и клетка, признанные, уже раньше последними
форменными элементами всех организмов, живут самостоятельно в качестве
низших органических форм. Благодаря этому была доведена до минимума
пропасть между органической и неорганической природой и вместе с тем
устранено одно из серьезнейших препятствий на пути к учению о
происхождении организмов путем развития. Таким образом современное
мировоззрение было готово в его основных чертах. Все неизменное было
разложено, все твердое улетучено, все, признававшееся вечным, стало
считаться, преходящим, вся природа предстала находящейся в вечном
потоке и круговороте.
(И вот мы снова вернулись к концепциям великих основателей
греческой философии о том, что вся природа, начиная от мельчайших
частиц ее до величайших тел, начиная от песчинки и кончая солнцем,
начиная от протиста и кончая человеком, находится в вечном
возникновении и уничтожении, в непрерывном течении, в неустанном движении
и изменении. С той только существенной разницей, что то, что было
у греков гениальной догадкой, является у нас результатом строго
научного, опытного исследования, и поэтому имеет гораздо более определенную
и ясную форму. Правда, эмпирическое доказательство этого круговорота
несвободно от пробелов, но последние незначительны по сравнению с тем,
что уже твердо установлено, притом они с каждым днем все более и более
заполняются. И разве может быть без пробелов такое подробное доказа-
253
тельство, если вспомнить, что главнейшие отрасли науки, — звездная
астрономия, химия, геология — насчитывают едва одно столетие,
сравнительные методы в физиологии едва 50 лет и что основная форма почти
всякого развития жизни — клетка — открыта каких-нибудь сорок лет
назад!).
Из раскаленных вращающихся маос газа, законы движения
которых станут, может быть, известны нам лишь после нескольких столетий
наблюдений над собственным движением звезд, развились благодаря
охлаждению и сжатию бессчисленные солнца и солнечные системы
нашего, ограниченного последними звездными кольцами Млечного пути,
мирового острова. Развитие это шло, очевидно, не повсюду с одинаковой
скоростью. Астрономия оказывается все более и более вынужденной
признать существование темных, не просто планетных, тел в нашей звездной
системе, т.-е. признать существование потухших звезд (Медлер); с другой
стороны (согласно Секки), часть туманных пятен относится в качестве
еще неготовых солнц к нашей звездной системе, что не исключает того,
что другие туманности, как утверждает Медлер, являются далекими
самостоятельными мировыми островами, ступень развития которых должен
установить спектроскоп.
Лаплас показал подробным и еще непревзойденным до сих пор
образом, как развивается из отдельной туманной массы солнечная система;
позднейшая наука только подтвердила ход его мыслей.
На образовавшихся таким образом отдельных телах—солнцах,
планетах, спутниках — господствует первоначально та форма движения
материи, которую мы называем теплотой. Не может быть и речи о
химических соединениях элементов далее при той температуре, которой
обладает еще в наше время солнце; дальнейшие наблюдения над солнцем
покажут, насколько при этом теплота способна превращаться в
электричество или в магнетизм; уже и теперь можно считать почти
установленным, что происходящие на солнце механические движения имеют своим
исключительным источником борьбу теплоты с тяжестью.
Отдельные тела охлаждаются тем быстрее, чем они меньше. Сперва
охлаждаются спутники, астероиды, метеоры; наша луна давно уже
погасла. Медленней охлаждаются планеты, медленнее всего центральное
светило.
Вместе с прогрессирующим охлаждением на первый план начинает
все более и более выступать взаимодействие превращающихся друг в друга
физических форм движения, пока, наконец, не будет достигнут пункт,
с которого начинает давать себя знать химическое сродство, когда
химически индиферентные до того элементы химически диференцируются
друг за другом, приобретают химические свойства и вступают друг с
другом в соединения. Эти соединения непрерывно изменяются вместе с
охлаждением температуры, которая влияет различным образом не только на
каждый отдельный элемент, но и на каждое отдельное соединение
элементов, изменяются также вместе с зависящими от этого переходом части
газообразной материи сперва в жидкое, а потом и в твердое состояние
и вместе с созданными благодаря этому новыми условиями.
Эпоха, когда планета приобретает твердую кору и скопления воды
на своей поверхности, совпадает с той эпохой, когда ее собственная
теплота начинает играть все меньшее и меньшее значение, по сравнению
с теплотой, получаемой ею от центрального светила. Ее атмосфера
становится ареной метеорологических явлений в современном смысле этого
слова, ее поверхность — ареной геологических перемен, при которых
254
создание атмосферными осадками отложения приобретают все больший
перевес над медленно ослабевающими действиями во вне раскаленно-
жидкого внутреннего ядра.
Наконец, если температура охладилась до того, что — по крайней
мере на каком-нибудь значительном участке поверхности — она уже не
переходит границы, при которой способен существовать белок, то, при
наличии благоприятных химических условий, образуется живая
протоплазма. В настоящее время мы еще не знаем, в чем заключаются эти
благоприятные предварительные условия. В этом нет ничего
удивительного, так как до сих пор еще не установлена химическая формула белка,
и мы даже еще не здаем, сколько существует химически различных
белковых тел, и так как только приблизительно лет десять как стало
известно, что совершенно бесструктурный белок обнаруживает все
существенные функции жизни: пищеварение, выделение, движение,
сокращение, реакцию на раздражение, размножение.
Может быть, прошли тысячелетия, пока создались условия,
необходимые для следующего шага вперед, и из этого бесформенного белка
произошла благодаря образованию ядра и оболочки первая клетка. Но
вместе с этой первой клеткой была дана и основа для формообразования
всего органического мира. Сперва образовались, как мы должны это
допустить, по данным палеонтологической летописи, бесчисленные виды
бесклеточных и клеточных протистов, о которых рассказывает нам
единственный Eozoon Canadense и из которых некоторые диференцировались
постепенно в первые растения, а другие — в первые животные. А из
первых животных развились — главным образом путем дальнейшего ди-
ференцирования—бесчисленные классы, порядки, сем зйства, роды и виды
животных и, наконец, та порода животных, в которой достигает своего
полного развития нервная система, именно позвоночные, и опять-таки,
наконец, среди последних то позвоночное, в котором природа дошла до
познания самой себ'я — человек.
И человек возник путем диференцирования, и не только в
индивидуальном смысле, т.-е. так, что из одной единственной клетки развивается
путем диференцирования сложнейший из существующих в природе
организмов, но и в историческом смысле. Когда после тысячелетних
попыток произошла, наконец, диференциация руки от ноги и
установилась прямая походка, то человек обособился от обезьяны и была заложена
основа для развития членораздельной речи и для мощного развития
мозга, благодаря которому образовалась с тех пор непроходимая пропасть
между человеком и обезьяной. Развитие специфических функций руки
означает появление орудия, а орудие означает специфически
человеческую деятельность, преобразующее воздействие человека на природу,
производство. И животные имеют орудия в узком смысле слова, но лишь
в виде членов своего тела, как это можно утверждать о муравьях, пчелах,
бобрах; и животные производят, но их производительное воздействие на
окружающию природу равно нулю. Лишь человеку удалось наложить
свою печать на природу; он не только переместил растительные и
животные миры, но изменил также вид и климат своего местопребывания и
изменил даже растения и животных до того, что результаты его
деятельности могут исчезнуть лишь вместе с гибелью всего земного шара.
И этого он добился прежде всего и главным образом благодаря руке.
Даже паровая машина, являющаяся, до сих пор самым могущественным
орудием при преобразовании природы, в последнем счете, будучи орудием,,
основывается на руке. Но параллельно с развитием руки развивалась и
255>
голова, зарождалась сознание — сперва отдельных практических,
полезных действий, а впоследствии, на основе этого, у народов,
находившихся в более благоприятных условиях, понимание
обуславливающих эти полезные действия законов природы. А
вместе с быстро растущим познанием законов природы росли и средста
воздействия на природу; при помощи одной руки люди не создали бы
даровой машины, если бы наряду с рукой и отчасти благодаря ей не
развился соответственным образом и мозг.
Вместе с человеком мы вступаем в область истории. И животные
обладают историей, именно историей своею происхождения и
постепенного развития до своего теперешнего состояния. Но эта история делается
помимо них,, для них, а поскольку они сами принимают в этом участие,
это происходит без их ведома и желания. Люди же, чем больше они
удаляются от животных в тесном смысле слова, тем более они начинают
делать сами сознательно свою историю, тем меньше становится влияние
на эту историю непредвиденных факторов, неконтролируемых сил, и тем
более соответствует результат исторического действия установленной
заранее цели. Но если мы подойдем с этим масштабом к человеческой
истории, даже к истории самых развитых народов современности, то мы
найдем, что здесь, все еще существует колоссальная дисгармония между
поставленными себе целями и достигнутыми результатами, что попрежнему
доминируют непредвиденные влияния, что неконтролируемые силы
гораздо могущественнее, чем приводимые планомерно в движение силы.
И это не может быть иначе до тех нор, пока самая важная историческая
деятельность человека, та деятельность, благодаря которой человечество
вышло из животного состояния, которая образует материальную основу
всех прочих видов деятельности человека, пока -производство,
направленное на удовлетворение жизненных потребностей человечества, т.-е. в наше
зремя общественное производство, предоставлено слепой игре
непредвиденных воздействий неконтролируемых сил и пока, следовательно,
поставленная себе заранее цель осуществляется лишь в виде исключения,
гораздо же чаще осуществляются противоположные ей результаты.
В самых передовых, промышленных странах мы смирили силы природы,
поставив их на службу человечеству; мы благодаря этому безмерно
увеличили производство, так что теперь ребенок производить больше,
чем раньше сотня взрослых людей-. Но каковы же результаты этого
роста производства? Растущий прибавочный труд, растущая нищета
масс и каждые десять лет огромный крах. Дарвин не понимал, какую
он написал горькую сатиру на людей и в особенности на своих земляков,
когда он доказал, что свободная конкуренция, борьба за
существование, — прославляемая экономистами как величайшее историческое
завоевание, — является нормальным состоянием животного мира. Лишь
сознательная организация общественного производства, в которой
происходит планомерное производство и потребление, может поднять над
прочими животными в общественном отношении, так, как их подняло
производство вообще в специфическом смысле. Благодаря
общественному развитию подобная организация становится с каждым днем все
возможнее. От нее будет датировать новая историческая эпоха, в
которой люди, а вместе с ними все отрасли их деятельности, и в частности
естествознание, сделают такие .успехи, что все совершенное до того
покажется только слабой тенью.
Но все> что возникнет, достойно гибели. Пройдут миллионы лет,
народятся и сойдут в могилу сотни тысяч поколений, но неумолимо на-
266
двигается время, когда истощающаяся солнечная теплота не сумеет уже
растапливать надвигающийся с полюсов лед, когда все более и более
скучивающееся у экватора человечество перестанет находить и там необ-
лимую для жизни теплоту', когда постепенно исчезнет и последний след
органической жизни, и земля—Застывший мертвый шар, подобно луне—
будет кружить в глубоком мраке по все более коротким орбитам вокруг
тоже умершего солнца, на которое она, наконец, упадет. Другие планеты
испытают ту же участь, иные раньше, иные позже земли; вместо
гармонически расчлененной, светлой, теплой, солнечной системы останется
холодный, мертвый, шар, продолжающий итти своим одиноким путем в
мировом пространстве. И судьба, постигшая нашу солнечную систему, должна
раньше или позже постигнуть все прочие системы нашего мирового
острова, должна постигнуть системы всех прочих бесчисленных
мировых островов, даже тех, свет от которых никогда не достигнет
земли, пока еще существует на ней человеческий глаз способный вос-
воспринять его.
Но когда подобная солнечная система завершит свой жизненный
круг и подвергнется судьбе всего конечного, когда она станет жертвой
смерти, то что будет дальше? Будет ли труп солнца продолжать катиться
в виде трупа в бесконечном пространстве и неужели все бесконечно
разнообразные прежде, диференцированные силы природы превратятся
навсегда в единственную форму движения, в притяжение? «Или же, —
как спрашивает Секки, — в природе имеются силы, способные вернуть
мертвую систему в первоначальное состояние раскаленной туманности,
способные пробудить ее для новой жизни? Мы этого не знаем».
Разумеется, мы этого не знаем в том смысле, в каком мы знаем,
что 2X2 = 4, или, что притяжение материи действует обратно
пропорционально квадрату расстояния. В теоретическом естествознании,
которое свое взгляды на природу старается объединить в одно гармоническое
целое, без которого в наше время не сделает шага вперед даже самый
беззаботный по части теории эмпирик, нам приходится очень часто
оперировать с не вполне известными величинами, и логика, последовательность
мысли должны были всегда заполнять такие неизбежные пробелы
познания. Современное естествознание вынуждено было заимствовать у
философии положение о неразрушимости движения, бее которого оно
неспособно более существовать. Но движение материи не сводится к одному
только грубому механическому движению, к простому перемещению;
движение материи это — также теплота и свет, электричество и
магнитное напряжение, химическое соединение и разложение, жизнь, и,
наконец, сознание. Говорить, будто материя за все время своего бесконечного
существования имела только один раз — и то на ничтожно короткий по
сравнению с вечностью, срок — возможность диференцировать свое
движение и таким образом развернуть все богатства этого движения и что до
этого и после этого она навеки обречена довольствоваться простым
перемещением, — говорить это вое равно, что утверждать, будто ма/герия
смертна и движение преходяще. Учение о неразрушимости движения
надо понимать не только в количественном, но и в качественном смысле.
Материя, — чисто механическое перемещение которой хотя и содержит
в себе возможность превращения при благоприятных обстоятельствах
в теплоту, электричество, химическое действие, жизнь, но которая не
в состоянии породить из самой себя эти условия, — такая материя
утратила движение, движение которое потеряло способность превращаться
в свойственные ему различные формы, хотя и обладает еще dynamis, но
Г. Гурев 17
257
не обладает уже энергией и таким образом отчасти уничтожено. Но и то
и другое немыслимо.
Одно, во всяком случае, несомненно: было время, когда материя
нашего мирового острова превратила в теплоту такое количество
движения — мы до сих пор еще не внаем, какого именно' рода, — что из него
могли развиться, по меньшей мере (по Медлеру) 20 миллионов
солнечных систем, которые, — как мы в этом столь же твердо убеждены,—■
рано или поздно, погибнут. Как происходило это превращение? Мы
это знаем так же мало, как знает патер Оекки то,, превратится ли
будущее caput mortuum нашей солнечной системы снова в сырой материал
для новых солнечных систем. Но здесь мы вынуждены либо обратиться
к помощи творца, либо сделать тот вывод, что раскаленный сырой
материал для солнечной системы нашего мирового острова возник
естественным путем, путем превращений движения, которые присущи от
природы движущейся материи и условия которых должны,
следовательно, быть снова произведены материей, хотя бы после миллионов
миллионов лет, более или менее случайным образом, но с необходимостью,
присущей и случаю.
Теперь начинают все более и более признавать возможность
подобного превращения. Ученые приходят к убеждению, что конечная участь
звезд это — упасть друг на друга, и они вычисляют даже количество
теплоты, которое должно развиться при подобном столкновении.
Внезапное появление новых звезд, столь же внезапное увеличение яркости давно
известных звезд, о котором сообщает нам астрономия, легче всего
объясняются гипотезой о подобных столкновениях. При этом надо иметь
в виду, что не только наша планетная группа вращается вокруг солнца,
а солнце движется внутри нашего мирового острова, но что и весь наш
мировой остров движется в мировом пространстве, находясь во временном
относительном равновесии с прочими- мировыми островами, ибо даже
относительное равновесие свободно движущихся тел может существовать
лишь при одновременно обусловленном движении, и некоторые
исследователи допускают, что температура в мировом пространстве не повсюду
одинакова.
Наконец, мы знаем, что, за исключением ничтожно малой части,
теплота бесчисленных солнц нашего мирового острова исчезает в
пространстве, тщетно пытаясь поднять- температуру его хотя бы на одну
миллионную долю градуса Цельзия. Что происходит со всем этим
огромным количеством теплоты? Погибает ли она навсетда в попытке
согреть мировое пространство, перестает ли она практически
существовать, сохраняясь лишь теоретически в томг факте, что мировое
пространство нагрелось на долю градуса, выражаемую десятью или более нулями?
Это предположение означает отрицание учения о неразрушимости дви-
жедия; оно оставляет открытой дверь для гипотезы, что путем
последовательного падения друт на друга звезд все существующее механическое
движение превратиться в теплоту, которая будет излучена в мировое
пространство, благодаря чему, несмотря на всю «неразрушимость силы»,
прекратится вообще всякое движение. (Между прочим, здесь
обнаруживается, как неудачное выражение: неразрушимость силы, вместо
выражения: неразрушимость движения). Мы приходим, таким образом, к
выводу, что излучаемая в мировое пространство теплота должна иметь
возможность каким-то путем — путем, установить который предстоит
в будущем естествознанию, — превратиться в другую форму движения,
в которой она может снова накопиться и начать функционировать,.
25S
А в таком случае отпадает и главная трудность, мешавшая обратному
превращению умерших солнц в раскаленную туманность.
Впрочем, вечно повторяющееся последовательное появление миров
в бесконечном времени является только логическим королларием к
одновременному сосуществованию бесчисленных миров в бесконечном
пространстве. Материя движется в вечном круговороте, завершающем свою
траекторию в такие промежутки времени, для которых наш земной год
не может служить достаточной единицей; в круговороте, в котором время
наивысшего развития, время органической жизни и еще более жизни
сознательных существ столь же скудно отмерено, как пространства
в жизни и в самосознании: в круговороте, в котором каждая отдельная
форма существования материи — безразлично, солнце или туманность,
отдельное животное или животный ?вид, химическое соединение или
разложение — одинаково преходяща и в котором ничто не вечно, кроме
вечно изменяющейся, вечно движущейся материи и законов ее движения
и изменения. Но как бы часто и как бы 'безжалостно ни совершался во
времени и в пространстве этот круговорот; сколько бы бесчисленных
солнц и земель ни возникало и ни погибало; как бы долго ни приходилось-
ждать, пока в какой-нибудь солнечной системе, на какой-нибудь планете
не появятся условия, необходимые для органической жизни; сколько бы
бесчисленных существ ни должно было погибнуть и возникнуть, прежде
чем из их среды разовьются животные с мыслящим мозгом, находя на
короткий срок пригодные для своей жизни условия, чтобы затем быть
тоже истребленными без милосердия, — мы все же уверены, что материя
во всех своих превращениях остается вечно одной и той же, что ни один
из ее атрибутов не может погибнуть, и что поэтому с той же самой
железной необходимостью, с какой она некогда истребит на земле свой высший
цвет — мыслящий дух, — она должна будет его снова породить
где-нибудь в другом месте и в другое sвремя.
(«Диалектика, природы», ст. «Старое таведаншсе»).
Л. Бюхнер
НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ БЫТИЯ БОГА *)
Всю историю духовной работы и умственного развития
человечества можно назвать ни на минуту не 'прекращающейся войною с верой
в бога. В той самой мере, в какой прогрессирует знание — испаряется
вера в бога и во все сверхъестественное. В той самой мере, в какой
выясняется закономерность природы перед лицом разума и знания тает вера
в могущество духов и богов. Конечно, при этом рушится могущество и
влияние тех, которые заинтересованы материально или духовно в
сохранении слепой веры. Поэтому нисколько не удивительно, что даже и со
стороны науки были попытки соорудить подпорки для сохранения веры
в божество, попытки заменить первоначальное чувство беспомощности,
создавшее эту веру, целым рядом мнимых доказательств существования
бога. Эти доказательства должны были удовлетворить не только чув-
*) Автор этого отрывка, — являющийся, между прочим, автором известной
книги «Сила и материя», — является одним из виднейших представителей, так
называемого, механического или естествен'но-маучного материализма прошлого столетия,
(который -не был расширен до исторического материя лив м.а. — Прим. ред.
17
259
отво, но и пробудившийся разум человека, — их то я и хочу подвергнуть
строгому критическому анализу.
Несомненно найдутся люди, которые сочтут это совершенно
ненужной работой. Эти люди видят в вере в бога нечто до того очевидное, что
но их понятиям никакое сомнение, никакое исследование здесь немыслимо.
Но ведь убеждены они во чвоем этом толкко потому, что уже с самого
младенчества им вбивали это убеждение: в вере в бога они
воспитывались, о существовании его им говорили в школе, на нем основывали все
нравоучения, подтасовывали примеры и, таким образом, сделали то, что
вера в существования бога стала как бы второй натурой нашей. Если бы
б нас не" воспитывалась искусственно эта вера, мы бы в ней даже не
нуждались, тогда как теперь, просто в силу привычки, она сделалась для
некоторых чуть ли не необходимостью. Ведь мы же знаем, что люди
цивилизованного общества, не «натасканные» в известном направлении,
остаются совершенно чуждыми вере в бога. К тому же если мы возьмем людей
«правоверных», то увидим, что их вера больше наружная, чем
внутренняя» без преувеличения — 9/10 человечества живет так, как если бы не
было ни бога, не небесного возмездия. Эти 0,9 своим поведением, так
оказать практически, совершенно опровергают то, о чем рассуждают
теоретически, и, таким образом, вполне оправдывают удачное выражение
Фейербаха, который говорит, что ханжество самоодурачивания —
главнейший порок нашего времени. По остроумному замечанию
Шопенгауэра, «все преимущество теологических учений в том, что они излагаются
детям». Однако, приступим к разбору некоторых доказательств.
На первом -месте ставим доказательство космологическое; рно берет
своё начало от греческих философов Платона и Аристотеля, которые
утверждали, что существует какое-то первоначальное движение. Они не
учили, по примеру христианства и иудейства, что мир бьр сотворен из
ничего, так как они верили в вечность материи. Но они считали
материю пассивной, индиферентной, совершенно неспособной к движению
в силу своих свойств и поэтому нуждающейся не в творце, а в мировом
двигателе. Хотя это учение с философской точки зрения и после
новейших завоеваний в области естественных наук и не выдерживает критики,
все-таки оно гораздо лучше, чем христианская точка зрения, которая
считает мир созданным из ничего. «Ничего» — это, вообще, бессмыслица,
которую, правда, могла выдумать человеческая фантазия, но которая
лотически немыслима, а фактически — не существует.
Как известно, старое предположение о существовании абсолютно-
пустого пространства давно уже уничтожено наукой. Материя и
пространство давно уже синоним. Поэтому и возражения против
материализма со стороны философии, что материя не может быть
рассматриваема, как нечто абсолютное и безусловно необходимое в строении мира,
потому что ее можно каждую минуту вообразить уничтоженною в
пространстве, при чем оно само останется, как нечто неизмеримое и
первичное, следует считать неосновательным, потому что нет пространства без
материи, нет материи без пространства. К тому же, в настоящее время
одною из распространеннейших аксиом в естествознании является
аксиома, что вещество, как таковое, нельзя создать и нельзя уничтожить.
Ничто из существующего не пропадает, но и не создается вновь:
это относится не только к материи, но и к «силе» (т.-е. к движению
материи), которая неразрывно связана с самой материей. Как известно,
учение о «бессмертии материи» было окончательно принято наукой уже
с конца XVIII столетия и, в частности, получило подтверждение в науч-
260
ных изысканиях химии. Через некоторое время оно получило
дополнение в виде учения о так называемой «непрерывности силы», которое
в настоящее время, принадлежит к числу авторитетных принципов
естествознания. Принцип этот вместе с тем является тою путеводной
звездой, которою руководится в 'Своих исследованиях каждый
естествоиспытатель. Благодаря этому научному завоеванию аристотелевский «мировой
двигатель» отступает на задний план, так как учение о ««непрерывности
силы» точно устанавливает, что движение так же вечно, как и сама
вселенная, и так же не имела начала. Материя с ее нераздельным
свойством— формою, с одной стороны, и сила, с неизбежным атрибутом
в виде движения, с другой, вечны, таковыми всегда останутся и поэтому
лежат вне начала, конца и причины! Материя без силы, движения и
формы — так же немыслима, как немыслима сила, движение и форма —
без материи.
Нет силы без материи! Нет материи без силы! Всякая попытка
разъединить эти два понятия кончается неминуемо или противоречием
или же просто несуразностью! Самые слова, которыми мы обозначаем
эти два понятия, суть нечто абстрактное, отвлеченное, вызванное
исключительно потребностью так или иначе ограничить эти даа понятия, и
выделить каждое из них. В древние времена, приблизительно так же
придумывались для объяснения движения тел природы какие-то особенные,,
вне этих тел лежащие, причины и силы, а для пояснения отправлений
организма изыскивались специальные эссенции. В настоящее время все
это уже не является загадкой и установлено, что ^причина этоог лежит
либо в свойствах самой природы, либо в тех разнообразных переменах,
которые происходят в самых организмах. Утверждающие, что
происхождение вселенной должно было иметь первопричину, не во вселенной
лежащую, высказывают - этим совершенно ложный взгляд, основанный
исключительно на том, что свои выводы они черпают в поступках
человека, забывая при этом, что таковые ограничены и временем и
пространством, тогда как вселенная вне времени и вне пространства. «Ибо, —
говорит Шопенгауэр, — первопричина так же логически немыслима, как
немыслимо место, которое являлось бы конечною границею' пространства,
или то мгновение, в котором зародилось время!» Поэтому и искания
философами причин происхождения мира напоминают собою восхожде-
яе по бесконечной лестнице, при чем доискивание причины причин
делает невозможным достижение конечной цели. Если же мы скажем, что
бог прежде всего сотворил время и пространство, а затем уже создал и
вселенную, то естественно возникает вопрос — да ^откуда же и каким
образом появился сам-то бог? Здесь возможны только два ответа. Либо
бог сам себя создал, либо он вечен! Но если даже такое совершенное
существо, как бог, могло сотворить себя, то почему бы не случиться тому
же с несовершенным миром? Если же мы признаем, что бот вечен, то это
явится не чем ийым, как описательным оборотом для подтверждения
вечности той же вселенной, да и гораздо' проще и естественнее перенести
это свойство на последнюю, покончив, таким образом, со всеми шаткими
принципами творческого мироздания.
Как правильно отметил Коберг, бог обладает свойствами, которые
предполагают прямое соотношение его со вселенной и мыслимы только
при существовании ее, как то: всеблагость, всемогущество, всеведение
и проч. Если предположить поэтому, что вселенная имеет начало, то его
должен был иметь и бог; совместно с совершенствовавшейся вселенной
должен был совершенствоваться и он, а ведь это противоречит в корне
261
понятию о таком совершенном уже от века существе, как бог. Если же
бог, со всеми своими свойствами, предвечен, то таковою, необходимо,
должна быть и вселенная. Еще Ориген признал правильность этото
конечного вывода. Нам говорят, чаще всего (и сказка эта опирается на
библейский рассказ о сотворении мира,к что бог, после целой вечности
абсолютного покоя, в один прекрасный день задумал сотворить
вселенную и принялся за это совершенно так же, как самый обыкновенный
архитектор при постройке здания. Такое предположение приводит к
совершенно дикому выводу, что история бытия распадается на две
совершенно различные части, из которых одна будет бытием причинным,
другая же бытием вне причины, тогда как каждому известно, что без причины
(вернее, без определенного закона взаимоотношения между причиной и
следствием) немыслимо никакое существование.
Равным образом, остается невыясненным, что побудило бога
сотворить мир после того, как он провел целую вечность в абсолютном покое
и чувствовал себя в этом состоянии превосходно (а иначе ведь и нельзя
предположить о таком совершенном существе, каким «является бог!).
Неизвестно также и то, что делал он до начала трудов по сотворению мира,
так как абсолютное бездействие — немыслимо, оно* равносильно
абсолютному «ничто». На последний вопрос, наиболее остроумный, ответ дан был
Лютером одному из Назойливых собеседников, пристававшему к нему
с требованием объяснить: что делал бог до сотворения мира? После
некоторого раздумья Лютер сказал: «Он сидел в лесу и срезал прутья для
розог, которыми следует наказывать всех тех, кто будет приставать с
такими глупыми вопросами!».
Уже греческий философ Платон тщетно пытался разрешить этот
нескромный вопрос, на который, собственно говоря, никто, кроме самото
бога и не может дать вполне удовлетворительного ответа. Но так как сам
он этой тайны нам не раскрыл, более того, оставил нас — создания его
рук — в полной неизвестности насчет его самого, его сущности и его
помыслов, то человеческому разуму и не остается другого исхода, как
вывести отсюда заключение, основанное на логике, либо же закрыть глаза
и совершенно уклониться от разрешения этой загадки. Слабый человек
поступает в данном случае совершенно так, как и в обыденной жизни: он
знает, что ему неминуемо предстоит какая-нибудь неприятность, знает,
что ее ему никак не избежать и вот он всячески старается отдалить это
от себя, отодвинуть куда-нибудь, уйти от этого ...
Точно таким же образом поступает человеческий разум в своем
стремлении познать, причину вещей: он старается скрыть от себя свое
невежество и бессилие различными, хотя бы и совершенно ничего не
объясняющими отговорками, отсрочками, либо, наконец, пытается совершенно
уйти от решения. И вот древние для объяснения устойчивости земли
придумали великана, который, будто бы, держит ее на своих плечах:
индусы думали, что земля опирается на колоссального слона, который,
в свою очередь, стоит на гигантской черепахе.
Если бы всем им задать вопрос, да на что же опираются и великан и
черепаха, то навряд ли мы получили бы более удовлетворительный ответ,
чем тот, который был дан Лютером. Несмотря на это, подобное решение
временно их удовлетворяло, подобно тому, как теперь многих
удовлетворяет решение вопроса о сотворении мира, 'в виде «понятия о боте».
Казалось бы, нетрудно понять, что такое бесполезное и бесцельное отводвига-
ние вопроса неминуемо приведет к вопросу о причине причин. Заметим
кстати, что если остался неразрешенным вопрос о том, что делал бог до
262
сотворения мира, то такая же участь должна постигнуть и вопрос о том,
что делал он после мироздания? Так называемые «деисты» (которых
следует отличать от «теистов», признающих постоянную творческую работу
бога и постоянное управление миром 6 его стороны) огра,ннчиваются, как
известно, одним актом создания мира и предполагают, что уже с самого
начала бог устроил все так мудро и совершенно, что дальнейшее
вмешательство является ненужным, так как подобно раз заведенным часам ход
вещей в природе не нарушается. По этой теория выходит, что бог после
сотворения мира погрузился в прежнее состояние абсолютного покоя и
полнейшего бездействия, в котором он был до сотворения мира. Нетрудно
заметить, что такая теория не менее 'бессмысленна и нелогична, чем
теория теистов, считающих мир за нечто до такой степени несовершенное
к неустроенное, что оно нуждается в постоянных подправках и
руководительстве. Дальнейшее же существование бога—творца вселенной—вне
его создания, наряду с его «детищем», предоставленным самому себе —
нечто немыслимое, какое-то чудовище дуализма. Собственно говоря, все
эти рассуждения совершенно бесполезны в смысле требований
философия, так как понятие о времени по существу неприменимо к предвечному
существу, и так как безначальный бог, по всей вероятности, имел
бесконечное число раз возможность воспользоваться для сотворения мира
таким сомнительным поводом, как «благотворение». Если кто-либо
возразит, что и вечность и бесконечность мира вещь невозможная, то это будет
вызовом, относящимся в равной степени и к вечному я бесконечному
богу. Такое возражение будет вдобавок еще очень неправильным,. так
как не будучи в состоянии составить себе понятие о вечности и
бесконечности по той причине, что разум наш может охватить лишь
происходящее во времени и пространстве, мы можем представить себе эти
понятия. Другими словами, — мы не в состоянии создать себе наглядную
картину из вечности и бесконечности, но мыслить о том и другом мы
можем и мыслим, в действительности, так как иначе у нас не было бы и слов
для обозначения этих понятий. Но если мы, с одной стороны, не можем
♦создать себе ясного представления о вечности и .бесконечности, то тем
меньше мы можем вообразить зарождение вселенной во времени и конец
ее в пространстве. Совершенно прав был тот древний философ, который
бесконечность мира пояснил известным сравнением ее с брошенным
дротиком. Если, товорит он, мы станем у предполагаемого конца мира и
бросим дротик в открывшуюся перед нами пустоту, то могут создаться два
положения: либо копье встретит на своем пути какое-нибудь
препятствие, которое прекратит ето поступательное движение, либо оно будет
лететь вдаль без конца и никогда не упадет. Как в том, так и в другом
случае будет лишь доказано, что предполагаемый конец мира не есть
его настоящий предел, и что следовательно, мир бесконечен. Невольно
всякое мыслящее существо считает себя центром ©сего видимого мира,
центром, от которого все остальное расходится по всем направлениям,
по всем радиусам, перифериям как в смысле времени, так и
пространства. На самом деле такое представление есть следствие субъективности
и всякая точка «вечно-бесконечного» мира и есть периферия в одно и
то же время. Если мы не можем совместить этих двух понятий то лишь
потому, что разум наш ограничен временем и пространством, и все наши
представления получаются эмпирическим путем, передаваясь нам
внешними чувствами. То же самое можно сказать и относительно бога; мысля
о нем, как о «существе», мы представляем себе, что он находится в каком-
то определенном центре вселенной, в то время как подобного центра нет.
а
2&8
Отбросив представление о боге как о личности, мы, тем самым, уничтожим
всякое мало-мальски серьезное различие между вселенной и ботом. Во
всяком случае, вечность и бесконечность вселенной гораздо легче
представить себе, чем вечность и бесконечность бога, того бога, который, как
таковой, является существом самобытным, совершенно самостоятельным,
в то * время как такая высокая индивидуализация и обособленность
нисколько не вяжется с эпитетами «'вечный» и «бесконечный». Понятия:
сила и материя, пространство и время, их бесконечность, их
неограниченность, противоречат этому самым очевидным образом. К тому же границы
времени и объем вселенной представляются нам лишь в масштабе, при-
ложимом к нашему собственному существованию, а потому они кажутся
нам такими бесконечно великими, что невольно вызывают в нашем
сознании представление о чем-то вечном и бесконечном. Заметим также, что
исследование вещей, так широко ограниченных, не наталкивается в своем
развитии ни на какое сопротивление, которое могло бы приостановить его.
также не встречает никаких возражений ни по поводу порядка вещей,
ни по поводу их последовательности, ни, наконец, по поводу закона
причины и следствия. Так, например, в .настоящее время не возникает ни
одного серьезного сомнения в том, что вся наша планетная система
биллионы лет тому назад представляла из себя рассеянную'в пространстве
полу-ирозрачную, туманную массу, которая, путем сгущения и смешения,
превратилась в одно целое, развилась совершенно так же, как мы
это наблюдаем (или, в крайнем случае, с достоверностью предполагаем)
у туманных пятен. Следствия и следы этого преобразования можно еще
и теперь подметить в этой сильно обособленной, почти бессистемной
конструкции планет, а сама эта бессистемность, кажущаяся бесцельность
и несимметричность исключает всякую возможность божественного
вмешательства. Какой, например, смысл в том, что солнце, центр всей этой
многосложной системы, соединило в себе материал всех наружных планет
и любую из них превосходит по величине в тысячи раз? Собственно
говоря, на это можно бы возразить, что такое явление вызвано законами
притяжения. Приняв даже справедливость этого возражения, несмотря
на очевидные его несоответствия, мы должны сотласиться с тем, что более
тесное соприкосновение планет или же более плотная консистенция
солнца достигли бы той же цели без какого либо нарушения этих законов.
Далее, какой смысл того, что колоссальное количество тепла, света и
силы, исходящее от солнца, почти без всякой пользы для нашей планеты,
рассеивается в мировом пространстве, и мы получаем лишь самую
незначительную часть, — так, например, земля всего 1/2300-миллионную.
Наконец, почему в количестве, качестве, величине и устройстве планет
наблюдается полное отсутствие какого-либо порядка, симметрии,
красоты, даже просто определенного правила?
«Симметрия», — заявил один астроном, возражая
материалистам, — слишком мелочна для великого творца вселенной!» Но почему же
для него не было слишком мелочной асимметрия? Почему ему не
казался непорядочным беспорядок? Ведь дело было у него в руках и он
мог поступить с ним, согласно своему желанию. И если он хотел убедить
человека в своем существовании, то почему же он не устроил вселенной
так, чтобы все его намерения были очевидны для всех?
Почему он не начертал своего имени на небесах огненными
буквами? Почему так трудно, почти невозможно постичь его? Наконец^
если бы он так легко мог положить конец всем мукам и сомнениям людей
насчет его самого и насчет ого существования, почему он не делает этого?
264
Овои расспросы мы могли бы продолжать следующим образом. Почему
наш спутник — луна, не в состоянии поддерживать жизни органических
существ? Почему устройство остальных планет не таково, чтобы их, как
и землю, могли населять человекоподобные, разумные существа?
Какой смысл в пустынном, почти бесполезном мировом
пространстве, на котором только кое-где попадаются на громадных друг от друга
расстояниях единичные небесные тела, оживляющие этот огромный
пустырь? Какое назначение выполняют кометы и метеоры? К чему эти
двойные звезды? К чему эти солнца без планет, которые вечно вращаются
одно вокруг другого или вокруг общего центра тяжести? Почему, наконец,
вся наша планетная система устроена таким образом, что она неминуемо
должна погибнуть так же бессмысленно, как она и зародилась,
уничтожить земной шар, и, таким образом, предать вечному забвению все то,
что создал великий разум человека? Или почему сама земля устроена
была так, что те мыслящие разумные существа, которые собственно
говоря, и должны были быть прямою целью творения — люди — могли
появиться на ней только через миллионы и миллионы лет, пройдя массу
стадий развития и то не везде, а только в некоторых ограниченных местах
земной поверхности? Для чего две трети этой поверхности заняты водою,
а последняя треть устроена так неравномерно, так неблагоприятно
жизненным потребностям человека? Для чего в песчаных пустынях Африки
рассеивается ежедневно без всякой пользы такое огромное количество
солнечного тепла и света, в то время как несчастный житель полярных
стран цепенеет от вечного холода и полумрака? Зачем луна,
предназначенная для того, чтобы прогонять тьму наших ночей, исполняет эту
обязанность так скверно? Почему гибельные по своим последствиям
землетрясения не оставляют в покое бедных жителей земли даже там, где они
упорным тяжелым трудом, казалось бы, завоевали себе право па более
огражденное от неприятных неожиданностей существование?
Как бы ни увеличивали мы и без того длинный ряд наших
вопросов, результат их будет один и тот же. Но прежде чем покончить со всеми
рассуждениями по поводу этого доказательства, заметим еще, что
библейский рассказ о сотворении мира, служащий и до настоящего времени
чуть ли не первым догматом христианской веры по всем вопросам,
касающимся мироздания, та басня, которой доселе приписывают какое-то
научное значение — с точки зрения строгой науки не выдерживает ни
малейшой критики и уже с первых же строк рассказа выказывают свое
полное невежество в астрономии.
Вначале, говорится в этой наивной басне, бог создал небо и землю.
Небо и земля, как видите, поставлены рядом, как величины
равнозначащие, в то время как между ними колоссальная разница. Затем, как
известно, рассказывается о том, что солнце и луну бог сотворил в
четвертый день; так как свет был им сотворен в первый день, то, тем самым, луне
приписывается собственно ей принадлежащий свет. Можно еще
допустить, ввиду различных физических и астрономических законов,
существование света до появления солнца в парообразном тумане, но
правильная смена дня и ночи совершенно немыслима без солнца. Точно так же
невозможен без солнца и упоминаемый уже на третий день рост трав,
деревьев, плодов и т. п. Совершенно бессмысленно это противопоставление
тьмы—свету, быесмысленно это разделение вод— на «воды тверди земной
и тверди небесной», предполагающее существование воды и над небом.
Вообще, если верить Библии, то солнце, луна и звезды были созданы
исключительно ради земли, исключительно для нее были зажжены эти:
265>
огромные небесные светильники! Такой взгляд покоится на тогдашнем
положении науки. Ныне же земля уже давно сведена с незаслуженного
ею пьедестала —- центра мировой системы. Наконец, бог, по Библии,
употребляет на создание земли и ее обитателей целых пять дней, тогда как
сотворение неба отняло у него только один день. Мы уже не упоминаем
о том, что в библейском рассказе растения и животные создаются в
несколько дней, тогда как в настоящее время нам известно, что для этого
требуется громадное количество времени: много, много поколений.
Здесь мы все время говорили о космологическом доказательстве,
которое заключается в том, что вечный и однообразный круговорот
метаморфоз считается, в виду ограниченности человеческих представлений,
явлением немыслимым, вопреки требованиям логики и эмпиризма, давно
доказавпшх справедливость" этого и снявших, таким образом, с очереди
этот вопрос.
Переходим теперь к следующему доказательству, находящемуся
в теснейшей связи с первым — физико-теологическому. Его иногда
называют «доказательством целесообразности», так как оно опирается
на предполагаемую целесообразность всех явлений природы. Как
первое доказательство, так и второе приводится часто рядом и порою в
смешанном виде. Мы же для большей ясности постараемся, насколько это
возможно, разъединить и выделить их.
Среди всех доказательств, подтверждающих существование бота,
одно из главных мест занимает то, которое встречается наиболее часто
и считается самым сильным и популярным. Как искусный механизм
часов, гласит оно, предполагает существование часовщика, так и
построение гораздо более искусного механизма — вееленной — предполагает
какого-то архитектора. Забывают при этом, что приведенной аналогии
между произведениями искусства и произведениями природы совершенно
не существует. Ведь никому же не придет в голову поставить на одну
ступень естественный рост розы и искусственное создание часов!
В одном случае создателем является время в связи с издавна
существующими законами природы, в другом — главную роль играет или свободное
желание, или до некоторой степени ловкость разумного существа,
пользующегося уже готовым, предоставленным природою, материалом.
Современное естествознание разбило вое доводы этого мнимого доказательства:
оно показало, что целесообразность, явлений природы происходит не
в силу какого-либо или чьего-либо определенного намерения, а есть лишь
неизбежный результат круговорота изменений, результат
приспособляемости и назначение тел природы. Справедливость требует сказать, что
уже в 450 году до р. х. греческий философ Эмпедокл объяснил
целесообразность явлений природы, как остаток бесконечных зачатков или
более или менее неудавшихся попыток к, саморазвитию. Но философы,
следовавшие за ним, не поняли всей глубины этой мысли, и уже Сократ
яе упустил случая, по аналогии с чисто человеческой деятельностью,
вывести заключение о произведении и мастере (при рассмотрении
строения человеческого тела),—заключение, которым, много столетий спустя,
старался доказать существование бога, совершенно несправедливо
провозглашенный атеистом, французский философ Вольтер. Вся
натуралистическая наука минувших времен с особенной любовью пользовалась
этим доказательством, так что мы напрасно будем искать в
произведениях того времени по части естествознания (особенно среди популярных
лзданий) место, в котором бы не было бесконечных ссылок на это
доказательство, в котором бы не пелся панегирик этой, так н&зываемой, фшю-
26В
софии мирозданья. Ведь еще и теперь нельзя поручиться за то, что мы
не встретимся с каким-нибудь корифеем науки, который захочет пропо-
ведывать подобного рода умозаключения, или. замаскировав их или даже
не сделав этого. Само собою понятно, что во всех теологических
произведениях, рассчитанных на популяризацию, доказательство это
приводилось особенно часто и культивировалось особенно тщательно. Однако.
Кант, этот кумир философов-теологов, признал, что теорию
целесообразности создал разум, который сам впоследствии был поражен чудом, им же
самим созданным. Совершенно другой оборот дело приняло тогда, когда
выступил на сцену знаменитый английский естествоиспытатель Чарльз
Дарвин. Правда, еще задолго до Дарвина естествознание в значительной
мере эмансипировалось от этого теологического учения о
целесообразности. Люди поняли, что ноги оленя не потому длинны, что он умеет
быстро бегает, а бегает он быстро потому, что у него длинные ноги; не
для того испорчено зрение у крота, чтобы иметь возможность рыть землю,
а, потому у него и слабы глаза, что он постоянно находится под землей
и совершенно не пользуется своим органом зрения. Стало' очевидным
и то, что живущие под землею животные не были созданы слепыми ради
окружающей их тьмы, а слепы они именно потому, что совсем не
получают необходимого раздражения зрительных нервов.
Эмансипации этой много способствовало и то обстоятельство, что
люди на кажодм шагу наталкивались на случаи, которые совершенно
шли вразрез с мнимой целесообразностью. Несмотря на все это, многое
еще оставалось загадочным и темным, и необходимость допустить
божественное вмешательство то-и-дело выплывало наружу. Вое это
продолжалось до тех пор, пока Дарвин ясно и убедительно не доказал .своей
«презираемой» теперь теорией приспособления, каким образом
достигается в природе целесообразность.
Он доказал, что если в природе полезно и целесообразно, то это
не есть следствие какого-нибудь определенного, разумного намерения,
не есть, с другой стороны, дело слепого случая, а результат
взаимовлияния и взаимоотношения/между природой и окружающими ее предметами.
Есл;и, например, живущие на деревьях насекомые имеют обыкновенно
зеленоватую окраску и, благодаря этому, сравнительно легко ускользают
от преследующих их врагов, то в этом не следует видеть какого-нибудь
строго продуманного творческого акта. Причина гораздо проще: уже
с незапамятных времен насекомые, окрашенные в менее выгодный цвет,
подвергались сильному истреблению, насекомые зеленого цвета более
успешно избегали этого. Вот это-то выгодное качество они и передали
по наследству своему потомству. Другой пример. Цолярный медведь,
живущий в области вечного снега и льда, покрыт шкурой белого цвета.
Ему, таким образом, легче добывать себе пищу, — он менее заметен для
преследуемой им добычи! Это опять-таки не есть небесный дар,
произошло это исключительно в силу обстоятельств: звери с темными шкурами,
обитавшие в полярных странах, погибали из-за недостатка пищи; только
те из них уцелели, которые имели благодарный белый цвет шкуры, —
и это выгодное отличие было использовано — перенесено на потомство.
Перейдем к тому явлению, что животные холодных стран защищены
от стужи плотной одеждой, каковой не имеют обитатели теплого
климата. Это обстоятельство очень легко объяснить внешним влиянием и
стремлением приспособиться к нему, но уж отнюдь не носиться с мыслью
о каком-то небесном закройщике, который будто бы заботиться о летнем
и зимнем гардеробе каждого зверя. Или вот переселение зверей, кото-
267
рое дает нам прелестный образчик забот этих самых зверей о сохранении
своей жизни. Эту склонность, дающую самые положительные
результаты, естественнее всего объяснить привычкой, которая постепенно
развивалась отчасти наследственным путем, отчасти под влиянием
усилившегося холода во время ледникового периода. Дальнейшие примеры
которых можно привести бесконечное множество, мы найдем у Дарвина
и в произведениях, излагающих его теорию. Мы увидим, что даже в тех
случаях^ где нам кажется несомненной какая-то умышленность, эта точка
зрения теряет свое значение, как только мы взглянем на данное явление
в связи с другими, подобными ему. Так, например, черепные швы у
младенцев и млекопитающих значительно облегчают процесс рождения,
потому что дают возможность механически сократить и сдать черепную
крышку. Никоим образом нельзя предположить, что швы эти
существуют специально для упомянутой цели, так как мы их замечаем и
у птиц, и у пресмыкающихся, вылупляющихся из яиц и совершенно не
нуждающихся в уменьшении головы. Наблюдая, например, ветви
ползучих растений и увидев их устройство, как бы приспособленное для
ползания, мы можем подумать, что специально для этой цели и созданы
ветви. Но мысль эта моментально испарится, когда мы увидим, что и
ветви растений неползучих устроены почти так. же.
Знаменитый ботаник Шлейден рассказывает, что у большинства
явнобрачных растений тычинки и рыльце хотя и находятся, согласно
законам оплодотворения, очень близко друг от друга, но своего полного-
физиологического развития достигают в разное время. Часто в момент
рассеивания цветочной пыли рыльце оказывается или недостаточно
развившимся или, наоборот, уже засохшим и, таким образом, все этц
хитроумные приспособления оказываются потерявшими всякий смысл.
У тех же растений, у которых половые оргайы разъединены, процесс
оплодотворения еще более осложнен. Так, у многих групп эти органы
устроены так неправильно и неудобно, что кажется, будто мать-природа
употребила все свои силы на то, чтобы сделать окончательно
невозможным естественное соединение цветочной пыли с рыльцем. В данном
случае опыление никогда бы не состоялось, если бы делу не помогло
посредничество перелетающих с цветка на цветок насекомых (пчел, шмелей,
мух, бабочек). Очевидно, что главную роль здесь играет'случай,
который никоим образом не мог быть предусмотрен телеологией. Насколько1
такой «случай» тем не менее необходим, ясно видно из того, что почти
все семейство ятрыжниковых (напр., орхидеи) не только не
оплодотворяется пылью своих тычинок, но она действует на них как яд! Ясно,
что все это семейство нуждается в чужой, приносимой кем-либо извне,
оплодотворяющей пыли. Если плотоядные животные обладают всеми
теми свойствами, которые делают их вполне приспособленными для
выслеживания добычи и нападения на нее, как-то: великолепно развитыми
внешними чувствами, острыми когтями и зубами, выгодной для них
окраской шкуры и большой долей хитрости, — то, с другой стороны,
звери, обреченные им в пищу, обладают свойствами, помогающими им
избегать нападений. Здесь, значит, цель, идя против цели, взаимно
уничтожают одна другую. Если антилопа предназначена в пищу тигру,
то зачем она в таком случае сохранила стремление и возможность
избежать его когтей? Ведь не имей антилопа некоторых данных ей качеств,
задача тигра была бы ему в значительной мере облегчена. Или, может
быть, пищею львам и тиграм должен служить человек с его телесной
слабостью? Возможно, что не будь плотоядных животных — растения
268
заполнили бы землю и вытеснили бы людей, но лишь незначительное
«стеснение в их стремлениях к плодовитости, — и это легко устраняется.
Если человек действительно (как это утверждают теологи) составляет
главную заботу провиденья, то, казалось бы, в природе не должно быть
места тем растениям и животным, которые мешают существованию этого
«любимчика». На самом же деле выходит, что 99 процентов всех видов
■растений и животных не только бесполезны человеку, но приносят ему
существенный вред; в то время как третьего вида — индиферентных—
•совершенно не существует. Даже и с полезными, если мы их будем
рассматривать с точки зрения целесообразности, дело окажется очень
сомнительным. Так, например, хинное дерево, дающее лучшее средство
против лихорадки, отсутствует как-раз в тех болотистых местностях, где
человек в нем особенно нуждается, а растет оно, наоборот, в гористых,
почти недоступных для человека странах, вдобавок совсем не
благоприятствующих его произрастанию. Раз подметив такое неудобство, человек
занялся посадкой его в тех местностях, где оно произрастает гораздо
успешнее. Но все-таки, несмотря на благодеяния, которые нам
оказывает существование в природе этого дерева, мы бы легко обошлись и без
него, если бы божественному провидению угодно было избавить нас
совершенно от лихорадки. И здесь, как в тысяче подобных случаев,
мы имеем дело, с одной стороны, с организмами, порождающими болезнь,
с другой — с организмами, излечивающими их. Как не сказать: если бы
природа поэкономнее снабжала нас болезнями, ей было бы меньше работы
над созданием «лечебной материи»!
Прежде чем совершенно покончить с вышеупомянутым
доказательством, необходимо напомнить, что, если, с одной стороны, мы замечаем
в природе или в нашей жизни своего рода целесообразность, то с другой —
можно указать на такое-же (если не большее) количество бесцельного,
прямо-таки (вредного, которое уже отнюдь не согласуется ни с
предположением о целесообразности в природе, ни со вмешательством в земную
жизнь творца. Не можем же мы, в самом деле, предположить, что
божество сознательно допускает ошибки, или что оно создало одну часть
вселенной — целесообразною, другую же — нет. Либо все есть продукт
божественной премудрости и вмешательства, либо же ничего.
Вспомним только о вредных явлениях природы, которые стоили
жизни (или, по меньшей мере, здоровья) стольким людям и животным.
Вспомним о землетрясениях, пожарах, стужах, бурях, наводнениях,
эпидемических болезнях, о вредных растениях и животных, которые
размножаются с ужасающей быстротой и т. д., и т. д. Какая цель
преследовалась созданием трех тысяч видов змей, угрожающих людям ядом и
смертью? Зачем эти ужасные тучи саранчи — гибель и бич полей?
Для чего эти микроорганизмы, размножающиеся баснословно скоро
(бациллы, бактерии,- грибки и т. п.), которые порождают самые ужасные
болезни, которые живут исключительно насчет смерти других, гораздо
высших организмов? Вероятно для того, чтобы сделать нашу землю
раем, божественное провидение населило воздух шершнями, осами,
мошками, жигалками, москитами и тому подобными вредными насекомыми,
червями и микроскопическими организмами, которые отчаянно мучают
людей и зверей, уничтожают посевы и всякие произрастания. Подумаем
над вопросом, почему такое большое количество земной поверхности
(созданной и приспособленной, если верить теологам, исключительно для
жительства людей) по своему климату абсолютно непригодно для
поселений (2/з поверхности занято водою, а большая часть остальной трети
269
погребена под вечными льдами)? Почему, несмотря на все это, в
человеке так сильно развито стремление к размножению, в то время как для
полного успеха такого стремления нет мало-мальски подходящих
условий? Даже и в нашем собственном организме, который обыкновенно
рассматривается как шедевр творческого вдохновения и о котором
теологи говорят, что бог его создал по своему подобию, т.-е. говоря их
языком, по высшему типу совершенства, — в этом самом организме масса
нецелесообразностей, масса вредного, бесполезного и уж, во всяком
случае, несовершенного.
Вспомним только о червеобразном отростке слепой кишки,
служащем часто причиною воспаления брюшины — болезни, кончающейся
часто смертью, особенно у детей. Вспомним слепую кишку, взятую самой
по себе, которая часто вызывает подбрюшные сгущения; вспомним о
наших миндалевидных железах, которые как-будто только на то и
существуют, чтобы вызывать беспрерывные ангины и воспаления горла;
вспомним грудные железы, вызывающие припадки удушья у детей, хвостовую
кость, которая признана приверженцами теории постепенного развития
остатком хвоста позвоночных животных!
А наружные ушные раковины, которые нам совершенно не нужны
для процесса уловления звуков? А связанные с этими раковинами
мускулы? А мигательная перепонка? А волосы, которыми прикрыт у
некоторых людей наружный эпителий (совсем как у животных)? А
скрещивание нашего дыхательного горла с пищеводом, служащее часто
причиною удушения? А вертикальное положение нашего позвоночного
столба, составленного к тому же из мелких кусочков, благодаря чему так
часто происходит его искривление, и чем объясняется наклонность детей
и стариков падать вперед? Или, например, безобразно противное
соединений самых разнородных отправлений в одном органе нашего
тела, и т. п.?
Даже наш глаз, который принято считать самым совершенным
органом, о котором мы знаем, что он лишь путем непрерывных
перерождений превратился из простого, находившегося под кожей, нерва, в тот
тонкий и вполне законченный восприемник световых ощущений,
каковым является он теперь, — даже он далеко не совершенен. Профессор
Рельмгольц, известный знаток внешних чувств человека, указал на
целый ряд ненормальностей в устройстве глаза. «Если бы, говорит Гельм-
гольц, какой-нибудь оптик создал что-нибудь подобное, ему вернули бы
его механизм обратно. Тех ненормальностей, которые мы замечаем
в устройстве глаза, нет даже в самых дешевых фотографических
аппаратах. Одно количество людей, носящих очки, говорит само за себя и
указывает на степень несовершенства глаза».
Ухо наше также несовершенно, как и глаз. В нем насчитывается
не менее десяти мускулов, находящихся в состоянии полного бездействия,
и потому совершенно бесполезных. Во внутреннем его устройстве, как
и в устройстве глаза, мы находим также не мало ненормальностей.
А до чего несовершенны наши зубы, один из важнейших органов нашего
тела? Можно без преувеличения сказать, что единственно сносные и
крепкие зубы поставляет нам зубной врач ...
Почему человек не наделен зрением орла, слухом совы, полетом
ласточки, чутьем охотничььй собаки? Да просто потому, что природа
развивается сама по себе, а не в силу какой-то высшей воли, сообразно
внешним и внутренним условиям существования. Есть ли это
саморазвитие или рука провидения? Природа в том виде, как мы наблюдаем
270
ее теперь, не есть произведение момента, а является результатом
процесса развития, продолжавшегося миллионы и биллионы лет. Течение
этого процесса нисколько не зависит от требований целесообразности, и
в последней своей стадии он физически не мог вылиться в иную форму,
чем та, в которую он вылился. Иначе представляется невероятным, чтобы
мир, состоящий сплошь из образований нецелесообразных, мог
просуществовать такое долгое время и не пасть жертвой всех этих
несовершенств1).
Наконец, самое существование процесса развития есть очень
веское доказательство против идеи божественного вмешательства, так как
свободная творческая сила имеет полную возможность сразу ввести в мир
все полезное, без того, чтобы ей могли помешать постепенное образование
вещей и установление между ними отношений. В противоположность
этому мы видим, что в природе нарождается путем медленного,
постепенного развития, встречающего вдобавок большие препятствия
в своем движении. Легко доказать, что большинство действительно
целесообразных образований в природе могло бы нам достаться гораздо скорее
и легче, если бы на пути не было стольких трудностей.
Этим мы закончим теологическое доказательство, хотя можно
было бы прибавить еще много чего. Во -всяком случае и из сказанного
видно, что большинство людей, серьезно изучающих природу и ее законы,
волей-неволей должны приобщиться к атеистической точке зрения и
признать, что вселенная не есть монархия, а республика, покоящаяся на
самых широких демократических принципах.
(«Бог и наука»).
К. Маркс
ЧЕМ ЯВЛЯЮТСЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА СУЩЕСТВОВАНИЯ БОГА
Упоминая здесь, при случае, о совершенно оставленной теме, о
доказательствах существования бога, надо заметить, что Гегель перевернул,
все эти богословские доказательства, т.-е. отверг их, чтобы оправдать их.
Что же это за клиенты, которых адвокат не может иначе избавить от
осуждения, как сам убивая их? Гегель, напр., таким образом толкует
заключение от бытия мира к бытию бога: «Так как случайного нет, то
есть бог или абсолютное». Богословское же доказательство, наоборот,
гласит: «Так как случайное имеет истинное бытие, то бог существует».
Бог есть гарантия для случайного мира. Само собой понятно, что этим
сказано и обратное.
Доказательства существования бога представляют пустые
тавтологии. Напр., онтологическое доказательство говорит только: «то, что
1) Есть люди, настолько увлеченные теорией целесообразности, что все в
природе они находят прекрасным и восхитительным. Даже в том, что нос наш
прикреплен посредине лица, что глаза находятся не на пальцах ноги, даже в этом они готовы
видеть какую-то особенную мудрость. Они при этом совершенно забывают о том, что
абсолютно несовершенное существо не могло бы никоим образом принимать участия
в борьбе за существование. Да и перечисленные «совершенства» касаются только
людей, так как в мире животных мы найдем и таких, у которых глаза помещаются
у огибов колея. — Автор.
271
я действительно представляю себе, для 'меня есть действительное
представление», т.-е. действует на меня. И в этом смысле все боги, как
языческие, так и христианские, обладали действительным существованием.
Разве не царствовал старый Молох? Разве Аполлон Дельфийский не был
действительной силой в жизни греков? Здесь даже критика Канта
ничего поделать не может. Если кто-нибудь представляет себе, что
обладает сотней талеров, если это представление не есть для него
произвольное субъективное представление, если он верит в него, то для него эти сто
воображаемых талеров имеют такое же значение, как сто действительных.
Он, например, будет делать долги на основании своей фантазии, он будет
действовать так, как все человечество действовало, делая долги на счет
своих богов. Более того, пример Канта мог бы подкрепить онтологическое
доказательство. Действительные талеры имеют такое же существование,
как воображаемые боги. Разве действительный талер существует где-
либо, кроме представления, правда, общего или скорее общественного
представления людей? Привези бумажные деньги в страну, где не знают
этого употребления бумаги, и всякий будет смеяться над твоим
субъективным представлением. Приходи со своими богами в страну, где
существуют другие боги, и тебе будут доказывать, что ты страдаешь
фантазиями и абстракциями. И справедливо. Если бы кто-нибудь
привел древним грекам иноземного бот, то нашел бы доказательства
несуществования этого бота. Ибо для греков он не существовал.
Чем известная страна является для иноземных ботов, тем страна
разума является для бога вообще, областью, где его существование
прекращается.
Или же доказательства существования бота представляют не что
иное, как доказательства бытия существенное человеческого
самосознания, логические объяснения последнего. Например, онтологическое
доказательство. Какое бытие непосредственно, когда мы его мыслим?
Самосознание.
В таком смысле все доказательства бытия бога являются
доказательствами его небытия, опровержениями всех представлений о боте.
Действительные доказательства, наоборот, должны были бы гласить: «Так
как природа плохо устроена, то бог существует»,, «Так как существует
неразумный .мир, то бог существует», «Так как мысли не существует,
то бог существует». Но что же это говорит, кроме того, что для кого мир
неразумен, кто поэтому сам неразумен, для того бот существует? Или
•неразумность есть бытие бога.
«Если вы предполагаете идею объективного бога, то как вы можете
говорить о законах, которые разум воспроизводит из самого себя, так как
автономия может принадлежать лишь абсолютно свободному существу?»
(Шеллинг).
«Преступно, скрывать от человечества принципы, которые вообще
могут быть сообщены всем». (Он же).
(«О различии между физикой Демокрита и Эпикура»).
272
И, Дицгеп
ПРЕОДОЛЕНИЕ РЕЛИГИОЗНОГО МИРОПОНИМАНИЯ1)
«Имущие и образованные», которые интересуются истиной и наукой
лишь постольку, поскольку эти последние способствуют умножению их
богатств и сохранению их привилегий, — именно эти люди и есть
настоящие постыдные материалисты, для которых нет ничего святого, кроме
эгоистической заботы о своем желудке и холеном теле; они привыкли
говорить: не следует рассуждать о религиозных предметах, так как мы
ничего не знаем о них. Напротив, проницательная наука проникла в
туманную и таинственную сущность религии и познала ее последние
основы, осветила эту область вполне до самых скрытых уголков. Мы
знаем, что такое бог и что такое религия, где они начинаются и где
кончаются, откуда они происходят и каким образом они распадаются, так же
определенно, как то, что 2X2 = 4, или что нет двух гор — нигде, ни на
небе, ни на земле, — без- разделяющей их долины.
Религиозный и политический либерализм связан с «имуществом»,
с современными формами приобретения. В прошлом аристократия была
тесно связана с церковью, так как барщина и десятина снабжали
одинаково их погреба и кухни. Крупные современные фирмы, которые так
либерально, т.-е. так обильно, зарабатывают на эксплоатации чужого
труда, относятся больше чем сдержанно к ортодоксальным
проповедникам христианского повиновения и воздержания; ошг относятся к ним
с антипатией. Но либерализм одинаково несерьезен и в своей вере и
в своем безверии. Привилегированное социальное положение осуждает
«богатых и образованных» на отвратительный иидиферентизм; они не
холодны и не горячи. Их религиозное масонство, их протесты против
суеверия — всякая вера суеверна — все это несерьезно, ибо религиозная
дисциплина народа есть оплот их господства. Хотя они сами давно уже
покончили с верой в бога, они все еще не перестают проповедывать его
заповеди: «Воздайте кесарево кесарю». «Подчиняйся власти, молись и
работай, и неси дальше твой крест со всяческим смирением и
преданностью». В то время как сами они пытаются подняться на высшие ступени
богатства и власти, они хотят обмануть нас, а может быть и самих себя
говоря, что они верят в бога, который хотел сделать первых последними,
а последних первыми. Бесхарактерных политиков можно узнать по их
религиозному лицемерию. Повелители крупной промышленности и их
сытые и титулованные слуги, все эти профессора, судьи; адвокаты и так
далее, мечтают и о свободе промыслов, и о конкуренции, и о религиозной
свободе. Человек может верить, как ему угодно. Но горе тому, кто поверит
их фразам! Горе тебе, если ты захочешь серьезно освободиться от всякой
*) Иосиф Дицген — рабочий-кожевник, самостоятельно пришедший к
диалектическому материализму, т.-е. философскому мировоззрению Маркса и Энгельса, хотя он
не считал себя основателем школы и смотрел на Маркса и Энгельса, как на своих
великих учителей. Маркс отметил в одном из своих писем по поводу первой работы
Дйцгена, что «несмотря на некоторую путаницу в понятиях и на слишком частые
повторения, она содержит в себе много превосходных и, как продукт
самостоятельного мышления рабочего, достойных изумления мыслей». Будучи ярым врагом
идеализма и всяких форм поповщины, Дицген понес антирелигиозную пропаганду в
широкие маюсы. Почти все его работы удаляют много внимания борьбе ,с .религиозным
мировоззрением вообще и «научной поповщиной» в частности, причем эта борьба у него
тесно увязана с общесоциалистической пропагандой, с выяснением классовых задач
пролетариата. — Прим. ред.
Г. Гурев 18
273
религии! Можно принадлежать к реформированной общине и к
нерелигиозной школе; но можно ли быть вообще вне религии, быть в светской
школе? Нет! Тогда придет конец света. Если народ ни во что уж больше
не 'верит, то кто же будет почитать нашу собственность и поставлять
пушечное мясо для нашего отечества?
Мелкобуржуазный ремесленник чувствует и замечает, что
промышленные нововведения выбивают его из колеи; но он ничего не знает и
не1 хочет-знать о научных открытиях и изобретениях. То же самое
происходит с «имущими и образованными» в делах религии. Они говорят:
если нельзя доказать истинности религии, то еще менее возможно
доказать противоположное. Их интересы противоречат науке, поэтому они
не знают — и не хотят знать о том, что уже полвека назад Фейербах
ясно и окончательно доказал, что всякая религия есть субститут,
подстановка человеческого невежества.
У человечества имеется своеобразное преимущество. В
зависимости от условий времени и места оно дает высшую оценку совершенно
различным предметам и свойствам. Человечество — в отличие от
обезьян — никогда не останется равным самому себе, оно не повторяет
предшествовавших актов, но всегда революционно изменяет свои высшие
и вечные ценности, короче говоря — делает историю. Факты
свидетельствуют о том, что род человеческий, его поколения и народы образуют
живой организм, каждая часть которого служит целому, его
расширенному дальнейшему развитию. И все, что занимало видное место в этом
историческом процессе, будь это животное, растение, -звезда, человек
или закон, фантастически обожествлялось религиозным чувством. Таким
образом бог, это содержание религии, является не устойчивым и
вечным, но изменяющимся и преходящим понятием. Божественное начало
или «абсолютные ценности» так часто изменялись в зависимости от
условий времени и места, что наука должна была уяснить себе
изменяемость понятий «святого» и «вечного». Поэтому наука категорически
устанавливает: абсолютные ценности религии в исторической
действительности оцениваются сообразно условиям времени и места.
Религиозные люди указывают на то, что все народы как дикие,
так и цивилизованные, имеют религию к верят © бога. Поэтому они
считают, что вера врождена человеку, и этим доказательством они хотят
подтвердить свою правоту. Но верно только то, что неопытный и
некультурный человек легковерен, при чем он тем более легковерен и
доверчив, чем он беднее опытом и культурой. В наше время, кажется, только
крестьяне и женщины являются преданными приверженцами веры. Мы
сразу замечаем, что была и есть не одна, но много религий, верят не
в одного, но во многих богов. Человек лишь постепенно познает мир, он
ообжествляет самые разнообразные вещи и явления, сегодня — одно,
завтра — другое. И вот сущность религии состоит в том, что она
олицетворяет те явления в жизни природы и человека, которые, в зависимости
от условий времени и данных обстоятельств, имеют особенно большое
значение, и возносит их так высоко, что они выходят за пределы
временного и конкретного.
Религиозная истина, это — естественная истина, поставленная на
.голову. Не бог создал человека, но люди всегда и везде создавали богов но
своему образу и подобию. Если каким-нибудь отдаленным от нас
разумным существам, живущим на луне или еще где-нибудь, попадутся в руки
священные книги нашего духовенства, то они ничего не узнают оттуда
о боге и небе, но узнают кое-что о культурном уровне людей, которые
274
создали и описали все эти вещи. Как близко наше время к тому, чтобы
совершенно утратить религию, — об этом свидетельствуют нелепые и
б? высшей степени путаные понятия, которые наша эпоха имеет о боге
и его качествах. О существовании всех других вещей люди знают на
основании предварительных сведений, каковы они и что они собой
представляют; но в бытии личного бога они хотят убедиться, не имея
представления, каков он, каков его облик, человеческий или
нечеловеческий, велик он или мал, черные или голубые у него глаза, мужчина это
или женщина. Теологи не будучи в состоянии дать ответ на эти вопросы,
называют их материалистическими и непристойными. Передовые теологи
уже признали, что ограниченные сведения их собратьев о боге, которого
они называют справедливым, благостным, мудрым, всемогущим и так
далее, что вое это вовсе не религиозные, но мирские, земные качества.,
которые мы уже находим здесь внизу, не поднимаясь на небо. Поэтому
ученые называют такие писания антропоморфическими, — это значит,
что аам, где человек считает справедливость высшей и абсолютной
ценностью, он создает справедливого бога, там же, где он мечтает о
человеческом мясе, он угощает им и своих богов. Прогрессивные теологи знают
это и поэтому они и слышать не хотят о подобном описании своих
святынь. Идея божества тем более материальна, чем ближе она к первым
стадиям своего развития, и наоборот, — чем формы религии ближе
к современности, тем более они спутаны и жалки. Историческое
развитие религии состоит в ее постепенном распаде.
Выше я назвал религию субститутом (заменой, подстановкой)
человеческою-невежества; это значит, что она заполняет пробелы нашего
знания. Там, где эти пробелы велики, религия занимает много места.
Хозяйственная деятельность варварских народов, их быт и повседневная
жизнь, их социальное, гражданское и политическое законодательство
регулированы божественными предписаниями. Бог Авраама, Исаака и
Якова заботится о мельчайших деталях, он следит за тем, как часто
человек умывается и какое животное впряжено — сильное или слабое,
впряжено ли оно спереди или сзади. Так же конкретна и религия
китайцев.
Современные цивилизованные нации оставляют в удел господу
богу лишь то, что им самим до сих пор еще не удалось исследовать
и чем они еще не овладели, — излечение таинственных болезней и так
далее. Для образованного человека благословенное имя господне — это
только буква А, начало в алфавите его мировоззрения. После своего
сотворения мир развивается беспрепятственно, закономерно, из себя.
Для этих не по-христиански мыслящих христиан все в мире естественно,
только его начало неестественно или божественно-. Поэтому они не хотят
обойтись без веры в бога; к тому же эта вера, как было указано выше,
преследует благую цель. Из всего того, что в мнимой религии нашей
прогрессивной современности еще соответствует катехизису, следует
назвать так называемый «нравственный миропорядок». Но так как это
религиозное сознание смутно догадывалось, что нравственность также
опирается на обыкновенную земную почву, то эта идейная связь стала
уж очень непрочной и неясной. Как только признают, что
нравственность возникла не из изречений господних, но, наоборот, заповеди1 бога
предписывают только то, что раньше было нравственным, как только
признают, что нравственность «старше, чем предвечный, тогда церковное
государство окончательно потеряет почву под ногами. Итак, бросим
взгляд на религиозную жизнь языческого прошлого, когда боги и богини
18*
275
скрывались во всех углах и щелях, в каждом дереве и каждом кусте,
бросим взгляд на интенсивную религиозную жизнь христианства
первых веков, с его многочисленными святыми и чудесами, и сравним —
в какой мере вытеснена религия из всех областей современной жизни;
тогда всякий наблюдатель должен будет согласиться с повторяемым мной
положением, что прогресс или развитие религии по существу сводится
к распаду. Конечно, это обычная судьба всего существующего, общий
исход всех процессов. Новорожденный в первый же день своей жизни
вступает на путь, ведущий к могиле. Но ведь, выступая против религии,
я только и хотел доказать, что она не принадлежит небесам и вечности,
но есть обычное и преходящее мирское дело,
* *
*
Религия — это примитивная философия, потому что религия не
только стремится при помощи молитв и стенаний, обращенных к
могущественным ботам, освободить нас от земной скорби, ужасов природы
и жизни, но одновременно с этим хочет дать систематические основы
нашему мышлению. Универсальное значение религии для некультурных
народов основано на универсальной потребности систематической
философии. Наша теоретическая потребность систематически обозреть все
существующее так же всеобща, как всеобща практическая потребность
достичь господства над всем миром. Мы хотим знать все концы и все
начала. В основе диких воплей о всеобщей, вечной и необходимой
религии лежит нечто имеющее право на существование. Мы далеки от
злостного бессмысленного отрицания, ибо признаем, что человек есть
прирожденный систематик, который везде и всегда имеет потребность
в ориентировочных принципах для своего мышления и своей
деятельности. Поэтому кто хочет покончить с фантастической, религиозной
системой объяснения мира, должен все же поставить на ее место другую,
рациональную систему. Но только социал-демократия может сделать
это. Или я готов — если этот язык покажется докторам философии
слишком дерзким — сказать обратное и выражу этим ту же мысль:
социал-демократическая теория г) есть необходимый вывод безрелигйоз-
ного трезвого мышления. Она есть следствие философской науки.
Философы боролись со священниками, чтобы заменить некультурную систему
мышления культурной, религию — наукой. Цель достигнута, победа
одержана: после многих невыдержавших критики систем создана
устойчивая непроходящая научная истина — система диалектического
материализма.
Королевско-императорский прусский государственный
телохранитель Трейчке полагает, что великая уверенность социал-демократов есть
только хитрость, которая должна импонировать народу. Эти
профессиональные льстецы и проститутки пера, продавшие свой стыд, не
могут, конечно, понять убеждающую силу истины и уверенность,
которую дает последовательное систематическое мышление.
Социалистическая философия — это остро отточенная, логически завершенная
система.
Мы называем себя материалистами. Как религия есть общее
название многочисленных вероисповеданий, так и материализм есть растя-
х) Под социал-демократической теорией Дицген подразумевал теорию
последовательного (диалектического) материализма, т -е. мировоззрение марксизма.—Прим. ред.
276
жимое понятие. Если вознестись на небо, с религиозной точки зрения,
все земное, даже чистейший эфир, покажется отвратительной материей,
прахом и тленом. В глазах искажающей все религии всякая философия,
даже и платоновский идеализм, всякое исследование, всякое
положительное знание есть материальное стремление. На деле все философы
являются материалистами — хотя бы и скрытыми, все они ищут
реального познания, познания живой материальной истины. Материалисты
в плохом смысле этого слова, которые только едят и пьют и не знают
ничего, кроме потребностей своего брюха, эти тупоголовые и безыдейные
люди не имеют имени в науке, не составляют школы, вообще не
занимаются теорией. Философские материалисты отличаются тем, что они
ставят материальный мир в начале, во главу бытия, а идею или дух его
считают его следствием; тогда как их противники по религиозному
образцу производят дело от слова (господь сказал — и стало),
материальный мир от идеи. Конечно, до сих пор и материалисты не
располагали основательными доказательствами своего учения. Теперь мы,
социал-демократы, принимаем это название, которое наши противники
дают нам как позорную кличку, так как мы знаем, что честь его
восстановлена. Мы могли бы называться идеалистами, так как наша
система основана на общих результатах философии, на научном
исследовании идеи, на ясном понимании природы духа. Как мало способны
наши противники понять нас, об этом свидетельствуют противоречивые
названия, которые они дают нам. То мы грубые материалисты, способные
исходить только из низменных интересов, то — когда речь идет о
коммунистическом будущем — нас называют неисправимыми идеалистами.
По существу же мы одновременно и материалисты и идеалисты. Наш
идеал — чувственная истинная действительность: идеал
социал-демократии материален.
Известно, что индуктивный метод есть непоколебимая основа
всякой науки, опирающейся только на факты. Применение этого метода
ко всем без исключениям системам, то-есть систематическое применение
индукции, превращает социал-демократическое мировоззрение в систему.
«Ты не должен мыслить без материала», гласит закон, «свои выводы,
правила, познание ты должен основывать только на фактах, на
чувственной истине. Реальное, данное начало предшествует мышлению». Итак,
мы начинаем размышлять, но мы никогда не размышляем о начале.
Мы знаем — раз и навсегда, что в начале всякого мышления находится
реальное явление, данное начало и что, следовательно, вопрос о начале
всех начал есть бессмысленный вопрос, противоречащий основным
законам логики. Кто говорит о начале мира, предполагает, что оно дано во
времени. Тогда можно спросить, что же было до существования мира?
«Было ничто» — это два слова, из которых одно исключает другое. Что
когда-то было то, чего не было, это может сказать только хитрый глупец,
чертящий четырехугольные круги. «Ничто» может означать только — не
то или не это. Наша система устанавливает прежде всего, что фиксация
начала и конца есть — если позволено так выразиться —
субъективный прием человеческого разума.
(«Религия социал-демократии»).
277
П. Гольбах
БОГ ПЕРЕД СУДОМ ЗДРАВОГО СМЫСЛА?1)
Есть обширная империя, управляемая монархом, поведение которого
чрезвычайно способно смущать умы его подданных. Он желает, чтобы*
его знали, любили, уважали, слушались, а между тем он никогда не
показывается, и все способствует тому, чтобы сделать неопределенным,
неясным те представления, которые можно составить себе о нем.
Народы, подчиненные его власти, имеют о характере и законах своего
невидимого властелина лишь те понятия, которые им внушают его министры;
однако, и последние признают, что они и сами не имеют понятия о своем
господине, что пути его неисповедимы, что его цели и его свойства
совершенно непроникновенны. К тому же, его министры нисколько не
согласны между собой в истолковании предписаний, якобы исходящих от
властелина, представителями которого они себя заявляют; они различно
оповещают о них в каждой провинции империи. Они друг друга
опровергают и взаимно обзывают друг друга обманщиками и
лжетолкователями. Законы и распоряжения, опубликование которых они берут на
себя, неясны; это — загадки, которых не в состоянии понять или
разгадать подданные, для просвещения которых они предназначаются. За-
коны скрывающегося монарха нуждаются в истолкователях, но те, кто
их объясняет, постоянно спорят меж собой о том, как их надлежит
понимать. Больше того, они с самими собой не согласны; все что они
рассказывают о своем открытом государе, представляет собой лишь клубок
противоречий; они не могут сказать о нем ни одного слова, которое тут же
не было бы опровергнуто.
Говорят, что он исключительно добр, а между тем нет ни одного
человека, который не жаловался бы на его законы. Его считают
бесконечно мудрым, а между тем все его управление противоречит разуму
и здравому смыслу.
Расхваливают его справедливость, а между тем лучшие его
подданные являются ■наиболее обойденными. Уверяют, что он все видит, а
между тем его присутствие ничему не помогает. Он, товорят, друг порядка.
а между тем все в его владениях в запустении и беспорядке. Он сам
все делает, а между тем то, что совершается в действительности, редко
соответствует его предначертаниям. Он предвидит все, но ничего не
в состоянии предупредить. Он нетерпеливо переносит оскорбления,
а между тем он всякому предоставляет оскорблять себя. Восхищаются
его познаниями, совершенством его творений, однако, создания его полны
несовершенства и весьма недолговечны. Он постоянно что-то делает,
переделывает, потом поправляет сделанное, никогда, однако, не имея
основания остаться довольным своей работой. Во всех своих
начинаниях он ставит себе целью лишь свою славу, но он не может добиться
того, чтобы его прославляли. Он трудится лишь на благо своих
подданных, а большинство его подданных нуждается в самом необходимом.
Те, к кому он, пойидимому, благоволит, обычно, наименее довольны своей
участью; они почти непрестанно ропщут на властелина, чьим величием
они не перестают овосхищаться, чью мудрость они постоянно восхваляют,
*) Следует иметь в виду, что этот отрывок (так же, как и отрывок из Гельвеция)
написан во второй половине восемнадцатого века и что ав,т,0!р ее —■ видный
«просветитель» того времени — сыграл большую роль в идеологической подготовке Великой
французской революции, принадлежа к левому крылу революционной буржуазии. —
Прим. ред.
278
чью доброту они прославляют, пред чьим правосудием они трепещут,
чьи предписания они благоговейно воспринимают, но никогда не
исполняют.
Эта империя — вселенная; этот монарх — бог; его министры —
священники; его подданные — люди.
* *
Существование бога служит основанием всякой религии. Мало
людей сомневается, повидимому, в его существовании; но этот основной
символ веры как раз больше всего способен остановить всякий
мыслящий ум. Предпосылка всякого катехизиса всегда была и всегда будет
наиболее 'недоступна пониманию.
Можно ли заявлять себя искренне убежденным в бытии существа,
природа которого неизвестна, которое остается недоступным всем
чувствам, и о котором непрестанно утверждают, что его свойства
недоступны нашему пониманию? Для того, чтобы меня убедили в бытии
или возможности бытия какого-либо существа, нужно мне, прежде всего,
сказать, что представляет собой это существо; чтобы побудить меня
поверить в бытие или в возможность бытия такого существа, нужно мне
сказать о нем вещи, которые не противоречили бы друг другу и друт
друга взаимно не отрицали; наконец, чтобы меня вполне убедить в бытии
этого существа, нужно мне сказать нечто, что я был бы в состоянии
понимать, и доказать мне, что невозможно, чтобы существо, которому
приписываются эти свойства, не было.
Вещь невозможна, когда она включает в себе два взаимно друг друга
отрицающих понятия, которых невозможно ни осмыслить, ни объединить
в мысли. Для человека очевидность может покоиться лишь на
постоянном свидетельстве наших чувств, которые одни лишь порождают в нас
представления и дают нам возможность судить об их соответствии или
несоответствии. Необходимо существующее есть то, несуществование
чего включало бы в себе противоречие. Этих принципов, признанных
всеми, мы совершенно не находим, как только речь заходит о
существовании бога; все, что до сих пор говорилось об этом, либо недоступно
нашему пониманию, либо в корне противоречиво, и именно поэтому должно
представляться невозможным всякому здравомыслящему человеку.
Все человеческие познания более или менее прояснились и
усовершенствовались. По какому фатуму познание бота никогда не могло
проясниться? Самые цивилизованные народы и самые глубокие
мыслители находятся в этом отношении в том же положении, в каком находятся
самые дикие народности и самые невежественные поселяне; больше того,
при более близком рассметронии мы увидим, что наши познания о боге
все более и более затемнялись грезами и хитросплетениями. До сих пор
всякая религия покоится лишь на том, что в логике называется
предположениями, требующими доказательств (petitio principii); она строит
предположения, не обосновывая их, и затем аргументирует построенными
таким образом предположениями.
Путем метафизических нагромождений пришли к тому, что
превратили бога просто в духа. Но сделала ли этим современная теология
хотя бы один шат вперед, по сравнению с теологией дикарей? Дикари
считают великого духа властелином вселенной. Дикари, подобно всем
невеждам, приписывают духам все явления, причины которых они не
в состоянии постигать за отсутствием знаний. Опросите у дикаря, что
обусловливает ход ваших часов? Он ответит вам: дух* Спросите у на-
27&
ших ученых теологов, что обусловливает жизнь вселенной? Они ответят
вам: дух.
Когда дикарь говорит о духе, он, по крайней мере, придает
некоторый смысл этому слову; он разумеет под ним силу, подобную ветру,
движению воздуха, дуновению, незаметно вызывающую видимые явления.
Нагромождая свои тонкие хитросплетения, современный теолог
становится столь же непонятным для себя, как и для других. Спросите его,
что он разумеет под словом дух? Он вам ответит, что это неизвестное
существо, что оно совершенно простое, не имеет измерения, не имеет
ничего общего с материей. Ну, скажите, пожалуйста, может ли кто-нибудь
составить себе хотя бы малейшее представление о подобном существе?
Разве дух на языке современной теологии означает что-либо другое, как
не отсутствие всякого понятия? Понятие бестелесноста есть только
понятие, ничего не выражающее.
Не более ли естественно и не более ли удобопонятно выводить все
существующее из недр материи, существование которой доказано всеми
нашими чувствами, влияние которой мы испытываем непрестанно,
которую мы постоянно видим действующею, движущеюся, сообщающею
движение и рождающею, — чем приписывать образование вещей неведомой
силе, бестелесному существу, которое не может извлечь из своих недр
ничего такого, чего оно само не имеет, и которое, в виду бестелесной
сущности, приписываемой ему, неспособно сделать что-либо или пустить
что-либо в движение? Слишком очевидно, что понятие, которое
стараются нам внушить о действии духа на материю, не дает нам никакого
представления — является понятием ничего не отражающим.
Материальный Юпитер древних мог двигать, создавать, разрушать
и порождать подобные себе самому существа, но бог современной
теологии есть существо бесплотное. По предполагаемой его природе, он не
может ни занимать какое-либо место в пространстве, ни приводить в
движение материю, ни создавать что-либо видимое, ни порождать людей или
богов. Метафизический бог — это безрукий рабочий; он способен только
порождать туманности, вымыслы, безумия и распри.
Если уж 'нужен был людям бог, почему не остановились они на
солнце, этом видимом боге, которому поклонялось столько народностей?
Какая сила имела больше прав на поклонение смертных, чем дневное
светило, которое светит, греет, оживляет столько существ, присутствие
которого побуждает и омолаживает природу, отсутствие которого как бы
погружает ее в печаль и тоску! Если какая-либо сила возвещала роду
человеческому власть, деятельность, благодеяние, продолжительность
существования, то это, несомненно, было солнце, которое он должен был
считать отцом природы, душой мира, божеством. По крайней мере,
нельзя было бы, не будучи сумасшедшим, оспаривать его существование
или отказываться признать его влияние или его благодеяния.
Теолог восклицает, что бог не имеет надобности в руках, чтобы
действовать, что он действует своей волей. Но кто этот бог, у которого
есть воля? И каков может быть предмет божественного хотения?
Смехотворнее разве или труднее верить в фей, в сильфов, в
привидения, в колдунов, в оборотней, чем верить в магическое или
невозможное действие какого-то духа на тело? Стоит допустить возможность
подобно бога, как не будет больше сказок и вымыслов,, способных
возмущать своей нелепостью. Теологи обращаются с людьми точно с
ребятами, которые никогда не задаются вопросами о вероятности
рассказываемых им сказок.
2&0
Чтобы расшатать веру в существование бога, достаточно попросить,
теолога рассказать о нем. Как только он что-нибудь скажет, малейшее
размышление показывает нам, что сказанное им несовместимо с
сущностью, приписываемой им своему богу. Что же такое бот? — Это
отвлеченное слово для обозначения скрытой силы природы, либо же
это — математическая точка, которая не имеет ни длины, ни ширины, ни
глубины. Один философ (Давид Юм) очень остроумно выразился,
говоря о теологах, что они разрешили знаменитую задачу Архимеда: нашли
точку в небе, откуда они двигают миром.
Религия заставляет людей поклоняться существу, которое не имеет
измерения и, однако, наполняет все всей своей безмерностью; существу
всемогущему, которое никогда не исполняет того, чего желает; существу
бесконечно доброму, которым, однако, все недовольны; -существу,
любящему порядок, но в царстве которого все находится в беспорядке.
И после этого пусть догадываются что же представляет собою бог
теологии?
Дабы избавиться от всяких затруднений, нам говорят, что «отнюдь
не необходимо знать, что такое бог, что нужно поклоняться ему, не зная
его, что нам не дозволяется направлять дерзостный взор на его свойства».
Но раньше, чем решить нужно ли поклоняться боту, не следовало ли бы
удостовериться в том, что он существует? Однако, каким путем можно
удостовериться в том, что он существует, прежде чем будет рассмотрен
вопрос о том, могут ли в нем совмещаться разнообразные свойства,
приписываемые ему? Поистине, поклоняться богу — значит лишь
поклоняться фикции своего собственного измышления, вернее, значит —
ничему не поклоняться.
Именно для того, конечйо, чтобы больше запутать вопрос, теологи
решили не говорить о том, что представляет собою их бог; они всегда
говорят нам только о том, чего нет. Нагромождая отрицания на отвле-
ченностях, они воображают, что создают реальное и совершенное
существо, между тем как таким путем может получиться только существо
вымышленное. Дух — это то, что не тело; существо — бесконечное — это
существо, которое не конечно; существо совершенное — это существо,
которое не совершенно. Окажите же, пожалуйста, найдется ли хоть один
человек, который был бы в состоянии составить себе реальное
представление о подобном нагромождении отрицаний или отсутствия
представлений? А то, что исключает всякое представление, может ли быть чем-либо
другим, как не пустотой?
Утверждать, что божественные свойства превышают оилы
человеческого разумения, значит соглашаться с. тем, что бог — не для людей.
Когда уверяют, что в боте вое бесконечно, то тем самым признают, что не
может быть ничего общего между ним и его созданиями. Говорить, что
бог бесконечен, значит уничтожить его для человека или, по крайней
мере, сделать его для человека совершенно бесполезным.
«Бог», скажут нам, «сотворил человека разумным, но не сотворил
его всепостигающим, т.-е. способным все познать». От этого
умозаключают, что он не был в состоянии дать достаточно обширные способности,
чтобы познать божественную сущность. В таком случае доказано, что
бог не мог и не хотел быть познанным людьми. По какому же праъу этот
бог станет гневаться на создания, которых их собственная сущность
ставит в невозможность составить себе какое-либо представление о
божественной сущности! Бот был бы, очевидно, самым несправедливым и
самым странным из тиранов, если бы он наказывал атеиста за то, что
281
он не познал того, что он, по своей природе, находился в невозможности
познать.
Ничто не делает аргумент более убедительным для простых людей,
чем страх. Следуя этому принципу, теологи нам говорят, что нужно
избрать наиболее верный путь, что ничто не является более преступным,
чем безверие, что бог безжалостно накажет всех, которые дерзостно
сомневаются в его существовании, что строгость его справедливая, ибо
лишь безумие и развращенность могут заставить отрицать существование
разгневанного монарха, который жестоко расправится с атеистами. Если
мы хладнокровно рассмотрим эти утрозы, мы найдем, что они неизменно
исходят из того, что именно является спорным. Нужно было бы начать,
как раз с того, чтобы удовлетворительным образом доказать
существование бота прежде, чем нам говорить, что более безопасно верить в это
существование и что ужасно сомневаться в нем или его отрицать. Засим
нужно было бы нам доказать, что возможно, чтобы справедливый бог
жестоко наказывал людей за то, что они находились в состоянии
сумасшествия, мешавшего им верить в существование бога, которого их
помутившийся ум не был в состоянии познать. Оловом, нужно было бы
доказать, что бог, о справедливости которого так много говорят, может
сверх всякой меры наказывать за непреоборимое и неизбежное неведение
людей в отношении божественной сущности. И самый метод
рассуждения теологов разве не особенно, своеобразен? Они измышляют призраки,
целиком построенные ими из противоречий, а затем уверяют, что самый
верный путь —■ это не сомневаться в существовании призраков, ими же
вымышленных! Если принять этот метод, не будет такого абсурда, в
который не было бы более безопасно верить, нежели не верить.
Все дети — атеисты: они не имеют никакого представления о боге.
Что же, преступны они в виду этого неведения? В каком возрасте
начинают они быть обязанными верить в бога? Вы скажете, что в возрасте,
когда созревает ум. В таком случае, с какого именно года должна
считаться эта зрелость? .. Впрочем, если самые образованные теологи
теряются в определении божественной сущности, на понимание которой они
даже не претендуют, то какое представление могут о ней иметь светские
люди, женщины, ремесленники, словом те, что составляют главную массу
рода человеческого?
Люди верят в бога только потому, что они полагаются на уверения
других людей, имеющих о нем не большее представление, чем они сами.
Наши кормилицы являются нашими первыми преподавательницами
теологии; они говорят детям о боге, как говорят им об оборотнях: они с самой
ранней поры научают детей складывать вместе обе ручки. Что же, мамки
имеют более ясное представление о боге, чем дети, которых они
принуждают молиться?
Религия передается от отцов к детям, как семейное достояние,
с обязательствами, на нем лежащими. Весьма немногие люди имели бы
бога, если бы не позаботились его им дать. Каждый получает от своих
родителей и наставников того бога, которого они в свое время получили
от их родителей и наставников. Но каждый сообразно своему характеру
отделывает, изменяет, разрисовывает его по-своему.
Мозт человека, особенно в детстве, представляет собой мягкий воск,
способный воспринимать все влечатления, которые ему желают внушить,
воспитание дает ему почти все его воззрения в такую пору, когда он еще
не в состоянии самостоятельно судить. Мы считаем, что получили от
природы или от рождения истинные или лажные воззрения, которые
282
в действительности вселили в нашу голову в самую нежную пору детства,
и это убеждение — один из самых обильных источников наших
заблуждений.
Предрассудок способствует укреплению в нас воззрений тех, которые
руководили нашим воспитанием. Мы считаем их более нас способными;
мы полагаем, что они глубоко убеждены в истине того, чему они нас
обучают. Мы питаем к ним глубочайшее доверие. Судя по тем заботам,
которыми они окружали нас, когда мы еще не были в состоянии
обходиться без помощи окружающих, мы считаем их неспособными желать
нас обманывать. Вот почему мы воспринимаем тысячи заблуждений,
полагаюсь только на внушительное слово наших наставников. Даже
запрещение рассуждать о том, что они нам говорят, не ослабляет
нашего доверия, а часто даже способствует углублению нашего уважения
к их воззрениям.
Наставники рода человеческого ведут себя весьма
предусмотрительно, преподавая людям свое религиозное учение в том возрасте, когда
они еще не в состоянии отличать истину от лжи или левую руку от
правой. Столь же трудно было бы заставить ум сорокалетнего человека
усвоить те противоречивые понятия, которые нам преподносятся о
божестве, как и вытеснить эти понятия из головы человека, 'пропитанного ими
с самого раннего детства.
Нас уверяют, что одних чудес природы достаточно, чтобы привести
нас к вере в бога и всецело убедить нас в этой важной истине. Но
сколько насчитывается на свете людей, которые имели бы необходимый
досуг, способности и склонности наблюдать природу и размышлять об ее
жизни? Люди в большинстве своем не обращают на нее никакого
внимания. Крестьянин отнюдь не восторгается красотой солнца, которое он
видит повседневно. Матрос нисколько не удивляется правильности
приливов и отливов океана, и никаких теологических наведений он из нее не
извлечет. Явления природы доказывают существование бога только
в глазах некоторых предубежденных людей, которым еще ранее
указывали на перст божий во всех явлениях, причины которых им непонятны.
В явлениях природы физик без предрассудков видит лишь силу природы,
лишь постоянные и разнообразные законы, лишь необходимое действие
различных соединений бесконечно изменяющейся материи.
Можно ли указать что-либо более поразительное, чем логика
стольких глубоких ученых, которые, вместо того, чтобы признаться в своем
слабом знакомстве с естесетвеннымц силами, начинают искать вне
природы, т.-е. в области вымыслов, еще более неведомую силу, чем природа,
о которой они могут, по крайней мере, составить себе некоторое понятие?
Сказать, что бог есть творец явлений, наблюдаемых нами, не значит разве
приписывать их какой-то таинственной силе? Что такое бог? Что такое
дух? Это причины, о которых мы не имеем ни малейшего представления.
Ученые! изучайте природу и ее законы, и когда вы сможете раскрыть
в них действие естественных причин, (не обращайтесь к причинам
сверхъестественным, которые не только не разъяснят вам ваших
предположений, но все больше и больше запутают их и поставят вас в
невозможность самих себя понимать.
Природа, говорите вы, совершенно необъяснима, если не допустить
существования бога. Другими словами, для того, чтобы объяснить то, что
вы слабо понимаете, вам надобна причина, которую вы совершенно не
понимаете. Вы предлагаете разъяснить то, что темно, усиливая темноту;
вы собираетесь развязать узел, умножая количество узлов. Физики, вы,
2 S3
что с таким энтузиазмом стараетесь доказать нам существование бога,
переписывайте полные трактаты по ботанике, изучайте подробно части
человеческого тела, устремитесь в высь, чтобы наблюдать движение
светил, спуститесь затем снова на землю, чтобы восторгаться течением вод,
приходите в экстаз перед бабочками, насекомыми, полипами
организованными атомами, в которых вы полагаете видеть величие вашего бога.
И все это отнюдь не будет доказывать существование этого бога: это
покажет лишь, что вы не имеете тех познаний, какие вы должны были бы
иметь об огромном разнообразии материи и о действии бесконечно
разнообразных соединений материи, составляющих вселенную. Это
покажет лишь, что вы не знаете, что представляет -собой природа, что вы не
имеете никакого представления об ее (Зилах, раз вы считаете ее способной
производить массу форм и созданий, из которых ваши глаза, даже
вооруженные микроскопом, видят всего лишь малейшую часть. Это покажет,
наконец, что, не познав еще сил, поддающихся, однако, познанию, вы
считаете более легким прибегать к слову, под коим вы обеспечиваете
силу, о которой вы никогда не сможете составить себе какого-нибудь
действительного представления.
Нам серьезно докладывают, что нет следствия, без причины; нам
повторяют на каждом шагу, что мир не сотворил себя сам. Но
вселенная — причина, а не следствие; она не является чьим-либо творением;
она не была сотворена, цбо ее невозможно было сотворить. Мир всегда
был; его существование необходимо. Он является своей собственной
причиной. Природа, сущность которой, очевидно, состоит в том, чтобы
действовать и производить, не нуждается в невидимом двигателе, более
невидимом к тому же, чем она сама, ^тобы выполнить свои функции,
как она выполняет их на наших глазах. Материя движется своей
собственной энергией, которая является естественным следствием ее
разнородности; одно лишь различие движений и способа действия составляет
различие материи. Мы отличаем.одни вещи от других лишь по
различию впечатлений и движений, сообщаемых ими нашим органам.
Вы видите, что все находится в действии в природе, а вы
утверждаете, что природа сама по себе мертва и лишена энергии! Вы полагаете,
что это с такой силой и непрерывностью действующее целое нуждается
в двигателе! И этот двигатель—дух, т.-е. вещь, совершенно непостижимая
и внутренне-противоречивая. Согласитесь же, говорю вам, что материя
действует сама по себе, и бросьте рассуждения о вашем бестелесном
двигателе, не обладающем ничем из того, что требуется, чтобы пустить ее
в действие. Бросьте ваши бесполезные экскурсии; вернитесь из мира
вымыслов в мир реальный. Держитесь твердо вторичных причин и
предоставьте теологам их первопричину, в которой природа вовсе не
нуждается, чтобы проявлять все наблюдаемые вами действия.
Только по различию впечатлений и действий, какие материя или
тела на нас производят, мы их ощущаем, составляем себе о них понятия
и представления, отличаем их одни от других, определяем их свойства.
Но для того, чтобы мы могли усмотреть или ощутить какую-либо вещь,
нужно, чтобы эта вещь воздействовала на наши органы; вещь эта не
может воздействовать на нас, не вызывая в нас какого-либо движения;
она не может вызвать этого движения, не находясь сама в движении. Для
того, чтобы я увидел предмет, нужно, чтобы мои глаза были им задеты;
я не могу почувствовать света и зрения без соответствующего движения
в светящем теле какого-либо размера, какой-либо окраски, движения,
сообщающегося моему глазу или воздействующего на мою сетчатую обо-
284
лочку. Для того, чтобы я мог обонять предмет, нужно, чтобы мое
обоняние было возбуждено или приведено в движение выделяющимися из
благоухающего предмета частицами. Чтобы я услышал звук, нужно, чтобы
барабанная перепонка в моем ухе получила воздействие воздушной
волны, приведенной в движение звучащим телом, которое не звучало бы
эсли бы само не находилось в движении. Из этого с очевидностью
явствует, что без соответствующего движения я не могу ни ощущать,
ни замечать, ни отличать, ни сравнивать, ни определять предметы,
ни даже останавливаться мыслью на какой-либо материи.
В школе нас учат, что сущностью вещи является то, из чего
вытекают все свойства вещи. Но очевидно, что все свойства тел и материи,
о которых мы имеем представление, обусловливаются движением,
которое одно только и сообщает нам об их существовании и дает нам первые
ощущения их. Я моту получить сознание или уверенность в своем
собственном существовании только по движениям, которые я ощущаю в себе
самом. Я по необходимости прихожу, следовательно, к заключению, что
движение столь же существенно для материи, как и объем, и что вне
движения она не может быть познана.
Если же после этого все же будут возражать против очевидности
доказательств, что движение является существенным свойством всякой
материи, то, по крайней мере, невозможно не признать, что различные
материи, казавшиеся мертвыми или лишенными всякой энергии,
самопроизвольно приходят в движение, как только их ставят в условия, когда
они могут воздействовать друг на друга. Пирофор, который, будучи
закупорен в бутылку или лишен другим способом соприкосновения с
воздухом, не зажигается, — разве не воспламеняется, как только его выносят
на воздух? Мука и вода разве не приходят в состояние брожения, как
только их смешивают друг с другом? Таким образом, мертвые материи
самопроизвольно зарождают движение. Материя обладает,
следовательно, способностью двигаться, и природа для того, чтобы действовать,
не имеет нужды в двигателе, который, по приписываемой ему сущности,
к тому же ничего не в состоянии делать.
Откуда явился человек? Каково его первоначальное
происхождение? Является ли он в самом деле следствием случайного сцепления
атомов? Вышел ли первый человек совершенно сформированным из
праха земного? Я этого не знаю. Человек представляется мне таким же
созданием природы, как все другие создания, которые она в себе
включает. Мне столь же затруднительно было бы поведать вам, откуда
явились первые камни, первые деревья, первые львы, первые слоны, первые
муравьи, первые жолуди и проч., как и объяснить вам происхождние
человеческого вида*).
Признайте, беспрестанно твердят нам, перст божий, перст
бесконечно разумного и всемогущего творца в столь чудесном творении, как
машина человеческая. Охотно соглашаюсь, что человеческая машина
действительно изумительна. Но так как человек, существует в природе,
я не считаю себя в праве говорить, что это построение превышает силы
природы, но, прибавлю я при этом, гораздо меньше пойму я происхожде-
1) В>о времена Гольбаха (вторая половина XVIII от.) 'еще не имели явного
представления об эволюции природы и о качественных 'Превращениях вещества.
Материализм Гольбаха — механический, а не последовательно-эволюционный не
исторический, вообще не диалектический, и в этом tero слабая сторона: в ряде пунктов этот
материализм устарел, не согласуется с материализмом новейшего времени —
материализмом Маркса, Энгельса. Плеханова и Ленина. — Прим. ред.
285
ние человеческой машины^ когда мне скажут, что какой-то дух, не
имеющий ни глазг ни ног, ни рук, ни головы, ни легких, ни рта, ни дахания,
создал человека, взяв комок грязи и подунув на него.
Дикари Парагвая говорят, что их предки сошли с луны. И они вам
кажутся поэтому глупцами. Теологи Европы утверждают, что они вышли
из какого-то духа. На много ли разумнее такое утверждение?
Человек разумен, — из этого заключают, что он может быть
созданием только разумного существа, а не лишенной разума природы. Хотя
человек' крайне редко использует разум, которым он, невидимому, столь
гордится, я, однако, соглашусь, что он разумен, что его потребности
развивают в нем эту способность, что общество других людей особенно
способствует ее культивированию. Но в человеческой машине и в разуме,
которым она одарена, я не вижу ничего такого, что бы определенно
свидетельствовало о бесконечном разуме творца, которому приписывается
честь ее создания. Я вижу, что эта удивительная машина подвержена
перебоям и порче, вижу, что в таких случаях ее разум мутится, а иногда
и совсем гаснет, — и я из этого заключаю, что человеческий разум
зависит от определенного расположения материальных органов тела и что
из того, что человек есть существо разумное, мы не в праве заключать,
что бог должен быть разумным существом, точно так же, как из того, что
человек материален, мы не в праве заключать, что бог материален. Разум
человека не больше доказывает разум бога, чем пронырливость человека
не доказывает пронырливости бога, произведением которого якобы
является человек. С какой бы стороны теология ни подходила к нему,
бог всегда будет оказываться причиной, которой ^противоречат ее
последствия. И мы постоянно будем свидетелями твго, сколько зла,
несовершенств, безумия вытекает из причины, о которой говорят, что она всегда
состоит из доброты, совершенств, разума.
Итак, скажем мы, разумный человек точно так же, как и вселенная
и все, что она в себе включает, являются следствием случайности? Нет,
повторяю я вам, вселенная не есть следствие: она причина всех
следствий. Все создания, которые она в себе включает, являются
необходимым следствием этой причины, которая иногда обнаруживает перед нами
механизм своего действия, но гораздо чаще этот последний ускользает от
нашего внимания. Люди прибегают к слову «случайность», чтобы скрыть
свое неведение действительных причин, но, тем не менее, хотя они их и не
знают, причины эти все же действуют по определенным законам. Не
может быть следствия без причины.
Словом «природа» мы обозначаем огромную совокупность существ,
материй различного вида, их бесконечных соединений, разнообразных
движений, протекающих на наших глазах. Все тела, как органические,
так и неорганические, являются необходимым следствием определенных
причин, с необходимостью порождающих наблюдаемые следствия. Ничто
в природе не может происходить случайно: все следует в ней твердым
законам, и эти законы являются лишь необходимой связью определенных
следствий с их причинами. Один атом материи не случайно встречает
другой атом: эта встреча обусловливается постоянными законами, по
которым каждое существо неизбежно действует так, как оно действует,
и не может действовать иначе в данных условиях. Поэтому говорить
о случайном сцеплении атомов или приписывать некоторые следствия
случайности, — значит ничего не сказать, кроме того, что неизвестны
законы, по которым тела действуют, встречаются, соединяются или
разъединяются.
286
Все происходит случайно для тех, кто не знает природы, свойств
вещей и соединений, которые неизбежно должны вытекать из действия
определенных причин. Не случайность поставила солнце в центре нашей
мировой системы: оно находится в центре потому, что по существу своему
вещество, из которого оно состоит, должно занимать это место и
распространяться оттуда, чтобы давать жизнь созданиям, находящимся на
планетах.
Поклонники бога именно в мировом порядке видят
неопровержимое доказательство существования разумного и мудрого существа,
управляющего им. Однако, этот порядок представляет собой лишь цепь
движений, необходимо обусловливаемых причинами или обстоятельствами,
то благоприятными, то гибельными для нас; мы радуемся одним и
жалуемся на другие.
Природа постоянно проделывает один и тот же путь. Другими
словами, одни и те же причины вызывают одни и те же следствия до тех
пор, пока их действие не нарушается другими причинами, приводящими
к тому? что первые причины вызывают уже другие последствия. Когда
действие или движение причин, следствия которых мы на себе постоянно'
испытываем, нарушаются другими причинами,-хотя и неизвестными нам,
но тем не менее, естественными и необходимыми, мы поражаемся, кричим
о чуде и приписываем их причине, гораздо менее известной нам, чем все
те, которые действуют на наших глазах.
Мир всегда находится в состоянии порядка; беспорядок в нем
невозможен. Только наша собственная машина дает перебои, когда мы
жалуемся на беспорядок. Тела, причины, вещи, которые включают в себе
мир, с необходимостью действуют так, как они действуют, благоприятно
ли для нас их действие или неблагоприятно. Землетрясения,
вулканические извержения, наводнения, заразные болезни, неурожаи, являются
следствиями, столь же необходимыми или в такой же степени входящими
в порядок природы, как падение тяжелых тел, течение рек, периодические
передвижения морей, дуновения ветров, оплодотворяющие дожди и все
благоприятные явления, за которые мы славим провидение и благодарим
его за его благодеяния.
Поражаться определенным порядком, господствующим в мире,
значит удивляться тому, что одни и те же причины постоянно вызывают
одни и те же следствия. Смущаться беспорядком, значит забывать, что
с изменением причин или с нарушением их обычного действия не могут
не измениться и следствия. Удивляться при виде порядка в природе —
значит удивляться тому, что, вообще, что-либо может существовать,
значит удивляться своему собственному существованию. То, что
является порядком для одного создания, является беспорядком для
другого'. Все зловредные создания находят, что все в порядке, когда они
могут безнаказанно все приводить в беспорядок; они считают, наоборот,
что все в беспорядке, когда им мешают в их зловредной деятельности.
Если допустить, что бог является творцом и двигателем природы,
то по отношению к нему самому никакой беспорядок был бы невозможен,
ибо все причины, им созданные, не действовали ли бы разве с
необходимостью, согласно полученным от него свойствам, сущности и
воздействиям? Если бы бог изменил обычный ход вещей, он не был бы
непреложным. Если бы мировой порядок, в котором хотят видеть наиболее
убедительное доказательство его существования, его разума,
могущества и доброты, был нарушен, можно было бы подвергнуть сомнению
его существование или, по меньшей мере, обвинять его в непоотоян-
287
стве, в бессилии, в недостатке предвидения и осторожности при
создании мира; можно было бы обвинять его в неумелом выборе сил
и орудий, которые он создает, приготовляет и пускает в ход. Наконец,
если бы порядок свидетельствовал о мощи и разуме, то беспорядок
должен был бы свидетельствовать о немощи, непостоянстве, неразумии
божества.
Вы говорите, что бог вездесущ, что он все наполняет своей
безмерностью;-что ничего не 'совершается без него; что материя не обладала бы
действенностью, если бы он не приводил ее в движение. Но в таком
случае вы допускаете, что ваш бог является творцом беспорядка; что это
он нарушает обычный путь природы; что он создатель всякого
замешательства; что он в человеке, что он направляет человека в его грехах.
Если бог вездесущ, следовательно, он во мне; он ошибается вместе со
мной; он богохульствует вместе со мной; он вместе со мной оспаривает
-существование бога. О, теологи, вы никогда не следите за собой, когда
вы говорите о боге!
Чтобы быть тем, что мы называем разумным, нужно иметь
представления, мысли, стремления; чтобы иметь представления, мысли,
стремления, нужно иметь органы чувств; чтобы иметь органы чувств,
нужно иметь тело; чтобы воздействовать на тела, нужно иметь тело;
чтобы ощутить беспорядок, нужно обладать способностью страдать.
Из всего этого следует с очевидностью, что дух не может быть разумным
и не может огорчаться тем, что совершается во вселенной.
Божественный разум, божественные понятия, божественные виды
не имеют, говорите вы, ничето общего с людскими. Очень хорошо. Но
в таком случае, как люди мотут-судить — в хорошую или дурную
сторону— об этих видах, рассуждать об этих понятиях, восторгаться этим
разумом? Это значило бы судить, восторгаться, поклоняться тому,
о чем сам не можешь иметь никакого понятия. Поклоняться глубоким
видам божественной мудрости разве не значит поклоняться тому, о чем
не в состоянии судить? Удивляться этим же видам не значит ли
удивляться, не зная почему? Удивление всегда порождается неведением.
Люди удивляются и обожествляют только то, чего они не понимают.
Все эти качества, приписываемые богу, не могут ни в малейшей
мере подходить к существу, которое, по самой сущности своей, лишено
всякого подобия существа человеческого вида. Правда, из этого
затруднения пытаются выбраться тем, что божество разукрашивают сильно
преувеличенными свойствами человека; их преувеличивают до
бесконечности, и тогда перестают что-либо понимать. Что получается из этого
соединения человека с богом, или от этого богочеловека? Из этого
получается только призрак воображения, о котором нельзя сказать ничего
такого, что бы тотчас же не повлекло за собой испарение призрака,
с таким трудом вымышленного.
Данте в своей поэме о рае рассказывает, что божество предстало
пред ним под видом трех окружностей, образовавших радугу, яркие
цвета которой выходили один из другого. Когда же поэт захотел
всмотреться в ее ослепительный свет, он увидел лишь самого себя.
Поклоняясь богу, человек поклоняется самому себе.
Разве надобно долго размышлять, чтобы убедиться, что бот не
может обладать никакими свойствами, добродетелями и достоинствами
человека? Наши добродетели и наши достоинства являются следствием
наших различных темпераментов. А бог разве тоже имеет темперамент,
как мы? Наши достоинства одределяются нашим отношением к людям,
•288
«с которыми мы вместе живем в обществе. Бог, как вы говорите, одинок;
бог не имеет себе подобного; бог не нуждается ни в ком; он наслаждается
блаженством, которого ничто не может помрачить. Согласитесь же, что,
по вашему собственному учению, бог не может иметь того, что мы
называем добродетелями, и что люди не могут быть добродетельны по
отношению к нему.
Человек, возвеличивая свое значение, воображает, что при
создании мира род человеческий был задачей и целью его бота. На чем
основывает он это столь лестное мнение? На том, говорят нам, что человек
является единственным существом, одаренным разумом, который
ставит его в возможность познать бога и почитать его достойным его
образом. Нас уверяют, что бот создал мир лишь для своей собственной славы,
и род человеческий должен был быть включен в его план, дабы был кто-
нибудь, кто восхищался бы его творением и славил бы его. Но если та-
тшвы были намерения бога, то он, очевидно, не достиг цели. 1) Человек,
но вашему же собственному мнению, всегда будет находиться в полной
невозможности познать своего бога и в непреоборимом неведении его
божественной сущности. 2) Существо, не имеющее равных себе, может
быть достойно славы, но слава может вытекать лишь из сравнения своих
собственных дарований с дарованиями других. 3) Если бог сам по себе
счастлив, если он не нуждается в других, зачем надобно ему
поклонение его слабых созданий? 4) Богу, несмотря на все его труды, не
воздают славы; наоборот, все религии мира представляют нам его вечно
хулимым, и задачей всех религий является только примирение грешного,
неблагодарного и мятежного человека с его гневающимся богом.
Если бог бесконечен, ему еще меньше дела до человека, чем
человеку до муравьев. Муравьи, копающдеся в саду, стали бы разве
дерзостно рассуждать о садовнике, если бы вдруг заинтересовались его
намерениями, желаниями, планами? Соответствовало ли бы это истине,
«если бы они стали претендовать на то, что версальский парк посажен
только для них, и что добрый тщеславный монарх имел единственной
целью при его посадке предоставить им роскошное помещение?
А между тем, согласно теологии, человек по отношению к богу гораздо
ниже того, чем является самое ничтожное насекомое по отношению
к, человеку. Итак, по признанию самой теологии, занимающаяся только
свойствами и видами божества теология представляет собою полнейшее
безумие.
Говорят, что бог, создавая мир, не имел другой цели, кроме той,
чтобы сделать человека счастливым. Но действительно ли счастлив
человек в мире, для него одного только созданном и управляемом
всемогущим богом? Длительны ли его радости? Разве не примешиваются
е, ним постоянно страдания? Разве много людей, которые были бы
довольны своей участью Разве род человеческий не является
постоянной жертвой физических и моральных немощей? Разве наша
человеческая машина, которую нам расписывают, как шедевр искусства его
творца, не подвержена порче на каждом шагу? Разве стали бы
восторгаться ловкостью механика, который представил бы нам сложную
машину, способную перестать работать в каждую данную минуту и через
некоторое время самое от себя окончательно разрушающуюся?
Провидением называют благое попечение, проявляемое божеством,
которое помогает своим дорогим созданиям в нужде и печется об их
благополучии. Но стоит только открыть глаза, чтобы убедиться в том,
что бог ни о чем не печется. Провидение ничем не проявляет своей
Г. Гурез 19
289
благости по отношению к наиболее многочисленной части обитателей
нашего мира. В сравнении с ничтожным числом, которых предполагают
счастливыми, какая огромная масса несчастных стонет под гнетом и
гибнет в нищете!
Разве не вынуждены целые народы отказывать себе в хлебе
насущном, чтобы быть в состоянии удовлетворять прихотям каких-нибудь
мрачных тиранов, которые и сами не более счастливы, чем угнетаемые
ими рабы? Разве мы не видим, как наши ученые, — те самые ученые^
которые с жаром расписывают нам благость провидения, которые
убеждают нас возложить на него наши упования, — по случаю
непредвиденной катастрофы вопят о том, что провидение насмехается, над
суетными предначертаниями людей, что оно расстраивает их планы, что оно
смеется над их усилиями, что его глубокой мудрости нравится обивать
с толку умы смертных? Но как можно довериться злому провидению,
которое насмехается над человеческим родом? Каким образом требуют
от меня, чтобы я восторгался неисповедимыми путями скрытой мудрости,
чей образ действия необъясним для меня? Судите о ней по ее действиям,
окажете вы. Я и сужу о ней по этим действиям, и нахожу, что эти
действия для меня иногда полезны, а иногда вредны.
Утверждают в оправдание провидения, что сумма благ,
существующих в этом мире для всякого человеческого индивидуума, превышает
количество испытанного им зла. Допустим, что это так, и предположим,-
что сумма благ, которыми провидение нас наделяет, составляет сто,
количество же испытываемого нами в жизни зла равно десяти. Не
вытекает ли из этого допущения, что и на сто степеней доброты провидению
присущи десять степеней злости? Но это, ведь, несовместимо с тем
совершенством, которое у него предполагают.
Все книги полны льстивейших похвал по адресу провидения,
прославляя его внимательную заботливость о нас. Может казаться, что для
тото, чтобы жить счастливо здесь, на земле, человек не должен
употреблять никаких усилий с своей стороны. Однако, без затраты труда
человек едва ли мог бы прожить хоть один день. Я вижу, что для того,
чтобы жить, человек вынужден трудиться в поте лица: пахать, охотиться,
рыболовствовать, — беспрестанно работать. Без этих усилий со стороны
самого человека забота провидения не была бы в состоянии
удовлетворить ни одной его потребности. Окидывая взором все части нашего
земного шара, я вижу и дикаря и цивилизованного человека в
непрестанной борьбе с провидением. Он вынужден парировать удары провидения,
обрушивающего на него ураганы, бури, морозы, град, наводнения и
разного рода напасти, которые так часто делают бесплодными все его труды.
Одним словом, я вижу, что человеческий род вынужден постоянно делать
усилия в целях самозащиты против злых проделок того провидения,
о котором утверждают, что оно неустанно печется о благе человека.
Один набожный человек прославлял мудрость божественного
промысла, заставившего протекать реки по всем тем местам, где люди
основали большие города. Способ рассуждения этого человека ничем
не уступает рассуждениям многих ученых, которые не перестают
говорить о конечных причинах или претендуют на то, что они ясно
постигли благодетельные цели, преследуемые богом в устроении
мирового порядка.
Наблюдаем ли мы, чтобы божественный промысел ясно сказывался
в сохранении тех замечательных произведений, которые ему
приписывают? Если провидение упр*авляет миром, то мы ввдим, что оно н^ мент
290
часто разрушает, чем создает, не менее часто истребляет, чем производят.
Разве оно не заставляет каждый момент гибнуть тысячами тех самых
людей, о сохранении и благополучии которых оно, как предполагают,
неизменно заботится?
Каждую минуту оно проявляет полное пренебрежение к своему
дорогому созданию. То оно расшатывает его жилище, то оно уничтожает
его неурожай, то оно затопляет ею поле, то оно обездоливает его
палящей засухой. Оно вооружает всю природу против человека, оно
вооружает самого человека против его собственного рода, оно заставляет его
в конце тоонцов умереть в муках. Можно ли это называть заботой о
сохранении мира?
Если мы присмотримся без предубеждения к двусмысленному
поведению провидения в отношении человеческого рода и всех одушевленных
существ, то мы найдем, что оно менее' всего похоже на нежную и
заботливую мать, а скорее похоже на тех извращенных матерей, которые
забывают немедленно о плодах своей похотливой любви и, довольствуясь
тем, что родили своих детей, бросают их сейчас же по рождении без
всякой защиты, на произвол судьбы.
Готтентоты являются в этом отношении более мудрыми, чем другие
нации, которые считают их варварами. Они, как говорят, отказываются
почитать бога, ибо, если on часто делает добро, то он часто делает и зло.
Разве это рассуждение не является более справедливым и более
соответствующим опыту, чем рассуждения столь многих людей, которые упорно
хотят видеть в своем боге только доброту, только мудрость и
благожелательное попечение, и которые отказываются видеть, что бесчисленные
бедствия, ареной которых является мир, должны исходить из тех же рук,
которые они с восторгом целуют?
Логика здравого смысла учит нас, что о причине можно судить
только по ее следствиям. Только та причина может почитаться
неизменно доброй, которая неизменно производит добрые, полезные, приятные
последствия. Причина, которая производит как добро, так и зло, бывает
то доброй, то злой. Но логика теологии все это опровергает. Согласно
ей, явления природы или следствия, которые мы наблюдаем в мире,
доказывают нам существование бесконечно благостной причины, и эта
причина есть бог. "Пусть мир полон зла, пусть слишком часто царит в нем
беспорядок, пусть люди в каждый момент стонут под давящим игом
судьбы, — мы, тем не менее, должны быть убеждены, что все эти
следствия исходят от благостной и неизменной причины, и многие люди
этому верят или делают вид, что верят этому.
Все, что происходит в мире, нам доказывает самым ясным образом,
что он не управляется разумным существом.
О разумности существа мы можем судить только по пригодности
средств, которые оно применяет для достижения поставленной себе цели.
Целью бога, говорят, является благополучие человеческого рода. Однако,
одна и та же необходимость управляет судьбой всех живых существ,-
которые рождаются только для того, чтобы испытать много горя, немного
радости и умереть. Кубок человеческой жизни наполнен радостью и
горечью; благо везде существует бок-о-бок со злом; порядок■ сменяется
беспорядком, процветание — гибелью. Если вы мне скажете, что замыслы
бога непостижимы, то я вам отвечу, что в таком случае я не могу судить
о том, является ли бог разумным существом, или нет.
Вы утверждаете, что бог неизменен. Но как объяснить в таком
случае вечную изменчивость этого мира, который вы считаете ему под-
19*
291
властным? Разве можно найти царство, подверженное более частым и
более жестоким революциям, чем царство этого незнакомого монарха?
Можно ли приписать неизменному богу, достаточно могущественному,
чтобы придать прочность своим творениям, власть над природой,
подверженной непрестанным изменениям? Если все явления,
благоприятные для человеческого рода, должны мне свидетельствовать о
неизменном боге, то о каком же боге должны говорить мне непрерывные бедствия,
угнетающие человеческий род? Вы мне говорите, что наши грехи
вынуждают бога наказывать нас. На это я вам отвечу, что вы сами
не считаете бота неизменным, так как вы сами утверждаете, что
грехи людей вынуждают его изменить ' его поведение по отношению
к ним. Может ли быть неизменным существо, которое то сердится, то
успокаивается?
Мир таков, каким он только может быть. Все живые существа тут
наслаждаются и страдают, т.-е. испытывают то приятные, то неприятные
ощущения. Эти следствия необходимы, они необходимо вытекают из
причин, которые действуют, повинуясь только своей природе. Эти
следствия ' мне необходимо нравятся или не нравятся в силу свойств моей
природы. Эта рамая природа меня 'заставляет избегать, устранять и
отражать одни из этих следствий и искать, желать и добиваться других
из них. В этом мире, где царствует абсолютная необходимость, бог,
ничего не исправляющий, не вмешивающийся в необходимый ход вещей,
есть не более, чем рок или олицетворенная необходимость, это глухой
бог, который ничего не может изменить в общих законах, которым он сам
подчинен. Что мне за дело до бесконечного могущества существа,
которое только очень мало хочет сделать для меня? Где бесконечная доброта
существа, индиферентного к моему благу? Что пользы для меня в
благоволении существа, которое, имея возможность доставить мне бесконечное
благо, не доставляет и конечного?
Когда мы спрашиваем, почему под управлением доброго бога имеется
столько несчастных, нам в утешение говорят, что земная жизнь есть
только переходная ступень к более счастливому миру. Нас уверяют, что
наша земная жизнь есть только временное испытание, и, наконец, нам
затыкают рот, говоря, что бог не мот сообщить своим творениям ни того
бесстрастия, ни того бесконечного блаженства, которые являются
уделом его одного. Можно ли считать эти ответы
удовлетворительными?
1. Идея загробной жизни имеет .единственной гарантией своей
реальности воображение людей. Делая такое предположение, люди
только реализуют свое желание пережить самих себя, чтобы
впоследствии наслаждаться более прочным и более чистым блаженством, чем
то, которое выпадает на их долю в этой жизни.
2. Можно ли себе представить, чтобы бог, который знает все, и
который должен знать в совершенстве склонности своих творений, чтобы
этот бот нуждался в стольких испытаниях для того, чтобы уяснить себе
их нравственную природу?
3. Согласно вычислениям наших хронологистов, обитаемая нами
земля существует шесть или семь тысяч лет. В течение этого времени
народы под различными формами испытывали беспрестанные перемены и
бедствия. История нам показывает человеческий род во все времена
терзаемым и разоряемым тиранами, завоевателями, героями, войнами,
наводнениями, голодом, эпидемиями и т. д. Способны ли такие долгие
испытания внушать нам большое доверие к скрытым замыслам бога? Могут ли
292
столь многочисленные и постоянные бедствия дать нам высокое
представление о будущем уделе, который готовит нам ето доброта?
4. Если бог так добр, как это уверяют, то разве но мот бы он, не
давая людям бесконечного блаженства, дать им, по крайней мере, ту
степень блаженства, которую способны воспринять коночные существа
здесь, на земле? Разве для того, чтобы быть счастливым, нам требуется
бесконечное или божественное блаженство?
5. Если бог. не мог сделать людей более счастливыми, чем они суть
в этой жизни, какие шансы имеет надежда на рай, где, как утверждают,
избранные будут жить вечно в неизмеримом блаженстве? Если бот не мог
и не хотел отвратить зло от земли (единственное обиталище, которое мы
можем познать), какое основание имеем мы предположить, что он сможет
или захочет отвратить зло от другого мира, о котором мы не имеем ни
малейшего представления?
Более двух тысяч лет тому назад, по утверждению Лактанция,
мудрый Эпикур сказал: «Или бот хочет устранить зло, но не может этого
достигнуть, или он может этого достигнуть, но не хочет, или он не может
и не хочет, или может и хочет. Если он хочет, но бессилен, то он не
всемогущ; если он может, но не хочет, то это свидетельствовало бы о такой
злой воле, которую не следует ему приписывать; если он может и не
хочет, то он был бы одновременно и бессилен, и зол и, следовательно, не
был бы ботом. Если же он может и хочет, то откуда происходит зло, или
почему бог его не устраняет»? Уже более двух тысяч лет благомыслящие
умы ждут разумного разрешения этих трудностей, а наши ученые нам
говорят, что они будут устранены только в будущей жизни.
Нам говорят о мнимой лестнице существ. Предполагают, что бог
разделил свои творения на различные классы, каждый из которых
обладает той степенью блаженства, на которую он способен. Согласно этому
романическому расположению существ, от моллюсков до небесных
ангелов, все существа наслаждаются благом в той степени, в какой это
совместимо' с их природой. Опыт, однако, противоречит этой возвышенной
мечте. В том мире, в котором мы живем, мы наблюдаем, что все живые
существа страдают и окружены опасностями. Человек не может сделать
шага без того, чтобы не изувечить, не растерзать и не раздавить множества
живых существ, которые попадаются ему на пути. В то же время он сам
на каждом шагу подвергается множеству предвиденных и непредвиденных
бед, которые могут привести его к гибели. Разве недостаточно одной идеи
смерти, чтобы смутить все его живые радости? В течение всей его жизни
он подвержен страданиям; ни на одну минуту он не может быть уверен
в сохранении своей жизни, к которой, как мы видим, он сильно привязан
и которую он рассматривает как величайший дар неба.
Нам скажут, что мир обладает всем тем совершенством, какое только
для него было возможно, и что так как мир не есть бог, который его
сотворил, то он по необходимости должен обладать великими достоинствами
и великими недостатками. На это мы ответим, что если мир необходимо
должен обладать великими недостатками, то природе доброго бога больше
соответствовало бы совсем не создавать мира, которого он не мог сделать
счастливым. Если, по вашему, бот, который обладал бесконечным
блаженством до сотворения мира, продолжал бы обладать им и без
сотворения мира, то почему он не остался в покое? К чему нужно, чтобы чело'
век страдал? К чему нужно, чтобы человек существовал? Какое значение
имеет существование человека для бота? Значит ли оно для нето что-
нибудь или ничего? Если это существование для нето не полезно и не
293
необходимо, то к чему он его вызывает из небытия? Если же это
существование необходимо для его славы, то он тогда нуждался в человеке,
ему чего-то недоставало до существования человека.
Можно простить неискусному рабочему изготовление
несовершенного продукта, ибо этот рабочий вынужден работать, хорошо или плохо,
под страхом голодной смерти, и это обстоятельство его извиняет. Но
вашего бога простить нельзя. По вашему же 'собственному утверждению,
бог довлеет самому себе. К чему же он в таком случае создает людей?
Он, по-вашему, обладает всем необходимым для тото, чтобы сделать людей
счастливыми, почему он их не делает таковыми? Вы должны отсюда
сделать тот вывод, что у вашего бота злая воля преобладает над доброй,
иначе вы должны будете признать, что бот был вынужден сделать то, что
он сделал, не имея возможности поступать иначе. Вы, однако, уверяете,
что ваш бот свободен. Вы также говорите, что он неизменен, хотя
проявление его могущества имеет начало и конец во времени, совсем как у
изменчивых существ нашего мира. О теологи! Вы тщетно старались
освободить вашего бога от всех человеческих недостатков. В этом столь
совершенном боге всегда оставалось нечто человеческое, слишком
человеческое.
Разве бот не хозяин своих милостей? Разве он не имеет права
распоряжаться своей благодатью? Разве он не может лишить ее кого-тшбудь?
Не подобает твари требовать у бота отчета в его поведении. Он может
распоряжаться по произволу произведениями своих рук. Абсолютный
владыка смертных, он распределяет блага и несчастия, как ему
заблагорассудится. Вот те ответы, которые нам дают теологи, чтобы утешить
нас по поводу того зла, которое причиняет нам бот. Мы им на это
скажем, что бог; который был бы бесконечно добр, не был бы хозяином своих
милостей, а был бы вынужден самой своей природой изливать их на свои
творения. Мы им скажем, что существо, действительно благодетельное,
не считает себя вправе воздерживаться от делания добра. Мы им
скажем, что существо действительно великодушное не берет обратно того,
что оно дало, и что всякий человек, который это делает, лишается права
на благодарность и не должен жаловаться на неблагодарность.
Как примирить то произвольное и своенравное поведение, которое
теологи приписывают богу, с учением религии, которое предполагает
договор или взаимные обязательства между богом и людьми? Если у бога нет
никаких обязательств по отношению к своим творениям, то последние,
с своей стороны, не могут иметь никаких обязательств по отношению
к своему богу. Всякая религия основана на том счастии, которого люди
себя считают вправе ожидать от бота. Бог, как предполагается, говорит
им: любите меня, почитайте меня, слушайтесь меня, и я вас сделаю
счастливыми. Люди, с своей стороны, говорят ему: сделайте нас
счастливыми, будьте верны вашим обещаниям, и мы вас будем любить, мы вас
будем почитать, мы будем подчиняться вашим законам. Игнорируя
счастье своих творений, распределяя свои милости и благосклонности по
прихоти своей фантазии, беря обратно свои дары, не нарушает ли бот
этим своего договора, который служит основанием всякой религии?
Цицерон верно сказал, что если бог не делает себя приятным
человеку, он не может быть его богом.: доброта делает бога богом. Эта доброта
может проявиться по отношению к человеку только в тех благах, которые
последний испытывает. Как только последний становится несчастным,
эта доброта больше не существует, а вместе с ней исчезает и бог.
Бесконечная доброта не может быть ни частичной, ни односторонней. Если бог
294
бесконечно добр, он должен дать счастье всем своим творениям.
Наличность одного единственного несчастного существа дала бы нам
достаточное основание отрицать безграничность доброты бота. Разве мыслимо,
чтобы под управлением бесконечно доброго и могущественного бога мог
страдать хоть один человек? Всякое страдающее животное, всякая
страдающая букашка дают нам неопровержимый аргумент против
божественного промысла и бесконечной доброты бота.
По мнению теологов, скорби и бедствия этой жизни являются карой,
которую виновные люди навлекают на себя со стороны бога. Но почему
люди виновны? Если бог всемогущ, не стоило ли бы ему лучше повелеть,
чтобы все в этом мире было в порядке, чтобы все его подданные были
добры, невинны, счастливы, чем повелеть, чтобы зло существовало? Разве
этому богу было труднее сделать свое дело хорошо, чем сделать плохо?
Разве путь от небытия существ к их разумному и счастливому
существованию был длиннее, чем от их небытия до их неразумного и бедственного
существования?
Религия нам говорит об аде, т.-е. об ужасном обиталище, где бог,
не взирая на его доброту, держит натотове бесконечные мучения для
огромного числа людей. Религия, таким образом, сделав смертных
бесконечно несчастными в этом мире, внушила им убеждение, что бог может
их сделать еще более несчастными в другом месте. От этого вывода
отделываются, говоря, что в этом случае божественная доброта уступит место
божественной справедливости. Но доброта, которая уступает место
страшной жестокости, -не есть бесконечная доброта. Сверх того, можно
ли считать неизменным бога, который от бесконечной доброты переходит
к бесконечной жестокости? Можно ли найти подобие милосердия и
доброты в боге, преисполненном неукротимого бешенства?
Божественная справедливость, как ее рисуют наши ученые теологи,
является, несомненно, качеством, способным заставить нас сильно
полюбить бога. Согласно представлениям современной теологии, можно
считать доказанным, что при сотворении огромного числа людей 'бог
руководился единственной целью: подвергнуть их впоследствии вечным
мучениям. Не было ли бы более сообразно с добротой, разумом,
справедливостью создавать только камни и растения и не создавать живых существ,
чем создавать людей, чье поведение в ©том мире могло бы навлечь на них
безмерную кару в другом мире? Бог, который достаточно вероломен и зол,
чтобы создать хоть одного человека с тем, чтобы впоследствии подвергнуть
его опасности погубить себя, такой бог не может считаться совершенным
существом, а должен считаться чудовищем неразумия, несправедливости,
злости и жестокости. Теологи не только не дали нам образа совершенного
бога, они создали самое несовершенное из возможных существо.
Бог, как он рисуется по представлениям теологов, похож на тирана,
который, выколов глаза огромному числу своих рабов, запирает их в
темницу, где он, забавы ради, incognito следит через щель за их поведением
с тем, чтобы иметь повод жестоко наказать всех тех, которые при
движении сталкиваются между собой, при чем этот же тиран щедро
награждает небольшое число таких, которым он оставил зрение, за ю, что они
сумели избегнуть столкновения с товарищами. Таковы те
представления, которые догма произвольного предопределения дает нам б боге!
Хотя люди не перестают повторять нам, что их бог бесконечно добр,
ясно, однако, что в глубине они сами этому не могут верить. Как можно
любить то, чего не знаешь? Как можно любить существо, представление
о котором способно только внушить беспокойство и тревогу? Как можно
295
любить существо, к которому все, что о нем говорится, способно
возбудить только безмерную ненависть?
Многие проводят тонкое различие между истинной религией и
суеверием. Они нам говорят, что последнее есть только трусливый и
неразумный страх перед богом, что истинно-религиозный человек имеет
доверие к своему богу и искренне любит его, между тем, как суеверный
человек видит в нем только недруга, не имеет никакого доверия к нему
и представляет себе его в образе подозрительного тирана, жестокого,
скупого на благодеяния и щедро расточающего только кары. Но, строго
говоря, разве не дает нам всякая религия то же представление о боге?
Когда нам говорят, что бог бесконечно добр, разве не твердят нам
беспрестанно одновременно с этим, что он легко воспаляется гневом, что он
дарит свои милости только небольшому числу людей, что он' жестоко*
карает всех тех, кого ему заблагорассудилось лишить своей милости.
Если мы будем формировать наши идеи о боте сообразно природе-
вещей, где мы находим смесь блага и зла, то этот бог, в соответствии
с добром и злом, которые мы изведываем, должен, естественно, нам
представиться капризным, непостоянным, то добрым, то злым, и по одному
этому, вместо того, чтобы возбуждать нашу любовь, это представление
должно породить в наших сердцах недоверие, страх и неуверенность.
Следовательно, нет никакой разницы между естественной религией и
самым темным и рабским суеверием. Если теист видит бота только с
хорошей стороны, то суеверный человек его видит с самой отвратительной
стороны. Сумасшествие одного носит веселый характер, сумасшествие
другого — печальный, но оба они одинаково безумны.
Когда я черпаю свои идеи о боге из теологии, бог мне рисуется
только в таких чертах, которые более всего способны оттолкнуть любовь.
Те набожные люди, которые уверяют вас в том, что они искренне любят
своего бога, — эти люди или обманщики, или глупцы, которые видят
своего бога только сбоку. Невозможно любить существо, идея которого
способна возбудить только страх, суждение о котором заставляет
содрогаться. Можно ли взирать без тревоги на бога, которого считают
достаточно варварским, чтобы быть способным осудить нас на вечную муку?
И пусть нам не говорят о сыновнем страхе или о благоговейном
страхе, смешанном с любовью, который люди должны питать по
отношению к своему богу. Сын ни в коем случае не может любить отца, когда
он знает, что последний достаточно жесток, чтобы подвергнуть его
утонченнейшим мучениям в виде наказания за малейшие прегрешения,
совершенные им. Ни один человек на земле не может иметь малейшей искры
любви к богу, который держит наготове бесконечные по
продолжительности и жестокости кары для девяносто девяти сотых своих детей.
Изобретатели догмы о вечности мук ада сделали из бога, доброту
которого они прославляют, самое презренное из всех существ.
Жестокость в людях есть крайнее проявление злости. Всякую чувствительную
душу волнует и возмущает уже один рассказ о мучениях, испытанных
даже величайшим из злодеев. Но тем большее негодование возбуждает
вид жестокости, когда ее считают беспричинной или лишенной мотивов.
Самые кровожадные тираны: Калигулы, Нероны, Домицианы имели,
по крайней мере, кое-какие мотивы для того, чтобы мучить свои жертвы
и чтобы надругаться над их страданиями. Этими мотивами могло быть
желание обезопасить себя, бешеное чувство мести, желание
терроризировать посредством устрашающих примеров, может быть, тщеславное
желание показать свое могущество и желание удовлетворить варварскую
296
страсть. Может ли бог иметь какой-нибудь из этих мотивов? Подвергая
мучениям жертвы своего гнева, он наказывает существа, которые
фактически не в состоянии ни подвергнуть опасности его непоколебимое
могущество, ни нарушить его блаженство, которого ничто не в состоянии
смутить. О другой стороны, загробные мученики совершенно бесполезны для
живых, которые не могут быть свидетелями их мучений. Эти мучения
не могут принести пользы также и осужденным, ибо в аду нет места
раскаянию, а время милосердия уже прошло. Из чего следует, что бог,
подвергая отверженных вечным мукам, не имеет при этом другой цели,
кроме забавы и надругательства над слабостью своих созданий?
Я апеллирую ко всему человеческому роду. Есть ли в природе хоть
один человек, который был бы настолько жесток, чтобы желать
хладнокровно мучить, я не говорю своих ближних, но вообще какое-бы то ни
было живое существо, мучить без пользы для себя, без выгоды, без
страсти, не имея никакого основания опасаться чего-нибудь от своей жертвы?
Вы должны заключить отсюда, господа теологи, что, согласно
вашим собственным принципам, ваш бог бесконечно более жесток, чем
самый жестокий из людей.
Вы мне, может быть, скажете, что бесконечный грех заслуживает
бесконечной кары? На это я вам отвечу, что нельзя грешить перед
богом, доброта которого бесконечна. Я вам скажу дальше, что грехи
конечных существ не могут быть бесконечными. Я вам скажу, что бог,
который не желает, чтобы перед ним грешили, не может согласиться,
чтобы грехи его творений продолжались вечно; я вам скажу, что
бесконечно добрый бог не может быть бесконечно жестоким, не может даровать
своим творениям вечной жизни с единственной целью насладиться их
вечными мучениями. Только самое дикое варварство, только завзятое
мошенничество, только слепое властолюбие могли выдумать догму о
вечности загробных мучений. Если бы существовал бог, которого можно
было бы обидеть или хулить, то не было бы на земле больших
богохульников, чем те, которые смеют утверждать, что этот бог есть тиран,
достаточно извращенный, чтобы на протяжении вечности находить
удовольствие в бесполезном мучительстве своих слабых созданий.
Утверждать, что бог может быть задет поступками людей, — значит
опровергнуть все идеи, которые нам, сверх этого, стараются внушить об
этом существе. Говорить, что человек может нарушить порядок
мироздания, что он может зажечь молнию в руке своего бога, что он может
расстроить его планы — это значит сказать, что человек сильнее бога,
что он хозяин над его волей, что от него зависит превратить доброту бога
в жестокость. Теология только то и делает, что разрушает одной рукой
то, что она воздвигает другой. Если всякая религия зиждется на боте,
который сердится и умиротворяется, то всякая религия покится на
явном противоречии.
Все религии одинаково прославляют бесконечную мудрость и
всемогущество бога, но как только они нам излагают принципы его
действий, мы в них находим только недостаток благоразумия, только
недостаток дальновидности, только слабость и глупость. Бог, говорят, создал
мир для себя и до настоящего момента он никогда не мог добиться, чтобы
ему там оказывали достодолжное уважение. Бот создал людей, чтобы
иметь в своем царстве подданных, которые почитали бы его, а мы видим,
что люди беспрестанно бунтуют против него.
Нам не перестают прославлять божественное совершенство, а когда
мы требуем доказательств этого, нам указывают на его творения, в кото-
297
рых, кшй уверяют, это совершенство запечатлено неизгладимыми чертами.
Однако, все эти творения несовершенны и тленны. Человек, которого не
перестают рассматривать как шедевр, самое чудесное из божественных
творений, этот человек полон несовершенств, которые его делают
неприятным в глазах сотворившего его всемогущего мастера. Это
изумительное творение становится часто таким оскорбительным и таким
ненавистным для его автора, что последний чувствует себя вынужденным
бросить его в огонь. Но если наиболее редкое творение бога
несовершенно, то что же дает нам основание говорить о божественном
совершенстве? Может ли произведение, которым его собственный автор так
мало доволен, внушить нам мысль о гениальности мастера? В
физическом отношении человек подвержен тысячам недугов, бесчисленным
бедствиям, смерти; в моральном отношении он полон грехов и, тем не менее,
нам не перестают говорить, что он самое прекрасное творение, наиболее
совершенное из существ.
В деле сотворения существ, более совершенных, чем люда, бог, как
видно, имел небольшие удачи, и он этими своими произведениями не дал
более сильных доказательств своего совершенства. Разве нам не
рассказывают многие религии, что антелы, чистые духи, взбунтовались
против их владыки и даже попытались прогнать его с трона? Бог намеревался
дать счастье ангелам и людям и никогда не смог сделать счастливыми
ни тех, ни других. Гордость, злоба, грехи и несовершенства творений
всегда расстраивали планы совершенного существа.
Всякая религия зиждется, очевидно, на том принципе, что бог
полагает, а человек располагает. Все теологи мира показывают нам
неравную борьбу между богом, с одной стороны, и его творениями, с другой.
Из этой борьбы бог никогда не выходит с честью. Несмотря на его
всемогущество, он не может добиться тото, чтобы произведения его были
такими, каким он хотел бы их видеть. К довершению бессмыслицы
имеется религия, которая утверждает, что сам бог умер, чтобы своей
смертью исправить человеческий род. И, несмотря на эту смерть, люди
менее всего похожи на то, что желал бы в них видеть бог.
Нет ничего более нелепого, чем та роль, которую теологи во всех
странах заставляют играть бога. Вели бы ее содержание имело реальный
смысл, мы вынуждены были бы видеть в боге самого своенравного и
самого безрассудного из существ. Мы вынуждены были бы думать, что бог
сотворил мир только для того, чтобы иметь в нем арену для своих
бесславных войн со своими созданиями, что он создал ангелов, людей,
демонов, злых духов только для того, чтобы иметь противников, по
отношению к которым он мог бы проявить свою силу. Он им дал свободу
оскорблять его, он их сделал достаточно злыми, чтобы расстраивать его планы,
достаточно упрямыми, чтобы никогда не сдаваться, и все это для того,
чтобы иметь удовольствие сердиться, успокаиваться, примиряться и
исправлять тот беспорядок, который они произвели. Скольких
неприятностей избег бы бог, если бы он с самого начала,сделал свои творения
такими, какими они должны быть, чтобы они могли угодить ему, или
по крайней мере, от скольких затруднений он избавил бы своих теологов!
На основании представлений всех религиозных систем мира может
казаться, что бог только тем и занят, чтобы причинять самому себе зло.
Он в этом отношении подобен тем шарлатанам, которые наносят сеК>е
крупные раны, чтобы иметь случай показать публике добротность своей
мази. Мы, однако, не замечаем, чтобы бог до сих пор успел радикально
вылечиться от тою зла, которое он сам себе причинил через л1юдей.
20*8
Бог есть творец всего. Однако, нас уверяют, что зло не происходит
от бога! Откуда же оно в таком случае ^происходит? .. От людей? Но
кто же сделал людей? Зло, таким образом, исходит от бога. Если бы он
не сотворил людей такими, каковы они суть, не существовало бы в мире
морального зла или греха. Следовательно, на боге лежит вина в том,
что человек так извращен. Бели человек имеет возможность делать
зло или скорблять 'бога, то мы вынуждены из этого заключить, что бог
хочет этого оскорбления, что бог, который сотворил человека, пожелал,
чтобы зло было сотворено человеком. В противном случае, человек
представлял бы собой следствие, противоположное той причине, которой
оно обязано своим существованием.
Богу приписывается способность предвидения, или способность
знать наперед то, что должно случиться в мире, но это предвидение не
может служить к его славе и не может освободить его от тех упреков,
которые люди с полным основанием могли бы ему делать. Если бот
обладает способностью предвидеть будущее, то разве он не мог бы
предвидеть гибели своих творений, которые он создал для счастья? Если он
постановил допустить эту гибель, то, несомненно, потому, что он хотел,
чтобы эта гибель имела место. Если бы это предвидение грехов его
творений было со стороны бога необходимо или вынуждено, то можно было
бы предположить, что бог был вынужден своей справедливостью
наказать виновных. Но раз бог обладает способностью предвидеть будущее
и силой все предопределять, то разве не от него зависело не налагать
на самого себя таких жестоких законов? Или разве не мог он, по
крайней мере, воздержаться от сотворения таких существ, которые
впоследствии могли бы привести его к необходимости наказать их и сделать
несчастными? Не все ли равно, предназначил ли бог людей к счастью
или к несчастью первоначальным постановлением в силу своего
предвидения или позднейшим постановлением в силу своей справедливости?
Разве порядок его постановления что-либо меняет в судьбе несчастных?
Разве не будут они одинаково вправе жаловаться на бога, который, имея
возможность'оставить их в небытии, все же вызвал их к жизни, хотя он
прекрасно предвидел, что его справедливость вынудит его рано или
поздно наказать их?
Человек, говорите вы, выходя из рук бога, был чист, невинен и
добр, но его природа испортилась, благодаря греху.
Если человек мог грешить, даже выходя из рук бога, его природа,
следовательно, не была совершенна. Почему бог допустил, чтобы он
грешил, и чтобы его природа испортилась? Почему бог допустил, чтобы его
искушали, зная хорошо, что он слишком слаб, чтобы противостоять
искусителю? Почему бог сотворил сатану, злого духа, искусителя? Почему
бот, который так желал добра человеческому роду, не уничтожил раз
навсегда этих многочисленных злых духов, которые по самой своей
природе не могут не быть врагами нашего счастья? Или, точнее, почему бог
создал злых гениев, чью победу и чье страшное влияние на весь
человеческий род он должен был бы предвидеть? И, наконец, в силу какого
рока мы видим во всех религиях мира торжество злого принципа над
добрым или над богом?
Рассказывают о черте простодушия, делающей честь доброму
сердцу одного итальянского монаха. Этот добрый человек, в одной своей
проповеди счел себя обязанным возвестить своей аудитории, что путем
долгих размышлений он, слава боту, наконец, нашегл верное средство
сделать всех людей счастливыми. «Дьявол» заявил он, «искушает лю-
209
дей только для того, чтобы иметь в аду товарищей, которые делили бы
с ним ого несчастье. Обратимся поэтому к папе, который владеет
ключами как рая, так и ада. с просьбой помолиться во главе церкви богу и
попросить его помириться с дьяволом, вернуть ему свое благоволение,
восстановить его в его первоначальном достоинстве и тем положить
конец его пагубным планам, направленным против человеческого рода».
Добрый монах, может быть, не понимал, что для служителей церкви
дьявол, по крайней мере, так же полезен, как и бог. Служители церкви
извлекают слишком большие выгоды из ссор последних, им не может
быть по душе примирение двух врагов, на борьбе которых основаны их
существование и их доходы.
Если бы люди перестали поддаваться искушениям и грешить, то
служители церкви стали бы для них бесполезны. Манихейское учение
является, очевидно, стержнем всех религий. Но, к несчастью, дьявол,
изобретенный с целью снять с бога подозрение в жестокости, нам
каждую минуту демонстрирует бессилие или неискусность своего
небесного противника.
Человеческая природа, говорят, должна была по необходимости
развращаться. Бог не мог сообщить человеку безгрешности, которая
является неотчуждаемой частицей божественного совершенства.
Но если бог не мог сделать человека безгрешным, зачем он себе дал
труд создать человека, чья природа должна была по необходимости
развращаться, и который, следовательно, должен был по необходимости
согрешить перед ботом? С другой стороны, если 'бог сам не мот сделать
человеческую природу безгрешной, по какому праву он наказывает
людей за то, что они не безгрешны? Этим правом может быть только право
более сильного, но право более сильно называется насилием, а практика
насилия не подобает самому справедливому существу. Бог был бы в
высшей степени несправедлив, еслиб стал наказывать людей за то, что они
не являются соучастниками божественного совершенства, или за то, что
они не такие же боги, как он.
Не мог ли, по крайней мере, бог сообщить всем людям ту степень
совершенства, на которую их природа способна? Если некоторые люди
добры или умеют угодить своему богу, почему же этот бог не оказал
такой же милости всем представителям человеческого рода, почему он не
наделил всех их такими же свойствами? Почему порочные люди имеют
такой огромный численный перевес над праведными людьми? Почему
в том мире, который бог имел возможность населить честными лвдьми,
этот же бот находит на одного друга десять тысяч врагов? Если правда,
что бог себе поставил целью образовать на небе двор святых, избранных
ими людей, которые будут жить на земле согласно его видам, то разве
этот двор не был бы еще более многочисленным, блестящим и более
почетным для него, если бы бог его образовал из всех людей, наделив их
при сотворении той степенью доброты, которая необходима для того,
чтобы достигнуть вечного блаженства. Наконец, не было бы ли проще
совсем не создавать его с тем, чтобы сделать из него существо, полное
недостатков, бунтующее против своего создателя, всегда подверженное
опасности погубить себя фатальным злоупотреблением своей свободной
волей?
Вместо того, чтобы создавать людей, совершенный бог должен
был бы сотворить послушных и покорных ангелов. Ангелы, может быть,
скажут нам, свободны,'' некоторые из них впали в грех, но, по крайней
мере, не все грешили, не все злоупотребляли своей свободой и не все
300
бунтовали против своего владыки. Разве бог не мог создать только
ангелов с более совершенной природой? Если бог мог создать ангелов,
которые не грешили, то разве не мог он создать безгрешных людей или
таких, которые никотда не стали бы злоупотреблять своей свободой и
не пользовались бы ею для совершения зла? Если избранные не
способны грешить на небе, то разве бог не мог сделать людей безгрешными
на земле2
Нам говорят, что огромная дистанция, отделяющая бога от людей,
имеет своим необходимым следствием то, что образ действия бога является
тайной для нас, и что мы не можем иметь права спрашивать у него
объяснений. Можно ли считать такой ответ удовлетворительным?
Раз речь идет тут, как вы сами признаете, о моем вечном
блаженстве, то разве я не имею права исследовать образ действия
самого бога?
Ведь люди подчиняются власти бога только в силу того
блаженства, на которое они надеются. Деспот, которому люди подчиняются
только из-за страха, владыка, поведение которого нельзя разбирать,
властелин, ни для кого недоступный, не может заслуживать уважения
разумных существ. Если образ действия бога есть тайна для меня, то он
для меня не существует. Для человека невозможно ни обожание, ни
восхищение, ни уважение, ни стремление подражать по отношению к такому
образу действия, в котором ничего нельзя понять или о котором часто
себе можно составить только очень нелестное представление. Или вы
решитесь утверждать, что мы должны обожать все то, что недоступно
нашему пониманию, и что все, что непонятно, уже по одному этому
достойно восхищения?
Попы! Вы неустанно кричите о том, что в намерения бога
нельзя проникнуть, что его пути — не наши пути; что его мысли —
не наши мысли; что нелепо жаловаться на его управление, мотивы
и движущие силы которого нам совершенно неизвестны; что
безрассудно было бы считать его решения несправедливыми, ибо они для
нас непостижимы. Но разве вы не видите, что, говоря таким образом,
вы разрушаете вашими собственными руками,все ваши глубокие системы,
имеющие своей единственной целью объяснить нам пути провидения,
которые вы теперь объявляете неисповедимыми. Вы, следовательно,
проникли в эти решения, в эти пути и намерения? Вы не посмеете это
утверждать, и хотя вы без конца рассуждаете о них, вы их понимаете ш
больше нашего. Если вы случайно знаете план бога, которым вы
заставляете нас восхищаться в то время, как многие находят этот план очень
мало достойным справедливого, доброго, разумного и рассудительного
существа, то в таком случае не говорите больше о непостижимости этого
плана. Если же вы его не знаете, как и мы, то имейте некоторое
снисхождение к тем, которые искренно сознаются, что они в нем ничего не
понимают, или что они в нем не видят ничего божественного.
Перестаньте преследовать людей за мнения, в которых вы сами ничего не
смыслите.
Перестаньте терзать друг друга во имя фантазий и догадок, против
которых говорят факты и здравый смысл. Говорите нам о вещах,
понятных и полезных для человека. И не говорите нам больше о
неисповедимых путях провидения, о которых вы только лепечете и сами себе
противоречите.
Твердя нам беспрестанно о неизмеримых глубинах божественной
мудрости и запрещая нам исследовать эти глубины, говоря нам, что
301
было бы неслыханной дерзостью судить о боге с точки зрения нашего
жалкого разума, считая преступлением с нашей стороны критику нашего
властелина — всем этим теологи только обнаруживают то
замешательство, в котором они находятся, когда нужно дать объяснение образу
действия бога, ибо этот образ действия они находят чудесным только
потому, что сами в нем ровно ничего не понимают.
Физические бедствия общепринято считать наказанием за грехи.
Бедствия, болезни, голод, войны, землетрясения являются теми
средствами, которыми бог пользуется, чтобы покарать порочных людей.
Итак, не задумываясь приписывают эти бедствия суровости
справедливого и доброго бога. Однако разве мы не наблюдаем, что этот бог
обрушивается безразлично на добрых и злых, на нечестивых и
богобоязненных, на невинных и виновных? Каким образом хотят нас заставить
видеть в этом способе действий справедливость и благость существа, идея
которого так утешительна для многих несчастных? Для этого нужно,
несомненно, чтобы рассудок этих несчастных помутился от горя, ибо они
забывают, что их бог есть властитель мира, единственное направляющее
начало всех событий этого мира. А в таком случае, разве не его они
должны были бы считать виновником своих несчастий, его, в объятиях
которого они думают найти утешение в своем горе? Несчастный отец! Ты
думаешь утешиться на груди привидения в потере любимого ребенка
или супруги, которые составляли твое счастье! Увы! Разве ты не видишь,
что твой бог их убил? Твой бог сделал тебя несчастным, и ты хочешь,
чтобы твой бог успокоил боль, причиненную теми страшными ударами,
которые он на тебя обрушил!
Фантастические и метафизические представления теологии в
такой мере успели извратить в человеческом уме самые простые, самые
ясные и естественные идеи, что благочестивые люди, будучи
неспособными обвинять бога в жестокости, приучаются рассматривать
наиболее печальные удары судьбы как несомненные доказательства
божественной доброты. Если над ними стряслось несчастие, им
приказывают верить, что бог их любит, что бог их посещает, что бот их1
испытывает. Ре лития, таким образом, сумела превратить зло в благо.
Один богохульник резонно заметил: «Если добрый бог так обращается
с теми, которых он любит, я его настоятельно прошу совсем не думать
обо мне».
Люди, очевидно, получили слишком мрачное и нелестное
представление о своем боге, которого они называют добрым, если они могли
дойти до убеждения, что самые ужасные бедствия и самая жгучая печаль
являются знаками его благосклонности! Мог ли бы злой тений, демон
придумать более утонченные мучения для своих врагов, чем этот бог
доброты, так часто дающий чувствовать свою жестокость своим наиболее
любимым друзьям?
Что бы мы сказали об отце, о котором нас уверяли бы, что он
неослабно заботится о безопасности и благополучии своих слабых и
непредусмотрительных детей, и который, однако, предоставил бы им
свободу бродить наудачу среди скал, обрывов и водоемов, который бы при
этом только редко мешал им следовать их неумеренным аппетитам и
разрешал бы им держать в руках без всякой предосторожности
смертоносное оружие, подвергая их, таким образом, опасности нанести себе
жестокое поранение? Чтобы мы думали об этом самом отце, если бы он,
вместо того, чтобы обвинять себя в том неочастьи, которое случилось
бы с его детьми, стал бы их наказывать самым жестоким образом за их
302
заблуждения? Мы бы резонно сказали, что этот отец — глупец, который
присоединяет несправедливость к глупости.
Бог, который карает за грехи, совершению которых он мог бы
помешать, есть существо, лишенное, скак мудрости, так и доброты и
справедливости.
Если бы бот обладал даром предвидеть будущее, он предупредил бы
грех и тем самым избавил бы себя от необходимости наказывать. Добрый
Оог не наказывал бы за слабости, о которых он знает, что они присущи
человеческой природе. Справедливый бог, который сотворил бы
человека, не стал бы наказывать последнего за то, что он сам его не сделал
достаточно сильным, чтобы он мог противостоять своим страстям.
Карать за слабость — самая несправедливая из тираний. Разве это не
значит оклеветать справедливого бога, котда говорят, что он карает людей
га их грехи даже в этой жизни? Как он может карать существа,
исправление которых именно от него только и зависело, и которые и не мотли
поступать иначе, чем они действовали, поскольку они не удостоились
благодати?
По принципам, которые сами теологи проповедуют, выходит, что
человек в его нынешнем деморализованном состоянии может только
творить зло, ибо без божественной блатодати он никогда не имеет силы
творить добро. Если, однако, человеческая природа, предоставленная
самой себе или лишенная божественной помощи, по необходимости
обусловливает греховность человека или делает его неспособным творить
добро, то куда делась свобода воли человека? Сообразно таким
принципам, теряют всякий смысл понятия заслуги и вины по отношению
к человеку.
Награждая человека за то добро, которое он делает, бот
награждает только самого себя. Наказывая человека за то зло, которое он
творит, бог его наказывает за то, что он не дал ему благода/ги, без
которой человек был бы не в состоянии поступать лучше.
(«Здравый смысл»).
М. Гюйо
КРИТИКА РЕЛИГИОЗНОГО ОБЪЯСНЕНИЯ ЗЛА*)
Сомнение, которое уже в древности мучило некоторых
мыслителей, в наши дни растет и распространяется: творец — существо, в
котором все существующее находит причину и объяснение, на которого,
следовательно, падает вся высшая и окончательная ответственность. Он
берет, таким образом, на себя бремя всего зла, происходящего во всем
мире. По мере того как идея бесконечного существа, высшей свободы
становится неразрывно связанной с идеей бога, бог теряет всякое
оправдание, ибо абсолютное ни от чего не зависит, ни с чем не солидарно,
а напротив, все зависит от него и находит в нем свою причину. Поэтому
на нем лежит ответственность за каждую вину: его творение в
многочисленном ряде своих- последствий предоставляется современному уму
в виде одного лишь акта, который, подобно всякому другому, может оце-
*) Автор — буржуазный философ, более или ме*нее последовательно
разоблачающий религию. — Прим. ред.
S03
ниваться с нравственной точки зрения; автор его подлежит суду, — мир
становится для нас судом над ботом. Но так как, по мере развития
в мире нравственного чувства, зло и безнравственность все больше
шокируют, то все больше кажется, что допускать «создателя» мира —
значит, так сказать, централизовать все это зло в одном единственном очаге,
концентрировать всю эту безнравственность в одном .существе и
оправдывать парадокс: «бог есть зло». Одним словом, допустить
существование творца — значит изъять все зло из мира, чтобы вернуть его богу,
как его первоисточнику; это значит оправдать человека и вселенную и
обвинить их свободного создателя.
Но обратить, таким образом, творческую свободу в источник зла —
еще не худшее, что можно сделать; еще хуже этого — объявить ради
оправдания создателя, что самое зло не существует, и что этот мир —
лучший из возможных миров. На таком решении остановились Лейбниц
и все богословы. Религии принуждены обращаться в аполотию вселенной,
в благоговение перед божественным планом; у них всегда в запасе
извинения, которыми они оправдывают существующую несправедливость, и
они бессознательно стараются извратить нравственное чутье человека
для того, чтобы снять ответственность с бога.
Много гипотез было испробовано, чтобы спасти до известной
степени оптимизм и оправдать творца, не вредя нравственному чувству и
инстинкту прогресса. Старались доказать, что физическое зло
(страдание) и умственное зло (заблуждение или сомнение) являются условием
sine qua поп, без которого пет нравственного блага; это-де оправдало бы
их. Единственным истинным злом, таким образом, оставалось бы зло
нравственное, а так как именно это зло создается злой волей человека, то
ответственность падала бы на него одного. По этой гипотезе, в мире нет
ничего дурного, кроме злого человека, т.-е. такого, который сам себя
сделал тем, что он есть. К тому же, само 'нравственное зло могло бы
рассматриваться как высшее условие нравственного блага, так как
последнее предполагает выбор, альтернативу, решаемую волей,
предполагает всегда открытой двойной путь. Таким образом, все зло вселенной
вознаграждалось бы нравственностью, все страдание — добродетелью, все
заблуждения — практическим утверждением добра, все вины — доброй
волей. Самый мир стал бы лишь средством для выработки
нравственности, и ов своем кажущемся несовершенстве он был бы лучшим из
возможных миров, так как служил бы для^ создания того, что
есть лучшего.
Говорили,- что мир не может быть абсолютен во всех отношениях,
ибо в таком случае он был бы богом; он всегда должен что-нибудь
получать; но чем меньше он получает, тем больше он сам по себе
действует, сам по себе развивается и приближается к абсолюту, так что
самая бедность его составляет его величие, позволяя ему сделаться
обладателем истинного богатства, — не того, которое заимствуешь у другого,
а того, которое сам завоевываешь. Итак, все преобразуется сообразно
с гипотезой: всякое бедствие становится заслугой. Богу угодно было
создать мир елико возможно самостоятельнее, т.-е. в сущности создать
елико возможно меньше, предоставив все инициативе существ. Laissez
faire (принцип невмешательства) — таков девиз бога, как и всякого
хорошего правительства. Небольшой, но самостоятельно достигнутый
результат стоит выше результата более крупного, но достигнутого
искусственным образом. «Божественное искусство», сказал один философ,
комментируя мысли Платона, — «бесконечно выше искусства человече-
304
•ского; оно создает индивидуумы, для которых их цель заключается в них
самих, и сущность которых выбрасывает из себя форму. Эти
индивидуумы не являются более, как полагал Лейбниц, автоматами ... Истинное
совершенство есть совершенство автономное... Если бы бог был лишь
демиургомх), его можно было бы и следовало бы обвинить в том, что он
неумелый работник. Разве в мире не приходится видеть неудачные
сочетания, бесплодные попытки, незаконченные наброски, недостигнутые
цели? Это на руку противникам провидения ... Но эти наброски
производятся самыми существами; они являются делом индивидуальных душ и
сил, а не бога. Оловом, бог не есть работник, создающий произведения;
это работник, делающий «работников». Эта формула прекрасно
резюмирует то, что можно было бы назвать преображенным оптимизмом.
Новая гипотеза не пытается больше отрицать зло: напротив, она сама
старается его обнаружить; но делая из зла последствие
«самостоятельности», она пытается обратить его в материал и опору самого добра.
Самый бесформенный набросок внушает уважение, когда знаешь, что из
него, и только из него, может выйти шедевр.
Гипотеза, о которой идет речь, бесспорно сможет еще долго казаться
одной из самых удачных в теизме. Между тем, она вызывает
многочисленные затруднения. Во-первых, она считает очевидным
превосходство того, что самородно, над тем, что не самородно, того, что делается*
над тем, что сделано. Положим, что так. Но в чем же заключается
самостоятельное бытие этого мира существ, в чем заключается мое
самостоятельное существование? Не являюсь ли я результатом целой массы
причин? Я родился и существую в силу согласованности множества
мелких клеточных или атомических воль. Потерял ли бы я свое значение,
если бы меня непосредственно создала одна только воля, воля божества?
Вне меня всегда есть причины, предшествовавшие, и моя истинная
причина не во мне. Какое же мне дело до того, находятся ли эти причины
в самой вселенной или вне ее? Ценность каждого индивидуума, продукта
этого мира, не уменьшится и не увеличится от того, представляет ли он
из себя более или менее гармоничное произведение слепых самопроиз-
вольностей, или создание разумной воли. Мои предки становятся для
меня безразличными, раз я могу быть сам своим собственным предком.
Станет ли статуя Пигмалиона упрекать ваятеля в том, что он создал ее
сразу прекрасной и одними собственными силами придал ей
окончательную форму для существования? Раз она живет и счастлива, — какое ей
дело до того, каким образом ей была дана эта жизнь? Позади нее темнота,
перед ней открытая жизнь и свет: она станет глядеть вперед.
В преображенной неоплатонической гипотезе организация индиви-,
дуумов всегда, в конце-концов, оказывается результатом вваимното
отношения детерминирующих сил; в обычной же гипотезе это — результат
одной абсолютно определяющей воли; но абсолютный или относительный
характер определяющего принципа ничего не меняет в природе самого
результата. Существующий мир не станет пассивнее от того, что он
происходит непосредственно от первопричины, а не косвенно, при посредстве
множества второстепенных причин, даже в том случае, если -каждая из
этих причин обнаружила характер самопроизвольности. И, наконец, так
как непременно нужно быть с кем-нибудь солидарным, то лучше быть
солидарным с единым божественным совершенством, чем со всей
«греховностью» существ.
1) Демиург — творец. — Прим. ред.
Г. Гурев 20
805
Между тем, в платоновском и аристотелевском понятии о
первобытной самопроизвольности есть нечто глубокое и вероятное, но
приводящее к выводу прямо противоположному идее возрения. В самом доле,
для того, чтобы довести до конца гипотезу самопроизвольности существо1-
вания, нужно сократить первооснову существования до того, чтобы сделать
из нее абсолютно голую субстанцию, лишенную всяких свойств; но это
приводит к чистой потеициональности Аристотеля, к чистому бытию
Гегеля, тождественному с небытием. Шедевром самопроизвольности было бы
целиком создать самого себя без божественного вмешательства. Если
подобная самостоятельность возможна, то нет больше надобности в боге:
проще сказать, что становление вышло из самой тождественности бытия
с небытием, или, вернее, что становление вечно само по себе. Бог — это
самое становление вещей, и теизм, таким образом, обращается в атеизм
или пантеизм.
Таким образом, творец, не будучи в состоянии создать субстанции
голые и чисто потенциальные, должен быть создать существа, одаренные
известными действенными качествами; но в таком случае это всегда будут
произведения, а не соеидатели, по крайней мере, в этом отношении. Кроме
того, раз какая-нибудь субстанция , создана с такими-то качествами,
отсюда по необходимости получаются такие-то последствия: качества суть
определения, которые, в свою очередь, определяют другие определения.
Таким образом, настоящее чревато будущим. Всегда существуют
«произведения», развивающие то, что роковым образом заключал в себе их
зародыш.
Г. Секретан скажет нам, что бог создал просто свободы, а не
субстанции; но приходится признать, что эти свободы погружены в среду
детерминизма, оставляющего им очень мало простора для деятельности.
Почему, в таком случае, не создал он нас более свободными и еще более
свободными и столь же свободными, как он сам? Потому, что в таком
случае мы были бы богами. Ну, что же, тем лучше; богов не может быть
слишком много: мы не видим, почему бог должен быть один, «как будто
число — закон более могущественный, чем он». Мы не видим, почему
творец, размножаясь, вынужден был бы сам понизить и уменьшить эту
божественную жизнь, которую он пожелал разделить; мы, во всяком
случае, не видим, почему плодовитость бога могла бы быть лишь
вырождением.
Во всяком случае, за неимением других атрибутов, мы должны были
бы обладать максимумом возможной свободы: если допустить, что мы не
можем быть свободны по образу божию, то наша свобода должна была бы
отличаться от его свободы лишь некоторым минимумом. Этот минимум,
который всегда можно было бы уменьшить, должен был бы быть меньше
всякой данной разницы, всякого данного количества, он должен был бы
быть бесконечно мал, практически равен нулю. Нам далеко до этого, и
если бог дал нам свободу, то он оказался очень скуп на нее.
По правде сказать, говорить, что мы обладаем свободой, подобной
той идеальной свободе, которую приписывают богу и которой придают
бесконечную цену, значит неправильно выражаться. Свобода,
оставляемая нам религиями, есть свобода воли, возможности делать добро и зло,
возможность, идея которой, повидимому, не соответствует идее о боге. Не
«входя в рассмотрение того*, чем была бы подобцая возможность и в чем
состояло бы ее нравственное значение, всегда можно спросить себя,
почему наша свободная воля окружена условия*;? столь неблагоприятными,
столь способным заставить ее пасть? Единственный ответ заключается
306
в -классической теории испытания. Делать из испытания объяснение мира
все равно, что предположить отца, подвергающего своих детей, с целью
испытать их добродетель, всем искушениям порока и» преступления,
заранее зная; что дети его падут. Это — догадка нравственно недопустимая,
представление, достойное тех далеких времен, когда отеческое сердце было
более черство, чем в настоящее время. Кроме того, испытывать можно
лишь существа истинно сознательные: нравственную альтернативу можно
предложить только им одним. Но обдуманная сознательность занимает
так мало места ©о вселенной! Почему же и ради какого испытания
минералы и растения удерживаются в состоянии сна и глухом томлении
небытия, а животные раздираются страданием жизни и смерти, не будучи даже
в состоянии, подобно нам, извлечь из этих страданий возбуждение
нравственной воли какое бы то< ни было улучшение?
Последнее убежище христианства и большинства религий состоит
в идее «падения». Но это о&ьяснение зла посредством первородного fpexa
сводится к объяснению зла самим злом. Для того, чтобы мнимая
свободная воля могла согрешить, нужно, чтобы нечто дурное уже было в ней или
вокруг нее: грех никогда не бывает первым. Тот не падает, на чьем пути
нет каменьев, чьи ноги крепки, и за кем следит око господне. Не бывает
треха без искушения, что наводит нас на мысль о том, что бог был
первым искусителем, — в таком случае грехопадение существ, вызванное
богом, есть его собственно грехопадение. Чтобы объяснить первородный
грех, источник всех последующих, грех Люцифера, богословы и
придумали, вместо чувственного искушения, искушение умственное: ангелы
грешат лишь гордыней, и грех их исходит, таким образом, из самой
глубины их существа. Но гордость, это заблуждение ума, в действительности
лишь происходит от его близорукости. Не ©сего ли полнее и возвышеннее-
то знание, которое всего лучше сознает свои границы? Гордость, стало быть,,
дается, так сказать, заодно с узостью знания: гордость антелов
происходит лишь от бога. Зло желают и делают лишь в силу логических
оснований, но не может быть логических оснований против самого разума.
Если, как полагают сторонники свободы воли человеческий ум,
движимый гордостью и внутренней испорченностью, способен иногда сам себе
создавать мотивы для совершения зла, то он, во всяком случае, может это
лишь там, где это знание ограничено', двусмысленно, недостоверно:
практическое колебание возможно лишь там, где нет абсолютной
интеллектуальной очевидности; нельзя грешить при свете и против света. Итаку
Люцифер, по самой природе своей был непогрешим. Злая воля рождается
лишь из противоположности, которую несовершенный ум по ошибке видит
в мире гипотетически совершенном, между собственным благом и блатом
всех. Но если бог и его творение действительно совершенны, подобная
антиномия между личным благом и благом всеобщим, которая уже
представляется самым высоким человеческим умам лишь временной, конечно,
еще больше покажется такой архангелу самого ума, «еветоносцу» мысли.
Знать — значит участвовать, до известной степени, в сознании высшей
истины, в божественном сознании; обладать всем знанием — значило бы
сконцентрировать в себе все отблески самого сознания бога. Как из всей
этой божественности могло бы выйти нечто сатанинское?
В настоящее время, когда кто-нибудь из людей совершит
преступление, ответственность за которое нельзя 'возложить ни на воспитание, ни
на нравственную среду, ни на слишком сильное искушение человеческой
плоти, ученые обращаются к предкам виновного и в них ищут
объяснения этой аномалии, убежденные в том, что они имеют дело с случаем ата-
20*
307
визма. Первенец божий не мог согрешить по этой причине. В то время,
когда мир был молод, прекрасен и полон добра, первое грехопадение
было бы более поразительно, чем самый этот мир; это было бы истинное
творение. Сатана, в качестве творца, стал бы выше бога: его
нравственное fiat nox превзошло бы fiat lux гениальностью и творческим
могуществом. Повторяем еще раз: всякое религиозное объяснение зла в конце-
концов делает источником его самого бога или другое существо', более
могущественное, чем бог: в обоих случаях оно одинаково унижает творца.
Это — главная причина, которая все больше компрометирует в глазах всех
философских умов идею творения в собственном смысле этого слова.
(«Безверие будущего»).
А. В. Луначарский
МОЖНО ЛИ ВЕРИТЬ В БОГА
Почему праведник оказывается несчастным и умирает среди
несчастья, а грешник, тот самый насильник и лукавец, которому в жизни
удается все именно потому, что он ничем не брезгует, попирая голову
этого праведника, делается все выше и выше и кончает свою жизнь в
пурпуре и виссоне, и почему этот насильник не испытывает на себе длани
всемогущего бога? Почему бог зримо не протянет руку тому, кто уповает
на него? Если есть справедливый и благий бог, то каждый человек не
может не спросить его: боже, почему ты это терпишь, почему
справедливость твоя может существовать рядом с жизнью, пропитанной неправдой,
которая царит на земле?
На это можно давать разные ответы, и релития давала их. Прежде
всего: бог правду видит, да не скоро скажет: бог грехи терпит; или: ну,
вот ужо придет время, и он все разберет. Почему он терпит, вещь опять
непонятная, ибо благий бот должен был создать наилучший мир. Если он
не создал этого мира, то или он не смог, или не знал, что из него
получится. Если он допускает возможность, чтобы мир мучился и страдал
и говорит: «после дождика в четверг ты получишь блаженство», — я
спрашиваю, почему, по какому поводу богу нужно было играть в игрушки,
заставить целый ряд душ, подобных ему, страдать и грешить для того,
чтобы в один прекрасный день привести все к благу? Но наивный ум
верит в эту сказку: через тысячу лет, через две тысячи, а может быть,
завтра, придет спасение, пути господни неисповедимы!.. Рабская душа
допускает и рабское объяснение. Из послания апостола Павла мы видим,
что когда угнетаемые задаются таким вопросом, то апостол спрашивает:
«А ты кто, человек, что смеешь рассуждать против бога?» Рабское
рассуждение, рабский ответ! В течение всего периода времени, когда в
человечестве преобладало рабство, крепостная зависимость, холопство, они,
эти рабы, эти холопы/очень легко мирились с таким представлением
о боге.
Есть еще другое объяснение, оно также неприемлемо по тем самым
соображениям, о которых я только что говорил, но оно как будто, с
другой стороны, все же более приемлемо. Это, во-первых, так называемое
мессиапское верование. Оно заключается в том, что когда-то в будущем,
благодаря какому-то особому посланнику бога, человеку, людям на земле
будет хорошо жить. Оно относит правду божью к будущему.
S08
Другое представление, которое в христанстве живет рядом с
представлением о страшном суде, — это представление о загробном мире.
В дохристинских религиях мы находим уже это представление.
Исповедующие его говорят, что на земле есть грешники и праведники, что
праведники страдают на земле, а грешники счастливы в этой жизни, но на
том свете будет совершенно иначе. На том свете праведник получит венец
сияющий, будет допущен в рай, где его' будут ласкать гурии, а грешник
будет терзаться всеми муками ада, или, как говорит Тертуллиан, мы будем
сидеть там, словно в театре, и будем смортеть, как будут мучить господ,
которые нас давили1 и мучили здесь, и это доставит нам наслаждение.
И в «книге любви», евангелии, проводится та же мысль. Там
рассказывается о том, как бедняк Лазарь питался крохами, падающими со стола
господина своего. Умер богач, и Лазарь, бедный праведник, сидит на лоне
Авраама, а богач томится в огне и просит, чтобы он дал ему хотя бы
каплю воды, и бедняк (ониг добродушны в большинстве случаев) забыл
обиду и говорит: вот я принесу ему сейчас воды напиться, но Авраам,
который мыслит божественно, т.-е. беспощадно, палачески, говорит: «Нет,
ты не должен этого делать, он должен гореть в огне вечном». В этом
сказалась самая неукротимая злоба, которая направлена против господ, и из
которой вытекло самое евангелие. В этой «книге любви» вы постоянно
увидите изречение «ввергнуть в тьму кромешную, где будет плач и
скрежет зубовный». Нигде самый жестокий правитель не проводит этого так
решительно, как христианский бог. Не смерть, а вечная мука, и притом
самая изысканная, какую только можно себе представить, ждет
трешников.
Теперь мы спрашиваем себя: если это так, если правление божье
может быть признано праведным, потому что он исправляет ошибки па
том свете, и там, на том свете, существует воздаяние, — то можем ли мы
сказать: «Праведен ты, господи, и праведен суд твой»? Нет, мы должны
сказать: «Когда вы, священник, стараетесь спасти таким образом вашего
бога, вы его топите окончательно, вы делаете его совершенно
неприемлемым». Почему?
Сейчас мы это очень легко докажем, и докажем неопровержимо,
самыми простыми терминами, против которых ни одно разумное
существо не может возразить. Бог наказывает грешников. Мы спрашиваем
себя: почему же грешник грешен, по какой причине? Мы знаем, что, по
вашему представлению, если говорим с верующими людьми, бог создал
мир из ничего. Он всемогущ и мог создать его, каким хотел; он всеблаг,—
значит, мог создать самым лучшим; он всеведущ, т.-е. заранее знал, что
выйдет из его создания. И вот он создал такой мир, в котором я
оказался грешником. Я его спрашиваю: почему ты создал такой мир, в
котором я оказался трешным? И никак из этих клещей вы не выйдете, ибо
он не мог создать мир, в котором не было бы грешников. Верующий
человек вам скажет, что бог создал мир безгрешным, но вот Адам взял и
согрешил, и за это мир теперь расплачивается. Я спрашиваю: почему же
Адам, которого бог создал по образу и подобию своему, стал грешить?
Почему он, когда ему Ева подала яблоко, не сказал ему: нет уж,
пожалуйста, не надо, кушай сама! Адам должен был сказать богу: ты,
всемогущий, создал меня плохим вложил в меня плохой характер, а теперь
ты же меня выгоняешь из рая? Где же твоя справедливость? Правда, для
этого как будто есть оправдание. Адам мог оказать: бог создал меня
хорошим, но меня соблазнила Ева. Но и тут оправдания никакого быть не
может, так как Ева создана самим же богом из ребра Адамова. Но Еву
309
соблазнил змей, а это есть дьявол, и тут же радостно заявляют нам, что
бот посеял, видите ли, одну хорошую пшеницу, но пришел «врат
человека» и посеял плевелы, т.-е. все зло происходит от сатаны. Но тогда мы
спрашиваем верующих: эта темная сила — сатана, она равна богу или
нет? Если она приблизительно равна так, как Деникин — Красной армии,
тогда надо с ним драться, и тогда, значит, бог не всемогущ, ибо
всемогущий может все уничтожить в одну минуту. Если сатана — темная сила
зло, то. почему же бог допускает существование сатаны, если в
результате существования сатаны человек, часть человеческих «душ», будет
гореть в аду неугасимым огнем?
Это, конечно, очевидная чепуха, и мы только потому об этом
говорим, что люди старые, которые еще не успели этого продумать, говорят
об этом, как о чем-то разумном. Но когда люди умные, ученые, начинают
повторять те же самые россказни, только иными, более учеными словами,
то мы говорим, что это слабоумие, мешающее им понять истину ибо из их
противоречий выпутаться нельзя. Можно выпутаться, только признав
бога не всеблагим, не всеведущим, не всемогущим.
Но мне кажется, что такого бога верующему человеку не нужно.
Если мы скажем, что бог есть, а мир существует сам по себе, то мы
разрушим единственное очарование, которое есть за богом. И человек очень
могуч, и человек многое знает, и в сердце своем носит добро. Лучше
надеяться, что человек опытом своим и умом уничтожит то неприятное, тот
хаос, который существует в природе. Допускать же существование бога,
который не всемогущ, не всеобъемлющ, это нежелательно ни с какой
стороны. Всемогущий бог, по крайней мере, желателен со стороны сердца.
Но если в мире есть страдание, а оно есть, если в мире есть грех, а он
есть, то в таком случае бог не может быть всеблагим, вездесущим,
всезнающим.
Правда, есть еще одно объяснение: бог дал человеку свободную волю.
От этой-то свободной воли вся беда и произошла. Это жалкий прием!
Хорошо, бог дал ему свободную волю. Знал ли бог, что из этой свободной
воли произойдет зло? Знал, ибо он всеведущ. Итак, он сознательно дал
свободную волю, зная, что она погубит целую массу людей. Что значит
свободная воля? Это значит, что человек свободно проявляет свое «я»,
свой характер, ибо, если я совершил какой-нибудь грех бессознательно,
то даже простой земной суд не судит меня. Он говорит: это случай, это
не в твоей натуре. Судят только за злую волю, но злая воля вытекает из
злой натуры. А как человек получает злую натуру? Разве он сам себя
делает? Он рождается от родителей, каких-нибудь сифилитиков,, его дурно
воспитывают, и он' выходит злодеем. Нет такой воли, которая' бы не
объяснялась какими-нибудь причинами.
И выходит, что, если и виноват человек, нельзя его карать, потому
что злая воля вытекает из его натуры, а натура у него такая, а не иная
потому, что он родился от таких-то родителей, получил такое-то
воспитание, а это все обусловлено причинами и явлениями. Если бы мир был
иной, то каждый человек был бы иной, потому что никакой абсолютной
свободы воли нет. Если бы она была, т.-е. если бы сам собой человек мог
сделать какое-нибудь зло так себе, не для чего и не почему, то это
казалось бы нелепостью. Нет, воля правильно, действенно выражает
человека, когда она сливается с его натурой, и я всегда могу сказать богу:
если моя свободная воля повела меня в дурную сторону, а свободная воля
какого-нибудь другого человека повела его в хорошую сторону, то я
спрашиваю тебя: почему ты мне не дал такой воли, как ему? Почему в меня
310
вложена такая воля, которая влечет в дурную сторону? Если все
происходит от бога, если нет никакого другого источника бытия, то каждый
грех совершает бог. каждое преступление имеет свой корень в нем, и он
не имеет никакого права карать. Если бы бог действительно существовал
и сидел на каких угодно престолах, и был окружен сонмом каких угодно
ангелов, и гремел громами, то современный человек все равно должен
был бы ему сказать: ты тиран, и признавать тебя я все равно не могу, так
как я не раб, а свободный человек!
Если бы такой человек сидел в раю, то он там должен был бы
устроить революцию такую же, как на земле, так как в аду сидят
грешники, которые попали в ад не по своей вине, а по вине бога, не сумевшего
создать такой мир, в котором, не было бы греха.
Поэтому все традиционное представление о божестве совершенно
не выдерживает критики, оно неприемлемо для свободного, гордого
человека, который привык рассуждать своими мыслями, своим разумом,
который не позволит себя морочить и сердце которого полно искренней
любви.
Если мы, люди коммунистической совести, не кричим криком но
поводу каждого страдания, то это потому, что кричать глупо, мы сами во
многом виноваты. А если бы бог был, мы должны были бы быть самыми
страстными богоборцами, ибо бог имел все возможности сделать нас
хорошими, а он сделал нас грешными, жалкими, ограниченными. Достоевский
говорил: «Бога я готов принять, во мира не приемлю». Но так как мир
есть действительность, то незачем омрачать свою мысль, незачем
искушать свое сердце представлением о скверном правителе. Крестьяне
прежде говаривали: сам-то царь хорош, только до него далеко, а до бога
высоко; и, как в царстве какого-нибудь богдыхана творцлось много
неправды, и как какой-нибудь крестьянин считал, что царь все знает, да до
него далеко, и старался подать челобитную какому-нибудь вельможе, —
так, совершенно так же, верующий человек, как мы его наблюдаем
в церквах, начинает молиться какому-нибудь святому для того, чтобы
богоматерь или другие замолвили словечко богу.
Полная аналогия всему тому, что мы видим в отношении земной
жизни! Как какой-нибудь безграмотный крестьянин хочет подать
челобитную и идет к адвокату, потому что он не знает, как говорить с
чиновником, так и крестьянин, когда случится засуха, идет к священнику и
говорит: похлопочи там где нибудь, в небесном департаменте погод, для тебя
лучше сделают.
(«Почему нельзя верить в бога»).
К. Гельвеций
НЕСООБРАЗНОСТЬ РЕЛИГИОЗНОЙ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ
Бог, говорят, добр: но бог — творец всех дел; нужно, значит,
приписать ему все бедствия, которые сокрушают человеческий род. Добро и
зло предполагают два начала, или необходимо согласиться, если это одно
и то же, что нечто — попеременно добро и зло.
Нам говорят, что это справедливо и что бедствия являются
наказаниями, 'полученными людьми за оскорбление бога. Значит, в силах чело^-
века заставить страдать своего бога. Но чтобы оскорбить кого-нибудь,
311
необходимы отношения между ним и нами. Оскорбить кого-нибудь —
значит заставить его испытать чувство печали; но как слабое создание,
получившее от бога свое существо, может действовать против воли
непреодолимой силы, которая никогда не соглашается на беспорядок и на грех?
Правосудие предполагает намерение поступить с каждым так, как
он того заслуживает; и нам говорят, что бог нам ничего не обязан, что
он может, не причиняя ущерба своей справедливости, погрузить творение
своих рук в бездну нищеты. Эти бедствия, говорят нам, преходящие, они
будут лишь временными; но это, таким образом, несправедливо, по
крайней мере, на некоторое время. Именно ради блага он наказывает своих
друзей. Но если он добр, может ли он заставлять их страдать даже
временно? Если он всезнающ, зачем ему заботиться об испытании своих
любимцев, за которых ему нечего опасаться? Если он всемогущ, зачем ему
беспокоиться из-за тщетных заговоров, которые желают создать
против него?
Что это за добрый человек, который не желает (сделать
счастливыми своих ближних? Почему бог не создает счастья для людей?
Ни у кого нет основания быть довольным своей судьбой... Что
отвечают на все это? Пути божьи неисповедимы. В таком случае, по какому
праву желают их осмыслить? На каком основании приписать ему
добродетель, в которую нельзя проникнуть? Какое представление составить
себе о правосудии, которое никогда не походило на правосудие
человека?
Его правосудие уравновешивается его благостью, милосердием и
добротой; но его милосердие есть нарушение его правосудия. Если он
неизменяем, может ли он вмиг нарушить его?
Бог, говорят, создал мир ради собственной славы. Но разве нужно
всевышнему что-нибудь делать ради своей славы? Любовь к славе есть
лишь стремление нравиться себе подобным. Если он восприимчив
к любви, к славе, зачем позволяет он, чтобы его оскорбляли? Чтобы
наказать нас за злоупотребление его милостями? Но зачем позволяет он
злоупотреблять его милостями? Или почему его милости недостаточны,
чтобы склонить меня к действию, согласно его целям? Это потому, что
он сделал тебя свободным. Зачем же он даровал мне свободу, когда он
должен был: знать, что я употреблю ее во зло.
Вследствие этой свободы большую часть людей будут вечно
наказывать за совершенные в этом мире ошибки. Но как, вечные мучения
за преходящий поступок? Что сказали бы мы о короле, который
бесконечно наказывал бы подданного, в пьяном виде мимоходом оскорбившею
его тщеславие, не причинив ему притом никакого действительного
ущерба, особенно после того, как сам король озаботился опьянить его?
Стали бы мы считать всемогущим монарха, который постоянно страдает
от того, что все подданные, за исключением нескольких верных,
презирают его законы, оскорбляют его, обманывают его желания?
Нам отвечают на это, что свойства бога так возвышенны, так мало
сходщ>1 с нашими, что они не имеют никакого отношения к тем же
свойствам, но присущим людям. Однако, в этом случае как же создать о них
представление? Почему теология претендует на их возвещение?
Но бог возвестил и сам заставил людей их познать. Когда и через
кого? Где эти божественные прорицатели? В нелепых противоречивых
сборниках. Я нахожу, что бог мудрости говорил темным, лукавым и
невразумительным языком; что бог добра был жесток и кровожаден; что
бог правосудия был несправедлив и пристрастен, предписал несправедли-
312
вость; что'бог милосердия определил наиболее страшные наказания
жертвам своего гнева.
Отношения между людьми ботом могли основываться только на
моральных свойствах. Если эти моральные свойства не известны людям,
они не могут служить для людей образцом. Как же им подражать?
Нет соизмеримоста между богом и людьми. Но без соизмеримости
нет отношений. Если бот бестелесен, как действует он на тела? Как
тола могут действовать на него, оскорблять ого, волновать его покой,
возбуждать в нем движение гнева? Если горшечник сердится на вазу,
которую он сделал, за то, что он плохо ее сделал, по себя ли самого должен
он обвинять?
Если бог ничем не обязан людям, то эти последние ничем но
обязаны ому. Нет отношений без взаимности: обязанности основаны на
взаимной необходимости. Если бог не нуждается в них, нельзя и ему быть
обязанным, и люди не в состоянии его оскорблять. Его власть
основывается только на благе, которое он делает людям, и обязанности этих
последних — на благе, которого они ожидают от него. Если бог не обязан
оказывать им это благо, все отношения уничтожены.
Предполагая в боге все человеческие добродетели в степени
бесконочного совершенства, можно ли смешивать их с его метафизическими
атрибутами? Чистый дух, как может он действовать подобно человеку,
существу телесному? Чистый дух ничего не видит, не слышит ни наших
молитв, ни наших криков, не может соболезновать нашим несчастьям,
будучи лишен органов, посредством которых в нас может быть
возбуждено чувство жалости. Поскольку он — дух неизменный, его
намерения не могут изменяться. Он не бесконечен, если природа в целом,
но будучи им, может существовать совместно с ним. Он не всемогущ,
если он позволяет или не предотвращает зла и беспорядка в этом мире.
Он не вездесущ, если его нот в человеке, который грешит, или если он
удаляется в момент, когда тот совершает грех.
Откровение доказывало бы коварство бога. Всякое откровение
предполагает, что бог был в состоянии позволить человеческому роду
погрешить в необходимых познаниях для своего счастья: сделанное не
многим, оно —предпочтение, несовместимое с ого добротой. Откровение
разрушило бы его неизменность, потому что оно предполагает, что он сделал
в одно время то, чего он но сделал в другое. К тому же, что это за
таинственное откровение, т.-е. такое, которое не предназначено для разумного
существа? Если бы нашелся хоть один человек, который не мог ого
понять, то оставалось бы одно: установить несправедливость бога.
Теология в силу противоречивых качеств бога создала для него
невозможность действовать. Если он существует со столь
несогласованными атрибутами, какими ого наделяют, то ничего нельзя извлечь для
установления поведения и богослужений, какие предписывают ему
совершать.
Если он бесконечно добр, зачем ото бояться? Если он бесконечно
мудр, чего ради беспокоиться нам о своей участи? Если он всемогущ,
зачем извещать о наших нуждах и утомлять нашими просьбами? Если
он вездесущ, для чего храмы? Если он господин над всем, для чего жертвы
и приношения? Если он справедлив, как верить, что он будет
наказывать своих любимцев, которых он сделал слабыми? Если ого милость
творит для них все, для чего его благодарить? Если он всемогущ, как
оскорблять его, как ему сопротивляться? Если он разумен, почему
восстает он в гневе против слепцов, которым он сам предоставил дар рас-
313
суждать? Вели он неизменяем, как домогаемся мы изменения его
предначертаний? Бели он непостижим, для чего желать нам создавать о нем
представление?
С другой стороны, если он гневный, мстительный, злой, мы не
позволим больше себе направлять к нему нашу мольбу. Если он тиран, как
любить его? Как любить господина, который дал своим рабам свободу
оскорблять его для того, чтобы, обнаружив их погрешность, крайне
варварски наказать их? Если он всемогущ, как избавиться нам от его
гнева? Если он не в состоянии изменять судьбу, как нам избежать
своей участи?
Итак, с каких бы точек зрения мы его ни рассматривали, нам
незачем ни совершать богослужения, ни обращать^ к нему с молитвами.
Если бы бог существовал, если бы этот бог был существом,
исполненным справедливости, разума и доброты, чего бояться добродетельному
атеисту; который, думая в момент смерти уснуть навсегда, оказался бы
перед лицом бога, которого он не признавал и которым пренебрегал в
продолжение жизни?
О, боже! — сказал бы он,—ты, который сделал себя невидимым,
непостижимым существом, которого я не мог открыть, прости, если
ограниченное разумение, какое ты мне дал, не могло тебя познать. Мог ли я при
помощи моих чувств открыть твою духовную сущность? Мой ум не мог
подчиниться авторитету нескольких лиц, которые признали себя так же
мало просвещенными, как и я, и которые были согласны между собой
только в том, чтобы взывать ко мне принести им в жертву мой разум,
который ты мне дал. Но, о, боже! Если ты нежно любишь свои
творения, то и я их так же люблю, как и ты. Если тебе нравится добродетель,
мое сердце ее постоянно чтило. Я утешал огорченных. Я никогда не
отнимал у бедного его достатка. Я был справедливым, добрым,
чувствительным ...
(«Истинный смысл системы природы»).
Г. В. Плеханов
ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ СВОБОДА И ЕСТЕСТВЕННАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ
Мережковский пишет: «человеческий, только человеческий» разум,
отказываясь от единственно возможного утверждения абсолютной
свободы и абсолютного бытия человеческой личности в боге, тем самым
утверждает абсолютное рабство и абсолютное ничтожество этой личности
в мировом порядке, делает ее слепым орудием слепой необходимости,
«фортепианным клавишем» или «органным штифтиком», на котором
играют законы природы, чтобы, поиграв, уничтожить. Но человек не
может примириться с этим уничтожением. И вот для того, чтобы
утвердить, во что бы то ни стало, свою абсолютную свободу и абсолютное
бытие, он принужден отрицать то, что их отрицает, то есть мировой
порядок, закон естественной необходимости и, наконец, законы
собственного разума. Спасая свое человеческое достоинство, человек бежит
от разума в безумие, от мирового порядка в «разрушение и хаос».
Что значит «абсолютная свобода», утвердить которую человек
хочет^ по словам г. Мережковского, «во что бы то ни стало»? И почему
человек, лишенный возможности утвердить а]бсолютную свободу, должен
S14
считать себя слепым орудием необходимости? Это неизвестно. Вели бы
г. Мережковскому в самом деле удалось проникнуть до глубины
европейской культуры1'), то он выказал бы гораздо больше осторожности в
обращении с понятиями «свобода», «необходимость». В самом деле, еще
Шеллинг говорил, что если бы данный индивидуум был безусловно бвободен,
то все остальные люди были бы безусловно несвободны, и свобода была бы
невозможна. В применении к истории это значит, — как это выяснил
тот же Шеллинг в другом своем сочинении, — что свободная
(сознательная) деятельность человека предполагает необходимость как основу
человеческих поступков. Короче, по Шеллингу, наша свобода не есть
пустое слово только в том случае, если действия наших ближних
необходимы. А это значит, что европейская «культура», в лице своих
глубочайших мыслителей, уже разрешила ту антиномию, которую выдвигает
теперь г. Мережковский в своей критике «сознательного босячества» ...
Наш, будто бы глубоко культурный, автор отстал от философской мысли
культурной Европы более, чем на целое столетие. Это как нельзя более
комично.
По словам г. Мережковского, общая метафизическая исходная точка
интеллигента и босяка сводится к механическому миросозерцанию, т.-е.
«утверждению, кай единственно реального, того мирового порядка,
который отрицает абсолютную свободу и абсолютное бытие человеческой
личности в боге, и который делает из человека «фортепианный клавиш» или
«органный штифтик» слепых сил природы».- В подтверждение этого он
ссылается на рассуждения одного из босяков Горького: «Существуют
законы и силы. Как можно им противиться, ежели у нас все орудия
в уме нашем, а он тоже подлежит законам и силам? Очень просто.
Значит живи и не кобенься, а то сейчас же разрушит в прах сила». На
вопрос своего собеседника: «Значит человеку некуда податься?» — босяк
с несокрушимой уверенностью отвечает: «Ни на вершок! Никому ничего
неизвестно... Тьма!». И этот его ответ представляется г.
Мережковскому, как две капли воды, похожим на тот окончательный вывод, к
которому приходит «механическое миросозерцание». Он говорти: «Это, ведь,
и есть научное ignoramus (не знаем), спустившееся до босяцкого «дна».
И здесь, «на дне», оно будет иметь точно такие же последствия, как там,
на интеллигентской поверхности». Но, говоря это. г. Мережковский,
разумеется, совершенно бессознательно показывает не то, что «научное
ignoramus» (не знаем) совпадает с рассуждениями босяка, а то, что он сам
босяк в вопросах этого рода.
Люди, трудами которых создавались элементы «механического
миросозерцания», г.-е. естествоиспытатели, очень часто были совершенно
беззаботны насчет философии. И поскольку они были беззаботны на ее
счет, постольку они совершенно не интересовались вопросами о том, как
относится понятие о человеческой свободе к понятию о естественной
необходимости. Но поскольку они интересовались философией и поскольку
они занимались вопросом о взаимном отношении названных мной
понятий, постольку они приходили к выводам, не имеющим ничего общего
с разглагольствованиями несчастного горьковского пропойцы.
Знаменитое ignoramus, — вернее, ignorabimus — Дюбуа-Раймона, относится к
вопросу о том, почему колебания известным образом организованной мате-
*) Мережковский (в- своей статье на немецком языке о «Религии и революции»)
причисляет себя к людям, проникшим до глубины европейской культуры. — Прим.
редакции.
315
рии сопровождаются, так называемыми, психическими явлениями. И то
обстоятельство, что наука лишена возможности найти ответы на
подобные вопросы, еще не дает г. Мережковскому ни малейшего права
приписывать ее мыслящим, т.-е. философски развитым представителям, нелепое
противопоставление «человека» силам природы. Современным
естествоиспытателям достаточно было усвоить себе приобретение классического
немецкого идеализма, т.-е. выводы Шеллинга и Гегеля, чтобы смотреть
на такое противопоставление, как на один из самых ярких образчиков
самого ребяческого вздора. Уже со времен Бэкона и Декарта
естествоиспытатели смотрели на человека, как на возможного господина
природы: tantum possumus quantum scimus (столько можем, сколько знаем).
И это измерение власти человека над природой объемом знания ее
законов, как небо от земли, далеко от того «некуда податься», которое г.
Мережковский навязывает науке в качестве ее окончательного вывода.
И тот факт, что г. Мережковский мог навязать науке этот -смешной
вывод, еще раз показывает нам, как велико несоответствие между ето
теоретическими претензиями и теми теоретическими средствами, которыми
он располагает.
Г. Мережковский думает, что всякий. сторонник «механического
миросозерцания» должен "смотреть на человека, как на «фортепианный
клавиш» или «органный штифтик» слепых сил природы. Это пустяки.
Но пустяки тоже являются не без причины. Почему же придумал свои
пустяки наш «глубоко культурный» автор? Потому, что он не может
отделаться от точкя зрения анимизма.
О точки зрения анимизма, достигшего известной степени развития,
человек, как и вся вселенная, есть создание бога или богов. О тех пор,
как человек приучается смотреть на бога как на своего отца, он,
естественно, начинает считать его источником всяких благ. И так как
свобода во всех ее разновидностях представляется ему благом, то он и видит
в боге источник своей свободы. Поэтому нет ничего удивительного в том,
что отрицание бога представляется ему отрицанием свободы. Эта
психологическая аберрация вполне естественна на известной стадии
умственного развития человечества. Но она все-таки есть не более, как
аберрация. Основывать на ней критику механического миросозерцания —
значит просто-на-просто не понимать ее природы и обнаруживать наивность,
совсем недостойную «глубоко культурного» человека.
Люди,- принадлежащие к этой среде, ищут пути на небо по той
простой причине, что они сбились с дороги на земле. Самые великие
исторические движения человечества представляются им глубоко
«мещанскими» по своей природе. Вот почему один из них равнодушны к этим
движениям или даже враждебны им, а другие, доходящие до
сочувственного к ним отношения, все-таки находят необходимым окропить их
святой водой для того, чтобы смыть с них проклятие их «материального»
экономического происхождения.
(«О так называемых религиозных исканиях в России. Евангелие от декаденса»).
Э. Геккель
ИеЛЛЮЗИЯ ЛИЧНОГО БЕССМЕРТИЯ
Аргументы, приводимые вот уже две тысячи лет в пользу
бессмертия души, вытекают большей частью не из стремления к истине,
а из так называемой «душевной потребности человека», т.-е. из области
фантазии и поэзии. Говоря словами Канта, бессмертие души является
не объектом чистого разума, а «постулатом практического разума».
Но этот последний вместе с его спутниками: «душевными
потребностями», «потребностями морального воспитания» и т. д., мы должны
оставить совершенно в стороне, если искренно стремимся к познанию истины;
истина доступна нам исключительно на почве эмпирически обоснованных
и логически продуманных заключений чистого разума. Атанизм1), как
и теизм, может быть предметом мистической фантазии и
трансцендентной «веры», но не объектом логического мышления и науки.
Анализ отдельных доводов, приводимых в пользу бессмертия души,
показывает, что ни один из них не построен на действительно научной
яочве; ни один из них не уживается с теми очевидными истинами, к
которым пришли за последние десятилетия физиологическая психология
и теория развития. Теологический аргумент, заключающийся в том, что
личный бог-творец вдохнул человеку бессмертную душу (обыкновенно
под этим понимается часть его собственной божеской души), является
чистейшим мифом. Космологический аргумент, что «нравственный
распорядок мира» требует вечного существования души, ни на чем не
основанный догмат. Телеологический аргумент, что «высокое назначение»
человека требует окончательного развития его несовершенной земной
души на том свете, покоится на ложном антропизме. Моральный
аргумент, что разочарования земной жизни, обманутые ею надежды должны
быть вознаграждены на том свете «верховной справедливостью», —
благое пожелание, не более. Этнологический аргумент, что вера в
бессмертие, точно так же, как вера в бога, врождена всем людям, —
фактическая ошибка: Онтологический аргумент, что душа, как «простая,
бестелесная и неделимая сущность», не может- исчезнуть со смертью
индивидуума, вытекает из совершенно ложного взгляда на явления духовной
жизни, — это спиритуалистическое заблуждение. Вое эти и аналогичные
«доводы в пользу атанизма» не имеют теперь места; их окончательно
опровергла научная критика последних десятилетий.
В виду важности разбираемого вопроса, мы считаем нужным рядом
с этими, сплошь и рядом эфемерными, доказательствами в пользу
атанизма, привести и научные, мотивированные доказательства против
атанизма. Физиология учит нас, что душа человека точно так же, как и
душа высших животных, представляет собой не самостоятельное,
бестелесное существо или сущность, а сумму известных функций мозга; как
и все другие жизненные отправления организма, они обусловлены
физическими д химическим процессам, подлежат, стало быть, закону
субстанции. Гистологический аргумент покоится на крайне сложном
микроскопическом строении мозга; согласно ему, действительными
«элементарными органами души являются узловые клетки, ганглии мозга».
Экспериментальный аргумент заключается в том, что отдельные психи-
*) Вера в личное бессмертие человека (от слова «атанес» или «атанатос» —
бессмертный). — Прим. ред.
317
чеокие процессы связаны с известными областями нашего мозга и
невозможны без их нормального участия: разрушая то или другое место
в мозгу, мы уничтожаем также его функцию. Рельефнее всего это-
проявляется в «мыслительных органах», единственном центральном
инструменте нашей «духовной жизни». Патологический аргумент является
дополнением к физиологическому: когда болезнь разрушит известные
области в мозгу (центральный орган языка,.зрения, слуха), прекращаются
также,их функции (речь, зрение, слух); сама природа устраивает здесь
физиологический эксперимент, не допускающий никаких сомнений.
Онтогенетический аргумент ссылается на непосредственные факты
индивидуального развития души: эволюция души ребенка совершается на
наших тлазах; юноша и мужчина созревают в зрелый продукт, а на
старости лет наступает постепенный упадок души, вследствие старческой
дегенерации мозга. Филогенетический аргумент основывается на
данных палеонтологии, сравнительной анатомии и физиологии мозга. Эти
дополняющие друг друга дисциплины не оставляют никакого сомнения
в том, что мозг человека (следовательно, и функция его, душа)
постепенно, шаг за шагом, развился из мозга млекопитающих, а в дальнейшем
из мозга низших позвоночных животных.
Все эти исследования — их можно было бы дополнить многими
другими результатами современной науки — доказали полную
несостоятельность старого догмата о «бессмертии души»; в двадцатом столетии
этот догмат может быть разве только объектом трансцендентной веры,
но не предметом серьезных научных исследований. «Критика чистого
разума'» доказывает, впрочем, что эта достопочтенная вера является
в сущности чистейшим суеверием точно тщ же, как и сопутствующая ей,
обыкновенно, вера в «личного бога». Однако, и теперь еще миллионы
«верующих» — не только в темных народных массах, но и в
образованных, очень образованных слоях общества, считают это суеверие самым
дорогим достоянием своим, «высшим благом» человека. Поэтому нам
придется подробнее заняться этим кругом идей и, предполагая
искренность их, подвергнуть их критическому разбору, оценить их
действительное-значение. Объективный критик приходит при этом к тому
убеждению, что значение этих идей покоится, главным образом, на
самовнушении, отчасти же .вытекает из неспособности к дравильным
суждениям и логическому мышлению. По моему глубокому и честному
убеждению, отказ от этих «атанистических иллюзий» не только не будет
тяжелой потерей для человечества, а, наоборот, принесет ему
громадную пользу.
«Душевная потребность» человека в бессмертии души вытекает,
главным образом, из следующих двух источников: из надежды на
лучшую жизнь на том свете и из желания встретиться там с милыми нашему
сердцу родными и друзьями, которых похитила у нас безжалостная
смерть. Что касается первой надежды, то она вытекает из естественного
чувства возмездия, которое, при всей своей субъективной справедливости,
не имеет под собой объективной почвы. Мы требуем возмездия за
бесчисленные недостатки и печальные стороны земной жизни, но не имеем
никакой реальной надежды на это, никакой серьезной гарантии, что так
оно и будет. Мы требуем бесконечной, вечной жизни, которая дала бы
нам только радость и наслаждение, но ни единого разочарования или
горя. Большинство людей представляег себе эту «блаженную жизнь
на том свете» в очень странном виде. Удивительнее всего, что
«бестелесная душа» предается там самым материальным наслаждениям. Фан-
318
тазия верующего рисует себе это вечное блаженство сообразно с его
личными вкусами и желаниями. Американский индеец надеется найти
в раю чудесные места для охоты, изобилующие буйволами и медведями;
эскимоса ожидают в раю сверкающие на солнце льдины со множеством
белых медведей, тюленей и прочих полярных животных; кроткий дущою
сингалезец рисует себе рай наподобие своего райского острова Цейлона
с ето роскошными садами и лесами, с той лишь разницей, что там всегда
будут в его распоряжении неисчерпаемые запасы риса, кокосовых орехов
и других плодов; мусульманин-араб убежден, что в раю его ожидают
тенистые рощи, великолепный ковер цветов, живительные струи и
красавицы-гурии; католический рыбак в Сицилии рисует себе рай в не менее
заманчивых красках: богатейший улов рыбы, вкуснейшие макароны и
вечное отпущение всех грехов — последние он оставляет за собой и для
будущей жизни; протестантский житель северной Европы видит в раю
цеобъятный готический собор, в котором раздаются «вечные гимны богу-
Саваофу». Одним словом, каждый верующий ожидает от своей вечной
загробной жизни прямого продолжения своей индивидуальной земной
жизни, но лишь в значительно «увеличенном и улучшенном издании».
Подчеркнем же безусловно материалистический характер
христианского атанизма, находящийся в тесной связи с нелепой догмой о
«воскресении плоти». Тысячи картин знаменитых художников изображают нам
идиллию загробной жизни: «восставшие из гроба мертвецы»
прогуливаются в раю, ни дать, ни взять, как на любом столичном бульваре;
у них при себе их «возрожденные души»; но они лицезрят бога своими
телесными очами, сльппат голос его своими земными ушами, славословят
его песнопениями из своего бренного горла и т. д. Одним словом,
новейшие обитатели христианского рая точно так же состоят из души и тела,
наделены всеми телесными органами,- как «бессмертные» турки и арабы
в прелестных райских садах Магомета, как и древне-греческие полуботи
и герои на Олимпе, наслаждающиеся нектаром и амброзией за отолом
Зевеса.
Какими великолепными красками ни рисуйте эту «вечную жизнь»
в раю, в конце концов, она неминуемо должна будет надоесть вам. А тут
еще «вечность». Беспрерывно вести это монотонное существование?
Глубокий миф о «Вечном жиде», о том, как несчастный Агасфер тщетно-
стремится найти себе покой, должен был открыть нам глаза на прелести
этой «вечной жизни». Мы не можем желать себе другой, лучшей доли
после трудовой честной жизни, как вечного покоя могилы: «Упокой,
господи, душу усопшего раба твоего!».
Каждый образованный и мыслящий человек, знакомый с
геологическим летосчислением, представляющий себе эту длинную вереницу
миллионов лет, должен будет при беспристрастной оценке согласиться
с нами, что банальная идея «вечной жизни» является даже для самого
совершенного из смертных не великим утешением, а страшной угрозой.
Кто отрицает это, тот не способен к ясному мышлению, к логическим
суждениям.
Самым главным и законным источником нашей веры в бессмертие
является надежда встретиться на том свете с нашими дорогими родными
и приятелями, преждевременно похищенными у нас безжалостной
смертью. Эта надежда тоже оказывается эфемерной. Кроме того, ее
во всяком случае должно отравить то обстоятельство, что вместе с
милыми нашему сердцу лицами нам предстоит встретиться там и с другими,
менее приятными нам знакомыми, со всеми нашими врагами, портив-
319*
пшми нам кровь на этом свете. Даже на почве интимных отношений
для многих возникли бы здесь досадные загвоздки! Многие мужья, не
колеблясь, откажутся от всех благ рая, если уверятся, что им предстоит
там «вечно» иметь подле себя свою «дражайшую половину», а тем паче
тещу. Сомнительно также, пришлась ли бы эта райская жизнь по вкусу
Генриху VIII, который должен был бы делить ее со всеми своими восемью
женами; а тем более польскому королю Августу Сильному, который
осчастливил своей любовью более ста женщин и прижил с ними 352 детей.
Он находился в самых лучших отношениях с папой, «наместником бога
на земле», а потому непременно попал бы в рай, несмотря на все свои
недостатки, несмотря на то, что его нелепые военные авантюры стоили
жизни более ста тысяч саксонцам.
Еще один вопрос представляет неразрешимые затруднения для
верующих атанистов: в какой стадии индивидуального развития отлетевшая
душа человека ведет свое «вечное загробное существование»? Умирает,
предположим, ребенок: что же, происходит его душевная эволюции и на
небе, согласно тем же жестоким законам «борьбы за существование», как
и на земле? Талантливый юноша, падающий жертвой братоубийственной
войны, лишь на том свете воспользуется дарами, которыми щедро
наделила его природа? лишь в царствии небесном проявит свои выдающиеся
духовные способности? А впавший в детство старец, во цвете лет
прославившийся своими делами на весь мир, на том свете вынужден будет
вечно оставаться в состоянии старческого' бессилия? или же дух его
проделывает там обратную эволюцию, возвращается к прежней стадии
расцвета? Но если бессмертные души подвергаются на Олимпе процессу
обновления, становятся там во всех отношениях совершенными
существами, то личность, как таковая, теряет для них всякий интерес и
прелесть.
Здравый смысл разбивает также антропистический миф о
«страшном суде», о делении всех человеческих душ на две больших категории,
из которых одной суждено вечное райское блаженство, другой — вечная
мука ада (в скобках заметим, что на эти муки осуждает их тот самый
бог, который считается «источником любви!»). Ведь, сам этот
любвеобильный бог «создал» условия наследственности и приспособления, благодаря
которыми баловни судьбы необходимо должны стать праведниками, а
несчастные пасынки ее с такой же необходимостью становятся грешниками,
осужденными на «геену огненную».
Если собрать вое бесчисленные, пестрые мифы, -которые в течение
тысячелетий возникли у различных народов на почве веры в бессмертие,
мы получим изумительный, фантастический калейдоскоп. Большинство
этих мифов кажутся нам теперь совершенно абсурдными: все они
совершенно несовместимы с современным развитым естествознанием; а, между
тем, они и в наше время играют еще очень важную роль и в качестве
«постулатов практического разума» оказывают чрезвычайное влияние на
•воззренио индивидуумов и судьбы народов1).
*) Попы всегда стараются использовать тайну смерти как аргумент в пользу
идеи бога: «Вот живет человек, и вдруг его нет. Неужели с его смертью исчезла его
личность, неужели за гробом ничего нет? Стоит ли родиться, если сб смертью все
кончается для человека?»
Конечно, нельзя отрицать, что страх смерти в значительной степени питает
религию. Но в то же время необходимо учесть, что страх смерти не всегда и не для
всех так уж значителен. Большей частью разговоры о страхе смерти страдают
большим преувеличением. Стоит вспомнить, как спокойно умирает старик-крестьянин,
который уверен, что его налаженное хозяйство не расстроится его детьми, или как
320
Идеалистическая и спиритуалистическая философия нашего
времени, конечно, не может не согласиться, что эти ходячие,
материалистические представления о бессмертии души — чистейший вымысел: вместо
них она преподносит нам более утонченные гипотезы о бестелесном
душевном существе, о платонической идее или трансцендетной душевной
субстанции. Но наше реалистическое мировоззрение не нуждается в этих
туманных и неуловимых представлениях; ему нет от них никакого проку:
они не удовлетворяют ни каузальной потребности нашего рассудка, ни
наших желаний. Если подвести итог тем результатам, к которым пришла
современная антропология, психология и космология по вопросу об ата-
низме, то мы должны будем категорически сознаться себе, что вера в
бессмертие человеческой души — догмат, находившийся в неразрешимом;
противоречии с самыми достоверными положениями современного
экспериментального естествознания.
(«Мировые загадки»).
спокойно встречает смерть красный герой, стоящий под дулом врага. В этом
отношении особенно интересны некоторые воинстявенные племена ('напр., юеверо-теритсаятакие
индейцы), которые не столько боятся смерти, сколько позорной смерти, и поэтому,
умирая, громко хохочут, чтобы их не считали трусами. Разговоры о страхе смерти
идут прежде всего не от деятельных людей, которым некогда философствовать о смерти,
а от бездельников, которые с жиру бесятся, испробовав все сладости жизни. Во всяком
случае, прав был древний мудрец-безбожник Эпикур, который говорил, что смерти
нечего бояться, ибо, когда мы живем — ее нет, а когда она пришла — нас уже %нет.
Но почему же всетаки мы в той или иной степени боимся смерти? В настоящее
время в основном этот вопрос выяснен. Именно, целый ряд крупных ученых, с одной
стороны, на основании изучения явлений старости Мечниковым, с другой — на
основании работ Штейнаха над «омоложением» животных и людей, доказали нам, что
наша смерть не является вполне естественной смертью, что последняя очень редка
у человека. Обычные явления страсти ненормальны, и старческий возраст — это
форма болезни или он сам обусловлен болезнями. Иначе говоря, наша обычная
старость имеет не физиологический характер, а болезненный, патологический. Она
преждевременна и вызывается разными совершающимися в организме самоотравлениями
и ослаблением деятельности определенных желез. Вот почему наша старость так мало
желательна, и смерть вызывает в человеке лишь страх.
Однако, можно надеяться, что развитие наших знаний о старческих изменениях
в организме, в *,вязи с применением принципов предупреждающей медицины и гигиены,
даст людям возможность доживать до нормальной, здоровой старости; а нормальная
старость должна и будет наступать гораздо позднее, чем ныне, так что срок жизни
здорового человека будет увеличен. При таких условиях смерть должна будет
представлять собой спокойное, безболезненное явление. У людей уже, естественно, не будет
чувства страха перед смертью. Наоборот, у них разовьется инстикт естественной
смерти, примиряющий жизнь со смертью, смягчающий переход человека от бытия
к небытию. Потребность смерти на пределе жизни будет ощущаться так же
естественно, как потребность во сне ощущается к концу долгого дня. Человек будет не
умирать, а отмирать, и поэтому он научится рассматривать закат своей жизни, как
простой, вполне естественный физический процесс. И приближение рокового момента
смерти будут так же благословлять, как теперь его проклинают. А вместе с тем вера
в личное бессмертие, этот основной догмат религии, будет окончательно преодолена,
сама собой исчезнет.
Далеко еще такой день. Он наступит тогда, когда наука будет гореть более
ярким, чем теперь, светом, когда искоренены будут такие болезни, как чахотка,
сифилис и пр., имеющие общественные корни, и когда люди будут жить согласно
указаниям науки. А это буд^т только при коммунизме, ибо, конечно, только тогда будут
уничтожены причины социальных болезней и не будет тех препятствий, которые не
дают науке свободно развиваться и свободно применять свои достижения к жизни. —
Прим. рец.
Г. Гурев 21
321
А. Форел
КАК ОБСТОИТ ВОПРОС О ЗАГРОБНОЙ ЖИЗНИ?
Чтобы утешить человека в его жизненных неудачах, его полная
страха перед таинственными неведомыми силами природы фантазия
создала религию, сулящую ему рай — вечную, святую, 'счастливую,
освобожденную от страданий, загробную жизнь. Это обещание дает
возможность самым несчастным переносить самые ужасные пытки, так как они
убеждены, что будут счастливы на нобе. Часто даже религии отвадят
более почетное место тем, чьи страдания в земной жизни были глубже
и лишения тяжелее 0.
Эта надежда на будущую жизнь как будто способна утешить
несчастных. Но она имеет в то же время большой недостаток. Вселяя
презрение к земной жизни, она отодвигает ее на задний план и таким образом
парализует высшие стремления человечества, старающегося улучшить
свою судьбу, повысить качество и ценность расы на нашей планете. Но
зачем улучшать свою судьбу здесь, на земле, когда самые несчастные
в течение своего короткого земного существования становятся
счастливейшими в вечной жизни?
Нас обвиняют в том, что, отнимая надежду на рай, мы тем самым
вырываем у множества бедных людей их единственную надежду здесь, на
земле. Справедливо ли такое обвинение? Для известных личностей,
возможно, это так, но мы отрицаем справедливость этого по отношению
к широким массам.
В действительности вопрос о загробной жизни обстоит так:
1) либо существует один только рай без ада, 2) либо существуют
аба вместе: первый — для обращенных, второй — для необращенных, как
считало средневековое христианство и ныне еще — католицизм и даже
ортодоксальный протестантизм.
Предположим, что существуют оба. Если так, то я утверждаю, что
у широких масс страх перед адом пересиливает надежды на рай, и что
идея полной смерти индивидуума утешительнее надежды на рай,
неразрывно связанной со страхом "опасности вечных пыток. Допустим, что
этот страх и эта надежда, вместе взятые, заставляют некоторых людей
несколько упорядочить свое поведение. Если это так, то такой способ
Заставить улучшить свое поведение не этичен, так как он покоится на
эгоизме и скорее вызывает деморализацию и вырождение нравственности,
чем паднятие нравственного уровня и укрепление его.
Но существует еще учение многих -современных протестантов,
которые почли за лучшее уничтожить преисподнюю, а рай сохранить
исключительно для верующих и обращенных, предоставляя остальным умирать
окончательна. Заметим, что в этом случае, конечно, отпадает страх перед
вечным наказанием как силой, сдерживающей от дурных поступков. Не
говоря уже о том, насколько заманчива такая перспектива, чтобы она
могла удовлетворить всех людей, такое верование крайне наивно, ибо зло
реальна, — и отсюда возникло представление о дьяволе. После того как
баг до сих пор не маг еще справиться со злом на земле, нужно быть
г) А. Форель — один из наиболее выдающихся современных врачей —
критикует идею загребной жизни рационалистически, .с точки зрения «здравого смысла»,
(-подобно ютарым французским материалистам Голь'баху, Гелъведшо и др.). а нэ
с точки зрения классовых интересов пролетариата. Несмотря на это, его мысли, кат:
и мысли Гсккеля, заслуживают внимания 'антирелигиозников. — Прим. ред.
322
слепым оптимистом, чтобы утверждать и верить, что он в будущей жизни
вполне одолеет дьявола. Коротко говоря, здесь мы имеем дело с вымыслом
какого-нибудь теолога, имеющим целью заставить бедняков спокойно
сносить свою жалкую участь. Но такой обман чересчур уже детски наивен,
чересчур прозрачен для того, чтобы современные народные массы дали
усыпить себя им. Теперь такая перспектива может утешить разве
экзальтированного мечтателя или мистически настроенную натуру. Но они и без
того почти всегда находят утешение в сверхъестественных мечтаниях, и
если многие и составляют исключение, то, право же, не стоит только ради
них вводить в обман все человечество и тормозить его прогресс. Скорее
мы сами должны взять на себя «божественную» миссию изгнания
дьявола, т.-е., насколько возможно, устранять зло и страдания.
Таким образом, весь вопрос сводится к тому, чтобы узнать, имеет ли
под собой какую-нибудь почву надежда на загробную жизнь, или не
имеет. Ибо между этими двумя исключающими друг друга
мировоззрениями лежит целая пропасть: в одном случае речь идет о жизни только
для этого мира, а в другом—для неба. До сих пор, однако, человеческое
знание нигде не обнаружило никаких следов рая, загробной жизни или
личного бога. Беспощадное знание, которое стремится все обосновать
и анализировать, не страшится никакой тайны, исследует вдоль и поперек
небо вплоть до туманных пятен, анализирует бесконечно малые атомы
живых клеточек, как химических препаратов; разлагает на основные
элементы состав солнца; воздух превращает в жидкость; передает вести
с одного конца земли на другой без помощи проволок и делает
прозрачными непрозрачные тела; вводит в употребление подводные и воздушные
способы сообщения и открывает новые горизонты с помощью радия и
других открытий. Это знание, доказав родство между всеми живыми
существами и проследив всевозможные превращения их, ныне вводят
в область фундаментального исследования орган человеческой души —
moot. Наоборот, чем больше прогрессируют научные исследования, тем
скорее улетучиваются все те продукты человеческой фантазии, которые
прежде называли чудом, откровением, духами и т. п. В результате, вера
в будущую жизнь, чем дальше, тем меньше согласуется с успехами нашего
знания, а это заставляет нас отнестись с большим вниманием к тому
мировоззрению, которое отказывается от ада и рая в пользу смерти, и
которое называют материализмом.
В своем «Микромегасе» Вольтер с удивительной иронией высмеял
присущую почти каждому человеку манию величия, выражающуюся
в беспредельной переоценке своего излюбленного «я». Ужасающее
преувеличение человеком своей индивидуальной ценности побудило ето
объявить себя в измышленных им религиях бессмертным существом,
сотворенным по образу и подобию божию.
Между тем, ему достаточно было лишь немного поразмыслить, чтобы
положить предел всем этим высокомерным мечтаниям. Желая
идеализировать свое «я», христианин, например, в своем воображении рисующий
себя в раю каким-то безгрешным и бессмертным индивидуумом,
бессознательно лишает себя всей своей индивидуальности. Некоторые даже видят
себя там в образе .бесплотных душ, которые не едят и не переваривают
пищи, не чувствуют ни боли, ни горя, не знают половой любви, не растут
и не стареются. Но что же остается тогда от человеческого «я»?
Холодный, ничего не говорящий образ, пустое ничто. Как можно представить
21*
323
собе человека, фиксированного в определенный момент его жизни, который
зсе знает, утратил все те слабости, которые входили в состав его «я», и
который не может более развиваться потому, что ему больше нечего
желать, нечему учиться? Жизнь — это движение, это вечная смена, это
юность, возмужалость, старость и, в конце концов, смерть. Бессмертная
жизнь — nonsens. Чем будет в раю мертворожденное дитя, душа которого
т.-е. мозг, еще не начал функционировать? Его воспоминающее,
сознательное, духовное «я», которое никогда не существовало, не может там
обрести себя. Или, быть может, зародыш также бессмертен, но тогда с
какого же момента? Если с момента зачатия, то мы не должны забывать,
что в это время он представляет не что иное, как продолженное
совместное существование отцовской и материнской клеточек, и что до этого
момента его «я» существовало еще раздельно в его родителях. Один
католический священник, которому я предложил однажды вышеприведенный
вопрос, был поставлен им в большое затруднение-. Он навел справки и
через несколько дней ответил мне, что святой дух вдыхает душу в
каждый зародыш на шестом месяце беременности. Историйка недурна!
У Рима есть на все готовый ответ! К сожалению, ответы эти не всегда
одинаковы. Одна католическая дама заявила мне, что упомянутый
священник заблуждался: поставленный мною вопрос является спорным, по
во всяком случае твердо установлено, что душа вдыхается при зачатии
(с момента соединения обеих зародышевых клеточек). Доказательством
служит то, что в случаях выкидышей крещению подвергались даже очень
малые зародыши, например, на первом или втором месяце беременности.
Она сама окрестила совсем маленький зародыш девушки, имевшей
выкидыш, в то время как он лежал в сосуде. Представьте себе только душу
этого зародыша в раю!
Нет! Или мы должны материализировать рай и поместить в нето все
наши земные слабости и страдания, но тогда, к чему эта замена? Или,
если мы захотим его идеализировать и видеть себя в нем совершенно
преображенными и просветленными, мы фактически этим самым заставим
исчезнуть свое «я» и превратим его в индивидуум, который в
действительности может нам быть совершенно 'безразличен.
(«Жизнь, смерть и бессмертие»).
Г. В. Плеханов
РЕЛИГИОЗНОЕ УТЕШЕНИЕ И МЫСЛЬ О ЕДИНСТВЕ ЧЕЛОВЕКА
С ПРИРОДОЙ
Г. Минский утверждает, что «наука исследует причины, религия —
цели». Создав себе бота по анимистическому рецепту, т.-е., в конце-кои-
цов, по своему образу и подобию, совершенно естественно задаться
вопросом, какие цели преследовал бог, создавая мир и человека. Спиноза давно
уже обратил внимание на эту сторону дела. Он давно и хорошо выяснил,
как много предрассудков зависит от того одного предрассудка, по
которому люди, обыкновенно, предполагают, что вое вещи в природе, подобно
им самим, действуют для какой-нибудь цели, и даже за верное утверждают,
что и сам бог направляет все к известной, определенной цели (ибо они
говорят, что бот сотворил все для человека, а человека сотворил для того,
чтобы он почитал его).
324
Раз поставив определенные цели для деятельности сочиненного
фантома, человек с большим удобствам может придумать все, что угодно.
Тогда уже не трудно убедить себя в том, что «нет смерти», как уверяет
г. Минский и т. п.
Но замечательно, что религиозные искания новейшего времени
вращаются преимущественно вокруг вопроса о личном бессмертии. Еще
Гегель заметил, что в античном мире вопрос о загробной жизни приобрел
чрезвычайное значение тогда, когда, с упадком прежнего древнего города-
государства, разрушились все старые общественные связи, а человек
оказался нравственно изолированным. Нечто подобное мы видим и теперь.
Дошедший до самой крайности буржуазный индивидуализм приводит
к тому, что человек ухватывается за вопрос о своем личном бессмертии,
как за главный вопрос бытия. Если Моррис Баррэс прав, если «я»
представляет собою единственную реальность, то вопрос о том, суждено или
не суждено этому «я» вечное существование, в самом деле, становится
вопросом всех вопросов. И так как, если верить тому же Баррэсу,
вселенная есть не что иное, как фреска, которую, дурно или хорошо, пишет
наше «я», то очень естественно позаботиться о том, чтобы фреска вышла
возможно более «занятной». В виду этого нельзя удивляться ни «чорту»
г. Мережковского, ни чему угодно.-
«Вопрос о бессмертии так же, как вопрос о боге», говорит г.
Мережковский, «одна из главных тем русской литературы от Лермонтова до
Л. Толстого и Достоевского. Но как бы ни углублялся этот вопрос, как бы
ни колебалось его решение -между да и нет, все же вопрос остается
вопросом». Я вполне понимаю, что г." Мережковский увидел в вопросе о
бессмертии одну из главных тем русской литературы. Но для меня
совершенно непонятно, каким образом он проглядел, что русская литература
дала, по крайней мере, один обстоятельный ответ на этот вопрос. Этот
ответ принадлежит... 3. Н. Гиппиус (жене Мережковского Ред.). Он,
между прочим, гласит (стих. «Вечер»):
«Как никогда я чувствую — я твой,
О, милая и стройная природа!
Живу в тебе, потом умру с тобой
В душе моей, покорность и свобода».
Тут есть одна неверная, — и даже очень неверная, — нота. Что
значит: «умру с тобой»? То ли, что когда я умру, то со мной умрет и
природа? Но, ведь, это неверно. Не природа живет во мне, а я в природе,
или, вернее сказать, природа живет во вне только вследствие того, что
я живу в ней, составляя одну из ее бесчисленных частей. И когда эта
часть умрет, т.-е. разложится, уступив место другим сочетаниям, то
природа будет попрежнему продолжать свое вечное существование. Но зато
чрезвычайно тонко подмечено г. Гиппиус чувство свободы, вырастающее,
несмотря на мысль о неизбежности смерти, из чувства единства природы
и человека. Это чувство свободы прямо противоположно тому чувству
рабской зависимости от природы, которое, по мнению г. Мережковского,
должно владеть всякой душой, не опирающейся на костыль религиозного
сознания.
Чувство свободы, порождаемое сознанием единства и родства
человека с природой и нимало не ослабляемое мыслью о смерти, есть как
нельзя более светлое, отрадное чувство1). Но оно не имеет ничего общего
1) Умирая, Плеханов просил, чтобы на памятнике, который будет воздвигнут
на его могиле, была сделана следующая надпись из Шелли: «Он слился воедино с
природой». — Прим. ред.
325
с той «шукой», которая овладевает г.г. Минским и Мережковским каждый
раз, когда они вспомнят о своем брате «лопухе» и своей сестре «обезьяне».
Это чувство нимало не боится «лопушьего» бессмертия», которое так
пугает г. Мережковского. Больше того, оно основывается на инстинктивном
сознании этого, столь презренного, в глазах г. Мережковского, бессмертия:
у кого есть Ьто чувство, тому совсем не страшна мысль о смерти, а у кого
оно отсутствует, тот не отговорится от этой мысли никакими «религиями
будущего».
Современные религиозные искатели апеллируют к потустороннему
фантому именно потому, что в их опустошенных душах чувство это или
совсем отсутствует, или является крайне редким гостем. Они ищут в
религии утешения, как иные, а иногда, впрочем, и те же самые ищут его
в вине. И очень сильно распространен тот взгляд, что религиозные
утешения особенно нужны человеку тогда, когда ему приходится так или иначе
платить дань смерти.
Но всякого ли утешает подобное утешение? В том-то и дело-, что нет.
«Что такое религиозное утешение?» — спрашивает Фейербах.
«Простая видимость. Утешает ли меня соображение, что любящий отец на
небесах отнял отца у этих детей? Можно ли заменить отца? Можно ли
утешить это несчастье? Да, по человеческому можно, а посредством
религии нельзя. Как? Разве меня утешит представление о любящем отце,
если мой бедный ребенок лежит больным целые годы. Нет... Мое сердце
отвергает религиозное утешение» ...
Что скажет об этом г. Мережковский? Мне сдается, что такие речи
заставляют вспоминать о гордых титанах, а не о жалких, спившихся
с кругу босяках.
Г. Мережковский с величайшим презрением отзывается о «лопушьем
бессмертии». Ему, как видно, совсем недоступно то бодрящее чувство
родства человека с природой, которое так поэтически изображено в
приведенном мною стих, г-жи 3. Гиппиус «Вечер». Он думает, что «лопушьим
бессмертием» могут довольствоваться только так называемые грубые
материалисты. Но для полноты характеристики грубых «материалистов»
надо сказать, что представление о бессмертии ,не покрывается для них
представлением о «лопушьем бессмертии». Они говорят также, что
умерший человек может жить в памяти других людей. По прекрасному
выражению Фейербаха, «царство воспоминания есть небо». Но так рассуждать
мог только Фейербах, который, что нам ни говори, был все-таки
материалистом. А вот тонкие господа декаденты таким рассуждением не
удовлетворяются. Ссылка на жизнь в воспошгнании производит на них
впечатление злой насмешки. Эти тонкие господа, вообще говоря, столь
склонные к идеализму, по смыслу которого мир есть лишь наше представление,
испытывают чувство глубочайшей обиды, слыша, что придет такое время,
когда сами они будут жить только в представлении других людей. Им
нужно, чтобы сохранилось именно их дорогое «я»: мир, в котором нет
этого, «я», представляется им лишенным свободы, миром мрачного хаоса.
Фейербах товорил, что только люди, относящиеся к человечеству
равнодушно или даже презрительно, могут не удовлетворяться мыслью
о продолжении существования человека в человеке: «"Учение о
неземном, сверхчеловеческом бессмертии есть учение эгоизма; учение
о продолжении существования человека в человеке есть учение любви».
И это, без всякого сомнения, справедливо. Наши тонкие и возвышенные
господа декаденты потому и видят в вопросе о личном бессмертии
основной вопрос бытия, что они — индивидуалисты до конца ногтей. Ин-
326
давидуалисту же, можно 'сказать, по самому его званию полагается быть
эгоистом.
Но сознание одиночества тяжело. И вот, за невозможностью
отделаться от него с помощью представлений, относящихся к
действительной, земной жизни нашего грешного человечества, измученные духовным
одиночеством индивидуалисты обращаются к небу, ищут «общего бога».
Они надеются, что придуманный ими «общий бот» вылечит их от их
застарелой болезни ийдивидуализма. Выдыбай, боже! Тщетный призыв!
Против индивидуализма не растет никакого зелья на небе. Печальный
плод земной жизни людей, он исчезнет лишь тогда, когда взаимные
(земные) отношения людей не будут более выражатся принципом:
«человек человеку волк».
(«О так называемых религиозных исканиях в России. Евангелие декаданса»).
ОТДЕЛ ПЯТЫЙ
ЗНАНИЕ И ВЕРА
Г. В. Плеханов
СПОСОБЫ ПОДДЕРЖАНИЯ РЕЛИГИОЗНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ
Отчего идеализм восторжествовал над материализмом, несмотря на
очевидные преимущества научного взгляда на природу перед анами-
стаческим?
Это объясняется преимущественно двумя причинами.
Во-первых, в течение очень долгого времени естествознание
подвигалось вперед так медленно, что не могло выбить анимизм из всех его
позиций. Постепенно привыкая смотреть с точки зрения науки на одни
области явлений, люди продолжали держаться анимистических
объяснений в других, гораздо более обширных областях. Поэтому их
миросозерцание продолжало, в общем, оставаться анимистическим. Когда
усложнилась общественная жизнь и участились сношения между отдельными
обществами, образовалась даже совершенно новая область явлений, долго
не поддававшаяся, научному исследованию и потому объяснявшаяся
анимистически, посредством ссылки на деятельность того или другого
бога. Трагедии Еврипида часто заканчиваются словами: «Многим
заявляют силы неба о своем существовании. Многое делают боги сверх
ожидания, — не исполняется то, чего мы ждали, с другой стороны, боги
находят средство осуществить невозможное». Во взаимной борьбе сил
данного народа, а также в международных войнах и торговых сношениях
весьма нередко осуществлялось и осуществляется то, что считалось
невозможным, и не исполняется то, чего ожидали. Этим в весьма
значительной степени поддерживается вера в существование «небесных сил»
и склонность искать у них помощи. Такая вера и такая склонность
замечается даже у тех выдающихся мыслителей, которые выступали
вожаками цивилизованного человечества на пути научного понимания
мира. Родоначальники научной философии природы, — ионийские
мыслители, — продолжали верить в существование богов.
Кроме того, надо помнить еще и вот что. Хотя анимистические
представления возникают и, в течение некоторого времени, продолжают
существовать совершенно независимо от взгляда дикаря на свои
обязанности по отношению к тому обществу, к которому он принадлежит,» но
уже довольно рано этот взгляд начинает сочетаться о названными пред-
328
ставлениями. Впоследствии же, на более высоких ступенях культуры,
анимистические представления, складываясь в более или менее стройные
системы религиозных верований, очень прочно срастаются с понятиями
людей о своих взаимных обязанностях. На эти обязанности начинают
смотреть, как на заповеди богов. Религия освящает нравственность,
сложившуюся в данном обществе, а также и все другие его «устои»,
В законах Ману мы читаем, что творец вселенной создал людей
различных общественных классов из различных частей своего тела. Изо
рта (который провозглашается наиболее благородной частью) —
браминов; из рук — кшатриев; из бедра — вассиев; наконец, из ступни —
судров. Творец хочет, чтобы низшие классы всегда подчинялись-
высшим, и объясняет, что существующее разделение общества на классы
должно остаться неизменным, как последовательность времен года.
Такое освящение данной религией данного общественного порядка
делает из нее значительнуе консервативную силу. Поэтому ею очень
дорожат все консерваторы. И если класс, господствующий в данном
обществе, выдвигает из своей среды людей, занимающихся вопросами
теории вообще и вопросами философии в частности, то эти люди, наверно,
будут заклятыми врагами такого философского учения, которое,
распространяя понятие естественной законосообразности на все
миропонимание, подрывает самую основу религиозных верований. Лукреций в
следующих восторженных выражениях хвалил материалиста Эпикура за то,
что он обезвредил веру в ботов: «Когда на земле человеческая жизнь
была презрительно подавлена под тяжестью религии, которая с неба
показывала свою главу и страшным видом грозила смертным, тогда
впервые греческий муж, смертный, осмелился направить туда свой взгляд и
противостать; он, которого не укротили ни храмы богов, ни молнии, ни
угрожающий треск неба», и т. д.
Подобная похвала предполагает одно из двух: или то, что человек,
от которого она исходит, враждебен существующему общественному
порядку, или же, что он твердо. уверен в его непоколебимой прочности и
считает излишней защиту его «духовным оружием». В своем целом ни
один господствующий класс никогда не восставал против своего
собственного господства. О другой стороны, в нынешнем европейском обществе,
пережившем так много потрясений, господствующие класссы не имеют
ни малейшего основания верить в непоколебимую прочность
существующего порядка вещей. Поэтому они отнюдь не пренебрегают «духовным
оружием», а их идеологи употребляют все усилия для того, чтобы
очистить философию от «разрушительных» элементов.
В переходные эпохи общественного развития, когда известный класс
только что одержал хотя бы и неполную победу над классом, стоявшим
выше ето, и когда в нем еще не совсем улеглось вызванное борьбою
возбуждение мысли, — в такие переходные эпохи общественного развития
философское лицемерие начинает считаться обязанностью мыслящего
человека перед «порядочным» обществом. Это опять может показаться
невероятным. Но это опять верно. Потрудитесь прочитать вот эти строки,
написанные человеком, который был как нельзя более далек от
материалистического объяснения истории философии. Речь идет у него об
Англии конца XVII и первой половины XVIII столетий.
«... Если свободомыслию на первых порах пришлось завоевывать
у церковных властей место для своего собственного развития, то со
временем в нем самом стали выделяться голоса тех, которые выступали
против безграничното господства свободы мысли. Исторический взгляд
329
удалялся все более от пол.ож-ительной религии и даже начал, отчасти под
обратным давлением французской литературы, принимать тот светский
скептицизм, который был - присущ последней. В эксотериче.жом же
учении, напротив, снова все более и более приспособлялись к чисто
политическому или полицейскому пониманию религии... Именно
в высших классах английского, общества выступило на вид это
положение».
Самым ярким духовным выразителем этого положения Виндель-
банд справедливо признавал лорда Болинброка (1662—1751).
«Настолько же проникнутый критицизмом и настолько же мало верующий
в библию, как самый завзятый из деистов, — читаем мы дальше у Вин-
дельбанда, — он (Болинброк. Г. П.) объявляет всю литературу,
распространяющую подобные взгляды, революционной и называет ее чумой
общества: он не скрывает мнения, что свободомыслие есть только право
господствующего класса, и обращает весь эгоизм общественной
исключительности против... популяризации освободительных мыслей. В
гостиной, думает он, следует улыбаться узости и нелепости представлений
положительной религии, и сам он не отступает перед самыми
беззастенчивыми насмешками. В общественной же жизни религия —
необходимая сила, которую нельзя расшатывать без того, чтобы не рушилось
основание государства — послушание масс».
Виндельбанд находил, что в сущности Болинброк «только имел
достаточно смелости, чтобы высказать тайну высшего общества своего
времени, — тайну, существование которой даже не ограничивается одной
этой эпохой». И это, конечно, так. Но ведь если это так, -то история
философских идей в обществе, разделенном на классы, должна
представиться нам в свете того материалистического положения, что не
мышление определяет собою бытие, а, наоборот, бытие определяет собою
мышление. И тогда нынешнее повсеместное торжество идеалистического
миросозерцания явится скорее доводом против этого миросозерцания, нежели
в его пользу.
Кто же не знает, что классовая борьба в западно-европейском
обществе все более и более обостряется? И кто не понимает, что по
этой.причине защита сущебтвующего порядка должна там приобретать в глазах
господствующих классов все большее и большее значение?
Виндельбанд упрекает Болинброка в «сознательном лицемерии» и
говорит, что легко подметить «недальновидность его аргументации». Он
и тут прав. Когда передовые идеологи высших классов рекомендуют
«массам» такие «истины», над которыми сами же они насмехаются
в своем кругу, тогда является та опасность, что их настоящий образ
мыслей сделается, наконец, известным народу и распространится в его
среде. И тогда, действительно, может поколебаться «послушание масс»,
это «основание государства». О точки зрения общественного порядка
существование «исторического взгляда» у идеологов высших классов
весьма нецелесообразно. Общественный порядок будет гораздо лучше
обеспечен, если идеологи эти откажутся от него и заключат
нелицемерный мир с «положительной религией». Но можно ли предъявить им
подобное требование? Как бы ни был у них велик запас «сознательного
лицемерия», нельзя принудить их разделять те верования, которых у них
нет. Значит, надо вновь привить им эти верования, а для этого
необходимо переделать их понятия и, главное, постараться разрушить корен-
щщ теоретическую основу шх опасного для общественного спокойствия
«иштшического взгляда».
330
В чем же состояла основа того английского свободомыслия, которое
начинали считать опасным даже его собственные сторонники из
привилегированной среды? В последнем счете она сводилась к убеждению в том,
что все явления природы неизменно подчинены ее собственным законам.
Другими словами, она состояла в материалистическом взгляде на
природу. В этом легко убедиться, ознакомившись с произведениями таких
•видных представителей свободомыслия, каким был', шлример,, Джои
Толэнд (1670—1772); его учение насквозь пропитано духом
материализма. Поэтому против материализма и следовало прежде всего
.ополчиться тем английским охранителям, которые находили, что
распространение «исотерического взгляда», хотя бы в одних только высших кругах
общества, вредно и с точки зрения англиканской церкви, и с точки
зрения общественного спокойствия.
Когда возникает известная потребность, имеющая большое
значение для целого общества или для данного общественного класса, почти
всегда находятся люда, искренно готовые взять на себя заботу об ее
удовлетворении. В Англии в борьбу со свободомыслием вступил Джордж
Беркли (1684—1753). Но он боролся с ним, именно стараясь разрушить
его материалистическую основу.
Беркли сделался впоследствии епископом. Но из его заметок,
относящихся еще к годам его учения, видно, что он еще в молодые годы
задался целью выковать хорошее «духовное оружие» для защиты
традиционных верований. Еще будучи студентом, он выработал свое
знаменитое положение: esse — percipi (быть — значит быть в восприятии). И не
трудно видеть, что именно располагало его к выработке и защите этого
положения, В его заметках сказано: «То мнение, сотласно которому
существование отлично от существования в виде восприятия, ведет к
ужасным следствиям; это — основа учения Гоббса» (т.-е. материализм. Г. П.).
В другом месте той же записной книжки молодого студента говорится:
«Раз допущено существование материи, никто не докажет, что бог не есть
материя». Чтобы избежать такого «ужасного следствия», оставалось
одно средство: не допускать существования материи. А это и
достигалось учением о том, что бытие равно бытию в восприятии (esse — percipi).
Из него следовал тот успокоительный вывод, что сама материя есть лишь
одно из наших представлений и что мы не имеем права говорить: вот это
есть дело бога, а вот это есть дело природы. «Причина всех явлений
природы есть бог», — объявляет будущий епископ. И надо признать,
что он не ошибался, когда писал: «Если будет хорошо понятно мое
учение, рушится вся эта философия Эпикура, Гоббса, Спинозы и т. д.,
показавшая себя отъявленной противницей религии». Еще бы! Если нет
материи, то нет и материализма.
Но вот что было не совсем ладно. Беркли казалось, что
хорошо понять его учение значит убедиться в его неоспоримой
правильности. На самом же деле это значит открыть его
непоследовательность.
Если esse — percipi, а это положение Беркли твердо отстаивал до
конца своих дней, — то бог разделяет участь материи: подобно ей, он
существует только в нашем представлении. Стало быть, рушится не
только материализм, но также и религия. Учение Беркли новым путем,
приводит как раз к тому «ужасному следствию», которое хотел устранить
благонамеренный мыслитель; Беркли не замечал этого противоречия
или не хотел заметить его. Он был ослеплен желанием во что бы то ни
стало защитить свои традиционные верования.
331
То же самое желание ослепило и Канта, «критическая» система,
которого на самом деле представляет собою попытку согласить известные,
от протестантских предков унаследованные взгляды с выводами
действительно критической мысли XVIII столетия. Кант думал, что их можно
согласить посредством отмежевания области веры от области знания:
вера относится к ноуменам; права науки распространяются только на
феномены, И он тоже не скрыл от своих читателей, зачем понадобилось
ему это- ограничение прав науки. В предисловии ко второму изданию
своей «Критики чистого разума» он прямо говорит, что его к этому
побудило желание очистить место для веры.
Вольтер был непримиримым врагом католической церкви;
вспомните его девиз: «раздавите гадину». Но и Вольтер был, подобно Канту,
убежден, что следует оставить место для веры. Ведя ожесточенную воину
и католицизмом, он был деистом, а проповедывал теизм, т.-е. веру в бога,
награждающего людей за хорошие поступки и карающего за дурные.
И достаточно хоть немного ознакомиться с его доводами в пользу такой
веры, чтобы понять, откуда происходило его убеждение в ее
необходимости. Маллэ-дю-Пан сообщает в своих «Воспоминаниях», что однажды
за ужином д-Аламбер и Кондорсе стали в присутствии Вольтера
защищать атеизм. Тогда «фернейский патриарх» лоспешно удалил из столо-
ъой прислугу, а после этого сказал: «Теперь, господа, вы можете
продолжать ваши речи против бога; я не желаю, чтобы мои слуги зарезали и
обокрали меня нынешнею же ночью, поэтому я предпочитаю, чтобы они вас
не слушали». Это напоминает замечание того же Вольтера о Бойле,
которого он считал апостолом атеизма: «Если бы ему пришлось управлять
пятью или шестью стами крестьян, то он не преминул бы провозгласить
перед ними существование бога, который награждает и наказывает».
С этой стороны знаменитый французский просветитель напоминает
англичанина Болинброка, вообще оказавшего большое влияние на его образ
мыслей; очищая место для веры в интересах общественного порядка,
Вольтер не чуждался, вероятно, и «сознательного лицемерия».
Вольтер был идеологом французского третьего сословия,
боровшегося с духовной и светской аристократией за свое освобождение. О точки
зрения социологии в высшей степени важен тот факт, что классовый
антагонизм, зародыш которого скрывался в недрах этого сословия, еще
до революции выразился в заботах французских просветителей о
выработке миросозерцания, с одной стороны, свободного от устарелых
религиозных и всяких других предрассудков, а с другой—способного удержать
в послушании экономически обездоленную массу населения. Только
незначительная часть французских просветителей XVIII века чужда была
такой осмотрительности и даже посмеивалась над нею. Материалисты
шли до конца там, где «патриарх» останавливался, зревожно оглядываясь
на свою прислугу и на своих фернейских крестьян. Материализм и до
революции далеко не был господствующим направлением философской
мысли в среде просвещенной французской буржуазии. А после
революции эта последняя не хотела о нем и слышать. Ее настроению гораздо
больше соответствовал тогда умеренный и аккуратный эклектизм.
Говоря, что история философии, как и история всех идеологий,
вполне подтверждает собою то материалистическое положение, что не
сознание определяет собою бытие, а бытие — сознание, я вовсе не хочу
сказать, что философы всегда сознательно стремились сделать из своих
систем «духовное оружие», с помощью которого они могли бы отстаивать
интересы своего класса. Это было бы неосновательно. Правда, мы уже от
832
Виндельбанда слышали, что бывают эпохи, когда «сознательное
лицемерие» играет очень большую роль в судьбе философских идей. Но мы
поступим осторожнее, если будем рассматривать подобные эпохи, как
исключительные. Отдельной личности не нужно «сознательного
лицемерия» для того, чтобы стремиться к согласованию своих взглядов с
интересами своего класса. Для этого ей достаточно искреннего убеждения
в том, что данный классовый интерес совпадает с интересом целого
общества. Когда возникает такое убеждение, — а оно естественно возникает
у отдельных лиц под влиянием окружающей их среды,—-тогда самые
лучшие инстинкты человека: преданность целому, самоотвержение и т. д.
предрасполагают его считать ошибочными те идеи, которые грозят
принести с собою «ужасные следствия» для его класса (вспомните молодого
Беркли), и, наоборот, признавать истинными те, которые обещают быть
полезными этому классу. Полезное для данного общественного класса
является истинным в глазах отдельных лиц, этот класс составляющих.
Конечно, пока речь идет о таком классе, существование которого
основывается на эксплоатации другого класса или других классов, до тех пор
этот психологический процесс отожествления полезного с истинным
всегда предполагает некоторую долю бессознательного лицемерия,
заставляющего отворачиваться от всего того, что могло бы помешать ходу
этого процесса. И по мере тото, как данный господствующий класс
приближается к своему упадку, доля эта все более и более увеличивается,
при чем к бессознательному лицемерию присоединяется сознательное.
Сказанное здесь хорошо подтверждается примером нынешней
прагматической философии 1).
Но какова бы ни была роль сознательного или бессознательного
лицемерия в психологическом процессе отожествления полезного с
истинным, процесс этот неизбежен в ходе социального развития, и мы ничего
не поймем в истории идей вообще и в истории философских идей в
частности, если упустим его из виду.
(«Предисловие к книге Деборина»).
Г. Кунов
ВООБРАЖЕНИЕ КАК ОСНОВА РЕЛИГИОЗНОЙ ВЕРЫ
Но какова бы ни была роль сознательного или бессознательного
и нашептываний от разных болезней, я много раз указывал, как
невыразимо глупы произносимые при этом слова, и как нелепы применяемые
при эюм махинации, но п^чти всегда получал в ответ: «И тем, не менее
это помогало; однажды я сам испытал это». Над подробностями приемов
врачевания обыкновенно не задумываются: достаточно, если такой прием,
по их мнению, принес помощь.
Религиозная вера не имеет решительно ничего общето с законами
логики и причинности; ее основа, вопреки Давиду Юму, не научное
познание, a imaginatio, воображение. Это правильно по отношению к вере
не только дикаря, но и современного культурного человека, нередко до
курьеза одержимого самомнением образованности. Спросите только, на-
*) О прагматизме см. отрывок из статьи Деборина в настоящем отделе
хрестоматий» — Прим. ред.
333
пример, верующего католика — и нет никакой необходимости, чтобы
это был простодушный крестьянин с гор, это может быть университетски
образованный человек из большого города, — спросите его, как он
представляет себе непорочное зачатие Христа Марией, зарождение без
предварительного соития, развитие зародыша utero clauso (при закрытой
матке); или спросите его, как он мыслит себе так называемое
пресуществление (превращение хлеба и вина в тело и кровь христовы), — ведь
после освящения жрецом хлеб и вино имеют совершенно такой же вид,
запах и вкус, как и до него — вы очень быстро убедитесь, что
вопрошаемый до сих пор вообще не задумывался над этими 'вещами или имел
о них лишь самые неясные странные представления. А если вы опросите
дальше о подробностях происшествия, то вы получите в ответ: «Я этого
не знаю!» или: «Таково- учение нашей католической церкви; и как
католик я верую в это; бесцельно умствовать об этом, ибо наш ограниченный
человеческий разум не может уразуметь таких предметов».
Австралийский колдун-заклинатель бесконечно меньше
задумывается над усвоенными им старинными обрядами, чем такой верующий
сын своей церкви над подробностями заученных им священных^ тайн и
таинств. Он без дальнейших околичностей принимает их как нечто
данное, испытанное. К тому же, австралийский негр делает выводы и
заключения существенно по другому, чем современный мыслящий
культурный человек. Обыкновенно он просто признает предшествующее
причиной последующего, и притом для него вовсе нет необходимости, чтобы
на практике всегда наступало одно и то же следствие: для него
достаточно немного случаев (может быть, даже одного единственного случая).
Если, например, туземец Новой Голландии бьет гарпуном рыбу, и ему
при этом помешает беременная женщина, так чтс после ее появления не
будет никакого путного улова, то он просто решает: беременная женщина
виновата в том, что больше нет рыбы. Пожалуй, сначала он отнесет этот
вывод только к единичному случаю, но если то же повторится во второй
и третий раз, он без дальнейших рассуждений умозаключает:
беременные женщины распугивают рыбу, поэтому при ловле рыбы их не следует
допускать до воды.
Вот еще пример. Туземец увидал, что кенгуру спряталась в кусты.
Он осматривает эти поросли, но находит не кенгуру, а вомбата
(сумчатого медведя-). Так как он не видал,-чтобы кенгуру убежала, то он
быстро делает вывод: кенгуру превратилась в вомбата. Если ему скажут,
что это невозможно, он просто ответит: «Сначала здесь кенгуру, теперь
здесь вомбат; значит, кенгуру сделалась вомбатом».
Такие умозаключения производят на нас весьма странное
впечатление. Но разве не таков же способ умозаключения некоторых из
наших почтенных сограждан? Кто умеет замечать это, тот из своих
воспоминаний может привести не мало иллюстраций этого рода/ Когда я
начал изучать строй мышления у дикарей, мне часто приходил на память
следующий пример из моих школьных лет.
На большие летние каникулы отец часто отправлял меня в деревню
к своему родственнику, мелкому мекленбургокому крестьянину. У него
я однажды заметил, чтс к маятнику больших старинных часов привязан
небольшой клочок волос. Охваченный любопытством, я расспрашивал
старика, что это такое. Сначала он отмалчивался и отнекивался, а потом
рассказал мне следующее: это — часы его младшего брата, который
живет в Малхине, и с которым он однажды рассорился. Ему очень хотелось
бы примириться со своим братом, но, как старший и оскорбленный, он не
334
мог уступить первый. Поэтому он привязал волосы брата к маятнику:
теперь брату не будет покоя, и он, мучимый совестью, придет к старшему
брату и будех просить о примирении. Когда я выразил сомнение и
сказал, что волосы не имеют никакого касательства к совести, старик, с
изумлением посмотрел на меня и с сознанием своего превосходства сказал:
«Вот и опять видно, какие это умные люди горожане. Я же доподлинно
знаю, что это помотает: один мой знакомый, поссорившись со своим
сыном, сделал совершенно так же, и тогда сын возвратился к нему и теперь
опять работает в усадьбе своего отца». Я представлял всевозможные
возражения, но ничего не мог поделать со стариком. Он просто сказал:
«Помогло это ему, поможет и мне!».
Следует согласиться, что между этим способом умозаключений и
обычными умозаключениями австралийского негра нет никакой
существенной разницы. Но если мы хотим понять религиозную жизнь дикаря,
мы должны постараться проникнуть в его мир восприятий и
умозаключений и в известном смысле научиться мыслить с ним. Нет ничего
ошибочнее, как если мы станем считать себя нормальным типом и подходить
к его логике с меркою своих воззрений.
(«Возникновение -религии и веры в бога»).
Б. Борохов
ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ РЕЛИГИОЗНОЙ ВЕРЫ
В умственном отношении религия есть вера. Обыкновенно,
различают знание как достояние науки и веру как область религии. Но
наука включает, кроме досконального знания, также множество
проблематических положений разной степени вероятности (гипотезы, постулаты,
гевристические «рабочие» теории)—то, что Авенариус по-немецки
называет «верой» (Glauben), это — ослабленное знание. Оба вида знания,
полное и ослабленное, мы и будем обозначать «научным знанием».
Наоборот, вера (не в немецком, а в русском значении слова) есть как раз
усиленное знание, усиленное, конечно1, не логически, а эмоционально.
Человек, верующий во что-нибудь, не только знает нечто, но и хочет,
страстно желает, чтобы оно было именно так, а не иначе. Несомненно,
науке не чужда и вера в этом смысле; социальная наука очень часто
прибегает к вере; прогнозы будущего в социологии, порой даже некоторые
анализы действительности окрашены в густой чувственный колорит.
С чисто теоретической стороны прогноз, пожалуй, и слабее познания, ибо
основан в значительной мере на допущении, на вероятности, но со
стороны эмоциональной он прочнее и устойчивее любого достоверного
знания (исключая непоколебимые чисто фактические частные «истины»).
Такой эмоционально подкрепленный элемент прогноза мы и назовем
«научной верой». Итак, будем разграничивать: научное знание, научную
веру и религиозную веру. Взятые в каждый данный момент, in statu quo;
эти три состояния интеллекта ничем заметным не отличаются друг от
друга. Христианин так же «знает» бытие .всемогущего бога, как марксист
«знает» неизбежность социалистического перепорота, и как культурный
современник «знает» вращение земли вокруг солнца; и всех троих их
«знание» может преисполнять радостью, уверенностью в себе, в своих
сведениях и убеждениях. Разница заключается в источнике этих разяород-
335
ных «познаний», в их обоснованности, в их отношении к человеческим
интересам; и поэтому различие всего легче обнаружить в динамике
интеллекта, когда являются сомнения или нападки извне на сложившиеся
взгляды. Научное знание свободно допускает возможность сомнений и
•считается с ними, если они хоть сколько-нибудь вески; научное знание,
как таковое, бесстрастно и нелицеприятно. Вера же, будь то научная
или религиозная, сомнений не желает, и не считается с ними, но научная
вера не обращает внимания на сомнения, находя их бесплодными, а рели-
гизоная вера гонит и преследует сомнения, потому что опасается и
ненавидит их. Научная вера охотно признает свою неполную доказуемость,
НО', поскольку она пытается проникнуть во тьму грядущего, знает также
и свою неопровержимость: она оперирует в сфере вероятностей, и всего
более предпочитает, конечно максимальные степени достоверности,
довольствуясь, однако, и малой ее степенью, раз недоступна большая.
Например, вера наша в неизбежность социалистической революции; она
не доказана с такой точностью, как прогноы затмений луны, но она
в высокой степени вероятна, за нее говорит очень многое, против нее
ничто не говорит, а досконально обосновать эту веру, повторяем, все-таки
невозможно. Если ничто не опровергает нашего убедждения, это ведь —
строго логически — еще не значит, что оно вполне доказано. И вот, мы
требуем от противников опровержений; если же они преподносят нам
одни лишь мудрые сомнения, мы и отвергаем такие сомнения как
бесплодные, не хотим о них думать. Ибо, в самом деле, зачем ломать голову
над разными наиосновательнейшими «может быть»? Напротив того,
религиозная вера действует «рассудку вопреки, наперекор стихиям»: она
ненавидит то, что грозит под нее подкопаться; малейшее сомнение уже
делает ее неуверенной и злой, фанатически-капризной: credo quamquam
absurdum1), таков ее высший девиз. В пику презренному разуму —
верую; верую, господи, верую, помоги моему неверию!
Научная вера, вера исторического прогноза — это, по прекрасному
выражению М. Гюйо, теоретический риск, и смелость подобного риска не
нуждается в гарантии. Пусть радуются противники, если мы согласимся,
что социализм отчасти предмет веры! Что ени от этого выигрывают? Они
хотят нас сманить — дескать, вера, стало быть, не обоснована — слрвом,
переберемся к ним в лоно единоспасающей религии. Ошибочный расчет!
Их религия сулит им гарантию, эту буржуазную и всякую другую
гарантию, без которой они боятся рисковать. Помните, у Мультатули рассказ
«В игорном доме»? Помните там благоразумного прорицателя, который
перед каждой сдачей карт пророчит, что «может быть», «пожалуй»
выиграет черное, а «пожалуй» и красное? Ему не требовалась теорема Бер-
нулли, чтобы всегда оказываться правым, и чтобы сбывалось всякое его
«предсказание». Мы не оговариваемся осторожным «может быть»; мы
рискуем своим прогнозом, и потому ставим на карту всю нашу жизнь
и вес ее смысл, ибо энергию нашу мы сосредоточили на борьбе в пред-
познанном направлении. Религиозная вера — это, наоборот,
теоретическая гарантия, не логическая, конечно, но зато тем более отрадная и
успокоительная. К научному знанию «воля» и «чувство» непричастны, в
религиозной вере «разум» порабощен «чувству» (philosophia ancilla
theologiae 2), а в научной вере «разум» и «чувство» равноправны. Одного
*) Верго, хотя нелепо.
2) «Философия — служанка теология» (так утверждали в средние века). —
Прим. ред.
386
сомнения, разумеется веского, достаточно, чтобы Научное знание было
обесценено; тысячи сомнений и самых бьющих опровережний не в
состоянии сдвинуть с места религиозную веру, ибо она гарантирована свыше;
для научной же веры никакое сомнение не будет веским, пока цела в ней
решимость риска; ведь риск значит: уже заранее взвешены сомнения.
Onus probandi г) научного знания лежит на нем самом, а не на его
оппонентах; onus probandi научной веры лежит на ее противниках;
религиозная, же вера не ведает вовсе этой обязанности аргументировать, свободна
от этого бремени.
Вера-риск, вещ-сознанпый риск не нуждается в авторитете. Вера-
риск не усыпляет разума: твердо базируя на своем прогнозе, она
неколеблющимися шагами идет от целей к средствам, и здесь, в выборе путей,
не допускает никаких послаблений против законов логики и метода.
Авторитет убаюкивает рассудок человеческий, внушая ему, что все будет
сделано и все было познано без него и за него. Научное знание и научная
вера — это творческая активность интеллекта; религиозная вера, начиная
с первобытного мифа, есть сонная пассивность разума. Но религиозную
веру во все стороны распирают заложенные в ней контрасты: ведь
статически и религиозная вера — знание, да еще какое прочное, какое ясное,
несомненное! Ведь только динамически религиозная вера — вера, да за то
какая немощная, какая злобная, мнительная! Вера-момент и
вера-процесс в религиозном сознании не всегда могут мирно ужиться. Охватите
религиозного человека налету, остановите его на мгновение: как складно
все в его голове, как организованно, какая гармония мыслей друг с другом
ш с чувствами, желаниями, надеждами! Вам бросается в глаза сеть
противоречий в его мифах и догмах. Не беда! лишь бы он сам не замечал своих
противоречий. Разве мы с вами, не колеблясь, поручимся, что в нашем
черепе и в наших идеях все ладно, нет никаких противоречий? Кто знает,
явится логик потоньше нашего и выведет на чистую воду такие
несуразности, что мы только руками разведем. И опять же не беда! лишь бы мы
сами не видели своих противоречий. Но. пусть жизненный опыт
подтолкнет наше мышление к развитию, пусть вскроет дисгармонии наших
идей, — и мы, скрепя сердце, примемся за чистку, станем сглаживать
несоответствия, приноровлять идеи к новым опытам, чувства — к мыслям,
желания и надежды—к познанию, всю психику — к самой себе, вое ее
элементы и процессы — друг к другу. Никогда не пойдем мы на мировую
с противоречиями, не снесем признания неразрешимой тайны, если мы
не религиозны. Верующий же человек ни за что не отречется от своего
авторитета под напором критической мысли до тех пор, пока не
вытравлена будет его пассивность, пока не исчезнет религиозное чувство. Вот
почему религиозное познание не имеет своей собственной логики, своего
метода: над ним владычествует' «лотика» благоговения, оно рабски, по
пятам следует за эмоцией. Если религиозная эмоция проникнута боевым
настроением, повышенная активность чувства отражается и в активности
интеллекта, в критицизме, тогда перед нами вера холодно-рациональная
в теоретическом отношении (рядом с горячностью религиозной эмоции);
догмы такой веры характеризуются крайним рационализмом, если не
отсутствием тайны и мистицизма, — ибо кой-какая тайна в религии
все же неизбежна, — то сведением их к минимальной доле. Таков
догматизм в религии революционных классов, защитников мелкой
собственности. Иудаизм пророков, мировоззрение многих сектантов нового вре-
*) Бремя доказывания.
Г. Гурев 22
337
мени пропитаны ясной трезвостью, рассудочным морализмом,
разделение труда между «рассудком» и «волей» достигает высокой стадии,
огневой энтузиазм действия сопутствует жестокому схематизму мысли.
Но эта благородная форма религиозной веры далеко не единственная
и отнюдь не самая распространенная. Сантиментальные и
фантастические религии отравляют ум человека сладким или бешеным ядом;
блаженная богобоязненность, трепетная, слезливая мечта питают дряблый
мистицизм мягкотелой религиозности; ревнивая злость, изуверство
поощряют мрачную мистику. Мистицизм охотно прибегает к вере в чудо,
жаждет чуда, чуда, этого-, значит, явного противоречия уже познанным
человеком законам природы. Первобытный ум знал миф, знал нечто
страшное, поражающее, чудовищное, но еще не чудесное, ибо не было еще
места идее о всеобщей закономерности: для дикаря все, если хотите,
естественно и все сверхъестественно. Позднейшая вера лелеет мысль о
чудесном и сверхъестественном. Шатаясь, вера прибегает к
самонадувательству, к «голубоглазой лжи», превозносит иллюзию над правдой,—■
и сознательно превозносит; чтобы одурманить пробуждающуюся мысль,
она широко практикует благочестивый вымысел (piam fraud em). Эксплоа-
тация наивной веры коварным расчетом жрецов сказалась хотя бы в том
античном храме, где верующие мореходы оставляли свои дары в чаянии
избавиться от морских опасностей: в храме были тщательно записаны и
выставлены напоказ пастве все случаи благополучных плаваний и
совершенно замалчивались кораблекрушения. Так — и рассудок верующего:
он усердно регистрирует благоприятные факты и пренебрегает горькими
уроками опыта. Более развитый религиозный ум проделывает сознательно
то же самое: тайна, непостижимость — последнее убежище
разнузданного, но уже неуверенного в себе мистицизма. Разуму объявляется
форменная война: веруют уже не вопреки абсурду, не наперекор логике и
опыту, а нарочито ищут нелепости, как объекта веры; устами Тертул-
лиана, последовательнейшего из отцов церкви, догма и мистика твердят
credo quia absurdum. (верю, потому что нелепо). Мистицизм — это
апофеоз пассивности интеллекта и подобно экстазу отмечен печатью
психической отсталости, или же дегенерации. О ним неразлучны то фанатизм
и изуверство, то слезливая мечтательность — ядовитые или худосочные
цветы дикости или упадка. Существует еще, впрочем, мистицизм
мощного, аскетического самообладания, но и в этом благородном мистицизме
разум спит непробудным сном.
Даже в наилучших своих проявлениях религиозная вера
порабощена авторитету, и самая излюбленная похвальба религиозной веры —
«ортодоксальность». Она всегда воспринимается как откровение:
первоначально это — откровение свыше, от самого божества; со временем оно
в образе интуиции, поселяется в душе самого человека. Религиозная вера,
по глубокому определению апостола Павла, есть способ знаний без
доказательств, «уповаемых извещение вещей, обличение невидимых». Такая
пассивность рассудка, несомненно, очень утешительна: «блажен, кто
верует, тепло тому на свете». Зато и ревнива же она бывает, религиозная
вера! Бывает, правда, и толерантная, высоко терпимая вера, но это уже
признак ее угасания. Живая вера часто, слишком часто придирчива.,
педантична. Ее лозунг — все или ничего; ее излюбленное занятие — мо-*
ральный сыск, заподозривание и травля инакомыслящих. Она убивает
творчество мысли и склонна на всю жизнь превратить в сухое
повторение раз навсегда установленных шаблонов, чтобы поставить привычные
реакции человека на место свободной игры сил. Отсюда консерватизм
338
религиозной веры: даже толерантнейшая религия взирает на себя, как
на последнее откровение. Отсюда также чудовищное сочетание
неуклонной принципиальности с мелочным оппортунизмом; с одной стороны,
религия неумолимо провозглашает fiat jnstitia pereat irnmdus. ценою
гибели жизни она готова утверждать свои принципы, а с другой, она ж^
добровольно прощает грубейшие нарушения заповеди, лишь бы все
формальности были соблюдены: fiat ritus pereat jnstitia. Благоговение перед
духом учения легко и быстро вырождается в пиэтет перед его буквой,
благочестие и фанатизм сосредоточиваются на формальностях обряда.
(«Виртуализм и религиозно-этическая проблема в марксизме»).
К. Маркс
МОЖНО ЛИ ПРИМИРИТЬ НАУКУ С РЕЛИГИЕЙ
По словам реакционного автора статьи в «Форвертсе»г) в древних
религиях «слабые проблески богопознания были окутаны густым мраком
заблуждений и не могли поэтому противостоять доводам научных
исследований». С христианством дело обстоит как раз наоборот...
«величайшие истины науки служили до сих пор только к тому, чтобы подтвердить
истины христианства».
Не станем здесь говорить о том, что все без исключения
философские системы прошлого обвинялись, каждая в свое время, богословами
в отступничестве от христианства, причем этой участи не избегли даже
философские системы благочестивого Мальбранша и вдохновенного
Якова Бема. Забудем также о том, что Лейбниц был прозван брауншвейг-
окими крестьянами «ни во что не верующим» и обвинен в атеизме
англичанином Клерком и друщми сторонниками Ньютона. Не станем
напоминать и о том, что христианство, как это утверждает наиболее способная
и последовательная часть протестантских богословов, не может
согласоваться о раумом, так как «светский» разум находится в противоречии
с «духовным» разумом, что Тортулиан выразил уже своей классической
формулой: «Верю, потому что нелепость».
Мы только спросим, как можно доказать согласованность выводов
науки с учением религии, если мы не принудим ее раствориться в
религии, а предоставим полную ей свободу развития? Всякое другое
принуждение во всяком случае не было бы доказательством.
Конечно, если вы с самого начала признаете наукой только то, что
согласуется с вашими взглядами, то вы себе чрезвычайно облегчаете
задачу. Но какое преимущество имеет тогда ваше доказательство перед
утверждением индусского брамина, который доказывает святость Вед
тем, что признает за собой исключительное право читать их?
Да,— говорят нам: — «научное исследование», но всякое
исследование, которое приходит в противоречие с учением христианства —
«остается на полдороге», или «идет по ложному пути». Можно ли еще
больше облегчить себе задачу доказательства, чем это делают наши
противники?
Научное исследование, если оно только «ясно представляет себе»
содержание добытых им результатов, никогда не будет противоречить, по
*) Имеется в виду старый реакционный журнал 40-х годов — Прим. ред.
22;
3S9
их словам, истине христианства, но в то же время государство должно
заботиться о том, чтобы это «ясное представление» стало невозможным,
ибо исследование не должно приспособлять свое изложение к уровню
понимания широкой толпы, т.-е. никогда не должно стать ясным и
отчетливым для самого себя! Даже и тогда, когда во всех газетах на науку
сыплются нападки со стороны ненаучных исследователей, наука будто бы
должна быть скромной и молчать.
Христианство исключает «возможность всякого нового
грехопадения», но полиция должна следить за тем, чтобы философствующие
газетчики не привели к такому падению, и должна следить за этим со всей
строгостью! В процессе борьбы с правдой заблуждение само себя
разоблачает, и нет поэтому нужды в применении внешней силы для его
подавления, но государство должно облегчить эту борьбу правды, лишая
поборников «заблуждения», если не внутренней свободы, которой оно их
лишить не может, то предпосылки этой свободы, именно возможность их
существования!
Христанству победа обеспечена, но, по мнению богословов, не в
такой степени обеспечена, чтобы христианство могло пренебречь помощью
полиции.
Если с самого начала вое, что противоречит исповедуемой вами
религии, уже по одному этому является заблуждением, и должно быть
рассматриваемо, как заблуждение, то чем отличаются ваши притязания от
притязаний магометанина, от притязаний всякой другой религии?
Должна ли философия, чтобы не впасть в противоречие с основными
истинами догмы, иметь особые принципы для каждой отдельной страны,
соответственно поговорке: что город, то норов, что деревня, то обычай.
Должна ли она в одной стране верить, что 3 X 1 = 1, в другой, что
женщины не имеют души, в третьей, что на небе пьют пиво? Разве не
существует всеобщей человеческой природы, как существует природа растений
и звезд?
Философы спрашивают: что есть истина, а не что считается таковой
в той или другой стране. Ее интересует то, что является истиной для всех,
а не то, что является истиной только для некоторых; ее метафизические
истины не знают границ политической географии, ее же политические
истины слишком хорошо знают, где начинаются «границы», чтобы они
могли смешать иллюзорный горизонт частных миросозерцании и
национальных воззрений с истинным горизонтом человеческого духа. Среди
всех защитников христианства автор разбираемой статьи является самым
слабым.
Долгое существование христианства является его единственным
доказательством в пользу христианства. Разве не существует и
философия со времен Фалеса и до настоящего времени, и не утверждают ли
именно богословы, что она в настоящее время даже предъявляет больше
притязаний и более мнит о своей важности, чем когда-либо?
(Передовица в № 179 «Кельнской Газеты»).
А. Варьяш
ОСНОВАНЫ ЛИ НАУЧНЫЕ ГИПОТЕЗЫ НА ВЕРЕ?
Наука имеет своей целью предвидеть и на основании этого
предвидения дать человеку руководство в действии во всех областях явлений.
Этой основной установке, однако, как будто противоречит тот факт, что
S40
как раз в области точных наук, как известно, играют огромную роль
гипотезы. Если предположить, что гипотезы являются лишь продуктами
научной фантазии, то становится непонятным, каким образом они могут1
оказаться полезными в деле предвидениями. Общеизвестно, что научные
теории, напр., в области физики, прошли огромный путь эволюции,
неожиданно быстро подчас изменяясь. Одна гипотеза вытесняет другую,
чтобы в свою очередь уступить место новой гипотезе.
Что гипотезы, несмотря на их изменчивый характер, все же
оказывают нам незаменимую услугу в познании реального мира — это факт.
А меняются они в первую очередь вследствие характера исследования
природы. Всякий «чистый» эксперимент представляет собой единичное
событие, единичный факт из бесконечного числа других фактов. На
основании таких исследуемых единичных фактов естествоиспытатель
переходит к обобщению, опираясь в этом процессе на принцип ндукцивг.
Бри этом необходимо учитывать, что число тех экспериментов, которые
делают изучаемые явления доступными нам непосредственно так, что их
можно «схватить руками» и увидеть, весьма незначительно по
сравнению с теми опытами, которые доставляют только косвенное
доказательство существования исследуемых hbotqhhu. Неудивительно, что всякая
картина мира исторически условна, относительна, т.-е. является
приближением. Но она является приближением к чему-то абсолютному, именно
к самой природе. Ибо «безусловно существование этой истины, безусловно
то, что мы приближаемся к ней» (Ленин). Необходимость всей системы
истин .имеет свои крепкие корни в необходимости существования самой
природы независимо от нас, и в том, что мир представляет собой единство,
которое заключается в его материальности. Только отрыв человека и его
разума от остальпой природы позволяет возникнуть сомнению в
объективной, хотя и приблизительной, правильной науке. Всякая теория
(субъективистская, агностическая и потому идеалистическая), исходящая
из альтернативы: здесь человек с разумом, там природа, и разбивающая
единство вселенной на два раздельные мира, неизбежно' запутывается
в неразрешимых противоречиях. Но эти противоречия, конечно, не
означают, что нет науки, нет отражения внешнего мира в нашем разуме; они
говорят лишь о том, что скептик нелепо поставил вопрос и на
поставленный таким образом вопрос необходимо (ведь и это необходимо!) следует
и нелепый ответ. Если мир материально един, тогда господствует
необходимость. Скептик может возразить на это: откуда вы знаете, что мир
материален и един? На это можно ответить только контрвопросом: почему вы
предполагаете, что он не таков? Исходя из вашей концепции, вы
приходите к нелепостям, неразрешимым противоречиям, к отрицанию познания
природы в самой себе; исходя же из объективности материального мира,
мы приходим к пониманию нобходимости, а вместе с тем и к пониманию
необходимости приблизительного, по объектвного характера наших
знаний. Условия исторически сложившихся обществ с их классовой
структурой объясняют в конечном счете и необходимость возникновения
скептицизма и агностицизма.
Апологеты религии часто указывают на то, что между наукой и
верой нет существенной разницы именно вследствие того, что и наука
без гипотез существовать не может, а принять гипотезу возможно лишь
на основании веры, так как гипотеза означает лишь" суррогат точного
знания. Но так ли это на самом деле? — Конечно, нет.
Наука, прибегая к гипотезам, стоит па твердой почве опыта. Всякая
гипотеза исходит из фактов, отражаемых через нашит органы восприятия
341
и рационально связанных нашим разумом, приспособляющимся с
максимально возможной точностью к реальным причинным
взаимозависимостям самой природы. Но гипотеза приобретает действительно научное
значение только в тех случаях, когда она дает возможность предвидеть
еще ненаблюдавншеся явления, если при ее помощи мы можем управлять
техникой, промышленностью. Высшая цель построения всякой научной
гипотезы заключается в том, чтобы она по мере постепенного накопления
нового опытного знания, подтверждающего данную гипотезу (т.-е. ею
предсказанного), преобразовывалась из гипотезы в твердую теорию.
Очевидно, что эта цель может быть достигнута лишь постепенно, иногда
только в течение десятков или даже сотен лет. Примером служит хотя
бы атомистическая теория Демокрита, возникшая в У веке до н. э. и
ставшая из все более и более вероятной гипотезы твердой реальной
теорией, т.-е. теорией о реальности атомов, только на наших глазах. Итак,
наука стоит на твердой почве объективной реальности материи. Всякая
гипотеза исходит из свойств материи, данных опытом, и дает схему для
рационального понимания, для выведения других ее свойств, а затем и
для предвидения связей, еще неизвестных до сих пор из опыта.
Гипотезы создаются не в целях доказательства существования материальной
природы, ибо она нам дана через наши восприятия и понятия, а для
доказательства одних свойств природы на основании других. Теология же
умозаключает о существовании бота, причем это существование
принципиально не может быть предметом наших восприятий. Но догматы
религии не выполняют ни одного из указанных свойств научных гипотез.
Они не опираются ни на какие опытные факты, они не дают
никакой возможности предвидения. Ведь вера в бога как во всемогущественное
существо предполагает (и теологи это признают), что бог ничем не
детерминирован, так как он сам создает всякие законы, однако, предвидеть
возможно только на основании законов, не зависящих ни от какой воли,
а не на основании воли существа, цели которого—по признанию самих же
теологов — никто не знает и не может даже уразуметь. Если бог
пожелает, он может изменить весь мировой порядок, все законы вселенной,
причем абсолютно непостижимо и то, почему он мот этото захотеть. Но
принципиально бог, согласно теологическому определению, имеет
возможность и власть это сделать. Предположение бога поэтому есть
предположение, отвергающее даже возможность всякой закономерности, т.-е.
отрицающее какую бы то ни было науку. Это так, ибо наука возможна
только о том, что существует, т.-е. о материальной вселенной, которая
действует по своим внутренним законам, а не по чужой воле, извне на
нее влияющей. Наука и религия, знание и вера, научная гипотеза и
предположение бога, .несовместимы и непримиримы. Те ученые, которые верят,
нередко открывали ценные научные истины, но они открывали их вопреки
своей вере в бога, открыли вследствие того, что в своих научных
исследованиях пренебрегли своей верой или предполагали, что бог не нарушает
законов материальной природы, т.-е. что он не действует, не вмешивается
в ход естественных событий. Но это однозначно тому, что эти ученые
в области своих научных исследований были атеистами.
(«Логика и диалектика»)
142
Ф. Энгельс
ЧТО ТАКОЕ АГНОСТИЦИЗМ
Что иное представляет собой агностицизм, как не стыдливо
прикрытый материализм? Взгляд агностика на природу насквозь
материалистичен. Во вселенной царствуют законы, абсолютно исключающие всякое
влияние на нее извне. Но, — осторожно добавляет агностик, — мы не в
состоянии доказать существование или несуществование высшего существа
по ту сторону известного нам мира. Эта оговорка могла иметь свою цену
в то время, когда Лаплас на вопрос Наполеона, почему в «Небесной
механике» великого астронома ни разу не упоминается создатель, гордо
ответил: «У меня не было надобности в этой гипотезе». Но в настоящее время
наше представление о мире в его развитии не оставляет абсолютно
никакого места для творца или правителя, а признание высшего существа,
исключенного из всего существующего мира, было бы противоречием
в себе самом и кроме того, как мне кажется, явилось бы ничем не
вызванным оскорблением чувства религиозных людей.
Точно также наш агностик согласен, что все наше знание основано
на впечатлениях, воспринимаемых нашими чувствами. Но, — добавляет
он, — откуда мы знаем, что наши чувства дают нам верные копии
воспринимаемых вещей? И далее он заявляет, что когда говорит о вещах или их
свойствах, то он на самом деле имеет в виду не самые вещи и их свойства,
о которых он ничего достоверно не может знать, а лишь те впечатления,
какие они производят на его чувства. О такой точкой зрения, конечно,
не так-то легко оправиться при помощи чистой аргументацшг. Но прежде
чем люди стали аргументировать, они ведь действовали. «В начале было
дело». И человеческая деятельность разрешила эту трудность еще задолго
до того, как человеческое мудрствование ее изобрело. «Свойства пуддинга
познаются во время еды». В тот момент, когда сообразно воспринимаемым
нами свойствам какой-либо вещи мы употребляем ее для себя, мы
подвергаем безошибочному испытанию истинность или ложность наших
чувственных восприятий. Если эти восприятия были ложны, то и наше
суждение о возможности использовать данную вещь необходимо будет
ложно, и всякая попытка такого использования окажется неудачной.
Но если нам удается достигнуть поставленной себе цели, если мы находим,
что данная вещь соответствует нашему представлению о ней, что она дает
тот результат, какой мы ожидали от ее употребления, — тогда мы имеем
положительное доказательство, что в данных пределах наше восприятие
вещи и ее свойств соответствует вне нас находящейся реальности.
Если же, наоборот, оказывается, что мы ошиблись в своих расчетах, тогда
большей частью не трудно отыскать причину нашей ошибки; мы
находим, что восприятие, легшее в основу нашего опыта, либо само по себе
неполно и поверхностно, либо — принимая во внимание условия данного
опыта, — неправильно связано с результатами других восприятий. До
тех же пор, пока мы правильно пользуемся нашими чувствами и
удерживаем свою деятельность в рамках правильно полученных и примененных
восприятий, до тех пор успех наших действий будет служить
доказательством согласованности наших восприятий с объективной природой
воспринимаемых вещей. Насколько известно, до сих пор не было ни одного
случая, когда мы вынуждены были бы притти к заключению, что наши
научно-проверенные чувственные восприятия производят в нашем мозгу
такие представления, которые по своей природе отклоняются от действи-
343
тельности, или что между внешним миром и нашими чувственными
восприятиями существует прирожденная несогласованность.
Но тут является неокантианец-агностик и говорит: «Да, мы, может
быть, и способны правильно воспринимать свойства вещей, но мы не в
состоянии каким бы то ни было чувственным или умственным процессом
постичь самоё вещь. Вещь в себе лежит по ту сторону нашего познания».
На это уже давно ответил Гегель: «Когда вам известны все свойства вещи,
то вам известна и сама вещь; — тогда уже не остается ничего, кроме того
факта, что данная вещь существует вне вас, и как только ваши чувства
учли и это обстоятельство, вы уже постигли и последний остаток вещи —
знаменитую кантовекую непознаваемую вещь в себе». К этому мы можем
только прибавить, что во время Канта наше познание природных вещ,ей
носило еще в достаточной мере отрывочный характер, чтобы за каждой
из них допускать еще существование особой таинственной вещи в себе.
Но с того времени все эти непостижимые вещи, благодаря гигантскому
росту науки, стали одна за другой постигаться, анализироваться и, что
еще важнее, воспроизводиться. А то, что мы в состоянии сами сделать, то
уже мы, во всяком случае, не можем отнести к непознаваемому. Для
химии первой половины девятнадцатого века органические вещества были
такого рода таинственными вещами. Теперь' мы научились
воспроизводить их одно за другим из химических элементов и без помощи
органических процессов. Современная химия говорит: коль скоро нам известны
химический состав и строение какого-либо тела, то это тело может быть
составлено из химических элементов. В настоящее время мы еще
довольно далеки от точного знания состава и строения высших
органических субстанций так называемых белковых тел, но нет никакого
основания отрицать, что хотя бы через столетия мы это знание приобретем
я с его помощью сможем искусственно воспроизвести белок. Если же это-
будет достигнуто, то мы, следовательно, получим возможность
искусственно воспроизводить органическую жизнь, ибо жизнь, от ее низших
до высших форм, представляет собою не что иное, как нормальную форму
существования белковых тел.
Но, сделав эти формальные оговорки, наш агносшк говорит и
действует, как завзятый материалист, каким он в сущности и является. Он
может сказать: «Насколько мы знаем, материя и движение, или — как
теперь говорят — энергия не могут быть ни созданы, ни уничтожены, но
у нас нет никакого доказательства, что и та и другая не были в какое-
нибудь неизвестное нам время созданы». Но если вы попробуете
использовать эту уступку в каком-нибудь конкретном случае против него, он
быстро заставит вас замолчать. Допуская in abstracto возможность
спиритуализма, он in concrete и слышать о нем не хочет. Он скажет вам:
«Насколько мы знаем, не существует творца или правителя вселенной;
насколько нам известно, материя и энергия так же не могли быть
созданы, как не могут быть уничтожены; для нас мышление — только
форма энергии, только функция мозга; все что мы знаем, указывает на
то, что материальный мир подчинен неизменным законам, и т. д., и т. д.».
Оловом, поскольку он человек науки, поскольку он что-нибудь знаету
постольку он и материалист; а за пределами своей науки, где он не
чувствует себя дома, он переводит свое незнание на греческий язык и
называет его агностицизмом.
Во всяком случае несомненно одно: будь я даже агностиком, я не
мог бы назвать свою историческую теорию — «историческим
агностицизмом». Иначе религиозные люди высмеяли бы меня, а агностики с него-
344
дованием спросили бы, не захотел ли я их высмеять. И таким образом,
мне остается только надеяться, что и британская «респектабельность»,
по-немецки называемая филистерством, будет не слишком возмущена,
если я на английском, как и на многих других языках, употреблю
выражение: «исторический материализм» для обозначения того исторического
мировоззрения, которое конечную причину и определяющую движущую
силу всех важных исторических событий видит в экономическом
развитии общества, в изменениях способа производства и обмена, в
возникающем из этого распадении общества на различные классы и в борьбе этих
классов между собой.
(Предисловие к английскому изданию «От утопии к науке»).
Л. И. Акселърод
УЧЕНИЕ О ДВОЙСТВЕННОСТИ ИСТИНЫ
Вопрос об абсолютных границах чистого разума был вызван к жизни
борьбой против средневековой схоластики и получил свое дальнейшее
развитие под влиянием той же схоластики. Церковь стремилась слить
воедино философию с христианской догмой и оправдать эту последнюю
перед судом разума. В виду этого все стремления схоластики сводились
к тому, чтобы подчинить науку церковной догме, а мир действительный—
миру сверхъестественному. Это умственное течение явилось
идеологическим выражением фактической, материальной власти духовенства над
миром. Дуализм между материей и духом, между живой, действительной
природой и сверхъестественным, умопоститаемым бытием развивается
в учении церкви в том направлении, что материальный, действительный
мир сводится на самую низшую степень реальности, между тем как
настоящей реальностью считается абстрактное, сверхъестественное бытие.
Конкретная, земная власть церкви принимает, таким образом, в ее
идеологии форму материализации абстрактного сверхъестественного мира.
А духовенство представляет из себя посредника между грешной землей
и сверхчувственным вечным бытием. Отсюда вытекало совершенно
отрицательное отношение церкви к изучению природы и к истинной науке;
и отсюда же вытекал ее беспредельный рационализм. Чистый разум,
игнорировавший опыт и стремившийся доказать существование
несуществующего, все больше и больше запутывался в своих собственных
противоречиях.
Но в XIV столетии было поднято знамя восстания против учения
церкви. Это величественное революционное движение было вызвано не
гением тех истинно великих людей, которыми так богата славная и
великая эпоха Возрождения. Рост и развитие производительных сил.
развитие торговли и быстрое увеличение городов подтачивают мало-по-малу
феодальную систему и наносят сильный удар всесильной церковной
иерархии, наложившей свою мрачную печать на весь феодальный
порядок. Борьба против церковной схоластики зарождается внутри
схоластического же мира и обнаруживается в знаменитом споре между
реализмом и номинализмом. Номиналисты решительно восстают против
реальности отвлеченных понятий и отстаивают реальность действительных
предметов опыта. Сущность их борьбы и победы состоит в реабилитации
природы.
34 5
Несмотря, однако, на смелую и решительную войну, которую ведут
представители Возрождения против церковной философии, они вступают
с церковью в компромисс, который выразился в известном учении о
двойственной истине. Это значит, что известное положение может быть верно
с точки зрения философии и ложно с точки зрения теологии, и наоборот.
Этот компромисс, это оппортунистическое учение о двойственной истине
проходит красной нитью через всю эпоху Возрождения и проникает
решительно во все области мысли и творчества. (Только один человек,
Джордано Бруцо. не хотел признать двух истин, а только одну, за что
он и был сожжен).
Тот, кто придерживается идеалистического взгляда на историю,
объяснит этот компромисс властью церковных традиций. Как бы ни были
смелы и революционны, скажет он, могучие личности ренессанса, над их
головами все-таки господствовала теология. Это так и не так. Господство
и власть духовных традиций сами нуждаются в объяснении, в
особенности же тогда, когда влияние старых традиций имеет всеобщее,
серьезное общественное значение. Крмпромисс, сделанный революционерами
эпохи Возрождения с теологией, соответствовал как нельзя лучше
материальным интересам народившейся буржуазии, стремившейся в свою
очередь к господству. Маркс говорит, что все происходившие до сих пор
революции совершались по инициативе меньшинства против
господствующего меньшинства и во имя нового господства меньшинства. Естественно,
поэтому, что такие революции были по существу своему обречены на
половинчатость и на компромисс с прошедшим, так как при переходе
господства от одного класса к другому оставался один неизменный
общественный «фактор»: подчинение меньшинством большинства. А религия
с тех пор, как она стала общественной и государственной силой, всегда
служила могучим орудием в руках господствующих классов для
порабощения трудящихся масс. Являясь самым реакционным общественным
фактором, религия первая терпела жестокие удары критики со стороны
всякого начинавшегося революционного течения, дли, говоря словами
Маркса, «критика общественных отношений начиналась с критики
религии». Но с другой стороны, религия, этот «опиум для народа», никогда
не разрушалась окончательно. Идеологи нового привилегированного
класса ее скоро излечивали от нанесенных ей ран. И чтобы древняя,
скучная, и давно всем надоевшая старуха не вызывала раздражения
своим1 старым, знакомым видом, ее наряжали в новый, часто более
простой костюм и снова отправляли к обездоленным для утешения. А
жестокая, хотя и сантиментальная старуха, собравшись с новыми силами,
продолжала упорно свою старую проповедь о том, Что бог после
грехопадения Адама обрек весь человеческий род на тяжелый труд, и что
если, поэтому, хозяин заставит тебя сделать одну работу, то сделай две.
ибо счастье человека не в материальном благе, а во внутреннем
спокойствии и равновесии души, а сверх того, блаженны нищие и обездоленные:
их ждет вечное блаженство рая.
Но вернемся к нашему предмету, хотя в сущности мы от него и не
уклонились. Учение о двойственной истине имело двоякое значение.
Тем обстоятельством, что теологии отводилась собственная, законная
область, сверхопытное бытие не только не подвергалось отрицанию или
даже сомнению, а напротив, оно получило новую санкцию, но только
вместо того, чтобы быть предметом разума и логической аргументации,
оно стало предметом непосредственной веры. Во-вторых, те, которые
отюдшги вере особую область, ставили этим разуму абсолютную траницу.
Э46
Областью веры является сверхъестественное бытие или, выражаясь
языком позднейших теоретиков познания, нравственный миропорядок, а
компетенция разума простирается лишь на предметы природы, чувственное
восприятие которых доставляет ему материал для научного опыта. В этом
теоретико-познавательном смысле ставили и разрешали вопрос уже
некоторые мыслители эпохи Возрождения.
(«Философские очерки»).
Г. В. Пжханов
О СОВРЕМЕННОЙ ЗАЩИТЕ УЧЕНИЯ О ДВОЙСТВЕННОЙ ИСТИНЕ
Лютгенау думает, что «религия начинается на границе познания
или опыта», и что «чем шире становится область познания, тем уже
область религиозного верования». Это можно признать правильным
лишь с большой оговоркой. Дело в том, что когда область религиозного
верования оказывается значительно суженной под влиянием опыта,
тогда на выручку религии является та философия, которая учит, что
наука и религия лежат в совершенно' различных плоскостях, так как
религия имеет дело с потусторонним миром, а наука, опыт — только
с явлениями, и что, поэтому, расширение области опыта не может сузить
области религии. И поскольку проповедь этой философии влияет на
умы, постольку область религиозных верований перестает суживаться
под влиянием опыта. То правда, что философия этого рода могла
возникнуть и приобрести влияние только при определенной социальной
обстановке, только на известной стадии развития общества, разделенного
на классы. Но это не изменяет дела; напротив, анализ влияния этой
философии и ее отношения к религии дал бы г. Лютгенау возможность
более ярким светом осветить связь между общественным развитием
(причина) и исторической судьбою религиозных верований (следствие).
Г. Лютгенау не воспользовался этой возможностью... Если бы он мог.
воспользоваться этой возможностью, то приведенное нами положение,
гласящее, что опыт суживает область религиозного верования,
приняло бы у него гораздо более правильный вид: оно гласило бы, что
накопление знаний лишает почвы религиозные верования, но делает это
только в той мере, в какой существующий порядок не мешает
распространению знаний и пользованию ими для критики взглядов,
унаследованных от старых времен. Именно это и говорит современный
материализм.
(«По поводу книги Ф. Лютгенау»).
*
Существуют вполне очевидные для беспристрастного наблюдателя
общественные причины, побуждающие нынешних «философов»
известного пошиба разогревать и подавать под новым соусом старое учение
о «двойственной истине». Э, Бутру принадлежит к числу разогрева-
телей, произведения которых составляют то, что с полным правом можно
назвать схоластикой двабцатого века. От него веет непобедимой скукой.
Вот образчик рассуждений Э. Бутру: «Человеку должно быть
позволено исследовать условия не только научного познания, но и своей
347
собственной жизни». Это «но» бесподобно. Оно предполагает, что
исследование человеком своей собственной жизни не может быть научным.
Но само собой разумеется, <что это предположение совершенно
неосновательно. А, между тем, на этом, совершенно неосновательном
предположении построена у Бутру вся защита прав религиозного образа мыслей.
Нечего сказать, хорошо защищает он религию! Хорошенько
ознакомившись с доводами таких защитников, перестанешь удивляться тому, что
папа чуть не предает их анафеме. Римско-католическая церковь
прекрасно понимает, что у религии есть много таких друзей, которые на
самом деле хуже врагов.
«Каждое мое действие», продолжает наш неудачный защитник
религии, «каждое мое слово и каждая моя мысль свидетельствуют о том,
что я приписываю некоторую реальность и некоторую цену моему
личному существованию, его сохранению, его роли в мире. Я абсолютно
ничего не знаю о том, имеет ли такое суждение объективное значение, да
я вовсе и не нуждаюсь в том, чтобы мне его доказали. Если мне
случается размышлять об этом убеждении, я нахожу, что оно есть лишь
отпечаток моего инстинкта, моих привычек и моих предрассудков.
Сообразно с этими предрассудками я внушаю себе мысль, что во мне
заложена тенденция сохраняться в моем специфическом бытии, я
считаю себя способным на что-то, я рассматриваю свои идеи, как серьезные,
оригинальные, полезные, работаю для их распространения и признания.
Все это не выдерживает малейшего прикосновения мало-мальски
научной критики. Но без этих иллюзий я не мог бы жить, по
крайней мере, жить по-человечески; благодаря этим обманам, мне
удается облегчить некоторые несчастья, помочь некоторым из моих
ближних переносить или любить свое существование; благодаря им,
я могу любить самого себя и искать для своих сил надлежащего
применения».
Тут весь Бутру, со всей изумительной шаткостью и всей
возмутительной безнравственностью своей слащавой аргументации. Ему и ;в
голову не приходит, что отнюдь не живет «по-человечески» тот, кто живет
лишь «благодаря» каким бы то ни было «обманам» и не может без них
«искать для своих сил надлежащего применения». Этот чувствительный
человек не понимает, как ничтожна цена той будто бы помощи ближним,
которая состоит в поддержании их «иллюзий»! Он даже не подозревает,
что не выдерживает малейшего прикосновения мало-мальски научной
критики именно эта его жалкая попытка найти теоретическое оправдание
для «иллюзий». И,почему он вообразил, что «тенденция сохраняться
в своем специфическом бытии» существует у него лишь благодаря
самовнушению? В действительности тенденция эта свойственна всем
организмам. Она есть неизбежное следствие и выражение жизни.
Указывать на нее как на доказательство того, что есть явления, недосягаемые
для «научной критики», значит просто-на-просто играть словами. Ничего
удивительного нет и в том обстоятельстве, что «я считаю себя способным
на что-то». Пока «я» жив, у «меня» есть известные силы, а наличность
этих сил побуждает меня считать себя способным сделать то или другое.
Конечно, «я» могу преувеличить свои способности: недаром сказано,
что ошибаться свойственно человеку. За примером ходить
недалеко. Э. Бутру очень ошибается, считад соображения, приводимые им
в защиту религии, «серьезными» и «полезными». Но из того, что он
ошибается, вовсе еще не следует, что свойственное людям упование
на свои способности нуждается в каком-то мистическом обосновании,
348
и что его нельзя объяснить иначе, как с помощью «двойственной
истины».
В заблуждениях есть своя закономерность. Так, заблуждение
Э. Бутру, считающего «серьезной» и «полезной» свою защиту религии,
обусловливается тем, что он является идеологом падающего
общественного класса — нынешней французской буржуазии. Но и тут нет
ровнехонько ничего недоступного для научной критики. Дело в том, что
каждый общественный класс, подобно всякому индивидууму, защищает
себя, как может и пока может ...
Сказанное полезно будет дополнить разбором следующего
рассуждения нашего автора:
«Практика предполагает, во-первых, веру; во-вторых, объект,
предположенный этой верой; в-третьих, любовь к этому объекту и желание
реализовать его».
Если я «предположил» волчицу в соседнем лесу, то мне нет ни
малейшей надобности «предполагать» еще веру в нее, в эту волчицу для
того, чтобы отправиться на охоту. Э. Бутру помножает на два то, что
должно оставаться в единственном числе. Зачем же он это делает?
По-моему, тут возможен только один ответ: чтобы приучить себя
и читателя к неуместному употреблению слова «вера».
Человек, пришедший к тому убеждению, что практика немыслима без
«веры», будет весьма склонен к принятию «двойственной истины»
Другими словами, Э. Бутру немножко хитрит. Но это не беда. Мы
уже знаем, что «иллюзии» и «обманы» необходимы для «человеческого»
существования.
Далее. Практика предполагает любовь к объекту. Это не всегда.
Охота на волчицу предполагает любовь не к ней, а к охоте. Однако, не
будем строги. Допустим, что практика всегда требует любви к
«предположенному» объекту. Что из этого следует? Согласно Э. Бутру, из этото
следует, что практика невозможна без религии, так как «любовь, если
заглянуть в нее поближе, выходит за пределы природы в собственном
смысле этото слова». Это очень убедительно! Даже более, чем думает
Э. Бутру. В самом деле, так как самки хищных зверей, несомненно,
любят своих детенышей, то выходит, что волчица, «предположенная»
нами выше, тоже не чужда религиозного настроения.
Нельзя не признать, что плохо обстоит дело тото общественного
класса, идеологи которого принуждены «обманывать» себя — или только
других? — подобной мудростью. В XVIII веке, накануне революции,
идеологи французской буржуазии были много «серьезнее». Но то время
прошло безвозвратно.
(«Рецензия на книгу Э. Бутру»).
Г. Эферот
ОБЪЯСНЕНИЕ МИРА И БОЖЕСТВЕННОЕ ПЕРЕЖИВАНИЕ
Несомненно, религия была и есть еще в настоящее время для
человека, стоящего на низшей ступени культуры и умственного развития,
попыткой и стремлением понять мир и связанное с этим желание влиять
на природу. Все усилия религиозных людей до настоящего времени
сосредоточивались главным образом на том, чтобы объяснить лроисхо-
349
ждение мира и его строение, а одновременно получить от воображаемого
создателя мира и руководителя судеб всевозможные выгоды для себя,
если не прямо от создателя, то от его свиты, — от святых или целого
сонма ботов.
Разумные и научно обоснованные мысли о происхождении и
строении мира, независимо от того, думаем ли мы о живой или о мертвой
природе, наносят смертельный удар понятию о боге, как о создателе и
правителе мира. Явления мира, освещенные наукой, говорят совсем на
другом языке и гораздо серьезней. Что же еще остается от религии при
господстве науки? Ортодоксальный католицизм и, в особенности,
религиозные чувства необразованных масс все еще крепко придерживаются
веры в бога, как первопричину мира. Главной поддержкой религии, как
и прежде остается грубое невежество1).
Когда микроскоп или телескоп исследователя природы, раскопки
и документы исследователя истории обратили в бегство старое учение
о боге, появились новые толкования божества и сущности религии,
чтобы спасти т, что можно было еще спасти. Шлейермахер, Фихте и
другие выступили в прошлом веке убежденными защитниками
религиозного либерализма. Прямым продолжением .этого богословия является
находящаяся под покровительством государства идеалистическая
философия, которая и теперь чувствует себя, как дома, в немецких
университетах2). Профессор Эйкен в Иене, главный представитель
идеалистической философии и ожесточеннейший противник Геккеля, высказывает
мысль3), которая может дать ясное и характерное представление обо
всем содержании либерального религиозно-философского учения.
Отрицая религию, монизм проявляет полное незнание движущих сил
религии. Монизм видит в религии только своеобразное объяснение мира.
Если это так, то, действительно, можно отметить резкое противоречие
между религиозными и научными представлениями о мире. Но этим не
исчерпывается вопрос, и сущность его даже остается незамеченной, а она
именно и заключается в вопросе: не основана ли религия на внутренней
потребности нашего существа и не оправдывается ли она уже тем, что
возвышает наши души? Если это так, то все недостатки ее современного
состояния и даже справедливая критика никоим образом не могут
доказать необходимости устранения силы, которая одна лишь способна
создать гармонию между человеком и окружающей его
действительностью, которая придает зго жизни, непреходящее величие, его душе —
вечную ценность, чистоту, противопоставляя и открывая миру, полному
эгоизма и подверженному различным превратностям судьбы, царство
любви и вечности ...
Итак, бог — как внутреннее переживание. Никакого
доказательства существования «такого бога» и «такой» религии Эйкен не дает. Это
мировоззрение ограничивается ссылкой на внутреннюю пользу религии
для человеческого бытия, при чем Эйкен оперирует такими туманными
и неопределенными понятиями, как «душа», «чистая внутренняя
сущность», «человек, как целое», — понятиями, взятыми без критики из
арсенала церкви. Во всяком случае, очень неясные соображения, наполо-
*) Это не вполне верно: религия распространена и в образованных слоях, ибо
она имеет определенные социальные корни. См. отд. VII и VIII. — Прим. ред.
2) И в университетах всех других капиталистических стран. — Прим. ред:
у) В русском переводе имеется его сочинение «Основные проблемы
современной философии религии» (см. ред. на эту книгу Л. Аксельрод в «Совр Мире»
1909 г., кн. XII). — Прим. ред.
350
вину искусственные, наполовину морализирующие, составляют здесь фон.
Эйкен любуется сам собою, употребляя неясные выражения, что вполне
доказывается образчиком выше цитированного его стиля. Достаточно
противопоставить атому удивительному богословию внутренних
переживаний следующие факты. Если, действительно, религия составляет
результат переживания бога, то как это может согласоваться с тем, что
я теперь еще она составляет предмет академического преподавания,
с экзаменами и докторскими работами? Еще менее согласуется это с
необходимостью во что бы то ни стало сохранить преподавание религии
в народных школах.
Но еще большее противоречие заключается в том факте, что как
раз горожане, обладающие в среднем более чувствительными нервами,
претерпевающие «внутренние переживания», проявляющие, например,
интерес к хорошей музыке, благородной поэзии, в большинстве случаев
абсолютно нерелигиозны, между тем как деревенский люд, со
значительно менее сложной «внутренней жизнью», большей частью очень
религиозно настроен. Можно ли это совместить с понятием о религии, как
о «внутреннем переживании»? В действительности, подобная
«разбавленная» религия бессознательно сводится не к чему иному, как к
искусственным .ощущениям, — Эйкен буквально говорит о «возвышении
нашего существа», — или возвращается по скучному и потому не менее
трудному, скользкому пути к богу, как к первопричине, если она. —
опять-таки по Эйкену, — должна породить тармонию между человеком
и окружающим миром.
Мы придерживаемся взгляда, который доказывается исторической
наукой со всех точек зрения, что, наоборот, религия и ее практика
ставят человека в самые ненормальные отношения к действительному миру,
к которому именно религия относилась всегда самым отрицательным
образом. Либеральные богословы и идеалисты, отрицающие роль
религии как способа объяснить природу, возвращая се окольными' путями
туманных чувств и искусственных рассуждений в нашу внутреннюю
жизнь, доказывают только, что они хорошие богословы, но плохие
философы. Но теорией переживаний богословы, естественно, оттолкнули
также своих приверженцев. Сплошная глупость еще может иметь успех,
но, если она смешана с хитростью, она никого не может соблазнить.
В этом заключается великая трагедия нынешней протестантской церкви,
которая в борьбе за существование становится вое худосочнее и
трусливее, вследствие повального бегства ее паствы, в то время, как
католическая толстокожая церковь имеет возможность видеть падение своей
соперницы, запустение ее Церквей и уменьшение доходов. У католиков
орудуют «хорошие богословы», а не «плохие философы».
Передо мной лежит один из последних выпусков руководящего
католического журнала «Наука и вера». Сборник вероучений для народа.
Ежемесячник католического мировоззрения». Поюле грубейше1го и
умышленного искажения современно-естественно-научных фактов (вроде
утверждения, что соски грудей у мужчин составляют не лишний,
рудиментарный, орган, а служат для красоты форм человеческото тела), вот
что пишет а 1а Эйкен прелат д-р Поль в своем «поэтическом» альбоме
о религиозных переживаниях и чувствах: «Значительно более
распространено то современное направление, которое примыкает к Шлейер-
махеру, пантеистическому богослову чувства. В его систему
излюбленная богословская теория переживаний может войти вся целиком; для него
религия не что иное, как зависимость человека от вечности; она, следо-
351
вательно, исходит не из мысли, не из желания, но исключительным и
единственным источником является чувство. В то время, как Кант и
Ритчль прибегали все-таки к деятельности разума, Шлейермахер его
совершенно отвергает и прибегает исключительно к чистому чувству,
которым мы ясно ощущаем и «переживаем» бога. Что может быть
доказательнее для существования бога, как это непосредственное
переживание его внутри души? Новейший философ говорит: «Можно религиозно
переживать бога, как личное существо, но философски нельзя доказать
его существования». Это язык модернизма. Такая точк^ь зрения ведет
сама собою к ложному учению «имманентного» (внутренне с нашим
существом связанного) бога внутри нас». Как известно, папа .Пий X в своей
мастерски написанной «Bncyclica Pascendi» разобрал эти модернистские
бредни с философской и богословской точек зрения до малейших
подробностей и доказал, что они ведут, как к последнему выводу, к пантеизму
(воебожию). Модернизм последовательно ведет к пантеизму, который
есть не что иное, как уродливая форма атеизма. Так далеко зашел
католический прелат, предавая поруганию наших идеалистов и
либералов.
С богословской точки зрения, д-р Поль, несомненно более прав, чем
лютеранский профессор Эйкен. Если бога не признают первопричиной
и руководителем мира, если отрицают, что размышления о
происхождении мира нарождают религию, в таком случае нет более религии, и она
спасается в область полнейшей неопределенности, «в чистую
внутренность» господина Эйкена.
Сопоставление этих двух типов религиозных людей приводит нас
к проблеме принадлежности к церкви как единственной носительнице
религии. Религиозные люди делятся теперь на два больших лагеря,
резко различающихся между собой.
Один из них, более многочисленный, состоит из серой массы
умственно малоразвитых и бездеятельных людей, кругозор которых
большей частью очень узок. Они не в состоянии интересоваться высшими
вопросами и не умеют ставить их. Между тем, классовое положение
современного рабочего заставляет его выдвигать вопросы, выходящие за
пределы его повседневных занятий и относящиеся к области
политических, социальных проблем и их взаимодействия. Если вообще рабочий
хочет противопоставить всесильному капиталу свою мощную силу, он"
поневоле должен напрягать ум для разрешения общественных вопросов.
Для крестьянина, вообще говоря, не существует ничего вне его
деревенского обихода, за пределами того, что не 'связано непосредственно с его
заботами о пропитании. Таково уже свойство заработной платы, дающей
рабу промышленности ровно столько, сколько ему нужно для
поддержания жизни или немногим больше, а часто даже меньше. Усердием
в работе пролетарий не улучшает своего материального положения.
Он остается рабом, получающим минимальную заработную плату наравне
с сотнями тысяч товарищей по судьбе, которые изо дня в день на
призыв пронзительного парового гудка одновременно спешат на фабрику.
Благодаря этому, самые лучшие и более развитые рабочие проникаются
стремлением уяснить смысл не только своего собственного жалкого
существования, но стараются понять социальные условия жизни.
Совершенно в ином положении находятся крестьяне, мелкие
ремесленники и остальные представители самостоятельного труда. И над
ними неумолима свистит плеть капитала, но хозяйственное положение
крестьянина находится в прямой зависимости от рода занятий и усердия,
852
с которым он ему отдается. Крестьянин начинает свой день мыслями
о ценах на масло и яйца и ложится спать с думой о коровьем навозе и
картофельной шелухе. Другой мир, вне его хлеба, для него не
существует. Между тем, промышленные кризисы гоняют рабочего по многим
странам или даже по всему свету. «Блаженни нищие духом, яко их
есть царство божие» можно перефразировать: блаженны и религиозны
филистеры и мещане, пригвожденные к своему дому, захолустные
жители, живущие в своих берлогах, не интересующиеся мировыми
общественными вопросами, потому что они только нарушают строй их
производственных отношений. Но даже самый необразованный, неразвитый
человек, самый бедный духом, нуждается также и в духовной пище.
Библия была целыми столетиями «книгой книг», единственной книгой,
которая попадалась на глаза народной маосе. Портреты мадонны, папы
или Лютера были единственными художественными произведениями;
звуки колоколов в церквах по воскресеньям — единственной музыкой,
какую они слышали. Если бы много столетий назад предложить массам
«пир» Платона или изречения древне-индусских мудрецов, вместо
библии, которую им насильно преподносили, то и на эти книги они
смотрели бы, как на единственные, ведущие к спасению.
От этой массы религиозных филистеров отличается небольшая
группа идеалистов, которая, как мы уже указали, осталась верна
религии, исходя из плохой философии. Они не способны формулировать
вообще свое определение религии, потому что утратили даже веру в бога
как создателя и руководителя всего бытия.
(«Библия безбожника»).
В. Рожицын
СВОЙСТВА И КОРНИ РЕЛИГИОЗНОГО ЧУВСТВА
Еще недавно крайним, последним пределом веры, дальше которого
нельзя было итти, оставалась вера в бога: разрушен бог —■ разрушена
религия. И как вообще возможна релития без бога?
Сейчас верующие люди отступают с позиций веры в бога, разбитых
научными материалистами, на позиции религиозного^ чувства.
Верующие не могут не признать, что попытки разумного доказательства бытия
божия терпят крушение, но остается чувство религиозное, особое
чувство, без которого человек так же уродлив, как без глаз. Отсюда
вырастает возражение нравственного характера: «Вы уничтожаете религию.
Хорошо. Но чем вы ее замените? Вы опустошаете душу человека, не
давая ничего взамен. Вы уродуете человека, вы пытаетесь лишить его
свойственных каждому природных чувств. Уничтожить окончательно
религиозное чувство нельзя. Оно останется, хотя разумом и наукой вы
доказали несуществование бога. Религия остается, но меняет предмет
своего обожания. Коммунисты верят в коммунизм, как в свою религию.
Для ученого религией остается его наука, для художника — красота,
и даже самый последовательный атеист все же должен религиозно
пережить какую-нибудь любовь. Вы отрицаете бога, но ваша религия —
безбожие. Вы отрицаете религиозную любовь к людям, которая остается
главным содержанием религии («Возлюби ближнего...»;, но у вас
появляется человеко-божество. Только злоба и нравственное уродство
могут вытеснить религиозное чувство».
Г. Гурев 23
353
Эти возражения пользуются большой популярностью. На них
стоит остановиться, чтобы после чтения атеистических книг не осталось
чувства какой-то недостаточности их научных доводов. Действительно ли
уничтожение религиозного чувства означает попытку уничтожения того,
что неотъемлемо присуще каждому человеку?
К сожалению, для сторонников этого мнения их защита чистого
и даже независимого от веры в бога религиозного чувства пришла не из
внутреннего сознания, а из науки. Современные американские
психологи, в особенности Вильям Джемс, высказали, опираясь на научные
данные, предположение, что религиозное чувство, независимо от
предмета и способа веры, образует необходимую составную часть
деятельности человеческой психики. Каждый человек имеет, по крайней мере,
три особых чувства, неискоренимо свойственных его душевной
деятельности: религиозные эмоции, художественные эмоции и нравственные
эмоции. В разных видах и формах, начиная от самой дикой и варварской
веры и кончая богатой и сложной религиозной чувствительностью
современного человека, религиозный опыт выражается в самых разнородных
и многообразных формах, но он все же остается, как нельзя вырвать из
человеческого сердца чувства различия между добром и злом, между
красотой и безобразием.
Религиозная эмоция — это сложное душевное движение, в котором
духовное переживание связано с физическим. Молитва сопровождается
теплыми слезами. Думая о боге, о его величии, о его благости или
власти, человек до глубины потрясается могущественным действием
своих волнений, и иначе быть не может. Революционер, жертвующий
своей жизнью за человечество, испытывает не менее сильное потрясение
чувственной религиозной страсти, чем христианин на арене римского
цирка. Коммунисты тоже, по-своему, религиозны, хотя не признаются
в этом.
Чтобы ясно представить себе, о чем,, собственно говоря, идет речь
в этом предположении о всеобщем господстве религиозного чувства у всех
без исключения людей, условимся с самого начала, что ни вера в бога,
ни вообще религиозные эмоции не врождены человеку, не даны ему
с самого начала, как, положим, потребность в питании, размножении,
тепле и общении с другими живыми существами. Если бы существовало
врожденное религиозное чувство, оно было бы и у животных. Попытки
утверждать это мнение, действительно, были. Говорилось о том, что
некоторые обезьяны погребают мертвых змей, как свое божество, что собака
относится к своему хозяину-человеку, как он сам — к богу. Но,
разумеется, это — анекдоты для детей ...
Религия есть только у людей и не перешла к ним ш> наследству
от эпохи животного существования, а выработалась во время
культурного развития. Более или менее несомненным остается тот факт, что
самые древние или самые первобытные люди не имеют никакой религии
н никакх обрядов, позволяющих утверждать, что им свойственно
религиозное чувство. Не будем сейчас спорить о причинах и времени
возникновения религиозного чувства. Сейчас для нас достаточно того,
факта, что оно появилось вследствие общественного развития
человеческой культуры. Ограничимся тем, что отметим главные особенности ре-
лигиозного чувствования, свойственные всем верующим.
Первая и основная особенность религиозного чувства в следующем.
Некоторые предметы человек рассматривает исключительно под углом
зрения их практической пользы и полезности. Метла существует для
3&4
того, чтобы подметать комнату. Однако, возможно и некоторое другое
отношение. В средние века женщины, считавшие себя колдуньями,
намазывали свое тело особыми мазями, возбуждали себя искусственными
средствами и им казалось, что они на метле улетают на шабаш к
дьяволу. Метла превращается в предмет религиозного колдовства. Церковь
тоже верила в это колдовство, ибо иначе она не производила бы
суда и не казнила бы колдуний. Согласно распространенному рассказу,
волшебники-ремесленники могли заколдовать метлу, чтобы она сама
мела комнату. Это, конечно, грубое суеверие. Но в основе лежит
некоторый практический расчет. Если человек уверен, что он пользуется
заколдованным топором, метлой или ведром, то ему кажется, будто
не он сам делает работу, а эти волшебные предметы с
необычайной легкостью, не причиняя усталости, метут хижину, рубят дрова,
носят воду.
Следовательно, предмет, вещь может стать для человека чем-то.
обладающим скрытой силой. Среди множества камней дикарь выби*
рает один камень и полагает, _что в нем заключена некоторая сила-
До самого недавнего времени культ священных камней совмещался
у некоторых народов с довольно развитым христианством. Это
суеверие? Но для христианина чаша со святыми тайнами тоже имеет
какую-то особую силу. Кусок кости или высохшего мяса остается
безразличной частью природы, как всякий другой предмет, как камень, но
с этим же куском кости или мяса может быть связано представление
о его чудесных свойствах, о благодати, исходящей из мощей святых
угодников. Оставшаяся у матери прядь волос после умершего ребенка имеет
для нее несколько иное значение, чем всякий другой клочек шерсти.
Это называется фетишизмом.
Однако, никто не станет утверждать, что фетишизм — врожденное
свойство человеческой души. Иначе пришлось бы назвать религиозным
того человека, который испытывает сильное половое возбуждение,
прикасаясь к женскому ботинку, или считать истинно верующей монахиню,
падающую в судорогах от созерцания обнаженного тела распятого
Христа и расстреливаемого Себастиана.
Таким бразом, фетишизм предметов и частей человеческого тела,
итрающий такую большую роль в извращениях бессознательных чувств
человека, а вместе с тем и в религиозном развитии, необходимо
отбросить из состава религии, по крайней мере такой, как ее представляют
себе сторонники врожденности религиозных эмоций.
Второе свойство религиозного чувства — это представление о тому
что можно оказать действие на предметы или на людей без всякого
непосредственного общения с ними. Человек помолился о больном, и
больной выздоровел или почувствовал ч себя лучше. Я подумал об
отсутствующем, и он почувствовал мои мысли. В таком случае, пришлось бы
отнести к истинно-верующим и поставить выше неверующего ученого тех
австралийских дикарей, которые на расстоянии пытаются вредить своим
врагам, высасывать из них кровь при помощи костяной трубочки с
волосяным шнурком или наводить на места поселения врагов болезни,
бросив к ним клочек волос умершего ребенка. Нельзя приказать предмету
совершить действие, как нельзя приказывать отсутствующему человеку.
Значит, здесь тоже суеверие, а не религия; хотя крайне трудно
представить себе верующего, который бы не пытался действовать волей и
словом на предметы, на отсутствующих людей и на воображаемые
высшие существа. Трудно верить без молитвы и трудно молиться, не веря
23*
355>
в колдовское волшебное свойство молитвы — двигать предметы и дей~
ствовать на расстоянии без всякой промежуточной среды.
Когда отпадают из религии волшебные предметы и волшебные слова,
остается несколько других, уже не суеверных, а самых подлинных
религиозных чувств, без которых религия лишена всякой тайны. Верующие
противопоставляют знанию тайну. Сколько бы ни доказывал ученый,
что бога нет, верующий останется при сознании тайны, открывающей ему
непостижимую разумом истину бытия и действия божия.
В самом деле, то обстоятельство, что природа движется по
установленным естественным законам, разумно и научно обоснованным, не дает
никакого основания для веры. Все то, что постижимо умом и само
разумно, нисколько не содействует вере в бога. Ученые называют
нарушение законов природы бессмыслицей. Совершенно верно, это —
бессмыслица с точки зрения разума. Но только нарушая законы природы,
может бог проявить себя. Следовательно, веру можно обосновать
фактами только в тех случаях, когда факты противоречат разумной,
естественной последовательности и связи событий и вещей. То, что
бессмысленно для ученого, полно таинственного смысла для верующего. Хлеб
и вино не могут превратиться в тело и кровь. Это было бы
бессмыслицей, но раз это совершается, то я укрепляю свою веру. Я верю, потому
что это бессмысленно.
Здесь мы вступаем в область настоящих религиозных чувствований,
Во время богослужения вино и хлеб превращаются в кровь и тело.
Однако, тот верующий, который вообразил бы найти в дароносице
настоящую кровь и отрезанный кусок человеческото мяса, совершил бы
кощунство. Хлеб остается хлебом и вместе с тем становится телом.
Он сохраняет вое свои старые свойства и приобретает все свойства
человеческого тела. Он меняет свою природу, но сам остается неизменным.
Это бессмысленно? Да, но своей бессмысленностью подкрепляет веру,
ибо подлинное религиозное чувство коренным образом противоречит
разуму.
То же самое происходит- с плащаницей.- Изображение Христа
равняется самому Христу. Искренне верующий знает, что ежегодно во всех
церквах одновременно Христос страдает, умирает и воскресает. Это не
воспоминание о когда-то бывших страданиях Христа. Это не театральное
подражание событию смерти и воскресения, это — самое
непосредственное и настоящее воскресение. Священник, который думает, что Христос
не воскресает и что только выносится его изображение, перестает быть
верующим и становится обманщиком. Между предполагаемой
исторической смертью Христа, которая будто бы произошла в 33 году после
р. X., в один из весенних дней перед заходом солнца, и тем обрядом,
который ежегодно совершается христианами, нет никакой разницы.
Как тогда, так и теперь, и до тех пор, пока будет существовать христиан-
ркое богослужение, Христос действительно и по-настоящему будет
умирать и воскресать. Это противоречит разуму, но именно потому и
является предметом веры, что бессмысленно с точки зрения здравого
смысла.
Здесь мы наблюдаем замечательнейшее свойство религиозного
мышления. Плащаница состоит из материальных предметов, но она в то же
время является подлинным телом Христа. Христос умер когда-то и
умирает сейчас. Он умирает и воскресает в одной церкви, но в то же время
и во всех церквах. Это и есть существо веры, как тайны, противоречащей
разуму.
3S6
Третье основное свойство религиозного мышления выражается
Э представлении о разрушении причинной связи событий. Каждое
событие имеет причины. Так думает неверующий ученый. По его
мнению, если человек выздоровел от болезни, то это объясняется связью
закономерных причин, и если он не видит таких причин, то бессмысленно
ждать следствий. Но вера начинается там, где кончается смысл. «Верю,
потому что бессмысленно!». Больной прикоснулся к мощам и
выздоровел. Связано ли это причинной связью? Нет, потому что в таком
случае исцеление происходило бы чисто механическим путем. Каждый,
прикоснувшийся к мощам, исцелялся бы. Этого на самом деле нет, и
такую веру священника назвали бы языческой. Исцеление от мощей
происходит потому, что верующий больной становится сопричастен
мощам. Приобщение святых тайн совершается потому, что причастник
становится сопричастным телу и крови. Если неверующий съест
кусочек хлеба, то для него это будет только хлебом, а не телом Христа.
Поэтому и говорится перед причастием: «Со страхом и верою
приступите ...». Без страха и веры не может быть чуда. Следовательно, для
верующего действия предметов происходят не по закону причинности,
а по закону сопричастности.
Для искренне веровавших ранних христиан человек становился
верующим, когда он облекался во Христа, когда он становился
сопричастным Христу, когда Христос существовал сам по себе и вместе с тем
находился во всех верующих, нисходил на них, входил в них, соединялся
с их плотью и делал ее бессмертной и чистой.
На основании этого способа понимать и воспринимать явления,
непонятного для атеистов-неверующих, но совершенно понятного и
отчетливо чувствуемого, как несомненный факт, всеми истинно и подлинно
верующими, мы можем установить следующее: религиозные чувства не
врождены человеку, но развились в нем в течение его исторического
существования как мышление по закону сопричастности, а не по закону
причинности.
Теперь необходимо выяснить, когда именно появились религиозные
чувства, которым свойственно мышление не на основании научного до^
казательства, не по логическим законам, не по закономерной
причинности, а по закону сопричастности, мистически и таинственно.
«Можно сказать, что, согласно коллективным чувствованиям
дикарей, предметы, существа, явления могут быть, совершенно
непонятным для нас образом одновременно и самими собой и другими
предметами, иными, чем они сами. Таким же непостижимым образом они
испускают из себя или принимают в себя вдияние и силы, качества,
свойства, таинственные действия, которые испытываются вдали от них,
хотя сами они остаются на прежнем'месте.
Иначе говоря, дикарское первобытное мышление не предполагает
с необходимостью разницы между единственным и множественным,
между одним и другим, и нет необходимости утверждать одно, отрицая
другое, или наоборот. Это противоречие имеет только второстепенное
значение. Иногда оно замечается, но часто совершенно не чувствуется.
Фон-дер-Штейнен сообщает, что бразильские индейцы считали себя
одновременно людьми племени боро и птицами породы арара. Они не
присваивали себе только названия птицы, не говорили о простом родстве
или сходстве, они подразумевали полное и совершенное совпадение. Они
чувствовали себя одновременно и людьми и птицами. Фон-дер-Штейнен
находил это совершенно непонятным. Но для мышления, руководимого
357
законом сопричастности, здесь нет ничего затруднительного. Все
первобытные дикарские общества руководятся тем же самым представлением
о полном тожестве между людьми данной общины и птицами или
зверями какой-нибудь породы.
О точки зрения закона сопричастности возникновение живых
существ или явлений, наступление какого-нибудь события являются
следствиями таинственного действия, которое при таинственных
обстоятельствах передается от одного предмета к другому. Передача зависит
от сопричастности, происходящей в самых различных видах и формах:
прикосновение, передача, симпатия, действие на расстоянии и т. д.
Во многих дикарских обществах изобилие дичи, рыбы, плодов,
равномерная смена времен года связаны с выполнением известного рода
обрядов, совершаемых определенными лицами или в присутствии священного
человека, обладающего специальными мистическими свойствами. Индеец
на охоте терпит неудачу, или ему сопутствует успех в зависимости от
того, что его жена, оставшаяся в деревне, питается той или иной пищей,
совершает те или иные действия. Все то, что мы называем естественными
отношениями между событиями, проходит незамеченным, или им
придается самое ничтожное значение. Таинственная сопричастность
занимает первое место или совершенно господствует».
Эта выдержка приведена из книги профессора Л. Леви-Брюля
«Об умственной деятельности первобытных обществ». Леви-Брюль,
профессор Сорбонны в Париже, той самой Сорбонны, которая издавна была
центром ученого богословия, осуждавшего или разрешавшего религиозные
мнения, и по приговору которого беспощадно сжигались рукой палача
еретические и материалистические книги, а иногда и авторы' этих
книг.
Леви-Брюль совершенно правильно вскрывает и обнаруживает
исторические корни религиозного мышления. Правы те священники, которые
говорят, что научный разум совершенно не в состоянии понять
религиозного чувствования. Наука руководится законом причинности,
религия — законом сопричастности. Ученый опрашивает, существует ли
бог? Верующий спрашивает, сопричастен ли он богу, погружается ли
он в божественную сущность, оставаясь самим собой, но наполняясь
богом, облекаясь в бога, становясь причастным его телу и крови?
Религиозные чувства нельзя считать особой областью человеческого
мышления, существующего рядом с логическим разумным мышлением.
Современный верующий человек, независимо от его вероисповедания, усвоил
свой Мистически-таинственный способ восприятия божества и
совершения религиозных обрядов от первобытного дикаря.
Вледствие этого для современной религии есть два пути: или
доказывать веру в бога на основании научных фактов, или обосновывать
ее на неизъяснимом таинственном чувстве сопричастности божеству.
Когда религия идет путем доказательств от разума, она встречается со
всеми теми доводами против нее, которые выдвигает научный атеизм.
Когда она пытается обосновать веру в бога на таинственном религиозном
чувстве, она сама и непосредственно устанавливает свое родство с
первобытными дикарями.
До сих пор церковь имела в своем распоряжении только эти два
способа доказательства существования бога. До тех пор, пока
религиозные люди не представят новых доводов, — хотя неизвестно, откуда
они могут их взять — остается в силе наше мнение, обоснованное на
естественных науках и на истории культурного развития человечества: вера
358
в бога противоречит науке и является пережитком мышления,
свойственного первобытным 'дикарям. Следовательно, бога не существует,
ж надо отказаться от веры в него.
(«Спор между наукой и верой о боге», предисловие к брошюре Ле-Дантека).
А. Деборин
ПРАГМАТИЗМ ОБ ОТНОШЕНИИ ВЕРЫ К ЗНАНИЮ
О некоторых пор новое философское учение, известное под
названием прагматизма, нашло себе горячих поклонников у нас, в России.
Прагматизм ставит себе как теоретические, так и специальные задачи:
примирение интуитивизма или психологизма с рацонализмом, религии
с наукой, он стремится дать новое учение об истине и выковать новое
оружие для борьбы с устарелыми учениями и поблекшими ценностями.
Современное культурное человечество переживает эпоху сомнений и
колебаний. Во всех сферах жизни чувствуется непрочность нашего «быта».
Буржуазные идеологи потеряли веру не только в окружающий нас мир,
но и в самих себя. В особенности наша «интеллигенция» почувствовала
какую-то страшную пустоту и ужасающее одиночество. Вот уже сколько
лет она стремится заполнить хоть чем-нибудь эту пустоту. Трагическое
одиночество, на которое она силою вещей обречена, заставляет ее все
больше углубляться и сосредоточиваться в самой себе, копаться в своих
собственных переживаниях, гнаться за поисками новых ценностей, ко^
торые могли бы служить точкой опоры как в личной жизни, так и
основой для социального творчества. Впрочем, менее всего у нас
заняты сейчас социальным творчеством. То, что в Западной Европе и
Америке является духовной основой культурстроительства или орудием
социального самосохранения, то у нас принимает форму орудия для
индивидуального самосохранения. «Мы» жить хотим, а жить печем.
И вот «мы» готовы заимствовать у более передовых народов любую
теорию, любую философию, которые бы так или иначе оправдали наше
собственное существование и нашу неприглядную жизнь. Жизнь наша
в переживаемую нами сейчас эпоху такова, что увлечься широкими
задачами и перспективами нет возможности; в виду этого мы живем изо
дня в день без широко и глубоко захватывающих идеалов. Для многих
опустелых душ и разочарованных сердец вопрос о смысм оюизни стал
кардинальным вопросом.
Зачем жить, для чего жить, и, наконец, как жить — вот проблемы,
стоящие в центре всех современных исканий. Вопросы миропонимания,
поскольку оно способно выделить из себя более или менее
удовлетворительные ответы на вопросы жизнепонимания, поскольку оно способно
осветить жизнь со всех ее сторон и, главным образом, со стороны ее
ценности для нас самих, для каждого из нас в отдельности, — вот что
интересует сейчас ту часть нашего общества, которая разбита физически
и потрясена душевно пережитыми неудачами и разочарованиями.
Западная Европа и Новый свет, в лице буржуазных мыслителей своих, уже
пережили то культурно-философское миросозерцание, которое
основывалось на началах положительной науки. Буржуазии Западной Европы и
Америки необходимо, в видах самосохранения, подвести под современные
культурные формы новую духовную основу, которая дала бы ей воз-
359
можность удержать за собой господство над всеми остальными классами
общества. Положительная наука больше не в состоянии удовлетворить
«нуждам» жизни. Она грозит самому господству буржуазии. Необходима
другая точка зрения для ориентировки человека в мире и в обществе и для
переоценки всех ценностей. Но прежде всего надо покончить с
положительной наукой, с ее объективизмом, идеей научной истины, со всякими
теориями; все это носит слишком отвлеченный характер и не сиоообно
дать «практического» удовлетворения. Мы прежде всего — люди дела,
практики, которым некогда задаваться теоретическими вопросами и
широкими идеальными задачами. Нам нужна такая точка зрения, которая
осветила бы нашу повседневную работу, которая охватывала бы,
объясняла все ее мелочи. Большего нам не требуется, а цена ей должна быть
только невысокая, дабы она была доступна всем и усваивалась легко,
без всякого напряжения мысли, с наименьшей тратой энергии.
Можно согласиться с тем, что обычные «мировоззрения» носят
слишком отвлеченный характер. В них не чувствуется биения
человеческого сердца, теплоты человеческой крови, пульса подлинной жизни;
они часто лишены плоти. Поэтому понятна потребность стать ближе
к. окружающим нас реальностям, вступить с ними в более живую связь
и осмыслить их конкретнее. Но отсюда еще -далеко до отрицания науки,
научной истины и всякого отвлеченного <знания, которое поднимается
выше обычного житейского практицизма.
Вое острее и живее чувствуется современным сознанием какое-то
смутное брожение, какая-то невыразимая тоска по новым формам жизни
по новым духовным ценностям. Религия, служившая прежде самым
непосредственным источником формирования жизни, отжила свой век.
Метафизика, этот осколок религиозного сознания, видевшая основы
нашей земной жизни в царстве невидимом, теряет свое обаяние. На их место
становится научное познание, отрицающее всякие потусторонние
царства. Оно вступает во все более тесный союз с подлинной жизнью, с
поступательным ее движением и развитием. Духовной основой нашей жизни
и культурного творчества может быть только положительная наука.
Прагматизм характеризуется прежде всего стремлением к отрицанию
исключительной ценности теоретической истины. Как теоретическое
учение и как практическая философия, имеющая своей целью дать правила
и максимумы, которые руководили бы нашими действиями, прагматизм
представляет специфический продукт сложившихся в передовых странах
Европы и, главным образом, по ту сторону океана жизнеотношений.
Прагматизм, специфический продукт «американизма», это философия жизни
господствующих классов в современном обществе; это — теоретическое
осмысливание и оправдание практической их деятельности. Прагматизм
стремится охватить всю сумму переживаний современного обывателя/
с его моралью и религией. Прагматизм, одним словом, это — философия
современной обывательщины. Он приспособлен к психологии обывателя,
так, как является ее порождением. Обывателю нужно всего понемножку.
Ему и немножечко религии подавай, ему и толику морали нужно, да и
без положительных знаний нынче обойтись невозможно. И вот
получается в результате эклектический, винегрет, столь нужный обывателю.
Обывательщина взяла верх и у нас. Еще совсем недавно гегемония
в нашей умственной жизни принадлежала идее научной объективной
истины. Теперь у нашей интеллигенции проснулись иные потребности.
Обреченная на одиночество, она стала субъективистически оценивать
мир; ее не удовлетворяет больше объективно-научное мировоззрение,
360
культура «объективного духа». Вот почему прагматизм нашел такой
живой отклик у нас, в России. Культура «субъективного духа» — вот
чего жаждет исстрадавшаяся душа современного русского человека.
Прагматизм обещает ему дать новые ценности, новое 'мировоззрение
и новое жизнепонимание, — он обещает наполнить его пустую душу
новым духовным содержанием. И потому нет ничего удивительного1, что
за него так ухватились. Утопающий хватается и за соломинку...
Что же, однако, представляет собою этот прагматизм?
Прагматический метод, говорит Джемс, это прежде всего метод
улаживания философских опоров, которые без него могли бы тянуться
без конца. Представляет ли собою мир единое или многое? Царит ли
в нем свобода или необходимость? Лежит ли в основе его материальный
принцип или духовный? Все это одинаково правомерные точки зрения
на мир, — и споры о них бесконечны. Прагматический метод в подобных
случаях пытается истолковать каждое мнение, указывая на его
практические следствия. Какая получится для кого-нибудь практическая
разница, если принять за истинное именно это мнение, а«не другое? Если мы
не в состоянии найти никакой практической разницы, то оба
противоположные мнения означают по существу одно и то же, и всякий дальнейший
опор здесь бесполезен. Серьезный спор возникает только в том случае,
когда мы можем указать на какую-нибудь практическую разницу,
вытекающую из допущения, что права какая-нибудь одна из сторон.
Обычные философские теории характеризуются тем, что они
изображают мир с точки зрения статической, созерцательной; они не
задавались вопросом о необходимости и возможности изменения мира, об
активной стороне действительности. Прагматизм стремится стать философией
действия.
*
Находятся такие наивные люди, которые полагают, что тут есть
какое-то родство у прагматизма с марксизмом. Но это их соображение
свидетельствует только об упрощенном их понимании и толковании
марксизма. Прежде всего необходимо заметить, что марксизм выше всего
ставит идею научной истины, а не интерес. Марксизм только утверждает,
что идеи и понятия вызываются определенным ощущением, а ощущения
и чувствования определяются непосредственно реакциями человека на
окружающую среду; что в наших поступках мы прежде всего
руководствуемся нашими потребностями и интересами^ что в особенности
применимо к целым общественным организмам, к социальным единицам,
классам. Но если психологически каждому общественному классу более
доступны те истины, которые оказываются для него наиболее полезными,
наилучшим орудием в борьбе за сохранение своего господствующего
положения, или в борьбе за улучшение своего положения, в борьбе за
власть, то отсюда еще далеко до призцания, что всякое суждение истинно,
поскольку оно полезно, что человек с его желаниями и чувствами
является мерою вещей, критерием истинного, что содержание познания
субъективно.
Бели положительной ценностью прагматизма является идея
активизма, то она совершенно извращается и уничтожается благодаря
идеалистической теории познания прагматизма. Идея активизма или
«прагматизма» приобретает свою подлинную культурно-философскую ценность
в диалектическом материализме. Диалектический материализм исходит
361
из убеждения, что наши представления о предмете соответствуют предмету
представления. Стало быть, мы можем пользоваться предметами лишь
в той мере, в какой они объективно обладают теми свойствами, которые
необходимы для удовлетворения наших потребностей и для достижения
тех целей, которые мы себе ставим. Что находится вне сферы объективной
действительности, то не может быть предметом наших «действий», то не
может быть полезным для нас. Действительность одна; она может быть
нами «обрабатываема» лишь «однообразно», так как истина однозначна.
Наши идеи и представления о мире, разумеется, изменяются, но
они изменяются в зависимости от изменения самой
действительности. Не только понятия и идеи не представляют ничего
неизменного и застывшего, но и сама действительность постоянно изменяется.
С точки зрения диалектического материализма мы также работаем
постоянно над действительностью, но опираясь (на объективные тенденции,
ей самой свойственные. Мы не в силах сделать из нее все, что нам угодно,
подобно тому, как это допускается прагматизмом. Действительность
имеет свои границы. Проверка наших действий производится самой
действительностью. До тех пор, пока наши понятия верно отражают
объективную действительность, они не вступают в конфликт с ней, и мы их
можем применять вполне спокойно. Наши понятия приспособляются
к действительности, а не наоборот. Известные суждения приобретают
характер истинного не потому, что они полезны нам, что удовлетворяют
тем или иным нашим потребностям, а наоборот, они потому полезны, что
истинны, т.-е. соответствуют объективным отношениям вещей.
«Активный» момент истины есть отражение активного момента
действительности. Идеалистическое мировоззрение и жизнепонимание превращают
мир'и жизнь в созерцание; созерцание мира и жизни доставляет
наслаждение вечными и прекрасными формами абсолютной и законченной
истины. Диалектическая философия рассматривает мир и жизнь не под
углом зрения созерцания, а с точки зрения действия. Мир активен и
действенен. Исходя из действенных моментов бытия, из активных тенденций
действительности, мы создаем новые миры, новые формы жизни. И в этом
смысле мы можем сказать, что мы не находим готового, раз навсегда
данного и законченного мира, как и завершенных форм жизни. Мир ж
формы жизни нуждаются в том, чтобы быть завоеванными. Только
неустанная, беспрерывная деятельность, вечная борьба за новые формы
жизни сообщает нашему существованию настоящий человеческий
смысл...
Так как прагматизм ставит себе задачей примирение науки с
религией, то небезынтересно будет взглянуть на отношение прагматизма к
религиозным вопросам. С точки зрения прагматизма, как мы уже знаем, все
гипотезы, поскольку они в той или другой степени оказываются
полезными и выгодными для нас, одинаково правомерны. Раз из данной
гипотезы вытекают полезные для жизни следствия, то мы не вправе ее
отвергнуть. Абсолютные идеи и общие отвлеченные понятия имеют
такое же значение для нас, как и любой конкретный факт, если они имеют
значение для жизни. Но так как всей историей человеческой жизни
доказывается, что абсолютное или вера в бога приносила людям
удовлетворение, облегчала им жизнь, то очевидно, что согревающая человеческое
сердце вера есть истина, что бог есть реальность. «Если окажется,—гово-*
рит Джемс; — что религиозные идеи имеют ценность для действительной
жизни, то, с точки зрения прагматизма, они будут истинны в меру своей
пригодности для этого. Что же касается вопроса о том, можно ли им
362
приписать большую меру истинности, то решение его будет целиком
зависеть от их отношений к другим истинам, которые тоже должны быть
признаны».
Прагматизм открывает новое поприще для богоискателей, имея то
преимущество перед диалектическим материализмом, что он не только
не анти-религиозен, но «готов принять бога, живущего в глубочайшей
тьме личной жизни, если только окажется, что здесь возможно найти
его». Прагматзим, в сущности говоря, готов принять все, что угодно; он
не останавливается перед мистическим опытом, если только он имеет
практические следствия. Ведь религия есть не что иное, как реагирование
человека на все окружающее, на жизнь. Религия есть не только вера
в существование невидимого мира, это не только известная форма
мышления, но и определенная деятельность, так как невидимый мир оказывает
известное действие на нашу жизнь, на мир видимый, и так как сознание
нашей беспомощности, нашей слабости заставляет нас вступать в
определенные сношения с невидимым миром, т.-е. вызывает нас на известную
практическую деятельность. Различиями потребностей определяются
различия религий, содержание которых составляют обыкновенно нужды,
испытываемые человеческим обществом в данный период. Материальные
нужды заставляют человека обоготворять силы природы, которые могут
приносить ему радость и печаль, и удовлетворение потребностей и
недостаток, голод, холод. Сознание своей беспомощности и зависимости,
незнакомство с причиной явлений и их внутренней необходимостью и
обусловленностью приводят его к вере в высшие силы, от которых одних
остается ждать помощи в минуты несчастья. В период господства вещей
над человеком, над его сознанием религия укрепляется и приобретает
громадную силу над ним. По мере же того, как научное познание
становится орудием господства человека над миром вещей, по мере того, как
человек вскрывает и научается не только понимать внутренние причины
и связь явлений, но и пользоваться ими в своих интересах, религия
теряет свое обаяние. Она познается, как ложная и примитивная форма
познания. Практическая деятельность, прежде направленная на
умилостивление высших сил, — будь то жертвоприношение или молитва, —
принимает с ростом и развитием научного познания другие
формы. Невидимый порядок вещей разрушается; он познается,
как иллюзия, как вредный предрассудок. Единственной
реальностью признается теперь мир видимый, на который направляется
наша деятельность.
Таково правильное понимание происхождения и процесса
постепенного упадка религии с точки зрения научного познания. Но в ином
совершенно освещении представляется религиозная вера с точки зрения
прагматизма. Прагматизм насквозь субъективен, и психологичен. Так как
последней реальностью для него являются переживания, а высшим
критерием объективности — субъективная вера, то этим самым уничтожается
возможность расценки религиозной веры с точки зрения
объективно-научной и утверждается возможность существования истин мистического
порядка, поскольку они соответствуют нашей внутренней жизни. Или,
вернее, существует только внутреннее просвещение, откровение и
субъективная расцепка истин. Ценность религии определяется «полезностью
ее для того человека, который ее исповедует». Наши чувства являются
достаточной гарантией реальности определенных фактов. «Ось
реальности», как выражается Джемс, «проходит исключительно через
эгоистические центры». Наши чувства и стремления являются теми силами,
868
которые определяют наше отношение к миру. «Наша жажда знания,
в конце концов, тесно связана с желанием проникнуть в тайны нашей
личной участи. В сравнении с этим миром живых индивидуальных
чувств, мир обобщенных объектов, 'созерцаемых нашим разумом,
представляется нереальным и безжизненным». «Религия», говорит Джемо, «более
реальна, чем наука, ибо последние пределы нашего существа пребывают
в мире непостигаемом, мистическом, сверхъестественном. В большинстве
своем наши духовные стремления, повидимому, зарождаются именно
в этой области; иначе они не мотли бы овладеть нами таким образом,
что мы не в состоянии объяснить себе их появления. Поэтому следует
признать, что мы принадлежим к этой области в гораздо большей степени
и в гораздо более интимном смысле, чем к видимому миру, потому что
мы больше и интимнее всего живем в том мире, где живут и родятся наши
духовные стремления и идеалы. Но этот невидимый мир не только
идеален, — он имеет также влияние на видимый мир и воздействует на
него. Общение с этим* невидимым миром есть реальный процесс с
реальными результатами, отражающимися на конечной человеческой
личности тем, что она обновляется коренным образом, и это возрождение
человека отражается через его жизненное поведение известными
последствиями на событиях естественного мира». Внутреннее состояние
оказывается тем органом, который дает нам возможность проникнуть в
потусторонний мир, познать абсолютную реальность бога. Мистический опыт
представляет высшую форму познания, при помощи которой человек
получает возможность проникнуть в такие- сферы, которые остаются
недоступными для рассудка. Мир нашего опыта состоит, таким образом,
из двух сторон: из мира видимого, или чувственного, и мира невидимого,
или сверхчувственного: человек разными сторонами своего существа
принадлежит одновременно этим двум мирам. Видимый мир. является только
частью невидимого мира, которому принадлежит или должно, по .крайней
мере, принадлежать руководство нашей жизнью. Высшая цель жизни
заключается в приспособлении нашего существа к невидимому порядку
вещей.
Но самое существование этого невидимого мира зависит отчасти
от нас самих, от субъекта. Он таков, каким мы его себе создаем. Мы
верим в те факты и теории, в тот мир, для которого мы можем найти
применение. Ведь для того, чтобы выяснить значение какой-нибудь
теории, мы, согласно прагматизму, должны предварительно определить, какое
влияние данная теория или гипотеза может оказать на наши действия,
на нашу практическую деятельность. И если, таким образом, вера в
существование невидимого мира зависит от нашей уверенности в успехе ее
применения к практической жизни, то очевидно, что она будет тем
истиннее, чем глубже будет наша уверенность в том, что данная вера
гарантирует нам успех. Практические следствия суть критерий истинности наших
религиозных представлений. Но действенный, творческий характер
прагматизма этим еще не исчерпывается. Существование невидимого мира
и наличность самого бога в мире зависит от творчества субъекта. Субъект
творит не только видимый мир, но и невидимый, самого бога. «Сознаюсь»,
говорит Джемс в другом месте, «что я не постигаю, почему бы самое
существование невидимого мира не зависело частью от того ответа, который
каждый из нас дает на призыв к религии. Одним словом, в зависимости
от нашей веры сам бог, быть может, становится все живее и реальнее».
Понятие о боге гарантирует вечный миропорядок, идеальный его
строй и характер, а в зависимости от нашей веры сам бот становится все
364
живее и реальнее. «Мир, в котором последнее слово принадлежит боту,
может, разумеется, погибнуть в пламени, может окоченеть от холода, но
в этом случае мы думаем, что бот держит в памяти старые идеалы и что
он, наверное, где-нибудь в другом месте приведет их в осуществление.
Таким образом, там, где есть божество, трагедия носит только временный и
частичный характер, финальный крах и гибель здесь — не конец всего.
Эта потребность в вечном нравственном миропорядке — одна из
глубочайших потребностей нашего сердца». Наше сердце жаждет вечното
нравственного миропорядка, который является источником всех наших
возвышенных идеалов. Как видит читатель, в этом отношении, как и во многих
других вопросах, прагматизм стоит очень близко к кантианству. Подобно
последнему, и он делит мир на две половины: на чувственный или
видимый мир и мир интеллигибильный или невидимый, который, однако,
является источником мира видимого, основанием всех наших идеалов
и стремлений.
Но, в конце концов, ведь и стоимость бога определяется лишь
полезностью его для нас самих, для нашей жизни. Ведь ось всякой
реальности проходит через эгоистические цецттры. И невидимый мир лишь
постольку реален, поскольку он нам оказывает в жизни те или иные
полезные действия. Невидимый мир, каж, и бог, становится все реальнее и
живее ведь в зависимости от нашей веры в них. А наша вера определяется
успехом, доставляемым нам ею в практической жизни. Все существует
для человека. Центр тяжести философских воззрений должен
переместиться.
Невидимый мир и бог не, составляют самоцели, самостоятельной
ценности они не имеют. Их ценность определяется значением их для
земной практической жизни. «Наша земля со всеми ее данными
проблемами, так долго отодвинутая в тень великолепием надзвездного эфира,
должна войти в свои права. Это перемещение точки зрения означает,
что отныне философские проблемы будут трактоваться умами, не столь
тяготеющими к абстракциям, как до сих пор, умами более научного и
индивидуалистического типа, но в то же время не религиозными. Это будет
переменой «местопребывания авторитета», напоминающей почти перемену,
совершенную реформацией». Таким образом, Джемс склонен видеть
в прагматизме целую революцию философских воззрений: это своего рода
философская реформация; философский протестантизм наряду с
религиозным протестантизмом перемещает центр тяжести человеческих
интересов и воззрений. Он заставляет направлять все наше внимание на
земные интересы и на чисто человеческие проблемы. Он берется трактовать
вещи и научно и в то же время религиозно. Религия, каж, и наука,
низводится на уровень «выгодных» для жизни концепций. Бог необходим,
так как он гарантирует нам вечный и идеальный миропорядок. «Есть
бог на небе, значит все в мире, в порядке» (Джемс). Таким образом,
понятия бога (как. и другие подобные понятия) доставляют нам известную
выгоду, как выражается сам Джемс: оно имеет практическое значение.
Кант, как известно, не мог привести теоретических, научных оснований
для таких понятий, как бог, бессмертие души, свобода воли; он
постулировал и оправдывал их, как предметы практического разума. О точки же
зрения прагматизма, всякая ироблека ж всякая теория носит лишь
практический характер, оказывается истинной в меру практического своего
значения. Или, точнее, прагматизмом отрицается всякая теоретическая
философия, которая и заменяется «критикой практического разума».
Все, что может быть оправдано перед разумом практическим, то имеет
365
«теоретическое» значение, то приобретает характер истинного. Центром
вселенной является человек с его нуждами и потребностями, с его
субъективными желаниями и стремлениями. Это — та же точка зрения Про-
тагора, махизма во всех его разновидностях, и покойного Михайловского.
Мы уже указывали на то, что все виды позитивизма, с его отрицанием
объективной реальности и признанием переживания за последнюю истину,
в конце концов, ведут к отрицанию идеи научной истины, к признанию
субъективизма. Наконец, биологическое трактование происхождения
истины влечет за собой отрицание всякой объективной истины, всякой
нормы; мало того, оно ведет за собой признание истинным всего, что
имеет известное значение для человека, что оказывается в тот или другой
момент полезным для него. Но так как полезным в человеческой жизни
могут иногда оказаться и ложные представления, т.-е. заблуждения* то
в результате получается какой-то хаос, какое-то противоестественное
смешение.
Положительно поражаешься, как эти люди, у которых сохранилась
еще хоть некоторая доза здравого смысла, могут увлекаться такой
эклектической похлебкой, какой представляется этот прагматизм. О точек
зрения теоретической и логической он не выдерживает ни малейшего
прикосновения критики. Если есть ему объяснение, то это только социально-
психологическое. Тут найти ему оправдание легко. Несколько лет тому
назад некоторые наши позитивисты и махисты самостоятельно пришли
к религиозным выводам из своих теоретических построений. Один из них—
мы имеем в виду А. Луначарского—выступил с книгой «Религия и
социализм, в которой он силился доказать, что социализм есть не что иное,
как новая религия. Ему недостаточно было того научного фундамента, на
котором построено и которым держится социалистическое мировоззрение.
Ему понадобилось религиозное обоснование социалистического идеала, так
как в религиозном моменте он видел новый стимул, способный подвинуть
на действие. Если человеку нежелательно жертвовать собою во имя
временных и преходящих задач, то позвольте прикрепить человека к вечному
и нетленному, что должно освящать человеческую деятельность и что
способно стать более прочным и ценным «мотивом», помогающим нам
в нашей практической жизни.
В прагматизме религия также рассматривается, как орудие жизни,
как средство для достижения известных практических жизненных целей.
Достаточно уверовать, что все в порядке на земле, так как существует
высший разум, чтобы парализовать человеческую энергию, направленную
на борьбу со злом здесь, на земле. Сколько бы прагматисты ни толковали
о том, что их учение есть призыв к деятельности на земле, на самом
деле оно только призывает нас к творчеству «потусторонних» ценностей,
«стоимость» которых определяется вызываемыми ими в нас эмоциями и
переживаниями и ведет, в конце концов, не к прояснению, ибо вся
философия прагматизма носит по существу своему субъективный и
индивидуалистический характер. Она способна отвлекать нас от земных задач,
изображая отношения вещей и явлений в ложном свете.
В то время, когда для передового общественного класса полезны
лишь те теории, которые объективно истинны, для господствующих
классов, наоборот, объективно истинны лишь те построения, которые им
полезны.
Вот почему топерь создаются такие субъективистические и
индивидуалистические похлебки, которые далеки от истинной науки, как
небо от земли. Такие продукты quasi-научной мысли имеют, стало быть,
366
свою логику, и они показывают нам, что мы тем крепче должны держаться
за научное познание. Всякая научная фальсификация должна быть
безжалостно разоблачена...
(«Введение в философию диалектического материализма»).
Г. В. Плеханов
МОЖНО ЛИ ГОВОРИТЬ О РЕЛИГИИ БУДУЩЕГО?
Проф. Д. Н. Овсянико-Куликовский в предисловии к книге Гюйо
«Безверие будущего» пишет: «Прогресс положительной науки и
философии ставит человека лицом к лицу с непознаваемым, — и на этом пункте
начинается та религия, которая в противоположность религиям прошлого
не связывает (religio значит «связь») душу человеческую, а освобождает
ее от уз, приковывающих ее к месту и времени, злобе дня, тревоге века,
как всегда приковывали ее религии прошлого, столь тесно связанные
с историей, с культурой, с общественностью, с государством, с классами,
интересами групп человеческих. В сравнении с ними религия будущего
представляется не религией, но в ней религиозность человека взойдет на
высшую ступень той рациональной созерцательности, которая,
облагораживая дух человеческий, накопляет и освобождает,его энергию для
религиозной культурной деятельности и борьбы за гуманность и высшие
идеалы человечества».
Эта аргументация кажется нам мало убедительной. Думаем, что
«рациональная созерцательность» не имеет ничего общего с
религиозностью. И нам сдается, что сам же Д. Н. Овсянико-Куликовский
подтверждает эту нашу мысль некоторыми своими соображениями. В самом деле,
у него выходит, что в основе грядущей религиозности будет лежать «идея
бесконечности и вечности космоса». Идея эта переходит за границы
человеческого разумения; она, добытая рациональным путем, иррациональна
или супрарациональна, иначе говоря, мистична». Допустим, что эта так.
Но если это так, то и грядущая религиозность должна быть
«иррациональна или супрарациональна, иначе говоря, — мистична». А в таком
случае она, как мы сказали, не имеет ничего общего с «рациональной
созерцательностью». Кроме того, нельзя называть «мистичным» то, что
недоступно научному познанию. Известно', что луна всегда обращена
к земле одной своей стороной;. Поэтому ее другая сторона навсегда
останется недоступной для научного исследования. (Говоря это, мы конечно,
имеем в виду ученых, живущих на земле). Но следует ли отсюда, что
эта другая сторона луны иррациональна, супрарациональна или
мистична? По-нашему, совсем не следует. Нам возразят, разумеется, что
иное дело непознанное или недоступное для познания вследствие каких-
нибудь особенных условий, а иное дело безусловно непознаваемое. Мы
ответим, что это так... с точки зрения Кантовой теории познания или
одного из ее новейших видоизменений. Но для того, чтобы ссылка на эту
теорию познания была убедительной, надо сначала доказать ее
правильность, а это не так-то легко сделать. К тому же отождествление
«мистического» с непознаваемым не выдерживает критики.
М. Гюйо говорит: «Вселенная, без сомнения, бесконечна, бесконечен
поэтому и материал для человеческой науки, тем не менее, вселенная
находится под властью известного числа простых законов, в которых мы
367
*юе больше и больше отдаем себе отчет». Это, как нельзя более, верно.
И в этом заключается ответ проф. Д. Н. Овсянико-Куликовскому (в пред.
к книге Гюйо), считающему «мистической» идею бесконечности и
вечности космоса. Раз человек окончательно пришел к тому убеждению, что
бесконечная вселенная находится под властью известного числа простых
законов, в его миросозерцании нет места для мистицизма. Характеризуя
взгляды М. Гюйо, почтенный профессор говорит, что «покойный
французский философ предвидел в будущем не упадок морали и религии, а,
напротив, расцвет морального и религиозного творчества, окрыленного не
только внешними гарантиями свободы совести и мысли, но и внутреннею
свободою человека от пут догматизма в вопросах религиозного и
нравственного сознания». Это так. Но не мешало бы прибавить, что Гюйо под
религией будущего понимает нечто, совсем непохожее на религию. Так,
он пишет: «Мы можем сказать, что наука — это религия, которая
возвращается к действительности, вновь находит свойственный ей путь, вновь
находит, так оказать, себя самое. Наука говорит веем живым существам:
проникнитесь друг другом, познайте друг друга. Религия говорит им:
объединяйтесь друг с другом, заключите между собой тесный, солидарный
союз. Это одно и то же веление». Если «наука — это религия», то,
несомненно, что в будущем религиозное творчество очень усилится, ибо
научная деятельность цивилизованного человечества все более и более
возрастает. Но в других местах, напримр, s 1-й и 2-й главах первой части
своей книги, Гюйо сам очень хорошо1 поясняет, что точка зрения религии
прямо противоположна точке зрения науки: наука смотрит на природу,
как на цепь зависимых друг от друга явлений; религия, т.-е., точнее
сказать, теория, лежащая в основе религии, видит в ней «проявление воль,
более или менее независимых, одаренных необыкновенною силою и
способных действовать друг на друга и на нас самих». В виду этого
становится логически несостоятельным всякое отождествление науки с
религией. Гюйо замечает, что «мнимое примирение науки и религии
происходит у Опевсера лишь благодаря двусмысленности выражений». Это его
замечание вполне может быть применено к нему самому: только
употребляя двусмысленные выражения^ можно утверждать, что «наука —
это религия» и т. д.
Но как ни двусмысленны подчас выражения, употребляемые Гюйо,
все-таки ясно, что под расцветом религиозного творчества в будущем он
понимает собственно расцвет науки, искусства и нравственности. Чтобы
убедиться в этом, достаточно прочитать хотя бы вторую главу третьей
части его сочинения. Глава эта носит характерное название:
«Ассоциация.— Что в социальной жизни останется от религии?». Оказывается,
что ничего не останется. Мы не шутим. Гюйо говорит: «Если
рассматривать религию, как популяризацию первых научных теорий человеческих,
то есть основание думать, что самым верным средством устранить
заблуждения и сохранить хорошие стороны религий явится популяризация
истинных теорий современной науки». Мы, с своей стороны, опять
скажем, что, конечно, популярзация истинных теорий науки очень усилится
в будущем, но что это совсем не ручается за сохранение даже хороших
сторон религии, так как ее точка зрения прямо противоположна точке
зрения науки. Несколькими страницами ниже мы читаем: «Предмет
энтузиазма с течением времени меняется: им была до сих пор религия,
но им могут быть и научные доктрины и открытия, в особенности же
нравственные социальные верования. Отсюда новое последствие, то, что самый
дух прозелитизма, составляющий, невидимому, особенность, религий, ни-
363
коим образом не исчезнет вместе с ними; он лишь видоизменится». Тут
опять ясно, что «останется» только Федот, который будет совсем не тот,
и которого -поэтому очень ошибочно было бы смешивать со старым
Федотом.
М. Гюйо — непоследовательный мыслитель,, и мы считали своей
обязанностью предупредить читателей на счет его непоследовательности.
Но он все-таки мыслитель, а не кликуша вроде наших российских
«богоискателей». Поэтому, несмотря на его непоследовательность, в его книге
есть много таких элементов, которые будут способствовать рассеянию
густого тумана невежества, покрывающего у нас религиозный вопрос.
(«Рецензия на книгу М. Гюйо»),
Г. Рур»в м.
36£
ОТДЕЛ ШЕСТОЙ.
ПРОТИВ БОГОСТРОИТЕЛЬСТВА.
В. И. Лепш
«НАУЧНАЯ ПОПОВЩИНА»
В течение всего предыдущего изложения, на каждом из затрону-
тых нами вопросов гносеологии, на каждом философском вопросе,
поставленном новой физикой, мы прослеживали борьбу материализма и
идеализма. За кучей новых терминологических ухищрений, за сором
гелертерской схоластики всегда, без исключения, мы находим две
основные линии, два основных направления в решении философских
вопросов. Взять ли за первичное природу, материю, физическое, внешний
мир — и считать вторичным сознание, дух, ощущение, психическое
и т. п., вот тот коренной вопрос, который на деле продолжает разделять
философов на два больших лагеря. Источник тысяч и тысяч ошибок и
путаницы в этой области состоит именно в том, что за внешностью
терминов, дефиниций, схоластических вывертов, словесных ухищрений
просматривают эти две основных тенденции.
Маркс и Энгельс от начала и до-конца были партийными в
философии, умели открывать отступлений от материализма и поблажки
идеализму и фидеизму во всех и всяческих «новейших» направлениях.
Поэтому, исключительно с точки зрения выдержанности материализма
оценивали они Фейербаха, упрекая его за то, что он не провел
материализма до конца, — за то, что он отрекался от материализма из-за
ошибок отдельных материалистов, — за то, что он воевал с религией в целях
подновления или сочинения новой религии, — за то, что он не умел
в социологии отделаться от идеалистической фразы и стать
материалистом.
И эту величайшую и самую ценную традицию своих учителей
вполне оценил и перенял И. Дицген, каковы бы ни были его частные
ошибки в изложении диалектического материалзма. Много грешил
И. Дицген своими неловкими отступлениями от материализма, но никогда,
не пытался" он принципиально отделиться от него, выкинуть «новое»
знамя, всегда в решительный момент заявлял он твердо и категорически:
я — материалист, наша философия есть материалистическая. «Из всех
партий, — справедливо говорил наш Иосиф Дицген, — самая гнусная
есть партия середины... Как в политике, все партии более и более*
370
группируются в два только лашря ... так и наука делится на два
основных класса: там — метафизики, здесь — физики или материалисты1).
Промежуточные элементы и примиренческие шарлатаны со всяческими
кличками, спиритуалисты, сенсуалисты, реалисты и т. д. и т. д., падают
на своем пути то в то, то в другое течение. Мы требуем решительности,
мы хотим ясности. Идеалистами2) называют себя реакционные
мракобесы, а материалистами должны называться все те, которые стремятся
к освобождению человеческого ума от метафизической тарабарщины.
Если мы сравним обе партии с прочным и текучим, то посредине лежит
нечто кашеподобное».
Правда! «Реалисты» и т. п., а в том числе и «позитивисты»,
махисты и т. д., все это жалкая кашица, презренная партия середины
в философии, путающая по каждому отдельному вопросу
материалистическое и идеалистическое направление. Попытки выскочить из этих
двух коренных направлений в философии не содержат в себе ничего,
кроме «примиренческого шарлатанства».
Что «научная поповщина» идеалистической философии есть
простое преддверие прямой поповщины, в этом для И. Дицгена не было
и тени сомнения: «Научная поповщина, — писал он, — серьезнейшим
образом стремится пособить религиозной поповщине». В особенности,
область теории познания, непонимание человеческого духа, является
такой «вшивой ямой», в которой «кладет яйца» и та и другая
поповщина. «Дипломированные лакеи с речами об «идеальных благах»,
отупляющие народ при помощи жеманного идеализма» — вот что такое
профессора философии для И. Дицгена. «Как у боженьки антипод —
дьявол, так у поповского профессора — материалист». Теория
познания материализма является «универсальным оружием против
религиозной веры», — и не только против «всем известной, настоящей
обыкновенной религии попов, но и против очищенной, возвышенной
профессорской религии опьянелых идеалистов».
По сравнению с «половинчатостью» свободомыслящих
профессоров Дицген готов был предпочесть «религиозную честность» — там «есть
система», там есть люди цельные, не разрывающие теории и практики.
«Философия не наука, а средство защиты от социал-демократии» —
для гг. профессоров. «Те, кто зовут себя философами, профессора и
приват-доценты, вое тонут, несмотря на свое свободомыслие, более или
менее в предрассудках, в мистике... все составляют по отношению
к социал-демократии... одну реакционную массу». «Чтобы итти по
верному пути, не давая никаким религиозным и философским
нелепостям сбивать себя, надо изучать неверкый путь неверных путей —
философию».
И посмотрите теперь, с точки зрения партий в философии, на Маха
и Авенариуса с их школой. О, эти господа хвалятся своей
беспартийностью, и если есть у них антипод, то только один и только...
материалист. Через все писания всех махистов красной нитью проходит
тупоумная претензия «подняться выше» материализма и идеализма,,
превзойти это «устарелое» противоположение, а на деле вся эта братия
ежеминутно оступается в идеализм, ведя сплошную и неуклонную борьбу
*) И здесь неловкое, неточное выражение: вместо «метафизики» надо было
сказать «идеалисты». И. Дицген сам противополагает в других местах метафизиков
диалектикам. — Автор.
2) Заметьте, что И. Дицген уже поправился и объяснил точнее, какова партия
врагов материализма. — Автор.
24*
371,
с материализмом. Утонченные гносеологические выверты какого-нибудь
Авенариуса остаются профессорским измышлением, попыткой основать
маленькую «свою» философскую секту, а на деле, в общей обстановке
борьбы идей и направлений современного общества, объективная роль
этих гносеологических ухищрений одна и только одна: расчищать дорогу
-идеализму и фидеизму, служить им верную службу. Не случайность же
в самом деле, что за маленькую школку эмпириокритиков хватаются
и английские спиритуалисты вроде Уорда, и французские неокрити-
цисты, хвалящие Маха за борьбу с материализмом, и немецкие имма-
ненты! Формула И. Дицгена: «дипломированные лакеи фидеизма» не
в бровь, а в глаз бьет Маха, Авенариуса и всю их школу.
Несчастье русских махистов, вздумавших «примирять» махизм
с марксизмом, в том и состоит, что они доверились раз реакционным
профессорам философии и, доверившись, покатились по наклонной
плоскости. Приемы сочинения разных попыток развить и дополнить Маркса
были очень нехитры. Прочтут Оствальда, поверят Оствальду, перескажут
Оствальда, назовут это марксизмом. Прочтут Маха, поверят Маху,
перескажут Маха, назовут это марксизмом. Прочтут Пуанкарэ, поверят
Пуанкаре, перескажут Пуанкарэ, назовут это марксизмом! Ни единому
из этих профессоров, способных давать самые ценные работы в
специальных областях химии, истории, физики, нельзя верить ни в едином
слове, раз речь заходит о философии. Почему? По той же причине,
по которой ни единому профессору политической экономии, способному
давать самые ценные работы в области фактических, специальных
исследований, нельзя верить ни в одном слове, раз речь заходит об общей
теории политической экономии. Ибо эта последняя — такал же пар^
тийная наука в современном обществе, как и гносеология. В общем
и целом, профессора-экономисты не что иное, как ученые приказчики
класса капиталистов, и профессора философии — ученые приказчики
теологов.
Задача марксистов и тут и там суметь усвоить себе и переработать
те завоевания, которые делаются этими «приказчиками» (вы не сделаете,
например, ни шагу в области изучения новых экономических явлений,
не пользуясь трудами этих приказчиков), —и уметь отсечь их
реакционную тенденцию, уметь вести свою линию и бороться со всей линией
враждебных нам сил и классов. Вот этого-то и не сумели наши махисты,
рабски следующие за реакционной профессорской философией. «Может
быть, мы заблуждаемся, но мы ищем», — писал от имени авторов
«Очерков» Луначарский. — Не вы ищете, а вас ищут, вот в чем беда! Не вы
подходите с вашей, т.-е. марксистской (ибо вы желаете быть
марксистами), точки зрения к каждому повороту буржуазно-философской моды,
а к вам подходит эта мода, вам навязывает она свои новые подделки
во вкусе идеализма, сегодня а 1а Оствальд, завтра a la Max, послезавтра
а 1а Пуанкаре. Те глупенькие, «теоретические» ухищрения (с
«энергетикой», с «элементами», «интроекцией» и т. п.), которым вы наивно
верите, остаются в пределах узенькой, миниатюрной школки, а идейная
и общественная тенденция этих ухищрений улавливается сразу неокри-
тицистами, имманенгами, прагматистами и служит свою службу.
Увлечение эмпириокритицизмом и «физическим» идеализмом так же быстро
проходит, как увлечение неокантианством и «физиологическим»
идеализмом, а фидеизм с каждого такого увлечения берет себе добычу, на
тысячи ладов видоизменяя свои ухищрения в пользу философского
идеализма.
372
Отношение к религии и отношение к естествознанию превосходно
иллюстрирует это действительное классовое использование • буржуазной
реакцией эмпириокритицизма.
Возьмите первый вопрос. Не полагаете ли вы, что это
случайность, если в коллективном труде против философии марксизма
Луначарский договорился до «обожествления высших человеческих
потенций», до «религиозного атеизма» и т. п.? Если вы полагаете так, то
исключительно в силу того, что русские махисты неверно осведомили
публику насчет всего махистского течения »в Европе и отношения этого
течения к религии. Не только нет в этом отношении ничего подобного
отношению Маркса, Энгельса и Дицгена, даже Фейербаха, а есть прямо
обратное, начиная с заявлений Петцольдта: эмпириокритицизм «не
противоречит ни теизму, ни атеизму», или М^ха — «религиозные мнения —
частное дело» и кончая прямым фидеизмом, прямым черносотенством и
Корнелиуса, который расхваливает Маха и которого расхваливает Мах,
и Каруса, и всех имманентов. Нейтральность философа в этом вопросе
уже есть лакейство перед фидеизмом, а дальше нейтральности не
поднимаются и не могут подняться Мах и Авенариус в силу исходных пунктов
своей гносеологии.
Раз вы отрицаете объективную реальность, данную нам в
ощущении, вы уже потеряли всякое оружие против фидеизма, ибо вы уже
скатились к агностицизму или субъективизму, а это для него только и
нужно. Если чувственный мир есть объективная реальность, — всякой
другой «реальности» или квази-реальности (вспомните, что Базаров
поверил «реализму» имманентов, объявляющих бога «реальным
понятием») закрыта дверь* Если мир есть движущаяся материя, — ее можно
и должно бесконечно изучать в бесконечно сложных и детальных
проявлениях и разветвлениях этого движения, движения этой материи, но
вне ее, вне «физического», внешнего мира, знакомого всем и каждому,
ничего быть не может. И вражда к материализму, тучи клевет на
материалистов, — все это в цивилизованной и демократической Европе порядок:
дня. Все это продолжается до сих пор. Все это скрывается от публикой
русскими махистами, которые пи единого раза не попытались просто
даже сопоставить выходок против материализма Маха, Авенариуса,
Петцольдта и К0 с заявлениями в пользу материализма Фейербаха, Маркса.,
Энгельса, й. Дицгена.
Но «укрывательство» отношений Маха и Авенариуса к фидеизму
ничему не поможет. Факты говорят за себя. Никакие усилия в мире не
оторвут этих реакционных профессоров от того позорного столба, к
которому пригвоздили их поцелуи Уорда, неокритицистов, Шулпе, Шуберта-
Зольдерна, Леклера, прагматистов и т. д. И влияние названных
сейчас лиц, как философов и профессоров, распространенность их идей
в «образованной», т.-е. буржуазной, публике, специальная
литература, созданная ими, вдесятеро шире и богаче, чем специальная школка
Маха и Авенариуса. Школка служит, кому надо. Школкой пользуются*
как надо.
Позорные вещи, до которых опустился Луначарский — не
исключение, а порождение эмпириокритицизма,—и русского, и немецкого.
Нельзя защищать их «хорошими намерениями» автора, «особым
смыслом» его слов: будь это прямой и обычный, т.-е. непосредственно
фидеистический, смысл, мы не стали бы и разговаривать с автором, ибо не
нашлось бы, наверное, ни одного марксиста, для которого подобные
заявления не приравнивали бы всецело Анатолия Луначарского к Петру Струве.
37$
Если этого нет (а этого еще нет), то исключительно потому, что мы видим
«особый» смысл и воюем, пока еще есть почва для товарищеской войны.
В том-то и позор заявлений Луначарского, что он мог связать их с своими
«хорошими» намерениями. В том-то и зло его «теории», что она
допускает такие средства или такие выводы в осуществлении благих
намерений. В том-то и беда, что «благие» намерения остаются в лучшем
случае субъективным делом Карпа, Петра, Сидора, а общественное значение
подобных заявлений безусловно и неоспоримо, и никакими оговорками
и разъяснениями ослаблено быть не может.
Надо быть слепым, чтобы не видеть идейного родства между
«обожествлением высших человеческих потенций» Луначарского и
«всеобщей подстановкой» психического под всю физическую природу
Богданова. Это — одн'а и та же мысль, выраженная в одном случае
преимущественно с точки зрения, эстетической, в другом — гносеологической,
«Подстановка» молча и с другой стороны подходя к делу, уже
обожествляет «высшие человеческие потенции», отрывая «психическое» от
человека и подставляя необъятно-расширенное, абстрактное, божественно-
мертвое «психическое вообще» под всю физическую природу. А «Логос»
Юшкевича, «вносимый в иррациональный поток данного»?
Коготок увяз, — всей птичке пропасть. А наши махисты вое увязли
в идеализме, т.-е. ослабленном, утонченном фидеизме, увязли с того
самого момента, как взяли «ощущение» не в качестве образа внешнего
мира, а в качестве особого «элемента». Ничье ощущение, ничья
психика, ничей дух, ничья воля, — к этому неизбежно скатиться, если
не признавать материалистической теории отражения сознанием человека
объективно-реального внешнего мира.
Идеализм — это только утонченная, рафинированная форма
фидеизма, который стоит во всеоружии, располагает громадными
организациями и продлжает неуклонно воздействовать на массы, обращая на
пользу себе малейшее шатание философской мысли. Объективная,
классовая роль эмпириокритицизма всецело сводится к
прислужничеству фидеистам в их борьбе против материализма вообще и против
исторического материализма в частности.
(«Материализм и эмпириокритицизм»).
Ф, Эжельс
О ФЕЙЕРБАХОВСКОЙ ФИЛОСОФИИ РЕЛИГИИ
Фейербах вовсе не хочет упразднить религию; он хочет пополнить ее.
Сама философия должна быть поглощена религией. «Периоды
человечества отличаются один от другого лишь переменами в религии. Данное
историческое движение только тогдд, становится могучим, когда оно
овладевает человеческим сердцем. Сердце не только форма религии;
нельзя сказать, что религия должна быть также и в сердце: оно сущность
религии». По учению Фейербаха, религия есть основанное на чувстве
сердечное отношение между людьми, отношение, которое до сих пор
старалось найти свое истинное содержание в фантастическом отражении
действительности — при посредстве бога или нескольких богов, этих
фантастических отражений человеческих свойств, — а теперь
непосредственно и прямо находит его в любви между «я» и «ты». В конце концов,
374
шловая любовь выходит у Фейрбаха одной из самых возвышенных,
если не самой возвышенной формой исповедывания его новой религии.
Сердечные отношения между людьми, особенно между людьми
разного пола, существовали с тех самых пор, как существует человечество.
В течение последних восьми столетий половая любовь приобрела такое
значение и завоевала такое место, что стала осью, вокруг которой
вращается вся поэзия. Существующие положительные религии
ограничиваются тем, что дают высшее освящение государственному
регулированию, половой любви, т-е. законодательству о браках. Если бы они
совершенно исчезли, в практике любви и дружбы не произошло бы
ни малейшего изменения. Во Франции в промежуток времени от 1793 по
1799 годов христианская религия, действительно, до такой степени
исчезла, что самому Наполеону не без труда и не без сопротивления
удалось ввести ее снова. Однако, в течение этого времени никто не
почувствовал, что ее надо заменить чем-нибудь вроде новой религии
Фейербаха.
Идеализм- Фейербаха состоит здесь в том, что он половую любовь,
дружбу, сострадание, самоотвержение и все основанные на взаимной
склонности отношения людей не решается оставить в том виде, какой они
имеют сами по себе, помимо связи их с какой-нибудь особой
религиозной системой, унаследованной от прошлого. Он утверждает, что полное
свое значение эти отношения получают только тогда, когда их освятят
словом «релития». Для него главное дело не в том, чтобы существовали
такие чисто человеческие отношения, а в том, чтобы на них смотрели,
как на новую истинную религию. Он соглашается признать их полными
только в том случае, если к ним будет приложена печать религии.
Существительное — религия происходит от глагола religare и означало
первоначально связь. Таким образом, всякая взаимная связь людей
есть религия. Подобные этимологические фокусы представляют собою
последнюю лазейку идеалистической философии. Словам
приписывается не то значение; какое они получили путем долгого исторического
употребления, а то, какое они должны были бы иметь в силу своей этимо^
логической родословной. Чтобы не исчезло дорогое по старой
идеалистической привычке словцо «религия», возводятся в сан религии поло^
вая любовь и половые отношения. Совершенно также в сороковых годах
парижскими реформистами направления Луи Блана человек без
религии представлялся каким-то чудовищем. Стало быть, ваша религия —
атеизм! — говорили они. Стараясь построить истинную религию на
юснове материалистического понимания природы, Фейербах уподоблялся
человеку, который решил бы, что новейшая химия есть истинная
алхимия. Если возможна религия без бога, то и возможна алхимия без
философского камня. Впрочем, алхимия в самом деле очень тесно связана'
с религией. Философский камень обладает многими богоподобными:
свойствами, и греко-египетские алхимики первых двух столетий, по
нашему летоисчислению, имели некоторое влияние на выработку
христианского учения, как это показывают данные, приводимые Бартелло
и Коппом.
Фейербах совершенно ошибается, утверждая, что «периоды
человечества отличаются один от другого лишь переменами в религии.
Только там, где речь идет о трех доныне существующих всемирных
религиях: о буддизме, христианстве и исламе, можно сказать, что великие
исторические повороты сопровождались переменами в религии. Старые,
«естественно возникшие племенные и национальные религии не имели
376
нротагавдистского характера и лишались врякой силы сопротивления^
лишь только погибала независимость тех племен или народов, которым
они принадлежали. У германцев для этого достаточно было даже
простого соприкосновения с разлагавшейся римской всемирной империей
и с ее всемирной христианской религией, тогда только что принятой
Римом и соответствовавшей его экономическому, политическому и
духовному состоянию. Только по поводу этих более или менее
искусственно возникших мировых религий, особенно по поводу христианства
и ислама, можно сказать, что общие исторические движения
принимают религиозную окраску. Но даже у христианских народов
революции, действительно имевшие общее значение, принимают эту окраску
лишь на первых ступенях борьбы буржуазии за свое освобождение:
от тринадцатого до семнадцатого века включительно. И эта окраска
объясняется не свойствами человеческого сердца и не религиозной ето
потребностью, как думает Фейербах, а всей предыдущей историей средних
веков, знавших только одну форму идеологии — религию и богословие-
Но, когда в XVIII веке буржуазия достаточно окрепла для того, чтобы
иметь свою собственную идеологию, соответствовавшую ее классовой
точке зрения, она в своей великой и окончательной революции, во
французской, сдиралась лишь на юридические и: политические идеи и думала
о религии лишь настолько? насколько религия загораживала ей дорогу.
Ей и в голову не приходило, что надо заменить старую религию той или
иной новой. Известно, какой исход имела попытка Робеспьера.
Окружающее нас общество, основанное, на противоположности
классов и на порабощении одного класса другим, и так достаточно мешает нам
становиться в истинно человеческие отношения к своим ближним. Мы не
имеем ни малейшего основания еще более суживать эти отношения, одевая
их религиозным покровом. Точно так же надо сказать, что ходячая,
историографии уже Достаточно затруднила нам, особенно в Германии,
понимание великой исторической роли борьбы классов, и нам нет ни
малейшей надобности делать его совершенно Невозможным, низведя историю
этой борьбы на степень простого придатка к истории церкви. Уже
из этого видно, как далеко ушли мы от Фейербаха. Теперь трудно даже
читать те «прекраснейшие» места его сочинений, в которых превозносится
новая религия любви.
Фейербах основательно изучил только одну религию —
христианство, эту основанную на монотеизме всемирную религию Запада. Он
показал, что христианский бог есть человек, изображенный в зеркале
фантазии. Но этот бог, в с©ою очередь, является плодом длинного процесса
отвлечения, квинт-эссенцией множества старых племенных и
национальных богов. Соответственно этому и человек, отражающийся в
христианском боге, представляет собой не действительного человека, но
подобную же квинт-эссенцию множества действительных людей: это —
отвлеченный человек, т.-е., стало быть, человек, существующий только в мысли.
И тот же самый Фейербах, который на каждой странице приглашает нас
погрузиться в чувственный, конкретный, действительный мир,
становится до крайности отвлеченным, как только ему случится коснуться
каких-нибудь других отношений между людьми, кроме отношений между
полами.
(«Людвиг Фейербах»).
ST6
А. В. Луначарский
РЕЛИГИОЗЦЫЙ АТЕИЗМ ИЛИ ВЕРА ВЕЗ БОГА
На одном публичном диспуте оппонентом против пишущего эти
строки выступил один из выдающихся представителей прогрессивного
духовенства. В чрезвычайно яркой и полной образов речи священник
этот развивал свои мысли о значении религии для человечества.
Закончил он, приблизительно, таким образом: «Жизнь человеческая
представляется мне большой храминой, куда воздух, тепло и свет проникают через
несколько! окон: окно науки, окно философии, окно искусства, окно
религии. Хотят заколотить это последнее окно. Я же говорю, оставьте:
чем больше света, тепла и вольного воздуха будет врываться в нашу
храмину, тем легче будет дышать, тем радостнее жить. Но мне возражают:
да разве не слышите вы, что из четвертого окна не веет ароматами сада
или моря, что тлетворный дух проникает сквозь него? Это верно, говорю я,
но посмотрите: вот у окна лежит падаль и разлагается, уберите ее долойг
и в окно вновь польется здоровый воздух. Эта падаль — рабья
церковность, торжество полицейской религиозности, царство мертвящей буквы,
унижение церкви перед насильниками, вся накопившаяся веками
нечисть официальной скверны. Уберите ее, но не заколачивайте окна».
Отвечая оппоненту, автор этих страниц сказал между прочим: «И я?
сторонник всех четырех окон, и я хочу помочь убрать труп,
загромоздивший своей мертвой массой четвертое окно. Но, с позволения моего
уважаемого оппонента, я выскажу мысль, быть может, шокирующую его, быть-
может, слишком дерзкую для его ушей, но истинную для меня. Он ошибся
в определении великого мертвеца, он перечислил нам червей,
копошащихся на нем: это мертвый бог лежит у окна релитии, это идею божества
нужно убрать, чтобы в окна стали видны сияющие горизонты прогресса
и солнце чистого идеала. Мы почти сошлись в определении влияния'
религии, как системы чувств, высоко подымающих человека над его
будничным уровнем, над корыстью, мелкой расчетливостью, одиночеством,
трусостью до того плоскогорья, где веет ветер свободы, где сердца бьются
в унисон и рвутся вперед и вверх, где растут крылья творческой мечты
и крепнут, как сталь, руки для совершения великого. Но в одном
существенном, центральном мы расходимся непримиримо; я не приемлю богау
он не нужен, эта иллюзия, напротив, вредна. Вся высота религии остается,,
но мир перестает быть тиранией, как перестает быть и просвещенной
монархией, за которую его упорно хотят принимать, несмотря на все муки
человечества. Человечество предоставлено себе. Человек человеку бог.
Да не будут наши боги иные, не поклонимся им и не послужим им».
Взявши вновь слово, оппонент заявил, что не желает «своей
тросточкой поддерживать Монблана», что «много уже говорили о смерти богаг
а он здравствует себе», что «нас давно не будет, а бог еще будет жив».
Священник хорошо сделал, что воздержался от подпирания
Монблана тростью, потому что, конечно, трость жалко сломилась бы под
тяжестью фатально рушащегося Монблана. А он рушится.
Ссылка на живучесть бога неубедительна. Против частной
собственности говорили тоже, кажется, столько же времени, сколько она
существует, а она все еще вяжет человечество своими крепкими узами. Но
уважаемый оппонент, кажется, отнюдь не склонен умозаключить отсюда
к ее вечности. Мы говорили уже о причинах, разрушающих веру в боже-
37Т
ство. Противоположные причины ее консервируют: техническая
отсталость деревни, крайняя зависимость земледельца от погоды при.слабом
развитии метеорологии как науки, тем более как прикладного искусства.
Но развитие машинной агрикультуры, развитие строго научного
химического удобрения почв, система орошения и, очень может быть, искусства
вызывать и прекращать дождь, снег, град (некоторые опыты с
применением артиллерии уже сделаны в этом направлении) или совершенно
парализовать вредные последствия неравномерного выпадения осадков,
в конце-концов, вырвет и земледельца из зависимости от капризов
природы, сделают и его настоящим хозяином своего производства. Широкая
волна культуры, которая смоет остатки одичалости темной деревни,
довершит остальное.
Другой оплот религии бога — женщина, так долго предоставленная
замкнутой жизни и невежеству, находившая радость и возвышение души
только в нездоровой атмосфере церкви и исповедальни. Она будет
завоевана новой культурой еще легче. Лишь подлое желание буржуазии
держать женщину в невежестве и предрассудках для того, чтобы владеть ею
как рабой, и достойное осуждения равнодушие большинства пролетариев
к образу мыслей своих жен дают возможность духовенству держать
в своих лапах женскую душу, жаждущую поэзии, но готовую широко
распахнуться навстречу новой религии.
Но самой важщй причиной прочности мистицизма является
хозяйственная дезорганизация общества: она бьет и крестьянина, и мелкого
коммерсанта, и ремесленника, она создает превратности судьбы для
среднего, промежуточного класса, она властвует даже над крупной
буржуазией, и самый пролетариат едва побеждает ее, опираясь на свое
отчетливое понимание реальных причин того темного, «случая», рока,
судьбы и т. д., который вершит крупные и мелкие катастрофы в океане
социальной жизни.
* *
*
Выросший труд— вот богоубийца. Но он же создатель новой
религии, ибо он ставит целью победу над природой, устранение зла, торжество
разума над стихийностью, вечно растущую мощь, непрерывное
совершенствование вида т.-е. исполнение исконных желаний человека, и все это
путем организации, захватывающей индивиды, связывающей их в
пространстве и времени, делающей братьями и сотрудниками китайца и
француза, человека XX века и светлого потомка века XXX. И новая религия
требует еще самоотвержения, но только свободного. Милости хочет, а не
жертвы, хочет любовной преданности виду. Кому, как не пролетарию,
воспитанному широким сотрудничеством и могущему надеяться на успех,
только опираясь на широкие интернациональные союзы, кому, как не ему,
стать носителем новой религии?
Примирение законов жизни и законов природы произойдет путем
победы жизни при помощи познания и техники. Труд, широкая обще-
ственностъ, развитое чувство вида, надежда на непрерывный прогресс •—
вот то, что дает религиозное утешение в нашу эпоху. Таково второе
решение религиозной проблемы. Если здесь есть бог, то это — жизнь и ее
высший представитель — человеческий вид. Служение науке, труд и, для
настоящей эпохи, борьба за социализм, борьба всесторонняя,
разрушающая ветхий строй общества и ветхшгй строй души и создающая новое
общество и новую душу — вот релишюзная задача нового человека.
(«Релгягия я сод налжем»).
$78
Д. Ворохов
ПРИМЕР РЕЛИГИИ В ШИРОКОМ ПОНИМАНИИ
Исторически говоря, анимистическая вера входила и входит
составным элементом в каждую религию; божество, в каком хотите, в маленьком
или величественном, антропоморфном или метафизическом виде, участвует
во всех исторически данных верованиях. О, конечно, т. Луначарский
имеет здесь много возразить. Он ответит, во-первых, что такое понимание
узко рационалистично, ибо религия есть не абстрактная вера, а ощущение
живой связи. Да, мы и не думаем этого отрицать. Вопрос только: живой
связи с чем? Исторически: с каким-нибудь фетишем. Во-вторых, он
напомнит нам, что были и религии без бога. Напр., Контова религия
человечества; был даже «святой» в этой религии, Лштре. Религиозные идеи Сен-
Оймона и его школы, включая сюда и Пьера Леру, были тоже слабо
связаны с богом, хотя они, помимо человечества, признавали и верховное
божество; у этой светской церкви имелся даже свой папа или халиф Анфан-
тен. А еще раньше, при Великой французской революции, гебертисты
в противовес христианству выдвинули «религию разума», устроили даже
национальное празднество в честь ее и мечтали о соответствующем
обязательном для граждан культе. Оговариваемся, это оружие мы даем в руки
т. Луначарскому: сам же он, видно, не удосужился покопаться в своей
исторической памяти и обставить себя такими примерами. Между тем,
это был бы, несомненно, солидный довод в пользу необязательно
анимистического понимания религии. Но вескость довода в данном случае —
иллюзия, навеянная нагромождением примеров. Если взять каждый
отдельный из указанных примеров в его действительном своеобразии, то
иллюзия рассеется. «Позитивная религия» О. Конта была насквозь
пропитана фетишизмом, в ней даже сексуально-патологический «фетишизм»
(в смысле терминологии Крафт-Эббинга) играл не малую роль:
припомните Коптов культ женщины, который к самому концу его жизни стал
доминировать над культом человечества. Анимистические наклонности
сен-симонистов достаточно засвидетельствованы^ хотя бы тем, что они
все же сохраняли веру в какого-то неопределенного не то личного, не то
пантеистического бога; они учили даже о^ переселении душ (Пьер Леру).
Да и один факт теократических, авторитарных вожделений и замашек
у сен-симонистов достаточно' говорит за себя: Базар не мог и будущего
социалистического общества представить себе без священников. А что
священники эти рисуются'не в образе нынешних патеров или попов, еще
не ахти какая заслуга. Вообще же надо заметить, что религии
сен-симонистов и позитивистов были созданы их родоначальниками в период
общего упадка физиологического и душевного их здоровья (О. Конт даже
должен был познакомиться с психиатрической лечебницей). Ученикам же
религии эти были восприняты в экстазе чисто мессианских упований.
Религии эти носили на себе явную печать дегенерации. Совсем другое
дело гебертисты. У них «религия разума», фигурировала в качестве
полемического словоупотребления: ударение они ставили не на «религии»,
а на «разуме». А празднество в честь разума еще, ведь, не есть
непременно религиозный культ.
Один исторический пример религии без бога, т.-е. без
анимистической веры, приводит и т. Луначарский, и на этом примере, стало быть, надо
остановиться подробнее. Мы говорим о пантеизме Спинозы. Ни для кого
379
не тайна, что под именем «<бог» Спиноза имел в виду совсем не то, что
понимают обыкновенно deus sive natura (бот, т.-е. природа) — это далеко
не антропоморфное представление, и недаром обскуранты травили и про-
клинали его, как атеиста. И вот, мы читаем у тов. Луначарского, что
«Спиноза был создателем новой великой религии» («Религия и
социализм», стр. 145). С виду оно так и выходит: разве не религиозна была его
глубокая amor deisintellectualis (интеллектуальная любовь к богу)?
Однако Спиноза тщательно отмежевывал эту любовь свою от религии.
В «Теологико-политическом трактате» он неуклонно проводит мысль, что
религия не больше, как пассивное повиновение и благочестие, и тут же
противопоставляет вере (fides): познание бога свободным разумом и
свободную любовь к нему. В. «Этике», где подробно развито учение об
«интеллектуальной любви к богу», Спиноза выводит, что бог сам себя любит
такой же любовью, только в бесконечной степени; если интеллектуальная
любовь к богу есть релития, то, по Спинозе, должно выйти, что бог сам
к себе питает религиозно-благоговейные чувства! Раз мы исторически
исследуем вопрос, мы не можем приписать Спинозе религию наперекор
его собственному мнению на этот счет, и нет никакого резо'на
предпочитать собственным высказываниям Спинозы восторженные и предвзятые
суждения уважаемого товарища. Вообще же пантеизм, конечно, бывает
религиозен, напр., у Джордано Бруно, даже мистичен, напр., у Джеро-
нимо Кордано и Томассо Кампанеллы. Но спинозизм анимистичен лишь
в том отдаленном смысле, в каком Авенариус объявляет анимистическим
понятие о причинности и субстанциональности; однакоже, никто*
не скажет, что эти понятия религиозны.
Исторический вывод до того неутешителен для новой религии
тов. Луначарского и он, повидимому, так ясно сознает это, что все исто-
рически-данные религии ему пришлось включить в одну категорию
«первого решения религиозной проблемы» (сюда относятся религии с богом),
а для своей религии, как единственной в своем роде, т. Луначарский
придумал особую группу «второго решения религиозной* проблемы». Тут
напрашивается маленькое, но ехидное недоумение: почему это существует
только одно «второе решение», между т§м как «первых решений» столь-
великое множество? Уж не. потому ли,' что первое решение выдвинуто
госпожей историей, а «второе» только т. Луначарским?
Религия нашего автора нарочито составлена таким образом, чтобы
обязательно охватить и социалистическую идеологию, чтобы оправдать
религиозное понимание этой идеологии. Естественно, ради такой цели
т. Луначарский должен дать слишком широкое определение религии;
об этом можно догадаться a priori. To же самое подтвердится a posteriori.
Мы уже знаем, что такое религия по мнению автора «Религия и
социализм», но что же значит иметь религию? А вот что: «Уметь мыслить
и чувствовать мир таким образом, чтобы противоречия законов жизни иг
законов природы разрешались для нас». Вскоре, впрочем, следует
разъяснение, что надо не только разрешать эти противоречия, но также еще
все время ярко их чувствовать, иначе нет религии, а одно вседовольство.
«Овинья перед корытом и филистер в „доме — полной чаше", с однойг
стороны, и боги, с другой, могут не иметь религии». Поразительная
широта определения уже сказывается; к чести человечества надо признать,
что в его среде вовсе нет богов, а вседовольных свиней и филистеров тоже-
не слишком много. Итак, почти все человечество было, есть и пребудет
религиозным вовеки веков аминь. Этого мало. О божьей помощью т.
Луначарский расширит свое определение вглубь и выяснит нам, что у чело-
380
века нет ни одной или почти никакой нерелигиозной функции. Мы
окажемся не только все религиозны, но каждый из нас всегда и во всем
религиозен. Однако, для столь эфектного поворота требуется передышка. Пока
что труд и наука, по т. Луначарскому, как и по общему мнению, особ
статья, а религия — опять же особ статья. «Мир не только признается,
не только производится работа, но и весь трудовой процесс опять-таки
оценивается ... Наука, система — дело головы и удовлетворяет голову,
наука отвечает на вопросы: «как? и что?»; она не должна отвечать на
вопрос: «хорошо ли? дурно ли?». Религия же отвечает на эти вопросы и
делает практический вывод. Она констатирует зло в мире и ищет победы над
ним, а находит ее в надежде». Оловом, т. Луначарский еще
разграничивает. Однадо на такой позиции ему долго не удержаться: психология
определения толкнет вперед логику изложения. Наука удовлетворяет
«голову», но ведь «законы головы» стоят в резком противоречии с
«законами природы»; наука имеет целью разрешить этот контраст. Вы скажемте,
наука разрешает его логически? Но, при добром желании, разве логически
не значит психологически? Еще шаг и познание, во всем его целом и
в частностях, окажется делом-религиозным. Читайте: «Платон был прав:
человеческий разум должен добиться совпадения своих законов с
законами бытия. Он стоял бесконечно выше тех, которые отказывались от
этой религиозной задачи (примирения в этой области законов жизни и
законов природы). Но процесс этого примирения страшно сложен. Его
выполняет наука», И далее: «Сделать труд приятным, творческим,
истинным наслаждением, а,чисто механическую, притупляющую работу
сбросить на стальные плечи машин... Этой религиозной задачей
(примирение законов жизни и законов среды) занимается теперь техника». Не
напоминает ли это вам, читатель, учения сен-симониста Базара: «Мораль,
т.-е. религия, наука, т.-е. богословие, промышленность, т.-е. культ?».
В начале книги тов. Луначарский еще утверждает, что анимизм сам по
себе вовсе не религия, а только первобытная натурфилософия «почти
физика», как говорит Гюйо, что центр тяжести религии лежит в чувственной
связи человека с тем или другим объектом, а не в способе головного
толкования этого объекта. Но потом обнаруживается, что везде есть «живая
связь», и, стало быть, везде есть религия. Уже через 4 страницы, мы
открываем, что патриотизм — религия; через 40 страниц мы открываем,
что «служение науке, труд и, для нашей эпохи, борьба за социализм ... —
вот религиозная задача нового человека», а к концу книги религией, как
мы видели только что, оказывается не одно служение науке, но и самая
наука; не одно служение технике, но и самая техника. Вот она
всеохватывающая широта определения! Вот какова разгадка тайны сфинкса!
Человек —не «бесперое двуногое животное», не zoon politikon
(общественное животное), или tolmaking animal (животное, делающее орудие), и не
homo sapiens (разумный человек), он homo religiosus (религиозный
человек). И неудивительно. «Психологическое разрешение контраста
между... и т. д.». Но, боже, что только не разрешает этого «контраста»!
Разве простой акт работы, деятельности, познания, жизни не разрешает
его отчасти? А труд, познание, жизнь в их целом не разрешают
«контраста» в целом? Все, все — «религия»! «Живая связь»! Но, господи, в чем
только нет «живой связи»! Это для нас, людей «действия», кабинетный
ученый — только сухой аналитик, без живого чувства, для нас и для
сентиментальных барышень: зато мы для него «легкомысленные» практики
без глубоких интересов. Для нас шахматист или коллекционер — убогий
«эксцентрик»; зато мы для них занимаемся «пустяками». Каждый в своем
381
деле, даже филистер в «доме — полной чаше», питает «живое чувство»,
проникнут «чувственной связью» с объектом, с целью. Значит, шахматная
игрй, спортсменство и все прочее, все, вое — «религия». Спортсмен,
скажете вы, не мыслит о мире и не имеет «мжрочувствия»? Печальное
заблуждение: для нас в центре мира стоит человечество, а в центре спортсмен
ского мировоззрения стоят гипподром, велосипеды, гоночные лодки.
Спортсмена мало тревожит атмосфера Марса и социальный строй у мар-
сиян; но пусть астрономы откроют лошадей на Марсе, какая сенсация
подымется среди жокеев! Существуют и космически-спортсменские-
интересы...
Л. Фейербах придерживался не менее широкого понятия о религии,
чем тов. Луначарский. Фейербах, например, утверждал, что половая
любовь, живая и глубокая сексуальная эмоция, невозможна вне
религиозного чувства. Пишущему эти строки пришлось однажды лично спорить
с 'тов. Луначарским на его публичном реферате по вопросу о религии и
настаивать в своем возражении на том, что для религиозного чувства
существенным является момент пассивного отношения к объекту. В
заключительном слове тов. Луначарский, между прочим, сказал следующее:
«Когда влюбленный говорит своему „предмету": „Ты мой бог, я тебя
обожаю", разве он пассивно относится к своей влюбленной?». Характерная
мелочь: она показывает, что тов. Луначарский видит нечто религиозное
даже в половой любви.
Столь широкое понимание религии свойственно не одним лишь
Л. Фейербаху и т. Луначарскому. Недавно Г. Зиммель дал в высшей
степени интересный анализ релитии... Он развивает такое положение, что
религиозное чувство, присущее человеку, может распространяться как на
все отдельные части и элементы жизни, так и на всю жизнь в целом.
Рядом с миром практики, миром науки, миром метафизики, миром
искусства, этими различными и богатыми мирами, над каждым из которых
царит особое присущее человеку чувство, интерес, мироотношение наряду
с ним и религиозный инстинкт строит свой особый мир. Все эти миры, все
эти целостные сферы жизни друг с другом могут во многих пунктах
пересекаться и в перекрещении даже враждебно сталкиваться, но в общем
они совершенно самостоятельны и строятся по различным принципам.
Как возможно и практическое, и научное, и метафизическое, и
художественное отношение, скажем, к дереву, так же точно возможно к нему
отношение религиозное, и оно не будет обязательно анимистическим.
Иногда «природа будит в нас.,. то глубокое, едва подающееся анализу
чувство, которое я назвал бы просто цотрясеннем: когда нас внезапно до
глубины трогает и волнует не какая-нибудь необычайная красота или
возвышенность явления природы, а часто один солнечный луч, зигзагом
пробегающий листву, или изгиб ветви под дуновением ветра..., которые,
как бы тайным созвучием с нашим собственным существом, заставляет
его вибрировать в страстных движениях». Зиммель таким образом
делает a priori всеобъемлющим религиозное сознание: оно может относиться
к внешней природе, к человеческой судьбе, к общественной жизни.
«Отношение почтительного ребенка к родителям, энтузиастического патриота
к своему отечеству или так же настроенного космополита к человечеству,
отношение рабочего к своему победоносно поднимающемуся классу или
гордого дворянством феодала к своему -сословию; отношение подданного
к сврему повелителю, под внушением которого он находится, или бравого
солдата к своей армии — все, вое эти отношения со .столь бесконечно
многообразным содержанием, могут, однако, по форме своей психологической
382
стороны, иметь некоторый общий, тон, который следует назвать
религиозным». Однако чтобы носить такой религиозный характер, социальные
чувства должны быть проникнуты благочестием, особой интенсивностью,
подымающей их над обычным спокойным и, стало быть, нерелигиозным
течением.
Если принять какое-нибудь из широких понятий о религии, мы
должны будем строго логически притти к заключению, что, во-первых,
возможна религия без бога, и, во-вторых, религия, как, таковая, вечна и
непреходяща, — изменяются же только ее формы, Тов. Луначарский и
делает такие выводы.
Автор «Религии и социализма» совершенно прав, утверждая, что
религия возникает из стремления «психологически разрешить контраст
между законами жизни и законами природы». Но еще очень и очень
большой вопрос: верно ли обратное положение, что все возникающее из
этого стремления уже есть религия. Ибо из потребности примирить жизнь
с природой, а также подчинить природу жизни вырастает слишком много
в душе человека и в истории общества: в этой потребности коренится вел
человеческая культура, все формы деятельности людей. Но нельзя же
всю человеческую жизнь назвать религией! Мы понимаем набожных
христиан, которые говорят in deo vivimus. Мы понимаем и Зиммеля, когда
он отводит религии хоть и всемерную, вселенскую, но все же
определенную сферу компетенции. О ним можно совсем не соглашаться, но его
мысль вполне ясна: у него никак нельзя спутать, к примеру, область
религии с царством науки, с миром искусства. Зиммель проводит
разграничение, если не в объекте, не в пункте приложения этих различных
функций человеческих, то в способе их отношений к одному и тому же объекту.
У автора же «Религия и социализм» мы не находим ясных перегородок
между религией и другими отправлениями человека, и, начав с попытки
установить такие перегородки, он потом смешивает все карты и даже с
особым увлечением валит в(зе в одну кучу. В этой неразберихе религия,
мораль, техника, наука, патриотизм, социализм сливаются до полной
неразличимости очертаний, а в награду за свой общий серый цвет все заодно
получают громкий титул религии. Автор «Религии и социализма» верно
подметил один из глубоких корней -религиозного сознания, но вопрос:
исчерпал ли он своим определением содержание религии, не следует ли
проникнуть глубже, специализировать условия происхождения религии,
вскрыть то, что отличает религию от всякого другого нерелигиозного
мироощущения,^ которое, однако, тоже исходит из яркого сознания
неудовлетворительности жизни?
Религия разрешает не простое «противоречие между законами жизни
и природы, а то же противоречие, поскольку оно преломилось сквозь
определенную социальную среду; и не всякую социальную среду, а
исключительно такую, которая создает достаточные исключительные условия
для анимистической идеологии. Овое определение религии тов.
Луначарский строит на данных индивидуальной психологии. Связывая, как
марксист, историю отдельных религий с развитием социальных и классовых
соотношений, он, совсем не как марксист, приурочивает генезис
религиозного сознания вообще к некоторым свойствам общечеловеческой природы.
Оперируя же общечеловеческими «законами организма», «законами
жизни», он невольно и неизбежно приходит к чрезмерно широкому
понятию о религии. Мы видели, что мироощущение каких-нибудь завзятых
циклистов вполне подойдет под его определение религии, — и очень
естественно, потому что и это мироощущение разрешает индидидуальный
38$
конфликт «между законами жизни и законами природы». Будь тов.
Луначарский последователен, для него был бы спорт такой же религией, как
пантеизм Спинозы.
* *
*
Тов. Луначарский хочет верить, что, окрестив социализм религией,
он делает его более обоснованным «объективно». Если бы здесь дело шло
только о слове «религия», мы могли бы вполне последовать примеру
флегматическою хохла, распевающего на полях и ярмарках Украины:
Чоловик сие мак,
Жинка каже гречка.
Нехай так, нехай так,
Нехай буде гречка мак.
Мы бы сказали — пускай себе социализм зовется «религией»... Но
дело куда серьезней...
(«Виртуализм и религиозно-этическая проблема в марксизме»).
Г. Б. Плеханов
КРИТИКА ВОЗЗРЕНИЙ ЛУНАЧАРСКОГО НА РЕЛИГИЮ
А. Луначарский берет меня, можно сказать, в первую голову,
переводя на русский язык и критикуя мой ответ на вопрос (анкету) о
будущности религии, поставленный «Mercure de Prance» в 1907 г. Надо отдать
ему справедливость: он точно резюмирует содержание моего ответа:
«Итак, — говорит он, — по Плеханову, религия, прежде всего, есть
определенное, именно анимистическое объяснение феноменов. Позднее духи
были призваны блюсти законы морали: в их воле видели источник
законов. Теперь феномены получили другое объяснение: духов в
наличности неч оказалось, и „в этой гипотезе больше не нуждаются для целей
познания", как сказал Лаплас, а потому и мораль должна отказаться
от сверхъестественной санкции и искать естественной.
Сверхъестественное изгоняется научным реализмом, и для религии нет больше места».
Я, в самом деле, так думаю. Правда, я не употребляю таких выражений,
как «научный реализм»: оно кажется мне слишком мало определенным.
Но это здесь не важно. А. Луначарский еще более верен истине тогда
когда прибавляет: «Энгельс стоял на той точке зрения, что и Плеханов»
Хотя на следующих страницах он забывает об этой моей солидарность
с Энгельсом и критикует одного меня, но хорошо уже и то, что эта
солидарность не отрицается им. Друг А. Луначарского А. Богданов
поступает иначе: он всегда старается разъединить меня с Энгельсом и зачис
-лить меня по ведомству «буржуазного материализма» XVIII столетия
Это гораздо хуже. Но как бы там ни было, а факт тот, что А. Луначар
склй не удовлетворен моим взглядом на религию. Он противопоставляет
ему определение, сделанное Э. Вандервельдом. Это определение, по ел
словам, «глубже Плехановского, менее узко, менее рационалистично»
Однако, дальше Луначарский заявляет, что у Вандервельде истина сме
шана с заблуждением; а еще несколькими строками ниже выходит, чтс
давая свое определение религии, знаменитый бельгийский социалист опн
рается на «чистейшее кантианство». И это верно. Но напрасно Луна
чарский замечает: «Мы оказываемся, в данном случае, ближе к тов. Пле
ханову». Это уже неверно. «Чистейшее кантианство» не помешал
884
Э. Вандервельде дать такое определение религии, которое Луначарский
считает более глубоким и менее узким, нежели «Плехановское». Стало
-быть, А. Луначарский, в конце концов, ближе все-таки к Э. Вандервельде,
нежели к Плеханову.
Но и это мимоходом. Главное здесь в том, что Луначарский желает
иметь религию без бога, «Да, — восклицает ои, — запросы „практического
разума", т.-е. тоски человека по счастью, не могут быть объявлены
несуществующими или маловажными, ни разрешены наукой, как таковой,
по делать отсюда вывод, что они всегда будут удовлетворяться баснями,
неопровержимыми лишь потому, что они гнездятся за пределами
чувственной природы, значит выдавать человечеству свидетельство' о
бедности духа». А. Луначарский убежден, что «нынешний человек» может
иметь религию без бога и что «доказать, что это возможно, значит дока-
нать бога». А так как нашему автору очень хочется «доканать бога», то он
принимается доказывать, «что это возможно», и с этой целью обращается
к Фейербаху. Он думает, «что ни один материалист не нанес религии,
положительной религии и всякой вере в бога, в потусторонний мир,
в сверхчувственное такого вдребезги бьющего удара, как Людвиг
Фейербах. После Фейербаха философски религия бога убита». Ниже мы еще
проверим на примере самого А. Луначарского, точно ли убита «религия
бога». А теперь посмотрим, что собственно (помимо «убийства бога»)
понравилось А. Луначарскому у Л. Фейербаха.
«Самое определение религии у Фейербаха нигде не формулировано
вполне удовлетворительно,—говорит он,—нет читатель сразу почувствует
огромную разницу между Фейербахом и соц.-демократами-рационали-
стами и просветителями, когда прочтет такие строки: „Религия есть
торжественное откровение скрытых в человеке сокровищ, признание его
внутренних помыслов, открытое исповедание тайн его любви". Тут
Фейербах схватил религию за сердце, а не за одежду, как тов. Плеханов»
(Луначарский).
Приведя затем еще одну цитату, в которой выражается та мысль
Фейербаха, что во всех религиях человек поклоняется своей собственной
сущности, А. Луначарский считает возможным решительно
противопоставить философскую глубину Фейербаха «хотя бы ученой поверхности
Тэйлора, у которого позаимствовал свое определение тов. Плеханов».
Но у кого бы ни заимствовал свое определение религии «товарищ
Плеханов», мы уже знаем, что в интересующем нас вопросе «товарищ»
этот стоял, по признанию самого А. Луначарского, на точке зрения
Энгельса. Стало быть, противопоставление Фейербаха с его
«философской глубиной» Тэйлору, с его «ученой поверхностностью» попадает •—
разумеется, если попадает — не только в «тов. Плеханова», но также и
в «тов. Энгельса». Не думайте, читатель, что, постоянно напоминая вам
об этом, я хочу спрятаться от моего страшного критика за спину одного
из основателей научного социализма. Совсем нет! Дело тут вовсе не
в том страхе, который я испытываю — разумеется, если испытываю ■—
перед А. Луначарским, а в том, что говорит этот последний. Говорит же
он вот что:
«Я думаю, что с точки зрения религиозно-философской Маркс
блистательно продолжил это дело возвышения антропологии до степени
теологии, т.-е. окончательно помог человеческому самосознанию стать
человеческой религией».
Эта мысль А. Луначарского высказана по поводу слов Фейербаха:
«Я низвожу теологию до антропологии и тем самым возвышаю штропо-
Г. Гурев 25
385
логию до степени теологии». Посмотрите же, что у нас выходит. Маркс,
блистательно продолжая дело, начатое Фейербахом, «окончательно помог
человеческому самосознанию стать человеческой религией». Но известно,
что Энгельс был постоянным единомышленником и неизменным
сотрудником Маркса. Он никогда не расходился с ним во взгляде на религию.
Значит,- Энгельсу принадлежит, по крайне мере, часть заслуги,
признаваемой А. Луначарским за Марксом; значит, Энгельс тоже далеко не
чужд был понимания философской глубины Фейербахова взгляда на
«сердце» религии. А, с другой стороны, «Энгельс стоял на той же точке
зрения, что и Плеханов». Плеханов же в своем взгляде на религию
обнаруживает узость, излишний рационализм, недостаток глубокомыслия
и приближается к Тэйлору, который, если верить А. Луначарскому, дает
определение религии «ходячее среди буржуазных и
социал-демократических свободомыслящих публицистов». Где же здесь правда и в чем
она заключается?
Давайте, читатель, искать правды своими собственными силами:
на А. Луначарского плоха надежда.
Маркс, который «окончательно помог человеческому самосознанию
стать человеческой религией» (Луначарский), говорит в статье о Пру-
доне, написанной тотчас же после смерти этого последнего: «Его нападки
на религию, церковь и т. д. были, однако, большой заслугой в то время,
когда французские социалисты находили уместным видеть в
религиозности признак своето превосходства над буржуазным вольтерьянством
XVIII и немецкого безбожия XIX века. Если Петр Великий варварством
побил русское варварство, то и Прудон сделал недурно, борясь с помощью
фразы против французского фразерства».
Уже эти слова Маркса дают основание думать, что он считал
фразерством всякие толки о превращении «человеческого самосознания в
человеческую религию». И это в самом деле было так. И это не могло
быть иначе. Отношение Маркса к религии было совершенно
отрицательное. В этом легко убедится тот, кто потрудится прочесть известную
статью его «К критике гегелевской теории права»1).
Когда он писал эту статью, он стоял еще на точке зрения
Фейербаха и целиком принимал, в ее основе, Фейербахову критику религии.
Но, вопреки самому Фейербаху, он делал из нее «иррелигиозные» выводы.
Он говорил: «Основа иррелигиозной критики есть та, что человек делает
религию, а не религия — человека. Кроме того, религия есть
самосознание и самочувствие такого человека, который или еще не приобрел,
или уже опять потерял самого себя. Но человек вовсе не есть абстрактное
существо, парящее вне мира. Человек — это мир человека, государство,
общество. Это государство, это общество создают религию, это
извращенное миросознание, потому что они сами составляют извращенный мир.
Религия есть общая теория этого мира, это энциклопедический
компендиум, его логика в популярной форме, его спиритуалистический point
d'honnenr, его энтузиазм, его нравственная санкция, всеобщая основа его
утешения и оправдания. Она есть фантастическое осуществление
человеческой сущности, потому что человеческая сущность не имеет
никакого действительного осуществления. Поэтому борьба против религии
есть непосредственно борьба против того мира, духовным ароматом
которого является религия . . . Религия есть не более, как мнимое солнце.
*) Начало етой статьи приведено в отд. VIII. — Прим. ред.
386
которое лишь до тех пор вращается вокруг человека, пока он не научился
вращаться вокруг самого себя».
Судите сами после этого, как изумительно хорошо понял Маркса
А. Луначарский, объявляющий его учение «пятой великой религией,
формулированной иудейством», и принимающий на себя роль нового пророка
этой «пятой религии». Луначарский как будто даже совсем не
подозревает, что говорит нечто прямо обратное тому, что говорил Маркс.
По Марксу, религия есть извращенное миросознание, порождаемое
извращенными общественными отношениями. Стало быть, умозаключает
А. Луначарский, мы должны постараться извратить человеческое
миросознание даже в том случае, если общественные отношения перестанут быть
извращенными. По Марксу, религия есть самосознание и самочувствие
такого человека, который или еще не приобрел или уже опять потерял
самого себя. Стало быть, умозаключает наш красноречивый и
чувствительный автор, религия непременно должна существовать даже и тогда,
когда человек «приобретет» самого себя. По Марксу, религия есть
вымышленное солнце, вращающееся вокруг челрвека лишь потому, что он еще не
научился вращаться вокруг самого себя. Стало быть выводит наш новый
пророк «пятой религии», вымышленное солнце должно существовать даже
тогда, когда человек научится вращаться вокруг самого себя.
Поразительные выводы! Железная логика!
А Энгельс?
Возражая Карлейлю, стремившемуся совершить над человеческим
самосознанием почти ту же самую операцию, которую теперь хотелось бы
совершить над ним А. Луначарскому, Энгельс писал: «Религия есть, по
своему существу, опустошение человека и природы, лишение их всякого
содержания, перенесение этого содержания на фантом потустороннего
бога, который затем снова дает кое-что человеку и природе от своего
избытка». Правда, А. Луначарский, как мы уже видели, стремится
создать «религию без бога». Может быть, Энгельс и помирился бы с такой
религией? Нет, и к такой религии Энгельс относился совершенно
отрицательно. Он находил, что теперь уже исчерпана всякая возможность
религии и что теперь следует вернуть человеку то содержание, которое
было перенесено на бога, но вернуть его не как божественное, а как чисто-
человеческое. «И все это возвращение, — писал он, — сводится к
пробуждению человеческого самосознания". Тут надо заметить еще вот что.
В этом своем взгляде Энгельс был гораздо более верен тому учению о
религии, которое составляет действительную заслугу Фейербаха. В самом
деле, согласно этому учению, религия есть фантастическое отражение
человеческой сущности. Поэтому, когда человеческое самосознание
достигнет той степени развития, на которой фантастический туман
рассеется при свете разума, тогда всякая возможность религии по
необходимости окажется исчерпанной. Сам Фейербах не сделал этого вывода:
он считал возможным и нужным проповедывать религию сердца, любви.
Но, вопреки тому, что говорит Луначарский, в этом приходится видеть
не заслуги Фейербаха, не глубину его, а его слабость, уступку,
сделанную им идеализму. Так это и понимал Энгельс, оставаясь и тут, конечно,
в полном согласии с Марксом. Он,, как нельзя более определенно,
высказался на этот счет в своей брошюре о Фейербахе.
«Действительный идеализм Фейербаха», читаем мы там, «выступает
наружу тотчас, как мы подходим к его этике и философии религии.
Фейербах вовсе не хочет упразднить религию; он хочет пополнить ее.
Сама философия должна быть поглощена религией ... Идеализм Фейер*
25*
387
баха состоит здесь в том, что он половую любовь, дружбу, сострадание,
самоотвержение и все основанные на взаимной склонности отношения
людей не решается оставить в том виде, какой они имеют сами по себе,
помимо связи их с какой-нибудь особой религиозной системой,
унаследованной от прошлого. Он утверждает, что полное свое значение эти
отношения получают только тогда, когда их освятят словом «религия». Для
него главное дело не в том, чтобы существовали такие
чисто-человеческие отношения, а в том, чтобы на них смотрели, как на новую,
истинную религию. Он соглашается признать их полными только в том
случае, если к ним будет приложена печать религии. Далее, указав на то,
что существительное «религия» происходит от слова religare, вследствие
Зего некоторые думают, что всякая взаимная связь людей есть религия,
Энгельс говорит: «Подобные этимологические фокусы представляют собою
последнюю лазейку идеалистической философии». Эти слова не
следовало бы забывать Луначарскому, который хотя и очень враждебен
материалистической философии, но все-таки выдает себя за сторонника
исторического материализма.
В том же месте мы находим у Энгельса насмешливый отзыв о
попытке Фейербаха построить религию без бога, — попытке, которая
привела в такой восторг А. Луначарского: «стараясь построить истинную
религию на основе материалистического понимания природы, Фейербах
уподоблялся человеку, который решил бы, что новейшая химия есть
истинная алхимия. Если возможна религия без бога, то возможна и
алхимия без философского камня».
Это вполне справедливо. Однако следует помнить, что сочиненная
Луначарским религия не долго остается «без бога». Уже из его книги
мы узнаем, что .недаром Штраус аллегорически признал чудотворную
силу. «Ибо», вещает наш возвышенный автор, «на глазах совершаются
чудеса победы разума и воли над природой, исцеляются больные,
движутся горы, переплываются легко бурные океаны, мысль летит на
крыльях электричества с одного полушария на другое, и, видя успехи
гения, не говорим ли: кто сей, что и бурные моря покоряются ему?
Не чуем ли, как крепнет родившийся между волом и ослом бог».
Эта красноречивая тирада, которая, наверное, вызвала бы громкие
рукоплескания на недавнем съезде миссионеров, очень хорошо
подтверждает ту мою мысль, что религия невозможна без анимистических
представлений. Когда человек, захотевший придумать религию без бога,
«чует, как крепнет родившийся между волом и ослом бог», то это
показывает, что я прав:, религии без бога нет; где есть религия, там должен
быть бог. И не только бог, а, пожалуй, даже и богиня, ибо не добро быть
богу едину. Вот, что пишет Луначарский в своей божественной книге,
обращаясь к природе: «Коварная, бездушная, могучая, блистательно-
красивая, упоительно-богатая природа, ты будешь сама покорной рабой,
в тебе найдет человек свое бездонное счастье и самые взрывы бунта твоего
и глубина твоего рокового бездушия, твое вероломство неразумного
существа, прелестная великая богиня, опасности любви вдвоем с тобой, будут
восхищать мужское сердце человека».
Религия невозможна без анимистических представлений. Вот
почему Луначарский, проповедник «религии без бога», говорит таким
языком, который уместен только там, где есть, по крайней мере, один бог
и, по крайней мере, одна богиня. Это вполне естественно. Но именно
оттого, что это вполне естественно, мы не должны удивляться тому, что
наш автор все более и более расходится с основателями научного социа-
388
лизма и все более и более сходится... с апостолом Павлом. Но его
словам, этот последний «гениально подходит к сущности религии», когда
говорит: «Нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении
с тою славою, которая откроется в нас. Ибо тварь с надеждою ожидает
откровения сынов божьих. Потому что тварь покорилась суете не
добровольно, но по воле покорившего ее в надежде, что и сама тварь
освобождена будет от рабства тлению» в свободу славы детей божьих. Ибо
знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится доныне; и не только
она, но мы сами, имея начагок духа, и мы в себе стенаем, ожидая
усыновления, искупления тела нашето» (Римл. VIII, 18 — 24).
В другом месте, к которому я еще вернусь, Луначарский пишет:
„Мы, вместе с апостолом Павлом, можем сказать: «Мы спасены в
надежде»". Я очень рад за Луначарского, если это в самом деле так.
Но обратил ли он внимание на то, что у него получается следующая,
несколько неожиданная комбинация: Энгельс стоит «на той же точке
зрения, что и Плеханов», между тем как апостол Павел «спасается в
надежде» вместе с ндм, А. Луначарским? Лично я ничего не имею против
этой комбинации, но удобна ли она для нашего автора, выдавшего и
выдающего себя за последователя Маркса и Энгельса? Я сильно
сомневаюсь в этом.
Указав на то, как «гениально подходит к сущности религии»
апостол Павел, г. Луначарский дает собственное определение религии. Вот
оно «Религия есть такое мышление о мире и такое мирочувствование,
которое психологически разрешает контраст между законами жизни и
законами природы». Он не считает этого определения окончательным.
«Это общее определение религии», читаем мы у него, «оно не охватывает
всех существенных ее сторон». Но он надеется, что дальнейшие свойства
религии могут быть выведены из этого определения: Не обманывает ли
его надежда?
Религия есть известного рода «мышление о мире» и известного рода
«мирочувствование». Хорошо. В чем же заключается отличительная
черта мышления, свойственного религии? У Луначарского выходит, что
она изменяется вместе с ходом умственного развития человечества:
«Мифологическое творчество сменилось метафизикой и, наконец, точной
наукой, вера в магизм рухнула и заменилась верой в труд. На месте
анимизма стоит теперь научный энергетизм, на месте магизма — современная
техника». Допустим на минуту, что энертетизм есть именно то
миросозерцание, которое должно теперь занять место «магизма» и анимизма.
Но я спрашиваю, в чем же скажется влияние религии на мьпнление
людей, держащихся «энергетического» образа мыслей? Если бы эти люди
могли обоготворить энергию, то вопрос решился бы очень просто:
обоготворение предполагает религиозное отношение к своему предмету.
Но обоготворить — значит олицетворить, олицетворить же, в данном
случае, значит склониться к анимизму, на месте которого стоит теперь, по
словам А. Луначарского, научный энергетизм. Где же выход? Его не видно
оо стороны «мышления». Луначарский сам более или менее смутно
сознает это. Сейчас же после указания на то. что анимизм заменен теперь
научным энергетизмом, а магизм — современной техникой, он
прибавляет: «Но изменило ли это что-нибудь в религиозной сущности души
человеческой? Разве человек добился счастья? Разве в душе его не
живет больше желаний? Разве его мечты об истинном счастьи стали
бледнее, его идеалы тусклее и ближе? Если бы это было так, то Гартман
был бы прав. Это значило бы, что человечество стало ,.положитель~
3S9
ным", т.-е. коммерчески раосчетливым, удобоудовлетворимым, ползучим,
дряхлым».
Человечество, в лице передового класса современного общества, не
стало ни удобоудовлетворимым, ни ползучим, шГ дряхлым. Оно еще не
добилось счастья, в нем живет много желаний, его мечты о счастье ярки,
его идеалы светлы. Это все так. И это все относится, если хотите,
к «мирочувствованию». Но я опять спрашиваю: при чем же тут религия?
А* Луначарский сам видит, что она тут не при чем. Поэтому он считает
нужным дать дальнейшие пояснения.
«Тоска жива в человеке, и кто не умеет мыслить мир религиозно»,
говорит он, «тот осужден на пессимизм, если только он не простой
филистер, готовый вместе с чеховским учителем повторять: „Я доволен, я
доволен". Если тоска первобытного человека есть жажда жизни
продолжаться, защищать себя от нападения среды, то новая тоска есть жажда
господствовать над природой. Вот великая перемена, совершавшаяся
в религиозном чувствовании человека.
Итак, тоска жива в человеке, и религия нужна именно для того,
чтобы избавиться от тоски, ибо «кто не умеет мыслить мир религиозно,
тот осужден на пессимизм, если только он не простой филистер».
Против этого трудно возразить что-нибудь: это дело личного
«мироощущения». Есть люди, которых тоска, в них живущая, заставляет пить,
что называется, горькую. Есть люди, которых та же тоска, вернее
сказать, иная разновидность тоски, заставляет искать утешения в одной
из старых религий. Наконец, есть люди, которых еще иная
разновидность тоски заставляет мечтать о той или другой повой религии. Это все
мне очень хорошо известно. Но, рискуя навлечь на себя упрек в
«простом филистерстве», я признаюсь, что решительно неспособен понять,
почему «жажда господствовать пад природой» непременно должна
принимать вид тоски и притом тоски, предрасполагающей к религии. Я верю
в искренность А. Луначарского и, вследствие этого, нимало не сомневаюсь
в том, что у него названная «жажда» обратилась в «тоску». Я
предполагаю, кроме того, что у нашего пророка «пятой религии» есть известное
число последователей, тоже превращающих «жажду» в «тоску», а тоску—
в религию. Много тоскующих — а еще больше — нагоняющих тоску
людей в современной России. И на это есть своя общественная причина.
Но здесь я смотрю на это явление пока только с точки зрения логики,
и хочу знать, какие именно логические основания позволяют А.
Луначарскому с ловкостью почти военного человека выводить указанную
«тоску» из указанной «жажды». Ответ на это заключается в словах:
«контраст между законами жизни и законами природы», заключающихся
в приведенном мною выше и сделанном Луначарским определении
религии. Что же это за контраст?
А. Луначарский, державшийся, как известно, «философской»
теории Маха и Авенариуса, совсем неожиданно признает себя, однако,
материалистом в известном смысле этого слова. Он говорит: «Мы — не
идеалисты, мы — материалисты в том смысле, что не находим ничего общего
между законами физического мира и нашими истинами и идеалами,
нашим миром моральным». Теоретически это неверно «в том смысле», что
ни один серьезный материалист никогда не задавался вопросом, есть ли
что-нибудь общее между законами физического мира и нашими истинами
и идеалами? Задаваться таким вопросом значило бы стремиться
соизмерить несоизмеримое. Но факт тот, что, по учению всех серьезных
материалистов, человек может познать истину путем изучения законов при-
390
роды (в самом широком смысле этого слова) и осуществить свои идеалы,
опираясь на эти законы. А Луначарский совсем незнаком с материали-
отической литературой. Это видно из того вздора, который он наговорил
о материализме Дидро и Гольбаха в статье «Атеизм», напечатанной
в сборнике «Очерки по философии марксизма». И только вследствие
полного своего незнакомства с материализмом наш пророк «пятой
религии» мог признать себя материалистом в указанном смысле. Но этим
неудачным переходом на почву материализма он лишь хотел подкрепить
то положение, что не существует «моральных сил, якобы правящих
миром». Это положение верно, несмотря на свое ребячески-наивное
обоснование: сил, о которых говорит А. Луначарский, действительно нет.
Жаль только, что под его пером даже это положение, справедливое само
по себе, сразу получает весьма своеобразный привкус. Ссылаясь на
«великолепную» книгу Гарольда Геффдинга о религии, А. Луначарский
пишет, стремясь настроить нас на религиозный лад:
«Наука приводит нас к закону вечности энергии, но энергия эта,
оставаясь количественно равной себе самой, может разнствовать в смысле
ценности для человека. Смерть человека, например, скажем, Лассаля,
и Маркса, Рафаэля, Георга Бюхнера ничего не изменяет в энергетических
уравнениях, но она констатируется, как горе, как утрата в мире чувства,
в мире ценностей. Прогресс есть прежде всего рост количества и высоты
культурных ценностей. Является ли прогресс имманентным законом
природы? Отвечая «да!», мы являемся чистыми метафизиками, ибо
утверждаем то, чего не гарантирует нам наука».
Этими соображениями приотворяется дверь религии,
рассматриваемой, согласно определению Геффдинга, как забота о судьбах ценностей.
Но для того, чтобы понимаемая таким образом религия могла дать нам
какое-нибудь утешение в горестях, подобных тем, на которые указывает
г. Луначарский^ мы должны признать существование «моральных сил»,
€тоящих выше природы, законы которых выражаются в наших
энергетических уравнениях: иначе наша забота о «судьбе ценностей» не приведет,
в смысле религии, ровно ни к чему. Но, ведь, Луначарский не признает
«моральных сил, якобы правящих миром». Поэтому ему не остаегся
ничего другого, как впасть в противоречие с самим собою. Он и делает
это с поразительным успехом.
Если в своей книге Луначарский объявляет, как мы только что
видели, чистым метафизиком человека, отвечающего «да!» на вопрос:
является ли прогресс имманентным законом природы, то в указанной
выше статье «Атеизм» он категорически заявляет:
«Материальная эволюция и прогресс духовности совпадают. Вот
великая истина, которую открыл и почувствовал в философии пролетариат».
Та же истина, хотя и не столь «красочно", повторяется, впрочем,
А. Луначарским и в его книге, вообще сильно хромающей по части
логики. Поэтому ошибся бы читатель, если бы подумал, что указанное
мною противоречие существует только между тем, что говорит А.
Луначарский в своей книге, и тем, что говорит он же в своей статье. Нет, его
книга тоже противоречит сама себе. Вот пример.
Заметив, что наука никогда не дает уверенности, а всегда одну
вероятность, хотя часто практически равную уверенности, А. Луначарский
еще более подкрепляет это свое замечание следующим соображением:
«То, что относится к науке вообще, в еще несравненно большей мере
относится к сложным научным прогнозам о судьбе мира: земли,
человечества». Но едва мы проникаемся важностью этого соображения и едва
391
мы говорим себе: стало-быть, у нас «в еще несравненно большей мере»
не мо&ет быть уверенности, например, насчет будущего торжества
социализма, как А. Луначарский спешит нас сильно обнадежить. «Социализм,
как будущее», говорит он, «благодаря маркоову анализу тенденций
капиталистического общества, обладает вероятностью, граничащей с
достоверностью». Мы опять верим нашему пророку и, вздохнув с облегчением,
говорим себе: «В таком случае нам нечего бояться за судьбу той
ценности», которую мы называем социализмом, и нам нет нужды
апеллировать к религии: «за социализм ручается наува». Но если бы мы
окончательно успокоились на этом выводе, то, ведь, нам не нужно было бы
и пророка. Поэтому пророк опять стращает нас. Он говорит, что «наука
скорее против нас в более общем вопросе о том, победят ли жизнь, орга-.
ническая материя, разум — в их самоутверждении перед лицом
бессмысленной материи, природы — как будто органическая материя не есть
часть природы, — подобно Хроносу, готовому истребить детей своих».
Мы опять трепещем и кричим: давайте нам, Луначарский, религию,
которая есть забота о судьбе наших «ценностей»! Но, давая нам ее,
потрудитесь объяснить, в чем же именно проявится эта ее забота? Само собою
разумеется, что наш пророк и тут за словом в карман не
полезет. Он произносит красноречивую тираду, которую я считаю себя
обязанным воспроизвести для назидания неверующим почти во всей ее
полноте.
«Нет пределов для познания и основной на нем техники.
Подумайте о психической жизни моллюска, нашего предка, и о
беспроволочном телеграфе. Между тем, психическая жизнь потомка, не столь
далеко, быть может, при беге прогресса, так же чудовищно превзойдет
нашу, как сила мозга Фарадея, Маркони превосходит силу нервной
клетки протозоя». (Вот они, - предсказанные Ницше, сверхчеловеки!).
«Нет предела для силы мысли, т.-е. для целесообразной самоорганизации
общественно-нервно-мО'Зговой системы, а с нею вместе и для прогресса
техники. Мы можем сказать лишь, что предстоит борьба. Эта борьба
начнется с новым небывалым размахом именно после победы
общественных принципов социализма. Социализм — это организованная борьба
человечества с природой для полного ее подчинения разуму; в надежде
на победу, в стремлении, напряжении сил — новая религия. Мы вместе
с ап. Павлом можем сказать: «Мы спасены в надежде». Новая религия не
может вести к пассивности, к которой, в сущности, ведет всякая религия,
дающая безусловную гарантию в тержестве добра: новая религия вся
уходит в действие. «Человек рожден не для созерцаний», говорит
Аристотель, «а для действия», и начало умиленного созерцания изгоняется
теперь из религии и заменяется началом неустанной активности. Новая
религия, религия человечества, религия труда не дает гарантий. Но я
полагаю, что и без бога и без гарантий — маски того же бога — она остается
религией».
Итак, нет предела для прогресса техники. Поэтому «мы можем
сказать лишь, что предстоит борьба». Это безусловно справедливо.
Но так как мы можем сказать «лишь», что предстоит борьба, то мы
говорим, что должна быть и будет новая религия. Логично! Далее.
Религия есть забота о судьбе «ценности». Эта забота имеет смысл только-
•в том случае, если она дает нам какие-нибудь гарантии. Отсюда мы
с Луначарским умозаключаем, что нам нужна такая религия, которая
не дает никаких гарантий, т.-е. лишена всякого смысла. Это опять как
нельзя лошчшзо.
392
Но это еще не вое. Вы думаете, что религия А. Луначарского
в самом деле остается без бога? Вы ошибаетесь. Я уже указывал, что
эта религия имеет неудержимое стремление породить, по крайней мере,
одного бота («между ослом и волом») и, по крайней мере, одну богиню.
Если вы отнеслись-с некоторым сомнением к моим словам, то, в
наказание, потрудитесь послушать самого пророка.
«Но так ли уж у нас и нет бога?» — размышляет Луначарский.
«Ведь представление о боге имеет в себе нечто вечно прекрасное? Ведь,
в этом образе (когда эта идея выражена в образе) все человеческое
поднято до высшей потенции, отсюда красота его» ... Затем, после длинного
и неостроумного пререкания с Дицгеном, любящий красоту пророк
повторяет: «И остаюсь я без бога, потому что его нет ни в мире, ни вне
мира». Тут опять кажется, будто пророк окончательно, хотя и не без
сожаления, решил придумать обещанную им нам «религию без бога».
Но это опять только кажется. Луначарский опять впадает в раздумье.
«И, однако», замечает он, таким тоном, который ясно дает понять нам,
что его религия будет, вопреки его ясному обещанию, с богом. Вспомнив
и мимоходом обругав «прескверное учение» Сореля о всеобщей стачке,
как о социальном мифе, пророк продолжает:
«Но теория социального мифа как нельзя применимее в области
нового религиозного сознания (пролетарского, а не аристобердяевското).
Бог как Всезнание, ВсеблаженствО', Всемогущество, Всеобъемлющая,
Вечная жизнь, есть, действительно, все человеческое в высшей потенции.
Тогда так и скажем: бог есть человечество в высшей потенции. Но
человечества в высшей потенции не существует? Святая истина. Но оно
существует в реальности и таит в себе свои потенции. Будем же обожать
потенции человечества, наши потенции и представлять их в венце слаЪы
для того, чтобы крепче любить их».
Придумав, наконец, бога, пророк, homme de raison, впадает в
молитвенное настроение и тут seance tennante, сочиняет молитву: «Да
придет царствие божие», — взывает он. Regmim gloriae, апофеоз человека,
победа разумного существа над прекрасной в своем неразумии сестрой
его — природой. «Да будет воля Его», Его хозяйская воля от предела до
предела, т.-е. без предела. — «Да святится имя Его». На троне миров
воссядет Некто, ликом подобный человеку, и благоустроенный мир устами
живых и мертвых стихии, голосом красоты своей воскликнет: «Свят, святг
свят, полны небо и земля славы Твоея».
Помолившись, Луначарский чувствует себя прекрасно.
«И человек-бог оглянется и улыбнется», пророчествует он, «ибо вот
все добро зело». Может быть, оно и в самом деле так будет. И это очень
отрадно. Плохо вот только то, что в рассуждениях нашего пророка
далеко не все «добро зело»: они хромают, как мы видели, на все ноги.
Придуманная Луначарским религия имеет только одну, правда, очень
большую «ценность»: она может привести серьезного читателя в очень
веселое настроение духа. И чем серьезнее будет читатель, тем большую
веселость ощутит он, прочитав книгу и статью нашего пророка.
Тем не менее, обоснованная (гм!) в этих комичных сочинениях,
новая религия должна привлечь к себе внимание, как показатель
общественного настроения. Маркс не даром сказал, что религиозные вопросы
имеют ныне общественное значение, и что только теолог может думать,
будто дело идет теперь о религии, как о таковой. Сочиняя свою религию,
Луначарский просто-на-просто подделывался к господствующему у нас
теперь общественному настроению. В настоящее время по многим при-
39S
чинам общественного характера у нас есть большой спрос на «религию^.
А там, где есть спрос, является и предложение.
И Луначарский выступил в роли пророка «пятой религии». Если бы
у читающей публики обнаружилось отрицательное отношение к религии,
то он очень кстати вспомнил бы, что его религия была по
первоначальному плану религией без бога, и весьма своевременно догадался бы о том,
что религия без бога на самом деле вовсе не религия, а простая игра слов.
Какова же та общественная причина, которая сулит ему некоторый
успех в роли пророка «пятой религии»? Короче, почему у нас теперь
есть спрос на религию?
Я отвечаю словами Луначарского: «тоска жива в человеке, т.-е. я
хочу сказать: в современном русском человеке. «Жива» и очень сильна.
Объясняется это крупными событиями, пережитыми Россией в течение
последних лет. Под влиянием этих событий у многих и многих
«интеллигентов» исчезла вера в близкое торжество более или менее передового
общественного идеала. А это уже известное дело: когда у людей пропадает
вера в торжество общественного идеала, тогда у них выступают на
первый план «заботы» о своей собственной драгоценной личности. К числу
таких забот относится «забота» о том, что станет с этой личностью после
того, как умрет ее «земная оболочка». На этот вопрос наука, с ее, как
выражается Луначарский, энергетическими уравнениями дает довольно
неутешительный ответ: она грозит личным небытием. Поэтому хорошие
господа, заботящиеся о своей драгоценной личности, не только что
покидают точку зрения науки — это теперь не принято у хороших господ, —
а заводят двойную бухгалтерию. Они говорят: «иное дело — знание,
а иное дело — вера; иное дело — наука, а иное дело религия. Наука не
ручается мне за мое личное бессмертие, а религия гарантирует мне его.
Да здравствует религия!». Так рассуждает, например, г.
Мережковский. «Религия» г. Мережковского насквозь пропитана самым
непримиримым индивидуализмом. К чести Луначарского надо сказать, что он
свободен от крайностей этого индивидуализма. Правда, он, сам того не
замечая, очень нередко говорит в его тоне. Для примера укажу на то,
выдвинутое им, — теоретически крайне странное, — соображение, что
мы «не находим ничего общего между законами физического мира и
нашими истинами и идеалами». Нелепое с теоретической стороны
соображение это имеет смысл лишь в той мере, в какой оно служит
выражением раздвоенности, всегда свойственной человеку, утратившему веру
в общественный идеал и. целиком ушедшему в заботу о своей
собственной драгоценной ,персоне. Но, говоря таким тоном, А. Луначарский
делает уступку господствующему настроению. Без этой уступки он не
мог бы приспособиться к нему. А сделав ее, он немедленно дает
читателю понять то, что он, Луначарский, в качестве «истинного
социалиста», глубоко проник в сущность отношений отдельного лица и вида,
для него реальность — вид, человечество, а отдельное лицо — лишь
частное выражение этой сущности. На этой мысли основана его
«религия» и его проповедь любви. «Индивид кончает смертью», — говорит он.
«Но именно этому факту отвечает другое выработанное в борьбе
приспособление— размножение, связанное с любовью. Это выводит живой
организм за пределы узко-индивидуального существования, это
выражается в наличности в нем сначала сверх-индивидуальных инстинктов,
а потом, в видовом самосознании, любви к виду». Та же цель борьбы
с крайностями унывающего индивидуализма заставляет его
распространяться о сотрудаичеюта^ как основе оверх-индивидуальной жизни:
394
«Общество есть сотрудничество целое, обнимающее индивиды и группы
и раскрывающее в области познания и техники горизонты, совершенно
недоступные отдельному индивиду... • Социализм идет в направлении
развития мира, которое, путем борьбы и отбора, создает все более
сложные и мощные высшие единицы». Все «красочные» пророчества
Луначарского имеют целью врачевание нравственных язв заболевшего тоской
всероссийского «интеллигента». И этим характеризуется его
религиозное искание. Наш пророк охотно говорит о пролетариате, о пролетарской
точке зрения,.о пролетарской борьбе и т. п. Но с пролетариатом как
таковым, с пролетариатом fur sich, с рабочим классом, достигшим
самосознания, Луначарский не имеет ничего «общего». Он — типичный
российский «интеллигент» из наиболее впечатлительных, наиболее
поверхностных и потому наименее устойчивых. Этими особенностями его,
как умственного типа, объясняются все его метаморфозы, наивно
принимаемые им за движение вперед. Если он вздумал нарядить социализм
в религиозную одежду и даже сочинил забавный акафист бого-челове-
честву, то это произошло единственно потому, что приунывшая
российская «интеллигенция» ударилась в религию. И. Киреевский употребил
когда-то выражение: «душегрейка новейшего уныния». Над этим
выражением много смеялись. Но смешные явления заслуживают смешных
названий. Когда я прочитал книгу «Религия и социализм», я сказал
-себе: Луначарский шьет душегрейку новейшего уныния. И я до сих пор
думаю, что меня не обмануло это мое первое впечатление.
Теперь обратим внимание на другую стороду того же самого дела.
Она как и та, которую мы только что рассмотрели, весьма поучительна.
Заканчивая свою статью «Атеизм», А. Луначарский пишет:
«Сбросим ветхий плащ серого материализма. Если наши материалисты бодры
и активны... то, ведь, это, вопреки их материализму, а не в силу его.
Так было и с их настоящими учителями — энциклопедистами. Но
буржуазным резрешительным путем был материализм, как резкая антитеза
вредному мистицизму старого режима. Пролетариату нужен
гармонический синтез, подымающий обе противоположности, претворяющий их
в себе и уничтожающий их. Этого синтеза мы все посильно ищем.
Может быть, мы заблуждаемся, но ищем радостно и прилежно; сердитые
окрики заслуженных ветеранов-капралов нас не остановят:
Да, были люди в наше время,
Не то, что нынешнее племя,
Богатыри — не вы, —
Ворчат капралы: «Дяденька, те умерли, а нам жить надо своим
умом». Капралы командуют.
Дружно, детки, все зараз:
Буки аз, буки аз.
«Дяденька, да что же все зады твердить? Пора перейти хоть
к складам».
Это написано бойко и весело, но, к сожалению, не умно. Не умно
по той весьма простой причине, что обнаруживает полное непонимание
Луначарским своей роли в русской социалистической литературе. Он
предается своим измышлениям под предлогом движения вперед и во имя
дальнейшего развития основных идей марксизма. Но я уже показал, что
его отношение к религии прямо противоположное отношению к ней
Маркса и Энгельса. Теперь я прибавлю, что, выкраивая религиозный
костюм для социализма, он, как рак, пятится назад, возвращаясь к тому
395
взгляду на вопрос о религии, которого держалось огромное большинство
социалистов-утопистов. Возьмем хоть Францию. Сен-Симон и его
последователи проповедуют там «новое христианство»; Кабэ измышляет
«истинное христианство». Фурье гремит против иррелигиозного духа
людей нового времени; Луи Блан твердо держится деизма; Пьер Леру
возмущается людьми, думающими, что песенка религии окончательно
спета, и с пафосом восклицает: «Я — верующий. Пусть я родился
в эпоху скептицизма; я был до такой степени верующим по своей
природе, что я собрал (таково, по крайней мере, мое убеждение) верование
человечества в то время,^ когда верование это находилось в скрытом
состоянии, когда человечество казалось неверующим ни во что: и я имею
претензию возвратить ему эту веру». Тот же Леру гордо заявляет, что
он пришел в мир не за тем, чтобы обнаружить литературный талант,
а затем, «чтобы найти самую полезную истину — религиозную истину».
Мы видим отсюда, что наш русский пророк имел очень много
предшественников во Франции. Или обратимся к Германии. Кто не знает,
как любил заигрывать с религией Вильгельм Вейтлинг? Кто из нас,
марксистов, не помнит полемики Маркса с переселившимся в Ныо-Иорк
пророком «новой религии» Германом Крите? У кого не осталось в
памяти сделанная юмористическая характеристика пророка Альбрехта
(подвизавшегося в начале 40 годов) и пророка Георга Кульмана из Голь-
штейна, опубликовавшего в 1845 г. на немецком языке в Женеве книгу:
«Новый мир или царство божие на земле. Благовегцение»? Видите,
сколько пророков! Мы, русские, очень отстали в этом отношении от
Германии, и если начинаем немного поправляться теперь, то
единственно — благодаря А. Луначарскому и его единомышленникам. Но
что всего интереснее в этой исторической справке для меня, как для
человека, весьма склонного носить так называемый Луначарским ветхий
плащ серого материализма, так это тот факт, что некоторые утопические
социалисты Германии умели смотреть на материализм с таким же
великолепным презрением, с каким смотрит на него российский эмпириомонист
и пророк «пятой религии» Луначарский. Мы уже слышали от этого
последнего, что «если наши материалисты бодры и активны, то, ведь,
это вопреки их материализму, а не в силу его». Теперь послушайте, что
вещал миру утопист Карл Грюн в лето от рождества христова 1845-е:
«Материалист, делающийся социалистом, совершает страшную
непоследовательность; к счастью, человек всегда лучше своей системы».
Опоздали, страшно опоздали вы, блаженный Анатолие, со своими
презрительными переговорами,, со своими возвышенными пророчествами и со своим
гармоническим синтезом!».
Но я все-таки весьма благодарен вам, отче святый, за то, что вы,
пообещав нам религию без бога, не удержались и придумали «бога» —
человечество, сочинив подходящий акафист для его прославления. Этим
вы подтвердили — разумеется, ни мало этого не желая — ту мою мысль,
что представления, свойственные религии, всегда имеют анимистический
характер. Ваша религия есть не более, как модная итра. Но и ей чужда
логика, свойственная всем вообще религиям: люди, предающиеся этой
игре, невольно заговаривают языком анимистов, несмотря на то, что не
имеют свойственных анимистам верований. Логика религии обязывает!
(«Еще о религия»).
396
Я. Грабовский
МОЖНО ЛИ СОЦИАЛИЗМ НАЗВАТЬ РЕЛИГИЕЙ?
Уже у эмпириокритаков буржуазных религия имеет более или
менее фигуральный смысл. У «религиозных» социалистов религия является
уже чистейшей фразой, бессмысленной фразой. К этому
бессодержательному фразерству и принадлежит «социалистическая религия»
Луначарского.
Луначарский особенно ясно и откровенно изложил свое «В чем
моя вера?» в статье, написанной по поводу книги «Атеизм» биолога
Ле-Дантека, в сборнике — «Очерки по философии марксизма». В конце
статьи мы находим главу, названную «Социальный миф». Вот что
сказано в этой главе:
«Читатель заметил, конечно, что миросозерцание, абрис которого
дан в настоящем этюде, не менее последовательно атеистично, чем
миросозерцание почтенного биолога (Ле-Данте-ка). Однако миросозерцание
это я склонен считать религиозным. Религиозный атеизм? Да почему бы
нет?.. Но что же тогда религиозного в нашем атеизме? Постараюсь
ответить на этот вопрос» ... И далее: «Надежда на победу красоты и
блага, на блаженство и мощь, с одной стороны, и радостная преданность
высшему, разбивающая рамки оторванной жизни, подымающая ее
скоротечность до вечного значения — это душа релитии. Сам бог был только
оболочкой этой души. Мне кажется, что мы назовем чувственную
сущность социализма довольно точно, когда скажем, что это религиозный
атеизм».
Не думаю, чтобы надо было особенно настойчиво указывать, что
социализм не задается вовсе целью осуществить «красоту, благо,
блаженство» ни «при посредстве преданности, подымающей скоротечность
жизни до вечного значения», ни более простым практическим способом,
хотя и менее возвышенным.
Все эти, в других отношениях чудесные вещи, указываемые
Луначарским, в социализме просто ненужный и напыщенный quasi
поэтический вздор, имеющий в виду взвинчивание вялых душ, интеллигентных
представителей социализма и зазывание сочувствующих из
мелкобуржуазных фракций в социалистическую лавочку. Социализм имеет
лишь в виду чисто практическую задачу: устранить материальную
необеспеченность и безобразную борьбу внутри человечества, отнимающую
у него колоссальную сумму производительных сил. И если после
устранения всего этого развернется для человечества возможность подумать
о чем-нибудь ином, «высшем», чем о насущном хлебе, то это выйдет само
собою, не составляя, повторяю, прямой задачи социализма.
Что Луначарский главным образом имеет в виду подбадривание,
это мы видим из его точки зрения на значение религии.
«Смысл веры в ее непосредственно исцеляющей силе; и если бы
душа человека, порываясь к гармонии и счастью, не создавала себе
в самые трудные минуты утешающих иллюзий, кто знает, возможна ли
была бы самая жизнь человека».
Конечно, это не особенно интересный вопрос; что было бы, если бы
да кабы да росли во рту грибы? Религия была на известной стадии
развития человечества совершенно фактически-неизбежным хлорал-
397
гидратом. Но, во всяком случае, Луначарский неправ. Если слабая
часть человечества, может быть, погибла бы при отсутствии религии, то
другая, более сильная часть, не только отлично выжила бы, но
неизмеримо более успевала бы, чем это фактически имело место в истории.
Луначарский, так много толкующий «о красоте мощных личностей»
в человечестве (которые единственно — де имеют право на
существование), ухитряется принимать все человечество за скопище институток,
которым никак нельзя обойтись без «хлорала». Даже для лошадиного
организма пролетариата Луначарский усматривает необходимость в
микстуре, сочиняя «пролетарскую религию».
О другой стороны, по Луначарскому, наоборот, знание не всегда
бывает нужно человечеству, и. это допущение, конечно, в свою очередь
должно было укрепить Луначарского в мысли, что без веры человечеству
в иных случаях был бы мат.
«Мы не говорим о том, что открытие истины, полезное для одних
лиц, групп или классов, может быть вредно для других; гораздо
значительнее тот случай, когда открытие истины временно вредно для всего
человечества. Мы думаем вместе с Ницше, что такой факт вполне
возможен».
Но лишь не-«позитивные» религии были нужны человечеству
иногда. Позитивные же «всегда нужны, по мнению Луначарского.
«В своем стремлении к счастью и удовлетворению потребности в их
максимуме человек создает идеал красоты, добра и истины... Когда
идеалы созревают настолько, что перерастают рамки семьи, класса,
национальности, то все идеалисты всего человечества составляют как бы
один еще неорганизованный религиозный союз, стремящийся включить
всех людей в свои рамки. Это уже иная религия, религия
человечества ... Если эстетический пантеизм соответствует
трансцендентальному идеализму, и полный жизни бог Дионис противостоит бесплотно
непостижимому Браме и всем аналогичным ему божествам, то вера в
прогресс соответствует древному хилиазму. Между ними, конечно,
большая разница. Хилиаст всегда ждал помощи от своего трансцендентдого
божества и не надеялся на свою силу, зато у него не было и сомнений
в будущем; религия же человечества связывается сознательно или
бессознательно с пантеизмом... Религия эта ничего достоверного не
обещает ... Ждет; ли человечество прогресс без конца? Превратится ли
оно в сияющую умом голову Диониса? .. Или оно будет низвергнуто
в пучину хаоса? Неизвестно! -Но человечество призывается к борьбе...
Для того, чтобы оценить жизнь со стороны ее красоты, надо либо
подняться вместе с наукой до объединяющих принципов, либо, что гораздо
плодотворнее для чуткого человека, уметь почувствовать те гармонии,
какие заключает в себе жизнь» ...
Ради всех святых, Луначарский, разъясните нам, с какими
«идеалистами всего света» вы решились нас, марксистов, включить в «один
религиозный союз», и, каким марксизмом, хотя бы и дополненным Махом-
Авенариусо-м-Шуппе и.Гольцапфелем, это требуется? Вот уже по истине:
«без нас, нас женили».
Подбадриванием и зазыванием религий Луначарский имеет в виду
обеспечить интересы пролетариата. Это мы видим из его теории
«социального мифа». Сам он в сущности, как видно из этих теорий, не верит
в свою «религию». И я остаюсь без бога. Потому что его нет ни в мире
ни вне мира. И однако... Ж. Оорель говорит: «Всеобщей стачки,
может быть, и даже наверное не будет никогда, но надо поддерживать идею
3#8
ее в умах пролетариата, как социальный миф, как руководящую
предельную идею, чтобы постоянно стремиться достичь той степени силы,
какая предполагается нашим понятием. Прескверное учение. Так как
социальная революция отождествляется с greve generale, то и она
отправляется в область мифов. Между тем она есть реальнейшая реальность,
а именно, несомненно предстоящее. Но теория «социального мифа», как
нельзя более, применима в области нового религиозного сознания
(пролетарского, а не аристо-бердяевского). Бог, как Всезнание, Всеблажен-
ство, Всемогущество, Всеобъемлющая, Вечная жизнь... есть
действительно все человеческое в высшей потенции ...».
Итак, Луначарский считает религию лишь мифом в духе Сореля,
мифом, «который должен быть руководящей идеей», «чтобы постоянно
стремиться достичь» ..., т.-е. мифом, подбадривающим пессимистически
настроенных борцов и сочувствующих ...
Прескверное учение у Луначарского. Так как социализм
отождествляется у Луначарского с религией, то он, социализм, отправляется
у Луначарского в область мифов.
Предположение Луначарского, что признание человечества богом
подгоняет исторический процесс, есть скрытое предположение, что люди
вынуждаются к историческому процессу не только материальными
причинами (состоянием производительных сил), а по крайности, отчарти
и религиозными,причинами. А известно, насколько мнение, напр., что
средние века двигались религией, мешает пониманию истории средних
веков. Эта «церковная» точка зрения на средние века делала до сих
пор прямо невозможным 'объяснение их. Эта кажущаяся
самостоятельность власти религии над человеческими поступками вполне аналогична
кажущейся самостоятельности власти государства над общественной
жизнью, особенно там, где классовый характер его, государства,
затемнен сложными его отношениями к обществу, как это имеет место при
некапиталистическом строе. Эта иллюзия относительно государства
создала мнение, что античный мир двигался политикой, и что
монархическая власть есть власть надклассовая. Этой последней иллюзией долго-
пользовались до сих пор все монархии... Нечего сказать, в хорошей
компании оказывается Луначарский!
Религия у Луначарского является по существу чистейшей фразой,
«мифом». Это, однако, зависит не от философской, а от общественной
позиции его, т.-е. от позиции его, как социалиста. Было бы уже слишком
странно, если бы сознательный социалист, по крайней мере, социалист,
претендующий на учительство и практическое лидерство, признавал эту
вещь без всяких околичностей. Тогда ему место было бы не в рядах
социалистов, а там, где покоятся останки Бердяева, Струве, Булгакова
и К0. Вообще же, как уже сказано, религия, хотя и в указанном,
урезанном смысле, коренится в эмпириокритической философии и прежде
всего признании универсального «я». Впрочем, Луначарский, веря
в универсальное «я», не желает «обоготворять» весь мир. Ему это
обоготворение всего мира (а не некоторой части его, напр., человечества)
кажется предосудительным. Он полемизирует поэтому против Дицгена,
стоящего на точке зрения того же универсального «я» и обоготворяющего
весь мир. Дицген говорит: «Религиозная заповедь: «ты должен больше
всего любить своего бога» может быть переведена на
социал-демократический язык так: «Ты должен любить и обожать материальный мир,
телесную природу, или жизнь плоти, как первоначальную причину
вещей, как бытие без начала и конца, которое было, есть и будет от века
3<>9
до века». Это действительно нелепое замечание Дицгена х) Луначарский
высмеивает в форме такого воображаемого диалога с Дицгеном.
«Ты должен любить и обожать материальный мир».
«Ты должен любить пану и маму, чтить власти предержащие и т. д.».
За что, г. учитель, за что я должен обожать материальный мир? .. Он —
первоначальная причина вещей. — Ну, и на здоровье. Я ее вовсе не
просил рождать вещи, и меня в том числе. Если бы она, г. учитель,
создала меня для счастья и разумно заботилась обо мне (как учат попы
о боге), тогда дело другого рода... — Но она без начала и конца! —Ну,
так что ж такое? Но она также без сердца, без головы, без любви, бе»
памяти...».
Над кем смеется Луначарский? Над самим собой. Совершенно
верно, что глупо обоготворять природу «за то, что она начало отдельных
вещей», «за то, ч;то она без начала и конца». Но столь же глупо
обоготворять «человечество в высшей потенции», т.-е. «сверхчеловечество»
Фридриха Ницше, за то, что оио «конечный результат развития
человечества».. Луначарский подчеркивает, что природа неразумна, а
потому ее не следует обоготворять. Но как раз у Дицгена она разумна, да
я у самого Луначарского вся она — дух, а также разум, как увидим
ниже. Кроме того, ведь наиразумный сверхчеловек представляет для
нас нечто столь же чуждое и абстрактное, как и неразумный абстрактный
«космос». «Ты должен любить папу и маму, чтить власти, обоготворять
будущее человечество». За что же, г. учитель, достопочтенный Анатолий
Васильевич Луначарский, мы должны обоготворять будущее
человечество г. Фридриха Ницше? — За то, что оно «конечный результат
развития». Ну, и на здоровье! Я вовсе не просил породу сверхчеловека быть
«конечным результатом». Это меня может интересовать научно, но
практически столь же мало, как прошлогодний снег. Столь же мало
меня практически может интересовать то, что сверхчеловеческая порода
будет сверхразумна. Меня волнует лишь судьба конкретного
человечества, которое я люблю и могу любить, но которое не для чего и не за что
обоготворять...
И такими ницшеанскими благоглупостями Луначарский хочет бла-
гозаинтересовать в пользу социализма мелких лавочников и
интеллигентов санинской породы! Разве это не чистейшее дурачество?
(«Долой материализм'»).
Л. Мартов
РАЗНОВИДНОСТЬ АНТИМАТЕРИАЛИСТИЧЕСКОГО
МИРОВОЗЗРЕНИЯ
«Религия есть такое мышление о мире и такое мирочувствование,
которое психологически разрешает контраст между законами жизни и
законами природы» (Луначарский).
Нельзя не отметить полную научную несостоятельность этого
противопоставления «законов жизни» «законам природы». По всему кон-
*) Надо, однако, иметь в виду что, несмотря на неловкие, неточные выражения
и, вследствие этого, ошибки при изложений диалектического материализма, он был
материалиртом и, диалектиком, горячим, противником как «религиозной поповщины»,
так и «научной поповщепёы». С его книжкой о религии и мелкими статьями полезно
ознакомиться всем аятирелигиозникам: — Прим: ред.
400
тексту здесь под первыми надо понимать не законы органической жизни
вообще,, а законы человеческой жизни, физиологической и социальной.
Не трудно заметить, что автор этого определения принимает за
данное как-раз то, что ему нужно доказать. Только религия
психологически разрешает для человека противоречия между ним и средой;
социализм лишь постольку разрешает эти противоречия, поскольку становится
религиозной системой. Такова тема, которую автор хочет доказать
в своем сочинении. Чтобы ее доказать, он строит такое определение
религии, которое implicite 'включает уже подлежащий доказательству
тезис. Религия — это система понимания и чувствования, психологически
разрешающая все противоречия между человеком и средой. И так как
фактически психологическое разрешение этих противоречий стремится
осуществить всякое мировоззрение — метафизическая концепция, как
и научная система мира,. — то в даваемом Луначарским определении
либо тонут все существенные признаки, характеризующие
действительную религию в отличие от других систем мировоззрения... либо же
заранее признается доказанным, что лишь то специфическое, что делает
определенное мировоззрение религией, обладает способностью на деле
гармонически разрешать указанный антагонизм.
Или всякое мировоззрение, обеспечивающее человеку цельное,
лишенное внутренней раздвоенности, отношение к себе и к внешнему миру,
должно признаваться религией, — и тогда современный социализм может
быть окрещен этим именем, если он, как предполагает Луначарский,
способен дать своим адептам эту гарантию.
Или же такое цельное психологическое настроение может быть
обеспечено лишь идеологией специфически религиозного типа, лишь
системой, стоящей над наукой, — и тогда лишь встает занимающий
Луначарского вопрос, вопрос о том, совместим ли современный социализм
с религиозным мышлением?
Защищаясь от обвинения в реакционной ереси, Луначарский
неоднократно выражается так, как будто он имеет в виду не больше, чем
выражено здесь в первой половине дилеммы: что он лишь возводит
социализм в сан религии потому, что социализм для современных ето
адептов есть столько же цельное и законченное мировоззрение, какими
исторические религии были для былых поколений. Выходит, что спор
как-будто ведется только о словах, о том, можно ли исторически
сложившийся термин с совершенно определенным содержанием применять
к явлениям совершенно иного порядка. По этому поводу еще Энгельс,
говоря о Фейербахе, указывал, что назвать современное
научно-философское мировоззрение религией на том основании, что оно заменило
людям религию, значило бы то же, что назвать научную химию
современной алхимией. Луначарский знает это возражение и подчас даже
оговаривается, что, быть может, послужил лишь к соблазну малых сих,
когда свое мировоззрение назвал религией. Во всяком случае спорить
о слове было бы, конечно, неуместно.
К сожалению, дело тут не в одном слове, и лишь «по малодушию»
Луначарский порой пытается укрыться за первую половину той дилеммы,
которая вытекает из его формулы. В моменты этого малодушия нашего
новатора его «религия» принимает в его изложении, действительно,
столь невинный характер, что сам глуповокий ересиарх Линкин должен
был бы признать, что она, подобно душе лягушки, «видом малая и не
бессмертная». Но это лишь тогда, когда Луначарский держит ответ
перед сконфуженными его проповедью и порицающими его едино-
Г. Рурев 2<>
401
мышленниками. Развивая же свободно цикл мыслей, к которым привспо
его блуждание по садам любомудрия, он ясно показывает, что нел
терминологический вопрос разделяет его от социалистов, а нечто гораздо более
существенное, именно, полный разрыв с материалистическими основами
научного социализма.
Но заменить социализм религией, а вскрыть его религиозное
содержание ставит себе целью Луначарский. Его задача — убедить
социалистов в том, что они исповедовали религию, как Жордар говорил прозой,
не сознавая того.
А так как современный социализм считает своей теоретической
основой материализм, исключающий религию, то еЛуначарский должен
убедить социалистов в том, что они перестают быть на деле
материалистами, как только ... проявляют себя как социалисты, как активные
борцы за лучший общественный строй.
В самом деле. «Сбросим ветхий плащ серого материализма. Если
наши материалисты бодры и активны..., то, ведь, это вопреки их
материализму, а не в силу его. Так было и с их настоящими учителями-
энциклопедистами».
Быть может, автор имеет здесь в виду лишь материализм XVIII века,
материализм метафизический, который, в конце-концов, не мог выбиться
яз дилеммы фатализма и эвентуализма? Нет. «Конечно, для
диалектического, исторического материализма присутствие сознания в мире не
так безотрадно..., но да вершины радостного и живого монизма такому
материализму еще далеко». Материалист напрасно называет себя
монистом: с своей точки зрения мира ему не объяснить, и наиболее
проницательные видят, что сознание остается за границами их истинного, научно-
познаваемого мира. Как ученые, они утешаются при этом, что это ничего
не изменяет в их универсально-механических формулах, но это плохое
утешение для живого человека».
А так как живые люди — пролетарии-социалисты — фактически
находят «утешение», то не очевидно ли, что они выходят за тесные рамки
материализма, и что «доктринеры XVIII века, попавшие в XX век и
с упорством и косностью старающиеся задержать развитие пролетарской
философской мысли», являются дурными пастырями пролетариата?
В самом деле. «Последовательный материалист видит страшный
разрыв между своим необъятным механизмом, своим бездушным
коловращением вещества и миром страстей и надежд человеческих. Наука
остается связанной с жизнью лишь через посредство ее колоссальной
практической полезности, но она торопливо отказывается от связи
с миром оценок и идеалов, ибо, с материалистической точки зрения, это —
все странные иллюзии, чуждые ему призрачный эпифеномен».
Столь убедительно не выругал бы нас и сам г-н Н. Бердяев! ..
Вы, конечно, можете заметить расходившемуся критику, что для
материалиста «иллюзией» является вовсе не «мир оценок и идеалов».
а только вера в его надземное существование, в его «автономность» по
отношению к «бездушному коловращению вещества», что «чуждым ему
этот мир пе может являться именно потому, что материалист считает
этот мир неразрывно связанным с «коловращением вещества», каковое
коловращение тем самым лишается права на поносительный эпитет
«бездушного» и оказывается в самой тесной связи с «миром надежды и
страстей человеческих». Вы можете все это повторить Луначарскому, как
неоднократно повторяли многочисленным христианским и
идеалистическим разрушителям материализма» Но убедить его вам но удастся.
402
«Мах и Авенариус многократно настаивали на равномерности
психического и физического в смысле реальности. Разрушить окончательно
искусственную преграду между духом и материей, построенную всякими
дуалистами — это главная задача эмпириокритицизма». Вы скажете,
что на наш взгляд преграда между духом и материей разрушается тем,
что дух в процессе познания раскрывает свойства материи и научается
планомерно воздействовать на нее в своих собственных целях, чем в своем
роде документирует свою «равноправность» с ней «в смысле реальности».
На это вам будет отвечено словами Дармштетера:
«Наука вооружает человека, но не может руководить им: она
освещает ему мир до последних звезд вселенной, но оставляет ночь в его
сердце: она нейтральна, имморальна, индиферентна... Наука
расширяет душу, облагораживает ее всей красотой вселенной, умиротворяет ее
миром бесконечных пространств, но что скажет она человеку
вопрошающему: как и для чего жить? .. Наука смущается, бормочет, со
страхом открывает она свой последний вывод: «Мир — вещь без смысла».
Указывать путь жизни. Но она не умеет, не может, не смеет: она
стала бы лгать».
По мнению Луначарского, Дармштетер здесь «превосходно выразил
банкротство науки материалистической».
Итак, материалистическая наука пришла к банкротству потому, что
была вынуждена отказаться от ответа на вопрос: «как жить» и «для чегс
жить»? Обвинение, бросаемое Луначарским науке, ничем не отличается
от тех, которые искони выдвигала против нее теология. Наука не дает
ответа на вопрос о смысле жизни. Жизнь индивида, коллективную жизнь
социальной группы и жизнь целого вида homo sapiens наука берет как
данное, наследует ее происхождение, ее внутреннюю закономерность, не
не ставит себе задачей оправдать ее перед лицом ли мистического «миро
вого порядка», какого-нибудь вне мира парящего духа, или перед лицом
индивидуального сознания. Ибо исследование приводит ее к признанию
«духов» отражением самого материального мира в индивидуальном
сознании, а запросы этого последдего открываются перед нею, как
«эпифеномены» материального развития той среды, в которой развивается
носитель этого сознания. Открыть общеобязательные дели для человека
материалистическая наука отказывается принципиально, и называть этот
отказ «банкротством» нельзя уже потому, что банкротство
подразумевает нарушение взятых на себя обязательств, а материализм этого
обязательства никогда на себя не брал.
Что дал, что пытался дать материализм «четвертому сословию?».
Материализм не создал его «стремлений и страстей», не доказал
ему, что его «право» иметь эти стремления и страсти. Он взял их как
данное, как продукт долгого исторического развития, так ярко
вскрывшийся в лионском движении 1331 г., в чартистской эпопее и мириадах
мелких «повседневных» явлений современного общества. Если мате
риализм оправдал эти стремления и страсти, то в одном лишь весьма
ограниченном смысле, показав историческую необходимость появления
этих страстей и стремлений, их' тесную зависимость от хода развития
всего общества. Но в этом маленьком деле, совершенном материализмом
заключался целый ряд последствий. Стремления и страсти четвертого
сословия представляют очень сложный продукт весьма сложного и
внутренне противоречивого процесса исторического развития, в котором
наследственные традиции, косность выработанных воспитанием навыкоп
мысли, влияние изменчивых состояний среды и целый ряд других фак-
26*
40с
торов играли видную роль. Показав историческое происхождение и
значение «страстей и стремлений» данного класса, материализм,
поскольку воспринимался сознанием этого класса, сам становился
фактором, воздейтвующим на направление и развитие этих страстей и
стремлений. Последние, в простейшем виде, сводились к весьма
элементарной враждебной реакции пролетарского организма на социальную
среду, в которой он занимал положение пария; в более осмысленном
и усложненном виде эта реакция выражалась в более или менее
отчетливо сознаваемом стремлении изменить эту социальную среду.
Воспринимая сознанием представителей четвертого сословия, материализм
давал им возможность отделить в возникавших за порогом сознания
«страстях и стремлениях», те, которые являлись лишь пережитком
прошлой истории, от тех, которые имели обоснование в развитии общет
ственного организма; те, которые шли вне плоскости исторического
развития, от тех, которые шли ему навстречу. А это отделение,
совершаемое разумОхМ, в свою очередь, воздействовало на психику, способствуя
скорейшему отмиранию одних страстей и стремлений, и более быстрому
росту, и расцвету других. В то же время, усваиваясь сознанием людей,
материализм научил их верно формулировать для себя те цели, которые
вытекали из понятого им существа владевших ими элементарных
стремлений и страстей. Материализм выводил эти цели не из самых
элементарных страстей и стремлений, а из того объективного процесса развития,
который, порождая эти страсти и стремления, тем самым давал этим
последним историческое оправдание, выяснил их историческую
правомерность. Он, далее, оказывал могущественное воздействие на сознание
в выборе средств для достижения формулированных им: целей: научил
отличать годные от негодных, полезные от вредных и бесполезных, и,
опять-таки, воспринимаясь сознанием, сам воздействовал на
психику людей, способствуя отмиранию стихийно-вырастающих
тяготений к одним средствам и укреплению таких же тяготений к средствам
Другого рода.
Но, делая все это, материализм делал и нечто большее. Котда
«стихийно» возникающие стремления и страсти складываются в отчетливо
формулированные цели, когда эти цели получают в глазах индивидуума
историческое и социальное оправдание, как идеалы, стоящие над узкими
интересами замкнутого личного существования, котда личность
стремится подчинить свое общественное и частное поведение контролю этих
идеалов, — только тогда мы имеем дело с моральной связью между
отдельной личностью и отдельной средой, между отдельными
самоуправлениями личности и историческим развитием вида. Материалистическое
мировоззрение не создало, конечно, этой моральной связи, которая также
объективно необходимо возникает между людьми, как и их
экономические связи, но оно помогло людям четвертого сословия ее нащупать
и формулировать. Оно, следовательно, на вопрос: «Что я должен
делать?» давало, вопреки Дармштетеру и Луначарскому, свой ответ: да!
Но ответ его был проникнут моральным релятивизмом? Он гласил: ты
должен делать так-то, если ты сам таков-то (член четвертого сословия или
человек, имевший возможность примкнуть к нему и т. д., и т. д.).
Разумеется, материализм, повторяем, другого ответа и не мог браться
доставить, поскольку он сам выяснил историческую обусловленность и
относительность всяких моральных норм.
«История всех доныне существовавших обществ проходила внутри
классовых противоречий, принимавших в разные эпохи разные формы.
404
Но, какова бы ни была эта форма, экоплоатация одной части общества
другой является фактом, общим всем прошедшим векам. Неудивительно
поэтому, что общественное сознание всех веков, несмотря, на все раз-
,:гичия и вое разнообразие, развивалось в известных формах, в формах
сознания, которые исчезнут совершенно лишь с полным исчезновением
классового антагонизма. («Комм. Ман.»). Материализм, таким образом,
предполагает возможность исчезновения в дальнейшем историческом
развитии таких категорий -сознания, как мораль, исчезновение, если так
можно выразиться, самого вопроса: что я должен делать?
В то же время материализм и в морали передового класса
усматривает известное отражение преходящих условий существования данного
общества. «Поэтому», говорит Энгельс, «мы отклоняем всякое желание
навязать нам какую бы то ни было нравственную догму, как вечный
самодовлеющий, а, следовательно, и неизменный нравственный закон. ..
Мы, наоборот, утверждаем, что все, существовавшие до сих пор, теории
морали были, в последнем счете, продуктом данной экономической
структуры общества. И так кал общество до сих пор развивалось внутри
классовых противоречий, то и мораль всегда была классовой моралью:
она или оправдывала господство и интересы господствующих классов,
или же, когда угнетенный класс становился достаточно сильным,
выражала возмущение против этого господства и интересы будущего этого
угнетенного класса... Выше классовой морали мы еще не поднялись».
В чем же «банкротство» материализма, если он заранее, отказываясь
доказать общеобязательность определенных моральных норм и целей,
доказал то, что брался доказать: их объективную обязательность для
данного класса в данную эпоху?
Очевидно, предположение о «банкротстве» может возникнуть лишь
в том случае, если мы формулируем обвинение, поддержанное
Луначарским, примерно, так:
Материализм, конечно, не обещал дать абсолютный ответ на вопрос:
«как и для чего жить?». Но он обещал нам, что мы обойдемся без такого
ответа, что в нас не возникает потребности в нем. Он обещал нам, что
раскрытая им перед нами картина необъятного «коловращения вещества»
устранит из нашей психики самый вопрос: «зачем?», вопрос, из века
в век бурно• подымавшийся в душе шествовавшего вперед человека,
вопрос, самое возникновение которого материализм выводит не из
вечных свойств человеческого духа, а из исторически-преходящих условий
его развития.
Он обещал нам это, и мы до поры до времени, действительно, не
ощущали в себе возникновения этого вопроса. Теперь он возник, требует
ответа, и мы объявляем банкротом материализм не потому, что он не
может дать такого ответа, а потому, что он оказался бессильным
помешать появлению в нас самого вопроса.
Так фактический стоит проблема того «банкротстваматериализма»,
которое провозвестил Луначарский и иже с ним. Необходимо выяснить
причины этого внезапного рождения вопроса «зачем» в душе русского
социалиста, понять его историческую неизбежность, и лишь тогда будем
мы в состоянии охватить действительное значение совершающегося
в довольно широких кругах процесса «переоценки ценностей» недавнего
времени
Прежде чем заняться этим делом, мы остановимся внимательнее на
некоторых сторонах развиваемой Луначарским разновидности
антиматериалистического мировоззрения.
405
Все возражения и бутады Луначарского против материализма имеют
под собой одну психологическую подкладку: неудовлетворенность мате-
рилиастическим решением вопроса о свободе и необходимости. Если
Луначарский и выбрал для посрамления материализма такого писателя, как
Ле-Дантек, совершенно чуждого диалектике и, поэтому, непосредственно
примыкающего к, метафизическому материализму просветителей
XVIII века, то через его голову он противопоставляет свой «живой
реализм» философии Маркса, Энгельса и Вольтова (Плеханова).
«Ле-Дантек», резюмирует он свою критику, «делает мрачным весь
мир, рассматривая его, как единый, заранее предолре^ительный процесс,
в котором все с начала до конца — необходимость и рабство. Между тем,
мир есть борьба элементарных сил, в которой все есть свобода, а
необходимость вытекает из свободы, как результат взаимоограничения сил».
Итак, по Ле-Дантеку, «все—необходимость и рабство», по
Луначарскому же «все есть свобода». Если в тезисе, приписываемом Ле-Дантеку,
материалистический детерминизм окутан в метафизическую оболочку, то
в антитезисе Луначарского не остается и следа материализма и, вместе
с тем, детерминизма. Необходимость для него есть «результат вз&ймо-
ограничения сил» — и только. Если бы он только прибавил: сил,
развивающихся по законам необходимости, то он бы заметил, что формула мира,
как «единого, заранее предопределенного процесса, логически не может
быть отвергнута и должна быть лишь освобождена от того
фаталистического и телеологического привкуса, который придается словом «заранее».
Так как отсутствует тот, кто «предопределял» бы содержание не
имеющего начала процесса, то речь может итти только о внутренней
необходимой связи между отдельными моментами непрерывного процесса, в
котором, таким образом, абсолютно царит необходимость. И рабство?
Рабство есть ощущение необходимости, как внешней, чуждой, подавляющей
силы. Вводя в определение материализма, как необходимый признак его
миропонимания, и понятие «рабства», Луначарский опять предполагает
решенным тот самый вопрос, который ему еще только предстоит
разрешить, вопрос о совместимости господства необходимости со
свободой.
Для себя этот вопрос Луначарский разрешил, как мы видели,
чрезвычайно просто: необходимость—результат взаимоотраничения свободно
проявляющихся сил. Но, как указано, он мог удовлетвориться этой
формулой лишь потому, что не поставил себе дальнейшего вопроса: в кажом
отношении стоят к необходимости сами эти свободно проявляющиеся
силы? Земля стоит на ките, кит на воде, а вода на чем? Очевидно, что если
ограничиться формулой Луначарского, то от господства необходимости
решительно ничего не останется: она превратится в чистую фикцию.
Рабство упраздняется путем отрицания необходимости.
Материализм, столь презрительно высмеиваемый Луначарским за
его «поверхностность», выяснил взаимоотношение между необходимостью
и свободой, устранив предложение о необходимости рабства и отвергнув
всякий разрыв в непрерывной цепи внутренне связанных моментов,
образующих мировой процесс. «Свобода состоит не в воображаемой
независимости от законов природы, но в познании этих законов и созданной
этим возможности планомерно пользоваться ими для определенных
целей... Свобода воли означает не что иное, как способность
постановлять решение, основываясь на анании дела. Чем, следовательно,
свободнее решение человека по какому-либо определенному вопросу, тем
с большей необходимостью будет определено содержание этого решения,
406
тогда как покоящаяся на незнании неуверенность, которая, повидимому,
произвольно вьтОирает между многими различными и
взаимно-противоречивыми возможными решениями, тем самым доказывает свою несвободу,
свое подчинение тому объекту, над которым именно она должна
господствовать. Свобода, следовательно, состоит в основанном на понимании
естественной необходимости господстве над нами самими и над внешней
природой; поэтому она необходимо является продуктом исторического
развития».
Свобода вырастает из необходимости, она заключается в
гармоническом совпадении индивидуальной воли с направлением объективного
процесса развития. «Необходимость слепа лишь постольку, поскольку она
не понята», говорил еще Гегель, и так как понимание необходимости само
является необходимым продуктом исторического развития, то
необходимость перестает быть слепой, перестает вызывать ощущение рабства лишь
при известных условиях, выработанных этим историческим развитием.
Из чего следует, что абсолютная свобода, т.-е. свобода, стоящая над
необходимостью, категорически отвергается материализмом.
Прошв этого именно и восстает Луначарский, когда, не дав себе
труда свести счеты с Энгельсовским решением вопроса, выдвигает свою
плоскую и поверхностную формулу «взаимоограничения сил».
Определение свободы как познанной необходимости не оставляет
места никакой религии, если, конечно, необходимость понимается
материалистически, а сама не мыслится как самопроявление надмирового
духа. Лишь разрывая необходимую связь между явлениями мирового
процесса, Луначарский получает возможность поместить в образующейся
трещине своих новых богов. Вместе с метафизической свободой воли в
мироздании водворяется «нездешняя сила».
«Я», говорит Луначарский в письме в «Образование», «неоднократно
настаивал на том, что психологической сущностью этой религии не может
быть «уверенность, а только надежда».
«Наука», пишет он в своей книге, «никогда не дает уверенности,
а всегда одну вероятность, хотя часдо практически равную уверенности.
То, что относится к науке вообще, в еще несравненно большей мере
относится к сложным научным прогнозам о судьбе мира, земли,
человечества».
Прекрасно говорит об этом Бенедетто Кроче: «Будущее общество,
6 котором мы говорим с такой уверенностью не как о нашем
предположении, но как о чем-то, наступление чего определено наукой, вовсе не
имеет в себе субъективного характера необходимости. Прогнозы истории,
даже научного социализма, никогда не могут иметь этого характера.
В истории мы всегда имеем дело с силами неопределенными и по
количеству и по интенсивности; здесь возможен лишь учет вероятности. Этот
учет рождает в нас чувство надежды, когда он подкрепляет наши
идеальные стремления: чтобы причти к большему, т.-е. к практической тактике,
надо, чтобы мы имели убеждение в значительности личных и
коллективных сил как элемента, координирующего внешние силы и
кооперирующего с ними».
Эти «прекрасные», по мнению Луначарского, слова могут обозначать
только одно из двух. Либо здесь речь идет о том, что сделанный нами
учет факторов, необходимо обусловливающих наступление определенного
переворота в будущем, оказался неполным, неточным, и в
действительности проявят свое действие такие факторы, которых мы не предвидели,
благодаря неполноте нашего познания социальной закономерности, и ко-
407
торые отклонят развитие от дуги, рисовавшегося нам- Но это ограничение
нашей уверенности в области истории принципиально того же качества,
как и ограничение, вносимое в уверенность, которою отличаются наши
прогнозы в точных, в тесном смысле слова, науках. Химик.,
комбинирующий определенные элементы и уверенный в том, что их комбинация
должна дать определенные результаты, и врач, уверенно протностирую-
щий определенный исход наблюдаемого им физиологического процесса,
должны ограничить свою уверенность оговоркой в том, что данный
результат необходимо наступит лишь постольку, поскольку в действительности
не проявится действие непредвиденных ими физических или химических
процессов. Можно, конечно, сказать, что в таком смысле ограниченная
уверенность может лежать в основе нашей целесообразной практической
деятельности лишь в той мере, в какой сопровождается надеждой па то,
что эти принципиально допустимые, непредвиденные факторы не
обнаружатся в действительности и не испортят наших чертежей. Быть может,
Луначарский, сочувственно цитируя Кроче, только этот несомненный
факт и констатирует, когда объявляет свой социализм религией на том
основании, что ето «психологической сущностью» является «не
уверенность, а надежда?». Если социализм — не больше религия, чем всякая
практика, основанная на точном знании, то опять-таки мы, быть может,
имеем дело у нашего автора только с недугом любви к новым,
запутывающим терминам?.
Допустим, что это так. В таком случае мы должны будем признать,
что понятие религии должно быть распространено на весьма широкий
круг явлений: врач, уверенно воздействующий на организм больного
в целях вызвать в нем определенную реакцию и надеющийся, что точное
изучение организма и физиологическое действие определенных веществ
не будет обмануто каким-нибудь не поддающимся еще при данном уровне
знания процессом; биржевой спекулянт, изучивший эмпирически волну
колебаний денежных ценностей и надеющийся на то, что его спекуляция
не будет скрещена непредвиденной встречной волной; кокетка,
практически изучившая человеческую психологию, пускающая в ход свои
природные средства для очарования какого-нибудь господина и надеющаяся
на то, что ее опытность не столкнется с непредвиденными препятствиями
в складе данной особи ... конечно, ко всем этим лицам иногда применяют
эпитет жреца Эскулапа и Меркурия, жрицы Афродиты. Но решится ли
Луначарский признать, что здесь тоже мы имеем дело с «религиозным»
элементом человеческой практики?
Впрочем, по крайней мере, в деятельности биржевого спекулянта
можно найти, пожалуй, религиозный элемент. Эмпирически изучаемая
им сфера социальных явлений достаточно сложна, а методы изучения
чрезвычайно элементарны, почему его уверенность почти совершенно
лишена научной основы. А потому и питаемая им надежда носит, если
хотите, религиозный характер, приближаясь к слепой вере. Суеверны
биржевые игроки так же, как и игроки карточные.
В том то и дело, что та надежда, о которой говорит Луначарский —
если придать ей самое благоприятное для него толкование —■ прямо про-,
порциопальна стемна уверенности, даваемой познанием необходимости.
Врач тем более может надеяться, чем сильнее его уверенность в
безошибочной* точности законов, с которыми он оперирует. Социальный политик
тем более надеется на победу своего идеала, чем глубже его уверенность
в точном познании законов развития общества. Формулой надежды
в этом смысле будет: credo, quia veri simile est — верю, потому что это
408
правдоподобно; ее «философия» исходит из признания познаваемости
бытия, хотя бы те или другие процессы и явления оставались
непознанными.
Но о такой ли надежде идет речь в религиозном мышлении, о ней ли
говорит текст, гласящий, что «спасены будете в надежде»-? Нет! Надежда,
на которой базируется религия, есть нечто иное: это—вера. Вера,
исходящая из принципиального познания непознаваемости мира и
фиктивности результатов уже достигнутого познания, вера, не опирающаяся на
уверенность в познании необходимости, а, напротив, тем шире
расцветающая, чем недоступнее познанию представляется эта необходимость.
Словом, вера, классическая формула которой искони гласит: credo, quia
absurdum est — верю, потому что это (с точки зрения разума) нелепо.
«Прекрасные» слова Кроче, которыми Луначарский формулирует
свою идею, достаточно двусмысленны, чтобы допустить и такое
толкование его отрицания научной достоверности социальных прогнозов.
Можно понять эти слова так, что там, где у нас нет и не может
быть уверенности в наступлении лучшего будущего, на место этой
уверенности является вера в то, что будущее сложится так, как мы желаем,—
вера одна лишь способная стимулировать нашу активность.
Какое же из двух толкований близко самому Луначарскому?
Жорж Сорель говорит: «Всеобщей стачки, может быть, и не будет,
но надо поддерживать идею ее в умах пролетариата, как социальный миф,
как руководящую, пределенную идею, чтобы постоянно стремиться
достичь той степени силы, которая предполагается нашим понятиям».
«Прескверное учение. Так как социальная революция отожде-
ствяется с greve generale, то и она. отправляется в область мифа.
Между тем — она есть реальнейшая реальность, а именно, несомненно
предстоящее».
Для Луначарского это «прескверное учение» потому, что
социальный переворот есть для Луначарского «несомненно предстоящее»,
базирующееся на научном предвидении.
«Социализм как будущее, благодаря Марксову анализу...
обладает вероятностью, граничащей с достоверностью», прибавлять он к вы-
шецитированным «прекрасным » словам В. Кроче. Стало быть, здесь,
в области предвидения предстоящего социального сдвига, мы находимся
всецело в области научного мышления, мы не нуждаемся в религиозной
вере. Но ежели звание марксиста обязывает Луначарского отдать всецело
в ведение научной мысли добрый кусок ближайшего будущего
человечества, то нельзя ли попробовать водворить нового бога в местах «более
отдаленных»?
«В более общем вопросе о том, победит ли жизнь, органическая
материя, разум—в их утверждении перед лицом бессмысленной (!) материи,
природы, подобно Хроносу, готовой истребить детей своих, в этом
вопросе — наука скорее против нас. Нет, стихийный ход вещей не остано-.
вится ради того, чтобы пощадить ценности... Напрасно человечество
стало бы умолять глухие стихии не стирать его культурных начинаний:
они не остановились бы в своем размахе, как солнце щ могло бы
остановиться по приказу человека».
Вот в этом-то «более общем» вопросе, где наука «скорее против нас»
и гнездится религиозная вера Луначарского. Правда, и здесь «новая
религия ... не дает гарантий», но «и без бога, и без гарантий — маски того
же бога — она остается религией», ибо «социализм — это организованная
борьба человечества с природой для полного ее подчинения разуму:
409
в надежде на победу, в стремлении, напряжении сил—новая религия.
Мы, вместе с ап. Павлом, можем сказать: «мы спасены в надежде».
«Прескверным учением» является теория «социального мифа»
Оореля. По «теория социального мифа как нельзя применимее в области
нового религиозного сознания (пролетарского, а не аристо-бердяевокого).
Бог, как Всезнание, Всеблаженство, Всемотущество, Всеобъемлющая,
Вечная жизнь, есть, действительно', вое человечество в высшей
потенции ...' Человечество... существует в реальности и таит в себе свои
потенции. Будем же обожать потенции человечества, наши потенции, и
представлять их в венце 'славы для того, чтобы крепче любить их». Далее
следует совершенно неудобопередаваемый акафист обожествленному
человечеству: «Да приидет царствие божие, да будет воля его, да святится имя
его» и, наконец, «свят, свят, свят» воскликнет «благоустроенный мир
устами живых и мертвых стихий, голосом красоты своей (?!!!), когда «на
троне миров воссядет некто, ликом подобный человеку».
Воистину, сам Мережковский не подозревал, какие «потенции»
заключал в себе истинно-русский большевистский эмпирио-критичеокий
«марксизм левого крыла».
Не думаете ли вы, что этот бред насквозь проникнут 'самым
заправским: мистицизмом, от которого так решительно отрекается Луначарский
в своем письме в «Образование»? Успокойтесь: «Да нет же. Ведь все это—
только символы нашей предельной идеи, — идеи беспредельности роста
мыслящей и чувствующей жизни».
Разумеется, там, где «наука скорее против нас», ничего не остается,
как с языка понятий перейти на язык символов. Для теории социального
мифа они необходимы.
Содержание «повой религии» теперь раскрыто перед нами. В ее
ведение переходит судьба человечества после организации
обобществленного производства. В этой области материалистическая наука—«против
нас»: она говорит нам о конечной зависимости «мыслящей и
чувствующей жизни» от «бездушных» сил природы, она не дает нам гарантий
абсолютной победы «духа» над «материей», она может представить нам
человечество лишь в постоянном стремлении вперед, в постоянном
подъеме на высшую ступень развития, в постоянной борьбе с природой,
но никогда не сбросившее с себя зависимости от этой природы, от внешних
ему и внутри его действующих сил материального мира. «Новая религия»,
в качестве «предельной идеи» наших стремлений вперед, рисует нам
абсолютную безграничность победы духа над материей, свободы над
необходимостью. Отравленные наукой, мы знаем, что эта «предельная идея»
есть совершенно произвольный продукт нашего воображения, но, вкусив
противоядие новейшей метафизики, мы утешаем себя тем, что, кат:
«социальный миф, она, не обладая и атомом реальности, тем не менее,
и именно поэтому, способна повышать нашу активность, заставить нас
«постоянно стремиться достичь той степени силы, какая предполагается
по нашим понятиям» (Сорель).
Пусть человечество не победит, пусть ему суждена котда-то смерть,
религия труда поможет ему продлить прекрасную жизнь и смоет с
понятия религии вообще справедливое обвинение в том, что она давала до
сих пор человечеству свои ласки за слишком дорогую цену («Религия и
социализм»). Не попробуйте возразить, что прекрасную жизнь,
пожалуй, поможет человечеству провести ие «религия труда»,, а труд сам по
себе, организованный планомерно и целесообразно! Лунаяарок-ий вас
ошарашит такой тарщой
410
л Что такое труд, богатство, забота, -накопление, хозяйство, если оно
не освещено высшей идеей движения к совершенству вида? .. Вне этих
перспектив, вне религиозно-филисофско-го понимания хозяйства, — оно
только -служение Мамоне, суета сует».
Религия — «система чувств, высоко подымающих человека над его
будничным уровнем» — подымающих, как мы видели, при помощи
символических «предельных идей». Лишь при помощи религии человек
подымается над противоречием между бесконечностью своих стремлении и
конечностью его материальной природы, между необъятностью его
потребностей и ограниченно-стъю физико-психических средств к их
удовлетворению, подымается над «страхом смерти» индивидуальной и над
страхом: смерти вида.
«Тов. Плеханов говорит нам: да, боги не нужны больше, ибо Бер-
телло не нуждается в них в своей лаборатории. «Прекрасно», мот бы
ответить Вандервельде. «но столь же ли лишними являются они для
человека, потерявшего любимое существо? для скорбного, умирающего, для
слышавшего мертвый холод мировых пространств, в которых медленно
стынет наша планетная система? Тот, кто может подняться над этими
вопросами, победить их — имеет религию'. Тот, кто игнорирует их и
потому не нуждается в религии, узкий эгоист, нагилист в худшем смысле
этого слова (курсив наш Л. М.). Но тот, кто может подняться над этими
вопросами без помощи идеи бота? Я думаю, что он имеет религию
без бота».
Мы уже видели, что «без бога» дело у Луначарского не обходится
(письмо в «Образов.») Правда, «бот у Луначарского — символический,
он символизирует «высшие потенции человечества», но, во 1-х, и все
другие боги, доселе действовашие, носили не менее символический характер;
во 2-х, мы от Луначарского' же знаем, что новейшая эмпириокритическая
философия признает «равноправие психического и физическою в смысле
реальности», так что символ должен признаться не менее реальным,
чем: то, что он символизирует; в 3-х, вся 'совокупность религиозных
представлений Луначарского носит столь же- символический характер, в
такой же мере символизирует его стремление к абсолютной победе духа
над материей.
Свидетельство о «символическом» рождении новой религии будет
несомненно компрометировать ее в глазах представителей религии, так
оказать, законорожденных, выросших непосредственно из ощущения
рабства перед непознанными силами природы. Но Луначарский с полным
правом может применить к своему случаю определение Петра Ивановича
Добчинското о детище, которое родилось хотя и вне законного брака; но
совершенно как бы в оном. Ибо, по существу дела, источник его религии.
если отвлечься от сложного пути, который к ней привел, все тот же, что
и — других религий: ощущение рабства, несвободы перед стихийными
силами.
(«Религия и марксизм»).
Г. В. Плеханов
ПРОТИВ БОГОСТРОИТЕЛЬСТВА М. ГОРЬКОГО
М. Горький — замечательный и яркий художник. Но даже
гениальные художники нередко совершенно беспомощны в области теории...
Очень плохую услугу оказывают Горькому люди-, побуждающие его вьт-
41J
ступать в ролях мыслителя и проповедника; он не создан для та,ких
ролей. Новым доказательством этого служит ого «Исповедь».
В ней ость чудные страницы, продиктованные поэтическим
сознанием единства человека с природой. В таких страницах громко
слышатся гётевские мотивы. Но эти чудные страницы не мешают повести
«Исповедь» быть в последнем счете очень неудачной. М. Горький,
который в романе «Мать» взял на себя роль проповедника социализма,
выступает в этой повести в качестве проповедника «пятой релитии»
г. А. Луначарского. И это обстоятельство портит все дело: благодаря
ему, «Исповедь» оказывается непомерно длинной, выдуманной, и,
местами, прямо скучной. Герои, — послушник Матвей, от лица которого
ведется рассказ, странник Иона, заводский учитель Михайло, — говорят
весьма несообразные вещи. Этого нельзя было бы поставить М.
Горькому в вину, если бы он относился к ним, как художник, но он относится
к ним, как проповедник, пользующийся ими для выражения своих
собственных мыслей. Поэтому читатель не может не относить на счет
М. Горького то, что говорят эти его герои. А так как они заговариваются,
то их речи вызывают досадное чувство, заставляя вспоминать мораль
той басни Крылова, в которой рассказывается, как
Зубастой щуке в мысль пришло
За кошачье приняться ремесло ..
Но в мой план не входит разбор повести «Исповедь». Говоря о ней,
я буду иметь дело с М. Горьким не как с художником, а как с
религиозным проповедником. Он проповедует то же, что и г. Луначарский.
Но он меньше знает (этим я не хочу сказать, что г. Луначарский знает
много); он наивнее (этим я не хочу сказать, что г. Луначарский лишен
наивности); он менее знаком с современной социалистической теорией
(это отнюдь не значит, что г. Луначарский хорошо знаком с нею).
Поэтому его попытка облечь социализм в ризу религиозности оказывается
еще более неудачной. Заводский слесарь Петр Ягих замечает в его
повести, обращаясь к своему племяннику Михаиле:
«— Ты, Миша, нахватался церковных мыслей, как огурцов- с
чужого огорода наворовал, и смущаешь людей!».
Само собою разумеется, что я даже в шутку не повторяю здесь
слова: .воровство. Оно было бы безусловно неуместно. Но я должен
сознаться, что религиозные мысли М. Горького производят впечатление
именно огурцов с чужого огорода, выросших совсем не на той почве, на
которой растут и зреют идеи современного социализма. М. Горький хочет
дать нам философию религии, а на самом деле дает... только понятие
о том. как плохо известна ему эта философия.
Наиболее сведущий из выводимых им богоискателей. Михаиле,
говорит для назидания Матвея: «У рабов никогда не было бога, они
обоготворяли человеческий закон, извне внушенный им. и вовеки не
будет бога у рабов, ибо он возникает в пламени сладкого сознания
духовного родства каждого со всеми!». Это фактически неверно. Бог
возникает... вовсе не в пламени сладкого сознания духовного родства
каждого со всеми. Он возникает тогда, когда данный кровный союз
доходит до представления о своей тесной связи с данным духом.
Мало-помалу члены этого союза начинают относиться к этому духу с любовью
и уважением, т.-е. начинают приурочивать к нему те общественные
чувства, которые вызываются и упрочиваются ib них совместной борьбой
за существование. Теперь уже можно с уверенностью сказать, чго чув-
412
ства эти возникают гораздо раньше, нежели появляются боги. Потому-то
и ясна ошибка тех, которые, подобно Горькому, именуют религиозным
всякое общественное чувство. Что же касается рабов, то их богами были
боги тех племен, к которым они принадлежали, если только рабы не
усваивали религии своих господ. Вот что хочется прежде всего возразить
М. Горькому, — говорящему устами своего Михайло,—очистив его
фразу от того божественного елея, которым она в изобилии смазана.
Но присмотревшись поближе к очищенной от божественного елея фразе,
я вижу, что ее, по известному выражению, «надлежит понимать духовно».
Бог Михаилы не есть один из тех многочисленных богов, которые
поклонялись или поклоняются дикари, или варвары, или цивилизованные
народы. Это бог будущего, тот бог, который, по убеждению Горького,
будет «построен» достигшим своего самосознания пролетариатом в
сотрудничестве со всем народом. Если это так, то само собою понятно,
что такого бога никогда не было и «вовеки веков не будет» не только
у рабов, -но и у всех тех, которые не обратятся в веру, сочиненную
блаженным Анатолием. Это — святая истина. Но как бы густо ни
смазывал божественным елеем эту святую истину Максим Горький, она
все-таки будет тоща, как самая тощая из тощих коров, некогда
приснившихся египетскому фараону. Она не внесет ровнехонько ничего
нового ни в наше миросозерцание, ни в наше понимание психологии
пролетариата.
Впрочем, погодите! Оказав, что бог Михаилы не есть один из тех
многочисленных богов, которым поклонялись или поклоняются племена
и народы на различных стадиях своего культурного развития, я опять
(и опять, поверьте, совсем не по своей вине) не вполне точно передал
мысль М. Горького. В конце его повести оказывается, что «богостроитель-
народушко» есть не народушко более или менее отдаленного будущего,
а народушко настоящего, представляемый толпой богомольцев,
шествующей в религиозном экстазе за иконой богородицы. И этот «народушко»
нынешнего времени совершает даже чудо исцеления расслабленной,
вследствие чего послушник Матвей обращается к нему с молитвой.
«— Ты еси мой бог и творец всех ботов, соткавший их из красот
духа своего в труде и мятеже исканий твоих!» и т. д.
Оказывается, что Михайло был неправ, когда говорил, «улыбаясь»:
«Бог еще не создан». И также неправ он был, когда «упрямо» твердил:
«— Бог, о котором я говорю, был, когда люди единодушно творили
его из вещества своей мысли, дабы осветить тьму бытия: но когда народ
разбился на рабов и владык, на части и куски, когда он разорвал свою
мысль и волю, — бог погиб, бот разрушился!».
Говорю прямо: я нт' за что не догадался бы, как выйти из всех этих
противоречий, если бы не толкователь. В толкователе г. Луначарский
разъясняет то, чго остается неясным в самой повести.
ч<Мощь коллектива, красота, экстаза коллективной жизни, чудотво-
рящая сила коллектива, — читаем мы в толкователе, — вот то, во что
верит автор, вот то, к чему зовет он. Но не сказал ли он сам, что народ
разрознен и подавлен сейчас? Не сказал ли он, что- коллективизма
можно искать лишь в народе новорожденном, на заводе? — Да, только
тут, только в собирании коллектива классового, в медленном строении
общепролетарской организации — настоящая работа по преображению
людей в человечество, хотя тоже подготовительная работа Это не
значит, чтобы порывами, моментами не вспыхивало коллективное
настроение, чтобы иногда и случайно не сливались кое-где человеческие массы
413
в единшолющее целое. И вот, как символ грядущего, как бледный
прообраз,— бледный по сравнению с грядущим, но яркий по сравнению
с окружающим, — дает Горький свое чудо».
Очень хорошо. Чудо исцеления расслабленной есть символ
грядущего. Но вот в чем дело. Если те моменты, когда «вспыхивает
коллективное настроение» и когда человеческие массы «сливаются в едино-
волющее целое», должны быть признаны моментами рождения бога,
«творящего чудеса», то приходится сказать, что бот, которому, по словам
Михаилы, только еще предстоит родиться, рождался бесчисленное
множество раз на самых различных стадиях культурного развития. И не
только рождался, но и рождается каждый раз, когда глубоко
верующая толпа участвует в религиозных процессиях. Я никогда не был
в Лурде, но мне сдается, что если бы я попал туда, хотя бы на
непродолжительное время, то я сподобился бы собственными глазами увидеть,
может быть, даже не один «символ грядущего», совершенно подобный
тому, который изображен в повести Горького. А это значит, что в этом
символе нет ничего символического. Мало того. «Человеческие массы»
сливаются в «единаволющее целое» не только при совершении
религиозных обрядов. Они сливаются в него также, например, в военных
танцах: Стэнлей дает превосходное описание одного из таких танцев,
виденных им во внутренней Африке. Понадобилось бы много доброй воли для
того, чтобы открыть в подобных проявлениях коллективной жизни
прообраз будущего религиозного творчества. Я не знаю, чувствует ли это
М. Горький? По-видимому нет. Но г. А. Луначарский сознает, что дело
здесь обстоит не совсем ладно, и пытается его поправить. «Важны тут
именно наличность общего настроения, обш,ей воли, — уверяет он в своем
толкователе. — Коллектив, правда, создан здесь искусственно, и сила его
фетишизируется в умах участников, но он все же создан, и сила налицо.
Дело не в том, чтобы отрицать начисто, априорно, а в том, чтобы
понимать и оценивать», Это тай. Дело, конечно, не в том, чтобы отрицать
«начисто» и «априори», а в том, чтобы оценивать и понимать. Но
хорошо ли понимает и оценивает сам г. А. Луначарский то, что оказано
в его толкователе? Я боюсь, что — плохо1. Что сознательный
пролетариат, осуществляя свою великую историческую задачу, много раз
проявить свое «общее настроение» и свою «общую волю», это ясно без всяких
пояснений. Но ровно ниоткуда не следует, что это его «общее
настроение» и эта его «общая воля» будут иметь религиозный характер. Г.
Луначарскому поверят в этом случае только те, которые удовлетворятся
«этимологическим фокусом», сводящимся к отождествлению слова
«религия» со словом «связь» ... Далее, справедливо то, что в
интересующем нас случае «сила коллектива фетишизируется в умах участников»,
но весь вопрос в том, всегда ли это так будет. А. Луначарский и М.
Горький хотели бы, чтобы это так было всегда. Видя, что старые фетиши
частью отжили, частью отживают свой век, они задумали превратить
в фетиш само человечество, налагая на него с той целью штемпель
божественности. Они воображают при этом, что руководствуются своей
любовью к человечеству. Но это — простое и даже забавное недоразумение.
Они начинают с того, что признают бога фикцией, а кончают тем, что
призиают человечество богом? Но, ведь, человечество — не фикция.
Зачем же называть его богом? И почему же для человечества будет
лестно, если его отождествят с одной из его собственных фикций? Нет,
как хотите, а я послушнику Матвею и старцу Иегудиилу предпочитаю
Ф. Энгельса, который говорил:
414
«Нам нет надобности апеллировать к абстракции 'бога, чтобы понять
величие человека; нам нет надобности в том обходном пути, идя по
которому, мы должны были бы сначала наложить на человека печать бога
для того, чтобы проникнуться уважением к человеку».
Энгельс хвалит Гёте за то, что он неохотно прибегает к божеству и
даже 'избегает этого слова: «величие Гёте состоит именно в этой
человечности, в этой эмансипации искусства от цепей религии». Как хорошо
было бы, если бы изучение марксизма помогло М. Горькому понять
величие Гёте с этой его стороны!
Но, пока что, мне приходится разбирать промахи, наделанные
Горьким, уверовавшим в величие г. А. Луначарского.
Вот другой промах, не уступающий первому. Странник Иона —
он же Иегудиил — кричит («громко говорит, — как бы споря»):
«— Не бессилием людей создан бог, нет, но от избытка сил, и не
вне нас живет он, брате, но внутри! Извлекли же его изнутри нас в
испуге пред вопросами духа и поставили над нами, желали умерить
гордость нашу, всегда несотласную с ограничениями волю нашу. Говорю:
силу обратили в слабость, задержав насильно рост ее! Образы
совершенства поспешно делаются, это — вред нам и горе. Но люди делятся
на два племени: одни — вечные богостроители, другие — навсегда рабы
пленного стремления ко власти над первыми и надо всею землей.
Захватили они эту власть и ею утверждают бытие бота вне человека, бога —
врага людей, судию и господина земли. Исказили они лицо души
Христа, отвергли его заповеди, ибо Христос живой — против их, против
власти человека над ближним своим!».
Это, поистине, удивительная философия истории! Согласно ей,
люди делятся на два племени, одно из которых «вечно» занимается
богостроительством, а другое — «всегда» стремится подчинить себе вечных
богостроителей. Этими взаимными отношениями «племен» и
объясняется, будто бы, происхождение понятия о боге, существующем вне
человека. Это — опять фактически неверно. Понятие о боге,
существующем вне человека, обязано своим происхождением не разделению людей
на «племена», или классы, а первобытному анимизму. Неверно поэтому
и то, что бог «создан от избытка сил». Наконец, ни на чем не' основано то
мнение, что учение «Христа направлялось против власти человека над
ближним своим». Правда, нам до крайности трудно судить о том, каково
было это учение в своем первоначальном виде, но именно поэтому мы
должны обращаться с ним осторожно и не вкладывать в него свои
собственные стремления. Во всяком случае мы не должны забывать слова:
«царство мое не от мира сето». Что же касается первых христиан, то
едва ли не самый выдающийся из них писал: «рабы, повинуйтесь
господам своим!». Зачем же искажать историческую истину? Делая эти
возражения М. Горькому, я вспоминаю о толкователе (очень удобная вещь
этот толкователь! Его всегда надо иметь под рукой при чтении
«Исповеди») и нахожу в нем вот эти олова: «Герой «Исповеди» не
сощиал-демократ, и не рабочий, а полукрестьянин. Это следует хорошенько
заметить». Эти слова относятся, собственно, к послушнику Матвею. Но они
так хорошо «замечены» мною, что я не прочь был бы применить их
к старцу Ионе — йегудиилу, наговорившему пустяков о боге, о христе
и о двух вечных «племенах» людей. Как знать? Может-быть, он говорит
пустяки единственно потому, что он не социал-демократ, не рабочий,
а «полу»-что-нибудь другое? Но мое сомнение решительно устраняется
самим г. А. Луначарским, который, как-раз по поводу встречи героя
416
«Исповеди» с Ионой, говорит в своем толкователе (повторяю: не
расставайтесь вы с толкователем при чтении «Исповеди»!): «Идейная сила и
совершенная новизна повести Горького заключается именно в
грандиозной картине: измученный народ в лице своего ходока, своего искателя
лицом к лицу сталкивается с «новой верой», с истиной, которую несет
миру пролетариат». Вели это так, если старец Иона из латает
измученному Матвею истину, которую несет миру пролетариат, то тут мы должны
быть строги; тут мы не имеем права принимать во внимание смягчающее
обстоятельство вроде того, что Иона не рабочий, а «полу-неизвестно что,
и тут мы должны требовать от М. Горького, «создавшего» Иону, новой
истины во всей ее полноте. Но я уже сказал, что великий художник,
Горький — плохой мыслитель и неудачный проповедник новой истины.
В этом все дело.
Буду откровенен до конца: с таким большим художником, как
М. Горький, критика обязана говорить «напрямик, без изгиба». М.
Горький сам крайне плохо переварил ту истину, которую несет миру
пролетариат ... Если бы он хорошо переварил эту истину, то он ясно увидел бы,
что в настоящее время нет ни теоретической, ни практической
надобности разогревать старую ошибку Фейербаха и налагать штемпель религии
на такие отношения людей между собою и на такие их чувства,
настроения и стремления, в которых нет ровно ничего религиозного. Тогда он
и сам не сделал бы огромной ошибки, носящей название «Исповедь».
(«Еще о религии»)
В. И. Ленин
В ЧЕМ ВРЕД БОГОСТРОИТЕЛЬСТВА?
Дорогой А. М.! Что же это вы такое делаете? — просто ужас, право!
Вчера прочитал в «Речи» ваш ответ на «вой* за Достоевского1)
и готов был радоваться, а сегодня приходит ликвидаторская] газета и
там напечатан абзац вашей статьи, которого в «Речи» не было.
Этот абзац таков:
«А «богоискательство» надобно на время» (только на время?)
«отложить, — это занятие бесполезное: нечего искать, где не положено.
Не посеяв, не сожнешь. Бота у вас нет, вы еще» (еще!) «не создали его.
Богов не ищут, — их создают; жизнь не выдумывают, а творят».
Выходит, что вы против «богоискательства» только «на время»!!
Выходит, что вы против богоискательства только ради замены его
богостроительством!!
Ну разве это не ужасно, что у вас выходит такая штука?
Богоискательство отличается от богостроительства или богосози-
дательства или боготворчества и т. п. ничуть не больше, чем желтый чорт
отличается от чорта синего. Говорить о богоискательстве не для того,
чтобы высказаться против всяких чертей и богов, против всякого
идейного труположства (всякий боженька есть труположство — будь то
самый чистенький, идеальный, не искомый, а построяемый боженька.
*) Осенью 1913 г. Горький напечатал протест против инсценировки Моск. Худ.
Театром иротивореволюционного романа Достоевского «Бесы», считая это
представление «социально-вредной затеей». Антисоциалистическая пресса подняла вокруг этого
протеста «вой», на который Горький ответил новой статьей — FIpv v. ррд.
416
вое равно), — а для предпочтения синето чорта желтому, это во сто раз
хуже, чем не говорить совсем.
В самых свободных странах, в таких странах, где совсем неуместен
призыв «к демократии, к народу, к общественности и науке», — в таких
странах (Америка, Швейцария и т. п.) народ и рабочих отупляют
особенно усердно именно идеей чистенького, духовного, постро'яемото
боженьки. Именно потому, что всякая религиозная идея, всякая идея
о всяком боженьке, всякое кокетничанье даже -с боженькой есть кевыра-
зимейшая мерзость, особенно терпимо (а часто даже доброжелательно)
встречаемая демократической буржуазией, — именно поэтому это —■
самая опасная мерзость, самая гнусная «зараза». Миллион грехов,
пакостей, насилий и зараз физических гораздо легче раскрываются толпой
и потому гораздо менее опасны, чем топкая, духовная, приодетая в самые-
нарядные «идейные» костюмы идея боженьки. Католический поп,
растлевающий девушек (о котором я сейчас случайно читал в одной немецкой
газете), гораздо менее опасен именно для «демократии», чем поп без рясы,
поп без грубой религии, поп идейный и демократический,
проповедующий созидание и сотворение боженьки. Ибо первого попа легко
разоблачить, осудить и выгнать, а второго нельзя выгнать так просто;
разоблачить его в 1.000 раз труднее, «осудить» его ни один «хрупкий и жалостно
шаткий» обыватель не согласится.
И вы, зная «хрупкость и жалостную шаткость» русской (почему
русской? А итальянская лучше??) мещанской души, смущаете эту душу
ядом, наиболее сладеньким и наиболее прикрытым леденцами и всякими
раскрашенными бумажками!!
Право, это ужасно.
«Довольно уже самооюгеваний, заменяющих у нас самокритику».
А богостроительство не есть ли худший вид самооплевания??
Всякий человек, занимающийся строительством бога или даже только
допускающий такое строительство, оплевывает себя худшим образом,
занимаясь вместо «деяний как-раз самосозерцанием,
самолюбованием, при чем «оозерцает»-то такой человек самые грязные,
тупые, холопские черты или черточки своего «я», обожествляемые
богостроительством.
С точки зрения не личной, а общественной всякое
-богостроительство есть именно любовное самосозерцание тупого мещанства, хрупкой
обывательщины, мечтательного «самооплевания» филистеров и мелких
буржуа, «отчаявшихся и уставших» (как вы изволили очень верно
сказать про душу — только не «русскую» надо бы говорить, а мещанскую,
ибо еврейская, итальянская, английская — все один чорт, везде
паршивое мещанство одинаково гнусно, а «демократическое мещанство»,
занятое идейным труположством, сугубо гнусно).
Вчитываясь в вашу статью и доискиваясь, откуда у вас эта описка
выйти могла, я недоумеваю. Что это? Остатки «Исповеди», которую вы
сами не одобряли?? Отголоски ее??
Или иное, например, неудачная попытка согнуться до точки
зрения общедемократической, вместо точки зрения* пролетарской? М.-б., для
разговора с «демократией вообще» вы захотели (простите за выражение)
посюсюкать, как сюсюкают с детьми? М.-б., «для популярного
изложения» обывателям захотели допустить на минуту его или их, обывателей,
предрассудки?
Но, ведь, это — прием неправильный во всех смыслах и во всех
отношениях!
Г. Гурев 27
417
По вопросу о боге, божественном и обо всем, связанном с этим,.
у вас получается противоречие — то самое, по-моему, которое я
указывал в наших беседах во время нашего последнего свидания на Капри: Вы
порвали (или как бы порвали) с «впередовцами», не заметив идейных
основ «впередовства».
Так и теперь. Вы «раздосадованы», вы «не можете понять, как
проскользнуло слово «на время» — так вы пишете, — и в то же самое
время вы защищаете идею бога и богостроительства.
«Бог есть комплекс тех, выработанных племенем, нацией,
человечеством, идей, которые будят и организуют социальные чувства, имея
целью связать личность с обществом, обуздать зоологический
индивидуализм».
Эта теория явно связана с теорией или теориями Богданова и
Луначарского.
И она явно неверна и явно реакционна. Наподобие христианских
социалистов (худшего вида «социализма» и худшего извращения его) вы
употребляете прием, который (несмотря на ваши наилучшие намерения)
повторяет фокус-покус поповщины: из идеи бога убирается прочь та,
что исторически и житейски в ней есть (нечисть, предрассудки,
освящение темноты и забитости, с одной стороны, крепостничества и
монархии, с другой), при чем вместо исторической и житейской реальности
в идею бога вкладывается добренькая мещанская фраза (бог = «идеи,
будящие и организующие социальные чувства»).
Вы хотите этим сказать «доброе и хорошее», указать на «Правду-
Справедливость» и тому подобное. Но это ваше доброе желание остается
вашим личным достоянием, субъективным «невинным пожеланием». Раз
вы его написали, оно пошло в массу, и его значение определяется не
вашим добрым пожеланием, а соотношением общественных сил,
объективным соотношением классов. В силу этого соотношения выходит (вопреки
вашей воле и независимо от вашего сознания), выходит так, что вы
подкрасили, подсахарили идею клерикалов, Пуришкевичей, Щиколая] II
и гг. Струве, ибо па деле идея бота им помогает держать народ в рабстве.
Приукрасив идею бога, вы приукрасили цепи, коими они сковывают
темных рабочих и мужиков. Вот — скажут попы и К0 — какая
хорошая и глубокая это — идея (идея бога), как признают даже «ваши»
гг. демократы, вожди, — и мы (попы и К0) служим этой идее.
Неверно, что бот есть комплекс идей, будящих и организующих
социальные чувства: Это — Ботдановский идеализм, затушевывающий
материальное происхождение идей. Бог есть (исторически и житейски)
прежде всего комплекс идей, порожденных тупой придавленностью
человека и внешней природой и классовым гнетом, — идей, закрепляющих
эту придавленность, усыпллюги^х классовую борьбу. Было время в
истории, когда, несмотря на такое происхождение и такое действительное
значение идеи бога, борьба демократии и пролетариата шла в форме
борьбы одной религиозной идеи против другой.
Но и это время давно прошло.
Теперь и в Европе и в России всякая, даже самя утонченная^
самая благонамеренная защита или оправдание идеи бога есть
оправдание реакции.
Все ваше определение насквозь реакционно и буржуазно. Бог =
комплекс идей, к[ото]рьш «будят и организуют социальные чувства,
418
имея целью связать личность с обществом, обуздать зоологический
индивидуализм».
Почему это реакционно? Потому, что подкрашивает потовско-кре-
постническую идею «обуздания» зоологии.
В действительности, «зоологический индивидуализм» обуздала не
идея бога, обуздало его и первобытное стадо и первобытная коммуна.
Идея бога всегда усыпляла и притупляла «социальные чувства»,
подменяя живое мертвечиной, будучи всегда идеей рабства (худшего
безысходного рабства). Никогда идея бога не «связывала личность с
обществом», а всегда связывала угнетенные классы верой в божественность
угнетателей.
Буржуазно ваше определение (и ненаучно, неисторично), ибо оно
оперирует огульными, общими, «робинзоновскими» понятиями вообще —
а не определенными классами определенной исторической эпохи.
Одно дело — идея бога у дикаря-зырянина и т. п. (полудикаря
тоже), другое — у Струве и К\ В обоих случаях эту идею поддерживает
классовое господство (и эта идея поддерживает его). «Народное»
понятие о боженьке и божецком есть «народная» тупость, забитость,
темнота, совершенно такая же, как «народное представление» о царе, о
лешем, о таскании жен за волосы. Как можете вы «народное
представление» о боге называть «демократическим», я абсолютно не понимаю.
Что философский идеализм «всегда имеет в виду только интересы
личности», это неверно. У Декарта по сравнению с Гассенди больше
имелись в виду интересы личности? Или у Фихте и Гегеля против
Фейербаха?
Что «богостроительство есть процесс дальнейшего развития и
накопления социальных начал в индивидууме и в обществе», это прямо
ужасно!! Если бы в России была свобода, ведь вас бы вся буржуазия
подняла на щит за такие вещи, за эту социологию и теологию чисто
буржуазного типа и характера *).
(«Письма к Горькому»).
1) В настоящее время т. Луначарский решительно отказался от своих бого-
строительских идей, хотя попы (в особенности митрополит Введенский) продолжают
усиленно использовать их для своих целей. В одной из своих речей Луначарский
говорит: «В свое время я думал, что можно воспользоваться понятием — «религия»
для обозначения того, что для нас свято, того, что является нашей верой, но это вера
без всякого бога, без всякого потустороннего вида, есть крепкая надежда на то, что
своими руками мы превратим человека в господина природы. Ведь экономический
материализм и значит, что мы, воздействуя на природу, овладеваем ею экономически,
хозяйственно, превращаем ее в подчиненный мир. Это превращение человека в хозяина
мира есть основа того пути, по которому мы идем. Будущий наш рай находится на
земле. С этой точки зрения можно сказать, что это новая религия, но обсолютно без
бога. В свое время Владимир Ильич обратил мое внимание на то, что слово религия
настолько загажено, что его не следует переносить на наше мировоззрение. Это было,
несомненно, моей ошибкой» Я хотел противопоставить: вот ваша религия, а вот наша
религия, и насколько она лучше, последовательнее. Вместо этого тактичнее было бы
сказать так: ваше мировоззрение религиозное, а наше мировоззрение выходит за
пределы религии. Как раз Введенскому, когда он попытался схватиться за это, я
сказал: вот видите, Владимир Ильич предсказывал мне, что за эту терминологическую
неловкость попы будут хвататься своими грязными руками. Теперь я вижу, насколько-
В. И. был прав, с моей стороны была ошибка. Оказывается, что нельзя даже одних
слое с вами употреблять, вы их так захватали, хотя бы это были хорошие слова сами
по себе». Перестал отстаивать богостроительство и М. Горький. Зато в рядах социал-
соглашательских, ошгортунических партий, в особенности в Германии, в последнее
время все чаще и чаще делаются попытки построения «социалистической религии»,
примирения марксизма с поповщиной. См. об этом в след. ст. Тальгеймера. —
Прим. ред.
27*
41 &
А. Тальгеймер
ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО «СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ» ПОПОВЩИНЫ
Молодые из сторонников австро-марксистской школы, мало
отягощенные «старыми воспоминаниями о марксизме, быстро шагают по
дорожке от постыдного идеализма и скептицизма к прямому ханженству.
Да и почему же им не шагать? Если с точки зрения практической
политики центр и демократически-протестантская партия мелкой буржуазии
могут образовать коалицию, то почему «марксизму» не оговориться с
капиталистическими или протестантскими попами, тем более, что эти
последние достаточно умны и не сочтут для «себя неудобным
капитулировавший марксизм? Ведь им, во всяком случае, стоит постараться о том,
чтобы повести его еще подальше.
Вот, например, некто Альберт Кранольд (Иена). Он недавно
написал большую статью насчет «Социализма как нравственной идеи», и
целую книгу «о личности в социализме». Начинает он с рассмотрения
книги доктора философии и теологии Теодора Штейнбюхеля,
католического теолога, также писавшего о 'социализме как нравственной идее.
Господин Кранольд восхищен уже одним заглавием цитируемого
сочинения, «ибо понять социализм, как нравственную идею, как раз было
целью моей статьи». Этот Штейнбюхель с разрешения своих церковных
властей очень ловко расставляет сети для дураков, а наш Кранольд
видит в этом «поворот» в отношении католической церкви к социализму.
Мудрый Кранольд поет настоящий -гимн социальному чутью
католической церкви. Длинные излияния Кранольда представляют интерес
лишь постольку, поскольку они предуказывают «ближайший этап», на
который переведут марксизм Макс Адлер, Отто Бауэр, а в конце концов,
конечно, и сам Каутский.
Здесь достаточно привести несколько характерных мест. По
мнению господина Кранольда, марксизм атеистичен, но не антирелигиозен,
ибо: «религия, как таковая, есть составная часть человеческой природы,
различающаяся лишь по своим выражениям. Когда Энгельс, а в
некоторых местах также и Маркс, говорят, что в социалистическом обществе
религия должна быть совершенно оставлена, то этим они имеют в виду,
как это ясно вытекает из их отдельных выражений, лишь теизм,
теистическую формулу религии, а во многих случаях даже не
всякий теизм, а лишь его христианскую форму. Социалистический
человек, по их мнению, должен быть, конечно, атеистичен, но вовсе не
безрелигиозен».
Само собой разумеется, что это явный обман, который, однако,
становится понятным у людей, впавших в «атеистическую» или иную
теистическую поповщину.
По мнению Штейнбюхеля и Кранольда диалектика есть «синтез
причинного и телеологического понимания». Это неверно даже в
отношении гегелевской диалектики, в отношении же марксовой
материалистической диалектики, не имеющей решительно ничего общего с
телеологией, это является, прямым искажением. Диалектика применима
к действительности, потому что «по Канту», а также и по нашему
Кранольду, «мыслимое есть сущее». «Согласно Канту, бытие есть всегда
мыслимое бытие и потому определяется «формами мышления» просто,
как бытие». То же можно сказать и относительно марксизма в том
420
фальсифицированном виде, в каком изображает его Еранольд (даже-
Кант оказывается у него фальсифицированным).
«Производственные отношения» епиритуализируются: «В
производственных отношениях уже содержится мыслящий человек».
Конечно, Маркс и Энгельс в теоретико-познавательном отношений
являются сторонниками идеализма. «Я,очень сожалею, — с сердечной
скорбью заявляет Кранольд,— что и Штейнбюхель считает Маркса и
Энгельса представителями теоретикопознав&тельнО'Го реализма, т.-е. тео^-
рии отражения» Пусть Энгельс в дюжине мест высказывается в пользу
«теории отражения»,—господин Кранольд этим нисколько не смущается.
Мы получаем еще вдобавок и критическую этику: «Из капитализма
можно лотически развить социализм лишь путем привнесения идеи
социальной справедливости... Критическая этика принципиально стоит по
ту сторону противоречий между этическим социализмом и
индивидуализмом, раз признается, что содержание, придаваемое категорическому
императиву, в одной из его формулировок является
социалистическим».
Хотя принципиальное содержание кантовской этики не еыходит за
рамки буржуазного равенства перед законом, и хотя сам Кант в
конкретных случаях ограничивает этот принцип, все же мы охотно1 допускаем,
что «этический социализм» остается всецело в рамках буржуазного
общества. В данном случае две фальсификации взаимно уничтожают друг
друга, в чем можно усмотреть применение диалектики как «синтеза
причинного и теологического понимания».
Фихте есть «последовательный этический социалист, стоящий на
социально-философской точке зрения». А мы-то думали, что Фихте так;
крепко сколочен, что никакому Кранольду не удастся под него
подкопаться. Но Кранольд проделывает это очень легко: «Гегель и Марюс
являются живыми иллюстрациями того, что проблема В!заимоотношений
индивидуума и общества, проблема свободы личности в социальном
целом есть самая жгучая проблема социализма. Ни тот, ни другой ее не
разрешили».
Затем следует длинная болтовня о свободе, свободе воли и т. д., от
которой мы избавим читателя.
Между пониманием государства молодого и старого Маркса, т.-е.
между .пониманием государства младогегельянца и материалиста, не
оказывается никаких противоречий, как думали до сих пор мы, старомодные
марксисты; другими словами, по существу нет противоречий между
пониманием государства у Гегеля, Фихте и Маркса. Это противоерчие,
которое представляется ему лишь кажущимся, Кранолдь разрешает
самым простым образом: молодой Маркс утверждает идеальное, разумное
государство, а старый Маркс отрицает «действительно существующее
европейское государство буржуазного общества». Таким образом,
оказывается, что и старый и молодой Маркс вместе с ним является
сторонником эбертовской республики.
«Материалистическое понимание истории и этика не имеют друг
с другом ничего общего, они рассматримают совершенно различные
проблемы и, таким образом, не вступают в конфликт друг с другом». Этот
фокус особенно интересен. Одним мановением руки господин Кранольд
вместо одной вещи подставляет другую: исторический материализм,
конечно, не есть этика, ибо он является лишь руководящей нитью-,
помогающей понять ход истории в прошлом и ход революционной политики
рабочего класса в будущем. Но этическое и материалистическое обосно-
421
вапие социализма, конечно, противоречат друг другу,—настолько
противоречат, что одно устраняет другое.
Господин Кранольд уверяет попа Штейнбюхеля: «неокантианцы
Штаудингер, Форлендер и Макс Адлер устранили известные искажения
и неясности исторического материализма и восстановили истинным смысл
этого учения». Чрезвычайно огорчительно и больно, что милый Штейн-
бюхель все еще держится за настоящего Маркса, а не за того, которого
«восстановил» Штаудингер, Форлендер и Макс Адлер!
Но наш Кранольд находит, что «восстановление» было сделано не
достаточно основательно. Форлендер выставил формулу: «Кант и
Маркс». Кранольд провозглашает новую формулу: «Не Кант или Маркс,
не Кант и Маркс, а Кант в Марксе».
Если исторический материализм не имеет ничего общего с этикой,
то он не имеет ничего общего и с социализмом: «Исторический
материализм есть теория исторического познания, а социализм — система
ценностей, принцип ценностей. И тот и другой лежат в совершенно различных
духовных областях». Этим дается понять Штейнбюхелю, что социализм
можно обосновать также и с помощью святого Фомы Аквинского.
Мимоходом господин Кранольд разделывается и с знаменитым
«принудительным порядком» социалистического общества, изобретенным
Максом Адлером. По мнению Кранольда, чрезвычайно существенно,
«чтобы предпосылкой общежития всегда и всюду являлась абсолютная
готовность, чтобы общежитию было чуждо всякое принуждение и чтобы
в нем было совершенно неведомо самопожертвование индивидуума;
всякая жертва ради целого должна быть совершенно добровольной, и потому
она уже не является жертвой, а высшим самоутверждением».
Итак, принудительный порядок, оказывается, отзывает уксусом!
Курьезно здесь то, что с помощью одного и того же «критического»
априорного метода господин Кранольд приходит к результату,
совершенно обратному тому, к которому пришел Макс Адлер. Кому же мы
должны верить?
Социализм есть церковь: «Общежитие есть внутреннее соединение
душ. Только это и является настоящим обществом в смысле социализма».
Обвинения социализма в рационализме «несправедливы». Если Мы
будем иметь в виду кранольдовское социалистическое общество душ, где-.
Кант включен в Маркса, и господствует диалектически синтез
причинности и телеологии, то, конечно, это обвинение несправедливо.
Последовательно выдерживая свой стиль, Кранольд заканчивает свой трактатец
елейными рассуждениями о боге.
Социализм сгоит вне «ratio» («автор хорошо делает, что в этом
обществе избавляет разум от его обычного немецкого имени). Социализм
есть «дело веры». Вместе с Мартином Бубером «бога» можно представить
себе как «совокупное понятие всех тех элементов мирового целого,
которым можно сказать: ты. Тогда сейчас же становится ясным, что в
переживании бога мы имеем лишь углубление и расширение, до конца
продуманное переживание общности со всем тем, что живет и имеет право
на жизнь, переживание братства, уходящего в бесконечность,
бесконечного общения, чувственного восприятия и полного постижения, — эта
мысль, эта идея представляет неизмеримо большое значение для
настроения религиозного социализма, ибо он потрясает нас, непосредственно
переживается нами и мощно захватывает нас».
Аминь, аминь, аминь!
(«Теоретический кризис социал-демократии»).
422
Ф. Этелъс
ВОЗМОЖНО ЛИ СОЗДАТЬ НОВУЮ РЕЛИГИЮ?
Религия по существу своему лишает человека и: природу всего ш
■содержания, переносит это содержание на фантом потустороннего бога,
который затем из милости возвращает людям и природе частицу своих
щедрот. Покуда сильна и жива вера в этот потусторонний фантом, до
тех пор таким окольным путем человек добивается хоть какого-нибудь
содержания. Сильная вера средневековья сообщила таким путем всей
эпохе значительную энергию, но энергию, не пришедшую извне, а
коренившуюся уже в природе человека, хотя бы и в бессознательном,
неразвитом состоянии. Вера постепенно слабела, религия раскрошилась перед
возрастающей культурой, но человек все еще не понимал, что он
поклонялся и обоготворял свое собственное существо, как чужое существо.
В этом бессознательном и в то же время безрелигиозном состоянии
человек не может иметь никакого содержания, он должен сомневаться
в истине, разуме и природе, и эта пустота и бессодержательность,
сомнение в вечных фактах вселенной будут продолжаться до тех пор, пока
человечество не увидит, что существо, которому оно поклонялось, как
<5огу, было его собственным, до сих пор ему неизвестным существом,
пока... впрочем, зачем мне переписывать Фейербаха?
Пустота давно уже была, потому что религия есть акт
самоопустошения человека, а теперь, когда пурпур, ее покрывавший, поблек, когда
угар, ее заволакивавший, рассеялся, вы удивляетесь, что теперь, к
вашему ужасу, она выступила на свет божий?
* *
*
Надо создать новую религию, пантеистический культ героев, культ
труда, — или он сам появится! Это невозможно; все возможности
религии исчерпаны; после христианства, после абсолютной, т.-е. абстрактной
религии, после «религии как таковой», не может больше появиться
никакой другой формы религии. Карлейль сам признает, что католическое,
протестантское или всякое другое христианство неудержимо идет
навстречу гибели; если бы он знал природу христианства, он увидел бы,
что после него невозможна никакая другая религия, даже и пантеизм!
Сам пантеизм является выводом из христианства, еще не отделимым от
своей предпосылки, по крайней мере, современный пантеизм Спинозы,
Шеллинга, Гегеля и даже Карлейля. Фейербах снова избавляет меня
от необходимости доказывать это.
Мы хотим устранить все, что называется сверхъестественным и
сверхчеловеческим, и тем удалить ложь, ибо претензия человеческого и
естественного быть сверхчеловеческим, сверхъестественным есть корень
всей неправды и лжи. Поэтому мы раз навсегда объявили войну
религии и религиозным представлениям и мало заботимся о том, назовут ли
нас атеистами или как-нибудь по-другому.
Нам в голову не приходит нападать на «исконные внутренние
факты вселенной»; напротив, мы впервые истинным образом их
обосновали, доказав их вечность и защитив их от всемогущего произвола в себе
самом противоречивого бога. Нам не приходит в голову объявить «мир,
человека и его жизнь ложью», напротив, наши христианские прошвники
423
совершают эту безнравственность, когда ставят мир и человека в
зависимость от милости какого-то бога, созданного в действительности лишь
посредством отражения человека в диком хаосе своего собственного
неразвитого сознания. Нам не приходит в голову сомневаться в
«откровении истории» или презирать его; история есть для нас все и ценится
нами выше, чем каким-либо другим, более ранним философским
учением, выша даже, чем Гегелем, которому она в конце концов служит лишь
для проверки его логической задачи.
В презрении к истории, в невнимании к развитию человечества
повинна совсем другая сторона — именно христиане, которые, установив
особую «историю царства божия», отказывают действительной истории
во всей внутренней сущности и признают эту сущность только за своей
потусторонней, абстрактной и к тому же вымышленной историей;
которые, давая человеческому роду завершение в своем Христе, ставят перед
историей воображаемые цели, обрывают ее посреди ее течения и потому
уже, доследовательности ради, должны признавать дальнейшие
восемнадцать веков за дикую бессмыслицу и настоящую чепуху. Мы обращаемся
к содержанию истории; но мы видим в истории откровение не «бога»,
а человека и толькр человека. Чтобы видеть величие человеческото
существа, понять развитие рода в истории, его неудержимый прогресс, его
всегда обеспеченную победу над неразумностью отдельного человека, его
преодолевание всего кажущегося сверхчеловеческим, его суровую, но
успешную борьбу о природой, вплоть до конечного достижения
свободного человеческого (самосознания, до убеждения в единстве человека к
природы и свободного, самостоятельного творчества нового мира,
покоящеюся на чисто человеческих, нравственных, жизненных отношениях., —
чтобы понять все это во всем величии, нам нет надобности призывать
сначала абстракцию кжого-то «бога» и приписывать ей все прекрасное,
великое и возвышенное и истинно-человеческое; нам нет надобности, в таком
окольном пути, нам нет надобности сначала ставить печать
«божественного» на истинно-человеческом, чтобы быть уверенным и его важности и
величии. Напротив, чем «божественнее», т.-е. нечеловечнее, является
какой-нибудь предмет, тем меньше удивления он может вызвать в нас.
Одно лишь человеческое происхождение содержания всех религий дает
им местами хоть какое-нибудь право на уважение; одно лишь это
сознание спасает историю религии и в частности историю средневековья от
полного ее отрицания и вечного забвения: иначе такая судьба постигла
бы эту «богопреисполненную» истррию. Чем «богоиреисполненнее» она,
тем больше в ней бесчеловечности, зверства; «ботопреисиолненные»
средние века во всяком случае привели к полному человеческому озверению,
к крепостничеству, к праву первой ночи и т. д. Безбооюие нашего
времени, о котором так печалится Карлейль, есть именно его богопреиспол-
ненность. Отсюда становится ясным, почему я назвал человека
решением загадки сфинкса. До сих пор-вопрос всегда гласил: что есть бот? и
немецкая философия разрешала его так: бог — это человек. Человек
должен лишь поштать себя самого, измерить все жизненные отношения
по себе самому, судить сообразно своей сущности, устроить мир истинно
по-человечески, согласно требованиям своей природы, — тогда он
разрешит загадку нашего времени. Истину следует искать не в потусторонних
областях, лишенных живых существ, не вне времени и пространства, не
в «боге», присущем миру или противопоставленном ему, а гораздо ближе,
в собственной груди человека. Собственное существо человека много
величественнее и возвышеннее, чем воображаемое существо* воевозмож-
424
ных «богов», представляющих собой лишь более или менее1 неясное и
искаженное изображение самого человека.
Бели, поэтому, Карлейль повторяет вслед за Бен-Джонсом, что
человек утратил свою душу и только теперь начинает замечать ее
отсутствие, то правильнее было бы сказать: человек утратил в религии свою
собственную сущность, отчудил свою человечность, и теперь, когда с
прогрессом истории религия поколеблена, он заметил ее пустоту и
бессодержательность. Но для него нет другого спасения; он может снова обрести
свою человечность, свою сущность не иначе, как основательно преодолев
все религиозные представления и решительно, честно вернувшись не
к «богу», а к себе самому.
Все это имеется и у Гете, «пророка», и у кото глаза открыты, тот
может это прочесть. Гете неохотно имел дело с «ботом»; от этого слова
ему делалось не по себе: он чувствовал себя, как дома, только в
человеческом, и эта человечность, это освобождение искусства от оков религии
именно и составляют величие Гете. В этом отношении с ним не могу г
сравниться ни древние, ни Шекспир.
(«Положение Англии»),
*
Штарке обнаруживает, хотя, может-быть, бессознательно
непростительную уступчивость по отношению к предрассудку против названия:
материализм, предрассудку, укоренившемуся у филистера под влиянием
долголетней поповской проповеди. Под материализмом филистер
понимает обжорство, пьянство, тщеславие и плотские наслаждения, жадность
и скупость, стремление к наживе и биржевые плутни, короче, все те
грязные пороки, которым он сам предается. Идеализм означает у него
веру в добродетель, любовь ко всему человечеству и вообще «лучший
мир», о котором он кричит перед другими и в который сам начинает
веровать разве лишь тогда, когда у него голова болит с похмелья, или когда
он обанкротился, словом, когда ему приходится переживать неприятные
последствия «материалистических» излишеств. Любимая поговорка
филистера гласит: «Что такое человек? — Полузверь, — полуангел».
(«Людвиг Фейербах»).
425г.
ОТДЕЛ СЕДЬМОЙ
КЛАССЫ И РЕЛИГИЯ.
М. Я. Покровский
НАУКА И КЛАССОВЫЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ
Один остроумный писатель сказал, что если бы таблица
умножения затрагивала чьи-либо интересы, то о ней до сих пор спорили бы,
и находились бы профессора, которые, по заказу заинтересованной
стороны, доказывали бы, что дважды два немного больше или немного
меньше четырех. Сама наука так же движется вперед классовой
борьбой, как и все остальное. Было время, когда представители точных
наук — физики, астрономии, — подвергались гонению со стороны
властей предержащих, и самые простые положения, с которыми теперь
детей знакомят в начальной школе (вроде того, напр., что земля
вертится), «пересматривались» учеными людьми в тогдашних академиях
десятки и сотни раз. И это тоже было совершенно закономерно и вполне
объяснимо. Средневековый, феодальный — по нашему крепостной —
общественный порядок, опиравшийся на натуральное хозяйство,
держался, главным образом, своей неподвижностью. Вся жизнь закоченела
в однообразных, веками сложившихся формах, «обычай» оправдывал и
освящал все. Общественный строй, жестокий и нелепый, отдавший
судьбу миллионов трудящегося люда в полную власть нескольких
тысяч тунеядцев, казалря неизбежным и вечным, как смена лета и зимы,
дня и ночи. Духовенство старательно вколачивало в наивные головы
мысль, что сам бог создал именно этот порядок, и что ничего другого
быть не может. Воя тогдашняя «наука» была приспособлена к
доказательству этой мысли о неподвижности всего существующего. Эта «наука»
все знала, и ничего нового для нее быть не могло. И вдруг нашлись
дерзкие люди, которые стали учить, что паука средневекового
духовенства все врет, что все в мире, наоборот, движется с страшной быстротой,
начиная с самой земли, которая вертится вокруг своей оси, как волчок,
и несется в пространстве с быстротою пушечного ядра. Это было
настоящее «потрясение основ». Уж если земля не стоит твердо на месте, кто же
поручится за незыблемость человеческих установлений? Если
церковная «наука» лжет, то где же ручательство, что церковь, вообще, говорит
правду? Весь строй веками укоренившихся понятий попал под сомнение;
и вот старый порядок и когтями, и зубами стал отбиваться от «вредных»
426
наук — астрономии и физики. Для того, чтобы помещик мог со
спокойной совестью драть оброк со своих крепостных и гонять их на барщину,
нужно было, чтобы земля не вертелась, чтобы весь средневековый «мир»
«стоял неподвижно, как ему указано стоять от бога. Ибо один и тот же бог
устроил солнце, чтобы оно служило для освещения земли, и повелел
рабам беспрекословно служить своим господам. И если астрономическая
теория церкви неверна, то как спасти ее общественную теорию?
Классовый интерес средневекового помещика, хозяина крепостного труда,
требовал, чтобы доказана была «неправота» Коперника и Галилея. И еще
за 40 лет до Великой революции французская академия относилась к их
учению с такой же «осторожностью», с какою» теперешние университеты
относятся к историческому материализму. Буржуазное общество,
пришедшее на смену крепостническому, феодальному, напротив, само жило
и живет движением. Экономический «застой» — обычный порядок
средневековья— для буржуазного общества—смерть. Оно поэтому относится
очень благосклонно ко всяким теориям «движения»; теория «эволюции»,
медленного, постепенного развития всего сущего, становится модной
буржуазной теорией. Несмотря на все усилия церкщ подслужиться к
новым господам, церковная средневековая «наука» осуждена бесповоротно.
Но власть «эволюции» ограничена, как ограничена власть феодального
монарха в буржуазном государстве. Она не смеет касаться фундамента
буржуазного порядка, т.-е. капитализма. «Священная собственность» не
подлелшт эволюции: для нее развития не существует. А вместе с нею
«вечными истинами» являются и та мораль, которая учит человека,
прежде всего на свете, уважать чужую собственность, и та философия,
на которую опираегся эта мораль. И у буржуазии есть угол, где ничто
не должно двигаться. Но для оправдания этой неподвижности она не
может ссылаться на «волю божию», как это делал средневековый
помещик. Сама же буржуазная наука подорвала авторитет этой «воли».
Приходится отыскать какое-либо другое доказательство незыблемости
буржуазного порядка. Этой цели и служит идеалистическая философия —
главная противница экономического материализма.
Задача стояла так. Вое явления в мире связаны механической
причинной связью. Ничья воля не может изменить этой связи. Если
человек есть такое же явление, как и все другое, что существует в
природе, то и он связан такою же причинной цепью со всем миром. А если
это так, то нельзя вырвать ни одного человеческого создания из-под
общего закона, движения и изменения всего на еноте. Сама наука движется
и меняется: «вечных» истин нет. Не вечны и нравственные понятия:
прежде была другая нравственность, чем в буржуазном обществе, и
будет другая, новая. Как при таких условиях доказать, что есть в человеке
нечто вечное, что изменяться не должно?
Очевидно, только одним путем: признав, что человек не есть просто
явление в порядке других явлений, что в человеке есть некоторая
«умопостигаемая» сущность, которая стоит вне законов явлений: не зависит
от закона причинности и не подлежит изменению. Это — его
«практический разум», его воля, его «нравственная природа», словом то, что так
тщательно охраняется и поддерживается в человеке всеми его
«воспитателями»: школой, церковью, судом и исправительною тюрьмою. Почему
нужно так много опекунов для того, чтобы спасти от разрушения
«незыблемые» и «вечные» начала, над этим буржуа никогда не задумывается.
Мы не будем останавливаться на философских (правильнее говоря,
гносеологических) основаниях идеализма, а займемся только его прило-
427
жением к истории. Раз в человеке существует нечто, выходящее! за
пределы мира явлений, является возможность оторвать человеческую
личность от связанного механической причинностью мирового процесса.
В этом смысле некоторые авторы (напр., Риккерт) совсем отрицают
возможность сделать человеческую историю наукой. С грехом пополам они
соглашаются, что предметом науки может быть малоразвитая личность
низшего сорта, напр., крестьянин или рабочий. Но личность
университетского-профессора или высоко развитого банкира, напр., — она выше
презренной научной истории с ее обязательными только для низших
существ законами. Нет надобности говорить, что уже, разумеется, вне
всяких законов — личности королей или министров и генералов.
Конечно, герои везде редки, и такие храбрые «философы», как
сейчас упомянутый Риккерт, встречаются не на каждом шагу. Гораздо'
распространеннее тип вульгарного идеалиста историка, действующего по
правилу: «О одной стороны, нужно признаться, а с другой — должно
сознаться» ... Такой, обыкновенно, не отрицает исторической науки, но
фальсифицирует, подделывает ее, подставляя, на место реальных
причин исторических перемен, «идеи», т.-е. нечто неуловимое и неосязаемое^
о чем можно говорить что угодно, не опасаясь быть уличенным во лжи.
Вели под «идеями» разуметь те понятия, которые существуют у людей по
разным вопросам жкзни и под влиянием которых они действуют, то,
разумеется, сейчас же возникнет вопрос, откуда взялись эти понятия?
И очень скоро анализ приведет нас к реальным1 житейским условиям,
которые вызвали к жизни эти понятия. Такой «идеализм» нисколько не
противоречил бы «экономическому материализму». Но вульгарные
историки-идеалисты никогда не производят такого анализа, а довольствуются
например, объяснением французской революции стремлением французов
к равенству. При чем, откуда взялась идея равенства, на этот счет
никаких изысканий не производится. У читателя получается такая
картина, что «идея» — это что-то, существующее само по себе, независимо
от внешней обстановки, от материальных потребностей человека. И как
раз эта-то ошибка читателя особенно ценна с точки зрения буржуазного
идеализма. Опираясь на нее, можно внушить людям, что существуют
некоторые «идеи» вечные, неизменные, обязательные для всех времен и
народов, или, смотря по надобности, наоборот, — что у каждого народа,
есть.своя «идея», которой нельзя ни заимствовать, ни другим передать:
«Идеями» первого рода с особенною любовью занималось, так называемое,
«естественное право», доказывавшее (а отчасти и теперь продолжающее
доказывать), что некоторые «права человека», в том числе и право
собственности, дарованы человеку самою природою, а потому неотчуждаемы
и: неизменяемы. Таким образом, буржуазный строй пытается
увековечить себя точно так же, как делал это в свое время строй феодальный,
но другими средствами. «Идеями» второго рода предпочтительно
защищают полицейское государство: произвол объявляется национальным4
учреждением, а всякая попытка заменить царство произвола
свободными порядками клеймится, как отступление от национальной
традиции, как измена «народному духу». Идеализм второго рода сильнее всего
поэтому, jb тех странах Западной Европы, где лучше всего сохранилось
полицейское государство, как, например, в Германии. Так как
профессор университета является, обыкновенно, буржуа по своему
общественному положению и миросозерцанию и в то же время чиновником' на
службе у государства, то на университетских кафедрах процветает
исторический идеализм обоих родов. Исторический же материализм, если и
428
проникает в университет (в последнее (время это вое же встречается, и
притом все чаще и чаще), то, по большей части, в урезанном и
недоконченном виде, с замалчиванием самых существенных сторон. 6)то необходимо
помнить всякому, кто для пополнения своего образования пользуется
университетскими лекциями и учебниками.
(«Экономический материализм»).
Ф. Лютгенау
КЛАССОВЫЕ МОТИВЫ В ОТНОШЕНИЯХ БУРЖУАЗИИ
К РЕЛИГИИ
Либеральная буржуазия в настоящее время стала во многих
случаях признавать внешнюю церковность. Причину этото очень удачно
указывает одна статья строго-ортодоксальная «Kreuzzeitung»:
«Социальная опасность заставила опомниться и либералов; и хотя дух так
называемого «антипоповства» и но погас окончательно, но все-таки он уже не
проявляется больше так демонстративно, особенно среди богатых.
Наоборот, усиливается стремление передать в руки духовенства миссию
борьбы против социал-демократии. Нам нет надобности доказывать, что
мы не хотим иметь ничего общего с такого рода «церковной дружбой»
либералов. Двоедушие и бесхарактерность этого либерализма именно
в том и йроявляется, что, не желая уже теперь больше делать народную
школу очагом неверия, он вюе-таки стремится, по возможности, удалить
церковную религиозность из университетов и даже из гимназий .. Страх
имущих классов перед социал-демократическими рабочими слишком
велик, чтобы они согласились теперь преподавать детям рабочим, вместо
христианской веры, принцип: «Делайте здешнюю, земную жизнь
хорошей и прекрасной». Разглагольствования некоторых либеральных газет
против церковной школы продолжаются теперь больше по привычке,
чем всерьез. Имущие либералы теперь лучше умеют ценить силу
христианской школы и церкви, чем во время культуркамггфа. Все это
устроила социал-демократия... Но внешнее обращение либералов,
конечно, не имеет никакого значения, пока к нему не присоединилось
внутреннее. В дополнение к этому изменился и их взгляд на миссионерство.
Еще несколько лет тому назад, каждый «благонамеренный»: либерал
смеялся над ним. В настоящее же время за миссиями всюду признают
значение культурных пионеров, хотя, впрочем, и очень мало
интересуются обращением негров в христианство. В обоих случаях видно, что
либералы уже научились складывать руки для молитвы; удастся ли им
только научиться молиться?»
Понятно, конечно, что если бы буржуазия в самом деле была
проникнута истиной и важностью религиозных вероучений, то она должна
была бы дать возможность и своим детям пользоваться их благами
хотя бы в той же^самой мере, как и детям рабочих. «Свободомыслящая»
партия, правда, возражала против цедлицкого законопроекта о народных
школах, но она считает желательным именно современный характер и
размеры религиозного обучения в народных школах. Сама по себе
большая часть буржуазии, конечно, нерелигиозна. Переходным пунктом для
нее явился о-чень удобный деизм. Бог сотворил мир, но он больше не
заботится о своем творении. Этот деизм постепенно заменился мелким.
429
механическим материализмом, который отнюдь нельзя смешивать с
историческим материализмом. Но обыкновенно в буржуазных кругах
принято избегать разговоров о религиозных вопросах. Иначе пришлось бы
притворяться или признаваться в притворстве в своей внешней жизни:
неудобно сказать, что думаешь, или неприятно показать, как мало
думаешь.
Если, с одной стороны, имущие страхом перед рабочим классом
вынуждаются к сделке с религией, то, с другой стороны, они опасаются
приспособления идей первобытного христианства к требованиям
демократического социализма. Так, «Vossische Zeitung» в одной из статей
«из университетских сфер», направленной против цедлицкого
законопроекта, говорит, что иногда религия мооюет быть обращена в могучее
орудие в руках самой социал-демократии. Социал-демократии легко мож т
притти в голову подкреплять все свои стремления и поступки местами
из библии, как это некогда сделали Кромвель и его сторонники со
своими... «Эти социал-демократические пуритане будущего станут
равно опираться как на Ветхий, так и на Новый завет. Свои нападки
на монархию и трон они будут обосновывать 8-й главой первой книги
Самуила1), в которой царство признается языческим институтом и где,
когда народ потребовал уничтожения теократической (?) республики,
в 7-м стихе говорится так: «И сказал господь Самуилу: послушай голоса
народа во всем, что они говорят тебе; ибо не тебя они отвергли, но
отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними». И, прославляя
введение социалистической республики, с ее жрецами-судьями, как
возвращение заблудившегося человечества к первоначальной воле божьей,
социал-демократия будет обосновывать коммунизм 4-й и 5-й главами
истории апостольских деяний. Только она не будет ждать, пока Алания и
Сапфира будут убиты чудом, но сама направит свой меч, в качестве
судьи и заместителя божия, туда, куда ей покажется нужным. При этом,
она будет просто ссылаться на восстановление христианства в
первоначальной чистоте первых христианских общин. И насчет этого мы
не должны делать себе никаких иллюзий: религиозные фантазии гораздо
более приспособлены к тому, чтобы фанатизировать массы, чем
излюбленный современными вождями социал-демократии атеизм. И люди,
стоящие во главе государства, должны были бы десять раз подумать прежде,
чем прокладывать пути, которые могут повести к такого рода роковым
последствиям».
Таким образом, с одной стороны, призывают религию против
социал-демократии, а с другой — опасаются, чтобы религия не сделалась
орудием в руках социал-демократии. Буржуазия строит свое отношение
к религии по классово-политическим мотивам и
классово-политическими же мотивами обосновывают господствующие партии те требования,
которые она предъявляет государству по поводу его отношения к церкви.
Естественно создавшиеся, но затем застывшие и умершие религиозные
представления должны теперь гальванизироваться в интересах
поддержания существующего общественного строя. После всего этого можно
с полным правом утверждать, что религия в настоящее время служит
существенным средством к подавлению рабочего класса. Не иначе
по существу, хотя иначе по форме и по степени, обстоит дело и в других
странах с капиталистическим строем производства.
*) В русской библии — 1-ая Книга царств. — Прим. ред.
430
Религии очень выгодно, что с ней очень часто борются совершенно
неприспособленным орудием. Совершенно ошибочно мнение, будто
религию можно устранить, когда сохранились еще ее естественные и
социальные корни. Оскорбительная критика религии вызывает религиозный
фанатизм: она никогда не может убедить верующего человека. Невёрнб
также, что к сущности религии относится молитва, и следующие, недавно
еще так часто цитируемые строки совершенно перевертывают обычные
психологические отношения: «Оскорбительно предполагать, что,
благодаря твоему желанию, благодаря твоему .безумию, всемогущий нарушит
для тебя мировой закон. Ты не должен молиться».
Самая действительная агитация будет такова: говорить то, что есть.
Естественное происхождение религии, присоединившаяся потом
зависимость религиозных представлений от экономической структуры общества,
факты церковной истории, научное исследование сущности явлений,
непонимание которых вызывало религиозные толкования — все это
безусловно верная действительность, которая разрушит всякое сомнение
и всякую фантазию, возникшую из незнания.
(«Естественная и социальная религия»).
Я. Я. Степанов
РЕЛИГИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫЙ СТРОЙ.
Обыватели, которым начинает казаться, будто они приходят к
пониманию социализма и коммунизма, сильно скорбят над близорукостью
коммунистов. Коммунисты открыто заявляют, что у них нет религии.
Пусть бы они были безрелигиозны только про себя и для себя.
Давно уже, лет 400 тому назад, а в Италии много раньше, когда стало
развиваться умирающее теперь буржуазное общество, передовые борцы
этого общества, начав войной против католицизма, кончали отрицанием
христианства, а затем и всякой религии. Они приходили к правильному
убеждению, что понятие «бог», ни к чему для человеческого ума и
человеческого мышления. Раз человек не знает, например, отчего происходит
гроза, он остается при таком же незнании, если скажет, что грозу
производит бог. Одно неведомое, неизвестное он подменит другим
неизвестным же, неведомым. И хуже того: вместо того, чтобы сказать, что это еще
не познано им, он скажет, что это непознаваемо вообще.
Таким образом, в то время, когда буржуазия еще вела борьбу против
феодального сословия, ее философы и ученые приходили к неверию.
Но буржуазия уже предчувствовала наступление тех времен, когда она
сделается господствующим классом. Раньше эксплоатируемых держало
в покорности феодальное государство. Впоследствии смирять их придется
буржуазному государству. Церковь оказывала огромные услуги
феодальному сословию в деле укрощения масс. Проповедью и школой, угрозами
загробных мучений и обещаниями загробных наград — всем своим
учением и назиданием она заставляла массы терпеть и примиряться с
нищетой, гнетом, эксплоатацией, беспощадной жестокостью и алчностью
эксплоататоров; она внушала, что все это ниспослано и установлено
самим богом.
Сумеет ли нарождающееся буржуазное общество обойтись без
такой узды для масс? Можно ли держать их в покорности только открытым
ж прямым принуждением? Не следует ли стремиться к тому, чтобы огра-
431
Пленные и прогнанные с земли крестьяне, превращенные в живой товар
крепостные и обдираемые капиталистами ремесленники, кустари и
фабрично-заводские рабочие видели в своем положении жребий,
уготованный им от создания мира? Не следует ли сохранить им невинную утеху
загробных блаженств за безропотное подчинение неистовствам
угнетателей?
И вот буржуазные филосфы и ученые даже в тот период, когда
-они с величайшей революционностью выступали против феодального
общества, начали налагать на себя некоторую сдержанность в одном
отношении. Они говорили: «Бога необходимо сохранить для простого парода».
И, желая сохранить его для простого народа, т.-е. для эксплоатируемых,
они начинали думать, что, пожалуй, не мешает и себя заставить верить
в существование бота. Они уже говорили: «Если бы бога не
существовало, его следовало бы выдумать». И надо выдумать его одновременно
и в качестве пугала, и в качестве обнадеживающего маяка для
измученной и угнетенной бедноты.
Буржуазия пришла к власти. Разными способами достигла она
торжества; где постепенными сделками и соглашениями с феодальным
сословием, а где и революционным его низвержением. Не сама она
ниспровергала феодальное сословие: к революции ее толкали другие, более
радикальные и решительные слои населения. Разделившись со своими
радикальными союзниками по борьбе с феодальным обществом, обезоружив
их, буржуазия после революционного взрыва кончала сделкой, по крайней
мере, с одним из устоев феодального общества, с церковью.
Без бога слишком трудно управлять народными массами: прозрев,
что в экоплоататорских отношениях нет ничего предопределенного,
лредуетаншланного, нет никакой таинственной воли и власти, а есть,
только чисто человеческая экюплоататорокая воля и власть, они
начинают роптать, осмысливать свое положение, а затем и бороться против
господствующих классов. Да, для простого народа необходимо сохранить
религию! Да, бога следовало бы выдумать, если бы массы уже
переставали верить в его существование! Следовало бы выдумать бога и
заставить массы поверить в его существование. И, во всяком случае,
необходимо принять самые решительные меры с той целью, чтобы задавить все
сомнения в существовании этого карающего и награждающего
неизвестного владыки всего мира.
Конечно, буржуазия, ее ученые и философы даже от самих себя
отгоняют ту мысль, что они охраняют религиозность народа только для
своего собственного удобства, только в своих паразитических и
угнетательских интересах, Они представляют дело таким образом, будто
существующее общество, управляемое и направляемое эксплоататорами, есть
единственно возможное человеческое общество, будто с его разрушением
уничтожится всякое человеческое общество, распадутся всякие связи
между людьми, и они превратятся в стадо диких зверей. Исчезнет всякая
внутренняя узда, человек превратится в бесшабашного индивидуалиста,
станет заботиться только о себе; о своей собственной сытости и удобствах.
Человек будет волком для человека, и в неудержимом разгуле животных
страстей рассыплется человеческое общежитие, а люди превратятся в
дикарей, если не прямо, в хищных животных.
Настроив себя таким образом, буржуа, их философы и ученые
начинают вдумываться и вникать в свое собственное поведение.
Беспощадный и жадный волк в своих отношениях к рабочему классу, во всем, что
касается барышей, буржуа открывает, что существующее общество сде-
432
лалось бы невозможным, если бы он совсем распоясался и дал полную
аолю своей жадносгя. Общество укрепляется и упрочивается от того, что
у него иногда бывают порывы милосердия: он идет в церковь и раздает
пятачки нищим, он строит больницу для рабочих, получивших увечья
и растративших все свои силы на службе капиталу, некоторым он дает
пенсии, открывает и опекает школы.
Он умиляется перед своими благотворениями. И вдумываясь в их
источник, совершенно позабывает, что капиталистическое общество не
могло бы существовать, если бы капиталистический класс не замазывал
наиболее зияющих ран, причиняемых этим обществом. Растрогавшись,
расчувствовавшись, умилившись перед тем, будто бы он — не только
волк, но и добрый человек, благодетель, буржуа приходит к выводу, что
в глубинах его души живет неискоренимая идея бога, которой не может
вытравить и заглушить всепоглощающая страсть .накопления. И,
подчиняясь велениям этого неощутимо живущего в нем бога, он давал пятаки,
он делился своим имуществом с бедными.
Чем дальше идет время, чем шире и глубже развертывается борьба
рабочего класса и чем беспощаднее становится капитализм по своему
существу, тем больше необходимости в замазывании причиняемых им ран,
в прикрытии его беспощадности, тем необходимее становится, чтобы
капиталистический класс почаще вспоминал об идее бога, будто бы
живущей в глубинах всякой души человеческой и незримо управляющей ее
поведением.
В истории буржуазии была полоса, когда она кичилась своим
вольнодумством и неверием, выставляла его напоказ.
Эта полоса давно миновала. Чем ближе к крушению клонится
буржуазное общество, тем сильнее Охватывает буржуазию раскаяние в
былых прегрешениях перед матерью-церковью и перед всевышним.
Необходимо, чтобы во всех людях жило сознание о чем-то, что выше их
личности, их преходящей жизни, их ограниченных дел, их слабого, частичногю
понимания. Пусть гибнут отдельные личности, пусть умирают члены
капиталистического класса: надо спасти капиталистическое общество и
капиталистический класс. Надо поставить такие препоны и преграды
отдельной личности, с ее эгоизмом и индивидуалистическими
стремлениями, чтобы она не усиливала разрушительных сил, действующих в
капиталистическом обществе. Капиталистическое общество' должно
существовать вечно. И хранителем его вечности, хранителем вечности
капиталистического класса может быть только идея вечного бога,
подчиняющая личное общему: интересы капиталистической личности интересам
капиталистического класса.
Раскаяние охватывает буржуазную науку и буржуазную
философию. Смущенные, запуганные грандиозными переворотами в
общественных отношениях, и еще более грандиозными переворотами,
назревающими в глубинах общества, они хотят задержать эти перевороты. В
областях своей деятельности, где за последние десятилетия все — сплопшой
переворог, все — непрерывная революция, они страстно хотят найти
хотя бы одну неподвижную точку, хотя бы простой мираж
неподвижности. Подавленные беспредельностью перспектив, раскрывающихся перед
умом человечества, они во что бы то ни стало стремятся хотя бы только
для себя, для своего собственною успокоения, поставить предел чело!ве-
ческому мышлению и познанию.
И они находят этот предел в идее бога и начинают уверять себя
ш других, что это — неискоренимая, непреходящая идея. И хотят свя-
Г. Гурев 38
433
зать, спутать и ограничить этой идеей неудержимые порывы
человеческого ума к познанию мира и общества и непреодолимое стремление
рабочего класса к подчинению природы и общества человеческому труду.
Охваченные предсмертной^ тоской, буржуазия и ее идейные и
наемные представигели, ее философы и ученые, делают невероятные усилия,
чтобы заставить себя поверить в существование бога.
Это — последний якорь спасения для гибнущего буржуазного
общества. В действительности, это пе — якорь, а соломинка для
утопающего..
Обыватель, которому показалось, что он уже почти социалист, и ята
он выгодно отличается от коммунистов своим более глубким и тонким,
пониманием сокровенных пружин исторической жизни народов, охает и
ахает над слепотой коммунистов. Он недоумевает, как это можно
построить и упрочить человеческое общество, не скрепляя его религией.
Он самоуверенно пускается в мнимые исторические изыскания,
в странствования по странам и эпохам и всеми правдами и неправдами
дочет отыскать подпорки для своего унаследованного от прадедов
убеждения, что без религии нет цивилизации, нет человеческой
нравственности, нет человеческого общества, нет человечества.
Как это ни странно, ни противоречит действительным отношениям»
история даже древнего Рима превращается для таких обывателей в
историю римской религии. Рим рос, пока вырастал пантеон римских богов.
Римские боги в их иерархической последовательности связывали
семейные и родовые общины и затем сплачивали всех, римлян в единый-
великий народ.
Когда завоеватели стали изменять своим богам и усваивать культы-
покоренных народов, началась утрата их отдельности и особности, и
расширяющееся подчинение мира сменилось на первых норах постепенным,
а затем все более ускоряющимся растворением в варварском мире.
Этим новым «историкам», готовым оплакивать покойного Юпитера
с сонмом римских богов во имя защиты умирающего теперь иудейско-
дристианского бога, совершенно невдомек, что они бесталанно и в
ухудшенной форме воспроизводят старого Фюстель де-Куланжа, который
с талантливостью и блеском перевернул — «поставил на голову» —
действительные отношения. В действительной истории не римские боги,,
будто бы существовавшие раньше римского, общества, создали это
последнее, а, напротив, римское общество в своем поступательном движении
создало римских богов и связало их в единую семью, возглавляемую
Юпитером. Италийские роды и народы, сплачиваемые в единое
государство, отдавали и вводили своих местных богов в расширяющийся общий
пантеон растущего римского государства. Точно так же, когда, с
приближением к началу нашей зры, это государство стало все больше утрачивать,
свою экономическую обособленность и связываться с странами сначала по
.Средиземному морю, а затем и за Средиземным морем, оно не только
завоевывало их вооруженной рукой, оно не только подчиняло их своей
власти, но и отражало расширение экономических связей в расширении и
частичном растворении своего мира богов. Не особенно далекие друг
другу по степени экономического развития Рим, Карфаген и Египет
сохраняли много родственного в общем строе и характере своих религий, —
и даже больше: завоеванные страны, как страны более старой и в
некоторых отношениях высшей экономической культуры, в своих религиоз-
434
ных системах представляли шаг вперед по сравнению с римской
религией. Религиозные искания последних нредхристианских веков
свидетельствовали как раз о том, что старые религиозные представления уже
не соответствовали изменившимся отношениям нового Рима, бесконечно-
расширившимся в своей связанности. Усвоение чужих культов
уменьшало эго несоответствие. Существовало только одно средство
предотвратить это усвоение чужих культов и сохранить в полной неизменности и
неподвижности старый культ отходящего в прошлое Рима: отказаться от
расширения экономических связей, от распространения римского
государства, от превращения его в мировое государство того времени*
Но не было никаких способов достигнуть того, чтобы движение общества
не отражалось в движении религиозных идей и представлений. Для этого
человечество должно было оставить далеко позади себя ту ступень
развития, на которой стояло римское общество и государство.
И в дальнейшей истории человечества мы наблюдаем то же
первенство движения общества перед движением религиозных идей. Нам
укажут на пример ислама и будут говорить, что именно он и только он.
объединил арабские племена для завоевательных походов, которыми они-
в течение какого-нибудь столетия создали царство, являвшееся
преемником мировой Римской империи. Разложение ислама и появление в нем,
взаимно враждебных направлений, образование поедавших друг друга
сект сопровождалось распадением этого единого царства на халифаты,,
обессиленные взаимной борьбой.
И в этом случае для марксиста связь явлений прямо обратная.
Пока арабы не вышли из эпохи «средневековья», характеризующегося
почти безраздельным господством религиозных форм мышления,
экономическая необходимость, хотя бы чисто военного объединения, могла
доходить до их сознания только как чисто религиозная потребность
распространения истинной веры и покорения всех неверных. Совершенно такЛже
для христианских народов юго-западной Европы, созревших для
«империализма» ранней торгово-капиталистической эпохи, их тяга к богатому
и экономически передовому Востоку приобрела форму борьбы за
освобождение гроба господня из-под власти «неверных», форму крестовых
походов.
Арабы-завоеватели осели в различных областях, отличающихся
великим разнообразием географического полжения и природных
условий, и вошли в соприкосновение с покоренными и соседними
народностям, стоявшими на разных ступенях экономической культуры. Их
дальнейшее развитие неизбежно должно было отразить великое
разнообразие исторической и естественной обстановки, среди которой оно
совершалось. Религиозная борьба, «разложение ислама», и в данном
случае давала идеологическую форму, в которой развертывалась борьба
различных общественно-экономических укладов и происходили
столкновения внутренних общественных противоречий. Былое единство ислама
разбилось потому, что экономическое развитие, с разной быстротой и
в различных направлениях, совершавшееся на Пиренейском полуострове,
на севере Африки, в Аравии, Месопотамии и т. д., разложило простоту и
единообразие общественного строя арабов эпохи завоевательных походов.
На исторической роли христианства, вообще и католицизма, в
частности, можно не останавливаться. Давно признано, что религия здесь
не была первичной силой, почерпавшей свою власть над обществом из
того, что она удовлетворяла неискоренимым потребностям человеческого
сознания. Ее духовная власть была не первична; она обусловливалась
28*
435
общественно-экономическими функциями церкви и опиралась на очень
мирские и очень материальные основы: на то, что она передавала
германским и славянским варварским племенам, обращаемым в
христианство, остатки римской культуры и пролагала путь к повышению
земледельческой техники, ремеслам, торговле, зачаткам образования, без
которых не могли обойтись даже примитивные германские и славянские
государства. И дальше, церковные расколы, образование сект и
национальных церквей не вели за собою расслоения общества и разделения
некогда будто бы единого европейского мира, а, напротив, были
выражением обостряющейся внутренней борьбы и глубоких различий,
складывавшихся между отдельными странами в зависимости от их
географического положения, от различий той исторической и естественной
обстановки, в которой протекало развитие.
Не религией определялись историческое движение и исторические
судьбы человеческого общества. Религиозная жизнь, как наука, как
искусство, как нравы и нравственность, следовала за уже
совершившимися переменами в человеческих обществах. Но, конечно, не просто
следовала, а и освящала их божественным авторитетом незримого и
непознаваемого высшего существа и, таким образом, давала им
принципиальное и обобщенное выражение.
Выполняя эту роль, религия и церковь превращались в механизм
упрочения, консервирования общественных отношений. Дальнейшее
поступательное движение становилось возможным лишь путем
расшатывания и отрицания авторитета господствующей церкви и, пока не
назрели безрелигиозные формы восприятия мира, путем замены ее новыми
церквами, реформистскими или революционно-преобразованными,
подчиненными новым общественным потребностям.
Так и вышло, что старым историкам казалось, обывателям же и
теперь еще кажется, что крепость или ослабление религиозной жизни
редет эа собою прочность или расслабление и распад общественных
связей.
*
Воз(вращаемся к искренним, а в подавляющей части лицемерным,
вздохам и сожалениям на тот счет, будто коммунисты выбивают всякую
опору из под своего в общем хорошего дела; пренебрегая мощным
содействием, которое могли бы оказать им религиозные чувства, и даже прямо
искореняя эти чувства из масс. Эти вздохи объясняются или желанием,
несмотря ни на что, сохранить народу религию, как один из рычагов
вожделенной контр-революции, или же полным непониманием того, что и как
призваны совершить и совершают коммунисты в истории человечества.
Великая глупость... будто коммунисты, утратив всякую веру в бога
и в какие бы то ни было таинственные силы, управляющие миром и
человеческой жизнью, способны поддерживать эту веру в других.
Коммунист стремится как можно быстрее вытравить до последних корней и
остатков то наследие старой истории, что люди разделялись на экспло-
ататорское меньшинство управляющих и на эксплоатируемое
большинство управляемых, на смьппленных и ловких вождей и*бессмысленную
темную массу. Едва захватив власть, они организуют все управление
таким образом, чтобы все в нем было доступно, понятно, ясно и по
силам для всякого толкового члена общества; они не щадят ничего, чтобы
сделать действительные знания, действительное глубокое понимание
доступным для всякою человека. Они проклинают эксплоататорский строй,
436
который разделял знания на такие, которых достойны только
угнетатели, и на жалкие обрывки, доставшиеся угнетенным. Все, до чего
дошло человечество в своем многотысячелетнем труде, коммунисты хотят
сделать достоянием всего человечества.
Никаких искусственных скреп для коммунистического общества
не требуется. Его нерасторжимая связка— не в чем-нибудь
насильственном, внешнем, а в самых коммунистических отношениях.
Все общества, построенные на противоположности угнетателей и
угнетенных, раздирались этой противоположностью, как только она
доходила до известной степени остроты, при которой господствующим
классам или сословиям никак не удавалось ее затушевать или замазать. Тогда
бог или боги, которые до того времени служили принудительному
сплочению, начинали требовать в глазах акоплоашруемых низвержения
власти эксплоататоров. Угнетенные восставали; в разгоревшейся борьбе
разлагались и падали производительные силы и первая среди них — живая
рабочая сила. Былая связанность утрачивалась. Общество становилось
добычей соседей, хотя и отсталых в экономическом отношении, но зато
не дошедших до такого обострения классовых или сословных
противоречий, или же побеждал новый класс, опять эксплоататорокое
меньшинство, которое, однако, несло новые метода эксплоатации, дававшие
простор большему развитию производительных сил, — и общество шло
дальше, пока не назревал новый взрыв общественных противоположностей,
разрушительный, но, вместе с тем, и освобождающий поступательное
движение человечества от стеснявших его пут.
Капиталистическое общество, последняя, предельная из
общественных форм, построенных на классовом расчленении и противоположности
классов, в своем развитии довело эти противоречия до таких вопиющих
размеров, что приходится удивляться, как оно могло существовать
до настоящего времени: небывалое богатство производительных сил и
возможностей и использование этих сил для разрушения; невиданная до
сих пор мощь производства и возможность его стремительного
расширения и периодическое, а затем хроническое, преднамеренное его сужение
капиталистическими собственниками; сказачное повышение
производительности труда и растущая нищета производителей, все глубже
отбрасываемых на дно общества; небывалая связанность всех производственных
процессов, небывало общественный характер всего общественного труда,
при котором в производстве каждой спички участвует не только лесосек,,
поставляющий материал для палочек и коробок, не только
машиностроительный рабочий, построивший котел фабрики, и не только шахтер,
добывавший руду, или горнорабочий, произведший из нее сталь или
каменщик, возводивший фабричные здания, но и химик-лаборант,
нашедший наиболее удобный состав для зажитательзои смеси, и весь
университет с его сотнями ученых работников, подготовивших этого
лаборанта,— итак, небывало общественный характер всех полезных работ,
выполняемых в обществе, небывало тесное сцепление между ними и
присвоение всех результатов этих работ капиталистом единственно на том
основании, что его признают собственником спичечной фабрики, шахты,
доменной печи и т. д.
Такое общество давно расползлось бы по всем швам, если бы его
не сжимала и не удерживала в покорности принудительная сила и
хитрые искусственные приспособления: полиция, тюрьмы, казарменная
армия, калечащая ум школа, доступность сколько-нибудь повышенного
образования только для экоплоататоров, и, наконец, убивающий взлет
437
ума и задушающая всякий протест идея бога с его заповедями
рабской кротости и рабского смирения, с ого замогильными вбзмездиями
и наградами.
Великие трудности ставит коммунистическому строительству
наследие, полученное от капиталистического общества. Борьба каждого
против всех, стремление урвать от общества как можно больше и как
можно меньше дать ему — такова повседневная практика всякого
капиталиста, такова практическая мораль широких масс, которые,
организуясь на борьбу против капитала, лишь медленно отрешались от
выращенной капиталом жадности, от порожденного им крайнего
индивидуализма и эгоизма. Если я не вскарабкаюсь по спинам моих ближних, они
сбросят меня на дно и затем сами поставят на мою голову ногу, чтобы
вскарабкаться выше, — вот какие «высокие» нравственные чувства
порождались капиталистическим обществом.
Создать такие условия, чтобы никто не мот строить свое
благополучие на подавлении и угнетении других — вот одна из основных йадач
Коммунистической партии. Уничтожение капиталистической
собственности, уничтожение собственности, как основы эксплоатации шаг,
первый большой в этом отношении. Правда, еще сохраняются крупные
различия в оплате различных категорий труда: например, выдающийся
инженер получает много больше, чем чернорабочий. Но, во-первых,
инженер тоже оплачивается за работу, притом за работу, которую лишь
немногие сумеют выполнить так, как выполняет он, а не за голое право
собственности: во-вторых, мы прямо говорим, что* и это — остаток
классового расчленения капиталистического общества, который, подобно
другим остаткам, будет уничтожен лишь в развитом коммунистическом
обществе; теперь же мы еще только входим, врабатываемся в переходный,
в социалистический строй. Старое общество с его скудными крохами
образования, доставшимися эксплоатируемым, оставило нам
ничтожное количество знающих специалистов, и мы находим, что привлечь
специалистов повышенной оплатой труда будет для нас выгоднее, чем
выкручиваться без их указаний^ и руководства.
Но уже теперь среди развала, обостряемого начавшейся борьбой
мировых хищников против социалистического переворота, принимаются
решительные меры с той целью, чтобы работник был не только
исполнителем, но и организатором, чтобы, вооруженный знанием, он понимал
и общую связь производственных операций, в котооых принимает участие,
и общую связь человеческих отношений. Приближаясь к этой цели,
мы приближаемся к тому времени, когда различия оплаты утратят
всякое оправдание.
Но вместе с тем они утратят всякий смысл и всякую притягательную
силу. Уничтожением капиталистической собственности мы уже
устранили те оковы, которые она налагала на развитие производительных сил.
Устраняя те путы, которыми капиталистическое общество сковывало
развитие человеческого ума, превращая всякого здорового взрослого
человека в работника, а всякого работника — в человека, котооый обладал бы
широким и ясным пониманием всех производственных процессов, мы
удесятерим производственные возможности и увеличим производительность
общественного труда до таких размеров, о которых можем составить
только самое отдаленное представление.
Повышенная оплата труда привлекательна, когда среди скудости,
среди недостаточного удовлетворения даже элементарных потребностей
она дает возможность получить несколько больше предметов потре-
438
Мления, чем получают другие. Но какой смысл будет в ней, котда для
всех станет возможным удовлетворение не только элементарных, но и
постоянно повышающихся, расширяющихся потребностей?
Повышенная оплата труда была привлекательна, когда она вела
к накоплению, которое давало надежду перейти в ряды эксплоататоров
тг сбросить со своих плеч всякий труд, являвшийся мукой в
капиталистическом обществе по своей монотонности, по своим общим условиям. Какой
смысл в ней будет тогда, как уничтоже*ние капиталистической
собственности устранит самую возможность превращения в общественного
захребетника, в паразита? И какой смысл бу$ет в стремлении к этому
превращению, когда труд станет продолжением работы познания, а работа
познания продолжением производительного труда, — когда труд будет
тте мукой, не проклятьем, а удовлетворением настоятельной человеческой
потребности?
Тогда исчезнут в человеческом обществе всякие противоречия,
напоминающие о противоречиях классового общества. Не останется сил,
^которые могли бы разлагать и расшатывать человеческое общество,
впервые в истории сделавшееся человеческим. Тогда всякий будет
чувствовать, что, живя и работая, работая и живя в этом обществе
и с этим обществом, он только и"живет для самого себя, для своего
непрерывного восхождения и развития.
Для этого нового человечества не надо будет бога, который стоит
над природой: оно само будет господином, богом природы!г)
Для коммунистического общества не надо будет какого-то высшего
существа, таинственного и непонятного некто, которое своим
измышленным авторитетом охраняло бы его и упрочивало: он будет упрочиваться
самым фактом своего существования.
(«Религия и общественный строй»).
Ф, Этелъс
ЭВОЛЮЦИЯ ОТНОШЕНИЯ БУРЖУАЗИИ К РЕЛИГИИ
Лет сорок-пятьдесят тому назад2) каждого приехавшего в Англию
образованного иностранца неприятно поражало религиозное ханжество, —
доходящее, как ему казалось, до религиозного помешательства —
респектабельного среднего класса Англии. Я теперь покажу, что этот
респектабельный класс в то время не был так глуп, как это могло казаться
образованному иностранцу: его религиозные тенденции находят себе объяснение.
Когда Европа вышла из эпохи средневековья, ее революционным
элементом была восходящая буржуазия городов. Официально признанное
положение, завоеванное ею внутри средневековой феодальной системы,
стало слишком тесным для ее дальнейшего развития. Свободное развитие
буржуазии стало более несовместимым о феодальной системой, и
феодальная система должна была пасть.
*) Неудачное (хотя и часто употребляемое) выражение: верно то, что человек
будет господином природы, но господин не значит бог. Человек, будучи сам частью
природы, господствует над природой, подчиняясь ее законам, а бог рисуется в
фантазии веруюптего, как надприродное сушество, имеющее абсолютную власть над
природой: он не подчиняется законам природы и может их' в любой момент отменить
-{чудеса). — Прим. ред.
2) Статья написана Энгельсом в 1892 году. — Прим. ред.
459
Но великим международным центром феодальной системы была,
римско-католическая церковь. Несмотря на все внутренние раздоры, она
объединяла всю феодальную Западную Европу в одно большое
политическое целое, противостоявшее как греко-православному, так и
магометанскому миру. Она освятила феодальный строй венцом божественной
благодати. Свою собственную иерархию она устроила по феодальному образцу,
да и сама она была самым крупным феодалом, так как ей принадлежала
по крайней мере третья часть всех католических земель. И прежде чем
нанести удар светскому феодализму в каждой стране в отдельности, надо
было разрушить центральную церковную организацию.
Но с ростом буржуазии шаг за шагом развилась также с
необычайной силой и наука. Снова стали заниматься астрономией, механикой,
физикой, анатомией, физиологией. Для развития своего промышленного-
производства буржуазия нуждалась в науке, которая исследовала бы;
свойства тел и деятельность сил природы. До этого времени наука была
по отношению к церкви лишь смиренной служанкой, которой но
позволялось переступать установленные верой границы — коротко говоря,
она была всем, только не наукой. Теперь наука объявила бунт церкви,
а буржуазия, нуждаясь в науке, присоединилась к .этому бунту.
Вышеизложенным я затронул только два пункта, в которых
расцветавшая буржуазия приходила в столкновение с господствовавшее
церковью. Но и сказанного вполне достаточно для доказательства, во-
первых, того, что наибольшее участие в борьбе против владычества
католической церкви принимала буржуазия, и, во-вторых, того, что всякая
борьба против феодализма должна была тогда облачиться в религиозный
наряд и в первую голову направить свои удары против церкви. Но если
боевой клич исходил из университетов и торговых кругов городов, то он
неизбежно находил живой отклик в массах крестьянского население
которое повсюду вело ожесточенную борьбу против духовных и светских
феодалов за самое свое существование.
Великая борьба европейской буржуазии против феодализма достигла
своего кульминационного пункта в трех решительных битвах.
Первая — это то, что мы в Германии называем реформацией.
Ответом на призыв Лютера к бунту против церкви были два политических
восстания: сперва — низшего дворянства под предводительством Франца
фон-Зиккингена в 1523 г., затем — великая крестьянская война 1525 г.
Оба они были подавлены, главным образом, вследствие нерешительности
наиболее заинтересованной стороны — городской буржуазии; причину
этой нерешительности, мы здесь объяснять не будем. О этого момента
борьба выродилась в нескончаемую свару отдельных князей с
центральной властью императора, и в результате этой свары Германия была
на целых 200 лет вычеркнута из рядов политически активных наций'
Европы. Лютеранская реформация превратилась, конечно, в новую
религию, и как раз в религию, пригодную для абсолютной монархии.
Как только крестьяне северо-востока Германии приняли лютеранство, они
иб свободных людей превратились в крепостных.
Но что не удалось Лютеру, того достиг Кальвин. Его догма отвечала
потребностям нал более отважной части тогдашней буржуазии. Его учение
о предопределении было религиозным выражением того факта, что-
в торговом мире, в мире конкуренции, успех или банкротство зависит
яе от деятельности и ловкости отдельной личности, а от обстоятельств, вне
ее лежащих. «Определяет не воля отдельного человека и не его деяния,
а милость» могучих, но неизвестных экономических сил. И это было
440
безусловно верно в эпоху экономического переворота, когда все прежние
торговые пути и центры были вытеснены новыми, когда были открыты
Америка и Индия, когда даже ценность золота и серебра, этих издавна
почитаемых экономических святынь, стала колебаться и стремительно
падать. При этом церковный строй Кальвина был всецело
демократическим и республиканским; но там, где царство божие стало
республиканским, могли ли земные царства остаться верноподданными своих'королей^
епископов и феодалов? Если лютеранство дало удобное орудие в руки
мелких немецких князей, то кальвинизм основал республику в Голландии
и .сильные республиканские партии в Англии и особенно в Шотландии.
В кальвинизме второе великое движение буржуазии нашло себе
уже готовую боевую теорию. Движение это произошло в Англии.
Городская буржуазия дала, толчок революции, а среднее крестьянство,,
йоменри сельских округов довело борьбу до победы. И интересно
отметить, что во всех трех буржуазных революциях крестьянство поставляло
главную армию борцов, но оно же было как раз тем классом, который
больше всего разорялся от экономических последствий одержанной им
победы. Через сто лет после Кромвеля английские йоменри почти
совершенно исчезли. Но во всяком случае, только благодаря вмешательству
этих йоменри и плебейских элементов городов, борьба была доведена
до решительного конца, и Карл I был взведен на эшафот. Именно для
того, чтобы буржуазия могла пожать уже созревшие плоды победы, было
необходимо, чтобы революция зашла гораздо дальше своей
первоначальной цели — точь-в-точь как в 1793 г. во Франции и в 1848 г. в Германии
Указанное явление, повидимому, представляет собою один из законов
развития буржуазного общества.
Этот излишек революционной деятельности сменился неизбежной
реакцией, которая, в свою очередь, тоже пошла дальше своей цели. ,После
целого ряда колебаний новый цептр тяжести был, наконец, найден и
послужил исходным пунктом для дальнейшего развития. Замечательный
период английской истории, называемый филистерами эпохой «великого
мятежа», и 'следовавшие за ним битвы завершились сравнительно
ничтожным событием 1689 г., которое либеральные историки называют «славной
революцией».
Новым исходным пунктом был компромисс между развивающейся
буржуазией и некогда феодальными крупными землевладельцами. Хотя
последние тогда, как и сейчас, назывались аристократами, но они уже
давно находились на пути к тому положению, какое значительно позже
занял Луи-Филипп во Франции: именно, к положению первых буржуа
нации. К счастью для Англии, старые феодальные бароны уничтожили
друг друга в войнах между белой и алой розой. Их наследники — хотя
большей частью и отпрыски тех же старинных фамилий — происходили,
однако, из столь отдаленных боковых линий, что они составили
совершенно новую корпорацию; их привычки и стремления отличались гораздо
более буржуазным характером, чем феодальным; они прекрасно знали
цену денег и быстро принялись вздувать земельную ренту, вытесняя
своими овцами сотни мелких арендаторов. Генрих VIII массами создавал
новых буржуазных лэндлордов, раздавая направо и налево и продавая
за бесценок церковные имущества; к этому же приводили беспрерывно
продолжавшиеся до конца семнадцатого столетия конфискации крупных
поместий, переходивпшх затем к временщикам разного ранга. Вот почему
английская «аристократия» со времени Генриха VIII не только не
противодействовала развитию проявленного производства, но, наоборот,
441
'Старалась извлечь из него для себя пользу. Точно также всегда
находилась часть крупных землевладельцев, которая, из экономических или
политических соображений, готова была к совместной деятельности
с руководителями финансовой и индустриальной буржуазии.
Благодаря всему этому, компромисс 1689 г. легко осуществился.
Политические spolia opima — должности, синекуры, большие оклады —
остались за крупным поместным дворянством, но под тем условием, что
оно в достаточной мере будет блюсти экономические интересы среднего
дласса, занятого финансовыми, промышленными и торговыми делами.
А эти экономические интересы к тому времени были уже достаточно
могущественны; в конце концов они стали определять общую политику
дации. По отдельным вопросам еще могли быть споры, но
аристократическая олигархия слишком хорошо знала, что ее собственное преуспеяние
неразрывной цепью связано с процветанием промышленной и торговой
буржуазии.
О этого времени буржуазия стала хотя и скромной, но официально
признанной составной частью господствующих классов Англии. Вместе
с аристократией буржуазия была заинтересована в угнетении широких
трудящихся масс народа. По отношению к своим приказчикам, рабочим,
прислуге — купец и фабрикант занимают положение хозяев-кормильцев
или, как в Англии еще недавно выражались, «поставленных самой
природой начальников». Буржуа должен выжать из своих рабочих возможно
больше труда возможно лучшего качества; а для этого ему необходимо
воспитать их в соответствующей покорности. Сам он религиозен; религия
ему дала то знамя, под которым он боролся с кбролями и лордами; очень
скоро он в религии открыл также средство для обработки душ своих
подчиненных в духе послушания всем приказам хозяина-кормильца,
поставленного над ними неисповедимым божественным предопределением.
Короче говоря, английский буржуа стал теперь участвовать в угнетении
«низших классов», широких трудящихся народных масс, и, как одним из
необходимых для этого средств, он стал пользоваться (влиянием
религии.
Но сюда присоединилось еще одно обстоятельство, усилившее
религиозные симпатии буржуазии, именно—возникновение в Англии
материализма. Это новое безбожное учение не только возмутило богобоязненное
среднее сословие; оно, кроме того, объявило себя философией
исключительно для ученых и образованных светских людей в противоположность
религии, которая-де в достаточной мере годится для широкой
необразованной массы, включая сюда и буржуазию. В лице Гоббса материализм
выступил на сцену в роли защитника королевского всевластия и
призывал абсолютную монархию к обузданию народа, этого puer robustus sed
malitiosus. Равным образом и у последователей Гоббса — Болинброка,
Шефтсбюри и др. — новая деистическая форма материализма осталась
аристократическим, эзотерическим учением, ненавистным буржуазии
не только за его религиозное еретичество, но и за его антибуржуазные
политические симпатии. Вот почему, в противоположность материализму
(и деизму аристократии, боевые силы прогрессивного среднего класса
составили протестантские секты, принимавшие главное участие в борьбе
со Стюартами и посейчас еще образующие позвоночник «великой
либеральной партии».
Между тем из Англии материализм перешел во Францию,, где
он застал другую материалистическую школу философии, вышедшую
из картезианства, с которой он и слился.
442
И во Франции материализм вначале оставался исключительно
аристократической доктриной. Скоро, однако, обнаружился его
революционный характер. Французские материалисты не ограничивали своей
критики областью религиозных вопросов; они подвергли также критике
все научные традиции, все политические институты своего времени. Чтобы
доказать всеобщую приложимость своей теории, они избрали
кратчайший путь: они отважно применили ее ко всем предметам знания в том
гигантском труде, от которого они получили свое название — в
знаменитой «Encyclopedic». Так материализм — в форме ли открытого
материализма, или в форме деизма — стал мировоззрением всего образованного
молодого поколения Франции. Дело дошло до того, что в эпоху Великой
революции это пущенное в ход английскими роялистами учение дало
французским республиканцам и террористам теоретическое знамя и
помогло им выработать текст «Декларации прав человека».
Великая французская революция была третьим восстанием
буржуазии, но первым, совершенно сбросившим с себя религиозное облачение
и проведенным до конца открыто на политической почве. Зато оно было
также первым, действительно доведенным до конца — до уничтожения
одного из противников, аристократии, и до полной победы другого —
буржуазии.
В Англии непрерывность связи между до-ре^олюционными и
пореволюционными институтами и компромисс между крупными
землевладельцами и капиталистами нашли свое выражение в непрерывности
действия судебных прецедентов и в почтительном сохранении феодальных
юридических форм. Во Франции, напротив, революция окончательно
порвала с традициями прошлого, уничтожила последние остатки феодализма
и в Code civil мастерски приспособила к новым капиталистическим отно-
щениям старое римское право, это почти совершенное выражение
юридических отношений, возникших на той ступени развития, которую Маркс
обозначает, как «товарное производство»; — до того мастерски, что этот
революционный свод французских законов еще теперь служит для всех
•стран, не исключая и Англии, образцом при всякой реформе права
ообственности.
При этом, однако, не следует забывать одного: если английское право
выражает экномические отношения капиталистического общества
варварским феодальным языком, который так же мало соответствует
выражаемой им вещи, как английская орфография английскому произношению —
пишется Лондон, а произносится Константинополь, — сказал один
француз,— то это самое английское право все же является единственным,
сохранившим во всей чистоте и перенесшим в Америку и колонии лучшую
часть той личной свободы, того местного самоуправления, той гарантии
от всяких внешних посягательств, исключая лишь посягательства со<
стороны суда, — словом, лучшую часть всех тех старо-германских вольно*
стей, которые погибли на континенте при абсолютной монархии и до сих
лор еще нигде в полной мере не завоеваны вновь.
Но вернемся к нашему английскому буржуа. Французская
революция дала ему прекрасный сдучай при помощи континентальных
монархий подорвать морскую торговлю Франции, присоединить к Англии
французские колонии и подавить последние притязания Франции на
морское соперничество. Это послужило первым основанием для борьбы
английского буржуа с французской революцией. Вторым основанием
•было то, что ему совсем не по душе пришлись методы этой революции:
не только ее «достойный проклятья» терроризм, но и самая ее попытка
443
довести господство буржуазии до крайних пределов. Разве может
английский буржуа приняться за что-нибудь без своей аристократии, давшей
ему манеры, изобретающей для пего моды, поставляющей ему офицеров
для армии — этой охранительницы порядка у себя дома, и для флота —
этого завоевателя новых колониальных владений и рынков? Конечно,
было и прогрессивное меньшинство буржуазии — люди, интересы которых
не очень выиграли от компромисса; это меньшинство, состоявшее из менее
состоятельных слоев среднего класса, симпатизировало революции,
но оно не имело силы в парламенте.
Таким образом, чем более материализм -становился символом веры
французской революции, тем крепче богобоязненный английский буржуа
держался за свою религию. И разве эпоха террора в Париже не показала,
что получается, когда у народа отнята его религия? Чем больше
материализм распространялся из Франции в соседние страны, усиливаясь
родственными ему течениями — особенно немецкой философией, — чем
больше материализм и вообще свободомыслие становилось на континенте
необходимым признаком образованного человека, — тем все упрямее
английский средний класс держался за свои разнообразные религиозные
верования, которые, несмотря на все различия, были безусловно
христианскими религиозными верованиями.
В то время как во Франции революция обеспечила политический
триумф буржуазии, в Англии — Уатт, Аркрайт, Картрайт и другие
произвели промышленную революцию, совершенно переместившую центр
тяжести экономического могущества. Богатства буржуазии стали теперь
расти бесконечно быстрее, чем богатства земельной аристократии. Внутри
самой буржуазии финансовая аристократия, банкиры и т. п. стали все
более отступать на задний план перед фабрикантами. Компромисс
1689 г., даже после постепенно последовавших изменений его в пользу
буржуазии, перестал соответствовать взаимным отношениям
договорившихся сторон. Характер этих сторон значительно изменился:
буржуазия 1830 г. сильно отличилась от буржуазии предыдущего столетия.
Оставшаяся еще у аристократии политическая власть, которой она
пользовалась против притязаний новой промышленности буржуазии,
стала несовместимой с новыми экономическими интересами: Новая борьба
против аристократии стала необходимой — и эта борьба могла кончиться
только победой новой экономической силы.
Под влиянием французской революции 1830 года прежде всего был
проведен, несмотря на все сопротивления, акт об избирательной реформе,
создавший для буржуазии официально признанное могущественное
положение в парламенте. Затем последовала отмена хлебных законов, раз
навсегда установившая господство интересов буржуазии — именно, наиболее
деятельной ее части: фабрикантов — над интересами земельной
аристократии. Это было величайшей победой буржуазии, но зато и последней,
одержанной ею исключительно в ее собственных интересах. Все свои
дальнейшие триумфы она вынуждена была делить с новой социальной
силой, действовавшей вначале в союзе с буржуазией, но затем ставшей ее
соперницей.
Промышленная революция создала класс крупных фабрикантов, но
она же создала гораздо более многочисленный класс фабричных рабочихс
Этот класс все увеличивался численно по мере того, как промышленная
революция захватывала одну отрасль производства за другой. Но вместе
с его числом выросла и его сила, и это сказалось уже в 1824 году, когда
он заставил упрямый парламент отменить законы против свободы коали-
444
дий. Во время агитации за избирательную реформу рабочие составляли
радикальное крыло партии реформы; но когда актом 1832 года рабочие
были лишены избирательных прав, они объединили свои требования
в народной хартии (people's charter) и образовали, в противоположность
большой буржуазной партии, противников хлебных законов, свою
независимую чартистскую партию, которая была первой рабочей партией
нашего времени.
Затем разыгрались континентальные революции февраля и марта
1848 г.. в которых рабочие играли такую значительную роль, и где они,
по крайней мере, в Париже, выступили с такими требованиями, которые
были решительно недопустимы с точки зрения капиталистического
общества. И тогда-то наступила всеобщая реакция: сначала поражение
чартистов 10, апреля 1848 г.: затем, в июне того же года, разгром парижского
рабочего восстания; потом неудачи 1849 года в Италии, Венгрии, южной
Германии; наконец, победа Луи-Бонапарта над Парижем 2 декабря
1851 года. Так, по крайней мере, на некоторое время, был уничтожен
страшный призрак рабочих требований, но — какою ценою! И если
английский буржуа еще раньше был убежден в необходимости держать
простой народ в религиозной узде, то' насколько острее должен был он
почувствовать эту необходимость после всего им пережитого! И, ничуть
не смущаясь насмешками своих континентальных коллег, он продолжал
из года в год тратить тысячи и десятки тысяч в целях евангелизации
низших слоев народа. Недовольный своими собственными религиозными
аппаратами, он обратился к брату Ионафану, величайшему в то время
организатору религиозных предприятий, и стал импортировать из
Америки ревиваягизм и тому подобный религиозный товар; в конце он даже
взял себе опасного защитника — «Армию спасения», вновь оживившую
способ пропаганды первых христиан: она обращается к бедным, как
к избранным, ведет на свой религиозный лад борьбу с капитализмом
и культивирует таким образом элементы древне-христианской классовой
борьбы, которые в один прекрасный день могут оказаться весьма
фатальными для богатых, выкладывающих теперь на это дело свои
кровные денежки...
Не успел еще промышленный и коммерческий средний класс
окончательно отнять политическую власть у земельной аристократии, как
на спечу выступил новый конкурент —-рабочий класс.
Реакция, наступившая после чартистского движения и
континентальных революций, и к тому еще невиданный рост английской индустрии
доежду 1848 и 1868 гг. (приписываемый обыкновенно исключительно
свободной торговле, но на самом деле объясняемый колоссальным ростом
числа железных дорог, океанских пароходов и, вообще, средств
передвижения) — вновь привели рабочих к либерализму, — и, как в до-чартист-
ркое время, они образовали его радикальное крыло. Скоро, однако,
требования со стороны рабочих избирательного права стали непреодолимыми;
в то время как виги, вожаки либералов, нерешительно торговались,
Дизраэли показал свое превосходство над ними: он использовал
благоприятный для ториев момент и ввел в городских округах избирательную
систему, включавшую всех, занимавших отдельную квартиру, и вместе
с тем изменил самые округа. Вслед за этим последовало введение тайного
голосования (the baliot); затем, в 1884 г., избирательные права были
распространены и на округа графств, при чем самые округа были наново
перераспределены и хоть несколько уравнены. Благодаря всему этому,
сила рабочего класса на выборах так возросла, что теперь в 150—
445
200 округах рабочие составляют большинство избирателей. Но нет
лучшей школы почтительного отношения к традиции, чем парламентская
система! Если средний класс глядел благоговейно и почтительно на группу,
прозванную в шутку Джоном Маннерсом — «нашим старым
дворянством», то масса рабочих с неменьшим почтением смотрела тогда на так
называемый «благородный класс» — буржуазию. И, действительно, лет
15 тому назад английский рабочий был образцовым рабочим, его
почтительное внимание к положению своего работодателя, его самообуздание и
кротость в собственных запросах изливали целительный бальзам на раны
наших немецких катедер-социалистов, полученные ими от неискоренимых
коммунистических и революционных тенденций их родного, немецкого
рабочего.
Однако, английские буржуа были деловыми людьми и несравненно
более дальнозоркими, чем немецкие профессора. Только против
собственной воли они делились своей властью с рабочими. Во время чартизма
они хорошо изучили, на что способен народ, этот puer robustus sed mali-
tiosus. С этого времени большая часть требований народной партии была
им насильно навязана и вошла в законы страны. И теперь более, чем
когда-либо, нужно было держать народ в узде посредством морали; но
первым и самым важным средством морального влияния на массы осталась —
религия. Отсюда — это главенство попов в школьном управлении,
отсюда — все растущее самообложение буржуазии в пользу всевозможных
сортов религиозной демагогии, начиная от ритуальноетей и кончая
«Армией спасения».
И тогда-то настал триумф британского респектабельного
филистерства над свободомыслием и религиозным индифферентизмом
континентального буржуа. Рабочие Франции и Германии прониклись духом
мятежа. Они повально были заражены социализмом, и при этом, по весьма
понятным соображениям, отнюдь не пылали особенной любовью к
законности тех средств, с помощью которых они надеялись завоевать господство.
Puer robustus, действительно, становился день-ото-дня все более malitio-
sus. Что же оставалось делать немецкой и французской буржуазии для
своего спасения, как не выбросить втихомолку свое свободомыслие,
совсем наподобие развязного франта, который, когда его все более и более
начинает одолевать морская болезнь, бросает дымящуюся сигару, которой
он раньше хвастливо щеголял у борта корабля. Один за другим былые
насмешники стали превращаться в весьма благочхтивые создания; они
стали отзываться с почтением о церкви, ее учениях и обрядах и даже сами
принялись их проделывать поскольку, понятно, нельзя было их обойти.
Французские буржуа- стали отказываться по пятницам от мяса, а
немецкие терпеливо потели на своих церковных сидениях, выслушивая до конца
бесконечные протестантские проповеди. Оо своим материализмом они
попали в беду, и последним и единственным средством спасения общества
от полной гибели стал лозунг: «Религия должна быть поддержана в
пароде!». К несчастью своему, они это открыли лишь после того, как сдеч
лали все, что было в человеческих силах, чтобы навсегда разрушить
религию. И тогда-го наступило время, когда английский буржуа мог, в свою
очередь, посмеяться над ними и крикнуть им: «Глупцы! это я мог бы
вам сказать еще 200 лет тому назад!».
Все же я опасаюсь, что ни религиозная придурковатость английской
буржуазии, ни post festum (после праздника) последовавшее покаяние
континентальной не остановят подымающегося могучего пролетарского
потока. Традиция — великий тормоз, она — сила исторической инерции.
446
Но в то же время она только пассивна, и потому должна уступить. Точна
так же и религия не может служить долговечным оплотом для
капиталистического общества. Ра^ наши юридические, философские и
религиозные представления являются близкими или отдаленными отростками
господствующих в данном обществе экономических отношений, то эти
представления не могут надолго удержаться после того, как
экономические отношения коренным образом изменились. Или мы должны
поверить в сверхъестественное откровение, или эй,е признать, что никакие
религиозные проповеди не в силах держать распадающееся общество.
(Предисловие к английскому изданию «От утопии к науке»).
П. Лафарг
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ РЕЛИГИОЗНОСТИ БУРЖУАЗНЫХ
КЛАССОВ
Можно было ожидать, что чрезвычайное развитие и
распространение научных знаний, раскрывающих взаимную связь между явлениями
природы, укрепит в умах людей убеждение о том, что миром управляют
непреложные законы, что порядок мироздания не зависит от воли
человека или сверхъестественного существа, что вследствие этого идея
о боге станет совершенно излишней, так как те функции, которые ему
приписывали дикари, отняты у него законом необходимости. Но окаг-
зывается, что вера в бога, могущего по своей воле изменять порядок
вещей, до сих пор еще жива в умах ученых, и что среди буржуазии
можно встретить немало образованных людей, которые, подобно дикарямг
молятся о ниспослании дождя, ветра, победы, исцеления и т. п.
Но если бы ученым даже удалось воспитать у буржуазии
убеждение в закономерности и необходимости явлений внешнего мира, если бы
даже всем стало ясно, что каждое явление природы служит связующим
звеном в цепи предшествующих ему и следующих за ним явлений, тогда
пришлось бы еще доказать, что этрму закону подчиняется также
социальная жизнь человека. Но вое наши ученые, экономисты, философы,
историки, социологи, политики и моралисты, изучающее человеческие
общества и претендующие даже на роль руководителей, не дошли, да
и не могут дойти до того убеждения, что над социальными явлениями
тяготеет тот же закон необходимости, который властвует над внешней
природой, и именно потому, что буржуазная мысль не может
проникнуться этим убеждением, вера в бога является необходимостью для
каждого, даже самого культурного буржуа.
Философский детерминизм господствует в естествознании только
потому, что буржуазия позволила своим ученым свободно изучать
природу и ее силы, позволила для того, чтобы использовать результаты этого
изучения в своих материальных интересах, для увеличения своего
богатства. Но экономистам, философам, моралистам, историкам, социолог
гам и политикам, буржуазия при том положении, какое она занимает
в обществе, не могла предоставить той же свободы. Вот почему эти
ученые не могли применять к своим социальным наукам принцип
философского детерминизма. Из тех же соображений католическая
церковь запрещала изучение природы, и необходимо было раньше
низвергнуть господство церкви для того, чтобы расчистить путь свободной науке.
447"
Для того, чтобы решить вопрос о причинах религиозности
буржуазии, необходимо предварительно выяснить ту роль, которую религия
играла в жизни общества.
Социальная задача современной буржуазии состоит не столько
в том, чтобы самим создавать богатства, сколько в том, чтобы создавать
их при помощи наемных рабочих, присваивать их себе и распределять
их между представителями своего класса, уделяя из этих богатства
непосредственным их производителям ровно столько, сколько им
необходимо для поддержания своей жизни и продолжения своего рода.
Богатства, отнятые у рабочих, составляют добычу буржуазии.
Когда варварские народы завоевывали и предавали грабежу
какой-нибудь город, они сваливали все награбленное добро в кучу, разбивали ее
по возможности на равные части и по жребию делили их между всеми,
рисковавшими своей жизнью для завоевания добычи. Буржуазия же,
благодаря современному общественному строю, владеет всеми богатствами
страны, тогда как ни один из ее членов ничем не рискует для добывания
этих богатств. Эта возможность — без всякой жертвы и риска
присваивать себе колоссальные богатства — составляет самое крупное
завоевание современной культуры. Добыча, отнятая у производителей, не
делится на равные части и не распределяется по жребию, она
распределяется между всеми «завоевателями», в виде арендной платы, ренты,
дивидендов, процентов и прибыли от промышленных и торговых
предприятий, смотря по величине движимой и недвижимой собственности,
которыми владеет буржуа.
Обладание собственностью, капиталом, а не теми или другими
физическими или духовными качествами — ©от необходимое условие для
получения права на известную часть общественного продукта. Грудной
младенец может обладать такими же правами, как взрослый; мертвый
продолжает владеть своей собственностью до тех пор, пока ей не найдутся
«законные» наследники. Дележ происходит не между людьми, а между
собственниками. Человек — это нуль, собственность — это все.
Некоторые сравнивают борьбу, происходящую между буржуазией
при разделе народного богатства, с дарвиновской борьбой за
существование, господствующей в мире животных; но между социальной борьбой
и борьбой за существование в мире животных нет ничего общего. Там
победа достается силе, ловкости, храбрости, выдержке, уму, т.-е.
органическим свойствам животного, но не собственности, которая одна
завоевывает каждому буржуа его долю в общественном продукте.
Капитал может увеличиваться или уменьшаться и соответственно этому
доставлять своему обладателю большую или меньшую долю в
общественном богатстве, не требуя от него никакого участия — физического или
духовного — в общественном труде. Можно смело сказать, что
мошенничество, (интригантство, шарлатанство, словом, самые отвратительные
в нравственном отношении черты характера позволяют буржуа получить
ббльшую прибыль чем та, которую мог бы принести ему его капитал.
В этом случае буржуа обкрадывают людей своего же класса. Таким
образом, оказывается, что в то время, как борьба между животными
приводит к совершенствованию и протрессу, взаимная борьба между
представителями буржуазии является источником вырождения.
Социальная миссия буржуазии присваивать себе продукты
наемного труда превращает ее в класс праздных тунеядцев: за исключением
небольшою числа лиц, ,с течением времени (все уменьшающегося, этот
класс в массе своей не участвует в создавании богатств, и работа, кото-
448
рую он выполняет, не соответствует доле общественного продукта,
которую он получает. Если христианство первых веков было релитией
нищих масс, получавших свое пропитание в виде милостыни от
государства и богатых классов, то впоследствии оно стало релитией буржуазии,
которая также потребляет и присваивает себе продукты, произведенные
чужими руками. К ней вполне применимы слова христа из нагорной
проповеди, где формулировано «Отче наш» — молитва, с которой
каждый верующий христианин должен ежедневно обращаться к богу о
ниспослании ему «хлеба насущного», вместо того, чтобы самому добывать
его трудом. Христос прибавляет: «Взгляните на птиц небесных: они не
сеют, ни жнут, и отец ваш небесный питает их... Итак, не заботьтесь
и не говорите: что нам есть? или что нам пить? или во что одеться? ..
Отец ваш небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом». Отец
небесный буржуазии — это класс наемных рабочих, ремесленники и
представители умственного труда: они являются для нее тем «ботом», который
удовлетворяет все ее потребности.
Но буржуазия не может отказаться от /своего положения в
обществе, положения паразита: это значило бы подписать себе смертный
приговор. Вот почему она предоставляет естествоиспытателям полную
свободу науки, дабы они, не стесняемые ни догматами религии, ни другими
соображениями, могли отдаться свободному и основательному изучению
природы, играющему столь важную роль в добывании богатств; но,
/с другой стороны, она запрещает своим экономистам, философам,
историкам, социологам и политикам беспристрастное изучение социальной
жизни и заставляет их изыскивать научные основания для оправдания
их феноменального богатства.
Заботясь только о своей карьере, о своих настоящих и будущих
доходах, буржуазные ученые усердно стараются отыскать какие-либо
другие источники общественного богатства и не хотят остановиться на
истинном источнике его, наемном труде. И они делают то удивительное
•открытие, что фабриканты, купцы, землевладельцы, финансисты,
акционеры и рантье своим трудом, бережливостью, аккуратностью, честностью,
знаниями, образованностью и многими другими добродетелями гораздо
'больше участвуют в производстве общественных благ чем наемный
рабочий своим физическим и умственным трудом, и что, поэтому,
буржуазия вполне права, забирая себе львиную долю общественного продукта
к оставляя рабочему участь вьючного животного.
О радостной улыбкой прислушивается буржуа к этим речам и
гимнам, воспеваемым во славу его. Он начинает даже вторить этим
бесстыдным утверждениям и объявляет их вечными, непреложными истинами.
Но, как бы низок ни был уровень его интеллигентности, он не может
усыпить свою совесть подобными утверждениями. Ведь, стоит ему
оглянуться кругом, чтобы увидеть, что те, которые работают всю жизнь,
оказываются нередко беднее Иова, если только они не владеют капиталом,
что если даже они обладают всеми поименованными выше добродетелями
и знаниями, и интеллигентностью, и честностью, и умеренностью и т. д.,
то и в таком случае они едва в состоянии добывать себе пропитание,
а о чем-нибудь другом, кроме хлеба насущного, им нечего и думать.
И смущенный своей совестью буржуа останавливается на мысли, что
если обладающие умом и знаниями экономисты, философы и политики,
при всех своих стараниях и добросовестных исследованиях, не могли
найти более основательного объяснения происхождению богатства
буржуазии, то, должно быть, здесь в самом деле кроется какая-то волшеб-
Г. Гурев 29
449
ная сила, какие-то таинственные причины, которых никто не в состоянии
разгадать. Таким образом, у буржуа складывается понятие о чем-то
«непостижимом» и властвующем над всем социальным строем.
В целях сохранения господствующего общественного строя буржуа
заинтересован в том, чтобы рабочие думали, что ето богатство является
наградой за его многочисленные добродетели; но на самом деле он так же
мало верит в то, что его благосостояние является вознаграждением за
его душевные качества, как в то, что трюфеля, которые он жрет с
такой же жадностью, как свинья, суть не что иное, как культивированные
грибки. Единственное, что его интересует, это вопрос о том, как бы
остаться обладателем тех богатств, которыми он владеет теперь, и он
охотно успокаивается на мысли, что если бы он и потерял свое богатство,
то это случилось бы без всякой вины с его стороны. Он не может
совершенно отделаться от неприятной перспективы вдруг обеднеть, ибо он
видит в окружающей среде достаточно примеров тому, как одни внезапно
разоряются, а другие, после долгих неудач, богатеют. Но причины этих
превратностей ему непонятны точно так же, как и тем, кого они
коснулись непосредственно. Оловом, буржуа видит только, что богатства
постоянно притекают и исчезают, но причины этих явлений остаются для
него в области «непостижимого», и он приписывает их только случаю.
воле судьбы.
Нельзя возлагать никаких надежд на то, что буржуа хоть когда-
нибудь поймет механизм распределения общественного богатства. Ибо,
по мере развития машинного способа производства, собственность
обезличивается и облекается в безличную коллективную форму акционерных
обществ, их капиталы, вложенные в предприятия, окончательно теряются
в водовороте биржи. Там акции переходят из рук в руки, так что ни
покупатель, ни продавец никогда не видят представляемой акциями
собственности и даже не знают в точности где, в каком именно месте она
находится. Акции обмениваются, продаются, при чем одни проигрывают,
другие выигрывают, все это так похоже на игру, что биржевые операции
так'И называются «биржевой игрой». Все современное экономическое
развитие обнаруживает тенденцию превратить капиталистическое
общество в огромный международный игорный дом, где буржуа выигрывают
и проигрывают колоссальные капиталы в зависимости от совершенно
неизвестных им событий, не поддающихся ни учету, ни предсказанию.
а зависящих как-будто исключительно от «случая», от «удачи».
«Непостижимое» царит в буржуазном обществе, как в игорных домах.
Игра, выступающая на бирже в своем обнаженном виде, всегда
являлась необходимым спутником промышленности и торговли: всякое
предприятие связано с огромным риском, который заранее учесть не
возможно; часто предприятия, прекрасно задуманные, верно
рассчитанные и выполненные как следует, кончаются неудачно, тогда как
легкомысленные аферы, затеянные на-авось, могут увенчаться успехом. Эти
успехи и неудачи, вызванные неожиданными, неизвестными и с виду
совершенно случайными причинами, отражаются на душевном
настроении буржуа, у него вырабатывается психика игрока. Биржевая игра
способствует укреплению такой психики. Капиталист, вложивший свое
состояние в биржевые ценности, колебания которых вызываются
какими-то таинственными причинами, превращается в профессионального
игрока. Игроки же, которые могут приписывать свою удачу или неудачу
одному только случаю, в высшей степени суеверны. В игорных домах
существуют известные магические способы заклинания судьбы: один.
450
шепчет про себя молитву Антонию Надуанокому или какому-нибудь
другому небесному духу, другой рискует ставкой только тогда, когда
выиграла карта определенной масти, третий — держит в левой руке
заячью лапку и т. д.
«Непостижимое» социальной жизни обступает 'буржуа со всех
сторон точно так же, как таинственные явления природы окутывали дикаря;
все или почти все явления современной культурной жизни поддерживают
и развивают в нем суеверную и мистическую привычку приписывать все
случайности, точь-в-точь как это делает игрок. Так, например, кредит,
без которого немыслимо ни одно промышленное или торговое
предприятие, является со стороны кредитора одним из актов ©еры в случай;
в «неизвестное», так как у него нет никаких положительных гарантий
в том, что его должник в одно прекрасное утро не окажется банкротом.
Ведь, платежеспособность его зависит от тысячи случайностей, которых
никто не может предвидеть и предугадать.
Ряд других ежедневно наблюдаемых им экономических явлений
должен укреплять в душе буржуа веру в таинственное существо,
лишенное всякой материальной субстанции. Для примера укажем на ту
социальную силу, которая воплощается в кредитных бумагах и банковых
ценностях. Она так мало соответствует не имеющей никакой ценности
субстанции своего носителя, что располагает интеллигентных буржуа
к мысли о существовании силы без материи. Этот жалкий клочек
бумаги, ради которого никто не стал бы нагибаться, если б он не обладал
своей магической силой, доставляет своему владельцу самые реальные
и наиболее ценимые блага культурной жизни: хлеб, мясо, жилище,
роскошные вина, экипажи, женщин, здоровье, известность, почет и т. п.
умственные и чувственные удовольствия и наслаждения. Сам бог не
мог бы дать больше того. Вся жизнь буржуа соткана из
мистицизма.
Торговые и промышленные кризисы вызывают у испуганного
буржуа представление о грозной, непреодолимой и непредвидимой силе,
приносящей людям, подобно телу христианского бога, неисчислимые и
страшные бедствия. Буржуа видно, что господствуя над миром, эта)
сила производит в нем тысячи разрушений; она уничтожает все
продукты и все средства производства. Целое столетие буржуазные
экономисты наблюдают периодическое появление кризисов*и не могут до сих
пор найти более или менее правдоподобного объяснения этого явления.
Не будучи в состоянии найти причины кризисов на земле, английские
экономисты напали на мысль искать их на солнце: его пятна, говорили
они, вызывают засуху на индийских полях, уничтожают урожаи и
ослабляют покупательные силы туземного населения. Европейские товары
лишаются рынка, отсюда и кризисы. Эти почтенные представители науки
возвращают нас к средневековой астрологии, объяснявшей все
общественные явления положением звезд, и к суеверию дикарей,
приписывающих созвездиям, кометам и лунным затмениям влияние на судьбы
людей.
Экономический мир полон неразрешимых загадок и тайн для
буржуа, и даже его ученые вполне примирились с невозможностью
разгадать их. Капиталист, которому удалось при помощи своих ученых
подчинить себе силы природы, останавливается в испуге перед
непонятными ему действиями экономических сил. Он начинает верить, что
причины экономических явлений ему недоступны, как непостижим для
него его бог, он считает, поэтому, самым благоразумным покорно сносить
29*
451
достигающие его несчастия и с благодарностью принимать посылаемое
ему счастье. Подобно Иову он говорит: «Господь дал, господь и взял, да
будет благословенно имя его». Экономические силы рисуются его
воображению в образе добрых и злых гениев.
Таинственные силы социального мира, окружающие буржуа со всех
сторон и имеющие влияние на его промышленность, торговлю,
состояние, здоровье и жизнь, эти силы наводят такой же страх на буржуа, как
непонятные явления природы на дикарей, а фантазии которых эти явления
давали богатую пищу. Антропологи приписывают суеверия
первобытного человека, его веру в духов, волшебников, в бессмертие души,
в бога — его невежеству, незнакомству с окружающей его природой;
то же самое можно сказать о цивилизованном буржуа: его
спиритуалистические идеи и его вера в бога коренятся в его невежестве, в его
незнании законов социальной жизни. Неуверенность в прочности своего
благосостояния предрасполагает буржуа, как и дикаря, к вере в высшее
существо, которое, по своему капризу, может повернуть колесо счастья
в ту или другую сторону, как это утверждают Феогнис и Ветхий Завет.
И чтобы расположить это верховное существо в свою пользу и дать
социальным явлениям благоприятное для себя направление, буржуа
предается грубейшему суеверию, вступает в сношения с духами, ставит
свечки пред образами святых и молится триединому богу христиан или
единому богу философов.
На дикаря, живущего на лоне природы, таинственные явления
производят сильные впечатления; на культурного буржуа, напротив,
природа действует слабо. Он знает только одну природу, природу
доставляющую ему удовольствие: декоративные ландшафты, красивые
бульвары с подстриженными кустами, аллеи, посыпанные песком и т. д.
Громадные услуги, которые оказывала ему наука в деле его обогащения
и которых он ожидает от нее еще в большем размере в будущем, внушили
ему слепую веру в ее силу и могущество; он не сомневается в том, что
она когда-нибудь разгадает все тайны природы, что она даже найдет
средство продлить жизнь до бесконечности, как это обещает
профессор Мечников. Совершенно иначе обстоит дело с загадками социального
мира, единственными явлениями, действительно нарушающими покой
буржуа: познать эти явления ему представляется невозможным. Именно
эти таинственные необъяснимые явления социального мира
способствовали тому, что в его бедной фантазией голове зародилась идея о боге,
идея, до которой ему не было необходимости додуматься самому: он
нашел ее уже существующей. Но если бы идея о боге не существовала
уже до него, буржуа был бы вынужден изобресть ее сам: до того
необходим стал ему бог для объяснения непонятных и неразрешимых социальных
проблем.
К тому же в голове буржуа, обитого с толку фактом неожиданного
появления и столь же неожиданного исчезновения огромных богатств
и таинственной игрой экономических сил, возникает еще большая
путаница, благодаря грубому противоречию, господствующему между
ходячими понятиями «справедливости», «честности», «нравственности» и
всем поведением его и его собратьев. Эти хорошие слова у него всегда
на языке, но он до крайности остерегается соразмерять с ними свои
поступки, несмотря на то, что от всех, с кем; ему приходится иметь дело,
он требует, чтобы они строго держались этих принципов. Купец,
например, нередко отпускает своим покупателям негодный или
фальсифицированный товар, но денег он требует по совести. Фабрикант обсчи-
452
тывает рабочего и вместе с тем требует, чтобы тот работал добросовестно,,
не аерял даром ни одной минуты из того рабочего дня, за который он
получает плату. Патриот — все буржуа патриоты — покоряет какой-
нибудь более слабый народ и овладевает его страной, а его коммерческим
догматом все же остается целость его отечества, что, по словам Сесиля
Родса, является «общественным требованием». Справедливость,
нравственность и другие более или менее верные принципы существуют для
буржуа лишь до тех пор, пока они служат его интересам.
Нравственность представляется ему двуликой богиней; одно лицо кроткое,
улыбающееся обращено к нему, другое грозно и повелительно смотрит на
весь остальной мир.
Казалось бы, вечное и всеобщее противоречие, господствующее
между поступками буржуа и его понятиями о праве и морали, должно
было поколебать в нем веру в праведного бога; на самом же деле это
противоречие, напротив того, еще укрепляет в нем его веру и
подготовляет почву для другой идеи, для идеи о бессмертии души. Эта идея
давно оставлена человечеством, она исчезла еще у народов, стоявших на
патриархальной ступени развития, в уме же буржуа она живет,
питается и поддерживается его привычкой ожидать платы за то, что он
делает, и за то, чего не делает. Только в надежде получить прибыль,
извлечь какую-либо выгоду он нанимает рабочих, производит товары,
покупает, продает, дает взаймы деньги, оказывает какие-нибудь услуги.
Его постоянное ожидание барыша приводит к тому, что он, вообще,
ничего не делает из любви к делу, а во воем, что он предпринимает, он
руководится прибылью, наградой. Когда он бывает щедр, отзывчив,
мягок, даже когда он ограничивается лишь тем, что воздерживается от
суровости, он не довольствуется внутренним удовлетворением, — ему
необходимо представление о плате, о награде, иначе он не будет спокоен,
он будет считать себя жертвой простодушия и мягкосердечия. Если он
не получает награды здесь, на земле, что случается чаще всего, то он
надеется получить ее в будущей жизни. Он не только ждет награды за
совершенные им добрые дела и за воздержание от дурных поступков, но
надеется получить удовлетворение за все свои неудачи, бедствия,
разочарования и даже за свое огорчение. Его «я» так жадно, что одной земли
ему недостаточно. Он хочет овладеть также и небом. Цивилизация
приносит с собою столько вопиющих несправедливостей, и те из них,
жертвой которых он сам становится, принимают в его глазах
колоссальные размеры. Он может примириться с этим несправедливостями;
лишь в надежде, что настанет некогда день, и все переменится к лучшему.
Этот день, конечно, может настать только в будущей жизни. Он уве*
рен, что только на небе ему воздастся за вое неудачи. Загробная жизнь
для него — вне сомнений, ибо. его праведный бог, украшенный всеми
буржуазными добродетелями, не может, конечно, иначе поступить,
как честно уплатить ему за все, что он претерпел. На небесном
коммерческом суде буде^г уплачено по воем счетам, не погашенным
здесь на земле.
Присвоение богатств, созданных трудом наемных рабочих, буржуа
не называет несправедливостью; этот способ воровства в его глазах —
сама справедливость, и он не может себе представить, чтобы бог или
кто-нибудь другой могли держаться на этот счет иного мнения. Несмотря
на это, он, однако, не считает нарушением вечного принципа
справедливости предоставления рабочим права требовать улучшения своего поло*
жения. Но так как он знает, что такое улучшение может быть осу-
453
ществлено лишь на счет его прибылей, то он находит для себя более
благоразумным ограничиваться обещанием рабочим всяких благ в
будущей жизни, где они будут блаженствовать так же, как и истые буржуа.
Обещание блаженства в будущей жизни является для буржуа самым
дешевым способом отделаться от требования рабочих. Таким образом,
вера в загробную жизнь, которой он любит себя утешать для
удовлетворения своего внутреннего «я», превращается для него вместе с тем
в орудие эксплоатации.
В тот момент, когда все земные счета сведены, и начинается
небесное возмездие, бот, естественно, превращается в судью, который одним
приуготовляет рай, других посылает в ад, как вслед за Платоном
уверяет нас христианство. Небесный судья делает свои постановления,
согласно буржуазному своду законов, дополненному некоторыми статьями,
не включенными в него за невозможностью квалифицировать и
доказывать преступление.
Современного буржуа интересует в загробной жизни, главным
образом, вопрос о награждении добродетели; вопрос же о наказании злых,
т.-е. тех людей, которые причинили ему какую-нибудь обиду, занимает
его мало. Христианский ад его не тревожит, во-первых, потому, что он
чувствует себя всегда правым, и уверен что никогда не заслуживал и не
заслужит наказания, во-вторых, потому что и сам он долго не питает
злобы против тех из своих собратьев, которые причинили ему обиду. Он
готов в любую минуту возобновить с ними деловые или приятельские
сношения, если он только найдет в .этом какую-нибудь выгоду для себя.
Он даже питает некоторое уважение к тем, которые его обманули, ибо,
в конце концов, они сделали только то, что он сам проделывал или не-
дрочь был бы проделать над ними. На арене буржуазной общественной
жизни можно ежедневно встречать людей, опозоривших себя своими
мошенническими проделками. Казалось бы, их репутация погибла
навсегда, но через некоторое время они вновь выплывают на поверхность
ж вновь начинают занимать почетное положение. Всех интересует лишь
вопрос: есть ли у них деньги? Окажутся деньги, они смело могут
приступить к своим делам и продолжать свою почтенную деятельность по
части добывания прибыли.
Ад мог быть придуман только такими людьми и для таких людей,
которые одержимы чувством ненависти и мести. Бог первых христиан
был неумолимым судьей, карающим своих врагов и не верующих в него
вечными и ужаснейшими муками. Апостол Павел говорит о «явлении
господа Иисуса с неба с ангелами силы его, в пламенеющем огне
совершающего отомщепие не познавшим бога и не покоряющимся благовество-
ванию его, которые подвергнутся наказанию, вечной погибели от лица
господа и от славы могущества его». (Второе послание к Фессалоникий-
цам I; 6—9). Тогда еще христиане верили одинаково горячо, как в то,
что благочестивые будут награждены, так и в то, что неверующих,
которые являются врагами бога, ждет страшнейшее наказание. Теперь же,
когда буржуа не питает ни к кому ни ненависти, ни злобы, ибо эти
чувства никакой прибыли не приносят, ему не нужно больше ни ада,
ни бога мести для наказания своих обидчиков.
Питаемая буржуа вера в бога и бессмертие души составляет одно
из идеологических явлений его социальной среды. Он освободится от
нее лишь тогда, когда будет лишен возможности присваивать себе
продукты чужого труда и когда из паразита превратится в продуктивного
работника.
454
Вели необъяснимые силы естественной среды вызвали и укрепили
в уме дикаря идею о творце и зиждителе вселенной, то таинственные
явления социального мира заставили буржуа признать бога, который
распределяет богатства, отнятые у работников физического и умственного
труда: посылает людям и счастье и несчастье, награждает за добрые
дела, исправляет зло и искупляет грехи. Вера в бота зародилась в душе
дикаря и буржуа незаметна для них самих, подобно тому как
незаметно увлекает их земля при своем вращении.
(«Происхождение религии»).
Ф. Энгельс
ВЕРУЮЩИЕ БУРЖУАЗНЫЕ УЧЕНЫЕ
С богом никто не обращается хуже, чем верующие в него
естествоиспытатели. Материалисты попросту объясняют положение вещей, не
вдаваясь в подобные разговоры: они поступают так лишь тогда, когда
назойливые и верующие люди желают навязать им бога, и в этом случае
они отвечают коротко в стиле Лапласа: «Государь, я не нуждаюсь в этой
гипотезе», или грубее, на манер голландских купцов, которые спрова-
яшвали немецких комми-вояжеров, навязывающих им свои негодные
фабрикаты: Jk kan die zaken niet gebruiken, и этим дело было кончено.
Но чего только не пришлось вытерпеть богу от своих защитников! Вот —
неведомое, но «невежество не есть довод» (Спиноза).
В истории современного естествознания защитники бота
обращаются с ним так, как обращдлись с Фридрихом Вильгельмом III в эпоху
иенской кампании его генералы и чиновники. Одна армейская часть
за другой сдает оружие, одна крепость за другой капитулирует перед
натиском науки, пока, наконец, В'ся бесконечная область природы не
оказывается завоеванной знанием и в ней не остается больше места для
гворца. Ньютон оставил ему еще «первый толчок», но запретил всякое
дальнейшее вмешательство в солнечную систему. Отец Секки, воздавая
ему всяческие канонические почести, тем не менее весьма категорически:
выпроваживает его из солнечной системы, разрешая ему творческий акт
только в отношнии к первобытной туманности. И так во всех остальных
областях. В биологии его последний великий Дон-Кихот Агасоис
приписывает ему даже положительную бессмыслицу: бог должен творить
не только реальных животных, но и абстрактных животных, рыбу, как
таковую! А под конец Тиндаль запрещает ему окончательно доступ
в природу и отсылает его в мир чувствований, оставляя его только^
потому, что должен же быть кто-нибудь, кто знает обо всех этих вещах
(природе) больше, чем Тиндаль. Что за дистанция от старого бога —
творца неба и земли, хранителя всех вещей, без которого не может упасть
ни один волос с головы!
Эмоциональная потребность Тиндаля не доказывает ровно ничего.
Шевалье де-Грие имел также эмоциональную потребность любить Манон
Леско1) и обладать ею, хотя она неоднократно продавала себя и его;
1) Герои романа Прево «Манон Леско», рисующего трагическую историю
молодого дворянина, влюбившегося в авантюристку. В данном примере Энгельс
указывает, что эмоциальная (основанная на чувстве) потребность так же мало
является оправданием любви к богу, как оправдание любви к проститутке. —
Прим. ред.
455
oih в угоду ей стал шулером и сутенером, и если бы Тиндаль захотел
начать упрекать его за это, то он ответил бы своей «эмоциональное
потребностью!».
(«Диалектика природы», заметки о «диалектике и естествознании»),
* *
*
Существует старый, ставший уже народной пословицей", афоризм
диалектики, что крайности сходятся. Мы поэтому вряд ли ошибемся,
если станем искать самые крайние степени фантазерства, легковерия
и суеверия не у той естественно-научной школы, которая, подобно
немецкой натурфилософии, пыталась втиснуть объективный мир в рамки
своего субъективного мышления, а наоборот, у противоположного ей
направления, которое, чванясь одним лишь опытом, относится с
суеверным презрением к мышлению и дошло, действительно, до геркулесовых
столбов в своей теоретической беззаботности...
Эта школа господствует в Англии. Уже ее родоначальник,
прославленный Фрэнсис Бэкон, требует внимания к своему новому эмптг-
рико-дедуктивному методу, чтобы достигнуть, при его помощи, прежде
всего следующих вещей: продления жизни, омоложения в известной
степени, изменения телосложения и черт лица, превращение одних тел
в другие, произведения новых видов, победы над воздухом и вызывания
грозы; он жалуется на то, что эти исследования были заброшены, и дает
в своей естественной истории форменные рецепты для изготовления
золота и совершения разных чудес. Точно так же и Исаак Ньютон
занимался на старости лет комментариями к Откровению Иоанна. Поэтому
нет ничего удивительного, что за последние годы английский эмпиризм
в лице некоторых своих, — далеко не худших, — представителей стал
как-будто окончательно жертвой вывезенного из Америки духовидения'
и духостучания.
Из естествоиспытателей сюда относится прежде всего высоко
заслуженный зоолог и ботаник, Альфред Рэосель Уоллес, тот самый, который
выдвинул одновременно с Дарвином теорию изменения видов путем
естественного подбора. В своей книжке: «О чудесах и современном
спиритуализме, 3 875», он рассказывает, что первые его опыты в этой отрасли
естествоведения относятся к 1844 г., когда он присутствовал на лекциях
господина Спенсера Холля о месмеризме, под влиянием которых он
проделал на своих учениках аналогичные эксперименты. «Я
необычайно заинтересовался этой темой и стал заниматься ею со всей
страстью». Он не только вызывал магнетический сон с явлениями
окоченения членов и местной потери чувствительности, но подтвердил также
правильность галлевской карты черепа, ибо, прикасаясь к любому гал-
левскому органу, вызывал у замагнетизированного субъекта
соответственную деятельность, выражавшуюся в оживленной и надлежащейг
жестикуляции. Он далее установил, что, когда он прикасался к своему
пациенту, то последний переживал все ощущения оператора; он доводил
его до состояния опьянения стаканом воды, говоря ему, что это коньяк.
Одного из учеников он мог даже в состоянии бодрствования доводить до
такого одурения, что тот забывал свое собственное имя, — результат,
которого, впрочем, иные учителя добиваются и без месмеризма.
И так далее.
И вот оказывается, что я тоже зимою 1843—1844 г. видел в
Манчестере этого господина Спенсера Холля. Это- был обыкновенный шарла-
4бе
тан, объезжавший, с благословения нескольких попов, провинцию ж
проделывавший над одной молодой девицей магнетическо-френологи-
ческие опыты, имевшие целью доказать бытие божие, бессмертие души
и ложность проповедывавшегося тогда оуэнистами во всех больших
городах материализма. Эту даму он приводил в состояние
магнетического усыпления, и она после того, как оператор касался любого
галлевского органа на ее черепе, начинала делать театральные*
жесты и принимать торжественные позы, свидетельствовавшие о
деятельности указанного органа: так, например, когда он касался органа
любви к детям, она начинала укачивать и целовать воображаемое
ребенка, и д.
Этот бравый Холль обогатил тогда галлевскую карту черепа новым
островом Баватарией: на самой макушке он открыл орган обожания, при
прикосновении к которому его гипнотическая девица становилась на
колени, разводила руками, изображая перед изумленной филистерской
аудиторией погруженного в молитвенный экстаз ангела. Это было
высшим, заключительным пунктом представления. Бытие божие было-
доказано.
Я и один мой знакомый заинтересовались, подобно господину
Уоллесу, этими явлениями и попытались воспроизвести их. Субъектом
мы выбрали одного бойкого двенадцатилетнего мальчика. При
неподвижно устремленном на него взгляде или поглаживании было нетрудно
вызвать у него гипнотическое состояние. Но так как мы были не столь
легковерны, как господин Уоллес, и отнеслись к вопросу с меньшим
энтузиазмом, чем он, то мы пришли к совершенно иным результатам.
Если отвлечься от легко получавшегося окоченения мускулов и
потери чувствительности, то мы могли только констатировать состояние
полной пассивности воли в соединении с -своеобразной
сверхвозбудимостью ощущений. Если пациента вызывали каким-нибудь внешним
возбуждением из состоянии летаргии, то он обнаруживал гораздо
большую живость, чем в состоянии бодрствования. Мы не нашли и следа
таинственной связи с оператором. Любой другой человек мог точно!
так же действоать на нашего загипнотизированного субъекта. Для
нас было сущим пустяком заставить действоать галлевские черепные-
органы; мы добились гораздо большего: мы не только могли заменить их
друг другом и располагать по всему телу, но сфабриковали массу
других органов, — пения, свистения, дудения, танцевания, боксирования,
шитья, сапожничанья, курения и т. д., располагая их там, где мы хотели.
Если пациент Уоллеса становился пьян от воды то мы открыли в
большом пальце йоги орган опьянения, и достаточно было только коснуться
его, чтобы получить чудеснейшую комедию опьянения.
Но само собою разумеется, что ни один орган не обнаруживал и
следа какого-нибудь действия, если пациенту не давали понять, что от-
него ожидают; благодаря практике, наш мальчик, вскоре
усовершенствовался до того, что ему достаточно было малейшего намека.
Порожденные таким образом органы сохраняли свою силу раз навсегда и для
всех позднейших усыплений, если их не изменяли тем же самым путем.
Оловом, у нашего пациента была двойная память: одна" для состояния
бодрствования, а другая, совершенно обособленная, для гипнотического
состояния. Что касается пассивности воли, абсолютного подчинения ее
воле третьего лица, то в ней нет ничего чудесного, если только помнить,
что все состояние началось с подчинения воли пациента воле оператора
и не могло получиться без этого подчинения. Самый могущественный
467"
чародей-магнетизер становится бессильным, лишь только его пациент
начинает смеяться ему в лицо.
Итак, в то время как мы, при нашем легкомысленном скептицизме,
нашли в основе магнетическо-френологичеокото шарлатантства ряд
явлений, отличающихся от явлений в состоянии бодрствования только по
степени, и обошлись без всяких мистических истолкований этих
факторов, страстность довела господина Уоллеса до всякого рода оамообманов,
благодаря которым он подтвердил во всех подробностях галлевскую карту
черепа н нашел таинственную связь между оператором и пациентом.
В прямодушном до наивности рассказе господина Уоллеса видно
повсюду, что ему важно было не столько последовать фактическую
подпочву спиритического шарлатантства, сколько во что бы то ни стало
воспроизвести все явления. Достаточно подобного умонастроения, чтобы
исследователь в короткое время превратился путем простого и легкого
самообмана в адепта этих явлений. Господин Уоллес закончил верой
в матнетичеоко-френолотические чудеса и очутился уже одной ногой
в мире духов.
Другой ногой он ступил в него в 1865 году. Опыты со
столоверчением ввели его, когда он вернулся из двенадцатилетнего путешествия
под тропиками, в общество различных «медиумов». Вышеназванная
книжка свидетельствует о том, как быстры были здесь его успехи, с
каким совершенством он владел воем относящимся сюда материалом. В ней
не только принимаются за чистую монету вое мнимые чудеса Гомов,
братьев Дэвенпортов и других, выстушющих более или менее за деньги
и чаще всего оказывающихся обманщиками, «медиумов», но приводится
и длинный ряд якобы достоверных историй о духах из прошлого времени.
Греческие пифии, средневековые ведьмы были «медиумами», а Ямвлих
уже очень точно описывает поразительнейшие явления современного
спиритизма.
Приведем лишь пример того, как легко господин Уоллес
относится к вопросу о нааучном установлении и подтверждении этих чудес.
Нужна, несомненно, значительная доза предвзятости, чтобы поверить,
будто духи позволяют фотографировать себя, и мы вправе требовать
самого бесспорного подтверждения подобных фотографий духов, прежде
чем их примем за подлинные. И вот господин Уоллес рассказывает, что
в марте 1872 г. госпожа Гуппи, урожденная Никольс, тлавный медиум,
снялась вместе с мужем и маленьким мальчиком у господина Гудсона
в Нотингхилле и что на двух различных снимках за ней видна была
в благословляющей позе высокая женская фигура, с чертами лица
несколько восточного типа, художественно задрапированная в белый газ.
«Здесь из двух вещей одна является абсолютно достоверной. Либо перед
нами здесь живое, разумное, но невидимое существо1, либо же господин
и госпожа Гуппи, фотограф и какая-нибудь четвертая особа поверили
в бесстыдный обман и с тех пор всегда поддерживали его. Но я отлично
знаю господина и госпожу Гуппи и абсолютно убежден, что они так же
мало способны на подобного рода обман, как какой-нибудь серьезный
искатель истины в области естествознания».
Итак, либо обман, либо фотографии духов. Отлично. А в случае
Обмана, либо дух был уже заранее на пластинках, либо в нем должны
были участвовать четыре лица, или пусть три, если мы отведем, в
качестве невменяемого или обманутого человека старика Гуппи, умершего
в январе 1875 г. в возрасте 84 лет (достаточно было его отослать за
ширмы). Нам йечеего доказывать, что фотографу было бы не особенно
458
трудно раздобыть «модель» для духа. Но фотограф Гудсон был вакоре
публично уличен в профессиональной фабрикации фотографий духо&,
в связи с чем господин Уоллес мягко замечает: «Одно во всяком случае
ясно: если и происходит обман, то он тотчас же раскрывается самими
спиритами».
Таким образом, на фотографа не приходится особенно полагаться.
Остается госпожа Гуппи, а за нее говорит «абсолютное убеждение»
приятеля Уоллеса — и больше ничего. Больше ничего. Нет, не так.
В пользу абсолютной правдивости госпожи Гуппи говорит ее
утверждение, что однажды вечером, в начале июня 1871 г., она была перенесена
в бессознательном состоянии по воздуху из своей квартиры в Гайбюли
Гирр-парк, что составляет три английских мили по прямой линии, и
была положена в доме № 60 на стол во время одного спиритического
сеанса. Двери комнаты были заперты, и, хотя госпожа Гуппи одна из
дороднейших дам Лондона — а это кое-что значит, — ню все же ее
внезапное вторжение не произвело ни малейшего отверстия ни в дверях, ни
в потолке (рассказано в лондонском «Эхо», 8 июня 1871 г.). А кто после
этого откажется верить в подлинность фотографии духов, тому ничем не
поможешь.
Вторым видным адептом спиритизма среди английских
естествоиспытателей является господин Уильям Крукс, тот самый, который
открыл химический элемент таллий и радиометр. Господин Крукс начал
исследовать около 1871 г. спиритические явления, применяя при этом
целый ряд физических и механических аппаратов, пружинных весов,
электрический батарей и т. д. Мы увидим сейчас, взял ли он с собой
главный аппарат, скептически-критическую голову, и сохранил ли его до
конца в пригодном для работы состоянии. Во всяком случае, через
короткий срок господин Крукс оказался также в плену у спиритизма,
как и господин Уоллес. «Вот уже несколько лет, — рассказывает он, —
как одна молодая дама, мадемуазель Флоренс Кук, обнаруживает
замечательные медиумические качества: в последнее время она дошла до
того, что производит целую женскую фигуру, которая, по ее словам,
происходит из мира духов и появляется босиком, в белом волнистом
одеянии, между тем как медиум, одетый в темное и связанный, лежит
в глубоком сне в занавешенном помещении или соседней комнате». Дух
этот, называющий себя Кэтти и удивительно похожий на мадемуазель
Кук, был однажды вечером сховачен вдруг за талию господином Фольк-
маном — теперешним супругом госпожи Гуппи,—• который держал его,
желая убедиться, не является ли он вторым изданием мадемуазель Кук;
дух вел себя при этом, как вполне материальная девица, и мужественно
защищался; зрители вмешались, га;з был потушен, а когда, после
некоторой возни, восстановилось спокойствие и комната была освещена, то
дух исчез, а мадемуазель Кук оказалась лежащей связанной и без
сознания в своем утлу.
Однако, говорят, будто господин Фолькман и поныне утверждает,
что он схватил именно мадемуазель Кук, и никого другого. Чтобы
установить это научным образом, один знаменитый электрик, тоеподнн
Варли, провел ток электрической батареи через медиума, мадемуазель
Кук, так что последняя не могла бы представить духа, не прервавши
тока. Но дух все же появился. Таким образом, это было отличное от
Kyic существо. Господин Крукс взял на себя задачу установить это.
Первым шагом его при этом было снискать себе доверие дамы-духа.
Доверие это,—повествует <т сам в журн. «Спиритуалист» от 5 июня
459
1874 г., — «возросло постепенно до того, что она отказывалась от сеанса,
если я не распоряжался всем устройством его. Она высказывала
пожелание, чтобы я находился поблизости от нее, поблизости к кабинету;
я нашел, что после того, как установилось это доверие и она убедилась,
что я не нарушу ни одного данного ей обеш,ания, все явления
значительно усилились, и я получил добровольно доказательства, которых
нельзя было бы получить иным путем. Она часто советовалась со мной
по поводу присутствующих на сеансах лиц и отводимых им мест, ибо за
последнее время она стала очень нервной под влиянием некоторых
безрассудных намеков, что наряду с прочими методами исследования
более научного характера следовало бы применять и насилие».
Барышня-дух вознаградила в полной мере это стольже любезное,
сколь и научное доверие. Она даже появилась — и это теперь не должно
нас удивлять — в доме господина Крукса, играла с его детьми,
рассказывала им «анекдоты из своих приключений в Индии», угощала
господина Крукса повестями о «некоторых из горьких испытаний своей
прошлой жизни», позволила ему брать себя на руки, чтобы он мог
убедиться в ее осязательной материальности, позволила определить
у нее число биений пульса и дыханий в минуту и, под конец,
даже согласилась сняться на фотографии рядом с господином
Круисом.
«Эта фигура, — говорит господин Уоллес, — которую можно было
дидеть, осязать, фотографировать и с которой можно было беседовагьч
абсолютно исчезла из маленькой комнаты, из которой не было другого
выхода, как через примыкающую, переполненную зрителями, комнату»,
в чем не следует видеть особенного искусства, если допустить, что
зрители были достаточно вежливы и обнаружили по отношению к Круксу,
в доме которого все это происходило, столько же доверия, сколько он
обнаружил по отношению к духу.
К сожалению, это «вполне достоверные явления» кажутся не вполне
вероятными и самим господам спиритам. Мы видели выше, как
настроенный весьма спиритически господин Фолькман позволил себе весьма
материальный жест. Далее, одно духовное лицо, член комитета
«Британской национальной ассоциации спиритов», тоже присутствовал
на сеансе мадемуазель Кук и без труда установил, что комната через
дверь которой приходил и уходил дух; сообщалась с внешним миром при
посредстве второй двери. Поведение присутствовавшего также при этом
господина Крутоса «нанесло последний, смертельный удар моей вере, что
в этих явлениях может быть нечто серьезное».
В довершение всего в Америке выяснилось, как можно
материализовать «Кэти». Одна супружеская чета, по имени Хольмс, давала в
Филадельфии представления, на которых тоже появлялась некая «Кэти»,
получившая от верующих изрядное количество даров. Ни один скептик
не успокоился до тех пор, пока не напал на след названной Кэти,
которая, впрочем, однажды уже устроила забастовку из-за недостаточной
платы; он нашел ее в одной частной гостинице и убедился, что это —
молодая дама бесспорно из плоти и крови, имевшая при себе все
полученные ею в качестве духа подарки.
Но и материк должен был быть осчастливлен своим научным
духовидцем. Какая-то петербургская научная корпорация — не знаю точно,
Университет ли или даже Академия—делегировала господ статского
советника Аксакова и химика Бутлерова для изучения спиритических
явлений, из чего, впрочем, не получилось, кажется, ничего путного.
460
Но зато, — если только верить громогласным заявлениям господ
спиритов,— и в Германии появился свой герой спиритизма в лице
господина профессора Цельнера из Лейпцига.
Как известно, господин Цельнер работает уже много лет в области
«четвертого измерения пространства», при чем он открыл, что многие
вещи, невозможные в пространстве трех измерений, происходят сами
собой в пространств четырых измерений. Так, например, в этом
последнем пространстве можно вывернуть наизнанку, как перчатку,
замкнутый металлический шар, не проделав в нем дыры; точно так же можно
завязать узел на не имеющей с обеих сторон концов или закрепленный
на обоих концах нитке; можно также переплести два раздельных
замкнутых кольца, не раскрывая ни одного из них, и тому
подобные вещи.
Теперь, если верить последним торжествующим сообщениям из мира
духов, господин профессор Цельнер обратился к одному или нескольким
медиумам, чтобы с их помощью установить местопребывание четвертого
измерения. Успех при этом был поразительный. Спинка стула, на ко-
:горый он опирался верхней частью руки, в то время как кисть руки
не покидала стола, оказалась после сеанса переплетенной с рукой; на
припечатанной с обоих концов к столу нити появились четыре узла, и т. д.
Словом, духи играючи произвели все эти чудеса четвертого измерения.
Замечу: я передаю то, что мне рассказали, я не настаиваю на
верности бюллетеней духов, и если в них имеются какие-нибудь ошибки,
то господин Цельнер должен быть благодарен мне за повод исправить их.
Но если они верно передают результаты опытов господина Цельнера, то
они безусловно знаменуют начало новой эры в науке о духах и в
математике. Духи доказывают существование четвертого измерения, как
четвертое измерение свидетельствует о существовании духов. А раз это
установлено, то перед наукой открывается совершенно новое, необозримое
поле деятельности.
Вся математика и естествознание прошлого были только
преддверием к математике четвертого и высших измерений и к механике, физике,
химии, физиологии пребывающих в этих высших измерениях духов.
Ведь установил же научным образом господин Крукс, как велика
потеря веса столов и другой мебели при переходе ее — мы можем теперь
утверждать — в четвертое измерение, а господин Уоллес считает
доказанным, что огонь там не вредит человеческому телу. А как интересна
физиология тел этих духов! Они дышат, у них есть пульс, значит, они
обладают лежими, сердцем и кровеносной системой, и, следовательно,
они вероятно гак же одарены в отношении других телесных органов
как и мы, обыкновенные смертные. Ведь для дыхания необходимы
углеводы, сгорающие в легких, а они могут доставляться только извне.
Итак, мы имеем уже желудок, кишечник, со всем относящимся сюда,
а раз это констатировано, то и остальное получается без всяких
трудностей. Но существование этих органов предполагает возможность
заболевания их, а в таком случае господину Вирхову, может быть, еще
придется написать целлюлярную патологию мира 'духов. % А так как
большинство этих духов — удивительно прекрасные дамы, которые
ничем, ну, решительно ничем не отличаются от земных барышень, разве
только своей сверхземной красотой, то долго ли придется ждать, пока
они появятся «мужам, которые чувствуют любовь»; а если здесь имеются
также констатированные господином Круксом по биению пульса
«женские сердца», то перед естественным подбором открывается тоже четвер-
461
тое измерение, и нечего опасаться, чтобы его смешали с этой гадкой
социал-демократией.
Но довольно! Мы здесь наглядно убедились, каков самый
надежный путь от естествознания к мистицизму. Это не натурфилософская
теория со всеми ее уродливостями и чрезмерностями, а самый плоский,
презирающий всякую теорию, относящийся недоверчиво ко всякому
мышлению эмпиризм. Существование духов доказывается не на
основании априорной необходимости, а на основании результатов опытных
наблюдений господ Уоллеса, Крукса и компании. Так как мы верим
спектрально-аналитическим наблюдениям Крукса, приведшим к
открытию металла таллия, или же богатым зоологическим открытиям Уоллеса
в Малайском архипелаге, то от нас требуют такого же самого доверия
к спиритическим исследованиям и открытиям обоих этих ученых.
А когда мы заявляем, что здесь есть, все-таки, маленькая разница,
именно, что открытия первого рода мы можем проверить, второго же —
дет, то духовидцы отвечают нам, что это неверно, и что они готовы дать
нам возможность проверить и спиритические явления.
Презрение к диалектике не^остается безнаказанным. Сколько бы
ни выказывать пренебрежения ко всякому теоретическому мышлению,
все же без последнего невозможно связать между собою любых двух
естественных фактов или же уразуметь существующую между ними
связь. При этом важно только одно: мыслят ли правильно или нет, —
и пренебрежение к теории является, само собою разумеется, самым
надежным способом мыслить натуралистически и, значит, неверно. Но
неверное мышление,' доведенное до конца, приводит неизбежно по давно
известному диалектическому закону к противоречию со своим исходным
пунктом. И, таким образом, эмпирическое презрение к диалектике
наказывается тем, что некоторые из самых трезвых* эмпириков становятся
жертвой самого дикого из всех суеверий — современного спиритизма.
То же самое относится и к математике. Обыкновенные математики
метафизического пошиба не перестают горделиво указывать на
абсолютную непогрешимость результатов своей науки. Но к этим результатам
относятся и мнимые величины, получающие, благодаря этому,
известную реальность. Достаточно, однако, привыкнуть приписывать — 1
или же четвертому измерению реальность вне нашей головы, чтобы
решиться сделать еще шаг дальше и признать спиритический мир
медиумов. Здесь повторяется то, что Кеттелер сказал о Деллингере:
«Этот человек защищал в своей жизни столько бессмыслиц, что ему
нетрудно признать и учение о непогрешимости!».
Действительно,'чистый эмпиризм* неспособен опровергнуть
спиритов. Во-первых, «высшие» явления всегда показываются лишь, когда
соответственный «исследователь» достаточно обработан, чтобы видеть
только то, что он должен или хочет видеть, как это описывает с такой
неподражаемой наивностью сам Крукс. Во-вторых, спирит нисколько не
смущается тем, что сотни мнимых фактов оказываются надувательством,
а десятки мнимых медиумов обычными шарлатанами. Пока не
разъяснено до конца любое отдельное мнимое чудо, у спиритов еще
достаточно почвы под ногами, как это высказывает определенно Уоллес
в связи с историей о поддельных фотографиях духов. Существование
подделок только доказывает подлинность фотографий.
И вот, эмпиризм оказывается вынужденным противопоставить
назойливости духовидцев не эмпирические эксперименты, а теоретические
соображения, и сказать вместе с Геке ли: «Единственная хорошая вещь^
462
которую, по моему мнению, можно было бы вывести из доказательства
истины спиритизма, это новый довод против самоубийства.
Действительно, лучше жить и быть чистильщиком улиц, чем в качестве
покойника, болтать чепуху устами какого-нибудь медиума, получающего
гинею за сеанс!».
(«Диалектика природы», ст. «Естествознание в мире духов»).
В. И. Ленин
«МИРОВЫЕ ЗАГАДКИ» Э. ГЕККЕЛЯ
Буря, которую вызвали во всех цивилизованных странах «Мировые
загадки» Э. Геккеля, замечательно реально обнаружила партийность
философии в современном обществе, с одной стороны, и настоящее
общественное значение борьбы материализма с идеализмом и агностицизмом,
с другой. Сотни тысяч экземпляров &ниги, переведенной тотчас же на
все языки, 'выходившей в специально дешевых изданиях, показывали
воочию, что книга эта «пошла в народ», что имеются массы читателей,
дсоторых сразу привлек на свою сторону Э. Геккель. Популярная ши-
жечгса сделалась орудием классовой борьбы. Профессора философии и
теологии всех стран света принялись на тысячи ладов разносить и
уничтожать Геккеля. Знаменитый английский физик Лодж пустился
защищать бога от Геккеля. Русский физик Хвольсон отправился в
Германию, чтобы издать подлую черносотенную брошюрку против Геккеля
и заверить почтеннейших господ филистеров в том, что не все
естествознание стоит теперь на точке зрения «наивного реализма». Нет числа
тем теологам, которые ополчились на Геккеля. Нет такой бешеной брани,
которой бы ни осыпали его казенные профессора философии. Весело
смотреть, как у этих высохших на мертвой схоластике мумий — может
быть первый раз в жизни — загораются глаза и розовеют щеки от тех
пощечин, которые надавал им Эрнст Геккель. Жрецы чистой науки и
самой отвлеченной, казалось бы, теории прямо стонут от бешенства, и во
всем этом реве философских зубров (идеалиста Паульсена, имманента
Ремкэ, кантианца Адикеса и прочих, их же имена ты, господи, веси!)
явственно слышен один основной мотив против метафизики»,
естествознания, против «догматизма», против «преувеличения ценности и
значения естествознания», против «естественно исторического
материализма». Он — материалист, ату его, ату материалиста, он обманывает
публику, не называя себя прямо материалистом — вот что в особенности
доводит почтеннейших господ профессоров до неистовства.
И особенно характерно во ©сей этой трагикомедииг) то
обстоятельство, что Геккель сам отрекается от материализма, отказывается от
клички. Мало того: он не только не отвергает всякой религии, а
выдумывает свою религию (тоже что-то вроде «атеистической веры»
Булгакова или «религиозного атеизма» Луначарского), отстаивая
принципиально союз религии с наукой! В чем же дело? Из какого «рокового
недоразумения» загорелся сыр-бор?
*) Трагический элемент внесен был покушением на жизнь Геккеля весной 1908 г.
После ряда анонимных писем, приветствовавших Геккеля терминами вроде: «собака,
безбожник, обезьяна» и т. п. некий истинно-немецкий человек запустил в кабинет
Геккеля в йене камень весьма внушительных раемеров,— Автор.
468
Дело в том, что философская наивность Э. Геккеля, отсутствие
у него определенных партийных целей, его желание считаться с
господствующим филистерским предрассудком против материализма, его
личные примирительные тенденции и предложения относительно религии —
все это тем более выпукло выставило обгций дух его книжки,
неискоренимость естественно-исторического материализма, непримиримость его* со
всей казенной профессорской философией и теологией. Лично Геккель
не желает рвать с филистерами, но то, что он излагает с таким непо-
долебимо-наивным убеждением, абсолютно не мирится ни с какими
оттенками господствующего философского идеализма. Все эти оттенки —
от самых грубых реакционных теорий какого-нибудь Гартмана вплоть
до мнящего себя новейшим, прогрессивным и передовым позитивистом
Петцольда или эмпириокрицистом Маха— все сходятся на том, что
естественно-исторический материализм есть «метафизика», что
признание объективной реальности за теориями и выводами естествознания
означает самый «наивный реализм» и т. п. И вот в это-то «заветное»
учение всей профессорской философии и теологии бьет в лицо
каждая страница Геккеля. Естествоиспытатель, безусловно выражающий
самые прочные, хотя и неоформленные, мнения, настроения и тенденции
лодавляющего большинства естествоиспытателей конца XIX и начала
XX века, показал сразу, легко и просто то, что пыталась скрыть от
публики и от самой себя профессорская философия, — именно, что есть
устой, который становится шире и крепче и о который разбиваются все
усилия и потуги тысячи и одной школы философского идеализма, пози-
витизма, реализма, эмпириокритизма и прочего конфузионизма. Этот
устой — естественно-исторический материализм. Убеждение «наивных
реалистов» (т.-е. всего человечества) в том, что наши ощущения суть
образы объективно реального внешнего мира, есть неизменно растущее
и крепнущее убеждение массы естествоиспытателей.
«Война» против Геккеля ясно доказала, что беспартийность в
философии есть только презренно-прикрытое лакейство пред идеализмом и
фидеизмом х).
*) Геккель честно, с наибольшей откровенностью «разработал секрет»
буржуазной науки, ясно показав, что все современное естествознание насковзь проникнуто
материалистически-атеистическим духом, что этот дух неустраним в науке 6
природе (несмотря на то, что он на словах отрекается от материализма и называет
свое учение монизмом, пантеизмом и пр.). Отвечая своим «критикам», Геккель
в «послесловии» к своим «Мировым загадкам» писал: «В сущности, мои противники
оказывают мне слишком много чести, выдавая учение монизма за мою личную
доктрину. На самом деле, монизм является наглядным и цельным миросозерцанием
новейшего естествознания на исходе XIX столетия. То, что я формулировал здесь,
является, в этой или очень сходной форме, глубочайшим убеждением великого
множества мыслящих естествоиспытателей нашего времени, не забудьте: мыслящих!..
За пятьдесят лет мне пришлось беседовать с тысячами образованных мужчин и
женщин самых различных профессий. Я убедился при этом, что монизм уже теперь
имеет гораздо больше сторонников, чем это принято думать... В особенности
процветает монизм среди мыслящих естествоиспытателей и друзей природы:
несомненно, больше половины, быть может, больше двух третей их стоят на почве
моих «Мировых загадок». Мои противники оспаривают это и ссылаются на
незначительное количество видных естествоведов, публично примкнувших к моему
«Исповеданию». Но это объясняется очень просто: во-первых, многие мыслящие
естествоиспытатели, вообще, не испытывают никакого желания сообщать другим
свои соображения и убеждения — против этого нельзя ничего возразить; во-вторых,
многие выдающиеся ученые — в том числе некоторые мои ближайшие друзья —
того мнения, что эти высочайшие результаты науки надо сохранять про себя, не
давать их «народу», так как он может злоупотреблять ими. Я не могу согласиться
с этим мнением... Наконец, в-третьих (самое важное!), большинство монистов
464
Сравните отзыв о Геккеле Франца Меринга, человека не тяыко
желающего, но и умеющего быть марксистом. Как только вышли
«Мировые загадки», еще в конце 1899 г., Меринг сразу указал на то, что оочи-
нецие Геккеля и своими слабыми, и своими сильными сторонами
замечательно ценно для того, чтобы помочь прояснению несколько
запутавшихся в нашей партии взглядов на то, чем является для нее. с одной
стороны, исторический материализм, с другой стороны, исторический
материализм. Недостаток Геккеля тот, что он понятия не имеет об
историческом материализме, договариваясь до целого ряда вопиющих
нелепостей и насчет политики, и насчет «монистической
религии» и т. д., и т. д. «Геккель — материалист и монист, но не исторический,
а естественно-исторический материалист».
Пусть прочтет книгу Геккеля тот, кто хочет руками осязать эту
неспособность (естественно-исторического материализма сладить с
общественными вопросами), кто хочет проникнуться сознанием того,
насколько неообходимо расширить естественно-исторический материализм
до исторического материализма, чтобы сделать его действительно
непреодолимым оружием в великой освободительной борьбе человечества.
«Но не только ради этого надо читать книгу Геккеля. Его
необычайно слабая сторона связана неразрывно с его необычайно сильной
стороной — с наглядным, ярким, составляющим несравненно
большую— и по объему, и по важности — часть книги, изложением
развития естественных наук в XIX веке, или, другими словами: изложением
победного шествия естественно-исторического материализма». (Меринг).
(«Материализм и эмпириокритицизм»).
М. Гюйо
АРИСТОКРАТЫ МЫСЛИ О РЕЛИГИИ
В наше время — подчеркиваем это усиленно — религиозное
чувство нашло себе защитников среди тех, которые подобно Ренану, Тэну и
многим другим, больше всех уверены в «нелепости» самых догм. Когда
они становятся на точку зрения чисто интеллектуальную, т.-е. в общем
на свою собственную точку зрения, то все содержание религии, все
догмы, все обряды кажутся им поразительными заблуждениями, какой-то
обширной системой бессознательного взаимного обмана. Когда же они,
наоборот, становятся на точку зрения сенсибальную, т.-е. на точку
зрения народной массы и ее рядового представителя, то все в их глазах
вынуждено из-за внешних соображений отказываться от своего настоящего
миросозерцания и изменять ему в практической жизни. В целом ряде гсударств все
усиливается реакция в области духовной культуры: министерства просвещения
находятся во власти ортодоксального духовенства; учителя, пытающиеся ввести
в школу теорию развития, немилосердно лишаются мест. Кто станет требовать от
этих бедных и честных людей, чтобы они открыто выступили со своим
миросозерцанием и пожертвовали ему всей своей карьерой? Какая польза была бы от этой
жертвы? Можно возмущаться этим моральным гнетом, тяготеющим на многих тысячах
наших культуртрегеров и оказывающим крайне деморализирующее влияние, но
изменить это пока не в наших силах!» — Да, эти слова нужно иметь в виду,
когда говорят о религиозности современных ученых: последние, по целому ряду
•«внешних соображений», не считают возможным высказать евои истинные взгляды. —
.Прим. ред.
Г. Гурев 3*
465
находит себе оправдание. В силу к&кото-то странного светового эффекта
нелепость религиозных верований увеличивает в их глазах самую не-
обходимостъ этих верований. Чем шире кажется им пропасть,
отделяющая их от заурядных умов, тем больше они боятся видеть эту
пропасть заполняющеюся. Если они сами не нуждаются ни в каких
религиозных верованиях, то это только еще больше убеждает их в том,
что другие такие верования абсолютно необходимы. Они рассуждают
при этом следующим образом. Народ обладает массой неразумных,
иррациональных верований, без которых мы • сами великолепно
обходимся; очевидно, значит, что эта верования необходимы для правильного
функционирования социальной жизни; что если они смогли так глубоко
укорениться, то они отвечают какой-то вполне реальной потребности.
В глубине этого убеждения о всемогуществе религиозного чувства
часто таится некоторое презрение к тем, которые являются игрушкой
в руках этого чувства: это-де рабы мысли, их нужно так и оставить при-
ковадными к своей тачке, запертыми в ничтожных границах
отмежеванного им горизонта. Аристократия науки и мысли — самая ревнивая из
всех аристократий, и некоторые из наших современных ученых
непременно хотят носить на своих мозгах свои аристократические гербы. По
отношению к народу они держатся политики несколько презрительной
милости и снисхождения, т.-е. оставить его в блаженном спокойствии
при его верованиях, погруженным в атмосферу предрассудков, где он
только и может жить. Часто, впрочем, они начинают говорить о том.
что завидуют его участи, что они тоже желали^бы обладать, его вечным
блаженным неведением, но желание это, само собой разумеется',
совершенно платоническое. Так иная птица, поднявшись высоко над землей,
быть может, и испытывает иногда некоторое смутное чувство
сожаления, когда она с своей высоты увидит маленького червячка, спокойно
расположившегося в росистой траве, совершенно не думая о небе; однако,
она крепко держится за свою привилегию улетать в небо, и наши
горделивые ученые поступают таким же образом. На их взгляд, некоторые
высшие умы могут без всякого ущерба освобождать себя от религии, но
народные массы не могут этого сделать. За избранниками необходимо
оставить право свободной критики и свободной мысли; аристократия
духа должна оградить себя в своих владениях, принадлежащих только ей.
Подобно тому как народным массам древнего Рима нужны были хлеб
и цирк, так современным народам нужны храмы, и порою это —
единственное средство заставить их забыть о том, что у них нет достаточного
количества хлеба1). Чтобы существовать, человечество должно
поклоняться богу, и не какому-нибудь отвлеченному богу, а вполне
известному, определенному, заповеди которого начертаны в имеющейся всегда
под рукой карманной библии. Священная книга,— вот к чему
все сводится, вот с чем все связано. Тут можно вместе со Спенсером
сказать, что наша эпоха еще сохранила «предрассудок книги» и склонна
в буквах алфавита видеть какие-то специальные магические свойства.
Когда ребенок спрашивает, откуда взялся его новорожденный брат, ему
говорят, что его нашли в саду, в кустах, ■— и ребенок удовлетворен этим
ответом. Так именно, говорят нам, нужно поступать и по отношению
к тому большому ребенку, который называется народом. Если его зани-
*•) Характерно то, что все это пишет буржуазный мыслитель (в восьмидесятых
годах прошл. стол.), ке имевший, поводимому, никакого понятия о марксизм*;. —
Прим. ред.
466
мает и волнует вопрос о происхождении мира, раскройте перед ним
библию. Он узнает оттуда, что мир создав вполне определенным,
известным нам существом, которое тщательно приладило друг к другу все
бесчисленные составные части мира; он узнает даже, сколько для этого
требовалось времени, — ровно семь дней. И ничего больше ему знать не
нужно. Перед его умственными взорами возводят плотную и высокую
стену и запрещают ему перескочить через нее даже взглядом: то стена
религиозных верований. Его мозг тщательно, герметически заперт; с
течением времни швы крепко срастаются, и теперь остается только начать
ту же операцию со следующим поколением.
(«Безверие будущего»).
Л. И. Аксельрод
ФИЛОСОФЫ И МАТЕРИАЛИЗМ
Идеалист никогда не был последователен: всемогущая, властная
действительность, шутя и издеваясь над ним, заставляла его отступать
от занятых им позиций. И если великие идеалисты, творцы классической
философии, были часто вынуждены изменять идеализму и становиться
на конкретную, материалистическую почву, впадая, таким образом, в
непоследовательность и совершая самый страшный грех с точки зрения
философского мышления, то идеалисты нашего времени являются
прямо-таки жалкими игрушками объективного хода вещей,
выступившего в нашу эпоху с такой силой и такой яростью, кадс
никогда.
Современные идеалисты чувствуют свою беспочвенность.
Чрезвычайно типичным примером этой беспочвенности могут служить хотя бы
рассуждения Вильяма Джемса. Этот серьезный ученый, задавшись целью
защищать идеализм во что бы то ни стало, вынужден в заключение своей
защиты сказать следующее: «Одним словом, мы агитируем против
материализма так же точно, как стали бы агитировать, если бы
представился к этому случай, против второй французской империи, или против,
римской церкви, или вообще против чего-нибудь такого, к чему мы
чувствуем достаточно сильное отвращение, чтобы решиться на энергичное
противодействие, хотя это отвращение и слишком смутно, чтобы мы могли
выразить его в ясных доказательствах».
Не правда ли, интересное признание! К материализму чувствуется
«достаточное отвращение» для того, чтобы вести против него энергичную
агитацию, не имея в своем распоряжении ясных доказательств! Что же
заставляет серьезного, мыслящего ученого агитировать против
материализма без ясных доказательств? Вот что: восставая против
социалистического идеала со всей силой своего красноречия, Джемс пишет: «Мы
смотрим на эти утопии, погруженные в восхитительную смесь
предрассудков и реальностей, стремлений и разочарований, надежд и страхов,
страданий и восторгов, смесь, характеризующую наше теперешнее
состояние, и утопии эти порождают в наших сердцах лишь taedium vitae
(отвращение к жизни). Наши сумрачные натуры, рожденные для борьбы, для
морального charoscuro в рембрандтовском духе, для чередования лучей
с мраком, находят такие светозарные картины пошлыми и
невыразительными, не понимают их и не наслаждаются ими. Вели таковы (курсив
яол
467
аворта) плоды одержанной победы, говорим мы, если целые поколения
людей страдали и жертвовали жизнью, если пророки исловедывали свою
веру, а мученики с наслаждением умирали на костре, если все эти
святые слезы проливались лишь для того, чтобы народилось новое
поколение таких несказанных пошлых существ... для тото, чтобы оно могло
in saecula saeculorum (вовеки веков) наслаждаться своей беспечной и
безобидной жизнью, в таком случае лучше потерять сражение, чем
выиграть его, или, по крайне мере, лучше опустить занавес перед
последним актом драмы для того, чтобы дело, начатое так серьезно, не
закончилось столь плоско и неинтересно». В этой красноречивой тираде автор
ведет агитацию против социализма и, как 'видит читатель, также без
ясных доказательств, ибо нельзя же считать доказательством
потребность «наших сумрачных натур» в контрастах, в рембрандтовском духе,
выражаясь проще, потребность буржуазных натур в народных
страданиях для контраста к необузданным наслаждениям привилегированных
классов, или, еще проще, потребность капиталистов в прибавочной
стоимости. Но это между прочим. В приведенных цитатах нас занимают не
поверхностные рассуждения талантливого ученого о социализме, а та
связь, которая, несомненно, существует между его бездоказательной
агитацией против материализма и глубоким отвращением к социализму.
Джемс грешит против науки и логического мышления, пользуясь
материализмом для своих научных исследований и агитируя в то же время
против него, не имея ясных доказательств. Тем не менее, тут есть своя
последовательность и своя логика. Решительно отвергая социализм.
Джемс считает своим долгом энергично агитировать против
материализма, ибо noblesse oblige. Подобно Джемсу, все буржуазные мыслители
ведут агитацию против материализма и, разумеется, тоже без всяких
доказательств. И позорнее всего то, что этим агитаторам усердно помогают
люди из социалистического лагеря. Этим людям следовало бы поучиться
у буржуазных мыслителей, отдающих себе ясный отчет в философских
концепциях и вытекающих из этих концепций практических задачах.
(«Против идеализма»).
46S
ОТДЕЛ ВОСЬМОЙ
РЕЛИГИЯ В СВЕТЕ МАРКСИЗМА
Г. В. Плеханов
ЧТО ТАКОЕ РЕЛИГИЯ?
Существует бесчисленное множество определений религии. Что
касается меня, то я предпочитаю определение, данное д'Альвиелла, который
понимает под религией форму, в коей человек осуществляет свои
отношения к сверхчеловеческим и таинственным силам, от которых он счгн
тает себя зависимым. Все признают, что религия имела большое влияние
на эволюцию рода человеческого. И не подлежит сомнению, что это
влияние было очень велико. Но чтобы понять характер этого влияния, нужна
отдать себе отчет о происхождении религии или отношении человека
к сверхъестественным силам.
Каким же образом возникает у человека вера в существование
сверхъестественных сил? Это очень просто. Вера в эти силы обязана своим
возникновением невежеству г).
Первобытный человек приписывал свойства личности, аналогичной
человеческой личности, известным существам, известным предметам
внешнего мира. Он с трудом допускает движение и действие без воли вг
без сознания. В его глазах все становится одушевленным в природе. Затем
сперва бесконечное поле этой воображаемой жизни сокращается в его
глазах все более и более, по мере того, как он научается лучше наблюдать
и больше рассуждать. Но пока это поле мнимой жизни продолжает для
него существовать, оно населено божествами.
Заметьте, что на первых порах этот анимизм не оказывает никакого
влияния на поведение человека в обществе. Представление о богах, как и
представление о продолжении жизни после смерти, сперва лишено
всякого морального характера, и потусторонняя жизнь обычно есть лишь
продолжение земной жизни; край мертвецов очень похож на населенную
живыми землю, ов нем господствуют те же привычки, те же обычаи, тот же
образ жизни. Потусторонний мир есть лишь двойник земного мира,
населенного людьми; как злым, так и добрым приготовлена там одна и та же
участь.
*) Совершенно неправильное выражение, нигде у Плеханова более не
встречающееся. Само невежество, подобно религии, нуждается в объяснении, которое (как
мы знаем из работ Плеханова и других марксистов) может быть найдено .шяшь
изучением быти>: общественного человека. — Прим. ред.
469>
Но мало-по-малу выступают различия. Жизнь в одном мире приятна
для одних, печальна и тяжка для других. То потусторонняя жизнь
выпадает на долю одних лишь великих мира сего и богатых; души простых
людей погибают вместе с их телами или пожираются богами. То для душ
умерших приготовляются два различных обиталища: в одном пребывают
великие мира сего, воины сильные, — там царствует обилие и"радость;
в другом рабы и бедняки влачат жалкое существование, или, по крайней
мере, лишены тех удовольствий которыми сколько угодно наслаждаются
те, кого даже за гробом сопровождает счастье. Здесь влияние морали
отсутствует. Но мало-по-малу оно появляется. В Полинезии женатые
воины, убившие неприятеля на поле сражения, возносятся на небо, где
обитают также боги и где они имеют в изобилии самую изысканную пищу,
развлечения и игры. Самые почетные места предоставляются убиенным
на войне. Когда они чувствуют, что наступает старость, они окунаются
в живительные воды озера Вайола и выходят из него, сияя блеском
молодости и красоты.
Оловом, возмездие за преступления сперва представляется частным
делом как в загробном, так и в темном мире. Но мало-по-малу власть
богов разрастается, как разрастается и власть земных начальников, и
функции их размножаются; не довольствуясь наказаниями за преступления,
непосредственно их затрагивающие, боги наказывают и тех, чьими
жертвами являются их преданные служители, их верные поклонники. А затем
боги, по крайней мере те из них, что обитают в краю мертвецов,
выступают уже как судьи, распространяющие свою судебную власть на все дея-
дия людей, и наказывают их даже за такие грехи, которые их вовсе не
задевают. И тогда укореняется представление о боге-судье и, по
естественной ассоциации, представление о боге, распределяющем награды, о боге,
который в загробной жизни вознаграждает за несправедливости,
перенесенные в земной жизни, о боге — справедливом и благом, который в
загробной жизни осушает на глазах своих верных последователей слезы,
пролитые в земной жизни под тяжестью незаслуженных несчастий.
Слагающееся постепенно у людей представление о божестве
преобразуется, следовательно, параллельно социальному преобразованию. Лишь
в обществах сравнительно сильно развитых религия становится фактором
общественной жизни. Но этот фактор создается, строится социальной
эволюцией. И если нам удастся связать эту последнюю с экономическим
развитием, мы будем иметь право сказать, что религиозная эволюция
определяется эволюцией экономической.
(«Материалистическое понимание истории»).
П. Лафарг
МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКОЕ ПОНИМАНИЕ РЕЛИГИИ
По уверению священников, религия пришла к нам из заоблачных
дространств и ниспослана на человечество, как проказа или какая-либо
дная постыдная болезнь. С точки зрения вольтерианцев и многих
атеистов, представляющихся близорукими, она была изобретена негодяями
столь ловкими, что они внушили веру в свои росказни всем, в том числе
даже старушкам, которые без этого никогда бы не задумывались о
нечистых силах. С точки зрения некоторых материалистов. — и они обладают
470
частицей истины, — религия имеет своим происхождением впечатления,
вызываемые обожествленными силами внешнего мира. Но самая главная
трудность возникает тогда, когда нужно объяснить, почему бакалейщик
или биржевик являются такими же монотеистами, как араб из пустыни,
и почему Огюст Конт, знавший, что молния Калхаоова или Моисеева бога
*есть только электричество, и капиталист-промышленник, заставляющий
силы природы создавать ему богатства, так же религиозны, как дикарь
из Огненной земли?
Для Маркса и Энгельса всякая религия есть не что инею, как
отражение в уме людей внешних сил, направляющих их повседневную жизнь.
И, отражаясь, земные силы облекаются в форму сил сверхъестественных.
На первых порах истории сперва отражаются силы природы, и, по мере
того, как развиваются различные народы, персонифицируются в самых
разнообразных и сложных формах, но вскоре, наряду с силами природы,
оказывают мощное действие и силы социальные и стоят перед людьми,
столь же странные и непонятные, и господствуют над ними с той же
кажущейся естественной необходимостью, как и силы природы.
Маркс в своем анализе форм стоимости первый показал, каким
образом абстрактный человеческий труд, т.-е. человеческий труд,
поскольку он представляет собою только органическое изнашивание
человеческой машины, становится конститутивным элементом стоимости
товаров, обмен которых возможен только благодаря этому свойству; каким
образом различные товары находят выражение их стоимости в деньгах,
обладание которыми, подобно обладанию божественной благодатью, дает
зее блага земли и неба, но для обладания которыми в капиталистическом
мире есть много званных, но мало избранных. Именно отражение этого
социального акта в человеческой голове и превращается затем
субъективно в единого бога.
Таким образом, возникновение всех религиозных идей следует искать
з мозговом отражении естественных и социальных сил. И до тех пор, пока
индивидуальные капиталисты не будут гарантированы «от потерь
сомнительных долгов и банкротства, а индивидуальные рабочие — от
безработицы и нищеты», — пока человек будет оставаться игрушкой социальных
сил, — до тех пор придется повторять, как истину, старую поговорку
о том, что человек предполагает, а бог располагает, т.-е. деятельность
человека направляют внешние силы капиталистического производства.
Но когда в обществе, основанном на равенстве, человек будет
господствовать над силами производства и обмена, когда вместо того, чтобы
бессознательно суетиться, он будет их сознательно направлять, «тогда только
исчезнет последняя внешняя сила, которая ныне отражается в религии,
д религиозное отражение исчезнет по той простой причине, что нечего
будет больше отражать». (Энгельс).
То же самое произойдет с нашими теперешними идеями
справедливости, рождающимися на почве юридических отношений, которые сами
возникают из отношений капиталистического обмена, из прудоновского
двустороннего договора, заключаемого между собой двумя
обменивающимися,— договора, в котором рабочий, продающий свой труд-товар,
доегда оказывается обобранным. Когда в обществе, основанном на
равенстве, исчезнет класс капиталистов, исчезнет и капиталистический способ
эбмена. а вместе с ним и все порожденные им идеи справедливости.
(«Сочинения», т. I).
471
Н. И. Бухарин
ЗАВИСИМОСТЬ РЕЛИГИИ ОТ СОЦИАЛЬНОГО БЫТИЯ
История религии показывает, что с изменением производственных и
социально-политических отношений изменялась и форма религии: если
общество состоит из нескольких слабо связанных друг с другом племен,
у каждого из которых есть свои старшины и князьки, тогда религия имеет
форму многобожия; а когда, например, происходит процесс объединения,
создается централизованная монархия, тогда параллельно то же
происходит в небесах, где воцаряется единый бог, такой же свирепый, как и
землевладельческий царь; когда на-лицо какая-нибудь рабовладельческая
торговая республика (вроде Афин в У веке), тогда и боги устраиваются почти
на республиканский манер, хотя из многих богов выделяется богиня
победоносного города Афин—Паллада. И точно так же, как во всяком
порядочном государстве существует целая иерархия начальников, точно так
же и на небесах святые, ангелы, боги и пр. располагаются в зависимости
от своей знатности, наделяются различными чинами и орденами. Более
того, между ботами, как и между начальниками на земле, растет
разделение труда: один бог по военной части (у римлян — Марс, у
«православных христиан» — Георгий Победоносец или архистратиг, т.-е.
фельдмаршал Михаил), другой — по торговой (Меркурий), третий — по части
земледелия и т. д. Дело здесь доходит до курьезов: напр., в России среди
святых есть даже «спецы» по коннозаводству (Фрол и Лавр). И повсюду,
где есть отношения господства — подчинения, там есть и религия,
отражающая именно эти отношения. Следует заметить еще, что подобно
тому, как в действительной жизни происходят войны, порабощения,
восстания, так, по религиозным учениям, происходит дело и в небесных
сферах; вождей, которые на земле пытаются разрушить государство,
а в небе — свергнуть императорскую власть всемогущего бога и
опрокинуть весь небесный «существующий строй».
* *
*
Религия — это такая надстройка, которая состоит не только из
приведенных в систему и прилаженных друг к другу идей; она имеет и
соответствующую организацию людей (церковную организацию, выражаясь
нашим обычным языком) и систему особых приемов и правил почитания
божества (напр., наши «службы»: литургия, вечерня, всенощная со
всякими обрядами, заклинаниями, произнесениями магических формул
и различными непонятными колдовскими действиями), так называемый
культ.
Здесь мы точно так же видим, что и эта сторона религиозной
надстройки, связана с ходом общественной жизни, неотделима от него.
«... Церковь в каждую эпоху воспроизводила в своей среде современное
ей общество в его экономических и культурных чертах. Церковный строй
был магнатским и феодально-крепостной в эпоху сеньората: в нем
выдвинулись демократические элементы и формы денежного хозяйства в эпоху
городского развития и т. д.» (Виппер). Первоначальной формой
духовенства, кж профессии, были колдуны, лекари, ясновидцы, пророки,
вещатели и т. д., которые, по Э. Мейеру, и были первыми ив известных нам
сословий. Вообще говоря, руководящий слой жрецов является частью гос-
472
подствушщего класса, который делит внутри себя труд: одаи являются
военными предводителями, другие — жрецами, третьи — законодателями
я пр. Немудрено поэтому, что церковь «воспроизводит и повторяет
современное ей общество».
Господствующая церковь представляет из себя и хозяйственную
организацию, экономические отношения которой составляют часть
экономических отношений всего общества. Так, например, из свода законов
Вавилонского царя Хаммураби мы знаем, что храм бога Шамаша «вел
денежные операции, давая большей частью по 20%; при займах зерном
дроцент возвышался до 33% и даже изредка до 40%» (Тураев). Римско-
католическая церковь была в средние века настоящим феодальным
королевством, с огромным хозяйством, финансовыми поборами и налогами
(так называемая «десятина») и административным аппаратом. Всякий
.знает также, какую роль в России играли монастыри и «лавры»,
накопившие несметные богатства (характерно то, что грандиозный дом
московской биржи принадлежал Троицко-Сергиевской лавре). Выполняя свою
роль успокоительницы масс, удерживающей их от посягательства
на существующий строй, церковь сама являлась и является
частью эксплоататорской машины, сложенной по тем же
архитектурным правилам, что и эксплоататорское общество, взятое
целиком.
Мы знаем, однако, что общество, за исключением самой ранней поры
своего развития, всегда было обществом классовым. Его производственные
отношения были отношениями господства., с одной стороны, и подчинения,
с другой. Его политический строй отражал и выражал эти отношения.
Его религия оправдывала их и примиряла с ними массы (иногда
необычайно ловко: ср., например, индусское учение о воздаянии, о котором мы
говорили выше). Однако это примирение не всегда удавалось. Тогда
пробив официальной религии угнетенные классы, которые сами не могли
выпрыгнуть из религиозной оболочки, вырабатывали свою религию:
против ортодоксального, правоверного церковного учения вырастали так
называемые «ереси», против официальной церкви — своя, народная
религиозная община, иногда принимавшая формы конспиративной
нелегальной организации, со своими священниками или пророками, которые были
в то же время и политическими вождями.
Сравнительно недавно такая точка зрения на религию и церковь
казалась совершенно недопустимой, простым кощунством. Однако теперь
даже буржуазные исследователи, когда они специально занимаются
предметом, волей-неволей приходят к ней. Вот к какому общему результату
относительно азиатских религий приводит нас лучший новейший
исследователь религии Макс Вебер: «В общем мы замечаем то же одновременное
существование культов, школ, сект, орденов всякого рода, которое было-
свойственно и западному античному миру. При этом эти конкурирующие-
дапрашления никоим'образом не были равноценными в глазах тогдашнего
большинства господствующих слоев, а также часто и политических
властей. Имелись правоверные и еретические, а между правоверными —
более и менее классические школы, ордена и секты. Прежде всего — и это
для нас особенно важно — они отличались друг от друга и социально.
С одной стороны..., смотря по слоям, в которых они гнездились, с
другой ..., смотря по виду «обетования», которое они возвещали различным
слоям своих приверженцев. Первое явление имело место отчасти в такой
форме, что господствующему социальному слою, резко отрицающему вся-
дзую религиозную веру в «искупление», противостояли в массах просто-
47&
народные сотериологи 1): тип этого — дал Китай; отчасти же в такой
форме, что различные социальные слои имели различные виды сотерйоло-
таи». Примером классовой борьбы, шедшей под религиозными знаменами,
шжет служить так называемая реформация, первый натиск ряда классов
да феодальное господство и на его выражение в Западной Европе, «римско-
католическую церковь». Здесь владетельные князья шли вместе с палой,
мелкие помещики и буржуазия — с умеренными, во главе которых в
Германии был Лютер, основатель протестантской церкви; ремесленники,
полупролетарии и отчасти крестьяне шли за крайними сектами (вроде
«перекрещенцев», анабаптистов, часто с коммунистическими устремлениями).
Религиозная борьба, лозунги, блоки приверженцев того и другого
направления в точности соответствовали борьбе, стремлениям и блокам
общественно-политического характера.
Таким образом, мы видим, что и религиозная надстройка
определяется материальными условиями существования людей. Ее стержнем
является отражение социально-политического и экономического строя
общества. Вокруг этого стержня подбираются другие идеи, но их ось —
это общественная структура, перенесенная в невидимый мир и
рассматриваемая, кроме того, с точки зрения того или другого класса. «Дух» и
здесь оказывается функцией общественной «материи».
Против этого понимания можно было бы выставить одно возражение,
которое касалось бы как раз капиталистического строя. Ведь, в
капиталистическом обществе религия продолжает существовать, и при том
3 Европе всюду она имеет вид единобожия. Между тем, капиталистическое
общество имеет формы буржуазного господства, в области политики (мо-
дархия, республика), а производственные отношения, хотя и построены
по типу господства-подчинения, тем не менее не носят монархического
характера: капиталист, правда, монарх на своей фабрике, но в обществе
дласс (капиталистов господствует обычно не через одно лицо. Как же
объяснить такое «противоречие»? Не рушится ли вся наша
марксистская теория на капиталистической религии? Ни капли. Наоборот. Только
с марксистской точки зрения и можно понять религиозные формы
современности.
Что «правит» экономическими отношениями капитализма? В
феодальном обществе, мы знаем, монархи и их подчиненные князья и
чиновники, направляли и полунатуральное хозяйство. При капитализме же
появляется новый, мощный, но стихийный, безличный регулятор. Это —
рынок с его непонятными причудами, рынок, который одних возвышает,
а жизнь других разбивает, который играет людьми, как слепая
(«иррациональная»), непонятная, неуловимая сила. «Что наша жизнь? Игра.
Сегодня ты, а завтра я. Пусть неудачник плачет, кляня свою судьбу». Вот
этот характер судьбы и приняло божество (уже у римлян и греков, как мы
знаем, были «парки» и «мойра», «ананке» — необходимость,
принудительная сила, судьба, которая стояла над богами). Это представление было
связано с ростом меновых отношений и вытекавших отсюда торговых
войн, которые ставили на карту существование Греции. Раньше боги
(и единый бог) были вовсе не бесплотными духами. Они любили поесть,
1) «Оотёр» — по-гречески значит «спаситель». М. В е б е р говорит о тех случаях,
когда среди угнетенных создавалась целая религиозно-политическая система идей
об «освобождении мира», о «спасении», исцелении от всех социальных зол, о царстве
божием на земле. Эти чаяния и упования угнетенных классов и принимали
характер «сотериолопга», т.-е. учения о спасении и об «обетованной земле» —Прим.
автора.
474
выпить, закусить, забираться к женщинам, хотя бы под видом голубя,
так это устраивает так называемый «святой дух» (в Греции, где
процветала неестественная однополая любовь, Зевс, в виде орла, проделывает
то же с мальчишкой Ганимедом). Экономическое раз-витие, приведшее
д меновому хозяйству и разрушившее феодальный политический строй,
дыщипало у бога не только орлиные и голубиные перья, но и бороду,
д усы, и прочие принадлежности прежних изображений. Теперь
верующий буржуа верит в бога, как в неизвестную, непознаваемую
божественную силу, от которой все зависит, но которая по виду ничего общего с
человеком не имеет: это — божественный дух, а не какое-нибудь грубое
божество дикарей. Таким образом, и в экономике капитализма есть, с одной
стороны, отношение господства-подчинения, с другой — отношение
неорганизованной связи через обмен. Первое обстоятельство объясняет,
почему религия сохраняется, второе — почему бог приобретает такой тощий
ж бесплотный характер.
(«Теория исторического материализма»).
Ф. Энгельс
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЭКОНОМИКИ И ИДЕОЛОГИИ
Согласно материалистическому пониманию истории в историческом
дроцессе определяющим моментом в конечном счете является
производство и воспроизводство действительной жизни. Ни я, ни Маркс большего
не утверждали. Если кто-нибудь это положение извратит в том смысле,
что будто экономический момент является единственным определяющим
моментом, тогда утверждение это превращается в ничего не говорящую,
абстрактную, бессмысленную фразу. Экономическое положение — это
основа, но на ход исторической борьбы оказывают влияние и во мнотих
случаях определяют преимущественно форму ее — различные моменты
дадстройки: политические формы классовой борьбы и ее результаты —
конституции, установленные победивпшм классом после одержанной
победы, и т. д.; правовые формы, и даже отражение всех этих
действительных битв в мозгу участников — политические, юридические, филб-
софские теории, религиозные воззрения и их дальнейшее развитие
в систему догм. Тут имеется налицо взаимодействие всех этих моментов,
в котором в конце-концов экономическое движение, как необходимое,
прокладывает себе дорогу сквозь бееконечную толпу случайностей
(т.-е. вещей и событий, внутренняя взаимная связь которых настолько
отдалена или настолько трудно определима, что мы можем забыть о ней,
.считать, что ее не существует). В противном случае применять теорию
# любому историческому периоду было бы легче, чем решать самое
простое уравнение первой степени.
Мы делаем свою историю сами, но, во-первых, мы делаем ее при
весьма определенных предпосылках и условиях. Среди них
экономические являются в конечном счете решающими. Но и политические
условия и т. д., даже традиции, живущие в головах людей, играют известную
роль, хотя и не решающую.
(«Пксыш Иосифу Блоху от 21 сентября 1690 г,»).
475
Идеология — это (мыслительный) процесс, который проделывает
так называемый мыслящий человек хотя и с сознанием, но с сознанием
неправильным. Истинные побудительные силы, которые приводят его
в движение, остаются ему неизвестными, в противном случае это не
было бы идеологическим процессом. Человек создает себе, следовательно,
представления о ложных или призрачных побудительных силах. Так
как это процесс мысли, то человек и выводит, как содержание, так и
форму его из чистого мышления своих предшественников. Этот человек
имеет дело исключительно с материалом мыслительным; без дальнейших
околичностей он считает, что этот материал порожден мышлением, и не
занимается исследованием никакого другого процесса более отдаленного
и от мышления независимого: Такой подход к делу ему кажется сам
собою разумеющимся, так как для него всякое человеческое действие
основано в последнем счете на мышлении, потому что совершается
посредством мышления. — У исторического идеолога (исторический —
означает здесь понятие собирательное для понятий политический,
юридический, философский, теологический, словом, для всех областей,
относящихся к обществу, а не просто к природе) — у исторического идеолога
в области каждой науки имеется известный материал, который
образовался самостоятельно из мышления прежних поколений и проделал ряд
ступеней самостоятельного развития в мозгу этих, следовавших одно
за другим поколений. Конечно, на это развитие могли воздействовать
в качестве сопутствующих причин и внешние факты, относящиеся к
данной области или к другой, но факты эти по молчаливому соглашению
считаются опять-таки просто плодами мыслительного процесса, и таким
образом, мы все время продолжаем оставаться в области чистой мысли,
которая переварила счастливо самые твердые факты. Как раз этот
призрак самостоятельной истории государственных конституций, правовых
систем, идеологических представлений в любой области, — как раз это и
ослепляет большинство людей. Если Лютер и Кальвин побеждают
официально католическую религию, если Гегель «преодолевает» Канта и
,Фихте, если Руссо своим «Общественным договором» косвенно
«преодолевает» конституционалиста Монтескье, то это есть процесс, остающийся
внутри теологии, философии, государственной теории, это представляет
собой ступень в развитии этих областей мышления и вовсе не выходит
за пределы мышления. А с тех пор, как установилось буржуазное
ошибочное убеждение, что капиталистическое производство вечно и
неизменно, с этих пор победа физиократов и Адама Смита над
меркантилистами кажется простой победой мысли, вовсе не отражением в области
мышления изменившихся экономических фактов, и представляется
достигнутым, наконец, истинным пониманием неизменно и повсюду
существующих фактических условий. Если бы Ричард Львиное Сердце и
Филипп Август ввели свободу торговли вместо того, чтобы впутываться
в крестовые походы, то можно было бы избежать 500 лет нищеты и
глупости. На эту сторону дела, которой я здесь смог коснуться лишь слегка,
мне думается, все мы обратили внимания меньше, чем она того
заслуживает. Это старая история: вначале всегда из-за содержания не
обращают внимания на форму. Я сам это делал, и ошибка бросилась мне
в глаза уже после.
С этим связано также идиотское представление идеологов: так как мы
за различными идеологическими областями, играющими роль в истории.
476
де желаем признать самостоятельного исторического развития, то,
значит, мы отрицаем за ними всякую историческую роль. В основе этого
лежит заурядное не диалектическое представление о причине и следствии,
как о двух неизменно разъединенных полюсах, абсолютно не видящее
взаимодействия. Эти господа намеренно забывают о том, что как только
исторический момент выдвинут в свет другими, в конце концов,
экономическими фактами, так он тоже действует и на окружающую его среду
и даже на породившие его причины может оказывать обратное действие.
(«Птюсьмо к Мерингу от 14 июля 1893 г.»).
Что же касается тех идеологических областей, которые еще выше
парят в воздухе — религии, философии и т. д., то у них имеется
доисторическое содержание, находимое и усваиваемое историческим периодом,
содержание, которое мы теперь бы назвали бессмыслицей. В основе этих
различных неправильных представлений о природе, о строении самого
человека, о духах, волшебных силах ж т. д. лежит по большей части
лишь отрицательно экономическое (nur negativ oekonomisches): низкое
экономическое развитие до-исторического периода имело в качестве своего
дополнения, а порой даже в качестве условия и даже в качестве причины
ложные представления о природе. И все же, хотя экономическая
потребность была главной пружиной двигающегося вперед познания природы,
и с течением времени все более становилась такой пружиной, все же
было бы педантством искать для всех этих первобытных глупостей
экономических причин. История наук—это есть история постепенного
устранения этой бессмыслицы, или замены ее новой, но все же менее
нелепой бессмыслицей. Люди, которые это делают, принадлежат к особым
областям разделения труда и, кажется, что они обрабатывают
независимую область. И поскольку они образуют самостоятельную группу внутри
общественного разделения труда, постольку их произведения, включая
и их ошибки оказывают обратное влияние на все общественное развитие,
даже на экономическое. Но при всем том они опять-таки сами находятся
под господствующим влиянием экономического развития.
(«Письмо к К. Шмидту от 27 октября 1890 г.»).
К. Маркс
ИСХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ КРИТИКИ РЕЛИГИИ
Для Германии критика религии по существу окончена, а критика
редигаи — предпосылка всякой другой критики.
О тех пор как опровергнута небесная oratio pro aris et focis x), земное
существование заблуждения скомпрометировано. Человек, нашедший
в фантастической действительности неба, где он искал сверхчеловека
лишь отражение себя самото, не пожелал больше находить лишь
видимость себя самого, лишь нечеловека там, где он ищет и должен искать
своей истинной действительности.
*) Т.-е. речь в защиту алтарей и жертвенников. — Прим. ред.
417
Основание иррелитиозной критики таково: человек создает религию,
релития не создает человека. Религия есть самосознание и сочувствие
человека, который или еще не отыскал себя, или снова потерял себя. Но'
человек — не абстрактное, вне мира витающее, существо. Человек — это*
мир человека, государство, общество. Это государство, это .общество
создают религию, превратное миросозпапие, ибо сами они — превратный
мир. Религия есть общая теория этого мира, его энциклопедическая
сводка, его логика в популярной форме, его спиритуалистическое point
d'honneur, его энтузиазм, его моральная санкция, его торжественное
завершение, его общая основа, дающая ему утешение и оправдание. Она —
фантастическое воплощение человеческого существа, ибо человеческое
существо не обладает истинной действительностью. Таким образом, борьба
против религии есть косвенно борьба против того мира, духовным
ароматом которого является религия.
Религиозное убожество есть в одно и то время выражение
действительности нищеты и протест против действительной нищеты.
Религия — это вздох угнетенной твари, душа бессердечного мира, дух
безвременья. Она — опиум народа.
Упразднение религии как призрачного счастья народа, есть
требование его действительного счастья. '^Требование отказаться от иллюзий
о своем положении есть требование отказаться от положения, которое
нуждается в иллюзиях. Критика религии есть, следовательно, в зародыше
критика той юдоли плача, священным ореолом которой является религия.
Критика сорвала воображаемые цветы с цепей не затем, чтобы
человек носил трезвые, безнадежные цепи, а затем, чтобы он сбросил цепи и
срывал живые цветы. Критика религии разочаровывает человека, чтобы
он мыслил, действовал, развивал свою действительность, как
разочарованный, образумившийся человек, чтобы он двигался вокруг себя самого и
своего действительного солнца. Религия есть лишь призрачное солнце,
движущееся вокруг человека до тех пор, пока он не начнет двигаться
вокруг себя самого.
Таким образом, а тех пор, как исчезла правда внеземная, задача
истории — восстановить земную правду. Ближайшая задача философии,
находящейся на службе истории, с тех пор, как разоблачен священный
образ человеческого самоотчуждения, состоит в том, чтобы разоблачить
самоотчуждение в его неосвященных образах. Критика неба обращается,
таким образом, в критику земли, критику религии — в критику права,
критика теологии — в критику политики.
(«К критике гегелевской философии права»}.
* *
IV. Фейербах исходит из факта религиозного самоотчуждения, из
раздвоения мира, в результате которого получается: религиозный,
существующий в представлении мир, и мир действительный. Его задача
состоит в том, чтобы свести религиозный мир к его светской основе. Он
не замечает, однако, что после решения этой задачи главная часть дела,
остается еще не сделанной. Светская основа отделяет себя от самой
себя и водворяется в облаках как самостоятельное царство. Этот фак!
может быть объяснен только отсутствием в ней цельности и
присутствием множества противоречий. Следовательно, надо сначала понять,
в чем заключаются ее противоречия, а затем надо революционизировать
ее путем устранения противоречий. Так, например, поняв, что тайна-
478
святого семейства заключается в земной семье, мы должны подвергнуть -
эту последнюю теоретической критике и практическому преобразованию.,
V. Недовольный отвлеченным мышлением, Фейербах взывает к впе~
чатлениям, получаемым внешними чувствами; но мир конкретных
явлений не представляется ему в виде конкретной практической
человеческой деятельности.
VI. Сущность религии Фейербаха объясняется сущностью
человека. Но сущность человека — это вовсе не абстракт, свойственный от-
дельному лицу. В своей действительности это есть совокупность всех
общественных отношений. Фейербах не доходит до критики этой
действительной сущности. Поэтому он оказывается вынужденным:
1. Абстрагироваться от хода исторического развития, рассматривать
религиозное чувство, как нечто, совершенно отдельное и ни с чем не
связанное, и исходить из предположения об отвлеченном —
изолированном — человеческом индивиде. 2. Поэтому человеческая сущность могла
представляться ему лишь, как «род», т.-е. как внутренняя, немая
общность, устанавливающая лишь естественную связь между многими
индивидами.
VII. Поэтому Фейербах не видит, что «религиозное чувство» само
есть общественный продукт, и что анализируемый им абстрактный
индивид в действительности принадлежит к определенной форме общества.
VIII. Общественная жизнь есть жизнь практическая по существу.
Все таинственное, все то, что ведет теорию к мистицизму, находит
рациональное решение в человеческой практике и в понимании этой практики.
(«Тезисы о Фейербахе»).
*
Критическая история технологии показала-бы, как мало какое-бы
то ни было изображение XVIII столетия принадлежит тому или иному
отдельному лицу. Но до сих пор такой работы не существует. Дарвин
направил интерес на историю естественной технологии, т.-е. на
образование растительных и животных органов, которые играют роль орудий
производства в жизни растений и животных. Не -заслуживает ли
такого же внимания история образования производительных органов
общественного человека, история этого материального базиса каждой особой
общественной организации? И не легче ли было бы написать ее, так
как человеческая история тем же отличается от естественной истории,
что первая сделана нами, вторая же не сделана нами? Технология
раскрывает активное отношение человека к природе, непосредственный
процесс производства его жизни, а, следовательно, и общественных
отношений его жизни и вытекающих из них духовных представлений.
Всякая история религии, отвлекающая от материального базиса, —
некритична. Конечно, много легче посредством анализа найти земное
ядро причудливых религиозных представлений, чем, наоборот, из данных
отношений реальной жизни вывести соответствующие им религиозные
формы. Последний метод есть единственно материалистический, а
следовательно, научный метод.
^Капитал»).
4?$
Ф, Эпгельс
СОЦИАЛЬНЫЕ КОРНИ РЕЛИГИИ
Силы, действующие в обществе, проявляются совершенно так же,
как и силы природы: слепо, насильственно и разрушительно до тех пор,
пока мы их не знаем и, поэтому, не можем ими управлять. Но раз мы их
узнали, поняли их действие, их направление и их влияние, тогда уже
от нас зависит все более и более подчинять их своей воле и посредством
этого достигать своих целей. Это положение особенно применимо к
современным могучим производительным силам. Пока мы упорйо отказываемся
понять их природу и их характер—а этому пониманию противится
капиталистический способ производства и его защитники — до тех пор эти
силы действуют, несмотря на нас, против нас, и подчиняют нас своему
господству. Но раз мы проникли в их свойства, мы можем превратить их
в руках ассоциированных производителей из демонических господ в
покорных слуг: такова различие между разрушительной силой
электричества в блеске молнии и укрощенным электричеством, применяемым в
телеграфе и в освещении, или различие между пожаром и огнем,
действующим в интересах человека.
Вместе с переходом средств производства в руки всего общества,
устранится товарное производство и, вместе с тем, господство продукта
над производителями. Анархия внутри общественного производства
заменится планомерной сознательной организацией. Борьба за личное
существование прекратится. Только тогда выделится окончательно человек,
в точном смысле этого слова, из животного царства, перейдет из
зоологических условий существования в действительно человеческие. Все
условия жизни, созданные людьми и угнетавшие до сих пор человека, сами
подчинятся тогда людям и их контролю, и они впервые явятся
сознательными, действительными господами лрироды, так как будут господами
в своем собственном соединенном отечестве. Законы их собственной
общественной деятельности, которые до сих нор противопоставлялись им, как
им чуждые, и потому господствовавшие над ними, будут применяться
людьми с полным пониманием-дела и согласно с их собственными
интересами. Подчинение общественной организации, которое им до сих пор как бы
навязывалось природой и историей, станет теперь их собственным
свободным делом. Объективные и чуждые им силы, царившие до сих пор в
истории," попадут под контроль самих людей.
Только тогда люди будут сами вполне сознательно творить свою
истерию, а приводимые ими в движение исторические факторы станут
все в Ооныпей и большей мере давать желанные для них результаты. Это
будет прыжком человечества из царства необходимости в царство
свободы.
В настоящее время каждая религия является не чем иным, как
фантастическим отражением в головах людей тех внешних сил, которые
господствуют над ними в их повседневной жизни, отражением, в котором
земные силы принимают форму сверхъестественных. В начале истории
этому отражению подвергаются прежде всего силы природы; при
дальнейшем развитии появляются у различных народов другие, самые
разнообразные и пестрые их олицетворения. Этот первоначальный процесс при
помощи сравнительной мифологии, по крайней мере по отношению
к индо-европейским народам, прослежен до проявления его в индийских
ведах, а также обнаружен в частности у индусов, персов, греков, римлян.
•480
германцев и. поскольку хватает материала, у кельтов, литовцев и славян.
Но скоро, наряду с силами природы, выступают также и общественные
силы. т.-е. силы, которые противостоят человеку и господствуют над ним,
оставаясь для него такими же чуждыми и обладающими видимой
естественной необходимостью, как и силы природы. Фантастические образы,
в которых сначала отражались только таинственные силы природы, теперь
приобретают значение общественных атрибутов и становятся
представителями исторических сил. На дальнейшей ступени развития вся
совокупность естественных и общественных таинственных сил переносится на
одного всемогущего бога, который, в свою очередь, является лишь
отражением абстрактного человека. Так возник монотеизм, бывший
исторически последним продуктом позднейшей греческой вульгарной
философии и воплотившийся в1 иудейском, исключительно национальном, Иегове.
В этом удобном, пригодном и для всех подходящем образе религия,
может продолжать свое существование, как выражение непосредственного
чувства в осязательной форме существующею отношения людей к
господствующим над ними непонятным для них общественным и
естественным силам до тех пор, пока люди фактически находятся под гнетом этих
сил. Мы уже неоднократно говорили, что в современном буржуазном
обществе люди подчинены созданным ими самими экономическим
отношениям, произведенным ими самими средствам производства, как какой-то
таинственной силе. Фактическое основание религиозной рефлективной
деятельности продолжает таким образом существовать, а вместе с нею —
и самый религиозный рефлегкс. И если буржуазная экономия
обнаруживает правильный взгляд на причинную зависимость этого внешнего
господства, то дело ничуть не изменяется^ Буржуазная экономия не в
состоянии ни противодействовать кризисам вообще, ни спасти отдельного
капиталиста от убытков, от безнадежных долгов и банкротства, ни
избавить отдельного рабочего от безработицы и нищеты: человек предполагает,
а бог (т.-е. внешнее господство капиталистического производства)
располагает. Простого познания, хотя бы оно шло дальше и глубже знания
буржуазной экономии, недостаточно, чтобы подчинить обществу
общественные силы. Для этого необходимо прежде всего общественное
действие. И если предположить, что это действие воспоследовало, и что
общество, путем вступления во владение всей совокупностью средств
производства и планомерного их употребления, освободило себя самого и
всех своих членов от того рабства, в котором они до сих пор находятся,
благодаря ими самими произведенным, но противостоящим им в качестве
непреодолимых внешних сил, средствам производства, т.-е. если
предположить таким образом, что человек не только еще замышляет обладать,
но и действительно располагает общественными силами, то лишь в таком
случае исчезнет последняя внешняя сила, до сих пор еще отражающаяся
в религии, а вместе с тем, и само религиозное отражение, по той простой
причине, что тогда уже нечего будет отражать.
(«Анти-Дюринг»).
К. Маркс
РЕЛИГИОЗНЫЙ МИР — ОТРАЖЕНИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО МИРА
В области религиозного мира продукты человеческого мозга
представляются самостоятельными существами, одаренными собственной
жизнью, стоящими в определенных отношениях с людьми и друг с другом.
Г. Гурев 31
481
Религиозный мир есть только рефлекс реального мира. Для
общества товаропроизводителей, характерное общественно-производственное
отношение которого состоит в том, что продукты труда являются здесь
для них товарами, т.-е. стоимостями, и что отдельные частные1 работы
приравниваются здесь друг к другу'в этой единообразной форме, как
одинаковый человеческий труд, — для такого общества наиболее подходящей
формой религии является христианство с его культом абстрактного
человека, в особенности в своих буржуазных разновидностях, каковы
протестантизм, деизм и т. д. При старо-азиатских, античных и т. д. способах
производства превращение продукта в товар, а следовательно, и бытие
людей, как товаро-проиеводителей, играют подчиненную роль, которая
однако, становится тем значительнее, чем сильнее разложение общинного
уклада жизни. Народы, торговые в собственном смысле этого слова,
существуют лишь в между-мировых пространствах старого мира, как боги
Эпикура или как евреи в порах польского общества. Эти старые
'общественно-производительные организмы несравненно более просты и ясны
по своему устройству, чем буржуазный, но они покоятся или на
незрелости индивидуального человека, еще не оторвавшегося от пуповины
естественно-родовых связей с другими людьми, или на непосредственных
отношениях господства и подчинения. Условие их существования—низкая
ступень развития производительных сил труда и соответственная
связанность отношений людей в рамках процесса, созидающего их
материальную жизнь, а вместе с тем связанность всех их отношений друг к дру^у
и к природе. Эта реальная связанность отражается идеально в древних
естественных и народных религиях. Религиозное отражение
действительного мира может вообще исчезнуть лишь тогда, когда отношения
практической повседневной жизни людей будут выражаться в прозрачных и
разумных связях их между собою и с природой. Отрой общественного
жизненного процесса, т.-е. материального процесса производства, сбросит
с себя мистическое туманное покрывало лишь тогда, когда он станет
продуктом свободно обобществившихся людей и будет находиться под
их сознательным планомерным контролем. Но для такого общества
необходима определенная материальная основа или ряд определенных
материальных условий существования, которые, в свою очередь, представляют-
естественно выросший продукт длинного и мучительного развития.
(«Капитал», т. I).
Ф. Этелъс
ИЗМЕНЕНИЕ РЕЛИГИОЗНЫХ ВЕРОВАНИЙ
Религия возникла*в самые первобытные времена из самых темных,
первобытных представлений людей о своей собственной и внешней'
природе. Но раз возникнув, всякая идеологгия развивается в связи со всей
совокупностью существующих представлений и подвергает ее дальнейшей
переработке. • Иначе она не была бы идеологией, т.-е. не имела бы дела
о мыслями, как с независимыми' сущностями, которые самостоятельно
развиваются из самих себя и подчиняются своим собственным законам.
Что материальные условия жизни людей, в головах которых совершается
данный процесс мышления, определяют его собою, этого, конечно, не
сознают эти люди, потому что иначе пришел бы конец всякой идеологии,.
482
Первоначальные религиозные представления, по большей части общие
каждой данной родственной группе народов, по распадении таких групп
своеобразно развиваются у каждого отдельного народа, смотря по
выпавшим на его долю жизненным условиям. У одного ряда таких групп
народов, именно у арийского (так называемого индо-европе#ского), процесс,
развития религиозных представлений подробно исследован сравнительной
мифологией. Боги каждого отдельного народа были национальными
богами, власть которых не переходилалЗа границы охраняемой ими
национальной области. По ту сторону границ начинались царства других богов.
Все эти боги жили лишь до тех пор, пока существовали создавшие их
народы, и падали вместе с ними. Старые народности пали под ударами
всемирной римской империи, экономических условий возникновения
которой мы не можем здесь рассматривать. Старые боги пришли в упадок;
этой участи не избегали даже римские боги, скроенные по узкой мерке
города Рима. Потребность дополнить всемирную империю всемирной
религией ясно обнаруживается в том, что Рим. пытался ввести у себя покло
пение воем сколько-нибудь почтенным чужим богам. Но императорскими
декретами нельзя создать новой всемирной религии. Новая" всемирная
религия, христианство, уже возникла незаметно из смеси обобщенною
^сточного, в особенности еврейского, богословия и вульгаризованной
греческой, в особенности стоической, философии. Лишь путем трудного
иоследования можем мы узнать теперь каков был первоначальный вид
христианства, потому что оно передано нам уже в том официальном виде,
какой придал ему Никейскжй собор, приспособивший его к знанию
государственной религии. Но во всяком случае уже тот факт, что через двести
пятьдесят лет оно стало государственной религией, достаточно
показывает, до какой степени соответствовало оно' обстоятельствам того времени.
В средние века, по мере развития феодализма, оно -принимало вид
соответствующей ему религии с соответствующей феодальной иерархией. А когда
окрепла городская буржуазия, в противоположность феодальному
капитализму развилась ересь, сначала у альбигойцев в южной. Франции,
в эпоху высшего расцвета тамошних городов. Средние века присоединили
к богословию и подчинили ему все прочие формы идеологии: философию,
политику, юриспруденцию. Вследстве этого, всякое общественное и
политическое движение вынуждено было принимать религиозную форму.
Чувства массы вскормлены были исключительно' религиозной пищей:
ноэтому, чтобы вызвать бурное движение, ее собственные интересы должны
были представляться ей в религиозной одежде. Городская буржуазия
с самого начала создала себе- придаток в виде неимущих городских
плебеев, поденщиков и всякого рода прислужников, предшественников
позднейшего пролетариата, не принадлежавших ни к какому определенному
сословию. В совершенном соответствии с этим и религиозная ересь уже
очень рано подразделилась на два вида: буржуазно-умеренный и
плебейский-революционный, ненавистные даже буржуазным еретикам.
Неистребимость протестантской ереси соответствовала непобедимо^
сти усиливавшейся городской буржуазии. Когда эта буржуазия
достаточно окрепла, ее борьба с феодальным дворянством, имевшая до> тех пор
устный характер, начала принимать национальные размеры. Первый
акт борьбы был сыгран в Германии: так называемая реформация.
Городская буржуазия не была еще достаточно сильна и развита, чтобы
объединить под своим знаменем все прочие бунтовские элементы: плебеев в
городе, низшее дворянство и крестьян в деревне. Прежде всех потерпело
поражение дворянство; потом последовало крестьянское восстание, пред-
31*
483
ставлявшее собою высшую точку революционного движения того времени.
Города не поддержали крестьян, и революция была подавлена -войсками
крупных феодальных владельцев, которые и воспользовались всеми
выходными последствиями. С тех пор в течение целых трех столетий Герма-
лия не принадлежала к числу наций, самостоятельно вмешивавшихся
в историю. Но, кроме немца Лютера, был еще француз Кальвин, который
«с чисто французской резкостью выдвинул на первый план буржуазный
характер реформации, придав церкви республиканский, демократический
характер. Между тем как лютеранская реформация опошлялась в
Германии, ведя эту страну к гибели, под знаменем кальвинистской реформации
соединились республиканцы в Женеве, Шотландии и в Голландии, и
велась голландцами борьба за свое освобождение от испанского владычества
ж от германской империи. Та же кальвинистская реформация доставила
идеологические костюмы для второго акта буржуазной революции,
имевшего место в Англии. Здесь кальвинизм явился ясным религиозным
выражением интересов тогдашней буржуазии; поэтому он и не добился
полного признания после революции 1689 года, окончившейся сделкой между
частью дворянства и буржуазией. Восстановлена была английская
государственная церковь, но уже не в прежнем своем виде, не в виде
'католицизма с кцролем, играющим роль папы: теперь она была сильно окрашена
кальвинизмом. Старая государственная церковь праздновала веселое
католическое воскресенье и преследовала скучное воскресенье
кальвинистов. Новая церковь, проникнутая буржуазным духом, ввела именно это
последнее, еще и поныне украшающее Англию.
Во Франции в 1685 году кальвинистское меньшинство было
подавлено, обращено в католичество или изгнано. Но к чему это повело? Уже
тогда действовал свободный мыслитель Пьер Бейль, а в 1694 году родился
Вольтер. Благодаря насильственным мерам Людовика XIV, французской
буржуазии легче было придать своей революции и религиозную, чисто
политическую, форму, которая одна только и соответствовала развитому
состоянию буржуазии. Вместо протестантов в национальных собраниях
заседали свободные мыслители. Христианство вступило в свою
последнюю стадию. О тех пор оно уже не в состоянии было поставлять
религиозную одежду для стремлений какого-нибудь прогрессивного класса.
Оно все более и более становилось исключительным достоянием*
господствующих классов, пользующихся им, как средством управления, как
уздой для низших классов. При этом каждый из господствующих
классов эксплоатирует свою особую религию: землевладельцы —
католический иезуитизм или протестантскую ортодоксию, либеральные и
радикальные буржуа — рационализм. Вдобавок, на деле оказывается
совершенно безразличным, верят или не верят сами эти господа в свои
религии.
Мы видим, стало быть, что, раз возникнув, религия всегда
сохраняет известный запас представлений, унаследованный от прежних
времен, так как во всех вообще областях идеологии предание является
великой консервативной силой. Но изменения, происходящие в этом
запасе представлений, определяются классовыми, т.-е. экономическими
отношениями людей, делающих эти изменения.
(«Людвиг Фейербах»).
ASI
П. Лафарг
БЕЗЛИЧНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ И ИДЕЯ ЕДИНОГО БОГА
Идея о боге, зародившаяся и укоренившаяся в человеческом мозгу
под влиянием необъяснимых явлений внешнего и социального мира, не
остается неизменной; она изменяется в зависимости от условий места и
времени, она развивается вместе со способом производства, по мере
изменения окружающей социальной среды.
По представлению греков, римлян и древних народов бог обитал
в определенном месте и существовал только для того, чтобы исполнять
желания своих почитателей и вредить их врагам. Каждая семья имела>
своих особых богов среди духов обоготворенных предков, и в каждом
народе был свой божественный покровитель, свое «городское божество»,
как говорили греки. Покровитель или покровительница города ооиталк
в посвященном им храме, украшенном их изображениями, высеченными
из камня или вырезанными из дерева; городской бог или 'богиня
заботились исключительно об участи городских жителей. Боги-предки
занимались только делами своей семьи. Библейский Иегова был одним из таких
богов; он обитал в деревянном ящике, «кивоте завета»„ который каждое
колено брало с собою при своем переселении с места на место. Его носили
впереди войск во время сражения, дабы Иегова сражался за свой народ;
ибо, строго взыскивая за нарушение своих заповедей, он, как 'сообщает
ветхий завет, оказывал своему народу многочисленные услуги. Если
местный бог оказывался не на высоте своего призвания, ему давали в
помощь второе божество. Так, во время второй пунической войны, римляне
приказали привезти из фригийского города Песенны старую башню Ки-
белы, дабы это малоазиатское божество помогало им бороться против
Ганнибала. У христиан тоже не было лучшего представления о божестве
в то время, когда они разрушали языческие храмы и кумирни, чтобы
лишить богов крова и таким .образов помешать им заступаться за своих
почитателей. Дикари считали душу отражением тела, вследствие чего
их обоготворенные духи сохраняли свой человеческий облик, несмотря
на то, что они воплощались в камне, деревьях и животных. А по
представлению Павла и апостолов тот же человеческий образ имел бог. Они
создали себе богочеловека с телом и душой вполне по своему образу и
подобию. По представлению же современного капиталиста, бог не
обладает телесными свойствами, не имеет ни головы, ни рук, не обитает в опре-
ленном месте земного шара: он вездесущ, дух его покоится в каждом
уголке, на каждом клочке земли.
Ни греки, ни римляне, ни древние евреи, ни первые христиане не
считали своего бога единственным богом вселенной; евреи одинаково
твердо верили, как в своего Иегову, так и в Молоха, Ваала и в других
богов соседних народов, с которыми им приходилось воевать. И еслхг
христиане первых веков смотрели на Юпитера и Аллаха, как на лжебогов,
они тем не менее признавали за ними божественную силу, способность
творить такие же чудеса, как Иисус и его бог-отец. Одна только вера
во многих богов могла привести к тому, чтобы в каждом городе был свой
специальный бог, посвященный служению интересам этого города,
запертый в храме и воплощенный в статуе или другом каком-либо предмете.
Так, например, Иегова олицетворялся в камне. Но современный буржуа,
который * верит, что бог его вездесущ, необходимо должен был прийти
к представлению о едином бог$. Это свойство вездесущности, которое он
48 5.
приписывает своему богу, не позволяло ему рисовать своего бога, как
Гомер Юпитера и апостол Павел Христа, с лицом, руками и ногами и
прочими частями тела.
Местные божества воинственных народов древности, которые вели
постоянные войны с своими соседями, не могли удовлетворять
религиозных потребностей, вызванных к жизни торговлей в
буржуазно-демократических республиках, торгово-промышленных городах; эти последние,
наоборот, принуждены были поддерживать самые мирные сношения
с окружающими народами. Потребности промышленности и торговли
заставляли зарождающуюся буржуазию развенчивать местных богов и
возводить на их места космополитические божества. В VI и VII веках до р. х
мы встречаем в приморских Ионических городах, в Великой Греции и
в Греции попытки основать религию, боги которой не были бы
монополизированы каким-нибудь одним городом или народом, а были бы признаны
и почитаемы различными народами, даже враждебными друг другу. Эти
новые божества, как Изида, Деметра, Дионис, Митра, Иисус и другие, из
которых многие принадлежали к патриархальной эпохе, были еще
человекоподобны, хотя уже чувствовалась потребность в высшем существе,
не похожем на человека. Но только в эпоху капиталистического
производства могла стать господствующим идея о боге, не имеющем образа,
как следствие безличной формы собственности, какую представляют
собой акционерные общества.
Безличная форма собственности, которая ввела совершенно новую
небывалую до сих пор форму владения, должна была неизбежно
модифицировать нравы и обычаи, а тем самым и способ мышления буржуазии.
До появления такой формы собственности можно было владеть
виноградниками в Бордо, либо ткацкой мастерской в Руане, либо стеклянным
заводом в Марселе, торговым заведением в Париже. Каждое из этих
предприятий, смотря по роду промышленности и географическому
положению, составляло собственность одного, двух, самое большое трех лиц.
Редко приходилось видеть собственника, владеющего многими
предприятиями. Совершенно иначе обстоит дело с безличной собственностью:
железная дорога, рудники, банкирская контора и т. д. составляют
собственность сотен и" тысяч капиталистов; и у одного и того же капига-
листа могут лежать рядом в портфеле французские, прусские, турецкие
и японские государственные бумаги, — акции ^рансваальских золотых
россыпей, китайского электрического трамвая, заатлантического
пароходства, бразильских кофейных плантаций и французских угольных
копей и т. п. Капиталист ни в каком случае не может относиться к своей
безличной собственности, в которой своим он может назвать лишь способ
ее приобретения, с такой же любовью, с какой относится мелкий буржуа
к своему предприятию, которым он сам управляет или которое стоит
под его непосредственным наблюдением. Безличная собственность
приносит своему владельцу доход пропорциональный капиталу, вложенному
им в акции, и тем дивидендам, которые они дают. Капиталисту совершенно
безразлично, от каких предприятий он получает свои дивиденды: от
рафинадного ли завода, или от хлопчато-бумажной фабрики, или от вывоза
нечистот; ему также безразлично, где предприятие приносит доход, в
Париже или в Пекине. О того момента, когда решающим фактором является
дивиденд, характер предприятий, приносящих дивиденд, теряет свое
значение. Все эти различные предприятия, относящиеся к различным
отраслям промышленности и разбросанные по различным географическим:
широтам, идентифицируются для капиталиста в одну единственную
48в
форму, форму собственности, приносящей дивиденды, циркулирующей
лишь на бирже под различными названиями различных стран и
различных отраслей промышленности.
Безличная собственность, охватывающая вое отрасли производства
и распространяющаяся по всему лицу земного шара, присасывается
своими щупальцами, ■ дивидендо-оосательным аппаратом, одинаково охотно
к какому-нибудь христианскому народу, как и к магометанской,
буддийской или языческой стране. Так как доминирующей страстью буржуа,
целиком владеющей его душой, является страсть к 'накоплению богатства,
то идентичность всех различных родов собственности преломляется в его
мозгу в виде идеи о космополитическом характере собственности. Эта идея
.в свою очередь влияет на его религиозное мировоззрение. Совершенно
незаметно безличная собственность приводит к тому, что все земные
божества сливаются в одного, единого космополитического бога, который
в различных странах носит различные названия: Иисуса, Аллаха, Будды
и т. д. Так же, как и имя, различен в различных странах и культ
космополитического бога.
Историческими исследованиями вполне установлено, что идея
единого универсального бога, впервые высказанная Анаксагором и жившая
после того целые столетия в умах отдельных мыслителей, сделалась
всеобщей и господствующей лишь благодаря капиталистической
цивилизации. Но подобно тому, как рядом с единственной космополитической
формой собственности существует множество' видов местной, личной
собственности, точно так же уживаются рядом в мозгу буржуа единый
космополитический бог вселенной со множеством местных
человекоподобных богов. Разделение народов на отдельные нации, конкурирующие
друг с другом в торговле и промышленности1, заставляет буржуазию
раздроблять своего единого бога на отольжьотдельных богов, сколько
существует на земле национальностей. Поэтому каждый христианский народ
верит, что христианский бог, являясь богом всех христиан, есть в то же
время его национальный.бог подобно тому, как Иегова был
национальным богом евреев и Афина-Паллада — богиней афинян. Когда два
христианских народа объявляют друг другу войну, каждый из них молится
своему национальному христианскому богу о ниспослании ему победы
над своим врагом. Кот да один из них побеждает, он поет: «Те Deum»
в благодарность за свою победу и за поражение своего противника и его
христианского национального бога. Йзычники — те заставляли бороться
между собою обоих богов, из которых каждый покровительствовал своей
нации своему городу, христиане же заставляют своего единого бога
вступать в борьбу с самим собою. Космополитический бог только тогда
сможет изгнать из ума буржуа представление о национальных богах, когда
все буржуазные нации сольются в одну.
Но безличная собственность обладает еще другими свойствами,
кроме тех свойств, которые воплощены в образе единого
космополитического бога.
Владелец земельного участка, столярной мастерской или мелочной
лавки всегда имеет перед глазами свое имущество; он может его измерять,
взвешивать, ощупывать, оценивать; точная форма его собственности
запечатлевается в его уме. Но владелец государственных бумаг,
железнодорожных и банкирских обществ не может ни видеть, ни измерять, ни
трогать руками, ни оценивать той части своего имущества, которал
представлена в его бумагах. Где он может ее видеть? В каком лесу, в каком
-правительственном здании, в каком ватоне, в каком пуде угля, в каясом
487
страховом полисе или в кассе какого банка? Частичка его личной
собственности исчезла, затерялась в огромном целом, которого он не^можег
охватить взором. Хотя он видел локомотивы, вокзалы, подземные гал-
лереи, однако он никогда не мог охватить сразу 'всю картину железной
дороги или рудника. А такие вещи, как государственный долг,
банкирская фирма или страховое общество не могут быть достаточно образно
представлены. Таким образом, безличная собственность, которой он
владеет сообща с другими, может принять в его. воображении только неясную
неопределенную форму; он скорее принимает в его глазах отвлеченный
характер, чем образ конкретной реальности: одни только дивиденды
свидетельствуют о ее существовании. И тем не менее эта безличная
собственность, неопределенная и неуловимая, как метафизическая сущность
печется о всех его нуждах, подобно небесному отцу всех христиан, не
"требуя от него никакого труда, кроме труда получения дивидендов. На
него, пребывающего в блаженной праздности ума и тела, сыплются
дивиденды, подобно божией благодарности. Он так же мало ломает голову над
природой безличной собственности, приносящей ему ренту и дивиденды,
как над вопросом о том, что такое представляет собою его единый
всемирный бог: мужчину, женщину или зверя, одарен ли он духовно или нет,
отличается ли он силой, решительностью, справедливостью, добротой и
другими качествами, которыми были наделены человекоподобные боги
язычников. Он не тратит времени на то, чтобы молиться ему, ибо он
уверен, что никакими молитвами нельзя изменить доходности безличной
собственности, умственным отражением который является его
собственный космополитический бог.
Превратив человекоподобного христианского бога в безличное,
отвлеченное существо, в метафизическую мысль, безличная собственность
вместе с тем лишила религиозное чувство буржуа его интенсивности,
доводившей его до горячечного фанатизма мучеников, крестоносцев и
инквизиторов. Религия ста та делом личного вкуса, чем-то вроде кухни,
где всякий может заказать себе обед, какой ему нравится: на животном
или растительном масле, с чесножй или без чеснока и т. д. Но если
капиталистической буржуазии нужна религия, и либеральное
христианство удовлетворяет ее потребности, то это еще не значит, что она может
принять католическую религию в нынешнем ее виде, без всяких
серьезных изменений, ибо ее иезуитский -догматизм проникает во все мелочи
частной жизни, а ее организация епископов, священников, монахов и
иезуитов, крайне дисциплинированных и слепо повинующихся своим
собственным властям,' угрожает серьезной опасностью общественному
порядку. Феодальное общество, все члены которого, от раба до короля, были
иерархически связаны .взаимными правами и обязанностями, еще было-
в состоянии выносить католическую церковь; но буржуазная демократия
не может ее терпеть. Ее члены, равные перед законом и владеющие
собственностью, но вечно воюющие друг с другом на почве
противоположных промышленных и коммерческих интересов, требуют постоянного
права критиковать установленную власть и права привлекать ее к
ответственности за хозяйственные неудачи.
Точно так же буржуа, который, в своей погоне за наживой, не
терпят никаких оков, не мог выносить цеховой организации ремесленников,
с ее постоянным контролем над способом производства и калеством
продуктов. И он разрушил оти организации.
Свободному от всякого контроля буржуа, стремящемуся добыть
денег, остается только итти по тому пути, куда толкают ого собственные
488
интересы, пользуясь при этом всеми средствами, которыми он
располагает. Качество производимых и продаваемых им товаров зависит вполне
от эластичности его совести. Дело покупателя не давать себя надуть на.
качестве, количестве или цене покупаемого им товара. Каждый за себя,
а бог, т.-е. на языке буржуа, деньги — за всех. Свобода промышленности
и торговли должна была неизбежно отразиться на буржуазном
представлении о религии, которую каждый стал понимать по своему. Каждый
стал обращаться со своим богом, как в коммерческих делах с своей
совестью. Каждый толкует церковное учение и библейские слова сообразна
своим интересам и видам.
Капиталист не может стать ни инквизитором, ни мучеником, ибо он
новее не проникнут той страстью к вербованию прозелитов, которой были
одержимы первые христиане. Для последних увеличение числа верующих
было вопросом жизни, так как это означало увеличение армии
недовольных, боровшихся с языческим обществом. Но существует своего рода,
религиозный прозелитизм и у буржуа, конечно, не столь ревностный и
не вытекающий из его убеждений, а именно прозелитизм, обусловленный
его эксплоатацией женщины и наемного рабочего.
Женщина должна быть покорной буржуа и исполнять его капризы.
Он требует от нее то верности, то неверности, смотря по положению.
Если она чужая жена и он ухаживает за нею, он требует от нее
неверности своему мужу, как обязанности по отношению к его «я». Он пускает
в ход все свое красноречие для того, чтобы рассеять ее религиозные
предрассудки и усыпить ее совесть. Если она, наоборот, его законная жена,
то в таком случае она составляет его собственность и должна оставаться
неприкосновенной. В этом случае он требует от нее верности, которая
кыдержала бы самое строгое испытание, и пользуется религией для того,
чтобы внушить ей сознание своих супружеских обязанностей.
Наемный рабочий, по мнению буржуа, должен быть доволен своей
судьбой. Социальная функция экоплоататора чужого труда заставляет
его пропагандировать христианскую религию, проповедывать смирение и
покорность боту, который одних предназначил быть господами, других —
слугами. Эта же функция эксплоататора .заставляет его дополнять и
совершенствовать учение Христа вечными принципами демократии. Он
чрезвычайно заинтересован в том, чтобы наемные рабочие истратили все
свои духовные силы на религиозные диспуты и споры о справедливости,
нравственности, свободе, патриотизме и тому подобных понятиях так,
чтобы у них не осталось свободной минуты для размышления о- своем
бедственном положении и Ь мерах к его улучшению. Известный радикал
и сторонник свободы торговли Яков Брайм так высоко ценил этот метод,
одурманивания рабочих, что посвящал свои воскресные дни чтению и
комментированию библии перед рабочими. Эти занятия, которым
предавались от нечего делать скучающие английские буржуа обоего пола, как
и всякие любительские затеи, велись, разумеется, крайне небрежно'. На
промышленной буржуазии для ее целей нужны были мракобесы
специалисты. И она нашла их в лице духовенства всех культов. Но всякая
медаль имеет свою оборотную сторону: чтение библии рабочими также таило
в себе опасность для существующего строя. Эту опасность сумел оценить
Рокфелер. Этот великий основатель трестов, в целях устранения этой
опасности, основал трест для издания народной библии, очищенной от
всяких жалоб на несправедливости богатых, от негодующих выражений
зависти к судьбе этих счастливцев. Католическая церковь предвидела
эту опасность и для устранения ее приняла свои меры, запретив всем
489>
своим верным сынам чтение библии и предав сожжению на костре Вик-
лера, первого переводчика библии на народный язык. За многократные
услуги, оказанные духовенством буржуазии, она поддерживала его
политически и материально, несмотря на то, что она питала неопреодолимую
антипатию к его иерархии, корыстолюбию и склонности вторгаться в
личные и семейные дела каждого.
('(Происхождение религии»).
Л. И. Аксельрод
КАРЛ МАРКС И РЕЛИГИЯ
Марксизм представляет собою новый и в высокой степени
плодотворный метод исследования явлений общественной жизни. Эту широко
обобщающую стройную логическую теорию следует признать важным и
серьезным вкладом в историю мысли. Она является, без всякого сомнения
острым и надежным орудием, посредством которого мы оказываемся в
состоянии вскрыть реальные коренные причины целых эпох, проникнуть
в судьбы человечества отдаленного прошлого и прозреть грядущее.
Материалистическое причинное объяснение истории устанавливает
закономерность борющихся социальных сил, делая, стало-быть,
возможным сознательное общественное и государственное строительство. Короче,
марксизм постиг естественные законы истории, послужившие к
разумному, планомерному воздействию на историческое поступательное
движение.
Но, сделав обществоведение и политику наукой, марксизм ничего
не вносит в интимный субъективный мир личности. Эта строго-научная
историческая доктрина лишена элементов, способных успокоить и согреть
душу, поднять человека на горные вершины и дать ему утешение в
неизбежной осознанной или не осознанной мировой скорби. Человек —
сложное создание. Спору нет, что материальные условия жизни, борьба за
существование — дело первостепенное, принимающее острый и даже
жестокий характер. Сущность, скрытые пружины этой зоологической
дикой борьбы действительно впервые были развернуты во всем их объеме
и с классически ясной глубиной, историческим материализмом. Но о
природе «экономического фактора» можно сказать то же самое, что
Шопенгауэр писал о земных ценностях вообще. Материальный гнет обладает,
несмотря на нее его видимое однообразие, разнообразнейшими средствами
к тому, чтобы раздавить личность, чтобы выжечь все ее прекрасные
задатки, но, несмотря на это, самое совершенное экономическое устройство
общества, обеспечивающее всестороннее развитие личности, не в
состоянии сделать эту последнюю счастливой в высшем значении этого слова.
Человек чувствует себя частью вселенной, звеном великого
бесконечного. Его сознание не терпит безусловных пределов, страшны ему
границы и невыносимо лукавое издевательство смерти. Единственный
выход из этой трагедии человечества — религия, вера в другой мир,
вечный и совершенный. Лишь эта вера может помирить нас с нашим
земным преходящим существованием, лишь она создает музыку души,
побеждающую земную тоску.
Так, или приблизительно так, говорят некоторые друзья марксизма,
шадще писатели из различных областей.
490
Посмотрим, конечно, в самом сжатом виде, справедливо ли, что
марксизм лишен субъективных начал, и правда ли это, что и в наше
время религия, опять поднимая голову, имеет основание претендовать на
роль утешительницы и сестры милосердия человеческой души.
Подобно другим великим теориям, сделавшим эпоху в развитии
человечества, марксизм начинает свое исполинское историческое дело
критикой и смелым, уверенным разрушением, а заканчивает творчеством
и созиданием новых форм жизни, действительно новых в подлинном
смысле этого слова.
К области разрушительной деятельности принадлежит критика и
разоблачение тайн религиозных представлений.
Религия с точки зрения материалистического объяснения истории,
есть плод общественных отношений. Она является одной из
разновидностей коллективного сознания, порождаемого общественным бытием,
а в последнем счете способом производства.
Этот исторически-эволюционный взгляд на происхождение и
развитие религиозных воззрений нашел блестящее оправдание в научных
исследованиях многих областей, связанных с религиозной проблемой.
Можно, следовательно, утверждать, без всякого риска ошибиться, что
с научной точки зрений эта проблема может считаться окончательно
решенной.
И этот факт очень хорошо известен более или менее просвещенным
теологам и вообще теоретическим, так сказать, праведникам и
спасителям религиозного миросозерцания.
Современная защита религии' ведется, поэтому, почти что
исключительно на субъективной почве. «Пусть говорит религиозный
субъективист наших дней. — религия будет созданием творческой фантазии;
допустим, что божество действительно' — лишь гипотеза, и допуская это,
религия все-таки сохраняет всю свою силу, все свои права и все свое прежнее
внутреннее значение. Если созданная, своеобразным творческим духом
коллективного человечества, небесная, прекрасная и совершенная страна
приносит мне наивысшее блаженство; если мне представление о ней
придает истинный смысл моему существованию; если я, благодаря этому
моему религиозному сознанию, поднимаюсь все выше и выше над текучей,
изменчивой, убегающей от меня жизнью, — так отчего же опрашивается,
я должен отказаться от такой могучей спасительной силы? И какое мне
дело до критического отношения положительного знания к религии?
Наука — мощный культурный фактор в борьбе за земное существование.
Этого никто в наше время оспаривать не может и не должен. Но пусть
наука займет подобающее ей место внещнето культурного исторического
,двигателя, а в сфере моей духовной, интимной, сокровенной жизни ее
не&гой, холодный и равнодушный разум совершенно бессилен».
Людям, недисциплинированной мысли, чуждым умственной ири-
:вычки добираться до корней вопроса, представляются подобные
соображения не только неубедительными, но и чрезвычайно ординальными.
В действительности же эта в логическом смысле более чем шаткая,
а с религиозной точки зрения кощунственная аргументация служит
лишь убедительнейшим показателем того, что это некогда
господствовавшее над избранными умами миропонимание погибло окончательно и
безвозвратно.
491
Психологическое значение религии в вышеочерченном отношении:
выступает наружу, приобретая психически моральное влияние с
возникновением мировых монотеистических религиозных систем.
Только безусловная, непоколебимая вера в надземный мир, как
в объективную доподлинную реальность, была источником того
энтузиазма и духовного подъема, о которых так красноречиво
распространяются теперешние модернистские пропагандисты религиозного
сознания.
И что бы там ни говорили философствующие теоитоги, а истинно
верующему бог вовсе не представляется отвлеченным духом, а скорее
в виде опытного, бравого капитана, управляющего нашим кораблем,
плывущим по бурному океану жизни. Древние пророки верили и видели
желанное будущее, когда сойдет на землю сам Иегова, уничтожит врагов-
Израиля и восстановит мир, справедливость и торжество избранного им
народа. И настоящим христианином может быть приэнан лишь тот, кто-
проникнут глубокой и несокрушимой верой в царстао божье, в
существование милосердного творца — хозяина вселенной и сына его> спасителя,
пришедшего на землю не от мира сего.
«Eine feste Burg ist unser Gott» '), повторял Лютер в опасные и
тревожные минуты мятежного периода своей жизни. В этих немногих-
словах реформатор с точностью указал на психологический источник его
религиозной энергии.
Бог, как объективная реальность и надежный покровитель, а не-
гипотеза божества, построенная на субъективной потребности, составляет
психологическую основу религиозных переживаний.
Исторический ход развития религиозных представлений учит као
самым убедительным образом, что эти последние возникли не из
прирожденной субъективной потребности восполнить видимый мир миром
невидимым, более совершенным. Наоборот, религиозная психика
выступает как следствие 'сложнейших объективных условий
общественно-исторического характера.
Совершенно справедливо и в полном согласии с результатами
современного' научного исследования, замечает Энгельс, что психологически
исходный пункт религиозного творчества коренится в ограниченных и
невежественных представлениях беспомощного дикаря.
Насущная практическая необходимость в объяснении явлений
окружающей природы, а вовсе не стремление к религиозному утешению,
была точкой отправления анимизма, в котором мы находим главные*
основы религии и идеалистической метафизики.
Вызванная к жизни побуждениями практического свойства,
религия была и оставалась на протяжении всей истории идеологической
оболочкой, формой, под которой скрывалось многообразное общественное
содержание, С религиозными верованиями' связаны теснейшими узами
классовая борьба, национальный гнет, стремление к национальному
освобождению и вообще различного рода политические интересы и земные
исторические надежды. Официальная* истолковательница воли
верховного, совершенного существа, религия на деле проводила волю смертных
и далеко несовершенных властителей земли: блюстительница законов-
неба, она очень настойчиво защищала произвол господствующих
классов и правящих сфер, — словом, вмешиваясь почти во все области, не
брезгая и мелочами человеческого существования, релития на высших;
*) Наш бог — надежная крепость.
492
стадиях своего развития была всецело, определенно и большей частью
сознательно поглощена- реальной живой действительностью и
неутомимой борьбой за материальную светскую власть.
Но светское господство и материальные цели религии проявляли
себя в строго-идеологических формах, которые (идеологические формы),
как всегда, имели свое собственное и большое значение. Пуская в ход
в решительные, завершающие моменты доподлинное военное оружие,
духовенство в мирное время действовало энергично, ловко и — надо ему
отдать справедливость — часто весьма искусно, находившимися в его
распоряжении духовными средствами. А последних было не мало. Религия
была заботливой хранительницей старых традиций, народных обычаев,
правовых норм, нравственных велений и священных, неподвижных
заветов. Связав себя теснейшим образом с искусством, она нашла себе
в этом последнем колоссальную поддержку, еще до сих пор не вполне
оцененную исторической наукой, — оказывая, в свою очередь, огромное
влияние на художественное творчество всех родов.
Нельзя также оспаривать той роли, которую религия играла
в деле объединения и сплочения людей, шедших, конечно, рядом и
в полной причинной зависимости от вызываемых ею же вражды и
раздора.
Одним словом, на определенных стадиях исторической эволюции
религия являлась громадной общественной силой, отражавшей полнее,
чем какая-либо другая область, земную общественную деятельность.
Не то мы видим теперь.
Даже для современных теологов перестал быть тайной тот
бесспорный факт, что золотой век власти религии над, умами и сердцами
человечества пришел к концу.
Поистине сказочный рост производительных сил: изумительное
развитие естествознания; внушающий гордые надежды технический
прогресс; успехи научной психологии, уничтожившей одну из важнейших
крепостей неба, веру в бессмертную субстанциональную душу;
разветвление и специализация многих областей, составлявших некогда
принадлежность религии; бесконечное и разнообразное множество средств для
общения людей; мужественный духовный подъем пролетарских масс, идущих
верным твердым шагом к экономическому освобождению и умственной и
нравственной самостоятельности, — словом, все воистину новые силы,
зреющие в современной культуре, разрушают чем дальше, тем
основательнее, остатки старых религиозных веровавши, и на место религии
создается постепенно почва для общего нового, научного и светлого
миросозерцания, основы которому положены Марксом и Энгельсом.
В психологии творчества всякого гениального человека легко
открыть преобладающую черту, являющуюся лейт-мотивом всей его
деятельности, как сложна и разнообразна^ ни была бы эта последняя.
Есть такая отличительная чертами в натуре, и в творческом гении
Карла Маркса. Этой отличительной чертой является правдивость,
признание безусловного авторитета объективной истины, ее верховного суда,
ее приговора, ее суверенитета. .
Тьма низких истин ему дороже, чем душу возвышающий обман,
дороже по той естественной причине, что низких истин нет и не может
быть, а есть и бывают низкие побуждения и позорны^ поступки. В каком
493
обольстительном виде ни представился бы обман, он, с точки зрения
Маркса плохой и ненадежный 'воспитатель человеческой души.
Творец научного социализма приступает к исследованию предмета
бесстрашно, с полным героическим риском. «Пусть будет, что будет, но
не могу, не желаю, считаю унизительным для человеческого достоинства,
постыдным для человеческого ума, несчастием для человеческого сердца
закрывать глаза на действительность и искать утешения в иллюзиях.
Человек должен иметь мужество познать объективный мир, вступить
с действительностью в бой н победить ее и объективно' и субъективно».
Вот что слышно, (вот что чувствуется прежде всего в бессмертных
творениях автора «Капитала».
Страстно искавший объективной опоры для общественных идеалов,
гениальный Белинский писал:
«Нашему веку не нужно шутовских бубенчиков, приятных
заблуждений, ребяческих погремушек, отрадной утешительной лжи». Если бы
ложь предстала в виде юной и прекрасной женщины и с улыбкой манила
в свои роскошные объятия, а истина — в виде страшного остова смерти,
летящего на гигантском коне с косой в руках, — он отвернулся бы с
презрением и ненавистью от обольстительного призрака и бросился бы
в мертвящие объятия остова. Ему лучше ощутить себя в действительных
обътиях страшной смерти духа, чем схватить в свои руки призрак,
долженствующий исчезнуть при нервом к нему прикосновении.
Маркс был истинным и глубочайшим выразителем схваченного
критиком гордого требования XIX столетия. И тем возможнее оказалось
для Маркса держаться надежной почвы действительности, что его
прозорливому гению последняя раскрылась своей разумной стороной,
разоблачив ему свою тайну, что история ставит себе осуществимые задачи.
Совершенно в духе требований Белинского характеризует Энгельс
сущность марксова и своего собственного миросозерцания: «При
разложении гегелевской школы, — пишет великий основатель научного
социализма, — образовалось еще одно, единственное действительно
плодотворное направление. Это направление теснейшим образом связано
с именем Маркса. Разрыв с философией Гегеля произошел и здесь путем
возврата к материалистической точке зрения. Это значит, что люда
этого направления решились смотреть на действительный мир — на
природу и историю — без идеалистических очков и видеть в нем только то,
что он собою представляет. Они решились без всякого сожаления
отказаться от всех идеалистических взглядов, несогласных с явлениями
действительности, взятыми в их истинной, не фантастической связи».
Понятно вполне, что направление, решившееся отказаться от
идеалистических сновидений, должно было прежде всего отвергнуть
религиозное мировоззрение. Так оно и было на самом деле.
В знаменитом введении «К критике гегелевской философии права»
Маркс наметил, с ему присущим своеобразным проникновением в корень
вопроса, исходные положения критики религии. Он показал, что
религия в целом представляет форму общественного сознания, обусловленную
общественным бытием.
Но в этой связи и в данный исторический момент важно выдвинуть
глубокий взгляд Маркса на психологические условия религиозного
сознания в индивидуальном значении, в смысле фактора, воспитьтвающего
личность, его оценку так называемой религиозной потребности.
«Религия, — говорит Маркс, — это самосознание и самоощущение человека,
который или еще не обрел себя, или опять потерял себя».
494
Это замечательная и глубокая психологическая истина.
Наивный, но с проснувшимся сознанием дикарь, бессильный дать
естественное объяснение духовным процессам человека, превращает эти
последние в самостоятельные духовные существа, образующие для него
мир высший, командующий телесным видимым миром. Незнание зажшш
и содержания своей собственной духовной природы приводит.его к тому,
что он отделяет свою собственную психическую жизнь от самого себя,
удваивает, говоря словами Авенариуса, чувственно-воспринимаемый
реальный мир и самого себя, поклоняясь рабски им же созданному
царству теней.
Охвачен также внутренним беспокойным стремлением к
религиозным верованиям человек и высшей культуры, но потерявший — обычно
под влиянием определенной совокупности условий общественной жизни—
равнодействующую своего субъекта, свое «я».
Утрата живой, органической связи с общественным целым, с
историческим прошедшим и зреющим будущим, — словом, разрыв с
действительным посюсторонним миром побуждает его искать помощи, защиты
и опоры в мире фантастическом и несуществующем, в старых, давно
разбитых вдребезги богах.
Что касается религиозности народных масс, то их вера, с точки
зрения автора «Капитала», представляет собою ясный и
непосредственный результат их исторического положения, обусловленного
экономическими отношениями.
В историческом смысле религия является ступенью развития в
коллективном соэнании человечества, но ступенью, превзойденной
философски, теоретически окончательно.
Для человека высшее создание — человек; он самое совершенное
звено в великой мировой эволюции; но он должен ясно сознать это,
понять свое истинное привилегированное положение в природе,
чувствовать свою собственную мировую стоимость. А для этого ему необходимо
вернуть себе прежде всего затерянный в темной пропасти мистической
веры свой духовный, ему принадлежащий внутренний мир.
Разрушение религии оказывается, поэтому, одним из
могущественных средств к освобождению духовной личности человека.
Мы видим, таким образом, что человек, его достоинство, его
духовное существо, его ешбода, его ценность и его счастье составляют
центральную идею марксовой критики религии.
Эта центральная идея проникает собою теорию Маркса-Энгельса.
Диалектический материал объединяет в своем всеобъемлющем
учении природу и историю, свободу, и необходимость, теорию и практику,
науку и жизнь, этику и политику.
Его исходная точка — единство мира, его конечная цель —
освобождение личности.
Твердое и ясное убеждение в том, «что человек делает религию),
а не религия делает человека», избавляет последнего от расслабляющих,
обманчивых надежд, от «призрачного счастья», делая его уверенным,
деятельным и энергичным гражданином земли. А поэтому «критика
религий есть предпосылка воякой другой критики».
Но человек не Робинзон на своем острове, он не существует
отдельно, и немыслим как абсолютная единица. «Человек — это
человеческий мир, это государство, общество». А общество и государство
определяются объективно сложившимися экономическими, точнее
производственными отношениями, составляющими их оюжшу, их фундамент
495
Личность является, таким образом, сложным продуктом всей
совокупности 'Общественных сил в полном значении этого слова. Отсюда следует,
что освобождение личности предполагает коренной социальный переворот
и создание планомерного, сознательно организованного общества, в
котором условием свободного развития всех является развитие каждого.
Но что сулит научный социализм внутреннему, интимному миру
личности? Какие элементы этого миросозерцания призваны заменить
утешительную веру в бессмертие? Так опрашивают люди, не могущие
преодолеть идолопоклонства перед прошлым и отрешиться от иллюзии,
что иллюзия не может дать настоящего счастья и удовлетворения духа.
На первый вопрос марксизм отвечает: все, кроме обмана и
призраков.
Природа, история человечества, общественность, свободная наука
•свободное искусство — разве же все это недостаточные источники для
полной, интенсивной всесторонней духовной жизни, для творческой
фантазии, для широкой захватывающей деятельности, для внутреннего
созерцания, для проявления и развития высших нравственных начал и,
наконец, для роста и культивирования чувства прекрасного?!
Что касается второго вопроса, вопроса о бессмертии души, то на
этот вопрос в наше время определенно и ясно отвечают одни лишь попы
Просвещенные же теологи, следящие так или иначе за ходом и
результатами научной мысли, уклоняются от старого решения этой, так
сказать, проблемы. Они настолько добросовестны, а, быть может,
настолько осторожны, что прямо загробной жизни- не обещают, продпочитая
говорить, правда, очень красноречиво о необходимой связи живущего
человека, а не мертвеца, с божеством.
Сознание и чувство связи с общим вселенским целым ■— глубокое,
незаменимое утешение. Это великое начало, без которого невозможно
создать ни истинно-интеллектуального, ни истинно-прекрасного. На всех
классических творениях, к кжой бы области они ни принадлежали,
лежит яркая печать этой живой связи.
Но этим 'великим целым должно быть научное мировоззрение,
объединяющее законы природы и принципы исторического движения.
Философия, говорил Маркс, должна сделаться мирской для того,
чтобы мир стал философским.
К этому идеалу гениального мыслителя, который был исполнен
гордого сознания духовной мошд человека, ведет современная культура
многими путями.
(«Против идеализма»).
К. Каутский
ЧТО СПОСОБСТВУЕТ ВЛАСТИ РЕЛИГИИ
Могуществу церкви благоприятствует удадок средних слоев —
мелкой буржуазии и крестьянства. Уже целых два столетия эти слои
находились в процессе разложения, но при абсолютизме они приписывали —
и в значительной степени справедливо — свое жалкое положение эксплоа-
тации царского двора, бюрократии, дворянства и клира, и тогда они
были крайне либеральны и ожидали осуществления всех своих надежд
от победы демократии. Но либерализм лишь развязал руки к&питалшму,
4№
а мелкой буржуазии и крестьянству после недолгой переходной стадии
принес новые бедствия. Он не оказался тем спасителем, за которого он
себя выдавал, и они, лишенные всякой точки опоры, в страхе бросились
искать нового спасителя. Их охватывает и бросает в объятия церкви
особое настроение умов, подобное тому, которое овладело всем обществом
во времена Римской империи. В особенности это можно сказать о
городской мелкой буржуазии, потому что крестьянство в большей своей частя
вовсе не переставало ходить у церкви на помочах.
Совершенно верно, что вожаки реакционной демократии стоят перед
неразрешимой задачей: они не могут исполнять того, что обещают, к
поэтому рано или поздно принуждены бывают открыть свою истинную
сущность — дураков или шарлатанов. Но кто думает, что, благодарен
этому, реакция вскоре потеряет почву в среде мелкой буржуазии, очень
ошибается. Только светские элементы демократической реакции, еще-
придерживающиеся свободомыслящих традиций революционного
времени, погибнут от этого и принуждены будут1 или уступить место
клерикальному господству, или покориться ему. Но церковь о ее тысячелетней
опытностью, с ее грандиозным механизмом для подавления рассудка, с ее
указаниями' на иную жизнь тем, кто не может наслаждаться
настоящей, — церковь прямо создана, чтобы служить точкой опоры для
безнадежно обреченных на экономическую и моральную нужду. Светские
вожди антисемитизма и национализма могут сойти со сцены, но движения
эти из-за этого не пойдут на убыль; они только должны все более терять
характерные черты либеральной демократии, которые они получили
от нее, и все более становиться клерикальным движением.
Но даже и в некоторых слоях буржуазии начинает укрепляться
клерикализм. Здесь в среде буржуазии, не экономическое падение
собственного класса, но политические успехи пролетариата приводят к тому,
что религия опять входит в честь. При этом у некоторых — у
ординарных людей из буржуазии — сознательно, как средство удержать в
повиновении массы. У других — у натур с более тонкими душевными
свойствами — непрерывное движение вперед социализма пробуждает
склонность, даже стремление к мистицизму. Это стремление, еще усиливаемое-
крушением либерального мировоззрения, приспособленного к
собственному классовому положению, а в значительной степени и
пресыщенностью людей, рано вкусивших все чувственные наслаждения и ищущих:
новых впечатлений; эту потребность в мистицизме, как никакое другое
учреждение, может удовлетворить католическая церковь. Она не имеет
в этом отношении ничего общего с протестантизмом, в котором
поднимавшаяся буржуазия севера воплотила свою грубую чувственность.
Правда., и время реформации было благоприятно для мистицизма, черти
# ведьмы не мало пугали тогда и мучили людей, но вся эта чертовщина
все же слишком наивна и груба для того, чтобы влиять на современного
человека. Совсем иначе обсотоит дело с католическим мистицизмом,
происхождение которого восходит до утонченного и изощренного времени
Римской империи.
Притягательная сила католической мистики еще увеличивается
деликолепием католических обрядов. Происхождение этого великолепия
коренится в экономических условиях феодального времени: оно возникло
само по себе, а не было нарочно изобретено лицемерными священниками,
чтобы одурманивать и привлекать людей. Таким наивным образом не
возникают великие, столетиями длящиеся социальные явления. Но во
всяком случае, там, где она существует, церковная роскошь одурманивает
Г. Гурев 32
497
д привлекает; она идет навстречу потребности масс в чувственной
красоте и в чувственных возбуждениях, а иногда и стремлению к бесцельной
расточительности, которая бывает свойственна экоплоатирующим
классам, когда степень эксплоатации переходит известную меру.
Этой меры капиталистическая эксплоатация достигла уже с
некоторого времени. Класс капиталистов, несколько десятков лет тому назад
утверждавший, что капитал создается сбережением и лишениями и
видевший в них хозяйственную добродетель, в настоящее время не знает,
что ему сделать с тем огромным количеством богатств, которое царящая
система эксплоатации бросает в его недра. Паролем его делается теперь
мотовство их на кричащую роскошь (хотя он, хорошо умея хвастливо
бросать деньги, не в состоянии спокойно наслаждаться).
Этому стремлению к шумной расточительности гораздо более
отвечает католицизм, чем протестантизм, холодная воздержанность которого
происходит с тех времен, когда буржуазия еще видела в феодальной
страсти к удовольствиям греховное мотовство денег, которые можно
было бы вложить в полезное дело, когда богу, по их мнению, можно было
угодить только пуританской простотой. И, конечно, не случайность, что
когда (капиталистическая эксплоатация в Англии перешла известную
меру, то в-англиканской церкви тоже возникло стремление устроить
пышный ритуал, наподобие католического (движение ритуализма со времени
■сороковых годов), так что от католической церкви она почти тем только
я отличается, что признает своим верховным главой не папу, а
английского короля. Бороться против всех этих факторов, благоприятных для
деркви и мелкой и крупной буржуазии, невозможно. Церковь будет
приобретать в этих кругах силу и уважение. Даже и усовершенствованное
.школьное обучение не могло бы здесь ничего изменить, как это
показывает переход стольких образованных людей в католический лагерь или
дера стольких ученых в спиритизм. Мистицизм так же, как и
потребность в религиозном авторитете, меньше зависит от состояния знания,
чем от состояния общества. Где социальная действительность открывает
•безнадежную перспективу для какого-нибудь класса или общества, там
они мысленно будут все более и более отвращаться от действительности и
обращать свои взоры в потусторонний мир, а степень естественно-науч-
дых знаний определяет тогда только форму, в которой это совершается
Человеческий дух достаточно богат; чтобы для каждой из своих
потребностей найти подходящее основание.
(«Социал-демократия и католическая церковь»).
* *
*
Власть католической церкви над массами основана, в последнем
счете, на том, что она выполняет филантропические функции, которые
капиталистическое государство не может сделать излишними, так как оно
яо необходимости создает многочисленный пролетариат; милитаристское
государства не может также взять на себя эти функции, так как военные
расходы поглощают все его средства. Власть церкви основана еще, кроме
того, на том, что буржуазное свободомыслие не может удовлетворить
запросов низших классов капиталистического общества, классов,
жаждущих спасения, лучших социальных условий, так как оно не знает
никакого итого общественного порядка, кроме существующего
капиталистического. Только идеал нового общества в состоянии вытеснить
испытываемую бедняками религиозную жажду лучшей загробной жизни.
498
Итак, борьба за земной идеал, пролетарская классовая борьба
против капитализма и милитаризма, даже в том случае, если ее
поддерживают буржуазные республиканцы, есть единственное средство, которое
навсегда освободит умы низших классов от господства католической
церкви. Пролетариат есть единственная сила, которая с непреклонной
решимостью стремится покончить с католической церковью;
пролетарская борьба есть единственный метод преодолеть ее. Наоборот,
буржуазный «культуркампф» против католической церкви не даст никаких
решительных результатов, да он их и не желает.
Заставляя пролетариат откладывать свою классовую борьбу до того
времени, когда будет доведена до конца борьба буржуазного"
свободомыслия, мы тем самым советуем ему откладывать свою борьбу до
бесконечности и, стало быть, рекомендуем ему вместо самой действительной
антиклерикальной прямо противоположную политику.
Пролетариат должен поддержать всякого рода меры, которые могут
ослабить господство католической церкви, но при этом он никоим образом
не должен допустить ослабления классовой организации и классовых
действий.
(«Республика и социал-демократия во Франции»).
Ф. Лютгепщ
УГАСАНИЕ РЕЛИГИОЗНОСТИ
Новейшая промышленность не смотрит теперь на существующую
форму производства, как на окончательную; она должна постоянно
революционизировать орудия производства, следовательно, и производствен-
дые отношения, следовательно, и все общественные отношения и взгляды.
«Все сословное и неподвижное испаряется, все святое развенчивается,
и люди вынуждены, наконец, смотреть трезвыми глазами на свое
жизненное положение, на свои взаимные отношения». Эти результаты яснее
всего проявляются в положении церквей. Не только многие из
номинальных членов их находятся в ясной и сознательной оппозиции с их
учениями, но даже и у огромного большинства остальных едва ли может быть
теперь речь о свободном и сознательном согласии с догматами религии.
Более сложные догмы являются, может быть, для большинства на-
лоловину усвоенными понятиями или только пустыми словами, — даже
и для тех, кто пунктуально следует внешним предписаниям церкви и
считает себя благочестивым. Заставляя их слушать многое, что не имеет
никакого смысла, их отучили ожидать какого бы то ни было смысла
от слов. Многие думают совершенно противоположно догматам, отнюдь
не сознавая этой противоположности. Другие же только тогда
проявляют свою религиозность и сами сознают ее, когда их побуждает к тому
другого рода религиозность, и вследствие этого они ошибочно считают
свои собственные случайно сказанные слова за твердую и ясную точку
зрения в религиозных вопросах. Ясно в сознании и в связи с
душевной жизнью и практической деятельностью являются для большинства
только представления о боге и о загробной жизни. Тем, что им все-таки
известно о содержании вероучения, они обязаны, главным образом,
государственной школе, и с праздниками теперь уже не связывается более
живого, религиозного смысла. Сами церковники, вероятно, не станут
отрицать тою, что в эти дни гораздо больше шумят, чем молятся.
32
439
Если бы вера не была обычно только верой в слова, то
противоречие ее с точными и общепризнанными научными данными было бы еще
сильнее и распространеннее. Но из всех вер словесная вера является
наиболее шаткой и наиболее подверженной как ненамеренному
искажению, так и софистическим толкованиям и лицемерным злоупотреблениям.
Но так как каждому хорошо известно злоупотребление словами, —
разумеется, не только религиозными, — то большей частью очень мало
придают им значения и при нравственной оценке какого-нибудь поступка
с ними обыкновенно не считаются.
В явлениях и поступках практической жизни равнодушие к
формально-религиозному проявляется яснее всего. Так, например, многие
тысячи людей предпочитают религиозный обряд брака ^ гражданскому
только ради его торжественности. Нередко присоединение церковного
обряда к гражданскому браку зависит только от того, есть ли
подходящий для этого туалет у невесты или нет. Часто встречается также
явление, что дети и даже взрослые ретулярно неправильно или даже
вовсе бессмысленно читают какую-нибудь молитву, потому что они
никогда и не думали о ее смысле.
Но каким же образом объясняется такая упорная живучесть
религиозных представлений, несмотря на такое слабое религиозное понимание
и мышление? Прежде всего, здесь нужно принять во, внимание силу
привычки и духовной инертности. Многие придерживаются привитых
дм с детства религиозных воззрений просто потому, что у них нет
достаточно сильного внутреннего или внешнего повода проверить их или
пересмотреть. Может быть, разногласие догматов веры с наукой и ясно
представляется ему, но известно, что существуют различные теории для
разрушения этого противоречия, и обыкновенно полагаются на этих
теоретиков, надеясь, что который-нибудь из них прав. Так, прежде
выдвигалась теория, что то, что неверно с философской точки зрения, может
быть истинным с теологической х); позднее религию согласовали с наукой
таким образом, что противоречие между ними всегда будто бы только
кажущееся, и рано или поздно разрешение его будет найдено. Да и
кто же, в конце концов, обязан заниматься разрешением таких великих
задач и спорных вопросов? Таким образом, многие остаются верующими
только потому, что они очень редко занимаются своими верованиями.
Особенно крепко держатся впечатления юности, как религиозные, так и
всякие другие. Воспринятые в детстве религиозные представления
соединяются с нравственными понятиями и связным миросозерцанием,
н обыкновенно опасаются потерять то и другое, отказавшись от их
религиозного основания. У среднего человека критика останавливается перед
тем, что кажется достойным уважения, благодаря своей древности и
благодаря связи с могущественными авторитетами. «Что носит на себе печать
седой древности, то для него божественно» (Шиллер).
Церковники часто также утверждали, что церкви недостает теперь
непосредственной власти над людьми, и что только поэтому она лишена
идеального влияния на разум и душу. Инотда это утверждают для того,
чтобы усилить высокое значение церкви и симпатию к ней; иногда же
в этом выражается жалоба и требование большей внешней власти для
церкви. Если бы церковь, в самом деле, обладала только такими идеп-
дыми средствами, то влияние ее скоро исчезло бы. Выслушаем на этот
счет признание, высказанное церковно-верующим человеком д-ром Але-
*) Автор имеет в виду учение о двойственной истине. — Прим. ред.
500
ксандром Тилле, доцентом глазговского университета. «Религии,
признанные государством, потеряли всякую реальную почву в народной
$кизни. В описках распределения вероисповеданий из пятидесяти
миллионов немцев 31 миллион считается «протестантов», 17,7 миллионов —
католиков, почти 600,000 евреев и только очень ничтожное число
причисляется к «диссидентам». Что это распределение вероисповеданий
существует только на бумаге, известно каждому образованному человеку.
Больше девяти десятых всего городского населения не признает, вообще,
никакой религии, и только благодаря тому, что во всех опросных листах
наших адиминистративных властей, при каждом гражданском акте, от
граждан обязательно требуется заявление, членом какого вероисповедания
они хотят быть официально зачислены, и явилась, вообще, такого рода
«статистика». Как только немецкие церкви будут отделены от
государства, — без возмещения, разумеется, — как только богослужение объявят
частным делом, за которое должны платить особо желающие принять
в нем участие, то число сторонников якобы «господствующих» религий
страшно растает, и, наверное, две трети всего нынешнего духовенства
останутся без хлеба. Даже и те, кто не одобряет этого, должны
согласиться, что все это правда, если только они не слепы». Влияние церкви
или, конкретнее, влияние духовенства основывается, отчасти
непосредственно, на собственности; в деревне очень нередко церковь является
и главным ростовщиком. Обыкновенно же власть церкви основывается
на необязательной, вообще, но фактически большей частью
существующей солидарности духовенства с имущими классами и на поддержке
церкви государством. Это все еще очень значительная реальная власть,
оставшаяся церкви, облегчает ей возможность придавать, в глазах
простых людей, каждому своему слову значение или даже только видимость
внешнего фактора власти; в этом деле, благодаря очень долгому
упражнению, она приобрела изумительную технику.
(«Естественная и социальная религия»).
Г. Гортер
ЖИВУЧЕСТЬ СТАРЫХ РЕЛИГИЙ
Но почему же в таком случае, раз старые производственные
отношения должны уступить место новым, еще так долго сохраняются старые
религии?
На этот вопрос необходимо дать ответ, потому что наши противники
дользуются этим фактом, как возражением против нас. Ответ не
представляет затруднений.
Во-первых, старый способ производства никогда не отмирает разом.
В прежние столетия отмирание происходило до чрезвычайности медленно,
и даже теперь, когда крупная промышленность так быстро вытесняет
.старую технику, проходит очень продолжительное время, пока не
исчезнет мелкое производство. Следовательно, еще очень долго остается
достаточный простор для старой религии.
Во-вторых, человеческий дух отличается инертностью. Хотя бы
тело уже находилось в новых отношениях труда, мысль недостаточно
быстро воспринимает новые формы. Традиция, предание оказывает
давление на мозг живых. Рабочий легко может наблюдать это на
501
окружающих. Вот два человека на одной и той же фабрике с одинако-
эой нуждой, в одинаковой бедности. И тем не менее один слабый, тупой
.человек, который не хочет борьбы, не может усвоить свободного
мышления и следует за священником в политике, в религии, в профессионала
дом союзе. А другой — полон жизни, весь — жажда борьбы; вечно он
говорит, вечно пропагандирует, вечно возбуждает. Ни бога, ни хозяина —
вот его лозунг.
Кроме различий в темпераменте, здесь оказывает свое действие
традиция. Католицизм, как бы ни приспособлялся он к новым формам,
является религией, соответствующей старым отношениям. Тем не менее,
до инертности, присущей как материи, так и идеям, он все еще упорно
держится. После того, как известный способ производства погибает,
иногда еще долго удается находить старые сухие цветы.
В-третьих, новые, поднимающиеся классы и классы, которым
угрожает опасность, действуют таким образом, что еще на долгое время
сохраняется старый строй их мышления. Раньше, когда классовая борьба
велась в религиозных формах, с религиозными лозунгами, у
поднимающегося класса, стремившегося к иным общественным отношениям, чем
правящий класс, часто была и новая религия, соответствовавшая тому,
что он считал хорошим, справедливым и истинным. Так, напр.,
кальвинизм сначала был религией бунтовщиков. Но потом, когда
поднимающемуся классу удалось оттеснить старый класс и сделаться
господствующим, он и свою религию делал господствующей религией; он навязывал
ее другим, но вместе с тем ее революционный характер превращал в
консервативный; в ней находили себе выражение новые отношения самого
класса. Так, напр., христианство, — некогда религия бедных и
неимущих, © эту эпоху еще очень немногосложная, просто религия любви и
взаимной помощи, — сделавшись официальной церковью, превратилась
в очень запутанную систему догматов, обрядов, в систему иерархии и
экоплоатации, очень мало напоминавшую первоначальное христианство.
Класс, который приходит к власти и вступает в новые отношения, просто
изменяет сущность религии и превращает ее из средства борьбы в
средство угнетения.
Это мы наблюдаем и в наши дни.
О того времени, как христианство сделалось религией
господствующих классов, оставивших наслаждения на свою долю, они внушали
угнетенным и применяли против угнетенных требование преданности,
смирения и неизменного терпения,—именно эту часть учения Иисуса. Когда жо
рами имущие классы, как, напр., кальвинисты и другие протестанты,
были революционными классами, для самих себя они проповедывали но
терпение, а борьбу. Теперь же, когда в антагонизме с ними выдвигается
класс, который хочет не терпеть, а бороться, пока он не победит, тогда все,
в том числе и революционные раньше секты, опять пользуются религией
терпения для того, чтобы удержать в стороне от борьбы хотя бы
некоторую часть поднимающихся классов.
Ввиду этого нисколько не удивительно, что, благодаря
объединенному действию еще сохраняющихся старых производственных отношении,
.традиции и классового господства, старая религия так долго сохраняем
ркивучесть и силу. Если же -в ней уже не остается богатой внутренней
жизни, если она напоминает скорее какой-то окаменелый остаток, то это
тоже нисколько не удивит нас, так как мы теперь знаем, что и религия
возникла из общества.
(«Исторический материализм»).
502
К. Маркс и Ф. Энгельс
ПОЧЕМУ РЕЛИГИЯ СОХРАНИЛАСЬ?
Трудно ли понять, что с образом жизни людей, с их
общественными отношениями, с их общественным бытом меняются также и их
представления, их воззрения, их понятия, словом, все их сознание?
Что же доказывает история идей, если не то, что умственная
деятельность преобразуется вместе с материальной? Господствующими
идеями данного времени всегда были только идеи господствующего класса.
Говорят об идеях, которые революционизируют все общество; этжм
выражается только тот факт, что внутри старого общества образовались
элементы нового строя, что рядом с разрушением старых условий жизни
идет разложение старых идей.
Когда древний мир пришел в упадок, древние религии были
побеждены христианством. Когда христианские идеи уступали место
просветительным идеям XVIII века, феодальное общество вело борьбу на
жизнь и на смерть с революционной тогда буржуазией. Идеи свободы
совести и религии выражали собою лишь господство свободной
конкуренции в области знания.
«Но, скажут нам, религиозные, нравственные, философские,
политические, правовые и т. п. идеи менялись, конечно, в ходе исторического
развития; однако религия, нравственность, философия, политика, право
всегда сохранялись в этом беспрерывном изменении. Существуют, кроме
того, вечные истины: свобода, справедливость и т. п., которые"одинаково
принадлежат всем фазам общественного развития. Коммунизм же
уничтожает общие истины, он уничтожает религию и нравственность вместо
того, чтобы преобразить их; он противоречит, следовательно, всему ходу
исторического развития».
К чему сводится это обвинение? История всех доныне
существовавших обще'ств основывалась на противоположности классов, принимавшей
в различные эпохи различные виды.
Но какую бы форму она не принимала, эксплоатация одной часта
общества другою является фактом, общим всем прошлым столетиям.
Неудивительно поэтому, что общественное сознание всех веков, несмотря
на все различия и на все разнообразие, вращалось до сих пор в известных
общих формах, формах сознания, которые исчезнут совершенно лишь
с полным уничтожением противоположности классов.
Коммунистическая революция есть самый радикальный разрыв
с существующими имущественными отношениями; неудивительно, что
она самым радикальным образом разрывает с традиционными идеями
(«Коммунистический Манифест»).
508
ОТДЕЛ ДЕВЯТЫЙ
ПРОИСХОЖДЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ХРИСТИАНСТВА
Г. В. Плеханов
КРИТИКА ЕВАНГЕЛЬСКИХ РАССКАЗОВ
Есля вы убеждены, что так называемое священное писание
продиктовано самим ботом (духом святым), избиравшим себе в секретари то
того, то другого святого мужа, то вы не допустите даже и мысли о том,
что в названном писании могут быть какие-нибудь ошибки и
несообразности. Все, что рассказывается там, имеет для вас значение бесспорного
акта. Искушая Еву, змий произносит речь, достойную вкрадчивого и
искушенного жизнью иезуита. Это несколько странно; но для бога нет
ничего невозможного; кажущаяся странность служит лишь новым
образчиком его всемогущества. Известная валаамова ослица вступает в беседу
€0 своим седоком. Это опять не совсем обыкновенное явление; но для
бога и т. д., и т. д., по той же раз навсегда установленной формуле. Вера
не смущается ничем, даже нелепостью: «верю, ибо нелепо». Вера есть
«уповаемых извещений, вещей обличение невидимых, т.-е. уверенность
в невидимом, как бы в видимом, .и желаемом и ожидаемом, как бы
в настоящем». А для религиозного человека всемогущество бога творца
и господина природы есть именно то, чего он «желает» всего больше. Все
это было бы очень хорошо, очень трогательно и даже очень прочно,
если бы человек, борясь с природой за свое существование, не был
вынуждей вкушать от «древа познания добра и зла», т.-е. постепенно
изучать законы этой самой природы. Раз вкусив от опасного «древа»,
он уже не так легко поддается влиянию вымысла. Если он по старой
привычка и продолжает верить во всемогущество бога, то его вера
принимает уже другой характер: бог отходит назад, так сказать, за кулисы
мира, а на первый план выступает природа с ее вечными, железными
неизменными законами. Но чудо не примиримо с законосообразностью:
законосообразность не оставляет места для чудес: чудеса отрицают
законосообразность. Спрашивается теперь, как же могут относиться к
библейским рассказам о чудесах люди, доросшие до "понятия о неизменных
законах природы? Они вынуждены отрицать их. Но отрицание
принимает различные виды, смотря по складу и ходу той общественной жиыга,
•в которой совершается данное умственное течение.
504
Французские просветители XVIII века просто смеялись над
библейскими рассказами, считая их проявлением невежества или даже
шарлатанства. Это резко отрицательное отношение к библии подсказывалось
французам той борьбой, которую вело тогда в их стране третье сословие
против «привилегированных» вообще и против духовенства в частности.
В протестантской Германии того же времени дело обстояло иначе.
Во-первых, само духовенство играло в ней со времени реформации совсем не
такую роль, какая принадлежала ему в католических странах; во-вторых,
«третье сословие» Германии было еще очень далеко тода от мысли о борьбе
против «старого порядка». Эти обстоятельства наложили свою печать на
всю историю немецкой литературы XVIII века. Между тем как во
Франции образованные представители третьего сословия пользовались каждым
новым выводом, каждой новой гипотезой науки, как оружием в борьбе
с представлениями и понятиями, выросшими на почве отживших
общественных отношений, в Германии речь шла не столько о том, чтобы
истребить старые предрассудки, сколько о том, чтобы согласить их с новыми
открытиями. Для революционно настроенных французских
просветителей религия была плодом невежества и обмана. Для немецких
сторонников просвещения, — даже для самых передовых из них, напр., для
Лессинга, — она была «воспитанием человеческого рода». Сообразно
с этим и библия являлась в их глазах не такой книгой, к которой можно
было относиться отрицательно и насмешливо. Они старались
«просветить» эту книгу, придать новый смысл ее рассказам, привести их в
соответствие с «духом времени». И вот началось самое усердное терзание
библии. В ветхом завете бот «говорит» чуть не на каждой странице. Но это
не значит, что он говорил в самом деле. Это лишь одно из тех
переносных выражений, на которые так падки восточные люди. Когда мы
читаем, что бог сказал то или другое, мы должны понимать это в том смысле,
что он внушил те или другие идеи тому или другому из своих верных
подданных. То же и со змием-искусителем, то же с валаамовой ослицей.
Эти животные вовсе не говорили в действительности. Они лишь навели
на известные мысли своих будто бы собеседников. В Троицын день
совершалось, как известно, сошествие на апостолов святого духа в виде
огненных языков. Это опять лишь переносное выражение. Автор или
авторы «Деяний святых апостолов» хотели сказать этим лишь то, что
апостолы испытали тогда сильный припадок религиозного чувства. Впрочем,
по истолкованиям других, «просвещенных» и исследователей дело
происходило несколько иначе. Сошедшие на апостолов огненные языки
представляли собой совершенно естественное явление: именно электрические
искры. Точно также, если Павел ослеп, идя по дороге в Дамаск, то это
объясняется естественным влиянием грозы; а если старец Анания исцелил
его прикосновением своих рук, то ведь известно, что у стариков часто
бывают очень холодные руки, а холод уменьшает воспаление. Если Иисус
воскресил многих, то это объясняется тем простым обстоятельством, что
он имел дело не с трупами, а с живыми организмами, находившимися
в обмороке. Его собственная смерть на кресте была лишь мнимой смертью.
По истолкованию довольно известного в свое время д-ра Паулуса, Иисус
сам «был удивлен» своим неожиданным возвращением к жизни. Наконец,
о вознесении его на небо не может быть речи уже по одному тому,
что и сами евангелисты выражаются на этот счет крайне неопределенно:
они говорят, что он был взят на небо (Марк); но не значит ли это,
что на небо взята его душа после его смерти? Да и с какой стати
вздумали бы евангелисты рассказывать вещи, которым не мог бы поверить
ьоь
ни один натуралист, ни астроном, могущий точно рассчитать, как много
времени надо пушечному ядру для того, чтобы долететь до...
Сириуса?
Излишне доказывать, что подобная критика евангелий совершенно
несостоятельна, что она свидетельствует именно об отсутствии истинно-
критического отношения к вопросу у ее представителей. Она могла быть
хороша и полезна как первый шаг. Но за первым шагом, сделанным еще
Спинозой, должен был следовать другой.
(Примечания к «Людвигу Фейербаху» Энгельса).
* *
Что значит познать религию? Это, между прочим, значит
подвергнуть научному, критическому рассмотрению вопрос о том, как же
возникли те повествования, те аллегорические мифы, с помощью которых
религия представляет истину. Эту научную задачу и взял на себя
ученик Гегеля — Давид Фридрих Штраус.
Его книга — «Жизнь Иисуса Христа», появившаяся в 1835 году,
была первым крупным теоретическим явлением в процессе распада гегс-
левой школы. Штраус никогда не склонялся к политическому
радикализму. В революционную эпоху 1848—1849 гг. он показал себя очень
большим оппортунистом. Но в богословской литературе Германии его
выступление составило поистине революционную эпоху. Т. Циглер думает,
что едва ли какая-нибудь другая книга имела в XIX в. такое влияние,
как Штраусова «Жизнь Иисуса».
Сильнейшим доказательством того положения, что евангельские
рассказы заключают в себе очень мало исторически достоверного,
Штраус считает чудеса.
В тогдашней богословской литературе Германии существовало
двоякое отношение к чудесам. «Супранатуралисты» признавали их
действительность, между тем как рационалисты отрицали ее, усиливаясь
найти естественное объяснение тем мнимым чудесам. Штраус разошелся
и с теми и с другими. Он не только отказывался верить в чудеса.
Он утверждал, что недостоверны самые события, выдававшиеся
евангелистами за чудеса и получавшие естественное объяснение под пером
находчивых рационалистов. Он провозгласил, что пора положить конек
ненаучным попыткам «сделать вероятным невероятное, исторически
мыслимым то, чего не было в истории». Следуя Шеллингу и Гегелю, он
высказал ту мысль, что в евангельских рассказах следует видеть не
сообщения о действительных событиях, а только мифы, которые сложились
в недрах христианских общин и отражали собою мессианические идеи
своего времени. Вот как он сам излагал впоследствии свой взгляд
на процесс возникновения интересующих нас здесь мифов:
«Напрасно было бы, говорил я, искать естественных объяснений для
таких, например, фактов, какие сообщаются нам в рассказах о звезде,
явившейся восточным мудрецам, о преображении, о чудесном
насыщении несколькими хлебами нескольких тысяч человек и т. п.; но так как,
с другой стороны, нельзя допустить, что такие сверхъестественные
явления действительно совершались, то остается признать подобные
рассказы вымыслами. На вопрос, почему же во время возникновения наших
евангелий сочинялись об Иисусе такого роДа рассказы, я отвечал, прежде
всего, указанием на тогдашние ожидания мессии. Я говорил, что после
того, как сначала небольшое, а затем все более и более возраставшее число
ЬОв
людей стало признавать Иисуса за мессию, эти люди прониклись
уверенностью в том, что с ним должно было случиться все то, чего ожидали
от мессии, основываясь на ветхозаветных пророчествах, преобразованиях
и их ходячих объяснениях. Как бы ни было хорошо известно, что Иисус
родился в Назарете, но в качестве мессии и сына Давидова, он все-таки
должен был родиться в Вифлееме, потому что так пророчествовал Михей.
Предание могло сохранить очень резкие отзывы Иисуса о страсти его
земляков к чудесам. Но так как первый освободитель народа Моисей
делал чудеса, то их должен был совершать и последний его освободитель,
мессия, т.-е. Иисус. Исайя предсказывал, что когда явится мессия,
откроются очи слепых, глухие станут слышать, хромые будут скакать, как
олени, и развяжутся языки косноязычных. Таким образом, было с
точностью известно, какие именно чудеса должен был совершить Иисус, т.-е.
мессия. Вот почему первые христианские общины не только могли, но
и должны были сочинять рассказы об Иисусе, сами не сознавая, однако,
что они их сочиняют... Такой взгляд ставит происхождение христиан
ских мифов на одну доску с тем, что мы встречаем в истории
возникновения прочих религий. В том-то и заключаются новейшие успехи науки
в области мифологии, что она поняла, как возникают мифы,
представляющие собою не сознательное и намеренное измышление отдельного лица,
а продукт общего сознания целого народа или религиозного общества.
Конечно, кто-нибудь первый должен высказать это общее убеждение. Миф
не есть оболочка, в которую мудрец, для пользы и назидания
невежественной толпы, прячет известную идею. В мифе идея возникает лишь вместе
с рассказом, существует лишь в виде рассказа и в своем чистом виде
непонятна самим рассказчикам...»
Без вякого сомнения, только такую постановку вопроса и можно
признать научной. В лице Штрауса, школа Гегеля, в самом деле,
подошла к религии, — или, по крайней мере, к некоторым плодам религиозного
творчества, — с хирургическим ножом научного исследования в руках.
Однако, правильная постановка вопроса еще не равносильна правильному
его решению. Книга Штрауса вызвала много замечаний и возражений.
Так, например, Вейссе утверждал, что к тому времени, когда написаны
были три наши первые евангелия, в христианских общинах еще не
сложилось предание «определенного типа». Отсюда следовало, что содержание
этих евангелий не может быть объяснено преданием. Вейссе, считавший
евангелие от Марка первым по времени из наших евангелий; доказывал,
что это первое евангелие легло в основу повествований Матвея и Луки.
Но если один евангелист заимствовал свой материал у другого, то он мог
подвергнуть его известной переработке. А это показывает, что в
евангелиях мы, вероятно, имеем дело не только с мифами, но также и с
продуктами личного творчества евангелистов. Наконец, было высказано
то мнение, что в эпоху, предшествовавшую появлению Иисуса и
возникновению христианских общин, представление о мессии не было так сильно
распространено в иудейском мире, как это думал Штраус.
Репштельнее^всех других критиковал Штрауса Бруно Бауэр.
Возражая своим критикам, Штраус заметил, что в гегелевой школе
образовалось три оттенка мысли: центр и два крыла — правое и левое.
Бруно Бауэр, тоже бывший учеником Гегеля, примыкал сначала к
правому крылу. Но в конце 30 годов он стал уже одним из самых крайних
на левой стороне. В 1840 г. он выпустил свою «Критику евангельской
истории Иоанна», а в 1841—1842 гг. «Критику евангельской истории
синоптиков и Иоанна». Эти его сочинения, — особенно последнее,—
50Т
наделали много шуму. Раздраженная против Бауэра ортодоксия добилась
того, что у него было отнято праяво университетского преподавания.
По мнению Бауэра, за Штраусом навсегда останется та заслуга,
что он окончательно разорвал с ортодоксией. Но, разорвав с нею, он
сделал только первый шаг на пути правильного анализа евангельской
истории. Его теория мифов не выдерживает критики. Она сама страдает
мистицизмом. Говоря, что евангельская история имеет свой источник
в предании, Штраус объясняет очень мало, так как задача заключается
именно в исследовании того процесса, которому предание обязано своим
происхождением. Не таинственная 'и бессознательная творческая
деятельность христиански общины создала евангельскую историю. Ее
создало совершенно сознательное творчество отдельных лиц,
преследовавших определенные религиозные цели. Это очень бросается в глаза при
чтении четвертого евангелия, но заметно и в остальных. Так называемый
Лука переделывал по своему усмотрению евангелие так называемого
Марка, а так называемый Матвей перекраивает их обоих, стараясь
приспособить их рассказы к понятиям и духовным потребностям своего
собственного времени. Он старался согласить их между собою, но сам
запутывается при этом во многих противоречиях.
Уже Штраус пришел к тому выводу, что в нашем распоряжении
мало таких данных, которые позволили бы нам составить себе
определенное представление о личности Иисуса. Б. Бауэр совсем отверг его
историческое существование1). Понятно, какое негодование должен был он
вызвать в огромном большинстве своих читателей. И, конечно, не надо
забывать при этом, что у Бауэра вопрос все-таки получил более верную
постановку, нежели у Штрауса. Исследователям, державшимся взгляда
Бауэра, во всяком случае приходилось рассматривать христианство
не как плод, окончательно созревший на почве еврейских мессиацических
ожиданий, а как духовный результат развития греко-римской культуры.
Бауэр настаивал на том, что христианство явилось как продукт
известных общественных отношений. Правда, также языком он заговорил уже
значительно позже,— в семидесятых годах прошлого века, а в то время,
когда он вел полемику со Штраусом, он сам, в своем понимании
христианства, оставался чистокровным идеалистом, что и навлекло на него,
несколько лет спустя, упрек со стороны Маркса, оказавшего,* что,
по Бауэру, евангелия были продиктованы не святым духом, а бесконечным
самосознанием.
(«От идеализма к материализму»).
Ф. Энгельс
ИЗУЧЕНИЕ РАННЕГО ХРИСТИАНСТВА
Взгляд на все религии, а вместе с тем и на христианство, как
на дело обманщиков, взгляд, господствовавший со времени средних веков
вплоть до просветителей XVIII в. включительно, перестал быть
удовлетворительным с тех пор как Гегель поставил перед философией задачу
*) В -этом отношении Бауэр был вполне прав: новейшие исследования,
вынуждают каждого пооледовательно-мыслящего ученого, занимающегося этим вопросом, стать
на точку зрения Бауэра, т.-е. признать личность Христа нереальной, мифической,
никогда на самом деле не существовавшей. — Прим, ред.
508
доказать рациональное развитие истории. Вполне понятно теперь, что
если естественные религии, как поклонение фетишам у негров или
первобытная религия, общая всем арийцам, .возникли без того, чтобы тут играл
какую-нибудь роль обман, то и в их дальнейшем развитии очень скоро
поповский обман становится неизбежным. Но искусственные религии
наряду со всей их искренней фантазией не могут даже и при их основании
обойтись без обмана и подделок истории. Христианство в самом начале
дало очень недурные образцы этого рода, как Бауэр и показал в своей
критике «нового завета». Однако, это устанавливает лишь общее явление,
но не объясняет отдельного случая, о котором здесь идет дело.
С религией, которая покорила себе Римскую мировую империю и в
течение 1800 лет господствовала над значительнейшей частью
цивилизованного человечества, нельзя разделаться просто, объявивши ее искусственно
состряпанной бессмыслицей. Покончить с ней можно — лишь сумев
объяснить ее происхождение и ее развитие из исторических условий, при
которых она возникла и достигла господства. В случае с христианством
надо решить вопрос, каким образом народные массы Римской империи
предпочли эту бессмыслицу, проповедуемую к тому же ещ,е угнетенными
рабами, всем другим религиям, так что, наконец, честолюбивый
Константин понял, что принять эту бессмыслицу — есть лучшее средство для
того, чтобы возвыситься до положения самодержца римского мира.
Бруно Бауэр более, чем кто-либо другой, содействовал тому, чтобы
ответить на этот вопрос. Установленные Вильке хронологический порядок
и взаимную зависимость евангелий друг от друга он доказал
неопровержимо, исходя из их содержания, как бы упрямо ни возражали против
этого полуверующего богословы периода реакции с 1849 г. Бауэр
разоблачил всю ненаучность расплывчатой теории мифов Штрауса, пользуясь
которой исследователь может в евангельских рассказах считать мифами
как раз то, что ему понадобится. И если в результате этого оказалось,
что во всех евангелиях не содержится ничего, что можно было бы доказать
исторически, — так что даже можно сомневаться в том, был ли Иисус
Христос исторической личностью, — то Бауэр таким путем расчистил
лишь почву, на которой можно разрешить вопрос: откуда происходят
представления и мысли, сложившиеся в христианстве в систему, и каким
образом они достигли мирового господства. Этим Бауэр занимался
до последнего времени.
(«Некролог Бруно Бауэра»).
* *
*
Немецкая критика библии — единственный до сих пор научный
источник наших познаний в области истории первоначального
христианства— представлена двумя течениями.
Одно течение — тюбингенская школа, к которой с некоторым правом
можно причислить и Д. Ф. Штрауса. В критическом исследовании она
идет настолько далеко, насколько это вообще возможно для теологической
школы. Она признает, что четыре евангелия являются не рассказами
очевидцев, но позднейшей переработкой утерянных сочинений и что из
посланий, приписываемых апостолу Павлу, ему действительно принадлежат
только четыре и т. д. Она вычеркивает из исторического рассказа все
чудеса и противоречия, как недопустимые. Но в остальном пытается
«спасти все, что еще можно спасти», и в этом проявляется ее характер,
как теологической школы. Этим она сделала возможным, что Ренан, по
509
большей части, опираясь на эту школу и применяя тот же метод, «спасает
гораздо больше» и хочет навязать нам в качестве исторически
достоверного материала, кроме, по крайней мере, сомнительных рассказов из
Нового завета, множество других легенд о мучениках. Но, во всяком случае,
все то, что тюбингенская школа выбрасывает из Нового Завета как
неисторическое или подложное, можно считать дли науки устраненным.
Другое направление представлено только одним человеком —
Бруно Бауэром. Его громадная заслуга основана не только на
беспощадной критике евангелия и посланий апостолов, но и на том, что он первый
серьезно занялся исследованием не только иудейских и греко-алексан-
дрийоких, но и чисто греческих и греко-римских элементов, которые
проложили для христианства дорогу к превращению его в мировую религию.
Легенда о христианстве, сразу и в готовом виде возникшем из иудейства
и победившем мир своей догматикой и этикой, установленной в главных
чертах в Палестине, — эта легенда стала со времени Бауэра невозможной
и может продолжать свое прозябание только на теологических
факультетах и среди людей, которые хотят «удержать религию для народа» даже
в ущерб науке. Огромное влияние александрийской филоновской школы
и греко-римской вульгарной философии — платоновской и в особенности
стоической — на христианство, которое при Константине стало
государственной релитией, далеко еще в подробностях не установлено, но
существование этого влияния доказано, и это преимущественно заслуга
Бруно Бауэра. Он положил основание тому пониманию, что христианство
не было введено в греко-римский мир извне, из Иудеи и навязано Риму,
но что оно, по крайней мере, в качестве мировой революции является
самостоятельным продуктом этого мира. Конечно, Бауэр как и вое люди,
борющиеся с закоренелыми предрассудками, слишком далеко зашел в этом
направлении. Чтобы установить и на основании литературных документов
влияние Филона и особенно Сенеки на возникающее христианство, а также
представить новозаветных писателей, как настоящих плагиаторов
вышеупомянутых философов, он принужден был отнести происхождение новой
религии к времени, почти на полстолетие позже, выбросить
противоречащие ему сообщения римских историков и вообще позволить себе
большие вольности в историческом изложении. По его мнению,
христианство, как таковое, возникло только при императорах династии
Флавиев, а новозаветная литература при Адриане Антонине и Марке
Аврелии. Вследствие этого у Бауэра исчезает и всякая историческая почва
для новозаветных рассказов об Иисусе и его учениках; эти рассказы
у него превращаются в сказки, в которых внутренние фазы развития
и духовной борьбы первых общин переносятся на более или менее
вымышленные личности. Согласно Бауэру, родиной новой религии
является не Галилея и Иерусалим, но Александрия и Рим.
Итак, если тюбингенская школа предлагает нам в очищенных его от
сомнительных мест рассказах новозаветной истории и литературы
крайний максимум того, чем наука может довольствоваться в настоящее время
даже в спорных случаях, то Бауэр имеет максимум того, что она может
еще оспаривать. В действительности истина лежит между этими
границами. Удастся ли установить ее, на основании современных данных,
кажется очень сомнительным. Новые открытия, особенно в Риме, на Востоке
и прежде всего в Бтипте, дадут гораздо больше, чем какая угодно критика.
(«К истории первоначального христианства»).
510
Р. Виппер
ЧТО МЫ ЗНАЕМ ОБ ИИСУСЕ? г)
Возникновение христианства представляет один из самых темных
ж неясных вопросов истории. На первый взгляд такое положение вещей
кажется изумительным. Нас спросят: как, неужели в момент появления
христианства не было образованных наблюдателей, мастеров
литературного искусства, публицистов, ораторов, ученых, которые с разных сторон
могли бы осветить события и настроения? — Конечно, все это было:
первый и второй века нашей эры составляют эпоху блестящей и широкой
культуры в пределах средиземноморского мира; люда того времени много
я усердно читали, страны, входившие в состав Рижской империи и
прилегавшие к ним, находились в оживленном между собою обмене. Но беда
в том, что обширная литература эпохи, которую принято называть концом
даычества и началом христианства, подверглась ряду уничтожающих
катастроф.
Среди последних видное место занимает пожар 391 г., в котором
огорела значительная часть библиотеки, принадлежавшей знаменитому
музею египетской Александрии. Этот пожар не был простой
случайностью: он составлял выполнение адского плана тогдашних врагов и
разрушителей культуры, выступавших в монашеской рясе и предводимых одним
из крупнейших иерархов церкви, александрийским епископом Феофилом.
В наших учебниках не упоминается о христианском погроме старинного
университета, но зато с осуждением говорится, что арабы, спустя 2% века,
топили бани александрийскими книгами и рукописями. Следует
заметить, что арабы были в это время невежественными дикарями; когда они
стали немного приближаться к быту образованных народов, они
спохватились спасать культурное наследство древности. Иначе были настроены
виновники более раннего пожара, которые представляли злостное
направление общественных кругов, неудержимо опускавшихся в бездну
варварства и принесших с собою сознательную вражду к культуре.
Потерявши вкус ко всему, что красит жизнь, что составляет радость
изобретения, творчества, изящной и старательной работы, они крушили под
именем развратного язычества создания прежних поколений.
В своей жажде разрушения христианские циники и нигилисты
соприкасались с ревностью ученых богословов и правителей церкви,
поскольку иерархи и книжники пытались строгой цензурой очистить круг
чтения своей паствы от всего, что могло совратить опекаемых с пути
истины. Холодное, рассудочное инквизиторство образованных людей часто
приводило к таким же результатам и выражалось в тех же формах, что и
слепая страсть поджигателей. Надо иметь в виду, что понятие «языческих
заблуждений», понятие вообще мыслей и учений, «опасных для христиан»,
принималось в очень широком и произвольном смысле. Часто то, что
ценили в качестве религиозной святыни в одной провинции, могло
оказаться ересью в другой. Некоторые произведения, вызывавшие восторг
в одну эпоху, представлялись последующим поколениям верхом
заблуждения. В таких случаях цензура и инквизиция при первой возможности
совершали свое разрушительное дело.
*) Автор этого содержательного отрывка, буржуазный русский историк,
следуя за Древсом (см. следующий отрывок), категорически отрицает существование
Иисуса Христа. А, судя по всему, эта точка зрения должна быть признала един-
сгвенно правильной. — Прим. ред.
511
Состояние сохранившейся литературы раннего
х ри стианства.
Благочестивый антиохийский епископ Феодорит (умерший в 457 г.)
в силу побуждений, нам теперь совершенно непонятных, ополчился
против единого евангелия, или евангельской «Гармонии», составленной
сирийцем Татианом, которая пользовалась в течение почти 2 веков именно
на Востоке большою популярностью. Ревностный иерарх не
ограничился предписанием по епархии восстановить 4 раздельные евангелия;
мало того — он распорядился сжечь несколько сот экземпляров Татиа-
новой «Гармонии».
На примере Феодорита видно, как близко к делу истребителей
подходила работа ученых редакторов-составителей церковного канона.
Движимые пуританским усердием, они в сущности гораздо больше
разрушали, чем сохраняли, и отсюда объясняется ничтожное сравнительно
количество сочинений, которые остались в виде документов раннего
христианства. Да и среди самого канона иные произведения уцелели
каким-то чудом. Напр., не раз тонение поднималось против откровения
Иоаннова; уже поколения, жившие 100 лет спустя после составления
книги, остро чувствовали иудейский характер ее; ученые противники
находили, что она лишена божественного вдохновения, не может иметь
автором апостола и даже приписьгоали ее дерзкой фальсификации одного
из еретиков. Другое произведение, носившее то же имя апостола Иоанна,
четвертое евангелие, также вызывало протест: его учение о Логосе,
воплощенном Разуме, отклоняли, в конце II века, так наз. алоги,
отрицатели рассудочной теории, не желавшие и слышать о Логосе в связи
с именем Иисуса Христа.
Своеобразную роль играл в редактировании новозаветных книг
Маркион, один из самых выдающихся богословов II века. Хотя
впоследствии церковь признала Маркиона еретиком, однако в сущности ему она
обязана обработкой посланий ап. Павла. Но у Маркиона, помимо
творческого дарования, была еще фанатическая исключительность сектанта:
он хотел устранить из священных текстов все, что напоминало иудейский
ветхий завет, все, что ослабляло новое учение о благодати. Послания
ап. Павла удовлетворяли Маркиона в этом смысле или, по крайней мере,
казались ему безукоризненными лишь.после произведенной им редакции.
Мы не знаем, какой вид имели послания раньше, до Маркиона. Но
случайно нам известно, в чем состояла поправка, внесенная Маркионом
в евангелие от Луки, которое он высоко ценил в качестве произведения
ученика ап. Павла: Маркион выкинул из него ссылки на ветхий завет,
а также целиком устранил две первые главы, где заключается рассказ
о рождении Иоанна Крестителя и Иисуса Христа, слишком умалявший
в его глазах божественное достоинство' спасителя.
И Откровение, и евангелие от Иоанца, и начало евангелия от Луки
благополучно удержались в конце и дожили^ до нашего времени. Но
колебания в их судьбе показывают, какие бури свирепствовали в пределах
христианского богословия. Нам известны по отрывкам и по названиям
несколько книг — евангелие Петра, Фомы, евангелие евреев и др., —
которые пострадали от ревности сберегателей чистоты канона и погибли для
потомства. Вероятно, число таких произведений, подвергнутых опале,
было весьма велико.
Оба явления, столь близкие между собою по результатам —
уничтожение книг врагами культуры и очищение литературы ревнителями воз-
§12
вышенного учения, — создали для поколений последующих зрелище
весьма своеобразное. Вокруг святых канонических книг образовалась
как бы пустыня; они действительно могли казаться сошедшими с небес,
возникшими вне пространства и времени. Точно какая-то
предусмотрительная рука уничтожила всех предшественников, современников и
соперников маленького состава воспринятых церковью книг, и уничтожила
для того, чтобы не видно было, откуда заимствованы различные доли
христианского учения и устройства.
Уже первые ученые историки, занявшиеся исследованием вопроса
о происхождении христианства, испытали все затруднения, какие
неизбежно должны были получиться вследствие многократных разгромов
литературы и гибели важнейших источников. Нам теперь, напр., ясно
видно, в каком тяжелом, иногда жалком положении находится Евсевий
Кесарийский, автор большой церковной истории, первой из сочинений
такого рода.
Евсевий (умерший в 340 г.), современник Константина Великого,
как настоящий историк с широким взглядом, хочет вдвинуть факты
возникновения христианства в рамки всемирно-историчесюнх отношений.
Для первого века христианской эры, для времени от Автуста до
Домициана, у него хороший руководитель, дающий яркие картины, интересные
характеристики, именно Иосиф Флавий, историк перной иудейской
революции, начавшейся при Нероне и подавленной при Веспасиане (66—73 г.г.
после р. х.). Обладая твердой канвой в виде рассказа Иосифа о Римской
империи и иудейских партиях бурной эпохи, предшествующей
великому восстанию, Евсевий приспособляет к ней данные
христианской традиции, и благодаря этому получается какое-то подобие
достоверности и фактичности в самой истории христианства. Но как только на
событиях конца 1 в. по р. х. прекратился рассказ Иосифа Флавия,
Евсевий остается беспомощным. О втором иудейском восстании,
происшедшем при Адриане (132—7 гг.), он почти ничего не знает. Историк
христианства не может поэтому объяснить нам, как вторая революция,
представляющая последний взрыв и окончательную гибель иудейского
мессианизма, отразилась на судьбе и настроениях христианских общин
Вообще участь христианства в течение второго столетия нашей эры,
самого важного и решительного века в ее формации, совсем темна для
автора церковной истории. Он вынужден пробавляться летендами о
мучениках неизвестной эпохи и даже вводить в рассказ представителей
неизвестных убеждений, лишь позднее зачисленных в ряды
христианских подвижников.
Есть, однако, область, в которой его смущение достигает
величайшей степени, это именно — вопрос об евангелиях, признанных церковью
за документы земной жизни спасителя. Что такое в действительности
евангелия, когда они возникли, в каких отношениях к описываемым
событиям и изображаемым людям находились составители евангельских
повестей? Между прочим у христианского писателя середины II века,
Юстина Мученика сохранилось замечание, что евангелиями называются
«воспоминания» апостолов, желавших передать потомству наставления
спасителя, завещанные им обряды и предметы учения. Повидимому, это
показывает, что в эпоху, когда писал Юстин, евангелия еще не
существовали в той форме, в какой мы их знаем, или что под евангелиями!
разумелось нечто иное, чем впоследствии. Как бы то ни было, но Евсевия такое
^определение евангелий не удовлетворяет. «Апостолы» не представляются
-ему достаточно реальными личностями, во всяком случае, они не могли
Г. Гурвв 33
513
в его глазах быть авторами литературных произведений. Как
исследователь, обладающий историческим чутьем, он сознает, что евангелия
составлены на известном расстоянии от изображаемых событий,
составлены не очевидцами, а только собирателями традиций. Какова же
в таком случае степень достоверности их рассказа и насколько
правильно передают они учение Христа? По этому поводу и
обнаруживается крайняя растерянность ученых христианских кругов, к которым
принадлежал Евсевий.
Для установления подлинности и достоверности евангелий ему
приходится ссылаться на писателя II века Палия, епископа Гиерапольского,
автора «Толкований к словам господним». Другого свидетеля, другой
авторитет Евсевий подыскать не может. Но и с Папием выходит беда.
Сочинений самого Папия Евсевий не видел, знает их только по
выдержкам и ссылкам. Евсевий ставит Папия очень невысоко, признает его ум
весьма ограниченным и ценит его только потому, что Палий вращался
в среде школы, созданной ближайшими спутниками спасителя, и
сохранил подлинные выражения представителей старого поколения
относительно происхождения устной и письменной традиции раннего
христианства. Вдобавок ко всему Палий отдавал предпочтение устным преданиям,
живому слову, преемственно передаваемому в школе, и весьма
невнимательно относился к книге.
После всех этих оговорок, и без того способных привести читателей
в отчаяние, Евсевий сообщает малоутешительное известие Папия о
происхождении евангелия от Марка. Оказывается, Палию говорил Иоанн
пресвитер (которого Евсевий предлагает не смешивать с Иоанном
апостолом) следующее: Марк был секретарем ал. Петра (или переводчиком —
в предположении, что апостол изъяснялся на палестинском наречии,
а Марк переводил его слова по-гречески); то, что он запомнил, он
записал тщательно, но не в том порядке, как это было сказано и совершено
Христом. Сам Марк не слушал господа и не следовал за ним, лишь
позднее (по окончании земной жизни. Христа) примкнул он к Петру;
апостол же, в свою очередь, излагал учение по частям и при случае,
вовсе не стараясь привести слова господни в систему.
Вот и все, что знали в эпоху Евсевия о возникновении евангелий.
Между прочим, нам крайне важно отметить, что уже тогда, в начале
IV века, в ученых кругах определенно выражалось критическое
отношение к произведениям раннего христианства. Самые старейшие из них
приписывались второму поколению, которое, по общему признанию, не
могло видеть основателя общины; изложение евангелий принималось
с оговоркой, что в нем никоим образом не должно искать системы и
порядка учения, как оно было преподано самим Христом. Интересно еще
видеть, что имена первоучителей христианства вызывали у тех же
ученых исследователей большие сомнения. Евсевий, напр., никак не может
допустить, чтобы четвертое евангелие и Апокалипсис были написаны
одним и тем же лицом. С большою радостью хватается он за сведение
Папия о двух Иоаннах, апостоле и пресвитере, и успокаивается на
заключении, что Апокалипсис, произведение, которое ему, видимо, не нравится,
составлен не апостолом, не личным спутником и учеником спасителя,
а человеком второго поколения, способным отклониться от чистых
первоначальных традиций.
К сожалению, дух критики и исследования, черты которого
обнаруживает Евсевий, был заглушён догматическими заботами, очень
сильными у того же самого поколения, и вместо того, чтобы, помочь нам
514
в выявлении вопросов, относящихся к началу христианства, они еще
более затемнили дело. Евсевий был современником Никейского собора
325 года, выработавшего неподвижный символ веры. Для того, чтобы
привести литературу христианства в соответствие с требованиями
закрепленного правоверия, ученые редакторы предприняли исправление,
обработку и дополнение текста, занялись интерполяциями (вставками) и
подчистками. В евангелии от Матфея, гл. XXVIII, 19, мы читаем следующие
слова, вложенные в уста Иисуса при его появлении среди учеников
на галилейской горе; «Идите учить все народы и крестите их именем
отца и сына и св. духа». Не может быть никакого сомнения, что в
первоначальном тексте евангелия этих слов не было: учение о троице чуждо
евангелистам, св. дух, правда, упоминается в евангелии, но в совершенно
ином смысле — как сила, исходящая от всевышнего. Перед нами —
интерполяция, сделанная богословом, усердно вводившим положения
символа веры в старинные документы христианства.
Ревнительство интерполяторов заходило еще гораздо дальше. Они
пытались дополнять и поправлять нехристианских писателей, языческих
и иудейских для того, чтобы сделать их свидетелями истин, принятых
среди христиан. Так произошло две знаменитые вставки, которые до
последнего' времени доставляли много хлопот исследователям истории
христианства, одна у Тацита, другая у Иосифа Флавия.
Тацит рассказывает о пожаре города Рима в 64 году по р. х., о том,
что народ сильно волновался, обвинял правительство и что Нерон, желая
отклонить подозрение, свалил вину на иудейскую секту христиан, без
того вызывавшую ненависть в массе, а затем устроил в своих садах
ужасную иллюминацию живых горящих тел. К слову «христиане» в тексте
Тацита прибавлено объяснение: «название происходит от имени Иисуса
Христа, казненного ;в Иудее при прокураторе Понтии Пилате». Здесь
странно прежде всего то, что Тациту приходится упоминать Понтия
Пилата, так сказать, задним числом, рассказывая о 64 г., между тем как
о самом управлении Пилата в 27 — 37 гг. в соответствующем отделе
«Летописей» у нето нет ни слова, да и вообще Понтай Пилат Тациту, если
не считать спорного места, совершенно неизвестен. Зачем это имя тут
понадобилось? Почему оказалась столь странная забота о
восстановлении правильной хронологии у писателя, раньше не обнаруживавшего
интереса к событиям в Палестине? Все становится понятно, если две
строчки, связывающие Иисуса Христа с Понтием Пилатом, мы примем
за интерполяцию богослова, который искал случая закрепить в тексте
Тацита одно из положений Никейского символа веры, настаивающего на
том, что Иисус Христос распят на кресте при Понтии Пилате.
Вставка об Иисусе Христе у Иосифа Флавия более обстоятельна,
но вызывает еще меньше сомнений в смысле своей присочиненности.
Иосиф нигде, кроме данного случая, не говорит не только о Христе, но и
о христианах. Здесь ему приписаны выражения о Христе, как
сверхчеловеке, воскресающем после смерти, что резко расходится с
мировоззрением Иосифа, которое можно назвать деизмом, не допускающим на
земле полубогов или святых сверхъестественной силы. К тому же вставка
об Иисусе Христе сделана очень некстати: она внешним образом и
по своему тону разрывает рассказ о бедствиях, испытанных иудеями
в конце правления Тиберия. В заключение надо сказать, что
интерполятор руководился той же тенденцией, которая направляла редактора
Тацитова текста: он и поместил так неловко известие о свете мира среди
бытовых подробностей и интриг эпохи римского самодержавия только
зз*
515
для того, чтобы не пропустить случая упомянуть об Иисусе Христе
в связи с управлением Понгия Пилата.
Для будущих поколений исследование начала христианства
приняло характер почти неодолимых затруднений. Ранняя церковь
оставила нам готовый канон, состав книг, обрезанный по всем сторонам,
отдаленный от окружающего мира, что-то вроде ослепительного света,
внезапно открывающегося среди полной тьмы. Никто не мот потом указать
ни авторов, ни места, ни времени происхождения отдельных книг. Никто
не знал мотивов, по которым одни книги были приняты, другие
отвергнуты учеными ранней церкви. Поэтому для взаимоотношений между
книгами Нового завета установились условные понятия, которые
рассматривались как церковные истины, но которые никто не мот проверить.
К числу таких условных понятий принадлежит одно очень важное для
христианской традиции отождествление: целый ряд посланий, .самые
крупные по размерам и наиболее важные для учения, для обрядности и
для церковного устройства, носящие имя апостола Павла, считаются
произведениями того проповедника именем Павла, который является
главным действующим лицом во второй части «Деяний апостольских».
Необходимо дать себе отчет в том, что это отождествление основано
на крайне шатких данных. В посланиях преобладает чрезвычайно
ученый отвлеченно-богословский характер изложения; трудно представить
себе что-нибудь более непохожее* на проповедь среди народа, в которой
в свою очередь так силен был ал. Павел, изображенный в Деяниях в
качестве неутомимого странствооателя и учителя толпы. Что здесь
соединили вместе двух разных людей, показывает странная, необъяснимая
игра именами. Ведь апостол Деяний, который из преследователя Христа,
силой чудесного видения, обратился в его поклонника, собственно,
назывался Савлом или Саулом. Каким ебразом он сделался Павлом? —
Деяния, XIIL 7—9, передают, что, привлекши внимание римского
проконсула Сергия Павла,. Савл направился к нему излагать свое учение:
«Савл, он же Павл, вперил взор (в римлянина) и, наполнившись духа
^святого, заговорил» ... Дальше автор уже не возвращается к имени
Савла, а называет апостола исключительно Павлом. Вы чувствуете ясно,
что тут нет никакой мотивировки. Автор пользуется, так сказать,
удобным случаем встречи с римским громким авторитетным именем,
поражается как бы созвучием слов Савл и Павл и сам переименовывает своего
героя. Поводимому, до него дошла история, связанная с именем Савла,
он сам приспособил ее к новому имени. Здесь интерполяция происходит
на наших глазах.
Таково состояние дошедшей до нас литературы раннего
христианства. Перед нами ничтожные обломки великой эпохи оживленного
творчества, сохранившиеся лишь ценою такой обработки, которая отняла
у них черты индивидуальности, краски места и времени, наделила их
чуждыми вставками, подправила для узких богословских целей.
Понятно, что наука, которая ищет прежде всего документов эпохи,
непосредственных источников настроений общества известной поры, ока-
залась в самом затруднительном положении перед проблемами истории
возникновения христианства. Вместо памятников времени, хотя бы
отрывочных, хотя бы пристрастных, она встречала перед собою
заколдованную крепость условных терминов, полуотертых картин, обманчивых
подстановок.
Для выработки критического метода это была суровая, но
необычайно полезная школа. Ни на чем, может быть, в такой мере не вос-
516
питался исторический критицизм, как на анализе произведений раннего
христианства, Так велики были, однако, трудности в этой работе, что
вплоть до последнего времени мы еще встречаемся с рядом предрассудков,
оставшихся в наследство от церковной традиции, которая одновременно
и оберегала, и уродовала 'Свои священные документы.
Критические замечания о «жизнеописании» Иисуса
Самые упорные из этих предрассудков удержались до известной
степени искусственно, благодаря тому, что критическая работа
преимущественно связана была с деятельностью протестантского богословия.
Протестанты вели борьбу с католической церковью во имя религиозного
самоопределения личности и старались истребить в христианской
традиции, вплоть до самых основателей религии, вое, что отзывалось гнетом
авторитета; отсюда удаление чудесного элемента, стремление понимать
старинные книги рационалистически и аллегорически, видеть в
первоучителях христианства только людей, исторических деятелей. Поскольку,
однако, протестантские ученые должны были оберегать свою церковную
общину, они остановились на полдороге: они признали некоторые
незыблемые догматы, а создателей этих догматов объявили величайшими
религиозными гениями человечества. Для того, чтобы обосновать
подобный взгляд, чтобы нарисовать образы основателя общины, Иисуса и
величайшего из его последователей, апостола Павла, они вынуждены!
признать Евангелия, Деяния и Послания подлинными документами
самых ранних времен, т.-е. задержать в существе критику их как
исторических источников.
Почти вся германская протестантская наука XIX века прошла под
знаком этой связанности, этой двойственности побуждений и приемов.
Отсюда объясняется множество сочинений под 'заглавием «Жизнь Иисуса»
(ив .них наиболее у нас известная — Давида Штрауса; Ренана «Жизнь
Иисуса» по своему направлению примыкает к германской протестантской
школе). Их составители обыкновенно проявляют острый критицизм в
отношении источников: они признают, что евангелия составлены сравнительно
поздно, что они не имеют в основе никаких непосредственных данных, что
в них не сохранилось почти ни одного подлинного слова первоучителя; и
все же из евангельского рассказа они пытаются извлечь черты
жизнеописания великого пророка и восстановить систему и манеру его учения.
Нам необходимо разобраться в представлениях либеральных
богословов-рационалистов, так как их методы сейчас господствуют в науке.
Эти ученые говорят на одинаковом с нами языке. Они заявляют себя!
прежде всего людьми науки, а потом уже церковниками. Мы можем
требовать, чтобы они шли до конца, были последовательны в своих приемах
и удовлетворили всем требованиям научного анализа. Постараемся
набросать в общих чертах то, что дает нам обыкновенно «жизнь Иисуса».
Во времена императора Тиберия, когда Палестина находилась под
управлением римской бюрократии, появился в Галилее народный
проповедник необычайной силы и таланта, притом обладавший удивительно
притягательным нравом и темпераментом. Иисус из Назарета был
величайшим религиозным гением человечества, но деятельность его прошла
в виде краткого, молниеносного момента. Он выступил внезапно, его
проповедь длилась, может быть, не более года, самое большее — три года.
Полом его странствующей проповеди была сначала глухая северная
провинция, сам он был по занятию плотник, его последователи — простые
люди, ремесленники, рыбаки.
517
Придя к сознанию, что он и есть мессия, обещанный израильскому
народу, галилейский проповедник решился на путешествие в релитиозный
центр иудейства Иерусалим, сначала вызвал восторг, но скоро был
схвачен, по наущению партии священников, и казнен при содействии
римского наместника. Ни один из иудейских или языческих писателей не
сохранил ни малейшей памяти об этом удивительном человеке и его
мимолетном выступлении в качестве учителя и агитатора. Сам он не написал
ни одной строчки, его учение было исключительно устной проповедью.
Тем не менее в евангелиях и посланиях должно признать отражение его
взглядов и раскрытие его религиозного завещания.
Для того, чтобы объяснить возможность столь но'быкновенных
явлений, биографы Иисуса прибегают к своеобразным психологическим
теориям. Они говорят, что разгадка чудодейственного влияния Иисуса
заключается в поразительной силе его личности. Достаточно было кратких
моментов его выступления перед простыми, бесхитростными людьми, чтобы
оставить неигладимо яркое впечатление. Его последователи, правда,
необразованные и даже безграмотные, ,не только прониклись его
жизненным примером, но также запомнили дословно его речь, его сложные
иногда загадочные притчи и. аллегории и передали в почти не измененном
виде искусным литераторам, которые © свою очередь не видели и не
слышали самого учителя, но поверили всему необыкновенному, что было
им передано, и старательно записали предание на пользу потомства.
Мало того, случилось нечто еще (более поразительное.
Непосредственные ученики, видевшие смерть пророка и оставшиеся в Иерусалиме,
тем не менее уверовали, что он воскрес, исчезнувши из гроба своего. В их
мыслях он вознесся на небо и стал богом; его именем они стали исцелять
страждущих; во имя погибшего на кресте они основали общину, которая
скоро разрослась на всю империю, на все культурные страны, лежащие
вокруг Средиземного моря. При этом самый ревностный апостол, самый
искусный организатор новых религиозных общин, Оавл (он же Павел),
эллинизированный еврей из Тарса в Киликии, никогда не видел
основателя секты. Узнал об Иисусе Оавл лишь со слов непосредственных
свидетелей; но такова была сила посмертного влияния, что одно имя
казненного приобрело массы последователей его учению.
Надо признаться, что для историка только изложенная картина
представляет слишком много единственного, несравнимого и
вследствие того мало правдоподобного. Для подтверждения таких
головокружительных чудес приходится требовать очень хороших свидетельств,
чрезвычайно веских доказательств и авторитетных ссылок.
Но мы встречаемся с фактом полного молчания современной
римской, греческой и иудейской литературы. Насколько это обстоятельство
было досадно и неприятно для тех христианских ученых, которые
Старались ввести факты возникновения христианства и исторические рамки,
доказывает отчаянная попытка вставить в текст Тацита и Иосифа Флавия
упоминание об Иисусе Христе. Впрочем, замысел интерполяторов не
достиг цели. Ведь вставки у Тацита и Иосифа Флавия не дают никаких
указаний на реальную обстановку событий, изображенных в евангелиях,
и ни на шаг не подвигают нас в историческом понимании жизни Иисуса.
Что же касается молчания Тацита, то еще можно было бы утешиться:
интерес этого писателя сосредоточен на Риме, на придворных интригах,
столичных волнениях и войнах, ведомых римскими командирами; его
мало занимают провинции, особенно восточные, столь чуждые римлянам
по своему быту; он мог и пропустить факт выступления талилейского
518
проповедника. Совсем другое дело Иосиф Флавий. В двух сочинениях,
«Иудейских древностях» и «Иудейской войне», он обстоятельно излагает
события бурной эпохи от Ирода Великого до великого восстания 66 года.
Он превосходно знает свою Палестину, интересуется всеми оттенками
религиозных и политических партий своей родины, не пропускает ни)
одной детали в истории непрерывных почти восстаний страны, отмечает
всех проповедников, отшельников, агитаторов, инсургентов этой эпохи,
Насколько ценен Иосиф Флавий для изображения иудейской истории,
современной предполагаемым евангельским событиям, видно из Евсевия,
который не мог бы и шагу ступить без его помощи. И вот этот писатель,
упоминающий между порчим об отшельнике Иоанне Крестителе, не дает
ни единого намека на личность и деятельность Иисуса Христа!
Спрашивается: как же могла затеряться гениальная личность
галилейского пророка? С одной стороны, произвести такое единственное по
силе впечатление на ближайшую среду, с другой — остаться не
замеченной для всех остальных? Биографы Иисуса находятся в исключительно
трудном положении: их единственным историческим источником служит
свидетельство новозаветных книг, которое, в свою очередь, фактически
не может быть проверено и которое к тому же они сами подорвали своим
критическим анализом.
Что же представляют книги Нового завета в смысле исторического
материала для биографии Иисуса? Более половины канонических книг —
послания и Апокалипсис — не интересуются земной жизнью Иисуса.
Для апостола Павла, главного вероучителя христианства, странствования
великого учителя по Галилее, его притчи, аллегории, ответы на вопросы,
исцеления слепых и бесноватых, суд в Иерусалиме, обстоятельства
гибели — все это как бы не существует. Только смерть на кресте занимает
апостола, и то не как реальный факт религиозно-политической драмы,
не в качестве казни великого народного деятеля, а лишь как мистический
символ, как мировое событие вне пространства и времени. Для ап. Павла
нет Иисуса-человека, сына своего народа и своего века; он вовсе не знает
проповедника, горячего, самоотверженного деятеля, человека со
страстями, стремившегося к жизненной цели, встречавшего друзей и врагов;
он знает лишь бога, вера в которого спасает человечество.
Остаются в качестве исторического источника только евангелия, и
даже собственно только три первых евангелия, так наз. синоптики (т.-е.
дающие по сходству материала возможность составить синопсис, сводное
обозрение). Что касается четвертого евангелия, носящего имя ап. Иоанна,
критическая школа новейших ученых признает его за произведение
религиозно-философского характера, написанное без исторической цели и без
исторической тщательности, при свободном выборе отдельных эпизодов,
с наклонностью к резкому, почти демонстративному изображению чудес,
совершаемых воплощенным божеством. В литературном смысле Иоан-
ново евангелие относится к синоптикам, как одна из Робинзонад к
оригинальному Робинзону Дефо или как гётевский Фауст к Фаусту Марло или
к легенде о Фаусте XVI века.
Итак, синоптики — вот единственное прибежище для составителей
«жизни Иисуса», отыскивающих биографический материал. В
сочинениях, носящих такое или подобное заглавие, мы встречаемся с попыткой
перевести картины евангелий от Матфея, Марка и Луки на события жизни
обыкновенного смертного, понимать притчи и «слова господни» как
запись устной проповеди странствующего учителя. Но спрашивается:
вправе ли мы пользоваться евангелиями в таком реалистическом смысле?
519
Ведь евангелисты совсем не заняты обычными темами, 'которые
входят в состав исторического или биографического очерка. Обстановка,
в которой растет герой, его детские и молодые годы, его подготовка к
последующей деятельности, общество, в котором он вращается, развитие его
взглядов и настроений — все это вне кругозора евангельского
изложения.
Возьмем евангелие от Марка, наиболее похожее на историческое
повествование. Иисус сразу выступает как вполне готовая личность,
лучше оказать, как личность уже известная читателям. Возраст его не
определен, и это обстоятельство нисколько не интересует автора. Откуда
у него замечательная начитанность в Писании, каким образом
выработался в нем столь высокообразованный и тонкий богослов, также не
находит в евангелии объяснения. Выступает он не в родном: Назарете, а в
Капернауме; почему? — непонятно. Можно даже сомневаться,
существовал ли Капернаум, — ведь больше о нем никто не упоминает. Не видно,
чем питались Иисус и апостолы, когда они покинули свое рыбачье
ремесло и пошли за учителем, где они проживали. Евангелист рассказывает
так, что нельзя сделать никакого заключения о продолжительности
работы Иисуса. В течение одного дня он призывает учеников, учит в
синагоге, творит чудеса, излагает притчи, словом, сразу развертывает все свои
силы и качества, так что потом ему как будто уже нечего и делать в Гали<-
лее. Характер рассказа Марка таков, что его нельзя назвать
исторической повестью, а скорее хочется обозначить сценарием для драмы.
Два других синоптика, Матфей и Лука, не прибавляют никаких
новых исторических и биографических данных. У них есть легенды о
родителях и о рождении Иисуса, есть их генеалогия, приспособленная к
данным Ветхого завета и к роду Давидову, так как Мессия должен был
принадлежать к потомству Давида; у них расширены отделы, излагающие
учение, есть подробности к картине страданий, есть новые оказания
о воскресшем. Но в этих евангелиях мы еще более удаляемся от
биографии. Нет ничего общего даже с историческим или психологическим
романом. Чудесные дела чередуются с поучениями и притчами; конец
евангелия относится к области мистики и безусловно не согласуется с
жизнеописанием обыкновенного смертного.
Составители «жизни Иисуса» обыкновенно чувствуют крайнюю
скудность евангелия в смысле фактических данных и прибегают к
соединению евангельского рассказа с событиями и бытовыми чертами эпохи,
среди которой евангелисты поместили своего героя; они вплетают святую
повесть в цепь происшествий, известных из Иосифа Флавия и других
писателей, и составляют таким образом «Новозаветную современность».
Получается обманчивая картина. На первый взгляд кажется, что все
подходит, хорошо ладится вместе, что сведения посторонних и рассказ
евангелистов взаимно' дополняют друг друга. Но только на первый взгляд.
При анализе некоторых частностей мы замечаем, что евангелисты имели
весьма слабое представление о хронологии событий, не знали иудейских
учреждений. Пользоваться ими как источником для восстановления
палестинских событий начала I в. после р. х., очень опасно.
Вот пример. У всех трех евангелистов (Матф. XXI, 12—16, Марка
XI, 15—17, Луки XIX, 45—48) рассказано, как Иисус вскоре после
прибытия в Иерусалим вошел в храм и стал изгонять продавцов и
покупателей, опрокинул столы, менял и стулья торгующих голубями, говоря:
«написано — дом мой будет домом молитвы, а вы делаете его вертепом
разбойников» (псал. Vffl, 3).
520
Этот рассказ, очень важный и, так сказать, обязательный для
евангельской композиции, не соответствует действительности того
временил, куда <шк помещает Иисуса. В великом Иерубалимском храме не
было и не могло быть ничего подобного торговле. Правда, торговали у
ворот, на прилегающем базаре, продавали предметы приношений и жертв,
предназначавшихся для храма, но такого рода торговля ничем не
отличается «от того, что в христианскую эпоху происходило у ворот какого-
нибудь монастыря. Этих торговцев гнать не было никакого основания,
но говоря о том, что частному человеку храмовая
администрация и местные власти вообще не позволили бы так круто
распорядиться.
Евангельский рассказ, однако, явно разумеет что-то другое, какое-то
резкое осквернение храма, которому положил конец Иисус. Но в таком
случае мы должны признать, что евангелист в полном заблуждении,
что он передает фантастические происшествия и никоим образом не
может служить свидетелем или очевидцем обстановки, которую решился
изобразить. Можно, конечно, сделать одно предположение: весь рассказ
надо понимать не как передачу факта реальной жизни, а как аллегорию;
'след., храм означает не великое иерусалимское здание, а царство божие
или душу верующего и т. п. Но таким толкованием мы наносим
серьезный удар теории, которая видит в евангелиях материал для исторической
обрисовки эпохи. А затем мы косвенно подтверждаем то обстоятельство,
что евангелист стоял очень далеко от места и момента описываемых
происшествий: хотя бы храм подразумевался в аллегорическом смысле, но
вое же так непочтительно о нем мог говорить только иностранец,
придумать такое произвольное, ни на чем не основанное сравнение мог
только посторонний Иудее человек, который не только никогда не видел
храма, но и ничего о нем не слышал достоверного.
Как опасно пользоваться евангелиями в качестве исторического
источника, показывает особенно пример евангелиста Луки, который как
раз претендует на историческую осведомленность и делает больше всего
исторических ошибок. В начале III главы евангелист так определяет
момент выступления Иисуса: это было при Ироде Антипе и «Писании, князе
Абиленском, в священство Ганны и Кайафы. Но дело в том, что Лисаний
умер за шестьдесят лет до того, а двое первосвященников не могли
править зараз.
Очень странные вещи рассказывает тот же евангелист в
предшествующей II главе. В ст. 1—5 говорится, что родители Иисуса
отправились к моменту его рождения из галилейского Назарета в иудейский
Вифлеем, откуда они были родом. Зачем они переселялись? Евангелие
объясняет: в это время вьппел приказ по всей империи от императора
Августа, чтобы была произведена всеобщая перепись, а для этого все
должны были итти на место своего рождения.
Тут много неладного Прежде всего, помимо евангелий, мы
ниоткуда не знаем о всеобщей переписи в римской империи (Иосиф Флавий
упоминает только об описи имущества на Востоке, произведенной
наместником Сирии Квиринием). Факт этот представляется в высокой мере
сомнительным. Но допустим, что она происходила. Зачем же для переписи
понадобились такие странные переселения? Особенно неудачна та
прибавка, которую делает евангелист для точного счета времени: «эта
перепись, — говорит он, — была первая и пришлась на время управления
Сирией наместника Квириния». Между тем выше (I, 5) евангелист
заметил, что излагемые им события приходятся на время царя Ирода (разу-
521
моется, Ирод I, или Великий). Дело в том, что эти два имени не
соединимы. Когда правил Ирод, не было римских наместников, Иудея была
самостоятельным государством, находившимся лишь в дружественной
вассальной связи о Римом. Квириний, о котором евангелист прочел
у Иосифа Флавия, — личность историческая, но между смертью Ирода
(в 4 г. до р. х.) и вступлением римского наместника в присоединенную
в качестве провинции Иудею (в 6 г. после р. х.). прошло 10 лет.
Такую ошибку не мог бы сделать писатель, если бы он жил сам
в Палестине вскоре после описываемых событий, т.-е. около середины
I века. Так мог судить об Иудее только иностранец, писавший много
позже по смутным данным, которые он не в силах был проверить. Между
прочим заметим, что если, ради сохранения исторического авторитета
Луки, выкинуть из него повести Ирода и сберечь Квириния с переписью,
то этим нанесешь тяжкий удар рассказу другого евангелиста, Матфея
(II, 1—8), о том, как Ирод узнавал от волхвов о рождении Иисуса, как
приказал истребить вифлеемских младенцев и т. д.
На изложенной частности видны приемы работы евангелистов.
Исторические данные у них не составляют прочных точек опоры; не от
таких проверенных фактов пошло исследование. Нет, исторические
события отысканы ощупью, подобраны по соображениям
религиозно-символического характера. Перепись с переселением по месту рождения
привлечена для того, чтобы мессия, который должен происходить из рода
Давидова, мог родиться в Вифлееме, родина Давида. Он должен, кроме
того, родиться при Ироде, воплощенном сатане Иудеи, при
царе-нечестивце для того, чтобы получилась противоположность: царь-спаситель
появляется на смену царю-губителю; далее для того, чтобы найти
приложение старинной легенде о том, что великий нечестивец, узнавши о
рождении мстителя за порабощенный народ, ищет его гибели.
Чем более раскрываются перед нами приемы композиции
евангелистов, тем менее они кажутся надежными в качестве исторических
руководителей. Они явно слишком далеко стояли и по времени, и по месту
от событий, от тех народных, культурных, бытовых и географических
условий, с которыми они хотели связать свою повесть. Можно
сомневаться, была ли у евангелистов вообще историческая цель; вся их работа
ограничивалась лишь тем, чтобы приобрести некоторые исторические
привязки.
Имело ли христианство основателя?
Для либеральной богословской школы, представления которой мы
разбираем, авторитет евангелий, как сочинений исторических, стоит
незыблемо. Сторонников этого направления не смущают странные
исторические погрешности евангелистов, не смущает и скудность в
евангелиях исторических данных. В их глазах евангелия приобретают
значение крупнейшего, единственного в своем роде документа благодаря тому,
что в них отразилась с необыкновенной силой оригинальная личность
основателя христианства. По их мнению, вера в искупление человечества
кровью страданий не могла восторжествовать без великого личного
примера. Она предполагает страдальца. Или, иначе, новое учение
необходимо должно было появиться в устах великого учителя. Таким образом
личность и судьба Иисуса засвидетельствованы самим фактом
происхождения христианства. Нельзя себе представить его возникновение без
великого гениального первоначального деятеля. Поскольку евангелия
отразили этот факт, они имеют историческую ценность.
§22
Эту мысль с пафосом и решительностью выразли Гарнак, первейший
авторитет среди нынешних германских либеральных протестантов:
немыслимо «понять начало движения, подобного возникновению
христианской религии, если не представить себе основателя в качестве
исторической личности, — больше того, пришлось бы сочинить такового, если бы
случайно предание нам ничего о нем не рассказало».
Гарнак почти буквально совпал с знаменитой аргументацией
Вольтера в пользу бытия божия: «если бы не было бота, его надо было бы
выдумать!». Доказательство остроумно, но логически слабо. Ведь, говоря
так, мы только обнаруживаем, насколько нужно и желанно нам
известное заключение, в какой мере жаждем мы удержать его в силе. И мы
невольно попадаем в безвыходный крут. Мы доказываем авторитет
известного сочинения тем, что предполагаем в нем отражение роли
гениальной личности; но все, что мы утверждаем относительно этой гениальной
личности, мы извлекли исключительно из одного этого сочинения.
Евангелия считаются историческим документом потому, что они говорят
о величайшем историческом гении, но убеждение в реальности этого лица
только и держится на признании свидетельства о нем историческим
источником.
В воззрениях либеральной школы мы встречаемся также с
своеобразным понятием об основателе религии. Это понятие опирается, однако,
на устарелые, опровергнутые наукой аналогии. Прежде для каждой из
крупных, так назыв. всемирных, религий, для парсизма, или маздеизма,
для древне-израильской религии, для буддизма предполагался основатель.
В настоящее время мало кто пытается распознавать в Заратустре,
в Моисее, в Будде реальные исторические фигуры; в них видят
обыкновенно символы, сложившиеся в ходе самой религиозной
пропаганды.
В сущности только одна история мусульманства представляет
некоторые основания для разрисовки жизни и деятельности основателя
секты. Но как раз на примере Мохамеда видно, что легенда об основателе
религии несравненно важнее, чем сама реальная фигура, с которой ее
связывают. Мохамед был, сколько можно судить, слабовольный человек,
тщеславный и жестокий, преданный эротизму, мечтатель, отдававшийся
своим видениям. На окружавшую среду он имел большое влияние; он
вдохновлял воителей на страшные дела. Как завязка завоевательной
политики мусульман, деятельность Мохамеда, конечно, имела значение', но
основателем религии Мохамеда нельзя назвать. Священные книги ислама,
Коран и Сунна, составленные будто бы по воспоминаниям близких его
сподвижников, составляют работу ученых богословских кругов. Их
подлинная связь с Мохамедом так же сомнительна, как и отношение книг
Нового завета к деятельности Иисуса; тут поднимаются те же самые
недоумения. Но одно ясно: Коран не заключает исторических
свидетельств о Мохамеде. Не будь случайных заметок старинных арабских
летописцев о мекканском пророке, который бежал в Медину, основал
еретическую общину и отвоевал потом обратно родной город, мы бы
ничего о нем не узнали из священных книг.
Верующих мусульман эти биографические сведения мало
интересуют. Сведения эти вовсе не изображают основателя религии. В
дальнейшей судьбе ислама черты реальной личности пророка не играли
никакой роли. Совсем другое дело — имя Мохамеда, воля его заместителей,
вера в его новое воплощение. Но в свою очередь эти предметы веры не
имеют никакой опоры в подлинной биографии Мохамеда.
*2в
Если ^историка спросят, почему он не хочет отнестись к евангелиям
так же, как к биографическим сведениям о Мохамеде, сообщенным
арабскими летописцами, то, помимо уже сказанного о позднем и далеком от
реальности возникновений евангелий, надо еще указать на
психологическую невозможность реального истолкования того образа, который
закреплен в евангелиях.
Всего труднее обойтись с так называемыми меосианическими
заявлениями, вложенными в уста Иисуса. В ев. от Матфея, гл. XVI, 16—19,
Симон Петр говорит: «ты — Христос, сын бога живого». На это Иисус
отвечает: «блажен ты Симон, сын Ионы. Не плоть и кровь тебе это
открыли, а мой отец в небесах. И я говорю тебе: ты Петр, и на этой
скале (по-гречески «петра», след. игра слов) я построю общину мою,
и врата адовы ее не одолеют. И я дам тебе ключи царства небесного; все,
что ты свяжешь на земле, будет и на небе связано; все, что ты на земле
разрешишь, будет и на небе разрешено».
Для православных и католиков, принимающих евангелие в качестве
откровения, приведенные слова имеют необыкновенную важность и
силу, — они произнесены самим божеством. Но что должны сказать
о них либеральные 'богословы протестантизма, в глазах которых Иисус —
реальная личность, исторический деятель, а евангелие — запись его дел
и слов, составленная со всеми погрешностями и недостатками, какие
свойствены человеческому произведению? Можно ли допустить, что
подобную речь произнес обыкновенный смертный? Если да, то как нам
придется обозначить его психическое состояние? Что мы должны сказать
о его моральном облике?
В устах смертной, хотя бы и гениальной личности подобные
заявления кажутся нам нестерпимыми. Правда, есть попытки объяснить мес-
сианичеокие речи Иисуса, заявление его о своем божественном призвании
и будущем возведении в ранг божества его восторженным состоянием,
его наклонностью к экстазу, его необычайно горячим темпераментом.
Однако, стоит только представить себе такого человека в нашей среде г
будет ли он вызывать что-нибудь другое, кроме жуткого или
отталкивающего чувства? Вот почему более рассудительные из либеральных
богословов готовы признать, что человек Иисус не делал сам меосианических
заявлепий; лишь ученики впоследствии отождествили Иисуса с Христом.
След., по их мнению, в устах Иисуса вложены слова, которых он заведомо
не мот оказать. Но. так как подобных слов весьма много, толкование
такого рода наносит тяжелый удар евангелию, как историческому
свидетельству. Мы в праве спросить критиков: где ;ке та мерка, которая
позволяет им определить, что подлинно и что нет? Не руководит ли ими
совершенно произвольно созданный образ основателя религии, который они
хотят вычитать в евангелии?
Едва ли есть нужда в таком живосечении евангелия. Не лучше ли
признаться, что евангелия непритодны в качестве исторических
свидетельств для той эпохи и тех событий, о которых они передают? Не
перестать ли вообще пользоваться книгами Нового завета, как документами
для описания какой-то земной реальности? Таким отказом мы нисколько
не умалим важности и достоинства этих книг, напротив, устремим
внимание на другую более достижимую цель: понять евангельскую повесть, как
произведение своего времени, как памятник настроений, веровании,
исканий эпохи.
Не зачем добиваться портрета реальной смертной личности Иисуса.
Надо дать себе отчет в том, что Иисус в евангелиях задуман не как
624
человек, а как сверхъестественное существо. Правда,
религиозно-поэтический образ, идеал помещен в обстановку известного времени и
места; но не надо обманываться относительно ценности этих
исторических и географических данных: они взяты из вторых и третьих рук, они
не больше как кулисы символической драмы. Стараться использовать
этот скудный, несамостоятельный исторический материал для разрисовки
реальных картин — значит терять время, работать над задачей
неблагодарной и не замечать истинной силы и величия литературных творений,
входящих в состав Нового завета.
Если смотреть на евангелия, как на религиозные поэмы, если видеть
в них ответ на жадные вопросы, возбужденной религиозными исканиями
среды, они поражают, напротив, удивительной ценностью настроения.
Мы должны признать, что литературное творчество столь напряженное
могло вырасти лишь на почве крупных жизненных явлений. Его завязкой
не мог послужить один единственный личный пример искупительной
жертвы, да еще пример, который прошел совершенно незамеченным.
Основой идеи великого страдальца, отдающего себя за грехи людей,
основой образа утешителя человечества не могла быть реальная история
безвестно погибшего проповедника. Для того, чтобы маосы успокоились на
этом образе, их должны были всколебать события, которые настроили их
к поискам религиозного утешения. О другой стороны, идеальная
личность спасителя должна быть гораздо раньше занимать умы и заполнять
собою воображение участников религиозных общин.
(«Возникновение христианства»).
А. Древе
ХРИСТОС — МИФИЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ
С тех пор как при своем появлении на пасхе 1909 г. «Миф о хри-
оте» г) взбудоражил мир богословов и мирян, вопрос об историчности
Иисуса не сходил с повестки дня, — столько стараний прилагали и
прилагают еще теологи поставить вне сомнения образ Иисуса, вопрос о нем
выдать за несуществующий, а путем замалчивания или грубого
отрицания держать массы в неведении о нем. Теологи ведь 'слишком хорошо
знают, что христианство, как таковое, стоит и падает вместе с
историчностью Иисуса и что, еоли не было никакого исторического Иисуса, то тем
самым рушится также догматический сын божий, сверхъестественный
посредник в спасении и признанный фундамент церкви. Оба они, — чисто
человеческий и метафизический Христос или Иисус—в христианстве так
тесно слиты друг с другом и так объединены в одно целое, что каждый из
них является тем, чем он есть, только в связи с другим, и нельзя
отрицать существования одного, не вычеркивая вместе с тем и другого.
Проходящий под знаком христианства период человечества, согласно
логическому следствию, пришел к концу и, может быть, является только
вопросом времени, когда обнаружатся последствия этого и приведут к
полному краху в области религии. Кто же вообще отбрасывает религию и
*) Речь идет о знаменитом двухтомном труде Древса, убедительно и смело
доказавшем, что Христос никогда не существовал (этот труд имеется в русском
переводе). Настоящая статья знакомит с основными выводами этой большой работы.—
Прим. ред.
525
видит в ней уже отжившую точку зрения человечества, тот, тем не менее,
должен позаботиться о запасе научно-необходимого оружия для защиты
своего отрицания; в качестве такового оружия против христианства для
него хорошую службу могло бы сыграть данное произведение.
Вопрос о том, жил ли Иисус, может быть разрешен только с
помощью средств исторической науки. Назидательные заведения, вроде
того, например, что, мол, Иисус «жил», потому что его «переживали»,—
в данном случае не имеют (никакого значения. Ведь, в крайнем случае,
они говорят только то, что представление об Иисусе еще живо и в
состоянии оказывать религиозное действие на отзывчивые души, при чем они
ссылаются только на «второе лицо божества», о жизни же и
историчности Иисуса-человека они не говорят абсолютно ничего или не более
того, как если бы пожелали утверждать, что «Амур жив», потому что,
мол, он все еще продолжает посылать свои любовные стрелы в людей.
Кто утверждает историчность Иисуса, якобы, распятого
девятнадцать веков тому назад, при Понтии Пилате, тот должен привести в пользу
своего взгляда веские доводы. Ведь здесь речь идет не о какой-нибудь
обыкновенной личности, похожей на прочие, но о такой, которая, будто бы.
превосходила остальных людей своим величием и оригинальностью и
обладала прямо-таки божественными чертами. Существования подобной
необыкновенной личности нельзя признавать без всяких околичностей.
И вот, какие же существуют доводы за то, что Иисус действительно
жил и что его жизнь протекала так, как мы читаем о ней в евангелиях?
Внехристианские «свидетельства» в пользу
историчности Иисуса.
Прежде всего существует свидетельство иудейского историка Иосифа
Флавия. В своих, написанных около 90 года нашей эры, «Древностях
иудейских» (XVIII, 3, 3) он пишет следующее:
«В это время выступил Иисус, человек глубокой мудрости, если
только правильно называть его человеком. Совершитель чудесных дел,
он был учителем людей, воспринимавших с радостью истину, и многих,
кз-к иудеев, так и греков, он привлек на свою сторону. Он был христом.
Когда по доносу первенствовавших у нас людей Пилат распял его на
кресте, не поколебались те, кто впервые его возлюбили. На третий день он
снова явился к ним живой, о чем, равно как и о тысяче других чудесных
дел, предсказали божественные пророки. И сейчас еще существует род
христиан, получивших от него свое имя».
Что это место явно представляет подделку, в этом вряд ли можно
сомневаться. Такой иудей, как Иосиф, никогда не додумался бы до того,
чтобы выдать Иисуса за христа, чаемого мессию. Да и Ориген (отец
церкви первой половины III века) определенно свидетельствует, что Иосиф
не считал Иисуса мессией, христом. До церковного' историка Евсевия
(около 320 года) это место вообще не было известно, а отсутствие связи
с предыдущим и последующим изложением заставляет окончательно
признать его позднейшей вставкой. Иосиф доолчит об Иисусе. Почему?
Теологи употребляли отчаянные усилия объяснить это молчание иудейского
историка. Однако, самым простым объяснением, может быть, было бы то,
что он об Иисусе ничего не знал.
Однако, существует еще одно место у Иосифа, а именно, в XX,
9, 1 его «Древностей», где он рассказывает, как первосвященник Анна
(Анан) в то время, когда наместник Фест умер, а его преемник — Альбин
был еще в пути, — этот Анна призвал на суд Иакова, «брата Иисуса,
526
называемого Христом», и вместе с некоторыми другими осудил его на
побитие камнями за нарушение закона (в 62 году нашей эры). Но эта
заметка о «брате Иисуса» становится понятной только тогда, если мы
заранее допустим, что вышеприведенное место из Иосифа — подлинно, она
держится и падает вместе с ним. О'риген же, который в поисках
сообщений об Иисусе обследовал все писания своего времени, также и об этой
заметке не имеет никакого представления. После этого можно спокойно
сказать, что также и это место вставлено христианской рукой, при чем
это было .сделано, очевидно, потому, что для христиан было неприятно,
что Иосиф ничего не сообщил об их Иисусе. И вот, это место считается
даже некоторыми известными теологами подделкой иосифова текста.
К иудейским свидетельствам об Иисусе обычно причисляются
также некоторые места талмуда, этого сборника писаний раввинов,
охватывающего период времени приблизительно с 100 года до и 600 год после
начала нашей эры, К сожалению, эти места не имеют никакой
исторической ценности. Талмуд говорит о каком-то Иисусе, сыне Пандиры
(Пантеры), который, якобы, при Александре Якнее (106—79 г.) в
пасхальный вечер за богохульство был побит камнями в Иерусалиме, а затем
повешен. В другом же месте талмуд отожествляет его с каким-то Иисусом
бен Стада или Оатда, который, как кажется, жил во времена славного
равви Акибы (ок. 130 г, нашей эры) и тоже был убит в конце пасхи, но
не в Иерусалиме, а в Лидде, в Малой Азии. Талмуд не знает, следует ли
ему Иисуса «назарянина» видеть в том или этом Иисусе, а то, что он
обычное сообщает об Иисусе, так явно отражает только враждебное
отношение иудеев позднейших столетий к «основоположнику» христианства
и так неоспоримо показывает свою зависимость от христианского
предания, — что на доказательство этого не стоит даже тратить и слов. В
вопросе об историчности Иисуса талмуд так же мало может привлекаться
в качестве свидетеля за нее, как и Иосиф.
Следовательно, иудейских свидетельств в пользу историчности
Иисуса нет. Обратимся теперь к римским свидетельствам.
Об историке Светопии мы можем сказать только несколько слов.
В соответствующем месте своей «Жизни Клавдия» он вообще говорит не
об Иисусе, а о «Хресте», по подстрекательству которого, — по его
словам,—среди иудеев в Риме возникли длительные беспорядки, почему эти
иудеи и были изгнаны из города. И ничто, абсолютно ничто не дает права
на допущение, что этот Хрестос Светония является христом, Иисусом
наших евангелий. Ведь говорят, что Иисус даже никогда и не жил в Риме,
а потому, конечно, он не мог быть виновником беспорядков среди
тамошних иудеев. Если же под Хрестом понимать христа, то это только
простой латинский перевод слова «мессия», и данное место, в крайнем
случае, могло бы говорить только то, что поводом к беспорядкам у римских
иудеев послужили их мессианские чаяния.
Ну, а свидетельство Тацита? Здесь защитники историчности
Иисуса обычно играют на козырях. «Не какая-нибудь мелочь, а Тацит»,
«великий римский историк» поставил эту историчность вне всякого
сомнения! В 15 книге, 44 главе своих Анналов, рисуя картину пожара
Рима в 64 году, при Нероне, он пишет, что цезарь, дабы отвратить от себя
подозрения в поджоге, свалил вину на христиан и их, ненавидимых
народом за позорные деяния, предал изысканнейшим наказаниям:
«Виновник этого по имени Христос был в правление Тиберия казнен
наместником Понтием Пилатом, и подавленное на время пагубное суеверие
вырвалось снова наружу и распространилось не только по Иудее, где это
527
зло получило начало, но и по Риму, куда стекаются со всех сторан и где
широко прилагаются к делу все гнусности и бесстыдства. Таким образом,
были сначала схвачены те, которые себя признали, затем по их указанию
огромное множество других, и они были уличены не столько в
преступлении, касающемся поджога, сколько в ненависти к человеческому
роду. К казни их были присоединены издевательства: их покрывали
шкурами диких зверей, чтобы они погибали от растерзания собаками,
или пригвождали их ко кресту, или жгли на огне, а также, когда
оканчивался день, их сжигали для ночного освещения. Нерон предложил
для этого зрелища свой парк и давал игры в цирке, где он смешивался
с простым народом в одеянии возницы или правил колесницей. Поэтому,
хотя христиане и были люди виновные и заслужившие крайние
наказания, к ним рождалось сожаление, так как они истреблялись не для
общественной пользы, а ради жестокости одного человека».
В этом месте невероятно почти все. Невероятно, чтобы Нерон стоял
в какой-нибудь связи с пожаром Рима; невероятно, чтобы народ считал
его поджигателем, так что ему (Нерону) надо было бы подозрение в
поджоге отвлекать от себя на христиан. Все поведение цезаря во время и
после пожара, — как это описывает Тацит, — является как раз
поведением благожелательного и разумного правителя, который пытается по-
возможности помешать бедствию. Поэтому он и в дальнейшем нисколько
не потерял в своей популярности у народа, и нет никакого свидетельства
за то, чтобы кто-нибудь из его современников обвинял его в поджоге.
Да и что могло бы заставить цезаря, — того, кто никогда не обращал
внимания на то, что говорила толпа об его поступках, — что могло бы
заставить его как раз в данном случае укрыться за спиною других? И откуда
он знал о христианах? Говорят, народ ненавидел их за «их мерзости».
За какие мерзости? Над этим много ломали голову, и к тому же не
верится, чтобы христиане, которые в глазах римлян внешне ничем не
отличались от иудеев, вызывали к себе особое отвращение народа. В
приведенном отрывке сказано, что сначала были схвачены те, которые
признались. В чем признались? В 'своей вере в Иисуса? Но, ведь, тогда
еще не было никакого настоящего христианского вероисповедания, и
таковое меньше всего могло бы выставить их в качестве преступников.
Говорят, что в данном случае было осуждено на смерть «огромное*
множество». А, между тем, Ориген определенно отмечает, что число тех
кто претерпел смерть за свою веру, еще к его времени, т.-е. к первой
половине третьего века, было столь незначительно, что легко поддавалось
исчислению! Затем, отнюдь не похоже на историческую
действительность, чтобы Нерон в своем парке употреблял христиан в качестве живых
факелов. Ведь, по сообщению Тацита, этот парк служил местом
убежища для погорельцев и был загроможден палатками и деревянными
бараками, которые слишком легко могли бы вызвать опасность нового
пожара, не говоря уже о нелепом представлении, будто народ проводил
ночи, наблюдая, как жарится человеческое мясо, и будто Нерон,
который,— по описанию Тацита в его «Жизни Агриколы», — хотя и
предписывал преступления, но сам не присутствовал при их исполнении,
будто Нерон при этом смешивался с народом и наслаждался этим
отвратительным зрелищем!
Выдающиеся ученые различных стран уже давно заподозрили
подлинность этого рассказа Тацита и признали также его за вставку или
подделку. А если в качестве довода против этого указывают на
«неподражаемость» стиля римского историка, то ловкий подделыватель может
£28
подражать любому стилю и легче всего стилю такого писателя, который
пишет так характерно и вычурно, как автор Анналов.
Что, прежде всего, возбуждает подозрение к рассказу Тацита, так
это гробовое молчание остальных писателей древности о стоящем в связи
с пожаром Рима первом гонении на христиан при Нероне. Об этом
гонении ничего не знает ни один писатель, — ни грек, ни римлянин, ни.
язычник, ни христианин. Даже иудей Иосиф, упоминающий о прочих
злодеяниях Нерона, молчит о событии, которое, ведь, говорят, в первую
голову касалось его собственных соплеменников. Жившие в первые века
защитники христианства (апологеты), отцы церкви стараются превзойти
один другого в жалобах на языческую власть за ее враждебное и
несправедливое отношение к их братьям по вере, о Нероновом же гонении на
христиан, как таковом, о той дьявольской жестокости, которую по
словам Тацита, цезарь применил к тем, ни один из них не говорит ни слова.
Там же, где они говорят о гонении на христиан при Нероне, там это,
в-крайнем случае, относится к казни апостолов — Петра и Павла.
Каким благодарным материалом для пропаганды своей религии послужила
бы христианским ораторам картина живых факелов Нерона! Они о ней
не упоминают. Какой ужасный упрек по адресу христиан, что они
подожгли мировую столицу! Однако, они о нем не говорят, в нем не
защищаются я делают это так же мало, как мало это ставят яга вид им их
языческие противники! И не только древний мир, но и, повидимому, все
средневековье ничего не знало о Нероновом гонении на христиан, не знал-
даже Данте, от которого можно было бы ждать, что он уж кото-кого. а
Нерона, как преступника, заставит-таки жариться в своем аду.
Только в переписке Павла с философом Сенекой впервые, еще в
неясных контурах, выступает пред нами эта страшная история, — в
переписке, которая, однако, сразу же при своем появлении в XV веке была,
признана грубой подделкой. Затем, но уже с большей определенностью
и отчасти даже с повторением собственных слов Тацита, эта история
находится в священной истории Сулыпщия Севера, начала V века,.
Но это произведение, очевидно, вышло не из-под пера Мартина, епископа
Турского. Также и оно относится к XV веку, когда его в двадцатых годах
извлек на свет Поджио Браччиолини, как известный ученый, так и
открыватель и продавец древних рукописей. Примечательно то, что
рукопись эта была опубликована только в 1556 г. и представляет собою
явную подделку, вероятно, самого Поджио. Подлинная история или
хроника Севера была найдена в древней рукописи XIII века Генрихом
Флором в оредине XVIII столетия и напечатана в «Espana sagrada»,
В ней нет ни одного слона о гонении на христиан при Нероне!
Между тем, нет абсолютно никакой необходимости во всех этих
соображениях для того, чтобы вышеприведенному отрывку из Тацита
отказать во всякой доказательности в пользу историчности Иисуса.
Говорят, что Тацит написал свои «Анналы» около 117 года. Но к этому
времени предание христиан о своем Иисусе вылилось уже в свои
определенные основные формы. Следовательно, Тацит свои сообгцения мог,
в лучшем случае, просто позаимствовать из устного предания христиан
своего времени.
Итак, внехристианских свидетельств в пользу историчности Иисуса,
за которыми можно было бы признать хоть какую-нибудь
доказательность, нет.
Но, может быть, подобное свидетельство мы должны видеть в том,
что, если ни один из внехристианских писателей не говорит © пользу
Г. Гурев 34
529
историчности Иисуса, то ни один из них не оспаривает ее, хотя для них
было бы легче ©сего напасть на веру христиан именно с этой стороны?
Однако, это еще большой ©опрос. Уже давно церковь сделала вое, от нее
зависящее, чтобы затереть неприятные заявления своих противников,
а их писания сжить со свету. Она изгладила память о неудобном для нее
существовании дохристианского гностицизма. Она уничтожила так
пышно расцветшую литературу опасных для нее позднейших гностиков,
которые учили о совершенно ином христе, чем она. Она предала
уничтожению произведения Порфирия и других противников, а -существующие
писания сообразно своим собственным целям переработала и подправила
так, что мы вряд ли можем теперь узнать истинный ход исторического
развития. И все же Юстин в своем «Диалоге с Трифоном иудеем» влатает
в уста последнему следующие слова: «Вы, христиане, следуете пустой
молве и сами вообразили себе какого-то христа. Если он родился и
находится где-нибудь, то он совершенно неизвестен» (8,3). И Цельс у Оригена
бросает по адресу христиан такой упрек: «Вы угощаете нас баснями и
не умеете даже придать им вид правдоподобия, несмотря на то, что
некоторые из вас, подобно пьяным, которые сами придираются к себе, трижды
и четырежды или даже еще большее число раз переделывали текст ваших
евангелий, дабы ослабить те упреки, которые бросаются вам на основании
их («Против Цельса», 2, 26—27). Следовательно, это даже неправда,
что ни один иудей, или язычник никогда не сомневался в истинности
евангельских рассказов. Да если бы даже это было и правдой, то все же
оно ничего не доказывало бы в пользу историчности Иисуса. Ведь,
к тому времени, когда началась языческая и иудейская оппозиция
христианству, во втором веке, христианское предание уже установилось.
Следовательно, противники новой религии боролись только против ее
предания. Ни одному из них не могло притги в голову проверить
историческую истинность этой религии. Ведь, как говорит историк церкви Гаус-
рат: «В древности интерес к исторической истине, как таковой, вообще
не существовал, а был только интерес к истине идеальной. Можно
перечислить все случаи, когда античный писатель ставил вопрос, — что
произошло в действительности и что исторически засвидетельствовано».
Даже, если бы пожелали произвести исследование об истинности
евангельской «истории» и добраться до существа дела, то после разрушения
Иерусалима и рассеяния тамошних иудеев, конечно, не нашли бы ничего
надежного. Это явно неправильный вывод, — из того обстоятельства,
что, якобы, никто не усомнился в историческом существовании Иисуса,
выводить факт этого существования.
Да иначе и не может быть: мы со своими свидетельствами об Иисусе
живем только христианскими писателями.
Христианские «свидетельства» в пользу
историчности Иисуса.
А) ПОСЛАНИЕ АПОСТОЛА ПАВЛА.
Там, прежде всего, имеется апостол Павел, Он считается
древнейшим и надежнейшим свидетелем в пользу того, что Иисус действительно
жил: и что его жизнь протекала так, как она изображена в евангелиях.
Говорят, что Павел вскоре после смерти Иисуса уверовал в него. Говорят,
что он гнал прямых последователей Иисуса, Говорят также, что он
лично встречался с Петром и остальными учениками Иисуса. Полагают,
что на каждой странице своих посланий он удостоверяет, что бл&ю-
§30
вествуемый им посредник в опасении и искупитель мира — Иисус — был
исторической личностью, а его смерть была той великой искупительной
жертвой, которая смыла с людей их грехи.
Мы не будем здесь разбирать вопроса, — что дошедшие до нас под
именем Павла послания действительно ли были написаны им. С тех
пор, как Бруно Бауэр впервые затронул эту проблему, с повестки дня
не сходил уже вопрос: имеем ли, вообще говоря, подлинные послания
апостола Павла, или уже эти послания, — как это пыталась доказать
голландская радикальная теология (Ломай, Пирсон, ван-Манен и др.),—
бы£ь может, принадлежат средине второго века и целой группе
различных писателей. В немецкой «исторической» теологии считаются
подлинными, по крайней мере, четыре больших и главных послания: 1) к
римлянам, 2) к коринфянам и 3—4) оба к галатам, — однако, против
подлинности их также приводятся веские соображения. Весь этот вопрос
еще так мало освещен, что на основании их нельзя выносить
каких-нибудь надежных утверждений.
Между тем, даже если мы признаем их подлинность, то что из
дошедших до нас посланий апостола Павла мы узнаем об историчности Иисуса?
Конечно, если послания Павла читать сквозь очки евангелий,
то-ость, если уже заранее считать реальными событиями, что те
рассказывают нам об Иисусе, то можно не сомневаться в свидетельских
показаниях апостола. Но вот, говорят, что Павловы послания были
написаны раньше евангелий, в пятидесятых и шестидесятых годах первого
века. В таком случае, как раз эти послания будут служить
подтверждением евангельской картины. Поэтому, не имеют права обратно
вкладывать содержание евангелий в Павловы послания, но зато можно спросить
что, независимо от нашего прочего знания об Иисусе, можно почерпнуть
о нем из этих посланий? А тогда остается определенное впечатление', что
из посланий мы почерпаем об Иисусе поразительно' мало. «Иисус,—
как выразился даже теолог Вреде, — в Павловых посланиях блистает
только своим отсутствием». Или, — лучше сказать, — Иисус, с которым
мы встречаемся у Павла, является не Иисусом евангелий, бродячим
галилейским проповедником и учителем нравственности, якобы павшим
в Иерусалиме жертвой ненависти жрецов, а метафизическим духовным
существом, вторым богом, сыном божиим и сверхъестественным
посредником в спасении, которого его отец послал с неба на землю, дабы
осуществить для людей избавление от власти греха и смерти, и который среди
людей жил как человек, будучи невинным, за грехи их претерпел
крестную смерть, и воскрес, дабы быть посредником в загробной жизни для
тех, кто его держался, в него веровал и чрез крещение и причащение
находился с ним в духовном общении. В таком случае, он походит не только
на тех многочисленных языческих богов-искупителей: Аттиса, Адониса,
Таммуза, Озириса, Митры, Диониса и т. д., которые, будучи, подобно ему,
людьми, страдают, приносят себя в искупительную жертву за верующих
в них, умирают, в преображенном виде воскресают и возносятся на небо,
но и на так называемого страждущего «раба божия», 53 глава пророка
Исайи и на «праведника» второй главы книги «Премудрости Соломона»,
которые также подвергаются презрению и насмешкам, умирают в
качестве искупительной жертвы за других, воскресают и возносятся к
небесной славе. Но настоящего же, т.-е. исторического человека,, этот Павлов
Иисус или Иисус Христос столь мало похож, что, — как было
сказано, — нужно было уже заранее веровать в него, чтобы найти его в
посланиях этого апостола.
34*
531
Конечно, Христос апостола «родился от жены» (Поел, к гал., 4, 4),
но это, ведь, только—само собой разумеющееся условие его
человеческого бытия, оно — совершенно догматическое в духе общего
представления об искупителе мира. Конечно, он происходит «ют семени Давида»,
но это принадлежит к иудейской вере в мессию. Он страдает (Поел,
к римл., 8, 17), умирает на кресте (к римл., б, 6; первое к коринф., 2, 8);
погребается (к римл., 6, 4; первое к коринф., 15, 4), воскресает (там же,
к римл., 4, 24; 6, 4), прославляется (к римл., 8, 17): все это выпадает
на его долю совершенно так же, как на долю «раба божия» Исайи и
«праведника» книги Премудрости Соломона. Поэтому, совершенно наивным
является желание из этих данных сделать вывод в пользу историчности
Иисуса у Павла.
Да и его характерные черты, отмечаемые Павлом: его смирение, его
послушание, его самоотвержение, его любовь к людям и т. д., все они
никоим образом не выходят за пределы пророческих представлений о
характере «раба божия» и списаны с,него. Говоря о своем Иисусе, Павел
жигде не ссылается на очевидцев, которых так много должно было бы
быть к его услугам, а ссылается только на «писание», т.-е. на ветхий
завет (первое к коринф., 15, 3 ел.). Так, даже о своем благоповествовании
об Иисусе он говорит, что оно предвещено было богом при посредстве
пророков и открыто чрез пророческие писания (к римл., 1, 2, 3, 21; 16, 26).
Сам же он желает получить это благовестие через откровение,
сверхъестественным путем, а не чрез изустное наставление со стороны тех,
которые находились в личном общении с Иисусом (к галатам, 1, 12 ел.).
Нигде не встретишь у него ни одной, хотя бы самой маленькой
индивидуальной черты из жизни Иисуса, которая не имела бы догматического
значения и которая указывала бы на то, что он считал его исторической
личностью, незадолго перед тем умершей на кресте. Его Иисус Христос
не имеет ни родителей, ни родины, пи своего учения, ни учеников.
Не творит он никаких чудес, кроме одного только чуда, своего
воскресения из мертвых. Он умирает от руки демонов или звездных духов, ибо
последних следует подразумевать под «властями века сего» (первое
к коринф., 2, 6); и если он преодолевает смерть, то только потому, что
смерть его плотского человека освобождает обитающий в нем дух, который
составляет одно с духом божиим, из чего затем для нас является
возможность чрез веру, т.-е. чрез внутреннее единение с духом христа,
присвоивши себе субъективно его объективный акт искупления и следуя
христу, также умереть для греха и, соединившись подобием смерти
Христа, быть участниками в его воскресении и ето небесной жизни.
Но разве Павел не приводит словес Иисуса и не показывает тем
самым, что он все же считал его личностью исторической? Запрещение
развода, равно как и право апостолов жить на счет общины, каковые
при этом имеются в виду (перв. к коринф., 9, 9, 14), — восходят к
ветхому завету (Малахия. 2, 14; Второзаконие 18, 1 и 25, 4), а «господом»,
в уста которого Павел влагает эти словеса, является вовсе не Иисус,
а Ягве (ветхозаветный бог). Там же, где такие «словеса господни»
у Павла, действительно, напоминают словеса евангельского Иисуса, —-
там мы не имеем никакой гарантии в том, что они вышли из уст
последнего и что евангелия, которые, ведь, как говорят, были написаны после
посланий и-обнаруживают также многократное влияние с их стороны,—
что эти евангелия, скорое как раз наоборот, не подражали бы Павлу.
Предположим, что Павел, действительно, знал изречения
исторического Иисуса, так почему же он не ссылается на них или ссылается
532
только но поводу таких второстепенных вопросов, вроде двух
вышеприведенных? Почему он не ссылается на них, кот да трактует главные
вопросы своего благовестил, а предпочитает пользоваться обстоятельным и
в большинстве случаев вряд ли понятным обоснованием своих взглядов
на писании? И к этому приему он прибегает даже против своих
читателей из язычников, когда он имел на своей стороне единственно
решающий авторитет — евангельского Иисуса, и когда простого приведения
слов Иисуса было бы достаточно для того, чтобы проложить путь своим
взглядам. Единственно возможный ответ на все эти недоуменные
вопросы таков: подобных изречений — словес Иисуса — Павел не знал, и
только авторы евангелий, дабы придать более определенный образ своему
Иисусу, вложили в уста ему соответствующие словеса Павла.
В первом послании к коринфянам, 15, 5 ел., Павел рисует явления
воскресшего, которые выпали на долю Петра, потом двенадцати, затем
более, чем пятисот братьев зараз, Иакова, всех апостолов вместе и,
наконец, его самого. Следовательно,—как думают, — Павел знал прямых
учеников Иисуса и, должно быть, чрез них он узнал об Иисусе. Конечно,
если только они что-нибудь ему сообщили о нем и если сами они были
лично знакомы с Иисусом, как это утверждают евангелия. Но об этом
ничего не написано. Пусть они наблюдали явления воскресшею, что
у религиозно-возбужденных людей, ведь, в конце концов, не было бы
чем-то необыкновенным: их внутренние видения так же мало могут
служить подтверждением реальности виденного, как из мнимого видения
под Дамаском Павла может быть выведено также только самое малое
в пользу исторической действительности его душевного видения.
Впрочем, говорят, что Павел даже ни разу не видел Иисуса, а наблюдал только
неопределенный свет и слышал какой-то голос, который он в своем
тогдашнем душевном настроении приписал Иисусу, однако нет никакой
гарантии в том, что он тем самым имел в виду исторического Иисуса,
ведь, в таком случае, быть может, надлежало бы из видения Лурдской
крестьянской девушки вывести историчность девы Марии! При этом
нарисованная Павлом картина стоит в явном противоречии- с картиной
евангелий, согласно которой воскресший, будто бы, прежде всего явился
женщинам (Матф., 29, 9; Марк 16, 9) и будто бы после отпадения Иуды
было только одиннадцать апостолов, коим он явился, как это признает
и Лука (24, 33). Вместе с тем странным кажется и упоминание об Иакове,
который, по евангельскому изображению, не поддерживал никакой связи
со своим «братом» Иисусом и о котором евангелия не знают, чтобы ему
было подобное явление. Поэтому вовсе нельзя просто отбрасывать
разделяемый некоторыми филологами и даже теологами взгляд, что все стихи
первого послания к коринфянам, 15, 5—11, представляют позднейшую
прибавку к тексту, во всяком случае, ими никоим образом нельзя
пользоваться в качестве доказательства историчности Иисуса.
Ну, а как обстоит дело с «братьями» Иисуса? В первом послании
к коринфянам, 9, 5, Павел говорит о «прочих апостолах и братьях
господних, и Кифе». А в послании к галатам 1, 18, к имени Иакова
прибавлено— «брат господень». И если Иисус имел братьев во плоти, а
Павел их знал, то, — думают, — конечно, он (Иисус) должен был быть
исторической личностью. Но текст говорит не о «братьях Иисуса», а братьях
«господних», и весь вопрос в том, следует ли под этим братством
понимать братство во плоти. Ну, а Ориген об Иакове говорит определенно, что
последний назывался «братом господним» не потому, что он был связан
с Иисусом кровными узами или рос вместе с ним, а потому что он был
533
верующим и добродетельным («Против Цельса», 1, 4, 7). То же самое
подтверждают также Иероним Гегезипп, Климент Александрийский и
пр., которые, принимая во внимание, конечно, девственность Марии,
отрицали кровное, братское родство Иакова с Иисусом. Наоборот, Ориген
верил в это кровное братство Иакова. Если он выражение «брат
господень» желал понимать все же не в естественном, обычном, а в
духовном смысле, то разве и Павел не мог пользоваться этим выражением
в таком же духовном смысле, тем более, что мы знаем, каким высоким
уважением за сжое благочестие пользовался Иаков в иудеохристианских
кругах: второго века? Да и вообще выражение «брат» в переносном
смысле совершенно обычно в новом завете. «Кто матерь моя и братья
мои?» — спрашивает Иисус, а затем отвечает: «Кто будет исполнять волю
божию, тот мне брат и сестра и матерь» (Марк., 3, 33 ел.). И в евангелии
Матфея (28, 10), Иоанна (20, 17) Иисус называет апостолов своими
братьями, — выражение, которое в совершенно таком же смысле мы
находим также у Юстина в его «Диалоге с Трифоном иудеем» (106).
Следовательно, «братьев господних» следует понимать в качестве
отдельной группы оообо-благочесгивых людей, в качестве «сынов божиих»
в высшем смысле этого слова (к римл., 8, 14; к гал., 4, 6), подобно тому,
как в восточно-сирийской церкви, хотя все христиане назывались
«сынами и дочерьми нового завета», однако это именование в виде
отличия носил только более узкий круг людей внутри церкви. В
«Апостольских постановлениях» мученики называются «братьями господними».
а Иаков, по свидетельству Деяний ап. (12, 2), был первым мучеником
из числа двенадцати апостолов. Кто поручится нам за то, что в памяти
позднейшего времени Иаков, по прозванию Праведный, о котором говорит
Павел, не слился в одну личность с мучеником Иаковом, сыном Заведе-
евым и братом Иоанна, и благодаря этому не получил произвища—«брата
господня»? При такой неопределенности и двусмысленности выражение
«брат господень» не может служить доводом в пользу историчности
Иисуса, и показателем полной беспомощности верующих в Иисуса
является то, что они для подкрепления своих взглядов цепляются за
туманные и расплывчатые личности «братье® господних» и призывают их
в качестве свидетелей против моего утверждения, что Иисус апостола
Павла представляет собою чисто мифическую фигуру.
Между тем, верующие не признают еще себя разбитыми. Они
указывают на слова тайной вечери (первое к коринф., П, 23 ел.): «Ибо я
от господа принял то, что и вам передал, что господь Иисус в ту ночь,
в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал»
и т. д. Здесь, повидимому, мы имеем, наконец, пред собою даже намек
на отдельное определенное событие, на точные подробности из жизни
Иисуса: ночь, предательство, вечеря пред арестом! Нисколько
неудивительно, если теологи торжествующе заявляют, что это место для
отрицающих историчность Иисуса — «убийственно».
Но присмотримся повнимательнее к этому месту! «В ту ночь,
в которую предан был!». Да был ли он предан на самом деле? Это
событие столь невероятно, вся история предательства психологически и
исторически столь странна, что, быть может, только мало смыслящие
читатели библии находят в ней все благополучным. Представьте себе
Иисуса, который знает, что один из его учеников предаст его и чрез это
навеки вечные лишится спасения своей души, и который ничего не
предпринимает для того, чтобы удержать несчастного от его деяния, больше
того, даже по возможности укрепляет его в этом и ничего не делает для
534
того, чтобы предупредить или избежать его предательства! Представьте
себе учеников Иисуса! Учитель только что сообщил им, что один из них
в ту же самую ночь предаст его. Попутанные этим, они .стали
переглядываться и спрашивать его: «Не я ли, господи? Не я ли?». Можно было бы
думать, что так как каждый считал, что он за себя может ручаться,
то он будет наблюдать за остальными и препятствовать предательству.
Однако, ничего подобного! Совершенно спокойно, как будто ничего
не случилось, вое двенадцать вместе с Иисусом покидают залу тайной
вечери, выходят под покровом ночи и совсем не замечают, что один
отделяется от них! Представьте себе, наконец, Иуду, заставляющего
первосвященников заплатить себе за предательство человека, который все дни
свободно разгуливал по улицам Иерусалима, и для открытия ночного
местопребывания которого, поистине, не было нужды ни в каком
предателе, тем более, что, говорят, его постоянно сопровождали двенадцать
учеников, которые не так-то легко могли ускользнуть от взора сыщика
или соглядатая. Вся история предательства целиком составлена из
ветхозаветных пророческих мест, Иуда же является личностью не
исторической, а просто только олицетворением или символическим
представителем ненавидимого христианами иудейского народа; отсюда и его имя —
Иуда. Следовательно, Павел, возможно, ничего не знал также и о
ночном предании Иисуса, а если вышеприведенное место из первого послания
к коринфянам говорит об этом предательстве, то ему можно не верить.
На самом деле, данное место производит определенное впечатление
позднейшей вставки в текст, как это уже давно было признано
голландской теологией. Рассказ о тайной вечери совершенно не вяжется с тем
местом, где он находится. Ведь пред этим (ст. 17—22) речь идет не о
тайной вечери, а о вечери любви и происходящих при этом беспорядках, за
которые Павел порицает коринфян. С 23 стиха апостол вдрут начинает
говорить о тайной вечери, между тем как в стихах 33 и 34 он опять
говорит о вечери любви, как ее обычно справляли сообща христиане. Если
это место не является позднейшей вставкой в текст, то последнего,
подлинного, текста вообще не существует. Или, что можно сказать на тог
что слова тайной вечери у Павла так сильно отличаются от тех же слов
у синоптиков, — у Матфея, Марка и Луки? Мыслимо ли, чтобы
евангелисты, которые, якобы, писали гораздо позднее Павла, допустили
подобные отклонения от первоначального, буквального текста, если
послание к коринфянам, — как утверждают теологи, — содержит подлинный
текст, действительно сказанные Иисусом слова?
Впрочем, эти слова уже у Павла носят явно шаблонный характер,
и невозможно, чтобы они в переданной нам форме были сказаны Иисусом.
Несомненно, они просто были заимствованы из христианской литургии и:
предполагают уже длительное употребление в богослужении. Притом
они стоят в самом резком противоречии с обычно столь превозносимой
простотой и скромностью словес Иисуса. Они выражают представления
культового общества, которое ставило своей задачей поклонение
представляемому присутствующим в человеческом виде общинному божеству,
но они вовсе не таковы, чтобы их могли без всякого понять простые и
необразованные люди из народа и чтобы их, как то требует рассудок, мот
произнести учитель в последние часы своего пребывания с учениками.
Или что должны были думать те бедные галилейские рыбаки и
ремесленники, которые даже не знали, что Иисус был мессией, что должны были
думать они тогда, когда их учитель преподносил им в хлебе и вине свою
плоть и кровь? Вся история тайной вечери, явно, была придумана
535
только из любви к символике пасхального агнца; иудеи на пасхе
вкушали своего агнца, которому христиане противопоставляли вкушение
своего агнца, а именно, агнца 53, 7, Исайи, предлагая вкушать хлеб и
вино, вместо его плоти и крови. У Павла же эти слова звучат фальшиво
и кажутся невероятными уже по одному тому, что он приписывает
Иисусу установление этого празднества с хлебом и вином в память
о себе: как будто, согласно всем прочим взглядам Иисуса, не предстоял
близкий конец света и как будто он пред лицом надвигающейся
всеобщей, мировой катастрофы, — здраво рассуждая, — мог еще что-либо
учреждать или устанавливать! Не заботятся более о воспоминании
о себе, когда скорый поезд уже подходит к самой платформе, чтобы
умчать пассажиров в потусторонний мир. Как мало возможно, чтобы
исторический Иисус говорил Петру (Матф. 1G, 18) те слова, которыми
он ставил последнего «камнем» церкви и передавал ему ключи власти,
так же мало возможно, чтобы он, — здраво рассуждая, — произносил
приведенные у Павла слова тайной вечери, не вступая в самое кричащее
противоречие с самим собою и со всем своим прочим вещанеим.
Следовательно, и этим местом у Павла о тайной вечери нельзя
пользоваться в качестве довода за историчность Иисуса. Ну, а тем
самым уже исчерпаны все те места его посланий, которые, будто бы,
доказывают, что этот апостол в своем Иисусе Христе -видел историческую
личность в обычном смысле этого слова.
Теологи утверждают, что учение Павла понятно только при
допущении существования исторического Иисуса. Однако, это прямо
противоположно истине. Предположение о существовании исторического
Иисуса не только не объясняет взглядов Павла, но, скорее, делает их
совершенно непонятными. Не исторический Иисус, чей образ пытаются
нарисовать евангелия, а «небесный христос» стоит в центре Павлова
мировоззрения. Павел земной жизнью Иисуса не интересовался.
Его «человек» Иисус — не личность из плоти и крови, не предмет
личного переживания или исторического предания, а только искуственное
убранство', узор, в интересах религоизного вещания о спасении, точно
такого же рода, как египтяне представляли себе своего Озириса, греки —
своего Геракла, Тезея или Язона, когда они почитали их как
основоположников культуры и освободителей их страны от ужасов
варварского прошлого.
Б) ЕВАНГЕЛИЯ.
В таком случае, в качестве единственных свидетелей в пользу
историчности Иисуса остаются только евангелия, остаются они одни, т.-е.
висят в воздухе. Правда, употребляли отчаянные условия подвести под
них исторический фундамент тем, что извлекали из-под спуда старинную
заметку церковного историка Евсевия, сотласно которой Паппий,
епископ Иерапольский. рассказывает, что Марк, толмач или переводчик
Петра, по памяти и, конечно, не в точной последовательности записал
словеса и деяния Иисуса, которые он слышал от Петра при его
случайных сообщениях, — сообщение, для подтверждения которого Паппий
ссылается на Иоанна «Старшего» (Евс^вий — «История церкви», 3, 39). Но
что же дает нам эта заметка? Евоевий (в четвертом веке) уверяет, что
<ж узнал от Панпия то, что тот, уверяет, узнал от совершенно нам
неизвестного Иоанна Старшего, этот — от Петра, последний же, в свою
очередь, —от Иисуса! Требуется слишком много добросовестности, чтобы на
«атом сообщении «очевидца» основывать историчность евангельских iro-
.53G
вествований. Да и относительно нашего первого евангелия мы узнаем
чрез Евсевия, что его автор—■ Матфей записал изречения Иисуса на
еврейском (арамейском?) языке и каждый переводил их, как мот. К
сожалению, и это сообщение слишком неопределенно, чтобы с ним можно
было бы что-либо сделать, не говоря уже о том, что мы даже не знаем,
что Матфей, о котором здесь идет речь, тот ли самый, который слывет
автором первого евангелия.
Самым древним, а посему и самым надежным из наших евангелий
считается обычно евангелие Марка. Оно начинает с крещения Иисуса,
при чем разверзается небо и нисходит дух божий в виде голубя, дабы
провозгласить его (Иисуса) возлюбленным сыном божиим. Затем дух
ведет Иисуса в пустыню, сатана искушает его, ангелы служат ему и он
живет среди диких зверей, после чего принимается возвещать близость
царства божия. По одному только призыву его рыбаки Симон и Андрей
оставляют свое занятие и следуют за ним. В капернаумской синагоге
он приводит в изумление народ своей проповедью, изгоняет из
одержимого беса, который называет его «святым божиим», и простым
прикосновением руки исцеляет тещу Петра. Следуют дальнейшие исцеления, при
чем он запрещает бесам говорить о том, что они его знают. По одному
только слову его очищается прокаженный. Хромой начинает снова
ходить, а Иисус в качестве «сына человеческого» или меоеии прощает
ему грехи. Как раньше оба рыбака, так теперь мытарь (сборщик
податей) Левий слепо следует за ним по его призыву. При этом Иисус
выступает другом и защитником грешников, требует себе права
распоряжаться субботами, в одну из них исцеляя сухорукого и тем самым
вызывая против себя гнев фарисеев. Новые исцеления. Духи нечистые
при виде ето падают пред ним и признают его сыном божиим. Но он
запрещает им делать его известным. На горе он избирает себе двенадцать
мужей, чтобы разослать их на проповедь, давши им право и силу
изгонять бесов. Он обвиняет фарисеев в хулении духа святого за то, что
они заявили, будто он (Иисус) имеет в себе вельзевула. Его мать и
братья приходят к нему и посылают вызвать его из окружающей его
массы народа, но он не признает их и желает звание матери и братьев
применять только к искренно преданным ему, исполняющим волю отца
его небесного. В притчах он говорит о царстве божием, но так, чтобы
непринадлежащие к числу его учеников не поняли его и не обратились.
Во время бури он заклинает ветер и волны и тем вызывает удивление
у своих учеников. В стране Гадаринской он изгоняет из одержимого даже
целый легион нечистых духов и делает так, что они вселяются в стадо
свиней, после чего их собственники просят его покинуть их местность.
Вскоре после этого он воскрешает дочь Иаира и является причиной того,
что на пути к этой дочери Иаира от одного только прикосновения к его
одежде исцеляется кровоточивая женщина. Правда, он не может
сотворить никакого чуда в своем родшж городе, но зато дважды, с небольшим
промежутком во времени, насыщает пять тысяч человек небольшим
числом хлебов и рыб; подобно призраку, ночью шествует по морю,
даже издали исцеляет дочь сирофиникиянки, затем чрез плюновение и
возложение руки исцеляет глухонемого, а также слепого. После того
как Петр в божественном озарении признал его мессией, Иисус
отправляется на гору, где ему являются Моисей и Илия, и преображается на
глазах изумленных учеников. Припадочного отрока, над исцелением
которого тщетно бились ученики, Иисус снова делает здоровым, закляв
вселившегося в него беса. Ученикам, которые спорят, кто из них
537
больше (!), (до сих пор мы не знаем, чтобы вообще кто-нибудь из них
был крупной величиной), он, указавши на дитя, намекает на свое
мессианское значение. Трудные вопросы культовой и общественной жизни
он разрешает в момент, благословляет детей, пристыжает богатого юношу,
который не решается продать ради него (Иисуса) свое имение и раздать
неимущим. Он возвещает своим ученикам, что пришел не для того,
чтобы ему служили, а чтобы служить самому и предать свою жизнь, —
в смысле 53 главы Исайи — в искупление многих. Затем он вторично
исцеляет слепого и открыто уже выступает в качестве мессии,
торжественно, окруженный народом, въезжает в Иерусалим на осле,
местонахождение которого он увидел духовным оком и описал своим ученикам.
Здесь он проклинает смоковницу за то, что она во-время не приносит
плодов, опрокидывает в храме столы менял и продавцов голубей и гонит
от порога дома божия недостойных. Из коварных вопросов своих
противников он вывертывается, умно задавая им встречные вопросы, а также
давая разумные ответы, так что никто уже более не отваживается
задавать ему вопросы, и все его с удовольствием слушают, при чем он
предостерегает от книжников. При входе в храм он предсказывает; скорую
гибель последнего, а в Вифании неизвестная ему женщина умащает его
как бы для погребения. Затем он, удивительно предусматривая всякие
детали, устраивает пасхальную вечерю, во время которой предсказывает
предательство Иуды и в туманных, таинственных словах дает понять,
что он сам есть истинный или настоящий пасхальный атнец.
Предсказывает он и отречение Петра. В Гефсимании он на некоторое время
обнаруживает слабость. Но тем мужественнее и спокойнее он держит себя
при аресте и допросе пред синедрионом, а прзд Пилатом, наконец,
определенно выдает себя за мессию. Затем он спокойно сносит
издевательства солдат и умирает на кресте, правда, с воплем отчаяния из 21 псалма.
Однако, римский сотник, присутствовавший при этом, признает его сыном
божиим и удивляется. В то же время завеса в храме раздирается на две
части и наступает по всей земле длящаяся целых три (!) часа тьма.
Гроб в скале, куда положил Иисуса один богатый член совета, не может
его удержать. Иисус выходит из этого гроба, несмотря на тяжелый
камень у входа, а когда рано утром приходят женщины, чтобы умастить
труп, то вместо него они находят там сидящего ангела, который
возвещает им, что Иисус удалился в Галилею и там ученики встретятся с ним.
Кто читает этот рассказ беспристрастно, тому вдряд ли придет
в голову, что он здесь имеет дело с чем-то иным, а не с благочестивыми
сказками. Если евангельское повествование без всяких околичностей
признают историей, то причиной этого является только привычка,
выработавшаяся с детства, благодаря воспитанию и образованию. Что в этом
повествовании исторического? Во всяком случае, не приводимые там
чудеса. Ведь, вое они вместе и порознь, — как показано в моей книге
об евангелии Марка, — скопированы с ветхозаветных чудес — Моисея,
Илии, Елисея и других и лишены всякой достоверности. А из этих
рассказов о чудесах состоит главное содержание древнейшего евангелия
(Марка) и притом в таком размере, что, если выбросить из евангельского
повествования все чудесное, сверхъестественное и не заслуживающее
доверия, то не осталось бы ничего, по крайней мере, ничего, что могло бы
иметь для нас хо!ъ какой-нибудь исторический или даже религиозный
интерес. Неужели эти истории Петр сообщил своему толмачу Марку
на основании личных переживаний? Неужели это евангелие было
написано учеником Петра двадцать или тридцать или сорок лет спустя после
И8
смерти Иисуса, когда еще живы были свидетели рассказываешь
событий? Пусть этому верит, кому охота.
Превозносят ясность евангелий и думают, что на основании ее
можно доказать их исторический характер. На самом же деле евангелия
так мало ясны, что даже фигура спасителя у Марка оказывается,
изображенной расплывчато, и решительно невозможно об этом Иисусе, как он
встречается в древнейшем евангелии, составить себе ясного
представления. Его образ не выносит света критики: во время научного
исследования, чем ближе к нему подходят, тем он делается все неопределеннее
и туманнее. Нисколько не меняют дела и все восторженные славословия
теологов, которые обычно раздаются тем громче, чем более фигура
спасителя окутывается покровом предания. Ну, а окружающие Иисуса?
От его учеников, — исключая, в крайнем случае, Петра, — мы не узнаем
почти 'Ничего. Время, когда он совершал свои деяния, так же остается
в тумане, как ускользают от всякого, более точного определения и места
его выступлений. Даже самые верующие в историю теологи вполне
справедливо удивляются неточности хронологических данных у Марка. «Он
не имеет никакого представления о продолжительности деятельности
Иисуса», — говорит Иоганн Вейс и смеется над тем, что Иисуса,
набожного иудея, Марк вообще в первый раз приводит на праздник пасхи
в Иерусалим. Да и указания на места у Марка не лучше: дом, гора,
пустынное место, — что может извлечь отсюда исследователь-историк?
Правда, евангелист называет Галилею, Перею, Иудею, Галилейское море
и т. п., однако, он не имеет ясного представления о положении и условиях
этих мест и говорит о них так, что мы отнюдь не уверены, — не
почерпнул ли, быть может, он своего знания о них просто из книг историографа
Иосифа. Он ни описывает правильно окрестностей Генисаретокого озера,
ни знает хорошо Иерусалима. А между тем, говорят, он родился в
Иерусалиме и провел там большую часть своей жизни.
То же самое приходится сказать также о Матфее и даже Луке,
который питает определенные претензии на то, чтобы в нем видели
историографа. Его хронологические данные точно так же расплывчаты и
неопределенны, как у Марка: «в те дни», «в то время», «в одну из суббот»,
«неделю спустя», «в тот же самый час», и т. д. А где он приводит
действительно определенные указания на время, там они оказываются
исторически неверными. Он заставляет Иисуса родиться «во дни Ирода,
царя», который, однако, умер еще за четыре года до этого, ибо, — по
сообщению самого же евангелиста, — в 15 году правления Тиверия Иисус
был уже в возрасте приблизительно тридцати лет. Он мелет вздор о
переписи, которая, — как доказано, — не производилась 'никогда, или же, во
всяком случае, была не при Квириние, который был наместником только
в 7—11 годах нашей эры. У него одновременно исполняют обязанности
первосвященника Анна и Каиафа, тогда как всегда существовал только
один первосвященник. Образ фарисеев всеми евангелистами совершенно
искажен. Характер Пилата, как он обрисован нами, стоит в кричащем
противоречии с изображением этого мужа у Иосифа и Филона. О дружбе
Ирода с Пилатом, о которой фантазирует Лука (23, 12), ничего не знает
ни один историограф. Судебный процесс, жертвою которого будто бы
нал Иисус, согласно тогдашним иудейским понятиям, совершенно
невозможен. Талмуд называет по именам всех председателей, которые
руководили синедрионом со времен Антитона (250 год до нашей эры) вплоть
до' разрушения Иерусалимского храма в 70 году, — Каиафы среди них
нет. В таком случае говорить о «надежности» евангельской истории
539
прямо таки неприлично. Евангельское повествование отнюдь не носит
признака историчности и оно давно было бы признано вымыслом, если
бы не считали необходимым в защиту противоположною взгляда
приводить совершенно иные, чем научные, основания. Так же хорошо могли
бы в «Илиаде» или «Одиссее» Гомера видеть исторический источник и
на основании их утверждать историчность какого-нибудь Ахиллеса,
Нестора, Одиссея и им подобных.
Указывают на словеса Иисуса, на его учение, на новую, до того
времени неслыханную мораль или нравственность, которую, якобы, он
проповедывал людям. Такие нравоучительные изречения, — говорят,—
могут исходить только из уст совершенно «единственной в своем роде»
личности, и эти изречения — ничьи иные, как Иисуса. Но это
следовало бы еще доказать. В действительности же, евангельский Иисус не
учил ничему, что превосходило бы чистую нравственность или мораль
и благочестие его иудейских современников. Впрочем, почти для
каждого из его положительных речений можно указать в ветхом завете,
а также талмуде, точки соприкосновения и места, откуда они были
заимствованы. Иисус не принес никакого нового представления о боте.
Ведь, идея, что бог — «отец» людей, является ветхозаветным наследием
и выражена с точно такой же решительностью как в талмуде, так и
в других религиях. Иисус не возвестил никакой новой морали или
нравственности. Ведь детское послушание к богу и действенная л&бовь
к людям, даже к врагам, точно так же требуется Моисеем, псалмопевцем,
Иисусом сыном Сираха, Иовом и талмудом, не говоря уже об индусах,
Платоне и философах-стоиках. Заповеди блаженства находятся в ветхом
завете. Прошения молитвы «Отче наш» надерганы и сотканы из
иудейских молитв, которые задолото до Иисуса употреблялись в синагогах. Вся
нагорная проповедь, — эта больше всего превозносимая «жемчужина»
в венце назидательных изречений Иисуса, — слово в слово составлена
из мест писания и совершенно так же слышится в назидательных
изречениях талмудических раввинав. То же самое приходится сказать и
о притчах Иисуса. Тажже и они ни по содержанию, ни по форме не
отличаются от раввинских притч своего времени, а отчасти даже
написаны под сильнейшим влиянием последних. Еврейские ученые уже
столько раз и столь решительно отмечали это, что, наконец, нельзя уже
дальше закрывать глаза на это. В связи с этим, одной из самых важных
и самых насущных задач будущей историографии будет вернуть
иудейской морали или нравственности то, что ей принадлежит. И отнюдь не
делает чести христианской теологии то, что она все еще открещивается
от этого элементарнейшего долга любви к истине и справедливости и
старается искусственно установить противоположность между Иисусом и
раввинами там, где ее в действительности нет. Само собой разумеется,
что всем этим отнюдь не оспаривается высокая моральная ценность
речений Иисуса, оспаривается только то, что из этих речений и ето
учения о нравственности можно извлечь довод в пользу его
историчности.
Для действительно-исторического воззрения, которого, конечно,
нечего искать у теологов, не отдельные пункты учения евангелий, как
таковые, обусловливают их притягательную ст:*>ху и религиозное
содержание, а освещение, которое дали евангелия предшествующей иудейской
морали, составляет то подлинно значительное и новое, что привнесло
христианство в этом отношении. Взгляд на близкий конец света, — он
произвел сильнейшее впечатление на людской эгоизм и привлек к хри-
540
стианству большинство приверженцев. Но эта вера в близкий конец
света для нас, людей современных, давно уже потеряла свое значение,
а вместе с тем и учение Иисуса утратило для нас тот единообразный и
решающий характер, благодаря которому оно оказывало влияние на
ранние времена. Для нас этика Иисуса является только несвязным
собранием единичных назидательных изречений вес'ьма различной ценности
и не может более иметь для нас решающего значения уже по одному
тому, что ее культурная основа столь сильно отличается от нашей, что
мы не могли бы следовать ей (этике), даже если бы и хотели:. Ее чисто
индивидуалистический характер, имеющий в виду спасение отдельной
души, противоречит социальному духу нашего времени, который требует
не сострадания или жалости, а справедливости. И ее стремление,
целиком направленное на достижение блаженства, ее обоснование всех своих
предписаний исключительно только надеждою на награду и наказание
на том свете, — все это делает ее совершенно неприемлемой для более
зрелого в этическом отношении сознания.
После всего этого, также и евангелия не могут служить
доказательством историчности Иисуса. Они являются книгами не историческими,
а назидательными или, скорее, книгами откровения, написанными с
определенной целью — посредством придания исторического характера жизни
спасителя сделать его образ более понятным сознанию людей, а также
пробудить и укрепить веру в него. При этом свой материал евангелия
почерпают не из какой-нибудь действительности, а из религиозного
сознания и фантазии; написаны же они, явно, в подражание ветхому
завету, с обращением внимания на историческое и религиозное содержание
последнего и с целью эту древнюю книгу откровения превзойти чрез
соответствующую новую и оттеснить на задний план.
Из евангелий, как с этим согласны даже тео^Шги, не только нельзя
вычитать никакой жизни исторического Иисуса, но в них вообще-то нет
и следа историчности. Кто на основании евангелия считает Иисуса
исторической личностью, тот должен прямо указать, каше место или
история в евангелиях дает ему на это право. Такого места или истории
в евангелиях нигде найти нельзя, — нельзя найти даже у Марка, этого
самого древнего и «самого надежного» из евангелистов, а посему все
признание существования исторического Иисуса — совершенно
неосновательно и не имеет под собой никакой почвы.
Остается только одно возражение против утверждения, что Иисус,
вообще говоря, представляет собой плод религиозной фантазии: с одной
стороны, указание на «сильную личность» и на «неизгладимое
впечатление», якобы производимое им на окружающих, с другой, связанное с этим
указанием утверждение, что такое огромное движение, как христианство,
можно объяснить только деятельностью подобной личности. Но где
в истории христианства можно подметить это «сильное впечатление»?
Об этом ничего, ровно ничего нельзя вычитать в христианской
литературе. В древнейшем евангелии Марка, как я показал в своей книге,
о нем, нет ни одного слова, ни одной строчки, которые могли бы
претендовать на историчность и которые можно было бы приписать
воспоминаниям очевидцев. Даже чудеса Иисуса, которые, конечно, не могли бы
так легко забыться, измышлены на основе ветхого завета и, значит, не
оставили после себя никакого следа в памяти потомков. Пашловы по-
541
сл&ния, якобы, написанные под непосредственным влиянием «сильной
личности Иисуса», хранят полное молчание об Иисусе, как историческом
индивидууме, и знают только христа догматики. Да и остальные
новозаветные послания, Деяния апостолов, позднейшие защитники
христианства (апологеты) и отцы церкви знают только учение об Иисусе, как
небесном духоедом существе, спасителе, сыне божием, втором боте и
победителе смерти, и ни одним словом ни обмолвливаются о том, что они
могли бы рассказать об историческом человеке Иисусе более того, что
уже находится о нем в евангелиях, в последних же, как мы видели,
о нем, как таковом, нет абсолютно ничего1). Итак, создается впечатление,
что этот Иисус не оставил после себя никаких следов, никакой памяти
о себе у своих современников и их потомков. Ибо, когда евангелисты
приступают к написанию «жизни Иисуса», то они материал свой
почерпают как из ветхого завета, так и звездного неба. Впрочем, и все
христианство, говоря о своем Иисусе, почти всегда ссылается только на
«писание», и, — что весьма редко, — на воспоминания, при чем и здесь оно,
во всяком случае, делает так, что неудачность этих ссылок слишком
очевидна и ясно показывает, что мы имеем дело только с вымыслом.
Таким образом, само собою нам навязывается неизбежное решение:
или исторический Иисус был действительно такою «сильною» личностью,
какою его превозносят его сторонники, но, в таком случае, непонятно,
почему о нем не сохранилось никаких следов в памяти потомков, а его
история в евангелиях целиком является плодом фантазии. Или он вовсе
не был столь крупной личностью, чтобы память о нем сохранилась у его
потомков, но, в таком случае, непонятно, как он мог быть основоположг
ником христианства и сделаться предметом или героем евангельского
повествования. Во всяком случае, об Иисусе мы не знаем ничего, ровно
ничего, он является только именем без всякого содержания и без
носителя, который стоял бы за ним. Если смотреть с научной точки зрения,
то мы с таким же правом можем видеть в нем личность историческую,
как и в каком-нибудь Иошуа— Иисусе Навине, Геракле, Аттисе,
Адонисе, Озирисе или Бальдуре, о которых тоже рассказывалось только
мифическое и которых их поклонники также считали личностями
реальными, насадителями культуры и спасителями своих народов от телесных
и душевных невзгод. Кто признает возникновение христианской
религии делом одной, «единственной в своем роде» личности, а именно Иисуса,
тот пусть хоть раз скажет нам, кто был основоположником вавилонской,
египетской, сирийской религии или митраизма, которые в свое время
имели не меньшее значение, чем христианство, и которые все же не
восходят к одной, определенной личности. Что гностицизм не имел
никакого основоположника, — это уже общепризнано. Являются ли
личностями историческими Будда и Заратустра, — это, по крайней мере,
сомнительно. Что Моисей — личность мифическая, это можно считать
несомненным. Религии и вообще духовные движения зарождались и без
того, чтобы их вызвали к жизни обязательно единичные лица. Они
вырастали из потребностей массы, условий времени, переживаний многих
единичных личностей, которые отражали один и тот же дух времени и
вынуждены были мыслить и действовать в одном и том же направлении.
И меньше всего можно утверждать, что величина и значение подобного
движения стоит в связи с значением его виновника. «Можно, —
правильно замечает Кайзерлинг, — сделаться одной из величайших
личностей в смысле истории, в действительности никогда не живши на свете,
никогда не учивши тому, чш обусловливается ее историческое значение,
542
никогда вообще ничего не учивши, никогда не бывши значительной
фигурой, и так далее».
Кто признает христа личностью исторической, тот должен, — как
было сказано ц начале данной монографии, — привести в пользу своего
взгляда веские доводы. Этих же доводов никогда привести нельзя, так как
существующие источники или документы материала для них не дают.
(«Жид ля Христос»).
Р. Виппер
ЕСТЬ ЛИ В ХРИСТИАНСТВЕ ЧТО-НИБУДЬ НОВОЕ?
Всем, кто вырос так или иначе в христианской традиции, очень
трудно разбираться в оценке отдельных учений и понятий, входящих
в состав христианства. При нашей привычке видеть в христианстве
нормальную религию, религию по преимуществу, мы уже не чувствуем, что
в нем оригинального, своеобразного и единственного. Только
историческое сравнение может нам дать мерку в этом отношении. Европейской
науке не скоро удалось добиться правильного взгляда © этом смысле,
а в широких кругах общества до сих пор очень слабо понимание
сравнительно-исторических задач изучения религий.
Очень распространено убеждение, что христианство принесло новые
догматы, новые предметы верования; затем, — что оно создало -новое
возвышенное богослужение; наконец, что оно провзгласило новую, до тех
пор неслыханную мораль, высокое нравственное учение, недоступное
предшествующим, более грубым векам. Наука выяснила, что эти
представления ошибочны. В христианском учении и обрядах нет ни одной
черты, к которой не нашлось бы множества аналогий в других веках и
у других народов.
Во всех религиях есть бог-страдалец, есть рассказ о смерти
молодого, прекрасного телом и душой ангела или героя, который потом
(воскресает, и есть соответствующие дни печали и праздники радости.
Всюду на свете есть история воплощения бога на земле, при чем он
родится чудесным, мистическим образом от девы. Между прочим, много
общего с христианской легендой рождения Иисуса представляет рассказ
о ро;ждении Будды: в имени матери Будды, Майя, есть даже созвучие
с иудейской Марьям.
Очень старинна вера, что грозного бога можно умилостивить
кровавой жертвой. История Авраама представляет откровенное признание,
что израильтяне допускали жертву первенца. Греческая религия с
особенной любовью изображает бога или святого, благодетеля людей,
проливающего кровь для их спасения или исцеления. Таким искупителем
рода человеческого является Прометей, пригвожденный к скале,
которому коршун терзает сердце; другой спаситель человечества Геракл, сын
верховного бога, избавляет Прометея от страданий. В греческой же
религии есть прототип христа, сына божия, нисходящего на землю и
приносящего себя в жертву. Таким страждущим богом был Дионис-Загрей,
рожденный от Коры (девы); его терзают и мучат злые враги, он истекает
кровью и его разрывают на части, но отец его небесный, высший бог,
отдавший его на жертву, совершает чудо и воскрешает его.
Образ праведника, гибнущего 'безвинно и принимающего на себя
грехи других, издавна привлекал проповедников и мыслителей. Пророк
®13
Исайя (гл. 53) говорит о великом страдальце: «Истинно', он принял на
себя наши страдания. Мы считали ето несущим удары и муки от бога;
но он изранен ради наших злодеяний и разбит из-за наших грехов. На
негб обрушилась кара для того, чтобы мы испытали мир, и мы исцелены
его ранами. Мы блуждали, как овцы; но бог сложил все наши грехи на
него. Когда его казнили и мучили, он безмолствовал, как агнец. Он
погребен, как безбожник, хотя он никому не сделал зла и не было обмана
в его устах». Ту же цель — изобразить невинно страдающего
справедливца— мы встречаем у греческого философа Платона (в книге
«о государстве»): «в неизвестности и презрении ведет праведник жизнь,
полную мучений. Наконец, он подвергается бичеванию, пытке, его
бросают в темницу, ослепляют и, после всех страданий, пригвождают к
дереву (или распинают)».
Таким образом задолго до христианства был выработан основной
мотив драмы, изображенной в евангелиях. Но, может быть, оригинальны
термины, выражение, формулы Нового завета? — Нет; и этого нельзя
сказать. Слова «спаситель мира», «евангелие, или благая весть»,
«пришествие во славе» (по-гречески парусия), все эти магические звуки,
примененные христианством, составляют заимствование, подражание
официальному языку государства. «Спасителем» (Сотером, Сальвато-
ром) назывался император (отчасти в том духе, как у нас Александр
назывался благословенным или еще раньше Владимир —святым).
Особенность лишь в том, что римские императоры были настойчивее
позднейших европейских, ставили себе всюду статуи и требовали курений, жертв
и божеских почестей. Роль спасителей они играли с большим шумом
и блеском. «Евангелием» называлось послание или приказ государя;
таким же способом обозначались всякого рода вести о придворных
событиях. Например, о дне рождения Августа было написано на
официальной памятной доске: «это событие будет началом ряда евангелий
(т.-е. важных знамений) для страны». Парусия, выражение, применимое
в Новом завете к христу, давно существовало в качестве канцелярского
выражения для приезда самодержца.
Обряды, принятые христианством, также не представляют ничего
нового и оригинального: Ограничимся одним примером. Важнейший
обряд христианства, причащение телом и кровью спасителя,
воспроизводит обычай, распространенный в самых разнообразных видах у всех
народов мира. Этнологи видят в нем одну из форм эндрканнибализма,
т.-е. такой трапезы, когда вкушают тело не врата, а друга, родственника
или покровителя, чтобы обеспечить себе счастье, богатство, блаженство,
исцеление и т. д.
Есть очень определенные указания на то, что в этом обряде
первоначально заключалась самая реальная правда. Сохранились рассказы
об умерщвлении царя или верховного жреца, т.-е. самого ценного
существа племени, при чем верующие разделяли между собою его кровь.
Еще не так давно люди племени гондов в Индии похищали детей высшей
касты, браминов, чтобы во время посева убить аристократического
ребенка среди жестоких мук, вкусить его крови и окропить его кровью поле
ради урожая. Со смягчением нравов реальное людоедство заменяется
вкушением жертвенного животного, напр., ягненка, или фигуры,
выпеченной из теста в виде коровая или пряника., Несмотря на такую замену,
старая жестокая идея сохранилась в полной силе; для своего спасения,
для своего блаженства верующие принимают участие в мистическом
пшзршестве, где поглощают своего бога-покровителя. Очень интересную
544
параллель к христианскому обряду причащения и к -символу креста
представляет старинная языческая Мексика; та.м выпекали фигуру бога-
спасителя из теста и пригвождали ее ко кресту, который назывался
«древом нашей жизни и плоти»; затем снимали фигуру, ломали хлебный
символ и вкушали его в виде священной целительной пищи.
Когда ранние христианские общины установили у себя
евхаристию, они не внесли нового обряда, напротив, скорее оживили старинные
народные обычаи, которые стали приходить в упадок.
Ничего нового и чрезвычайного не заключает в себе и нравственное
учение христианства. Тот взгляд, будто бы на свете нет более высокой
морали, чем проповедь евангелия, — не что иное, как остаток
восхвалений собственной религии со стороны распространителей христианства:
проповедники и миссионеры всегда утверждают, что их вера в
нравственном отношении превосходит все другие. Между тем, если перебрать
евангельские заветы — предписания любви к ближнему, требования чистоты
семейного быта и т. п., — мы не найдем ничего такого, чтб бы не имелось
в священных книгах старинной египетской, сирийской и других религий.
Стоит, напр., посмотреть «книгу мертвых», которую клали в Египте в гроб
умершему; мы там найдем требования нравственной чистоты,
благожелательности к ближним, нисколько не отличающиеся от принятых в
христианстве.
Тот взгляд, что любовь к, ближнему составляет содержание всего
закона, мы встречаем у старинных иудейских раввинов. Рабби Хиллель
говорит: «что тебе самому неприятно, того не делай ближнему; в этом и
состоит все учение, остальное лишь объяснения к нему». Не новость
в христианстве и напряжение завета любви вплоть до требования любить
врагов. Уже старинные, так наз. Моисеевы, предписания советуют мягко
относиться к чужим: а Талмуд изобилует приглашениями любить врагов
и повторяет правило, что лучше терпеть преследование, чем преследовать
самому. Самые выражения евангелий «ближние, любовь к ближнему»
заимствованы у греческих моралистов.
Вообще, что касается нравственных предписаний, христианство
просто стоит на обычном, так сказать, среднем уровне культурного
общества, ничего не меняет в окружающем мире и ничего не прибавляет,
Если же мы обратимся к нравственному идеалу, к общему
представлению о нравственном типе развитой личности, христианство окажется на
ступени не особенно высокой. В христианской морали главное ударение
лежит на уступчивости, смирении, на жалости и расчете на жалость со
стороны другого: «если тебя ударят по одной щеке, подставь другую».
Нет в христианстве ни малейшего призыва к чувству мести и достбинства
личности, нет идеи высшего долга, обязанностей, вытекающих из
понятия о благородстве человеческой личности. В этом отношении
моральный идеал стоиков неизмеримо выше христианского. Своим
нравственным учением христиане не могли произвести особенное впечатление на
окружающий мир.
Итак, ни в догматах, пи о обрядах, ни в морали христианство не
дает ничего нового. В чем же состоит оригинальность и историческое
величие факта возникновения христианства?
Оригинально и поразительно образование великой церковной
общины, появление мощной оппозиции против всесильной дотоле Римской
тгмперии. Оригинально и поразительно возникновение документов этой
швой общины, ее манифестов, ее священных книг, изложение ее
интимных мыслей и чаяний. Пусть в книгах Нового завета нет ни одной новой
Г. Гурев 35
545
идеи, ни одного -нового образа, даже ни одного нового стилистического
оборота; пусть евангелия и послания составляют мозаику красивых
цветов чужой поэзии и чужой проповеди! Но эти произведения шлыны и
ярки благодаря мющи побуждений, которые вдохновили творцов обпщны
соединиться вместе для общей работы, а литераторов и проповедников —
собрать рассеянную мудрость культурного мира, нарисовать образ
великого' идеального основателя церкви, .составить повести, поучения
религиозно-поэтические картины, способные действовать на людей самого
разнообразного характера, общественного положения и степени образования.
(«Возникновение христианства»).
К. Каутский
ЯЗЫЧЕСТВО И ХРИСТИАНСТВО
Развитие мировых сношений и политическое нивеллирование были
двумя могучими фактами возрастания интернационализма, но, несмотря
на это, последнй вряд ли мог бы развиться в такой степени, если бы
не подвигался так быстро процесс разложения всех уз, сплачивавших
старые общины в отдельности, но в то же время обособлявших их друг от
друга. Организации, определявшие в древности всю жизнь индивидуума,
дававшие ей опору и направление, в императорскую эпоху потеряли все
свое значение и силу, — не только* те из них, которые были основаны
на кровных узах, как род и семья, но и те, которые покоились на
территориальных узах, на совместной жизни на общей земле, как волости
и общины. Вследсгвие этого разложения, как мы уже видели, люди,
потерявшие прежнюю защиту и опору, искали себе образцов и
руководителей, даже спасителей. Но этот же процесс побуждает людей создавать
новые общественные организации, лучше соответствовавшие новым
потребностям, чем традиционные, все больше превращавшиеся в
ненужное бремя.
Уже к кощу республики замечается стремление к основанию
клубов и обществ, преимущественно с политическими целями, но также и для
целей взаимопомощи. Цезари распустили их. Ничего не боится так
деспотизм, как всякой общественной организации. Сила ето достигает
наибольших размеров, когда государственная власть представляет
единственную общественную организацию, а граждане противостоят ей, как
разрозненные индивидуумы.
«Уже Цезарь, — сообщает Светоний, — распустил вое коллегии, за
исключением тех, которые вели свое происхождение от глубокой
древности» (Цезарь, гл. 42). Об Августе он же рассказывает:
«Некоторые фракции организовались под видом новых коллегий
для разных неблаговидных целей... За исключением старых,
признанных законом, Августом были распущены вое коллегии».
Моммзен считает вое эти распоряжения похвальными. Опытный и
бессовестный заговорнцж и авантюрист Цезарь кажется ему настоящим
государственным человеком», который «служил народу не награды ради»
и даже не для того, чтобы завоевать его любовь, а «для блага будущего и,
главным образом, за разрешение спасти нацию и влить в ее организм
новые силы». Чтобы объяснить это понимание Цезаря, необходимо вюло-
даить, что труд Моммзена был написда после июньской бойда (первое
546
издание появилось в 1854 г.), когда Наполеон III многими либералами,
в особенности немецкими, считался спасителем общества и когда он ввел
в моду культ цезарей.
С прекращением политической деятельности и рашущением
политических обществ стремление к организации выразилось в более
невинных формах. Массами основывались различные коллегии и кассы,
профессиональные и религиозные, оказывавшие помощь в случае болезни,
смерти, бедности, вольные пожарные команды, а также клубы для
устройства развлечений, литературные общества и ± д. Но цезаризм был так
подозрителен, что едва терпел и организации этого рода, опасаясь, что
они могут служить прикрытием для более опасных союзов.
В переписке между Плинием и Траяном сохранились, между
прочим, письма, в которых Плиний сообщает об огромном пожаре,
опустошившем Никомидию и советует разрешить организаоцию вольной
пожарной команды (collegium fabrorum) не больше, чем из 150 человек, так
как надзор за нею не будет очень труден. Но Траян считал и это
опасным и отказался даль разрешение.
Из писем более позднего времени (117 и 118) мы узнаем, что даже
скопища людей по поводу свадьбы или других празднеств, устраиваемых
богатыми людьми, по мнению Траяна и Плиния, представляли опасность
для существования государства.
А Траян, по мнению наших историков, является одним из лучших
императоров.
При таких условиях стремление к организации могло находить
удовлетворение в устройстве тайных союзов. Раскрытие, таких обществ
грозило их участникам смертной казнью. Ясно, что простые развлечения
или даже выгоды, имевшие значение только для отдельной личности, для
ее личного благополучия, не были настолько' сильным мотивами, чтобы
ради них рисковать своею жизнью. Удержаться могли только такие
общества, которые ставили себе цели, шедшие дальше личных выгод, общества,
которые продолжали существовать даже в случае гибели отдельной
личности. Но такие общества могли приобрести значение и силу, когда цели
их соответствовали сильному общественному интересу или общественной
потребности, классовому или всеобщему интересу, интересу, который
живо затрагивает большую массу и побуждает ее наиболее энергичных и
самоотверженных представителей поставить на карту свою жизнь, чтобы
добиться его удовлетворения. Другими словами: в шшераторскую эпоху
могли удержаться только такие организации, которые преследовали
широкую и общественную цель, высокий и<деал. Не стремление к
практическим выгодам, не забота об интересах минуты, а только революционный
или идейный энтузиазм могли влить в организацию жизненные силы.
Этот идеализм не имеет ничего общего с философским идеализмом.
Ставить широкие общественные цели можно и при помощи
материалистической философии. Мало того. Только путем материалистического
метода, только основываясь на опыте, на исследовании необходимых
причинных связей в области нашего опыта, мы можем выставить широкие
общественные цели, свободные от всяких иллюзий. Но для применения
этого метода в эпоху Римской империи отсутствовали все необходимые
предварительные условия. Только на пути морализирующего мистицизма
мог тогда индивидуум возвыситься над самим собою, поставить себе цели,
которые шли дальше личных и минутных выгод, т.-е. только на пути
того способа мышления, который называется религиозным. Только
религиозные общества могли устоять в эпоху Римской империи. Но мы со-
35*
547
ставили бы себе о них совершенно ошибочное представление, если бы
за религиозной формой, за морализирующим мистицизмом, просмотрели
их общественное содержание, жившее во всех этих соединениях и
придававшее им силу: стремление вырваться из существующих печальных
условий, искание высших общественных форм, страстную жажду тесного
общения и взаимной поддержки, охватившую беспомощных в своей
изолированности людей, черпавших в этом единении для высоких целей
новые силы и радости.
Но эти религиозные соединения провели в обществе новую
демаркационную линию как раз тогда, когда понятие национальности начало
для народов Средиземного моря расширяться в понятие человечества.
Чисто экономические коллегии, помогавшие индивидууму только в одном
или другом отношении, не отрывали его от существующего общества и не
создавали для него совершенно новую жизнь. Иначе действовали рели-
тиозные общества, скрывавшие в религиозной оболочке высоки*
общественный идеал. Последний находился в противоречии с существующим
обществом не только в одном пункте, но и во всех отношениях. Защитники
втого идеала говорили на одном языке с окружающей их средой, а все-
таки она их не понимала. На каждом шагу эти оба мира, новый и старый;
сталкивались и расходились враждебно, хотя и тот и другой находились
в одной и той же стране. Так возникла новая противоположность между
людьми. Именно тогда, как галлы и сирийцы, римляне и египтяне,
испанцы и греки начали терять свои национальные особенности, возникла
новая противоположность между верующими и неверующими, святыми
и грешниками, христианами и язычниками, противоположность, которая
скоро должна была провести самое глубокое разделение во всем мире.
А вместе с обострением этой противоположности, вместе с энергией
этой борьбы, росли нетерпимость и фанатизм, необходимо связанные со
всякой борьбой и вместе с ней составляющие необходимый элемент
прогресса и развития, если они усиливают и укрепляют прогрессивные
элементы. Между прочим: под нетерпимостью мы понимаем не
насильственное противодействие пропаганде всяких неудобных мнений, а
энергичное отрицание и критику чужих взглядов и такую же энергичную защиту
собственных. Только трусость и лень могут быть в этом смысле
терпимыми, когда речь идет о великих, общих вопросах жизни.
Конечно, они находятся в процессе постоянного изменения. То, что
вчера еще было вопросом жизни, сегодня становится безразличным, оно
не стоит уже борьбы. И фанатизм, который вчера еще являлся в этом
пункте необходимостью, превращается сегодня в причину напрасной
траты сил и может, поэтому, оказаться в высшей степени вредным.
Поэтому, религиозная нетерпимость и религиозный фанатизм
развивавшихся христианских сект являлись в некоторых случаях силой,
толкавшей вперед общественный прогресс, пока великие общественные цели
становились доступны массам, только облекаясь в религиозную
оболочку, т.-е. от времен Римской империи до эпохи реформации. Но эти
свойства становятся реакционными и начинают задерживать прогресс
с тех пор, как религиозный способ йышления уступил свое место методам
современного мышления и все же более становится монополией отсталых
классов, слоев, стран, потеряв в то же время способность создавать
религиозную оболочку для новых общественных идеалов.
Религиозная нетерпимость представляла совершенно новую черту
в мышлении античного общества. Несмотря на всю свою национальную
нетерпимость, несмотря на враждебное отношение к иностранцам, это об-
548
щество, которое обращало своих врагов в рабов или убивало их, даже
когда они не принимали непосредственного участия в войне, как воины,
в сущности не знало религиозной нетерпимости и не питало вражды
к тем, кто расходился с ним в религиозных воззрениях. Некоторые
случаи, которые можно было бы рассматривать, как религиозные
преследования, например, процесс Сократа, объясняются обвинениями не
религиозного, а политического характера.
Только новое мировоззрение, зародившееся в эпоху Римской
империи, принесло с собой религиозную нетерпимость, которая одинаково
встречается ка^с среди христиан, так и среди язычников, при чем у
последних она проявляется не по отношению ко всякой чужой религии,
а только к той, которая в религиозной оболочке пропагандировала новый
общественный идеал, стоявший в полном противоречии с существующим
общественным порядком.
В остальных отношениях язычники оставались верны своей
религиозной терпимости, которую они всегда практиковали. Более того,
именно развитие международных сношений в эпоху Римской империи
приводило к интернационализму и в области религиозного культа. Чужие
купцы и путешественники привозили с собою всюду своих богов. И
чужие боги пользовались тогда еще большим почтением, чем туземные,
не приносившие никакой помощи, оказавшиеся совершенно бессильными-
Отчаяние, являвшееся следствием всеобщего упадка, питало сомнения
в силе старых богов и приводило некоторые смелые, и самостоятельные
умы к атеизму и скептицизму, к сомнению во всяком божестве или во
всякой философии. Наоборот, колеблющиеся, более 'слабые, как мы уже
видели, искали нового спасителя, в котором они могли бы найти
защиту и опору. Одни думали найти его в цезарях, которых они
обоготворяли, другие думали, что идут более надежным путем, обращаясь
к богам, которые уже давно существовали, но сила которых в стране
не была еще подвергнута испытанию. Так вошли в моду иностранные
культы.
Но при этой международной конкуренции богов Восток победил
Запад —отчасти потому, что восточные религии — в силу причин, с
которыми мы еще познакомимся — были менее наивны, были больше
проникнуты глубоким философским смыслом, носили на себе более сильный
отпечаток цивилизации крупных городов, отчасти же потому что Восток
в промышленном отношении стоял выше Запада.
Культурные страны Востока, по своему промышленному развитию,
превосходили страны Запада, когда они были завоеваны и разграблены
сначала македонянами, а затем римлянами. Можно было думать, что
процесс международного нивеллирования, начавшийся с того времени,
приведет также к индустриальному нивеллированию, что Запад догонит
в промышленном отношении Восток. Но случилось противоположное.
G известного исторического пункта начинается всеобщий упадок
античного мира, как следствие отчасти вытеснения свободного труда - рабским,
отчасти же разграбления провинций Римом и ростовщическим капиталом.
Но этот упадок совершался на Западе быстрее, чем на Востоке, так что
культурное превосходство последнего, начиная со второго столетия нашей
эры, не только не уменьшается, но, наоборот, растет в течение многих
столетий, почти до 1000 г. Бедность, варварство и обезлюдение растут на
Западе быстрее, чем на Востоке.
Причина этого явления лежит в промышленном превосходстве
Востока и растущей эксплоатации трудящихся классов. Излишки, доста-
549
влявмые последней, стекались все больше со всей империи в Рим, этот
центр всех крупных эксплоататоров. Но как только скопленные там
сокровища принимали форму денег, львиная часть их обратно уплывала
на Восток, так как только он производил все предметы роскоши^ которых
требовали крупные эксплоататоры. Он доставлял квалифицированных
рабов и промышленные продукты, как стекло и пурпур из Финикии,
полотно и вязанные изделия из Египта, тонкие шерстяные и кожаные
изделия из Малой Азии, ковры из Вавилонии. Уменьшающееся
плодородие Италии превращало Египет в житницу Рима, так как, благодаря
наводнениям Нила, покрывавшего ежегодно поля Египта свежим
плодоносным илом, его сельское хозяйство было неистощимо.
Большая часть продуктов, доставляемых Востоком, отнималась
у него насильственным путем, в форме налогов и процентов, но все же
оставалась еще значительная часть, за которую нужно было платить
продуктами эксплоатации Запада, все более бедневшего при этом.
А сношения с Востоком не ограничивались пределами Римской
империи. Александрия богатела не только путем продажи продуктов
египетской промьппленности, но и путем транзитной торговли с Аравией
и Индией. Из Оинопа на Черном море вела тортовая дорога в Китай.
В своей «Естественной истории» Плиний высчитывает, что за одни
только китайские шерстяные материи, индийские драгоценности и
арабские пряности империя ежегодно уплачивала сто миллионов сестерциев
(свыше 20 миллионов марок). И все это без соответственного эквивалента
в товарах или налогах и процентах. Вся сумма должна была
оплачиваться благородныыми металлами.
Вместе с восточными товарами в империю проникали восточные
купцы, а с последними их религиозные культы. Они соответствовали
потребностям Запада тем больше, что на Востоке уже раньше развились
аналогичные социальные условия, хотя и не в такой безотрадной форме,
как господствовавшие во всей империи. Мысль об избавлении при помощи
бога, благоволение которого приобретается путем отказа от земных
наслаждений, была обща большинству тех культов, которые быстро
распространялись теперь в Риме, в особенности же египетскому культу Изиды
и персидскому — Митры.
«Изида, культ которой проник в Рим при Оулле и со времени Весп&-
сиана проибрел расположение императоров, стала известной на самом
далеком Западе и мало-по-малу, сначала как богиня спасения и, в более
узкрм смысле, как ботиня исцеления, приобрела отромное
всеобъемлющее значение. Культ ее был богат пышными процессиями, но не малое
место занимали в нем' также умерщвление плоти, истязания и строгие
обряды, в особенности же мистерии (таиндтва). Именно религиозное
настроение, надежда на искупление, стремление к покаянию и надежда
приобрести блаженное бессмертие путем преданности божеству
способствовали воспринятию этих чужеземных культов греко-римским миром,
которому оставались почти совершенно чужды эти таинственные
церемонии, мечтательный экстаз, магия, самоотречение, безграничная
преданность божеству, воздержание и покаяние, как предварительные условия
очищения и освящения. Но еще более широкое распространение, в
особенности при посредстве армии, получил таинственный культ Митры,
тоже с притязанием на избавление и бессмертие. Впервые он становится
известен при Тиверии».
Индийские верования также нашли себе доступ в Римскую империю.
Так, напр., известный уже нам Аполлоний Тианский совершил специаль-
550
ное путешествие в Индию, чтобы изучить тамошние религиозные и
философские учения. О Плотине тоже рассказывают, что он отправился
в Персию, чтобы ближе познакомиться с персидской и индийскою
премудростью.
Все эти воззрения и культы не прошли бесследно и для христиан,
искавших искупления и спасения, и оказали сильное воздействие при
зарождении культа и христианского цикла легенд.
История рождения Христа, как мы ее находим у Луки, носит на
себе буддистские черты.
Пфлейдерер показывает, что автор Евангелия не мог выдумать эту
историю, несмотря на ее неисторичность: скорее всего он заимствовал
ее из саг, дошедших к нему каким-нибудь путем, и всего вероятнее из
саг, общих всем народам Передней Азии. «Эти же саги, иногда в
поразительных сходных чертах, мы встречаем переработанными в истории
детства индийского спасителя Гаутамы Будды, жившего в пятом столетии
до р. х. Он также был рожден чудесным образом королевой Майей,
в непорочное тело которой вошла небесная сущность Будды. К при его
рождении появились небесные духи и пели ему следующую хвалебную
песнь: «Родился чудесный герой, нет ему равного. Слава мира, полный
милосердия, ты распространяешь свое благоволение на все концы
вселенной. Ниспошли всем творениям радость и довольство, чтобы они стали
господами самих себя и были счастливы». Мать приносит его в храм
яля выполнения законных обрядов, и там его находит старый пустынник
Асита, которого привело туда с Гималаев предчувствие. Он предсказал,
что дитя -станет Буддой, избавителем от всех бед, ирошдником к свободе,
свету и бессмертию... Ив заключение общая картина, как царский
ребенок преуспевал в премудрости, возрастал и укреплялся духом и
телом—совершенно как у Луки 2, 40 и 52».
«О подраставшем отроке Гаутаме рассказываются также примеры
его мудрости. Раз, по случаю праздника, родители потеряли его и после
долгих поисков отец нашел его в кругу святых мужей, погруженных в
благочестивое размышление, при чем он советовал изумленному отцу искать
более возвышенные предметы».
В той же книге Пфлейдерер указывает еще и другие элементы,
которые восприняты были христианством из других культов, как напр., из
культа Митры. Мы уже приводили его указание на прообраз вечери,
которая «принадлежала к таинствам митраизма».
Языческие элементы можно проследить и в учении о воскресении.
«При этом принимали участие также народные представления об
умирающем и воскресающем боге, как они тогда господствовали в
культах Адониса, Аттиса, Озирцса — под различными названиями в
сопровождении различных обрядов, но по своей сущности всюду одинаковые.
В главном городе Сирии, Антиохии, где долгое время действовал Павел,
главным праздником был праздник Адониса весною; сначала
праздновалась смерть Адониса, и при диких жалобных криках женщин хоронилось
его изображение. Затем на следующий день (в культе Озириса — на
третий, а в культе Аттиса — на четвертый день после смерти)
сообщалась весть, что бог жив, и он возносился на небо и т. д.».
Но Пфлейдерер вполне основательно указывает, что христианство
все эти языческие элементы восприняло не просто, а приспособило к
своему единому мировоззрению. Оно не могло уже принять чужих богов в той
форме, в какой они являлись, этому мешал уже его монотеизм.
(«Происхождение христианства»).
561
fl. Куп
ВОСТОЧНЫЕ КУЛЬТЫ
Когда Рим покорил Восток, старые восточные культы продолжали
жить и сохранились в полной неприкосновенности. Поэтому, если даже
и изменился облик восточных богов, то разве только чисто внешне. Па
своему характеру, по всему внутреннему содержанию они не изменились.
Вся сущность культов восточных богов сохранилась. Попрежнему жрецы
Ваала, Астарты, Атаргатис, Кибелы и других восточных "богов и богинь
продолжали служить этим богам на местных языках, соблюдая все
прежние обряды.
Да это и не могло быть иначе. Жрец на Востоке — не только
служитель бога, не только хранитель мудрости, .но прежде всего целитель души.
Если верующий на Востоке запятнал себя грехом, если нечиста его
совесть, то он шел в храм к жрецу, и тот очищал его душу, он возвращал
ему душевный покой. Целым рядом мистических обрядов, омовений,
очищений, окроплением кровью жертвенных животных или же всенародной
исповедью греха достигалось очищение души. Верующий, выполнив все
предписанные обряды, как бы обновлялся, возрождался для новой,
лучшей жизни. Этого обновления можно было достигнуть также отказом от
пищи, своего рода постом, или путешествием к священным местам, или же
самобичеванием, нанесеннием себе ран, и, наконец, даже самоскоплением.
Всего этого совершенно не знали религии Греции и Рима. Вряд ли стоит
говорить о том, что эта черта восточных культов сильно привлекала к ним
массы, особенно в такие времена, когда жизнь становилась все тяжелее
и тяжелее, как это было в III веке по р. х., когда все росла бедность
в Римской империи, когда малейшее проявление любви к свободе
неумолимо подавлялось императорской бюрократией. Это очищение души от
скверны греха привлекало прежде всего тем, что жрец Восотка учил о том,
что лишь этим путем верующий может достигнуть блаженства в
будущей, загробной жизни. Лишь тот достигнет вечного блаженства в
небесном царстве, в сонме богов, кто безгрешен, кто очистился от греха. Лишь
верующему дана будет в награду вечная блаженная жизнь. Кроме того,
и самые представления о загробной жизни в религиях Востока не были
такими неопределенными и расплывчатыми, как в религиях Греции
и Рима.
Но не только над разумом и совестью верующего властвовали
религии Востока. Они неотразимо действовали также и на чувства. Боги
Востока сильно отличаются от богов Греции и Рима. Почти все эти
боги — боги страдающие, очищающие и искупляющие мир своими
страданиями. Они человечны в своих страданиях. Страдающие богн Востока
умирают, но умирают для того, чтобы опять воскреснуть для новой,
светлой, радостной жизни. Умершего бога, как, например, Аттиса, Адониса,
Таммуза или Озириса, оплакивают их жены или возлюбленные; таковы
боги Кибела, Астарта, Изида. Их скорбь глубока, она безмерна. Но ожил
умерший, страдавший бог, и скорбь сменяется неудержимой радостью.
Эта скорбь и радость передаются в культах восточных богов. Скорбят
участники мистических культов о смерти бога. Скорбят жрецы. Они
наносят себе кровавые раны, бичуют, причиняют себе увечья. Громко
раздаются в храме их плач и стенания. В храме царит скорбь,
граничащая с полным отчаянием. Но вот сразу сетования и плач сменяются
громкими ящсованиями, безудержным, неистовым весельем, — воскрес
55?
умерший бог! Эти переходы от скорби к радости должны были
действовать на чувство. Они доводили до экстаза верующих: и в этом эстазе
они должны были* познавать божество, мистически сливаться с ним.
Все обряды восточных культов рассчитаны были на то, чтобы произвести
сильное впечатление на верующих. Пляски жрецов и жриц, шумная,
резкая музыка, пышные богослужения и процессии, страстное пение,
употребление хмельных напитков, особенно сильно действоваших после долгого-
и часто сурового поста, сложные церемонии в сказочно-богато
разукрашенных храмах — все это действовало и на чувство и на воображение.
Ничего подобного не встречаем мы в культах богов Греции и Рима-.
Но особенно важно, что восточные культы отличаются от религий
Рима и Греции тем, что все они объединяют своих участников в общины
верующих. Бог Востока принимает всех в лоно свое, кто бы они ни были,
как своих детей. Все равны перед лицом бога. Мы видим, как
участниками восточных мистических культов становятся одновременно и бедняк,
не имеющий ничего за душой, и римский капиталист, располагающий
десятками и даже сотнями миллионов, вольноотпущенник, бывший всего
несколько дней тому назад рабом, знатный римский вельможа, раб,
вывезенный откуда-нибудь из Азии, и важный римский чиновник,
пользующийся чуть ли не полнотой власти. И все эти участники восточных
мистерий равны перед богом. Сплошь и рядом даже может случиться,,
что в общине верующих, раб стоит выше, чем римский сенатор или
вельможа императорского двора. Все социальные различия как бы стирались,,
когда дело касалось участия в культе восточного божества.
Ж:тзнь в это в]ремя, как мы уже отмечали, была крайне тяжела.
Бесконечные смуты и войны делали жизнь очень необеспеченной. Все
росла и росла бедность. Всюду чувствовался какой-то застой, во всем
все сильнее сказывался упадок.
В такое время должна была возникнуть и действительно возникает
вера в, то, что человечество идет к гибели, что близится конец мира.
Понятно, что учение о том, что смерть — это освобождение души человека
от уз земной жизни, освобождение души из "темницы человеческого тела,
имело всюду большой успех. Понятно, что стремление к загробной
лучшей жизни царит всюду. Но ведь эта блаженная жизнь за гробом —
удел лишь того, кто сохранил чистой душу, кто очистил ее от скверны
греха. А это очищение дают восточные культы; они сулят верующим
блаженство в будущей жизни. Понятно поэтому, что восточные культы
начинают играть доминирующую роль в языческой римской империи.
Доступные всем и каждому, уравнивающие всех перед лицом бога,
неотразимо действующие на чувство, разум и совесть, эти культы сильно
привлекают к себе верующих. Их таинственная мистика влечет сердце
верующего. Их учение о том, что земная жизнь — лишь подготовка к лучшей
загробной жизни, дает силы переносить все невзгоды тяжелой,
безрадостной жизни. Эта цель — будущая жизнь, жизнь обновленной
очищенной души.
Завоевывая тогдашний мир, восточные культы подготовляли путь
для торжества другой религии, создавшейся на Востоке. Они готовили
путь для христианства. Не им было суждено покорить римскую империю.
Покорило ее христианство. Но, чтобы стать государственной религией
римской империи, христианству пришлось выдержать упорную борьбу
с богами Востока. Эти боги были и предшественниками христианства,
и его противниками, а среди них самым упорным
противником был персидский бог Митра. Но, ведя упорную борьбу
55а
с богами Востока, христианство многое позаимствовало у них.
Можно, пожалуй, утверждать, что, не будь этих заимствований, вряд ли
борьбу между христианством н культами Востока кончилась бы победой
христианства. Поэтому победа его над язычеством римской империи
станет понятной только тогда, когда мы детально познакомимся с
восточными культами, когда мы выясним себе, что было общего между ними
и христианством, что заимствовано им у восточных культов. Такие
религии, как религия Египта, Сирии, Фригии, Персии и, наконец, иудейство,
не могли не оказать влияния на христианство. Ведь в корне это такая же
восточная религия, как и все те религии, которые распространились с
таким успехом по римской империи. Ведь христианство не принесло с
собой новых идей, которые были бы совершенно незнакомы религиям
Востока. Учение о сыне божьем, пришедшем в мир, чтобы спасти его,
очистить от греха своими страданиями, не создано впервые
христианством. Мы находим подобное учение и в других религиях. В целом ряде
религий встречаем мы учение о страдающем боге. Такие таинства, как
крещение, причащение, исповедь, существовали чуть ли не во всех
религиях Востока. То богослужение, которое лишь постепенно создавалось
в христианской церкви, создавалось под влиянием целого^ ряда таких
восточных культов, как бога Митры, богини Изиды и других богов. И в своем
ритуале христианство никогда не было вполне оригинально, и здесь мы
видим ряд заимствований. Создаваясь на Востоке, христианство, конечно,
черпало в религиях Востока и ряд своих догматов, обряды, таинства и
даже нравственное учение. Поэтому мы с полным правом можем
утверждать, что, знакомясь с восточными культами, мы знакомимся с теми
источниками, которые послужили материалом для создания христианства.
Как уже сказано, ни с одной религией древности христианство не
вело такой упорной и тяжелой борьбы, как. с религией Митры. Митра
был самым грозным противником Христа и в то же время
предшественником его, подготовившим больше, чем другие религии, торжество
христианства, так как ни в одной из восточных религий нет стольких общих
черт с христианством, как именно в религии этого персидскою бота.
Митра, -как и Христос — посредник между ботом и люьми. Христос —
сыц божий, творящий волю своего отца, пославшего его, и Митра и:
Христос ведут борьбу со злом, оба они — противники всякой неправды .на
земле. Как Митра борется с Ариманом и его демонами, так и Христос
борется с сатаной и его слугами, которые, подобно Ариману и его
демонам, будут побеждены окончательно лишь в последний день мира. Так же,
каж, Митра, который, совершив свои подвиги на земле, возносится на небо,
к своему отцу Оромазде, и Христос, совершив на земле волю отца своего
и пострадав, возносится к богу-отцу на небо, чтобы притти на землю в
последний день. Так придет в последний день и бог Митра. Как Митра —
бог, дающий свет, отождествленный в Азии с богом солнца, стал
«непобедимым солнцем — богом Митрою», богом, дающим жизнь, так и Христос-
оветодавец— «свет всего мира». В связи с этим интересно отметить, что
в V веке по р. х. христиане, особенно принадлежавшие к низшим классам,
падали на колени, простирали руки к восходившему солнцу и молились
ему, взывая: «господи, помилуй».
Много общего в ритуале христианства и культе Митры. Укажем
хотя бы два обряда. В культе Митры существовал особый обряд омовения,
которым очищали от скверны греха вновь посвящаемого. Этот обряд
сильно напоминает крещение, которое тоже очищало от греха.
Священная трдлеза культа Митры имвет еще больше сходства с христианским
654
таинством причащения. Участник священной трапезы вкушал хлеб и
вино, христианин с этим приобщается Христу. Священная трапеза
совершалась в воспоминание пира Митры и его помощников, так же и
таинство причащения творится в воспоминание о тайной вечере Христа и его
учеников.
Можно отметить еще целый ряд сходных черт между культом Митры
и христианством. Как и христианство, культ Митры требует праведной
жизни от посвященных в его мистерии. Им предписывается, как
важнейшая добродетель, самое строгое соблюдение данного слова, они должны
прежде всего избегать лжи, вести воздержанную жизнь, что вело даже
к аскетизму. Мы знаем, что среди митраистов были строгие
девственники и аскеты. Все это, конечно, сближало культ Митры с
христианством. Все посвященные в мистерии Митры считали себя братьями, и
между ними даже было в ходу обращение друг к другу «возлюбленный
брат», а так обращались друг к другу и христиане — братья во Христе.
Наконец, отметим еще то, что как христианство, так и культ Митры
считали праздничным днем воскресенье, и как христиане праздновали,
начиная с IV века но р. х. 25 декабря рождество христово, так и поклонники
Митры праздновали 25 декабря рождение своего непобедимого бога.
Что сходство между этими двумя религиями шло действительно
далеко, на это указывает и то, что апологеты христианства сами отмечали
это сходство и объясняли его тем, что сам сатана внушил митраистам
подражать обрядам христианства.
Можно думать, что та страстная, упорная борьба, которая велась
между христианством и религией Митры, объясняется именно чертами
сходства этих двух религий, которые так привлекали к себе верующих.
Что борьба между этими религиями велась страстно, на это указывает
целый ряд фактов. Например, в Александрии в 361 году погиб
мученической смертью патриарх Георгий, решивший построить христианскую
церковь на развалинах святилища Митры. В 377 году префект Гракх,
чтобы доказать, что он действительно стал ревностным христианином,
разрушил до основания святилище Митры, разбил и уничтожил все
стоявшие там изображения богов. Без сомнения, Гракх отлично знал, что ничем
он не мог так хорошо доказать свою приверженность к христианству, как
именно разрушением святилища ненавистното христианам Митры. После
того, как христианство стало государственной религией римской империи,
христиане не переставали самым ревностным, а часто даже жестоким
образом преследовать культ Митры. Чтобы раз навсегда осквернить
артреум, чтобы он уже никогда ire мог быть восстановлен, применяли
иногда такую меру: жреца Митры за его приверженность к богу казнили,
а труп его зарывали в святилище Митры: этим оно осквернялось раз
навсегда.
(«Предшественники христианства»).
А. Древе
ХРИСТОС И БОГИ ВОСТОКА
В самых разнообразных религиях встречается сочетание веры в
спасителя о представлением о страждущем и умирающем боге. Эта идея
страждущего и умирающего спасителя ни в "коем случае не была чу-
555
ждой и иудеям. Не представляет никаких сомнений, что в апокалипсисе
Эздры речь идет о смерти Христа, тем более, что по мнению ученых это
произведение относится к первому столетию по р. х. Однако, и Второ-
сайя рисует нам в эпоху изгнания образ избранника и наследника божия,
«страждущего раба господня", который уже явился людям, но «был
умален» и презрен ими, «который умер позорной смертью и погребен
был», но который воскреснет, дабы исполнилось божие обетование. Этот
образ напоминает страждущих, умирающих, воскресающих богов
Вавилона и всей передней Азии — Таммуза, Митру, Аттиса, Мелькарта,
Адониса, Диониса, критского Зевса и египетского Озириса.
Впрочем, и пророк Захария говорит о таинственном убиении бога,,
о котором «поднимется большой плач в Иерусалиме», «как'плач Гададри-
мона в долине Мегидонской», т.-е. как плач об Адонисе, одном из главных
ирийских божеств. И Иезикииль изображает жен иерусалимских,
сидящих у северных врат города и оплакивающих Таммуза. Таким образом,
еще в старом израиле были хорошо знакомы со страждущими и
умирающими богами соседних народов. Правда, «раб господень», Исайя
понимается как символ нынешних страданий и грядущего величия народа
израильского, и, пожалуй, нет никакого сомнения, что и сам пророк
разумел его именно в этом смысле. Однако, Гункель с полным правом
утверждает, что в основе этого места из Исайи лежит образ умирающего
и воскресающего бога, подлинная судьба которого и приведена в качестве
символа для судеб народа израильского.
Каждый год силы природы замирают, чтрбы только через
некоторый промежуток времени проснуться к новой жизни. У всех народов
эта смерть природы под леденящим дыханием зимы или под палящими'
лучами солнца и ее воскресение действовали потрясающе на
человеческую душу. В этой смене смерти и воскресения человеческой фантазии
мерещились испытания какого-то прекрасного молодого бога, смерть
которого встречалась безутешными рыданиями, а воскресение —
безудержным; ликованием. Празднества, посвященные этому богу,
сопровождались волшебными мистериями, изображавшими умирание и воскресение
бога. Человек первобытной культуры плохо отличал себя от природы, он
чувствовал себя в какой-то внутренней симпатической связи с
окружающим миром, считал себя способным своим вмешательством в жизнь
природы изменить ход событий в свою пользу. Вмешивался он и в ежегодное
умирание и воскресение природы. «Нигде (говорит Фрезер, которому мы
обязаны исчерпывающим исследованием всех относящихся сюда
представлений и обычаев), нигде эти попытки вмешательства не были столь
упорными и систематическими, как в западной Азии. Различаясь в
различных местностях по имени, они по существу имели всюду один и тот же
характер. Человек, которого необузданная фантазия верующих наделяла
всяческими божественными атрибутами, должен был пожертвовать своей
жизнью за жизнь природы. После того как он влил своею кровью свежую
струю жизненной энергии в сердце замирающей природы, он сам
предавался смерти. В будущем году на его место приходил другой,
разделявший учесть своих предшественников, олицетворявший вечную драму
божьей смерти и божьего воскресения» ... Даже в исторические времена
мы наталкиваемся на принесение в жертву людей, сначала царей и
первосвященников, впоследствии заменяемых преступниками. В некоторых
случаях мы встречаем символическое жертвоприношение, например,
в культе египетского Озириса, персидского Митры, фригийского Аттиса,
сирийского Адониса, киликийского Оандана (Оандеса). Здесь вместо че-
556
ловека в жертву приносились изображения божества, куклы или святое
дерево. Однако, даже в этих символических жертвоприношениях
сохранилось еще достаточно признаков, указывающих на то, что и здесь когда-то
существовал обычай человеческих жертвоприношений. Например,
первосвященник Аттис, назывался «отцом», «подобием Аттиса», а
сохранившийся обычай окропления божественного изображения кровью из раны,
нанесенной себе первосвященником, в дни великого весеннего праздника
(22 — 27 марта) совершенно отчетливо указывает на существовавший
ранее обычай жертвенного самозаклания первосвященника. О идеей
оживления природы путем человеческого жертвоприношения связано также
и представление о «козле отпущения». Жертва символизировала не
только 6oia, умирающего за свой народ, но и самый народ, который этой
жертвой искупал совершенные им, за год проступки и злодеяния. Что
касается способа умерщвления жертвы, то тут в различных странах
встречаются самые разнообразные переходы от самозаклания до костра и
виселицы.
Именно в таком смысле мы и понимаем 53-ю главу у Исайя: «Но он
взял на себя немощи и понес наши болезни; а мы думали, что он был
поражаем, наказуем и унижен богом. Но он изъязвлен был за грехи
наши и мучения за беззакония наши; наказание мира нашего было на нем,
и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились
каждый на свою дорогу; и господь возложил на него грехи всех нас.
Он истязуем был и не открывал уст своих; как овца, ведевг был он на
заклание, и, как агнец перед стригущим его безгласен, так он не отверзал
уст своих. Ибо он отторгнут от земли живых, за преступления народа
моего претерпел казнь. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен
у богатого, потоку что не сделал греха и не было лжи в устах его. Когда же
он отдал свою жизнь в жертву за грехи наши, он будет иметь потомство
и жизнь долгую, и воля господня будет благоуспешно исполняться рукою
его. И на подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через
дознание его он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе
понесет. Посему я дал ему часть между великими, и с сильными будет
делить добычу за то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям
причтен был, тогда как он понес на себе грех многих и за преступников
сделался ходатаем». Здесь мы явно имеем дело с человеком, котоый
умирает как жертва искупления, за беззакония своего народа, своей смертью
дарует другим жизнь и за это возвышается до божественного звания, хотя
у Исайи образ безвинно страдающего праведника колеблется между
человеком и божественным существом.
Если же мы проникнемся душев'ным состоянием того несчастного,
который в качестве «богочеловека» в муках умирает за свой народ, нам
станет понятен весь смысл — 27 псалма: «Боже мой, боже мой! Для
чего ты остаЁил меня? Далеки от спасения моего слова вопля моего.
Боже мой! Я вопию днем, — и ты не внимаешь мне, ночью, — и нет мне
успокоения. Но ты, святый, живешь среди славословий Израиля. На
тебя уповали отцы наши, уповали, и ты избавлял их: на тебя уповали
и не оставались в стыде. Я же червь, а не человек,, поношение у людей
и презрение в народе. Все видящие меня издеваются надо мной, говорят
устами, кивзья головой: «Он уповал на господа, пусть избавит его; пусть
спасет, если он угоден ему!» Множество тельцов обступили меня, тучные
быки васанские окружили меня. Раскрыли на меня пасть свою, как лев,
алчущий добычи и рыкающий. Я пролился как <вода, вое кости мои
рассыпались; сердце мое сделалось, как воск, сила моя иссохла, как
557
черенок, язык мой прильнул к гортани моей. Они пронзили руки и ноги
мои. Можно было бы перечесть все кости мои. А они смотрят на меня
и радуюгся. Делят ризы мои между собою, и об одежде моей бросают
жребий. Но ты, господи, не удаляйся от меня; сила моя! поспепш
на помощь мне! Спаси меня от пасти льва и рогов единорогов».
Упомянутые в конце псалма звери относятся к кругу маздейских
представлений. Ибо здесь идет речь о льве, как звере Ангро-Майнию,
о единороге-звере Агурамазды. Когда автор псалма задался целью
изобразить всю смертную тоску беспомощной жертвы, его глазам
представился образ человека, томящегося на кресте, взывающего к богу,
окруженного толпой, радующейся его мучениям, которые должны послужить
к ее собственному спасению, тогда как прислуга, обслуживающая
жертвенную церемонию, делит между собою те пышные ткани, которыми
был раньше убран умирающий теперь богочеловек.
Самое появление подобного образа в Псалтыри показывает, что он
был хорошо знаком автору псалма и его публике либо из религиозных
представлений соседних народов, либо из родного религиозного быта.
На деле же человеческие жертвоприношения не были вовсе чем-то
необычным для древнего израиля. Это можно доказать
многочисленными выдержками из ветхото завета. Так, в 21 главе 2 книги «Царств»
мы читаем следующее о семи сыновьях из дома Саулова, выданных
Давидом гаваонитянам: «И повесили их на горе перед господом.
Я умилостивился господь над страной после того». В книге «Числ»
(25, 4) оказано: «И сказал господь Моисею: возьми всех
начальников народа и повесь их господу перед солнцем, и отвратится
ярость гнева господня от израиля». Согласно книге «Иисуса Навина»
этот преемник Моисея посвятил всех жителей завоеванного города Гая
господу, а «царя гайского повесил на дереве до вечера». А в главе 10 той же
книги (26) написано: «Потом поразил их (пять царей) Иисус и убил их,
и повесил их на пяти деревьях, и висели они на деревах до вечера».
Оказывается, таким образом, что человеческие жертвоприношения были
до изгнания совершенно нормальным элементом израильской религии,
чего, собственно говоря, вполне можно было ожидать при близком родстве
Ягве с финикийским Баалом. Впрочем и сам Ягве был первоначально
модификацией старого семитического бога «огця и солнца»,
«божественного царя» (Молоха или Мелеха), который представлялся «как бы
печью огненной», которому поклонялись в образе тельца, которого
склоняли на милость и прощение человеческими жертвоприношениями. Еще
во времена вавилонского пленения обычай человеческих
жертвоприношений был в большом ходу у евреев, несмотря на агитацию против них
со стороны пророков, и только уже при персидском владычестве они были
категорически запрещены в новосозданном иудейском царстве. Однако,
даже и тогда они сохранились втайне и готовы были снова выплыть
на сцену в годину тяжелых бедствий, когда доведенный до крайности
религиозный фанатизм мог потребовать каких-либо особенных жертв для
умиротворения господа бога.
Итак, умерщвление человека, символизировавшего собой
божественного владыку, было в древности чрезвычайно распространенным обычаем,
связанным с новогодними празднествами. Об этом напоминает
сохранившийся еще до сих пор германский и славянский обычай,
заключающийся© том, что весной соломенная кукла, символизирующая зиму
или старый год, обносится с проклятием и руганью по поселку и в
заключение бросается в воду, тогда как «князь мая», разукрашенный цветами,
558
встречается с песнями и ликованием. Римские сатурналии,
праздновавшиеся в декабре, сопровождавшиеся всеобщим разгулом, осеняемым
скипетром шутовского' царя, перевертывавшие на время все
установившиеся социальные отношения (рабы разыгрывали господ и наоборот),
являлись не чем иным, как видоизменившимся весенним праздником,
во время которого шутовской царь расплачивался жизнью за свое
кратковременное владычество. Более того, изданные Кюмоном «Деяния
св. Дазия» показывают, что еще в 303 г. по р. х. кровавые
жертвоприношения имели место у римских солдат на границах империи.
В Вавилоне римским сатурналиям соответствовал праздник «закеев»,
посвященный воспоминанию о нашествии скифских закеев в переднюю
Азию и, по мнению Фрезера, тождественный с древневавилонским
новогодним праздником — Цакмук». Этот праздник также был связан с
полным переворотом в обычных человеческих взаимоотношениях. В центре
этого празднества стоял мнимый царь, какой-нибудь преступник,
которому на несколько дней давалась полная свобода, которому разрешалось
даже пользоваться царским гаремом, но который под конец праздника
лишался всего своего временного великолепия, подвергался бичеванию,
пыткам и сжигался. Иудеи познакомились с этим праздником во время
вавилонского плена, переняли ето у своих угнетателей и праздновали
его ежегодно перед пасхой под именем праздника «пурим»,
посвященного воспоминаниям о той страшной опасности, которой подвергались
иудеи в царствовании Артаксеркса (Ксеркса), но от которых их спасла
мудрая Эсфирь с дядей Мардохаем. Иенсен показал, что рассказ
об Эсфири имеет в своей основе соперничество между верховными
вавилонскими богами и божествами враждебного Вавилону Элама. Под именем
Эсфири и Мардохая скрываются имена вавилонской богини плодородия
Иштар, а также сына ее и «возлюбленного» Мардука, которые во время
закейских празднеств умирали под именем эламитских божеств Вашти
и Гамана, как олицетворений старого года или зимы, чтобы воскреснуть
под своим настоящим именем и ознаменовать наступление нового года
или весны. Таким образом и мнимый царь во время закейского
праздника играл роль бога, умирающего на костре. Следовательно: мы
имеем основание предположить, что позднейший еврейский обычай
вешать и сжигать изображение или куклу, символизировавшие Гамана,
заключался первоначально так же, как в Вавилоне, в умерщвлении
живого человека, какого-нибудь, приговоренного к смерти преступника.
Наряду с олицетворением Гамана и иудеев существовало также и
олицетворение Мардохая, наряду с символом старого года у них был и символ
нового года. И если преступник, символизировавший Гамана, предавался
смерти, то другой преступник, символизировавший Мардохая,
взысканного милостями Артаксеркса, получал свободу по этому случаю и
украшался царственными знаками умерщвленного Гамана.
«И Мардохай (говорится в кните Эсфирь) вышел от царя в царском
одеянии яхонтового и белого цвета и в большом золотом венце и в мантии
виссонной и пурпурной. И город Сузы возвеселился и возрадовался».
Острый ум Фрезера обнаружил, что в этом описании мы имеем не что
иное, как образ древневавилонского шутовского царя, который во время
праздника закеев олицетворяя собой Мардука, именно в таком одеянии
вступал в столицу, знаменуя приход весны и нового года. Однако, в
действительности, чествование мнимого царя было гораздо менее серьезным
и блестящим, чем то, которое нам преподносит полный национального
тщеславия автор книги «Эсфирь». Как раз Лагард обратил внимание
559
на один обычай, имевший место у древних персов в начале весны, в
первые дни марта, и носивший несколько странное название «шествия
безбородого». Шествие это заключалось в том, что действительно, безборо.-
дый, а по возможности и кривой, здоровенный парень торжественно
объезжал верхом на осле весь город. Двигался он, окруженный царскими
телохранителями и огромной толпой, приветствовавшей веселыми
криками шутовского царя. Ему давалось право взимать со встречающихся
на его пути богачей и лавочников дань, частью поступавшую в казну
царя, а частью достававшуюся «безбородому». В случае отказа платить
дань он имел право без дальних слов конфисковать в свою пользу
собственность непокорных. К известному, точно установленному, часу,
шествие должно было прекратиться, а сам безбородый незамедлительно
исчезнуть, ибо в противном случае ему грозило быть растерзанным толпой.
Это «шествие безбородого» у персов знаменовало скорое окончание зимы
и наступление нового года. Персидский «безбородый» соответствовал за-
кейскому царю у вавилонян, т.-е. подобно ему олицетворял собой
уходящую зиму. А отсюда Фрезер делает заключение, что преступник,
игравший у иудеев роль «Мардохая», с такой же помпой, как и безбородый,
разъезжал по городу и в награду за ту потеху, которую од доставлял
народу, получал свободу и жизнь. При этом Фрезер вспоминает об одном
замечании Филона, где тот говорит, что во время въезда иудейского царя
Агриппы в Александрию чернь устроила себе забаву с одним бедным
метельщиком, которого на манер «безбородого» провозгласили царем,
украсили бумажною короною и с царскими почестями провели по всем
улицам города. Филон назвал бедного метельщика «Караввой». Возможно,
что «Каравва» — не что иное, как испорченное еврейское «Варавва», что
означает «сына» «отца». «Варавва», следовательно, является не
собственным именем, а титулом того, кто во время праздника «пурим» играл роль
«Мордохая», т.-е. Мардука «нового года». Тут выплывает, таким образом,
божественный вначале характер иудейского шутовского царя. Ибо как
раз в качестве «сынов» божественного «отца» умирали все переднеазиат-
•ские боги растительности и плодородия, как раз в качестве «сынов
божьих» отдавали свою жизнь за грехи народа и люди,
символизировавшие этих богов. Можно думать, таким образом, что и у иудеев во время
вавилонского пленения и персидского владычества произошло слияние
вавилонского праздника закеев и персидского обычая с «шествием
безбородого»: освобожденный преступник играл роль «Мардохая» или
Мардука, символа воскресающей жизни и природы, но исполнял эту роль
в такой шутовской форме, которар была присуща персидскому
«безбородому», бывшему у персов олицетворением старого года, тогда как у иудеев
старый год символизировался «Гаманом», умиравшим позорной смертью
на виселице. При описании последних событий из жизни Христа на
воображение евангелистов имел влияние именно вышеописанный обычай
иудеев во время праздника «пурим». Они изобразили Иисуса, как «Га-
мана», «Варавву», как Мардохая, при чем они посредством символики
жерственного агнца слили воедино праздник «пурим» с несколько более
поздним праздником «пасхи». Однако, они приписали торжественный
въезд «безбородого» в Иерусалим, его враждебное выступление против
торговцев и менял, его коронование, как шутовского царя иудейского, —
вместо Вараввы-Мардохая Иисусу-Гаману и поэтому Иисус-Гаман
воспринял те черты, которые были присущи воскресшему новому году — Мар-
дуку, Мардохаю. Согласно варианту некоторых стихов (16 и далее
из 27 гл. от Матфея) — варианту, исчезнувшему со времени Оригена
560
из текста нашего евангелия, Варавва, преступник, противопоставленный
спасителю, назывался «Иисус Варавва», т.-е. «Иисус сын отца». Нет ли
здесь намека на истинное положение вещей? Не являются ли Иисус
и Варавва двумя разными личностями, на которые при праздновании
нового года распадался единый образ бога «Иисуса Вараввы»,
олицетворявшего собой целый год, при чем распад этот символизировал обе
половины года, когда солнце поднималось и опускалось над горизонтом.
Иудейская пасха была весенним и новогодним праздником, во время
которого богу неба и солнца приносились в жертву первые плоды урожая
и первенцы людей и животных. Этот праздник сопровождался
первоначально человеческими жертвоприношениями, при чем и здесь, как и
всюду в древности, жертвы являли собой средство искупления,
призванное загладить все прегрешения прошедшего года и обеспечить
благосклонность Ягве на год грядущий. «Души перворожденных отдавались богу
в качестве замены всех остальных людей и животных. Они же являлись
связующим звеном между Ягве и народом; впрочем, отличительной
чертой Ягве останется навсегда то, что он требовал в жертву себе иервенцов
каждого нового поколения. Это было основной догмой древнейшего
иудаизма: все надежды народа, все самые пламенные обетования были
основаны на готовности народа израильского принести в жертву
перворожденных». Чем достойнее была жертва, чем выше было ее звание среди
людей, тем угоднее она была богу. Вот почему иудеи посвящали господу
богу именно царей, как это явствует из книги «Иисуса Навина» и
«Царств», при чем в эпизоде с семью сыновьями из рода Саулова
совершенно ясна связь его с праздником пасхи, ибо об этих сыновьях сказано,
что они умерли «перед господом» во времы жатвы ячменя. Не могло быть
«более действительного жертвоприношения, чем умерщвление царем или
полководцем своего первенца. Вот почему карфагенский полководец
Малей, осаждавший город Карфаген, по словам Юстина, приказал
повесить своего сына Карталона на глазах у осажденных, чем он так
обескуражил их, что через несколько дней город сдался. Вот почему
карфагенянин ГамилЬкар, осаждавший город Агригент в 408 г. до р. х., принес
в жертву собственного сына, вот почему израильтяне «отступили от царя
моабитского и страны его», после того как тот, «взял сына своего
первенца и вознес его во всесожжение на стене». Здесь везде человеческая
жертва была, кажется, только отражением божественной жертвы, ибо,
например, по Плинию, финикияне*еще во время осады города Тира при
Александре Македонском приносили ежегодно в жертву Кроносу, т.-е.
Мелькарту или Молоху, мальчика. Но этот тирский Мелькарт — тот
самый которому, по словам Порфирия, на острове Родосе ежегодно
приносили в жертву преступника. По словам Филона из Библоса, бог у
финикиян назывался «Израиль». Во время сильного мора «Израиль» приносил
в жертву своего «единорожденного сына» Ягуда (Иуду) —
«единственного, для того, чтобы уменьшить смертность людей». Так и Авраам
принес в жертву сына своего первенца; но ведь Авраам («высокий отец») ■—
не кто иной, как тот бог, который носил имя «Израиль»
(«владычествующий бог»), пока это имя не было вытеснено именем Ягве и не перешло
с тех пор на народ, поклонявшийся этому богу. Имя сына Авраамова
«Исаака» обозначает «смеющегося». Имя это, однако, относится не
к улыбающейся утренней заре или смеющемуся дню, как это думает
Гольдциер, а к тем гримасам, которые вызывались на лице у жертвы
ее муками в объятиях пламени, и которые от жертв Молоха на Крите и
в Сардинии получили название сардонического смеха.
Г. Гурев Э6
561
Когда с развитием культуры и с ростом гуманности человеческие
жертвоприношения были отменены, когда после торжества монотеизма
прежние боги превратились в людей, возник и рассказ в книге «Бытия»
(221), призванный «исторически» объяснить переход от человеческих
жертв к принесению в жертву животных. Древний обычай,
заключавшийся в том, что цари, царские сыновья и жрецы должны были у многих
народов древности умирать не естественной смертью, а смертью жертвы,
отдающей в строго установленное оракулами время свою жизнь на благо
и спасение своего народа, когда-то был в большой силе и у иудеев. Так
пожертвовали собой для народа своего Моисей и Аарон, вождь и
первосвященник иудеев. Но так как они были, особенно Моисей,
прообразами мессии, то возникло, само собой, представление о том, что и чаемый
великий и могучий вождь — первосвященник Израиля, в котором Должен
был возродиться Моисей, был призван умереть святой жертвенной
смертью Моисея и Аарона. После всего этого становится ясной
несостоятельность предположения, считающего идею страждущего и умирающего
мессии совершенно чуждой и неизвестной иудеям. Выше мы уже видели,
что после изгнания представление о мессии было .приурочено иудеями
к персидскому царю Киру. Но о Кире же ходила легенда, что будто бы
могучий персидский владыка умер на кресте, по приказанию скифского
царя Тамира. Также и у Юстина еврей Трифон утверждает, что мессия
претерпит страдания и умрет насильственной смертью. Даже и талмуд
вырабатывает идею страдающего и умирающего мессии, выводя ее
из 53 главы Исайи, почему и произошло то, что во втором столетии
после р. х. известные круги еврейства очень крепко усвоили идею
страдающего во искупление прегрешений человеческих мессии.
Собственно говоря, у раввинов следует различать два
представления о мессии. По одному мессия призван как потомок Давида, как
могучий божественный герой, освободить иудеев от рабства, основать
обетованное вселенское царство и держать суд и расправу над людьми. Это —
представление иудеев, идеалом которых был царь Давид. Согласно второй
версии, мессия призван был собрать в Галилее десять колен
израильских и повести их на борьбу с Иерусалимом, но погибнуть в борьбе с
народами «Гога и Магога», предводимыми Армиллом, во искупление греха
Иеровоамова, состоявшего в отпадении колен израильских от колена
иудина. В отличие от первого мессии второй называется в талмуде сыном
Иосифа или Эфраима в связи с тем, очевидно, что царство израильское
включало в себе колена Менассии и Эфраима, происходивших от
мифического Иосифа. Он является, таким образом, мессией отпавших от иудеев
израильтян или, верйее, кажется, самаритян. Этот мессия, «сын Иосифа»,
как говорится о нем, сам себя принесет в жертву, предаст свою душу
смерти и кровью своей спасет народ божий. После этого он, однако,
вознесется на небеса. За ним придет другой мессия, «сын Давида», мессия
иудеев, колена Иуды, который и осуществит все данные иудеям обетования,
при чем учение о мессии целиком, кажется, вдохновлено 12 (ст. 10) и
14 (ст. з) гл. Захарии. Согласно утверждению Далмана, образ мессии,
«сына Иосифа», возник во втором или в третьем столетии по р. х., также
Буссе считает его более поздней традицией. Однако, последний не
может отрицать, что те иудейские апокалипсисы конца первого века,
в которых упоминается этот вариант представлений о мессии, заключают
в себе весьма древние традиции и предания. Ведь и по персидским
верованиям Митра является страждущим спасителем и посредником между
бошм и мяром. Саопгиант же, напротив, призван явиться, когда испол-
562
нятся сроки, в качестве судьи мнра и победителя Аримана (Армилла).
Греческая мифология совершенно явственно различает двух Дионисов, —
старшего, сына Персефоны, Загрея, умирающего в страшных муках от
рук титанов, и младшего, сына Зевса и Семелы, призванного спасти мир
от объятий тьмы. Таково же соотношение между страдальцем Прометеем
и торжествующим спасителем мира Гераклом. Мы имеем здесь дело
с очень древним и весьма распространенным мифом, и вряд ли нужны
еще какие-нибудь доказательства для того, чтобы убедиться в древности
представлений о мессии после того, как мы видели соответствие
самаритянского и иудейского мессии «Гаману» и «Мардохаю» еврейского
праздника Пурим. Евангелие соединило оба различных первоначально образа
мессии в один. Мессию «бен-Иосифа» оно превратило в земного, из
Галилеи происходящего мессию, который оттуда направляется со своими
«верными» в Иерусалим, чтобы там погибнуть от рук своих врагов,
мессию же, «бен-Давида» оно превратило в воскрешающего и
возносящегося на небо спасителя; особенную глубину и значительность оно
придало идее мессии тем, что представление о самопожертвовании мессии
оно соединило, сплавило с представлением о пасхальной жертве и,
наоборот, идею пасхальной жертвы слило с представлением о боге,
приносящем в жертву собственного сына. Оно сделало Иисуса «сыном Давида»,
но сохранило воспоминание и о израильском мессии, дав Иисусу в отцы
Иосифа; и, если вначале оно заставило мессию родиться в Вифлееме,
граде Давидовом, то потом сделало месторождением христа галилейский
Назарет, изобретши весьма темную историю о путешествии родителей
Иисуса для согласования обоих версий, одинаково необходимых, чтобы
угодить и иудейским, и израильским представлениям о мессии.
Кто же, однако, тот Иосиф, чьим сыном был мессия, который, как
страдающее и умирающее существо, был подобен обыкновенному
человеку? Винклер показал в своей «Истории Израиля», что под образом
ветхозаветного Иосифа так же, как и под образом Иошуа, скрывается
старый эфраимитский племенной бог. Иосиф является, по выражению
Винклера, героическим воплощением Баала с горы Гаризим,
порождением бога солнца, воспринявшим черты Таммуза, бога весеннего солнца.
Подобно тому, как Таммуз должен был спуститься в преисподнюю, Иосиф
был низвергнут в колодезь, в котором, согласно «Завету двенадцати
патриархов», он провел три месяца и пять дней. Это — намек на три
зимних месяца и пять дополнительных дней, в течение которых солнце
пребывает в «прежшодней». Во второй раз он уже попадает не в колодезь,
а в плен, и подобно тому, как Таммуз своим возвращением из
преисподней приносит с собой весну, Иосиф, освобожденный из заточения,
приносит Египту радость и благополучие. Поэтому он, как
божественное существо, получает в Египте название Псонтомфланеха, т.-е.
спасителя мира, а у иудеев делается позднее прообразом мессии. Кажется,
и евангелисты понимали свой образ именно в таком смысле, ибо рассказ
о двух товарищах Иосифа по заключению, о хлебодаре и виночерпии
фараона, из которых один был повешен, другой «вознесен», как
предсказал им Иосиф, превратился у евангелистов в рассказ о двух злодеях,
повешенных вместе с Иисусом, из которых один «злословил его», а другой
просил: «Помяни меня, господи, когда приидешь в царствие твое».
Эфраимистский Иошуа представляет собою тоже одну из
модификаций Таммуза или Адониса. Самое имя его (Иошуа, сир. Иешу) обличает
в нем божественного целителя и спасителя. Таковым он и является в
ветхом завете, приведя народ израильский после долгих лишений и испыта-
Г6*
56&
ний в землю обетованную. Начала деятельности Иисуса Навина
относится к 10-му дню нисана, т.-е. к тому дню, когда поедается
пасхальный агнец, а конец его тоже совпадает с окончанием пасхи. Подобно тому
как Моисей установил обряд обрезания, т.-е. искупление первенцов-
мужчин, Иисус восстановил его после долгого перерыва. Этот акг Иисуса
призван был заменить принесение в жертву Ягве детей посвящением
ему мужской крайней плоти, и таким образом установить более
человечную форму жертвоприношений. Ритуал обрезания называется у иудеев
«обрядом Иисуса, сына». Это напоминает замену человека животным при
жертвоприношении в истории Исаака. Одновременно это наводит на мысль
об Иисусе, и замене им бесчисленных искупительных жертв древнего
человечества, принесением в жертву во время пасхального праздника
собственного тела. Также и мать Иошуа должна была, согласно одному
старому арабскому преданию, называться Мириам (Мириам, Мария), тогда
как мать Адониса носила созвучное имя «Мирра», что выражало печаль
женщин, оплакивающих Адониса, и обозначало страждущую магь бога-
спасителя.
Любопытнее всего, однако, тот факт, что в ветхом завете мы имеем
для Иошуа спутника в лице Калеба (Халева), сына Иефонии,
праведного героя. Имя Калеба (по-еврейски — собака) столь же отчетливо
указывает на летний солнцеворот'—в «месяце льва» (лев — символ колена
Иудина, из которого происходил Калеб), когда восходит звезда «собаки»
(Сириус), как происхождение Иошуа от Навина (Нуна), от «рыбы»,
от «водного мужа», указывает на то, что Иошуа является олицетворением
зимнего солнцеворота. Если Иошуа принадлежит к колену эфраимову,
то Калеб происходит из племени Иуды, которого сравнил с львом
праотец Иаков, и, тогда как Калеб имеет брата Шушу, — олицетворение
погружающегося в царство тени зимнего солнца, Иошуа олицетворяет
возрождающееся из зимней ночи весеннее солнце. Оба, Иошуа и Калеб,
ставятся всегда рядом, как олицетворения прибывающей и убывающей
солнечной энергии, как Таммуз и Нергал в вавилонских верованиях,
олицетворявших также обе половины года, солнечную, светлую, и
зимнюю, мрачную. Смерть Иошуа в Тимнат-Херес, т.-е. в месте, где солнце
погружается в тьму, т.-е. в то время солнцеворота, когда праздновалась
смерть солнечного бога, совершенно ясно обнаруживает в нем одно
из подобий Таммуза, как, впрочем, и-плач народа по нем, столь похожий
на оплакивание солнечного бога.
После всего этого совершенно немыслимо отрицать, что
представление о страждущем и, умирающем мессии является чрезвычайно
популярным представлением у израильтян и стоит в тесной зависимости с
первоначальным иудейским культом природы. Конечно, в позднейшие времена
это представление отступило на задний план и сохранилось только
в известных кругах еврейства. Ведь иудейское олицетворение Гаммана —
какой-нибудь преступник предавался в день пурим смерти, так или иначе
заслуженной каким-нибудь преступлением. Мессия же Иисус, напротив,
принимал на себя смертную кару, будучи «праведником», ибо только
самопожертвование «праведника» способно было искупить прегрешения
целого народа.
Уже Платон набросал в своей «Республике» образ, «праведника»,
жизнь которого полна мук и преследований. Его праведность
подвергается многочисленным испытаниям и, в конце концов, он достигает
высшей ступени добродетели. Праведник подвергается унижениям и
пыткам, ему выкалывают оба глаза и после того, как он столько перетерпел,
его сажают на кол. Он, наконец, убеждается в том, что приходится ре-
564
шаться на то, чтобы казаться праведным, а не быть им. По фарисейским
воззрениям, праведник искупает своими безвинными муками грехи
остальных людей и делает своих ближних угодными богу. В 4-й книге
«Маккавеев», например: «кровь святых мучеников» названа
искупительной жертвой пред богом, спасающей народ израильский. Ненависть
безбожников и злых к праведнику, награда, ожидающая праведных, и кара,
уготованная безбожникам, — вот излюбленная тема иудейских притч,
особенно «Книги Премудрости», александрийский автор которой,
вероятно, был знаком с образом платоновского «праведника». Автор
«Премудрости» заставляет безбожников разразиться целым потоком
обвинений против «праведника» и замышлять против него всякие козни:
«Давайте, говорят безбожники, подкараулим праведника, ибо он причиняет
нам много неприятностей, мешает нашим действиям, ругает нас за то,
что мы нарушаем закон, и вовлекает нас в грех. Он выдает себя за
человека, познавшего бога, хвастает тем, что он, мол, дитя божие. Он хулит
то, что у нас на душе, он стал нестерпимым для нас. Давайте же
посмотрим, правду ли он говорит, узнаем, чем он кончит? Если праведник,
действительно, сын божий, то бот должен спасти его от руки
злоумышляющих против него! Давайте, испытаем его унижением и пытками, чтобы
узнать, насколько он набожен и терпелив. Давайте предадим его самой
позорной смерти, чтобы узнать цену словам его». «Но души праведных, —
продолжает автор „Премудрости", — в руке божией и никакая беда
не коснется их. Неразумные примут их за умерших. Но они покоятся
в мире. Прияв много муки от людей, они уверены в своем бессмертии.
Нбо господь испытывает их и находит их достойными. Он испытует их,
как золото в огне, и приемлет их, как совершенную жертву. В час,
назначенный господом, они явятся в сиянии, подобно пламени на жниве.
Они будут судить народы и управлять ими, а господь будет управлять
праведниками вечно». Нельзя ли эти слова, которые автором
«Премудрости» отнесены ко всем праведникам вообще, применить в отношении
высшего «праведника», отдавшего свою жизнь за свой народ? И,
действительно, как только мы это сделаем, нам станет ясным движущий мотив
самопожертвования мессии, приявшего мучительную и позорную смерть,
подобно Гаману или Варавве в день «пурим», чтобы искупить грехи
народа и возвыситься ценой глубочайшего унижения, как это указано
в «Премудрости». «Это он, над которым мы издевались. Мы, дураки,
считали его жизнь безумием, а смерть — позором. А теперь он к
святым сопричтен и доля его среди детей божьих».
Теперь мы уже понимаем, как выработался среди иудеев образ
мессии, колебавшийся между божественным и человеческим существом,
каким образом «праведник к злодеям сопричтен был», каким образом
с человеком могло сочетаться представление, как о «сыне божьем», как
о «царе иудейском», как могло вырасти убеждение, что сам бог предаст
себя позорной и незаслуженной смерти, жертвуя собой ради людей.
Понимаем мы теперь также, почему умерщвленный должен был через
короткое время воскреснуть и вознестись на небо, чтобы там
объединиться с «отцом». То были мысли, которые задолго до христа имели
огромную популярность среди еврейского народа, больше того, по всей
западной Азии, которые давно уже лелеялись среди многих тайных
мистических сект, а все это, вместе взятое, было главной причиной
необыкновенно быстрого распространения христианства как раз в этой
части древнего мира.
(«Миф о Христе»).
565
М. Рейснер
ИДЕЯ СПАСИТЕЛЯ У ДРЕВНИХ ЕВРЕЕВ
Идея искупителя, как спасителя, явилась в мировоззрении древних
евреев не сразу, но с совершенной необходимостью. Лишь этим путем
было возможно какое-то завершение той вековечной тяжбы взаимных
недоразумений, взысканий и судьбищ, которые представляет собой
известная нам история племен Ефрема и Иуды. Только вмешательство
особого посредника между богом и людьми, снабженного чудесной силой
и способностью закрыть счета народных недоимок в великой книге
живота, могло закончить вечно длящуюся цепь грехов и наказаний,
коротких исправлений, новых грехов и новых наказаний. История
Израиля должна была совершенно безошибочно доказать идеологам этого
народа, даже его масс, что нормальное разрешение задачи совершенно
безнадежно; самый страшный террор не мог предупредить новых
прегрешений и следующих за ними наказаний. Грехи были необходимым
следствием отношений и классового порядка, где неизбежная
экспроприация мелкого крестьянства периодически завершалась полным егб
обнищанием и порабощением. Этого древние понять не могли. А между
тем, релитии соседних народов подсказывали нужный выход из
идеологического лабиринта. Почти у всех их была идея искупителя, или
спасителя, сына божьего, который своею страшной смертью покрывает
первородный грех, воскресает затем для примирения с отцом и вместе со своим
воокресением приносит погибшее блаженство и преображение «его
сущего. Таковы образы египетского сына божьего в виде умирающего
и воскресающего Озириса, вавилонский лик Таммуза, или Даммуза,
сирийский Адонис и, может быть, больше всех и прежде всех — персидский
Митра, ведущий такую отчаянную и вместе с тем победоносную борьбу
с мировым злом.
Идея такого чудотворца, если она даже не вносилась целиком в виде
особого божеского существа, легко вплеталась в еврейскую идеологию как
один из моментов выполнения раз установленного божественного плана.
В пророческой литературе такой мессия еще далеко не сын божий, каким
он станет в христианстве под влиянием эллинистической культуры, но
уже искупитель и посредник между богом и людьми, который берет на
себя практическую задачу водворения царства божия на земле. И если
говорить об особенностях пророческой литературы и ее отличии от
жреческих и теократических писаний, то эту разницу можно найти как раз
в лице мессии, рисовавшегося в пленительных чертах перед очами
пророка, ибо это было перенесение революционной задачи на самое божество
в лице его посланника. Это было освобождение масс от необходимости:
самим предпринимать что-то для водворения общественной
справедливости. Это было перемещение революции на небо с тем, чтобы
окончательно избавиться от нее на земле. Здесь была лишь одна опасность,
которая и обнаружилась целиком в эпоху падения Иерусалима и
великой иудейской теократии. В эти последние времена, предшествовавшие
полному уничтожению еврейских трудящихся масс, революционеры
использовали мессианскую идею совершенно неожиданным образом: они
решили сами выдвинуть мессию из своей страны и при помощи оружия
водворить на земле царство божие, принудить Ягве к окончательному
исполнению его обетовании ...
566
К этому времени социальные и политические условия Иудеи
сложились в следующие формы. Господство храма и его теократии
установилось в виде жреческой деспотии, подвергавшей население необычайно
тяжелым поборам. С другой стороны, те же священники в инетресах
понижения стоимости товара и ремесленного труда наложили ряд
запрещений, вытекающих из закона божия, и на купцов, и на ремесленников,
и на земледельцев. Первые не могли продавать язычникам целого ряда
товаров и должны были это делать исключительно в Иерусалиме, что
причиняло им порядочные убытки. О другой стороны, те же купцы
испытывали ожесточенную конкуренцию с иноверцами и спасались
только широкой сетью своих коммерческих связей, поддерживаемых
евреями диаспоры. Ремесленникам приходилось гораздо хуже. Они
должны были обслуживать исключительно единоверцев, а другими
словами, по преимуществу иерусалимских богатеев, в том числе жрецов.
Крестьяне находились в самом ужасающем экономическом положении
и, живя среди язычников, подвергались стеснительным ограничениям
в своей хозяйственной связи и отношениях. Храм наложил на еврейскую
массу совершенно невыносимое бремя: он не только высасывал из них
все, что оставалось после беспощадного грабежа римских собирателей
пдатей, но, сверх того, своим запрещением общения с язычниками он
ставил массы не только в положение вражды ко всему окружающему
но и полной беспомощности, так как каждую минуту закон грозил
наказанием и исключением из общины за недозволенные связи с иноверцами
Не говорим уже о том, что самый закон приобрел тягостный характер
неумолимой догмы, лишающей человека всякого отдыха и какой бы то
ни было радости. И это жреческое ито дополнялось еще свирепым
господством римского владычества, которое с успехом сменило прежде бывших
персидских, а затем и сирийских завоевателей.
Конечно, храм питался не только за счет порабощенного населения
Палестины. Еще гораздо более обширные богатства он высасывал из
евреев диаспоры, которые в своей массе занимали обеспеченное и часто
выдающееся положение, благодаря обширным тортовым связям и
старинной специализации в области кредита и обмена. Паломники из-за
границы были источником настоящего золотого потока, изливавшегося на
Иерусалим, храм и связанное с ним жречество, аристократию, храмовые
промыслы и разные подсобные предприятия. Каутский довольно
живописно рисует нам этот центр теократического благополучия: <'Храмовые
сборы и пилигриммы должны были приносить огромные суммы денег
в Иерусалим и кормить там не мало людей. На счет культа Ягве жили
в Иерусалиме прямо или косвенно не только храмовые священники и
книжники, но и лавочники, менялы, ремесленники, а также селяне,
земледельцы, скотоводы и рыбаки из Иудеи и Галилеи, находившие
в Иерусалиме сбыт для пшеницы и меда, для овец и коз, для рыб,
которых они ловили в море или Генисаретском озере и отправляли в
Иерусалим в сушеном или соленом виде».
Совершенно естественно, что при таких условиях иерусалимское
жречество и знать держались крепко за покровительство римского орла
и были весьма приверженными сторонниками чужеземного владычества.
И если второй храм был построен при помощи персидской плети и меча,
гнавших еврейскую массу на сооружение дома Ягве, то теперь с таким же
успехом были использованы римский прокуратор и римский легион для
укрепления и охраны владычества храмовых паразитов над массою
иудейской бедноты. Конечно, такой союз Рима и храма по мог быть открытым.
567
Поэтому, с одной стороны, мы видим на верхах откровенное латино-элли-
нистическое течение саддукеев, которые совершенно вошли во вкус рим-
ско-греческой культуры и столь же откровенно исповедывалн: свою
ненависть к темному народу и религиозному фанатизму, а с другой —
специально жреческая каста опиралась на близких к храму бесчисленных
книжников и учителей, святых и судей, которые образовали строго
иудейскую группу фарисев. Последние сумели вытравить все жизненное
содержание из закона и превратить его в чрезвычайно полезную для храма
сеть мелочных предписаний и пустой обрядности. Фарисейская
нетерпимость, однако, нисколько не препятствовала ежедневной молитве-
в храме за римское правительство, ибо, как учил один книжник: «Если бы
не страх перед ним, то один другого съел бы живьем».
Нет никакого сомнения, что тесный союз римской власти и ее
ставленников со жреческой кастой представлял довольно большую силу,
которая была в состоянии надолго держать в подчинении задавленные
массы. Но господствующие группы не были едиными между собой.
И в то время как саддукепские верхи открыто стояли в союзе с
иноземной властью, фарисеи в своем фанатизме часто увлекались за пределы
выгодных для них границ храмовых интересов. Здесь сказывалась
резкая противоположность в интересах жреческих верхов и низов, при чеж
к последним присоединялись более или менее независимые группы
книжников и фарисеев с обширным крутом их учеников, поклонников- и
почитателей. Дележ храмовой добычи был вечным пунктом раздора, й
вполне понятно, что низшее духовенство, жестоко обижаемое высшим,
не только искало поддержки у фарисеев, но и у всех тех, связанных
с храмом слоев населения, которые так или иначе зависели от него.
И здесь мы должны отметить, что, кроме всевозможных ремесленников
и торговцев, с храмом были связаны гораздо более подвижные и
свободные массы. Таковы многочисленные разряды бедняков и нищих, прямо
находившихся на содержании у храма и его богомольцев. И если Иосиф
Флавий жалуется на массы еврейских нищих в самом Риме в период
после разрушения храма, то можно представить себе то количество
живущих подаянием и милостыней людей, которые покрывали собой все
подступы к храму и кормились за счет благотворительности сотен тысяч-
паломников.
Религия и храмы на протяжении веков ж плоть до настоящего
времени являются приютами многочиселнчого и профессионального
нищенства. Что же говорить про иерусалимский храм, куда стекались
колоссальные массы золота и драгоценностей, жертв и всяческих
приношений. И если только золотая пыль доставалась на долю армии
попрошаек, то и этого было уже достаточно для создания того босяцкого
пролетариата, о котором с правильным ударением говорит и Каутский.
И если положение земледельцев с течением времени все ухудшалось, а его
зависимость от крупного собственника заканчивалась безысходным
рабством, то вполне понятно, что бегство в Иерусалим, на паперть храма,
было единственным средством уйти от смертельной каторги на земле.
Так храмовое хозяйство накапливало в самих своих недрах опасный
взрывчатый элемент, который естественно приходил в движение каждый
раз, когда начинались раздоры между жрецами. А они, по свидетельству
историков, длились непрерывно. То это была борьба за власть
отдельный семей монопольного первосвященнического рода, то это были схватки
между саддукейскими верхами и фарисейскими низами, то, наконец, это
были раздоры между язычниками и иудеями, которые сопровождались
568
подчас чудовищными насилиями со стороны то римских прокураторов,
то ставленников Рима, вроде пресловутого царя Ирода. Понятно теперь
и появление группы так называемых зилотов, которая объединила н
непрерывно восстающих с оружием в руках крестьян и храмовую
босяцкую массу. Здесь получила свое повое развитие идея мессианства. Она
направлялась сразу против двух врагов: и против римского владычества,
и жреческого гнета. В этом течении народные массы делают попытку
осуществить идею чудесного спасения собственными своими средствами.
Они переходят на революционный путь.
Однако, нужно отметить, что течение зилотов не было
единственным, которое привлекло к себе недовольных. И хотя мировое движение
в виде секты ессеев не получило особенно широкого распространения
(их было всего несколько тысяч человек), оно во всяком случае
продержалось довольно долго и впоследствии имело больше влияние как один
из несомненных источников христианства. Мы упомянем поэтому о нем
вкратце. Любопытную черту этой идеологии составляет то
обстоятельство, что учение ессеев сразу отрешилось от двух основ старого юдаизма.
Во-первых, они совершенно прервали всякую связь с храмом и с
жречеством и таким путем стали непосредственно на почву договора между
Ягве и народом, что возвращало их к первоначальным основам
клятвенного союза, а, во-вторых, они точно так же отвергли идеи мессианства
в виде чудотворного переворота, производимого особым посланником
божества, и воплощение райского мира и трудового содружества взяли
непосредственно на себя. Этот поворот чрезвычайно знаменателен.
Прежде всего он показывает, что, несмотря на все нагромождение
теократической и пророческой идеологии, в народных низах хранилась
традиция «истинной веры» в духе старой земледельческой религии
до-вавилонского характера, а затем обнаруживает и чисто социологический факт
наличности некоторых крестьянских кругов, сохранивших известную
самостоятельность и достаток. Только при помощи последнего была
возможна организация той коммунистической общины, которую они
создали.
Как известно, они образовали производственную и потребительскую
коммунистическую общину, прием в которую был весьма строг и в
рамках которой строго соблюдался не фарисейская обрядность, а закон
моисеев, поскольку он вырос из живой производственной среды старой
крестьянской общины. Закон непрестанного труда, воздержания
целомудренного брака, взаимной поддержки, не только религиозного, но и
медицинского просвещения, — такова была основа для образования
островка религиозно-земледельческого коммунизма, выросшего среди
последних бурь жреческой Палестины.
Но основное течение пошло другим руслом. Это были учения
зилотов. По существу в их идеологии мы не найдем никакой ни социальной,
ни политической теории. Несчастные зилоты в своем стремлении
дополнить революционным действием проповедь мессии действовали с весьма
недоброкачественным материалом. Это все старые воззрения, на манер
пророческой литературы и в частности Исайи. Разница тут лишь
в одном. Восстания Маккавеев, которые удачно совпали со временем
ослабления Сирии и Рима в их взаимной борьбе, присоединили
уверенность в победе и веру в силу военной борьбы к старым пророческим
мечтам. Поэтому уже в книге пророка Даниила мы имеем яркое
видение, где «с облаками небесными шел как бы сын человеческий, дошел
до ветхого днями и подведен был к нему. И ему дана власть, слава и
569
царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему; владычество
его — владычество вечное, которое не прейдет, и царство его не
разрушит». И в толковании этого видения Даниил говорит о четырех
великих царях, которые «восстанут от земли» и будут властвовать над миром,
но затем «примут царство святые всевышнего и будут владеть царством
вовек и вовеки веков». Последним царством в этом откровении является
«зверь четвертый», который «отличен от всех и очень страшен с зубами
железными и когтями медными», он все «пожирает» и «сокрушает»,
а остатки «попирает ногами». Предполагается, что это четвертое царство
и ость царство римское, которое в глазах угнетенных масс сливалось
с жреческой тиранией. Отсюда и конкретные попытки восстания,
которые на этот раз должны были дополнить чудесную силу мессии оружием,
зажатым в руках нищих и бедняков. Самую картину мессианского
прихода в разных кругах представляли весьма по-разному. Одни стояли
на той мировой катастрофе и стихийном перевороте, которые рисуются
у Исайи, а другие брали исключительно ту часть старого пророчества,
которая была проникнута социальным содержанием. По этой второй
версии, при появлении мессии, «когда все народы услышат его голос,
оставят они свои земли и взаимные войны, и соберется бесчисленное
войско и нападет на него. А он сам вступит на вершину Сиона; Сион
явится и всем откроется, великолепно отстроенный... А он покарает за
грехи народы, которые выступят против него, и сие будет подобно буре;
он припомнит их злые помыслы и представит им их будущие мучения,
я сие будет подобно огню: и затем неустанно будет он уничтожать их
повелением своим». «Тогда блажен ты будешь, о Израиль, хребет и
крыло орла ты ногою попрешь, и дни орла исполнятся. И возвысит бог
тебя и вознесет на небо звездное, на место своего пребывания».
Зилоты добавили к этим мессианским еще мечтам программу
истребления лицемерных праведников, самодовольных богачей, фарисеев и
саддукеев. Но и здесь они не дали ничего нового, так как подобные громы
я проклятия метали в них и Амос, и Михей, и Исайя. Разница лишь в том,
что и здесь опять-таки вьшолнение кары из рук, Иеговы, действовавшего
при помощи чужеземных завоевателей и мстителей, перешло
непосредственно в руки самого восставшего народа, который выступил в-качестве
орудия мессии и грозного мстителя за нарушенную правду. В этом
смысле картины страшной мести и последующего воцарения мессии
получили характер непосредственной программы, где уже не приходилось
ожидать нашествия вавилонян или египтян, но восставшие массы
выступали одновременно и против римского владычества, и против
связанных с ними господ и жрецов. Особый интерес поэтому представляют
приведенные Никольским пророчества и предсказания зилотов.
«Подошли времена к концу, — говорили зилотские проповедники, — над
людьми господствуют люди безбожные и порочные, а сами учат, что
праведно... Пожирают они добро бедных и утверждают, что делают
так из жалости.. Рука и сердца их творят нечистое, уста их
хвастаются, и говорят притом они: не касайся меня, ты осквернишь меня».
И в зилотских изображениях пришествия и суда мессии рисовались
страшные кровавые картины истребления всех этих лицемерных
праведников, самодовольных богачей, фарисеев и саддукеев. «Горе вам,
могущественные, насилием порабощающие праведного, ибо придет день вашей
гибели... Горе вам, богатые, ибо на богатство ваше надеялись вы, и
от сокровищ ваших будете извержены, ибо в дни богатства вашего не
думали о всевышнем вы, неправду творили и нечестие и заслужили день
570
прожития крови вашей и великого суда... Горе вам, строящим дома
трудом других, ибо строите вы из камня и кирпича греха, и оторваны
будете от основания домов ваших и от меча падете вы... Вотще
царское достоинство, величие и мощь повелителя, серебро, пурпур и золото,
пития и явствия; как вода, будете вылиты вы, со всеми вашими
сокровищами, со всею вашей славой и блеском погибнете вы, и со срамом, со
смертельными ударами, в нищете будете брошены в печь огненную...
А создатель возрадуется вашей гибели...», — так говорили одни
проповедники. Другие считали и такую казнь легкой и не жалели красок для
еще более свирепых картин, а третьи прибавляли, что истребленные
грешники испытают еще вечную смерть в геене огненной — страшном
провал, где бушует яркий огонь, где с плачем и скрежетом зубовным будут
вечно томиться грешники и злые духи. Зато гонимые и обездоленные
праведники после -страшного возмездия грешникам получат награду
свою: они будут участникам чудесного царства мессии на
преобразившейся плодоносной земле. «Всякому злому делу придет конец, и
благословенным будет всякий труд... В те дни облечется вся земля правдою,
вся обсажена будет деревьями и полна будет благословенных даров.
Всякие деревья злачные прозрастут на ней; будут посажены на ней
виноградники, и дадут они без конца вина; семя всякое, на земле посеянное,
принесет урожай в тысячу крат, одна мера олив десять мер масла даст...
Кто был голоден, досыта упитается; каждый день чудеса узрят
праведные».
Как известно, многократные восстания зилотов и присоединившейся
к ним группы террористов, или «сиккариев», окончились весьма
трагически. На время им удалось оттеснить римские легионы и завладеть
Иерусалимом. Восстанию содействовала провокационная политика
Калигулы, который предписал поставить в синагогах и храме статуи
императора. Очень скоро сказалось социальное и классовое расслоение
иудейского общества. Состоятельные классы и жрецы после взятия
Иерусалима зилотами бежали к римлянам. Некоторое время восставшим
оказывали сопротивление укрепившиеся в замке Ирода отряды жрецов
и старейшин, соединившиеся с уцелевшим римским отрядом. После
взятия замка Ирода были перебиты все приверженцы первосвященника,
были сожжены и разгромлены дома жрецов и знати, был убит
первосвященник Анания с братом, были вскрыты судебные архивы и сожжены
долговые обязательства. Было образовано временное правительство»,
а Иудея провозгласила свою независимость. Но недолго продолжалось
торжество победителей в Иерусалиме. В Палестину вошли крупные
военные силы императора Веспасиаиа, которого впоследствии сменил сын
его Тит. Бегство состоятельных и зажиточных иудеев и жрецов к
римлянам продолжалось, а правитель Галилеи Иосиф открыто перешел на
сторону Рима. В отчаянии зилоты истребили последние остатки
знатных фамилий, уцелевших в Иерусалиме, их перебили, дома их сожгли,
имущество захватили. Первосвященником поставили, по жребию,
простого крестьянина, а вождь зилотов Иоанн объявил себя мессией.
В Иерусалиме началась борьба трех партий среди самих зилотов, так как
Иоанн не был признан восставшими за единого мессию. После
мужественной борьбы и защиты Иерусалима город был взят и разрушен.
Жрецы погибли, зилоты пошли на крест и в рабство. Уцелевшие сик-
карии бежали из Иерусалима только для того, чтобы взаимно перебить
друг друга во избежание плена и казни. Уцелели лишь книжники,
«люди закона», и иудеи рассеяния, люди тортового капитала.
571
Мессия не пришел, революция бедняков и нищих была раздавлена
объединенными силами имущих и римских легионов. Зилотам удалось
стать лишь орудием божьего гнева. Но армией мессии они не сделались.
Они действовали именем бога, и бог предал их. Лишний раз
подтвердилось основное положение еврейской идеологии, как она была выработана
древним крестьянством и затем разработана пророками и теократией, —
человек бессилен, и все в руках бога. От него зависит считать
клятвенный договор выполненным или нет. Он полагает времена казни и
спасения. Лишь от него зависит пришествие мессии и водворение царства
божия на земле. А пример восставших еще раз доказал, что меньше
всего человек может вмешиваться в предначертания божий, надо уметь
покоряться и ждать. Терпение и смирение — единственный вывод из
теории, которая переносит судьбу человека на небеса и вручает его жизнь
и счастье суду сверхъестественного и таинственного Адонаи.
Мы не станем здесь останавливаться на том развитии, которое полу
чила идеология смирения и терпения в еврейской мысли. Уже в библии
она имеет несколько крупных памятников; к ним принадлежит и Книга
Иова и в известной степени Книга Премудрости Иисуса, сына Оирахова,
также как Екклезиаст. Мы не останавливается на этих книгах здесь
потому, что религия смирения и терпения получила затем завершенное
развитие в прямом наследнике древне-еврейской идеологии, а именно:
в христианстве.
(«Идеология Востока»).
К. Каутский
УПАДОК РИМСКОЙ ИМПЕРИИ
Смутное предчувствие, что общество идет назад, уже рано возникло
среди господствующих классов, все более сваливавших всякий труд на
рабов, занимавшихся даже наукой, даже политикой. В Греции рабский
труд сначала служил для того, чтобы обеспечить господам полный досуг
для управления государством и размышления о самых глубоких
проблемах жизни. Но чем больше увеличивались избытки, которые, вследствие
концентрации землевладения, расширения латифундий и размножения
рабов, сосредоточивались в руках отдельных лиц, тем больше
преимущественной социальной функцией господствующих классов становилось
расточение этих избытков, тем больше разгоралось желание превзойти
друг друга роскошью, блеском, праздностью. В Риме этот процесс
совершался еще легче, чем в Греции, потому что первый стоял на относительно
низкой стадии культурного развития, когда в нем развился этот способ
производства. Греческое могущество распространялось, главным образом,
на счет варварских народов и потому наткнулось в Малой Азии и Египте
на сильный отпор. Рабами греков были варвары, от которых они ничему
не могли научиться, которым они не могли вверить управление
государственными делами. К тому же и богатства, которые можно было
получить от варваров, были относительно невелики. Напротив, римское
господство быстро распространялось над всеми старыми культурными
государствами Востока, вплоть до Вавилонии (или Селевкии). Из этих
вновь завоеванных областей римляне извлекали не только бесконечные
богатства, но и рабов, которые превосходили своих господ знаниями, ко-
572
торым господа могли легко предоставить управление государственными
делами. Место землевладельческой аристократии в эпоху императорской
власти все чаще занимали рабы императорского дома и бывшие рабы
императора, его вольноотпущенники, оставшиеся в обязанных
отношениях к своему прежнему господину.
Таким образом, для владельцев латифундий и толпившихся вокруг
них паразитов оставалась только одна функция в обществе — функция
наслаждения. Но человек перестает реагировать на всякое раздражение,
которое долго действует на него, он становится равнодушным к радосгя
и горю, к наслаждению и страху смерти. Непрерывная цепь одних
только наслаждений, не сменяемых ни трудом, ни борьбой, вызывала
сначала погоню за новыми наслаждениями, которые превзошли бы
старые и могли бы щекотать притуплённые нервы, а это влекло за собой
увлечение противоестественными пороками, изысканную жестокость.
Расточительность принимала самые бессмысленные формы. Все, однако,
имеет свои пределы, и если кто-нибудь, в силу ли недостатка средств или
способностей, в силу ли физического или финансового банкротства, не
мот уже больше увеличивать свои наслаждения, то он становился
жертвой худшего сплина: им овладевало отвращение к наслаждениям, даже
к самой жизни, он приходил к заключению, что все земное—суета, vanitas
vanitatum. Отчаяние, желание смерти охватывали пресыщенных, а
вместе с этим и страстное стремление к новой, высшей жизни. Но отвращение
к труду так укоренилось в привычках, что даже эта новая, высшая жизнь
мыслилась не как жизнь, исполненная радостного труда, а как
бездеятельное блаженство, радости которого состояли именно в том, что оно
было освобождено от всех скорбей и разочарований, связанных с
физическими потребностями и наслаждениями.
В лучших людях среди этих эксплоататоров пробуждалось чувство
стыда, что их благосостояние основывалось на гибели многочисленных
свободных крестьян, на муках и терзаниях тысяч рабов в рудниках и
латифундиях. Тоска вызывала сострадание к рабам, странно
гармонировавшее с беспощадной жестокостью, с которой распоряжались тогда их
жизнью: достаточно вспомнить игры гладиаторов. Наконец, то же самое
чувство пресыщения вызывало отвращение к погоне за золотом, за
деньгами, которые уже тогда царили во всем мире.
«Мы знаем, — говорит Плиний в тридцать третьей книге своей
Естественной Истории, — что Спартак (вождь восставших рабов) запретил
своим солдатам держать в лагере золото или серебро. Насколько
превосходят нас своим душевным величием бежавшие от нас рабы! Оратор
Мессала пишет, что триумвир Антоний пользовался при удовлетворении
своих естественных потребностей золотыми сосудами... Наш Антоний,
унижавший к позору природы золото, был бы достоин смерти. Но нужно
было бы быть Спартаком, чтобы иметь право порицать его за это».
А рядом с этим господствующим классом, который частью
вырождался в бешеной погоне за наслаждениями и не знал пределов своей
жадности и жестокости, а частью охвачен был состраданием к беднякам
и отвращением к деньгам и наслаждениям, все больше увеличивалась
армия трудящихся рабов, с которыми обращались хуже, чем с вьючными
животными. Собранные из различных стран, озверевшие и огрубевшие от
постоянных побоев, от работы в оковах, под ударами бича, озлобленные,
мстительные, без всякой надежды впереди, они были всегда готовы
устроить бунт, но они не были в состоянии — вследствие низкого
интеллектуального уровня огромного большинства их, состоявшего из варва-
573
ров — низвергнуть старый государственный порядок и ошоватъ новое
общество, хотя отдельные выдающиеся умы из их среды мечтали об этом.
Единственная форма освобождения, которая могла им удаться,
заключалась не в низвержении общества, а в бегстве из него. Им оставалось
бежать в ряды преступников, разбойников, толпы которых постоянно
увеличивались беглыми рабами, или бежать за пределы Римской
империи к ее врагам.
А .над этими миллионами несчастных из несчастных опять-таки
возвышались сотни тысяч рабов, живших в роскоши и изобилии:
постоянные свидетели и объекты самых диких и безумных оргий, соучастники
всякой мыслимой скверны, они либо вырождались вместе со своими
господами, или еще скорее, чем их господа, — так как они сильнее испытывали
на себе всю горечь постоянных наслаждений, — проникались отвраще-
цием к этой жизни и еще более страстно тосковали по новой, чистой,
высшей жизни.
И рядом с ними кишели сотни тысяч свободных граждан и
вольноотпущенных рабов, многочисленные, но нуждающееся остатки
крестьянства, обнищавшие арендаторы, бедные городские ремесленники и
носильщики, наконец, люмпенпролетарии больших городов;
исполненные силы и сознания свободных граждан, они экономически являлись
лишними людьми в обществе, они не имели крова и вели необеспеченное-'
существование, рассчитывая на крохи, которые — в силу ли страха, или
щедрости, в силу ли стремления к спокойствию — выбрасывались им
оптиматами.
Когда евангелие от Матфея вкладывает в уста Иисуса следующие
слова: «лисицы имеют норы и птицы небесные гнезда, а сын человеческий
не имеет, где преклонить голову» (Матфей 8, 20), то оно от лица Иисуса
высказывает те же мысли, которые были выражены уже Тиберием Грак-
хом от имени всего пролетариата Рима еще в 130 г. до р. х.: «Дикие звери
Италии имеют свои пещеры и пристаница, а люди, которые боролись
и умирали за господство Италии, имеют только воздух и свет, которых
никто не может у них отнять. Без крова и пристанища блуждают они
с женами и детьми по всей стране».
Нищета и постоянная необеспеченность существования должна была
тем более озлоблять пролетариев, чем бесстыднее и нахальнее
выставлялась напоказ роскошь оптиматов. Зарождалась мрачная классовая
ненависть бедняков к богачам, но она была совершенно другого рода, чем
классовая ненависть современного пролетария.
На труде последнего покоится теперь все общество. Пролетариату
достаточно приостановить свой труд, и все общество начинает колебаться
в своих основах. Античный люмпенпролетариат не выполнял никакой
работы, а даже труд остатков свободных крестьян и ремесленников не
являлся безусловно необходимым. Не общество жило тогда на счет
пролетариата, а, наоборот, пролетариат на счет общества. Он был
совершенно ненужен и мог исчезнуть, без всякой опасности для общества.
Напротив, он таким путем мог только доставить обществу облегчение.
Основой, на которой покоилось общество, был труд рабов.
Противоположность между капиталистом и пролетарием
разыгрывается теперь на фабрике, в рабочей мастерской. Вопрос заключается
в том, кто должен господствовать над производством: владельцы средств
производства или владельцы рабочей силы. Это—борьба за способ
производства, стремление поставить на место существующего способа
производства новый, более совершенный.
574
Античный люмпенпролетарий не стромился ни к чему подобному.
Он, вообще, не работал, да и не хотел работать. Он требовал участия
в наслаждениях богачей, он добивался другого распределения не средств
производства, а средств наслаждения, грабежа богатых, а не изменения
способа производства. Страдания рабов в горных рудниках и
латифундиях трогали его так же мало, как и страдания вьючных животных. Б]ще
меньше могло явиться стремление к высшему способу производства у
крестьян и ремесленников. Они не стремятся к этому даже теперь. В лучшем
случае они мечтали о реставрации старины. Приближаясь к люмпен-
пролетариату, они ставили себе такие же цели. Они мечтали о беззаботной
жизни на счет богачей, они стремились к коммунизму путем ограбления
богачей.
Таким образом, в обществе времен Римской империи существовали
огромные социальные противоположности, кипела классовая ненависть
и классовая борьба, вспыхивали восстания и гражданские войны, имелось
также беспредельное стермление к другой, лучшей жизни, к изменению
существующего порядка, но не было никаких стремлений ввести новый,
более совершенный способ производства.
Для этого отсутствовали всякие нравственные и интеллектуальные
условия: не было налицо класса, у которого было бы достаточно знаний,
энергии, любви к труду, самоотвержения, чтобы развить в нем стремление
к новому способу производства, но не было также и материальных
предпосылок, необходимых для возникновения такой идеи.
Мы видели уже, что рабское хозяйство технически означало не
прогресс, а регресс, что оно истощало не только господ и делало их
непригодными к труду, но уменьшало также производительность рабочих и
задерживало дальнейшее развитие техники, за исключением разве
некоторых производств предметов роскоши. Кто сравнивал новый способ
производства на основе рабского труда с вытесняемым и разоряющемся
свободным крестьянским хозяйством, тот замечал не подъем, а упадок. Так
зарождалось воззрение, что старое время было лучше, что золотой век
позади, что времена становятся все хуже. Если капиталистической эпохе,
с ее непрерывным стремлением к улучшению средств производства,
свойственно представление о беспредельном прогрессе человечества, если она
даже склонна изображать прошлое в мрачных красках, а будущее в
радушных, то в Риме времен Империи мы встречаем противоположный
взгляд, представление о непрерывном регрессе человечества и постоянное
стремление к доброму старому времени. Социальные реформы и
социальные утопии того времени, поскольку они стремятся к оздоровлению
общественных условий, ставят себе целью восстановление старого способа
производства, свободного крестьянского хозяйства, и вполне правильно,
так как последний способ производства был технически выше, чем
господствующий. Рабский труд заводил в глухой переулок. Общество должно
было быть опять поставлено на основу крестьянского хозяйства, чтобы
оно могло вновь начать свое восходящее движение. Но римское общество
не в состоянии было сделать даже этого, потому что оно лишилось
необходимых для этого крестьян. Необходимо было сначала, чтобы во время
великого переселения народов многочисленные племена свободных
крестьян наводнили всю Римскую империю, прежде чем остатки созданной
ею культуры могли образовать основу нового общественного развития.
Как всякий способ производства, основанный на классовых
противоположностях, античное рабское хозяйство само рыло себе могилу. В той
форме, которую оно приняло, в конце концов, в Римской империи, оно
575
было основано на войне. Только непрерывные победоносные войны,
непрерывное поколение новых народов, непрерывное расширение границ
империи могло доставлять массам дешевые рабские силы, в которых оно
нуждалось.
Упадок рабского хозяйства не привел еще к новому расцвету
крестьянства. Для этого нехватало крестьян, и этому мешала также частная
собственность на землю. Владельцы латифундий не имели никакого
желания отказаться от них. Они только уменьшали свои предприятия.
Часть земли они превратили в маленькие арендные участки, которые они
сдавали арендаторам, колонам, с условием, чтобы последние посвящали
часть своей рабочей силы на работы в поместье. Так возникла система
обработки земли, к которой в феодальную эпоху все снова и снова
прибегали крупные землевладельцы, пока капитализм не вытеснил ее при:
помощи капиталистической арендной системы.
Рабочие силы, из которых рекрутировались колоны, доставлялись
отчасти сельскими рабами, отчасти пролетариями, ремесленниками и
рабами больших городов, не находивших там больше пропитания с тех пор,
как доходы, получаемые от рабского хозяйства в земледелии и горном
деле, значительно уменьшились, а потому щедрость и расточительность
богачей значительно сократились. Позже к ним могли присоединиться
жители пограничных провинций, которые покидали свои насиженные
места, вследствие вторжения варваров, и бежали внутрь империи, где они
искали средств к жизни, как колоны.
Но этот новый способ производства не мог задержать экономического
упадка, вызванного прекращением притока рабов. Технически он также
стоял ниже крестьянского и являлся препятствием для дальнейшего
технического развития. Работа, которую арендатор должен был выполнять
на господском дворе, оставалась обязательной работой, со всеми ее
особенностями; она совершалась так же неохотно и лениво, с той же самой
небрежностью по отношению к скоту и орудиям, как и рабский труд.
Правда, арендатор имел при этом еще собственное хозяйство, но оно было
так ничтожно, что у него едва хватало средств на поддержание жизни.
Арендная плата, выплачиваемая натурой, была определена в таких
размерах, что колон отдавал, за покрытием необходимых потребностей, почти
весь продукт своему господину. Нищету колонов можно сравнить с
нищетой мелких арендаторов Ирландии или Южной Италии, где продолжает
существовать такая система производства. Но для населения
земледельческих местностей настоящего времени останется еще возможность
выселения в страны с процветающей промышленностью. Колоны Римской
империи не имели -этого выхода. Промышленность тогда только в очень
незначительной степени занималась производством средств производства,
главным же образом, она производила предметы роскоши. Вместе с
уменьшением прибавочного продукта, получавшегося владельцами горных
рудников и латифундий, регрессировала и промышленность в городах,
население которых быстро уменьшалось.
Но одновременно с этим уменьшалось и сельское население. Мелкие
арендаторы не могли содержать больших семей. Доходов от их участков,
даже в нормальное время, едва хватало, чтобы прокормить их самих.
Неурожаи находили их без всяких запасов хлеба или денег, чтобы купить
все необходимое. В таких случаях нужда и голод особенно сильно
свирепствовали и разрежали ряды колонов, особенно их детей. Точно так же,
как в течение последнего столетия уменьшалось постоянно население
Ирландии, так уменьшалось и население Римской империи.
5*6
«В соответствии с этим, в городе пустуют многие дома, а население
явственно уменьшается. У кафароких скал живет несколько рыбаков,
кругом же на далекое пространство нет ни одной души. Когда-то вся
земля принадлежала богатому гражданину, который владел стадами
лошадей и рогатого скота, многими лугами, прекрасньжи полями и всякого
рода другим имуществом. Из-за его богатства, он, по приказанию
императора был убит, стада были угнаны, в том числе и скот, принадлежавший
его пастуху, и с тех пор вся земля остается без обработки. Только два
пастуха, свободные люди и граждане города, остались и кормятся теперь
охотой, занимаясь еще немного обработкой земли и садоводством...
Условия, которые рисует здесь Дион, — а та же картина встречается
в Греции повсюду уже в самом начале императорского периода, —
являются теми же самыми, которые в течение ближайших столетий
развились в Риме и его окрестностях и до сих пор еще накладывают свою
печать на Кампанию. И тут дошло, наконец, до того, что города
совершенно исчезали, а земля на далекое пространство лежала без обработки
я служила только для пастьбы окота (в некоторых местностях на
склонах гор для виноделия), пока, наконец, обезлюдел сам Рим, пустовавшие
дома обваливались, как и общественные постройки, а на форуме и капи-
толии паслись стада. Такие же условия начали развиваться в нашем
(девятнадцатом) столетии в Ирландии и бросаются в глаза всякому, кто
приезжает в Дублин или путешествует по Ирландии».
Одновременно с этим понижалось и плодородие почвы. Стойловое
кормление скота было мало развито, и оно должно было еще уменьшиться
при рабском хозяйстве, потому что последнее обусловливало грубое
обращение с скотом. А без стойлового кормления нельзя получить навоз. Без
сильного удобрения и интенсивной обработки у почвы отнимали как раз
то, что она должна была давать. Только на лучших землях такая
культура приносила выгодные урожаи. Но число таких земель становилось
все меньше, чем старее была культура, чем больше высасывалась почва.
Истощение почвы и растущий недостаток в рабочих силах, а кроме
того, и нерациональное применение их — все это не могло не привести
к постоянному уменьшению продукта почвы.
Одновременно с этим уменьшились и средства страны для покупки:
жгоненных припасов за границей; золото и серебро становились все реже,
потому что, как мы уже видели, рудники, вследствие недостатка в
рабочих силах, становились непроизводительными. А из имевшихся запасов
золота и серебра все большая часть уходила за границу — частью в
Индию и Аравию на покупку предметов роскоши для оставшихся еще
богачей, главным же образом, для уплаты соседним варварским племенам.
Мы видели уже, что солдаты все больше рекрутировались из среды
варваров. Вое больше увеличивалось число тех из них, которые свое
жалованье или остаток его, по истечении срока службы, уносили за собой за
границу. Чем больше уменьшалось военное могущество империи, тем
больше старались утихомирить этих опасных соседей, а эта цель лучше
всего достигалась уплатой богатой дани. Если это не удавалась, то
варвары очень часто вторгались в пределы империи, чтобы производить
грабежи. Это также лишало империю части ее богатств.
Последние остатки этих богатств были растрачены в усилиях спасти
жх. Чем больше падала военная готовность жителей империи, чем реже
вступали они в ряды войска, чем больше увеличивалось число
иностранцев в нем, чем сильнее становился натиск враждебных народов,
следовательно, чем сильнее возрастал спор на наемников одновременно с умень-
Г. Гурев 37
677
шением их предложения, тем выше становилась плата, которую
приходилось платить им. «Со времени Цезаря она составляла ежегодно 225
динариев (196 марок), и, кроме того, каждый вони ежемесячно получал две
трети медпмна (медимн = 54 литрам) зерна, т.-е. четыре модия, а позднее
даже пять модиев. Раб, который питался только хлебом, получал
ежемесячно столько же. При умеренности жителей южных стран,
хлебом можно было удовлетворить большинство потребностей. Домициан
повысил.плату до 300 динариев (261 марка). При позднейших
императорах военным выдавалось безвозмездно и оружие. Септимий Север и
позже Каракалла повысили еще больше жалованье».
При этом покупательная сила денег была тогда гораздо выше, чем
теперь. Так, Сенека во времена Нерона думал, что философ может
прожить на полсестерция (Ппфеннигов) в день. 40 литров вина стоили
25 пф., ягненок — от 40 до 50 пф., овца 1% марки.
В то же время падали все ниже и другие классы населения, хотя
и не в такой степени, как колоны. Фиск отнимал все, что мот найти,
варвары не могли грабить хуже, чем государство. Общество охвачено было
процессом всеобщего разложения, и все ярче проступали нежелание и
неспособность отдельных его членов делать даже крайне необходимое для
общества и друг для друга. То, что прежде регулировалось обычаем и
экономической нуждой, теперь вынуждалось властью государства. Со
времени Диоклетиана число этих принудительных законов увеличивается.
Одни из них прикрепляли колона к земле и превращали его в крепостного,
другие обязывали землевладельцев принимать участие в городской
администрации, обязанности которой сводились, главным образом, к
взиманию налогов для государства, или вынуждали ремесленников
объединяться в принудительные союзы и доставлять свои услуги и товары по
установленным ценам. А вместе со всем этим росла и увеличивалась
правительственная бюрократия, которая должна была блюсти за
исполнением всех этих законов.
Бюрократия и армия, одним словом, государственная власть,
становилась, таким образом, во враждебное положение не только по отношению
к экоплоатируемым, но и к экеплоатирующим классам. Даже для
последних государство все больше превращалось из учреждения, охраняющего
и доставляющего выгоды, в учреждение, занимавшееся грабежом и
опустошением. Вражда к государству росла с каждым днем; даже на
владычество варваров смотрели, как на избавление. Именно к ним, свободным
крестьянам, все больше бежало население пограничных областей; в них,
в конце концов, начинали видеть спасителей, избавителей от
господствовавшего общественного и государственного порядка, и принимали их
с открытыми объятиями.
Вот что писал об этом христианский писатель умиравшей Римской
империи Сальвиан в своей книге «De gubernatione dei»:
«Большая часть Галлии и Испании перешла в руки тотов, и
живущие там римляне имеют только одно желание — не стать опять римскими
гражданами. Я удивлялся бы тому, что не все бедняки и нуждающиеся
бежали туда, если бы я не знал, что они не хотят бросить свой скарб и
семью. А мы, римляне, еще удивляемся, что не можем победить готов,
когда мы сами охотнее живем среди них, чем у нас дома».
Переселение народов, наводнение римской империи полчищами
грубых германцев вовсе не являлось преждевременным разрушением
цветущей высокой культуры, оно представляло, наоборот, заключительный
фазис процесса разложения умирающей культуры и начало нового куль-
578
турного подъема, который, правда, в течение целого ряда столетий
совершался очень медленно и неуверенно.
В течение четырех столетий, от основания римской императорской
власти Августом и до великого переселения народов, создалось христиан*
ство: в' то самое время, которое начинается кульминационным пунктом
блестящего развития, достигнутого античным миром, колоссальной и
опьяняющей концентрацией богатства и могущества в немногих руках,
массовым скоплением величайшей нищеты рабов, разоряющихся
крестьян, ремесленпиков и люмпенпролетариев, в то самое время, которое
начинается крайне резкой противолопожностью классов и мрачной
классовой ненавистью — и кончается полным обеднением и отчаянием всего
общества.
Все это наложило свою печать на христианство, все это оставило на
нем свои следы.
(«Происхождение христианства»).
Ф. Энгельс
ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ХРИСТИАНСТВА
Римское завоевание во всех покоренных странах непосредственно
и прежде всего разрушило прежний политический порядок, а затем кос*
венным образом также и прежние условия общественной жизни.
Во-первых, отменяя все прежние сословные деления за исключением рабства,
оно устанавливало простое различие между римскими гражданами и
негражданами— или государственно-подданными. Во-вторых, и главным
образом, разрушение происходило благодаря эксплоатации во имя
римского государства.
Если при Империи грабительским аппетитам провинциальных
правителей был положен по возможности предел, то на место этого явились
все сильнее действующие и все туже завинчиваемые тиски налога в пользу
государственной казны. Это высасывание действовало страшно
разрушительно. Наконец, в-третьих, повсюду (в судах) приговоры выносились,
римскими судьями на основании римского права, местные порядки
объявлялись не имеющими силы, если они не совпадали с римскими поряд^
ка,ми. Эти три рычага должны были действовать с огромной
нивелирующей силой, особенно если они приблизительно два столетия применялись
к народностям, наиболее сильная часть которых была уведена в рабство
или уничтожена в битвах, предшествовавших завоеванию,
сопровождавших завоевание и весьма часто продолжавшихся после завоевания.
Общественные отношения провинции приближались все больше и больше
к общественным отношениям столицы Италии.
Население все больше и больше разделялось на три класса,
составленные из различных элементов и национальностей 1. Богачи, среди
которых было не мало вольноотпущенных рабов, крупные землевладельцы,
ростовщики или и то и другое место, — вроде дяди христианства —
Сенеки. 2. Неимущие свободные — в Риме их кормило и увеселяло
государство, — в провинциях они могли свободно предаваться наблюдениям
над процессом своей собственной гибели. 3. Наконец, громадная масса
рабов. По отношению к государству, т.-е. к императору, оба первых класса
были так же бесправны, как и рабы по отношению к их господину. От
37*
57S
Тиверия до Нерона было обычным явлением, что богатых римлян
приговаривали к смерти для того, чтобы захватить их богатство.
Материальной опорой правительства было войско, гораздо' более
похожее на армию ландскнехтов, чем на старое римское крестьянское
войско, моральной же опорой было всеобщее убеждение, что из этого
положения нет выхода, что не тот или друтой император, но эта,
основанная на военной диктатуре, империя является неизбежной необходимостью.
На каких чисто материальных фактах основывалось это убеждение,
входить в рассмотрение здесь не место.
Всеобщему бесправию и отчаянию по поводу того, что наступление
•лучших времен невозможно — соответствовали всеобщая апатия и
деморализация. Немногие оставшиеся еще в живых етаро-римляне
патрицианского духа и образа мыслей были устранены или вымерли. Последним из
них был Тацит. Остальные были рады, что могут держаться вдалеке от
общественной жизни. Их существование заполнялось наживой богатства,
наслаждением богатством, частными сплетнями, частными интригами.
Неимущие свободные в Риме, пенсионеры государства, существовавшие
на государственную пенсию, в провинциях находились в очень трудном
положении. Они должны были работать и, кроме того, выдерживать
конкуренцию с работой рабов. Но это было только в городах. Рядом с ними
в провинциях были еще крестьяне, свободные землевладельцы (местами
даже еще с общинным владением) или, как в Галлии, — крестьяне,
находившиеся в кабале у более крупных землевладельцев. Этот класс был
затронут общественным переворотом всего меньше. Он всего дольше
сопротивлялся также и религиозному перевороту.
Наконец, — рабы, бесправные и безвольные, которые не могли осво^
бодиться, как уже показало восстание Спартака.
Но наряду с этим имелись еще бывшие свободные или сыновья
вольноотпущенных. Среди них должна была еще сохраняться по боль
шей части живая, хотя внешне и бессильная ненависть против условий
их жизни.
(«Некролог Бруно Бауэра»).
* *
Античное рабство пережило себя. Ни в крупном сельском
хозяйстве, ни в городских мануфактурах оно уже не приносило дохода,
•оправдывающего затраченный труд. Рынок для его продуктов исчез.
А в мелком земледелии и ремесле, к которым свелось громадное
производство времен расцвета империи, не было места для многочисленных
|:абов.
Только для рабов, занятых в домашнем услужении и служивших
целям роскоши богатых, оставалось еще много в обществе. Но
умирающее рабство все еще проявляло себя тем, что заставляло признавать
всякий производительный труд, как рабскую деятельность, недостойным
свободных римлян, — а таковыми теперь являлись все.
В результате, с одной стороны, возрастающее количество отпусков
на волю излишних, ставших обузой рабов, а с другой стороны, увеличение
числа колонов и превратившихся в босяков свободных (подобно «белым
беднякам» бывших рабовладельческих штатов Америки).
Христианство совершенно непричастно к постепенному отмиранию
.античного рабства. Оно в течение целых столетий уживалось в Римской
империи с рабством, и впоследствии никогда не запрещало работорговли
£80
христиан — ни у германцев на севере, ни у венецианцев на Средиземном
море, ни позднейшей торговли неграми. Рабство перестало окупать себя
и потому отмерло.
Но умирающее рабство оставило свое ядовитое жало в виде презрерия
к производительному труду свободных. То был безвыходный тупик, в
который попал римский мир: рабство сделалось экономически невозможным,
труд свободный морально презирался. Первое уже не могло, второй еще нзе
мог сделаться основной формой общественного производства. Вывести та
этого положения могла только коренная революция.
В провинциях положение было не лучше. Больше всего сведений
имеем относительно Галлии. Наряду с колонами здесь существовали еще
свободные мелкие крестьяне. Чтобы обеспечить себя от насилий
чиновников, судей и ростовщиков, они часто прибегали к защите, патронату кото-
либо из сильных мира сего; и поступали так не только отдельные
крестьяне, но и целые общины, так что императоры в четвертом столетии неодта-
кратно издавали указы с запрещением этого.
Но находили ли защиту искавшие ее? Патрон ставил им условие,
чтобы они переводили на него право собственности на их участки, взамен
чего обеспечивали им пожизненное пользование последними — уловка,
которую подметила «святая церковь» и которой она усердно пользовалась
в 8 и 17 столетиях в целях увеличения землевладения царства божьего
и своего собственного. Тогда, правда, около 475 года, епископ Оальвиан
Марсельский еще возмущенно громит такой грабеж и рассказывает, что
гнет римских чиновников и крупных землевладельцев сделался столь
невыносимым, что многие «римляне» бегут в уже занятые варварами
местности и что поселившиеся там римские граждане, ничего так не боятся, как
возможности снова очутиться под римским владычеством. Что родители
тогда часто продавали из бедности своих детей в рабство, доказывается
изданным против этого законом.
(«Происхождение семьи, частной собственности и государства»).
*
Из каких слоев населения рекрутировались первые христиане?
Преимущественно из «трудящихся и обремененных», принадлежавших
к самым низшим слоям народа, как и подобает революционному элементу.
Из кого же состоял последний? В городах — из разорившихся свободных
людей, принадлежащих к различным слоям народа, подобно населения*
южных рабовладельческих штатов или европейских бродяг и
авантюристов колониальных и китайских портов; кроме того из
вольноотпущенников и особенно из рабов; в латифундиях Италии, Сицилии и Африки—
из рабов; в сельских округах провинций из мелких крестьян, все более
попадавших в долгое рабство. Не было абсолютно никакого' общего
пути к освобождению всех этих элементов. Для всех них потерянный рай
лежал позади; таковым для свободных, пришедших в упадок, был
старинный город, бывший в то же время государством, в котором жили их
предки — свободные граждане; для взятых на войне в плен рабов —
время свободы перед покорением и захватом в плен; для мелких
крестьян— исчезнувший родовой строй и общность владения землей. Вое
это было разрушено нивелирующим железным кулаком
покорителей-римлян. Самой значительной общественной группой древнего времени бьик>
племя и союз родственных племен; варвары организовались по родовым
связям, итальянцы и греки, основатели городов, — в большой город.
58*
вмещавший одно или несколько племен. Филипп и Александр придали
полуострову Эллады политическое единство, но, несмотря на это,
греческой нации, как целого, не существовало. Нации, как таковые, стали
возможны только благодаря падению римского мирового господства. Это
последнее раз навсегда положило конец мелким общественным союзам;
военная сила, римская судебная власть, податной аппарат совершенно
разложили традиционную внутреннюю организацию. Вместе с потерей
независимости и своеобразной организации появился насильственный
грабеж воепных и гражданских властей, которые сначала отнимали у
покоренных их богатства, а потом давалп им их взаймы за ростовщические
проценты, чтобы таким образом дать им возможность уплатить новые
поборы.
Налоговое бремя и проистекающая из него нужда в деньгах в
местностях чистого или преобладающего натурального хозяйства все дальше
толкали крестьян в долговое рабство к ростовщикам и породили крупное
имущественное различие, обогащая имущих и доводя до полной нищеты
бедных. Всякое сопротивление отдельных мелких племен и городов
могучей римской империи было безнадежно. Где же тогда оставался выход,
спасение для порабощенных, угнетенных и обнищавших, общий для всех
этих различных групп людей с чуждыми им совершенно
противоположными друг другу интересами? И все таки такой выход, который охва
тил бы всех их в одном великом революционном движении, такой выход
должен был найтись.
И он был найден. Но не в этом мире. При тогдашних условиях этот
выход мог быть найден только в области религии. И вот открылся другой
мир. Существование души после смерти тела стало понемногу в римском
мире общепринятым членом символа веры. Награда и наказание умершим
душам за совершенные на земле проступки тоже сделались мало-по-малу
общепризнанными. Награда, конечно, была довольно ненадежна. Древнее
общество было слишком материалистично в грубом смысле этого слова,
чтобы не ценить бесконечно выше царства теней земную жизнь; греки
считали загробную жизнь скорее несчастием. Тогда явилось
христианство, которое серьезно отнеслось к наказаниям и награде на том свете,
создало небо и ад — и таким образом найден был выход, который выводил
трудящихся и обремененных из этой земной юдоли скорби в вечный рай.
й в действительности только надеждой на награду в потустороннем мире
можно было возвысить аскетизм, стоико-филоновское отречение от мира
до основного этического принципа новой мировой религии, могущей
увлечь угнетенные народные массы.
(«К истории первоначального христианства»).
# *
Этим обстоятельствам соответствовала и идеология тото времени.
Философы были или просто зарабатывающие деньги школьные учителя,
или шуты, состоявшие на содержании у богатых выскочек. Что из них
получалось, когда дела их шли хорошо, — образцом служит Сенека.
Этот старик, проповедующий добродетель и воздержание, был первым
придворным интриганом Нерона. В таком положении ему, конечно, нельзя
было обойтись без пресмыкательства, он добивался подарков, денег,
вещей, земельных участков, дворцов, проповедуя евангельского бедного
Лазаря, в действительности же он был богачом из этой притчи.
Только после того, как Нерон собрался взять его за горло, он просил
императора взять у него обратно вое подарки, так как ему довольно его
§82
философии. Только редкие из философов, как Персии, бичевали,
по крайней мер, сатирой своих выродившихся современников. Что же
касается идеологов, сорта юристов, то они мечтали о новых порядках,
потому что уничтожение всех сословных различий позволяло
разрабатывать любимое ими частное право во всю ширь. За то они составляли для
императора самое гнусное государственное право, которое когда-либо
существовало.
Вместе с политическими и социальными особенностями народов
•Римская империя осудила на гибель и их особые религии. Все религии
древности были естественно выросшими родовыми, а потом
национальными, выросшими и сросшимися с общественными и политическими
условиями каждого из соответственных народов. Раз была разрушена эта их
основа, унаследованные формы общежития, традиционные политические
учреждения и национальная независимость, то и приспособленная к этому
религия разрушилась. Национальные боги могли терпеть рядом с собой
других национальных богов у других народов, — и это было в древности
общим правилом, но они не могли терпеть божества высшего. Перенос
восточных религиозных культов в Рим только повредил римской религии,
но задержать упадка восточных религий не мог. Как только национальные
божества не могут больше уже защищать самостоятельность их нации,
так они из-за этого гибнут. Так случалось везде (исключением являются
религии крестьян — особенно в горах). То, что в Риме и в Греции сделало
вульгарно философское просвещение, я чуть-чуть не сказал
вольтерьянство, то в провинциях совершило римское завоевание и замена мужчин,
гордых своей свободой, отчаявшимися подданными и эгоистичными
прохвостами.
Таково было материальное и моральное положение. Настоящее
невыносимо; будущее даже еще больше грозно. Никакого выхода. Отчаяние
и спасение в самых пошлых чувственных наслаждениях — для тех,
по крайней мере, которые могли себе это позволить, — но это было
ничтожное меньшинство. Кроме этого, еще оставалась тупая покорность перед
неизбежным.
Во всех классах должно было находиться известное количество людей
отчаявшихся в материальном освобождении и искавших себе возмещения
в духовном освобождении — утешения в сознании, которое спасало их
от полного отчаяния. Этого утешения не могла дать стоическая
философия, равно как и школа Эпикура, во-первых, потому, что это были
философские системы, т.-е. были рассчитаны не на обычное среднее
сознание, а во-вторых, потому что образ жизни последователей этих школ
дискредитировал их учения. Для того, чтобы дать утешение, нужно было
заменить не утраченную философию новой философией, а утраченную
религию, — новой религией. Утешение должно было выступить в
религиозной форме, как и все, что должно было захватить массы. Так это
•было в ту эпоху — и так продолжалось вплоть до XVII в.
Едва ли надо прибавлять, что среди этих людей, страстно
тосковавших по утешению, страстно желавших бежать от этого действительного
мира в мир идеальный, большинство вербовалось из рабов.
Во время этого-то всеобщего экономического, политического,
умственного и морального разложения и выступило христианство. Оно
встало в резкое противоречие по отношению ко всем существовавшим
до- сих пор религиям.
Во всех религиях существовавших до того времени, обрядность была
на первом плане, свою принадлежность к известной религии можно было
583
проявить только своим участием в жертвоприношениях и процессиях*
а на востоке еще и соблюдением подробнейших предписаний режима
в пище и в омовениях. В то время, как Греция и Рим в последнем счете
были терпимы, на востоке свирепствовали религиозные запрещения, что
не мало способствовало там в конце-концов упадку. Люди двух разных
религий — египтяне, персы, иудеи, халдеи и т. д. не могут вместе ни пить,
ни есть, не могут сделать вместе ни одного самого обыкновенного дела,
едва могут разговаривать друг с другом. Из-за этого разделения людей
друг от друга древний восток главным образом и погиб. Христианство
не знает никаких вносящих разделение обрядов, не знает даже жертв
я процессий классической древности. Отрицая все национальные религии
и общую им всем обрядность и обращаясь ко всем народам без различия,
христианство становится само первой возможной мировой религией.
Еврейство со своим новым всемирным богом тоже сделало попытку стать
мировой религией. Но дети Израиля все же оставались все время аристот
кратией среди верующих и обрезанных и даже христианство, прежде чем
оно могло стать настоящей мировой религией, должно было сперва
освободиться от представления о преимуществах христиан из евреев над
христианами из язычников. Это представление господствует еще в так
называемом откровении Иоанна. С другой стороны, Ислам, благодаря тому,
что он удержал специфически восточную обрядность, ограничил область
своего распространения востоком и северной Африкой, завоеванной араб^
скими бедуинами и вновь заселенной. Здесь он мог стать господствующей
релитией, на западе не смог.
Христианство ударило по струне, которая должна была отозваться
во многих сердцах. На все жалобы по поводу тяжелого времени и по
поводу всеобщей моральной и материальной нищеты христианское сознание
греховности отвечало: да это так, и иначе не может быть, в испорченности
мира виноват ты сам, виноваты вы все, твоя и ваша собственная
внутренняя испорченность. А где же нашелся бы человек, который мог бы что-
нибудь на это возразить. Сознание виновности — ни один человек не мог
отказаться от признания части и своей вины в общем несчастии, и это
признание стало предпосылкой духовного освобождения, которое
одновременно было провозглашено христианством. И это духовное освобождение
устроено было таким образом, что его легко мог понять всякий
последователь любой старой религии.
Всем этим старым религиям было ствойственно представление об
искупительной жертве, с помощью которой можно примирить
разгневанное божество. Конечно, это было благоприятной почвой для усвоения
представления о появлении посредника, который добровольно приносит
себя в жертву, и она искупит раз навсегда все грехи человечества. Таким
образом, христианство нашло ясное выражение для
общераспространенного чувства виновности всех людей от всеобщей испорченности, выразив
его в сознании греховности каждого отдельного человека и в то же время
в смерти своего основателя дало общедоступную форму всеобщему
страстному стремлению к внутреннему освобождению от испорченного мира,
дало утешение в сознании. Христианство доказало, таким образом, свою
способность стать мировой религией — и к тому же религией как раз
подходящей к данному обществу.
Таким образом, вышло так, что среди тысяч пророков и
проповедников в пустыне, создавших в то время бесчисленное количество нодаех
религиозных новшеств — успех имели только основатели христианства*.
Не только Палестина, но и весь Восток кишмя кишел такими основателями
584
религии, среди которых господствовала прямо, можно сказать,
дарвиновская борьба за идеальное существование. Христианство победило,
благодаря тому, что в него входили по преимуществу элементы, которые были
разобраны выше. Каким образом оно постепенно вырабатывало дальше
свой характер мировой релитии в борьбе сект между собой и с языческим
миром при помощи естественного отбора — этому учит история церкви
первых трех столетий.
(«Некролог Бруно Бауэра»).
* *
*
Раннее христианство было далеко, как небо от земли, от новейшей,
формулированной в догматах, мировой религии Никейокого собора; одного
совсем нельзя узнать в другом. Здесь нет ни догматов ни этики
позднейшего христианства, наоборот, здесь заметно сознание борьбы со всем
светом и того, что эта борьба окончится победой; жажда борьбы и
сознание победы — сознание, исчезнувшее у христиан нашего времени и
встречающееся только в новом общественном движении, у социалистов.
И в действительности борьба вначале с всесильным миром и
в то же время борьба представителей нового учения между собой
является общей чертой у первых христиан и у социалистов. Оба
великие движения созданы не вождями и пророками — хотя и тому
и другому предшествовало достаточно пророков — оба они являются
массовыми движениями.
Но массовое движение вначале по необходимости запутано;
запутано потому, что всякое мышление массы вращается сначала в
противоречиях, неясностях, отсутствии связи; оно запутано также вследствие
роли, какую вначале играют в нем пророки. Эта запутанность
выражается в образовании многочисленных сект, борющихся между собой
с такой же страстностью и запальчивостью, как и с общим внешним
врагом. Так было во времена первоначального христианства, так было в
начале социалистического движения, что очень огорчало благомыслящих,
прямодушных людей, проповедывавших единение там, где не было
возможно никакое единство.
(«К истории первоначального христианства»).
К. Каутский
РАННЕЕ ХРИСТИАНСТВО И ЕГО КЛАССОВАЯ ЭВОЛЮЦИЯ
Государственная власть в эпоху упадка римской империи
встречала всеобщее недоверие и всеобщее равнодушие. Внутреннее
разложение общества достигло такой степени, что ни от одного из смертных,
хотя бы он был самым сильным из цезарей, не могли ожидать, что ему
удастся вдохнуть в общество новую жизнь. Это может сделать только
надчеловеческая сила, только чудо.
Кто не верил в возможность чуда, которое спасло бы римское
общество, тот впадал в безнадежный пессимизм или старался забыться
в бессмысленных наслаждениях. Но из тех пылких энтузиастов, для
которых было одинаково невозможно и то и другое, многие стали
веровать в чудо. В особенности это относится к энтузиастам из низших
585
слоев народа. Они больше всего страдали от разложения римского
общества; у них не было средств, чтобы забыться в чаду удовольствий
и потому они не могли чувствовать того раскаяния, которое следует за
бессмысленными наслаждениями и легко порождает пессимизм и
уныние. Преимущественно в их рядах и пускала корни идея, что в
ближайшем же будущем с неба придет избавитель и создаст на земле славное
царство, в котором нет ни бедности, ни войны, в котором господствует
радость, мир, довольство и бесконечное блаженство. Этот спаситель был
помазанник божий, Христос.
Раз уже всякое чудо казалось возможным, деятельность фантазии
опрокидывала всякие границы, и каждый верующий мог представлять
грядущее царство в самых фантастических формах. В этом будущем
изменится не только общество, но и вся природа; из нее исчезнет все
вредное для человека, а все наслаждения, которые она дает человеку,
неизмеримо вырастут.
Известно христианское сочинение, в котором выразились такие
ожидания. Это — так называемое «Откровение Иоанна», Апокалипсис,
написанное, по всей вероятности, вскоре после смерти Нерона, Оно
возвещает, что в самом близком времени разразится страшная борьба между
имеющим возвратиться Нероном, Антихристом, и Христом, который
сн'ова придет, и что вся природа примет участие в этой борьбе. Христос
выйдет победителем из борьбы и положит начало тысячелетнему царству;
в нем праведники, над которыми смерть утратит свою силу, будут
править вместе с Христом. Этого мало: по окончании этого царства
возникнет новое небо и новая земля, и на этой земле — новый Иерусалим,
место блаженства.
Тысячелетнее царство — это государство будущего для
первоначального христианства. В связи с этим все возникавшие в христианских
сектах пламенные ожидания грядущего нового общества называются
хилиастическими («хилиас» по-гречески значит число — тысяча).
Примыкая к «Апокалипсису», многочисленные учители
христианства в первые века выражали хилиастичеокие ожидания и в некоторых
случаях — напр., Ириней (во втором веке) и даже Лактанций (около
320 года) — описывали грядущий земной рай очень обстоятельно и
в ярких чувственных красках. Но чем больше христианство
переставало быть верой только несчастных и угнетенных, пролетариев, рабов и
их покровителей, чем решительнее оно становилось религией сильных
и богатых, тем с большим нерасположением относилась официальная
церковь к хилиазму: ведь, в нем всегда оставался некоторый
революционный привкус, он всегда был пророчеством, что существующее
общество идет к перевороту.
Хилиастические ожидания — одна,из наиболее характерных
особенностей духовной жизни первоначального христианства. Но не менее
важны его тенденции к практическому коммунизму.
Подобно социал-демократии, первоначальное христианство стало
непреодолимым для властителей того времени потому, что оно сделалось
необходимым для масс населения. Победу ему обеспечила его
практическая деятельность, а не его благочестивые грезы.
Пауперизм в императорский период Рима вырос в великий
социальный вопрос. Все государственные попытки борьбы с нищетой оказались
тщетными. Некоторые императоры и частные люди старались помочь
делу устройством благотворительных учреждений. Но они основывались
в чрезвычайно ничтожном количестве; это были капли воды, падающие
586
на раскаленный камень; притом алчная римская бюрократия далеко не
была хорошим заведующим для благотворительных учреждений.
Пессимисты и люди, отдававшиеся наслаждениям, предпринимали
по отношению к пауперизму то же самое, что они делали по отношению
к другим недугам общества и государства, т.-е. не делали ничего. Они
заявляли: это очень печальное явление, что сложился такой порядок
вещей; но он непредотвратим, а философы не могут же принимать
участие в борьбе против непредотвратимого.
Совсем другую позицию заняли сангвиники-энтузиасты и
пролетарии, на которых лежал гнет нищеты. Они не могли отдаваться
спокойному созерцанию нищеты, они должны были стремиться к тому,
чтобы положить ей конец. Но обездоленным нельзя помочь одними
грезами о блаженстве, которое принесет Мессия, грядущий на облаках.
И вот из этих самых кругов, из которых исходили хилиастические мечты,
вышли и практические попытки справиться с существующей нищетой.
Начало христианства определялось характером такого класса, как
пролетарии-босяки больших городов, в своей массе отвыкшие от работы.
Производство представлялось этим элементам делом довольно
безразличным; примером для них была лилия полевая, которая не сеет и не
прядет и, несмотря на то, процветает. И если они стремились к
переменам и распределению собственности, то имели в виду собственность не
на средства производства, а на средства потребления. Для пролетариев-
босяков того времени не было ничего необычного в коммунизме
потребления. Устраивавшиеся от времени до времени общественные трапезы
для огромных масс нуждающихся, или раздача им средств
существования повторялись в последний период республики с большой
регулярностью, а потом имели место и в начале императорского периода.
Что же могло быть естественнее для пролетариев-паразитрв, как не
возвести эти трапезы и раздачи в систему, в постоянный коммунизм по
отношению к наличным средствам республики, — отчасти в форме
равномерного распределения их, отчасти в форме совместного
потребления.
Так возникли коммунистические идеи, а вскоре затем и
коммунистические общества с целью осуществления этих идей. Первые из них
-сложились на Востоке, который в экономическом отношении шел далеко
впереди Запада. Среди иудеев еще до начала нашей эры
апокалиптические ожидания получили всеобщее распространение; у них же лет
за 100 до р. х. мы встречаем коммунистический союз, союз ессеев.
«Они считали богатства за ничто, — рассказывает о союзе Иосиф. —
Напротив, они прославляли общность имуществ, и среди них ни один
не был богаче другого. У них есть закон, чтобы каждый вступающий
в орден отдавал свои блага на общее потребление; поэтому у них не
наблюдается ни нужды, ни излишков, но вое у них общее, как у братьев...
Они не живут все в одном городе, но во всех городах у них есть
особенные дома, и откуда бы ни приходили к ним люди, принадлежащие
к их ордену, они делятся с ними своим имуществом, так что пришедшие
могут пользоваться им как своим собственным. Они быстро сближаются
между собою, хотя бы никогда не видали друг друга, и поступают так,
как будто всю свою жизнь стояли в самых близких отношениях. Если они
путешествуют по стране, то не берут с собою ничего, кроме оружия
против разбойников. В каждом городе у них есть человек, заботящийся
о гостях; он раздает приходящим извне одежду и средства для жизни...
Они не ведут торговли между собою, но если кто-нибудь дает что-либо
587
нуждающемуся, то, в свою очередь, получает от него то, в чем нуждается
сам. И если бы даже у него не. было ничего, чем он мог бы вознаградить
дающего, все же он безбоязненно может просить у кого хочет и что>
ему надо».
Сначала христиане тоже стремились к проведению полного
коммунизма. В евангелии Матфея (19, 21) Иисус говорит богатому ученику:
«Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай
нищим», В «Деяниях апостолов» первая иерусалимская община
описывается (4, 32, 34) следующим образом: «И никто ничего из имения своего
не называл своим, яо все у них было общее... Не было между ними
никого нуждающегося, ибо все, которые владели землями или домами,
продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов;
и каждому давалось, в чем кто имел нужду». Анания и Сапфира,
желавшие утаить от общины часть своих денег, были наказаны за это от бога,
как известно, смертью.
На практике этот вид коммунизма сводился к тому, что средства
производства превращались в средства потребления, и выручка
раздавалась бедным. Но если бы такая программа нашла полное, всеобщее
осуществление, это привело бы к окончательной гибели всякого
производства. Как бы мало ни забогились первые христиане, настоящие
философы нищеты, о производстве, они не могли не понять, что на таком
фундаменте невозможно построить более или менее широкое общество,
рассчитывающее на продолжительное существование.
Тогдашнее состояние производства требовало частной
собственности на средства производства, и христиане ничего не могли с этим
поделать. Следовательно, они должны были стремиться к примирению-
частной собственности и коммунизма...
Соединение частной собственности и коммунизма произошло таким
образом: в распоряжении каждого члена общины оставили его
собственность, именно собственность на средства производства, и требовали уже
просто коммунизма потребления, т.-е. коммунизма в потреблении средств-
существования.
Конечно, в теория нет этого различения: тогда не было такого-
ясного разграничения экономических категорий. Но к этому все больше
склонялась практика.
Собственникам предоставлялось сохранять и пользоваться
принадлежащими им средствами производства, прежде всего земельной
собственностью. Но вое средства потребления, — средства пропитания,
одежда, жилище, а также деньги, на которые можно купить средства
потребления, — все эти средства, принадлежащие собственникам или
приобретаемые ими, должны быть предоставлены в распоряжение
христианской общины...
Легко переносимые с места на место средства существования, равно
как и деньги, приносились в общину, которая избирала особое лицо,
заведующее распределением этих даров.
Признание частной собственности, хотя бы частичное, проложило
брешь в том полном коммунизме, к которому стремилось христианства
при своем возникновеяии. Но ему предстояло подвергнуться и
дальнейшим смягчениям.
В евангелии Матфея Христос говорит (19, 20): «Всякий, кто
оставит дома или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или
детей, или земли ради имени моего, получит во стократ и наследует
жизнь вечную». И в евангелии Луки Христос восклицает: «Если кто
588
приходит ко мне, и не возненавидит отца своего или матери, и жены, и
детей, и братьев, и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может
быть моим учеником».
Для всех первоначальных христианских общин характерно
стремление хотя бы до некоторой степени упразднить семейную жизнь.
Поэтому мы находим у них то установление, что ежедневные трапезы
у них общие (сравн. «Деяния апостолов», 2, 46). Эти вечери, агапии,
соответствуют общим трапезам, сисситиям спартанцев и государства
Платона. Они были необходимым последствием коммунизма средств
потребления.
Выше мы уже говорили, что христианство не могло преодолеть ни
мелкого производства, ни частной собственности на средства
производства. Но с такими формами производства и собственности стоит в
необходимой связи моногамная семья, не только в качестве формы
совместной жизни мужчины и женщины, родителей и детей, но и как
хозяйственная единица. Христианство не могло создать нового способа
производства: поэтому оно было вынуждено допустить существование и
традиционной формы семьи, как ни противоречила она коммунизму
потребления. Характер общества в последнем счете определяется не
организацией потребления, а организацией производства. Принципиальное
отрицание семьи и брака было так же несовместимо с распространением
христианства в обществе, как и последовательный коммунизм.
Последовательность в уничтожении семьи могла соблюдаться только в отдельных
сектах и корпорациях; ей никогда не удавалось получить всеобщее
распространение.
Опять казалось, что материальные отношения сильнее идей; они
господствуют над идеями. И церковь неминуемо должна была
приспособить свои учения к условиям, изменившимся благодаря ее
распространению. Так как невозможно было уничтожить коммунистическую
традицию, то старались устранить ее истолкованием и примирить с
действительностью посредством хитрых изощрений соответствовавших
тогдашней философии, занимавшейся больше мудрствованием, чем
исследованиями.
При своем позднейшем развитии христианство отказывается от
решения проблемы бедности, от уничтожения различий между богатыми
и бедными. Первые христианее еще утверждали, что ни один богатый не
может войти в царствие небесное, т.-е. быть принятым в их общество,
есля не раздаст всего своего состояния бедным и сам не превратится
в бедного: спастись могут только бедные. Теперь же эти чисто
материальные условия посредством истолкований превращаются в духовные
отношения.
Но и в такой смягченной форме христианство в течение .столетий
достигало еще значительных результатов в борьбе с пауперизмом.
Правда, оно не устранило пауперизма, но все же оно было организацией
которая с наибольшим успехом смягчала нищету, выраставшую в ее
сфере из бедности масс. И, быть может, в этом лежит важнейшая
причина успехов христианства.
Однако, чем сильнее делалось христианство, тем бессильнее
становилось оно по отношению к тем самым социальным проблемам, из
которых оно черпало свою мощь. Мало того, что христианство оказалось
неспособным положить конец тем различиям классов, которые оно
встретило при своем возникновении: с возрастанием своей силы и своего
господства оно само порождало новые классовые противоположности.
589
В церкви слагался господствующий класс — клир, в подчинении у кото»
рого стояла масса народа — миряне.
Первоначально в христианской общине господствовало полное
самоуправление. Во главе ее стояли доверенные люди, епископы и
пресвитеры, избиравшиеся членами общины из своей среды и подотчетные ей.
Они не извлекали никаких выгод из своей должности.
Но когда отдельные общины стали обширнее и богаче, задачи,
возлагавшиеся на представителей, возросли настолько, что сделалось
невозможным выполнять их, между прочим, наряду с мирскими делами.
На сцену выступило разделение труда, должности в христианских
общинах составили особенную профессию, которая «требовала уже всего
человека. Церковные имущества теперь уже не могли употребляться
исключительно на поддержку бедных, из них приходилось покрывать
расходы по управлению церковью и расходы на здания для собраний
и на содержание должностных лиц в общине.
Но кто составлял главную массу в общине? Пролетарии-босяки
или работающие пролетарии, очень близкие к пролетариату босяков по
своему социальному положению, а потому и по умственному складу.
Такие элементы никогда не были в состоянии удержать за собой власть,
которая дается им демократическим строем. Они не могли достигнуть
этого в церкви точно так же, как в республике. Они продали и потеряли
ее в пользу епископа, как в Римской республике продали и потеряли
в пользу цезаря.
Епископ должен был управлять собственностью своей церкви,
т.-е. своей общины, и указывал способ употребления церковных доходов.
Это отдавало в руки епископа огромную силу по отношению к
пролетариату босяков; она возрастала параллельно с возрастанием церковных
богатств. Епископы становились все независимее от своих избирателей,
а избиратели — все зависимее от епископов.
В то же время отдельные общины, которые первоначально были
вполне самостоятельными, все теснее сливались в один великий союз,
в общую церковь. Тождество воззрений и целей и одинаковые гонения
уже давно побуждали отдельные общины вступать во взаимные сношения
при помощи посланий и делегатов. Уже к концу второго столетия связь
многих церквей в Греции и Азии стала настолько тесной, что церкви
отдельных провинций объединились в более прочные союзы; верховной
инстанцией в них были съезды (соборы) доверенных людей, синоды
епископов. Синоды значительно ограничили самоуправление отдельных
общин, и, напротив, содействовали возвышению епископов над членами
общин.
Наконец, все христианские общины Римской империи слились
в один союз, и уже в четвертом веке нашей эры созываются синоды
(соборы) из представителей всей империи (первый — в 325 году в Никее),
В синодах главная роль принадлежала епископам, являвшимся
представителями самых богатых и сильных общин. Таким образом, во
главе западного христианского мира оказался, наконец, римский епископ.
Развитие власти епископа совершалось не без большой борьбы и
столкновений, — не без борьбы с государственной властью, которая не
хотела допустить, чтобы в государстве возникло новое государство, не без
борьбы между отдельными организациями и внутри организации, между
народом и клиром. В столкновениях последнего рода победа оставалась
обыкновенно на стороне клира. Уже в третьем веке за народом почти
повсюду осталось право утверждения церковных чиновников; они выде-
590
лились в замкнутую корпорацию, которая сама пополнялась и по своему
усмотрению распоряжалась церковными имуществами.
С того времени церковь превратилась в такую организацию внутри
Римской империи, которая открывала для честолюбивых людей
возможность самой блестящей карьеры. Когда политическая жизнь замерла,
политическая карьера сделалась невозможной; военная служба почти
исключительно предоставлялась наемникам-варварам, искусства и науки
влачили жалкое существование, и государственное управление все более
закостеневало и разлагалось. Теперь только в церкви сохранились
жизнь и движение; при помощи церкви скорее всего можно было
достигнуть общественной силы. Почти все энергичные, интеллигентные
элементы языческого мира обращались в христианство, а в христианстве
избирали церковную карьеру. Церковь, оказавшаяся непобедимой в борьбе
с государственной властью, сама начала подчинять себе эту власть.
В начале четвертого века ловкий претендент на корону, Константин,
уже видел, что победа суждена тому, кто расположит к себе
христианского бога, т.-е. тому, кто установит добрые отношения с христианским
клиром. Благодаря ему, христианство сделалось господствующей,
а вскоре вслед за тем и единственной религией в Римской империи.
С того времени возрастание имуществ пошло с чрезвычайной быстротою.
Императоры и частные лица соперничали между собою, стараясь
подарками купить благоволение новой общественной силы. О другой стороны,
необходимость все более заставляла императора поручать церковной
бюрократии заведывание целым рядом государственных и
муниципальных дел, выполнение которых было не под силу для разлагающейся
государственной бюрократии... В вознаграждение за услуги по
управлению императоры должны были предоставлять церкви определенные
источники доходов.
Первоначально, дары, приносимые церкви членами общины, были
совсем добровольными. Но с того времени, как церковь стала
пользоваться защитой государственной власти, она начала стремиться
к регулярным поборам. Была введена десятина, которая взыскивалась
сначала при помощи моральных воздействий, а потом и с помощью
принуждения.
Церковь сделалась теперь чрезвычайно богатой, а ее клир достиг
полной независимости от мирян. Неудивительно, что по мере
возрастания церковных имуществ клир все более переставал заведывать ими
в интересах бедноты. Клир употреблял их для себя; жадность и
расточительность вторглись в церковь, особенно в таких богатых общинах,
как Рим, Константинополь, Александрия и т. д. Из коммунистического
учреждения церковь превратилась в самый исполинский механизм для
эксплоатации, какую только видел мир. Уже в пятом веке в римской
церкви установился прочный обычай разделять церковные доходы на
четыре части. Одна принадлежала епископу, одна — его клиру, одна —
служила потребностям культа (постройка и содержание храмов и т. п.), и
только одна выпадала на долю бедных. Следовательно, все бедные
получали как раз столько же, сколько один епископ.
В высшей степени вероятно, что и такое распределение было
установлено не в интересах клира, а для защиты бедных, — с той целью,
чтобы господа пастыри душ не употребляли все церковные имущества
исключительно на себя.
Однако, невозможно было задушить коммунистические идеи
христианства, пока сохранялись породившие их общественные отношения.
691
Во все время существования Римской империи и в эпоху переселения
народов церковные имущества считались собственностью бедных, и
никакой учитель церкви, никакой собор не решился бы отрицать это.
Конечно, расходы по управлению церковными имуществами были
чрезвычайно высоки; иногда они поглощали все доходы, но такова уж
особенность большинства благотворительных учреждений. И, однако, никто
не стал бы утверждать, что заведующие суть собственники имуществ
благотворительных учреждений.
Возможность сделать этот последний шаг, представляющий полное
отрицание коммунистического начала церкви, открылась лишь после
того, как вторгшиеся германцы дали для римского мира, а с ним и для
церкви, основы совершенно нового общественного строя.
(«Предшественники новейшего социализма», т. I).
*
Как у ессеев, так и у христиан, коммунизм в своем исходном пункте
представлял коммунизм средств потребления, он выражался ярче всего
в совместном потреблении. Но в деревне и теперь еще, а тогда еще
в большей степени, потребление и производство были тесно связаны друг
с другом. Производство являлось тогда производством для собственного
потребления, а не для продажи. Земледелие, скотоводство и домашнее
хозяйство представляли одно нераздельное целое. Конечно, в области
сельского хозяйства было возможно тогда и крупное производство, и оно
было в техническом отношении выше мелкого постольку, поскольку оно
допускало большее разделение труда и лучшее использование отдельных
орудий и строений. Правда, эти выгоды вполне компенсировались
невыгодами рабского труда. Но если рабовладельческая плантация была
тогда преобладающей формой крупного производства в сельском
хозяйстве, то все же она не была единственно возможной формой его.
Крупное хозяйство в той его форме, в которой оно велось большими
крестьянскими семьями, известно было уже на первых стадиях развития
сельского хозяйства и в эпоху Христа было уже распространено всюду, где
рабство не вытеснило свободных крестьян. Ессеи также устраивали
большие кооперативные предприятия в сельском хозяйстве. В
деревенском уединении они создавали большие, похожие на монастыри,
поселения, как, например, то поселение у Мертвого моря, где они, как
сообщает Плиний («Естественная история», кн. 5), «жили в обществе пальм».
Но способ производства всегда является в последнем счете
решающим фактором для данных общественных учреждений. Только те из них,
которые имеют корни в способе производства, могут приобрести прочность
и силу.
Если общественное или кооперативное сельское хозяйство было
еще возможно в эпоху возникновения христианства, то, наоборот,
совершенно отсутствовали предварительные условия, необходимые для
развития кооперации в городской промышленности. Поскольку последняя
существовала, рабочие в ней были рабами или свободными
ремесленниками, работавшими у себя на дому. Такие крупные предприятия с
свободными рабочими, какими являлись большие крестьянские семьи, в
городе были едва известны. Рабы, ремесленники, носильщики, затем
разносчики, лавочники, люмпенпролетарии — вот из кого состояли низшие
классы городского населения того времени, среди которых могли
развиться коммунистические тенденции. В этюй среде не было ни одного
592
фактора, при помощи которого можно было бы общность имущества
превратить в общность производства. С самого начала приходилось
ограничиваться общностью потребления. А эта общность, в свою очередь,
сводилась только к общим трапезам. Как на родине христианства, так
и в южной и средней Италии, одежда и жилище не играли особенно
большой роли. Что касается общности предметов одежды, то даже такой
крайний коммунизм, как еосейский, ограничился только попытками.
В этой сфере частная собственность неизбежна. А общность жилища
в больших городах тем труднее было осуществить, чем дальше лежали
друг от друга мастерские, где работали отдельные члены общины, и чем
сильнее была развита спекуляция на дома, требовавшая — в крупных
городах эпохи раннего христианства — больших сумм денег на
приобретение дома. Недостаток средств сообщения скучивал население на
маленьком пространстве и делал домовладельца деспотическим господином
всех жителей дома, которых он жестоко притеснял. Дома строились так
высоко, как это только допускала техника того времени, в Риме они
имели семь этажей и выше, а наемная плата за квартиру достигала
невероятной высоты. Поэтому городское домовладение было излюбленною
формой помещения капиталов для капиталистов того времени. Из трех
триумвиров, скупивших Римскую республику, Красе разбогател именно
путем спекуляции по постройке домов.
Конкуренция в этой области для пролетариев крупных городов была
немыслима. Уже одно это обстоятельство мешало им осуществить на
практике общность жилища. Кроме того, христианская община в эпоху
римской императорской власти, смотревшей очень подозрительно на
всякие союзы, могла существовать только как тайное общество. А общность
здилища легко могла повести к раскрытию всех таких обществ.
В силу всех этих причин христианский коммунизм для всей
совокупности членов общины мот принять только форму общей трапезы.
В евангелиях, даже для царства божия, т. е. для будущего
общества, принимаются в расчет только общие трапезы. Это единственное
блаженство, которое ожидается, и оно, очевидно, больше всего занимало
ранних христиан.
Но если эта форма ограниченного коммунизма имела большое
значение для свободных пролетариев, то она не имела почти никакого
значения для рабов, которые обыкновенно причислялись к семье своего
господина и — часто очень скудно — кормились за его столом. Только
немногие рабы жили вне дома, как, например, те, которые имели в
городе лавку, где они продавали продукты, привозимые из поместья
господина.
Поэтому, для рабов мессианские чаяния, надежда на царство
всеобщего блаженства, имели несравненно большую притягательную силу,
чем практический коммунизм, который был возможен только в
формах, имевших для них очень мало значения, пока они оставались
рабами...
Христианство — по крайней мере, со времени разрушения
Иерусалима— уже не давало рабам надежды на освобождение. А его
практический коммунизм, в свою очередь, только в редких случаях обещал
рабам реальные выгоды. Единственное, что могло их еще привлечь,
это — равенство «пред богом» или, говоря иначе, внутри общины, где все
члены имели одинаковое значение, где раб, во время общей трапезы, мог
сидеть рядом со своим господином; если последний также принадлежал
к общине.
Г. Гурев 38
593
Калликст, христианин—раб христианина-вольноотпущенника, стал
даже римским епископом (215 — 222).
Но и эта форма равенства не могла уже иметь тогда большого
значения. Вспомним, как сильно приблизились свободные пролетарии
к рабам, из которых они тогда так часто рекрутировались, и как, с
другой стороны, рабы императоров достигали высоких должностей в империи
и окружены были часто лестью аристократов
Что христианство, при всем ето коммунизме и пролетарском
характере, не в состоянии было справиться с рабством даже в собственных
рядах, показывает только, как глубоко оно коренилось в «языческой»
древности, несмотря на всю свою враждебность к ней, и как сильно этика
подчиняется господствующему способу производства. И точно так же.
как помирилась с рабством декларация прав человечества,
провозглашенная американцами, боровшимися за свою независимость, так
мирились с ними всеобъемлющая любовь к ближнему, братство и равенство
всех пред богом мессианской общины. Христианство в первой своей
стадии было преимущественно религией свободного пролетариата,
а между последними и рабами, несмотря :на все сближение, в античном
мире всегда существовало различие интересов.
Уже с самого начала свободные пролетарии преобладали в
христианской общине, так что интересы рабов не всегда находили в ней
должное внимание. А это, в свою очередь, вело к тому, что
притягательная сила общины для рабов была меньше, чем для свободных
пролетариев, и, таким образом, преёбладание последних укреплялось еще больше.
В том же направлении действовало и экономическое развитие.
Как раз тогда, когда революционным тенденциям в христианской общине
нанесен был смертельный удар, а именно после разрушения Иерусалима.
для Римской империи, как мы уже видели, началась новая эпоха, эпоха
всеобщего мира — внутреннего мира, но также большей частью и
внешнего мира — так как сила расширения римского могущества к тому
времени уже истощилась. Но война — гражданские войны в такой же
степени, как и завоевательные — являлась источником для добывания
дешевых рабов. Теперь это прекратилось. Раб стал редкой и дорогой
вещью, рабское хозяйство уже больше не рентировалось, в сельском
хозяйстве рабство было замещено колонатом, а в городской
промышленности — свободным трудом. Из орудия производства предметов
необходимости раб все больше превращался в предмет роскоши. Главной
функцией рабов являлось теперь личное услужение у знатных и богатых.
Психология рабов таким путем все больше сближалась с психологией
лакеев. Времена Спартака давно уже миновали.
Противоположность между рабами и свободными пролетариями,
таким образом, увеличивалась все больше, в то время, как число первых
уменьшалось, а число вторых в крупных городах все больше росло. Обе
эти тенденции должны были еще больше оттеснить на задний план
рабский элемент в христианской общине. Неудивительно, что
христианство, в конце концов, перестало обращать особенное внимание на рабов.
Это развитие является вполне понятным, если в христианстве мы
видим продукт особенных классовых интересов. Оно становится
непонятным, если мы рассматриваем его только как продукт идейной
эволюции. Иначе логическое развитие его основных идей должно было
привести к уничтожению рабства. Но логика до сих пор во всемирной
истории всегда еще останавливается перед классовыми интересами.
(«Происхождение Х'ригтиадп на»).
594
Ф. Энгельс
ХРИСТИАНСКОЕ УЧЕНИЕ О РАВЕНСТВЕ
Представление о том, что все люди, как таковые, имеют нечто общее
и в пределах этого общего равны между собой, разумеется, очень старо.
Но оно совершенно отлично от современною требования равенства;
последнее состоит преимущественно в том, что из этих общих свойств
человеческого естества, из этого равенства людей, как таковых, вывести
право на равное политическое и социальное значение этих людей, или
по крайней мере всех граждан одного государства, или всех членов
общества. До того времени, когда из первоначального представления об
относительном равенстве сделан был вывод о равноправии в государстве и
обществе, когда такой вывод мог казаться даже естественным и сам собой
понятным, должны были пройти и прошли целые тысячелетия. В
старейших примитивных обществах могла быть речь о равноправии одних
только членов общины; считалось само собой понятным, что оно не
распространяется на женщин, рабов, чужих и т. д.; у греков и римлян
неравенства между людьми значительно преобладали над всяким
равенством.
Что греки и варвары, свободные и рабы, граждане и вассалы,
римские граждане и римские подданные (в более широком смысле) будто бы
должны пользоваться одинаковым политическим значением — такое
притязание показалось бы древним, конечно, безумным. В эпоху Римской
империи все эти различия мало-по-малу исчезли; осталось лишь
неравенство между свободными и рабами; таким образом, создалось, по крайней
мере, для свободных то равенство частных людей, на основе которого
развилось римское право — это наиболее совершенное выражение
покоящегося на частной собственности права, какое мы только знаем. Но пока
существовала противоположность между свободными и рабами, не могло
быть и речи о юридических выводах из всеобщего человеческого равенства:
мы недавно наблюдали это в рабовладельческих штатах
Северо-Американского Союза.
Христианство знало только один вид равенства всех людей,
вытекавший из равной греховности всех, что совершенно соответствовало
всему характеру христианства как религии угнетенных и рабов. Наряду
с этим, оно самое большее, признавало еще равенство избранных, которое
подчеркивается, однако, лишь в самый ранний период возникновения
христианства. Следы общности имуществ, которые также встречаются
на заре новой релитии, следует приписать скорее солидарности
преследуемых, чем действительным идеям равенства. Очень скоро установление
противоположности между духовными и мирянами положило конец и
этой черте христианского равенства. Затем наводнение Западной Европы
германцами рассеяло на целые столетия всякие представления о
равенстве, вследствие сооружения такого сложного социального и
политического подразделения по рангам, какого ранее никогда не существовало;
но вместе с тем это событие вовлекло Западную и Среднюю' Европу в
историческое движение, создало впервые компактную культурную область,
а в этой области — впервые систему взаимодействующих и угрожающих
друг другу преимущественно национальных государств. Таким образом,
была подготовлена почва, на которой впоследствии только и могла быть
речь о человеческой равноценности и правах человека.
(«Анти-Дюрпнг»).
38*
595
К. Каутский
ХРИСТИАНСТВО В ЕВРЕЙСКОМ И В ЯЗЫЧЕСКОМ МИРЕ
Первая коммунистическая христианская община организовалась
з Иерусалиме. Но вскоре возникли общины и в других городах с
иудейским пролетариатом. Между Иерусалимом и другими частями римской
империи, именно восточной половиной ее, поддерживались самые
оживленные сношения, уже при помоши хотя бы сотен тысяч, быть может,
даже миллионов пилигримов, которые из года в год направлялись в
Иерусалим. А многочисленные неимущие тунеядцы, без семьи и крова,
непрерывно кочевали с места на место, как они это делают и теперь в
восточной Европе, оставаясь на каждом новом месте, пока не истощалась
благотворительность.
Апостолами считались все странствующие агитаторы новой
организации, а не только те двенадцать, имена которых известны нам по
преданию, как людей, которым Иисус поручил возблаговестить его учение.
При этом, повидимому, добрые апостолы в некоторых общинах остава-
лишь слишком долго и обременяли их требованием денег. И именно эти
«тунеядцы и заговорщики», исполненные, как им казалось, священного
духа, распространяли основы новой пролетарской организации, именно
они несли «благую весть», евангелие, из Иерусалима в соседние
иудейские общины, а затем все больше и дальше, до самого Рима. Но как
только евангелие покинуло почву Палестины, оно попало в совершенно
новую социальную среду, которая придала ему совершенно другой
характер.
Наряду с членами иудейских общин, апостолы встретили там
находившихся с ними в самом тесном общении иудейских «попутчиков»,
«боящихся бога» язычников, которые поклонялись иудейскому богу,
посещали синагогу, но не решались проделывать все иудейские обряды.
В лучшем случае они еще соглашались на церемонию купания,
крещения; но они и слышать не хотели об обрезании и отказывались
признавать законы о пище, субботний отдых и другие внешние формы ритуала,
которые слишком резко отделили бы их от их «языческой» среды.
Социальное содержание евангелия должно было в пролетарских
кругах привлекать таких «боящихся бога язычников». Через их
посредство оно проникло и в другие неиудейокие пролетарские слои, где
создавалась благоприятная почва для учения о распятом мессии, поскольку
это учение возвещало социальное обновление и организовало учреждения
взаимопомощи. Напротив, эти круги относились ко всему специфически
иудейскому не только отрицательно, но даже с антипатией и с
насмешкой.
Чем больше распространялось новое учение в иудейских общинах
вне Палестины, тем яснее становилось, что оно в бесконечной степени
увеличило бы свою пропагандистскую силу, если бы оно отказалось от
своих специфических иудейских особенностей, если бы оно перестало
быть национальным и сделалось исключительно социальным.
Первый признал это и энергично начал отстаивать новый взгляд
Савл, иудей, который, по сохранившемуся преданию, был родом не из
Палестины, а из иудейской общины греческого города Тарса, в Киликии.
Примкнув к христианской общине, он сейчас же выступил в ней
революционером по отношению к традиционному взгляду и горячо настаивал,
чтобы велась пропаганда нового учения среди неиудеев и чтобы от по-
596
«ледних не требовали перехода в иудейство. Для его тенденций
характерна перемена иудейского имени Савла йа латинское имя Павла. Такая
перемена имени охотно практиковалась иудеями, которые желали до-
#и!ъся известного значения в неиудейсжих кругах.
Чем больше возрастало число язычников-христиан, тем решительнее
они восставали против обрезания и других еврейских обычаев и законов.
А вместе с этим увеличивалась противоположность между ними и иудео-
христианами.
Чем больше продолжало существовать это разногласие, чем больше
становилась плоскость трения между обоими направлениями, тем
враждебнее стали они по 'отношению друг к другу. Эта противоположность
усиливалась еще больше вследствие обострения отношений между
иудейством и народами, среди которых оно жило в течение последних
десятилетий до разрушения Иерусалима.
Именно, пролетарские элементы в иудействе, в особенности в
Иерусалиме, относились все с большей ненавистью к неиудейским народам
и, главным образом, к римлянам. Римлянин — это самый жестокий
угнетатель и эксплоататор, его худший враг, а эллин был союзником
римлянина. Поэтому вое, что отличало от них иудеев, подчеркивалось теперь
больше, чем когда-либо. И вполне понятно, что те, кто придавал главное
значение пропаганде среди иудейства, уже в силу агитационных
соображений, отстаивали бодее резкое выделение иудейских особенностей,
строгое соблюдение всех иудейских постановлений, к чему они уже с самого
начала склонялись под влиянием иудейской среды.
Но вместе с ростом фанатической ненависти иудеев к утнетавшим
их народам, увеличивались и среди последних антипатия и отвращение,
которые испытывали по отношению к иудеям массы. А это, в свою очередь,
приводило к тому, что язычники-христиане и их агитаторы не только
вое больше требовали освобождения от иудейских постановлений, но и
подвергали их все более резкой критике. Противоположность между
иудео-христианами и язычниками-христианами вызывала у последних все
большую враждебность к иудейству. Но вера в мессию, а также в
распятого мессию, слишком глубоко срослась с иудейством, чтобы явычники-
христиане могли совершенно отрицать последнее. От иудейства они
переняли все мессианские пророчества и другие подтверждения
мессианских чаяний и в то же время выступали все более враждебно по
отношению к нему.
Известно, какое значение придавали евангелия происхождению
Иисуса от Давида, и к каким удивительным натяжкам приходилось
прибегать, чтобы место рождения галилеянина оказалось именно в
Вифлееме. Снова и снова цитируют они различные места из
священных иудейских книт, чтобы доказать мессианскую миссию Иисуса.
Он сам протестует против обвинения, что он хочет нарушить
иудейский закон.
«Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков: не
нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам: доколе не
прейдет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не прейдет из закона,
пока не исполнится все» (Матфей, У, 17).
Своим ученикам Иисус говорит:
«На путь it язычникам не ходите, и в город самарянский не входите.
А идите наипаче к погибшим овнам дома Израилева» (Матфей, X, 6).
Здесь пропаганда вне иудейства прямо запрещается. Аналогично,
хотя мягче, высказывается Иисус у Матфея в ответе одной финикиянке
597
(у Марка — гречанке, но родом сирофиникиянке). Она обратилась
к Иисусу со следующими словами:
«Помилуй меня, господи, сын Давидов! Дочь моя жестоко
беснуется. Но он не отвечал ей ни слова. И ученики ею, приступивши,
просили его: отпусти ее, потому, что кричит за нами. Он же сказал
в ответ: я послан только к погибшим овцам дома Израилева. А она, подо-
шедши, кланялась ему и говорила: господи! помоги мне. Он же сказал
в ответ: не хорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Она сказала: так,
господи! но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их. Тогда
Иисус сказал ей в ответ: о, женщина! велика вера твоя, да будет тебе
по желанию твоему. И исцелилась дочь ее в тот час» (Матфей, XY, 21—28).
Иисус дает себя в этом случае уговорить. Но вначале он очень
демилоотив к гречанке и только потому, что она не иудейка, хотя она
называет его, в духе иудейской* веры в мессию, сыном Давида.
Также иудейски звучит обещание Иисуса своим апостолам, что они
в 'будущем царстве будут восседать на двенадцати тронах и судить
двенадцать -колен Израиля. Эта перспектива могла казаться очень
привлекательной только иудею, да и то иудею в самой Иудее. Для пропаганды
среди язычников она не имела никакого значения.
Но если евангелия сохранили такие сильные следы иудейского
мессианизма, то рядом с ними мы встречаем такие же сильные взрывы
денависти к иудейству, воодушевлявшей их авторов и редакторов,
йисус на каждом шагу полемизирует против всего, что было особенно
дорого благочестивому иудею, против постов, против законов о пище,
против 'субботы.
Язычников он ставит выше иудеев.
«Потому сказываю вам, что отнимается от вас царство божие и дано
будет народу, приносящему плоды его» (Матфей, XXI, 43).
В другом месте Иисус просто проклинает иудеев.
«Тогда начал он укорять города, в которых наиболее явлено было
чудес его, зато, что они не покаялись. Горе тебе, Хоразин! Горе тебе,
Вифсаида! ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были чудеса, явленные
в вас, то давно бы они во вретище и пепле покаялись. Но говорю вам:
Тиру и Оидону отраднее будет в день суда, нежели вам. И ты, Капернаум,
до неба вознесшийся, до ада низвергнешься, ибо если бы в Сидоне явлены
были чудеса, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня. Но говорю
вам, что земле Содомской отраднее будет в день суда, нежели тебе»
(Матфей, XI, 20—24).
Слова эти дышат ненавистью к иудеям. В них говорит уже не одна
секта в иудействе против другой секты в среде тбто же народа. Нет, вся
иудейская нация, как таковая, клеймится как низшая в моральном
отношении, выставляется как особенно злобствующая и закоренелая
нация.
Это же настроение замечается и в евангельских пророчествах
относительно разрушения Иерусалима, скомпанованных, конечно, после этого
события.
Иудейская война, раскрывшая таким неожиданным образом для
римлян всю силу и опасность иудейства, этот бешеный взрыв дикого
отчаяния, довела противоположность между иудейством и язычеством до
крайней степени: она произвела такое же действие, как в XIX столетии
июньская бойня и Парижская коммуна на классовую ненависть между
пролетариатом и буржуазией. Все это углубило пропасть между иудео-хри-
стианами и язычниками-христианами и все больше лишало иудео-хри-
59S
стщнство почти всякой опоры. Разрушение Иерусалима лишило само-
стоятельное классовое движение иудейского пролетариата его основы.
Такое движение предполагает независимость народа. Со (времени
разрушения Иерусалима, иудеи -существовали только на чужбине, среди
врагов, которые ненавидели и преследовали всех их одинаково, богатых и
бедных без различия, и заставляли их держаться вместе. Милосердие
дмущих к бедным соплеменникам достигло, поэтому, в иудействе
высокой степени развития, чувство национальной солидарности во многих
случаях побеждало классовую вражду. Так, иудео-хриотианство теряло
свою пропагандистскую силу. Христианство с того времени становится
,все больше языческим христианством, все больше превращаясь из партии
в иудействе в партию вне иудейства, и даже в противоположность
иудейству; христианство и иудофобство становились все больше
тожественными понятиями.
Но вместе с падением иудейского государства- потерял всякую почв^
и иудейский национальный мессианизм. Он мог еще сохранить некоторое
практическое значение, он мог еще вызвать несколько предсмертных
судорог национального отчаяния, но гибель иудейской столицы нанесла
ему смертельный удар, как реальному фактору политического и
социального развития.
Но это; не имело никакого значения для мессианских чаяний
язычников-христиан, которые отмежевались от иудейской национальности,
и которых не затронула ее судьба. Свою жизнеспособность мессианская
идея сохраняла только в форме идеи распятого мессии, в форме вне-
иудейского, переведенного на греческий язык мессии, христа.
Да, христиане сумели даже превратить трагическое событие,
означавшее банкротство иудейских мессианских чаяний, в торжество своего
мессии. Иерусалим стал теперь врагом христа, разрушение Иерусалима
являлось теперь местью христа иудейству, страшным доказательством
его победоносной силы. Лука рассказывает о -въезде Иисуса в Иерусалим:
«И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем.
И сказал: о если бы и ты хотя в сей сбой день узнал, что служит к миру
твоему! Но сие сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни.
рогда враги твои обложат тебя окапами, и окружат тебя, и стеснят тебя
отовсюду. И разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе
камня на камне за то. что ты не узнал времени посещения моего» (Лука.
XIX, 41 —44).
Сейчас же вслед за этим Иисус снова заявляет, что дни разрушения
Иерусалима, для гибели «беременных и питающих сосцами матерей»
будут «дни отмщения» (Лука, XXI, 22).
Но разрушение Иерусалима имело еще и другие .последствия для
христианского мышления: христианство с .этих пор приобретает мирный
характер. Только у иудеев сохранилась еще в начальный период
императорского Рима сильная демократия. Другие народы того времени
сделались уже неспособными к борьбе и трусливыми, а также и пролетарии
среди них. Разрушение Иерусалима уничтожило в римской империи
последний оплот демократии. В'сякое восстание было осуждено теперь
да неудачу. И христианство становилось с тех пор все больше языческим
христианством, оно делалось все более покорным, даже рабски
послушным.
Но повелителями в империи были римляне. Прежде всего нужно
был» приобрести их расположение. Если первые христиане были
пламенными иудейскими патриотами и врагами чужеземного господства и экспло-
590
атащт, то христиане-язычники присоединили к иудофобству почитание
Рима и императорской власти. Эта новая черта нашла себе выражение
3 евангелиях. Возьмем хотя бы известный рассказ о провокаторах, ко-
д>рых подослали к Иисусу «книжники и первосвященники», чтобы
поймать его в государственной измене.
«И, наблюдая за ним, подослали сыщиков, которые, притворясь
праведными (т. е. последователями Иисуса), уловили бы его на каком-
либо слове, чтобы предать его начальству и власти правителя. И они
спросили его: учитель! мы знаем, что ты правдиво говоришь и учишь,
и не смотришь на лицо, но истинно пути божию учишь. Позволительно
ли нам давать подать кесарю или нет? Он же, уразумев лукавство их,
сказал им: что вы меня искушаете? Покажите мне динарий: чье на нем
изображение и надпись? Они отвечали: кесаревы. Он сказал им: и так
отдавайте кесарево кесарю, а божие богу» (Лука, XX, 20 — 25).
Итак, согласно этой своеобразной теории денег и финансов, монета
принадлежит тому, чье изображение и надпись она носит. Мы,
следовательно, возвращаем кесарю только назад его же деньги, когда мы даем
ему подати.
(«Происхождение христианства»).
Ф. Мерит
ПРЕВРАЩЕНИЕ ОБЩИНЫ БЕДНЫХ В МОГУЩЕСТВЕННУЮ
ОРГАНИЗАЦИЮ
При своем возникновении христианская религия не была ни
сверхъестественным откровением, как говорят верующие христиане, ни
махинацией обманщиков, как довольно часто утверждают буржуазные
просветители. Как мировая религия она скорее была продуктом греко-римского
мира, при чем духовные течения, давшие начало этой религии, возникли
из всеобщей расслабленности и отчаяния, овладевших умами среди
страшного падения римской империи. Воздействовали же эти идеи в
особенности на те слои общества, которые глубже всего затягивались
пучиной нищеты, т. е. наиболее живучими они были среди рабов.
Христианство отказалось от всяких обрядностей; широко распространенное
чувство, что сами люди несут вину за всеобщий упадок, оно превращало
в отчетливое сознание каждого человека; в то же время жертвенной
смертью своего основателя оно давало общепонятную форму чаемого всеми
внутреннего избавления от порочного мира. Воем эти обусловливалось его
способность превратиться в мировую религию.
От скюрбей настоящего первые христиане искали прибежища в
надеждах на будущее, в ожиданиях тысячелетнего царства, которое христос
создаст на земле. Но когда христианская религия перестала быть верой
несчастных и угнетенных, когда она сделалась верой сильных и богатых,
официальная церковь стала недоверчиво относиться к хилиазму: в
ожиданиях блаженного царства на земле она дочувствовала революционный
привкус и, чтобы дело было надежнее, перенесла царство небесное на
облака. Однако, как бы надежды на тысячелетцее царство ни
господствовали в первые века христианства, тем не менее не они привели
христианство к победе, а в несравненно большей мере его деятельные старания
оказать помощь в величайшем социальном зле падающей империи —
600
гнете массовой бедности. Христианские общины сначала делали попытку
организации на коммунистических началах, но эти опыты не могли не
дотерпеть крушения. Но хотя христианство и не могло решить проблем
кассовой бедности и уничтожить имущественное неравенство, оно в своей
начальной стадии много делало в области практической борьбы с
массовой бедностью, чем не в малой мере был обеспечен его
всемирно-исторический успех.
Но раз новая религия вследствие крушения первоначального
христианского коммунизма оказалась неспособной преодолеть классовые
дротивоположности своего времени, то она в свою очередь вела к
развитию новой противоположности классов. Благодаря тому, что сила и
братство первых христианских общин все увеличивались, из их
неограниченного самоуправления вырос господствующий класс, духовенство, по
отношению к которому клас рядовых членов мало-по-малу попадал в подчи
ненное положение. Духовенство организовалось в замкнутую корпорацию,
которая была самопополняющейся корпорацией и по своему усмотрению
располагала церковным имуществом. А рука-об-руку с этим шло
сплочение первоначально совершенно самостоятельных отдельных общин в один
большой союз, в общую, имперскую церковь. И так как в этом союзе
господствующее положение занимали епископы, являвшиеся
представителями наиболее сильных и ботатых общин, то епископ Рима и оказался
в конце-концов во главе христианского мира. При этом христианская
церковь превратилась в организацию, которая, сосредоточив в себе вое,
что еще оставалось в античном мире интеллигентного и активного,
начала подчинять себе государственную власть и в конце-концов сделалась
господствующей религией в Римской империи.
Хотя духовенство стало управлять церковным имуществом уже не
в интересах бедных, а в своих собственных интересах, но в принципе и
в теории церковные имущества считались собственностью бедных, ибо
дельзя было в конец задушить коммунистические идеи христианства,
пока сохранялись социальные условия, породившие эти идеи. Это
положение изменилось лишь с того времени, как германские варвары вторглись
в Римскую империю и в связи с этим исчезла массовая бедность, как
общее явление. Правда, и в средние века было много массовой нищеты,
но источником ее были военные опустошения, неурожаи или эпидемии,
а не то обстоятельство, что люди были неимущими. Христианская
церковь сумела искусно приспособиться к этим новым условиям; из
благотворительного учреждения она превратилась в политическую
организацию. Церковные имущества окончательно перестали быть имуществом
бедных. В девятом веке появились исидоровы декреталии: собрание нагло
фальсифицированных церковных законов, которые должны были
обосновать притязания римских пап на мировое господство и которые легли
в основу их дальнейшей политики. Согласно этим декреталиям, под
бедными, достояние которых составляет имущество церкви, следует разуметь
только духовенство, давшее обет бедности. В двенадцатом веке эта теория
нашла последовательное завершение: папская власть заявила, что все
церковные имущества принадлежат ей, и каждый папа может располагать
ими по своему усмотрению.
Как политическая сила, римская церковь подчиняла себе все
средневековье. Она противостояла вторгающимся варварам как единственная
организация, которая еще сплачивала римское государство, как
представительница римского способа производства, который, несмотря на весь
упадок, все же был выше способа производства у завоевателей, как бы
601
ни превосходили они вырождающихся римлян морально и физически.
Церковь знакомила германцев с высшими формами земледелия; до
поздней эпохи средних веков монастыри оставались образцовыми
сельскохозяйственными учреждениями. Духовенство обучало германцев
ремеслам и искусствам. Церковь, насколько зависело от нее, содействовала
торговле. Вся наука средних веков сосредоточивалась в церкви; она
давала врачей, архитекторов., историков; она же — так как только здесь
и было уменье читать и писать — доставляла для новых королей
чиновников, без которых они не могли бы обойтись. С возрастанием власти
короля над народом росла и власть церкви над королем. Всякое
расширение государственной власти знаменовало усиление и церкви:
завоевание языческих стран совершалось в виде основания новых
епископий.
Конечно, церковь заставляла дорого оплачивать свои услуги. К ней
шла десятина — единственный общий налог, существовавший в средние
века. Но важнейшим источником власти в средине века была земельная
собственность, и средневековой церкви удалось захватить в свои руки
до меньшей мере третью часть всего землевладения. Церковь умела
использовать свою силу с большей прибыльностью, чем могли ее
использовать король и дворянство. Ее владения были наилучшим образом
возделываемые, наиболее плотно населенные, ее города — самые цветущие,
а потому доходы и сила, извлекаемые ею, были больше, чем доставляемые
королю или дворянству владениями равной величины. В
противоположность королю и дворянству, ей не приходилось большую часть своих
доводов затрачивать на военные дела; а если средневековым аббатам,
епископам все же довольно часто приходилось участвовать в войнах, они.
во всяком случае, не были связаны с войной в такой мере, как светские
сеньоры. Поэтому у них не было нужды так взвинчивать эксплоа-
тацию своих вассалов и крепостных; по средневековой поговорке,
хорошо было жить под жезлом епископа — так назывался знак его
должности.
Кроме всего этого, церковь могла до известной степени
поддерживать традиции, которые при ее возникновении сделали ее сильной. Так как
наибольшая часть ее доходов составлялась из продуктов в натуральной
форме, то, как бы ни роскошествовали сами духовные, их житницы всегда
были хорошо наполнены. Когда случалась война или неурожай, церковь
часть избытков из своих запасов могла давать нуждающимся, и она охотно
делала это, правильно оценивая, какую власть над массами населения
доставляет ей попечение о бедных.
В связи со всем этим в средневековой общественной организации
не было ни одного класса, который не был бы заинтересован в
поддержании церкви. Конечно, не все в одинаковой мере: у королевской власти
и дворянства было немало жестоких схваток с церковью. Тем не менее,
если они и стремились ограничить власть церкви, они не могли
помышлять и не помышляли о том, чтобы выступить вообще против существова-
лия церкви: это было бы равносильно нападению на само средневековое
общество. Церкви принадлежало господство над всей материальной, а
вместе с тем и над духовной жизнью средних веков. Она настолько срослась
со всей народной жизнью, что на целые столетия церковный строй
мышления превратился в своего рода инстинкт, которому слепо
следовали как закону природы, и что все проявления общественной
государственной и даже семейной жизни выступали в облачении
церковных форм.
<502
Германские племена, которые, как, напр., остготы и вандалы, хо-
;гвли основать свои государства на обломках римской империи, в
антагонизме с римской церковью, погибли. Напротив, на долю племени
франков, которое с самого начала основывало свое государство в союзе с
римской церковью, выпала гегемония на Западе, хотя оно отнюдь не
отличалось христианскими добродетелями, а, напротив, пользовалось наихудшей
репутацией среди германских племен. Король Хлодвиг, который в 496 году
присоединился к 'римской церкви, был одним из ужаснейших извергов,
каких только знает история. Король франков в союзе с главой римской
церкви объединил западно-европейский 'христианский мир в единое тело
с двумя головами, светской и духовной; это объединение против
напиравших со всех сторон врагов представляло безусловную необходимость, но
оно скоро повело- к самой ожесточенной борьбе между императорской и
падской властью, борьбе, бушевавшей на протяжении всех средних веков.
(«История Германии с конца средних веков»).
К. Каутский
СРЕДНЕВЕКОВАЯ ЦЕРКОВЬ И ЕЕ РАЗЛОЖЕНИЕ
Средневековая церковь представляла собой по преимуществу
политическую организацию. Расширение ее могущества означало также и
расширение государственной власти. Основание монархом епископии
в языческой стране вовсе не означало исключительного желания дать
язычникам возможность пользоваться всеми всломотагельньми
средствами для усвоения новой веры и молитвословия: ради этого Карл
Великий не стал бы разорять франкских крестьян и не истреблял бы
бесчисленных полчищ саксов, но и саксы, отличавшиеся, как и большинства
язычников, большой веротерпимостью, не стали бы ради этого оказывать
христианству упорного сопротивления, продолжавшегося целые
десятилетия и кончившегося полным их разорением и истощением. Основание
епископии в языческой стране было равносильно распространению там
римского! способа производства и поглощению этой отрады государством,
основавшим епиокопию.
Чем более германцы совершенствовались в производстве товаров,
которое ко времени паденмя римской империи стояло у них необычайно
низко, тем более государство и народ ощущали потребность в цеокви: она
была полезна тому и другому. Однако, мы не хотим этим сказать, что она
пользовалась своим положением исключительно в интересах тех
элементов, которые находились в ее зависимости, а не в своих собственных.
Напротив того, она заставляла дорого оплачивать свои попечения:
единственная общая подать, которую мы повсеместно встречаем в эпоху
средних веков, была «десятина» в пользу церкви. Однако, в эпоху средних
веков главнейшим источником могущества и доходов была, как мы уже
слышали, земельная собственность. Церковь обнаруживала такую же
жадность в своем стремлении захватить людей и земли, как это характерно
и для дворянства, и она также, подобно дворянству, старалась
приобретать землю и подчинять себе ее обитателей. Земельные угодья, которыми
церковь владела во времена римкжого владычества, она большей частью
сохранила и при германцах; а там, где она их потеряла, она сумела быстро
вновь завладеть ими и часто даже с излишком.
603
Церковь давала такую же защиту, как и дворянство, и даже, быть
может, лучшую; поэтому много крестьян подчинялось ей добровольно.
Церковь управляла, наконец, и самим государством, так как советниками
королей состояли духовные. Неудивительно, поэтому, что короли часто
поддавались этим советникам и уступали церкви коронное имущество.
В покоренных языческих странах значительное обеспечение монастырей
и епископии землею диктовалось прямо-таки необходимостью. Кроме того,
церковь являлась единственно силою, которую королевская власть могла
противопоставить дворянству; когда последнее начинало становиться
чересчур' заносчивым, тогда королевской власти только и оставалось
ослаблять дворянство передачею части его земли в полное или в ленное
владение церкви. А там, где церковь только чувствовала свою силу, она не
ждала, пока королю, дворянству и кгрестьянству заблагорассудится
увеличить ее земельные владения; напротив того — она брала все, что
могла взять, и оправдывала свой насильственный захват в том случае,
если ей ставили его на вид, какою-нибудь поддельною дарственною
записью. Недаром же она одна в те времена обладала искусством чтения
и письма!
Истинные размеры такой собственности, которые к тому же все
время подвергались изменению, очень трудно теперь определить: ведь не
существовало же тогда ничего похожего на статистические записи.
В общем можно признать, что (в средние века, одна треть земли находилась
в рукак церкви.
Земельное богатство церкви являлось результатом ее
экономического и политического могущества. С другой стороны, это богатствог
в свою очередь, способствовало расширению ее могущества...
Ее земли были наилучше обработанными и наиболее населенными,
ее города были наиболее цветущими, и доход и могущество, получаемые
церковью от земли, значительно превосходили* то, что могли извлечь из-
такого же количества земли дворянство и король. Однако, доходы
выражались преимущественно в сырье, а как его утилизировать? Как бы ни
усердствовали господа монахи и прочий клир, всего, что им давали, они
все-таки не в состоянии пожрать. Правда, аббатам и епископам в
средние века так же приходилось вести тяжбы, как и светским князьям; они
должны были, подобно последним, содержать вооруженную свиту и
нередко являться на ленную службу; однако, церковь лишь изредка
проявляла такую воинственность, чтобы ее военная сила могла поглотить
большую часть доходов. Средства, при помощи которых она победила,
заключались не в физических, а в нравственных преимуществах, в той
экономической и политической необходимости ее, которая воем была тогда
ясна. Церкви приходилось, поэтому, тратить тогда меньше средств на
военные надобности, нежели дворянству, а доходы ее, между тем, были
больше. Не только ее земли приносили больший доход, но она, кроме
того, пользовалась десятиною (10%) и с тех земель, которые ей прямо не
принадлежали. Поэтому церковь не была так сильно, как дворянство,
заинтересована в том, чтобы довести эксплоатацию (населения до крайней,
степени. Она, напротив того, в общем относилась к крепостным мягче,
под пастырским кривым посохом жилось обыкновенно недурно, во всяком
случае лучше, чем под мечом князя, жадного до войны и охоты.
Несмотря, однако, на эту сравнительную умеренность в поборах, церковные
учреждения все-таки накапливали избыток съестных припасав, и с-
последними в то время не оставалось ничего другого делать, как тратить их
на призрение бедных.
604
В тех случаях, когда общее бедствие не достигало еще таких
размеров, что приходшгось туго самой церкви, она в минуту нужды являлась
поистине спасительным гением. Она открывала свои обширные житницы,
где сохранялись запасы, и наделяла ими неимущих. Монастыри являлись
большими благотворительными учреждениями, где нередко мог найти
убежище и дворянин без кола и двора или почему-либо лишившийся
наследства. Делаясь чином церкви, он становился могуществен, достигал
почестей и жил в свое удовольствие.
В феодальном обществе не было ни одного класса, который не
был бы заинтересован в поддержании церкви, хотя, конечно, не всегда
в одинаковой степени. Сомневаться в необходимости церкви было в
средние века равносильно 'Сомнению в надобности общества и даже самой
жизни. Конечно, церкви приходилось вести упорную борь,бу с другими
классами; однако, борьба эта шла не за ее существование, а только за
большую или меньшую степень ее могущества или за часть получаемого
ею дохода. Вся материальная и, жонечно, нравственная жизнь
находилась в подчинении у церкви; она срослась со всей жизнью народа, пока,
наконец, в продолжение веков, церковный образ мыслей сделался своего
рода инстинктом, которому слепо доверяли, как закону природы,
перечить которому показалось бы противоестественным; и это продолжалось
до тех пор, пока все государственные, общественные и семейные условия
не облеклись в церковную форму. И эти формы церковного образа
мыслей и действий сохранились затем на долгое время после того, как давно
уже были устранены вызвавшие их материальные причины...
Эпоха крестовых походов совпала со временем наибольшего
могущества папской власти. Однако, как раз они-то и послужили
сильнейшим средством для быстрого развития того элемента, от которого суждено
было пасть и феодальному миру и его монарху — папе; этот элемент был
капитал.
Все возрастающее корыстолюбие заставило и церковь вое более
ограничивать свои заботы о бедных. То, что прежде давали охотно, потому
что оно не было нужно самим, теперь старались удержать за собою, раз
это был товар,, который можно было продать и обратить в деньги.
А деньги, в свою очередь, можно было обратить в предметы роскоши
или же в силу (военную или другую — безразлично). Уже одно то, что
в те времена начали издаваться законы, принуждающие церковь
заботиться о бедных, доказывает, что сама она не исполняла как следует
этой своей обязанности.
В то время как церковь восстановила против себя низшие слои
населения тем, что недостаточно защищала их от пролетаризации, а
нередко даже поощряла ее, она в то же время не угодила и горожанам,
потому что все-таки до некоторой степени, служила валом, о который
слегка разбивался натиск последних на простой народ, который все-таки
не беднел так быстро, как того хотелось горожанам. Пока еще существо^-
вала церковь, неимущий мот несколько сопротивляться, а не сдаваться
без всяких условий капиталу: ведь, он мог, все-таки, получить от церкви
подаяние, как бы скудно оно ни было. Позволять тысячам монахов
ничего не делать, вместо того, чтобы выбросить их на улицу и заставить
их продать свою рабочую силу капиталисту, — это было в глазах
подымающей голову буржуазии преступлением против национального
благосостояния. Еще более тяжкое преступление вменялось церкви в вину:
настойчивое санкционирование всех многочисленных праздников
феодального периода, хотя, по понятиям нарождающегося буржуазного обще-
605
ства, рабочий работает не для того, чтобы жить, а живет для то-го, чтобы
работать.
Все увеличивающееся 'богатство церкви возбуждало зависть и
корыстолюбие всех имущих, главным образом крупных землевладельцев и
лиц, обогащавшихся скупкою и продажею земель. Даже короли стали
зариться на церковные сокровища, чтобы на их счет как-нибудь пополнить
свои кассы и купить себе «друзей».
По мере того' как распространение товарного способа производства
увеличивало, с одной стороны, богатство церкви, а с другой — ее
жадность, по мере этого она сама делалась вое более и более излишнею
в экономическом и политическом отношениях. Новый способ
производства развивался в городах, которые были сильнее феодалов, и города сами
начали уже поставлять людей и организацию, без которых новое
общество и новое государство не могли обойтись. Духовенство с каждым днем
все более, и более переставало быть учителем народа, знание народа,
особенно в городах, переросло его — духовенство сделалось одною из
невежественных частей народа.
Два элемента, входящие в состав церкви, особенно становились
в экономическом и политическом отношениях все более и более
излишними, даже, наоборот, делались для государства вредными; а, между тем,
они-то как раз и составляли .в средние века наиболе важные части
церкви, — это были монастыри и папы.
Почему именно монастыри стали совершенно лишними, мы можем
уже понять из сказанного ,выше: для крестьян они стали столь же
излишними, как и всякий другой феодальный владелец; учителями народа
они тоже уже перестали быть; не могли они защитить народ также
против бедности, так как перестали раздавать милостыню; перестали они
служить рассадниками наук и искусств, так как в городах последние
преуспевали лучше; в управлении и сплачивании государства они
также утратили всякую роль: одним словом, они стали излишними
потому, что стало излишним папство, для которого они служили
крепкой защитой.
Не исполняя никаких функций в общественной и политической
жизни, невежественные, ленивые, грубые, притом чересчур богатые,
монахи все больше и больше погрязали в праздности и разврате и
сделались предметом всеобщего презрения. В своем «Декамероне» Бокаччио
лучше всякого ученейшего доследования показывает нам, как низко
пало монашество в Италии в XIV веке. Следующий век ничего не
изменил к лучшему. Дальнейшее развитие товаропроизводства
распространяло нравственное разложение монастырей и в Германии и Англии.
Столь же ненужной, как монастыри, сделалась также и папская
власть. Ее тлавнзейшая функция —■ объединение христианства против
неверных — была устранена результатами крестовых походов. Правда,
западно-европейским авантюристам не удалюсь удержать за собою своих
завоеваний в странах, где господствовали ислам и восточная церковь.
Однако, сила сарацин воеттаки была сокрушена крестовыми походами.
Их изгнали из Испании и Италии, и потому они уже перестали
представлять для Запада какую-либо опасность.
Правда, на место арабов и сельджуков появился новый
могущественный восточный народ, осмамы, которые уничтожили Византийскую
империю и начали угрожать даже Западу. Однако, на этот раз
опасность шла с другой стороны — она надвигалась не с юга, а с востока, удар
был направлен не на Италию, а на придунайские страны...
606
Борьба против турок не представлялась общим делом всего
христианского мира — она имела скорее местный интерес для тех стран,
которые «служили оплотом восточных окраин империи.
Влияние папства и вера в его мессию, которые до XII века
служили к спасению христианских народов, с XIV века обратились в
средство эксплоатировотъ их.
Централизация церкви повела к тому, что все могущественные
средства последней были предоставлены в распоряжение папы. Оттого власть
и сила его страшно возросли; однако, пока товаропроизводство было слабо
и находилось на низкой ступени развития, до тех пор богатства папы
увеличивались лишь в незначительной степени. Пока большая часть
церковных доходов поступала в виде сырья, папы не могли получить с них
больших барышей. Папы не могли требовать, чтобы епископы или
князья посылали им в Италию мясо, молоко и зерна через Альпы. Между
тем, деньги до самого конца крестовых походов были еще очень редкой
вещью. Правда, папы, усилив свое могущество, добились права
распоряжаться раздачею церковных должностей за пределами Италии. Таким
образом, весь клир был поставлен в зависимость от папы. Однако,
до тех пор, пока с этими должностями были связаны
политические или социальные функции, а доходы по большей части
поступали в виде сырья, папам приходилось передавать эти должности
людям трудолюбивым, знакомым с местными условиями и
желавшим оставаться в стране. Папа, таким образом, не мог раздавать
этих мест своим любимцам—итальянцам, не мог он их также и
продавать.
Все это изменилось с того времени, когда началось производство
товаров. Церковь, князь, народ — все обзавелись теперь деньгами.
Деньги легко можно перевозить, они не теряют дорогою своей цены, и их
с такою же пользою можйо израсходовать в Италии, как и б Германии.
Вот тут-то и выросло стремление папства к эксплоатации всего
христианского мира Конечно, папство всегда старалось обратить в свою пользу
то обстоятельство, что в нем многие еще нуждались; в этом случае х>но
поступало, как всякий другой класс, а классом его, все-таки, приходится
признать; ведь, к папству принадлежит не только один папа, но еще и
большая часть духовенства, особенно романского-, которое чаяло от папы
почестей и должностей и обладало тем большими доходами, чем больше
были доходы самого папы. Потому-то, ио мере роста папского
могущества, папы попробовали сделать себе источник дохода из церковных
организаций и из денег Светского мира, а, ведь, для выполнения всех своих
функций папству денег требовалось не мало. Однако, спешим
оговориться, — вначале подати были еще очень невелики. По мере развития
коварного производтсва увеличилась жажда пап к деньгам; они
сделались настоящими эксплоататорами, между тем как функции их
постепенно сводились к нулю.
Папы XIV, XV и XVI веков были так же изобретательны насчет
добывания денег, как и нынешние финансовые гении. Прямые подати
в общем были невелики. Лепта св. Петра, наложенная на Польшу
в 1320 году, вряд ли могла достигать больших размеров. В Англии она
достигла уже больших сумм, при чем ее отсылали отсюда в Рим, уже
начиная с VIII века; сначала она была также незначительна и служила
только для содержания в Риме английской духовной школы, затем,
в XIV веке она настолько увеличилась, что оказалась выше доходов
английского короля.
607
Однако, подобно другим финансовым гениям, и паны тоже
предпочитала косвенные налоги прямым, так как в этом случае грабеж не так
бросается в глаза. Торговля служила тогда лучшим средством надувать
людей и быстро достигать значительного благосостояния. Почему же и
папам не сделаться было торговцами, не выступить на рынок с теми
товарами, которые им самим ничего не стоили? Таким образом, началась
торговля церковными должностями и отпустительными грамотами
(индульгенциями).
В самом деле, церковные должности ко времени развития
товарного производства сделались очень ценным товаром. Ряд прежних
обязанностей церкви совсем исчез или потерял всякий смысл: они сделались
чистой формальностью. Между тем, должности, которые были созданы
для исполнения таких обязанностей, оставались, а подчас число их даже
еще более увеличивалось. Доходы, сопряженные с такими должностями,
увеличивались вместе с ростом и корыстолюбием церкви, и на долю
денежных сборов приходилось все более и более, а ведь такой доход можно
было использовать где угодно, не только на том месте, к которому
приурочивалась должность. Ряд церковных должностей сделался прямо
источником денег, и как таковые они и расценивались. Папы отдавали
их своим любимцам или просто продавали их, конечно, прежде всего,
лицам из окружающей свиты, итальянцам и французам, которые вовсе
и не думали действительно вступать в исправление обязанностей,
связанных с должностью, в особенности тотда, когда им для этого
пришлось бы переезжать из Германии. Они просто вьшисывали себе из-за
Альп свое жалованье.
Однако, папская власть знала еще и другие средства, при помощи
которых умела извлекать выгоды из церковных должностей; так, напр.,
она заставляла при каждом назначении на пост епископа выплачивать
себе особые суммы, называвшиеся аннатами.
Сюда же относится торг свидетельствами на отпущение грехов,
который становился все более бесстыдным. Индульгенции следовали быстро
друг 'за другом (незадолго до реформации их было последовательно
вылущено пять изданий—в 1500, 1501, 1504, 1509 и 1517 годах); наконец.
право продажи индульгенций стали отдавать на откуп.
У папства можно заметить так же, как и у феодального
землевладельца, только гораздо скорее последнего-, общее явление: эксплоатация
масс идет тем сильнее, чем польза от эксплоататора становится меньше,
более того — когда он становится даже вредным. Ясно, что должен,
наконец, наступить такой момент, когда терпение народа лопается, и он
выгоняет своего кровопийцу вон.
Катастрофа ускорилась еще и от того, что само папское
достоинство сделалось совсем жалким. Это уж судьба 'всякого правящето класса,
переживающего -самою себя и созревшего для своего падения. Пока
накопляется его богатство, уничтожается его функция, — классу ничего не
остается более, как прокучивать то, что он выжимает из эксплоатируе-
мого им класса общества. Он вырождается в умственном, нравственном
а иногда и в физическом отношениях. В том же масштабе, в каком
растет народное негодование, раздражаемое бессмысленною роскошью
гибнущего класса, он теряет силы и возможность удержать за собою
власть. Так постепенно уничтожается всякий класс, сделавшийся для
общества вредным ...
Если Италия, Франция и Испания остались католическими
странами, то этою нельзя приписывать их умственной отсталости, кад то
€08
обыкновенно делают, а, напротив, их значительно более сильному
экономическому развитию. Эти страны были господами папы, при ето
посредстве они грабили немецких христиан. Последние должны были отпасть
от папы, чтобы избавиться от вечных поборов, нзо это отпадение влекло
за собой разрыв с самыми богатыми и развитыми странами Европы.
В этом смысле слова реформация была борьбою варваров против
культуры. Нельзя считать случайностью то обстоятельство, что прежде всего
-борьба за реформацию началась ъ двух наиболее отсталых странах
Европы — в Швеции и Шотландии.
Мы этим вовсе не хотим осуждать реформации. Мы установили
этот факт, так как он отлично объясняет нам, почему именно наиболее
светлые умы Германии и Англии ничего не хотели и, слышать о
реформации. На первый взгляд, если признать, что реформация имеет чисто
умственное происхождение, — это кажется странным; ведь, обыкновенно
принимают как раз обратное: именно, что реформация явилась
результатом борьбы более высокого умственного развития, протестантского,
против более низкого — католического.
В действительности дело обстояло как раз обратно. Гуманизм
.являлся прямою противоположностью реформации.
(«Томас Мор и его утопия»).
Ф. Мерит
РЕЛИГИОЗНАЯ РЕФОРМАЦИЯ И КРЕСТЬЯНСКАЯ ВОЙНА
Крестовые походы превратились в мощный рычаг, поднявший
торговлю с Востоком и содействовавший постепенному превращению
феодального способа производства в капиталистический. А этот новый
способ производства уже не нуждался в церкви как наставнице и
руководительнице. Он создал себе свое собственное образование и науку; он
шздал также и собственные органы управления. Духовенство осталось
необходимым только для деревни, — как еще и тейерь в отсталых странах,
-ему приходится выполнять некоторые государственные задачи, напр.,
вести регистрацию браков, рождений и т. д. В 16 веке приходское
духовенство оставалось еще экономически необходимым, и никто не думал
о его устранении. Но тем решительнее -выступил юный капитал против
двух других сил церкви, которые экономически и социально становились
все более лишними, а потому все более вредными для нового способа
производства, именно — против монастырей и против панской власти.
В 16 веке социальная структура германского' общества приняла
такой же вид, как она принимала повсюду под влиянием нового способа
производства. Рыцарство, низшее дворянство было охвачено
неудержимым распадом. Среди духовенства два противоположных полюса
представляли, с одной стороны, аристократическая фракция епископов и
аббатов со своей жандармерией из монахов, а с другой стороны,
плебейская фракция приходского духовенства в городе и в деревне: первые
возбуждали в массах глубокую ненависть, вторые скорее пользовались
любовью, тем более, что для нараставшего движения масс они давали
идеологов и теоретиков. В городах цеховые горожане с переменным успехом
вели борьбу за городское управление с патрициями, плебеи же далеко
еще не -развились в третью городскую фракцию и но своим настроениям
Г. Гурев 39
609
были скорее опустившимися элементами гниющего феодализма, чем
восходящими элементами современного пролетариата. Наконец,
крестьянский класс составлял фундамент всего общественного организма, —
сильный, по смертельно измученный, стонущий во всех своих частях.
Эта пестрая мешанина разнообразнейших классов и фракций, на
которые распадались они, с их взаимно противоречивыми интересами
придавала положению Германии ее своеобразный отпечаток, когда Лютер
31 октября 1517 года прибил свои тезисы (положения) против
индульгенций на дверях виттенбергской церкви, и таким образом дал сигнал
к открытому взрыву возмущения против Рима, десятилетиями
накоплявшемуся в германской нации.
Это возмущение уже не раз находило в литературе несравненно
более резкое выражение, чем робкие тезисы Лютера, которые порицали
даже не самые отпущения, — прощение грехов за расчет наличными
деньгами, уплачиваемыми папе, — а лишь «злоупотребления» этими
отпущениями. Знаменитые «Письма темных людей», составленные
германскими гуманистами, совершенно иначе нападали на пап и монахов. Это
были сатирические стрелы несравненной остроты, но для народа они
не существовали: гуманистическое образование оставалось чуждым и
непонятным для масс. Напротив, тезисы Лютера, представлявшиеся
гуманистам просто выражением монашеской склоки, несравненно сильнее
воздействовали на церковный строй мышления, унаследованный массами
от средних веков и приводивший к тому, что все их оппозиционные
движения до сих пор представлялись еретическими: уклонениями от учения
церкви. Чтобы разрушить средневековые отношения, надо было сначала
сорвать окружавший их ореол святости.
Тем не менее, если бы за тезисами Лютера не стояли самые
настоятельные экономические интересы, эти тезисы, сдми по себе
представлявшие просто вызов на один из совершенно заурядных для того времени
богословских диспутов,, не произвели бы действия искры, упавшей в
открытую бочку с порохом. После бесконечного множества прежних
отпущений Лев X, при своей любви к роскоши, вынужден был назначить
новое отпущение, которое должно было> принести ему колоссальную
сумму в 50000 дукатов. Это отпущение, на условии дележа добычи, он
передал на откуп архиепископу майнцскому, в то время первому среди
церковных государей Германии, а этот архиепископ, принц из дома, Го-
генцоллернов, отправил по всей Германии своих продавцов индульгенций,
чтобы те, пользуясь всеми способами базарных зазываний, выманивали
деньги из кармана верующих, — подобно тому, как это теперь делается
в рекламах биржевых газет.
Эти продавцы с особенным жаром набросились на курфюршество-
Саксонское, которое тогда, благодаря добыче из своих рудников, было
богатейшей страной в Германии. Сам по себе курфюрст Фридрих
саксонский был очень набожный, верующий, даже благочестивый католик.
Но уже тогда в денежных делах исчезало всякое благодушие, и потому
он воспретил продавцам индульгенций показываться в своей стране.
Однако', они рыскали угрожающе близко около ее границ, и потому
курфюрст охотно допустил выступление Лютера против разносчика
индульгенций Тецеля, который бесчинствовал в Ютерботе.
Сам Лютер еще совершенно не сознавал, что он в известном смысле
действует просто как орудие финансовой политики своего государя, но
скоро для него должно было сделаться ясным, что борьба вращается не •
около богословских ересей, а вокруг 'весьма реальных интересов.
610
Лютер, Мюнцер, Гуттеи.
После того, как тезисы Лютера послужили сигналом к открытой
бсрьбе против Рима, пестрая неразбериха взаимно протишиоложных
интересов упростилась; различные классы и фракции классов
разделились по трем крупным лагерям, — консервативно-католический,
буржуазно-реформаторский и плебейско-революционный.
В консервативно-кагголичеюкО'М лагере сосредоточились все
элементы, заинтересованные в сохранении существующего, с императором:
во главе. Средневековая имперская власть в Германии упала так низко,
что в 1519 году при выборах императора из-за его короны сцепились
между собою французский и испанский король. Из семи курфюрстов,
которые должны были произвести выборы, почти все попеременно
подкупались то французским, то испанским золотом. Наконец, победил
испанский король Карл, который происходил из дома Габсбургов и
в то же время был государем австрийских наследственных земель. Как
испанский король и как государь наследственных испанских земель, он
был в высокой мере заинтересован в том, чтобы не было разрыва с Римом,
Он приказал своим наемникам взять Рим штурмом, чтобы подчинять
папу своей воле, но он не мот отречься от папской церкви, так как
она представляла самую сильную опору его господства и в Испании и
в наследственных австрийских землях. Поэтому император Карл У
остался решительным противником германской реформации, при чем
поддержку ему оказывали духовные государи и часть светских,
богатое дворянство, аристократическая фракция духовенства и городской
патрициат.
Против этого католическо-коноервативного лагеря стояла широкая
масса нации, которая в страшном возмущении восстала против папской
экеплоатации. Но очень скоро она разделилась на два лагеря, из
которых в одном соединились имущие элементы оппозиции, — масса низшего
дворянства, цеховые горожане и часть светских государей, которые
рассчитывали на обогащение от конфискации церковных имуществ и кроме
того надеялись воспользоваться случаем, чтобы достигнуть еще большей
независимости от императора и империи. Эта буржуазно-умеренная
партия, конечно, хотела освободиться от ярма папской эксплотации, но
в то же время хотела сохранить в неприкосновенности светскую эксплоа-
гацию, поскольку последняя исходила от нее самой. В резкой противо-
положности с нею очень скоро сложилась революционная партия,
которая рекрутировалась из крестьян и городских плебеев и хотела бы с
папской эксплоатацией устранить и всяческую светскую эксплоатацию
Сущность этих двух партий превосходно отражается в характере их
вождей: Мартина Лютера, который стоял во главе чисто реформистской
партии, и Томаса Мюнцера, стоявшего во главе глубоко революционной
партии. Оба были — духовные и вышли из плебейской фракции
духовенства.
Мартин Лютер родился в Эйслебене; сын крестьянина, он после
строгого и сурового воспитания избрал духовную профессию. В
умственном отношении он не был выдающейся головой; по смелости и
оригинальности мышления его превосходили мнотие его современники. В бытность
студентом в Эрфурте он примкнул к кружку гуманистов, который
образовался при эрфуртском университете; однако, он недалеко' пошел в своем
гуманистическом образовании. Повидимому, его более привлекала
веселая жизнь гуманистов: на это указывают те нравственные муки я— своего
39*
611
рода похмелье, — которые в 1505 году привели его в эрфуртский
монастырь августинцев и к наложению на себя самых тяжелых эпитемий.
Затем, в 1509 году курфюрст Фридрих саксонский пригласил его
профессором богословия во вновь основанный виттенбертский университет,
в котором он в 1517 году опубликовал свои тезисы против индульгенций
или, точнее, против слишком бесстыдного злоупотребления отпущениями:
в этих тезисах он еще и сам говорил, что, кто оспаривает истину папских
отпущений, да будет проклят и осужден.
Не удивительно, что сам Лютер до крайности был поражен тем
действием, которое произвели его тезисы. Он нее еще был в духовном плену
панства, но неловкие попытки папской власти принудить его к
молчанию, — такие, которые обыкновенно предпринимаются эксплоататор-
окими классами, когда они видят приближение конца, — подстрекнули
его гражданское мужество; к тому же движение, которому он дал толчок
помимо своей воли и намерений, гнало его дальше, и дальше. Скорее
движение увлекало Лютера за собою, чем Лютер вел его; но он приобрел
решающее влияние на массы потому, что за профессором в нем никогда
не умирал крестьянин, потому, что он умел писать сильным,
захватывающим языком и в этом отношении превосходил всех своих современников;
да и вообще его заслуги перед немецким языком остаются незабвенными
заслугами. Чем суровее теснил его Рим, тем решительнее выступал он
против Рима. Он начал проповедь насильственного сопротивления
папской экоплоатации: не словами, а оружием следует вырвать разъедающую
мир яз(ву; немецкие руки должны омыться в римской крови. О неменъ-
шей-резкостью выступал Лютер и против светских государей, которые не
соглашались с ним; если бы кто-нибудь в настоящее время стал говорить
против германских государей языком «возлюбленного человека божия»,
ему было бы обеспечено обвинение в государственной измене, и его не
выпустили бы из каторжной тюрьмы.
Однако, если в Лютере-профессоре не умирал сын крестьянина, то
и.наоборот: сын крестьянина все же был профессором. Чем дольше
бушевали революционные бури, чем глубже ма/ссы захватывались ими, чем
чувствительнее благодаря этому становилось для них ярмо не только
папской эксплоатации, но и туземных эксплоататоров, тем очевиднее
делалось, что Лютер попал в положение того заклинателя, который не мот
прогнать вызванных им духов. И вот здесь-то профессор виттенбергского
университета, протеже курфюрста Фридриха Саксонского, принял
решение, высказавшись за мирное развитие н рамках законности. О 1517 по
1522 год Лютер кокетничал со всеми демократическо-революционными
элементами; с 1522 по 1525 год он последовательно, один за другим,
предал все революционные элементы.
Против буржуазного реформатора Лютера 'выступил революционный
плебей, крестьянин Томас Мюнцер. В сущности и его нельзя назвать
самостоятельным умом; он не овнес каких-либо новых идей в движение
своего времени, но он проницательным и дальновидным взглядом сумел
распознать его революционные элементы, он был целостным человеком,
отличавшимся мужественной 'решимостью и непоколебимостью в своих
мыслях и действиях. Он был родом из Штольберга на Гарце, где его отец,
как рассказывают, погиб на виселице жертвою произвола графов Штоль-
бергов. Подобно Лютеру, Мюнцер избрал для себя духовную профессию,
но 1в нем рано проснулся революционер. Уже на пятнадцатом году он
устроил в школе в Галле тайный союз, направленный против
архиепископа магдебургского и римской церкви вообще, к обрядам и учениям
612
которой он относился с величайшим презрением. Его быстро прогоняли
с ето духовной должности, сначала в Цвиккау, потом в Праге; недолго
удалюсь ему оставаться и в Альштетте, в Тюрингене. Раньше Лютера
он отменил применение латинского языка в богослужении и повсюду,
куда ни являлся, организовал революционную пропаганду: он продолжал
призывы Лютера к применению силы, между тем как Лютер уже
высказался за мирный прогресс.
Учение Мюнцера нападало на главные пункты не только
католицизма, но и христианства. Настоящего, живало откровения надо искать
в разуме, оно существовало во 'все времена и у всех народов, существует
и в настоящее время. Выдвигать против разума библию, как делает
присмиревший Лютер, это значило бы буквой убивать дух. Небо существует
не на том свете: его надо искать в этой жизни, и верующие призваны
к тому, чтобы-уже на земле создать небо, царствие божие. Как нет на том
свете никакого неба, так нет никакого ада. Христос был человек,
подобно нам, пророк и учитель, не бог. Под царствием божиим, которое
верующие призваны создать уже здесь, на земле, Мюнцер разумел такое
состояние общества, при котором нет классовых различий, частной
собственности и какой-либо самостоятельной государственной власти
чуждой членам общества. Все существующие власти, поскольку они не
подчинятся и не примкнут к революции, должны быть свергнуты; все
работы и ©се имущества следует сделать общими, необходимо провести
самое полное равенство. Следует устроить союз, чтобы все это провести
не только в Германии, но и во всем христианском мире. Надо
приглашать государей и сеньоров присоединиться к этому делу, если же они
не захотят, союз при первой же возможности с оружием (в руках должен
свергнуть их и предать смерти.
Эти учения Мюнцер, прюшведывал под облачением мистических
выражений, но тем глубже было впечатление, производимое ими на массы,
которые были еще в полном плену религиозных форм мышления. Народ
со всех сторон стекался к Мюнцеру, и Лютер прибег к тому самому
средству, к которому в таких случаях" обыкновенно прибегают половинчатые
реформисты против решительных революционеров: он донес на Мюнцера
саксонским князьям. Мюнцер выступал против них с вызывающей
смелостью, но они не решились тронуть его, и его изгнал городской совет
Альштетта. Мюнцер отправился сначала в Мюлъгаузен, затем в
Нюрнберг; его скоро изгнали из этих городов, и тогда он перекочевал в южную
Германию, неустанно раздувая брожение, возвещавшее близость
насильственного выступления крестьянского класса.
Крестьянская война и перекрещенцы.
Растущая нужда, которая по мере превращения натурального
хозяйства в денежное хозяйство обрушивалась на, крестьянский класс,
начиная с 1476 года, вызвала ряд крестьянских восстаний, в особенности
в южной Германии, а также повела к созданию крестьянских
заговорщических организаций, которые под названиями «Союзный башмак» и
«Бедный Конрад» приобрели историческую известность. Но все они
оставались чисто местными и скоро были разбиты. Только после того, как ре-
формационное движение вскопало самые глубокие народные толщи,
крестьянский заговор охватил всю Германию. Восстание было назначено и
действительно началось 2 апреля 1525 года.
Крестьянскую революцию -совершенно несправедливо опорочили' как
реакционное движение по ее внутреннему историческому ядру. Двенад-
613
цать статей, в которых крестьяне формулировали свои требования, вполне
соответствовали направлению исторического прогресса. Они требовали,
чтобы общинам было предоставлено избирать и смещать духовных лиц.
Они требовали уничтожения крепостных отношений, дворянских
привилегий на охоту и рыбную ловлю, ограничения чрезмерных барщин и
оброков, восстановления прав на леса и овыпасы, отнятые у отдельных
лиц и общин, устранения произвола в судах и управлении. Все эти
требования были вполне правильны и справедливы и, что особенно важно, все
они 'Соответствовали условиям и устоям буржуазного периода исторгни:
в 1525 году германские крестьяне требовали в существенных чертах того
самого, что французские крестьяне фактически завоевали в 1789 году.
Крестьянам удалось сохранить в тайне свой великий заговор. Когда
они неожиданно восстали, господствующие классы были застигнуты
совершенно врасплох, и потому у дела крестьян первоначально были
благоприятные перспективы, или та меньшей мере так казалось. Даже1 Лютер
16 апреля советовал притти к полюбовному соглашению; он говорил, что
не крестьяне, а сам бог восстал против неистовств князей. Большинство
крестьянских требований, выраженных в двенадцати статьях, следует
признать справедливыми, и потому он призывал к мирному соглашению
на основе этих статей. Если бы были правы те буржушно-протестантские
историки, которые видят в реформации дело могущественной личности
Лютера, то его первоначальное выступление должно было бы дать
крестьянской войне совсем другой оборот. Но в действительности оно не
оказало никакого влияния, и когда господствующие классы оправились
от своей первоначальной паники, а в особенности когда князья выступили
оо своими войсками, чтобы потопить восстание в крестьянской крови,
Лютер совершенно переменил фронт и 6 мая выпустил свое сочинение
против грабительствующих и разбойничающих крестьян и в
кровожадных выражениях, достойных палача, требовал их избиения. Однако, если
он похвалялся, будто вся крестьянская кровь падает на его голову, это
было пустое бахвальство1: как евангелические, так и католические кня'зья
не 'нуждались ни в каком напоминании, чтобы устроить крестьянам
страшную кровавую баню.
В противоположность Лютеру, Мюнцер мужественно шел с
восставшими крестьянами. В Тюрингене он был душой крестьянской войны,
Его главным штабом был тогдашний имперский город Мюльгаузен. Здесь
он устроил овоето рода коммунистическую общину, которая впрочем
просуществовала немногим больше двух месяцев (почти ровно столько же,
сколько Парижская Коммуна 1871 года, с 17 марта до 25 мая 1525 года).
Когда начали наступать княжеские войска, Мюнцер отправился во
Франкенгаузен, где собрались толпы тюрингенских крестьян, и здесь
вместе с ними понес страшное поражение. 8000 плохо вооруженных,
недисциплинированных крестьян, у которых почти не было пушек, были
разбиты таким же количеством хорошо обученных и вооруженных
наемников, располагавших многочисленными орудиями. Мюнцер был взят в плен
и после ужасных пыток казнен; утверждение, будто бы он умер
раскаявшимся грешником, ни на чем не основано и представляет образец тех
клеветнических измышлений, которые наемные писаки господствующих
классов обыкновенно направляют против павших народных борцов.
Как в Тюрингене, так и во Франконии, Швабии, Эльзасе,
Шварцвальде и повсюду, где только восставали крестьяне, их толпы без
особенного труда рассеивались княжескими войсками. Крестьянское восстание
потерпело неудачу в действительности не потому, что оно выставило
614
требования, через которые история уже перешагнула, а, наоборот, потому,
что' оно было преждевременным, потому, что оно не нашло необходимой
для себя почвы, так как еще не бьш> германской нации в современном
значении этого слова. Правда, отдельные города примкнули к крестьянам,
но н они присоединялись вяло и робко. Городские патриции
обнаруживали решительную враждебность; цеховые горожане усвоили такую же
политику, как Лютер, городские плебеи, как класс, были еще слишком
неразвиты для того, чтобы послужить действительной опорой для
крестьян. Рыцари были еще менее надежными союзниками, чем города
Большинство их стало на сторону князей или же они сначала
присоединились к крестьянам, но скоро, как Гёц фон-Берлихинген, предали
восстание. Только отдельные рыцари, как Флориан Гейер, — наряду с Мюн-
цером наиболее блестящая фигура крестьянской войны, — до конца
остались верны восставшим.
В общем все движение потерпело крушение вследствие локальной
ж-провинциальной раздробленности и вытек,авшей из нее локальной и
провинциальной ограниченности. В каждой местности крестьяне
действовали самостоятельно', отказывали в помощи своим классовым
сотоварищам в соседних провинциях, и потому в одной местности за другою
уничтожались в сражениях и стычках с войсками, которые обыкновенно не
составляли и десятой доли всей восставшей крестьянской массы. Главным
оружием князей было самое презренное предательство, которое в свою
очередь могло удаваться только по той причине, что многовековое рабство
слишком задавшю крестьян и они не в состоянии были разглядеть
очевиднейшей лжи и обмана. Князья заманивали толпы крестьян самыми
широкими обещаниями и затем, когда крестьяне, поверив этим обещаниям,
складывали оружие и направлялись по домам, их безоружных избивали
целыми массам. Потоками пролилась крестьянская кровь по германской
земле; по самым преуменьшенным расчетам сто тысяч крестьян пало
в сражениях или было впоследствии казнено.
Однако, это страшное поражение не повело к длительному
ухудшению положения крестьян. Из них еще до войны настолько высасывали
вое соки, что невозможно было взять с них еще больше. Конечно,
некоторые средне-зажиточные крестьяне подверглись полному разорению,
множество вассально-зависимых попало в крепостническую зависимость,
обширные области общинных земель были конфискованы, разрушение
жилищ и опустошение полей превратило многих крестьян в бродяг или,
в городских плебеев. Но воины и опустошения принадлежали к числу
зауряднейших явлений того времени, и крестьянский класс в общем
стоял: слишком низко для тою, чтобы его положение могло длительно
ухудшиться еще больше.
Много больше пришлось пострадать от крестьянской войны
духовенству, дворянству и городам. Монастыри гибли от пожаров, сокровища
духовенства были разграблены или переплавлены. У дворянства были
разрушены многие замки и укрепления. Оно оказалось слишком
беспомощным для того, чтобы собственными силами сопротивляться
крестьянам. Так как его спасли только княжеские войска, то оно попало в
возрастающую зависимость от князей. Одержав победу, князья наложили на
города контрибуции и лишили их привилегий за то, что они обнаоужили
некоторые симпатии к делу крестьян.
Таким образом только князья действительно выитрали от
крестьяночкой войны. Они захватили имения духовенства; более или менее
значительная часть дворянства должна была отдаться под ик покровительство,
615
и контрибуции, наложенные на города, попали в их кассы. Правда,
наряду с светскими княжествами в Германии все еще сохранялись духовные*
суверены, городские республики, суверенные графы и сеньоры; но в обще^
историческое развитие Германии вело к провинциальной централизации,,
к подчинению всех остальных имперских сословий князьям.
Эпилогом крестьянской войны были кровавые преследования и
искоренение перекрещенцев. Они разделяли коммунистические воззрения
Мюнцера, но отличались от него тем, что не одобряли его политики
насилия и были настроены чрезвычайно миролюбиво. Однако,^хотя они
отказывались итти войной против государства, они в то же время не хотели
и слышать ни о государстве, ни о церкви. Свое название —
анабаптисты, перекрещенцы — они получили оттого, что отвергали крещение,,
которому церковь подвергала новорожденных младенцев. Они требовали
повторного крещения или, точнее, крещения в более позднем возрасте,
когда человек становится взрослым и мыслящим существом. И если
для современных баптистов это требование является мертвым догматом,
религиозной причудой, то тогда' это была революционная программа,
которая приводила господствующие классы в трепет.
Так как перекрещенцы были настроены мирно, то их миновала
судьба Мюнцера; но их миролюбие не помешало тому, что евангелические
и католические князья, подавив крестьянское восстание, открыли
кровавую травлю перекрещенцев. Даже бессильная имперская власть приняла
участие в этом недостойном гонении. В 1529 году собравшийся в Шнейере-
имперский сейм назначил за повторное крещение смертную казнь
посредством сожжения на костре. Повсеместно в Германии запылали костры, на'
которых захваченные перекрещенцы с героическим мужеством встретили'
мученическую кончину. Таким образом они были искоренены в Германии
или изгнаны за ее пределы. Наконец, в нидерландских перекрещенцах,
пробудилось сознание, что они должны обороняться теми же средствами,
которыми их мучают, т. е. оружием. Вождями этого течения в перекре-
щенстве сделались Ян Матис, пекарь из Гарлема, и Иоганн Бокельзон,
портной из Лейдена. В древне-католическом городе Мюнстере, главном
центре римской церкви для Северо-Западной Германии, они нашли опору
для того, чтобы вооружиться к борьбе против преследователей их братьев.
Город вел ожесточенную борьбу против своего епископа, и граждане,
пользуясь содействием городских плебеев, сумели отразить его наступление,
благодаря этому плебеи сделались внушительной силой. Перекрещен-
сжому движению удалось в совершенно законном порядке овладеть
городскими, должностями; оно оказывало такое упорное и такое героическое
сопротивление нападениям епископа, что в конце-концов, только подняв
на ноти все государство, удалось сломить его.
После осады, продолжавшейся пять четвертей года, город пал,
взятый голодом; жестоким избиением его мужественных защитников
отпраздновал христианский епископ свою победу. Что касается тех
россказней, которые в течение четырех столетии буржуазные историки
повторяют один за другим о мюнстерском режиме перекрещенцев,
представлявшем будто бы отвратительную оргию нечеловеческой жесткости и
скотских похотей, то они представляют плод наглой лжи или бесстыдных-
искажений.
Иезуитизм, кальвинизм, лютеранство.
Победа князей в великой крестьянской войне, больше всего
обусловленная тем, что противоречие экономических интересов различных jm~
616
стей Германии препятствовало возникновению большой ^временной
нации, еще более закрепилась начавшимся упадком германских городов,
основной причиной которого было то обстоятельство, что мировая торговля^
стала перемещаться с берегов Средиземного моря на берега
Атлантического океана.
Завоевание Константинополя турками закрыло торговые пути на
Восток, и потому все сильнее развивавшееся товарное производство было
вынуждено искать новых рынков для -сбыта и новых торговых путей. О эпохи
великих географических открытий началась современная колониальная
политика, от которой Германия была устранена своим географическим
положением. Ее экономическое развитие связывалось же больше и
больше, а вместе с тем уничтожалась возможность ее политической
централизации. Постепенно, но неудержимо растущее обеднение Германии
превращалось в новую опору господства князей и в то же время увеличивало1
невыносимость этого господства для германского народа: жестокость
грабежей возрастала в той же мере, как повторны© грабежи делались
затруднительнее.
Из трех больших партийных группировок, сложившихся в начала
германской реформации, плебейоко-революционная была потоплена
в реках крови крестьянской войны, а буржуазно-реформистская
получила от этой войны такой удар, от 'которого она долго не могла оправиться.
Бо и для католическо-консервативной группировки бури эпохи не
прошли бесследно. Образовались три новые партии, которые боролись друг
с другом в Германии, но по своему европейскому значению, несомненно,
далеко выходили за границы последней.
Этими тремя партиями были иезуитизм, кальвинизм и
лютеранство. Все они носили религиозную окраску, но представляли
экономико-политические организации в церковной форме. Несмотря на<
догматическо-религиозные иротиюположности, почва у них была общая..
Они отличались от феодально-средневековой церкви так же, как
капиталистический способ производства отличается от феодального.
Иезуитизм был католицизмом, реформированным на капиталистических
основаниях. Если папство превратилось в средство и орудие больших
современных монархий, развившихся из потребностей капиталистического
способа производства, то его следовало поставить на капиталистические
ноги для того, чтобы оно стало .действительным средством и орудием"
господства; как раз эту задачу и взял на себя орден Иисуса, который
приспособил католическую церковь к новым экономическим и политическим-
отношениям. Он реорганизовал все школьное дело, введя изучение
классиков,— самое высокое образование для того времени, — и постольку
воспринял наследство от гуманизма; он сделался величайшей торговой
компанией в мире, у которой были конторы во всех открытых тогда
частях земного шара; в виде исповедников он доставлял государям
наиболее опытных и ловких министров.
Однако, современный абсолютизм только временно, только до тех
пор, пока на очереди стояло образование сплошных крупных торговых и
хозяйственных территорий, но отнюдь не длительно/ не постоянно отвечал
потребностям развивающихся городов. Для городов абсолютизм был не-
целью, а только средством к цели, и, поскольку он склонен был видеть
в себе самоцель, они решительно напоминали ему, что он существует4
их милостью. Тем знаменем, под которым сначала восстали
нидерландские города против испанского абсолютизма и французские города
против французского абсолютизма, был кальвинизм. Кальвин проповедывал
617
в богатом торговом: городе Женеве и, благодаря демократическому
устройству церкви, кальвинизм соответствовал интересам наиболее
прогрессивных горожан. Правда, в Голландии и во Франции часть дворян тоже
перешла в кальвинизм, но эти Дворяне переходили в кальвинизм только
потому, что у них были более или менее общие интересы с мятежными
городами. Вообще же кальвинизм превращался в экзальтированную* и
фанатическую силу только в тех случаях, когда на первый план
выдвигались буржуазные интересы. Рядом с абсолютистеко-капиталистическим
орденом Иисуса он представлял, можно сказать,
буржуазно-капиталистическую религию.
Наконец, лютеранство было -религией экономически отсталых стран,
которые сильнее всего эксплоатировались Римом, но всего меньше
мот ли бы помышлять о том, чтобы подчинить себе или уничтожить Рим:
им оставалось только порвать с Римом, но они не могли решающим
образом вмешаться в великую мировую борьбу за наследие Рима.
Лютеранство получило господство в северной* и восточной Германии, в Дании,
в Швеции. Это были страны с сравнительно слабо развитыми городами
и с сильным преобладанием дворянства; в западной Германии, где города
были сильнее и многочисленнее, перевес принадлежал кальвинизму.
В 'странах, где господствовало лютеранство, капиталистическое развитие
лишь медленно пробивалось из феодального хаоса. Оно еще не создало
революционной буржуазии, по превратило сеньора в помещика, рыцаря
в товаропроизводителя. Так было в особенности в земледельческих
областях к востоку от Эльбы; церковь своими имуществами и крестьяне
ростом эксплоатации, которой они подвергались, оплатили здесь «чистое
слово господне».
В соответствии с этими отсталыми отношениями лютеранство было
отсталой религией. G того времени, как Лютер предал крестьян, он
превратился в холопа, пресмыкавшегося перед князьями; из своего перевода
Библии, который своим описанием простого первоначального
христианства немало содействовал возбуждению масс, он сделал теперь княжеский
катехизис, отвратительнее которого не создал бы ни один лизоблюд
монархической власти. Князья, епископы, помещики были
покровителями лютеранской церкви, и это несравненно больше отличало ее
от демократического устройства кальвинистской церкви, чем все
догматические хитросплетения и склоки-из-за причащения: духовная жизнь
лютеранской церкви производила на голландских кальвинистов
впечатление «более чем скотской тупости».
Таким образом после того, как революционный огонь был потоплен
в крестьянской крови, германская реформация превратилась в
разбойничий и грабительский поход германских князей и повела ко все
возраставшему освобождению их от императорской власти. Князья
«реформировали» таким способом, что они объявили себя верховными
епископами своих государственных церквей, а придворные попы превратили
лютеранство в религию ограниченных разумением подданных и помогли
князьям прибрать к своим рукам богатые церковные имущества. При
всем пестром разнообразии внешних условий все эти княжеские
«реформации» сводились к одному и тому же, классическим примером чего
может служить в особенности история Гогенцоллернов. Некоторая доля
добычи досталась еще только помещикам и, може£ быть, городским
патрициям, которым при упадке городов это было очень кстати.
И е ничтожнейшей мере расхищение церковных имущества не пошло
на пользу масс — крестьян и городских плебеев.
618
Таким образом власть князей все более увеличивалась. Попытка
императорской власти все же добиться своего или, выражаясь
идеологически, восстановить единство католической веры в Германии, окончилась
полным крушением и только показала, что уже невозможно устранить
власть отдельных князей, так как она слишком глубоко коренится в
экономическом состоянии Германии. Правда, в 1545 году в сражении при
Мюльберге победу над несколькими протестантскими князьями одержал
император Карл V, но только потому, что ему из-за обещанных им
своекорыстных выгод оказали поддержку друтие протестантские князья.
Однако, эти же самые государи немедленно выступили против него, как
только он, одержав победу, обнаружил стремление фактически
восстановить императорскую власть. Они купили союз с французским королем
посредством постыдного предательства империи, — отдав Франции епи-
скопии Туль, Мец и Верден, — и благодаря этому им удалось справиться
с императором. По договору, заключенному в Пассау, и затем по
установлении религиозного мира в Аугсбурге (1555 год) была выговорена
свобода религии для имперских сословий, что означало религиозную
свободу провинциальных суверенов. Каждое имперское сословие (сейм),
суверен каждой провинции получил право1 устраиваться с религией
на своей территории, как ему вздумается. Аугсбургский религиозный мир
был построен на принципе: cujus regio, ejus religio, или, другими
словами: кто владеет страной, тому принадлежит право определять религию
жителей этой страны. Религиозный мир предоставлял жителям только
одно право: выселиться, если их совесть страдала от «душеспасительных»
действий их государя. Такое «спасение душ», т. е. насильственное
обращение жителей в свою религию, протестантские государи совершали
не (в меньшей мере, чем католические.
(«История Германии с конца средних веков»).
619
ОТДЕЛ ДЕСЯТЫЙ
Религия, коммунизм и нравственность
Ф. Энге.тс
РАННЕЕ ХРИСТИАНСТВО И РАБОЧЕЕ ДВИЖЕНИЕ
История первых времен христианства имеет много характерных
точек соприкосновения с современным рабочим движением. Как и
последнее, христианство тоже вначале было движением угнетенных: оно
возникло как религия рабов и вольноотпущенных, бедных и бесправных,
покоренных или подавленных Римом народов. И то, и другое, т. е.
христианство и пролетарский социализм, проповедуют предстоящее
избавление от рабства и нищеты; христианство переносит это избавление в
«потустороннюю» жизнь, после смерти, на небо, социализм видит его в этом
мире, в преобразовании общества. Оба учения терпели преследования и
гонения, их последователи изгонялись, подводились под исключительные
законы, одни в качестве врагов рода человеческого, другие в качестве
врагов государства, религии, семьи и общественного порядка. И,
несмотря на все преследования, или даже прямо благодаря им, оба они
победоносно, беспрерывно прокладывают себе путь вперед. Черев
триста лет после своего возникновения христианство стало признанной
государственной религией Римской мировой империи, а социализм
менее чем в 60 лет завоевал себе положение, которое безусловно
обеспечивает ему победу.
Поэтому, если господин профессор Антон Менгер в своей книге
«Право- на полный продукт труда» удивляется, почему при колоссальной
централизации землевладения во времена Римской империи и при
безграничных страданиях рабочего класса, состоявшего тогда почти
исключительно из рабов, «после падения западно-римской империи не
наступил социализм», то он не замечает как раз того, что этот «социализм»,
поскольку он тогда был возможен, существовал в действительности и
даже добился господства — в лице христианства. Но христианство, как
это иначе и не могло быть в виду исторических условий, хотело
осуществить социальное переустройство' не в этом мире, а в «потустороннем»,
на небе, в вечной жизни после смерти, в предстоящем в недалеком
будущем «тысячелетнем царстве».
Параллель между обоими этими историческими явлениями
напрашивается уже в средние века при первых восстаниях угнетенных крестьян.
620
и в особенности городских плебеев. Эти восстания", как и все массовые
лдажения средних веков, неизбежно носили религиозную окраску,
являясь как бы восстановлением первоначального христианства в эпоху
все усиливающегося разложения1); но каждый раз за религиозной
-экзальтацией скрывались очень осязательные мирские интересы. Лучше
всего это обнаруживается в организации ботемских таборитов под
начальством славной памяти Иоанна Жижки; но эта черта проходит через
все средневековье, постепенно замирал после германской крестьянской
войны, чтобы опять пробудиться у рабочих-коммунистов после 1830 г.
Как французские революционные коммунисты, так особенно Вейтлинг
и его последователи ссылались на христианство первых веков задолго
до того, как Эрнест Ренан сказал: «если хотите получить представление
о первой христианской общине, то присмотритесь к местной секции
интернациональной ассоциации рабочих».
Французский беллетрист, написавший, опираясь на выдающиеся
даже в современной журналистике исследования немецкой библейской
.критики, церковно-историчеокий роман «Происхождение христианства»
{Crigines du Christianisme), сам не знал, сколько правды заключалось
в вышеупомянутых словах. Хотел бы я видеть старого «интернациона-
.листа», у которого при чтении, например1, так называемого второго
послания Павла к коринфянам, в одном по крайней мере отношении,
не вскрылись бы старые раны. Во всем послании, начиная с 8-й главы,
звучит вечный и так хорошо известный жалобный тон: «Les cotisations
не rentrent pas» — взносы не поступают! Сколько ревностнейших
пропагандистов 60-х годов пожали бы многозначительно руку автора этого
послания, кто бы он ни был, со словами: «так и с тобой бывало то же!».
И мы можем кое-что рассказать на этот счет — и в нашей ассоциации
^ыла масса коринфян. Эти непоступающие взносы, которые
недосягаемыми стояли перед нашими взорами Тантала, — вот каковы были
знаменитые «миллионы Интернационала»!
Одним из самых лучших наших источников о первых христианах
является Лукиан из Самосаты, Вольтер классической древности, который
-одинаково скептически относился ко всякого рода религиозным
суевериям и поэтому не имел никакого основания ни с точки зрения
языческой религии, ни с точки зрения политики смотреть на христиан иначе,
*) Характерную противоположность составляют религиозные восстания
магометанского мира, особенно в Африке. Ислам является религией, приспособленной
к восточным странам, особенно же к арабам, т. .е.. с одной стороны, к
городам, занимающимся торговлей и промыслами, с другой — к кочевникам-бедуинам
В этом лежит корень периодически повторяющихся столкновений. Города
становятся богатыми и цветущими и плохо выполняют «закон». Бедуины—смотрят
на эти богатства и наслаждения. Тогда они соединяются под предводительством
лророка, какого-нибудь магди, чтобы наказать отступников, восстановить уважение
к закону и истинной вере и забрать в качестве дани богатства отступников. Спустя
-сто лет они, естественно, оказываются в таком же положении, в каком находились
отступники; необходима новая чистка верований, появляется новый магди, и старая
история начинается снова. Так происходило со времени завоевательных походов
африканских альморавидов и альмогадов в Испанию до последнего магди из Хартума,
так успешно сопротивлявшегося англичанам. То же самое, или почти то же, было
во время восстаний в Персии и в других магометанских странах. Все это —
носящие религиозную окраску движения, вытекающие из экономических причин;
ко даже в случае победы они оставляют нетронутыми старые экономические, условия.
Все остается по-старому, и столкновения становятся периодическими. Напротив того,
р народных восстаниях христианского Запада религиозная окраска служила только
знаменем и маской для нападения aia старевший экономический строй; последний
<быват побежден, наступал новый, и мир шел вперед. — Автор,
621
чем на какую бы то пи было другую религиозную общину. Напротив;
того-, он смеется над всеми ими вследствие их суеверий, — пад
поклонниками Юпитера не меньше, чем над поклонниками христа; с его
рационалистической точки зрения как одно, так и другое суеверие одинаково
нелепы. Этот во всяком случае беспристрастный свидетель рассказывает,
между прочим,5также биографию одного искателя приключений, некоего
Перегрина, называвшегося Протеем, родом из Пария на Геллеспонте.
Вышеупомянутый Перегрин дебютировал в своей молодости в Армении
прелюбодеянием, был пойман с поличным и подвергся по обычаю, страны
линчеванию, но счастливо ускользнул от беды, задушил в Парии своего*
отца и принужден был скрыться. «И тогда случилось, — цитирую по
переводу Шотта, — что он познал премудрость христиан, войдя в близкие
сношения с их священниками и учеными писателями в Палестине. В
короткое время он достиг того, что его учителя казались в сравнении с ним
детьми. Он стал пророком, старейшиной общины, заведующим синагогой,
одним словом, всем. Он толковал их сочинения и сам написал большое
их количество, так что его, наконец, стали считать высшим существом,
заставляли его издавать для них законы и назначили его своим
настоятелем (епископом)... По этой причине (т.-е. как христианин) и Протей
однажды был схвачен властями и заключен в тюрьму... Во время его
заключения христиане, считавшие его арест большим несчастьем", делали
всевозможные попытки освободить его. Но это не удавалось, и тогда они-
стали с необыкновенной заботливостью ухаживать за ним: с
наступлением дня старухи, вдовы и молодые сироты уже стояли перед воротами
его тюрьмы; пользующиеся уважением христиане подкупали даже
тюремную стражу и проводили с ним целые ночи; они приносили туда свои
обеды, читали у него свои священные книти, одним словом, любимец
Перегрин (он тогда еще так назывался) был для них не чем иным, как вторым
Сократом. Даже из некоторых малоазиатских городов являлись к нему
послы от христианских общин, чтобы протянуть ему руку помощи,
утешить его и быть его защитниками на суде. Прямо невероятно, как эти-
люди скоро и везде появляются под рукой, если дело касается их
общины; они не боятся тогда ни трудов, ни издержек. Таким образом,
Перегрин получал деньги со всех сторон, и его заключение стало для него-
источником богатых доходов. Бедные люди дали себя убедить в "том,
что их душа и тело бессмертны и они будут жить вечно, поэтому дело
дошло до того, что они презирали смерть и многие из них даже
добровольно приносили себя в жертву. Кроме этого, их главный законодатель
внушил им мысль, что они все между собой братья, перейдя в его веру,
т. е. отказавшись от греческих богов, поклонившись распятому софисту
и живя согласно его предписаниям. Поэтому они презирали все без
различия внешние блага и владели всем сообща — учение, принятое ими
на веру, без доказательств и критики. И вот, если приходит к ним
ловкий мошенник и умеет воспользоваться положением, то вскоре он может
стать богатым человеком и посмеиваться втихомолку над простаками.
Перегрин был, впрочем, освобожден тогдашним префектом Сирии». О его
дальнейших приключениях там говорится следующее: «И вот наш муж
вторично после Пария начал свое скитальчество по стране, где он вместо
всех путевых денег довольствовался радушием христиан, которые везде
служили ему защитой и во всем его ублажали. В продолжение
некоторого времени он существовал таким образом, но когда он нарушил
законы христиан—я думаю, что его заметили, когда он ел что-нибудь
запрещенное у них, — то они его исключили из своей общины».
622
Какие воспоминания юности встают передо мной при чтении этих,
мест Лукиана!
Вот, во-первых, «пророк Альбрехт», который с 1840 г. буквально-
сделал ненадежными на несколько лет вейтлинговские коммунистические-
общины Швейцарии, — большой, сильный мужчина с длинной бородой,,
прошедший пешком всю Швейцарию, отыскивая слушателей для своегч>
таинственного евангелия спасения мира — но во всем остальном довольно-
безобидный и1 путаный человек. Он вскоре умер. Вот его менее
безобидный последователь «д-р» Георг Кульман из Голштииии, который
воспользовался заключением Вейтлинга, чтобы склонить к своему евангелию-
общины французской Швейцарии и некоторое время с таким успехом,
что переманил даже самого даровитого, хотя и самого большого гуляку
из них — Августа Беккера. Этот Кульман читал им лекции, изданные
в 1845 г. в Женеве под названием: «Новый мир или государство духа
на земле. Возвещение». В предисловии, составленном его
последователями (вероятно, Августом Беккером), говорится:
«Не было человека, который бы высказал все наши страдания, все-
стремления и надежды, одним словом, все, что волнует наше время
до глубины души... Этот человек, которого ждет наше время, появился.
Он — д-р Георг Кульман из Голштинии. Он явился с учением о новом
мире или о царстве духа в действительности».
Не к чему прибавлять, что это учение о новом мире является не чем
иным, как самым обыкновенным чувствительным вздором, составленным
в полубиблейских выражениях, в духе Ламеннэ и изложенным с
пророческим высокомерием. Это, конечно, не помешало добрым вейтлингиан-
цам носить на руках этого мошенника, подобно тому, как азиатские
христиане делали это с Перетрином. Они, бывшие последователями
подлинного демократизма и равенства до такой крайней степени, что питали
неискоренимую ненависть ко всякому школьному учителю, журналисту,
вообще не ремесленнику, как к «ученым», которые хотят их эксплоати-
роватъ, они дали себе внушить мелодраматическим кривляниям
Кульмана мысль, что в «ловом мире» самый мудрый — то-есть Кульман —
будет регулировать распределение наслаждений, и поэтому уже теперь,
в старом мире, ученики его должны этому мудрейшему доставлять
удовольствия полными пригоршнями, а сами должны довольствоваться
крохами. И Перегрин-Кульман жил в продолжение некоторого времени
прекрасно, в удовольствиях на счет общины. Правда, это не долго
продолжалось: растущий ропот сомневающихся и неверующих, грозящие
преследования со стороны правительства кантона Ваадта положили конец;
«царствию духа» в Лозанне, и Кульман исчез.
Всякому, кто по опыту знаком с начальной эпохой европейского
рабочего движения, вспомнятся дюжины подобных примеров. В
настоящее время такие крайности невозможны, по крайней мере, в крупных
центрах, но в отдаленных местностях, где движение завоевывает только
себе почву, Перегрин в миниатюре может еще рассчитывать на
временный, ограниченный успех. И как во всех странах к рабочей партии
примыкают вое элементы, которым нечего ожидать от официального мира
или которые ничего от него не получили: противники оспы, поборники
умеренности, вегетарианцы, антививисекционисты, гидропаты,
проповедники свободных общин, общины которых разложились, авторы новых
теорий о происхождении мира, неумелые или неудачливые изобретатели,
пострадавшие от действительных или мнимых несправедливостей,
прозванные бюрократией «бесполезными жалобщиками», честные глупцы и
623
'бесчестные мошенники, — так и у первых христиан были такие элементы.
Все элементы, которые освободил, т. е. сделал лишними, процесс
разложения старого мира, стремились один за другим в сферу притяжения
христианства, как единственного элемента, который противостоял этому
разрушительному процессу — так как это был его собственный
неизбежный продукт — и который поэтому удержался и рос, в то время как
другие элементы были только преходящим явлением. Не было такой
фантастической мечты, глупости или прожектерства, которые бы не имели
доступа в молодые христианские общины или, по крайней мере, не
нашли бы в некоторых местах и на некоторое время последователей и
слушателей. Как и наши первые коммунистические рабочие общины, так
и первые христиане отличались беспримерным легкомыслием по
отношению ко всему, что подходило к их взглядам, так что мы не уверены,
не попал-ли -в наш «Новый Завет»' один или несколько отрывков из
«большого количества сочинений», составленных Перегрином для христиан.
(«К истории первоначального христианства»).
Социальные принципы христианства имели в своем распоряжении
1800 лет, чтобы развиваться, и ни в каком дальнейшем развитии со
стороны попов не нуждаются. Социальные принципы христианства
оправдывали античное рабство, превозносили средневековое крепостничество
и умеют также, в случае нужды, защищать, хотя и с жалкой гримасой,
современное угнетение пролетариата, Социальные принципы
христианства проповедуют необходимость существования классов —
господствующего и порабощаемого, и для последнего у них находится лишь
благочестивое пожелание, чтобы первый ему благодетельствовал. Социальные
принципы христианства переносят на небо обещанное попами
вознаграждение за все перенесенные мерзости и тем самым оправдывают
продолжение этих мерзостей на земле. Социальные принципы христианства
провозглашают все гнусности угнетателей против угнетаемых либо
справедливым наказанием за первородный и другие грехи, либо испытанием,
которое господь в своей премудрости ниспосылает искупленным им
людям. Социальные принципы христианства превозносят трусость,
презрение к самому себе, самоунижение, подчинение, смирение, — словом,
«се качества черни, а для пролетариата, который не желает, чтобы с ним
обращались, как с отробьем человечества, для пролетариата смелость
самосознание, чувство гордости и независимости важнее хлеба. На
социальных принципах христианства лежит печать пронырливости и
ханжества, пролетариат' же — революционен. Таковы социальные принципы
христианства.
(«Коммунизм Рейнского Обозревателя»).
К. Каутский
СУЩНОСТЬ ОТЛИЧИЯ ХРИСТИАНСТВА ОТ СОЦИАЛИЗМА
Христианство победило лишь тогда, когда оно превратилось в
полную противоположность тому, чем оно являлось первоначально. Мы
видели, что в христианстве победу одержал не пролетариат, а эксплоатирую-
щее его и господствующее в нем духовенство. Христианство победило не
•€24
&шк революционная, а как консервативная сила, как новая опора гнета
и экшлоатации. 0ж> не только не устранило императорскую власть,
рабство, нищету масс и концентрацию богатства в немногих руках, а
укрепило все это. Организация христианства — церковь—-победила благо*-
даря тому, что изменила своим первоначальным целям и стала
отстаивать нечто совершенно' противоположное.
Если победа сощиал-демократии *) должна совершиться в таком же
порядке, как победа христианства, то действительно следует отречься,
1Шько не от революции, а от социал-демократии, ибо тогда, с
пролетарской точки зрения, социал-демократия заслуживает самых резких
обвивший, и нападки анархистов на нее вполне основательны. И в самом
деле, опыт с социалистическими министрами во Франции, которые как
в буржуазных, так и в социалистических кругах, пытались применить
христианский метод огосударствления прежнего христианства — по
иронии судьбы это было сделано для борьбы с нынешним государственным
христианством — имел последствием лишь усиление полуанархистского
антисоциал-демократического синдикализма.
Но, к счастью, параллель между христианством и
социал-демократией в данном случае совершенно неуместна.
Прежде всего пролетариат в настоящее время обладает совершенно
иными свойствами, чем в эпоху первоначального христианства. Правда,
традиционное воззрение, будто свободный пролетариат в то время состоял
исключительно из нищих, и рабы были единственными рабочими,
страдает преувеличением. Но не подлежит сомнению, что рабский труд
развращающе действовал также и на свободных трудящихся пролетариев,
которые по преимуществу были заняты в домашней промышленности.
Идеалом, трудящегося пролетария, точно так же, как и идеалом бедняка,
являлось в то время добиться беззаботного существования за счет
богачей, которые должны выжать необходимое количество продуктов
из своих рабов.
К тому же христианство в первые три столетия было исключительно
городским движением, а городские пролетарии того времени, в том числе
и трудящиеся, имели все слишком ничтожное значение для общества.
Его производительным базисом я&ггялось исключительно сельское
хозяйство, с которым были связаны весьма важные отрасли иромьппленности.
Все это привело к тому, что главные носители христианского
движения, свободные городские пролетарии, как трудящиеся, так и лентяи,
не имели ощущения, что общество живет благодаря им. Наоборот, все
они были .проникнуты стремлением жить за счет общества, ничего, не
делая. В их государстве будущего труд не играл никакой роли.
О этим с самого начала было связано то, что, не взирая на всю
классовую ненависть к богатым, постоянно проявлялось стремление
апеллировать к их благосклонности и щедрости. Тяготение церковной
бюрократии к богачам не встречало поэтому устойчивого сопротивления
среди массовых членов общины точно так же, как не встречало его и
высокомерие самой бюрократии.
Экономические и моральное босячество пролетариата в Римюкой
империи еще усилилось вследствие понижения жизненного уровня всего
общества, которое все' более беднело, опускалось и производительные
силы которого падали все ниже и ниже. Тогда безнадежность и отчаяние
*) Когда Каутский это писал, в 1908 г., компартий еще не существовало,
*а теперь <ш ;воюет с коммунистическим движением, отстаивая зсрайний оппортунизм
-сош^дем'Окра'РИ'И, стаявшей партией сощшг-фа'Швэма. — Прим. ред.
Г. Гурев 40
62&
охватили все классы, парализовали их самодеятельность и заставила
ожидать спасения только от чрезвычайных сверхъестественных сил,
сделали их безвольной добычей всякого хитрого обманщика, всякого
энергичного и самоуверенного авантюриста и вынудили отказаться, как от
безнадежного дела, от всякой самостоятельной борьбы против какой-
либо из господствующих сил.
Нечто совершенно иное представляет собою современный
пролетариат. Он является пролетариатом труда и он знает, что на его плечах
покоится все общество. При этом капиталистический способ
производства передвигает центр тяжести производства все более и более из сель-
ежих местностей в промышленные центры, в которых духовная и
политическая жизнь пульсирует сильнее всего. Промышленные рабочие этих
центров, как наиболее энергичные и интеллигентные, становятся теперь,
тем элементом, от которого зависит судьба всего общества.
При этом господствующий способ производства колоссально
развивает производительные силы и таким образом увеличивает притязания,
которые рабочие ставят обществу, одновременно с тем увеличивая также
и способность общества удовлетворить этим требованиям. Рабочие
исполнены радостных надежд веры в будущее и веры в самих себя, подобно
тому, как до них, в период своего подъема, исполнена была этими
чувствами буржуазия, когда она стремилась разорвать цепи феодального,
церковного и бюрократического господства и эксплоатации, для чего рост
капитализма дал ей необходимые силы.
Происхождение христианства совпадает с крушением демократии'.
Три столетия его развития, до того как оно было признано государством,
являются периодом беспрерывного исчезновения последних остатков
самоуправления и вместе с тем периодом беспрерывного падения
производительных сил.
Современное рабочее движение берет начало в грандиозной победе
демократии, в Великой французской революции. Столетие, истекшее
с тех пор, несмотря на вое перемены и колебания, свидетельствует о
беспрерывном прогрессе демократии, почти сказочном нарастании
производительных сил и росте пролетариата не только в численном отношении,
но и в смысле самостоятельности и ясности самосознания.
Достаточно уловить эту разницу, чтобы понять, что развитие4
социал-демократии ни в каком случае не может пойти по тому пути, по
которому пошло христианство, и что нет оснований опасаться, что из рядов
его выйдет новый класс господ эксплоататоров, которые разделят
добычу с представителями старой власти.
Если в Римской империи способность и готовность пролетариата
к борьбе все более падают, то в современном обществе они, наоборот,
возрастают, а классовые противоречия явно обостряются, так что уже в силу
этого должны рушиться вое попытки склонить пролетариат к отказу от
борьбы, путем сделки с его руководителями. Там, где такие попытки
предпринимались, участники их вскоре оказывались лишенными под-
дежки своих сторонников, как бы велики ни были их прежние заслуги
перед пролетариатом1).
Но не только пролетариат и та политическая и общественная среда,
в которой он развивается в настоящее время, резко отличаются от того,
что было в эпоху первоначального христианства. В настоящее время сам
1) Эта мысль является пророческим предсказанием Каутского по отношению
к самому себе (в то время — .в 1906 г.—он стоял на революционной позиции).—
Прим. ред.
626
коммунизм приобрел совершенно иной характер, и условия ого
осуществления тоже радикально изменились.
Стремление к коммунизму, Потребность в нем проистекают, правда,
и теперь из того же источника, что и раньше, из бедности. И пока
социализм оставался только социализмом чувства, только выражением этой
потребности, он и в современном рабочем движении выражался порою
в тех же стремлениях, что и в эпоху первоначального христианства.
Но достаточно самою ничтожного понимания экономических условий,
чтобы признать, что коммунизм в наше время принял совершенно иной
характер, чем тот, который был свойственен коммунизму первобытного
христианства.
Концентрация богатств в немногих руках, которая в Римской
империи шла рука об руку с беспрерывным падением производительных сил
и отчасти вызывала это падение, та же самая концентрация стала в
настоящее время основанием для колоссального роста производительных
сил. Есйи раздел богатств в то время не причинял ни малейшего ущерба
производительности общества, а, наоборот, мог ему содействовать, то
в настоящее время такой раздел равносилен полной остановке
производства. Современный коммунизм и не может помышлять о том, чтобы
равномерно распределить богатства. Наоборот, он стремится к возможно
большему усилению производительности труда и более равномерному
распределению продуктов труда тем, что доводит до крайности
концентрацию богатства, превращая его из частной монополии некоторых
капиталистических групп в общественную монополию.
Зато современный коммунизм, если он стремится отвечать
потребностям человека,, выросшего в современных условиях производства,
должен будет в полной мере сохранить индивидуализм в потреблении. Этот
индивидуализм не означает отделения индивидов друг от друга при
потреблении; хотя он, конечно, может проявляться и в общественных
формах в виде общественного потребления, и так и будет проявляться.
Индивидуализм потребления не означает также упразднения крупных
предприятий для производства продуктов потребления; не означает
замены машины ручной работой, как мечтают некоторые социалисты-эстеты.
Но индивидуализм потребления требует, свободы в выборе предметов
потребления, а также и свободы в выборе общества, в котором человек
пользуется этими предметами.
Городская народная масса эпохи первоначального христианства не
знала никакого общественного производства. Крупное производство со
свободным рабочим трудом почти не встречалось в городской
промышленности. Но этой массе были известны и хорошо знакомы общественные
формы потребления, часто устанавливаемые общиной или государством,
особенно в виде общественного питания.
Таким образом, первобытный христианский коммунизм отличался
разделом богатства и однообразием потребления. Современный
коммунизм отличается концентрацией богатства и производства.
Первобытный христианский коммунизм не нуждался для своего
осуществления в том, чтобы действие его было распространено на все
общество. Можно было начать осуществлять его в пределах какого1
угодно круга, и поскольку ему удавалось принимать длительные формы,
они по свойствам своим были таковы, что их нельзя было применить
ко всему обществу.
Поэтому первобытный христианский коммунизм должен был в конце
концов повести к возникновению новой формы аристократии и должен
40*
621
был развить эту внутреннюю диалектику уже в пределах того общества,
которое он нашел. Он не был в состоянии упразднить классы, а мог
только наделить общество новыми господами.
Наоборот, современный коммунизм при колоссальном размере
средств производства, при общественном характере 'способов
производства, при чрезвычайной концентрации важнейших объектов богатства,
не имеет никакой возможности осуществиться в размерах меньших,
нежели общество в его целом. Все попытки осуществить его в виде
создания мелких 'социалистических колоний или производительных
товариществ — еще в пределах данното общества — потерпели неудачу. Он не
может быть создан посредством учреждения мелких союзов в пределах
капиталистического общества, союзов, задачей которых являлось бы, по
мере постеленного роста, всосать в себя это капиталистическое общество.
Современный коммунизм может осуществиться только благодаря
приобретению власти, которая в состоянии подчинить себе всю
общественную жизнь и преобразовать ее. Такою властью является
государственная власть. Поэтому завоевание политической власти
пролетариатом является первым условием осуществления современного
коммунизма.
Доколе пролетариат не в состоянии это сделать, до тех пор о
социалистическом производстве не может быть и речи. А следовательно и
нельзя говорить, что развитие этото производства создает противоречия,
вследствие которых разумное превращается в бессмыслицу, а
благодетельное оказывается несчастием и полезное оказывается губительным
Но даже если пролетариат завоюет политическую власть, то и тогда
социалистическое производство не может сразу начать действовать в
готовом виде. Но только с этото момента экономическое развитие внезапно
направится в другую сторону, не в сторону заострения {капитализма,
а в сторону постепенното создания общественного производства. Когда
последнее, в свою очередь, вызовет такие противоречия и обнаружит
такие недостатки, которые поведут к дальнейшему развитию по путям, в
настоящее время совершенно неведомым, об этом сейчас судить невозможно,
ш нам не стоит этим заниматься.
Поскольку можно проследить современное социалистическое
движение, нельзя допустить, что оно вызовет явления, сколько-нибудь
похожие на то, что создано христианством в качестве государственной
религии. Но тем самым исключена и возможность, что современное
пролетарское освободительное движение в своей победе последует примеру
христианства и победит таким же способом.
Для борцов пролетариата победа не будет столь леткой, как она
оказалась для епископов IV столетия.
Но утверждать, что социализм не породит противоречий, сколько-
нибудь похожих на те, которые возникли в христианстве, можно не только
для периода, который будет продолжаться до этой победы. То же самое
с значительной дозой уверенности можно утверждать и относительно того
времени, когда обнаружатся последствия этой победах, которых сейчас
еще нельзя предвидеть.
Дело в том, что капитализм создал условия, позволяющие построить
общество на совершенно новом основании, резко отличающемся от тех
оснований, на которых оно строилось в течение всего времени, пока
существовали классовые различия. Если до сих пор всякий новый
революционный класс или новая революцио^нная партия, даже если они шли
значительно дальше, чем признанное Констанпгном христианство, даже
628
если они действительно устраняли имеющиеся классовые различия, все-
таки были не в состоянии упразднить все классы, но всегда на место
устраненных классовых различий они ставили новые, то в настоящее
время уже даны материальные условия для того, чтобы устранить все
классовые различия, и современный пролетариат должен в силу своего
классового интереса использовать эти условия, ибо он в настоящее время
является самым низшим классом, в отличие от эпохи христианства, когда
под пролетариатом еще были рабы.
Таким образом, социал-демократия не только должна притти к вяа-
оти совсем другим путем, нежели христианство, но она должна также
достичь совершенно иных результатов. Она должна навсегда положить
конец классовому господству.
(«Происхождение христианства»).
А. Бебель
НЕПРИМИРИМОСТЬ ХРИСТИАНСТВА И СОЦИАЛИЗМА
Христианство не только не «лучшее» и не «совершеннейшее» из
учений, но оно не лучше и не совершеннее всех остальных религий, т.-е.
оно недостаточно и несовершенно. Устранение его, с точки зрения
прогресса человечества, становится все большей и большей необходимостью.
А мораль христианства!—воскликнете вы1). Мораль не имеет ровно
никакого отношения ни к христианству, ни к религии вообще. Мораль
совершенно различна на разных ступенях человеческой культуры. У всех
народов имеются определенные правила отношений человека к человеку,
соблюдение которых в интересах всех считается необходимым. Без таких
правил не может существовать ни одно общество. Нарушение их
считается безнравственным и вызывает или только выражение недовольства
со стороны третьих лиц, или же влечет за собой материальную или
физическую кару, которая приводится в исполнение над преступниками
общественными властями. Как различно, даже в пределах католической
церкви, рассматриваются известные обычаи, при чем одна часть людей
смотрит на них, как на явления вполне нравственные и естественные,
а другая, как на безнравственные, а потому достойные презрения,—могут
додазать два примера. Взгляд на то, что брак даже без церковного
благословения вполне действителен, французский католик находит в порядке
вещей; благочестивый же немецкий католик смотрит на такой брак, как
на конкубинат (незаконное сожительство), а, стало быть, как на нечто
очень безнравственное. Полное отделение церкви от государства
североамериканский католик находит само собой разумеющимся;
большинство же немецких католиков смотрит на это, как на постыдное
предательство церкви со стороны государства. Заповедь любви к ближнему, любви
ко всему человечеству, заповедь обоюдной терпимости—эти учения все
без исключения содержатся как в буддизме, так и в магометанстве. Они
признаются всеми народами, достигшими известной ступени развития,
и применяются на практике среди индусов, китайцев, персов и арабов
гораздо более чем в христианстве, которое все эти хорошие вещи ста-
*) Ответ (в 1874 г.) на письмо священника Гогофа в немецкую
социалистическую газету. — Прим. ред.
629
рается проводить только для «будущей жизни», Христианская религия,
эта религия любви, в течение более 18 столетий для всех веруюнщх
и мыслящих была религией ненависти, преследований и притеснений.
Ни одна религия в мире не стоила человечеству стольких слез и крови,
как христианская, ни одна не дала стольких поводов к преступлениям
самого отвратительного свойства. А когда дело идет о войне или маооовом
убийстве, то священники всех христианских исповеданий и сейчас еще
готовы дать свое благословение, и вое духовенство одной нации воздевает
руки к небу, чтобы у одного и того же бога, бога любви, испросить
уничтожение своего врага из другой нации.
Если в настоящее время церковь и не угнетает в такой мере, как
раньше, то повинны в этом не священники, не служители церкви, а общий
прогресс человечества, который оказался победителем, несмотря на
священников и церковь и вопреки им. Вы говорите, что нельзя упрекать
религию в действиях и поступках отдельных служителей церкви. Ах,
почтеннейший! но если эти священнослужители не в виде исключения,
а как правил® с древних времен до сегодняшнего дня, совершенно не
обращают внимания на нравственные правила религии, которые, я
подчеркиваю это вторично, ровно никакого отношения к религии не имеют,
и, наоборот, изо дня в день грешат против них, то чего же в таком случае
стоит эта религия? Наиболее ревностные из верующих, когда они
воображали, что творят добро, только вредили человечеству, потому что во
всяком потрясении догмы они видели ересь, в каждом сомнении в основах
религии усматривали важное преступление и неистовствовали против них
с огнем и мечом. Крестовые походы, бесчисленные религиозные гонения,
инквизиция, преследование евреев, процессы ведьм, в которых сотни
тысяч людей отдавались в жертву слепому безумию, были вызваны
и раздуты фанатическими священнослужителями, умнейшими и
хладюжровнейшими из них, для расширения могущества церкви,—
другими словами, их могущества, и нередко поддерживались просто
ради грабежа.
Христианство враждебно свободе и культуре. Своим учением
пассивного повиновения «властям предержащим», иже «от бога учинены
суть», своей проповедью терпения и прощения в страданиях, проповедаю,
пбдкрепленною обещанием, что за все невзгоды, перенесенные здесь, ,на
земле, будет получена награда в иной жизни, христианство отклоняло
человечество от его цели: совершенствоваться во всех отношениях,
стремиться к высшему развитию, радоваться и наслаждаться уже
достигнутыми благами. Христианство держало человечество в рабстве и угнетении;
оно и в настоящее время служит лучшим орудием политического и
социального гнета. После падения греческой и римской культуры
христианство господствовало в Европе больше тысячи лет, и вое это время над
народами тяготело самое грубое невежество и варварство. Во время
господства мавров и арабов Испания достигла высшего расцвета в земледелии,
ремеслах, искусствах и науках, и вся страна жила в довольстве. В то же
самое время, т.-е. иод владычеством этих «язычников», христиане и евреи
пользовались там полнейшей веротерпимостью, которая, по крайней мере
для евреев, едва достигнута в наших культурнейших государствах в самое
недавнее время. Но лишь только мавры были вытеснены христианским
оружием, а христианство стало господствовать единовластно, как
Испания превратилась в очаг фанатизма и религиозных гонений. Цветущие
города и провинции превратились в пустыни, блеск арабской науки
исчез, и страна была ввергнута в такие неблагоприятные культурные
630
условия, от которых никак не может оправиться и до сих пор. Развитие
наук и искусств, которое началось в Италии в XII, а в Германии
в XV столетиях, ни в коем случае нельзя приписывать христианству. Оно
явилось следствием изучения древне-классической языческой
литературы, которая была извлечена из-под мусора и пыли, где она была
погребена христианством. Снова появившись на свет, литература эта, на зло
церковным тонениям и всяческим препятствиям, начала проникать во
все более широкие круги людей и влекла человечество на путь прогресса.
Религия же была только средством для цели: достигнуть господства над
массами и все более и более закрепить его.
Факт тот, что знаменитые и дальновидные люди различных времен
(Аристотель, Маккиавелли) смотрели на религию лишь как на средство
для достижения цели. Но я нахожу не лишним упомянуть и о мнениях
и деяниях некоторых церковных авторитетов. Епископ Оинезий в 410 году
по Р. X. говорил: «Народ положительно требует, чтобы его обманывали,
иначе с ним никак невозможно иметь дело... Что касается меня, то
я всегда буду философом только для себя, для народа же — только
священником», а это значит — обманщиком. Приблизительно то же писал
Григорий Нацианский (Богослов) блаженному Иерониму: «Надо побольше
небылиц, чтобы производить впечатление на толпу. Чем меньше она
понимает, тем больше она восхищается. Наши отцы и учителя не всегда
говорили то, что думали, а то, что влагали в их уста обстоятельства
и потребности».
В царствование папы Юлия II (1475—1513) при римском дворе
господствовала жизнь, которая превосходила все возможное в распутстве,
разврате и богохульстве. Когда из благочестивой Германии приходили
большие денежные пожертвования, папа говорил одному из своих
кардиналов достопамятную фразу: «Смотри-ка, брат, ведь, басня-то об Иисусе
Христе штука доходная». Как оценивал французский посол в XVI
столетии придворные правы времен папы Павла III, показывает следующее
место из его письма к своему двору: «Папа и ето министры (кардиналы)
до сих пор всячески обманывали вас; теперь они стараются укрыться
под маской лицемерия и наглой лжи, чтобы совершить настоящую
подлость». В войне с добрыми католиками испанцами для нападения на
испанскую Сицилию и Неаполь папа Павел VI призывал себе на помощь
не только протестантов, но и исконных врагов христиан (турок). Папа
Александр VI жил в кровосместителъстве со своей собственной дочерью,
известной развратницей Лукрецией Борджиа. Однажды, котда на одном
яиру он хотел отравить семерых кардиналов, те узнали это, подкупили
повара и заставили его отравить самого папу вместе с его сыном: кроме
дочери у папы, который жил в безбрачии, был еще и сын.
Вы оспариваете верность моего положения, что государство и
церковь братски соединяются каждый раз, когда дело идет об
угнетении народа, но совершенно забываете привести доказательства
прошв этого.
Если 'какое-нибудь государство и должно было бы явить собой
пример образцового христианского государства, то это, конечно, Рим,
который находился под непосредственным управлением папы и высшею
духовенства. А, между тем, какую картину представляло это церковное
государство до последнего дня своего существования? Самую печальную,
какую можно только было отыскать в Европе. Позорно заброшенное
& погрязшее в суеверии и невежестве население; труд унижен и угнетен,
вследствие чего господствует бесстыдное попрошайничество и ужасная
631
повальная .нищета. Количество преступлений больше, чем в каком бы то
ни было государстве на свете; полная необеспеченность вошла даже
в поговорку, а заповедь христианской любви к ближнему, которая прежде
всего должна была выразиться в терпимости к иноверцам, попрана ногами,
И это — образец христианского государства. Во всех европейских
государствах, где представители церкви—безразлично будь то протестанты
или католики — имели решающий голос в государственном управлении
или в народном представительстве, всюду они употребляли свое влияние^
на возвращение или усиление враждебной народу власти. И если в
настоящий момент Германия' делает, повидимому, исключение по отношению
к католическому духовенству *), то это только так кажется. Политика
самая неразумная, какую только мог придумать государственный деятель
из господствующих классов, привела католическое духовенство в
положение угнетенного и тем самым заставила его выступить с такими
требованиями, которых в ином случае оно никогда бы не выставило и, не
одобрило. Какое положение занимали недавно вожаки и известные
представители католицизма (те, кто слепо и бессознательно шли за, вожаками,
в расчет не принимаются) в Баварии, Пруссии и других местах,
достаточно известно. Они всегда стояли на правой, даже на крайней правой,
что также наблюдается в настоящее время в Австрии и в особенности
во Франции, и в недалеком будущем будет и в Германии. В этом мы
нисколько не обманываемся. Да разве это может быть иначе?
Прогресс человечества требует, чтобы всякой привилегии, всякому
господству была объявлена война; церковь пользуется не меньшим господством
над народом, чем правительство, пытаясь бороться со всем, что служит
к их уничтожению, т. е. с наукой и образованием, к которым стремится
социализм.
Социализм является самым настоящим народным и человеческим
учением, потому что он в действительности желает применить в жизни
те нравственные законы, которые для церкви в течение 18 веков служили
только вывеской и употреблялись ею лишь для подавления и угнетения
масс. Социализм хочет осуществить всеобщее равенство, всеобщую
любовь и всеобщее счастье не потому, что их проповедывали Будда, Иисус
и Магомет, а потому, что сами по себе они являются целью, идеалом,
который чувствовало и к которому бессознательно стремилось
человечество всех стран, всех государственных устройств и всех вероисповеданий.
Оно достигло бы этого идеала и тогда, если бы не существовало ни Будды,
ни Иисуса, ни Магомета. Представляя себе землю, как юдоль
страданий, учителя эти неоднократно проповедывали умеренность и
воздержание и указывали человечеству на будущую жизнь. А между тем нет
(да и не может быть) никаких данных, подтверждающих существование
этой другой жизни, потому что она немыслима, и вера в нее только
накладывает оковы на человеческие стремления и препятствует
человеческому прогрессу.
Все хорошее, что возникало во время господства христианства,
принадлежит не ему, а всего того огромного зла и несчастия,
которое принесло с собой оно, мы не хотим. Вот в двух словах наша
точка зрения.
Итак, г. священник, вы теперь поймете, как бесконечно далеки наши
стремления от стремлений христианства.
*) Речь идет о мерах Бисмарка против католического духовенства (эта борьбам
продолжалась недолго и закончилась полным примирением католиков с
правительством).— Прим. ред.
632
Ваши епископы, ваши каноники (соборные священники), ваши
графы, бороны и буржуа, которые являются руководителями, стоят во*
главе католического движения, это люди не наши. Они не желают ни
равенства, ни счастья человечеству, потому что, будь это иначе, им
пришлось бы, если не отказаться совсем от своего привилегированного
положения, то, во всяком случае, поступиться им, чтобы доставить победу-
тому благу человечества, к достижению которого они, якобы, стремятся
Наоборот, "они являются главными защитниками привилегий и классового
господства; они хотят не справедливости, а благотворительности, не
равенства, а смиренной покорности, не знаний, а веры.
И в то время, как народ жаждет и стремится к человеческому
существованию и хочеть видеть результаты своего труда и стараний, они
проповедуют ему довольство настоящим положением и утешают ето
указанием на небо, сами же живут господами и проводят время в
удовольствиях, пользуясь плодами трудов других. Католический народ, который
заботится и трудится и который до сих пор следовал за этими людьми,
этот н^род принадлежит нам, и мы надеемся, что наступит еще деньг
когда и у -них откроются глаза, чтобы шглянуть на нашу сторону. Если
затем в наши ряды вступит обездоленное и угнетенное низшее
духовенство, что-ж, отлично, милости просим 1). Тогда-то они поймут, что те
идеальные стремления, которые они напрасно пытались осуществить при
помощи церкви, будут осуществлены в наших рядах и черев нас. Они
увидят, что у нас для них имеется лучшая задача, чем выполнение пустых
формул их религии, которая до сих пор, подобно всякой другой религии,
служила лишь тормозом действительному совершенствованию
человечества. По ъашему"собственному утверждению, вы, г. священник,
обеспечены хуже какого-нибудь лакея или горничной и -ведете щизнь самого
последнего пролетария. А между тем, епископ -ваш живет, как большой
господин, и в качестве такового пользуется доходами и почестями. Если
бы христианство желало, как вы говорите, того же, что и социализм, то
каким же образом могло бы оно создать такую систему различия
положений, такое неравенство и защищать это, как «богом установленный
порядок»? Разве может такая религия заслужить наше уважение и наше
одобрение? Или <вы потребуете от нас, чтобы мы стали ждать общего блага
и возможно высшего счастья человечества до тех пор, пока их не
принесет нам религия? Эта религия, которая существует вот уже 19 столетий,
и до сих пор не сумела убедить собственных служителей в необходимости!
исполнять свои так называемые принципы.
Нам пришлось бы ждать целую вечность, а жизнь человеческая
коротка. Нет, нет! Даже если бы вы еще тщательней стали отыскивать
разницу между церковью и ее «отдельными» служителями, там вое рашго*
не только не удалось бы это, но и не может удасться.
То, что вы приводите как исключение, есть правило, принцип,
а ваше правило есть исключение. Но ведь вы знаете, что исключение
никогда не уничтожает правила.
Итак, для меня совершенно невозможно согласиться с вашим-
взглядом, что христианство стремится к тому же, к чему — и социализм.
Христианство и социализм противостоят друг другу, как огонь и вода.
Так называемое доброе зерно, которое вы, но не я, находите в
христианстве, не есть христианское, а — общечеловеческое. То же, что принадле-
1) Бебель совершенно неправильно понимал •социалистический (принцип
«религия— частное дело», и, поэтому, допускал возможность приема в- партию
пролетариата лиц духовного звания. — Прим. ред.
638*
жит собственно христианству (его учение и догмы), враждебно
человечеству. Выбраться из этого противоречия между вашей теорией и
практикой я предоставляю вам самим.
(«Христианство и социализм»).
И. Дицгеи
ИДЕОЛОГИЯ ХРИСТИАНСТВА И СОЦИАЛИЗМА
Говорят, христос — первый социалист. Но социализм и
христианство отличаются друг от друга, как день tor ночи. Правда, тут есть кое-что
ж общее. Но в чем разница? Где сходство? День и ночь сходны тем, что
они составляют определенный момент безграничного времени. Дьявол
и архангел, несмотря на то, что у одного из них черная кожа, у другого
белая, сходны, однако, в том, что кожа-то есть у обоих. Специальная
особенность нашей интеллектуальности сказывается в том, что мы
способны самые разнообразные вещи подводить под одно общее понятие.
Если бы даже христианство и социализм имели много общего, то
все же тот, кто христа произвел с социалисты, заслужил бы титул
«генерала от общественного затмения».
Однако недостаточно еще указать общие черты: необходимо понять
и разницу между ними. Наша задача имеет в виду не черты, общие
социализму и христианству, а то, что присуще первому, чем он выделяется
и чем отличается от второго.
Выше мы назвали христианство религией рабства. И на самом деле,
это самая существенная, отличительная его черта. Все религии вообще
пропитаны рабством, но христианство—самая рабская из рабских.
Возьмем выражение, пользующееся наибольшим правом гражданства. Перед
нами крест с надписью: «Милосердия, всемилостивейший христос! Проси
за нас, св. Мария!» Здесь оказываается безграничное смирение
христианства, построенное на полнейшем сострадании. Ибо, кто всю свою надежду
возлагает на сострадание, тот на самом деле — жалкое творение. Человек,
исходящий из веры во всемогущество божье, ползающий в прахе пред
судьбами и силами природы и в обморочном состоянии молящий о
сострадании, такой человек — негодный член нашего современного общества.
Если современные христиане уже не те люди, если они смело встречают
бурю, которая низвергается со страшною силою, если они стремятся
исцелить немощь путем активности, то тем самым они уже свидетельствуют
о своем отпадении от религии. Хотя христиане и сохраняют свое имя, свои
молитвенники и благочестивое сострадание, но все же по деяниям, по
поступкам своим они уже совсем не христиане. Мы, неверующие
демократы, стремимся к ясному пониманию положения вещей. Активные и
сознательные, мы деятельные враги кроткой, благочестивой преданности.
В силу уже издавна присущей людям плохой привычки, человек
стремится «сохранить на вечные времена то, что при известных условиях было
ему полезно. Низость, тупоумие стремятся утаить, затушевать и
примирить противоположность между христианским презрением к миру и
жизнерадостными стремлениями, которые господствуют в наше время.
Христианство требует отречения, а современность — энергичного
труда для удовлетворения наших материальных потребностей. Упование
на бога — самая существенная сторона христианина, прямая
противовес
положность вере в себя, столь необходимой для продуктивного труда.
Кто думает приписать христианству слова: «Полагайся на бога, но не
зарывай своих талантов», и говоря так. хочет указать на то, что труд
вовсе не противоречит христианству, а напротив, предписывается им,
тот самый отъявленный софист. Понятие христианства о труде
бесконечно отличается от современного понятия. Христианин трудится
для загробной жизни, в целях умерщвления плоти и подавления
страстей. И хотя он добывает свой хлеб и стремится к поддержанию
жизни, но это только затем, чтобы продлить муки земной скорби,
земной печали и через это удостоиться истинной вечной жизни. «Кто на
земле презирает свою жизнь, тот получит ее для вечного бытия».
Загробная жизнь—цель христианина, а повседневный мир—цель
разумного человека. Гейдельбергский доктор теологии Даниил Шенкель спорит
против утверждения, что христианство, главным образом, состоит в
презрении тс земным благам. «Как, — восклицает он, — неужели этот мир —
недостойное место для христианства, этот мир, о котором Иоанн сказал:
.,Бот так любит мир, что послал в него своего сына!". Разве древние
-христиане стремились оставить о$ое земное существование? Разве они
в большей степени не ждали, что Христос опустится к ним на землю,
как победоносный и мудрый царь, чтобы заменить дурной земной
порядок другим, лучшим и все-таки земным?». Так рассуждает
этот софист, желающий, главным образом, красивыми словами
украсить религию христианства и не интересующийся вовсе
сущностью дела. Но, стремясь одурачить других, он, в конце концов,
одурачил самого себя. Разве он не знает, что христианство, как и
Пруссия, имеет две стороны: одну черную и другую белую? На
прекрасный, пестрый мир действительности хриетос набросил черный флер:
его красота — соблазн дьявола, его труд — проклятие, его любовь—■
греховна, вожделение плоти — бремя, помеха для духа, тело — грязная
оболочка.
Словно заколдованный принц, превращенный в зверя, белый свет
в христианском представлении превращен в черную действительность.
С целью спасения от этого мира господь послал своего сына, и он-то
введет нас в мир христианского рая. Мир этот в такой же степени
состоит из духовной матери, в какой деревяшке — из железа. Его самцы
*я самки бесполы, их тела невесомы, их работа совершается без труда.
«Ангелы готовят там блаженство». Понятно, древние христиане
стремились уйти с земли. Они ежечасно ожидали пришествия божия,
смерти и страшного суда. «Царство мое не от мира сего».
И все таки фантастическое христианское искупление, стремившееся
исцелить земные муки верой и надеждой, а не активностью, не в силах
было надолго подавить естественной необходимости в материальных
жизненных благах. Еретики-реформаторы, протестанты, католики, ревнители
просвещения и свободные общины — все способствовало победе истины,
скрытой под ложью религиозной фантазии, сшитой белыми нитками
И, поскольку мы социалисты, мы вое солидарны с этим «-прогрессом».
Мы должны разоблачать ту трусость, которая, отпав от религии, выдает
себя за восстановителя истинного христианства и тем самым присваивает
себе название христианина. Название это необходимо дискредитировать,
чтобы раз навсегда покончить с ним.
Религия капиталистов так же двусмысленна, как и буржуазное
народное хозяйство, как и буржуазная свобода, равенство и братство.
Современные буржуа продолжают монашескую комедию, делая вид, что
635
презирают земные блага. Забавнее -всего в таких случаях, что
прогрессист стушевывается и на первый план выступает монах. Всю
религиозную ничтожность последнего мы уже неоднократно видали.
Обесцвеченное христианство новейшей формации считает себя, несмотря на это»
самым истинным, праведным и высшим. Святые, древние христиане,
календарные святые действительно презирали земной мир и его блага
жили в пустыне, одевались в рубище, бичевали тело и питались
акридами. Они своей жизнью подтверждали свое исповедание.
Наши современные рыцари христианства, наоборот,
руководствуются другим отрывком, где сказано: «бог воплотился и жил среди
нас». Как бы то ни было, зародыш двусмысленности, противоречивая
непоследоствательность были в христианском учении уже с момента его-
возникновения. Апостолы и отцы церкви по временам делали уступки:
они поучали побеждать страсть женитьбой, сатану — Вельзевулом. Так
как противоестественно и совершенно невозможно представить себе
человека не от мира сего, то, конечно', христианство не может окончательно'
вытравить 'Стремление к наслаждению жизнью. Поэтому, оно всегда
принуждено применяться к, условиям.
Но прозревший демократ видит из-за деревьев лес. Христианский
лес лежит в долине юдоли и скорби, он называется: воздержание на
земле и блаженство на небе.
(«Религия социал-демократии»).
Г. Б. Плеханов
РЕЛИГИОЗНЫЕ ИДЕИ В УТОПИЧЕСКОМ СОЦИАЛИЗМЕ
Не сознание определяет собой общественное бытие, а общественное
бытие определяет собой сознание. Но эта истина осталась недоступной
для социалистов-утопистов. Они были убеждены, что общественное
бытие определяется «мнением». Только считаясь с этим, мы поймем,
каким образом, например, Сен-Симон мог нритти к своей религии.
Он говорит, что религиозные идеи вытекают из научной системы
мира. Отсюда следовало, что с переменой этой системы должны
измениться и религиозные идеи. А так как она' чрезвычайно много
изменилась в сравнении с тем, что она представляла собой в средние века, то,
значит, пришла пора для появления новых религиозных идей. В виду,
этого Сен-Симон придумал «новое христианство». Легко было бы
показать, что сам он был совершенно неверующим. Спрашивается: зачем же
он придумал свою новую религию? Это вполне естественное недоумение
разрешается тем, что он смотрел на религию с точки зрения пользы:
религиозные идеи обусловливают собой нравственные понятия; поэтому
человек, желающий повлиять на нравственность своих современников,
должен обратиться к религии. Сен-Симон так и сделал. Если мое
объяснение покажется читателю невероятным, то я напомню ему, что Сен-
Симон на этот вопрос смотрел глазами XVIII в., т. е. считал, что
религии учреждаются мудрыми «законодателями» в интересах общественного*
блага. Точно также Кабэ, придумывая свое «истинное христианство»,
хотел подражать мудрым законодателям старого времени, как их
представляли себе философы XVIII века.
Этим я не хочу, однако, сказать, что все социалистические
писатели того времени разделяли взгляд XVIII в, на религию. Не все таж
636
^относились к религии, как Сен-Симон и Кабэ. Во-первых,
романтическая реакция против философских идей XVIII в., широко
распространившаяся во французской интеллигенции, коснулась, между прочим, и
^социалистов 30-х и 40-х годов, т.-е. социалистов, так сказать, «второго
призыва», — значительно ослабив влияние на них антирелигиозных идей,
завещанных просветительной философией. Ученики того же Сен-Симона
не головой, а сердцем пережили увлечение новой религией, созданной
их учителем. На своих собраниях они доходили подчас до настоящего
религиозного экстаза. А, кроме того, надо помнить, что, когда социализм
приобрел большое влияние в среде тогдашней французской
интеллигенции, он увлек за собой даже таких людей, .которые ни в чем и никогда
не подчинялись влиянию философии XVIII века. В числе их первое
место, бесспорно, принадлежит Жану Ламеннэ. Это был очень
замечательный человек, в котором соединилось могучее религиозное
красноречие древне-еврейских пророков с темпераментом революционера и с
горячим сочувствием бедствиям народа. Пожалуй, Шатобриан был прав,
когда сказал, что «этот поп хочет устроить на колокольне
революционный клуб». Но, принимаясь за устройство «революционного клуба», Ла-
меннэ все-таки оставался католическим священником. Даже после его
разрыва с церковью мысль его не сбросила с себя ига старых
богословских привычек, и именно потому его религиозные взгляды и его
религиозное настроение никак не могут считаться характерными для
тогдашнего французского социализма.
«Религиозные искания» этих французских социалистов-утопистов
могут характеризоваться лишь такими религиями, как религия сен-си-
монистов (но не Сен-Симона), Пьера Л еру и т. п. А до какой степени
эти религии были связаны с романтической реакцией против
просветительной философии XVIII в., видно, между прочим, из того, что многие
•сен-симонисты с увлечением читали сочинения Жозефа дегМестра и
других писателей того же направления. Это обстоятельство показывает, что
романтическая реакция коснулась французского утопического
социализма уже в такое время, когда сама она еще не имела ровно ничего
общего с какими бы то ни было свободолюбивыми стремлениями.
Поэтому мы имеем право сопоставить «религиозные искания»
тогдашних социалистов с их отрицанием классовой борьбы и с их
стремлением к социальному миру во что бы то ни стало. Все это, — и «искания»
религии, и отвращение от классовой борьбы, и миролюбие, возведенное
в догму, — являлось не чем иным, как результатом разочарования и
усталости, вызванных «катастрофой 1793 г.». Страшный год
революционной борьбы являлся, в глазах сощалистов-утопистов, наиболее
убедительным свидетельством в пользу той мысли, что классовая борьба
вообще совершенно 'бесплодна. Некоторые из них так и говорили, что
бесплодность классовой борьбы лучше всего доказывается примером 1793 г.
Бе сочувствуя революционерам XVIII в., они стали внимательно
прислушиваться к тому, что говорили и писали враги революции. И хотя
теоретикам реакции не удалось повести их за собой, хотя они частью все-
таки продолжали теоретическую работу XVIII века, а частью пошли
«своим самостоятельным и в известном смысле новым путем, — но все-
таки реакция оставила заметный след на их воззрениях. Кто забывает
об этом для того останутся непонятными некоторые важные стороны
французского утопического социализма. К их числу относятся и его
«религиозные искания» в том виде, какой они приобрели в 30 и 40 годах.
(«Утопический социализм XIX века»).
637
J. И. Аксельрод
ЛЕВ ТОЛСТОЙ И СОЦИАЛИЗМ
Социал-демократия имеет, как известно, своим стремлением
развитие классового сознания пролетариата. Великая цель социализма может
быть достигнута только путем роста и развития у рабочего класса
сознания коренных противоречий нынешнего общества. Сознание
непримиримого антагонизма интересов привилегированного, экоплоагирующего
меньшинства с интересами угнетенного, эксплоатируемого большинства
является той активной внутренней исторической силой, которая должна
положить конец существующему порядку вещей.
Диаметрально противоположным содержанием отличается
нравственное учение Л. Н. Толстого. Исходя из аскетически-христианского
миросозерцания, Л. Н. Толстой осуждает по существу стремление
современного революционного пролетариата к материальному экономическому
равенству. Принципиально, не придавая никакого значения
материальной жизни, это учение совершенно игнорирует существующее
экономическое неравенство. Нравственная проповедь любви и мира
направляется, поэтому у Л. Н. Толстого ко всем безразлично классам
современного общества, и если она дает добрый совет буржуа любить рабочего,
то она, с другой стороны, учит рабочего покорно повиноваться буржуазии
и терпеть зло и насилие без сопротивления, ибо, как говорится в
евангелии Толстого, «заставят тебя сработать на себя одну работу, то сработай
две, а кто принудит тебя итти с ним одно поприще, иди с ним два». Факт
эксплоатации человека человеком не ведет к живому активному
протесту, не внушает возмущения, не требует борьбы, а, наоборот, должен,
с христианской точки зрения, вызывать чувство полного, безусловного
смирения. Ясно, таким образом, что добровольное подчинение эксплоа-
таторам и всякого рода угнетателям возводится здесь в высший, вечный
моральный принцип. Вследствие этого, вся толстовская нравственная
проповедь проникнута идеей примирения классов и, подобно всем
метафизическим, нравственным теориям современных защитников
буржуазного общества, служит к затемнению классового самосознания
борющегося пролетариата. Сущность и смысл этого учения превосходно поняла
западно-европейская буржуазия, у которой так называемое философское
учение Толстого пользуется огромным уважением и нередко ставится
в пример «другим» материалистам, социал-демократам.
Правда, что Толстой показывает нам со свойственной ему глубиной
и ясностью страшную картину вырождения высшего,
привилегированного общества, беспощадно бичуя праздный, безнравственный обраг
жизни господствующих классов. Благодаря своей колоссальной
проницательности и тонкой, самостоятельной наблюдательности, наш
гениальный писатель открывает такие стороны современного общества, каких не
замечает обыкновенный глаз обыкновенного человека. Но, какой бы
резкостью ни отличалась эта критика, она остается совершенно бесплодной,
потому что она везде и повсюду приурочивается мистиком-христианином
к аскетическим целям. Критика общественных отношений действительна,
плодотворна и революционна только в том случае, когда она, отмечая
отжившие, негодные общественные формы, указывает на те здоровые
растущие силы, из которых должно сложиться и развиться лучшее будущее
и на которые должен опираться общественный деятель, задавшийся целью
работать в этом направлении. Критика же Толстого исходит из аскетиче-
638
ского начала: она отрицает всю современную культуру без остатка..
И отрицая все, Толстой этим самым оставляет все нетронутым,
рекомендуя лишь абсолютное равнодушие к земной жизни, так как в пей все —
суета сует. Блестящим подтверждением бесплодности этой критики
может служить хотя бы «Воскресение». В этом во многих отношениях
замечательном произведении художник рисует нам поистине ужасающую кар-
тину современной русской жизни. Мастерски воспроизведенная жестокая.
И бессердечная действительность должна возбудить глубокое чувство
протеста и непреодолимое стремление к борьбе за лучшее будущее. Герой
|этой эпопеи Нехлюдов поставлен поэтом в центре ©сей изображаемой
действительности. Как; богатый человек привилегированного сословия он
(пользуется всеми благами культуры и плодами тяжелого, непомерного и
(принудигельного труда рабочей массы. Его дорогостоящее
существовавшие, его бурные наслаждения куплены самыми глубокими и самыми
/разнообразными страданиями своих «сестер» и «братьев». Но, пройдя
рначительное расстояние своего жизненного пути, уставши от праздности,
излишеств и пресыщения, Нехлюдов воскресает, наконец, и празднует
свое «полное» нравственное возрождение. И что же намерен делать
воскресший Нехлюдов? Возникает ли у него желание бороться против
существующего зла и общественной несправедливости? Ничуть не бывало*
После всего того, что он видел, пережил и перестрадал, ему становится
ясным истинный смысл.., евангелия, в которое он погружается всецело.
Он понял, наконец, что действительное земное существование ничего не
стоит, что оно — полная иллюзия и что настоящая, разумная жизнь
состоит в единении с богом, которое достигается лишь в тот момент, когда
неловек уходит от общества и начинает относиться презрительно к
материальному бытию.
И, поняв эту великую нравственную евангельскую истину, Нехлюдов
перестает думать о том. чтобы отдать землю крестьянам. Крестьяне, как
<и он сам, воскресшцй и живущий теперь в боге Нехлюдов, не нуждаются
в грешной материи. Единение с богом и нравственное воскресение
кончается, таким образом, тем благополучным результатом, что грешная
материя останется понрежнему собственностью Нехлюдова, обеспечивая
рму возможность спокойно созерцать свое собственное утомленное «я» и
/наслаждаться своим божественным презрением к своему прежнему
образу жизни.
Мы видим, таким образом, что вся quasi-революцшнная критика
Толстого кончается неизменно тем, что следует отказаться от культурных
потребностей, не бороться за материальное земное благо, любить друг
друга при всех условиях и подставлять левую щеку тому, кто тебя
ударит в правую — и тогда настанет царство божие ... внутри нас.
Одним словом, Толстой, подобно всем мистикам-моралистам, возвел
в вечный нравственный закон суш^ствуюгций теперь на деле аскетический
образ жизни угнетенных рабочих масс. А такой высший, нравственный
закон весьма приятен и весьма выгоден привилегированным классам.
В те редкие моменты, когда Толстой оставляет свою религиозную
идеалистическую точку зрения и касается какого-нибудь конкретного
вопроса, он является самым умеренным либералом, а чаще всего
консерватором. Нападая, например, на частную собственность, Толстой нигде не
говорит, что она должна быть отменена. Как только проповедник
приближается к этому проклятому, неприятному вопросу, он сейчас
оставляет свой ясный реалистический язык и ведет, обыкновенно, такую речь:
х<Не заботьтесь для души вашей, что вам есть и пить, ни для тела вашего,
63&
во что одеваться; душа не больше ли пищи и тело — одежды? Взгляните
на птиц небесных: они не сеют, не жнут, а отец ваш небесный питает
их» и т. д., и т. д. Вся критика частной 'Собственности сводится в
конечном счете к тому, что богатым вменяется в нравственную обязанность
накормить и одеть неимущего ближнего. Словом, когда Толстой касается
вопроса о частной собственности, он развивает на разные лады
филантропическую заповедь евангелия, которая не только не восстает против
частной собственности, а, напротив, санкционирует этот институт кате
вечную общественную категорию.
Многие придерживаются того убеждения, что критика
существующего общественного порядка может, вопреки исходной точке и
окончательному выводу, оказывать революционное влияние на умы. Это, по
рашему мнению, большое заблуждение. Всякое миросозерцание, как бы
оно ни была реакционно, может содержать и часто содержит верные
критические взгляды, сила и яркость которых обусловливается степенью
талантливости, проницательности представителя этого миросозерцания.
Ка/кой-нибудь романтик, идеализирующий мрачное средневековье,
сойдется с социалистом в критике некоторых сторон капиталистического
порядка вещей.
Дело, следовательно, не в одной критике, а именно в исходных
положениях и окончательных выводах. Революционер подвергает критике
данный общественный строй для того, чтобы его ниспровергнуть и итти
вперед; реакционер подвергает его той же критике с целью повернуть
колесо истории назад.
И когда критика реакционера становится очень смелой и очень
резкой, то это доказывает только то, что общественные отношения достигли
такой серьезной степени разложения, что обратили на себя внимание
даже тех, кто вовсе не склонен к (революционному способу мышления.
Само собою разумеется, что социал-демократия обязана пользоваться
критикой современного общественного строя, из какого бы лагеря эта
критика ни исходила, но социал-демократическое учение, выражая в своем
Шфосоеерцании все революционные стремления нашей эпохи, должно
3 своем анализе и оценке других общественных течений сосредоточивать
свое внимание на их главном, существенном содержании и судить о них
не по тем: или другим частным взглядам, а на основании их метода, общего
направления и конечных выводов.
Как великий художник, Толстой не может не заметить процесса
падения капиталистического общества и победоносного шествия
революционного пролетариата. И чем яснее и отчетливее он видит это, тем
резче и ярче становится его критика 'Современных общественных
отношений; но зато, с другой стороны, тем больше усиливается его антиреволю-
цщщная проповедь всеобщей любви и непротивления злу насилием.
Что Л. Ы. Толстой является сознательным противником социализма,
это он ясно обнаружил в своих последних брошюрах, непосредственно
направленных против социалистического движения. «Рабство нашего
времени» посвящено по существу критике или, точнее, отрицанию
социализма. В «обращении к рабочему народу» социализм признается
безнравственным учением на основании таких рассуждений: «Не согласна
с правилом», пишет там Толстой, «о делании другим того, что хочешь
чтобы тебе делали, и вся социалистическая деятельность (раньше шла
речь о безнравственности революции). Она не согласна с этим правилом,
во-первых, потому, что, ставя в свою основу классовую борьбу, вызывает
в рабочих к хозяевам и вообще к нерабочим такие враждебные чувства,
640
которые со стороны хозяев никак не могут быть желательны для рабочих.
Не согласна с этим правилом еще и потому, что при стачках рабочие
очень часто, для успеха своего дела, бывают приведены к необходимости
употреблять насилие против тех рабочих, своих или чужих народностей,
которые хотят заступить их место». Обращаясь к политическим
деятелям. Толстой говорит, что причины всех современных бедствий суть:
«отрицание всякой религии и направление деятельности народа на
служение правительству, религии и социализму». Служение революции я
социализму ставится, как видит читатель, на одну доску со служением
правительству и рассматривается как одно из бедствий современной
действительности.
Спрашивается, какая польза революции и социализму от
толстовской критики правительства и современных общественных отношений,
когда тот же Толстой так же отрицает революцию и «социализм? Разве не
очевидно, что Толстой борется против одного заблуждения с помощью
другого и зачеркивает, таким образом, левой рукой все то, что им
написано правой? Далее, в этой же брошюре автор, выражая свое сожаление
по поводу того, что политические деятели растрачивают свои силы
непроизводительно, пишет: «Сколько тратится молодых, горячих сил на попытки
революции, на невозможную борьбу с государством: сколько тратится,
на социалистические неосуществимые мечтания». Итак, борьба против
современного государства невозможна, а социализм объявляется
неосуществимой мечтой! Это чрезвычайно характерно для утописта Толстого.
Толстой, который считает возможным уничтожение современного
государства путем личного отказа от военной службы, который верит,
что человечество откажется чсо временем от культуры, уничтожит технику
и станет жить аскетической жизнью (царство божие внутри нас), который
допускает возможность прекращения половой любви, смотрит на
социализм как на неосуществимую мечту. Это прямо напоминает того юношу из
евангелия, который строго соблюдал .все десять заповедей, «отошел с are-
чалью», когда Иисус ему посоветовал для полного нравственного
совершенства раздать свое имущество. Иисус, как известно, тут же сделал
тот, можно сказать, марксистский вывод, что удобнее верблюду пройти
сквозь игольное ушко, нежели богатому войти в царство небесное.
(«Л. Толстой и социал-демократия»).
Г. В. Плеханов
СОЦИАЛИЗМ ПРОТИВ ТОЛСТОВСКОЙ МОРАЛИ
Л. Толстой думал, что его учение ость не что иное, как правильно
понятое учение христа. выражающееся в словах: «Не противьтесь злу».
В книге «В чем моя вера?» он говорит: «Слова эти: не противьтесь злу
или злому, понятые в их прямом значении, были для меня истинно
ключом, открывшим мне все И мне стало удивительно, как я мот так
навыворот понимать ясные, определенные слова. Вам сказано: зуб за зуб,
а я говорю: не противься злу или злому и. чтобы с тобой не сделали злые
терпи, отдавай, но не противься злу или злым. Что может быть яснее,
понятнее и несомненнее этого? И стоило мне понять эти слова просто и
прямо, как они сказаны, и тотчас же во всем учении христа, не только
в нагорной проповеди, но во всех евангелиях, все. что было запутано,
Г. Гурев 41
041
стало понятно, что было противоречиво, стало согласно; и главное, что
казалось излишне, ехало необходимо. Все -слилось в одно целое и,
несомненно, подтверждало одно другое, как куски разбитой статуи,
составленные так, как они должны быть».
Толстого думали смутить, спрашивая его: а что вы стали бы делать,
если бы пришел зулу и захотел изжарить ваших детей? Но он не
смущался:
«Все люди братья», отвечал он, «все одинакие. И если пришел зулу,
чтобы изжарить моих детей, то одно, что я могу сделать, это
постараться внушить зулу, что это ему невыгодно и нехорошо, внушить,
покоряясь ему по силе. Тем более, что мнв нет расчета с зулу бороться. Или
он одолеет меня и еще более детей моих изжарит, или я одолею его, и
дети мои завтра 'заболеют и в мучениях худших умрут от болезни».
Тут много неясного и даже прямо удивительного, по крайней мере,
на первый взгляд. Больше всего поражает ссылка на то, что если я вырву
своих детей из рук кровожадного «зулу», то они завтра умрут от болезни.
Невольно возникает вопрос: неужели это случится с ними за грешг
родителя? Но мы сейчас увидим, что это не так странно, как представляется
сначала. Далее останется неясным, как надо понимать слова Толстого
о том, что «зулу» еще более изжарит моих детей, если стану ему
сопротивляться. Значит ли это, что вместо двух ребят он изжарит, например
четырех, или что то же число детей подвергнется более
продолжительному действию огня, или еще что-нибудь другое? Наконец, в данном
случае, трудно согласиться и с тем, что «все люди одинакие». Это как для
кого! Для того, кого собираются посадить на вертел, людоед совсем
неодинаков с человеком, воздерживающимся от употребления в пищу
человеческого мяса. Но я не хочу спорить с Толстым. Да и нет мне «расчета»
с -ним спорить: у него так много противоречий, что все равно за всеми
йе угоняешься. Лучше определить, почему его учение так богато
противоречиями. А для этого нужно, понять сто внутреннюю природу.
Вернемся к «непротивлению злу». Только что рассмотренный нами
пример «зулу», пожирающего детей, достаточно выразителен. Не менее
выразителен и следующий пример.
На вопрос: «Если на моих глазах мать засекает своего ребенка, что
мне делать?», Толстой отвечает: «Одно: поставить себя на место ребенка».
Кто думает, что итти в этом направлении нельзя, тот ошибается.
Толстой идет еще дальше. Он. думает, что человек, на которою напала
бешеная собака, поступит хорошо, если не будет ей сопротивляться. Это
кажется невероятным. Поэтому я предоставляю слово самому Толстому:
«Мне следует помнить, что лучше, чтобы любимый мною человек
теперь же при мне умер оттого что он не хотел лишить жизни хотя бы
бешеную собаку, чем то, чтобы он умер от объядения через много лет и
пережил меня».
Сомнения нет. Не следует лишать жизни человека. И «вот возникает
вопрос: если убийство бешеной собаки человеком — зло, то почему же
не зло *— убийство человека бешеной собакой? А если это тоже зло, то
интересно знать, какое же из этих двух вол — меньшее. А если я знаю,
какое из них меньшее, то непонятно, почему я не должен предпочесть
его большему. И, кажется, всякий здравомыслящий человек должен
сказать: из двух зол непременно-следует выбрать меньшее. Смерть бешеной
собаки есть несравненно меньшее зло, чем смерть человека; поэтому
лучше убить собаку, чем пожертвовать человеком. Однако, с точки зрения
Толстого, дело представляется в ином виде.
642
Для его понимания полезно заметить, что рассуждению о бешеной
собаке у него предшествуют следующие слова: «На известной ступени
духовного развитая человеку следует воздерживаться от усиления в себе
чувства личной жалости к другому существу. Чувство это само по себе
животное и у чуткого человека оно всегда проявляется в достаточной
силе без искусственного разжигания. Поощрять в себе следует
сострадание духовное. Душа любимого человека всегда должна быть для меня
дороже тела»,
Заметьте это противопоставление «животной» жалости
«состраданию духовному», «тела» — «душе». Им объясняется, почему Толстой
думает, что бешеную собаку не следует убивать даже и тогда, когда от этого
зависит спасение человеческой жизни, и почему не следовало бы
сопротивляться «зулу» даже и в том случае, если бы сопротивление могло спасти
«моих детей». Неприятно быть съеденным «зулу» и неприятно быть
искусанным бешеной собакой. Но это — неприятности чисто телесные; им не
следует придавать большого значения. Сегодня вас спасли от бешеной
собаки, а «через много лет» вы умрете от объядения; сегодня моих детей
вырвали из рук кровожадного «зулу», а завтра их унесет какая-нибудь
эпидемия. Не следует усиливать в себе жалости к телу: душа дороже
тела. А душа не может помириться с насилием, хотя бы оно совершалось
ради самых очевидных интересов тела.
Не подумайте, что Толстой равнодушно говорит только о чужих
страданиях. Нет, он и на свои собственные страдания смотрит, по
крайней мере хочет смотреть, с неменыпи№ равнодушием. Он говорит: «Ну —
болит зуб или живот или найдет грусть и болит сердце. Ну, и пускай
болит, а мне что за дело? Либо поболит и пройдет, либо так и умру от
этой боли. Ни в том ни в друтом случае нет ничего дурного».
Это не эгоизм, а просто пренебрежение «телом» во имя «духа».
Такое пренебрежение было когда-то свойственно христианам. И
с этой стороны учение Толстого в самом деле имеет много общего
с христианским.
В другом месте он говорит: «Надо заменять мирское, временное,
вечным: это — путь жизни и по нему-то надо итти нам». Тут
противопоставление мирского и временного вечному имеет у нето тот же самый
смысл, как и вышеуказанное противопоставление интересов тела
интересам духа. Признайте его теоретическую и практическую правомерность и
вы сами должны будете согласиться, что его отношение к «зулу»
совершенно правильно. Ведь важно только вечное, а «зулу» не вечен;
причиняемые им страдания — только временные. То же и с ростами, то же и
с бешеной собакой. Логика имеет свои неоспоримые права.
(«Смешение представлений»).
В книге «Спелые колосья» есть строки, в которых, вероятно, без
ведома графа Толстого, как нельзя яснее, обнаруживается полная
противоположность его учения с учением Маркса. Толстой пишет там:
«Главное заблуждение людей то, что каждому отдельно кажется,
что руководитель его жизни есть стремление к наслаждению и
отвращение от страданий. И человек один, бее руководства, отдается этому руко-
водателю: ищет наслаждений и избегает страдания, и в этом полагает
цель и смысл жиэни. Но человек никогда не может жить наслаждаясь,
и не может избегать стоаданий. Стало быть, не в этом цель жизни.
41*
643
А если бы была в этом, то—что за нелепость! Цель — наслаждения, а их
нет и не может Оыть. А если бы они были, то конец жизни — смерть
всегда сопряженная со страданиями. Бели бы моряки решили, что цель
их миновать подъем волн, куда бы они заехали? Цель жизни вке
наслаждений».
В этих строках хорошо виден христианоко-аскетический характер
толстовского учения о нравственности. Если бы я захотел найти
поэтическую иллюстрацию для этого учения; то я обратился бы к известному
духовному стиху «О вознесении Христовом». В нем рассказывается, как
нищая братия прощалась с собравшимся вознестись на небо Иисусом
и кэ,к присутствовавший при этом Иоанн Златоуст говорил ему:
«Не давай нищим гору крутую,
Что крутую гору, золотую:
Йе сумеют горою владети,
Не суметь им золотые поверстати,
й промежду собою разделяти.
Зазнают гору князи и бояре,
Зазнают гору пастыри Щ власти,
Зазнают гору торговые люди,
Отоймут у них гору крутую,
Отоймут у них гору золотую ...
Дай же ты нищим убогим
Имя твое святое:
Будут нищие по миру ходпти,
Тебя Христа величати.
В, каждый час прославляти» ...
Толстой хотел бы дать людям именно то, чего просит для нищих
Иоанн Златоуст у Христа. Больше ему ничего не нужно. Его учение есть
пессимизм на религиозной подкладке, или, если вы предпочитаете
(выразиться так, религия на основе крайне пессимистического мироощущения.
О этой стороны оно, как и оо всех других, представляет собок} прямую
противоположность учению Маркса.
Подобно1 другим материалистам Маркс был как нельзя более далек
от той мысли, что «цель жизни вне наслаждения». Уже в книге «Святое
семейство» он показал-связь социализма (и коммунизма) с
материализмом, вообще, ir. в частности, с материалистическим учением о
«нравственной правомерности наслаждения». Но у него, как и у большинства
материалистов, учение это никогда не имело тото эгоистического вида,
в каком оно представлялось идеалисту Толстому. Напротив, оно явилось
у него одним из доводов в пользу -социалистических требований.
«Если человек черпает все свои ощущения, знания и т. д. из
внешнего мира и ИЗ' опыта, приобретаемого от этого мира, то надо, стало быть,
так устроить окружающий его мир, чтобы человек получал из этого мира
достойные его впечатления, чтобы он привыкал к истинно человеческим
отношениям, чтобы он чувствовал себя человеком. Есди правильно
понятый личный интерес есть основа всякой нравственности, то надо, стало
быть, позаботиться о том, чтобы интересы отдельного человека совпадали
с интересами человечества. Если человек несвободен в
материалистическом смысле этого слова, т.-е. если его свобода заключается не в
отрицательной способности избегать тех или иных поступков, а в положительной
возможности проявления своих личных свойств, то надо, стало быть, не
карать отдельных лщ за их преступления, а уничтожить
противообщественные источники престуцлений и отвести в обществе свободное место
для деятельности каждого отдельного человека. Если человеческий хара-
64:4
ктер создается обстоятельствами, то надо, стало быть, сделать эти
обстоятельства достойными человека».
Вот научная основа нашего учения о нравственности. Кто
сознательно сочувствует ему, тот не может не возмущаться до глубины души
теми эклектиками, которые приглашают теперь пролетариат преклониться
перед величием нравственной проповеди Толстого. Революционный
пролетариат должен отнестись к этой проповеди со строгим осуждением.
Прямо противоположен Марксу Толстой и в своем отношении к
религии. Маркс назвал религию тем опиумом, которым высшие классы
стараются усыпить народное сознание, и говорил, что уничтожение
религии как мнимого счастья народа есть требование его действительного
счастья. Энгельс писал: «Мы раз навсегда объявляем войну религии
и религиозным представлениям». А Толстой считает религию первым
условием действительного счастья людей. И напрасно г. В. Базаров
рассказывает, что Толстой всегда боролся «с верой в сверхчеловеческое
начало» и что он «впервые объектировал, т. е. создал не только для себя.
но и для других ту чисто человеческую религию, о которой Конт,
Фейербах и другие представители современной культуры могли только
субъективно мечтать».
Была ли у графа Толстого логическая возможность вести борьбу
«с верой в сверхчеловеческое начало», это лучше всего показывают
следующие его слова: «Важно то, чтобы признать бога хозяином и знать,
чего он от меня требует, а что он сам такое, и как он живет, я никогда
не узнаю, потому что я ему не пара. Я — работник, он — хозяин».
Разве же это не проповедь «сверхчеловеческого начала»?
А, кроме того, даже ревизионистам пора понять, что всякие толки
о «чисто человеческой религии» суть чистые пустяки. «Религия, —
говорит Фейербах, — есть бессознательное самосознание человека л. Этой
бессознательностью обусловливается не только существование религии,
но и «вера в сверхчеловеческое начало». Когда бессознательность
исчезает, тогда вместе с нею пропадает вера в это начало, а в то же время —
и возможность существования религии. Если сам Фейербах неясно
понимал:, до какой степени это неизбежно, то в этом состояла его ошибка,
которая так хорошо разоблачена была Энгельсом.
Чем религиознее было миросозерцание графа Л. Толстого, тем менее
совместимо было оно с миросозерцанием социалистического пролетариата.
Толстовская проповедь совсем не пугает эксплоататоров. У них нет
никакого основания бояться ее, а, напротив, есть все основания одобрять
ее за то, что она доставляет им приятный случай, ничем серьезным не
рискуя, «преклоняться» перед нею и тем показать себя с хорошей
стороны. Разумеется, буржуазия ни за что не «преклонилась» бы перед
проповедником вроде Толстого в такое время, когда она сама настроена
была на революционный лад. Тогда такого проповедника заменяли бы
ее идеологи. Но теперь обстоятельства переменились, теперь буржуазия
идет назад, и теперь ее сочувствие наперед обеспечено всякому
умственному течению, пропитанному духом консерватизма, а тем более такому,
вся практическая сущность которого состоит в «непротивлении злу
насилием». Буржуазия (а с нею, конечно, и обуржуазившаяся
аристократия наших дней) понимает или, по крайней мере, подозревает, что
главное зло настоящего времени и есть эксплоатация ею пролетариата.
Как же не «преклоняться» ей перед теми людьми, которые твердят:
«Никогда не противьтесь злу насилием». Если бы крыловского кота,
похитившего куренка, спросили, кого он считает лучшим «учителем жизни».
645
то он, наверно, «преклонился» бы перед поваром, который, не борясь со
злом насилием, ограничился известными восклицаниями:
«Не стыдно ли стан тебе, те только что людей.
Кот Васька плут, кот Васька вор ... и т. д.».
Некоторые последователи Толстого мнят себя крайними
революционерами на том весьма шатком основании, что отказываются от военной
службы! Однако, во-первых, существующий порядок только выиграл бы
в своей прочности, если бы в армию всегда поступали только те, которые
готовы защищать его силой оружия; во-вторых, главный враг
милитаризма есть классовое самосознание (пролетариата и обусловленная им
готовность противопоставить реакционному насилию революционную
силу. Кто затемняет это самосознание, кто ослабляет эту готовность,
тот не враг милитаризма, а друг его, хотя бы он с упорным формализмом
сектанта всю жизнь отказывался, не 'боясь преследований, взять
солдатское ружье в свои руки.
(/Карл Маркс п Лев Толстой»).
Просто любят Л. Толстого (с большей или меньшей степенью
искренности и интенсивности) идеологи высших классов, т. е. те, которые
сами готовы удовольствоваться отрицательной нравственностью и
которые, не имея широких общественных интересов, стремятся наполнить
свою душевную пустоту разными религиозными исканиями. А «отсюда
и досюда» любят Толстого те сознательные представители трудящегося
населения, которые не довольствуются отрицательной нравственностью и
которые не имеют никакой нужды мучительно доискиваться смысла своей
жизни, так как они давно уже «радостно» нашли его в движении к
великой общественной цели.
А «откуда» и «докуда» именно любят Толстого люди этого второго
разряда? На это легко ответить. Люди этого второго разряда ценят
в Толстом такого писателя, который хотя и не понял борьбы за
переустройство общественных отношений, оставшись к ней совершенно
равнодушным, глубоко почувствовал, однако, неудовлетворительность
нынешнего общественного строя. А главное—они ценят в нем такого
писателя, который воспользовался своим огромным художественным талантом
для того, что наглядно, хотя, правда, только эпизодически, изобразить
эту неудовлетворительность.
Вот «откуда» и вот «докуда» любят Толстого действительно
передовые люди нашего времени.
Г<-Отсюда и досюда»).
В. И. Лепт
ТОЛСТОЙ И ТОЛСТОВЩИНА
Эпоха, к которой принадлежал Лев Толстой и которая замечательно
рельефно отразилась как в его гениальных художественных
произведениях, так и в его учении, есть эпоха после 1861 и до 1905 гг. Правда,
литературная деятельность Толстого началась раньше и кончилась позже.
646
чем начался и окончился этот период, но Л. Толстой вполне сложился,
как художник и мыслитель, именно в этот период, переходный характер
которого породил все отличительные черты и произведений Толстого и
«толстовщины».
Устами К. Левина в «Анне Карениной» Л. Толстой чрезвычайно
ярко выразил, в чем состоял перевал русской истории за эти полвека.
«... Разговоры об урожае, найме рабочих и т. п.», которые, — Левин
знал,—принято считать чем-то очень низким, теперь для Левина
казались одни важными. «Это, может быть, неважно было при крепостном
праве, или неважно в Англии. В обоих случаях сами условия
определены: но у нас теперь, когда все это переворотилось и только
укладывается, вопрос о том, как уложатся эти условия, есть единственный
важный вопрос в России», — думал Левин.
«У нас теперь все это переворотилось и только укладывается», —
трудно себе представить более меткую характеристику периода
1861—1905 годов. То, что «переворотилось», хорошо известно, или,
по крайне мере, вполне знакомо всякому русскому. Это — крепостное
право и весь «старый порядок», ему соответствующий. То, что «только
укладывается», совершенно незнакомо, чуждо, непонятно самой широкой
массе населения. Для Толстого этот «только укладывающийся»
буржуазный строй рисуется смутно в виде пугала — Англии. Именно:
пугала, ибо всякую попытку выяснить себе основные черты общественного
строя в этой «Англии», связь этого строя с господством капитала, с ролью
денег, с появлением и развитием обмена, — Толстой отвергает, так
сказать, принципиально. Подобно народникам, он не хочет видеть, он
закрывает глаза, отвертывается от мысли о том. что «укладывается» в
России никакой иной, как буржуазный строй.
Справедливо, что, если не «единственно важным», то важнейшим.
с точки зрения ближайших задач всей общественно-политической
деятельности в России для периода 1861—1905 годов (да и для нашего
времени), был вопрос, как уложится этот строй, буржуазный строй,
принимающий весьма разнообразные формы в Англии, Германии, Америке,
Франции и т. д. Но для Толстото такая определенная,
конкретно-историческая постановка вопроса, — есть нечто совершенно чуждое. Он
рассуждает отвлеченно, он допускает только точку зрения «вечных» начал
нравственности, вечных истин религии, не сознавая того, что эта
точка зрения есть лишь идеологическое отражение старого
(«переворотившегося») строя, строя крепостного, строя жизни восточных
народов.
В «Люцерне» (писано в 1857 г.) Л. Толстой объявляет, что
признание «цивилизации» благом есть «воображаемое4 значение», которое
«уничтожает» инстинктивные, блаженнейшие первобытные потребности
добра в человеческой натуре. «Один, только один, есть у нас
непогрешимый руководитель. — восклицает Толстой, — всемирный дух,
проникающий йас».
В «Рабстве нашего времени» (писано в 1902 г.), Толстой, повторяя
еще усерднее эти апелляции к всемирному духу, объявляет «мнимой
наукой» политическую экономию за то, что она берет за «образец»
маленькую, находящуюся в самом исключительном положении,
«Англию»— вместо того, чтобы брать за образец «положение людей всего
мира за все историческое время». Каков этот «весь мир», это нам
открывает статья «Прогресс и определение образования» (1S62). Взгляд
«историков», будто прогресс есть общий закон для человечества. — Толстой
647
побивает ссылкой на «весь» так называемый «Восток», Общего закона
движения вперед человечества нет, — заявляет Толстой, — как то нам
доказывают неподвижные восточные народы».
Вот именно идеологией восточного строя, азиатского строя и
является толстовщина в ее реальном историческом содержании. Отсюда
и аскетизм, и непротивление злу насилием, и глубокие нотки пессимизма
и убеждение, что «все — ничто, все материальное — ничто». («Q смысле
жизни»), и вера в «дух», «начало всего», по отношению к каковому
началу человек есть лишь «работник», «приставленный к делу спасения
своей души» и т. д. Толстой верен этой идеологии и в «Крейцеровой
сонате», когда он говорит: «эмансипация женщины не на курсах и не
в палатах, а в спальне» — и в статье 1862 г., объявляющей, что
университеты готовят только «раздраженных, больных либералов», которые
«совсем не нужны народу», «бесцельно оторваны от прежней среды»,
«не находят себе места в жизни» и т. п.
Пессимизм, непротивленство, апелляция к «духу» есть идеология,
неизбежно появляющаяся в такую эпоху, когда весь старый строй
«переворотился» и когда масса, воспитанная в этом старом строе, с
молоком матери впитавшая в себя начала, привычки, традиции, верования
этого строя, не видит и не может видеть, каков «укладьшающийся» новый
строй какие общественные силы способны принести избавление от
неисчислимых, особенно острых последствий, свойственных эпохам
«ломки».
Период 1862—1904 годов был именно такой эпохой ломки в России,
когда старое бесповоротно^ у всех на глазах, рушилось, а новое только
укладывалось, при чем общественные силы, эту укладку творящие,
впервые показали себя на деле, в широком общенациональном масштабе,
в м<ассовидном, открытом действии на самых различных поприщах лишь
в 1905 г. А за событиями 1905 года в России последовали аналогичные
события в целом ряде государств того самого «Востока», на
«неподвижность» которого ссылался Толстой в 18G2 г. 1905 год был началом конца
«.восточной» неподвижности. Именно поэтому этот год принес с собой
исторический конец толстовщине, конец всей той эпохе, которая могла и
должна была породить учение Толстого не как индивидуальное нечто,
не как каприз или оригинальничанйе, а как идеологию условий жизни,
в которых действительно находились, миллионы и миллионы в течение
известного времени.
Учение Толстого безусловно утопично и по своему содержанию
реакционно в самом точном и в самом глубоком значении этого слова.
Но отсюда вовсе не следует ни того, чтобы учение не было
социалистическим, ни того, чтобы в нем не было критических элементов, способных
доставлять ценный материал для просвещения передовых классов.
Есть социализм и социализм. Во всех странах с
капиталистическим способом производства есть социализм, выражающий идеологию
класса, идущето на смену буржуазии, и есть социализм, соответствующий
идеологии: классов, которым идет на смену буржуазия. Феодальный
социализм есть, например, социализм последнего рода, и характер такого
социализма давно, свыше 60 лет тому назад, оценен был Марксом наряду
с оценкой других видов социализма.
Далее. Критические элементы свойственны утопическому учению
Л. Толстого так же, как они свойственны многим утопическим системам.
Но не надо забывать глубокого замечания Маркса, что значение
критических элементов в утопическом социализме «стоит в обратном отноше-
648
нии к историческому развитию». Чем больше развивается, чем более
определенный характер принимает деятельность тех общественных, сил,
которые «укладывают» новую Россию и несут избавление от современных
социальных бедствий, тем быстрее критически-утопический социализм
«лишается всякого практического смысла и всякого теоретического
оправдания».
Четверть века тому назад критические элементы учения Толстого
могли на практике приносить иногда пользу некоторым слоям населения
вопреки реакционным и утопическим чертам толстовства. В течение
последнего, скажем, десятилетия это не могло быть так, потому что
историческое развитие шагнуло немало вперед с 80-х годов до конца прошлого
века. А в наши дни, после того, как ряд указанных выше событий
положил конец «восточной» неподвижности, в наши дни, когда такое
громадное распространение получили сознательно-реакционные, в
узко-классовом, в корыстно-классовом смысле реакционные идеи «веховцев», среди
либеральной буржуазии, — когда эти идеи заразили даже часть почи-
тай-что марксистов, -создав «ликвидаторское» течение, — в наши' дни
всякая попытка идеализации учения Толстого, оправдания или смягдения
его нецротивденства, его апелляций к «духу», его призывов к
«нравственному самосовершенствованию», его доктрины «совести» и всеобщей
«любви \ его проповеди аскетизма и квиетизма и т. д. приносит самый
непосредственный и самый глубокий вред.
(«1911 г.», — «Звезда» № G от 22 янв. 1911 г. Сочинения т. XI, ч. II).
Б произведениях Льва Толстого выразилась и сила, и слабость,
и мощь и ограниченность именно крестьянского массового движения. Его
горячий, страстный, нередко беспощадно-резкий протест против
государства и полицейски-казенной церкви передает настроение
примитивной крестьянской, демократии, в которой века крепостного права,
чиновничьего произвола и грабежа, церковного иезуитизма, обмана и
мошенничества, накопили горы злобы и ненависти. Его непреклонное
отрицание частной поземельной собственности передает психологию
крестьянской массы в такой исторический момент, когда старое
средневековое землевладение, и помещичье, и казенно-«надельное», стало
окончательно нетерпимой помехой дальнейшему развитию страны и когда это
старое землевладение неизбежно подлежало самому крутому,
беспощадному разрушению. Его непрестанное, полное самого глубокого чувства
и самого пылкого возмущения, обличение капитализма передает весь ужас
патриархального крестьянина, на которого стал надвигаться новый,
невидимый непонятный враг, идущий откуда-то из города или откуда-то
из-за границы, разрушающий все «устои» деревенского быта, несущий
с собою невиданное разорение, нищету, голодную смерть, одичание,
проституцию, сифилис — все бедствия эпохи «первоначального накопления»,
обостренные во сто крат перенесением на русскую почву самоновейших
приемов грабежа, выработанных господином Гужоном.
БЬ горячий протестант, страстный обличитель, великий критик
обнаружил вместе с тем в своих произведениях, такое непонимание
причин кризиса и средств выхода из кризиса, надвитавшегося на Россию,
которое свойственно только патриархальному, наивному крестьянину,,
а не европейски образованному писателю. Борьба с крепостническим и
полицейским государством, с монархией превращалась у него в отрица-
640
кие политики, приводила к учению о «непротивлении злу», привела
к полному отстранению от революционной борьбы масс 1905—1907 гт.
Борьба с казенной церковью совмещалась с проповедью новой,
очищенной религии, то-есть нового, очищенного, утонченного яда для угнетенных
масс. Отрицание частной поземельной собственности вело не к
сосредоточению всей борьбы на действительном враге, на помещичьем
землевладений и его политическом орудии власти, т. е. монархии, а к
мечтательным, расплывчатым, бессильным воздыханиям. Обличение
капитализма и бедствий, причиняемых им массам, совмещалось с совершенно
апатичным отношением к той всемирной освободительной борьбе,
которую ведет международный социалистический пролетариат.
Противоречия во взглядах Толстого—'-не противоречия его только
личной хмысли, а отражение тех в высшей степени сложных,
противоречивых условий, социальных влияний, исторических традиций, которые
опроделяли психологию различных классов и различных слоев русского
общества в пореформенную, но дореволюцонную эпоху.
И поэтому правильная оценка Толстого возможна только с точки
зрения того класса, который своей политической ролью и своей борьбой
во время первой развязки этих противоречий, во время революции,
доказал свое призвание быть вождем в борьбе за свободу народа и за
освобождение масс от эксплоатации, — доказал свою беззаветную преданность
делу демократии и свою способность к борьбе с ограниченностью и
непоследовательностью буржуазной (в том числе и крестьянской)
демократии, — возможна только с точки зрения социал-демократического
пролетариата.
Посмотрите на оценку Толстого в правительственных газетах. Они
льют крокодиловы слезы, уверяя в своем уважении к «великому
писателю» и 'В то же время защищая «святейший» синод. А святейшие отцы
только что проделали особенно гнусную мерзость, подсылая попов к
умирающему, чтобы надуть народ' и сказать, что Толстой «раскаялся».
Святейший синод отлучил Толстого от церкви. Тем лучше. Этот подвиг
зачтется ему в час народной расправы с чиновниками в рясах,
с жандармами во христе, с темными инквизиторами, которые
поддерживали еврейские погромы и прочие подвиги черносотенной царской
шайки.
Посмотрите на оценку Толстого либеральными газетами. Они
отделываются теми пустыми, казенно-либеральными, избито-профессорскими
фразами о «голосе цивилизованного общества», об «единодушном отклике
мира», об «идеях правды, добра» и т. д., за которые так бичевал
Толстой— и справедливо бичевал — буржуазную науку. Они не могут
высказать прямо и ясно своей оценки взглядов Толстого на государство,
на церковь, на частную поземельную собственность, на капитализм. —
не потому, что мешает цензура; наоборот, цензура помогает им выйти из
затруднения. — а потому, что каждое положение в критике Толстого есть
пощечина буржуазному либерализму, — потому, что одна уже
безбоязненная, открытая, беспощадно-резкая постановка Толстым самых
больных, самых проклятых вопросов нашего времени бьет в лицо шаблонным
фразам, избитым вывертам, уклончивой, «цивилизованной» лжи нашей
либеральной (и либерально-народнической) публицистики. Либералы
юрой за Толстого, горой против синода — и вместе с тем они за ...
веховцев, с которыми «можно спорить», но с которыми «надо» ужиться в одной
партии, «надо» работать вместе в литературе и в политике. А веховцев
лобызает митрополит Антоний Волынский.
650
Либералы выдвигают на первый план, что Толстой—«великая
совесть». Разве это не пустая фраза, которую повторяют на тысячи ладов
и «Новое Время», и все ему подобные? Разве это не обход тех конкретных
вопросов демократии и социализма, которые Толстым поставлены? Разве
это не выдвигает на первый план того, что выражает предрассудок
Толстого, а не его разум, что принадлежит в нем прошлому, а не будущему,
его отрицанию политики и его проповеди нравственного
самоусовершенствования, а не его бурному протесту против всякого классового
господства?
Умер Толстой, и отошла в прошлое дореволюционная Россия,
слабость и бессилие которой выразились в философии и обрисованы в
произведениях гениального художника. Но в его наследстве есть то, что
не отошло в прошлое, что принадлежит будущему. Это наследство берет
и над этим наследством работает российский пролетариат. Он разъясняет
массам трудящихся и эксплоатируемых значение толстовской критики
государства, церкви, частной поземельной собственности — не для того,
чтобы массы ограничивались самоусовершенствованием и воздыханием
о бо1жеской жизни, а для того, чтобы они поднялись для нанесения нового
удара по царской монархии и помещичьему землевладению, которые
в 1905 г. были только слегка надломаны и которые надо уничтожить.
Он разъяснит массам толстовскую критику капитализма — не для того,
чтобы массы ограничились проклятиями по адресу капитала и власти
денег, а для того, чтобы они научились опираться на каждом шагу своей
жизни и своей борьбы на технические и социальные завоевания
капитализма, научились сплачиваться в единую миллионную армию
социалистических борцов, которые свергнут капитализм и создадут новое
общество без нищеты, без эксплоатаций человека человеком.
(«Л. Толстой», пом. в «Соц.-Демокр.». № 18 от 16 ноября 1910 г. Сочинения,
I. XI, ч. II).
*
Противоречия в произведениях, взглядах, учениях, в школе
Толстого — действительно кричащие. О одной стороны, гениальный
художник, давший не только несравненные картины русской жизни, но и
первоклассные произведения мировой литературы. О1 другой стороны —
помещик, юродствующий во христе. О одной стороны — замечательно
сильный, непосредственный и искренний протест против общественной лжи
и фальши, — с другой стороны, «толстовец», т. е. истасканный,
истеричный хлюпик, называемый русским интеллигентом, который, публично
бия себя в грудь, говорит: «я скверный, я гадкий, но я занимаюсь
нравственным самоусовершенствованием; я не кушаю больше мяса и питаюсь
теперь рисовыми котлетками». С одной стороны, беспощадная критика
капиталистической эксплоатаций, разоблачение правительственных
насилий, комедии суда и государственного управления, вскрытие всей
глубины противоречий между ростом богатства и завоеваниями цивилизации
и ростом нищеты, одичалости и мучений рабочих масс; с другой
стороны, — юродивая проповедь «непротивления злу» насилием. С одной
стороны, самый трезвый реализм, срывание всех и всяческих масок —
с другой стороны — проповедь одной из самых гнусных вещей, какие
только есть на свете, именно: религии — стремление поста-вить на место
попов на казенной должности, — попов по нравственному убеждению,
т.-е. культивированию самой утонченной, и потому особенно
омерзительной, поповщины. Поистине:
651
Ты и убогая, n>i и обильная,
Ты и могучая, ты и бессильная
Матушка Русь.
Что при таких противоречиях Толстой не мог абсолютно понять ни
рабочего движения и его роли в борьбе за социализм, ни русской
революции, это само собой очевидно. Но противоречия во взглядах и учениях
Толстого не случайность, а выражение тех противоречивых условий,
в которые поставлена была русская жизнь последней трети XIX века.
Патриархальная деревця, вчера только освободившаяся от крепостного
права, отдана была буквально на поток и разграбление капиталу и фиску.
Старые устои крестьянского хозяйства и крестьянской жизни, устои,
действительно державшиеся в течение веков, пошли на слом с необыкновенной
быстротой. И противоречия во взглядах Толстого надо оценивать не
с точки зрения современного рабочего движения и современного
социализма (такая оценка, разумеется, необходима, но она недостаточна),
а с точки зрения того протеста против надвигающегося капитализма,
разорения и обезземеления масс, который должен был быть порожден
патриархальной русской деревней. Толстой смешон, как пророк,
открывший новые рецепты спасения человечества, — поэтому совсем мизерны
заграничные' и русские «толстовцы», пожелавшие превратить в догму
как' раз самую слабую сторону его учения. Толстой велик как выразитель
тех идей и тех настроений, которые сложились у миллионов русского
крестьянства ко времени наступления буржуазной революции в России.
Толстой оригинален, ибо совокупность его взглядов, вредных как целое,
выражает как раз особенности нашей революции, как крестьянской
буржуазной революции. Противоречия во взглядах Толстого, с этой точки
зрения, — действительное зеркало тех противоречивых условий, в
которые поставлена была историческая деятельность крестьянства в нашей
революции. С одной стороны, века крепостного гнета и десятилетия
форсированного пореформенного разорения накопили горы ненависты, злобы
и отчаянной решимости. Стремление смести,до основания и казенную
церковь, и помещиков, и помещичье правительство; уничтожить все
старые формы и распорядки землевладения; расчистить землю; создать
на место полицейски-классового государства общежитие свободных и
равноправных мелких крестьян;—это стремление красной нитью
проходит через каждый исторический шаг крестьян в нашей революции,
и, несомненно, что идейное содержание писаний Толстого гораздо больше
сотв^тствует этому крестьянскому стремлению, чем отвлеченному
«христианскому анархзму» ка<к оценивают иногда «систему» его взглядов.
Толстой отразил наболевшую ненависть, созревшее стремление
к лучшему, желание избавиться от прошлого, — и незрелость
мечтательности, политической невоспитанности, революционной мягкотелости.
Историко-экономйческие условия объясняют и необходимость
возникновения революционной борьбы масс, и неподготовленность их к борьбе,
толстовское непротивление злу, бывшее серьезнейшей причиной
поражения первой революционной кампании.
Говорят, что разбитые армии хорошо учатся. Конечно, сравнение
революционных классов с армиями верно только в очень ограниченном
смысле. Развитие капитализма с каждым часом видоизменяет и
обостряет те условия, которые толкали крестьянские миллионы, сплоченные
вместе ненавистью к помещикам-крепостцикам и к их правительству,
на революционно-демократическую борьбу. В самом крестьянстве рост
обмена, господства рынка и власти денег все более вытесняет латри-
652
архальную старину и: патриархальную философскую идеологию. Но одно
приобретение первых лет революции и первых поражений в массовой
революционной борьбе несомненно: это смертельный удар, нанесенный
прежней рыхлости и дряблости масс. Разграничительные линии стали
резче. Классы и партии размежевались. Под молотом столыпинских
уроков, при неуклонной, выдержанной агитации революционных социал-
демократов, не только социалистический пролетариат, но и
демократические массы крестьянства будут неизбежно выдвигать все более
закаленных борцов, все менее способных впадать в наш исторический грех
толстовщины.
(«Лев Толстой как зеркало русской революции», 190S г., «Пролетарий»,
Сочинения, т. XI. ч. I).
Старая патриархальная Россия после 1861 года стала быстро
разрушаться под влиянием мирового капитализма. Крестьяне голодали,
вымирали, разорялись как никогда прежде и бежали в города, забрасывая
землю. Усиленно строились железные дороги, фабрики и заводы,
благодаря «дешевому труду» разоренных крестьян. В России развивался
крупный финансовый капитал, крупная торговля и промышленность.
Вот эта быстрая, тяжелая, острая ломка всех старых «устоев» старой
России и отразилась в произведениях Толстого-художника, в
воззрениях Толстого-мыслителя.
Толстой знал превосходно дореволюционную деревенскую Россию,
бы г помещика и крестьянина. Он дал в своих художественных
произведениях такие изображения этого быта, которые принадлежат к лучшим
произведениям мировой литературы. Острая ломка всех «старых устоев»
деревенской России обострила его внимание, углубила его интерес к
происходящему вокруг него, привела к перелому всего его миросозерцания.
По рождению и воспитанию Толстой принадлежал к высшей помещичьей
знати в России, — он порвал со всеми привычными взглядами этой среды
и в своих последних произведениях обрушился со страстной критикой
на все современные государственные, церковные, общественные,
экономические, порядки, основанные на порабощении масс, на нищету их, на
разорении крестьян и мелких хозяев вообще, на насилии и лицемерии,
которые сверху донизу пропитывают всю современную жизнь.
Критикаг Толстого не нова. Он не сказал ничего такого, что
не было бы задолго до него сказано и в европейской и в русской
литературе теми, кто стоял на стороне трудящихся. Но своеобразие критики
Толстого и ее историческое значение состоит в том, что она с такой силой,
которая свойственна только гениальным художникам, выражает ломку
взглядов самых широких народных масс в России указанного периода
и именно деревенской, крестьянской России. Ибо критика современных
порядков у Толстого отличается от критики тех же порядков у
представителей современного рабочего движения именно тем, что Толстой стоит
на точке зрения патриархального, наивного крестьянина, Толстой
переносит его психологию в свою критику, в свое учение. Критика Толстого
потому отличается такой силой чувства, такой страстностью,
убедительностью, свежестью, искренностью, бесстрашием в стремлении «дойти
до корня», найти настоящую причину бедствий масс, что эта критика
действительно отражает перелом во взглядах миллионов крестьян, которые
только что вышли на свободу из крепостного права и увидели, что эта
свобода означает новые ужасы разорения, голодной смерти, бездомной
653
жизни среди городских «хитровцев» и т. д. Толстой отражает их
настроение так верно, что он сам в свое учение вносит их наивность, их
отчуждение от политики, их мистицизм, желание уйти от мира,
непротивление злу, бессильные проклятья по адресу капитализма и «власти
денег». Протест миллионов крестьян и их отчаяние — вот что слилось
в учении Толстого.
Представители современного рабочего движения находят, что
протестовать им есть против чего, но отчаиваться не в чем. Отчаяние
свойственно тем классам, которые гибнут, а класс наемных рабочих
неизбежно растет, развивается и крепнет во всяком капиталистическом
обществе, в том числе и в России. Отчаяние свойственно тем, кто не
понимает причин зла, не видит выхода, неспособен бороться. Современный
промышленный пролетариат к числу таких классов не принадлежит.
(«Лев Толстой и современное рабочее движение», помещ. в «Наш. Путь»,
1900 г., Сочинения, т. XI, ч. II).
Ф. Энгельс
СУЩЕСТВУЮТ ЛИ ВЕЧНЫЕ НРАВСТВЕННЫЕ ЗАКОНЫ?
Противоположность понятий о добре и зле развивается
исключительно в области морали, стало быть в сфере, относящейся к истории
человечества, в которой реже всего встречаются окончательные истины
в последней инстанции. У каждого отдельного народа самостоятельно
развивались понятия о добре и зле, и они изменялись из поколения
в поколение так сильно, что часто прямо противоречили одно другому.
Но, возразят нам, добро все-таки не есть зло, и зло не есть добро; если
добро и зло бросить в одну кучу, то не будет никакой нравственности,
и тогда каждый может делать все, что захочет. Таково, в голом виде,
без оракульскою прикрытия, мнение г. Дюринга. Но вопрос вовсе
не решается так просто. Если бы это было так просто, то не было бы
никакого опора о добре и зле: каждый бы знал, что есть добро и что есть
зло. А, между тем, так ли обстоит дело ныне? Какая нравственность
проповедуется нам в наши дни? Прежде всего христианско-феодальная,
унаследованная от старой религиозной эпохи, которая, в свою очередь,
принципиально делится на католическую и протестантскую, при чем
опять-таки нет недостатка в дальнейших подразделениях, начиная
от иезуитско-католической и ортодоксально-протестантской и кончая
слабо обоснованной моралью. Одновременно с этой моралью фигурирует
современно-буржуазная нравственность, а рядом с ней пролетарская
мораль будущего; таким образом, прошедшее, настоящее и будущее,
в наиболее передовых странах Европы, выдвинули на сцену три большие
группы одновременно и параллельно существующих теорий о
нравственности. Какая же из них верна? Ни одна, если иметь в виду
абсолютно окончательное их значение; но, конечно, та мораль обладает
наибольшим количеством элементов, обещающих ей продолжительную
устойчивость, которая в данную эпоху выражает точку зрения будущего
т.-е. в данный момент — мораль пролетарская. Если же каждый из трех
классов современного общества (феодальная аристократия, буржуазия
и пролетариат) имеет свою особую мораль, то из этого можно сделать тот
вывод, что люди, сознательно или бессознательно, черпают свои
нравственные воззрения в последнем счете из практических условий их
654
классового положения, т. е. из экономических условий, в которых они
осуществляют производство и обмен продуктов.
Но ведь в трех вышеуказанных нравственных теориях есть нечто
общее им всем, и разве это общее не представляет, по крайней мере,
известную долю раз навсегда данной вечной нравственности? На это мы
ответим, что эти теории, выражая собою три различные ступени одного
и того же исторического процесса, необходимо имеют некоторую общую
историческую подкладку, а потому в них, само собою разумеется, и
содержится много общего. Более того, для одинаковых или приблизительно
одинаковых стадий экономического развития нравственные теории
должны необходимо более или менее совпадать. О того момента, как
развилась частная собственность на предметы движимости, для всех обществ,
в которых существовала эта частная собственноть, должна была стать
общей нравственная заповедь: «не укради». Но можно ли в виду этого
назвать эту заповедь вечной нравственной истиной? Отнюдь нет.
В обществе, в котором устранены поводы к краже, где, следовательно,
со временем кражу может совершить разве только душевно-больной, —
какому осмеянию подвергся бы тот проповедник нравственности,
который вздумал бы торжественно провозглашать вечную истину:
не укради!
Поэтому, мы отвергаем всякую попытку навязать нам какую-либо
моральную догматику в виде вечного, окончательного, отныне
неизменного нравственного закона, под тем предлогом, что и нравственный мир
имеет свои непреходящие принципы, которые стоят выше истории и
национальных различий. Напротив, мы утверждаем, что всякая
нравственная теория до сих пор являлась результатом в конечном счете данного
экономического положения общества. А так как общество до сих пор
развивалось в классовых противоположностях, то нравственность всегда
была классовой нравственностью: либо она оправдывала господство и
интересы господствующих классов, либо, когда класс угнетенный
становился достаточно сильным, она выражала возмущение против этого
господства и будущий интерес угнетенных; что при этом, в общем и целом,
в нравственности, как и во всех прочих отраслях человеческого познания,
происходил прогресс, в этом нельзя сомневаться. Но еще и теперь мы
не вышли за пределы классовой нравственности. Нравственность,
стоящая выше классовых противоречий и всяких воспоминаний о них,
нравственность истинно человеческая, будет возможна лишь при такой
степени развития общества, когда не только устранится противоположность
классов, но вместе с тем изгладится и ее след в практической жизни.
(«Анти-Дюринг»).
Г. Гортер
КАК ВОЗНИКЛА И ИЗМЕНЯЛАСЬ НРАВСТВЕННОСТЬ?
Бескорыстие, любовь к ближнему, самопожертвование, верность,
честность, справедливость — все это добродетели относятся к «высшей»
нравственности; они — сама нравственность.
Как обстоит дело с этими добродетелями? В чем их источник?
Не вечны ли они, не живут ли они, всегда неизменные, в человеческой
груди, или же они так же изменчивы, как все другие духовные вещи,
с которыми мы познакомились?
655
Эти вопросы оставались неразрешимыми для людей в течение
столетий, с того времени, как их начали ставить греческий философ Сократ
и его современники.
И, действительно, они представляют своеобразную трудность.
В самом деле, в нас звучит голос, который во многих случаях
непосредственно говорит нам, что хорошо pi что плохо.
Акты любви к ближнему, самопожертвования совершаются
стихийно, сами собою, в силу этого голоса. Он сам собою повелительно
предписывает нам правдивость, верность, честность. Наша совесть говорит
в нас, если мы не подчиняемся.этому голосу. Стыд охватывает нас, если
мы поступили нехорошо, хотя бы никто не знал об этом. Нравственный
закон, веления долга живут в нас, и им не дают достаточного объяснения
ни воспитание, ни собственное чувство удовольствия.
Эта повелительность и непосредственность представляют
специфическую особенность этики, учения о нравственности. Их нет ни в какой
другой области духа... ни в естествознании, ни в праве, ни в политике,
ни в религии, ни в философии, — им всем можно научиться, все они
оставляют возможность выбора.
Пытались вывести нравственный закон из опыта самого
индивидуума, из его воспитания, его привычек, его стремления к счастью,
из утонченного эгоизма или из симпатии. Но таким способом не удалось
выяснить ни повелительности голоса, призывающего нас любить
ближнего, ни тото удивительного явления, что человек, спасая существование
других, отвергает свое собственное существование.
Таг: как нельзя б.ыло вывести мораль из действительности, то
не оставалось ничего иного, кроме обычного убежища невежества, кроме
религии. Так как нельзя было объяснить нравственность из земной
жизни, то пришлось отнести ее возникновение к области
сверхъестественного. Бог при сотворении человека вложил в него стремление к доброму,
понятие доброго; злое проистекает из плотской природы человека, из
материального мира, из греха.
Непонятность возникновения «доброго и злого» — одна из причин
религии. Философы Платон и Кант построили на этом сверхчувственный
мир. И даже в настоящее время, когда природу понимают много
лучше, когда сущность общества является много более ясной для
людей, — еще и теперь нравственность, стремление к ^доброму», отвращение
перед «злым» представляют для многих людей нечто столь удивительное,
что они могут объяснить это только с помощью «божества». Как много
у нас еще таких современных людей, которым уже не требуется бог для
объяснения явлений природы или истории, но которые все же
утверждают, что им нужен бог «для удовлетворения их этических
потребностей». И они правы: они не понимают ни возникновения, ни существа
великих нравственных заповедей, а чего они не понимают и что они
считают за наивысшее, то они и обожествляют.
И тем не менее уже с полвека тому назад величайшие нравственные
веления получили объяснение в своем существе и в своих действиях.
Этим мы обязаны двум исследователям: один изучал человека в его
животном существовании, другой —в его общественном бытии. Это —
Дарвин и Маркс.
Дарвин показал, что все организмы ведут борьбу за существование
против всей окружающей природы, что сохраняются только те
организмы, которые приобретают наиболее целесообразные особые органы для
защиты v питания, между органами которых обнаруживается наилучшее
f>56
разделение труда, которые наилучшим образом приспособляются к
внешнему миру. В одной большой группе органическото мира, у животных,
в борьбе и благодаря борьбе за существование развилась способность
к самопроизвольному движению и познавательная способность. К числу
познавательных способностей относится наблюдение единичных явлений
в окружающем, схватывание в них сходств и различий и воспоминание
о ранее пережитом. Благодаря борьбе за существование, должны были
все больше усиливаться побуждения самосохранения и размнооюения»
а также разделение труда, самопроизвольное движение и мышление.
Вместе с тем вырастали и побуждения материнской любви. У животных,
вынужденных вести существование большими или меньшими обществами,
которые только и делают возможной для них борьбу за существованш,
как, напр., некоторые хищники, многие травоядные, между прочим,
жвачные, многие виды обезьян, — развиваются социальные побуждения.
И человек принадлежит к этим видам; человек тоже мог сохраниться
в природе только как общественное животное, только благодаря совместной
жизни в группах или ордах, и потому у него развились социальные,
побуждения.
Но каковы социальные побуждения, образовавшиеся у человека и
животных, благодаря борьбе за существование, и все более усиливавшиеся
вследствие естественного отбора? «Они могут быть очень различными в
зависимости от различных условий существования для различных видов,
но известные побуждения составляют необходимое условие
существования всякого общества» *). Есть такие побуждения, без которых общество
совершенно не может существовать, и, следовательно, эти побуждения
должны быть развиты у всего вида, который, чтобы сохраниться, должен,
подобно человеку, жить обществами. Каковы же эти побуждения?
«Прежде всего самоотречение, преданность коллективности». Если бы
это побуждение не возникло, если бы каждый жил только для себя
и не ставил бы общество выше себя, общество погибло бы под
воздействием окружающих сил природы или от нападений жищных животных.
Если бы, напр., в стаде буйволов, ведущих совместную жизнь, не каждая
особь была предана коллективности до такой степени, что она остается
на своем месте, котда тигр нападает на круг, в котором она стоит
со своими товарищами, если бы каждый бык, спасая свою собственную
жизнь, обращался в бегство, не заботясь о коллективе — то данное
общество погибло бы. Поэтому самопожертвование — первое социальное
побуждение, необходимо возникающее у такого животного вида.
«Затем мужество в защите общих интересов; верность по
отношению к коллективу; подчинение общей воле, следовательно, послушание,
или дисциплина; правдивость по отношению к обществу, так как если
его вводят в заблуждение, напр., ложными сигналами, то этим угрожают
его безопасности или приводят к распылению его сил, наконец,
честолюбие, чувствительность к похвале и порицанию со стороны коллектива —
все это—социальные побуждения, которые, как показывают наблюдения,
ярко1 выражены уже в животных обществах, при чем некоторые из них
нередко в очень высокой степени. Но эти социальные побуждения как
раз и являются возвышеннейшими добродетелями, а их совокупность
представляет нравственный закон. Пожалуй, сюда же можно было бы
отнести еще любовь к справедливости, т. е. стремление к равенству. Но
*) Эта и следующие цитаты — из агашти Каутского об этике (см. прим автора
на следующей стр.), — Прим. ред.
Г. Гу ррв 42
667
для его развития в животных обществах, несомненно, еще нет места5,
потому что оно знает только прирожденные, индивидуальные
неравенства, но не знает социальных неравенств, созданных общественными
отношениями». Любовь к справедливости, т. е. стремление к
социальному равенству представляет, таким образом, нечто, специфически
характерное для человека 1).
Нравственный закон — продукт животного мира; он уже жил в
человеке, когда тот был еще стадным животным; он ведет свое происхождение
из первобытной древности, потому что он жил в человеке все времяг
когда тот был общественным существом, т. е. все время, в течение которого
человек вообще существует.
Только помогая друг другу, люди могли победить природу.
Следовательно, люди всем этим обязаны этому нравственному стремлению
к помощи, этому нравственному закону, этим социальным побуждениям.
Голос нравственного закона слышался в человеке с самого
возникновения последнего.
«Отсюда таинственная природа этого голоса, который звучит в нас
и который не связан ни с каким высшим толчком, ни с каким
осязательным интересом... Вне всякого сомнения, это — таинственное
стремление, но не более таинственное, чем половая* любовь, материнская любовь,
инстинкт самосохранения, существо организма вообще и многие другие
вещи..., в которых, однако, никто не видит продуктов
сверхчувственного мира... Так как нравственный закон — животное побуждение,
единородное побуждениям к самосохранению и размножению, то этим
объясняется его сила, его настойчивость, которой мы подчиняемся без
всякого размышления, этим объясняется быстрота наших решений в
отдельных случаях, будет ли известное действие хорошо или дурно,
добродетельно или порочно; отсюда — решительность и энергия наших
нравственных суждений и отсюда же трудность их обоснования в тех
случаях, когда разум начинает анализировать действия и ставит вопрос об
их основаниях».
Теперь мы ясно видим, что представляет собою чувство долга, что
такое совесть. В нас говорит голос социальных побуждений. Но иногда,
в то же время примешивается голос побуждений самосохранения или
размножения, и бывает, что этот голос вступает в борьбу с голосом
социальных побуждений. Когда лб истечении некоторого времени
побуждения к размножению и самосохранению замолкают, социальное
побуждение еще продолжает звучать, но уже теперь как раскаяние.
«Не может быть ничего ошибочнее, как видеть в совести голос страха
перед товарищами, их мнением или даже перед их физическим
принуждением. Она говорит, как мы уже упоминали, по отношению и к таким
действиям, о которых никто не знает, которые кажутся окружающим
достойными всяческой похвалы, — совесть может даже отвращать от
действий, которые могли бы быть предприняты из страха перед товарищами
и их общественным мнением. Общественное мнение, похвала и порицание,
несомненно, очень влиятельные факторы. Но самым их действием уже
1) Мы не можем достаточно настойчиво рекомендовать читателю «Этику и
материалистическое понимание истории» Каутского, в особенности, если этот
читатель принадлежит к рабочему классу. Этика — последнее укрепление, за которым
окопались люди, желающие при помощи религии удержать опеку над рабочими.
Если мы разглядим земной источник высших нравственных заповедей, то спадут
многие духовные оковы. В свою очередь -солидарность укрепится, если мы1 узнаем,,
что корень ее —- древнейшие чувства человеческого рода. — Автор.
658
предполагается определенное социальное побуждение, честолюбие; сажи
они не могут создать социальных побуждений».
Мы видим, таким образом, насколько просто объясняется эта на вид
столь удивительная область духа, охватывающая высшие заповеди
нравственности, насколько ошибочно в поисках за объяснениями хвататься
за область сверхчувственного, и с какой ясностью причины
нравственности связаны с нашим собственным человеческим, животным, земным
существованием.
Итак, вот каково существо нравственности; пониманием этого мы
обязаны в первую очередь Дарвину. Но почему великие добродетели
у различных народов в разные времена до такой степени изменчивы?
Каким образом действие этих социальних побуждений каждый раз
оказывается столь различным?
Этого Дарвин не исследовал. Этими знаниями мы обязаны в первую
очередь Марксу.
Именно Маркс открыл главные причины тех изменений, которые
наблюдаются в действии социальных побуждений: открыл их для столетий
писаной истории, для эпохи частной собственности, для эпохи товарного
производства.
Маркс показал, что, благодаря частной собственности, в свою очередь
представляющей продукт развития техники, возрастающего разделения
труда, вследствие которых ремесла отделились от земледелия, возникли
классы, имущие и неимущие, члены которых с самого начала и до
настоящего времени ведут между собою борьбу за продукт и за средства
производства. Маркс показал, что из постоянно развивающейся техники
вытекает постоянно развивающаяся борьба. Тем самым он показал
важнейшую для новейшего времени причину изменений в действии
нравственных заповедей.
Потому что, во-первых, между частными собственниками, хотя бы
они и принадлежали к одному и тому же классу, возникает конкурентная
борьба. Борьба же эта оказывает убийственное воздействие на высший
нравственный закон, который говорит, что следует помогать друг другу,
и что каждый должен даже жертвовать собою за других. Этот закон
превращается в мертвую букву для общества, построенного на
конкуренции. В таком обществе он превращается в абстрактное учение не
земного, а небесного происхождения, которое восхитительно и прекрасно,
но которому нельзя следовать, так как это — учение собственно только
для воскресного дня, когда торговля и фабрики останавливаются, но зато
церкви открыты. Невозможно в одно и то же время посредством
конкурентной борьбы отвоевывать друг у друга рынок, положение, труд и
подчиняться внутреннему голосу, который с первобытных времен говорит
лам, что мы должны итти вместе с нашим ближним, так как двое
сильнее, чем один. Это невозможно, и учение, которое говорит, будто так
может и должно быть, ведет к лицемерию.
В своем анализе товара капиталистического поризводства Маркс
открыл, с какой необходимостью должен складываться характер людей,
которые независимо друг от друга производят продукты, как товары: они,
враждебные и взаимно отчужденные, противостоят друг другу, связанные
между собою не как люди, а как вещи, как куски полотна, мешки кофе,
тонны рулы, кучи денег; таким образом, Маркс вскрыл действительный
характер отношений между людьми, фактические отношения между ними,
а не те, которые существуют только в фантазии поэтов или в проповедях
священников.
42*
659>
Но, во-вторых, радаитие техники и разделение труда создали группы
людей, члены которых хотя часто и находятся в конкурентной борьбе
между собою, но тем не менее по отношению к другим группам имеют одни
и те же интересы, — другими словами, создали общественные классы.
У землевладельцев по отношению к промышленникам так же, как у
предпринимателей по отношению к рабочим, одинаковые интересы, и наоборот.
И пусть на рынке они урезывают друг друга: у всех землевладельцев
в борьбе за хлебные пошлины, у всех промышленников в борьбе за
пошлины на промышленные продукты, у всех предпринимателей в борьбе
против хороших законов по охране труда один и тот же интерес.
Следовательно, классовая борьба убивает добрую волю
нравственности, потому что нравственная заповедь не может сохранять своей силы
по отношению к классу, который старается уничтожить или ослабить
наш 'собственный класс, а тот класс, в свою очередь, не может
чувствовать верности по отношению к нашему побуждению к
самопожертвованию. В областях классовой борьбы о каких-либо нравственных
заповедях можно еще говорить только в рамках одного и того же класса;
по отношению к другим классам высших нравственных заповедей не
существует точно так же, как по отношению к врагу. Как на войне не думают
о том, чтобы пожертвовать собою ради врага, так никому не придет
в голову оказывать содействие члену враждебного класса, как таковому.
Как у некоторых животных нравственная заповедь остается в силе только
по отношению к членам одното и того же стада, как у прежних племен
людей она сохраняла силу только по отношению к соплеменникам, та/к
и гв классовом обществе она действует только по отношению к членам
овоего класса, да и здесь лишь постольку, поскольку это допускает
конкуренция.
Благодаря техническому прогрессу, накоплению чудовищных
богатств, с одной стороны, полчищ неимущих пролетариев — с другой,
классовая борьба между имущими и неимущими, капиталистами и
рабочими становится в цаше время вое острее и ожесточеннее. Следовательно,
в наши дни, чем дальше, тем меньше можно говорить о следовании высшим
нравственным заповедям в отношениях между классами. Напротив,
другие сильные побуждения, самосохранение и забота о потомстве —
приобрели теперь в межклассовых отношениях решительный перевес над
старыми социальными добродетелями. Инстинкт самосохранения
заставляет капиталистические классы с возрастающей суровостью отказывать
рабочим в необходимом. Они чувствуют, что в не особенно
продолжительном времени им придется отдать всю свою собственность, всю свою власть,
и го страха не сделать хотя бы шаг в этом направлении — они все с
большей неохотой соглашаются поступиться хотя бы чем-нибудь. И рабочий
по отношению к капиталисту не испытывает любви к ближнему, потому
что побуждения самосохранения и любовь к своим детям ведут его
к тому, чтобы низвергнуть капиталистов и, таким образом, завоевать
светлое, счастливое будущее.
Развитие техники, общественное богатство, разделение труда зашли
настолько далеко, имущие и неимущде классы настолько далеко отделены
друг от друга, что классовая борьба «сделалась главнейшей, наиболее
всеобщей и постоянной формой борьбы за существование индивидуумов
в обществе».
С ростом конкуренции наши социальные чувства, те чувства,
с которыми мы относимся к членам нашего общества, т. е. наша
нравственность утратила часть своей силы. С развитием классовой борьбы,
660
то социальное чувство, с которым мы относимся к членам других
классов, т. е. наша нравственность по отношению к ним тоже пошла на убыль;
но тем сильнее сделалась она по отношению к членам нашего
собственного класса.
Да, классовая борьба зашла уже так далеко, что для членов
важнейших классов благо их собственного' класса стало равнозначащим благу
всего общества. Только ради общего блага поддерживают своих
классовых сотоварищей и решительно выступают на борьбу с чужим классом.
Итак, если сущность высшей нравственности заключается в
самоотвержении, мужестве, верности, дисциплине, правдивости, чувстве
справедливости и стремлении к почету и похвале со "стороны ближних, то
действие этих добродетелей или побуждений постоянно изменяется
благодаря собственности, войне, конкуренции, и классовой борьбе.
Чтобы по возможности выяснить дело, постараемся теперь
применить то, чему мы научились у Дарвина и Маркса, к индивидуальному
примеру из нашего собственного времени, из непосредственно
окружающего нас самих.
Представим себе предпринимателя, владельца фабрики, которую он
ведет среди ожесточенной конкуренции с сотоварищами по классу.
Может ли эгот человек по отношению к этим классовым сотоварищам,,
собственникам конкурирующих фабрик, следовать высшим, вечным,, как
говорит буржуазия, заповедям нравственности? Нет, он неизбежно
сделает попытку сохранить или завоевать рынок для себя. Он не только
может делать это, пользуясь лучшими или худшими средствами, но и
должен это делать. Может быть, от природы у него сильные социальные
чувства, но это не имеет никакого касательства к делу: эти чувства
подавляются в нем стремлением к самосохранению' и заботой oj своих потомках.
При конкуренции вопрос жизни —сохранить рынок за собою, расширить
круг покупателей. Остановка знаменует здесь начало попятного движения.
По мере того, как конкуренция обостряется, т. е. по мере того, как
развивается техника и мировой рынок, этот фабрикант все меньше будет
испытывать социальные чувства, все больше будет помышлять о
самосохранении, т. е. о наивозможно высокой прибыли1, потому что, чем
острее конкуренция, тем больше 'опасность разорения.
Может ли этот фабрикант соблюдать высшие заповеди
нравственности по отношению к своим рабочим? Курьезный вопрос. Пусть по
природе он добрый человек, пусть даже он в особенности сильно
сочувствует страдающим: все равно своим рабочим он должен давать настолько
низкую плату, чтобы его фабрика оставляла высокую прибыль.
Отсутствие прибыли или малая прибыль знаменует застой. Производство
необходимо расширять, по временам производить его возобновление, иначе
черев несколько лет оно отстанет от других и через каких-нибудь десять
лет будет неспособно выдерживать конкуренцию. Следовательно, в
производстве должна существовать эксплоатация, и даже самые мягкие,
наиболее благоприятные для рабочих меры должны быть таковы, чтобы они
в конечном счете не уменьшали выработки, барыша. Мы преднамеренно
остановились на капиталисте, который все же несколько' помышляет
о своем персонале; большинство же капиталистов не такого: у
большинства социальные чувства уже рано убиваются погоней за барышами, а те,,
которые проводят меры, "наиболее благоприятные для рабочих, делают
это по хитрому расчету, из хорошо рассчитанного эгоизма: чтобы еще
прочнее прикрепить рабочих к фабрике и превратить их в еще более
терпеливых рабов.
661
Предположим теперь, что класс рабочих начинает борьбу против
нашего капиталиста и его класса; что возникают профессиональные
союзы и разражаются стачки; что все энергичнее выдвигается то одно,
то другое требование, — тогда у капиталиста и его класса мало-по-малу
исчезает всякое социальное чувство по отношению к той части его
ближних, которую составляют его рабочие; тогда в них пробуждается
классовая ненависть к рабочим, и, котда дело касается борьбы с рабочими
(следовательно лежит вне области конкуренции, которая остается),
развивается классовая солидарность с другими капиталистами.
И эта духовная атмосфера заряжается иначе по мере того, как
техника развивается дальше и классовая борьба благодаря этому становится
ожесточеннее.
Предположим, что этот фабрикант становится членом синдиката,
треста или картеля. И это ему часто приходится делать из
самосохранения. Тогда он попадает в положение деспота по отношению к своим
рабочим, которые, так как данный трест пользуется монополией, могут найти
работу только у него и потому допадают в полную зависимость от него.
Тогда этот капиталист поступает оо своими рабочими так, (как требует
от него синдикат. Если необходимо сокращение производства, рабочий
становится безработным; если наступает благоприятная конъюнктура,
его опять берут на фабрику; о самопожертвовании, любви к ближнему
нет речи; решающая роль принадлежит мировому рынку. В тот момент,
когда мы пишем эти строки, может быть, происходит увольнение рабочих
в величайшем масштабе, в каком оно еще никогда не происходило во
всем мире. Сотнями тЬтсяч выбрасывают их американские тресты на
улицу. И в Европе рабочим приходится не лучше. У большинства этих
капиталистов уже не осталось социальных чувств по отношению
к рабочим.
В качестве второго примера возьмем политика, которому
капиталистические классы вверили защиту своих интересов в парламенте, Может ли
этот человек соблюдать высшую, будто бы вечную нравственность по
отношению к рабочему классу? Нет, не может даже в том случае, если бщ
он и хотел этого. В самом деле, заповедь высшей нравственности —
справедливость, т. е. стремление всем предоставить равные права. Но
капиталистический класс, как таковой, погибнет, если он даст рабочему
равные права. Равные права, это значит, во-первых, равные
политические права, во-вторых, коллективная собственность на землю и средства
производства. Пока этого нет, нет ни высшего права, ни высшей
справедливости. Может ли притти к этому буржуазный политик? Нет, потому
что это было бы самоубийством для его класса. Он должен отказывать
во всем этом,
И чем острее становится классовая борьба вследствие развития
техники, чем больше возрастает численность, сила и организованность
рвущихся вперед рабочих, чем несомненней делается возможность такого
положения, котда на их стороне окажется перевес сил, тем решительнее
приходится буржуазному политику отказывать во всем, что имело бы
некоторое значение для рабочих. Буржуазный политик должен заглушить
в себе свои социальные чувства по отношению к рабочим и
прислушиваться только к голосу самосохранения. Для 'всего класса кадшталжстов
это становится вопросом жизни или смерти совершенно так же, как для
отдельного капиталиста.
Но по мере того, как в этом буржуазном политике — по нашему
предположению, представителе одного из имущих классов — исчезает со-
€62
щиальное чувство по отношению к рабочим, в нем возникает чувство
солидарности с другими имущими классами, хотя борьба и политическая
конкуренция в других областях сохраняются.
И эта классовая ненависть, равно как эта классовая любовь в нашем
политике усиливаются тем быстрее, чем резче становится вследствие
развития техники противоположность между имущими и неипмущими
классами.
Так объясняется то явление, что политики, которые, пока они стояли
вне практической политики, принадлежали, напр., к оппозиционной
партии или к только что возникшей буржуазной партии и были
преисполнены социальными чувствами по отношению к рабочим, утрачивали их,
как только им приходилось вести практическую борьбу против рабочих.
Практика убивает эти чувства и приводит к тому, что у этих политиков
оживает классовая солидарность с имущими. Выдающиеся примеры —
Мильеран, Бриан и Клемансо во Франции.
Теперь в качестве третьего примера возьмем рабочего.
Может ли он следовать высокой заповеди самопожертвования по
отношению к своему предпринимателю, его классу и его государству?
Нет, тогда его замучили бы до смерти; его жена и дети захирели бы от
нужды. Бедность, болезни и безработица угрожали бы гибелью ему и его
классу. Против этого восстают сильно сказывающиеся в нем инстинкты
самосохранения и размножения с их свитой, стихийно сильными
чувствами родительской любви. Он не может приносить себя в жертву
капиталистам, государству, потому что они низвергнут его в пучину
погибели; если он предоставит им командовать беспрепятственно, они
осудят его на рабство и преждевременную смерть. История учит, что
если рабочие не ведут борьбы за лучшую долю, класс капиталистов
доводит их до положения, когда они не могут ни жить, ни умереть, и когда
даже ничтожнейшее улучшение требует многолетних усилий.
Существование рабочего часто так беспросветно, безработица, женский и
детский труд, болезни, конкуренция между рабочими часто делают его
положение настолько невыносимым, до такой степени лишенным всяких
духовных и физических наслаждений — которые однако так легко можно
было бы сделать доступными, — что самопожертвование ради
капиталистического класса и его государства означало бы просто срыв с той узкой
полоски, на которой стоит рабочий, т. е. низвержение в пучину смерти:
Таким образом, по отношению к классу капиталистов, рабочий приходит
к полной противоположности того, чего требует высокий нравственный
закон (который христиане выражают следующими словами: возлюби
ближнего твоего, как самого себя): он приходит к борьбе против
господствующего класса.
И чем сильнее становится, вследствие развития техники,
сопротивление капиталистов, чем крепче они организуются в
предпринимательские союзы, тресты и политические партии, тем более слабеет в сердце
рабочего социальные побуждения по отношению к классу капиталистов;
как и у капиталистического класса, они превращаются в социальную
ненависть.
Далее, если мы напомним, что этот рабочий с такой глубиной сумел
понять производственные и классовые отношения, что превратился в
социалиста, то будет ясно, что его высшие нравственные побуждения по
отношению к классу неимущих станут усиливаться и расти в той мере,
хсак они исчезают по отношению к капиталистам и их обществу. Если он
уже от природы является человеком с высокими нравственными чув-
668
ствами, то они еще больше усилятся благодаря пониманию того, что он
щ его дети и все ого юотоварищи достигнут счастья лишь при одном
условии: если все, а, 'следовательно, и сам он, будет прислушиваться к голосу,
который призывает их к верности, правдивости, мужеству,
самопожертвованию, справедливости и т. д.
И чем больше растет нужда класса, т. е., чем больше вырастает
вследствие развития техники у рабочих потребность в социалистическом
обществе, а у 'собственников сопротивление ему, тем 'сильнее станет
вырастать солидарность, тромче будет звучать в пролетариях голос
нравственности, тем внимательнее станут они прислушиваться к этому голосу.
Следовательно, здесь будут происходить постоянные изменения в действии
нравственности.
Предположим, в заключение, тот случай, что этот рабочий развил
свой дух до такой степени, что он ясно видит, какое счастье принесет
коммунистическое общество для всех людей и какие беды уничтожит оно;
тогда своей ненавистью к имущим # своей солидарностью с неимущими
он проложит дорогу для своих высших нравственных чувствований. Он
понимает, что лишь с того времени, когда рабочие победят и
коммунистическое общество получит осуществление, нравственный закон будет
обнаруживать в нас свою силу по отношению ко всем людям. Поэтому его
собственнее и его класса стремление к уничтожению частной
собственности, конкуренции и классовой борьбы раскрывается для величайших
глубин: его сердца, как нечто такое, что является, пусть первым, но все1 же
отблеском утренней зари, высшего нравственного закона, который
сохраняет свою силу по отношению ко всем людям. В самом деле, если
социалистическое общество представляет благо для всех, то и стремление
осуществить это общество уже содержит в себе нечто от той любви ко
всем людям, которая распространяется на вое нации 1).
Таким образом, на этих примерах, известных каждому рабочему ив
действительной жизни по наблюдениям над непосредственно
окружающим, мы совершенно ясно видим, как изменяется содержание, способ-
существования в наших головах и сердцах даже так называемой высшей
и вечной нравственности, или морали, и изменяется по мере того, как
изменяется классовая борьба, классовые отношения, т. е.
производственные отношения, следовательно, в последнем счете производство и техника.
Следовательно, и высшая нравственность не остается неизменной: она
живет, т. е. она изменяется.
(«Исторический материализм»).
Ф. Лютгенау
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ РЕЛИГИИ И ЭТИКИ
Чтобы ответить на вопрос, существует ли между религией и
нравственностью необходимая связь, мы должны рассмотреть сущность той
и другой.
Что касается религии, то на основании исторического материала,
а также на основании общего мнения выдающихся ученых, можно
установить тот факт, что религия, по самой своей сущности, всегда имела
влияние на поведение человека, на его моральную натуру; благодаря
1) Ом. отрывок 'из Лешш& б ешнце этого отдела. — Прим. ред.
664
этому, религиозное отношение к неизвестному отличается от всякого
другого, особенно от научного отношения; и в самом определении религии
этот элемент, разумеется, должен быть принят во внимание.
Следовательно, к сущности религии безусловно относится то, что она имеет
влияние на нравственность. На это особенно указывает то обычное далекие,
что так называемые основатели религий — название это верно, конешю,
только в ограниченном смысле*) — большей частью являются в то же
время учителями новой морали.
Никто, однако, не станет наверное утверждать, что нравстшеяность
всегда и всюду определяется только религией. Нравственные понятия,и
(нормы вытекают из всякой общественной жизни и без содействия
религиозных причин. Теперь является 'вопрос: сложились ли у людей сначала
религиозные понятия или раньше из общественных отношений выросли
нравственные воззрения и правила? Без всякого сомнения, верно швдвд
дее, потому что никакая общественная жизнь, вообще, немыслима без
обычных сначала, а затем все более и более входящих в сознание норм
поведения. Как бы примитивны ни были эти последние, они все-таки
являются фундаментом, или'исходным пунктом, для нравственных
понятий позднейших потомков, а, следовательно, и современного нам
человечества, так как в нравственных понятиях, как и во всяких остальных,
царит беспрерывное развитие. В санскритском, греческом и латинском
языках к имени верховното бога присоединяют название «отец». Это
значит, что этическое отношение к боту сложилось но образцу этического
отношения ребенка к отцу. Следовательно, понимание отношения между
ребенком и отцом, как отношения этического, должно было
предшествовать признанию подобного же отношения между человечеством и
божеством.
Религия модифицировала нравственные понятия, но навряд ли она
могла им дать их первое содержание. О древне-германской религии и этике
Карл Лампрехт говорит так («История Германии»): «Германские боги
/вряд ли имели непосредственное отношение к моральной личности
индивидуума. Моральные понятия первобытных времен скорее выросли из
принудительного начала существующих учреждений, т. е. государства (?),
рода, семьи; в этом сочетании появились право и нравственность, едва
еще разделяемые в понятии людей. Вместе с тем и христианство, как
^религия, встретило здесь пробел, благодаря которому оно могло крепче
утвердиться, могло составить первый Общий кодекс
религиозно-нравственных понятий но отношению к индивидууму».
О изменением общественных отношений и, в последнем счете, с
изменением условий производства и обмена изменяются и нравственные
воззрения. Состояние же всякого общества характеризуется, в сущности,
двумя обстоятельствами: состоянием производства и техники и формами
обладания средствами производства или, выражаясь технически,
порядком производства, от которого зависит и порядок обмена.
Естественная религий знает только равные, нравственные
обязанности для всех людей. В этом она совпадает с этикой, выросшей из самих
коммунистических учреждений, без 'всякого религиозного посредства. При
всем том религиозная этика и та, которая создалась из этого понятии,
могут расходиться друг с другом во многих пунктах; но, во всяком случае,,
существовало два различных источника моральных воззрений уже тогда,
1) Относительно очень многих «основателей религии» можно определенно
сказать, что они —■ мифы. — Прим. ред.
665
когда суждения обоих видов этики почти еще покрывали друг друга по
своему содержанию. Из познания -зависимости между причиной и
следствием в жизни природы и человека вытекают моральная оценка,
моральные суждения и желания; они являются мотивами действия. Но человек
•очень часто наталкивается на пределы своего познания; из непонятного
вырастают боги, олицетворения непонятного, перед чем пределы знания
человеческого в данное время, а часто также и духовная инертность
человека заставляют его остановиться. Как возбудитель религиозных мыслей
и чувств, непонятное действует также и на моральные представления,
и на практическую деятельность, а для своих нравственных заповедей
релития предъявляет права на привилегию и даже на абсолютное их
значение, и только в освобожденной от нее области она представляет
естественному познанию право деятельности и влияние на поступки.
Соответственно этому и ум человеческий приходит двумя путями к нравственным
суждениям, мотивам и целям: с одной стороны, он выводит из того, что
ему известно из связи между собой явлений в природе, а с другой
стороны, из юго неизвестного, что он понимает религиозно, как стоящую
над ним власть.
Но в классовом обществе мораль делается классовой моралью. Это
значит не только то, что практическая мораль, фактическое поведение
людей, принадлежащих к различным классам, является неодинаковым,
соответственно неодинаковым экономическим условиям, но также и то,
что моральные суждения и идеалы отражают классовое положение их
носителей. В настоящее время никто уже не отрицает влияния
классового положения и вообще экономических условий на нравственную
деятельность. Это давно уже доказано даже статистикой, например, по
отношению преступления против собственности к ценам на жизненные
припасы. Но мы признаем также во все времена и у всех народов влияние
классового положения и на нравственные воззрения, на понимание
обязанностей и области дозволенного. У греков, например, обман и даже
обкрадывание богатых иностранцев считалось дозволенным, тогда как.
наоборот, обман со стороны финикийцев и критян объявляется гнусным
поступком; эксплоатируемый класс не считал это злом по отношению
к своим эксплоататорам. И подобные моральные взгляды нередко
встречаются и в настоящее время. На огромный прогресс указывает то, что,
как в настоящее время, угнетаемый класс отвергает для своих членов
подчинение правовому порядку и морали, принадлежащим существующей
общественной системе, и организованной борьбой угнетаемого класса
против господствующего хочет содействовать признанию высшей морали.
Это оказывается возможным только в том случае, если на это имеются
экономические предпосылки; мораль будущего общества складывается и
подготовляется меньшинством современного нам пролетариата. О
другой же стороны конфликт между интересами общественного прогресса и
господствующим общественным строем, или, выражаясь экономически,
конфликт производственной техники и сил производства с порядком
производства порождает в господствующем классе уменьшение моральных
сил и все усиливающуюся неспособность определять общественную
мораль. Класс этот выдвигает такие обязанности, которых он не может
исполнить, а создать такую мораль, которая была бы возможна,
жизнеспособна в недрах защищаемого им общественного строя, он не в состоянии.
Наш закон карает безработного за всякую активную попытку поддержания
саэоего существования (нищенство, кража), которую он предпринимает
при полной невозможности нравственного поведения (а именно, работы
€66
и поддержания себя из выручки проданной рабочей силы). Как-будто
там, где человеку объективно невозможно поступать исключительно
нравственно, может быть какая-нибудь речь о 'субъективной виновности!
Против социализма очень часто выдвигают нелепый аргумент,
предполагающий необходимость превращения людей в ангелов для него.
Наоборот, буржуазное общество, ожидающее от безработных и
лишенных средств к существованию уважения к существующему
имущественному строю и уголовным законам, предполагает ангельские натуры
в людях, то есть ангельские — по понятиям буржуазного общества:
сознательный же пролетариат скажет, скорее: люди, упавшие до степени
животной тупости.
В последнее время со стороны буржуазии делается немало попыток
нравственно улучшить людей, «этизировать» их социальную борьбу.
Многие из инициаторов этих попыток, несомненно, обладают искренностью и
доброй волей, и такие люди обращаются преимущественно к самой
буржуазии с требованием лучше исполнить ее нравственные обязанности по
отношению к обществу. Это особенно1 нужно признать за многими
членами «общества этической культуры». Такие попытки могут иметь успех
только у некоторых отдельных лиц, но они остаются без всякого влияния
на буржуазию, как на класс, для которого решающим элементом является
классовый интерес.
Большинство же лиц, выступающих с подобными же претензиями,
имеют в виду исключительно нравственное усовершенствование рабочего
класса, и усовершенствование это они понимают соответственно
классовым интересам буржуазии (рабочие дома, народные чтения). В самой
буржуазии во многих отношениях наблюдается моральный упадок:
стремление к накоплению богатств, превышающее все остальные влечения, страсть
тс физическим наслаждениям и вместе с тем уменьшение способности
к наслаждению, благодаря недостатку физиологически необходимого
элемента труда, разочарованность, профанация брака и т. п. являются
выражением ненужности существования этого класса. Класс же,
делающийся ненужным для производства, превращается этим самым в
потребляющий только класс. Конфликт между производственной техникой и
строем производства препятствует тому, чтобы выгоды, ттолучаемые от
прогресса в познании природы и развития техники, служили
действительно делу освобождения, препятствует, следовательно, моральному
подъему общества. Уничтожить этот конфликт составляет цель и
призвание социализма. Разрешение этой задачи означает в то же время и
прогресс общественной морали, установление лучших отношений между
людьми. Стремление к этому общественному щюгрессу далеко
превосходит по своему значению все стремления к индивидуальному
усовершенствованию. Поэтому, в высшей степени нравственна задача рабочего
класса устранить тот общественный строй, который стал в противоречие
с производственной техникой, и ввести общественное производство.
«Только с тех пор люди станут 'сами сознательно творить свою историю,
только с тех пор социальные причины, претворяемые ими в движение,
будут иметь и желаемые ими следствия. Это будет переход человечества
из царства необходимости в царство свободы» (Фр. Энгельс. «Анти-
Дюринг»). Мораль не только перестанет тогда быть классовой моралью,
но люди заменят даже царство царящей теперь слепой необходимости
великим и постоянно все возрастающим царством свободы. В наше время,
в настоящей стаоии общественного развития, не может быть более высокой
этической цели, как устранение такого производственного строя, который
667
находится в противоречии с производственной техникой и, поэтому?
является препятствием и для этического прогресса.
Уже одна борьба за эту цель требует самою сильного этического
напряжения и самопожертвования и развивает лучшие этические силы
пролетариата. Развитие пролетарской морали познается в критике старых
моральных воззрений, в переоценке их и в завоевании фактических
нововведений в вопросах труда, отношения полов, брака, власти, религии и т. д.
Ничего не значит, что до сих пор она еще не была записана никаким
специалистом: inter arma silent musae (во время борьбы музы молчат).
Буржуазные писатели, пытавшиеся излагать ее, всегда понимали ее
совершенно неверно. Наше мнение, что возможность пользования техническим
прогрессом для всего общества является задачей этической культуры,
высказывает также и один буржуазный ученый, очень известный в
научной этике, профессор Фридрих Иодль в Праге. Я не моту удержаться,
чтобы не. привести следующей цитаты (из журнала «Этическая
Культура», год I); она говорит, по отношению к настоящему, безусловно,
в пользу социализма. Иодль пишет: «Дело здесь идет не о воспитании
разума, но о воспитании воли, не о логической, а об этической
культуре ... Часто полагали, что второе является простым следствием первого.
Мы только что пережили последнее и самое тяжелое заблуждение этото
рода. Школьное образование и народное воспитание — совсем не одно и
то же: нам показали это тяжелые испытания. Знание есть, конечно, сила,
но ценность его определяется тем употреблением, которое из него делается.
А это и есть дело воли, искусство разумно руководимой и управляемой
воли. Где стремление к этой силе не служит всему обществу, там всякое
знание, вся техника, всякая победа над природой являются не
благодеянием, а проклятием. Она служит не благополучию рода и увеличению его
сил, а только эксплоаташга многих немногими, бессмысленной роскоши
одних и жалкому существованию других. Чем больше средства власти,
которыми располагает человек, тем огромнее то разрушение, которое они
дают 'возможность ему произвести. Чем более развиты элементы
материальной культуры, тем резче, тем ярче вырисовываются контрасты между
ее внешним блеском и ее сущностью, между е^ высотой и глубиной, между
тем, что она обещает, и тем, что она дает. Можно временно ослепляться
таким фальшивым положением: можно убедить себя, что оно неизбежно,
что там, где много света, должны быть и темные тени; но страстное
стремление к благам культуры тех, кто исключен из пользования ими, (все-таки
каким-нибудь путем найдет себе выход».
Бессознательное влияние естественных условий и среды на
нравственные убеждения и поступки до сих пор далеко превосходили
сознательное влияние как разумного мышления, так и религии. Это может
измениться только тогда, когда почти беспрерывно прогрессирующее
в объективных следствиях культуры человечество совершит и такой шаг
вперед, что он сделает доступным всем все завоеванное им в технической,
экономической, духовной и нравственной области, и объективный прогресс
всюду станет в то же время и личным, субъективным. Обычаи играют
огромную роль у китайцев не только фактически, в индивидуальных
поступках, но и в моральной оценке и во всем моральном влиянии на людей.
Быть нравственным у них значит поступать соответственно привычкам
и обычаям страны. 'Всякое нововведение считается достойным смерти
преступлением. Привычкой человек ограждает себя от влияния
различных явлений в жизни и природе; и морально застывший китаец ничему
не удивляется, и ничто не выводит его из равновесия.
668
У нас особенно женщина привязана к обычаям. «Мужчина
стремится к свободе, а женщина — к обычаям». Нарушение обычая считается
у женщин, обыкновенно, преступлением против нравственности. Это
моральное воззрение было придумано мужчинами, как господствующим
полом, продиктовано угнетенному полу. Здесь играет роль классовый
интерес. Но первоначально происхождение нравственных воззрений из
обычаев было вполне естественным делом. Это видно уже из самого слова.
Немецкое слово — Sittlichkeit (нравственность), латинское — мораль и
греческое — этика — все они имеют в своем корне слово, означающее
обычай или нрав.
Влияние познания природы, а также и разумного мышления тоже
гораздо обширнее, чем влияние религии, веры. Таким образом, хотя
религия и требовала для своих моральных предписаний преимущественного и
даже абсолютного значения, и соответственно1 этому все общественные
учреждения, все правила общественной жизни: законодательство, брак,
усыновление, гостеприимство и т. п. были формально связаны с
религией, но на самом деле в практических вещах решающее значение было
за разумом, а не за религией. Внутреннее содержание четырех высших
добродетелей: sofia (мудрость), andreia (мужественность, храбрость),
sofrosyne (умеренность), dikaiosyne (справедливость) определялось око-
рее реальными, жизненными отношениями и их разумным пониманием,
а не вытекали из религиозного идеала. Таким образом, этимология (наука
о происхождении слов) и семазиология (наука, рассматривающая
значение ело© и историю их значения), эти самые надежные толкователи)
мышления и чувствования народа, говорят против того взгляда, что
нравственность зависит, главным образом, от религии. Кроме того, в греческой
и римской литературе1 мы часто встречаем также стоящий в
противоречии с тем, на что претендовала религия, взгляд, что этические блага не
являются даром богов. Наряду с ethos у греков был nomos закон,
представляющий собой нормы их поведения. Оба были впоследствии
санкционированы религией. Но, кроме того, иногда упоминается о еще более
высших, неписанных законах, nomoi agraptoi (в «Антигоне» Софокла,
у Фукидида II, 37, у Ксенофонта, называющего четыре из них: почитание
богов, уважение родителей, удаление от кровосмешения и деятельная
благодарность). Они, разумеется, считались происходящими от богов,
потому что теоретически этика греков и даже этика их философов
оставалась идеалистической и зависимой от религии, хотя она и далеко
переходила обычные воззрения и национальные рамки. По мнению пифагорий-
цев, а также и Платона, целью жизни являлось уже прямо «богоподобие»
(homoiosis theon).
Исключение составляет только Эпикур, который первый объявил
религию независимой, боролся с ней, как с средством развращения
людей, и пытался установить нравственность на реальном основании.
Философия его носит совершенно деистический характер, когда он, не
отвергая прямо существования богов, отказывает им в каком бы то
ни было влиянии на творение мира и на управление им. Он
аргументировал тем, что вея масса мирового зла и несовершенства противоречит
такому влиянию; поэтому боги жили в отдалении от людей, и просьбы их
не могли проникнуть к ним через пустые пространства между телами*.
Итак, учение его преимущественно этическое; он пытается создать
систему реалистической этики,. Найдется ли какая-нибудь новейшая
теория, за исключением естественно-научной и технической области,
которая не была бы намечена, хотя бы в основных чертах, даровитыми
669
греками? Дальнейшее развитие мысли Эпикура -мы находим у Лукреция
в его поэме о природе.
Христианская эпоха средних веков не знает, конечно,
реалистической этики,—«этики», как теории, разумеется, и «реалистической этики»,
которая сама выводит выставленные ею обязанности из условий жизни
людей. _ Независимо от религии нельзя было рассматривать никакого
вопроса, касающегося нравственной жижи. В пределах церковного учения
схоластики обсуждали опорный вопрос, является ли что-либо благом,
поэтому что бог этого хочет, или же бот хочет чего-либо, потому что оно —
благо. То; что христианская мораль фактически основывалась и
основывается на человеческих интересах и притом, при разделении классов
человеческого общества, по необходимости,-— на интересах
определенных классов, доказывает каждая глава морального учения, каждая
страница церковной истории. Христианство, в отличие от языческих религий,
является религиозным «учением», которое составляет функцию
духовенства, совершенно особой и организованной группы. Поэтому, мы можем
точно и достоверно установить и господствующие в нем религиозные и
моральные воззрения и подробно проследить их развитие. Затем
христианство является, по существу, религией социальной; фундаментом ему
служит определенное, расчлененное на классы, общество. Поэтому, хотя
непосредственно и религия определяет нравственность, но
косвенно—господствующий класс общества, потому что на его господстве и
основывается данная религия. В главе о христианстве, как религии социальной,
мы проследили, каким образом христианство первоначально, как религия
неимущих классов, в лице своих наиболее выдающихся представителей^
отвергло собственность, основывающуюся на эксплоатации чужой
рабочей силы, каким образом, напротив, позднее оно признало своим
основанием буржуазный строй собственности, а товар и капитал, следовательно,
своим теогоническим элементом. Главным же образом учение о
бессмертии души и вознаграждении в потустороннем мире больше всего
содействовало тому, чтобы дать оправдание существующему строю и сделать-
бедных довольными своим жребием. Но, чтобы назвать это довольство
уже прямо добродетелью, до этого дошли представители церкви только
в наши дни: ни в схоластической теологии, ни в классической
французской проповеднической литературе, ни, наконец, в катехизисах того* или
другого вероисповедания довольство, не называлось в числе добродетелей.
В своем угодничестве капиталу теологи все еще не столько сделали, чтобы
им ничего больше не оставалось делать.
Однако, связь между религией и моралью, даже и помимо
отношений классов друг к другу, имела влияние на поведение и на всю жизнь,
которое должно было значительно отличаться от чисто-человеческой
морали.
Крайне поверхностным и, очевидно, ложным было бы утверждение,
что эта связь, просто-на-просто, во всех отношениях влияет
неблагоприятно, что омраль, основанная на религии, обязательно должна быть
развращенной или бездеятельной. В настоящее время мы видим многие
тысячи религиозно-верующих людей, особенно среди так называемых
«маленьких людей» в деревне, вполне искренних и нравственно
хороших, и притом нельзя не согласиться, что они нравственно хороши,
главным образом, вследствие своей религиозности г). Религия, по самой
1)' С точки зрения марксизма это является чисто поповским мнением (вообще-
зяедует иметь в "виду, что Люттенау иногда сильно «хромает» в этом отношении, —
недаром он впоследствии примкнул к ревизионизму). — Прим. ред.
670
авоей сущности, предъявляет свое право на нравственное влияние; и где-
индивидуум, по свободному выбору, приходит к. какой-нибудь религии,
там это влияние осуществляется и практически. Поэтому, субъективная
религиозность всегда имеет своим следствием какой-нибудь вид
нравственности —■ это слово мы понимаем здесь индаферентно, то есть, нет
никакой необходимости принимать его в хорошем смысле, — хотя бы другие
известные нам факторы и подавляли ее или вредили ей. Но разве же это
служит доказательством необходимости основывать нравственность на
религии? Отнюдь нет. Если верно то, что корни религии отмирают, то
общественной необходимостью сделаются нерелигиозная мораль и
нерелигиозное нравственное воспитание. Объявить их невозможными —
значило бы сомневаться в способности человеческого рода к дальнейшему
развитию. Нерелигиозная нравственность возможна, потому что она
существует на деле: многие из лучших людей всех времен были
нерелигиозны. Может быть, большая уже часть нашего рабочего класса порвала
с религией и вместе с тем обладает нравственными силами славно вести
великую историческую борьбу в беспрерывном ряде победоносных битв.
В более свободных странах государственная школа с большим успехом
заменила религиозно-нравственное обучение и руководство чисто
этическим; люди, не принадлежащие ни к какому вероисповеданию, по
статистике, совершили, в процетном отношении, меньше преступлений, чем
приверженцы тех или других религиозных обществ. Религия оказывает
нравственной жизни ту же самую службу, как костыль при ходьбе. Кто
не нуждается в костыле, тот лучше себя чувствует.
Однако, соединение религии и нравственности может быть и
положительно вредным для последней. И оно часто бывает вредным, по
свидетельству истории и даже прямо разрушителыным: одна только маленькая
соединительная черточка между словами «религиозный» и
«нравственный» принесла много зла в мире, и притом двояким способом1. Во-первых,
содержание этой нравственности определялось религией. В таком случае
религия господствует над нравственностью, а не наоборот; религия,
следовательно, может развивать только ту нравственность, которую она
признает. Религиозное может быть, конечно, субъективно искренним, но такая
искренность может очень сильно отличаться от чисто-человеческой
нравственности и того нравственного стремления, 'которое проявляется в
совместной работе над культурными задачами времени и класса. Тот, для
кого, например, руководящей нитью является мораль талмуда,
нравственен только в смысле талмуда. Самые ужасные поступки, вызванные'
религиозным фанатизмом, могли совершаться с благой целью. Очень
чаюто моральные суждения и предписания религии находятся в
противоречии с просвещенным сознанием разума: тогда они безнравственны-
Критяне оправдывали педерастию примером Зевса: с точки зрения
религии, которая приписывала божественным образам человечества такие
поступки или свойства, они, разумеется, были правы. Субъективная
безнравственность началась тогда, когда естественное сознание признало
этот обычай пороком. Но в своих суждениях об этом, мы отнюдь не должны
отправляться от наших современных нравственных воззрений.
Сознательное отрицание порока означало сознательный отказ от части религии;
по ^религия была очень упорна в удержании своих порочных богов, потому
что неверие долго аргументировало в своей полемике против религии
слабостями, любовными связями и т. п. поступками богов. Точно так же,
в 'случае подобного конфликта между религиозной и естественной
нравственностью, очень трудно часто разобрать у каждого отдельного индави-
671
дуума, управляет ли его поступками искреннее релитиовное чувство или
софистика, в которой играет роль обдуманное (намерение. Конечно', нам,
современным людям, имеющим за собой или, может быть, еще и в себе
добрую долю христианства, более знакомо обратное явление: конфликт
между фанатической, 'религиозной и более мягкой, человеческой
нравственностью. Некогда против нашей древней национальной религии
совершенно так же, как у греков', выдвигали нравственные недостатки наших
богов. Но козда христианство утвердило 'свое господство, то явилась
религиозная мораль, выставляющая своим идеалом умерщвление плоти,
аскетизм, юз держание и безбрачие. От этой, морали человечество1 в общем
много страдало, и результатом ее явились сильные нравственные
уклонения в тесном смысле этого слова. Невозможный компромисс между этим
противоестественным и естественным пониманием нравственности привел
к позднейшему разделению на высшую мораль для тех, кто хотел
посвятить свою жизнь идеалу, и на низшую мораль для обыкновенных
смертных. Огромное влияние на нравственность имеет то, что христианство —
догматическая религия. Застывшее учение, налагающее на членов
религиозной общины принудительную веру, должно было в тех случаях, когда
отдельные лица сомневаются в ней или отвергают ее, часто вызывать
лицемерие, илияющее на всю нравственную природу человека.
Естественным религиям, не знающим никакого учительства и никакого контроля
над отдельными лицами, чуждо такое лицемерие. Учение о
потустороннем вознаграждении часто, и особенно в средние века, вело к тому, что
главным импульсом поведения делалась жажда грубого чувственного
наслаждения, которого ожидали в небесах, и во внешних так называемых
добрых делах видели подходящее для этого средство; но прежде всего
нужно принять во' внимание характер (религии, как религии социальной.
Тем самым, что мораль, вытекающая из интересов одного класса,,
санкционируется религией и религиозным же путем передается другому
классу, она придает себе значение религии господствующей. Религия
охраняет классовые привилегии и укрепляет в головах взгляд на право
эксплоатации. Этим она вызывает у одних стремление к господству,
себялюбие, «мораль господ», у других же — чувство подчинения, сострадания,
«мораль рабов». В умах угнетенного класса в конфликт с религиозной
моралью подчинения вступает классовая мораль возмущения, стремления
к освобождению; перед этим конфликтом стоит религиозный рабочий
настоящего времени. Для господствующего же класса, наоборот,
религиозная и классовая мораль совпадают. Духовенство как "союзник
господствующего класса и, как проповедник созданной им морали, внутренне
и лично также разделяет ее или — ib некоторых случаях — конфликт
возникает и в душе духовного лица.
Наконец, духовенство, как «заместитель бога», обладает
значительной властью сравнительно со всеми мирянами. Там, где церковь обладала
огромной политической и экономической властью, как в средние века,
она кумулировала ее с властью этого заместительства до величайшей
силы, которая когда-либо существовала. Церковь обладала всеми
средствами власти и управляла совестью. После того, как она политически
и экономически отступила перед господствующим классом буржуазного
общества и государством и сделалась .-зависимой от них обоих, как в
настоящее время/она уже не могла применять к ним, как к целому, власти
своего «заместительства», но если они оба, как целое, не препятствовали
ей, то она применяла ее к каждому из них в отдельности; при этом она
пользовалась сохранившейся у нее внешней властью, и жертвами ее
672
являлись, разумеется, социально от нее зависимые и экономически более
слабые. В чисто католических странах огромная власть ее еще 'не
ослабела. Нравственный здесь значит религиозный, а нерелигиозные люди
считаются дурными. Католическая религия осталась в этом удивительно
последовательной: католическая мораль «состоит в безусловном
подчинении заповедям церкви. Протестанты — но не протестантизм, о которых
никогда нельзя говорить в смысле одинаковых, позитивных верований, —
выступили 'на защиту нравственности, независимой от религии, а
следовательно и нравственной автономии индивидуума и возможности
нерелигиозной нравственности. Напротив, позитивно-верующие возражали
на это так — и с метафизической точки зрения они были правы: —
абсолютное может быть только одно — или религиозное, или нравственное;
но нравственйо-абеолютное исключает религиозно-абсолютное,
абсолютный характер религии.
Вторая опасность, вытекающая из обоснования нравственности
религией, состоит в том, что тот, кто отвергает религию, чувствует себя
также свободным от нравственных обязанностей, потому что с
уничтожением причины прекращается и ее действие. Мы наблюдаем это явление как
у отдельных лиц, так и в широких общественных кругах, как в прошлом,
так и в настоящем. История показывает, что исчезающие и впадающее
в разлад с мышлением и культурой какого-нибудь народа религии не
в состоянии больше поддерживать нравственность этого народа, которая
сильно страдает от этого. После того, как греческая религия в течение
многих веков способствовала воспитанию благочестивого и честного1
народа, ко времени Эврипида этот последний уже начал делаться
тщеславным и продажным; вместе с тем и серьезный, нравственный характер его
заменился летко^мысленным, невоздержанным и развратным. Чем теснее
нравственность была связана с религиозными традициями, тем больше
она падала с разложением последних. В Риме то же самое проявилось
еще в более сильной степени. Рим последнего периода обладал
множеством различных религиозных систем и культов. Но истинная вера была
в нем редкостью. О одной стороны 'вместе с религией отбрасывались и
вытекающие из нее обязанности; с другой же стороны, безнравственность
содействовала и извращению самой религии; в культ проникали самые
отвратительные вещи, и неестественные пороки римских (богачей, были так
сказать, религиозно санкционированы. Чтобы перейти к настоящему
времени, я приведу цитату из того, что у Жюля Венсона («Современные
религии») говорит о неграх капитан Бэртон: «Капитан Бэргон утверждает
также, что обращенные (раньше было выяснено, что обращены они были
только чисто с внешней стороны) непры были гораздо хуже тех, которые
остались язычниками. Котда они расстались с верованиями, служившими
до сих пор основанием их морали, юс уже ничто более не стесняло: они
убивали, грабили, развратничали, пьянствовали и, в особенности, крали».
Поскольку религия составляет какую-нибудь опору нравственности,
утраченная религия нуждается в «замене». Это истрепанное слово правильно
только в таком смысле и предполагая притом только такие отсталые
моральные воззрения. Если признать, что такое навязанное сверху
христианство не может дать этой замены для живой, естественной религии,
то, с другой стороны, нельзя отрицать и того, что при падении
христианской догмы терпит крушение и нравственность. Пошатнувшаяся догма не
в состоянии больше поддерживать нравственность. Религиозные
представления шатаются: одни обращаются при этом к практике, к полезному и
нравственно индиферентному, другие же теряют всякий страх даже
Г. Гурев 43
673
перед преступлением. Религиозно верующие люди выводят даже из того
факта, что колебание веры вредит также и нравственности, — впрочем
только чисто-религиозной — необходимость еще более глубокого,
религиозного 'воспитания. Они признают безусловно правильным такой вывод:
«Если нет ни бога, ни загробной жизни, то я моту делать все, что хочу».
Это — легкомысленное разрушение нравственности и с религиозной точки
зрения: как будто религиозному человеку неверие вместе с
безнравственным образом жизни приятнее, чем без него.
(«Естественная и социальная религия»).
Г. £. Плеханов
ВЕДЕТ ЛИ АТЕИЗМ К АМОРАЛИЗМУ
Господин Мережковский говорит: «Прежде всего — вывод: нет бога,
или вернее, человеку нет никакого дела до бога; между человеком и
богом нет соединения, связи, религии, ибо religio и значит связь человека
с богом».
Само собою разумеется, что если нет бога, то между человеком
и богом нет другой связи, кроме той, которая существует между
человеком и его вымыслом. Но в этом «выводе», как таковом, нет
ничего страшного.
Почему же его так боится г. Мережковский? Наш автор отвечает
«Этот догматический позитивизм (потому что у позитивизма есть тоже
своя догматика, своя метафизика и даже своя мистика) неизбежно-
приводит к догматическому материализму: «Брюхо в человеке — главное
дело. А как брюхо спокойно, значит и душа жива: всякое деяние
человеческое от брюха происходит». Утилитарная нравственность —■ только пере
ходная ступень, на которой нельзя остановиться, между старою
метафизической моралью и тем крайним, 'но неизбежным выводом, который
делает Ницше из -позитивизма — откровенным аморализмом, отрицанием
всякой человеческой нравственности. Интеллигент не сделал этого
крайнего вывода потому, что был удержан от него бессознательными
пережитками метафизического идеализма. Босяка уже ничто не удерживает; и
в этом отношении так же, как и во многих других, он опередил
интеллигента: босяк откровенный и почти 'сознательный аморалист».
Здесь под догматическим позитивизмом г. Мережковский понимает
собственно материализм; ведь, известно, что позитивизм новейшего толка
(позитивизм Маха, Авенариуса, Петцольда) отрицает механическое об-
яонение природы. Поэтому, я и могу ограничиться рассмотрением того,
в какой мере тгрименима к "материализму мысль, заключающаяся в только
что приведенных мною строках г. Мережковското. А едва возникает передо
мною этот вопрос, мне вспоминаются следующие слова Энгельса, бывшего,
как известно, одним из самых замечательных материалистов XIX столетия.
«Под материализмом», говорит он, «филистер понимает обжорство,
пьянство, тщеславие и плотские наслаждения, жадность и скупость,
стремление к наживе и биржевые плутни, — короче, вое те грязные
пороки, которым он сам предается втайне. Идеализм означает у него веру
в добродетель, любовь ко -всему человеческому и вообще «лучший мир».
о котором он кричит перед другими, и в который сам начинает веровать
разве лишь тогда, когда у него болит голова с похмелья или когда он
674
обанкротился, — словом, когда ему приходится переживать неприятные
последствия «материалистических» излишеств. Любимая поговорка
филистера гласит: что такое человек? Полузверь, полуангел».
Этими словами Энгельса я хочу сказать совсем не то, что г.
Мережковский лишь изредка бывает расположен к идеализму, т. е., что он лишь
изредка верит в добродетель, любит человечество и т. д. Я вполне и
охотно верю в его искренность. Но я не не могу видеть того, что
свойственный ему взгляд на материализм заимствован именно у того же
филистера, о котором говорит Энгельс. И само собой разумеется, что, перейдя
от филистера к г. Мережковскому, взгляд этот не сделался основательнее.
Господин Мережковский считает себя призванным поведать миру новое
религиозное -слово. С этой целью он и критикует наши грешные
материалистические взгляды. Но беда в том, что в критике этих взглядов он
ограничивается повторением очень старых заблуждений.
В данном случае его заблуждения опять тесно 'связаны с
анимизмом. На самых ранних ступенях общественное развития нравственные
понятия людей независимы от их веры в существование духов. Потом
понятия эти мало-по-малу очень крепко срастаются с представлениями
о тех духах, которые, играют роль богов. И тогда начинает казаться, что
нравственность основывается на вере в существование богов, и что с
падением этой веры должна пасть и нравственность. Покойный Достоевский
был глубоко убежден в этом. Как видно, то же убеждение разделяет и наш
автор. Но и тут мы имеем дело с такой психологической аберрацией,
которая, будучи вполне понятной, не перестает от этого быть только
аберрацией, т. е. ни мало не приобретает значения довода.
Несомненно, могут встретиться люди, вполне искренно готовые
повторить знаменитую фразу: «Если бога нет, то вое позволено». Но пример
таких людей ровно ничего не доказывает. Впрочем, нет, я выражаюсь
неточно: пример этот совсем не доказывает того положения, в защиту
которого его обыкновенно приводят. Но он довольно убедительно
доказывает обратное положение. Дело тут вот в чем.
Если нравственные понятия людей так тесно срастаются с верою
в духов, что прекращение этой веры грозит падением нравственности, то
в этом заключается большая общественная опасность. Общество не может
оставаться равнодушным к тому, что судьба его нравственности зависит
от судьбы данной фикции. Чтобы выйти из того опасного положения,
в котором оно находится, обществу необходамо было бы позаботиться
о том, чтобы его члены научились смотреть на требования нравственности,
как на нечто совершенно независимое от каких бы то ни было
сверхъестественных сугцеств. Разумеется, мне могут сказать: но что же такое
общество если не совокупность его членов? и есть ли у общества какая-
нибудь возможность отнестись к вопросу о нравственности иначе, чем
относятся к нему его члены? Это возражение я охотно признаю
правильным: общество, в самом деле, не может смотреть ни на один вопрос иначе,
чем смотрят его члены. Но действительное общество никогда не бывает
односоставным: одной его части (группе, сословию, классу) свойственны
бывают одни взгляды, другой — другие. И когда возникают в нем такие
группы, нравственные понятия которых уже не сочетаются с верой в
существование духов, тогда напрасно другие группы, сохранившие в этом
отношении старые умственные привычки, обвиняют их в
безнравственности. В лице этих групп общество впервые дорастает до таких
'нравственных понятий, которые умеют держаться на своих собственных ногах
и не нуждаются ни в каких посторонних подпорах.
43:
%1Ь
Совершенно справедливо то, что Ницше сделал из «позитивизма»
вывод, равносильный отрицанию всякой человеческой нравственности.
Но ©инить в этом надо не «позитивизм» и не материализм, а только самого
Ницше. Не мышление определяет собою бытие, а бытие определяет тобою
мышление. В аморализме Ницше сказалось настроение, свойственное
буржуазному обществу времен упадка, и это настроение: давало себя
чувствовать не только в сочинениях немца Ницше. Возьмем хотя бы сочинения
француза Мориса Баррэса. Он так формулирует содержание одного из
своих сочинений: «Есть только одна вещь, которую мы знаем, и которая
действительно существует между всеми предлагаемьми тебе ложными
религиями ... Эта единственная осязательная действительность есть —
я (C'est le moi), и вселенная есть лишь написанная им более или менее
красивая фреска. Привяжемся же к нашему «я», защитим его от
посторонних, от варваров». Это достаточно выразительно. Когда люди приходят
в такое настроение, когда «единственной осязательной
действительностью» представляется им их драгоценное «я», тогда они уже являются
настоящими аморалистами. И если это их настроение не 'всегда
подсказывает им безнравственные теоретические выводы, то это происходит
единственно потому, что безнравственная практика далеко не всегда
нуждается в безнравственной теории. Напротив!, безнравственная теория
нередко может явиться помехой для безнравственной практики. Вот
почему люди, безнравственные на практике, часто любят нравственную
теорию. Кто написал Ангимаккиавелля? Тот прусский король, который зга
практике едва ли не усерднее всех других государей придерживался
правил, изложенных в книге «Le principe», и вот почему современная
буржуазия, при всей своей невольной симпатии к Ницше, всегда будет
считать признаком хорошего тона отрицание его аморализма. Ницше
высказывает то, что делается в современном буржуазном обществе, но в чем
неудобно признаваться. Поэтому современное общество не может
отнестись к нему иначе, как с полупризнанием. Но, как бы там ни было,
Ницше есть продукт известных общественых условий, и относить его
аморализм на счет позитивизма или механического миросозерцания
значит не понимать взаимной связи явлений. Французские материалисты
XVIII века тоже были, если я не ошибаюсь, сторонниками «механического
миросозерцания», а, между тем, ни один из них не пришел к аморализму.
Напротив, они так часто и так горячо говорили о нравсттенности, что
Гримм шутливо наввал их в одном из своих писем «капуцинами
добродетели». Почему же механическое миросозерцание не вызвало у них
склонности к аморализму? Единственно потому, что при тотдашних
общественных условиях идеологи буржуазии — в среде которых тогдашние
материалисты составляли «крайнюю левую» — не могли не явиться
защитниками нравственности, вообще, и гражданской доблести, в
особенности. Буржуазия поднималась тогда вверх, была передовым
общественным классом, воевала с безнравственной аристократией и тем же самым
научилась ценить нравственность и дорожить ею. А теперь она сама
представляет собою господствующий класс, теперь она идет вниз, теперь
в ее собственные ряды все более и более проникает испорченность, теперь
война всех против всех все более и более становится conditio sine qua non
(необходимое условие) ее существования, а потому неудивительно, что ее
идеологи, т. е. собственно только ее откровенные идеологи, чуждающиеся
лицемерия, столь обычного теперь в среде ее теоретиков, приходят
к аморализму. Все это совершенно понятно. Но все это по
необходимости доляшо оставаться непонятным для человека, держащегося того- до
676
последней степени ребяческого взгляда, согласно которому настроения
и действия людей определяются тем, верят или не верят они в бытие
сверхъестественных существ.
Тут мне опять припоминаются прекрасные слова Энгельса: «Ре-
лития есть, по своему существу, опустошение человека и природы,
лишение их всякого содержания, перенесение этого содержания на фантом
потустороннего бога, который затем снова дает кое-что человеку и
природе от своего избытка». Г. Мережковский принадлежит к числу
самых усердных «опустошителей» человека и природы. Все нравственно
возвышенное, все благородное, все истинно-человеческое, принадлежит,
по его мнению, не человеку, а именно созданному им
потустороннему фантому. Поэтому, фантом представляется ему
необходимым условием нравственного возрождения человечества и всякого
общественного прогресса. Он проповедует революцию; но лишь в
опустошенной душе могла зародиться склонность к той революции, которую
он проповедует ]).
(«Евангелие от декаданса»).
М. Рейснер
О СВЯЗИ МОРАЛИ О РЕЛИГИЕЙ
Когда хотят неопровержимо доказать необходимость религии; то
говорят: «Без религии нет нравственности. Без бога нет различия добра
и зла. Отнимите у человека бога, и он превратится в дикое животное».
Признаться, нет и не может быть доказательства в пользу религии,
которое было бы более предательским, нежели это. Ибо здесь, благодаря
сопоставлению религии и нравственности, мы получаем полную
возможность суда над первой во имя 'второй.
Нравственность в сознании современного человечества давно
перестала быть таинственным даром небес. Ей посвящено' достаточное
количество исторических и социологических трактатов для того, чтобы мы
могли рассматривать ее не как вечный, неизменный закон, данный для
всех ютран и народов, а как одно из весьма изменчивых и обусловленных
явлений общественной жидаи.
Можно считать совершенно бесспорным и общеизвестным, что
нравственность древних, с ее оправданием рабства, значительно отличается
от современной, даже сугубо буржуазной и капиталистической, что
обгладывать человеческие кости на манер полинезийских гастрономов
в нынешней Европе не почитается нравственным, что предлагать гостю
свою жену на ночь теперь почти вышло из употребления, а кровавая
месть больше не считается моральным долгом уцелевшего родственника.
Бьш> бы в высшей степени безнравственно в настоящее время посадить
своих престарелых родителей на высокое дерево и трясти их до тех пор,
пока они свалятся, чтобы на этом основании бросить их затем диким
зверям на съедение. А, между тем, вое такие вещи у определенных
народов в определенные времена почитались и нравственными и
похвальными.
1) Не мешает припомнить, что этот «крайний революционер», «мистический
анархист», кончил свою жизнь в качестве лютого врага пролетариата и Октябрьской
революции. — Прим. ред.
677
Что такое нравственность?
Под этим названием мы понимаем такой порядок общественного иг
яичного поведения, который устанавливается при помощи одной основной
идеи добра или блага. Доброе или благое поведение называется
поведением нравственным, недоброе и злое поведение—безнравственным.
Что такое идея добра или блага?
Такая идея вырабатывается чисто практически. Находясь в услю-
виях определенной общественной среды, в рамках известного
хозяйственного быта, занимая соответственное классовое положение и работая по
той или другой профессии, люди считают одни поступки и поведение
годными, полезными, хорошими и похвальными, отмечают их, скажем,
знаком плюс или словом «да», а другие — негодными, вредными,
нехорошими и непохвальными, отмечают их знаком минус или словом «нет».
Таким образом, у нас создаются два разряда, которые отрицают друг
друга и друг другу противоноложны: на одних я ставлю плюс, на
других — минус, да или нет.
Путем практики повторения у меня естественно образовывается
привычка считать одни поступки хорошими, а другие — дурными. А вместе
с тем в моем сознании создается своего рода мерка или нравственный
аршин, который я затем и применяю по мере надобности. Такая мерка
отличается одною любопытной чертой, а именно, способностью отрываться
от тех жизненных данных, при помощи которых она создана, и получать
значение чего-то существующего независимо от человека и обладающего
неизменностью и вечностью.
На чем основана такая черта нравственного шаблона? Во-первых,
на постоянстве тех условий, в которых человек живет а, во-вторых, на
том обстоятельстве, что, при оценке годности и негодности, он всегда
пользуется одним и тем же неизменным приемом, а именно, он всегда
прикидывает оцениваемые данные на «да» и «нет», на годность и
негодность или, иначе говоря, на «добро» и «зло». Благодаря такому
постоянному применению мерки на добро и зло, человеку начинает казаться, что
добро и зло существуют сами по себе, независимо от его воли и желания,
независимо от его потребностей и нужд.
Еще больше укореняется такое заблуждение благодаря тому
обстоятельству, что раз люди выработали в известных общественных и
экономических условиях определенный шаблон и мерку или, как его
называют в таких случаях, «закон» или «заповедь», то впоследствии, ради
удобства, уже пользуются таким законом или меркой сплеча, а не делают
каждый раз настоящей и подлинной проверки годности или негодности,
добротности или никчемности данного поступка на самом деле. Дескать,
раз поступок, поведение жги лицо отвечают тем признакам, которые
имеются в установленном нравственном аршине, то и считать его добрым,
хотя бы на самом деле он и не был таковым. А, может быть, сам аршин
надо бы исправить или переделать, но об этом думать не хотят.
Поведение или поступок, которые подходят под установленный
шаблон или мерку, или так называемый «закон», называется моральным,
а совокупность моральных шаблонов или предписаний — моралью. Как
очевидно,. «моральный» поступок может совсем не сходиться с
действительно годным и полезным, а, следовательно, н нравственным в истинном
смысле слова, т. е. годным и полезным.
Но еще хуже дело может обстоять с так называемыми «идеалами».
Эти последние вырабатываются так же практически, как и нравственные
шаблоны или моральный закон. Но в отличие от закона, который прямо
678
определяет или предписывает известные признаки морального поведения,
ядеал есть не что иное, как самый образ или представление, в котором
сосредоточены в возможной полноте все лучшие или положительные
признаки и черты доброго, благого, хорошего и т. п. Так, с одной стороны,
мы можем установить целый ряд правил, которые будут определять
хорошее поведение судьи, любящего отца, красноармейца или художника.
а с другой — мы соединим в идеальном образе этого самого судьи,
любящего отца, красноармейца или художника, как в живой форме, все черты
годности, добротности и т. д. Так, с одной стороны, у нас получится
идеал, который всегда лучше действительности, так как в нем соединены
все лучшие черты, которые мы нашли, где бы то ни было, и в
разрозненном виде и искусственно соединили вместе, а, с другой — этот идеал
целиком всегда зависит от действительности, у которой мы и
заимствовали все образующие его черты и признаки.
Такие идеалы особенно пригодны при построении целей и
осуществлении их. Между природой и нашими запросами к ней всегда лежит
большое расстояние. В нашей борьбе с природой мы запрашиваем всегда
возможно больше. Мы предъявляем к ней поэтому всегда «идеальные»
требования. И когда мы строим наше общественное здание, мы также
стремимся, чтобы оно было «идеальным», т. е. удовлетворяющим всем
нашим потребностям и нуждам. Так понимаемые идеалы является, как
очевидно, только подсобными, рабочими построениями, все достоинство
которых заключается в близкой или даже более далекой, но именно
практической осуществимости. И мы строим будущее коммунистическое
общежитие в виде идеальной цели не потому, что мы идеалисты, а потому,
что наиболее полное обеспечение всех нужд человека на основе
свободного и равного трудового общения мы считаем наиболее «идеальным»,
т. е. лучшим воплощением наших целей.
Нечего говорить, что злоупотреблений с «идеалами» было ещэ
безмерно больше, нежели с нравственным законом. Весь мир был разделен
на «грязную действительность» и «идеальную мечту» или «грезу». Между
ними была вырыта положительно пропасть. Из служебных и довольно
второстепенных приспособлений нашей практической работы идеалы
стали «вечными, недостижимыми образцами, нетленным воплощением
совершенной истины, добра и красоты», которые можно только созерцать,
если совершенно отрешиться от жизни и отказаться от ее «грубой» и
«материальной основы». Под такие идеалы можно было подставлять все,
что угодно, а их полная непригодность к жизни стала служить
доказательством их высоты и святости. Стало почти общим правилом, что чем
«выше, чище и духовнее» идеал, тем обыкновенно гаже, грязнее и подлее
та действительность, которую он прикрывает...
Если теперь спросить, каким свойствам должна удовлетворять
нравственность, чтобы действительно облегчить людям общественную
организацию и дать им такой порядок, который был бы для них порядком
нужного для них добра, то после сказанного ответ не может представлять
особенных затруднений. В качестве доброго и годното должно быть
обозначено то, что и на самом деле является для них добром при данных
отношениях и данной обстановке, а главное при наличных условиях
экономического быта и формах производства. Моральный закон только тогда
хорош, когда он гибок и поддается легко перемене, но в то же время
тверд и вызывает всеобщее для дачной группы и однообразное поведение.
С одной стороны, нравственный идеал точно так же лишь в том случае
правилен, когда в нем действительно собраны нужные и полезные для
679
класса или организации качества, а, с другой стороны, когда он
становится живым образцом для подражания.
Бое эти требования легко могут быть проверены на любой
исторически данной нравственности. Возьмем для приемра хотя бы хорошо
вам известную буржуазную нравственность. Как известно, буржуазия
живет грабежом и захватом, а в первую голову — присвоением
прибавочной стоимости. Ясно отсюда, что хорошая буржуазная
нравственность должна считать добром алчность и жадность, т. е. это называется:
энергия, предприимчивость и частная инициатива; беспощадность и
жестокость по отношению к слабейшему — это именуется: деловитость и
расчетливость, уменье прикрыть бесстыдную эксплуатацию — это зовется:
благотворительность, культура, гуманность и т. д. Моральный закон
должен благословить сильных среда слабых, значит, он представит среди
действительного равенства призрачное равенство и провозгласит:
«каждый за себя» или, иначе, «пусть правило твоего поведения станет
правилом поведения всех и каждого». Что касается нравственного идеала
буржуазии, то совершенно естественно, что в качестве такого
предстанет перед нами «самоцельная и автономная личность», которая в конце
капиталистического развития из звероподобного «естественного
человека» вырастет до размеров «сверхчеловечества», по праву попирающего
всех слабых, ибо сказано: «падающего подтолкни»...
Опрашивается теперь, при чем же здесь религия?
На этот вопрос мы должны прежде всего ответить, что «светской»
становится нравственность и мораль только в таком обществе, где
хозяйственные и социальные условия таковы, что они делают возможным такое
разумное и рациональное построение. Как мы знаем из истории,
действительность далеко не всегда давала и дает эту возможность. Отметим
в этом отношении хотя бы судьбы крестьянства и тех обществ, которые
держались эксплоатацией этого класса. Условия крестьянского
хозяйства на протяжении веков были таковы, что построить себе научную или
даже только разумную (рациональную) картину мира крестьянин лишен
был ©сякой возможности. Напротив, все условия его жизни и труда
были настолько непонятны, случайны, тяжелы и неизменны в своей
бессмыслице, что для крестьянина, как класса, оставалась по общему
правилу единственная и самая грубая форма сознания — это мысль,
окутанная тайной, слово, превращенное в заклинание, и действие,
направленное на создание магической техники, волшебства и чуда. Религия
и релитиозное сознание в таких случаях навязываются трудовой
несчастной массе самым ее бытием, как единственная форма доступного ей
сознания.
Но с такой же необходимостью религия овладевает и другими
классовыми и иными группами, когда их положение становится столь же
неустойчивым, тяжелым и для них непонятным, как положение
крестьянина на протяжении веков. Таковы все времена перехода от одних
хозяйственных форм к другим, когда в грандиозном крушении погибает
старый класс-хозяин и на смену ему поднимается новый, рушится целый
мир хозяйственных, политических и правовых отношений, а из
революций, войн, разорения и голода рождается новый экономический порядок.
В этих случаях гибнущий класс обыкновенно' ищет спасения в небесной
помощи и все, что он теряет на земле, мнит воскресить на небесах или
при их помощи. Сейчас мы переживаем подобное же время. И
неудивительно, что искушенный в плутнях буржуа и старый атеист-интеллигент
одинаково простираются перед всевозможными алтарями, бросаются
680
к различным шарлатанам и оправдывают религию не только от
откровения, навождения и накатывания духом, но и необходимостью ее для
нравственности и морали.
Остановимся несколько подробнее на том результате, который
проистекает для нравственности от ее слишком тесного общения
с религией.
Как мы уже видели выше, первой вадачей нравственного сознания
является установление нравственной расценки при помощи понятий
доброго и злого для того, чтобы этим путем организовать годное и полезное
для данной группы поведение. Опрашивается теперь, как влияет на эту
задачу внесение сюда религиозных понятий? На это должно ответить,
во-первых, что сама нравственность в таком случае отрывается от земли,
от интересов и нужд человека и получает свое содержание не от
человека, а от предполагаемых божеств. Она вырабатывается не разумом и
волею человека, а каких-то высших, неземных существ. Она становится,
следовательно, свыше установленным законом, и самое суждение о добре
и зле не подлежит более суду человека. Первая и основная задача, таким
образом, совершенно изъемлется из рук человека, и из творца и
созидателя своего нравственного мира он становится рабом, малосмьхшленным
ребенком или даже животным, подчиненным воле господина. Так ведь
и выражаются религии, когда говорят о рабах бога или детях его, или
даже станах овец и баранов, которые принадлежат ему.
На самом деле, как показывает история религий, никакой бог сам
не осуществляют своей власти рабовладельца и собственника над людьми.
Это берут на себя всевозможные божий заместители, приказчики и
управители, которые действуют на земле и в земных интересах. Дело идет,
следовательно, лишь о том, чтобы подобно тому, как господин
устанавливает для раба нужную для него, господина, нравственность (а у раба,
предполагается, никакой своей нравственности быть не может), точно
так же и здесь заместители бога, ссылаясь на свои полномочия,
устанавливают для рабочего стада то добро и зло, которое нужно его
господам, но, может быть; иногда весьма тяжело и мучительно для рабов.
Добро господствующего класса перекрашивается в добро божие и в этом
виде навязывается, как нравственное добро для угнетаемых.
Примеры подобной божеской нравственности настолько
многочисленны, что мы затрудняемся сделать выбор из имеющегося изобилия.
Остановимся хотя бы на неистощимых доказательствах в пользу
оправдания рабства, на заповедях смирения, послушания, терпения и
самоотречения, которые нравственно организовали и рабовладение,
крепостничество' и всякую иную кабалу. Вспомним не менее
многочисленные и убедительные проповеди и наставления, при помощи коих внушали
особые обязанности слугам, рабам и тем же крепостным по отношению
даже к «злым» хозяевам, которым надлежало тем не менее служить не
«за страх, а за совесть».
Отметим, наконец, ту идеализацию страданий, лишений, нищеты,
голода, грязи, болезней и даже мучительной смерти, которая прежде
всего примиряла неимущих замученных и умирающих с их горькой
судьбой и отнимала у них какие бы то ни было побуждения к тому,
чтобы искать улучшения их невыносимого положения. Так зло, самое
настоящее, подлинное зло для трудящихся, и самое вредное в их
классовом интересе поведение при помощи религиозного чуда
превращались в добро, которое было бесспорным добром для их классовых
угнетателей.
681
Свобода такой подделки и перекраски добра ib злю и обратно для
религии тем более широка и доступна, что по существу религиозное <хь
знание само по себе лишено каких бы то ни было признаков добра и зла
так же, как вообще формы, соответствующей определенному 'содержанию.
Я тут в основе лежат две причины. Во-первых, содержание всякой
религия: не в том или ином земном поведении, а прежде всего и больше
всего в общении с божеством, в слиянии с ним, как с некоторой живой
бесконечностью или сверхъестественной силой. А такое слияние не
только в буквальном смысле слова невыразимо, но и само по себе лишено
всякой формы и пределов. В нем нет ни верху, ни низу, ни правой, ни
левой стороны, вообще в нем теряются все различения и, как говорят
мистики, в нем все или, что то же самое, ничто. Такое общение всегда
ощущается, как своего рода провал в какую-то бездну. И уж, конечно.
в такой «бездне» никакого различения добра и зла нет'и быть не может.
Другая причина чисто формального характера. Дело в том, что
религия, работая при помощи непознаваемого и непостижимого, тайн и
чудес, не может пользоваться ни ясным и точным словом, ни сколько-
нибудь разумным и положительным суждением. Она выражает, поэтому,
свои чувствования при помощи намеков, иносказаний, заумной речи,
символов и подобных знаков, сигналов и обрядов. Суть здесь в том, что
если мы даже имеем какие-нибудь внешние действия или предметы, то
они отнюдь не выражают того, что они есть на самом деле, а нечто
сокровенное, непонятное и загадочное. На этом построены магия, таинства и
волшебство. На этом же построена и религиозная нравственность.
Поэтому сплошь и рядом безнравственный по-земному поступок
оказывается добрым «в высоком божеском смысле», а преступление, которое
подлежит осуждению, получает магический смысл, который его и
оправдывает с точки зрения святого откровения. Отсюда понятно, что, с одной
стороны, в религиозных обрядах и действиях мы находим сплошь и рядом
самую настоящую безнравственность, а, с другой — возможность
подделки нравственных суждений в целях угнетения и экоплоатации одних
людей другими.
Что добродетель отнюдь не представляется необходимым средством
спасения, показывает чрезвычайное изобилие среди хотя бы христианских
святых блудниц и блудников, 'всевозможных в последнюю минуту
обратившихся злодеев, не говоря уже. о многочисленных представителях
царей, князей и вообще господ, которые отнюдь не соблюдали при жизни
строгих правил воздержания и не отличались ни милосердием, ни
любовью. Характерно присутствие среди «святых» царей и Константина
равноаятостольского, который до последней минуты сам был язычесшим
богом.
Не менее замечательно и превращение путем различных таинств
безнравственных поступков в нравственные. Таковы многократно
практиковавшиеся в крепостное время венчания крепостных, превращавшие
принудительную случку несчастных рабов в святое таинство брака
таковы же всевозможные церковные разрешения, которые выдавались
власть имущим на совершения актов, почитавшихся безнравственными.
Но самым любопытным, конечно, должно считать пресловутое отпущение
грехов, при чем самый безнравственный человек в одно мгновение
превращается в безгрешного ц святого, а на покрытие счета его грехов
переводятся таинственным образом страдания и смерть невинно замученных
и казненных. При шшощи такой бухгалтерии легко обеляется до
ангельской чистоты самый гнусный факт классовой экоплоатации.
682
Коренная и глубокая безнравственность или, вернее, вненравстюн-
носгь религии прекрасно известна любому ив посвященных. Но так как
эта истина отшатнула бы от нее большинство ее почитателей, то
изобретается другой способ различения добра и зла, который играет
большую роль во всех мировых религиях. Это—противоположение злого и
доброго духов. Оно явилось в жизнь вместе с первобытным верованием,
когда человек еще не мог и не умел мыслить вне религии. Тотда-то и было
человеческое добро олицетворено в виде доброго духа, а человеческое
зло — в виде злого. Впоследствии, с появлением человекообразных
божеств, эта противоположность получила новое значение. Уже не боги
стали различаться по человеческим понятиям добра и зла, а, наоборот,
человеческое добро и зло стало различаться сообразно воле богов, из
которых один остался все же добрым, другой — злым. Получилась в
результате безнадежная путаница. Ибо, с одной стороны, боги различаются
между собою именно потому, что есть различие добра <и зла, а с другой,
само добро отличается от зла потому, что так установили добрый и
злой боги. Нелепица полнейшая!
В религиях, установивших так называемое единобожие, на самом
деле никакого единобожия нет, так как без злого духа они тоже никоим
образом обойтись не могут. В христианстве же и подавно вера в единого
бога не только не препятствует, но, наоборот, предполагает и требует
веры в злого духа, который принимает живейшее участие во всех
действиях доброго 'божестваГ При этом только- происходит своеобразное
разделение труда. Все то, что может послужить к увеличению доброй славы
божества и его нравственной репутации, относится за счет единого
доброго бога, а все то, что могло бы, несколько испортить эту репутацию и
набросить на нее тень, записывается на счет дьявола. Но так как
высшее начальство на земле и на небесах остается за добрым ботом, то злые
и пакостные деяния черта совершаются не без ведома и молчаливого
согласия доброго бога, который, таким образом, почитаясь всемогущим,
вездесущим, всеведущим провидением, действует иногда
непосредственно за свой страх и риск, иногда же через своего рода подставное
лицо, которому в известных случаях и разрешается проявить свой злой
характер и подшутить над человеком.
Нельзя не видеть, что с нравственной стороны древние религии,
признавшие многобожие, были много нравственнее религий единобожных
или монотеистических х). Они были в том отношении наивнее, что они
прямо переносили земные порядки на небеса, и если на земле шла борьба
между добрыми и злыми (а ©о всякой борьбе союзники и друзья
считаются добрыми, а враги злыми), то и на небе повторялось буквально
то же самое. И там какие-нибудь Дэвы почитались злыми, а Фраваши —
добрыми, Агурамазда почитается добрым, Ариман же злым, и между ними
шла честная и открытая борьба. Борьбе на земле соответствовала борьба
на небесах. Подобным же образом дрались между собой и боги у древних
греков и римлян, и если на земле сторонники Артемиды терпели
поражение от поклонников Афродиты, то так оно по существу и полагалось:
кто в данный момент сильнее и ловчее, тот и побеждает. Во время
гражданских войн повторялась та же самая история. Демос или плебеи
шли против эвпатридов и патрициев со своими ботами, и пораженная
1) Неудачная (и, к сожалению, не единственная) фраза, ибо неясно, с какой
точки зрения «нравственнее». Следует помнить, что .никакой вечной, 'Надклассовой
морали не существует, ибо этот момент ,не всегда последовательно .выявлен в данной
статье (mr отръгнк'И из Энгельса и Ленина). — Прим. ред.
683
сторона делила со обоими ботами горькие плоды неудачи. Но при таком
положении дел никогда не терялась надежда, что когда-нибудь «добрые»
люди и боги победят «злых».
Не то в религиях единобожия. Здесь зло совершенно теряет свой
временный характер и боевую природу. Наоборот, так как, злой дух и,
как предполагается, производимое им зло действуют и происходят с
разрешения доброго 'высшего бота и входят в общий строй им установленного
мироздания, то этим самым зло, во-первых, про-чно узаконяется, а,
во-вторых, как часть общего благого миропорядка утверждается, как нечто
неизбежное, против чего по существу и бесполезно и бессмысленно
восставать и бороться. А так как далее зло действует' не открыто, так
сказать, за свой собственный счет, а исподтишка с молчаливого и, прибавим,
предательского попустительства со стороны добра, то и получается
безнравственная терпимость, ибо и добро не вполне чисто, и зло как-то не
без примеси добра. Отсюда же примиренчество*, всякое соглашательство
и боязнь обострения той жизненной диалектики, которая, особенно
в классовой борьбе, ставит принципиальные и радикальные вопросы.
Но с точки зрения религиозно-мистической логики такое решение
вопроса есть единственное правильное, ибо, как мы видели1 выше, религия
по существу ни добра, ни зла различать с «божественной» точки зрения
не может, а бог и дьявол суть только символы или, иначе, два входа
с разных сторон к одной и той же бездне подсознательных чувствований.
Лишним доказательством такото вненравственного характера
религиозного сознания служит то обстоятельство, что как, только обострялась
классовая борьба, а вместе с тем рождалась особенно острая
необходимость нравственного различения своего и чужого, доброго и злого, то,
поскольку общественная мысль пользовалась религиозными
представлениями, она сейчас же их перерабатывала в смысле перенесения на небеса
наиболее острых противоречий земли, а с тем вместе и резкого
противопоставления бога и дьявола, при чем последний немедленно же приобретал
героический и бунтарский характер. Так было, между прочим, и во время
английской революции, когда ее величайший поэт Джон Мильтон воспел
в своей знаменитой поэме революционера небес сатану и восстание
ангелов против божественного деспотизма. Нечто подобное мы видим и
впоследствии, когда старый дьявол превращается то в духа разума и
сомнения, т. е. Мефистофеля, то в великолепного и могучего Демона, как
воплощение мирового протеста, то в духа буржуазии; или Анатему и т. д.
Однако все эти примеры относятся к области поэзии, но не религии.
Последняя осталась твердо стоять при соглашательстве своего бота и чорта.
Самый поверхностный обзор истории отношений между богом и
дьяволом в христианско-иудейском предании доказывает лучше всяких
слов наличность тесного сотрудничества между ними. История
грехопадения, которая представляет из себя к&к-бы первый акт трагедии треха,
уже дает нам картину взаимной поддержки этих двух сил. Божественное
провидение подготовляет всю обстановку последующего грехопадения, при
чем совершенно последовательно ставит под запрет, не только познание
вообще, но как раз познание нравственное, т. е. различие добра и зла.
По существу, с мистической точки зрения, это безусловно верно, и, как
мы уже выяснили, религия ни в каком различении и познании добра и
зла не нуждается: нравственность и добродетель ей совершенно
безразличны. Божий запрет целиком поражает как раз жажду и стремление
к нравственной оценке окружающего. Характерно, что веление бога,
запрещающего человеку нравственное сознание, само носит форму нрав-
684
стенного же закона, хоть и основанного на грубейшем нравственном
мотиве — выгоды и страха. Но такое отношение к человеку нисколько не
мешает, а, наоборот, способствует совместной работе бога и дьявола.
Итак, с одной стороны, бог говорит человеку: «от дерева познания
добра и зла не ешь, ибо в день, в который ты вкусишь от него,
смертью умрешь», а, с другой, зная наперед, что человек оотрепшт, не
только помещает это соблазнительное дерево в раю, делает его приятным
для глаз и вожделенным, потому что дает знание1, но и пропускает в рай
змия, который, согласно божьему соизволению (ибо ни один волос не
упадет с головы бе<з воли божией) и должен совершить акт искушения.
Змий в данном случае действует вполне оотлаоно с божественным планом,
являясь своего рода предтечей Азефов и провокаторов воето мира. Дьявол
выступает, следовательно, как от бога посланный агент небесной охранки.
Что же далее? Грехопадение благополучно совершается, а бот,
содействовавший вместе с дьяволом этому деянию, подвергает тяжкому
наказанию несчастных прародителей и изгоняет их из рая на весьма
любопытном основании: «Оказал господь бог: вот Адам стал, как один из нас, зная
добро и зло; и теперь как бы не простер он руки свои, и не взял также
от дерева жизни, и не вкусил и не стал жить вечно». Таким образом,
именно нравственное прозрение со стороны человека, по библейскому
преданию, стало причиной изгнания его из рая и дальнейших ^мучений,
а бот наказал человека за то, что из бессмысленного животного он стал
нравственным существам.
Но, изгоняя человека из рая, тот же бог на веки связал судьбы
изгнанника с присутствием и дальнейшей деятельностью своего агента,
дьявола; именно, на последнего вовложена почтенная обязанность
постоянной вражды с семенем жены и «право жалить его в пяту». В то же
время первородный грех, как учит впоследствии церковь, настолько
ослабляет силы человека в борьбе со злом, что человек без специальной и
чудесной помощи свыше оказывается обреченным безусловной тибели и
страшному посмертному наказанию в виде адских мучений. В высшей
степени замечательно, что даже в аду не расстается человек со своим от
бога приставленным провокатором и мучителем: в бесконечном страдании,
на которое обречен человек в аду, исполнителем божеских велений,
палачом и заплечных дел мастером по применению пыток и истязаний
оказывается как раз тот злой дух, который так успешно соблазнил первото
человека в раю. И лишь мучениями и убийством новой жертвы так
называемого христа-искупителя удается, наконец, избавить человека от
столь незаслуженного им свирепого наказания.
Если, таким образом, свести воедино весь этот рассказ иудейско-
яристианокого предания, буквальный текст которото является предметом
веры для миллионов наивных душ, то получается следующая картина.
Бог запретил человеку быть нравственным (вкусить познания добра и
зла), а сам при помощи дьявола побудил его на то, чтобы приобрести
нравственное сознание. И когда человек стал подобным богу в деле нрав-
ственното разумения, то бот при помощи злого духа подверг за это
человека невероятно тяжелому мучению. Отсюда же вытекают две вещи:
согласно божьему велению человек не должен быть нравственным, а сам бог
не только не гнушается сотрудничества и помощи злого духа, но,
наоборот, действует через него во всех случаях, когда он сам желает совершить
зло и причинить человеку мучения. Что и требовалось доказать. Что же
касается действий бога по отношению к созданному им человеку, то и их,
по крайней мере с точки зрения наиболее употребительной морали, по-
685
строенной на идеях блага и справедливости, ни благими, ни
справедливыми признать никоим образом нельзя. От начала до конца
это—оплошная безнравственность. Впрочем, конечно, бог суждению человеческой
морали не подлежит, а судьбы божий неисповедимы...
На самом деле, однако, религия, поскольку ей пришлось быть
выразительницей отнюдь не божеских, а чисто человеческих интересов и
потребностей, восприняла на свои скрижали всевозможные моральные
правила и шаблоны и оправдывала свою необходимость тем, что
устанавливала и поддерживала нравственность среди людей. О ранних времен,
поэтому, мы находим всевозможные нравственные законы, облеченные
в покров божественного веления. Библия и Евангелие, Коран и Веды,
Авеста и «Книга Мертвых» древнего Египта—все они в той или иной
степени содержат заповеди, предписания и нормы. Но вместе с тем им
свойственна и одна черта, которая резко противоречит целесообразному
и человеческому построению морали. Эта черта заключается в самой
форме божественного закона, как откровенной истины, данной людям
сверху, благодаря милости божества, а не добытой на земле грешным
человеческим разумом.
Что такое откровенный закон и какими особенностями он обладает?
Для ответа на этот вопрос надо помнить, что в религии истина
предполагается данной сразу и целиком в божественном откровении,
т. е. она не может быть актом последовательного законодательства, где
более новый и лучший закон меняет устаревший и худший. Это значило
бы предположить, что бог не совершенен от начала, а, подобно человеку,
находил истину в длительных исканиях путем ошибок и заблуждений.
Поэтому предполагается, что данный богом закон сразу и во всей
полноте содержит всю истину, несмотря порой на все видимое свое
несовершенство, но человек по своей греховности и неразумию или попросту по
своей земной глупости не может вместить сразу всей мудрости и смысла
данного' божеством закона. Отсюда же две особенности божественного
законодательства. С одной стороны, ни один религиозный закон не может
почитаться отмененным, а с другой — всякий новый закон считается
существовавшим от самого начала, но иногда или непонятным или
позабытым людьми до времени его обнародования. Поэтому, всякое
религиозное законодательство представляет собой массу правил, которые
фактически не применяются, но, тем не .менее, почитаются действующими1, и
других, которые установлены и применяются лишь с недавнего времени,
а вместе с тем считаются существующими от века.
Так получается невероятный и грубый обман, который дает
следующие результаты. Во-первых, при установлении новых правил приходится
проделывать комедию открытия старой истины. Так на Ватиканском
соборе догмат о непорочном зачатии был провозглашен от века
существующим, но почему-то позабытым. А второзаконие в Моисеевой библии
было будто бы найдено при царе Осип в крыле древнего храма.
Во-вторых, каждый религиозный сборник представляет собой невероятную
мешанину старого и нового и массу взаимно1 друг друга отрациющих
противоречивых правил и законов. Ибо все моральные веления, которые
устанавливались в разные времена и под давлением разнообразнейших
классовых интересов, сбиты в одну кучу и объявлены единой истиной.
И, в-третьих, моральный шаблон в форме религиозного закона
приобретает такую каменную неподвижность, превращается в такую
непреложную, неизменяемую, страшную по своей косности догму, что воистину
могут прейти небеса и земля, но ни одна йота закона измениться не может.
686
Как мы уже видели выше, моральный закон тем лучше
удовлетворяет своему назначению, чем более он гибок и легче присшсобляетоя
к. жизни, чем точнее и правильнее отражает интересы группы под
влиянием ее хозяйственного положения; даже в чисто светских, разумных
формах нравственного сознания и моральной организации мы отметили
постоянную опасность идеологического затвердения, которое является
определенным тормозом развития производительных 'сил. Что же мы
можем сказать о религиозном законе, этом полном отрицании
нормального и целесообразного нравственного закона, этой колоссальной помехе
на пути искания новых нравственных форм? Чем меньше религиозной
нравственности, тем больше здоровой нравственности; чем меньше боже-
оких законов, тем ближе идеология к жизни и человеку.
Но чисто механическая косность религиозного закона
сопровождается еще другими чертами, которые во много раз усиливают
способность релишозной морали к совершенному разрыву е действительностью.
Не надо забывать, что, как бы ни было мелочно и вздорно предписание
такой морали, оно отличается совершенно' особыми чертами. Оно
безусловно, как безусловен сам бог, а поэтому отличается ни с чем
несравнимой непреложностью и обязательностью. В нем нельзя далее различать
существенного и несущественного, ибо для бога все существенно и важно.
Оно обладает божественным авторитетом, а, следовательно, здесь,
недопустима никакая критика, никакие сомнения или колебания. Это
воистину железный закон нетерпимости и формы, рабской
исполнительности, доходящей до безумия, фанатизма, не знающего ни пощады, ни
милосердия. И будет ли возведено н разряд божеского веления
предписание санитарии, кухонный рецепт, форма священных узлов на одежде,
или послушание хозяину и поклоны жрецу, — вое это моментально
принимает характер всего божеского закона в целом, а нарушение
мельчайшей подробности становится нарушением всего закона. Отсюда
мертвящий формализм и давящий гнет религиозной морали. Единственным
спасением от нее становится лицемерие.
Но и этого мало; чтобы обеспечить религиозному шаблону жизнь
и действие во что бы то ни стало, чтобы, вопреки запросам классового
интереса и борьбы, осуществить пагубную для группы мораль,
употребляется еще одно средство: на страже религиозного правила становится
не только надзор, исповедь, взаимный донос и т. п., но, что гораздо
важнее, такой подбор уголовных наказаний на земле и на небе, перед
которым в ужасе содрогнется самый отвратительный злодей исторической
действительности. Воистину нет такой изысканной пытки, такого
утонченного истязания, такой нечеловеческой муки, которых не придумали
бы священники и жрецы в качестве угрозы за неисполнение божеских
велений. И дикое сладострастие мучительства встречаем мы не только
в грубых религиях древних завоевателей или дикарей, но точно так же
в системе так называемой религии любви, в евангельском христианстве;
здесь восточная фантазия откровения Иоанна до того насьпцена
ненасытным безумием истребления, полна жаждой мести и разнузданного
мучительства, что в изумлении останавливаешься перед этим бредом
озверелого фанатика: неужели ничего лучшего не мог придумать бог для
обеспечения исполнения своих велений? ..
Пьяный экстаз и бредовая фантастика, полная неспособность к
нравственному суждению, громадные преувеличения и фанатизм
формального рабства в связи с безумной жестокостью — вот картина религиозной
обработки, нравственртой оценки и нравственного закона: и если мы те-
*87
перь обратимся к построению в религии нравственного идеала, то найдем
подобные же результаты. Конечно, религия, подобно всем другим
идеологическим надстройкам, не могла избегнуть влияния социальной среды,
в свою очередь, обусловленной экономикой, и должна была вводить в свое
собрание святых самых различных субъектов, начиная от юродивых и
кончая царями. Самый образ божества ока должна была наполнять в
различные эпохи различным содержанием, и весьма мало сходства
существует между «добрым пастырем» первоначальных христиан, небесным
тираном'Византии, христом — самоистязателем средневековья и
Иисусом в виде блестящего кавалера времен возрождения. Точно так же и
русский христос не раз менял свое обличье. То выступал он, как типичный
мужицкий бог, то как небесный царь московского патриарха, то как
бездушное и страшное воплощение николаевской державы. Но всегда и во
всех случаях религиозным построениям были свойственны особые черты,
которые необходимо присущи самому методу мистико-религиозного
построения.
Основной рабочей задачей построения всякого здорового идеала,
как мы уже видели выше, является преодоление того противоречия,
которое лежит между нашими запросами к жизни и наличной
действительностью. В идеале мы как раз сосредоточиваем в наибольшей полноте и
чистоте наши запросы, которые затем, как план для архитектора, и
подлежат воплощению в действительную жизнь. Достоинство идеала так же,
как всякого хорошего плана, и заключается в том, чтобы, во-первых, он
правильно выражал наши интересы, а во-вторых, был не бредом
разнузданной фантазии, а практически продуманной и достижимой в известное
время целью. И если сравнительно осуществимым является первое
требование, то особенную ценность идеальному построению дает как раз
его жизненность, практическая осуществимость, способность быть нашим
руководящим маяком. В нравственном мире при помощи таких
построений мы создаем особенно нужные для нас типы классовых,
профессиональных, политических и хозяйственных работников и таким путем
организуем их в качестве живых орудий и средств общественной борьбы и
созидания. Спрашивается теперь, что происходит с такими построениями,
шгда они попадают в руки религиозных идеологов?
Религия, как известно, менее всего интересуется землею. Ее цели на
небесах. Здесь, на земле, с другой стороны, она и не ищет полного
воплощения идеала. По крайней мере, христианство ожидает совершенного
человека лишь в царстве божием па небесах, а браманизм видит такую
возможность лишь после целого ряда метаморфоз или перевоплощений, после
чего, наконец, наступает погружение в нирвану и совершенное слияние
с божеством.
Во всяком случае всякая- религия обладает не только землей, но
и небесами, и свои идеалы строит применительно к запросам и
требованиям, которые относятся к этим двум областям. Ясно отсюда, какой
характер принимают религиозные идеальные построения. Пределы их
фантазии безтраничны. Ни с какой действительноотью считаться они не
обязаны. Своим идеалом они могут представить любое божество в том
расчете, что этот идеал будет воплощен после смерти. Требования их
мотут абсолютно противоречить жизни, но чем больше пропасть между
идеалом и действительностью, тем нужнее помощь жрецов и священников
для достижения этого идеала .сверхъестественными способами. Наоборот,
чем более нелеп, недостижим и фантастичен идеал, тем более тарантий,
что мы здесь имеем дело с подлинно небесной моралью.
688
Идеальные построения религии отличаются, впрочем, и другой
чертой. Ввиду того, чго одна нога ее стоит в этом мире, а другая в
таинственном и неедешнем, все религиозные построения отличаются известной
.двусмысленностью и лукавством. Ибо всегда, у верующего имеется еще
один запасный выход при помощи чуда и действия благодати. Здесь нет
и не может быть ни одного твердого и определенного понятия: все может
совершенно неожиданно измениться и дать обратное тому, чего мы в праве
ожидать. И если под влиянием известных экономических условий и
политической необходимости церковь возводит в рант святых
(канонизирует) благочестивого князя, зарезавшего в течение своей жизни тысячи
невинных, или инквизитора, сжегшего на костре мучеников свободной
совести, то завтра с таким же торжеством — в утешение нищих и
обездоленных — будет украшен венцом преподобного сгнивший заживо
попрошайка у церковных ворот, который едва ли был по нравственному уровню
выше любого бродячего пса. О каких идеалах тут может итти речь? Разве
не может господь проявить здесь чудесной оценки никому неведомых
заслуг?
Необычайная цепкость и живучесть религиозной организации
именно и объясняется возможностью в каждый данный момент и в данном
месте проявить самую необузданную идеализацию путем подстановки под
действительность любых ценностей. Все, что угодно, может быть
оправдано, все, что угодно, может быть изукрашено любыми цветами и
красками, лишь бы соблюдено было одно условие, чтобы и клерикальным
дельцам было выгодно присоединиться к данным лицам и данному движе-.
еию. Далеко ли мы были от канонизации святого старца Распутина?
И неужели кто-нибудь усомнится, что, в случае победы реакции на Руси,
и Николай кровавый не был бы возведен в ранг святых мучеников.
Есть же у нас «жидами умученные святые отроки» на потребу
погромщиков .. И если бы церковь могда хоть впоследствии рассчитывать на
государственную помощь и богатства советов, то мы не удивились бы
впоследствии среди православных святых встретить лик святого отца нашего
Анатолия в миру Луначарского, который особою божественною
благодатью был бы перед кончиною невидимо пострижен в великую схиму...
Лишь в одном пункте твердо нравственная идея религии и дает
'более или менее определенные типы как положительного, так и
отрицательного характера, — это там, где идет речь об отрицании земного блата
и счастья, земной красоты и справедливости. Особенно ярко- эта враждд,
к земле и земному человеку выражена в христианском противоположении
двух идеальных типов: христа и антихриста.
По существу разница между церковным христом и антихристом
весьма невелика. Недаром и название последнего может быть переведено
как противо-христос или контр-христос. Это тот же христос, но только
с другой стороны и тогда, когда покойный Леонид Андреев — между
прочим недурной живописец, — желая изобразить и того и другого,
нарисовал обе головы рядом на кресте, до мелочей похожие друг на друга, но
толысо одну в тонах небесных, другую — земных. И это — правильное
понимание. И если даже мы подойдем к антихристу через понимание его
в знаменитом разговоре известного русского философа-мистика
Владимира Соловьева, то и здесь разницы особенной не найдем.
И в самом деле, чем отличается противо-христос от подлинного
х:риста? Только тем, что спасение людей через таинственное общение
с живым «благом» после смерти он заменяет настоящим земным благом
здесь на земле. Уже тут он при помощи волшебных сил создает рай
Г. Гурев 44
689
эешюй, обосновывает мировое царство, объединяет церкви, устанавливает
всеобщий мир, и подобно тому, как христос становится государем на
небе, антихрист становится просвещенным деспотом на земле.
Казалось бы чего лучше: ни о каком социализме или коммунизме здесь нет
никакой речи. Сам антихрист оказывается человеком верующим.
Ниспровергать церковь или даже отделять ее от государства он и не думает.
Даже частной собственности не трогает, и доставляет всеобщее
блаженство без ниспровержения добрых старых порядков, столь часто
освященных ж благословленных церковью. Казалось бы, можно только
приветствовать такое второе пришествие христа на землю, тем более, когда дело
здесь обходится тихо, мило, благородно, бее «коней бледных», «ангелов
с печатями» и «труб апокалипсиса».
Но не тут-то было. Такое быстрое и легкое исполнение всех
обетовании далеко не входит в расчеты церкви. Ибо совершенно ясно, что
люди, получившие совершенное счастье на земле, не пожелают небесного,
а церкви, даже если она уцелеет в этом царстве божием на земле, прямо
делать будет нечего. Ключи от царства небесного больше не понадобятся,
чудеса станут излишними, а грехи под влиянием общей сытости разве
станут некоторым развлечением и приправой к веселой жизни. Вот
почему, несмотря на все благоговение перед царской властью, земной
христос провозглашается антихристом, и этот величайший благодетель
человечества, какого только могла придумать христианская фантазия, не
только подлежит проклятию, но и должен погибнуть ужасным и
трагическим образом. И это вполне естественно: религия, как сорная трава,
произрастает лучше всего на отбросах и разрухе, болезнях и бедствиях.
Лучшие ее питательные соки — горе и страдания. Единственные ее
идеалы — в умерщевлении плоти во имя безумной, горячечной мечты.
А церковному христу ненавистно счастье и радость на земле.
Для нас Христос умирает вместе с антихристом, ибо не ждем мы
ни земного, ни небесного чуда, но организуем жизнь и познаем ее
законы. И если мы строим нашу нравственность и наши идеалы, то берем
мы их из дружного коллективного труда, пролетарского героизма и
творческого разума. Ибо нравствевнность есть лишь организующая
надстройка, которая в рамках данной производственной машины сочетает
в живую гармо'нию те живые производительные силы, которые называются
нервной энергией и общественным сознанием.
Если же нам нужно характеризовать результаты вмешательства
религии в область нравственности, то мы должны отметить, что религия
во-первых, извращает нравственную оценку при помощи добра и зла, во-
вторых, обезображивает моральный закон и, в-третьих, разрушает
нужные для человечества идеальные построения его задач и целей.
Религия, таким образом, есть не опора нравственности, а, наоборот,
сама величайшая безнравственность и: величайший враг всякой здоровой
человеческой нравственности.
(«О связи морали с религией»).
В. И. Ленин
О КОММУНИСТИЧЕСКОЙ МОРАЛИ ™~
Существует ли коммунистическая мораль? Существует ли
коммунистическая нравственность? Конечно, да. Часто представляют дело
таким 'Образом, что у нас нет своей морали, и очень часто буржуазия об-
<>90
виняет нас в том, что мы, коммунисты, отрицаем всякую мораль. Это —
способ подменять понятия, бросать песок в глаза рабочим и крестьянам.
В каком смысле отрицаем мы мораль, отрицаем нравственность?
В том смысле, в каком проповедывала ее буржуазия, которая
выводила эту нравственность из велений бога. Мы на этот счет, конечно,
говорим, что в бога не верим, и очень хорошо знаем, что от имени бога
говорило духовенство, говорили помещики, говорила буржуазия, чтобы
проводить свои эксплоататорские интересы. Или вместо того, чтобы
выводить эту мораль из велений нравственности, из велений бога,
буржуазия выводила ее из идеалистических или полуидеалистических фраз,
которые всегда сводились тоже к тому, что очень похоже на веления бога.
Всякую такую нравственность, взятую из внечеловеческого,
внеклассового понятия, мы отрицаем. Мы говорим, что это обман, что это
надувательство и забивание умов рабочих и крестьян в интересах помещиков
и капиталистов.
Мы говорим, что наша нравственность вполне подчинена интересам
классовой борьбы пролетариата. Наша нравственность выводится из
интересов классовой борьбы пролетариата.
Старое общество было основано на угнетении помещиками и
капиталистами всех рабочих и крестьян. Нам нужно было это разрушить,
надо было их скинуть, но для этого надо создать объединение. Боженька
такого объединения не создаст.
Такое объединение могли дать только фабрики, заводы, только
пролетариат, обученный, пробужденный от старой спячки. Лишь тогда, когда
этот класс образовался, только тогда началось массовое движение,
которое привело к тому, что мы видим сейчас: к победе пролетарской
революции в одной из самых слабых стран, три года отстаивающей себя схг
натиска буржуазии всего мира.
И мы видим, как пролетарская революция растет во воем миро. Мы
говорим теперь на основании опыта, что только пролетариат мот создать
такую сплоченную силу, за которою идет раздробленное, распыленное
крестьянство, силу, которая устояла при всех натисках экоплоататоров.
Только этот класс может помочь трудящимся массам объединиться,
сплотиться и окончательно отстоять, окончательно закрепить
коммунистическое общество, окончательно его построить.
Вот почему мы говорим: для нас нравственнность, взятая вне
человеческого общества, не существует, — это обман. Для нас нравственность
подчинена интересам классовой борьбы пролетариата...
Задача борьбы пролетариата еще не закончена тем, что мы свергли
царя, прогнали помещиков и капиталистов; значит, классовая борьба
тоже еще продолжается, она только изменила свои формы. Это —
классовая борьба пролетариата за то, чтобы не могли вернуться старые экс-
плоататоры, чтобы соединилась раздробленная масса темного
крестьянства в один союз. Классовая борьба продолжается, и наша задача —
подчинишь вое интересы этой борьбе.
И мы свою коммунистическую нравственность этой задаче
подчиняем. Мы говорим: нравственность — это то, что служит разрушению
старото экоплоататорского общества и объединению всех трудящихся
вокруг пролетариата, создающего новое общество коммунистов.
Коммунистическая нравственность — это та, которая служит этой
борьбе, которая объединяет трудящихся против всякой эксплоатации,
против всякой мелкой собственности, ибо мелкая собственность дает
в руки одного лица то, что создано трудом всего общества...
44*
691
Старое общество было основано на таком принципа, что либо ты i*pa-
бишь другого, либо он грабит тебя; либо ты работаешь на другого, либо он
на тебя; либо ты рабовладелец, либо раб. И понятно, что воспитанные
в этом обществе люди, можно сказать, с шлаком матери воспринимали
психологию, привычку, понятие: либо рабовладелец, либо раб; либо
мелкий собственник, либо мелкий служащий, мелкий чиновник; словом,
человек, который заботится только о> том, чтобы иметь овое, а до другого
ему дела нет.
Если я хозяйничаю на этом участке земли, мне дела нет до
другого; если другой будет голодать, тем лучше: я дороже продам свой хлеб.
Если я имею свое местечко как врач, как инженер, учитель, служащий,
мне дела нет до другого:
Может быть, потворствуя, угождая власть имущим, я сохраню свое
местечко, да еще смогу пробиться, выйти в буржуа. Такой психологии
и такого настроения у коммунистов* быть тае может...
Когда нам говорят о нравственности мы говорим: для коммуниста
нравственность вся в сплоченной солидарной дисциплине и сознательной
массовой борьбе против эксплоататоров. Мы в вечную нравственность не
верим и обман всяких сказок о нравственности разоблачаем.
Нравственность служит для того, чтобы человеческому обществу
подняться выше, избавиться от эксплоатации труда.
Чтобы это осуществить, нужно то поколение молодежи, которое
начало превращаться в сознательных людей в обстановке
дисциплинированной отчаянной борьбы с буржуазией. В этой борьбе оно воспитывает
настоящих коммунистов, этой борьбе оно должно подчинить и связать
с пей всякий шаг в своем учении, образовании и воспитании.
Воспитание коммунистической молодежи должно состоять не в том,
что ей подносят всякие усладительные речи и правила о нравственности.
Не в этом состоит воспитание ...
В основе коммунистической нравственности лежит борьба за
укрепление и завершение коммунизма. Вот в чем состоит и основа
коммунистического Боепитания, образования ж учения,
(«Из речи на III съезде РКОМ 4 окт. 1920 г.»).
692
ОТДЕЛ ОДИННАДЦАТЫЙ
Религия и рабочая партия
П. Лафа$г
ПРИЧИНЫ НЕРЕЛИГИОЗНОСТИ ПРОЛЕТАРИАТА
Христианство может, конечно, приспособляться и к. другим
социальным формам, но главным образом оно присуще обществам, основан-
ным на частной собственности и эксплоатации народного труда: вот
почему христианство, что бы там ни говорили и ни делали, вюегда было, есть
и будет религией буржуазии. Более десяти 'Столетий все движения
буржуазии, имели ли они своей целью 'организацию пли освобождение ее или
достижение власти каким-либо новым слоем ее, — всегда сопровождались
и усложнялись религиозными моментами; она всегда облекала
материальные интересы, торжества которых она добивалась, в религиозную
оболочку христианства,, гордо заявляя, что она желает реформировал? его и
привести в согласие с истинным духом учения божественного учителя.
Буржуа революционеры 1789 года воображали, что можно
искоренить самый дух христианства во Франции, и с этой целью преследовали
духовенство с энергией, стоящей вне всякого сравнения. Наиболее
последовательные, думая, что вся сила заключается в вере в бога и что ничто
не сделано, пока существует эта вера, декретом отменяли бога, как
отменяли какую-либо дворянскую должность, и заменяли его божественным
разумом. Но как только увлечения молодости были пережиты револкь
цией, Робеспьер декретом восстановил верховное существо, — имя бога
в то время еще звучало слишком плохо, —• а несколько месяцев спустя
священники, выйдя из своих тайных убежищ, начали открывать церкви,
юпга толпами устремились верующие. Спустя еще некоторое время
Бонапарт, чтобы удовлетворить буржуазную чернь, подписал конкордат;
одновременно с этим во Франции окончательно' возродилось христианство,
христианство романтичное, сентиашнтальнюе, подкрашенное и пошлое,
приноровленное Шатобрианом ко 'вкусам торжествующей буржуазии.
Мудрецы свободомыслия утверждали и продолжают, вопреки всякой
очевидности, утверждать и в настоящее время, что наука освобождает
человеческий мозг от идеи божества, делая эту идею совершенно беюпо-
мощной для объяснения механизма вселенной. Но в действительности
мужи науки, за немногими исключениями, вое еще остаются под
чарующим влиянием веры в бога. Если в сфере своей науки ученый, по выра-
693
жению Лапласа, не имеет нужды в гипотезе бога для объяснения
изучаемых им явлений, то все же у нею нехватает смелости признать
ненужность этой гипотезы для объяснения явлений, лежащдх вне сферы его
исследования; напротив, все ученые признают, что бот в большей или
меньшей степени необходим для правильного функционированил
социального механизма и для морального воспитания народных масс. Одним
словом, идея божества вовсе не исчезла вполне из голов людей науки.
Больше того, самое грубое суеверие процветает не в глухих
деревнях среди невежд, а именно в центрах цивилизации у
просвещенных буржуа: одни из них вступают в собеседование с духами, чтобы
осведомиться о новостях в загробном мире, другие преклоняют колени
перед св. Антонием Падуанским, чтобы найти потерянную вещь, узнать
выигрышный номер, выдержать экзамен в политехникум и проч.,
третьи советуются с хиромантками, сомнамбулами, гадальщицами, чтобы
узнать будущее, растолковать сон и проч. Научные познания,
которыми они обладают, ни на минуту не оберегают их от самого
невежественного суеверия.
Но в то время как во всех слоях буржуазии религиозное чувство
остается живым и продолжает проявляться на тысячу ладов,
промышленный пролетариат, напротив, характеризуется какой-то инстинктивной, ню
неискоренимой релитиовной индиферентностью.
Буге, генерал «армии спасения», на основании, обширной анкеты
по вопросу о состоянии религии в Лондоне, ©о время которой его солдаты
«посещали квартал за кварталом, улицу за улицей, а часто и дом за
домом», констатирует, что «народная масса не исповедует никакой
религии и не обнаруживает никакого интереса к церемониям культа...
Большая часть населения, носящая название рабочего класса и занимающая
промежуточное положение между мелкой буржуазией и классом.бедняков,
остается вне сферы воздействия различных религиозных сект... Она
склонна рассматривать церковь только как место собрания имущих или
таких людей, которые надеются получить покровительство лиц,
находящихся в лучшем положении', чем они сами... Большинство рабочих
нашего времени гораздо чаще думает о своих правах и несправедливостях,
переносимых ими, чем о своих обязанностях, которые они вовсе не
исполняют. Смирение и сознание греховности совершенно чужды рабочему»...
Этот неоспоримый факт бессознательного религиозного индиферен-
тшма, установленный генералом Бутсом относительно лондонских
рабочих, которых привыкли считать очень набожными, может быть
подтвержден каждым внимательным наблюдателем относительно рабочих всех
пр'омьппленных городов Франции. Если попадется иногда рабочий, у
которого наблюдается религиозное настроение, притворное или искреннее,
последнее чрезвычайно редко, — то вся религиозность его исчерпывается
сострадательной любовью к близким. Если же, наоборот, приходится
встречать рабочего, зараженного фанатическим вольнодумством, то
можно быть уверенным, что такому рабочему какой-нибудь пастор
напакостил своим вмешательством в его личную жизнь или в отношения
между ним и работодателем.
Вое попытки, сделанные в Европе и Америке с целью поднять
христианский дух пролетариата, потерпели полное поражение. Никакими
усилиями не удалось уничтожить в нем религиозный индиферентизм,
который охватывает все более и более широкие массы по мере того, как;
машинное производство вталкивает в ряды наемных рабочих новых
рекрутов из крестьянских, ремесленных и мелкобуржуазных кругов населения.
694
В то время как у буржуазии машинный способ производства
вызывает религиозное чувство, он оказывает на пролетариат как раз
обратное «влияние.
Подобно тому как со стороны капиталиста является вполне
естественным, если он верит в проведение, которое зшботится о его нуждах,
и в бога, который из тысячи тысяч избрал именно его для того, чтобы
одарить всевозможными благами за его лень и общественную негодность,
точно так же вполне понятно полнейшее безверие в божественное
проведение со стороны пролетария, так как он не видит, чтобы царь небес
посылал ему ежедневно хлеб насущный, хотя бы он и молил его об этом
денно и нощно. Напротив, он видит, что заработную плату, которая
одна доставляет ему средства к существованию, он должен выработать
собственными руками, и что если он не будет работать, то никакие боги
в небесах и никакие филантропы на земле не избавят его от голодной
смерти. Наемный рабочий видит свое провидение в себе самом: в его
жизни не -бывает таких счастливых случаев, как у буржуа, с ним не
случается, чтобы какая-нибудь внешняя сила, словно по мановению
волшебного жезла, вырвала его из нищеты и сразу поставила на вершину
благополучия. Пролетарием он родился, пролетарием проживет всю свою
жизнь и пролетарием умрет. Все его стремления и надежды в
современном обществе не могут простираться дальше повышения заработной
платы и обеспечения за собой работы на вое годы его жизни. В жизни
пролетария не существует тех превратностей судьбы, тех счастливых
непредвиденных случайностей, которые делают буржуа склонным к
мистицизму; а идея о боге может зародиться в человеческом уме лишь после
того, как, он к этому подготовлен мистическими представлениями
независимо от того, каково происхождение этих представлений.
Конечно, и пролетарий так же мало отдает себе отчет в процессе
хозяйственной жизни, как буржуа и стоящие на страже интересов его
жономисты; ему так же непонятно, почему периоды промышленного
расцвета и самой интенсивной работы чередуются кризисами и
безработицей с правильностью, напоминающей смену дня и ночи. Но этот
недостаток понимания социальных явлений, делающий буржуа столь
восприимчивым к религиозной идее, не производит такого же действия на душу
пролетария, так как они занимают различные положения в современном
производстве. Буржуа, как собственник средств производства, является
бесконтрольным руководителем производства и сбыта товаров, и потому
ого по необходимости занимают причины, влияющие на ход его
предприятия; рабочий же не имеет никакого повода размышлять об этих
причинах. Он не руководит ни производством, ни сбытом продуктов, ни
сортировкой и доставкой сырого материала и орудий производства; он
должен только, как вьючное животное, исполнять свою работу.
Пассивное повиновение иезуитов, о котором так красно говорят в своих
обличительных речах свободомыслящие, становится законом для фабричного
рабочего, как для солдата. Приставленный к машида, вечно движущейся
и поглощающей все новые груды сырого материала, с приказанием
работать непрерывно, рабочий становится частью своей машины, одним из
колес ее механизма. Производство интересует его только с точки зрения
заработка; у него одна только забота, как бы фабрикант не лишил его
вдруг этого заработка. Получил он свою плату — ему больше ничего и не
нужно. Так как заработок является, единственным оставшимся у него
интересом в производстве, то все его заботы сосредоточены на вопросе
об отыскании работы, которая давала бы ему возможность получить
695
плату. И так как его работодателем является предприниматель или его
поверенный, то для получения работы он должен, следовательно,
обращаться к нему, то-есть к человеку, состоящему из плоти и крови, как и
он сам, а не к экономическим явлениям, о которых он, быть может, но
имеет никакого представления. Уменьшение платы или сокращение
работы возмущает его против ©го работодателей, но не против общих
явлений, расстраивающих хозяйственную жизнь. Огветственньм за все
хорошее и дурное!, приключающееся с ним, он считает исключительно
своих: работодателей. Таким образом наемный рабочий олицетворяет
причины всех бедствий, постигающих его в связи с переменами в
производстве, в то время как собственность на средства производства
становится все более безличной, по мере роста крупной промв1шленности.
Рабочий, занятый в крупном производстве, еще меньше, чем буржуа,
подвержен влиянию внешней природы, порождающей у крестьян веру
в привидения, ведьм и волшебников и другие предрассудки. Он видит
солнце только через окно фабричной мастерской; он знает природу только
по окрестностям города, где он работает, и то только в редких случаях.
На поле он не в состоянии отличить пшеницу от овса и лен от
картофеля. Продукты земли он знает только в том виде, в каком их
употребляет в пищу. Он^ не имеет ни малейшего понятия о полевых работах и
тех условиях, от которых зависит урожай: его не интересует ни
засуха, ни дождь, ни буря, ни град; ему нет дела до того, какое
влияние то или другое явление оказывает на урожай. Его городская жизнь
ограждает его от тревог, забот и невзгод, столь знакомых крестьянину
земледельцу. Природа не производит никакого впечатления на его-
воображение.
Работа в мастерской, возле машины, ставит человека лицом к лицу
с такими страшными силами природы, о которых крестьянин
представления не имеет; но они не властвуют над ним, а, наоборот, он управляет
ими. Этот гигантский механизм из стали и железа, наполняющий веку
фабрику, приводящий ее в движение, как какой-нибудь автомат,
способный в один миг его проглотить, раздавить и уничтожить, не внушает ему,
однако, никакого суеверного страха, того страха, который испытывает
крестьянин, когда он услышит гром. Напротив, рабочий остается
спокойным и невозмутимым, так как он знает, что отдельные части этого
металлического чудовища сделаны и ремонтированы его же товарищами,
и что ему достаточно передвинуть передаточный ремень, для того, чтобы
остановить или пустить в ход этого гиганта. При всей своей силе и
невероятной производительности машина не заключает в себе для вето
ничего таинственного. Рабочий какой-нибудь электрической станции,
которому достаточно повернуть рычаг для того, чтобы на расстоянии многих
километров привести в движение трамвай или осветить городские улицы,
может сказать словами бога в книге «Бытия»: «да будет свет!» и
наступает свет. Никому никогда не снились подобные чудеса; однако, рабочим
они кажутся простыми и естественными явлениями.
Он был бы поражен, если бы кто-нибудь ему сказал, что бот может
по своей воле останавливать машины и тушить лампы. Он бы на это
ответил, что этим анархистским ботом может быть только какая-нибудь
иоломаннан часть машины или оборванная часть проволоки, и что ему
было бы не трудно разыскать и укротить этого божественного нарушителя
порядка. Прзжтическая работа в 'Современной мастерской учит рабочего
научному детерминизму, для усвоения которого рабочий не нуждается
в теоретическом изучении философии.
69 6
Так как буржуа и пролетарий живут вдали- от сельской прифоды,
то явления последней не могут вызвать в их уме тех мистических
представлений, которые привели дикаря к идее о боге. Но в то время как
буржуа, принадлежа к господствующему классу тунеядцев и экшло&та-
торов, склонен по отношению к социальным явлениям к мистицизму,
пролетарий, принадлежащий к классу эшжлоатируемых производителей,
не способен проникнуться мистическими представлениями. Буржуа до
тех пор не оставит овоето христианского бога и не освободится от веры
в бога вообще, пока он сохранит свое классовое1 господство и не отдаст
богатства, награбленного им у рабочих.
Свободное изучение природы привело ученых к убеждению, что вое
мировые явления подчиняются закону необходимости, и что причины их
следует искать в самой природе, а не вне ее. Это изучение явлений
природы дало возможность подчинить силы природы воле человека и
использовать их в его интересах.
Но технический прогресс промышленности превратил #ою область
производства в гигантский хозяйственный организм, которым
капиталисты, монополизировавшие средства производства, управлять не в
состоянии, что ясно доказывается периодически повторяющимися кризисами
IB промышленности и торговле. Подобно тому как разбушевавшиеся
стихии, свирепствуя, производят изменения в окружающей природе, точно
так же и кризисы потрясают и производят глубокие изменения в
организме производства, несмотря на то, что он является произведением
человеческих рук; изменения же в организме производства в свою очередь
производят глубокий переворот в социальной среде. Лишь само общество
было бы в состоянии управлять всей областью современного производства;
но для осуществления общественного господства над хозяйственной
жизнью необходимо прежде всего, чтобы средства производства стали
общественной собственностью. Только тогда исчезнет социальное
неравенство; только тогда паразиты лишатся возможности накоплять
богатства и оставлять инстинных производителей богатств, наемных рабочих,
в страшной нищете; только тогда исчезнут причины, порождающие
мировые кризисы, которые капиталисты и буржуазные экономисты
приписывают влиянию случая или каких-то таинственных сил! Когда средства
производства перейдут в руки общества, тогда в социальной области не
будет ничего таинственного и «непостижимого»; тогда и только тогда вера
в бога будет окончательно вытравлена из человеческой души.
(«Происхождение религии»).
Н. И. Степанов
ЗАДАЧИ ПРОЛЕТАРИАТА ПО ОТНОШЕНИЮ К РЕЛИГИИ
Приходится признать, что литература, которая называет, себя
марксистской, нередко страдает большой апутанностью в постановке вопросов
религии. Мы уже не упоминаем о тех либеральных истолкованиях,
которым еще недавно подверглось положение: «религия — частное дело» (для
государства). Мало устранить эти истолкования, — надо итти дальше и
прямо, открыто признать, что религия .и научный социализм абсолютно
несовместимы, как несовместимы вера и знание. Вое расширительные
толкования понятия религии способны только окутать туманом дело, ко-
торое IB настоящее время повелительно требует полной ясности.
697
Даже новейшая литература иногда идет на непозволительные
уступки. Авторы-марксисты — по недоразумению — с великой
трогательностью, в чисто кадетских тонах, начинают говорить об освобождении
церкви от государственной опеки, которое приносит с собою новый
общественный строй. Они проводят хитрое разграничение между релишей и
теперешней церковью или даже между какой-то идеальной церковью
вообще и современным подневольным духовенством, говорящим от ее имени.
Они умилительно живописуют тот расцвет религиозной жизни, который
наступит, когда она освободится от современного вавилонского пленения
государством. Они, совершенно обмякнув, толкуют о бережном
отношении к религиозным чувствам, которые, по их уверениям, касаются самой
интимной, самой сокровенной стороны человеческого духа.
Возможно, что в глазах авторов, приходящих к марксизму извне и
чуждых ему по ©сей своей натуре, но всему складу своего мышления,
такая постанвока вопросов религии — просто хитроумный тактический
прием, прикрывающий всю решительность развертывающейся борьбы.
Но результат может быть только один: религии дают отступить на новые
позиции, и, внешне приспособившись к новым условиям, с некоторой
надеждою на успех продолжить свое сопротивление новому строю всей
человеческой жизни.
В настоящее время дело идет не о том, чтобы несколько обезвредить
помещичью и капиталистическую собственность, а о том, чтобы ее
уничтожить. И точно так же задача сводится не к тому, чтобы просто слегка
обезвредить религию — утопическая мечта для нашего времени, —
а к тому, чтобы преодолеть ее.
Современные химия и астрономия зародились в виде «средневековых
алхимии и астрологии. С того времени, как химия и астрономия стали
наукой, алхимия и астрология должны были исчезнуть. Никакой
компромисс здесь невозможен, и всякий компромисс был бы вреден:
тормозил бы развитие современной науки.
То же и с религией. Все современные знания, вюя наука
постепенно обособились, выделились из системы религиозных воззрений,
которые в известном смысле сделались для своего времени системой
зародышевого, примитивного познания, познания и природы, и человека и
общества. Миф о создании всего мира в шесть дней — это
естествознание, которое еще не начало вылупливаться из религиозной скорлупы,
или, вернее, еще не стало сколько-нибудь выделяться из того по-своему
целостного, всеобъемлющего миросозерцания, каким некогда было
религиозное миросозерцание. Миф о том, как бог вдохнул частицу своей
души в Адама, сделанного из земли, это — столь же первобытная
психология (объяснение явлений духовной жизни). Миф о проступках и
преступлениях Адама и Евы, Каина и Хама — это простодушная социология
(объяснение явлений общественной жизни), без остатка позлащавшаяся
религией
В настоящее время знание порвало с верой, и наука отделилась
от религии. Нелегко дался этот разрыв. Тысячами костров, пытками,
тюрьмами подавляла религия всякую попытку ума человеческого
вырваться из-под ее всеподавляющей власти. Но здесь же надо
сказать, что, чем дальше шло время, чем больше вырастала наука, чем
неизбежнее, неотвратимее становился полный разрыв, тем более
отшатывался от него ум человека, ибо это был теперь ум буржуазии,
быстро теряющей экономический фундамент своего господствующего
положения.
6£8
Вместо того, чтобы и здесь оказать коротко и ясно, что алхимия
стала ненужной и вредной с того времени, как развилась современная
химия, буржуазная наука смиренно терпела нелепые попытки
«примирить» веру и знание, размежевать сферы их влияний, истолковать
религиозные мифы таким образом, чтобы их полная несуразность не резала
острой болью глаз и ум современного человека. Сама наука часто шла
в этом деле навстречу религии. И эта наука безропотно мирилась с таким
положением, что средневековыми и просто дикарскими несуразицами
забивался ум ребенка, вырастающего в обществе, где вся экономическая
деятельность, вся промышленность строилась на основе современной
науки, современного знания.
Пролез ариат не может и не станет так действовать. Ему нечето
терять (в прошлом. Все лежит для него в будущем. Он должен разорвать
все путы, которые стесняют его движение к этому будущему. И среди
этих оков религия по справедливости привлекает его особенное внимание.
Познавательное преодоление частной собственности вообще, а
вместе с тем и капиталистической собственности, было доститнуто, когда был
раскрыт ее исторически обусловленный, а, следовательно, исторически
преходящий характер. Выяснение исторических условий ее
возникновения и развития было в то же время выяснением исторической
неизбежности ее крушения.
То же самое и с религией. Обнажив ее корни, мы тем самым
выясняем условия, при которых у нее яь будет никаких корней, и даже
более: в самих себе мы настолько уничтожаем эти корни, что религия
утрачивает всякую власть над нами.
В этом большое различие между познавательным преодолением
частной собственности и познавательным преодолением религии.
Отношения частной собственности не перестают господствовать над нами после
того, как мы увидели, что экономическое развитие ведет к их
уничтожению. Напротив, религиозные представления утрачивают всякую
власть, как только раскрыто, что в основе и всякой современной
религии: лежит миросозерцание дикаря. То устрашение, которым религия
защищает существующий строй, после этого неспособно запугать даже
малых ребят.
(«Предисловие к переводу книги Кунава»).
Ф. Энгельс
ОТНОШЕНИЕ БЛАНКИСТОВ К РЕЛИГИИ
Наши бланкисты имеют то общее с бакунистами, что они хотят быть
представителями самого крайнего направления, хотят итти дальше всех.
Поэтому-то, мимоходом заметим, они и пользуются нередко теми же
средствами, что и бакунисты, хотя и для достижения противоположных целей.
Итак, требуется быть радикальнее всех по части атеизма, В настоящее
время, к счастью, атеистом быть уже не трудно. У европейских рабочих
партий атеизм является неразрывно связанным с социализмом, хотя
в некоторых странах он довольно часто напоминает собою атеизм того
испанского бакуниста, который говорил: «Веровать в бота — противно
всякому социализму, но веровать в деву Марию это совсем другое дело,
в нее естественно должен веровать всякий порядочный социалист».
699
Относительно огромного большинства немецких ра)бочих шциал-демокра-
тов можно даже оказать, что для них атеизм — уже пройденная ступень;
это слово, имеющее чисто отрицательное значение, неприменимо к ним„
так как они выступают уже не теоретическими, а только практическими
противниками религии: они покончили с идеей бога, они живут и мыслят
в мире действительности и являются поэтому материалистами. То же
будет, вероятно, и во Франции. А если нет, то всего проще было бы
позаботиться, чтобы среди рабочих была распространена в громаднод*
количестве блестящая французская материалистическая литература
XVIII века,—та литература, кото-рая, со стороны формы и содержания,
представляет собою до сих пор величайшее создание французского гения,
которая, по своему содержанию, принимая во внимание тогдашнее
состояние науки, и теперь еще стоит на недосягаемой высоте, а по форме и
теперь еще не имеет ничего себе равного. Но нашим бланкистам до всего
этого нет дела. Чтобы показать, что ойи всех радикальнее, они, по
примеру революционеров 1793 г., отменяют бога декретом: «Пусть Коммуна,
навсегда освободит человечество от этого призрака бедствий прошлого
(т. е. .бота), от этой причины (несуществующий бог — причина!) всех
бедствий настоящего. В Коммуне нет места для шященника; всякая
религиозная манифестация, всякая религиозная организация должны быть
запрещены». И это требование, о превращении людей par orde du mufti
в атеистов, подписано двумя членами Коммуны, которые имели, кажется,
случай вполне убедиться, во-первых в том, что на бумаге можно
приказать очень, очень многое, но этого еще недостаточно для того, чтобы
приказание было исполнено, а, во-вторых, в том, что преследования являются
лучшим средством к укреплению нежелательных убеждений. Несомненно
одно: единственная услуга, которую можно еще оказать теперь религии,
это — объявить атеизм обязательным символом веры и, перещеголяв все
бизсмарковские законы против церкви, запретить всякую религию.
(«Программа коммунаров-бланкистов»).
Г. Д. Плеханов*
КАК ПОНИМАТЬ ПОЛОЖЕНИЕ: «РЕЛИГИЯ — ЧАСТНОЕ ДЕЛО»?
Комментируя известное положение: «религия — частное дело»г
г. Лютгенау говорит: «Для принадлежности к партии достаточно, если
кто-нибудь убедится для себя (?), что он разделяет взгляды и требования,
изложенные в программе партии. Таким образом, при выборах в
рейхстаг 1893 г., христианский теолог мог быть выстжлен официальным
кандидатом партии». Это; конечно, так. Но надо все-таки заметить
следующее. Программа партии основывается на совокупности таких положений,
которым члены партии приписывают строго научное значение. И каждый
член партии нравственно обязан по мере сил и возможности заниматься
пропагандой этих положений. Спрашивается, как ему быть, если в своей
пропаганде он сталкивается с системой взглядов, обяъсняющих с
помощью «социальной» религии то, что он сам не может объяснить итале^
как посредством научного социализма? Говорить против своего
убеждения? Это было бы лицемерием. Замалчивать некоторую часть своих
взглядов? Это было бы лицемерием в половину, т. е. в сущности
таким же лицемерием. Остается говорить правду — говорить ее, не раздра-
700
жая 'без надобности своего слушателя, подходя к нему тактично и даже
педагогично, но вес-таки говорить. Правда, мы вынуждены сделать здесь
ту оговорку, что г. Лютгенау согласен с нами: он сам говорит это.
Но говорит как-то мимоходом, а когда нужно окончательно
формулировать свое мнение, он как будто склоняется к противоположной мысли.
Так, он пишет: «Самая действительная агитация будет такова: говорить
то, что есть. Естественное происхождение религии, присоединившаяся
потом зависимость религиозных представлений от экономической
структуры общества, факты церковной истории, научное исследование
сущности явлений, непонимание которых вызвало религиозные толкования —
все это безусловно верная действительность, которая разрушит всякое
«сомнение и всякую фантазию, возникшую из незнания». Это очень
хорошо сказано! Но далее автор высказывается так, что выходит, будто
никакой агитации не нужно, — и не нужно по той причине, что
«фантазия», о которой у нас идет теперь речь, коренится в современной нам
экономической действительности и исчезнет вслед за нею. Но это уже
совсем плохой довод: он напоминает рассуждения анархистов и
синдикалистов: так как политические учреждения основываются на
производственных отношениях, то, пока существуют эти последние, политическая
борьба, или совсем бесполезна, или даже вредна для рабочего класса.
В действительности, самый ход экономического развития нынешнего
общества дает надлежащую точку опоры для плодотворной политической
деятельности пролетариата. И было бы нерасчетливо, было бы
просто-напросто нелепо не пользоваться этой точкой опоры. Совершенно то же
надо сказать и о «фантазиях».
Поясним нашу мысль примером. Несколько лет тому назад г) во
французской партии был негр Лежитимюс, депутат от острова
Мартиники. Злые языки его врагов говорили, что во время избирательной
агитации Лежитимюс не только держал речи на собраниях, но прибегал
к колдовству для того, чтобы вернее обеспечить себе победу. Это,
повторяем, не более, как злые выдумки; но допустим на одну минуту, что это
правда. Как должна была бы французская партия отнестись к Лежити*
мюсу? Исключить его из своих рядов? Но это значило бы обнаружить
вредную, непозволительную и, вдобавок, еще смешную нетерпимость:
вера в колдовство тоже должна быть признана частным делом. Против
этого, надеемся, никто возражать не станет. А, с другой стороны, кто из
белых товарищей черного депутата не счел бы себя нравственно
обязанным привести еще более правильный взгляд на истинные причины
политических успехов и неудач? Кто из них не постарался бы вывести его из
его грубого заблуждения? Разве только недоброжелательные или
легкомысленные люди. А ведь вера в колдовство, несомненно, тоже имеет
материалистическое объяснение. Но в том-то и дело, что найти для данного
исторического явления материалистическое объяснение вовсе еще не
значит приштриться с ним или объявить его неустранимым посредством
сознательной деятельности людей. Не сознание определяет собой бытие,
а бытие — сознание. Это так. Но в этом еще не весь исторический
материализм. К этому необходимо прибавить, что, раз возникнув на основе
бытия, сознание со своей стороны способствует его дальнейшему
развитию. Маркс хорошо знал это, высказывая свой известный взгляд на
важное значение «критики религии».
(«По поводу книги Ф. Лютгенау»).
1) Статья Плеханова написана в 1908 г. — Прим. ред.
701
В. И. Ленин
ОБ ОТНОШЕНИИ РАБОЧЕЙ ПАРТИИ К РЕЛИГИИ
Современное общество все построено на экоплоатации громадных
маос рабочего класса ничтожным меньшинством населения,
принадлежащим к классам землевладельцев и капиталистов. Это общество —
рабовладельческое, ибо «свободные» рабочие, всю жизнь работающие на
капитал, «имеют право» лишь на такие средства к существованию,
которые необходимы для содержания рабов, производящих прибыль, для
обеспечения и увековечения капиталистического рабства.
Экономическое угнетение рабочих неизбежно вызывает и порождает
всякие виды угнетения политического, принижения социально/о,
огрубения и затемнения духовной и нравственной жизни масс. Рабочие могут
добиться себе большей или меньшей политической свободы за свое
экономическое освобождение, но никакая свобода не избавит их от нищеты,
безработицы и гнета, пока не сброшена будет власть капитала. Религия
есть один из видов духовного гнета, лежащего везде и повсюду на
народных массах, задавленных вечной работой на других, нуждою и
одиночеством. Бессилие эксплоатируемых классов в борьбе с эгасплоататорами
так же неизбежно порождает веру в лучшую загробную жизнь, как
бессилие дикаря в борьбе с природой порождает веру в богов, чертей, в
чудеса и т. п. Того, кто всю жизнь работает и нуждается, религия учит
смирению и терпению в земной жизни, утешая надеждой на небесную
награду. А тех, кто живет чужим трудом, религия учит
благотворительности в земной жизни, предлагая им очень дешевое оправдание для всего
их эксплуататорского существования и продавая по сходной цене билеты
на небесное благополучие. Религия есть опиум народа. Религия — род
духовной сивухи, в которой рабы капитала топят свой человеческий
образ, свои требования на сколько-нибудь достойную человека жизнь.
Но раб, сознавший свое рабство и поднявшийся на борьбу за свое
освобождение, наполовину уже перестает быть рабом. Современный
сознательный рабочий, воспитанный крупной фабричной
промышленностью, просвещенный городской жизнью, отбрасывает от себя с
презрением религиозные предрассудки, предоставляет небо в распоряжение
попов и буржуазных ханжей, завоевывая себе лучшую жизнь здесь, на
земле. Современный пролетариат становится на сторону социализма,
который привлекает науку к борьбе с религиозным туманом и освобождает
рабочего от веры в загробную жизнь тем, что сплачивает его для
настоящей борьбы за лучшую земную жизнь.
Религия должна быть объявлена частным делом—- этими словами
принято выражать обыкновенно отношение социалистов к религии.
Но значение этих слов надо точно определить, чтобы они не могли
вызывать никаких недоразумений. Мы требуем, чтобы религия была частым
делом по отношению к государству, но мы никак не можем считать
религию частным делом по отношению к нашей собственной партии.
Государству не должно быть дела до религии, религиозные общества не
должны быть связаны с государственной властью. Всякий должен быть
совершенно свободен исповедывать какую угодно религию или не
признавать никакой религии, т. е. быть атеистом, каковым и бывает обыкновенно
всякий социалист. Никакие различия между гражданами в их правах
в зависимости от их религиозных верований совершенно недопустимы.
Всякие даже упоминания о том или ином вероисповедании граждан) в офи-
702
цнальных документах должны быть безусловно уничтожены. Не должно
быть никакой выдачи государственной церкви, никакой выдачи
государственных сумм церковным и религиозным обществам, которые должны
стать совершенно свободными, независимыми от власти союзами граждан-
единомышленников. Только выполнение до конца этих требований может
закончить с тем позорным и проклятым прошлым, когда церковь была
в крепостной зависимости от государства, а русские граждане были в
крепостной зависимости у государственной церкви, когда существовали' и
применялись средневековые, инквизиторские законы (по сию пору
остающиеся в наших уголовных уложениях и уставах), преследовавшие за веру
или за неверие, насиловавшие совесть человека, связывавшие казенные
местечки и казенные доходы с раздачей той или иной государственно-
церковной сивухи. Полное отделение церкви от государства — вот то
требование, которое предъявляет социалистический пролетариат к
современному государству и современной церкви.
Русская революция должна осуществить это требование, как
необходимую составную часть политической свободы. Русская революция
поставлена в этом отношении в особо* выгодные условия, ибо
отвратительная казенщина политически-крепостнического самодержавия вызвала
недовольство, брожение и возмущение даже в среде духовенства. Как ни
забито, как ни темно было русское православное духовенство, даже его
пробудил теперь гром падения старого, средневекового порядка на Руси.
Даже оно примыкает к требованию свободы, протестует против
казенщины и чиновнического произвола, против полицейского сыска,
навязанного «служителям бога». Мы, социалисты, должны поддержать это
движение, доведя до конца требования честных и искренних людей из
духовенства, ловя их на словах о свободе, требуя от них, чтобы они по^-
рвали решительно всякую связь между религией и полицией. Либо вы
искренни, — и тогда вы должны стоять за полное отделение церкви oi
государства и школы от церкви, за полное и безусловное объявление
религии' частным делом; либо- вы не принимаете этих последовательных
требований 'свободы, — и тогда, значит, вы все еще в плену у традиций
инквизиции; тогда, значит, вы все еще примазываетесь к казенным
местечкам и казенным доходам; тогда, значит, вы не верите в духовную силу
вашего оружия, вы продолжаете брать взятки с государственной
власти, — тогда 'Сознательные рабочие всей России объявляют вам
беспощадную войну.
По отношению к партии социалистического пролетариата религия не
есть частное дело. Партия наша есть союз сознательных, передовых
борцов за освобождение рабочего класса. Такой союз не может и не должен
безразлично относиться к бессознательности, темноте или мракобеони-
честву в Биде религиозных верований. Мы требует полного отделения
церкви от государства, чтобы бороться с религиозным туманом чисто
идейным и только идейным оружием: нашей прессой, нашим словом.
Но мы основали 'Свой союз Р. С.-Д. Р. П., между прочим, именно для
такой борьбы против всякого религиозного одурачения рабочих. Для нас
идейная борьба — не частное, а общепартийное, общепролетарское дело.
Если так, отчего мы не заявляем в своей программе, что мы
атеисты? Очего мы не запрещаем христианам и верующим в бога поступать
в нашу партию?
Ответ на этот вопрос должен разъяснить очень важную разницу
в буржуазно-демократической и социал-демократической постаяювке
вопроса о религии.
703
Наша программа вся построена на научном и притом именно
материалистическом мировоззрении. Разъяснение нашей программы
необходимо включает поэтому и разъяснение истинных исторических и
экономических корней религиозного тумана. Наша пропаганда необходимо
включает и пропаганду атеизма, а издание соответственной научной
литературы, которую строго запрещала и преследовала до сих пор самодер-
жавно^крепостничеекая государственная власть, должно составить теперь
одну из отраслей нашей партийной работы. Нам придется теперь,
вероятно, последовать совету, который дал однажды Энгельс немецким
социалистам: перевод и массовое распространение французской
просветительной и атеистической литературы XVIII века.
Но мы ни в каком случае не должны при этом обиваться на
абстрактную, идеалистическую постановку религиозного вопроса «от
разума», внеклассовой борьбы, — постановку, нередко даваемую
радикальными демократами из буржуазии. Было бы нелепостью думать, что
в обществе, основанном на бесконечном утнетении и огрубении рабочих
масс, можно чисто проповедническим путем рассеять религиозные
предрассудки. Было бы буржуазной ограниченностью забывать о том, что
гнет религии над человечеством есть лишь продукт и отражение эконо'-
мического гнета внутри общества. Никакими книжками и никакой
проповедью нельзя просветить пролетариат, если его не просвети?
его собственная борьба против темных сил капитализма. Единство
этой действительной революционной борьбы угнетенного класса за
создание рая на земле важнее для нас, чем единство мнений пролетариата
о рае на небе.
Вот почему мы не заявляем и не должны заявлять в нашей
программе о нашем атеизме; вот почему мы не запрещаем и не должны
запрещать пролетариям, сохранившим те или иные остатки старых
предрассудков, 'сближение с нашей партией. Проповедывать научное
миросозерцание мы всегда будем, бороться с непоследовательностью каких-
нибудь «христиан» для нас необходимо, но это вовсе не значит, чтобы
следовало выдвигать религиозный вопрос на первое место, отнюдь ему не
принадлежащее, чтобы следовало допускать раздробление сил
действительно революционной, экономической и политической борьбы рада:
третьестепенных мнений или бредней, быстро теряющих всякое
политическое значение, быстро выбрасываемых в кладовую для хлама самим
ходом экономического развития.
Реакционная буржуазия везде заботилась и у нас начинает теперь
заботиться о том, чтобы разжечь религиозную вражду, чтобы отвлечь
в эту сторону внимание масс от действительно важных к коренных
экономических и политических вопросов, которые решает теперь
практически' объединяющийся в своей революционной борьбе всероссийский
пролетариат. Эта реакционная политика раздробления пролетарских,
сил, сегодня проявляющаяся, главным образом, в черносотенных
погромах завтра, может быть, додумается и до каких-нибудь более
тонких реформ. Мы, во всяком случае, противопоставим ей спокойную,
выдержанную и терпеливую, чуждую всякого разжигания
второстепенных разногласий, проповедь пролетарской солидарности и научного
миросозерцания.
Революционный пролетариат добьется того, чтобы религия стала
действительно частным делом для 'государства. И в этом, очищенном от
средневековой плесени политическом строе пролетариат поведет широкую,
704
открытую борьбу за устранение экономического рабства, истинного
источника религиозного одурачения человечества.
(«Социализм и религия», ст. от 3 декабря 1905 г. — Собр. соч., т. VII, ч. I).
Социал-демократия строит все свое миросозерцание на научном
социализме, т. е. марксизме. Философской основой марксизма, как
неоднократно заявляли Маркс и Энгельс, является диалектический
материализм, вполне воспринявший исторические традиции материализма
XVIII века во Франции и Фейербаха (1-я половина XIX века) в
Германии, — материализма, безусловно, атеистического, решительно
враждебного всякой религии. Напомним, что весь «Анти-Дюринг» Энгельса,
прочтенный в рукописи Марксом, изобличает материалиста и атеиста
Дюринга в невыдержанности его материализма, в оставлении им лазеек
религии и религиозной философии. Напомним, что в своем сочинении
о Людвиге Фейербахе Энгельс ставит в упрек ему то, что он боролся с
религией не ради уничтожения ее, а ради подновления, сочинения новой,
«возвышенной» религии и т. п. Религия есть опиум народа. Это
изречение Маркса есть краеугольный камень всего миросозерцания
марксизма в вопросе религии. Все современные религии и церкви, все и
всяческие религиозные организации марксизм рассматривает всегда, как
органы буржуазной реакции, служащие защите экоилоатации и одурмане-
нию рабочего класса.
И в то же время, однако, Энгельс, неоднократно осуждал попытки
людей, желавших быть «левее» или «революционнее» социал-демократии,
внести в программу рабочей партии прямое признание атеизма в смысле
объявления войны религии. В 1874 году, говоря о знаменитом
манифесте беглецов Коммуны, бланкистов, живших в качестве эмигрантов
в Лондоне, Энгельс трактует, как глупость, их шумливое провозглашение
войны религии, заявляя, что такое объявление войны есть лучший
способ оживить интерес к религии и затруднить действительное отмирание
религии. Энгельс ставит в вину бланкистам неумение понять то, что
только классовая борьба рабочих масс, всесторонне втягивая самые
широкие 'слои пролетариата в сознательную и революционную общественную
практику, в состоянии на деле освободить угнетенные массы от гнета
религии, тогда как провозглашение политической задачей рабочей партии
войны с религией есть анархическая фраза. И в 1877 году в «Анти-
Дюринге», беспомощно* травя малейшие уступки Дюринга-философа
идеализму и религии, Энгельс не менее решительно осуждает якобы
революционную идею Дюринга о запрещении религии в социалистическом
обществе. Объявлять подобную войну религии значит, говорит Энгельс, «пе-
ребисмаркить самого Бисмарка», т. е. повторить глупость бисмарковской
борьбы с клерикалами (пресловутая «борьба за культуру»; Kulturkampf,
т. е. борьба Бисмарка в 1870-х годах против германской партии
католиков, партии «центра», путем полицейских преследований католицизма).
Такой борьбой Бисмарк только укрепил воинствующий клерикализм
католиков, только повредил делу действительной культуры, ибо выдвинул
на первый план 'религиозные деления вместо делений политических,
отвлек внимание некоторых слоев рабочего класса и демократии от
насущных задач классовой и революционной борьбы в сторону самого
поверхностного и буржуазно-лживого антиклерикализма. Обвиняя желавшето
быть ультра-революционным Дюринга в желании повторить в ииой
Г. Гурев 45
705
форме ту же глупость Бисмарка, Энгельс требовал от рабочей партии
уменья терпеливо работать над делом организации и просвещения
пролетариата, делом, ведущим к отмиранию религии, а не бросаться в авантюры
политической войны с религией. Эта точка зрения вошла в плоть и кровь
германской социал-демократии, высказывавшейся, например, за свободу
для иезуитов, за допущение их в Германию, за уничтожение всяких мер
полицейской борьбы с той или иной религией. «Объявление религии
частным делом» — это знаменитый пункт Эрфуртской программы (1891 года)
закрепил указанную политическую тактику о>1щал-демократии.
Эта тактика успела теперь стать рутинной, успела породить новое
искажение марксизма в обратную сторону, в сторону оппортунизма.
Стали толковать положение Эрфуртской протраммы в том смысле, что мы
с.-д., наша партия считает религию частным делом, что для нас, как с.-д.,
для нас, как партии, религия есть частное дело. Не вступая в прямую
полемику с этим оппортунистическим взглядом, Энгельс в 1890-х годах
счел необходимым решительно выступить против него не в полемической,
а в позитивной форме. Именно, Энгельс сделал это в форме
заявления, нарочно им подчеркнутого, что социал-демократия считает
религию частным делом по отношению к государству, а отнюдь не по
отношению к себе, не по отношению к марксизму, не по отношению к
рабочей партии.
Такова 'внешняя история выступления Маркса и Энгельса по
вопросу о религии. Для людей, неряшливо относящихся к марксизму, для
людей не умеющих или не желающих думать, эта история есть комок
бессмысленных противоречий и шатаний марксизма: какая-то, дескать каша
из «последовательного» атеизма и «поблажек» религии, какое-то
«беспринципное» колебание между р-р-революционной войной с богом и
трусливым желанием «подделаться» к верующим рабочим, боязнью отпугнуть
их и. т., и т, п. В литературе анархических фразеров можно найти не
мало выходок против марксизма в этом: вкусе.
Но кто сколько-нибудь, способен серьезно отнестись к марксизму,
вдуматься в его философские основы и опыт меэвдународной
социал-демократии, тот легко увидит, что тактика марксизма по отношению к
религии глубоко последовательна и продумана Марксом и Энгельсом, что то,
что дилетанты или невежды считают шатаниями, есть прямой и
неизбежный вывод из диалектического материализма. Глубоко ошибочно было
бы думать, что кажущаяся «умеренность» марксизма по отношению
к религии объясняется так называемыми «тактическими» соображениями
в смысле желания «не отпугнуть» и т. п. Напротив, политическая линия
марксизма и в этом вопросе неразрывно связана с его философскими
основами.
Марксизм есть материализм. В качестве такового он так же
беспощадно враждебен религии, как и материализм энциклопедистов XVIII века
или материализм Фейербаха. Это несомненно. Но диалектический
материализм Маркса и Энгельса идет дальше энциклопедистов и Фейербаха,
применяя материалистическую философию к области истории, к области
общественных наук. Мы должны бороться с религией. Это — азбука всего
материализма и, следовательно, марксизма. Но марксизм не есть
материализм, остановившийся на азбуке. Марксизм идет дальше. Он говорит:
надо уметь бороться с религией, а для этого надо материалистически
объяснить источник веры и религии у масс. Борьбу с религией нельзя
ограничивать абстрактно-идеологической проповедаю, нельзя сводить к такой
прошведи, эту борьбу надо поставить в связь с конкретной практикой
706
классового движения, направленного к устранению социальных корней
религии. Почему держится религия в отсталых слоях городского
пролетариата, в широких слоях полупролегариата, а также в массе
крестьянства? По невежеству народа, — ответает. буржуазный прогрессист,
радикал или буржуазный материалист. Следовательно, долой религию, да
здравствует атеизм: распространение атеистических взглядов есть главная
наша задача. Марксист говорит: неправда. Такой взгляд есть
поверхностное, буржуазно-ограниченное культурничество. Такой взгляд
недостаточно глубоко, не материалистически, а идеалистически объясняет корни
религии. В современных капиталистических странах эти корни, главным
образом, социальные. Социальная придавленность трудящихся масс,
кажущаяся полная беспомощность их перед -слепыми силами капитализма,
который причиняет ежедневно и ежечасно в тысячу раз больше самых
ужасных страданий, самых диких мучений рядовым рабочим людям, чем
всякие из 'ряду вон выходящие события вроде войн, землетрясений
и т. д., —вот в чем самый глубокий современный корень религии. «Страх
создал богов». Страх пред слепой силой капитала, которая слепа, ибо не
может быть предусмотрена массами народа, которая на каждом шагу
жизни пролетария и мелкого хозяйчика грозит принести ему m приносит
«(внезапное», «неожиданное», «случайное» разорение, гибель, превращение
в 'нищего, в паупера, в проститутку, голодную смерть, — вот тот корень
современной религии, который прежде всего и больше всего должен иметь,
в виду материалист, если он не хочет оставаться материалистом
приготовительного класса. Никакая просветительная книжка не вытравит
религии из забитых капиталистической каторгой масс, зависящих от слепых
разрушительных сил капитализма, пока эти массы сами- не научатся
объединение, организованно, планомерно, сознательно бороться против этого
корня религии, против господства капитала во всех формах.
Следует ли из этого, что просветительная книжка против религии
вредна или излишня? Нет. Из этого следует совсем не то. Из этого
следует, что атеистическая пропаганда социал-демократии должна быть
подчинена ее основной задаче: развитию классовой борьбы эксплоатируемых:
масс против эксплоататоров.
Человек, не вдумавшийся в основы диалектического материализма,
т. е, философии Маркса и Энгельса, может не понять (или, по крайней
мере, сразу не понять) этого положения. Как это так? Подчинить
идейную пропаганду, проповедь известных идей, борьбу <с тем врагом: культуры
и прогресса, который держится тысячелетия (т. е. с религией), классовой
борьбе, т. е. борьбе за определенные практические цели в экономической
и политической области?
Подобное возражение принадлежит к числу ходячих возражений
против марксизма, свидетельствующих о полном непонимании марксовой
диалектики. Противоречие, смущающее тех, кто возражает подобным
образом, есть живое противоречие живой жизни, т. е. диалектическое, не
словесное, не выдуманное противоречие. Отделять абсолютной, нелерехо-
димой гранью теоретическую пропаганду атеизма, т. е. разрушение
религиозных верований у сизвестных слоев пролетариата, и успех, ход, условия
классовой борьбы этих слоев — значит рассуждать не диалектически,
превращать в абсолютную грань то, что есть подвижная относительная грань,
значит насильственно разрывать то, что неразрывно связано в живой
действительности. Возьмем пример. Пролетариат данной области и
данной отрасли промышленности делится, положим, на передовой слой
довольно сознательных с.-д., которые являются, разумеется, атеистами, и
46*
707
довольно отсталых, связанных еще с деревней и крестьянством рабочих,
которые веруют ев бога, ходят в церковь или даже находятся под прямым
влиянием местного священника, основывающего, допустим, христианский
рабочий союз. Положим, далее, что экономическая борьба в такой
местности привела к стачке. Для марксиста обязательно успех стачечного
движения поставить на первый план, обязательно решительно
противодействовать разделению рабочих в этой борьбе на атеистов и христиан,
решительно бороться против такого разделения. Атеистическая проповедь
может оказаться при таких условиях и излишней, и вредной — не с точки
зрения обывательских соображений о неотпугивании отсталых слоев,
о потере мандата на выборах и т. п., а с точки зрения действительного
прогресса классовой борьбы, которая в обстановке современного
капиталистического общества во сто раз лучше приведет христиан-рабочих к
социал-демократии и к атеизму, чем голая атеистическая проповедь.
Проповедник атеизма в такой момент и при такой обстановке сыграл бы
только па-руку попу и попам, которые ничего так не желают, как замены
деления рабочих по участию в стачке делением по вере в бота. Анархист,
проповедуя войну с ботом во что бы то ни стало, на деле помог бы попам
и буржуазии' (как и всегда анархисты па деле помогают буржуазии).
Марксист должен быть материалистом, т. е. врагом религии, но
материалистом диалектическим, т. е. ставящим дело борьбы с религией не
абстрактно, не на почве отвлеченной, чисто-теоретической, всегда себе
равной проповеди, а конкретно, на почву классовой борьбы, идущей па
деле и восогптывающей массы больше всего и лучше всего. Марксист
должен уметь учитывать всю конкретную обстановку, всегда находить
границу между анархизмом и оппортунизмом (эта граница относительна,
подвижна, переменна, но она существует), не впадать ни в абстрактный,
словесный, на деле пустой «революционаризм» анархиста, ни в
обывательщину и оппортунизм мелкого буржуа или либерального
интеллигента, который трусит борьбы с религией, забывает об этой своей задаче,
.мирится с верой в бота, руководится не интересами классовой борвбы,
а мелким, мизерным, расчетцем: не обидеть, не оттолкнуть, не испугать,
руководствуясь премудрым правилом жизни: «живи, и жить давай
другим» и т. д., и т. п.
О указанной точки зрения 'следует решать все частные вопросы,
касающиеся отношения с.-д. к (религии. Например, часто выдвигается
вопрос, может ли священник быть членом с.-д. партии, и обыкновенно
отвечают на этот вопрос без всяких оговорок положительно, ссылаясь на
опыт европейских с.-д. партий. Но этот опыт порожден не только
применением доктрины марксизма к рабочему движению, а и особыми
историческими условиями Запада, отсутствуюттщми в России, так что
безусловный положительный ответ здесь не верен. Нельзя раз навсегда и для
всех условий объявить, что священники не могут быть членами соц.-дем.
партии; по нельзя раз навсегда выставить обратное правило. Если
священник идет к нам для совместной политической работы и выполняет
добросовестно партийную работу, не выступая против программы партии,
то мы можем принять его в ряды с.-д., ибо противоречие духа и основ
нашей программы с религиозными убеждениями священника могло бы
остаться при таких условиях только его касающимся, личным его
противоречием, а экзаменовать своих членов насчет отсутствия противоречия
между их взглядами и программой партии политическая организация не
может. Но, разумеется, подобный случай мог бы быть редким
исключением даже в Европе, а в России он и совсем уже мало вероятен. И если
708
бы например, священник пошел в партию с.-д. и стал (вести в этой партии,
как свою главную и почти единственную работу, активную проповедь
религиозных воззрений, то партия 'безусловно должна бы была исключить
его ив своей среды. Мы должны не только допускать, но сугубо
привлекать всех рабочих, сохраняющих веру в 'бога, в с.-д. партию; мы безусловно
против малейшего оскорбления их религиозных убеждений, но мы
привлекаем их для воспитания в духе нашей программы, а не для активной
борьбы с лей. Мы допускаем внутри партии свободу мнений, во в
известных границах, определяемых свободой группировки: мы не обязаны
итти рука об руку с активными проповедниками взглядов, отвергаемых
большинством партии.
Другой пример: можно ли при всех условиях одинаково осуждать
членов с.-д. партии за заявление: «социализм есть моя религия» и .за
проповедь взглядов, соответствующих 'подобному заявлению? Нет.
Отступление от марксизма (а, следовательно', и от социализма) здесь несомненно,
но значение этого отступления, его, так сказать, удельный вес может
быть различным в различной обстановке. Одно дело, если агитатор, или
человек, выступающий перед рабочей массой, говорит так, чтобы быть
понятнее, чтобы начать изложение, чтобы реальнее оттенить свои взгляды
в терминах 'Наиболее обычных для неразвитой массы. Другое дело, если
писатель начинает проповедывать «богостроительство» или богостроитель-
сети социализм (в духе, например, напшх Луначарского и К0). Насколько
в первом случае осуждение могло бы быть придиркой или даже
неуместным стеснением свободы атитатора, свободы «педагогического» воздействия
настолько во втором случае партийное осуждение необходимо и
обязательно. Положение: «социализм есть религия» для одних есть форма
перехода от религии к социализму, для других — от социализам к релитии.
Перейдем теперь к тем" условиям, которые породили на Западе
оппортунистическое толкование тезиса: «объявление религии частным
делом». Конечно, есть тут влияние общих причин, порождающих
оппортунизм вообще, как принесение в жертву минутным выгодам коренных
интересов рабочего движения. Партия пролетариата требует от
государства объявления религии частным делом, отнюдь не считая «частным
делом» вопроса борьбы с опиумом народа, борьбы с религиозными
суевериями и т. д. Оппортунисты извращают дело таким образом, как будто бы
социал-демократическая партия считала религию частным делом1
Но, кроме обычного оппортунистического извращения, есть особые
исторические условия, вызвавшие современное, если можно так
выразиться, чрезмерное равнодушие европейских с.-д. к вопросу о религии.
Это — условия двоякого рода. Во-первых, задача борьбы с релитией есть
исторически задача революционной буржуазии, и на Западе эту задачу
в значительной степени выполнила (или выполняла) буржуазная
демократия в эпоху своих революций или своих натисков на феодализм и
средневековье. И во Франции, и в Германии есть традиция буржуазной
войны с религией, начатой задолго до социализма (энциклопедисты,
Фейербах). В России, соответственно условиям нашей
буржуазно-демократической революции, и эта задача ложится почти всецело на плечи
рабочего класса. Мелко-буржуазная (народническая) демократия
сделала в этом отношении у нас не слишком много, а слишком мало по
сравнению с Европой.
С другой стороны, традиция буржуазной войны с религией успела
создать в Европе специфически буржуазное извращение этой войны
анархизмом, который стоит, как давно уже и многократно разъясняли маркой-
709
<сты, на почве буржуазного мировоззрения при всей «яркости» своих
нападок на буржуазию. Анархисты и бланкисты в романских странах, Мост
(бывший между прочим, учеником Дюринга) и К0 в Германии, анархисты
в 80-х годах в Австрии довели до пес plus ultra революционную фразу
в борьбе с религией. Неудивительно, что европейские с.-д. теперь
перегибают палку, сот-нутую анархистами. Это понятно1 и в изеестной мере
законно, но забывать об обоообых исторических условиях Запада нам,
русским с.-д., не годится.
Во-вторых, на Западе после окончания национальных буржуазных
революций, после введения более или менее полной свободы
вероисповедания, вопрос демократической борьбы с религией настолько уже был
исторически оттеснен на второй план борьбой буржуазной демократии
о социализмом, что буржуазные правительства сознательно пробовали
•отвлечь внимание масс от социализма устройством quasi-либералвного
«похода» на клерикализм. Такой характер носил и Kulturkampf в
Германии, и борьба с клерикализмом буржуазных республиканцев Франции.
Буржуазный антиклерикализм, как средство отвлечения (Внимания
рабочих масс от социализма, — вот что предшествовало на Западе
распространению среди с.-д. современного их «равнодушия» к борьбе с религией.
И опять-таки это понятно и 'законно, ибо буржуазному и бисмаркиан-
окО'Му антикреликализму с.-д. должны были противопоставлять именно
подчинение борьбы с религией борьбе за социализм.
В России условия совсем иные. Пролетариат есть вождь нашей
буржуазно-демократической революции. Его партия должна быть
идейным вождем в борьбе со всяким средневековьем, а в том числе и со старой,
казенной религией и со всеми попытками обновить ее или обосновать
заново или по-иному и т. д. Поэтому, если Энгельс 'сравнительно мягко
поправлял оппортунизм немецких с.-д., подменявших требование рабочей
партии, чтобы государство объявило религию частным делом,
объявлением религии частным делом для самих с.-д. и социал-демократической
партии, — то понятно, что перенимание русскими оппортунистами этого
немецкого извращения заслужило бы во сто раз более резкое осуждение
Энгельса.
(«Q6 отношении рабочей партии к религии», L909 г., собр. соч. т. XI, ч. I).
С. Хеглунд
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ И РЕЛИГИЯ
Антирелигиозно ли коммунистическое движение? Должна ли наша
партия проповедывать войну с религией и должна ли она отказывать
в приеме людям с религозными воззрениями?
На все эти вопросы мы должны ответить решительно: нетх).
х) Настоящая статья, защищающая соц.-дем. точку зрения по вопросу об
отношении коммуниста к религии, появилась в 1923 г. и принадлежала члену Центр.
Ком. Шведской коммуиистич. партии. Расширенный пленум Коминтерна (12—23 июня
1923 г.) счел нужным дать этой попытке решительный отпор, приняв по этому
поводу соответствующую резолюцию. При этом интересно, хотя и вполне
естественно то,- что Хеглунд начал с разногласий по вопросу о религии, а через год
кончил... разногласиями по важным вопросам политики и уходом из компартии.
Приводим его статью как образец оппортунистического подхода «революционера»
к вопросу о борьбе с религией, как с дурманом для народа. — Прим. ред.
710
Коммунистическая партия не заставляет своих членов объявлять,
что они не верят в бога или загробную жизнь. Она не требует, чтобы они*
покидали свои нынешние верования — христианские, буддийские или
еврейские. Она не утверждает также, что это верование — контр-револю-
ционно или является помехой для участия в пролетарской .классовой
борьбе. Партия требует лишь принятия и разделения программы
деятельности и организационных уставов. Но эта программа и эти уставы
занимаются лишь вопросом изыскания метода и средств освобождения
пролетариата из капиталистического рабства, но не пытаются давать
никакого объяснения вечной тайны жизни и смерти. Коммунизм стремится
•создать для всех достойную человека обстановку жизни на земле.
Установить, какав будет распорядок на небе, — это не входит в крут наших
задач. Об этом каждый может думать, что ему угодно, лишь бы только
*его забота о небе не мешала его работе по улучшению условий
человеческой жизни на земле.
Другое дело, что коммунистическая партия непримиримо воюет
-с обращением религии в классово-политическое учреждение, каким
является государственная церковь. Государственная церковь является
не чем иным, как духовной полицией правящего класса, и не имеет
ничего общего с настоящею верою и даже предпочитает расправляться с нею.
Другое дело также, что мы боремся со всякими церковными чудесами
вроде знаменитого «и начали говорить на иных языках» (Деяния
апостолов, гл. 2, ст. 4) и т. п. духовных зараз, очевидно, болезненною
свойства. И другое дело, что мы протестуем против каждой попытки той или
иной религии защищать рабство, экшлоатацию рабочих масс или
несправедливость, или, выражаясь библейским языком, осветить религией грехи
мира и очески господние.
Есть люди, ссылающиеся на марксизм, как на защиту
основоположения, что наша партия должна взяться за антирелигиозную агитацию.
Правда, что марксизм как миросозерцание, как универсальная
философия, не соединим ни с какой религиозной системой, хотя
материалистическое понимание истории не ставит себе задачей разрешить проблему суще»-
ствования и связанные с ней вопросы. Но хотя мы, марксисты,
рассматривая божество, как создание людей, а не наоборот, хотя мы принимаем
рай как мечты порабощенных о лучшей жизни, как фантасмагорию
духовных видений, как идеальную реакцию против печальной
действительности, — из этого вовсе не следует, что мы должны начинать войну с
религией. В основе марксистских воззрений лежит положение, что лишь с
изменением материальной обстановки изменятся или исчезнут нынешние
формы представлений; поэтому менее важно критиковать небо, чем землю,
менее важно бороться с теологией правящего класса, чем с его политикой,
менее важно ниспровергать небо>, чем капитализм. Это настоящей
марксистский ход мыслей: сам Маркс сказал, что с разрушением
ложного реализма, чьей теорией служит религия, она сама собой
уничтожится. Поэтому прежде всего нужно изменить условия производства,
тотда начнется духовная эмансипация. Так же, как физика уничтожила
веру в чудеса, как громоотвод сделал больше для истребления
предрассудков, нежели самая усиленная пропаганда, так же социальный
переворот, к которому стремится коммунистическая партия, освободит людской
дух 'от постылой веры, чтобы сделать сносным его существование. Но
коммунистическая партия не требует от каждого сочлена марксистского
миросозерцания. Мы требуем лишь, чтобы каждый сочлен принимал
участие в революционной борьбе с капитализмом за социалистическую
711
организацию общества. Все дело в практической борьбе, а не в
философских или религиозных мировоззрениях.
Поэтому неверно, — мягко говоря, — считать христианство или
какое-нибудь другое религиозное убеждение контр-решлюцшшным и
сразу же заштемпелевывать его, как недопустимое в рядах коммунистиче*
окой партии. Если бы революционером можно было стать лишь при
условии разделения теоретической платформы марксизма, значит, не
было революционеров до Маркса. Если бы религиозные представления
исключали революционные мысли и поступки, не было бы никогда
религиозных возмущений или социальных восстаний в религиозном облачении.
История бесконечными примерами опровергает эту болтовню, и опыт
сегодняшнего дня дает новые практические доказательства того, что
религиозное сознание и революционная политика вовсе не несовместимы.
И в нашей партии и в братских коммунистических партиях за границей
есть много членов, приверженцев христианского и других вероучений,
которые в бою идут с нами рука об руку.
Интересный довод в пользу того, что христианство не только' не
исключает помыслов о социальной революции, но даже их мотивирует,
дает нам известный швейцарский священник Герман Куттер в своей
книжке «Они должны». В этой книге Куттер утверждает, что «живой
бог применяет насилие». «Живой бог — самый ярый революционер и
самый бесшабашный бунтовщик». Так звучит глас господень: «Я готовлюсь
освободить мой порабощенный народ, я сниму с его членов язвы,
оставленные пытками Мамоны. Я буду бить тех, кто бил моих нищих, я
простру мой гнев над теми, кто гневно и несправедливо судил малых сих.
Ибо я — господь». Это — по словам Куттера — революция, но в
революции есть тот, кто направляет и ведет ее. Мамона создал из революции
историческую необходимость.
Пусть Куттер и его присные видят в революции посредственное или
непосредственное участие бога, — это дело их верований; важно то, что
они с революцией. Несомненно, опрометчиво со стороны
коммунистической партии то, что она себя во всеуслышание называет анти-религиозною
и тем отталкивает от нас такие элементы, которые могут быть полезны
в нашем движении. Мы должны помнить, что существует масса рабочих,
щелкой буржуазии, крестьянства, которые по самой своей классовой
сущности, рано или поздно придут к революционной точке зрения, т.- е.
к нашей партии, но которые неминуемо будут остановлены в своем
приближении к'нам -«войной с религией», ведомой партией, ибо они закоснели
в религиозных тенденциях: мы должны помнить, что есть много других
индиферентных к религии людец, которым все же прямая
антирелигиозная пропаганда противна. Коммунистическая партия, как всякое
воинствующее движение, выискивает себе легчайший путь к победе. Поэтому
она должна бережно избегать всего, что ей может затруднить дорогу,
если это только не противоречит ее задачам. Отдельные коммунисты, как
частные лица, могут заниматься антирелигиозной пропагандой: это их
право, и в это никто не будет вмешиваться, поскольку это не причиняет
вреда политической программе и деятельности коммунистической партии.
Но если только партия объявит атеизм необходимым элементом
коммунистического миросозерцания, она безусловно упадет до уровня секты так
же достоверно, как если бы она себя объявила анабаптистской или
эпраммистской.
«Истинные боги те, что нам помогают высоко держать голову в
жизненной борьбе» — сказал один великий мыслитель. Этим богам и слу-
712
жим мы, коммунисты, и нам совершенно безразлично, что один их видит
на небесах, а другой — >в земном обличьи. Самое главное это то, что они
нам «помогают высоко держать голову в жизненной борьбе», что они ±ас
учат бороться за социальную революцию, — во имя 'бога или человека —
это, право, вое равно.
(«Коммунизм и религия»).
Е. Ярославский
АНТИРЕЛИГИОЗНО ЛИ КОММУНИСТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
По всей вероятности, статья Хеглунда, напечатанная в
центральном органе шведской коммунистической партии без всяких примечаний:
редакции, вызовет, мягко выражаясь, недоумение не только среди русских
товарищей из РКП, в программе которых сказано, что «партия стремится
к полному разрушению связи между эксилоататорскими классами и
организациями религиозной пропаганды, содействуя фактическому
освобождению трудящихся масс от религиозных предрассудков и организуя
самую широкую научно-просветительную и антирелигиозную пропаганду».
По всей вероятности, эта статья встретит должный отпор и в среде
французских коммунистов, которые издают специальный журнал для
антирелигиозной пропаганды среди крестьян и солдат и порвали с франко-мас-
оонами. Тов. Хеглунд стремится в этой статье доказать гораздо больше
даже, чем это требуется, судя по заголовку его статьи. У него здесь ряд;
вопросов:
1) Антирелигиозно ли коммунистическое движение?
2) Должна ли наша партия проповедывать войну с религией?
3) Долоюна ли она отказать в приеме людям с религиозными
воззрениями?
4) Должны ли коммунисты иметь марксистское материалистическое
миросозерцание или они могут быть идеалистами? Или, другими словами,
безразлично ли, нам, чем руководствуются члены коммунистической
партии в своей борьбе: идеалами небесного блаженства или человеческими,
земными задачами? Все ли равно, во имя бога или человека борется
коммунист?
Как? — спросят товарищи-коммунисты, — разве могут быть еще-
об этом опоры? Вероятно, тов. Хеглунд, очень недавний коммунист,
пришел к нам из какой-нибудь чуждой к нам среды, сохранив пережитки
поповского миросозерцания, которое он и стремится отстаивать в
коммунистической партии. Или это очень мало сознательный товарищ.
Но товарищи должны знать, что Хеглунд — это член Центрального
комитета шведской коммунистической партии, что к его голосу
прислушивается вся партия и весь рабочий класс в Швеции. И если
центральный орган коммунистической партии Швеции «Политикен», печатает
статью тов. Хеглупда без всяких примечаний то, значит, взгляды тов. Хег-
лунда не встречают решительного отпора в среде шведских коммунистовх).
А так как по этой части существует путаница в головах не только
некоторых шведских товарищей, то мы считаем необходимым дать отпор такого
1) Когда т. Ярославский писал «?ту статью, Хеглунд был еще членом
компартии. — Прим. ред.
71&
рода некоммунистическим, немарксистским взглядам, целжом
унаследованным от II Интернационала.
«Коммунистическая партия не требует от каждого члена
марксистского миросозерцания. Мы требуем лишь, чтобы каждый сочлен
принимал участие в революционной борьбе с капитализмом, за
социалистическую организацию общества. Все дело в практической борьбе, а не в
философии или религиозных мировоззрениях». Так пишет тов. Хеглунд. Это
его утверждение является основным, из него вытекает все остальное.
Конечно, если не требовать от коммуниста, чтобы его теоретические
воззрения находились в полном согласии с программой его» борьбы, тогда
Хеглунд прав. Тогда коммунистом может быть не только марксист, но
скажем, ученик совершенно враждебного Марксу Прудона, бакунист,
ученик Виктора Чернова или попа Бердяева или какого-нибудь другого
идеалиста-попа. Само собой, конечно, разумеется, что, когда к нам
приходит рабочий и заявляет о своем Желании вступить в партию, мы не
.устраиваем ему экзамена по части знакомства с теорией марксизма; для
нас важно, чтобы это был товарищ, который действительно хочет активно
принимать участие в революционной (борьбе с капитализмом за
социальную организацию общества. Но мы все-таки спрашиваем товарища,
знает ли он программу нашей партии, и требуем знания программы
партии. Если мы принимаем товарища с недостаточным знанием этой
программы, то мы ставим себе задачей воспитать каждого члена партии в
коммунистическом духе, т. е. воспитать его, как марксиста, потому что мы
уверены в том, что чем лучше такой рабочий, проникнутый желанием
бороться с капитализмом, усвоит теорию марксизма, тем успешнее будет
наша борьба. Мы никак не можем отделить теорию нашу от практики.
Двадцать раз были биты те партии и те организации, которые об этом
забывали и которые были беззаботны насчет теории. Что такое наша
программа? Наша программа есть практическое применение
марксистской теории к конкретной действительности. Поэтому понятно, что если
кто-нибудь хочет заучить программу, не как попугай, а сознательно
отнестись к ней, тот должен знать теорию марксизма. Хороший
коммунист — это тот, у кого действительно марксистское миросозерцание, и
плоха та коммунистическая партия, которая считает марксистское
миросозерцание посторонним делом, и хуже всего тот вождь революции,
который отмахивается от теории и заявляет, что марксистское миросозерцание
не имеет никакого отношения к практической борьбе коммуниста.
Как-то даже совестно писать об этом в 1923 году. И пусть простит
это сравнение тов. Хеглунд, но оно напрашивается невольно русскому
читателю: если бы не знать, что эту статью писал Хеглунд, то можно
было бы подумать, что ее писал кто-нибудь из руководителей так
называемой теперешней русской «древнеапостольской церкви», например,
протоиерей Введенский. На недавно 'состоявшемся церковном соборе были
приняты резолюции чрезвычайно радикальные в вопросах политических,
а перед этим, на съезде «живой церкви», еще более радикальные. Там
мюжно было слушать полнейшее признание коммунизма, при чем попы
объявили, что они всецело принимают коммунистическую программу, за
исключением пункта об антирелигиозной пропаганде. Часты случаи
прихода попов в партком с заявлением о желании вступить в РКП. Если бы
партия отворила двери подобным элементам, она бы, наверное,
насчитывала в своих рядах несколько сотен иолов и даже поповские кюмъ-
ячейда. По смыслу статьи тов. Хетлуцда, мы должны были или по этому
пути и широко отворить двери людям, рассматривающим капитализм,
714
как злейшего врата христианства. Тов. Хеглунду 'безразлично. Он
говорит: «Во имя бога или во имя человека — совершенно все равно».
Нет, это вовсе не все равно!
«Вся наша программа построена на научном и к тому же
материалистическом миросозерцании. Таким образом, разъяснительная роль
нашей программы ведет к разъяснению действительных исторического и
экономического корней религиозного тумана. Следовательно, в нашу
пропаганду входит пропаганда атеизма; (издание известной научйой
литературы, которая до сих пор строго запрещалась и преследовалась абоолюти-
чески-феодальным правительством, должно стать важной деятельностью
партии. Мы, по всей вероятности, должны последовать совету, который
Энгельс дал однажды немецким социалистам: переводить и возможно
широко распространять французскую атеистическую просветительную
литературу XVIII века».
Такие строки принадлежат не тов. Хеглунду, а товарищу Ленину
я увидели свет в декабре 1905 года. Эти строки увидели свет в момент,
когда рабочие массы подымались к вооруженному восстанию, и когда было
весьма важно привлечь на нашу сторону возможно большее количество
рабочих. Товарищ Ленин не устрашился и не сомневался в том, что нужно
привлечь рабочих, честно им объявив, что вся наша программа построена
на научном, ярко выраженном материалистическом мировоззрении, и что
в состав пашей пропаганды неотъемлемой частью входит атеистическая
пропаганда,
Данная Лениным в 1905 г. характеристика религии целиком
совпадает с характеристикой, которую дал ей Маркс. Верна ли эта
характеристика? Пусть тов. Хетлунд докажет, что эта характеристика не верна.
Правда, он это пробует в этой статье, но очень неудачно.
Тов. Хеглунд пишет: «Не верно, мягко говоря, считать христианство
или какое-нибудь другое религиозное убеждение контр-революционным и
сразу же заштемпелевать его, как недопустимое к соединению с
коммунистической партией». Значит, утверждение Маркса, что религия есть
опиум для народа, утверждение.тов. Ленина, что религия есть один из
видов духовного гнета, лежащето везде и всюду на народных массах, не
верно («мягко говоря», по Хеглунду). А если говорить не мягко, то это,
вероятно, вредное заблуждение, и тов. Хеглунд старается это вредное
заблуждение опровергнуть прямо удивительными ссылками. «Если бы, —
говорит он, — революционером можно было стать лишь при условии
разделения теоретической платформы Маркса, значит не было революционеров
до Маркса». Если тов. Хеглунд хочет сказать, что теоретическая
платформа марксизма не нужна Коммунистическому Интернационалу, то это,
надо сказать прямо, потому, что одно дело — революционное движение
вообще, вне времени и пространства (такого- не существует), а другое
дело — пролетарская революция, совершающаяся на наших глазах.
История тысячу раз оправдала наше название партии с.-р. партией
социалистов-реакционеров, а эти эс-эры стояли как раз на точке зрения
Хеглунда в этом вопросе. Если бы, «говорит тов. Хеглунд
революционные представления исключали революционные мысли и поступки, не
было бы никогда революционных возмущений или социальных восстаний
© религиозном облачении». И это пишет коммунист, перед которым стоит
задача уничтожить основы капиталистического строя. Мы
рекомендовали бы тов. Хеглунду прочесть произведение Фридриха Энгельса о
Людвиге Фейербахе. Если тов. Хеглунд не знает этото в действительности,
то он узнал бы у Фридриха Энгельса, что из себя представляет в шьстоя-
715
щее время религия в процессе классовой борьбы. Энгельс писал по
доводу французской революции: «Христианство вступило в свою
последнюю стадию. Оно утратило способность на будущее время слуоюить
идеологическим покровом для стремления какого-либо прогрессивного класса.
Оно все более и более превращалось в монополию правящего класса,
обратившего его в орудие управления, с помощью которого сдерживаются
низшие классы. При этом различные классы пользуются своей
собственной, подходящей для них религией: иезуитско-католическую или
ортодоксально-протестантскую исповедуют землевладельцы; либеральная и
радикальная буржуазия исповедует рационализм. При этом совершенно
безразлично, верят ли эти господа в ту религию, которую они официально
игаоведуют».
Что же противопоставляет этому тов. Хеглунд? Швейцарского
священника Германа Куттера, который утверждает, что «живой бог — самый
ярый революционер и самый бесшабашный бунтовщик». Для Томаса
Мюнцера, для восставших против архиепископов и помещиков франкон-
ских крестьян библейские тексты были уместны. Какой-нибудь патер
Амброзиус триста лет тому назад мог поднять крестьянские массы
евангельскими и библейскими текстами. Но в 1923 году члену Центрального
комитета коммунистической партии искать опоры в священнике Куттере
и др. и считать их на стороне революции — это, «мягко* выражаясь»,
высшая степень наивности.
Теперь мы можем ответить на вопросы, поставленные в статье
тов. Хеглуида. Антирелигиозно ли коммунистическое движение?
Тов. Хеглунд говорит решительно: «нет». Но вместо того, чтобы
доказать, что коммунистическое движение не антирелигиозно, он доказывает
совершенно другое. Он доказывает, что в прошлом имелись релитиозйые
движеняи с революционной окраской; а вслед за этим он доказывает, что
в наше время имеются верующие, которые сочувствуют борьбе нашей
партии. О изумительной смелостью стремится тов. Хеглунд к тому, чтобы
доказать, что коммунистическая партия не враждебна релитии. Он
пишет: «Было бы глупостью со стороны коммунистической партии
называться антирелигиозной и этим самым отчуждать от себя те элементы,
которые можно было бы привлечь на нашу сторону. Если партия, как
таковая, объявит атеизм чем-то необходимым для коммунистического
мировоззрения своих членов, она опустится до уровня секты так же верно,
как ос ли бы она объявила себя баптистской».
Разе это верно? Понятно, это совершенно не верно. Второй
Интернационал дает большую свободу не только в вопросах религии. В
руководящих писаниях социалиста Гуго Штегмана можно найти' следующее
заявление, под которым может подписаться и Хеглунд: «Социализм, как
таковой вообще не является врагом христианского вероисповедания, даже
наоборот: одной из причин его возникновения можно, по всей вероятности,
считать осознание разительного противоречия между действительностью
и учением христа». И даже в наше время Паси (Гог) стремится к тому,
чтобы доказать, что «новый завет» заключает в себе «основоположения
социализма». Как всем ясно, способы доказательства — те же, что и Хет-
лунда. Ссылки на духовных и на «новый завет»? Ну, а как обстоят дела
с коммунизмом? Однако, даже Гуго Штегман должен признать, что ком-
мунизм явно враждебен религии. Он пишет: «Коммунизм,
представителем которого является Маркс, имеет явно выраженный противорели-
гиозный характер. У Маркса атеизм является неизбежным следствием
его глубоких научных изысканий».
716
Тов. Хеглунд чувствует, что нельзя соединить марксизм с религией.
Он называет сам себя марксистом и пишет: «Быть может и верно, что
марксизм — миросозерцание, как универсальная философия, несоединим
ни с какой религиозной системой, хотя материалистическое понимание
истории не задается разрешением проблемы существования и связанных
с нею вопросов. Но хотя мы, марксисты, рассматриваем божество, как
ооздание людей, а не обратно, хотя мы принимаем рай, как мечты
порабощенных о лучшей жизни, как фантасмагорию духовных видений, как
идеальную реакцию против печальной действительности, из этого вовсе не
следует, что мы должны начинать войну с религией». «Мечты
порабощенных», «фантасмагория духовных видений», «идеальная реакция», —
так выражается тов. Хеглунд; «род духовной сивухи», «опиум народа,
один из видов духовного гнета» — так характеризуют религию т.т. Ленин
и Маркс. Но как бы ни характеризовать, какими словами ни называть
религию, для нас совершенно ясно, что с этой сивухой, с этим опиумом,
с этой фантасмагорией, с этой идеальной реакцией каждый коммунист
обязан бороться. Тов. Хеглунд с этим решительно не согласен. «Есть
люди, — жалуется он, — ссылавшиеся на марксизм, как на защиту
основоположения, что наша партия должна взяться за антирелигиозную
агитацию». Мы уже видели, что к этим зловредным людям, ссылающимся
на марксизм, относится такой коммунист, как тов. Ленин и другой, не
менее авторитетный коммунист, как Фридрих Энгельс. Тов. Ленин в
недавно сравнительно написанной статье (см. журнал «Под знаменем
Марксизма», № 3, март 1922 г.) «О значении воинствующего материализма»
дает следующие указания: «Журнал, который хочет быть органом
воинствующего материализма, должен быть боевым органом, во-первых,
в смысле неуклонного разоблачения и преследования всех современных
«дипломированных» лакеев поповщины, все равно выступают ли они
в качестве представителей официальной науки или в качестве вольных
стрелков, называющих себя «демократическими левыми или идейно
социалистическими публицистами». Такой журнал должен быть,
во-вторых, органом воинствующего атеизма».
Из того факта, что «лишь с изменением материальной обстановки
изменятся или исчезнут нынешние формы представления», Хеглунд
делает прямо чудовищный вывод, что до тех пор, покуда эта
материальная обстановка не изменилась, покуда условия производства не
изменились, нет надобности бороться с теми формами представления, с тем
религиозным фетишизмом, который вырастет на почве существующих
производственных отношений, ибо, по выражению Маркса «товарный
фетишизм есть 'Мистическое покрывало религии».
Если бы мы стали рассуждать подобно Хеглунду, то мы могли бы
перенести эти рассуждения не только на вопросы религии, например, и
о национализме. Разве национализм не возрастает на почве
существующих производственных отношений? Однако, мы считаем необходимым
вести борьбу с национализмом. Не напрасно ли мы тратим силы?
Тов. Хеглунд может сказать: национализм мешает объединению
пролетариата, религия же не мешает. Чтобы опровергнуть это положение,
достаточно было вспомнить борьбу различных религиозных общин, групп
и течений. По меньшей мере наивностью пахнет от утверждений, будто бы
религиозные предрассудки сами собой упадут, как только исчезнет основа
их существования, и что разрушать их особой антирелигиозной
пропагандой и агитацией нет никакой надобности. Мы уже указали на то, что
такое понимание марксизма, что идеологические надстройки сами собой
717
упадут, как только будет изменена их материальная основа, чересчур
упрощенно и потому неверно. Поль Лафарг указывает на то, что
современное положение пролетриата само по себе делает его' безбожным, но
никто нз социалистов не сделал столько для антирелигиозной
пропаганды, как именно Поль Лафаргх).
Как же достигнуть того, чтобы лозунгом всех пр'имыкающих к нам:
в работе было — «ни бога, ни хозяина»? Или, может быть, не нужно
этого достигать? По мнению тов. Хеглунда, в этом нет надобности.
Конечно, участие в коммунистической борьбе само по себе помогает уже
пролетариату освободиться от религозното дурмана. Сколько было в
нашей партии рабочих, которые приходили к нам, еще будучи
религиозными, и которые потом становились убежденными атеистами! Но, ведь,
всегда было так, что их религиозность мешала их борьбе, а не помогала^
Тов. Ленин писал в 1905 г.: «Раб, сознавший свое рабство и поднявшийся
на борьбу за свое освобождение, наполовину перестает уже быть рабом».
Современный сознательный рабочий, воспитанный крупной фабричной
промышленностью, просвещенный городской жизнью, 'Сбрасывает о себя
с презрением религиозные предрассудки, представляет себе лучшую
жизнь здесь на земле. Современный пролетариат становится на сторону
социализма, который привлекает науку к борьбе с религиозными туманом
и освобождает рабочего от веры в загробную жизнь тем, что сплачивает
его для настоящей борьбы за лучшую земную жизнь». Следовательно,
социализм для того, чтобы бороться с религией, должен привлечь для
этой борьбы науку, а не полагаться на то, что все оамо собой образуется
и что религия сама исчезнет.
Больше того, тов. Ленин резко нападает на тех, кто воображает,
что без антирелигиозной пропаганды рабочие освободятся от
религиозного обмана.
«Было бы величайшей ошибкой, — писал он, — которую может
сделать марксист, думать, что многомиллионные народные, особенно
крестьянские и ремесленные массы, осужденные всем современным обществом на
темноту, невежество и предрассудки, могут выбраться из этой темноты
только по прямой линии марксистского просвещения. Этим массам
необходимо дать самый разнообразный материал по атеистической
пропаганде, знакомить их с фактами из разных областей жизни, подойти к ним
и так и этак, для того, чтобы их заинтересовать, пробудить их от рели-
хиозного сна, встряхнуть их с самых различных сторон, самыми
различными способами и т. д.
Бойкая, живая, талантливая, остроумная и открыто нападающая на
господствующую поповщину публицистика старых атеистов XVIII века
сплошь и рядом окажется в 100 раз более подходящей для того, чтобы
разбудить людей от религиозного сна, чем скучные, сухие, не
иллюстрированные почти никакими умело подобранными фактами пересказы
марксизма, которые преобладают в нашей литературе и которые (нечего греха
таить) часто марксизм искажают...
Самое важное это суметь заинтересовать совсем еще неразвитые
массы сознательным отношением к религиозным вопросам и сознательной
критикой релюгии». «О значении шинствующего материализма»).
Теперь, надеемся, ясно, почему наша партия должна проповедывать
борьбу с религией.
1) По вопросу о причинах живучести старых религий см. статью Гортера
в ог1Д. VIII. — Прим, ред.
718
Партия II Интернационала провозглашала лозунг: «Религия —
частное дело». И многие из сторонников этой теории понимали дело так, что*
можно быть членом рабочего интернационала и в то же время
служителем религиозного культа, религиозным проповедником. Мы знаем во*
II Интернационале 'социалистов, которые в воскресенье отправляются
в церковь и читают там поповские проповеди, а оттуда направляются на
рабочие собрания. Тов. Хеглунд считает, что это вообще еще не так
скверно, так как он ищет способов доказать то, что «христианство вовсе
не исключает революционных помыслов, но даже, наоборот, может их
мотивировать». Но в каком же смысле является религия частным делом?
Товарищ Ленин 'ответил на этот вопрос еще в 1905 году. Из его слов ясно*
видно, что взгляды Хеглунда крайне вредны для рабочего класса, и мы
должны с ними вести решительную борьбу.
«Менее важно критиковать небо, чем землю, менее важно бороться
с теологией правящего класса, чем с его политикой, менее важно
ниспровергать небо, чем капитализм», — пишет тов. Хеглунд. Такая постановка
вопроса прежде всего крайне метафизична, не соответствует
действительности. Небо и земля, небесные и земные дела у религиозного человека
между собой связаны очень часто, как причина и следствие. Теология
правящего класса очень часто (почти всегда) является орудием политики
правящего класса, капитализм держит на своей службе служителей
культа, исполызовывает религию, как орудие порабощения. Но мы можем
согласиться с тем, что мы считаем правильным: антирелигиозная борьба'
не должна выпячиваться на первое место. Мы, русские коммунисты,
которых изображают пугалами, безбожниками, неоднократно
подчеркивали в своих решениях и сказали это на VI съезде партии, что
антирелигиозная агитация и пропаганда ни в коем случае не должны
выпячиваться на первое место. И сближаться пролетариям, сохранившим еще
религиозные предрассудки, с нашей партией мы не препятствуем.
Наоборот, в специальном постановлении Центрального комитета нашей партии
мы допускаем в отдельных случаях пребывание в нашей партии
товарищей из рабочих и крестьян, которые на деле доказали, борьбою доказали
свою преданность пролетарской революции, несмотря на их религиозные
предрассудки. 18 лет тому назад тов. Ленин опять-таки дал вполне
исчерпывающую постановку вопроса: «Но мы ни в коем случае не должны
при этом сбиваться на абстрактную идеалистическую постановку
религиозного вопроса «от разума», вне классовой борьбы — постановку,
нередко даваемую радикальными демократами из буржуазии. Было бы
нелепостью думать что в обществе, основанном на бесконечном угнетении
и огрубении рабочих масс, можно чисто проповедническим' путем'
рассеять религиозные предрассудски. Было бы буржуазной ограни-
ненностью забывать о том, что гнет религии над человечеством есть»
лишь продукт и отражение экономического гнета внутри общества.
Никакими книжками и никакой проповедаю нельзя просветить
пролетариат, если его не просветит его 'собственная борьба против темных сил
капитализма».
Не следует забывать, однако, что это написано было 18 лет тому назад,
когда борьба" пролетариата происходила в иной обстановке, когда мы еще
не переживали периода пролетарской революции. Перед нами всюду
почти стояли задачи борьбы в рамках буржуазного общества. Вот почему
теперь, в эпоху пролетарской революгри, все наши лозунги против
учреждений буржуазного общества, против идеологии, поддерживаемой
буржуазным классом, в том числе и против религии, должны быть гораздо
710"
более заостренными, чем 18 лет тому назад. Мы уже сказали, что
по отношению к рабочим или батрацко'-крестьянским элементам мы
допускаем исключение, допускаем участие их, как членов партии,
даже тогда, когда они не вполне еще порвали с религиозными
мировоззрениями.
Но для того, чтобы они порвали свою связь с религией, мы ставим
антирелигиозную пропаганду. Конечно, кое-кого антирелигиозная
пропаганда от нас отталкивает. Тов Хетлунд боится, что эти люди
неминуемо «будут остановлены в своем приближении к нам войной с
религией, ведомой партией, ибо они закоснели в религиозных тенденциях; что
есть много других индиферентных (безразличных) к религии людей,
которым вое же прямая антирелигиозная пропаганда противна.
Коммунистическая партия, как всякое воинствующее движение, выискивает себе
легчайший путь к победе. Поэтому она должна бережно' избегать всего,
что ей может затруднить дорогу, если только это не противоречит ее
задачам. Отдельные коммунисты, как частные лица, могут заниматься
антирелигиозной пропагандой — это их право, и в это никто не будет
вмешиваться, поскольку это не причиняет вреда политической программе и
деятельности коммунистической партии».
Вот с этим мы никак не можем согласиться, что заниматься или не
заниматься той или иной отраслью партийной работы — это не
обязанность всех членов партии, а только «их право, и в это никто не будет
вмешиваться». Это чисто интеллигентское рассуждение. «Есть много
индиферентных к релитии людей, которым все же прямая антирелигиозная
пропаганда противна». Не напоминает ли это вам людей, которые стоят
за остальную революцию, но которым прямое участие в вооруженной
борьбе противно, которые просто не хотят вида крови? Или, например,
некоторые ничего не имеют против того, чтобы применять насилие по
отношению к буржуазии, но смотрят брезгливо на работу Ч. К.? Против
такого отношения к партии мы должны бороться самым решительным
образом. Если ты член партии, то для тебя всякая работа партии не
только право, но и обязанность, и от этой обязанности тебя может спасти-
только неумение ее выполнить, но и тогда ты обязан научиться
выполнять ее.
Теперь мы можем кратко формулировать свой ответ тов. Хеглунду.
Антирелигиозно ли коммунистическое движение? Да,
коммунистическое движение, которое направлено против основ буржуазного
государства, антирелигиозно потому, что религия есть одно из учреждений
буржуазного государства, которому не будет места в коммунистическом
обществе, й это надо сознать ясно.
Должна ли наша партия проповедывать войну с религией? Да.
Она должна вести войну с религией пропагандой, атитацией, проповедаю
атеизма, разоблачением связи религии с эксплоатацией господотвующих
классов, заменой религиозного мировоззрения научным,
материалистическим мировоззрением, широкой и глубокой естественно-научной и
атеистической просветительной деятельностью.
Должна ли коммунистическая партия отказывать в приеме людям
с религиозными воззрениями? Как общее правило, да, потому что
религиозные люди будут путаться, мешать борьбе рабочего класса, вносить
идеалистическую мешанину там, где нужна ясность материалистического
понимания мира. Отдельные же пролетарии, доказавшие свою
преданность пролетарской революции, но еще не порвавшие с религией, в,
отдельных случаях, могут допускаться в партию. Если такой проле-
720
тарий из-за религии ,не пойдет рука об руку с паршей пролетарской
революции, это будет означать, что для него пролетарская революция
не главное.
Должны ли коммунисты иметь марксистское материалистическое
миросозерцание? Да. Все ли равно, во имя бога или человека борется
коммунист?' Нет, не все равно. Хорошо усвоенная массами
марксистская теория сама по себе является огромной материальной силой.
А люди, которые не знают даже, во имя чето бороться, —во имя бога или
человека, — не только не могут быть стойкими вождями авангарда
пролетарской революции, но могут в решительный момент борьбы- серьезно
затормозить пролетарскую революцию.
(«Антирелигиозно ли коммунистическое движение»).
Д. И. Ленин
ЗАДАЧИ ВОИНСТВУЮЩЕГО АТЕИЗМА
В заявлении говорится, что не все объединившиеся вокруг журнала
«Под знаменем марксизма» — коммунисты, но все последовательные
материалисты. Я думаю, что этот союз коммунистов с ^коммунистами
является безусловно необходимым и правильно определяет задачи
журнала. Одной из самых больших и опа/сных ошибок коммунистов (как и
вообще революционеров, успешно проделавших начало великой
революции) является представление, будто бы революцию можно совершить
руками одних революционеров. Напротив, для успеха всякой серьезной
революционной работы необходимо понять и суметь претворить в жизнь,
что революционеры способны сыграть роль, лишь как авангард
действительно жизнеспособного и передового класса. Авангард лишь тогда
выполняет задачи авангарда, когда умеет не отрываться от руководимой
им массы, а действительно вести вперед всю массу. Без союза с
некоммунистами, в самых различных областях деятельности, ни о каком
успешном коммунистическом строительстве не может быть и речи.
Это относится и к той работе защиты материализма и марксизма,
за которую взялся журнал «Под знаменем марксизма». У главных
направлений передовой общественной мысли- России имеется, к счастью,
солидная материалистическая традиция. Не говоря уже о Г. В.
Плеханове, достаточно назвать Чернышевского, от которого современные
народники (народные социалисты, с.-р. и ъ п.) отступали назад, нередко
в погоне за модными реакционными философскими учениями, поддаваясь
мишуре, якобы, «последнего слова» европейской науки и не умея
разобрать под этой мишурой той или иной разновидности' прислужничества
буржуазии, ее предрассудкам и буржуазной реакционности.
Во всяком случае, у нас в России есть еще и довольно долго,
несомненно, будут, материалисты из лагеря некоммунистов, и наш
безусловный долг привлекать к совместной работе всех сторонников
последовательного и воинствующего материализма в борьбе с философской
реакцией и философскими предрассудками, так называемого, «образованного
общества». Дицген-отец, которого не надо смешивать с его, столь же
претенциозным, сколь неудачным литератором-сынком, выразил
правильно, метко и яоно основную точку зрения марксизма на
господствующие в буржуазных странах и пользующиеся среди их ученых и публи-
Г. Гурвв 46
721
цистов вниманием философские направления, сказавши, что профессора
философии в современном обществе представляют из себя, в большинстве
случаев, на деле не что иное, как «дипломированных лакеев поповщины».
Наши российские интеллигенты, любящие счш*ать себя передовыми, как
(впрочем и их собратья во всех остальных странах, очень не любят
перенесения вопроса в плоскость той оценки, которая дана словами Дицгена.
Но не любят они этого потому, что правда глаза колет. Достаточно
сколько-нибудь вдуматься в государственную, затем
обще-экономическую, затем бытовую и всяческую иную зависимость современных
образованных людей от господствующей буржуазии, чтобы понять
абсолютную правильность резкой характеристики Дицгена. Достаточно
вспомнить громадное большинство модных философских направлений,
которые так часто возникают в европейских странах, начиная, хотя бы, с тех,
которые были связаны с открытием радия, и кончая теми, которые теперь
стремятся уцепиться за Энштейна, чтобы представить себе связь между
классовыми интереса!ми и классовой позицией буржуазии, поддержкой
ею вкзяческих форм религии и идейным содержанием модных
философских направлений.
Из указанного видно, что журнал, который хочет быть органом
воинствующего материализма, должен быть боевым органом, во-первых,
в смысле неуклонного разоблачения и преследования всех современных
дипломированных лакеев поповщины, все равно, выступают ли они в
качестве йредставителей официальной науки, или в качестве вольных
стрелков, называющих себя демократическими, левыми или идейно
социалистическими публицистами.
Такой журнал должен быть, во-первых, органом воинствующего
атеизма. У нас есть ведомства, или, по крайней мере, государственные
учреждения, которые этой работой ведают. Но ведется эта работа крайне
вяло, крайне неудовлетворительно, испытывая, видимо, на себе гнет
общих условий нашего истинно-русского (хотя и советского) бюрократизма.
Чрезвычайно существенно поэтому, чтобы, в дополнение к работе
соответствующих государственных учреждений, в исправление ее и оживление
ее, журнал, посвящающий себя задаче стать органом воинствующего^
материализма, вел неутомимую атеистическую пропаганду и борьбу. Надо
внимательно следить за всей соответствующей литературой на всех
языках, переводя или, по крайней мере, реферируя вое сколько-нибудь
ценное в этой области.
Энгельс давно советовал руководителям современного пролетариата
переводить для массового распространения в народе боевую
атеистическую литературу конца XVIII века. К стыду нашему, мы до сих пор
этого не сделали (одно из многочисленных доказательств того, что
завоевать власть в революционную эпо-ху гораздо летче, чем суметь правильно
этой властью пользоваться). Иногда оправдывают эту нашу вялость,
бездеятельность и неумелость всяческими «выспренними» соображениями:
например, «дескать, старая атеистическая литература XVIII века
устарела, не научна, наивна» и т. п. Нет ничего хуже подобных, якобы,
ученых софизмов, прикрывающие либо педантов, либо полное непонимание
марксизма. Конечно, и ненаучного, и наивного найдется немало в
атеистических произведениях революционеров XVIII века. Но никто не
мешает издателям этих сочинений сократить их и снабдить короткими
послесловиями, с указанием на прогресс научной критики религии,
проделанной человечеством с конца XVIII века, с указанием на
соответствующие новейшие сочинения и т. д. Было бы величайшей ошибкой и худшей
722
ошибкой, которую может сделать марксист, думать, что многомиллионные
народные (особенно крестьянские и ремесленные) массы, осужденные всем
современным обществом на темноту, невежество и предрассудки, могут
выбраться из этой темноты только по прямой линии чисто марксистского
просвещения. Этим массам необходимо дать самый разнообразный
материал по атеистической пропаганде, энаком/ить их с фактами из самых
различных областей жизни, подойти :к ним и так, и этак для того, чтобы
их заинтересовать, пробудить их от религиозного сна, встряхнуть их с
самых различных сторон, самыми различными способами и т. п.
Бойкая, живая, талантливая, остроумно и открыто нападающая на
господствующую поповщину публицистика старых атеистов XVIII века
сплошь и рядом окажется в тысячу раз более подаодящей для того, чтобы
пробудить людей от религиозного сна, чем 'Скучные, сухие, не
иллюстрированные почти никакими, умело подобранными, фактами пересказы
марксизма, которые преобладают в нашей литературе и которые, нечего
греха таить, часто марксизм искажают. Вое ско1лько-нибудь (крупные
произведения Маркса и Энгельса у нас переведены. Опасаться, что
старый атеизм и старый материализм останутся у нас недополненными томи
исправлениями, которые внесли Маркс и Энгельс, нет решительно
никаких оснований. Самое важное — чаще всего именно это забывают наши,
якобы марксистские, а на самом деле уродующие марксизм
коммунисты— эго суметь заинтересовать совсем еще неразвитые массы
сознательным отношением к религиозным вопросам и сознательной критикой
религии.
О другой стороны, взгляните на (представителей современной
научной критики религии. Почти всегда эти представители образованной
буржуазии «дополняют» свое же собственное опровержение религиозных
предрассудков такими рассуждениями, которые сразу разоблачают их,
как идейных рабов буржуазии, как «дипломированных лакеев
годовщины».
Два примера. Проф. Р. Ю. Виппер издал в 1918 годз книжечку:
«Возникновение христианства». Пересказывая главные результаты
современной науки, автор не только не воюет с предрассудками и обманом,
которые доставляют оружие церкви, как политической op-ганизации, не
только обходит эти вопросы, но заявляет прямо смешную и
реакционнейшую претензию подняться выше обеих «крайностей»: и
идеалистической, и материалистической. Это — прислужничество господствующей
буржуазии, которая во воем мире сотни миллионов рублей, из
выжимаемой ею с трудящихся прибыли, употребляет на поддержку религии.
Известный немецкий ученый Артур Древе, опровергая в своей книге
«Миф о христе» религиозные предрассудки и сказки, доказывая, что
никакого Христа не было, в конце книги высказывается за религию, только
подаовленную, подчищенную, ухищренную, способную противостоять
«ежедневно все более и более усиливающемуся натуралистическому
потоку». Это — реакционер, прямой, сознательный, открыто помогающий
эксплоататорам заменять старые и прогнившие религиозные предрассудки
новенькими, еще более гаденькими и подльши предрассудками. Это не
значит, чтобы не надо было переводить Древса. Это значит, что
коммунисты й (все последовательные материалисты должны, осуществляя в
известной мере свой союз с прогрессивной частью буржуазии, неуклонно
разоблачать ее, когда, она впадает в реакционность. Это значит, что
чураться союза, с представителями буржуазии XVIII века, т.-е. той эпохи,
когда она была революционной, значило бы изменять марксизму и маоге-
46*
723
риаливму, ибо «союз» с Древсами в той или иной форме, в той или иной
стдаени для нас обязателен в борьбе с господствующими религиозными
мракобесами.
Журнал «Под знаменем марксизма», который хочет быть органом
воинствующего материализма, должен уделять много места атеистической
пропаганде, обзору соответствующей литературы и исправлению
громадных недочетов нашей государственной работы в этой области. Особенно
важно использование тех книт и брошюр, которые содержат много
конкретных фактов и сопоставлений, показывающих связь классовых
интересов и классовых организаций современной буржуазии с организациями
религиозных учреждений и религиозной пропаганды.
Чрезвычайно важны все материалы, относящиеся к Соединенным
Штатам Северной Америки, в которой меньше проявляется официальная,
казенная, государственная связь религии и капитала. Но зато нам яснее
становится, что, так называемая, «современная демократия» (перед
которой так неразумно разбивают свой лоб меньшевики, с.-р. и отчасти
анархисты и т. п.) представляет из себя не что иное, как свободу пропо-
ведыватъ то, что буржуазии выгодно проповедывать, а выгодно ей про-
поведывать самые реакционные вдеи, религию, мракобесие, защиту экс-
плоататоров и т. п.
Хотелось бы надеяться, что журнал, который хочет быть органом
воинствующего материализма, даст нашей читающей публике обзоры
атеистической литературы с характеристикой, для какого крута
читателей ж в каком отношении могли быть подходящими те или иные
произведения, и с указанием того, что появилось у нас (появившимися
надо считать только сносные переводы, а их не так много) и что должно
быть еще издано.
(«О значении воинствующего атеизма», пом. в 1922 г. в журн. «Под знам.
марке», Сочинения, XX, ч. II).
724
ОГЛАВЛЕНИЕ.
Стр.
Предисловие к 4-му изданию £
Отдел первый.
Определение религии.
Г. В. Плеханов. Составные элементы религии 15
A. И. Тюменев. Что является общей чертой всех религий? 22
Г. В. Плеханов. Возможна ли религия без анимизма? 24
Б. И. Горев. Религия как идеология беспомощности 28
Г. В. Плеханов. Анимизм — корень идеалистической философии 31
Ф. Энгельс. Религия, идеализм и материализм 32"
Б. Борохов. Общепринятое и широкое толкование религии 36
М. Терман. Двойственный характер религии и его причины 37
Н. М. Никольский. Возникновение и развитие научного понимания религии . . 45
Отдел второй.
Возникновение и развитие религии*
Г. Кунов. Закономерность процесса развития религии . 55
И. И. Степанов. Данные для изучения зачатков религии 62
П. Красиков. Верил ли первобытный человек в сверхъестественное? .... 64
Г. Кунов. Возникновение анимизма и веры в бога 66
B. И. Степанов. Этапы развития религиозных верований 84
М. Я. Покровский. Первобытные религиозные представления 100
Я. И, Бухарин. Под влиянием чего возникла религия? 113
Г. В. Плеханов. Общественное бытие и религиозное сознание дикарей .... 115
М. Н. Покровский. В защиту теории страха смерти 130
И. И. Степанов. Против теории страха смерти 138
Отдел третий.
Из истории современных верований.
К. Каутский. Происхождение первобытной библейской истории ...... 148
Штаде. Составные части библейского сказания о потопе 160
И. И. Степанов. Как возник еврейско-христианский бог? 162
К. Каутский. Еврейский и христианский монотеизм 185
Г. В. Плеханов. Зависимость мифологии от техники 190
Г. Кунов. Мифы о сотворении мира у дикарей и в библии 193
И. И. Степанов. Возникновение современных верований о загробном мире . . 201
И- Лафарг. Понятие души и потусторонней жизни у христиан первых веков . . 213
М. Рейснер. Бог и загробный мир магометанства 220
Отдел четвертый.
Есть ли бог.
Г. В. Плеханов. Переживает ли религия эвол-юцию или умирает? 234
Ч. Вредлоу. Крушение идеи сверхъестественного 236
725
Ото.
Э. Геккель. Религиозное мировоззрение и современная картина вселенной . . 245
Ф. Энгельс. Крушение учения о неизменности мира 247
Л. Бюхнер. Несостоятельность доказательств бытия бога 259
К. Маркс. Чем являются доказательства существования бога4-' 271
И. Дицген. Преодоление религиозного миропонимания 273
П. Гольбах. Бог перед судом здравого смысла 278
М. Гюйо. Критика религиозного объяснения зла 303
А. В. Луначарский. Можно ли верить в бога? . . . 308
К. Гельвеций. Несообразность религиозной теории и практики 311
Г. В. Плеханов* Человеческая свобода и естественная необходимость 314
Э. Геккель. Иллюзия личного бессмертия 317
А. Форель. Как обстоит вопрос о загробной жизни? 322
Г. В. Плеханов. Религиозное утешение и мысль о единстве человека с природой 321
Отдел пятый.
Знание и вера.
Г. В. Плеханов. Способы поддержания религионзого мировоззрения .... 328
Г. Кунов. Воображение как основа религиозной веры 333
Б. Ворохов. Характерные черты религиозной веры 335
К. Маркс. Можно ли примирить науку с религией 339
A. Варьяш. Основаны ли научные гипотезы на вере? 340
Ф. Энгельс. Что такое агностицизм? 343
Л. И. Аксельрод. Учение о двойственности истины 345
Г. В. Плеханов. О современной защите учения о двойственной истине . . . 347
Г. Эферот. Объяснение мира и божественное переживание 349
B. Рожицын. Свойства и корни религиозного чувства 353
A. Деборин. Прагматизм об отношении веры к знанию 359
Г. В. Плеханов. Можно ли говорить о религии будущего? 367
Отдел шестой.
Против богостроительства.
B. И. Ленин. Научная поповщина 370
Ф. Энгельс. О фейербаховской философии религии 374
A. В. Луначарский. Религиозный атеизм или вера без бога 377
Б. Ворохов. Пример религии в широком понимании 379
Г. В. Плеханов. Критика воззрения Луначарского на религию 384
Н. Грабовский. Можно ли социализм назвать религией? . 397
Л. Мартов. Разновидность антиматериалистического воззрения . 400
Г. В. Плеханов. Против богостроительства М. Горького 411
B. И. Ленин. В чем вред богостроительства? 416
A. Тальгеймер. Последнее слово «социалистической» поповщины ..... 420
Ф. Энгельс. Возможно ли создать новую религию? \ . 423
Отдел седьмой.
Классы и религия.
U. И. Покровский. Наука и классовые противоречия 428
Ф. Лютгенау. Классовые мотивы в отношениях буржуазии к религии .... 429
И. И. Степанов. Религия и общественный строй . . . • 431
Ф. Энгельс. Эволюция отношения буржуазии к религии 439
П. Лафарг. Экономические причины религиозности буржуазных кчассов . . . 447
Ф. Энгельс. Верующие буржуазные ученые 455
B. И. Ленин. «Мировые загадки» Э. Геккеля 463
М. Гюйо. Аристократы мысли о религии 465
Л. И. Аксельрод. Философы и материализм 467
Отдел восьмой.
Религия в свете марксизма.
Г. В. Плеханов. Что такое религия? 469
Й. Лафарг. Материалистическое понимание редкий 470
726
Стр.
И. В- Бухарин* Зависимость религии от социального бытия ........ 472
Ф. Энгельс. Взаимодействие экономики и идеологии 475
К. Маркс. Исходные положения критики религии 477
Ф. Энгельс. Социальные корни религии 480
К. Маркс. Религиозный мир — отражение действительного мира 481
Ф. Энгельс. Изменение религиозных верований 482
Ш. Лафарг. Безличная собственность и идея единого бога 485
Л. И. Аксельрод. Карл Маркс и религия .*...* ШО
К. Каутский. Что способствует власти религии? *496
Ф. Лютгенау. Угасание религиозности * . . 499
Г. Гортер. Живучесть старых религий * , . 501
К. Маркс и Ф. Энгельс. Почему религия сохранилась? 503
Отдел девятый.
Происхождение и эволюция христианства.
Г. В. Плеханов. Критика евангельских рассказов , . . 504
Ф. Энгельс. Изучение раннего христианства . . , 508
Р. Виппер. Что мы знаем об Иисусе? 9^.1
А. Древ. Христос — мифическая личность Ъ2Ъ
Р. Виппер. Есть ли в христианстве что-нибудь новое? 543
К. Каутский. Язычество и христианство 546
Н, Кун. Восточные культы 552
А. Древе. Христос и боги Востока 555
М. Рейснер. Идея спасителя у древних евреев 566
К. Каутский. Упадок римской империи 572
Ф. Энгельс. Причины возникновения христианства 579
К. Каутский. Раннее христианство и его классовая эеолюция 585
Ф. Энгельс, Христианское учение о равенстве 595
К. Каутский. Христианство в еврейском и языческом мире 596
Ф. Меринг. Превращение общины бедных в могущественную организацию . . . 600
К. Каутский. Средневековая церковь и ее разложение 603
Ф. Меринг. Религиозная реформация и крестьянская война 609
Отдел десятый.
Религия, коммунизма и нравственность.
Ф. Энгельс. Раннее христианство и рабочее движение 620
К. Каутский. Сущность отличия христианства от социализма 624
A. Бебель. Непримиримость христианства и социализма 62$
И. Дицген. Идеология христианства и социализма * 634
Г. В. Плеханов. Религиозные идеи в утопическом социализме 636
Л. И. Аксельрод. Лев Толстой и социализм 638
Г. В. Плеханов. Социализм против толстовской морали . . 641
B. И. Ленин. Толстой и толстовщина f 646
Ф. Энгельс. Существуют ли вечные нравственные законы? 654
Г. Гортер. Как возникла и изменялась нравственность? 655
Ф. Лютгенау. Взаимоотношения религии и этики . . 664
Г. В. Плеханов. Ведет ли атеизм к аморализму? 674
М. Рейснер. О связи морали с религией 677
В. И. Ленин. О коммунистической морали . 690
Отдел одиннадцатый.
Религия и рабочая партия.
П. Лафарг. Причины нерелигиозности пролетариата 693
И. И. Степанов. Задачи пролетариата по отношению к религии 697
Ф. Энгельс. Отношение бланкистов к религии 699
Г. В. Плеханов. Как понимать положение: «религия — частное дело»? .... 700
B. И. Ленин. Об отношении рабочей партии к религии 702
C. Хеглунд. Коммунистическая партия и религия 710
Е. Ярославский. Антирелигиозно ли коммунистическое движение? 713
В. И. Ленин. Задачи Еоинствз7ющего атеизма 721