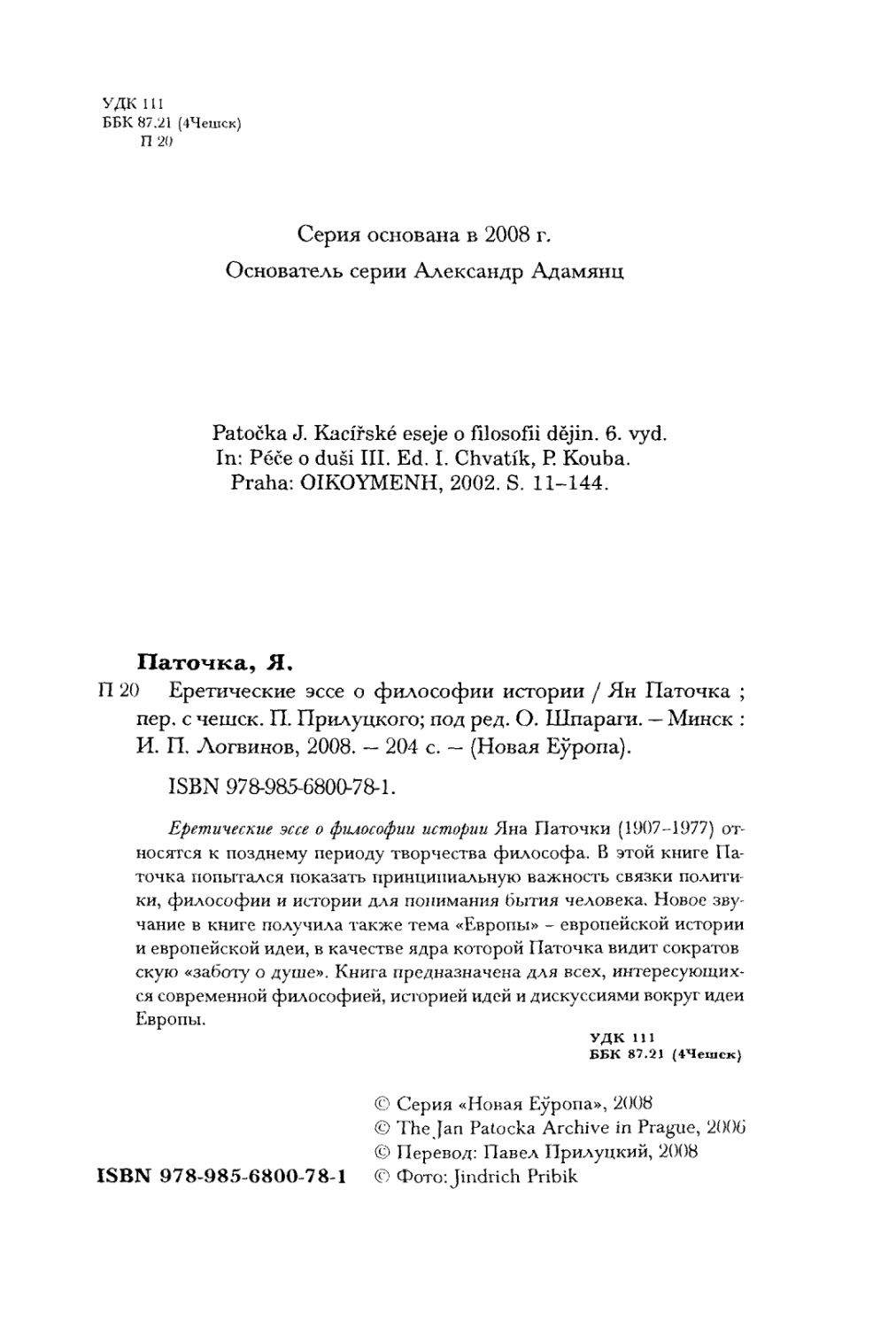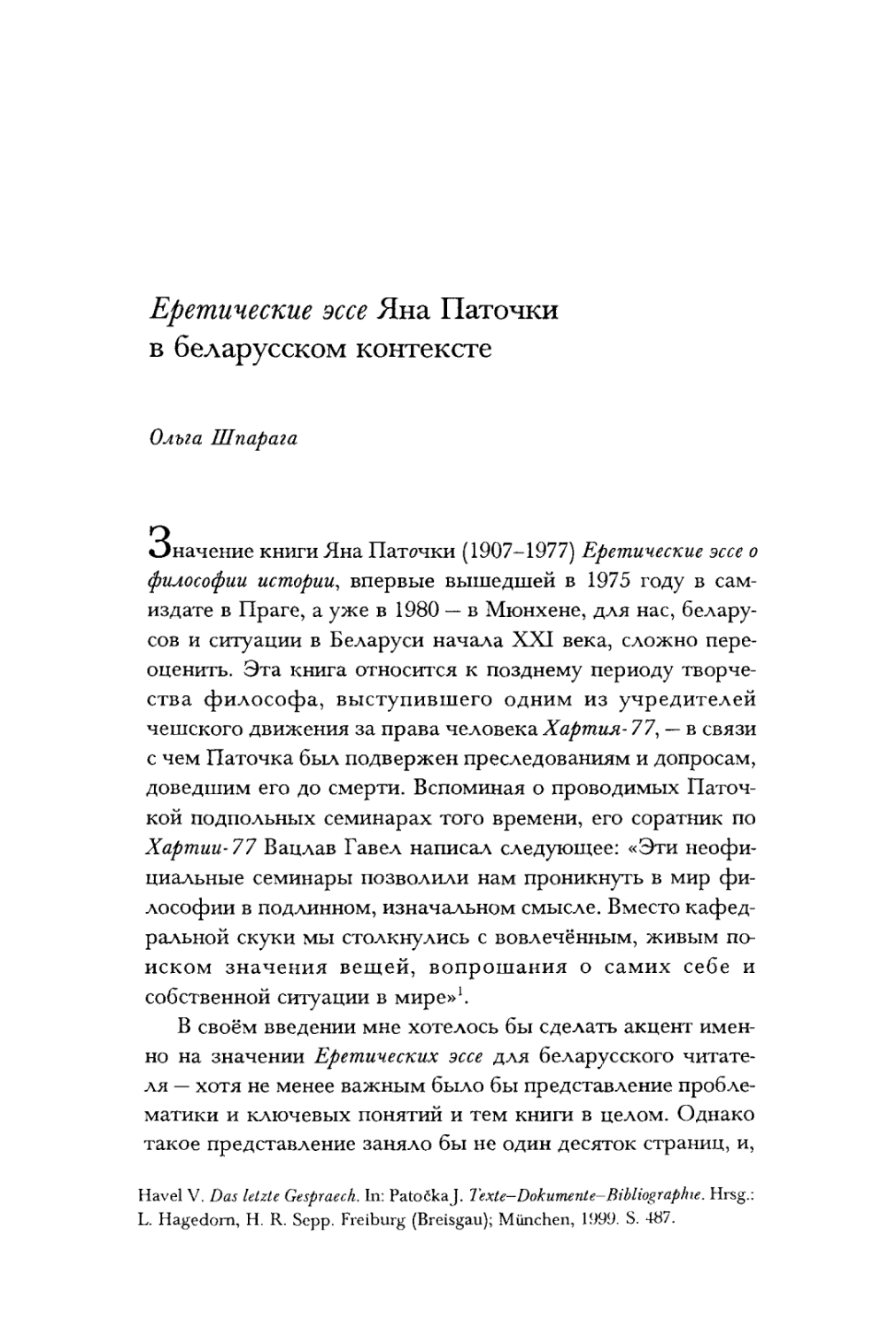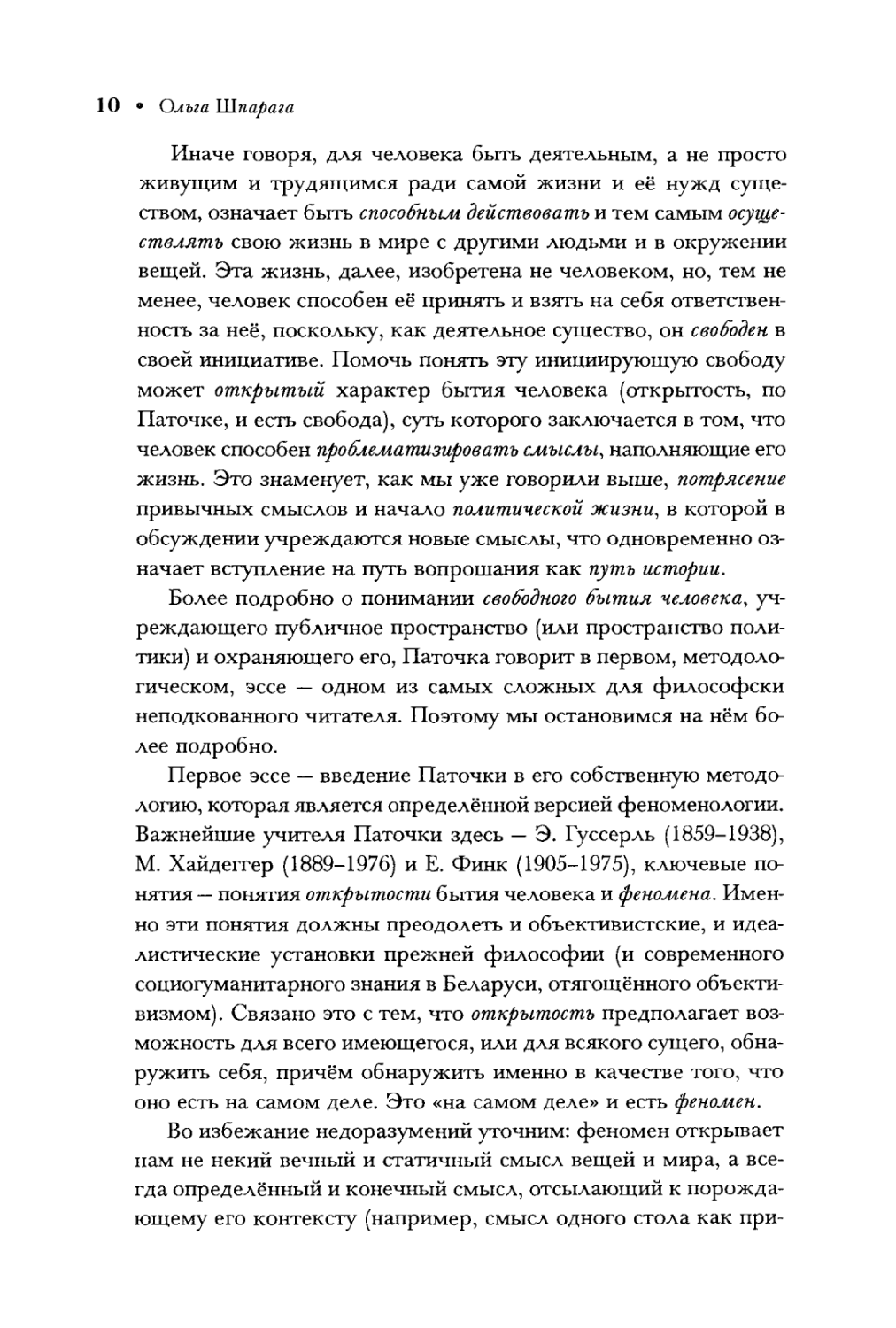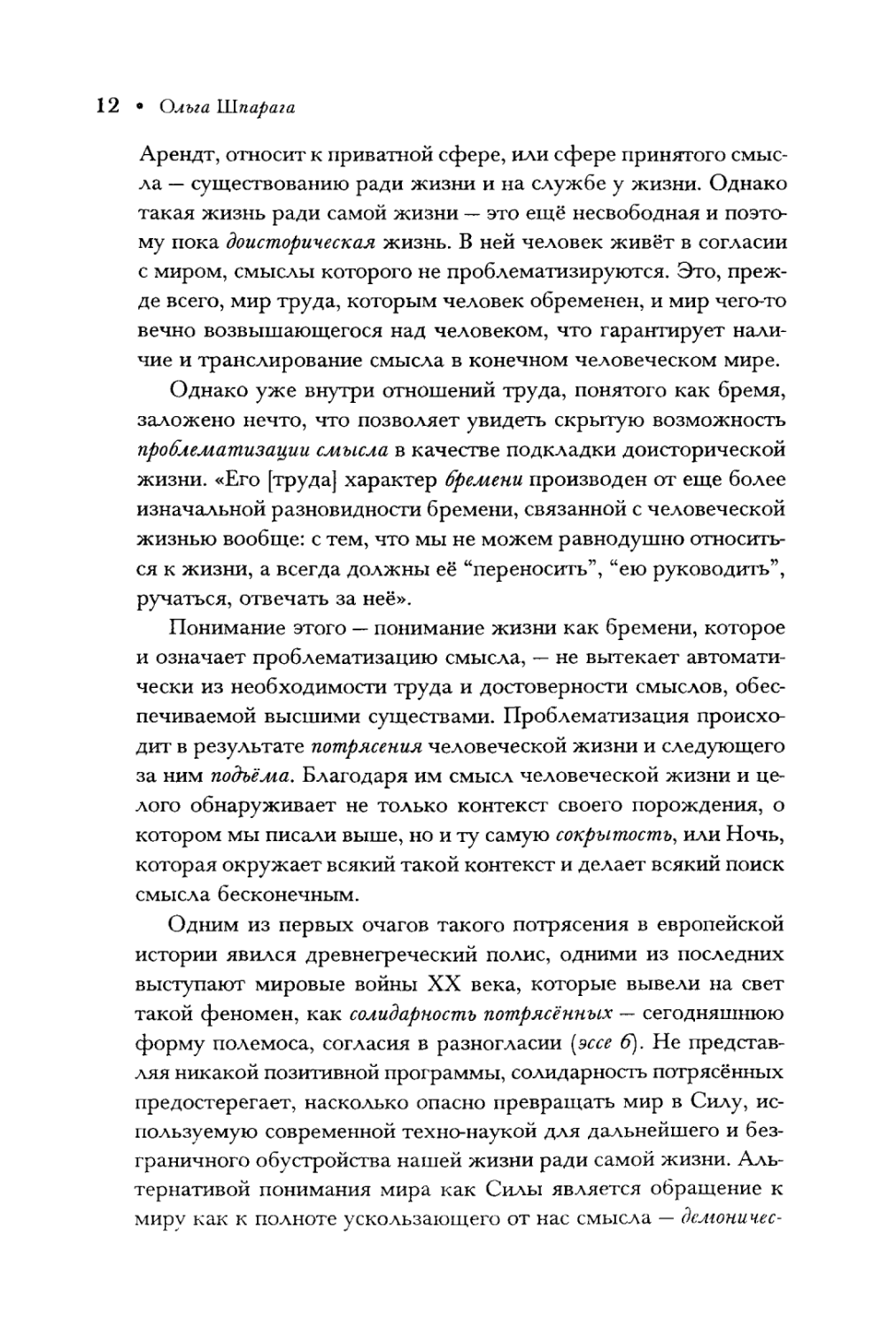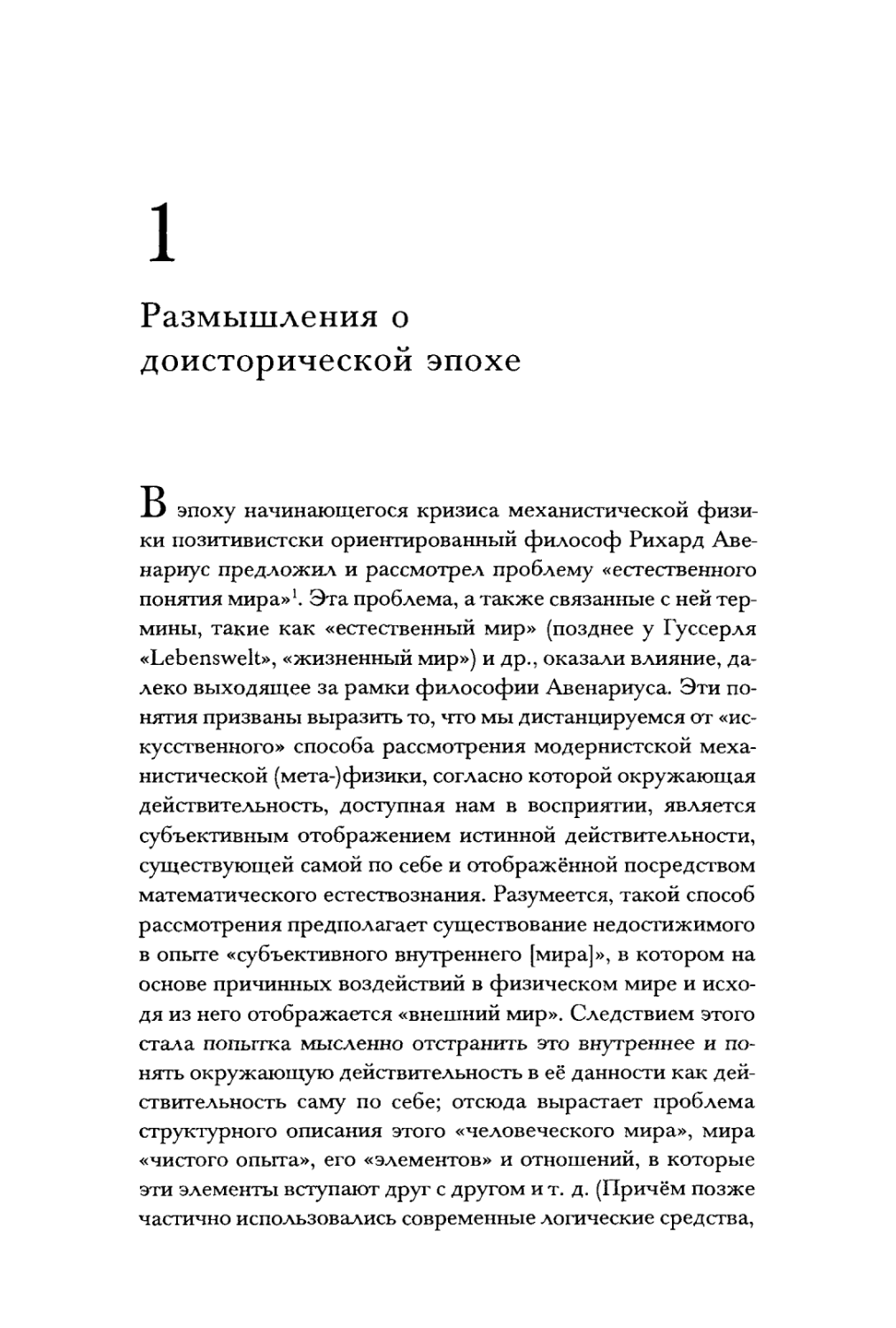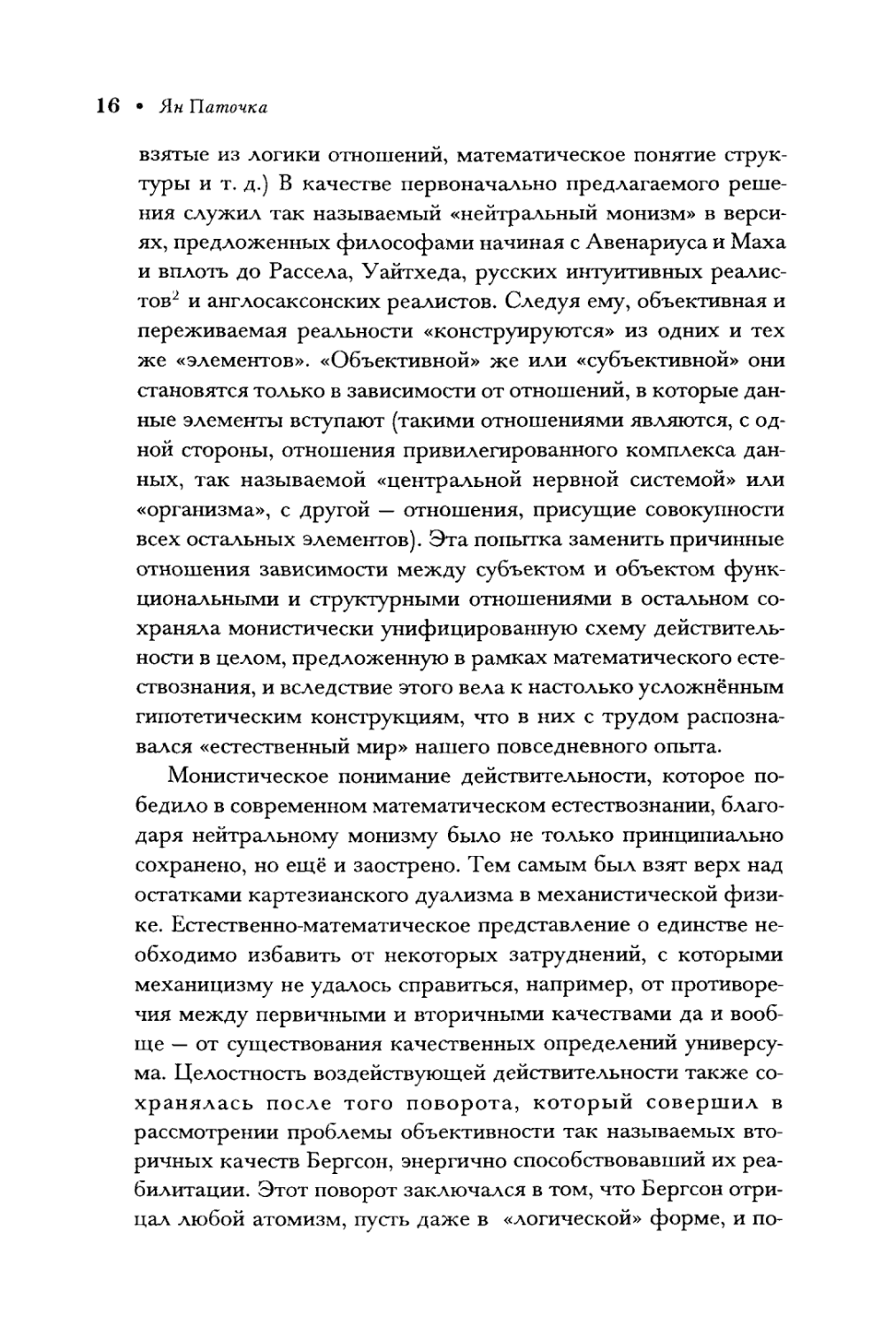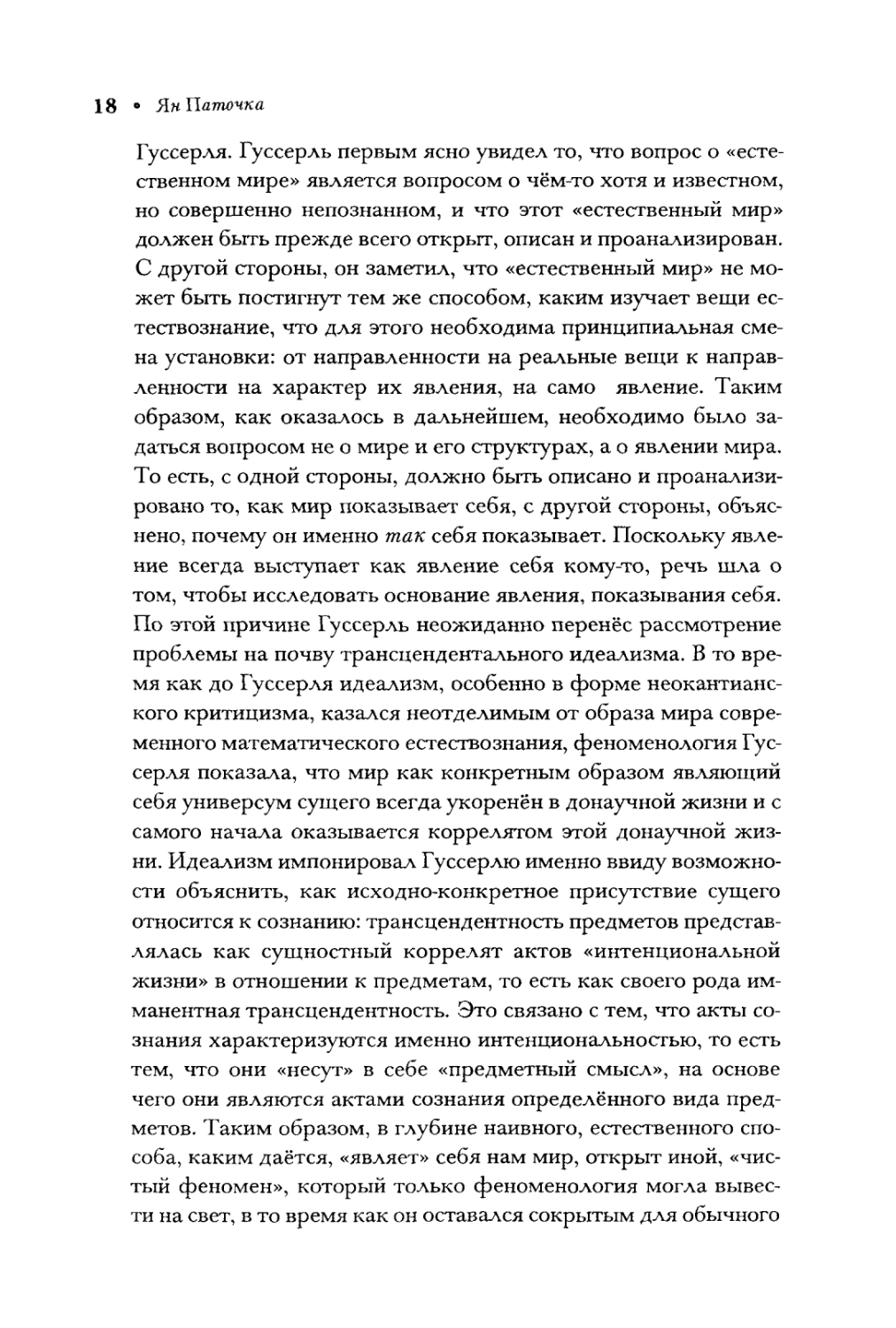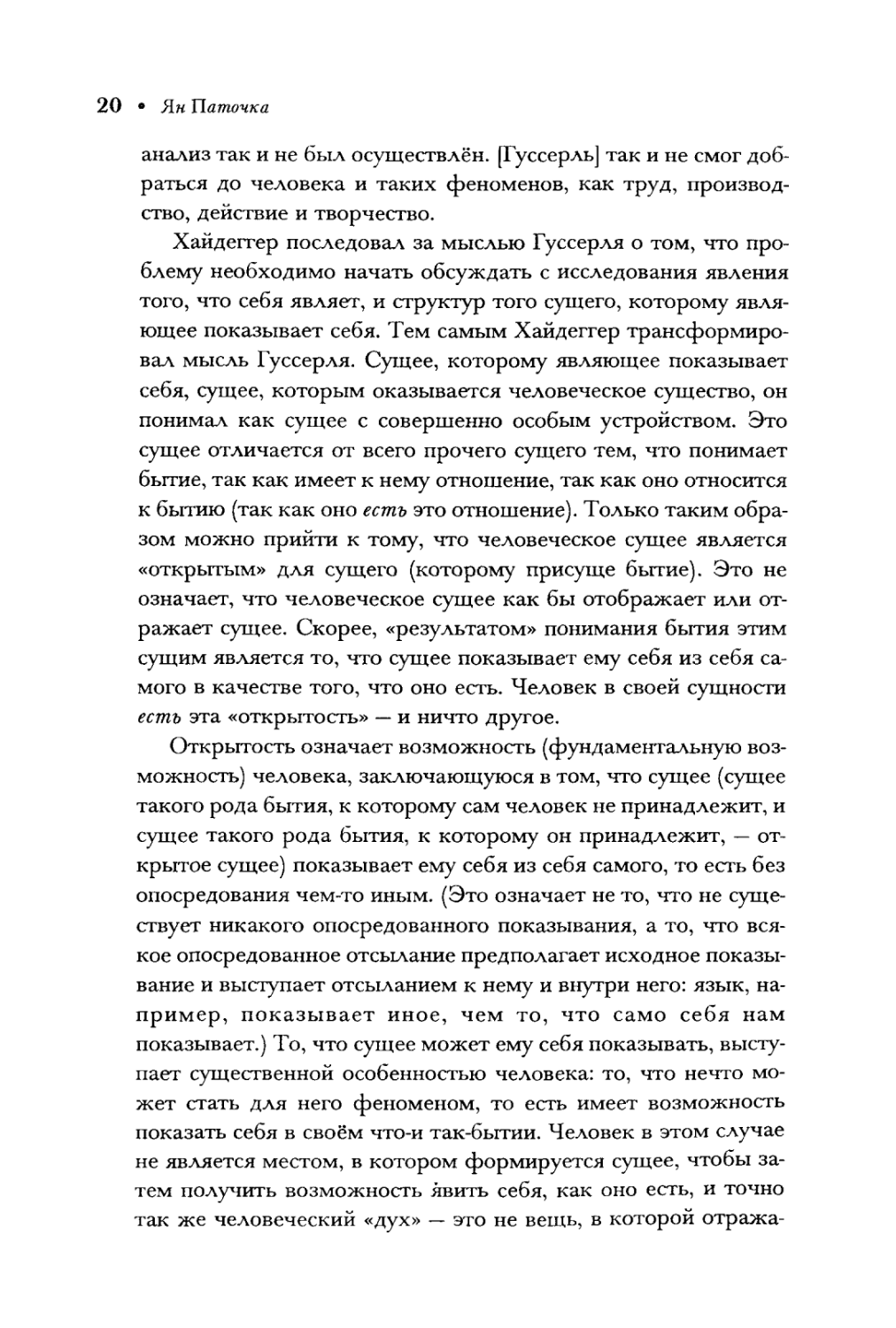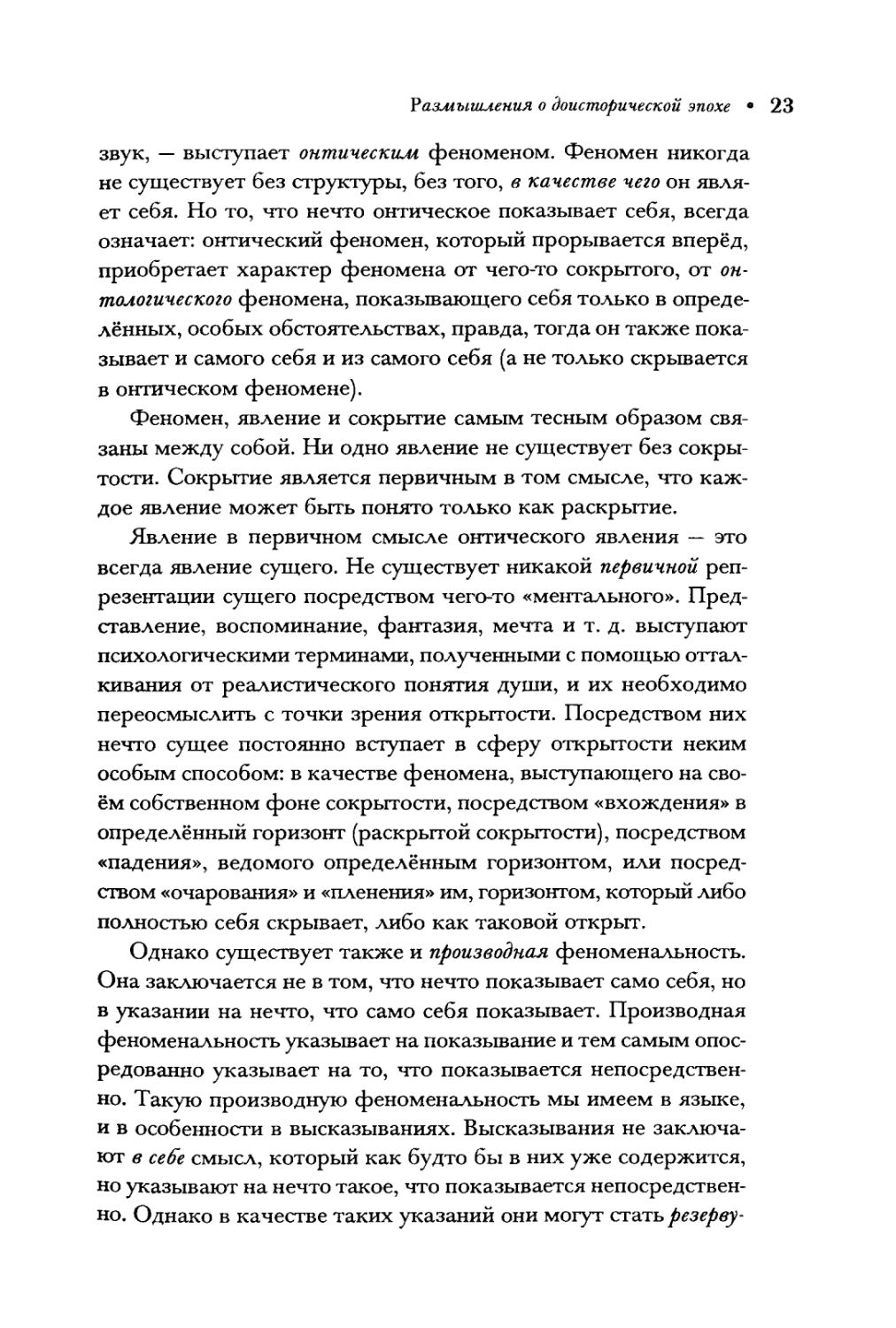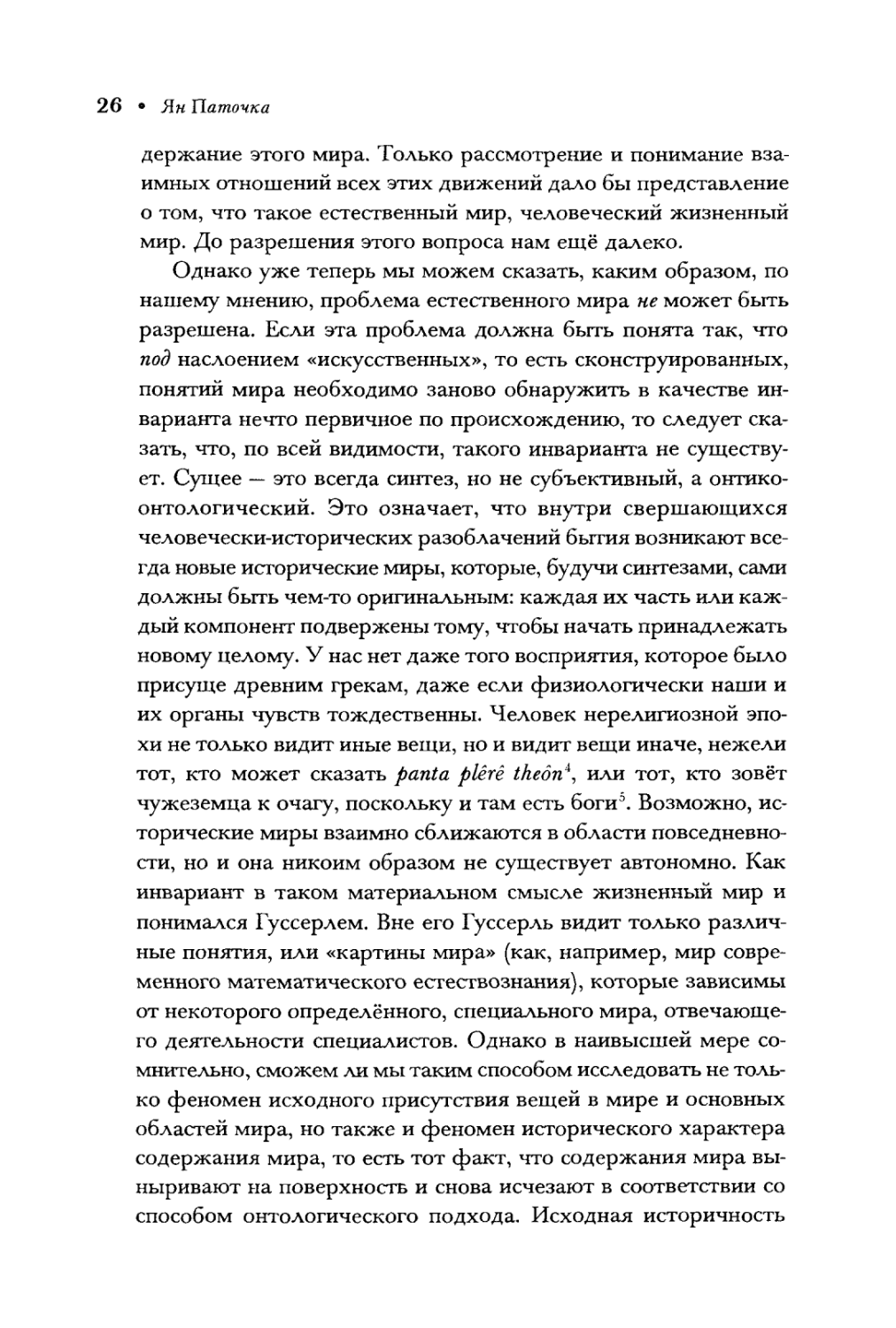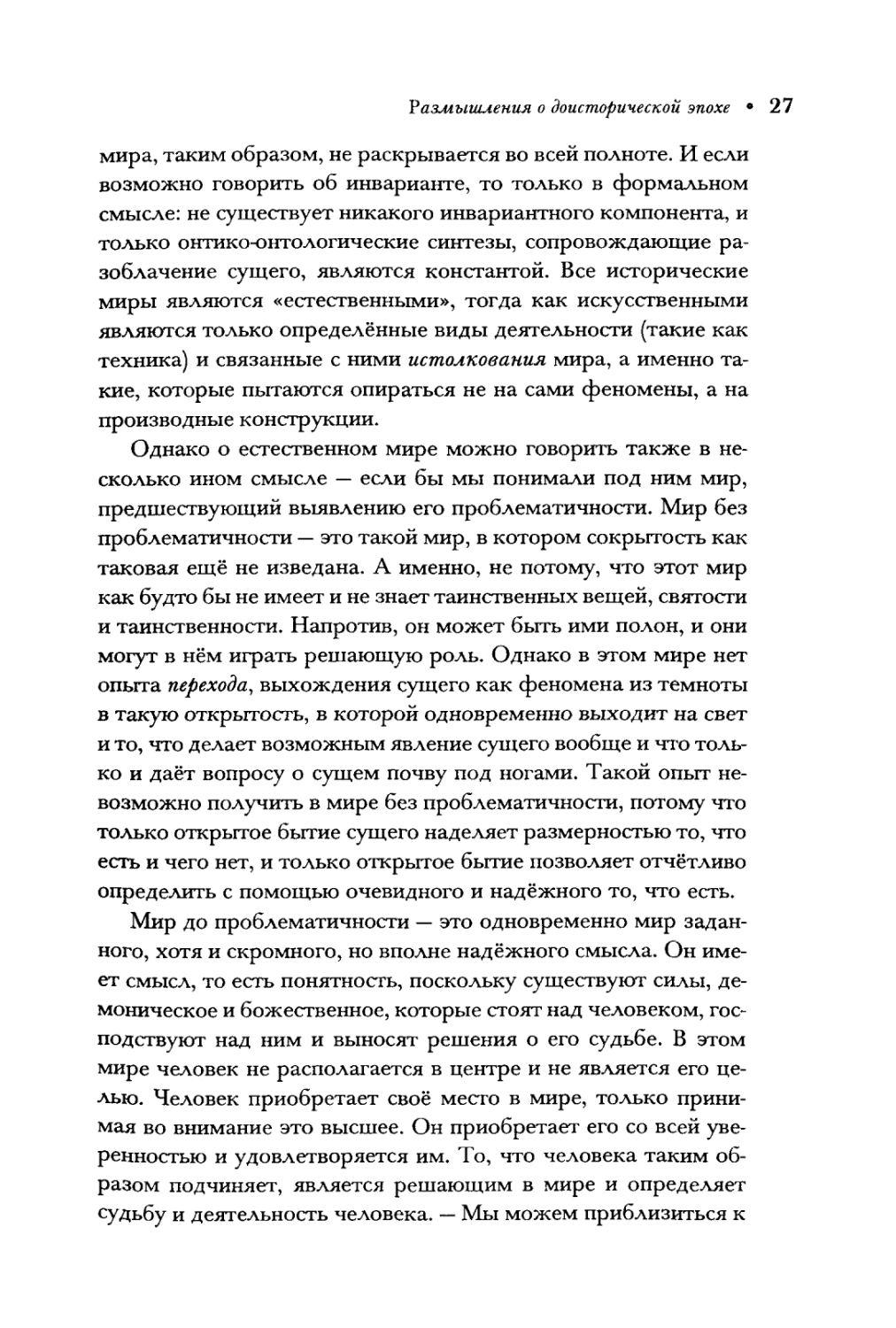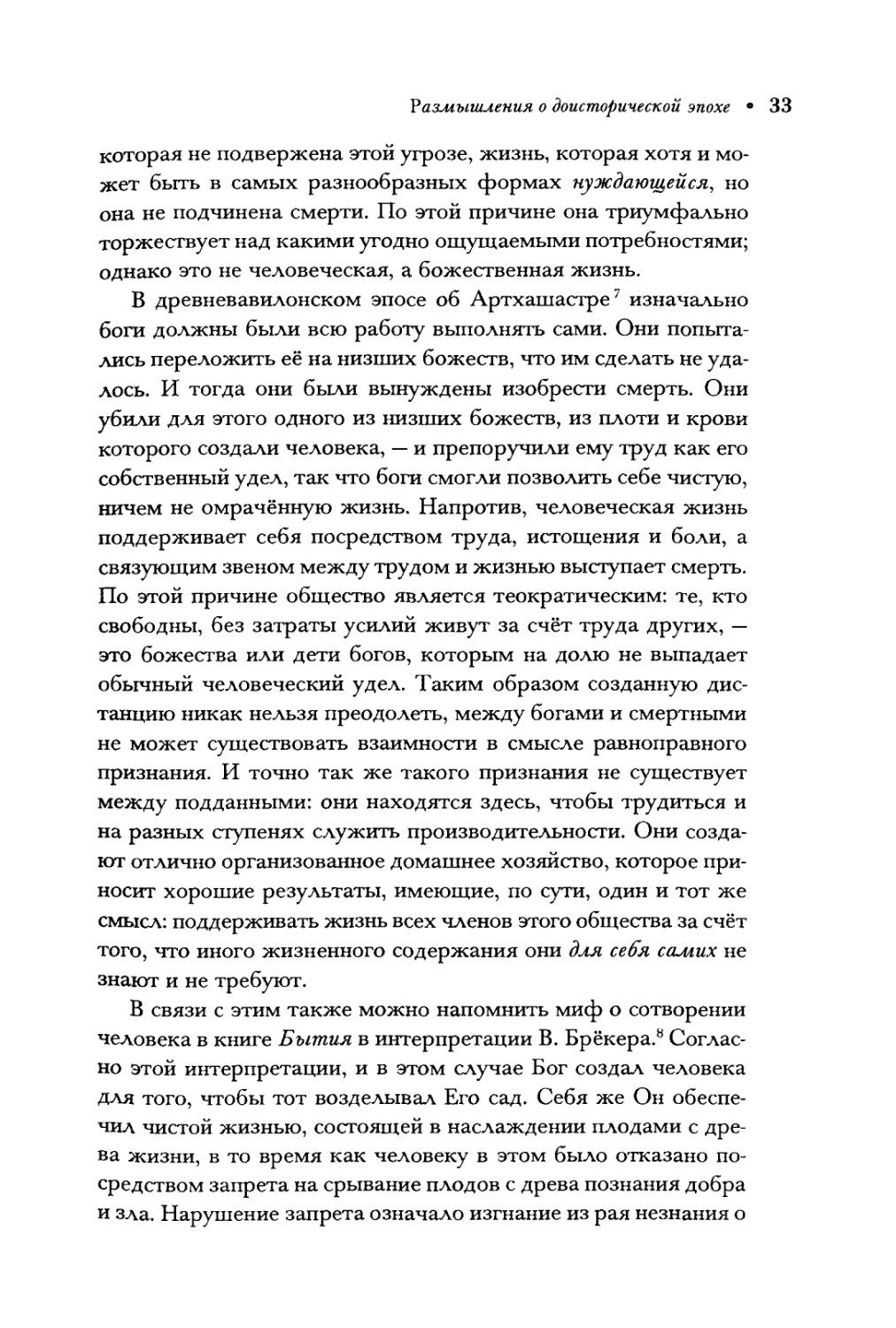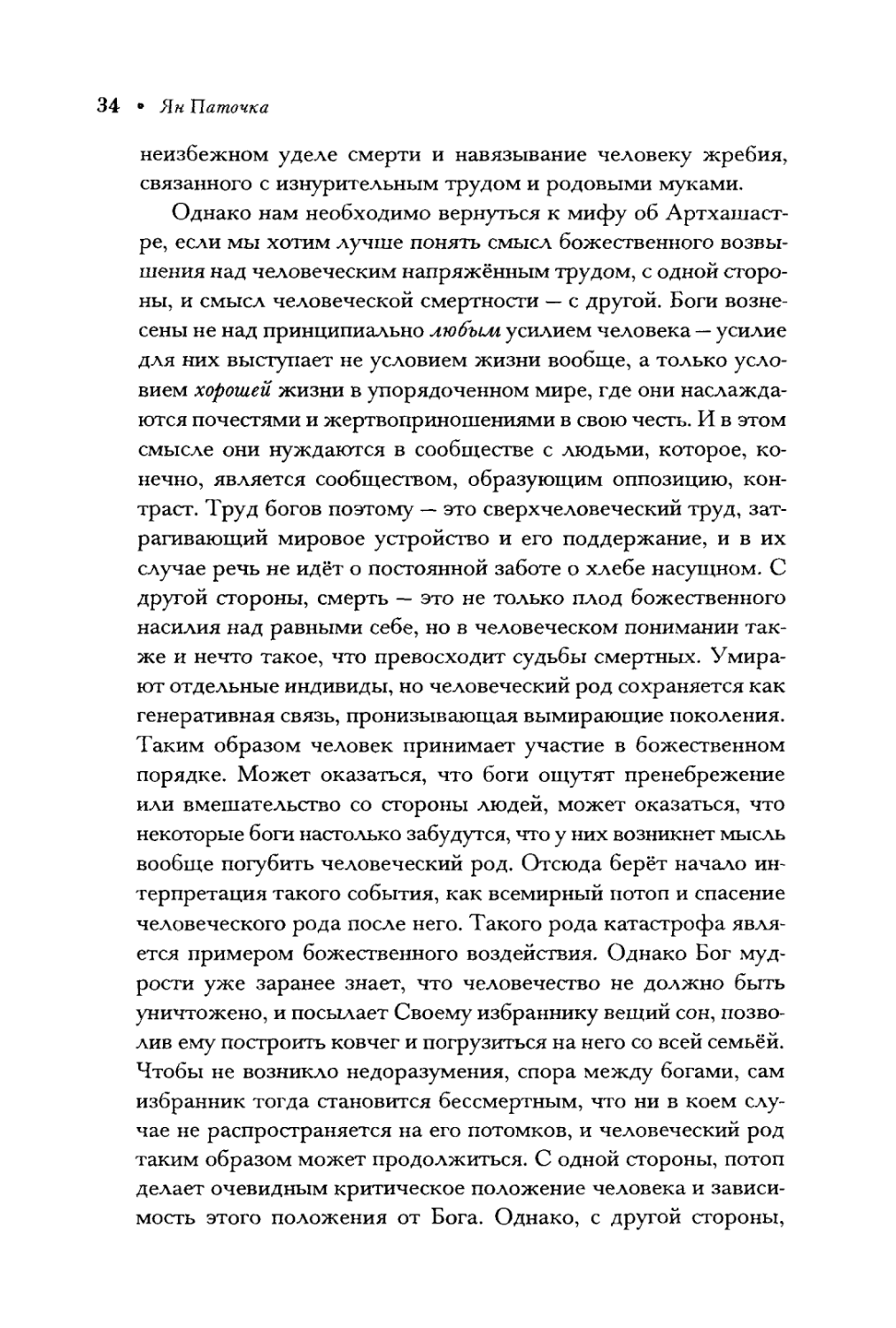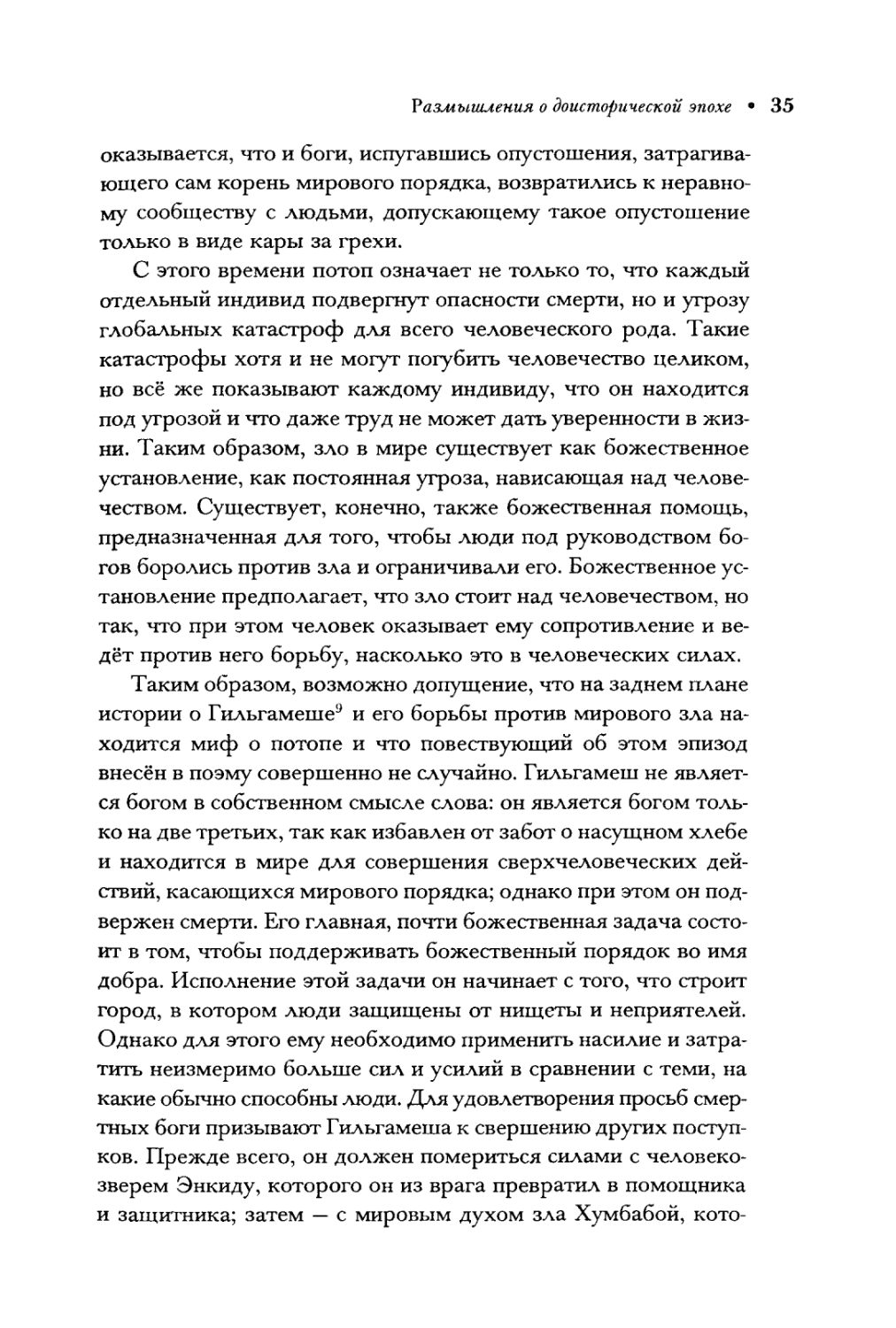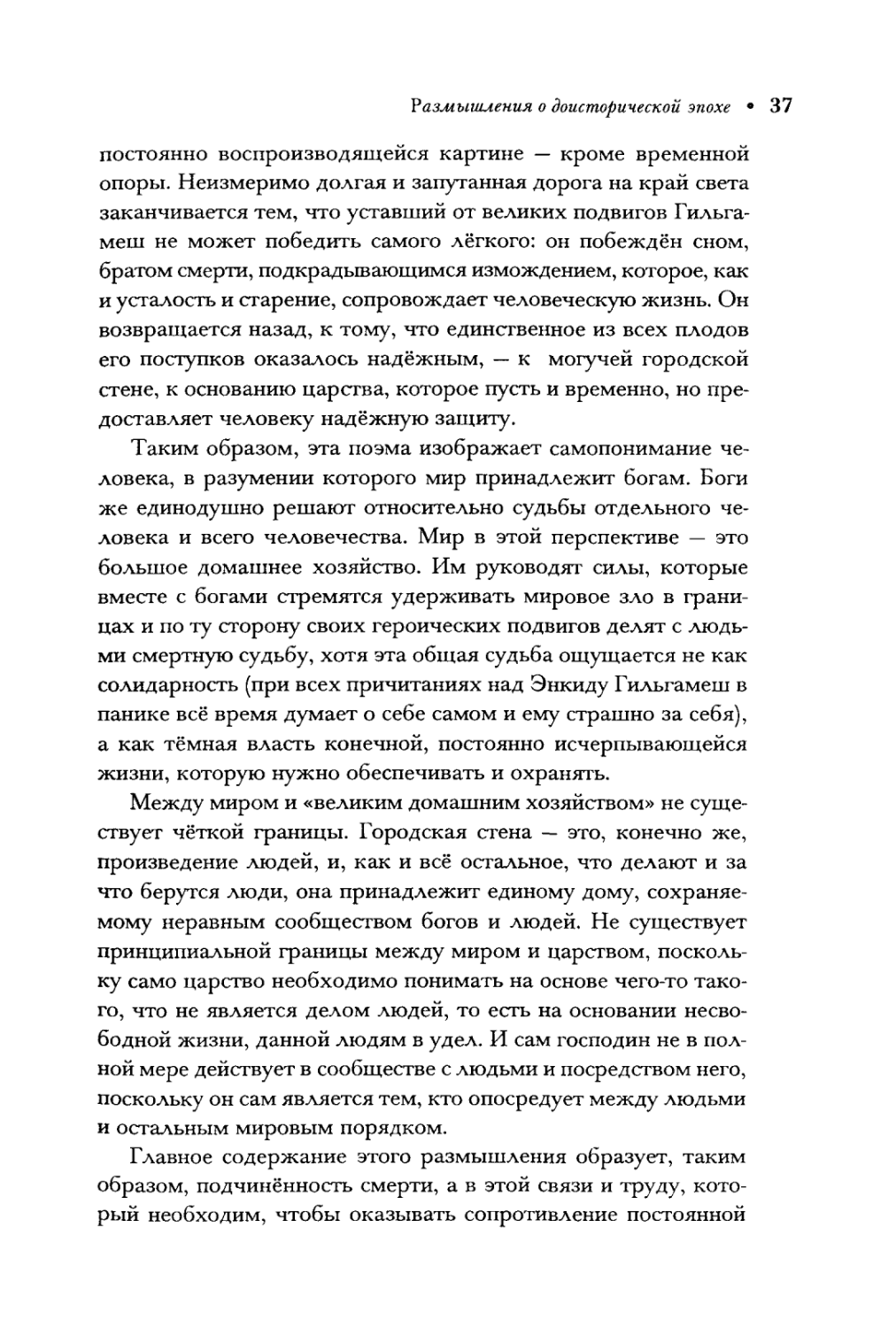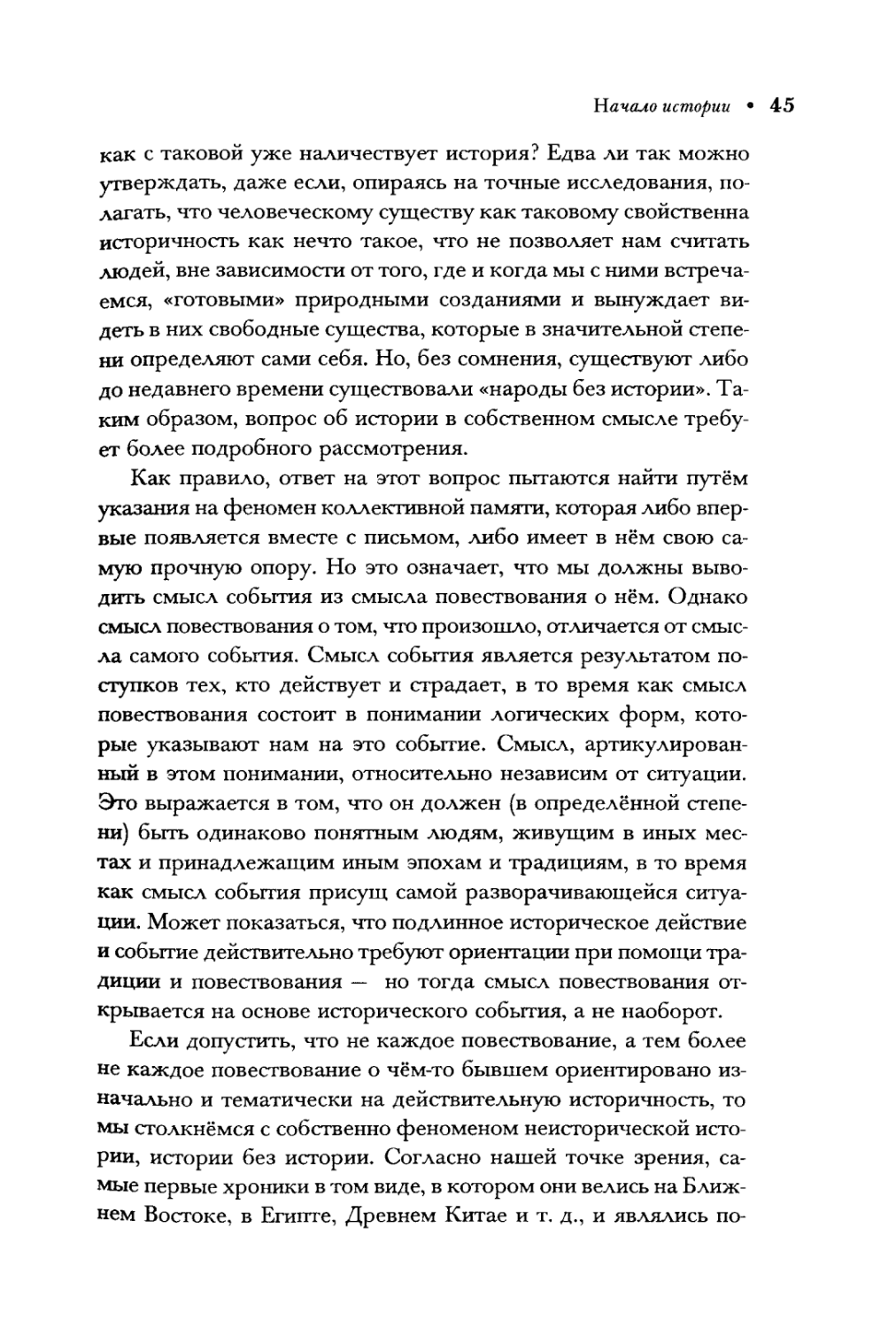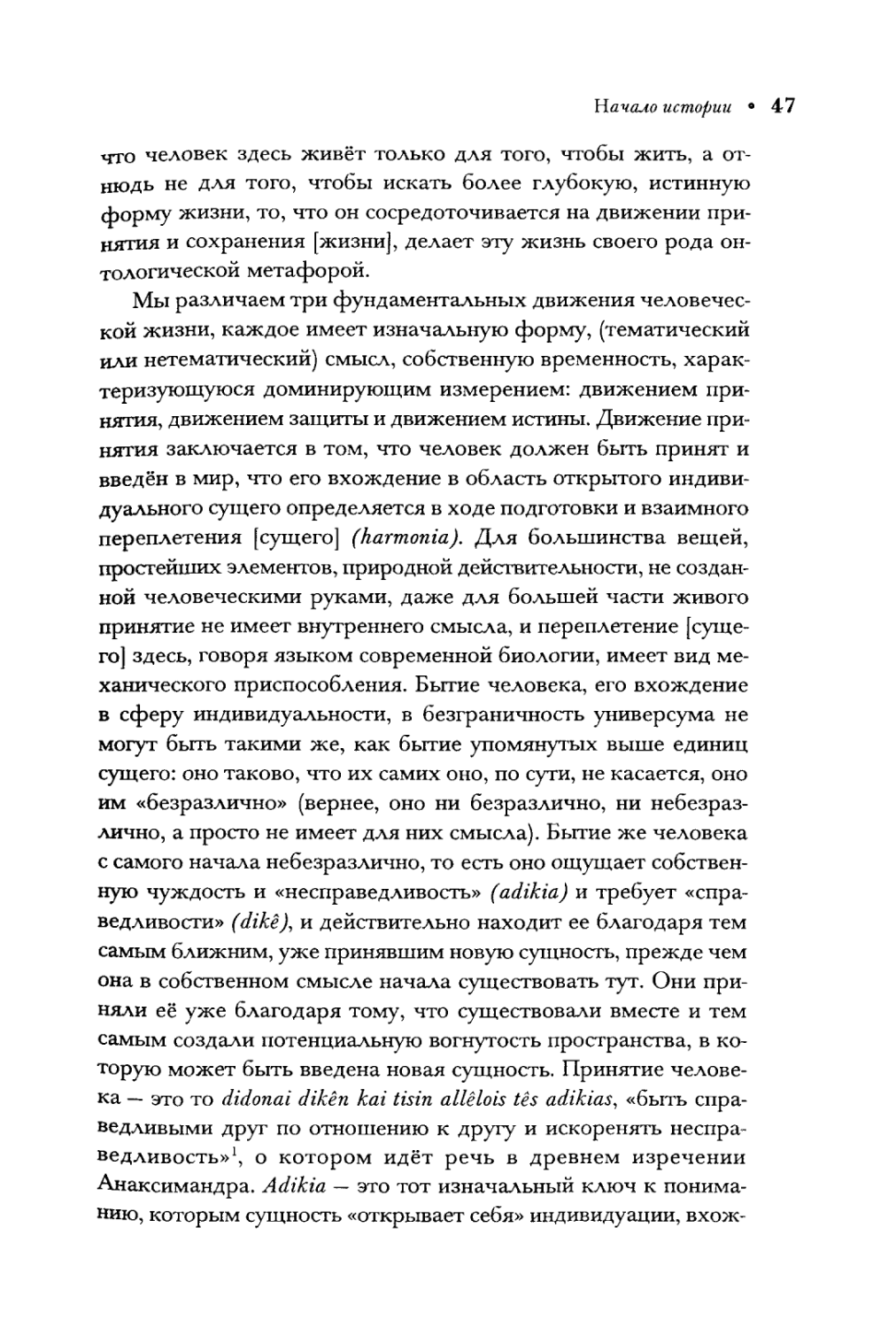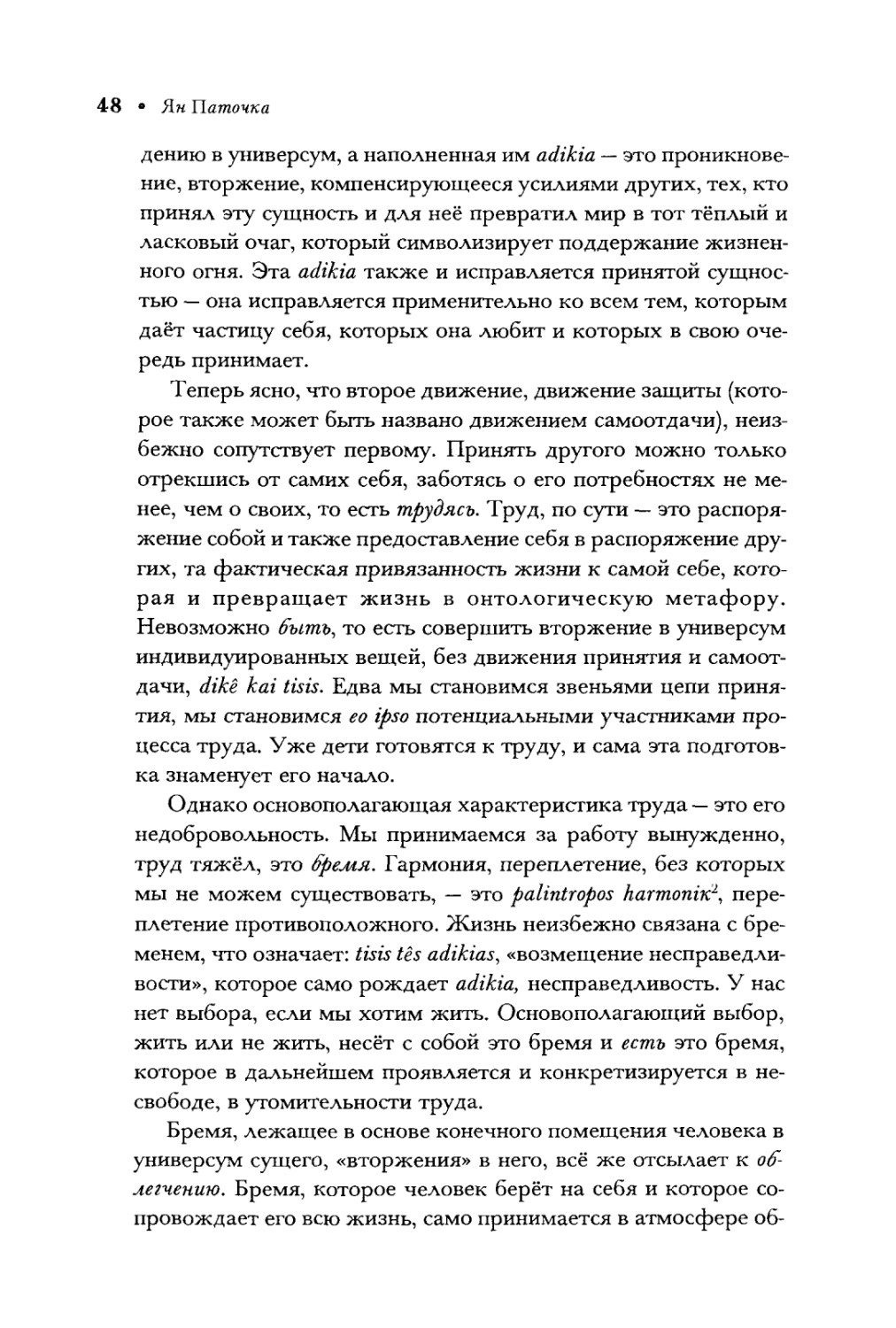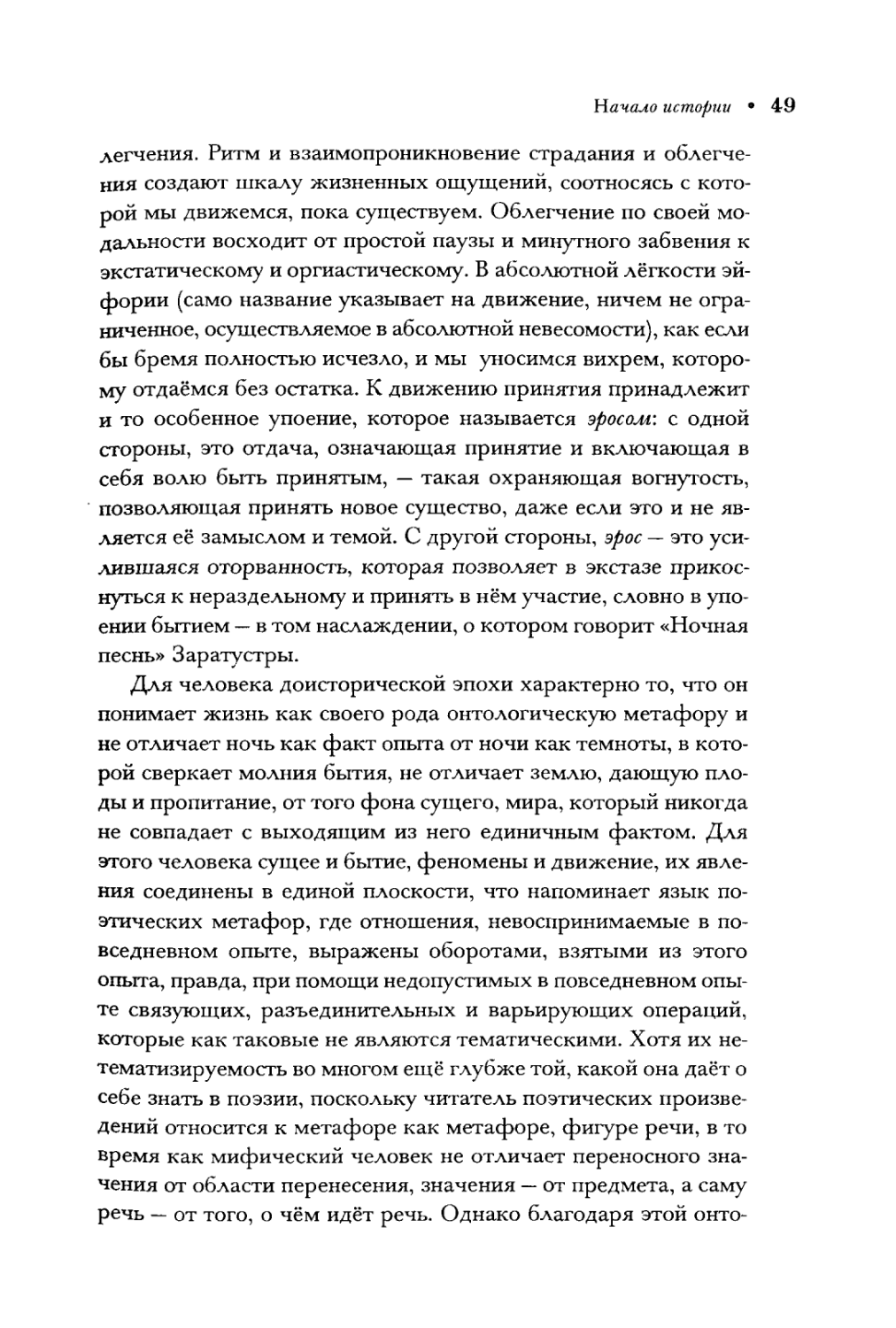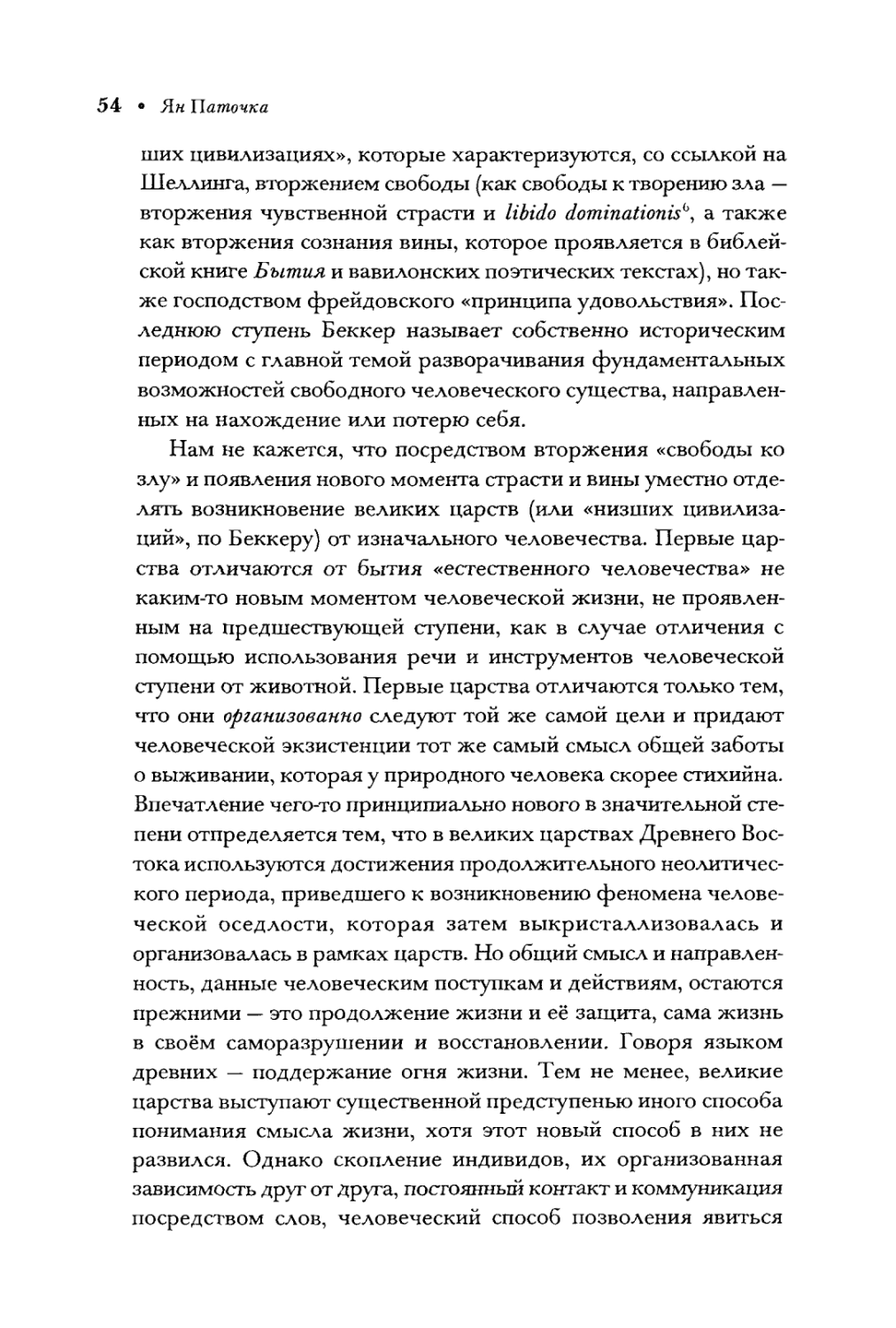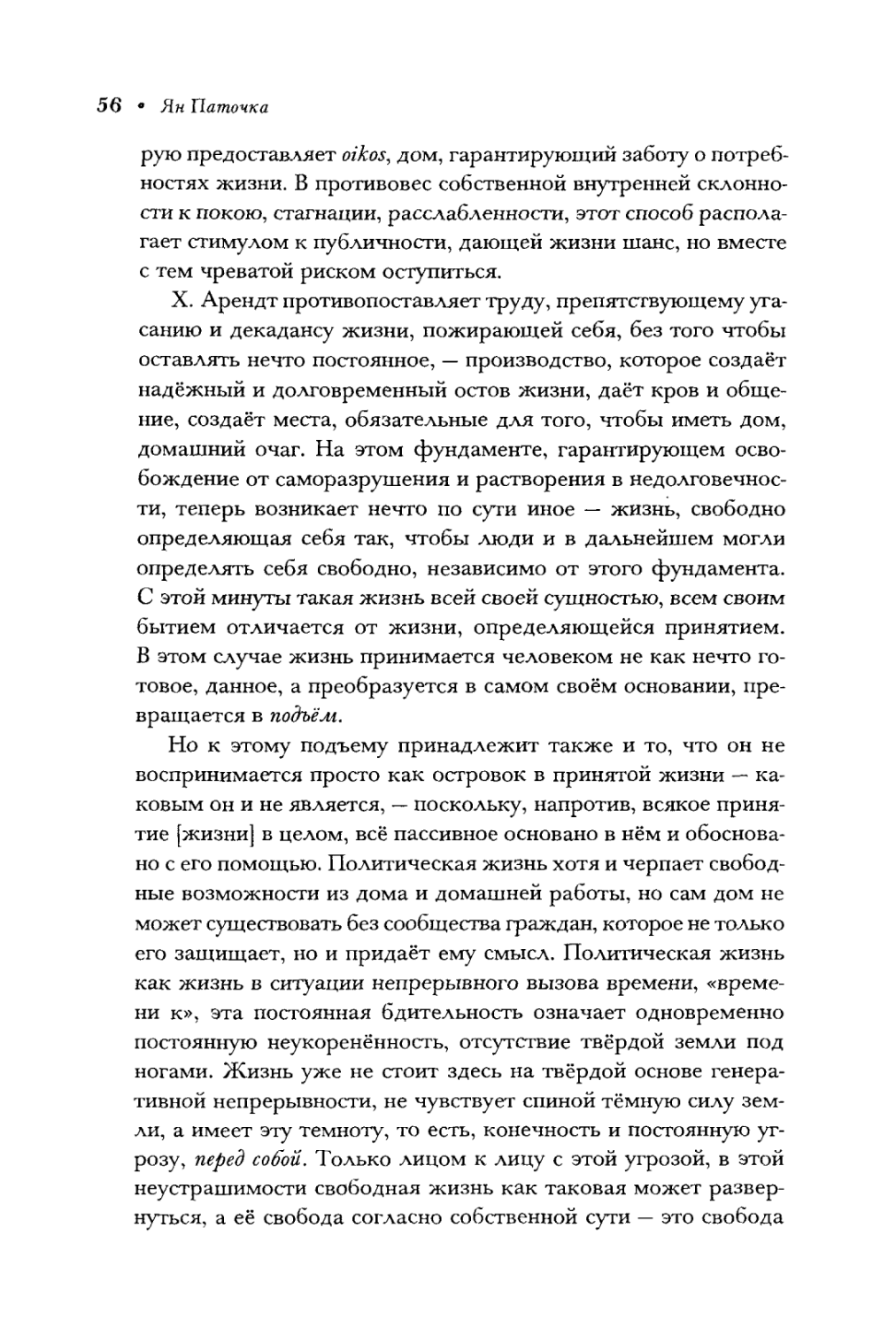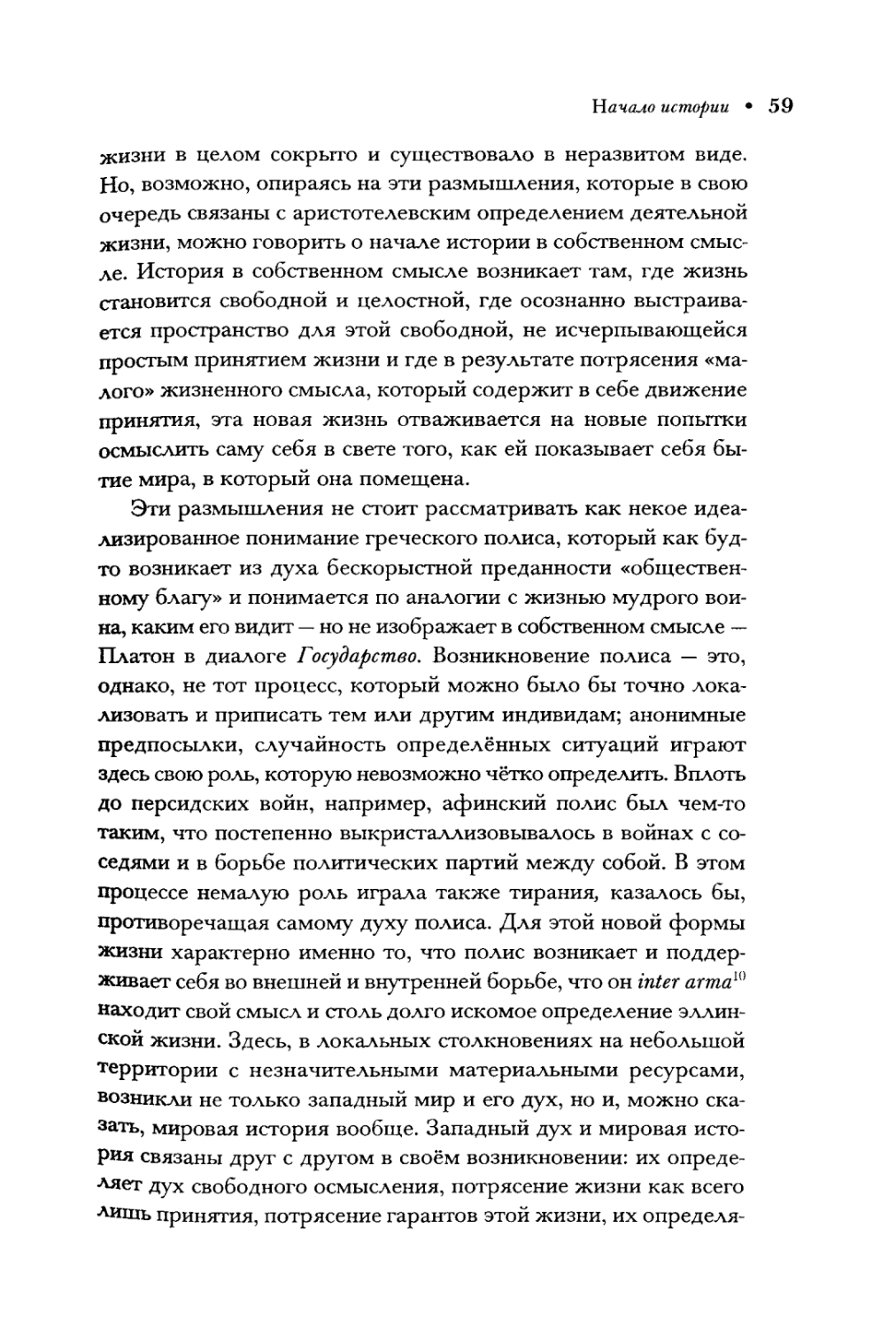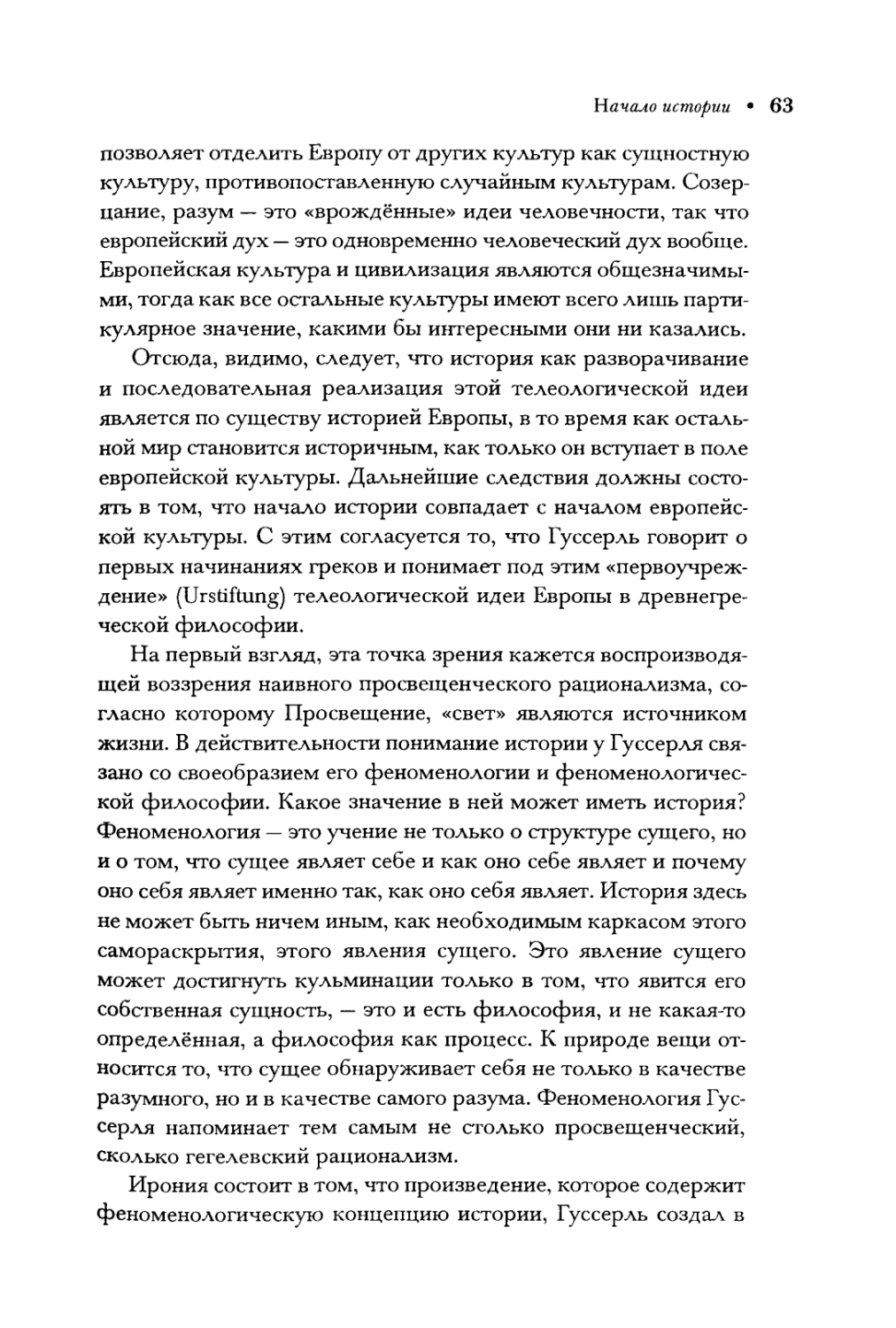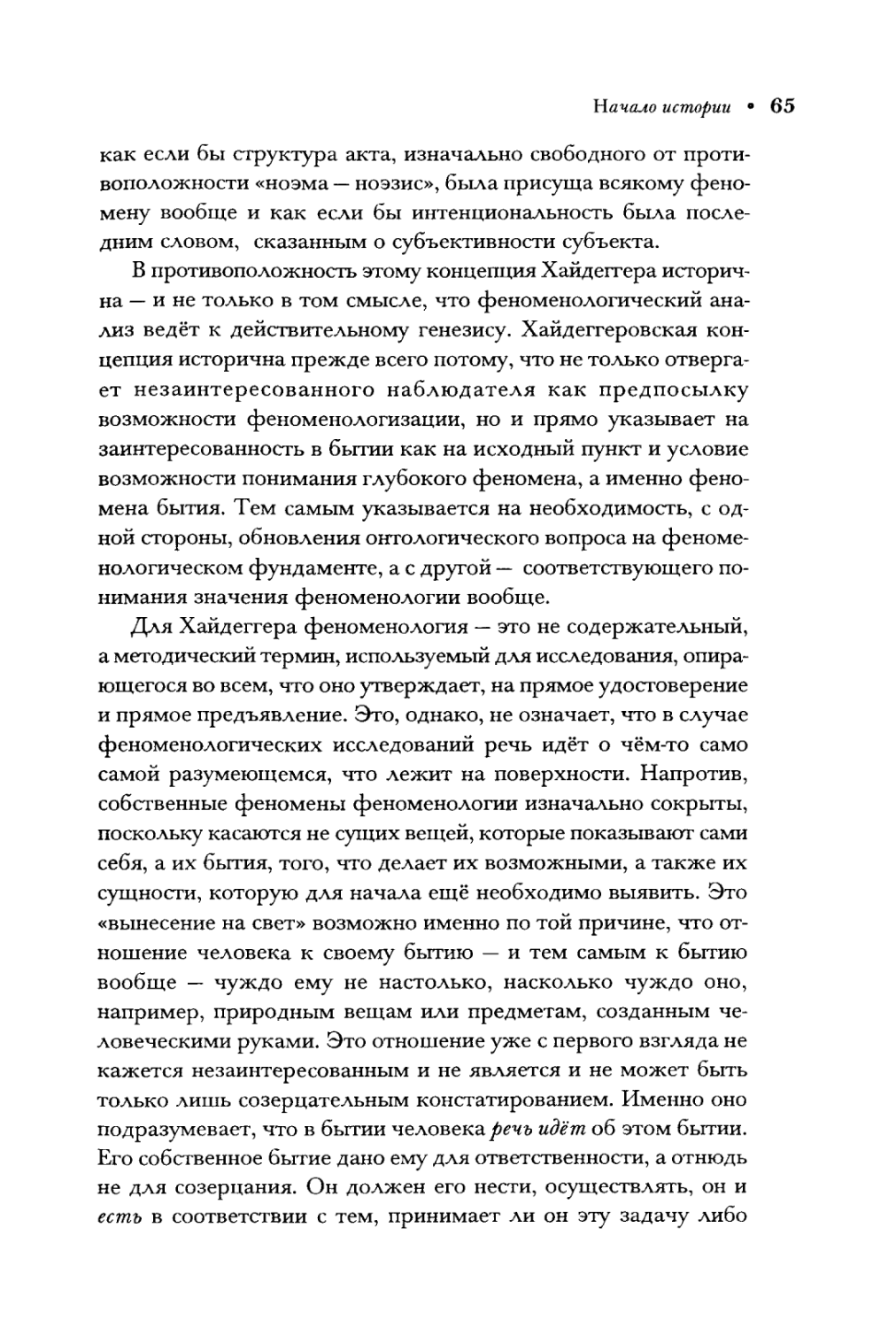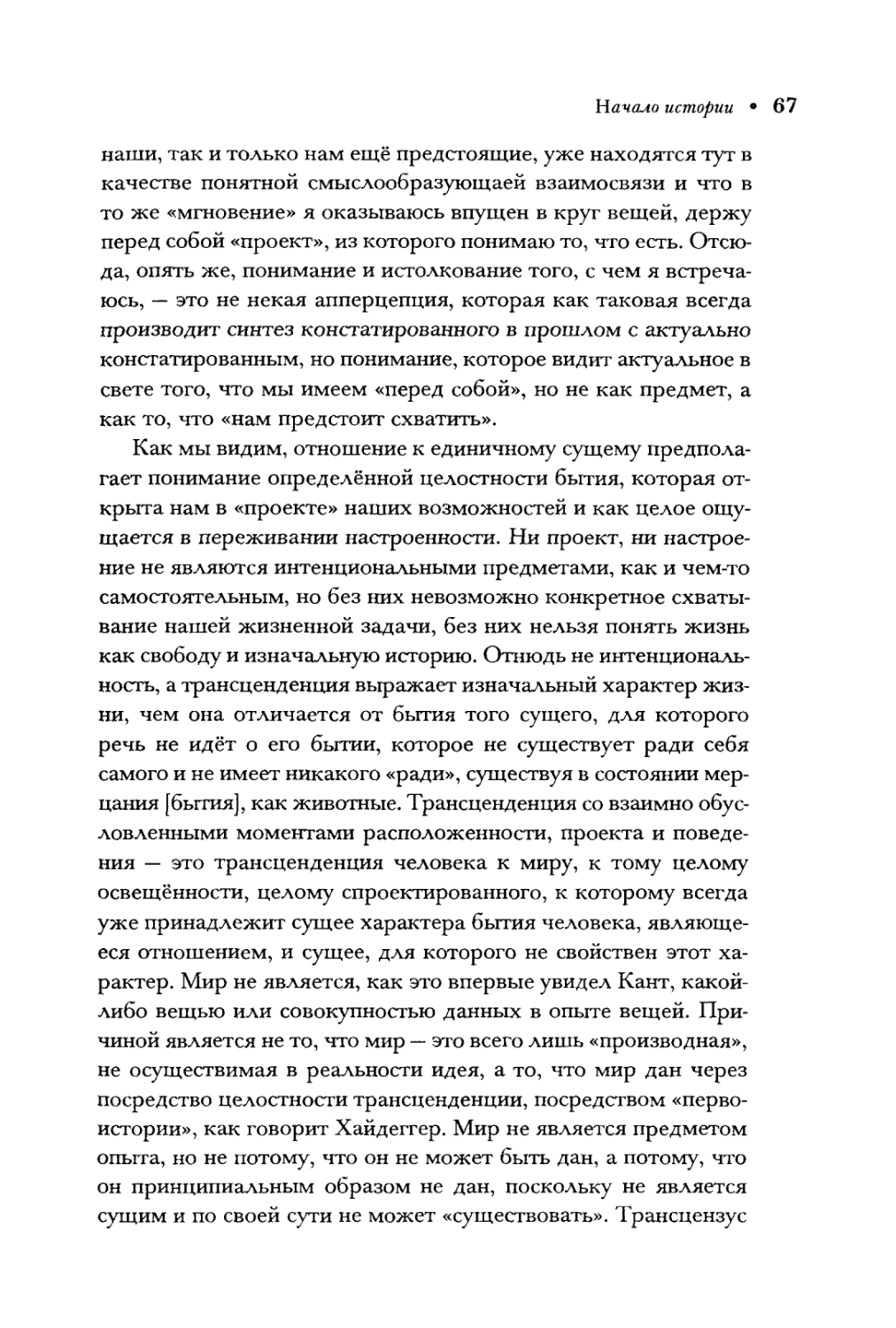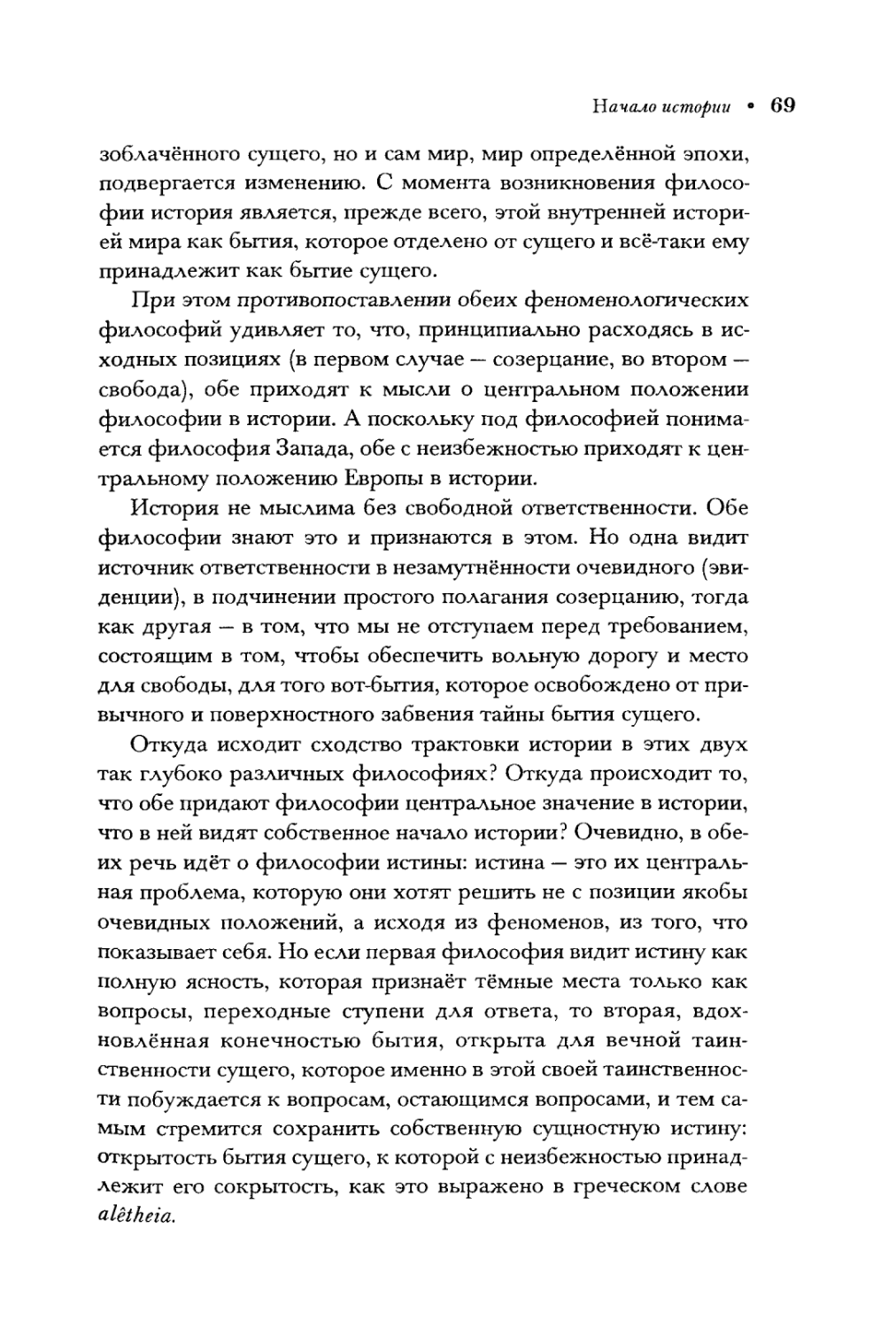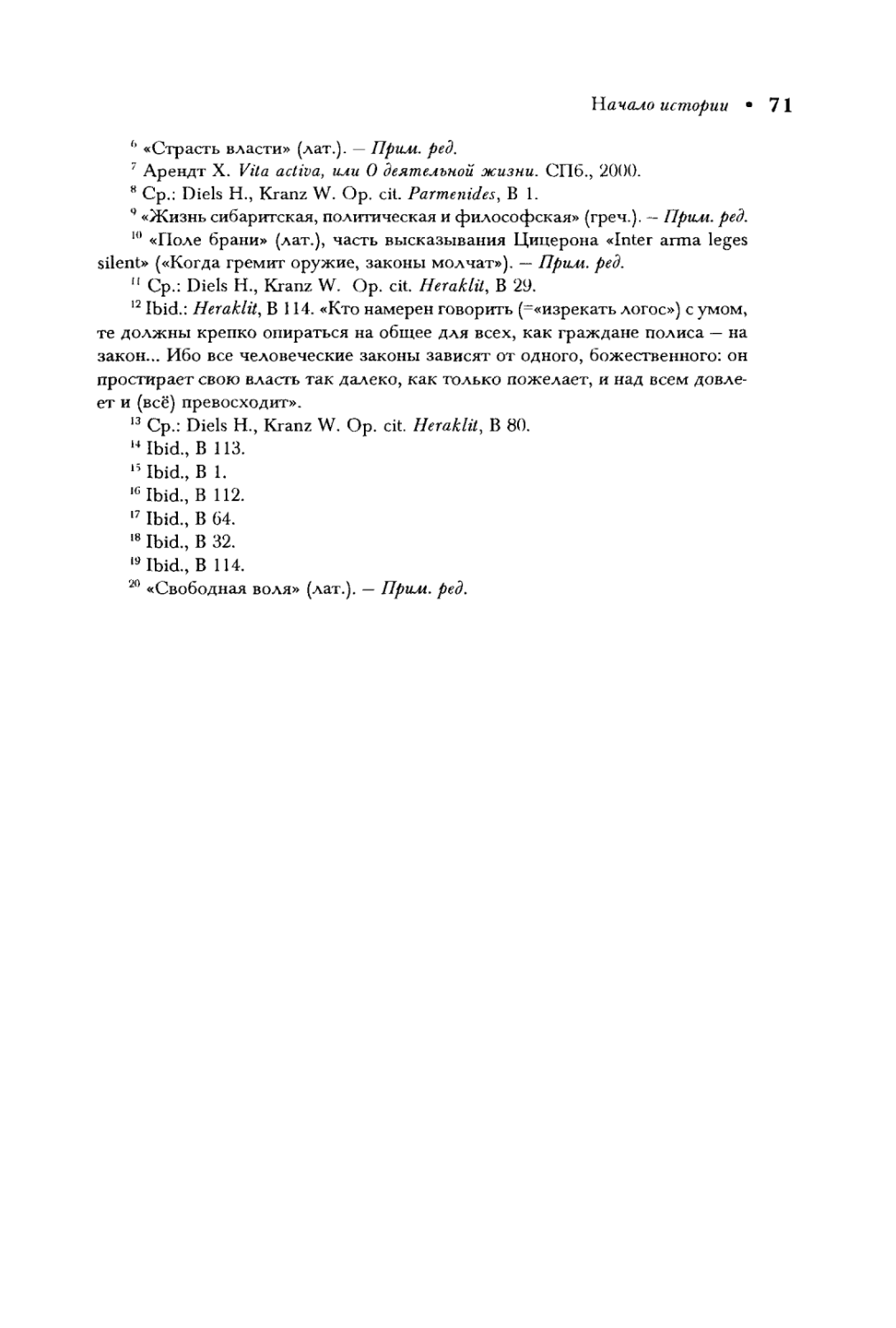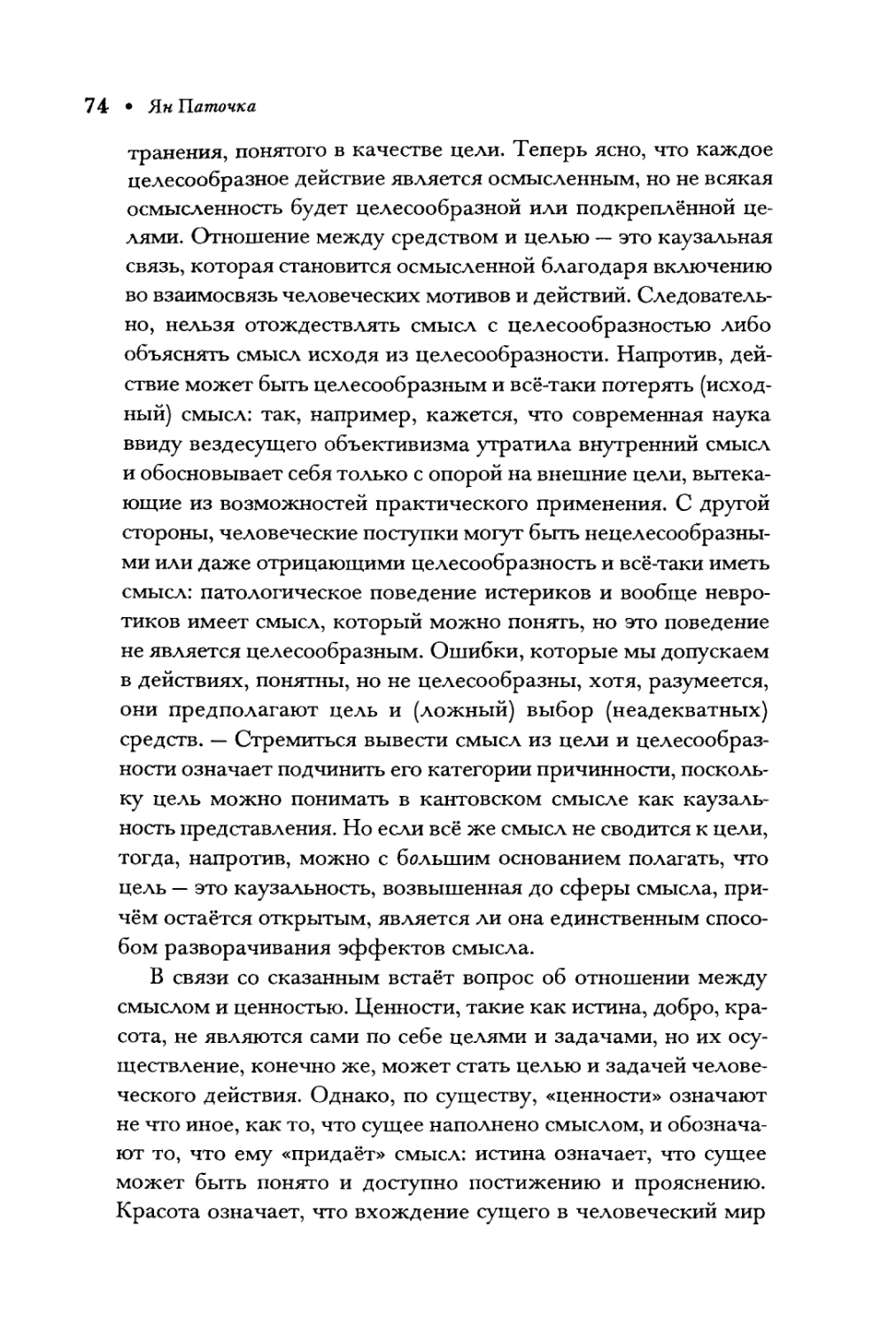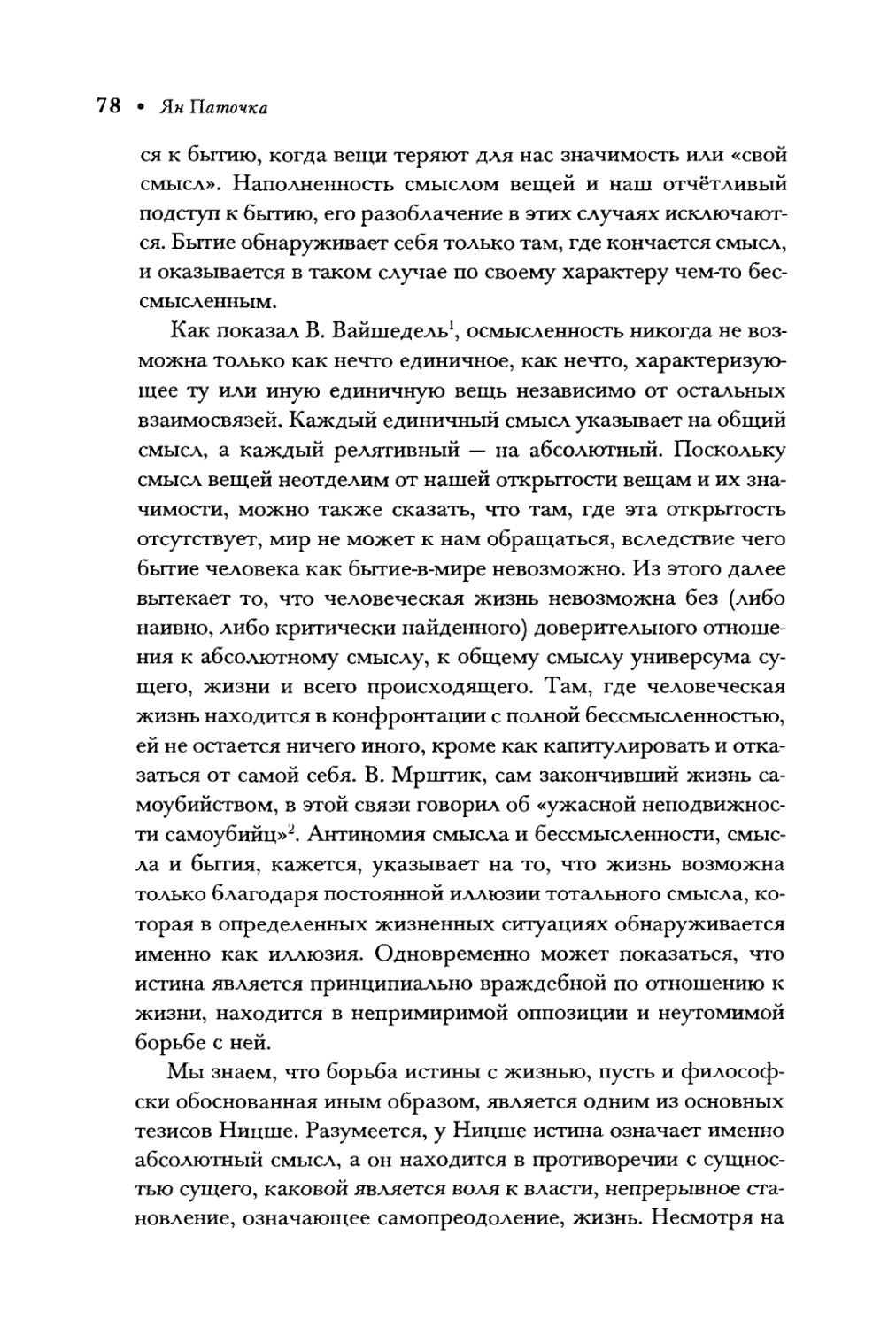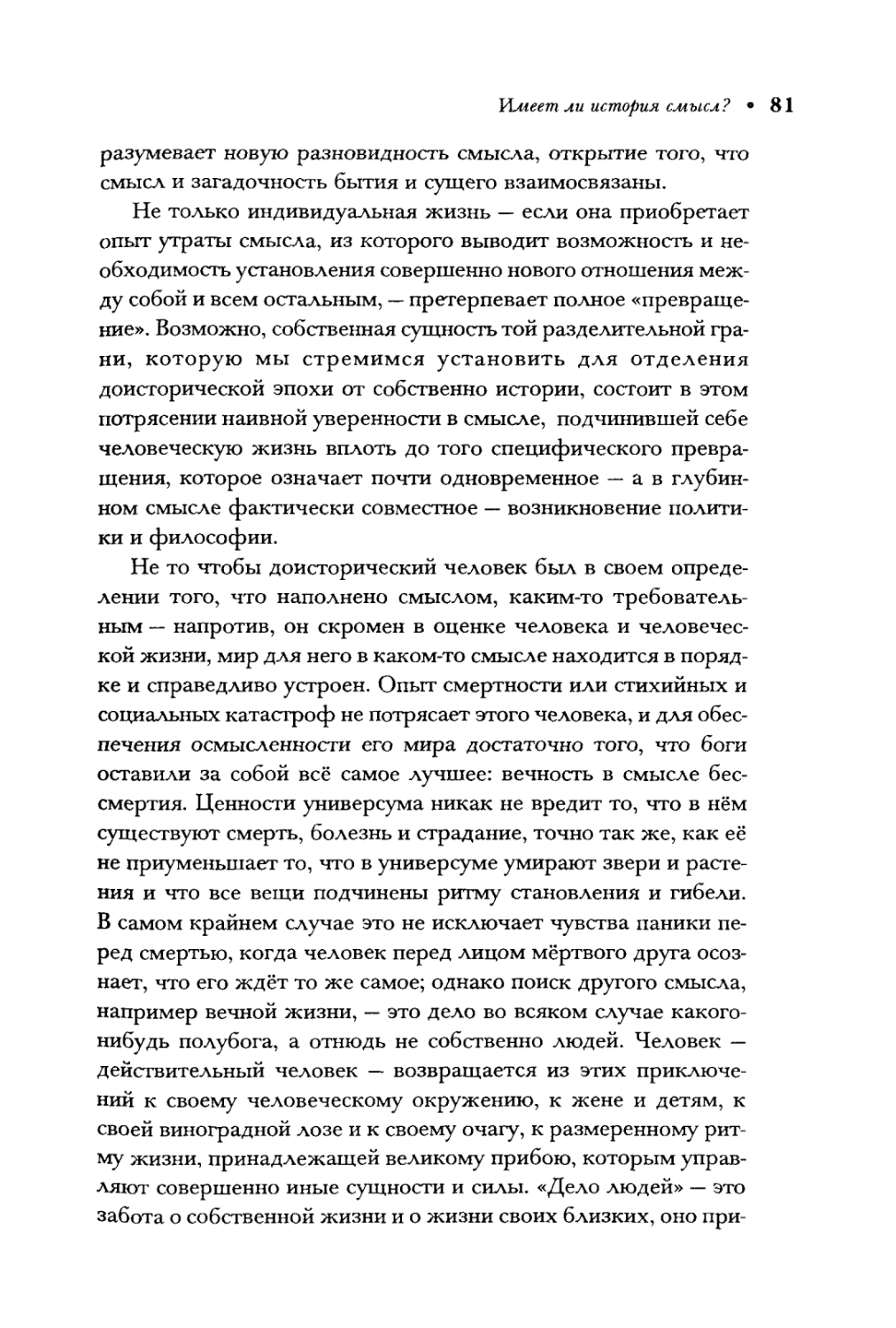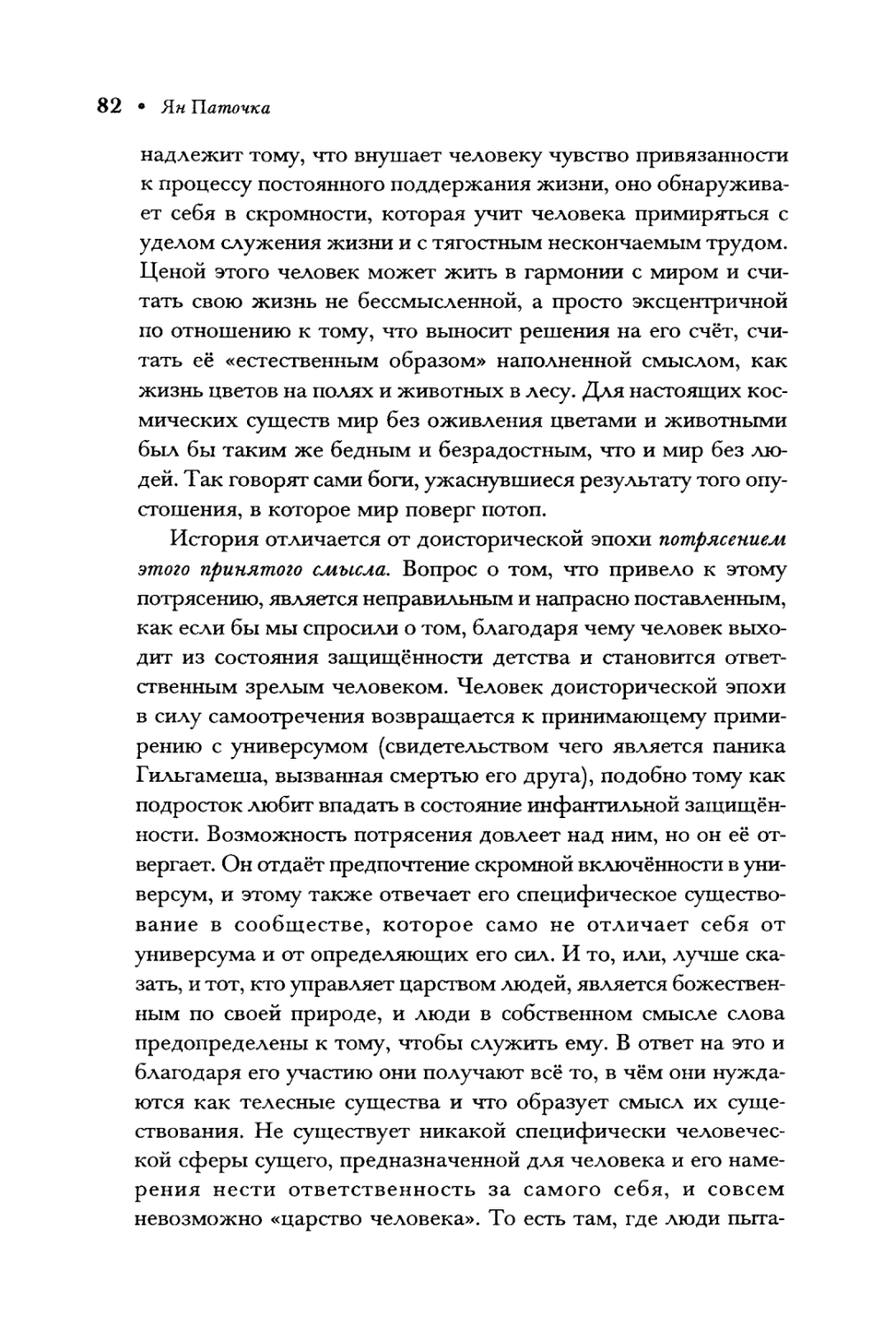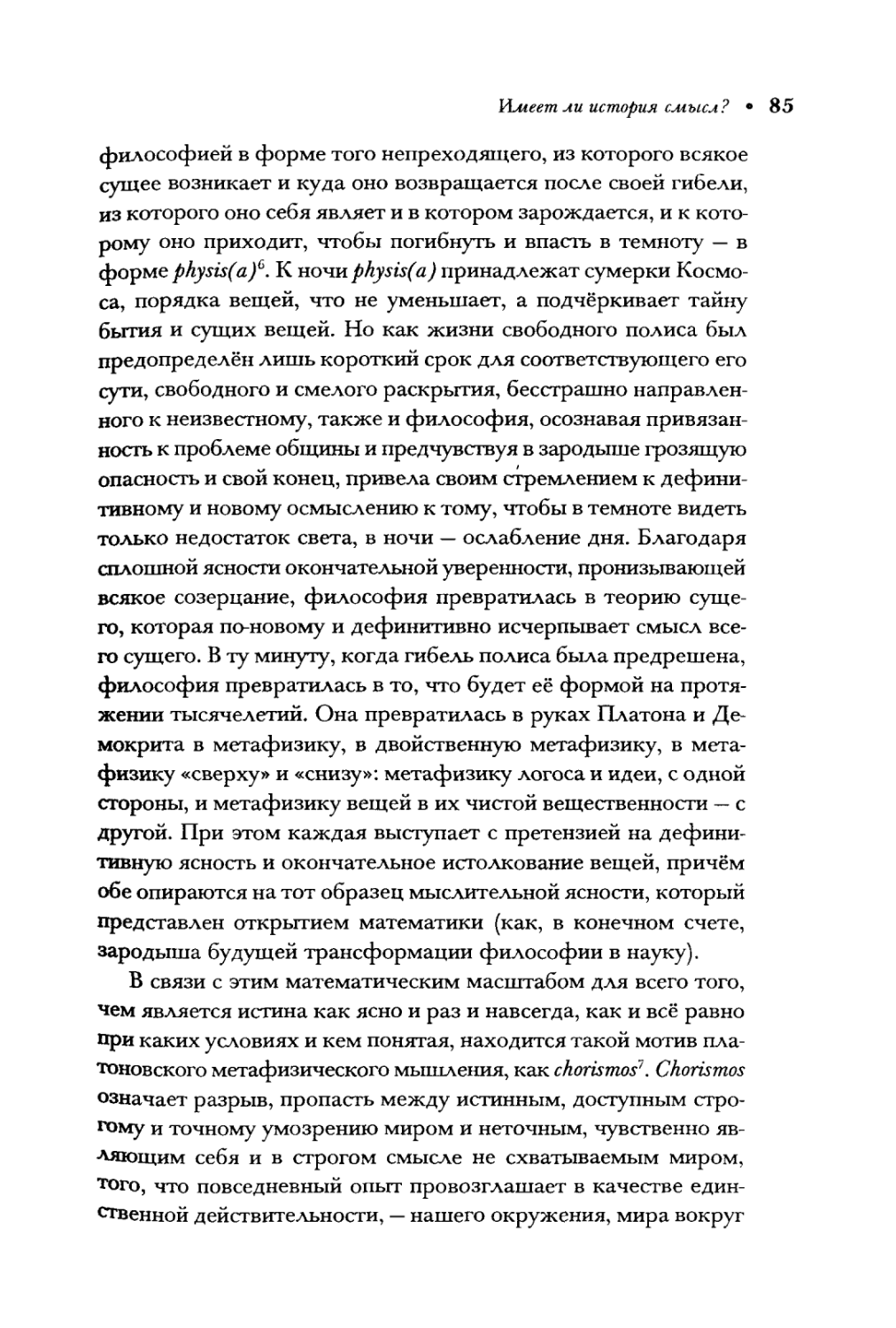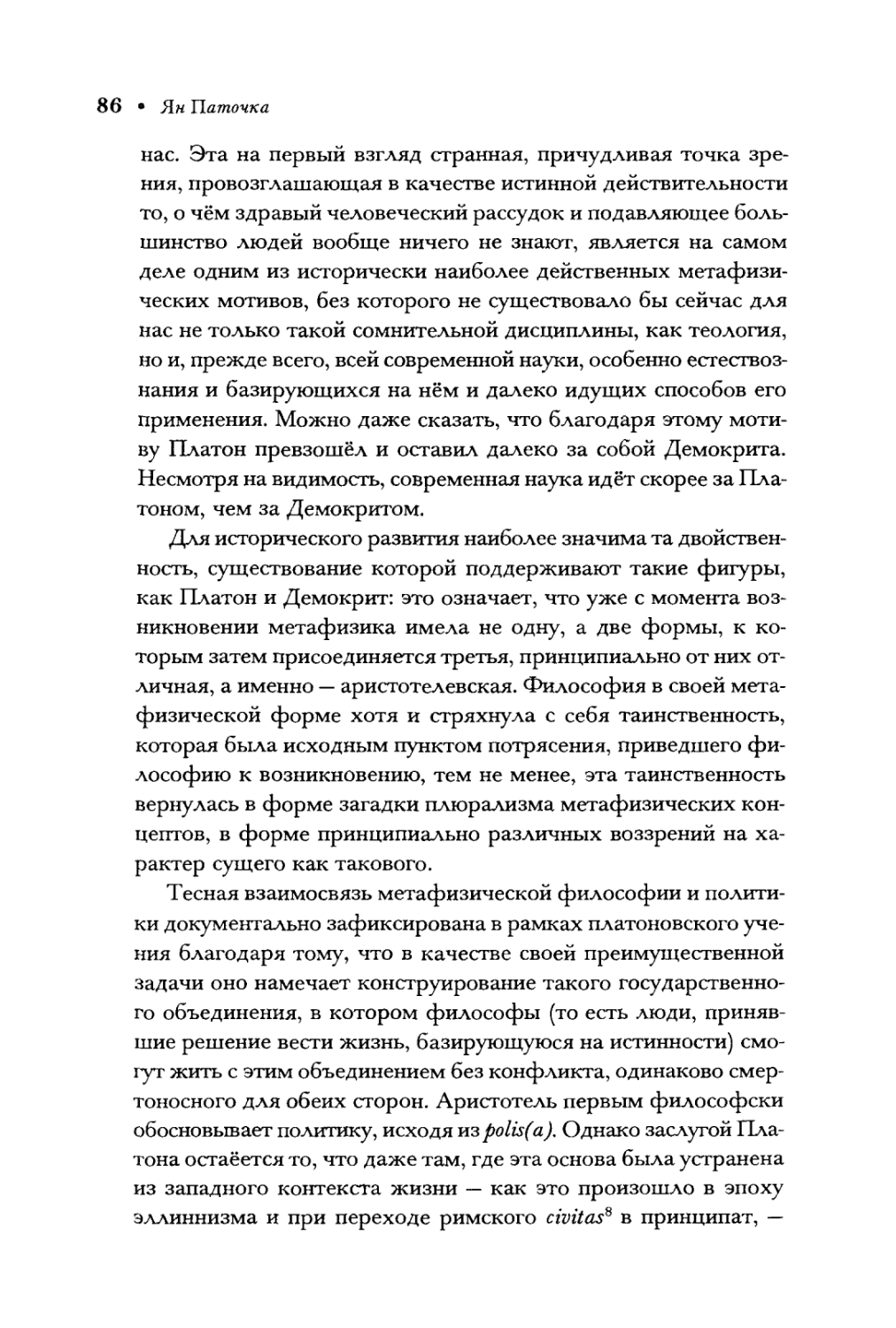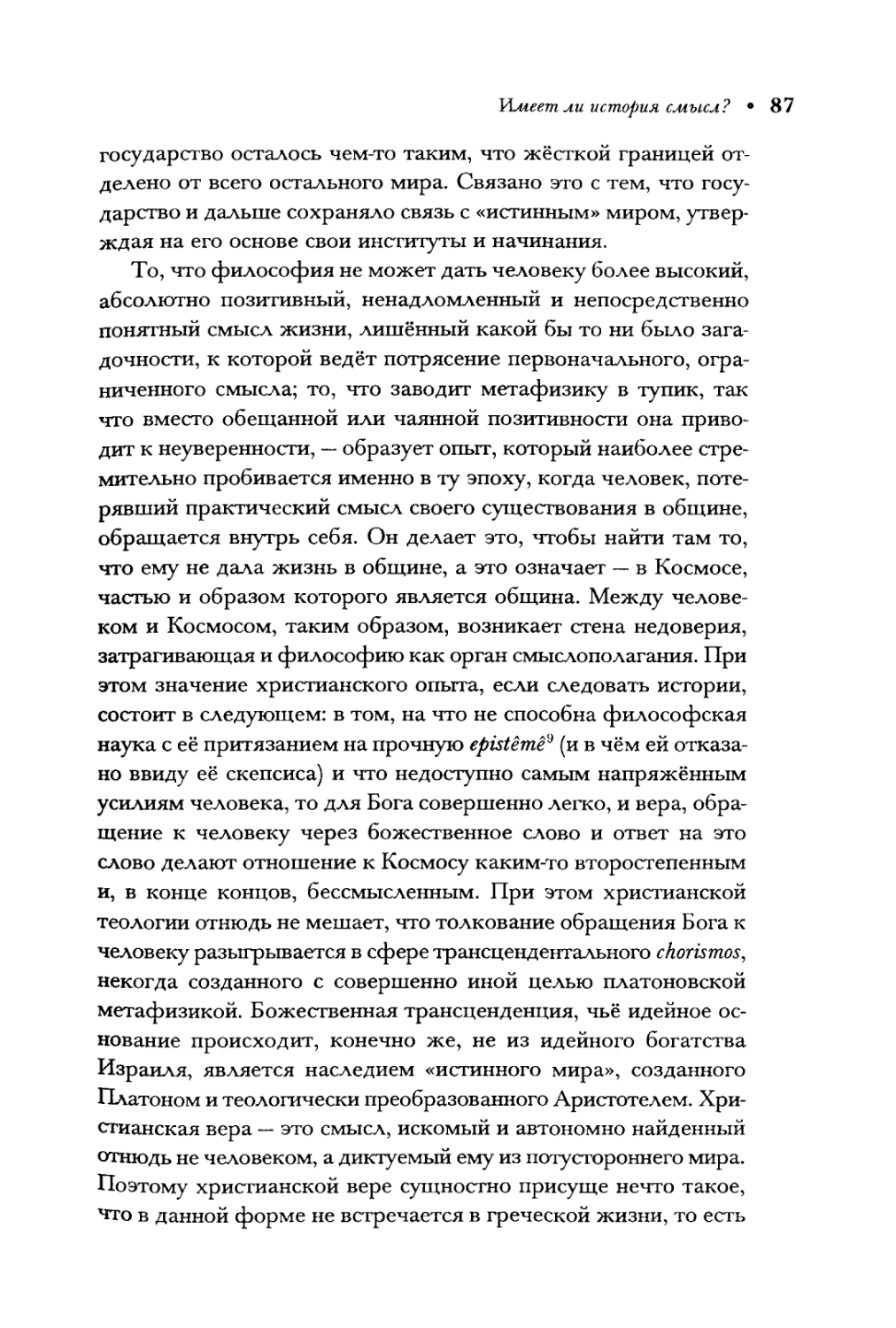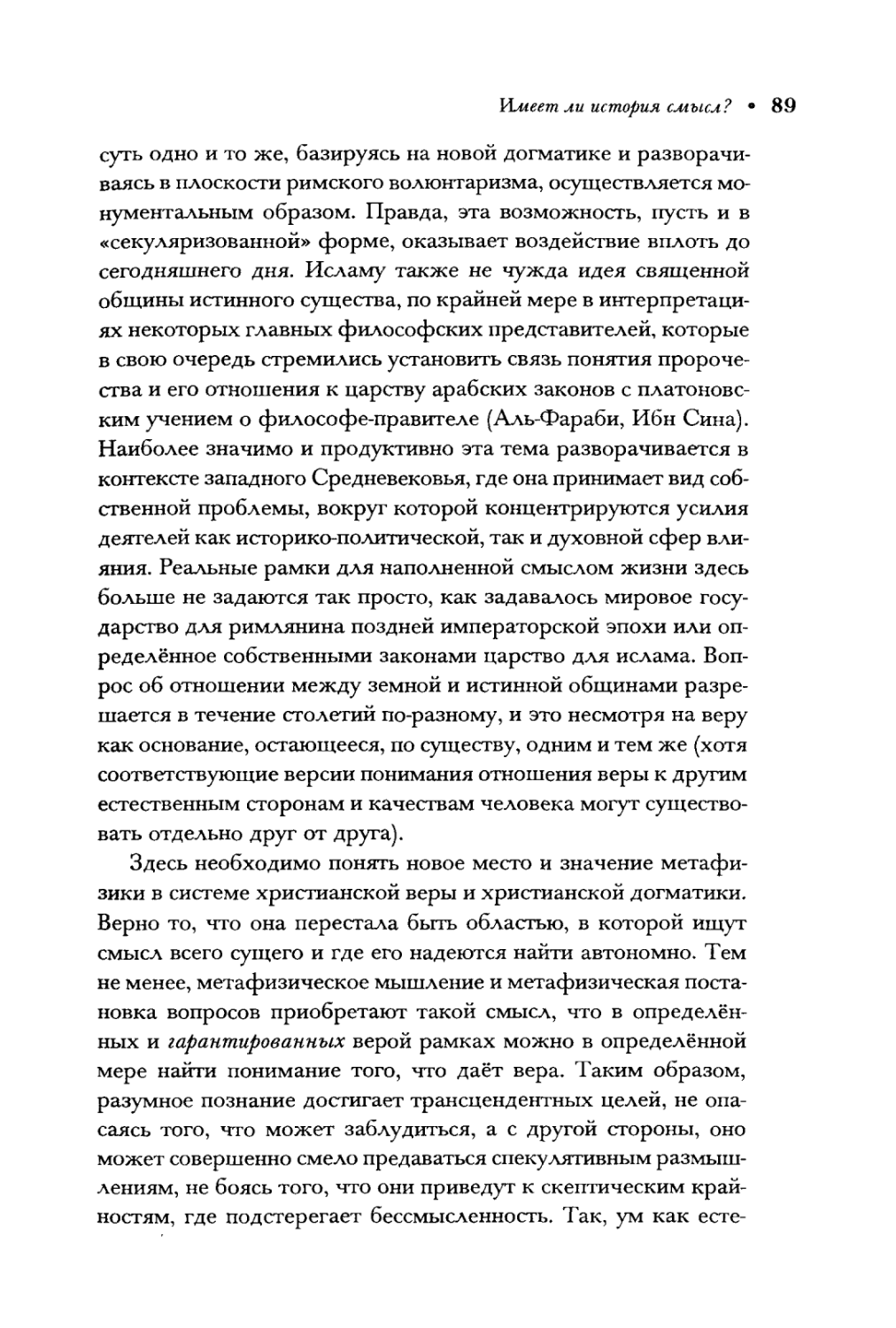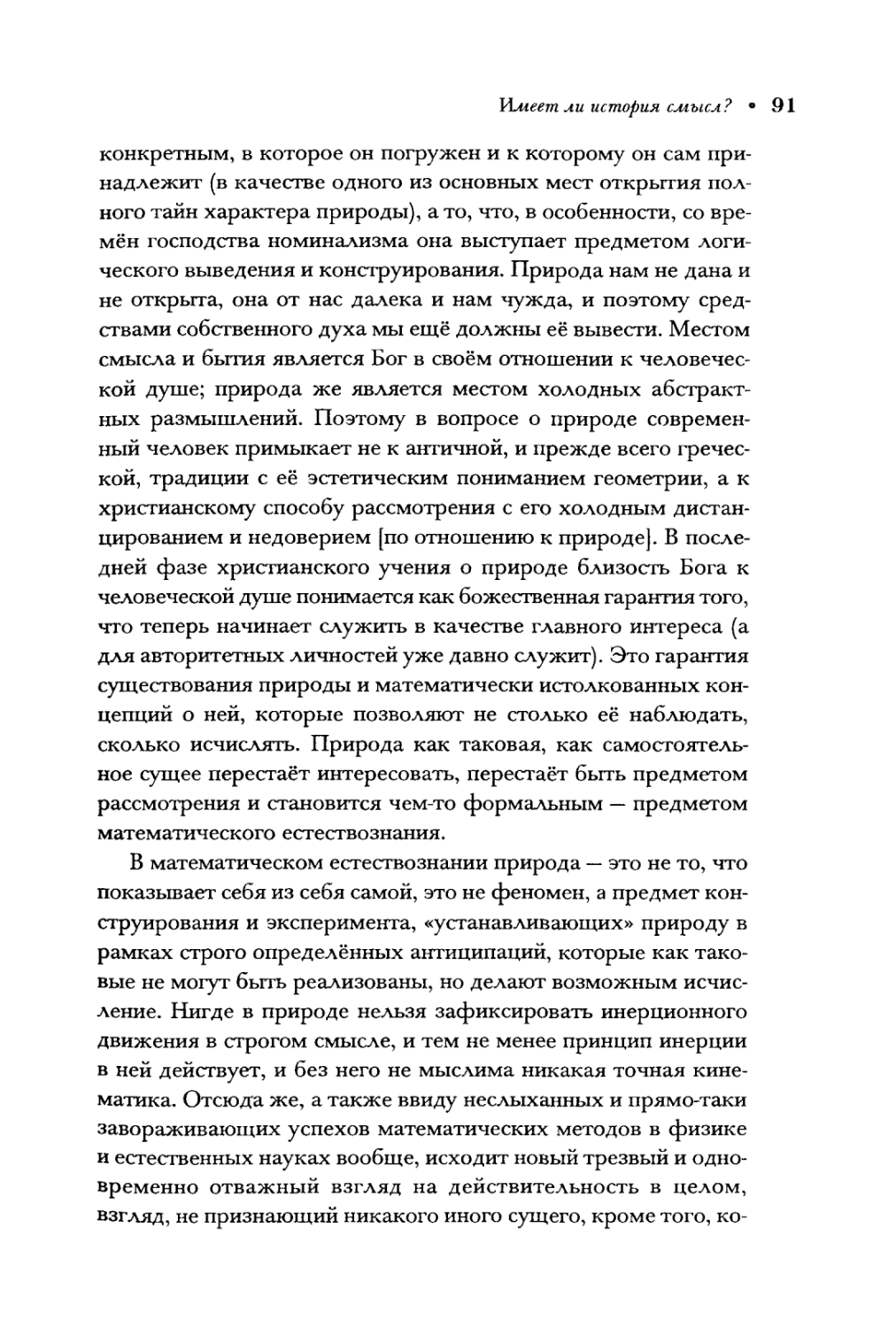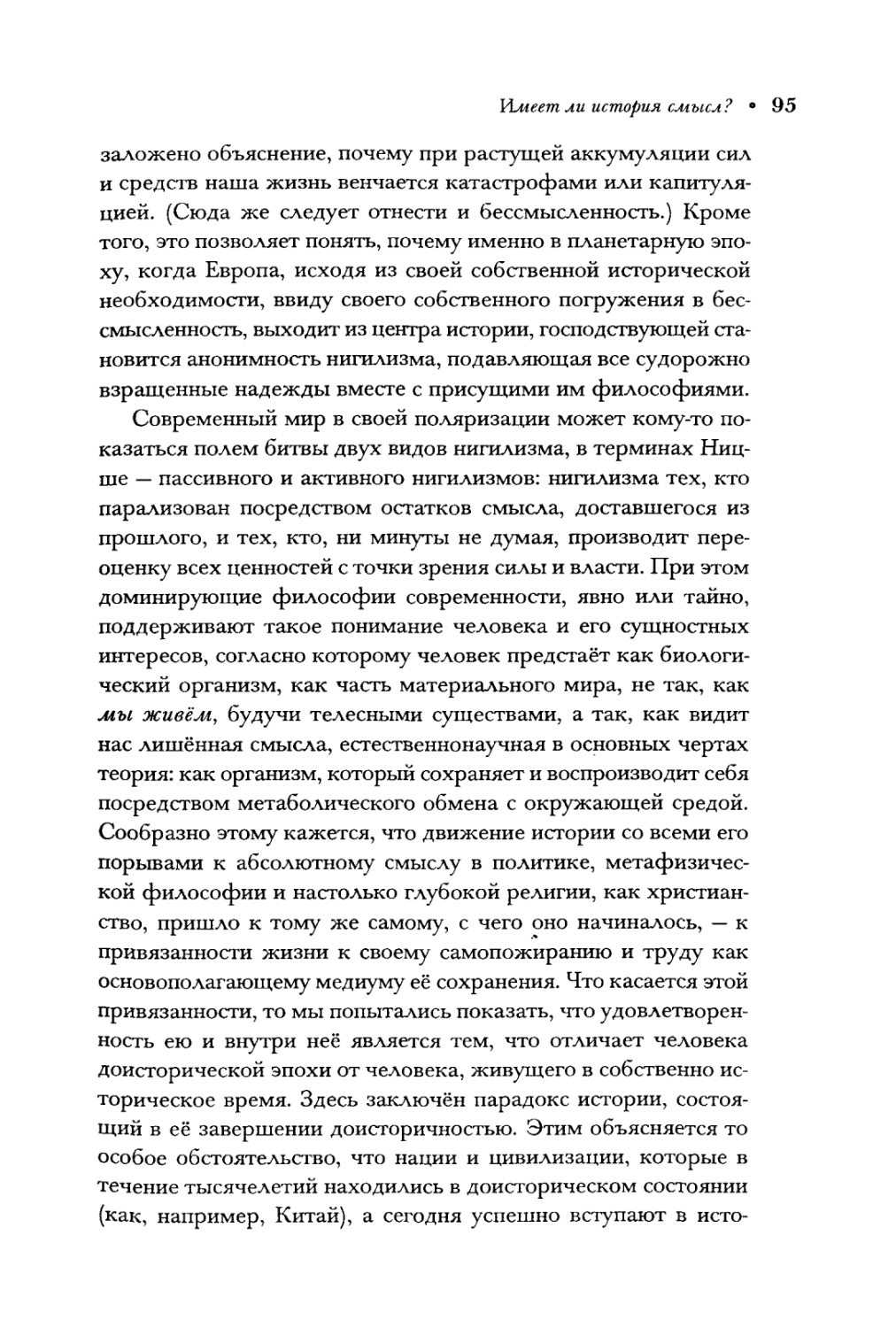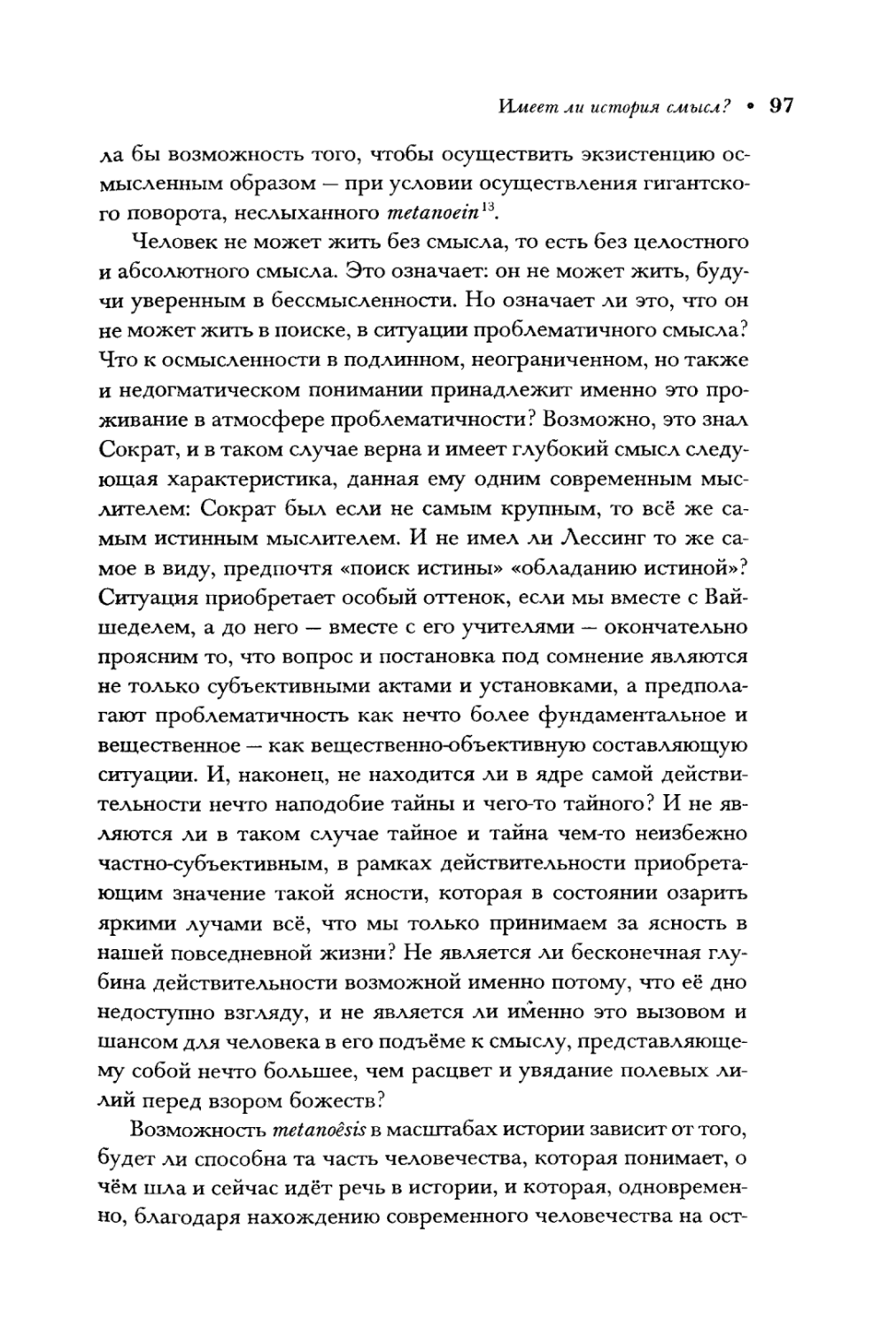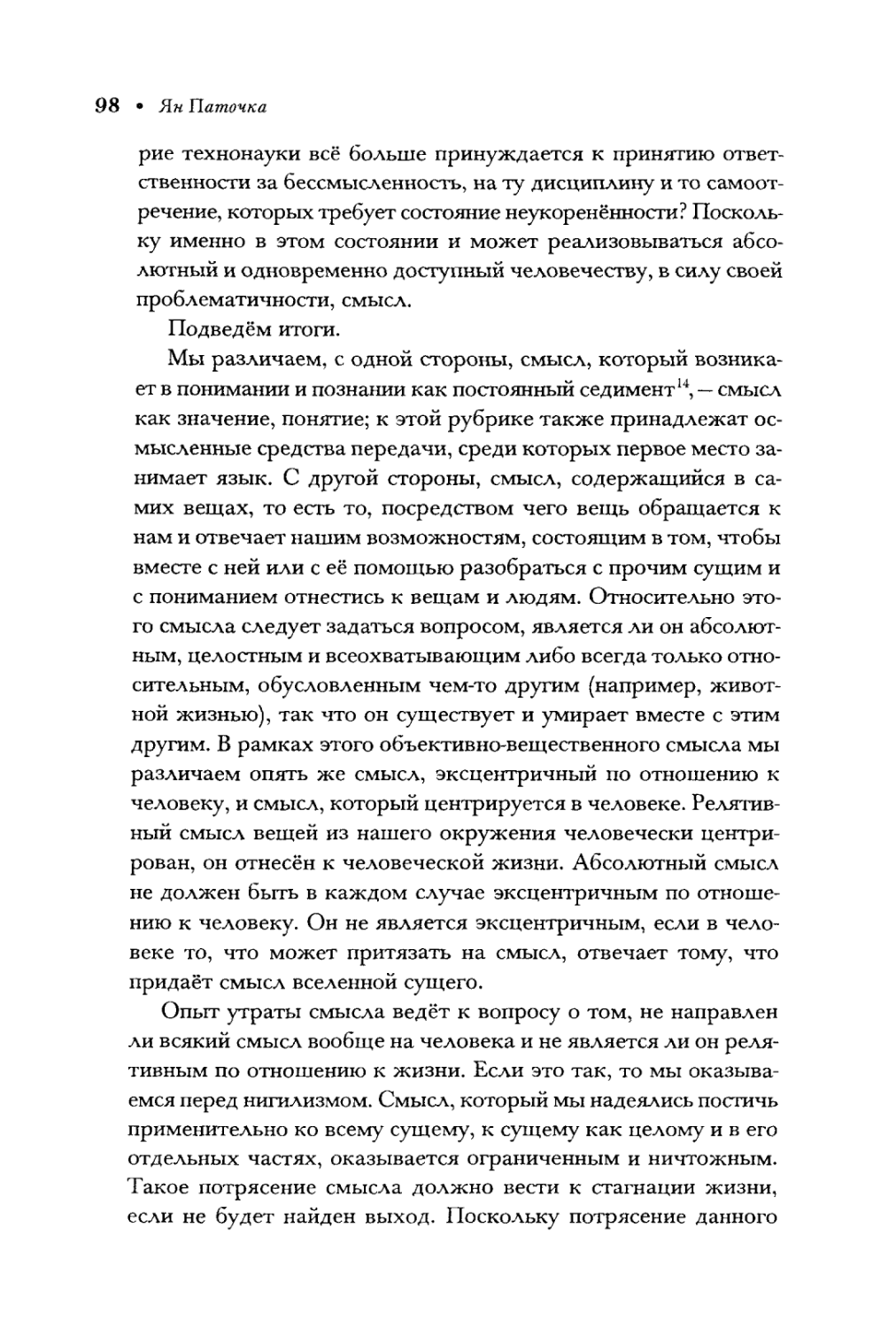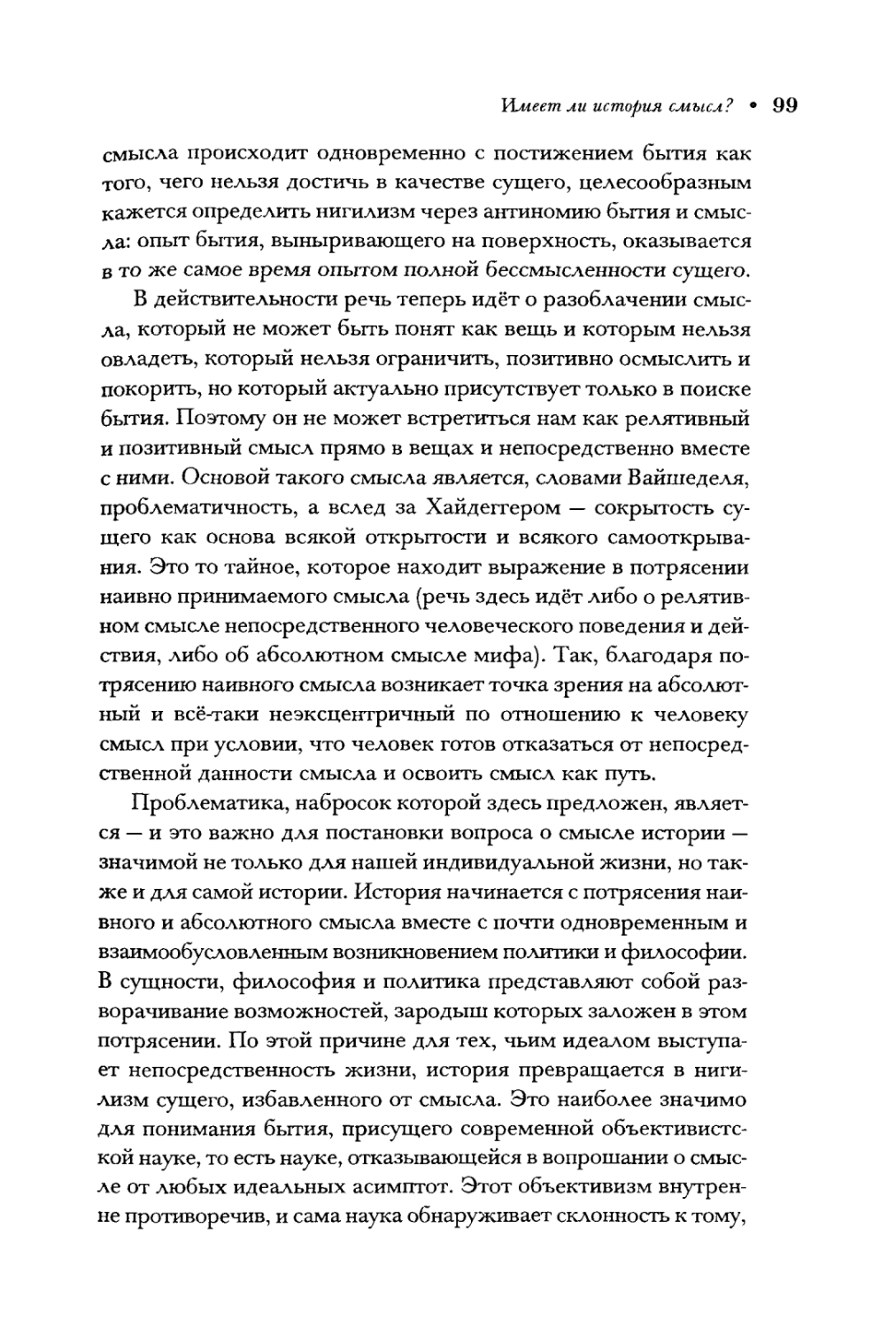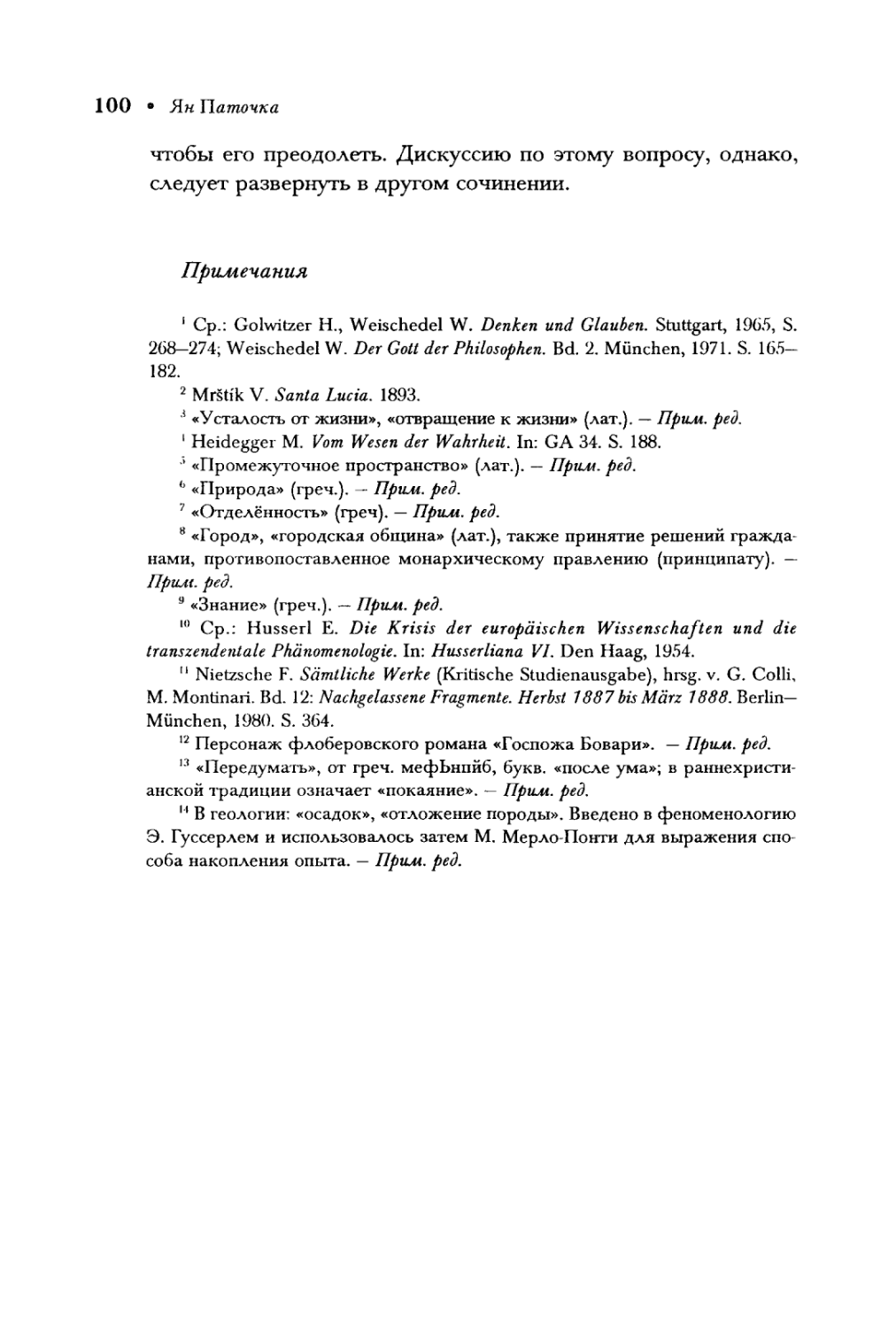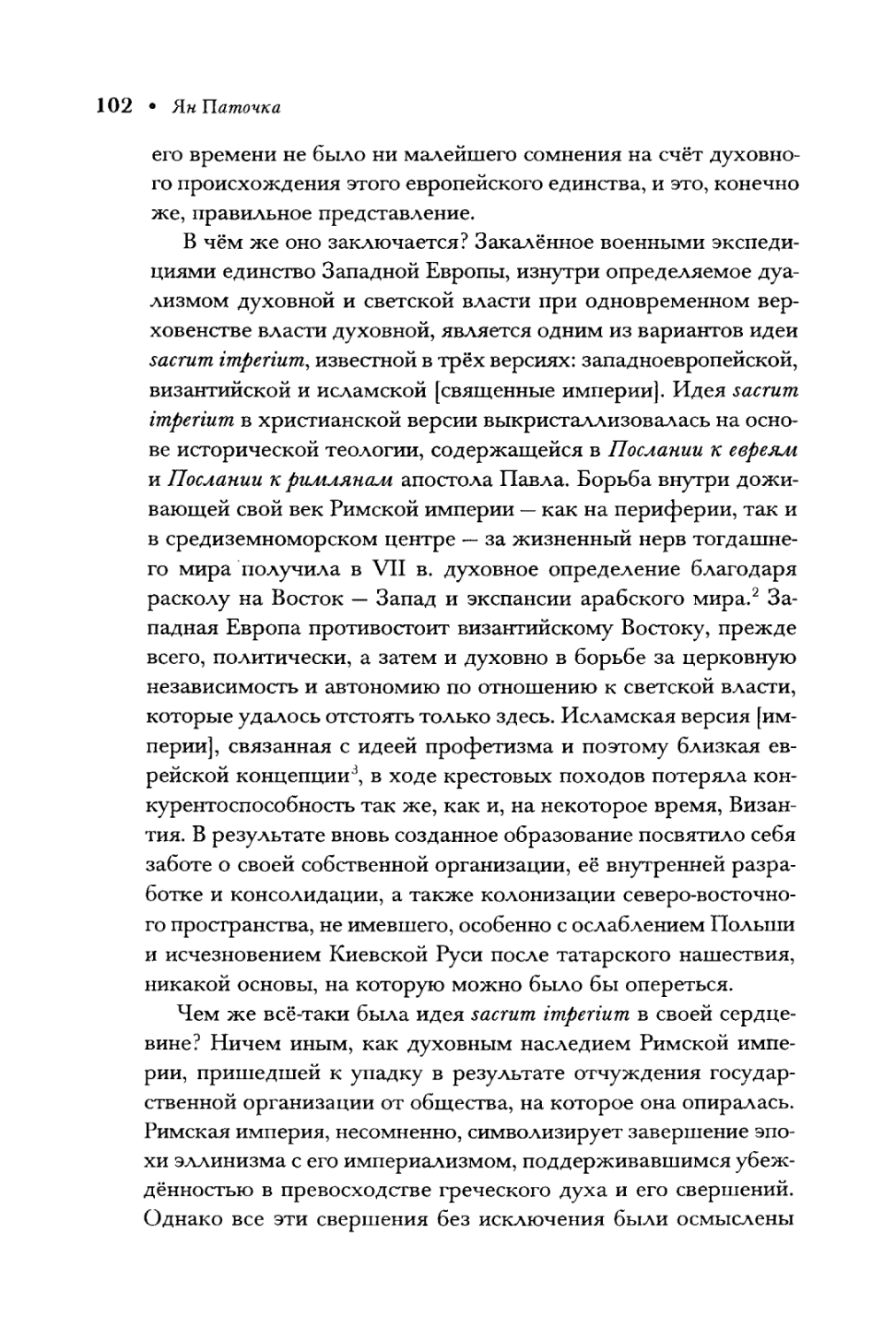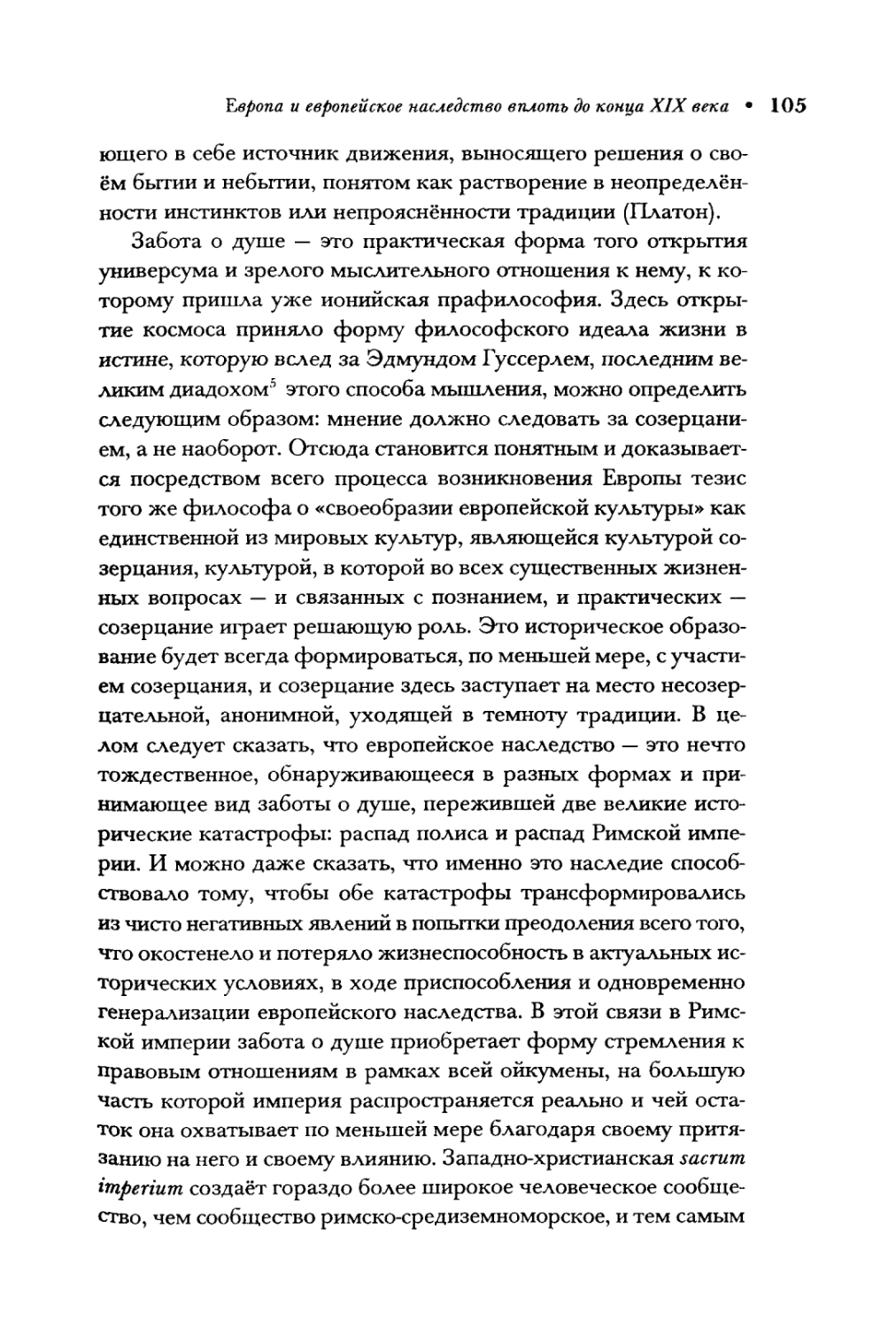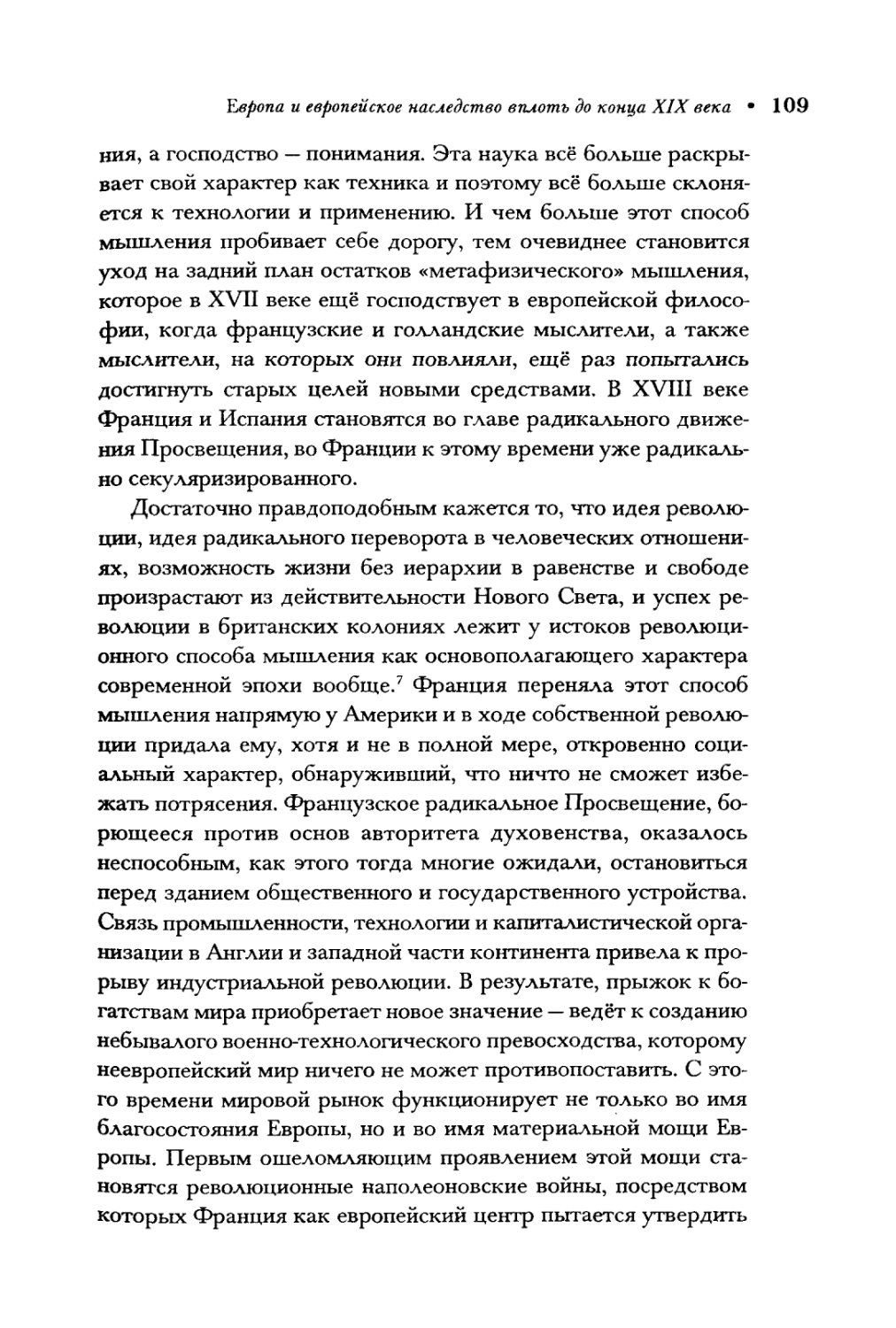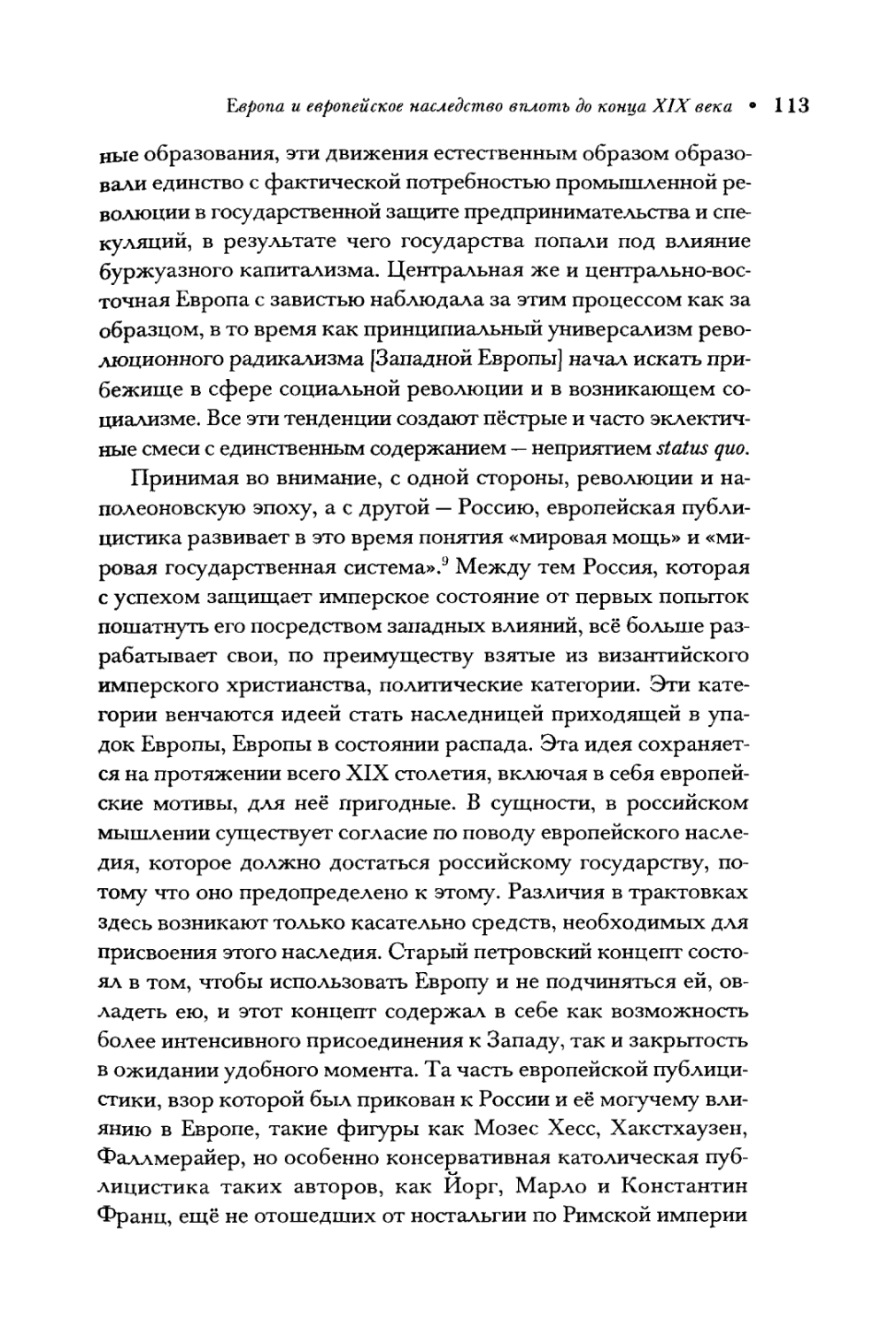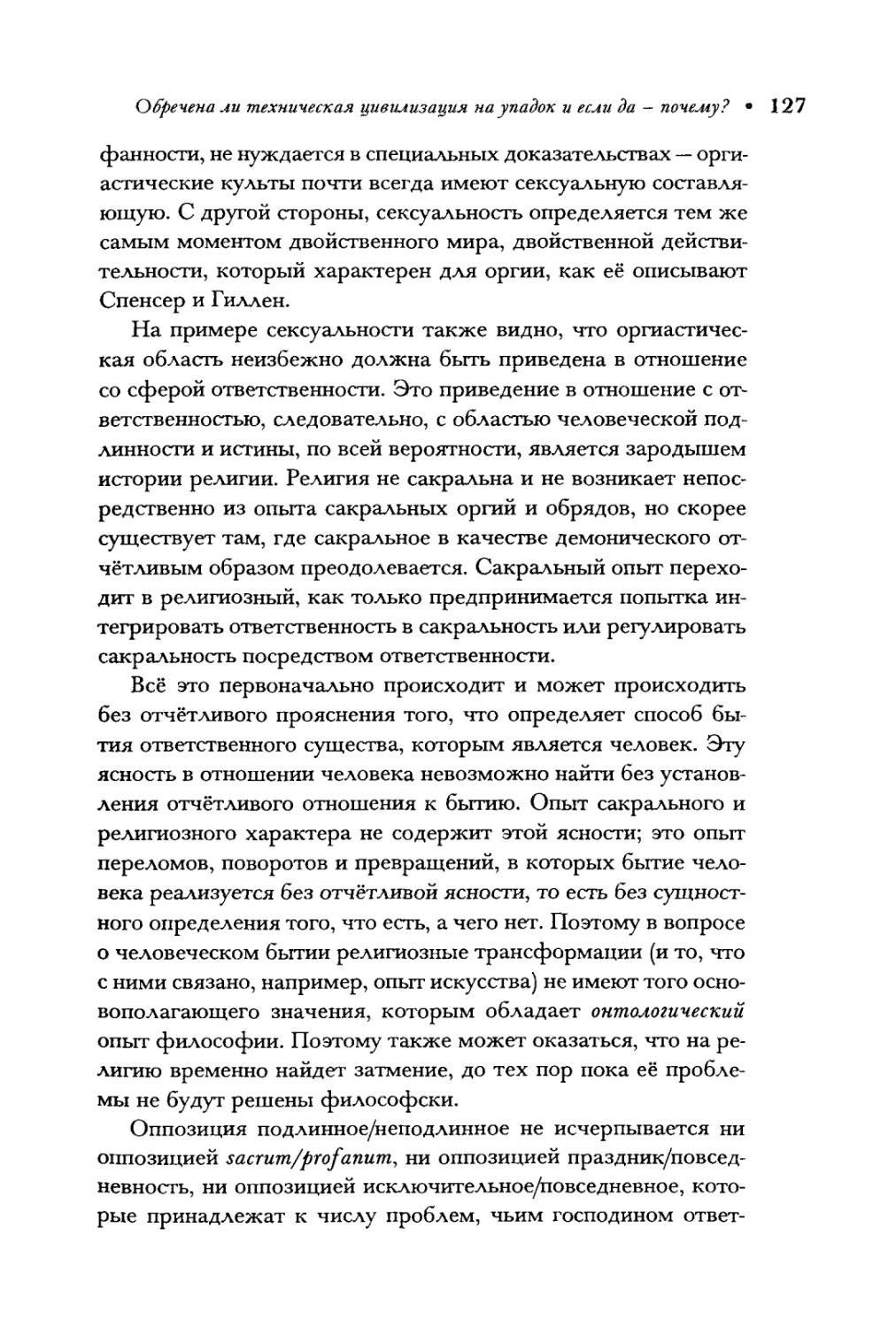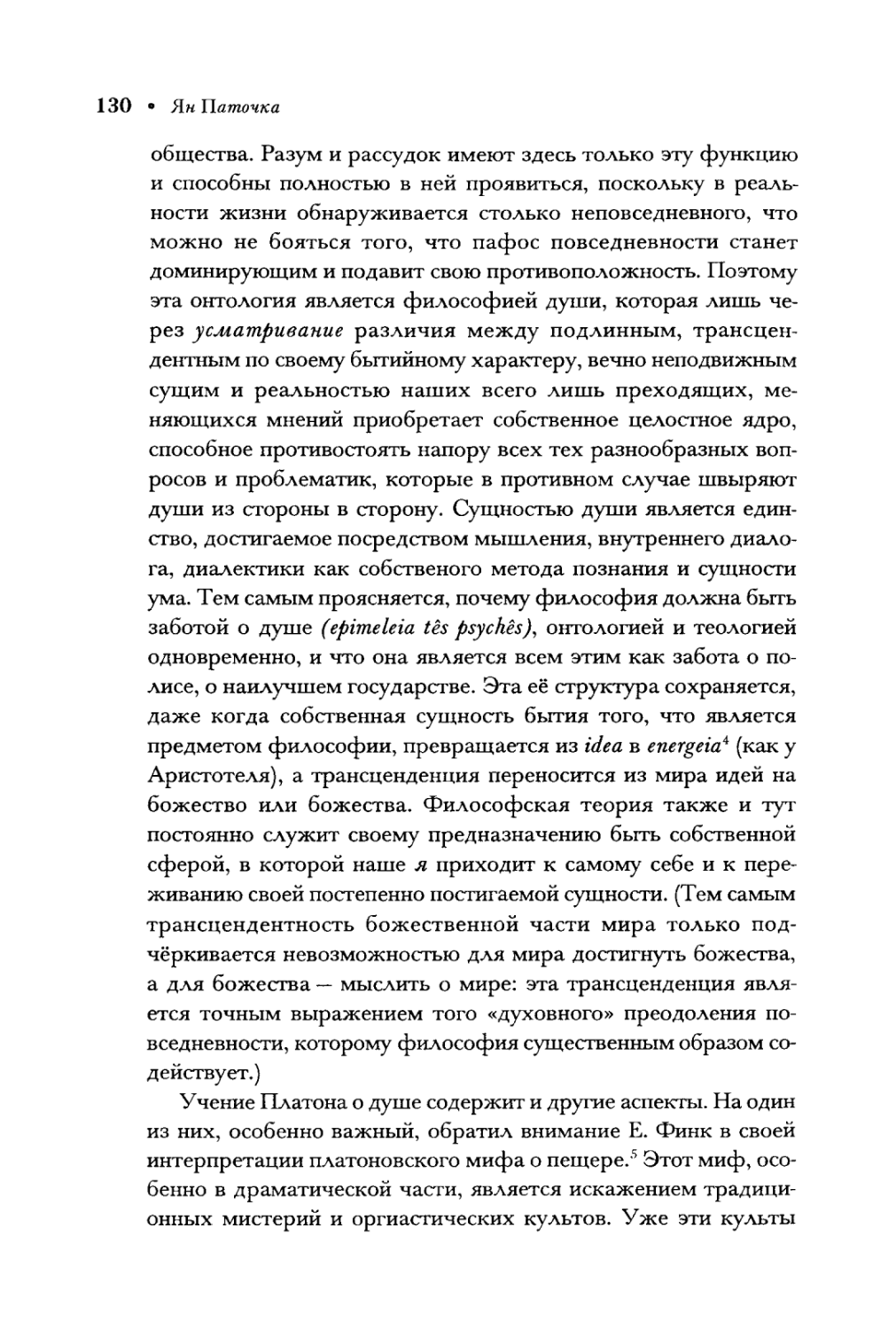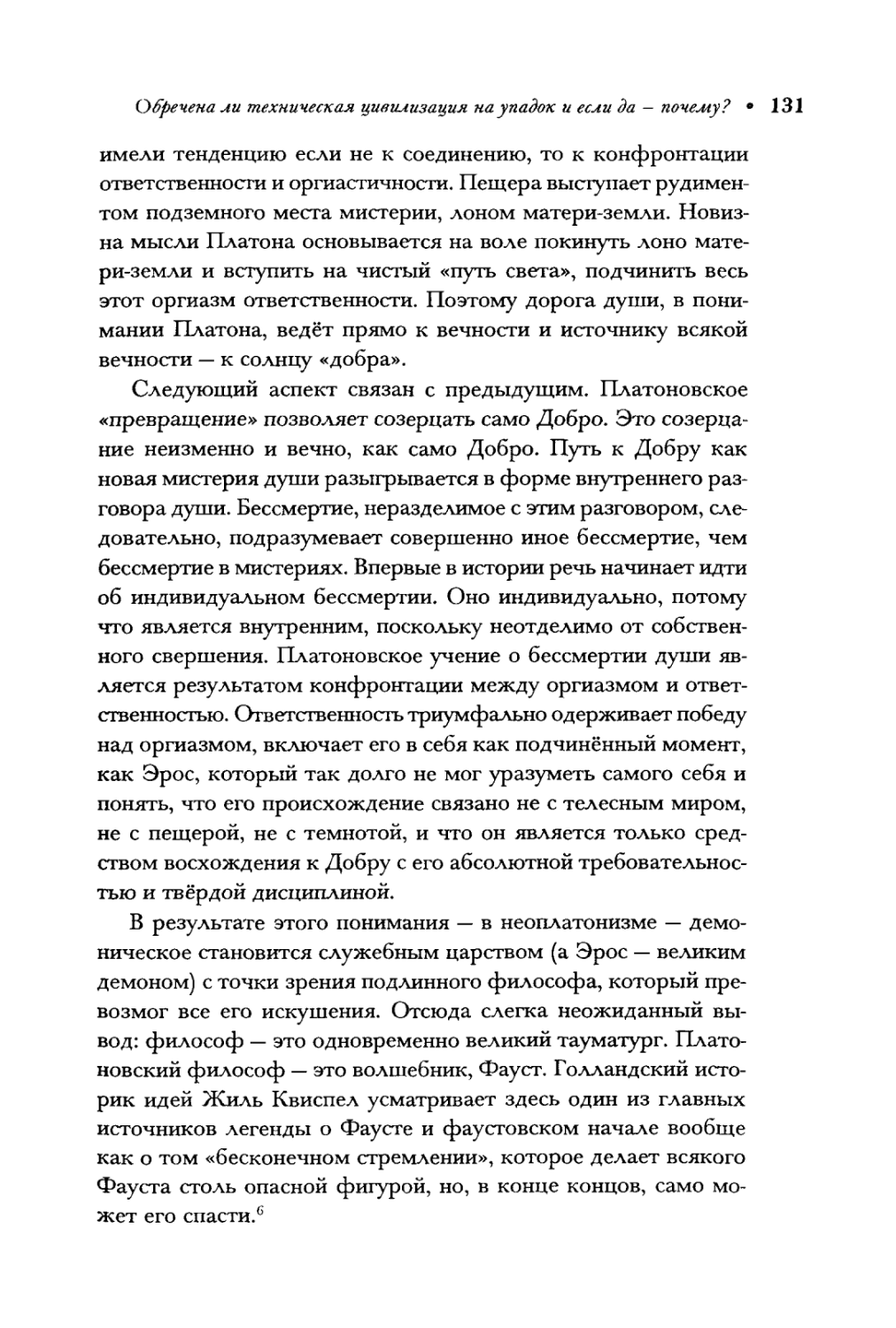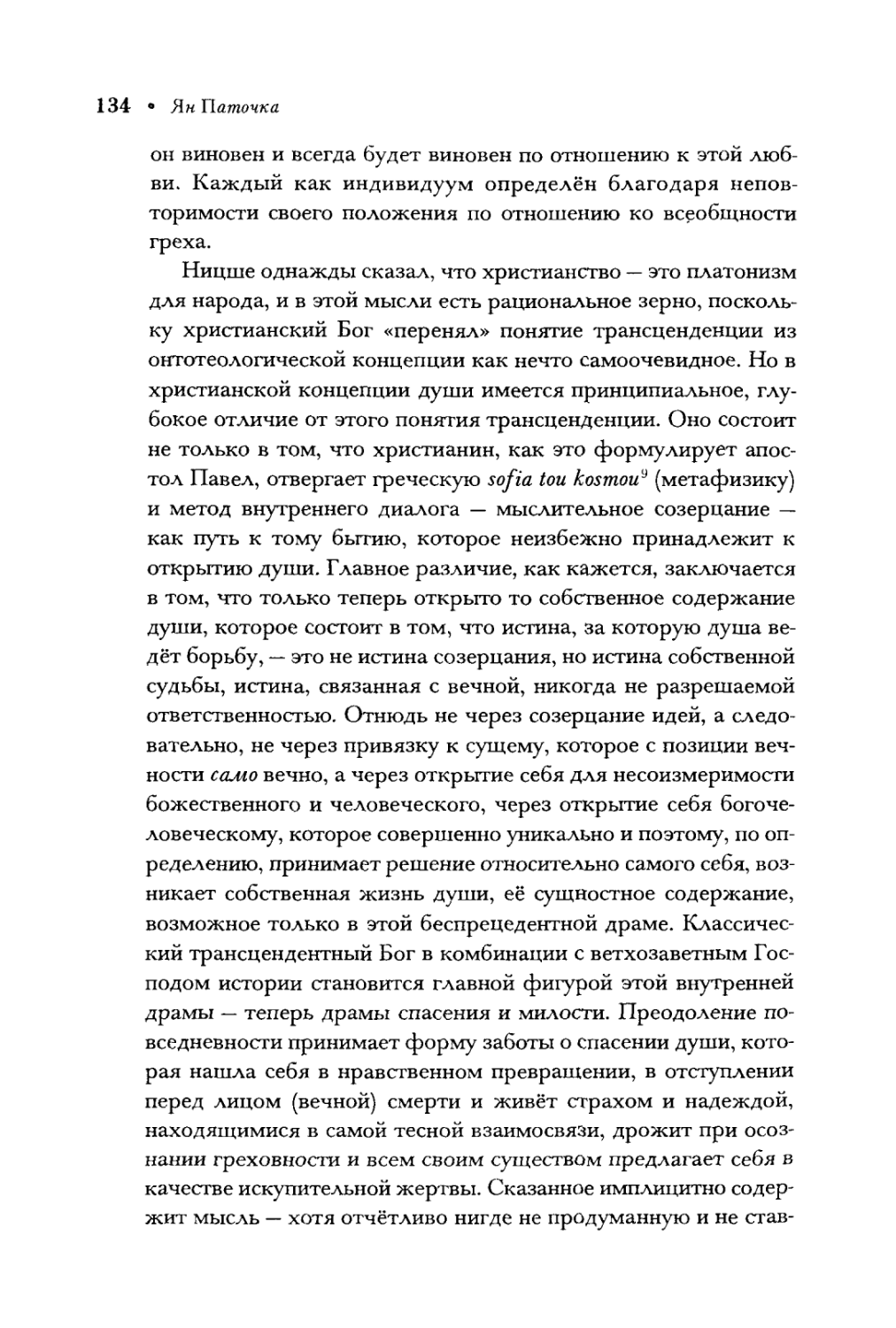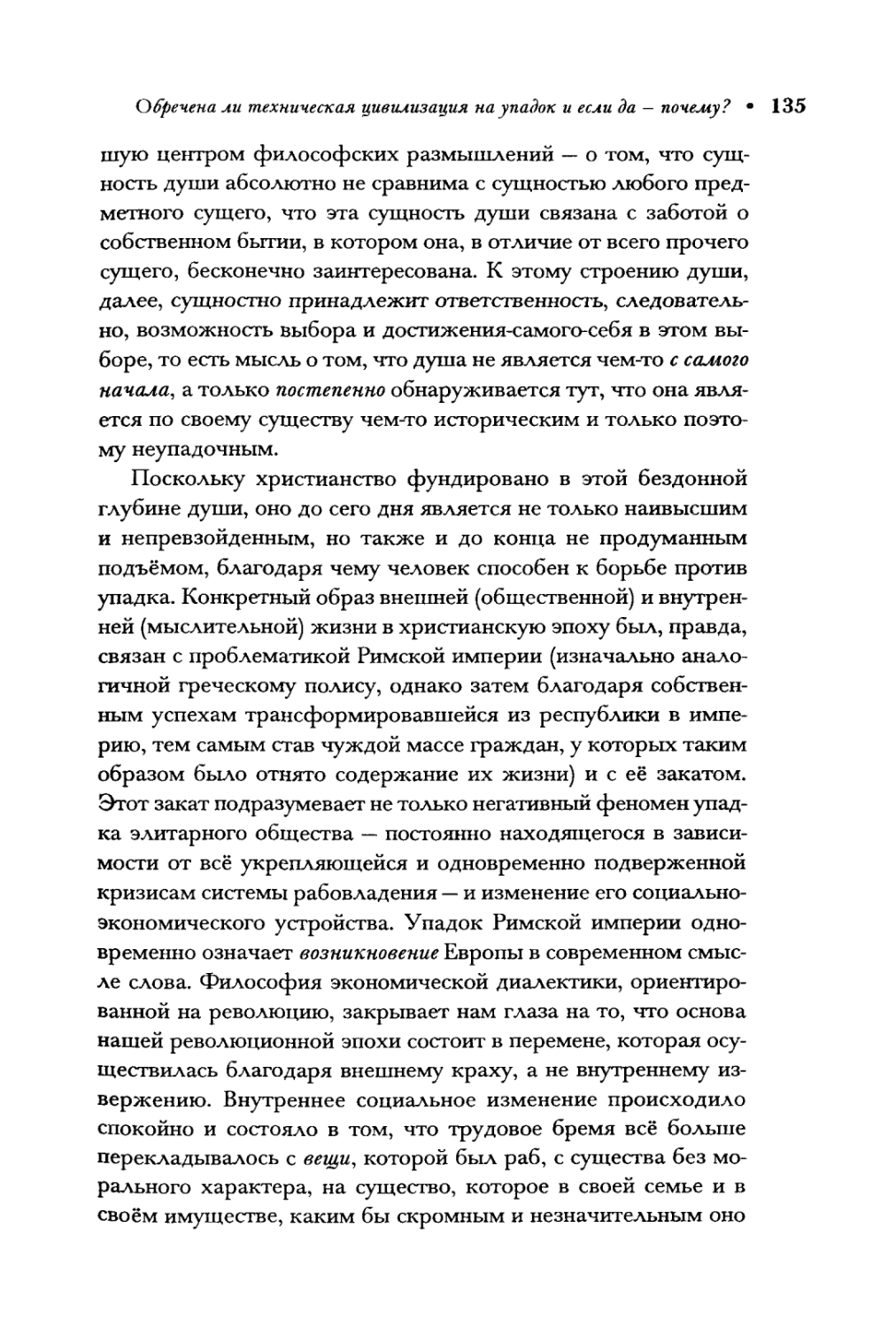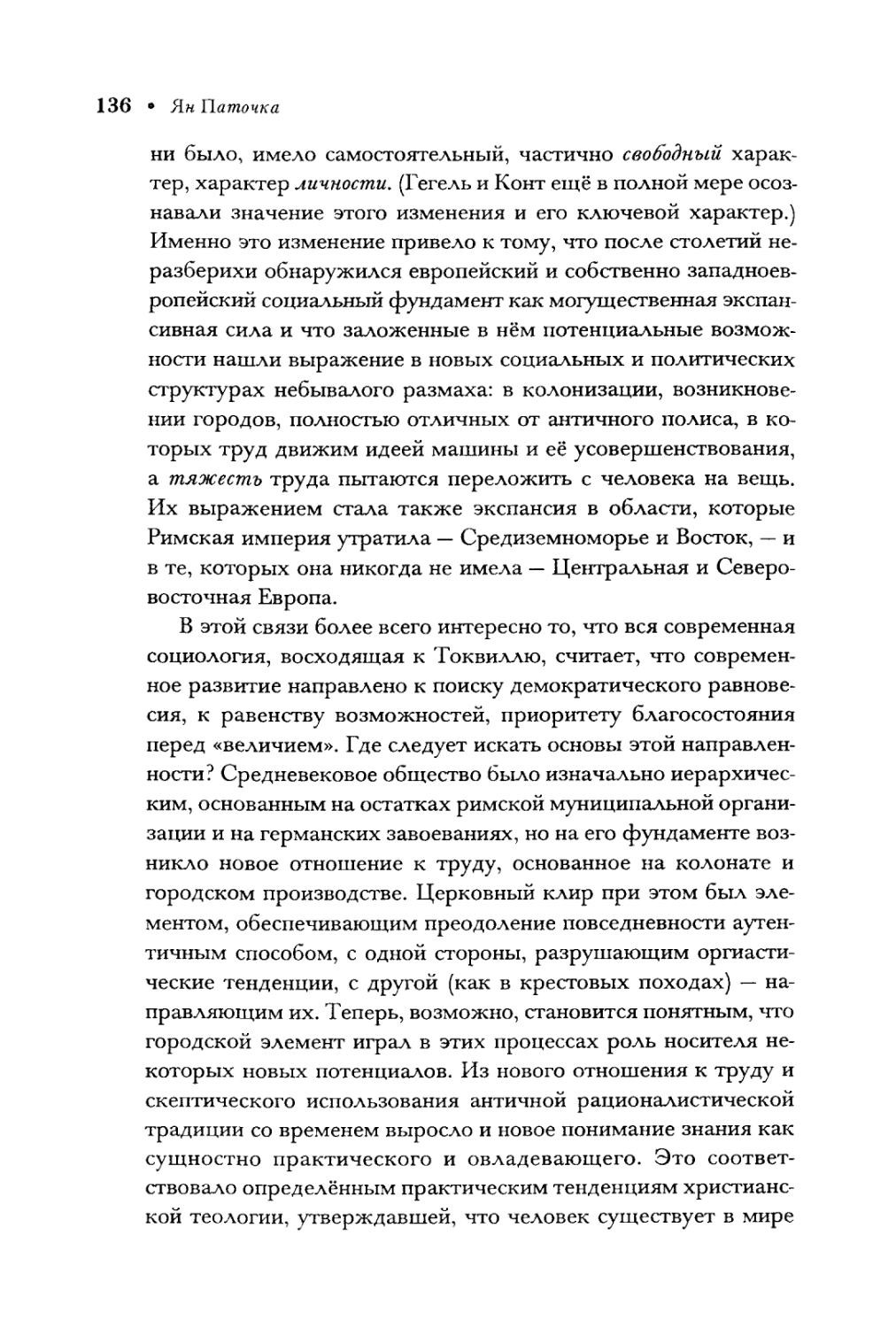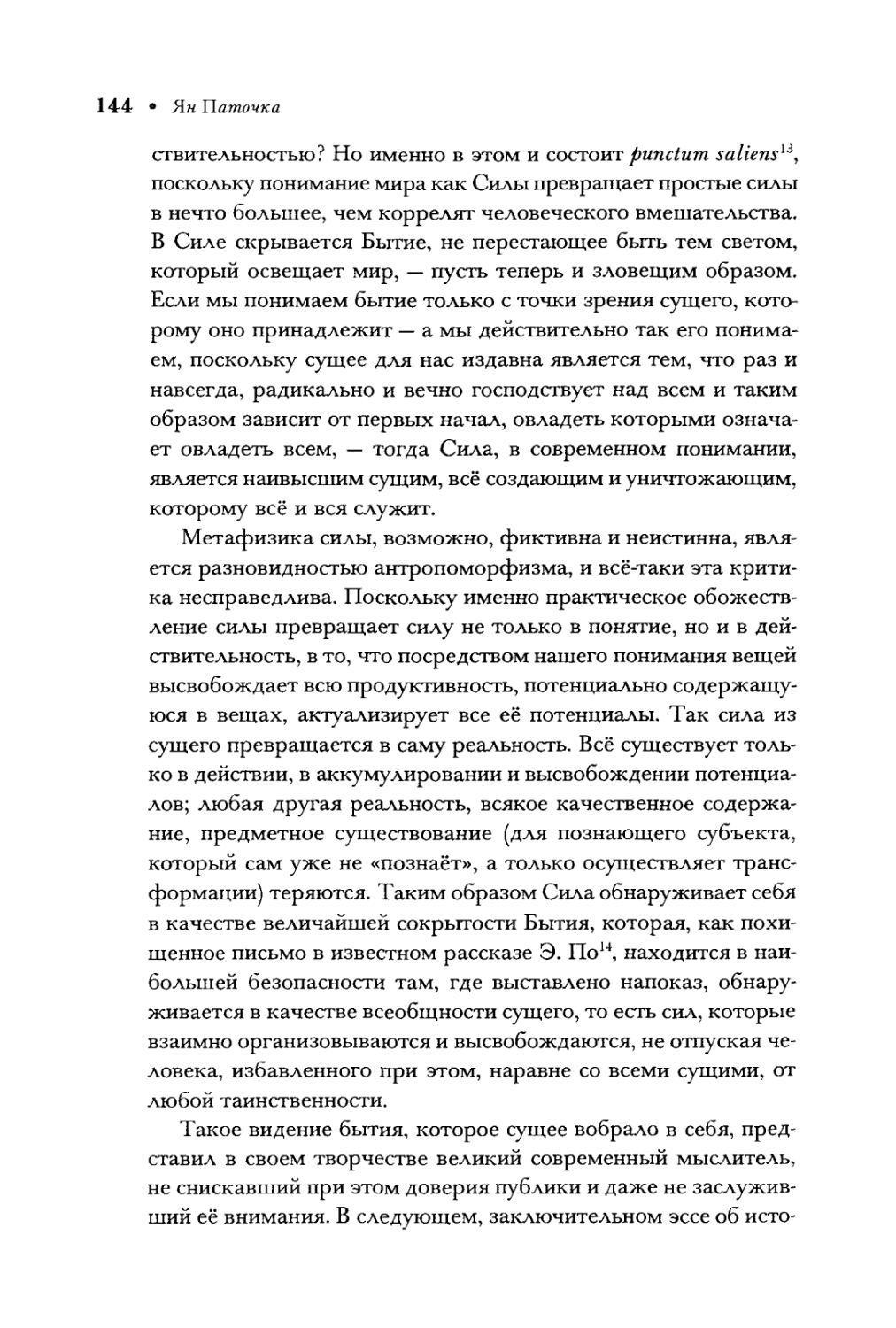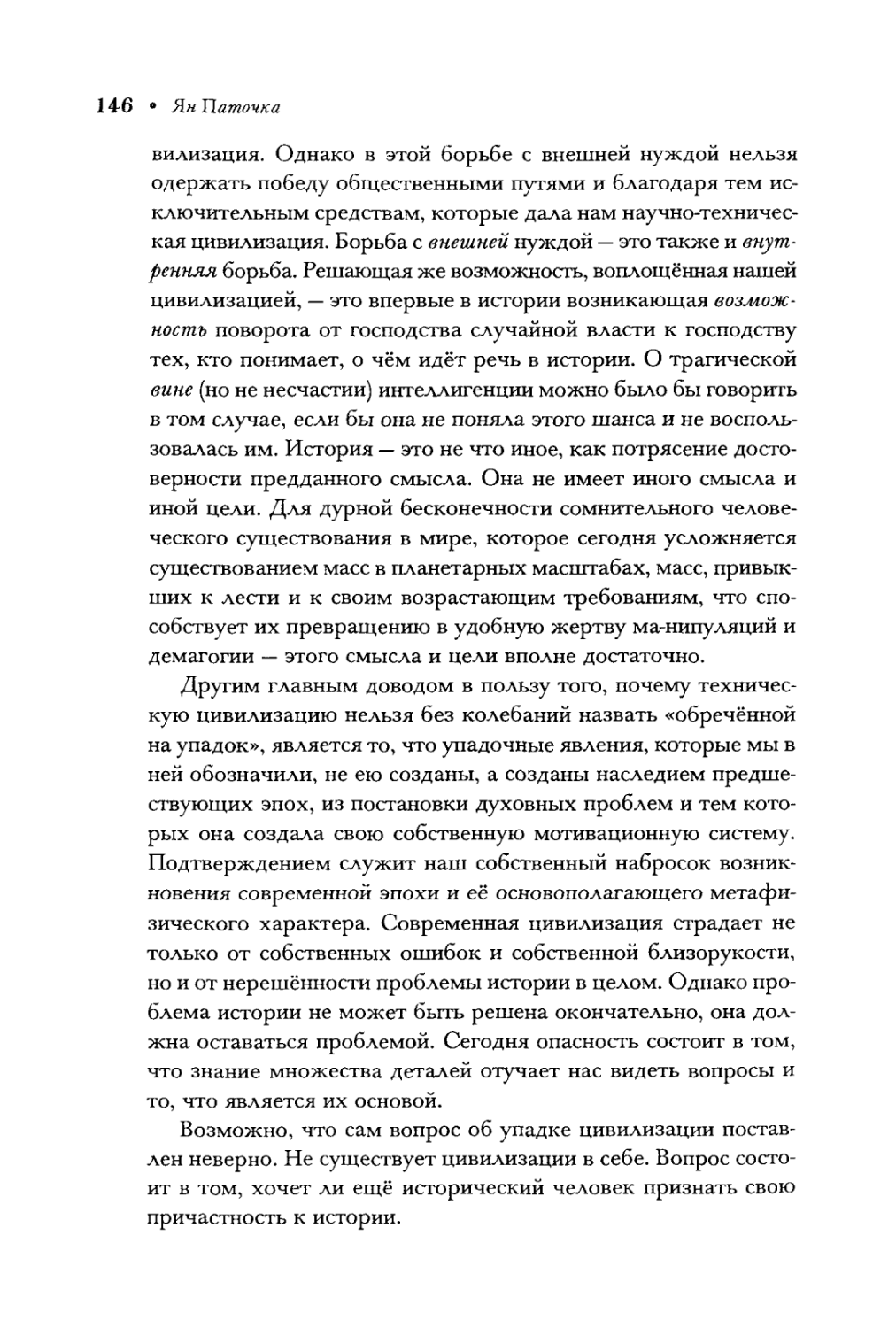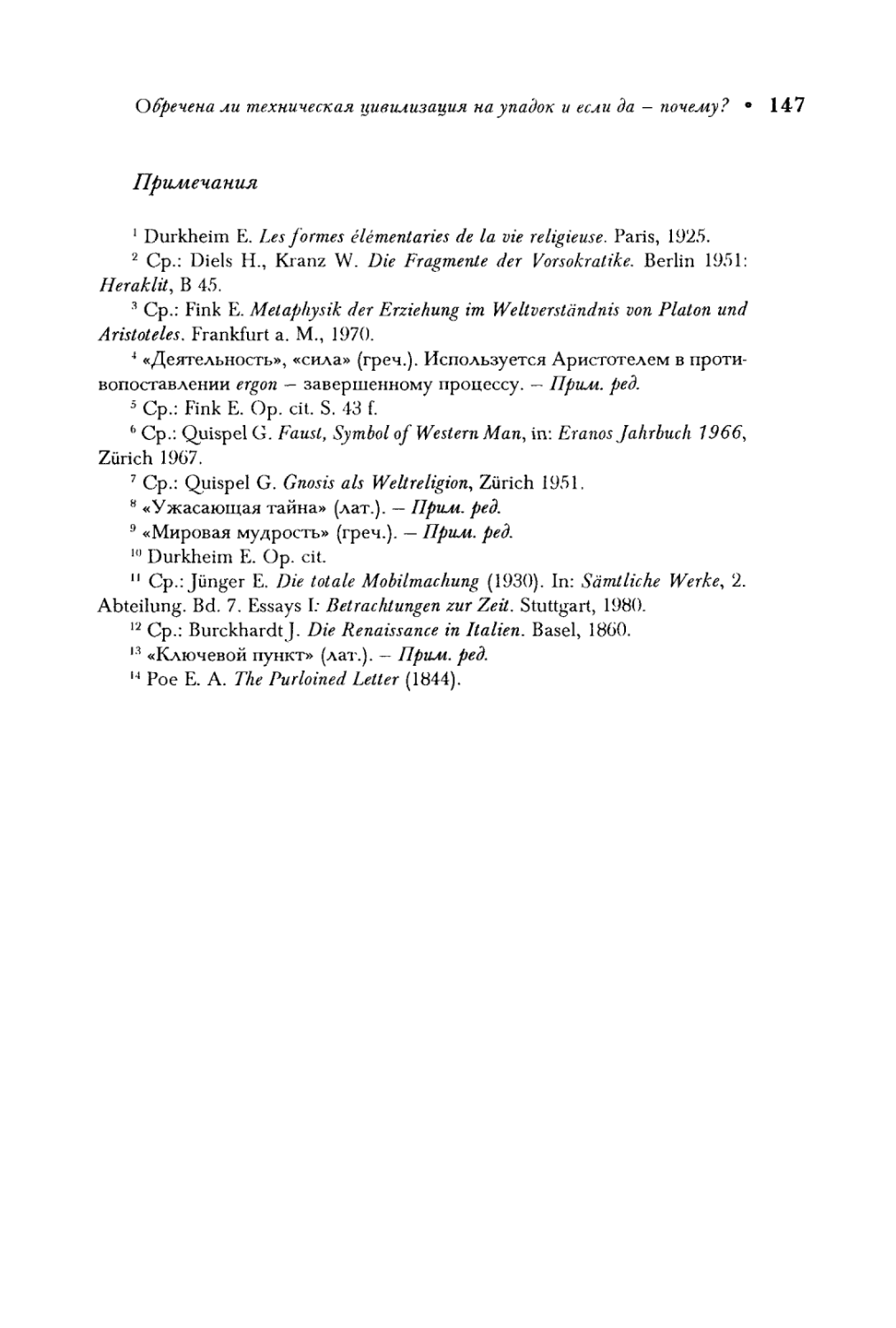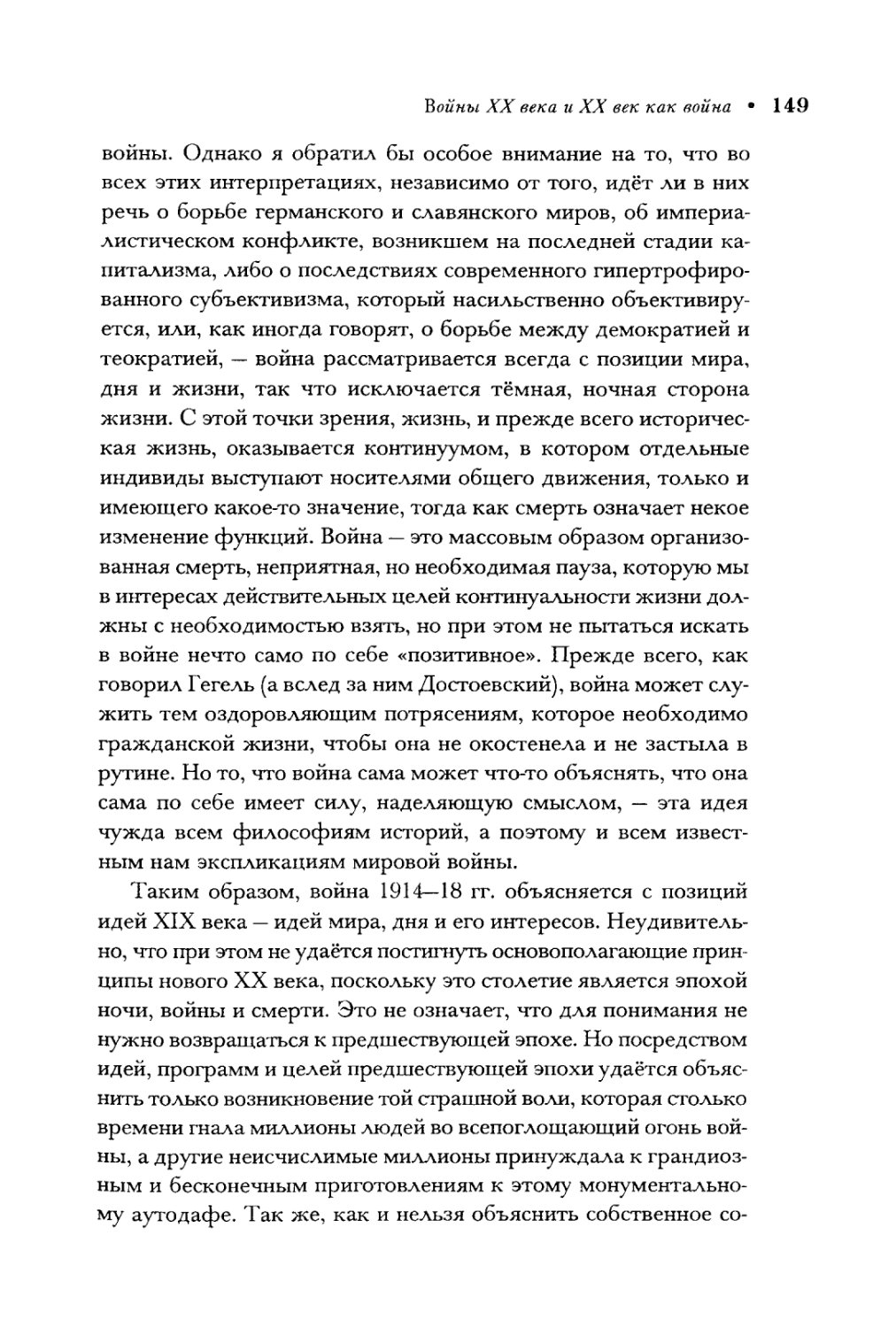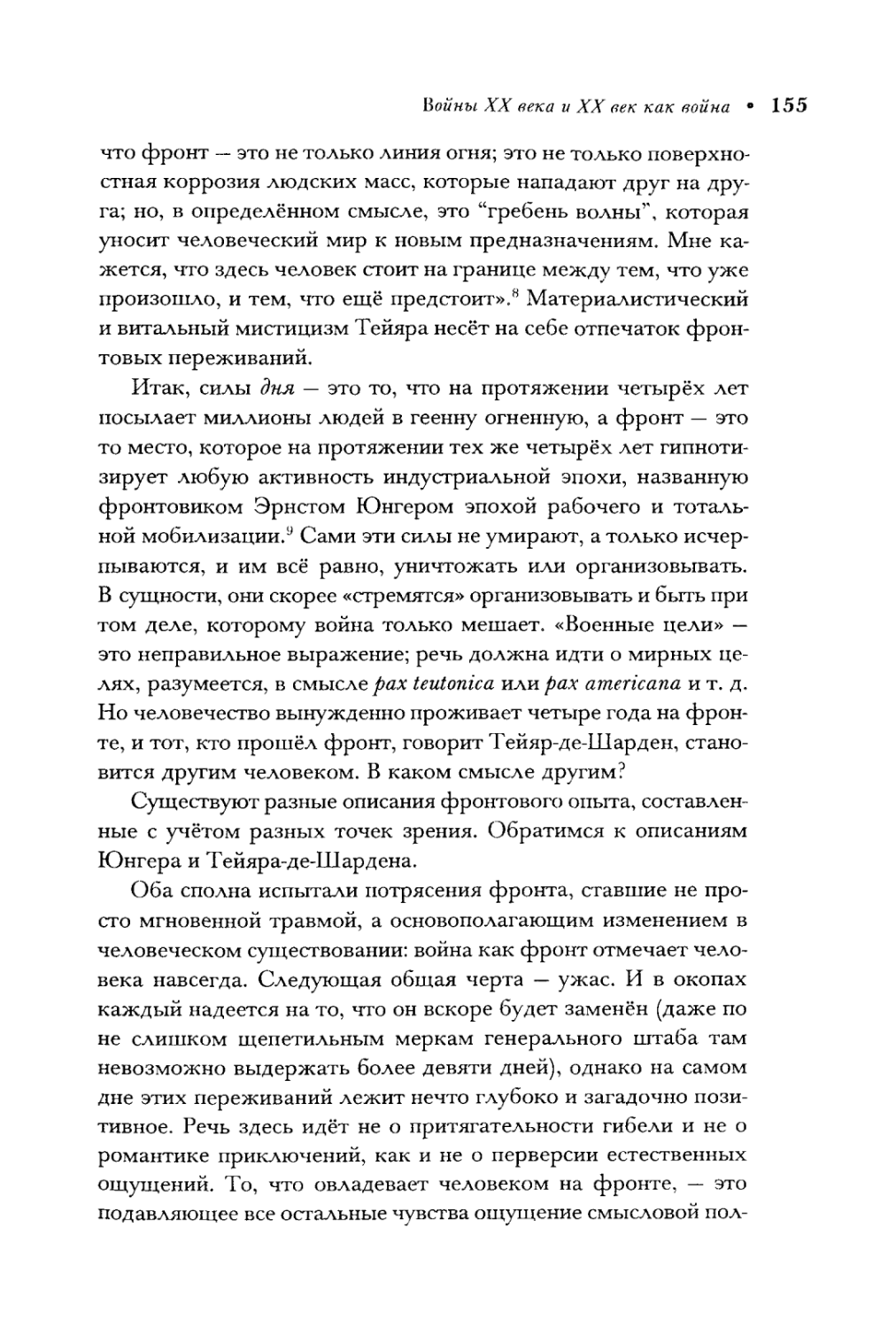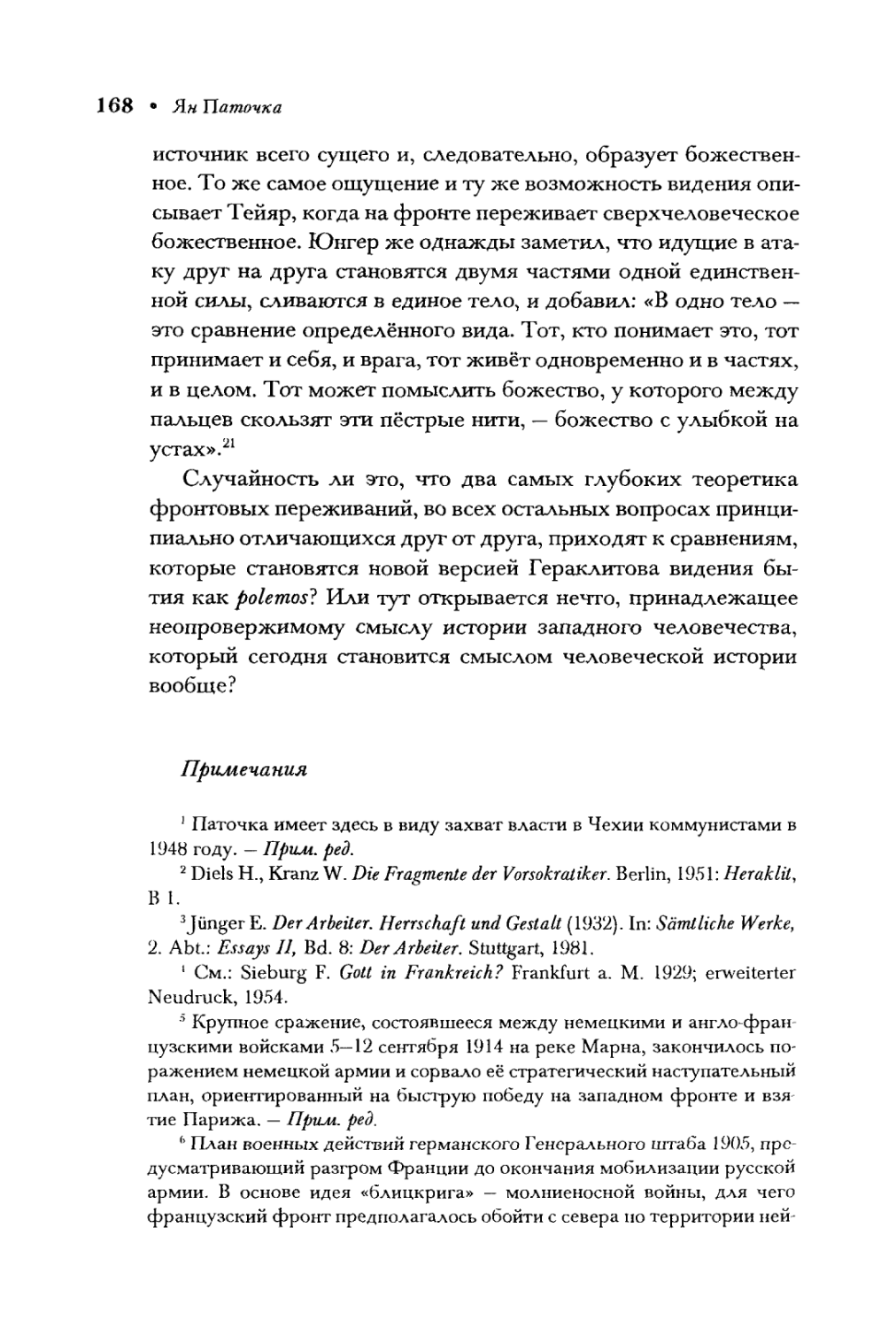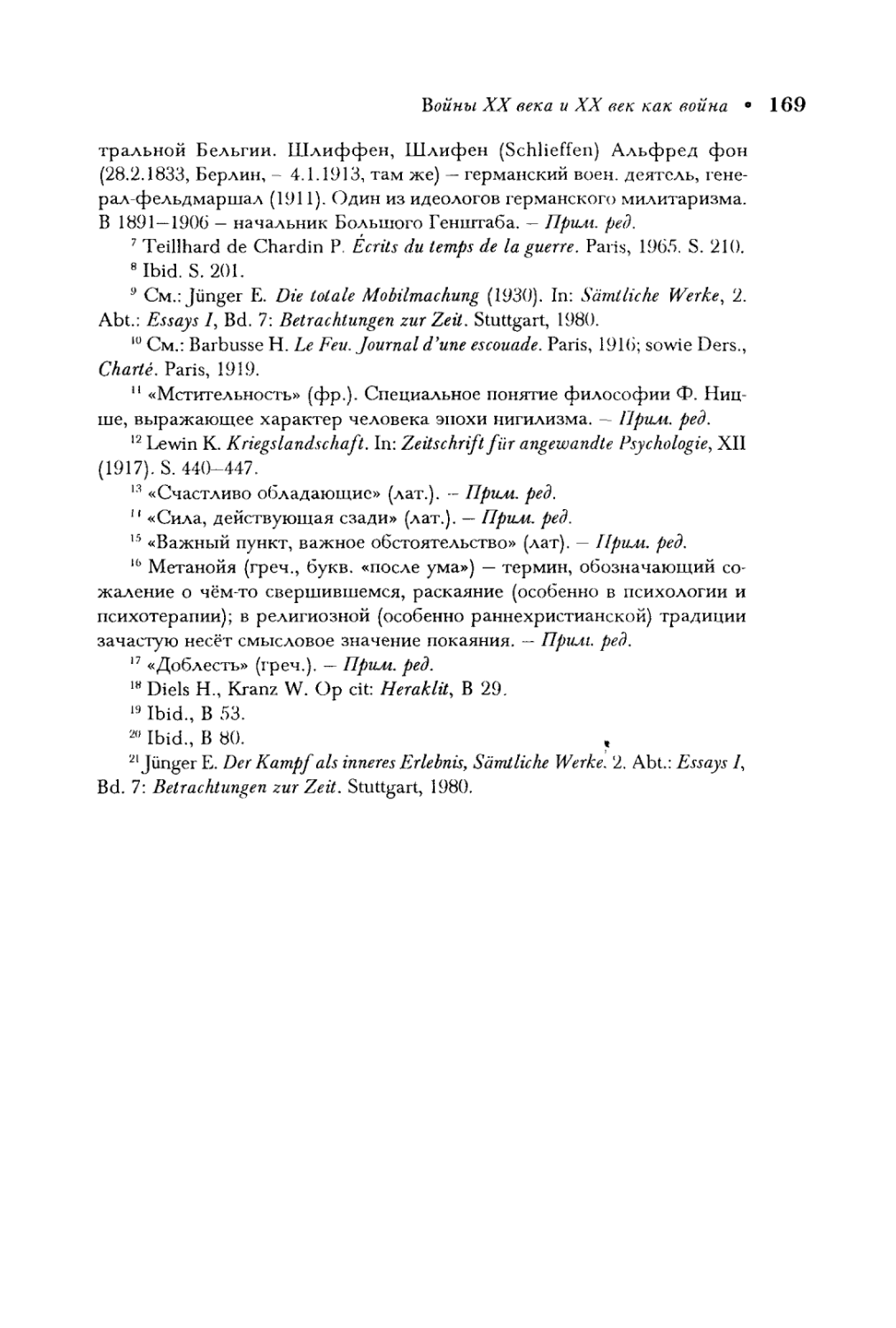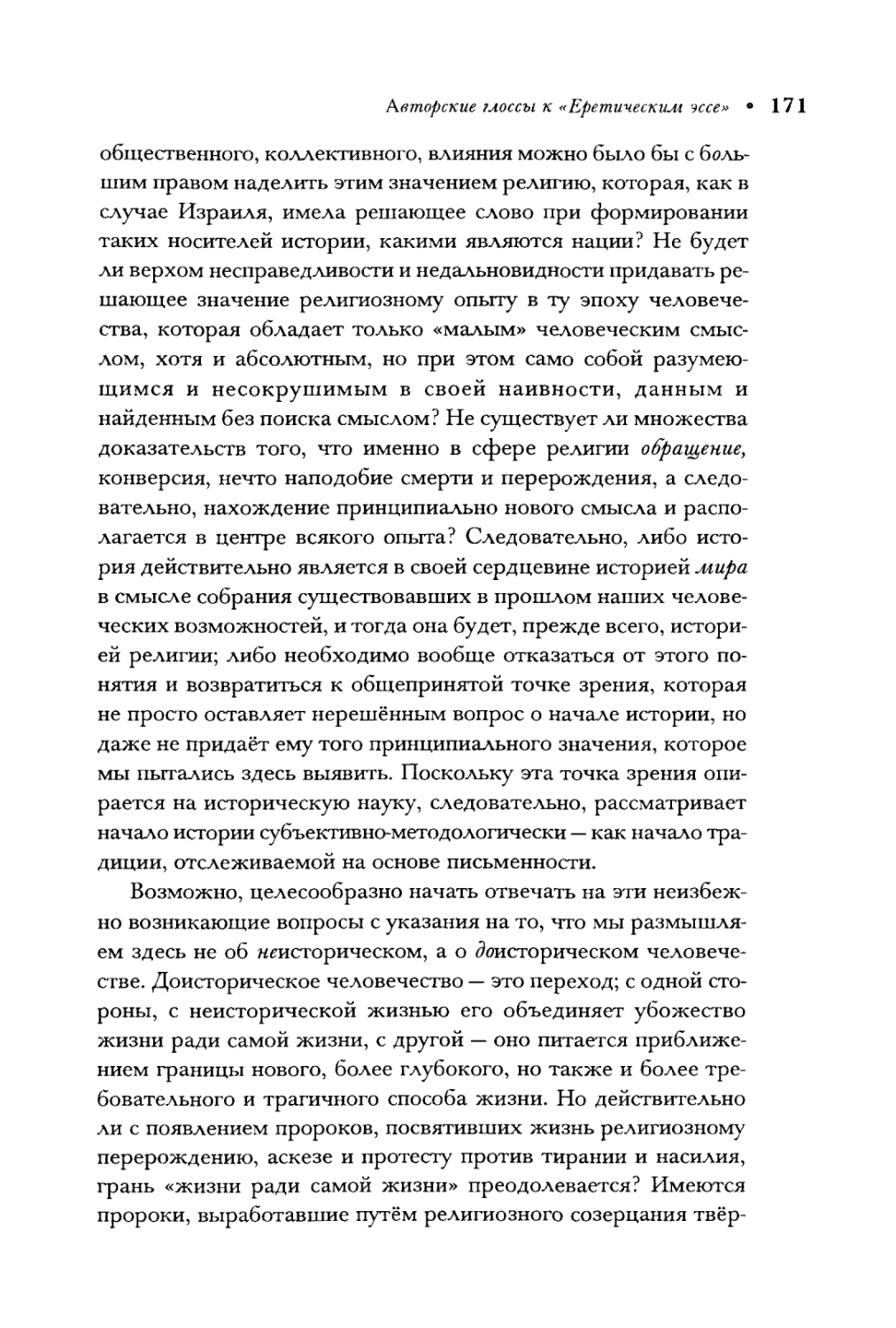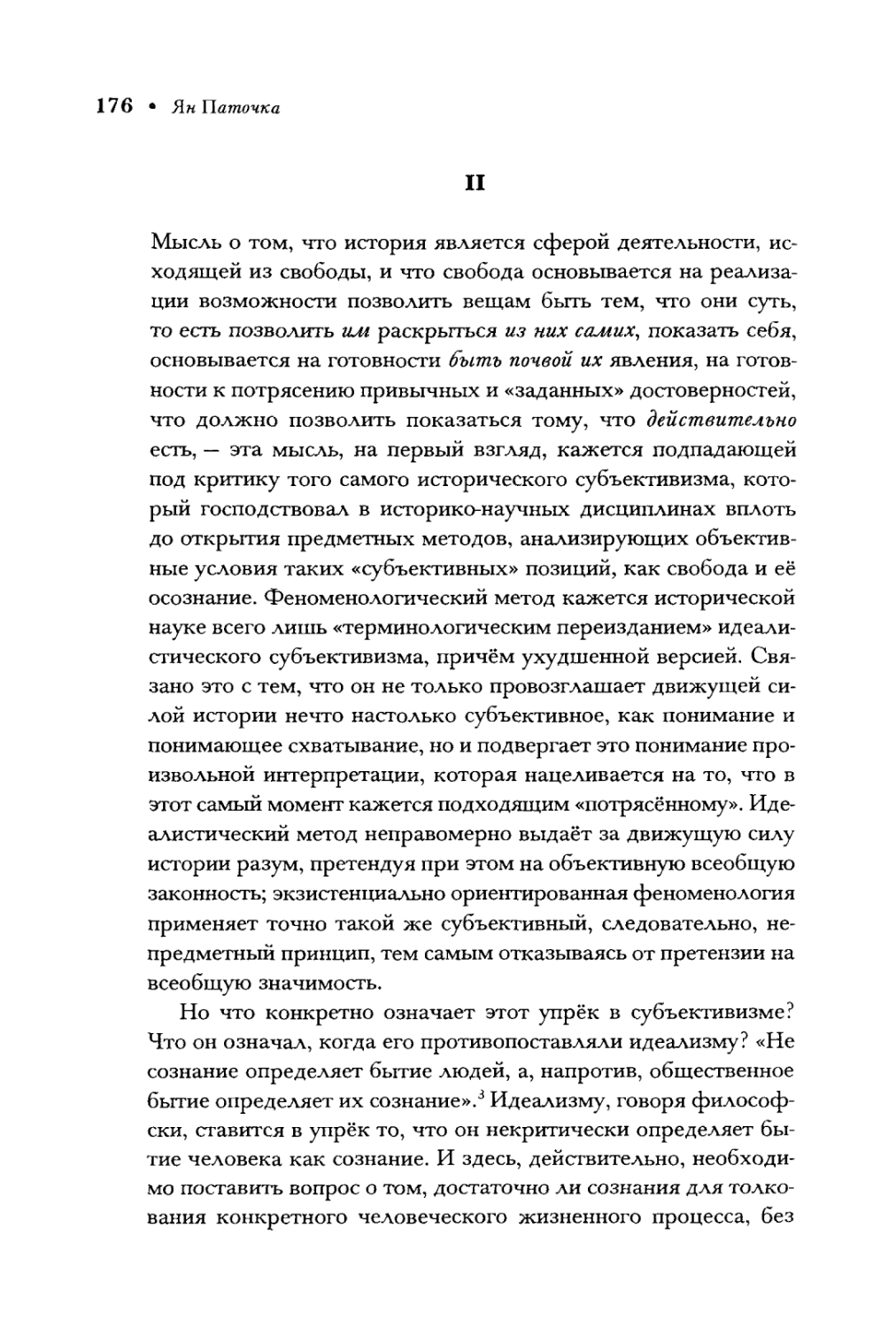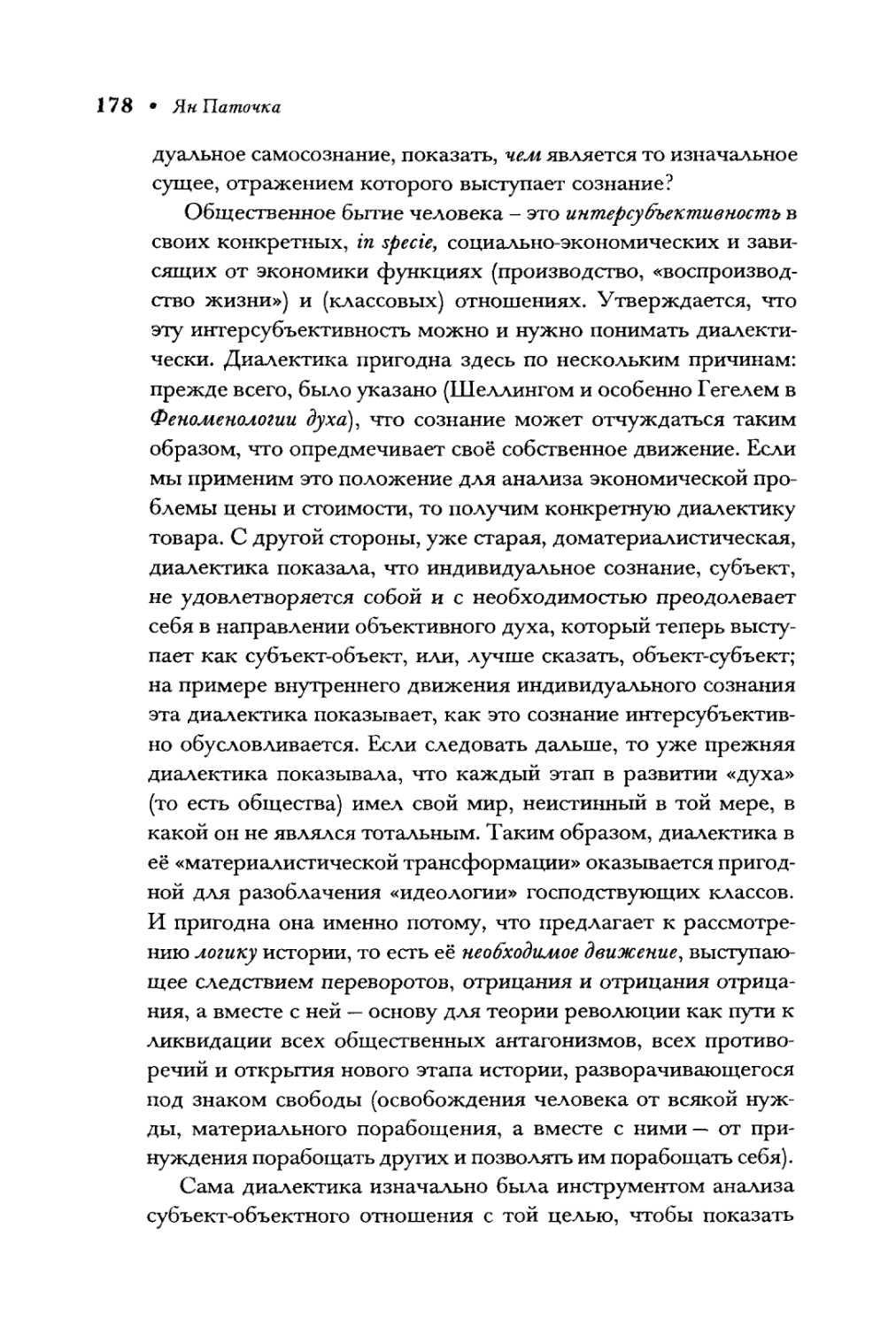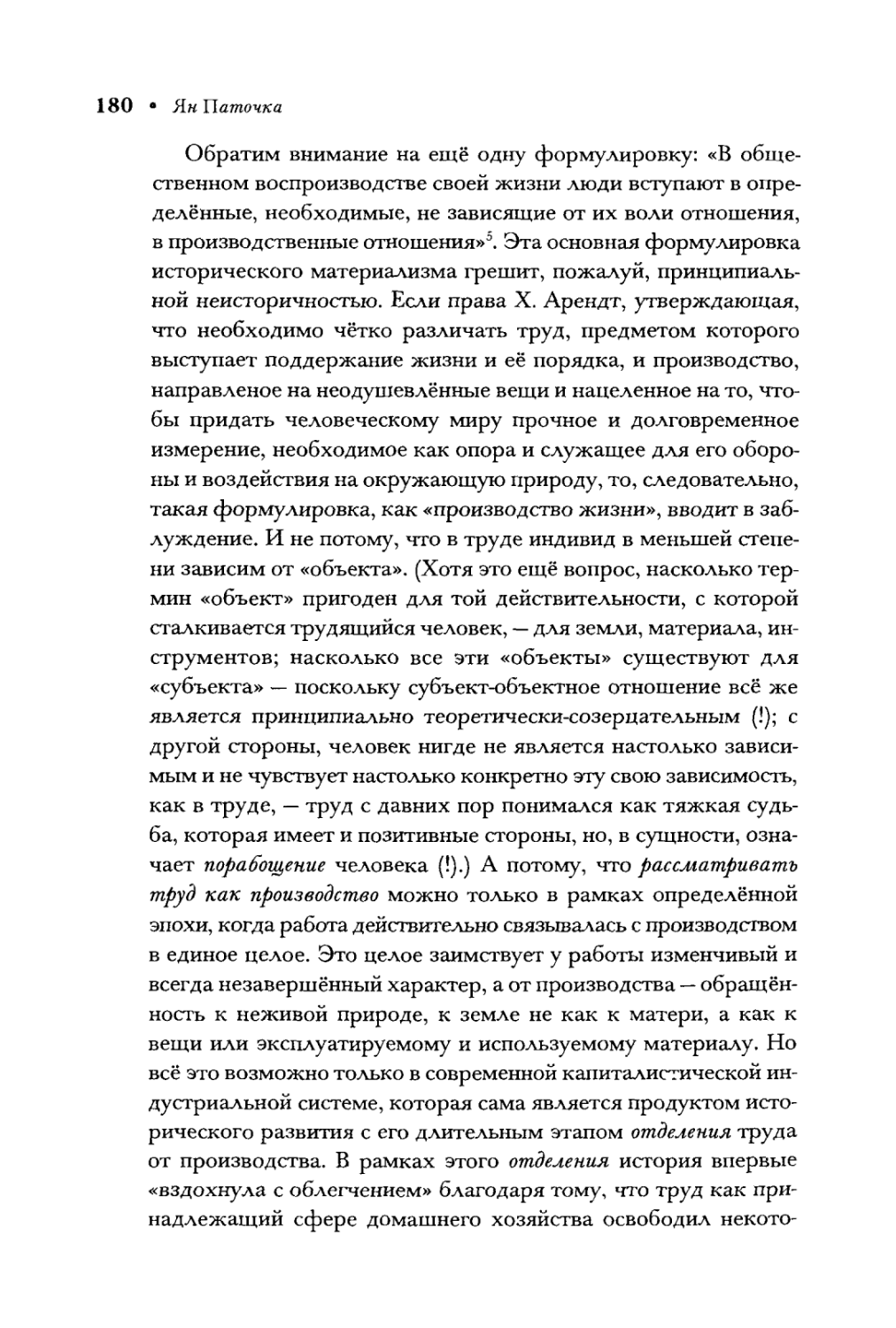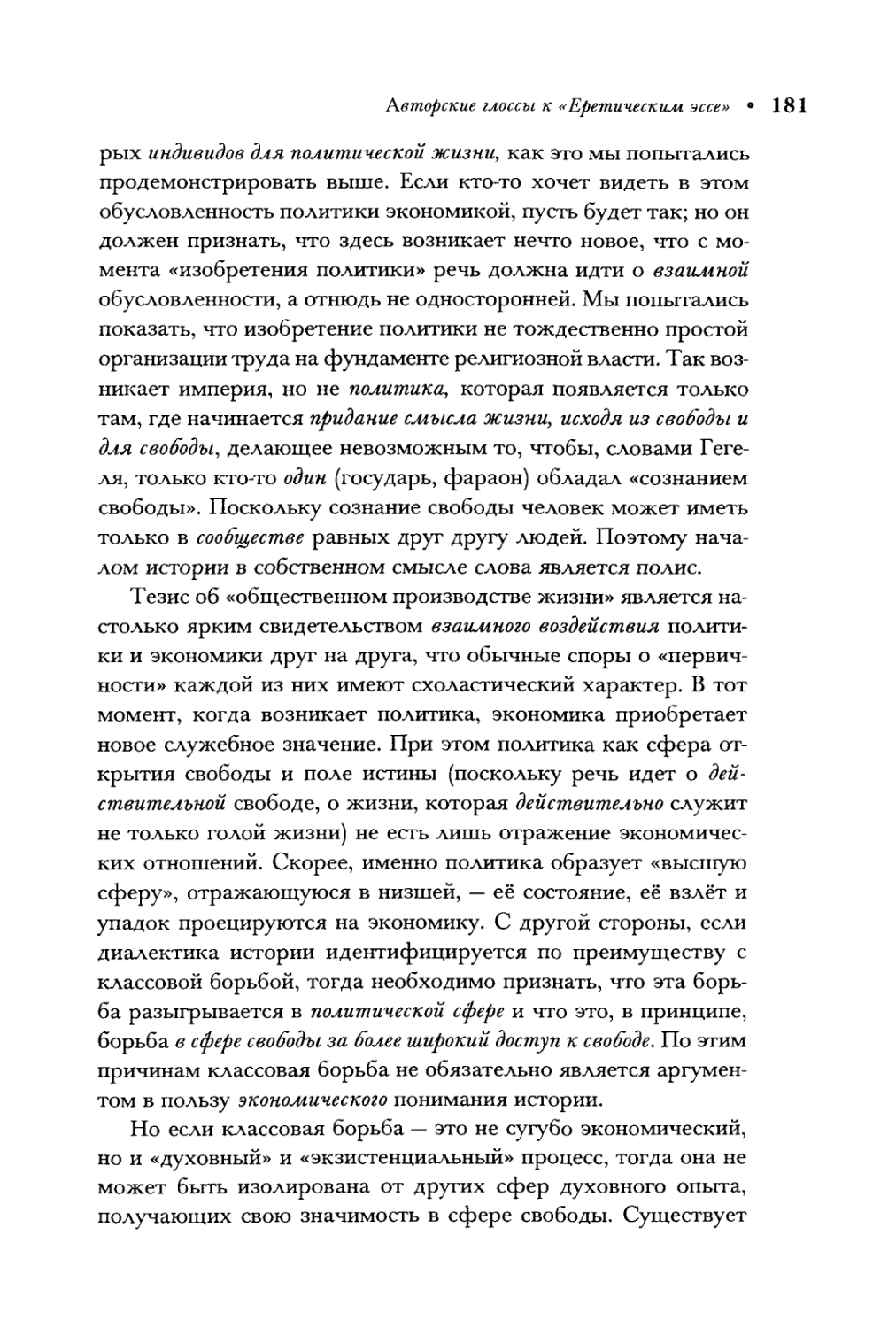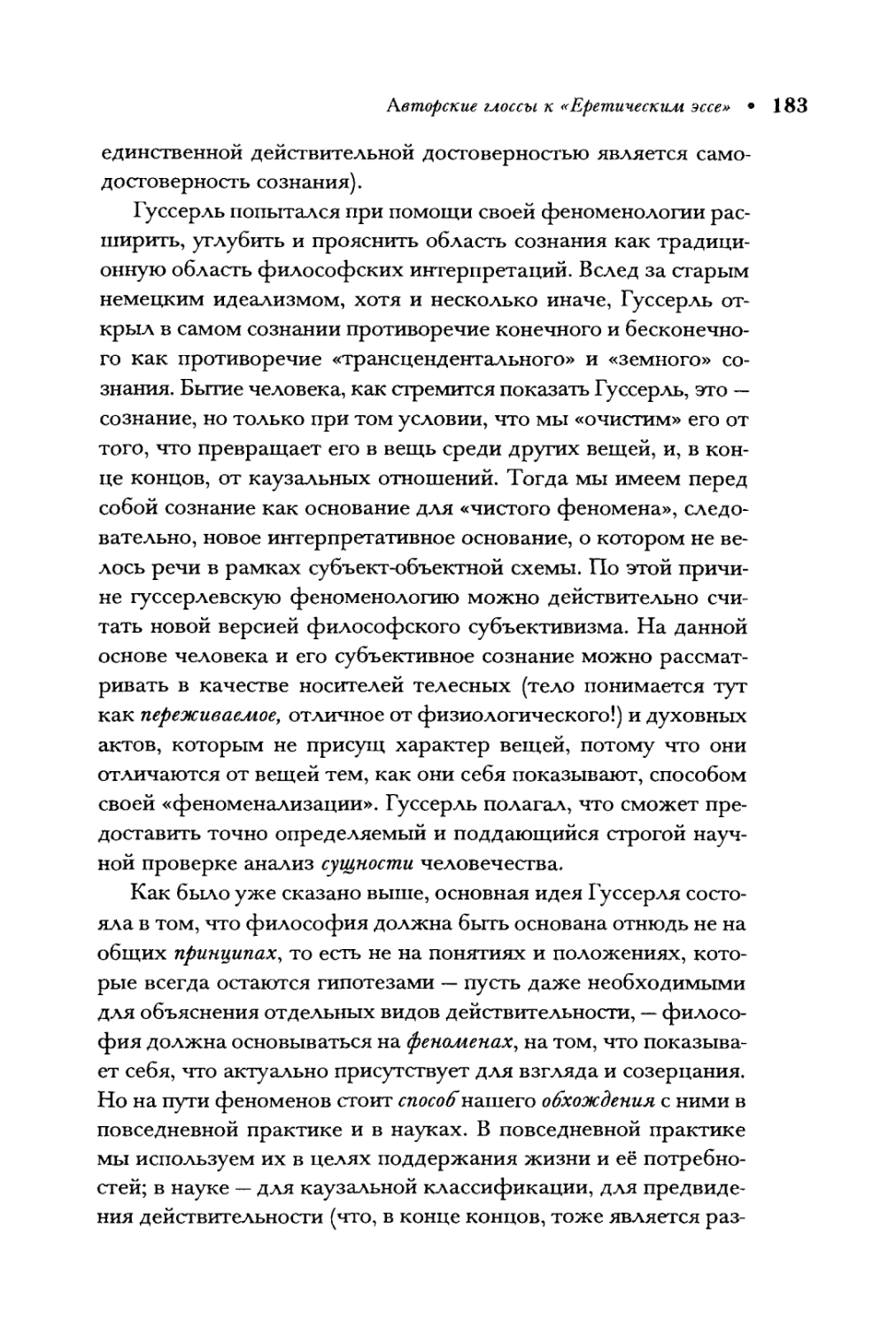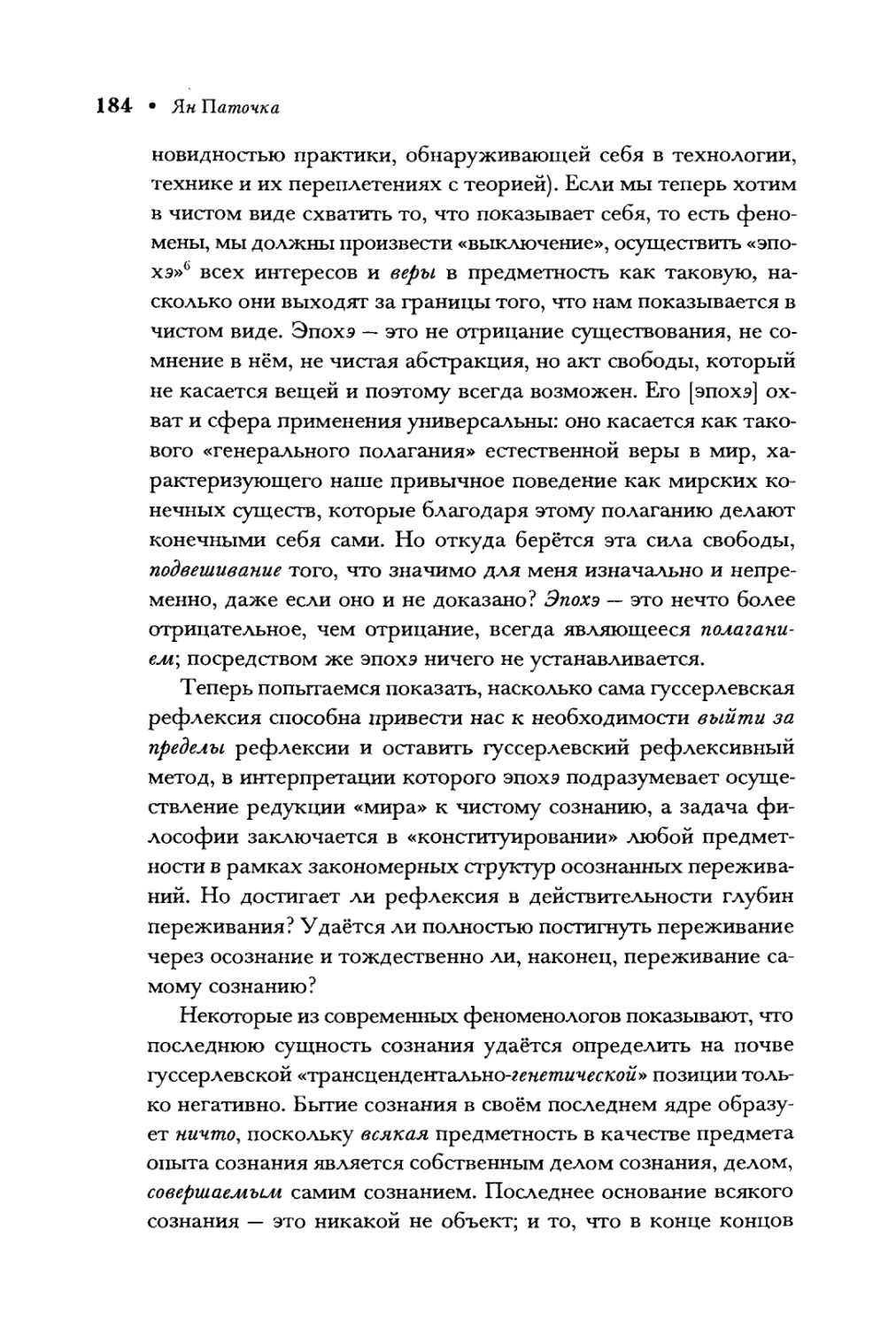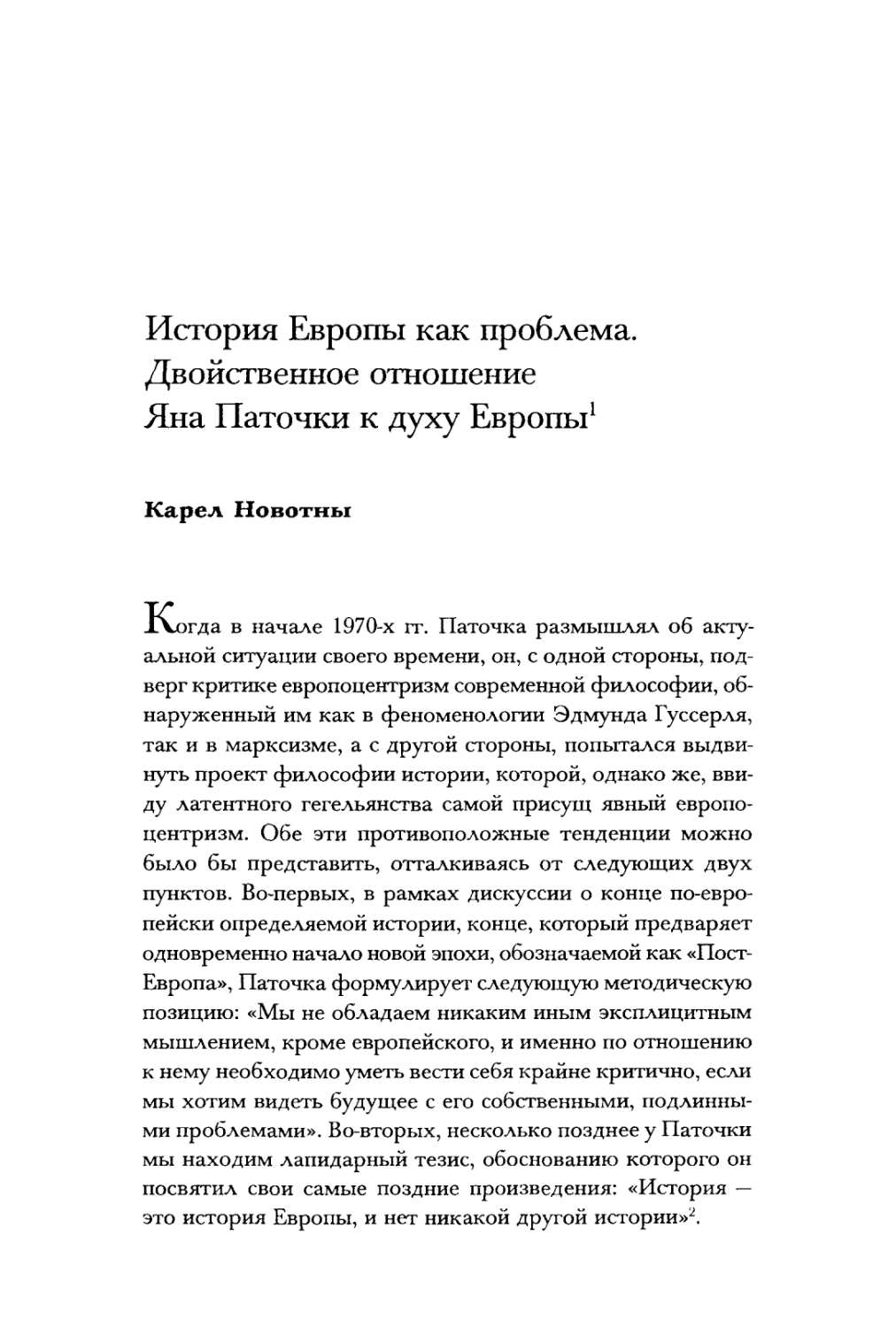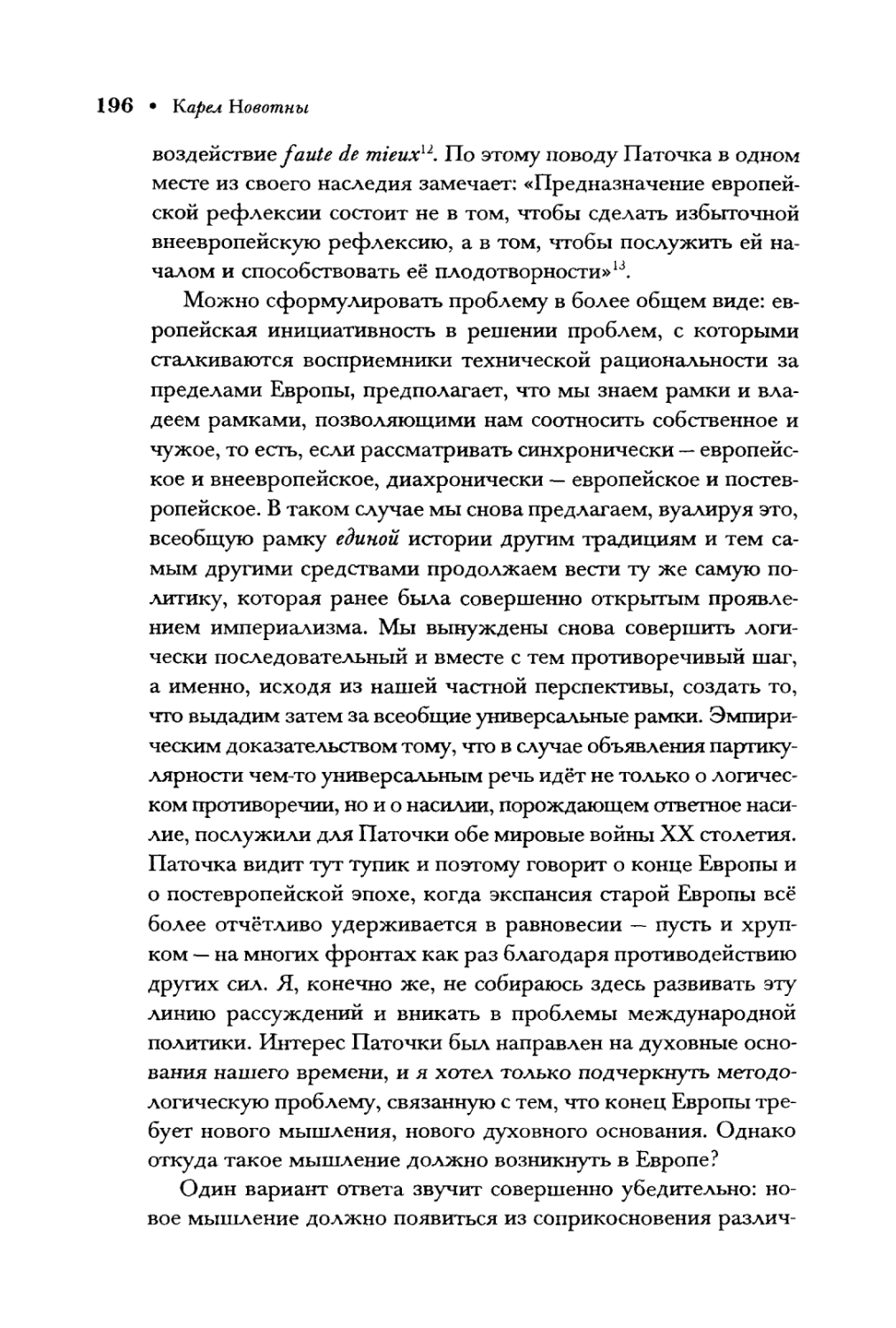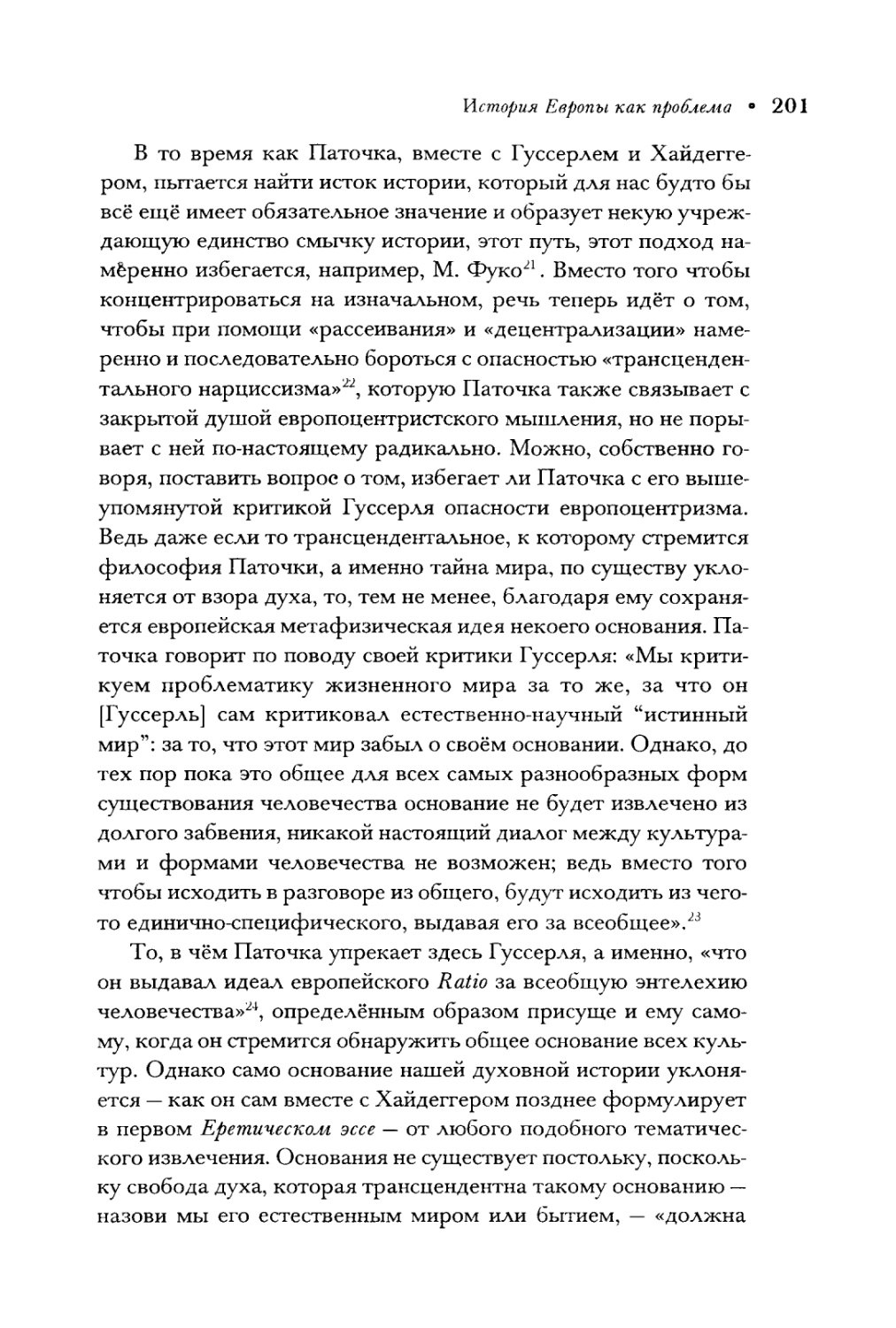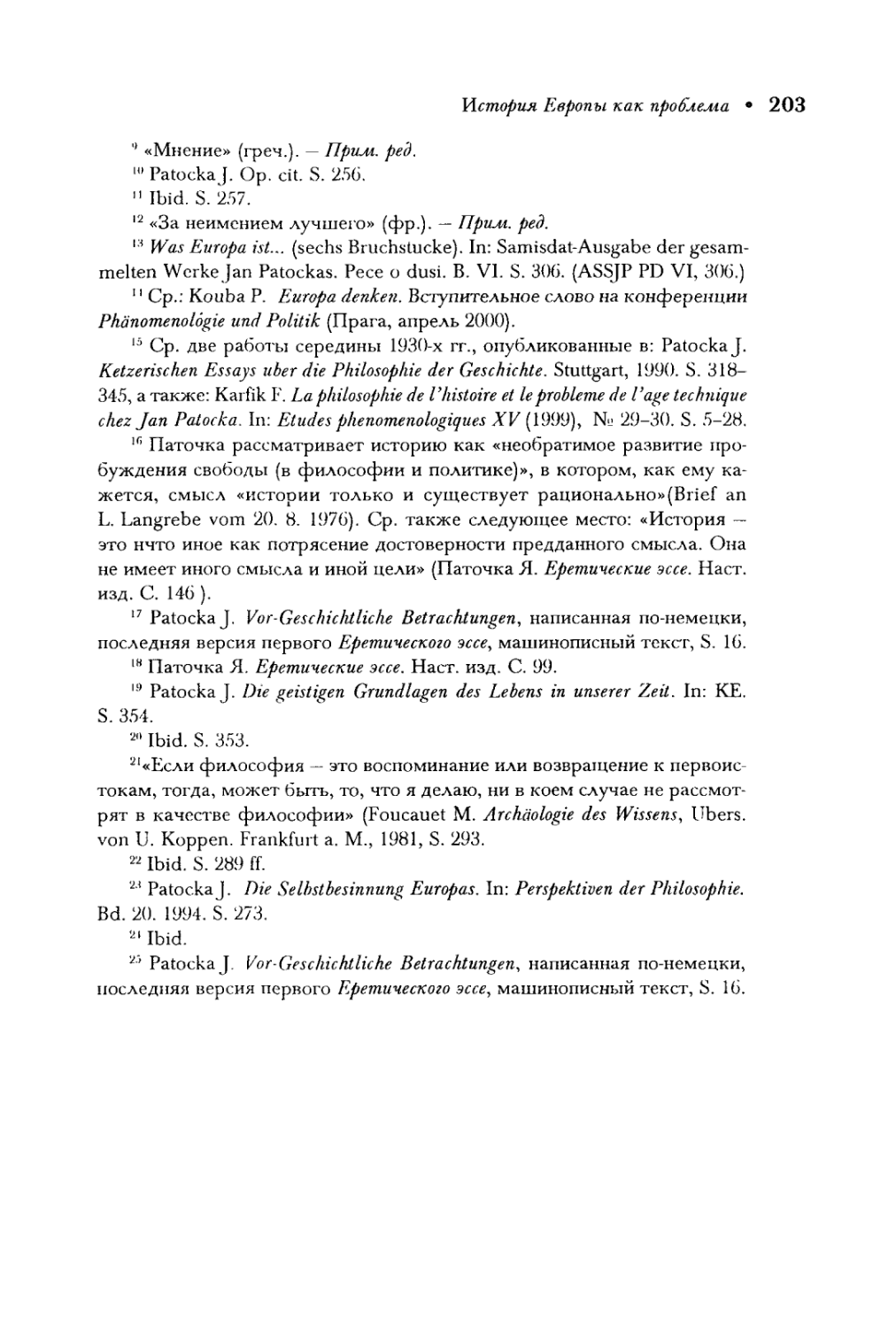Автор: Паточка Я.
Теги: метафизика в целом общая метафизика учение о бытии онтология метафизика философия философия истории
ISBN: 978-985-6800-78-1
Год: 2008
Текст
Ян Наточка
Еретические эссе
о философии истории
Перевод с чешского
П. Прилуцкого
под редакцией
О. Шпараги
Минск
И. П. Логвинов
2008
УДК 1I1
ББК 87.21 (4Чешск)
П 20
Серия основана в 2008 г.
Основатель серии Александр Адамянц
Patocka J. Kacifske eseje о fllosofii dejin. 6. vyd.
In: Рёсе о dusi IH. Ed. I. Chvatik, P. Kouba.
Praha: OIKOYMENH, 2002. S. 11-144.
Паточка, Я,
П 20 Еретические эссе о философии истории / Ян Паточка ;
пер, с чешек. П. Прилуцкого; под ред. О. Шпараги. — Минск :
И. П Логвинов, 2008. - 204 с. - (Новая Еуропа).
ISBN 978-985-6800-78-1.
Еретические эссе о философии истории Яна Паточки (1907-1977) от-
носятся к позднему периоду творчества философа. В этой книге Па-
точка попытался показать принципиальную важность связки полити-
ки, философии и истории для понимания бытия человека. Новое зву-
чание в книге получила также тема «Европы» - европейской истории
и европейской идеи, в качестве ядра которой Паточка видит сократов
скую «заботу о душе». Книга предназначена для всех, интересующих-
ся современной философией, историей идей и дискуссиями вокруг идеи
Европы.
УДК 111
ББК 87.21 (ФЧешск)
© Серия «Новая Еуропа», 2008
© The Jan Patocka Archive in Prague, 2006
© Перевод: Павел Прилуцкий, 200В
ISBN 978-985-6800-78-1 © Фото-.Jindrich Pribik
Содержание
О. Шпарага. Еретические эссе Яна Паточки
в беларусском контексте б
1. Размышления о доисторической эпохе 15
2. Начало истории 44
3. Имеет ли история смысл? 72
4. Европа и европейское наследство
вплоть до конца XIX века 101
5. Обречена ли техническая цивилизация
на упадок и если да - почему? 120
6. Войны XX века и XX век как война 148
7. Авторские глоссы к Еретическим, эссе 170
Приложение
Карел Новотны.
История Европы как проблема.
Двойственное отношение Яна Паточки к духу Европы .... 190
Еретические эссе Яна Паточки
в беларусском контексте
Ольга Шпарага
«Значение книги Яна Паточки (1907-1977) Еретические эссе о
философии истории, впервые вышедшей в 1975 году в сам-
издате в Праге, а уже в 1980 — в Мюнхене, для нас, белару-
сов и ситуации в Беларуси начала XXI века, сложно пере-
оценить. Эта книга относится к позднему периоду творче-
ства философа, выступившего одним из учредителей
чешского движения за права человека Хартия- 77, — в связи
с чем Паточка был подвержен преследованиям и допросам,
доведшим его до смерти. Вспоминая о проводимых Паточ-
кой подпольных семинарах того времени, его соратник по
Хартии-77 Вацлав Гавел написал следующее: «Эти неофи-
циальные семинары позволили нам проникнуть в мир фи-
лософии в подлинном, изначальном смысле. Вместо кафед-
ральной скуки мы столкнулись с вовлечённым, живым по-
иском значения вещей, вопрошания о самих себе и
собственной ситуации в мире»1.
В своём введении мне хотелось бы сделать акцент имен-
но на значении Еретических эссе для беларусского читате-
ля — хотя не менее важным было бы представление пробле-
матики и ключевых понятий и тем книги в целом. Однако
такое представление заняло бы не один десяток страниц, и,
Havel V. Das letzte Gespraech. In: PatockaJ. Texte-Dokumente-Bibliographie. Hrsg.:
L. Hagedorn, H. R. Sepp. Freiburg (Breisgau); Miinchen, 1999. S. 487.
«Еретические эссе» Яна Паточки в беларусском контексте °
видимо, его написание является задачей специальных исследо-
ваний. Тем более что о философии Яна Паточки, и в частности
Еретических эссе, высказывались такие философы XX века, как
П. Рикёр, Ж. Деррида, Р. Рорти и др., а сама книга переведена
на множество языков, включая английский, французский, ита-
льянский, норвежский, польский, испанский. И всё же, чтобы
войти в сам текст Паточки, а затем познакомиться с многочис-
ленной интерпретаторской литературой, необходимо увидеть его
философию именно в контексте нашей собственной жизни, что
я и попытаюсь сделать далее.
Важность книги Еретические эссе Яна Паточки для беларус-
ского контекста раскрывается, на мой взгляд, через две ключе-
вые темы его книги.
Первая тема обозначена П. Рикёром в его предисловии к
немецкому изданию книги в 1988 как одновременное возникно-
вение в западной Европе политики, философии и истории. Посколь-
ку, в интерпретации Рикёра, «история свидетельствует об осу-
ществлении свободы — её осуществлении в публичном простран-
стве, открытом благодаря свободе и для свободы»; философия
же выступает свободным мышлением, предметом которого яв-
ляются условия возможности политики и истории, то есть чело-
веческая свобода, публично о себе заявляющая.2
Принципиальная важность этой темы состоит в том, что она
проливает новый свет на такие ключевые понятия, как полити-
ка, история и свобода, с одной стороны, и собственно европейс-
кая история, или идея Европы, с другой. При этом все пере-
численные понятия находятся в необходимой связи, значит, с
необходимостью требуют друг друга для разворачивания свое-
го содержания.
Так, согласно Паточке, разворачивание человеческой свободы
не может удовлетвориться приватной сферой, то есть ипоста-
сью внутренней свободы, знакомой нам с советских времён и
выражающей, по мнению многих философов, состояние свобо-
ды человека, живущего в рамках империи и потерявшего воз-
можность открыто и наравне с другими создавать общий мир.
- Einleitung von Paul Ricoeur. In: PatockaJ. Ausgewahlte Schriften. Hrsg. am Inst. fur
d. Wiss. vom Menschen (Wien). Stuttgart, 1988. S. 8.
8 в Ольга Wlnapaza
Человеческая свобода требует публичного разворачивания, ко-
торое, согласно Паточке, и означает учреждение политики в из-
начальном смысле слова как самой «действующей свободы»
{эссе 7).
Действие же, в свою очередь, отличается от труда (здесь Па-
точки следует за X. Арендт) тем, что требует свободной, то есть
добровольной, инициативы и пространства для своего развора-
чивания, всегда открытого для других деятелей. И хотя в исто-
рии Европы публичная свобода реализовывалась, по мнению
Паточки, прежде всего в сократовской «заботе о душе», это по-
нятие не должно вводить нас в заблуждение. «Забота о душе»
означает тут не просто обращение к себе и своей жизни, но та-
кое обращение, которое позволяет увидеть эту жизнь в самой
тесной связи с миром и всем, что происходит в мире — с целым
и внутри целого, — что делает это отношение ответственным.
При этом Паточка предлагает своё специфическое понима-
ние этого самого целого, которое есть единство в разногласии,
или единство в споре, выражающее, согласно философу, суть
действия [эссе 2). Его первая историческая ипостась — полемос,
нашедший своё воплощение в древнегреческом полисе. Именно
в рамках полиса зародилась форма власти, которая не является
слепой, а по своему существу проверяется и оспаривается в об-
суждении и обсуждением, что делает невозможым то, «чтобы,
словами Гегеля, только кто-то один (государь, фараон) обладал
"сознанием свободы"» (эссе 7).
В таком случае, свобода, согласно Паточке — подчеркнём
это ещё раз, — возможна только в сообществе равных друг другу
людей, которое и есть другое имя полиса — сосуществования в
споре, или сосуществования несогласных. Оно требует постоян-
ного напряжения и риска от обсуждающих, способности жить в
состоянии постоянной бдительности и неустрашимости в отсут-
ствие твёрдой почвы под ногами.
Однако, чтобы прийти к такому сосуществованию, согласно
Паточке, человеку необходимо пережить потрясение привычно-
го, повседневного смысла, что ведёт к проблематизации смысла
и мира. Такое потрясение и будет означать начало истории — в
полисе или в другой форме полемического сообщества равных, —
«Еретические эссе» Яна Паточки в беларусском. контексте • 9
выражением которого служит философское осмысление, при-
шедшее на смену мифологическому примирению с миром и его
смыслами [эссе 7).
Таким образом открывается необходимая взаимосвязь эле-
ментов внутри первой темы — начала истории во взаимосвязи
свободы, политики и философии. Европейской эту историю
Паточка называет в той связи, что праобраз такой взаимосвязи
возник именно в Европе — в рамках древнегреческого полиса,
сутью которого выступал полемос, философски охраняемый и
транслируемый сократовской практикой «заботы о душе». Од-
нако с момента упадка дух полиса продолжил своё существова-
ние именно в форме философии как «заботы о душе», история
которой, как это специально показывает Паточка в эссе 4, тем
не менее, не лишена разрывов и расколов.
Несмотря на это, Паточка настаивает на принципиальной
важности этого духа, который может осуществляться только
как «поиск внутри самого поиска», как открытый и доброволь-
ный спор, учреждающий политическое пространство, институ-
ционально затем закрепляющее (охраняющее) и транслирую-
щее этот дух. Умрёт этот дух — умрёт не только Европа, но
закончится и история, выражающая выхождение человеческой
свободы за пределы жизни ради поддержания самой жизни.
Здесь, однако, наступило время раскрыть вторую важней-
шую тему Еретических эссе, которая делает Паточку нашим са-
мым непосредственным современником и позволяет углубить
тему человеческой свободы. Это тема человеческой экзистенции,
или человеческого существования, как её раскрывает в этой
книге Паточка. Обозначим коротко само содержание челове-
ческой экзистенции.
Экзистенция —- заимствованное в феноменологии М. Хайдег-
гера понятие, служащее для обозначения бытия сущего (преж-
де всего человека), которое способно задаваться вопросом о соб-
ственном бытии, — понимается Паточкой как свершаемое бытие.
Наша жизнь, согласно Паточке, — это «вхождение в мир» — при
том, что мир является «миром нашей возможной жизни в нём,
жизни, которую мы должны осуществлять, потому что мы на
это способны» [эссе 7).
10 • Ольга Шпарага
Иначе говоря, для человека быть деятельным, а не просто
живущим и трудящимся ради самой жизни и её нужд суще-
ством, означает быть способным действовать и тем самым осуще-
ствлять свою жизнь в мире с другими людьми и в окружении
вещей. Эта жизнь, далее, изобретена не человеком, но, тем не
менее, человек способен её принять и взять на себя ответствен-
ность за неё, поскольку, как деятельное существо, он свободен в
своей инициативе. Помочь понять эту инициирующую свободу
может открытый характер бытия человека (открытость, по
Паточке, и есть свобода), суть которого заключается в том, что
человек способен проблематизировать смыслы, наполняющие его
жизнь. Это знаменует, как мы уже говорили выше, потрясение
привычных смыслов и начало политической жизни, в которой в
обсуждении учреждаются новые смыслы, что одновременно оз-
начает вступление на путь вопрошания как путь истории.
Более подробно о понимании свободного бытия человека, уч-
реждающего публичное пространство (или пространство поли-
тики) и охраняющего его, Паточка говорит в первом, методоло-
гическом, эссе — одном из самых сложных для философски
неподкованного читателя. Поэтому мы остановимся на нём бо-
лее подробно.
Первое эссе — введение Паточки в его собственную методо-
логию, которая является определённой версией феноменологии.
Важнейшие учителя Паточки здесь — Э. Гуссерль (1859-1938),
М. Хайдеггер (1889-1976) и Е. Финк (1905-1975), ключевые по-
нятия — понятия открытости бытия человека и феномена. Имен-
но эти понятия должны преодолеть и объективистские, и идеа-
листические установки прежней философии (и современного
социогуманитарного знания в Беларуси, отягощенного объекти-
визмом). Связано это с тем, что открытость предполагает воз-
можность для всего имеющегося, или для всякого сущего, обна-
ружить себя, причём обнаружить именно в качестве того, что
оно есть на самом деле. Это «на самом деле» и есть феномен.
Во избежание недоразумений уточним: феномен открывает
нам не некий вечный и статичный смысл вещей и мира, а все-
гда определённый и конечный смысл, отсылающий к порожда-
ющему его контексту (например, смысл одного стола как при-
«Еретические эссе» Яна Паточки в беларусском, контексте ° 11
способления для письма, а другого — как приспособления для
осуществления трапезы). Однако это ещё не всё. Третьим важ-
нейшим понятием, наряду с открытостью и феноменом, явля-
ется понятие сокрытости, синонимы которой — тайна и
таинственное.
Сокрытость, говорит Паточка, пронизывает феномен. Это
значит, что, открывая тот или иной контекстуальный смысл су-
щего, мы никогда полностью не можем им удовлетвориться,
поскольку ни один смысл никогда не дан окончательно и цели-
ком (и определённые, не известные нам пока применения сто-
ла, перефразируя Мерло-Понти, ему ещё предстоят). В этом
смысле, именно сокрытость — как всегда ускользающая от нас
полнота смысла, или, словами Паточки, полнота исходной исто-
ричности мира, — есть почва феномена, из которой он выраста-
ет благодаря открытости человека миру. А мир, в таком слу-
чае, есть структура области открытого, которая, указывая на
тот или иной контекст понимания смысла, всегда оказывается
структурой какой-то определённой эпохи, а не универсумом су-
щего вообще.
Здесь возникает следующий вопрос: при каких условиях нам
открывается сущее? Иначе говоря, всегда ли человек открыт
миру? Предварительный ответ Паточки на этот вопрос: «От-
крытие мира во всех его формах всегда исторично, зависит от
самопоказывания феноменов и от деятельности людей, кото-
рые сохраняют и транслируют открытость» [эссе 7). Открытость
в таком случае — это событие жизни индивида, посредством
традиции касающееся всех.
Способы ответа на эти вопросы отличают позицию Паточки
от позиций и Хайдеггера, и Гуссерля. Суть этих ответов: а) за
феноменами нет единого бытия, а есть множество культурно-
исторических миров и их возможных синтезов, отсылающих к
новым мирам; б) открытость базируется на движении экзистен-
ции, «начинающемся в темноте и снова уходящем в темноту
сокрытости». Само это движение складывается из частичных
движений, не все из которых служат поддержанию и транслиро-
ванию открытости. К последним относится, прежде всего, движе-
ние по защите и поддержанию мира, которое Паточка, вслед за
12 • Ольга Шпарага
Арендт, относит к приватной сфере, или сфере принятого смыс-
ла — существованию ради жизни и на службе у жизни. Однако
такая жизнь ради самой жизни — это ещё несвободная и поэто-
му пока доисторическая жизнь. В ней человек живёт в согласии
с миром, смыслы которого не проблематизируются. Это, преж-
де всего, мир труда, которым человек обременен, и мир чего-то
вечно возвышающегося над человеком, что гарантирует нали-
чие и транслирование смысла в конечном человеческом мире.
Однако уже внутри отношений труда, понятого как бремя,
заложено нечто, что позволяет увидеть скрытую возможность
проблематизации смысла в качестве подкладки доисторической
жизни. «Его [труда] характер бремени производен от еще более
изначальной разновидности бремени, связанной с человеческой
жизнью вообще: с тем, что мы не можем равнодушно относить-
ся к жизни, а всегда должны её "переносить", "ею руководить",
ручаться, отвечать за неё».
Понимание этого — понимание жизни как бремени, которое
и означает проблематизацию смысла, — не вытекает автомати-
чески из необходимости труда и достоверности смыслов, обес-
печиваемой высшими существами. Проблематизация происхо-
дит в результате потрясения человеческой жизни и следующего
за ним подъёма. Благодаря им смысл человеческой жизни и це-
лого обнаруживает не только контекст своего порождения, о
котором мы писали выше, но и ту самую сокрытостъ, или Ночь,
которая окружает всякий такой контекст и делает всякий поиск
смысла бесконечным.
Одним из первых очагов такого потрясения в европейской
истории явился древнегреческий полис, одними из последних
выступают мировые войны XX века, которые вывели на свет
такой феномен, как солидарность потрясённых — сегодняшнюю
форму полемоса, согласия в разногласии (эссе 6). Не представ-
ляя никакой позитивной программы, солидарность потрясённых
предостерегает, насколько опасно превращать мир в Силу, ис-
пользуемую современной техно-наукой для дальнейшего и без-
граничного обустройства нашей жизни ради самой жизни. Аль-
тернативой понимания мира как Силы является обращение к
миру как к полноте ускользающего от нас смысла — демоничес-
«Еретические эссе» Яна Паточки в веларусскож контексте • 13
кого в самих своих основаниях, — который должен быть приве-
дён в отношение с нашей ответственностью, образцом чему
служит сократовская «забота о душе» [эссе 5).
И все же, как сегодня возможна та трансформация челове-
ческого существования, которая, с одной стороны, сделает че-
ловека свободным, что приведёт к учреждению политики в ис-
ходном смысле этого слова, с другой стороны — ответственным
за себя и происходящее в мире, что подтвердит историчность
человеческого существования? Как кажется, именно этот воп-
рос является наиболее насущным для нас — как вопрос о спосо-
бах, какими дальше будет определяться наша судьба.
И тут снова необходимо вернуться к понятию истории (и ис-
торичности), вынесенному в название книги Паточки. Почему?
Потому что без истории человек теряет способность транслиро-
вать опыт своей свободы, что одновременно оборачивается уг-
розой для человеческого сообщества — нации, культуры, госу-
дарства, охраняемого именно посредством исторической транс-
ляции этого опыта.
Одним из образцов такой трансляции, по мнению Паточки,
служит история Европы, в которой история политических ин-
ститутов и политической культуры стояла на страже сосуще-
ствования человеческой свободы с человеческой ответственнос-
тью. И хотя в качестве такого основания, как это говорилось
выше, Паточка выделяет сократовскую «заботу о душе», сама
эта философская практика не может и не должна пониматься
как некий общий принцип. Она должна пониматься как прой-
денный самим Паточкой путь — путь в историю как наисобствен-
нейшее свершение человека [эссе 7). Прерывание этого пути
обычно оборачивается тем, что свобода лишается пространства
и становится судьбой конкретных людей, осуществляющих
трансляцию опыта свободы посредством самой своей жизни, не
защищенной никакими стенами и законами.
К таким людям относится Сократ, осуждённый на смерть за
то, что он отстаивал идеалы полиса в период его упадка; к ним
же относится и Ян Паточка, две с половиной тысячи лет спустя
призывавший к солидарности тех, кто пережил опыт свободы.
Их судьбы еще раз подтверждают: если мы не создадим и не
14 • Ольга Шпарага
будем охранять пространство свободы, то её конкретные носи-
тели снова и снова будут обрекаться на смерть слепой неполе-
мической властью, все же остальные будут прибывать в состоя-
нии доисторической жизни ради её простого поддержания. По-
нять это и противостоять этому и будет означать для нас вступить
в диалог с Яном Паточкой, а значит — встать на путь (европейс-
кой) истории.
В заключение хотелось бы выразить признательность всем
тем, кто в той или иной форме помогал в подготовке к изданию
этой книги: Ивану Хватику, Людгеру Хагедорну, Стефании Ка-
линовской, Олесе Лещенко, Илье Голяшевичу, Елене Толопи-
ло и Кристине Лядской.
1
Размышления о
доисторической эпохе
JJ эпоху начинающегося кризиса механистической физи-
ки позитивистски ориентированный философ Рихард Аве-
нариус предложил и рассмотрел проблему «естественного
понятия мира»1. Эта проблема, а также связанные с ней тер-
мины, такие как «естественный мир» (позднее у Гуссерля
«Lebenswelt», «жизненный мир») и др., оказали влияние, да-
леко выходящее за рамки философии Авенариуса. Эти по-
нятия призваны выразить то, что мы дистанцируемся от «ис-
кусственного» способа рассмотрения модернистской меха-
нистической (мета-) физики, согласно которой окружающая
действительность, доступная нам в восприятии, является
субъективным отображением истинной действительности,
существующей самой по себе и отображённой посредством
математического естествознания. Разумеется, такой способ
рассмотрения предполагает существование недостижимого
в опыте «субъективного внутреннего [мира]», в котором на
основе причинных воздействий в физическом мире и исхо-
дя из него отображается «внешний мир». Следствием этого
стала попытка мысленно отстранить это внутреннее и по-
нять окружающую действительность в её данности как дей-
ствительность саму по себе; отсюда вырастает проблема
структурного описания этого «человеческого мира», мира
«чистого опыта», его «элементов» и отношений, в которые
эти элементы вступают друг с другом и т. д. (Причём позже
частично использовались современные логические средства,
16 • Ян Наточка
взятые из логики отношений, математическое понятие струк-
туры и т. д.) В качестве первоначально предлагаемого реше-
ния служил так называемый «нейтральный монизм» в верси-
ях, предложенных философами начиная с Авенариуса и Маха
и вплоть до Рассела, Уайтхеда, русских интуитивных реалис-
тов2 и англосаксонских реалистов. Следуя ему, объективная и
переживаемая реальности «конструируются» из одних и тех
же «элементов». «Объективной» же или «субъективной» они
становятся только в зависимости от отношений, в которые дан-
ные элементы вступают (такими отношениями являются, с од-
ной стороны, отношения привилегированного комплекса дан-
ных, так называемой «центральной нервной системой» или
«организма», с другой — отношения, присущие совокупности
всех остальных элементов). Эта попытка заменить причинные
отношения зависимости между субъектом и объектом функ-
циональными и структурными отношениями в остальном со-
храняла монистически унифицированную схему действитель-
ности в целом, предложенную в рамках математического есте-
ствознания, и вследствие этого вела к настолько усложнённым
гипотетическим конструкциям, что в них с трудом распозна-
вался «естественный мир» нашего повседневного опыта.
Монистическое понимание действительности, которое по-
бедило в современном математическом естествознании, благо-
даря нейтральному монизму было не только принципиально
сохранено, но ещё и заострено. Тем самым был взят верх над
остатками картезианского дуализма в механистической физи-
ке. Естественно-математическое представление о единстве не-
обходимо избавить от некоторых затруднений, с которыми
механицизму не удалось справиться, например, от противоре-
чия между первичными и вторичными качествами да и вооб-
ще — от существования качественных определений универсу-
ма. Целостность воздействующей действительности также со-
хранялась после того поворота, который совершил в
рассмотрении проблемы объективности так называемых вто-
ричных качеств Бергсон, энергично способствовавший их реа-
билитации. Этот поворот заключался в том, что Бергсон отри-
цал любой атомизм, пусть даже в «логической» форме, и по-
Размышления о доисторической эпохе • 17
нимал мир и опыт мира как качественный континуум, кото-
рый не поддаётся «расчленению» (без упрощающих искаже-
ний и фальсификаций). Разумеется, по практическим причи-
нам человеческий дух производит такой отбор, который соот-
ветствует задачам и потребностям нашей деятельности. Однако,
в сущности, посредством глубинной интуиции, от практики воз-
вращающейся к истинному опыту, он может удостовериться в
связи с мировым целым (континуальность «внутренней дли-
тельности» нас полностью никогда не оставляет). Разумеется, в
описаниях Бергсоном «сжатия» и «растяжения» длительности
выявляется, что эта «интуиция длительности» сама сохраняет
некоторые черты математических схем. Впоследствии и во мно-
гих других философских концепциях, самыми различными спо-
собами стремившихся сочетать атомизм (например, в форме
монадологии или иных метафизических мотивов) с учением о
континуальности или о связи со всем универсумом, дал о себе
знать поворот от «решения» проблемы подхода к предметнос-
ти на основе [постулирования] причинных воздействий внеш-
него на внутреннее. Все они пытались положить в основу иные,
нежели причинные («prehension» — «способность схватывать»,
«гносеологическое согласование» и т. д.)3, отношения, но эти
иные отношения понимались либо как объективные, либо как
базирующиеся на объективных отношениях, всегда предпола-
гая, что восстанавливают «естественное видение мира» обыч-
ного человеческого ума.
Однако неспособность объяснить, почему универсум, рас-
смотренный с этой позиции, не является для нас постоянно акту-
ально данным и какая роль отводится телу при нашем взаимо-
действии с окружающим миром, привела здесь к стагнации.
Также необходимо признать^ что подобным образом едва ли
возможно описать доступность неактуально данного или даже
нереального, а также понимание себя и самопознание, не говоря
уже об исторических и духовных обстоятельствах, которые име-
ют место именно в «естественном», а отнюдь не в методически
реконструированном мире математического естествознания.
Всё это, казалось, устарело в результате поворота, который
в понимании данной проблемы осуществила феноменология
18 р Ян Наточка
Гуссерля. Гуссерль первым ясно увидел то, что вопрос о «есте-
ственном мире» является вопросом о чём-то хотя и известном,
но совершенно непознанном, и что этот «естественный мир»
должен быть прежде всего открыт, описан и проанализирован.
С другой стороны, он заметил, что «естественный мир» не мо-
жет быть постигнут тем же способом, каким изучает вещи ес-
тествознание, что для этого необходима принципиальная сме-
на установки: от направленности на реальные вещи к направ-
ленности на характер их явления, на само явление. Таким
образом, как оказалось в дальнейшем, необходимо было за-
даться вопросом не о мире и его структурах, а о явлении мира.
То есть, с одной стороны, должно быть описано и проанализи-
ровано то, как мир показывает себя, с другой стороны, объяс-
нено, почему он именно так себя показывает. Поскольку явле-
ние всегда выступает как явление себя кому-то, речь шла о
том, чтобы исследовать основание явления, показывания себя.
По этой причине Гуссерль неожиданно перенёс рассмотрение
проблемы на почву трансцендентального идеализма. В то вре-
мя как до Гуссерля идеализм, особенно в форме неокантианс-
кого критицизма, казался неотделимым от образа мира совре-
менного математического естествознания, феноменология Гус-
серля показала, что мир как конкретным образом являющий
себя универсум сущего всегда укоренён в донаучной жизни и с
самого начала оказывается коррелятом этой донаучной жиз-
ни. Идеализм импонировал Гуссерлю именно ввиду возможно-
сти объяснить, как исходно-конкретное присутствие сущего
относится к сознанию: трансцендентность предметов представ-
лялась как сущностный коррелят актов «интенциональной
жизни» в отношении к предметам, то есть как своего рода им-
манентная трансцендентность. Это связано с тем, что акты со-
знания характеризуются именно интенциональностью, то есть
тем, что они «несут» в себе «предметный смысл», на основе
чего они являются актами сознания определённого вида пред-
метов. Таким образом, в глубине наивного, естественного спо-
соба, каким даётся, «являет» себя нам мир, открыт иной, «чис-
тый феномен», который только феноменология могла вывес-
ти на свет, в то время как он оставался сокрытым для обычного
Размышления о доисторической эпохе • 19
взгляда, направленного на реальность вещей. Этот чистый
феномен является не просто коррелятом «естественного созна-
ния», которое само при этом выступает одним из предметов
мира, находящимся в причинных отношениях с остальными
предметами и принимающим в рамках психофизической ап-
перцепции вид «качества» или той или иной стороны организ-
ма. Этот феномен скорее является коррелятом абсолютного,
«трансцендентального» сознания, которое отвечает за всякое
явление и самопоказывание любого предмета, следовательно,
как организма, так и реального опредмеченного сознания. В
ходе развития феноменология расширила трансцендентальное
сознание до «трансцендентальной интерсубъективности», в ре-
зультате чего перевернула отношение между сознанием и пред-
метным миром: вместо маленьких островков сознания в море
изначально природной, а затем естественно-научно понятой
объективности здесь уже разливалось море интерсубъективно-
сти, омывающее сушу объективного мира и тем самым связы-
вающее отдельные трансцендентальные переживания-«потоки».
Этот субъективный поворот применительно именно к пробле-
ме «естественного мира» привёл, таким образом, к столь ради-
кально заострённому идеализму и к повторению многих тем
абсолютного идеализма послекантовской эпохи (проблемати-
ка интерсубъективности напоминает философию Шеллинга пе-
риода трансцендентального идеализма), конечно же, с совер-
шенно иными, неконструктивными методами. Таким образом
объяснялась исходная данность предметов актуальному созна-
нию. Однако осталось проблематичным, не получили ли сами
предметы чуждое толкование, не сохранился ли здесь опреде-
лённый ментальный остаток относительно изначального фе-
номена? Пассивные и активные синтезы, благодаря которым
предметы являют себя нам, кажется, имеют смысл только тог-
да, когда осуществляются на основе чего-то ментально «реаль-
ного». А ментальный остаток всегда означает некий пережи-
ток картезианского расщепления сущего, то есть пережиток
такого понимания бытия, которое легло в основу традиции ма-
тематического естествознания. Несмотря на подчёркивание
важности задачи структурного анализа естественного мира, этот
20 • Ян Наточка
анализ так и не был осуществлён. [Гуссерль] так и не смог доб-
раться до человека и таких феноменов, как труд, производ-
ство, действие и творчество.
Хайдегтер последовал за мыслью Гуссерля о том, что про-
блему необходимо начать обсуждать с исследования явления
того, что себя являет, и структур того сущего, которому явля-
ющее показывает себя. Тем самым Хайдеггер трансформиро-
вал мысль Гуссерля. Сущее, которому являющее показывает
себя, сущее, которым оказывается человеческое существо, он
понимал как сущее с совершенно особым устройством. Это
сущее отличается от всего прочего сущего тем, что понимает
бытие, так как имеет к нему отношение, так как оно относится
к бытию (так как оно есть это отношение). Только таким обра-
зом можно прийти к тому, что человеческое сущее является
«открытым» для сущего (которому присуще бытие). Это не
означает, что человеческое сущее как бы отображает или от-
ражает сущее. Скорее, «результатом» понимания бытия этим
сущим является то, что сущее показывает ему себя из себя са-
мого в качестве того, что оно есть. Человек в своей сущности
есть эта «открытость» — и ничто другое.
Открытость означает возможность (фундаментальную воз-
можность) человека, заключающуюся в том, что сущее (сущее
такого рода бытия, к которому сам человек не принадлежит, и
сущее такого рода бытия, к которому он принадлежит, — от-
крытое сущее) показывает ему себя из себя самого, то есть без
опосредования чем-то иным. (Это означает не то, что не суще-
ствует никакого опосредованного показывания, а то, что вся-
кое опосредованное отсылание предполагает исходное показы-
вание и выступает отсыланием к нему и внутри него: язык, на-
пример, показывает иное, чем то, что само себя нам
показывает.) То, что сущее может ему себя показывать, высту-
пает существенной особенностью человека: то, что нечто мо-
жет стать для него феноменом, то есть имеет возможность
показать себя в своём что-и так-бытии. Человек в этом случае
не является местом, в котором формируется сущее, чтобы за-
тем получить возможность явить себя, как оно есть, и точно
так же человеческий «дух» — это не вещь, в которой отража-
Размышления о доисторической эпохе • 21
ются явления как воздействия «внешнего мира». Человек пре-
доставляет сущему возможность показать себя в качестве того,
что оно есть, так как только в человеческом вот-бытии акту-
ально или есть вот понимание того, что означает бытъ, следо-
вательно, возможность, которую вещи не могут получить из
самих себя и которая для них не имеет смысла, — прийти к
своему собственному бытию, то есть сделаться феноменами,
показать себя.
Это понятие феномена (как явления в глубоком смысле
понимания бытия) препятствует рассмотрению того, что пока-
зывает себя, в качестве субъективных вещей, в результате чего
фундаментальным образом преодолевается метафизика совре-
менного (механистического и не только механистического) ес-
тествознания. Однако при этом становится невозможным и
любой идеализм в смысле «субъективации данности». А вмес-
те с ним преодолеваются и позитивистские старания сторонни-
ков «нейтрального монизма», полностью производные от лож-
ного понятия феномена, как если бы мир был собранием ве-
щей и вещественных отношений, которые просто наличествуют
здесь, и как если бы его самопоказывание удавалось объяснить
из этих отношений. Как будто бы проблему исходной даннос-
ти, актуального присутствия сущего можно решить посредством
констатации того, что сущее просто есть вот. Однако сказан-
ное относится и к понятию «качественного мира» Бергсона: этот
мир хотя и отказывается быть расщеплённым на функциональ-
ные аргументы, но также не позволяет ухватить явление. Даже
сам Гуссерль, философ, первым указавший на то, что вещь
сама и как таковая вместе со своим значением и всеми своими
данностями и бытийными характеристиками разворачивается
как феномен, не сумел предложить в полной мере адекватное
понимание явления. Хотя он и видел, что вещи показывают
сами себя из самих себя, а также обратил внимание на то, что
сюда же следует отнести «способ данности» и структуру бытия
вещей, тем не менее, всё это он истолковывал по-прежнему
«менталистски» как «оживление» реально данного при помо-
щи придающей смысл «интенции». Конечно, это позволило ему
использовать для «ноэтического анализа» понятия традицион-
22 • Ян Наточка
ной психологии, такие как «представление», «мышление», «фан-
тазия» и т. д., вместе с понятиями, взятыми из первоначально-
го созерцания открытости бытия-в-мире. Он остался, таким
образом, слеп к вопросу о бытии и его связи с явлением.
Мы пока не можем дать набросок основных черт «открыто-
сти». Однако мы хотя бы укажем на то, что к структуре откры-
тости принадлежит двойственное понятие феномена, что имеет
принципиальное значение. Открытость человеческого бытия-
в-мире, прежде всего, позволяет сущему показывать себя, явить-
ся, стать феноменом. С другой стороны, если сущее должно
показываться как таковое, то есть в своём бытии, должно быть
возможным, чтобы и само бытие показывало себя и станови-
лось феноменом. Бытие есть, однако, первоначально и в основ-
ном «вот» так, что оно отступает в темноту перед сущим, явле-
ние которого сделало возможным, так, что оно в то же самое
время скрывается в сущем. Сокрытость в разнообразных фор-
мах, таких как «закрытость», «отсутствие», «искажение», «скры-
вание», сущностно принадлежит феномену. Каждый феномен
необходимо понять не иначе как «выведение на свет», выход
из сокрытости. Сокрытость пронизывает феномен, или даже
более того: она есть то, что впервые позволяет являющему су-
щему появиться из себя.
Если мы лишим «ноэматическую сферу» Гуссерля значе-
ния «имманентной трансцендентности» и при этом также от-
влечёмся от односторонней направленности на объект, то обна-
ружим приблизительно то, что Хайдегтер называет [областью]
открытого. Это та сфера, которая в определённое «время» пред-
ставляет разные возможности феноменализации того, что бу-
дет раскрыто. Область открытости не идентична универсуму
сущего, но выступает тем, что в определённое время можно рас-
крыть как сущее. Это мир определённой эпохи, если мы пони-
маем мир как структуру того, в качестве чего сущее в опреде-
лённое время может являть себя человеку.
Это в качестве чего первоначально скрывает себя, как уже
было сказано, в сущем, которое показывает себя. Показываю-
щее-себя, или являющее-себя как таковое, сущее, данное как
способ явления своего содержания — цвет как цвет, звук как
Размышления о доисторической эпохе • 23
звук, — выступает оптическим феноменом. Феномен никогда
не существует без структуры, без того, в качестве чего он явля-
ет себя. Но то, что нечто онтическое показывает себя, всегда
означает: онтический феномен, который прорывается вперёд,
приобретает характер феномена от чего-то сокрытого, от он-
тологического феномена, показывающего себя только в опреде-
лённых, особых обстоятельствах, правда, тогда он также пока-
зывает и самого себя и из самого себя (а не только скрывается
в онтическом феномене).
Феномен, явление и сокрытие самым тесным образом свя-
заны между собой. Ни одно явление не существует без сокры-
тости. Сокрытие является первичным в том смысле, что каж-
дое явление может быть понято только как раскрытие.
Явление в первичном смысле онтического явления — это
всегда явление сущего. Не существует никакой первичной реп-
резентации сущего посредством чего-то «ментального». Пред-
ставление, воспоминание, фантазия, мечта и т. д. выступают
психологическими терминами, полученными с помощью оттал-
кивания от реалистического понятия души, и их необходимо
переосмыслить с точки зрения открытости. Посредством них
нечто сущее постоянно вступает в сферу открытости неким
особым способом: в качестве феномена, выступающего на сво-
ём собственном фоне сокрытости, посредством «вхождения» в
определённый горизонт (раскрытой сокрытости), посредством
«падения», ведомого определённым горизонтом, или посред-
ством «очарования» и «пленения» им, горизонтом, который либо
полностью себя скрывает, либо как таковой открыт.
Однако существует также и производная феноменальность.
Она заключается не в том, что нечто показывает само себя, но
в указании на нечто, что само себя показывает. Производная
феноменальность указывает на показывание и тем самым опос-
редованно указывает на то, что показывается непосредствен-
но. Такую производную феноменальность мы имеем в языке,
и в особенности в высказываниях. Высказывания не заключа-
ют в себе смысл, который как будто бы в них уже содержится,
но указывают на нечто такое, что показывается непосредствен-
но. Однако в качестве таких указаний они могут стать резерву-
24 • Ян Наточка
аром того, что показывается, и служить передаче последую-
щим поколениям того, что однажды уже было усмотрено. Та-
ким образом, они могут стать основанием для поведения, кото-
рое предназначено для того, чтобы расширить область откры-
тости и служить ей.
Однако поведение человека, направленное на расширение,
то есть транслирование области открытости и того, что её ок-
ружает, не ограничено языком, высказываниями и их раз-
личными формами. Существуют формы расширения и транс-
лирования открытости также в религии, мифотворчестве, ис-
кусстве и жертвоприношении. Однако мы не можем их здесь
пояснить. Каждый из этих видов деятельности, каждая такая
форма поведения содержат определённый модус разоблаче-
ния сущего, или бытия. В культе и мифе вещи избавлены от
повседневной значимости, от взаимосвязей служения жизни и
приобретают характер родов свободного изначального суще-
го. И только в изобразительном искусстве «материя» как тако-
вая показывается в том, что она есть; только высвободившись
от реальных функциональных отношений, материал принима-
ет роль проясняющего мир как мир. Открытие мира во всех
его формах при этом всегда исторично, зависит от самопока-
зывания феноменов и от деятельности людей, которые сохра-
няют и транслируют открытость. Открытость разыгрывается
как событие жизни индивида, но касается посредством тради-
ции всех.
Теперь становится более понятным то, что мы таким обра-
зом приближаемся к проблеме «естественного мира», как и то,
каким образом он может быть восстановлен по ту сторону
любого материализма (который понимает сущее в смысле ес-
тественнонаучной реальности и пытается свести бытие к ней) и
идеализма. Вещи, с которыми мы сталкиваемся, схватываются
как сами вещи, правда, обладая структурой того, в качестве
чего они являют себя, а также в качестве выныривающих из
сущностной сокрытости к открытости. В игре явления и со-
крытия они показывают себя как то, что они суть, и тем самым
показывают нешуточностЬ своего бытия. При этом явление само
исторично, причём двойственным образом: как раскрытие су-
Размышления о доисторической эпохе • 25
щего и как обнаружение структур бытия, которые сами могут
открываться не иначе как исторически.
Теперь, однако, мы также можем сказать, почему пробле-
ма «естественного мира» (или, говоря вслед за поздним Гуссер-
лем, жизненного мира) не была решена Хайдеггером, хотя сле-
дует отметить, что его понятие открытости до сих пор являет-
ся наиболее приемлемым основанием, с опорой на которое такое
решение можно найти. Хайдеггеровский анализ феномена и
открытости направлен не напрямую к проблеме «естественного
мира», а к основному философскому вопросу о смысле бытия,
следовательно, к основополагающему принципу всякой фено-
менальности вообще. Отталкиваясь от неё, Хайдегтер ведёт
речь, прежде всего, о тех модальностях открытого поведения
человека, которые имеют характер тематического открытия
сущего и бытия, какими являются, например, практическое от-
крытие, указание, речь и высказывание, философствование,
наука и техника, искусство. Единственно либо преимуществен-
но посредством них или в них возможно найти точку опоры
для постановки вопроса о бытии и для его разворачивания в
соответствии с феноменами. Вопреки этому существуют, ко-
нечно же, способы открытого поведения человека, которые не
имеют в качестве изначального смысла и содержания сохране-
ние и транслирование открытости. Естественный мир, жизнен-
ный мир удаётся понять только как целостность сущностных
способов человеческого поведения, включая их предпосылки
и последствия (Sedimente). Как мир человека, эта целостность
является миром феноменов в указанном выше смысле (отнюдь
не субъективных, а как способов разоблачения сущего и бы-
тия), поэтому этот мир доступен только открытому поведению.
Открытое поведение отсылает к феноменам и имеет времен-
но-исторический характер: оно всегда находится в движении, на-
чинающемся в темноте и снова уходящем в темноту сокрытос-
ти. Что касается смысла, то он складывается из различных
частичных движений. Только одно из них имеет своей тежой
открытость, её выявление, разоблачение и транслирование. Те-
мой других выступает укоренение человека в открытом окру-
жении совместного человеческого мира, а также защита и под-
26 • Ян Наточка
держание этого мира. Только рассмотрение и понимание вза-
имных отношений всех этих движений дало бы представление
о том, что такое естественный мир, человеческий жизненный
мир. До разрешения этого вопроса нам ещё далеко.
Однако уже теперь мы можем сказать, каким образом, по
нашему мнению, проблема естественного мира не может быть
разрешена. Если эта проблема должна быть понята так, что
под наслоением «искусственных», то есть сконструированных,
понятий мира необходимо заново обнаружить в качестве ин-
варианта нечто первичное по происхождению, то следует ска-
зать, что, по всей видимости, такого инварианта не существу-
ет. Сущее — это всегда синтез, но не субъективный, а онтико-
онтологический. Это означает, что внутри свершающихся
человечески-исторических разоблачений бытия возникают все-
гда новые исторические миры, которые, будучи синтезами, сами
должны быть чем-то оригинальным: каждая их часть или каж-
дый компонент подвержены тому, чтобы начать принадлежать
новому целому. V нас нет даже того восприятия, которое было
присуще древним грекам, даже если физиологически наши и
их органы чувств тождественны. Человек нерелигиозной эпо-
хи не только видит иные вещи, но и видит вещи иначе, нежели
тот, кто может сказать panta plere theon4, или тот, кто зовёт
чужеземца к очагу, поскольку и там есть боги0. Возможно, ис-
торические миры взаимно сближаются в области повседневно-
сти, но и она никоим образом не существует автономно. Как
инвариант в таком материальном смысле жизненный мир и
понимался Гуссерлем. Вне его Гуссерль видит только различ-
ные понятия, или «картины мира» (как, например, мир совре-
менного математического естествознания), которые зависимы
от некоторого определённого, специального мира, отвечающе-
го деятельности специалистов. Однако в наивысшей мере со-
мнительно, сможем ли мы таким способом исследовать не толь-
ко феномен исходного присутствия вещей в мире и основных
областей мира, но также и феномен исторического характера
содержания мира, то есть тот факт, что содержания мира вы-
ныривают на поверхность и снова исчезают в соответствии со
способом онтологического подхода. Исходная историчность
¥азм,ышлепия о доисторической эпохе • 27
мира, таким образом, не раскрывается во всей полноте. И если
возможно говорить об инварианте, то только в формальном
смысле: не существует никакого инвариантного компонента, и
только онтико-онтологические синтезы, сопровождающие ра-
зоблачение сущего, являются константой. Все исторические
миры являются «естественными», тогда как искусственными
являются только определённые виды деятельности (такие как
техника) и связанные с ними истолкования мира, а именно та-
кие, которые пытаются опираться не на сами феномены, а на
производные конструкции.
Однако о естественном мире можно говорить также в не-
сколько ином смысле — если бы мы понимали под ним мир,
предшествующий выявлению его проблематичности. Мир без
проблематичности — это такой мир, в котором сокрытость как
таковая ещё не изведана. А именно, не потому, что этот мир
как будто бы не имеет и не знает таинственных вещей, святости
и таинственности. Напротив, он может быть ими полон, и они
могут в нём играть решающую роль. Однако в этом мире нет
опыта перехода, выхождения сущего как феномена из темноты
в такую открытость, в которой одновременно выходит на свет
и то, что делает возможным явление сущего вообще и что толь-
ко и даёт вопросу о сущем почву под ногами. Такой опыт не-
возможно получить в мире без проблематичности, потому что
только открытое бытие сущего наделяет размерностью то, что
есть и чего нет, и только открытое бытие позволяет отчётливо
определить с помощью очевидного и надёжного то, что есть.
Мир до проблематичности — это одновременно мир задан-
ного, хотя и скромного, но вполне надёжного смысла. Он име-
ет смысл, то есть понятность, поскольку существуют силы, де-
моническое и божественное, которые стоят над человеком, гос-
подствуют над ним и выносят решения о его судьбе. В этом
мире человек не располагается в центре и не является его це-
лью. Человек приобретает своё место в мире, только прини-
мая во внимание это высшее. Он приобретает его со всей уве-
ренностью и удовлетворяется им. То, что человека таким об-
разом подчиняет, является решающим в мире и определяет
судьбу и деятельность человека. — Мы можем приблизиться к
28 • Ян Наточка
этому «естественному миру», поскольку он находится где-то в
преддверии нашей истории, можем приблизиться частично на
основе исследований и статей о так называемых «первобыт-
ных народах»; хотя, конечно же, в этих статьях необходимо
обращать внимание на феноменальное содержание. Первобыт-
ные народы живут в мире, существенно отличающемся от на-
шего и онтологически тяжело усматриваемом. Однако в нём
всегда присутствует сверхчеловеческое как сама собой разуме-
ющаяся противоположность по отношению к человеческому
(как правая сторона существует только в противоположность
левой, верх — в противоположность низу, день — в противопо-
ложность ночи, а будни — в противоположность праздникам).
В этом мире хотя человеку и могут повстречаться духи, демо-
ны и иные таинственные существа, тайна явления как такового
ему не может открыться. Основополагающий набросок усло-
вий возможности такого естественного бытия-в-мире подразу-
мевает существование в [ситуации] этого непроблематизиро-
ванного смысла. Эта черта естественной жизни всегда очевид-
на: естественные народы принимают то, в чём мы сомневаемся,
как будто они заранее знают то, о чём мы только собираемся
спросить. То, что жизнь имеет смысл и жить стоит, является
для них само собой разумеющимся. В этом их жизнь сходна с
жизнью животного, которое живёт, просто чтобы жить. Но она
отличается от жизни животных тем, что её постоянной под-
кладкой является скрытая возможность проблематизации, ко-
торая может вспыхнуть, но которую люди не могут реализо-
вать и которую они даже не имеют намерения реализовать.
Таким образом, проблематичность имеется и здесь, но в [со-
стоянии] сокрытости как подавленной, но одновременно пол-
ностью не отсутствующей. Кажется, что между человеком и
миром, индивидом и группой, сообществом людей и миром су-
ществуют отношения, фантастическим образом представляю-
щиеся произвольными, случайными и несущественными, одна-
ко эти отношения приведены в систему и им строго подчиня-
ются- Это в высшей степени конкретная жизнь, которой не
«приходит в голову» ничего другого (в качестве цели), кроме
как жить. Впрочем, она настолько наполнена заботой о насущ-
Размышления о доисторической эпохе • 29
ном каждодневном хлебе и потреблении того, что предостав-
ляет окружающий мир, что решение этих задач практически
полностью исчерпывает повседневную жизнь.
Однако существует определённая ступень этой само собой
разумеющейся жизни, на которой практически достигается
граница её непроблематичности. Это происходит в тех случа-
ях, когда человек становится оседлым и начинает системати-
чески обеспечивать себя всем необходимым pro futuro, причём
так, что все должны принимать участие в решении этой зада-
чи способом, исключающим самостоятельность индивидов и
малых групп. В таких условиях возникли первые цивилизации,
где уже существует общая память, которая переживает инди-
вида, — это письмо. Благодаря ему впоследствии возникают
письменные творения, образующие как бы второй мир, кото-
рый отсылает к первому. Человек придаёт своей памяти проч-
ность камня и кирпича, и мифы, эти творения особого рода, с
помощью которых он волей-неволей объясняет мир, приобре-
тают значимость, кочуя от одного народа к другому, и стано-
вятся общим достоянием.
Здесь следует подумать о том, нельзя ли размышления об
этом виде естественного мира использовать для понимания
того, что такое история.
Однако здесь нам недостаточно анализа человеческого бы-
тия-в-мире, направленного к открытости, её сохранению и рас-
ширению [её области]. Разумеется, открытое бытие-в-мире и в
дальнейшем будет и должно оставаться нашей исходной точ-
кой. Однако мы должны, прежде всего, уделить внимание этому
изначальному, первичному наброску естественного «непробле-
матичного» человека, простой жизни, какой она даёт о себе
знать в смысловой самоочевидности и содержится снова-таки
в традиционном способе жизни, в формах и способах трансля-
ции. Эта жизнь со всеми своими усилиями и в своей конечности
принята и одобрена как нечто такое, что по праву принадлежит
человеку и что ему предназначено. Отсюда вытекает одно важ-
ное практическое следствие: человеческий мир — это мир тру-
да, мир стараний и усилий. Теперь нам необходимо попытать-
ся с помощью феноменологии проанализировать «практичес-
30 • Ян Наточка
кую активную жизнь», как это сделала X. Арендт, которая вслед
за Аристотелем провела различие между tkeoria, praxis vl pole sis.
Нет ничего случайного в том, что хотя в Бытии и врежепи
Хайдеггера и приводятся примеры из ремесленной области (по-
скольку в этой книге речь идёт об орудиях, или подручном, а
также о взаимосвязях обстоятельств дел), тем не менее в ней
нигде не говорится о том труде, который, как показала Арендт,
неотделим от простого поддержания жизни, пожирающей саму
себя. В её исследованиях там, где различаются труд, производ-
ство, реагирование и действие как области активной жизни,
человек рассматривается в тех возможностях бытия-в-мире,
которые не имеют в качестве своей темы несокрытость, разоб-
лачение («истины») во всех его формах. Среди этих возможно-
стей, пожалуй, самым важным является проект жизни ради
самой жизни: труд должен стать сущностным отношением че-
ловеческого бытия-в-мире, поскольку человек, как и всё жи-
вое, подвергнут постоянному самоизнурению, требующему до-
бывания того, что снова и снова заявляет о себе в качестве
предметов первой необходимости. Отсюда следуют вопросы,
выражающие специфический круг проблем — проблем соб-
ственного и чужого труда, использования труда и освобожде-
ния от него. Самое существенное здесь — привязанность жизни
к ней самой, «физическая» необходимость существовать так,
чтобы жизнь была посвящена обеспечению жизни, поставлена
на службу самой жизни. Разумеется, это лишь одна из форм
жизни, в которой постоянно наличествует конечность челове-
ческой жизни, её направленность к ничто и смерти. И всё же
эта жизненная форма не определена; это форма деятельнос-
ти, которая своими хлопотами скрывает своё существо. Так,
труд, в отличие от жизни животных, чья скромная открытость
исчерпывается поиском добычи и средств к существованию,
связан с проблематичностью жизни и одновременно затемня-
ет её рассмотрение и препятствует ему. Животные не трудят-
ся, хотя им присуща тревога за самих себя и защита самих
себя, а также своей семьи. Соответственно, удовлетворение на-
сущных жизненных потребностей для животного не является
бременем, каковым оно выступает для человека.
Размышления о доисторической эпохе • 31
Человеческий труд предполагает свободное распоряжение
пространством и временными интервалами и при всей однооб-
разности не стереотипен, а, напротив, целесообразен и целе-
направлен. Характер бремени, следовательно, труд приобре-
тает не столько ввиду физического усилия (возникающего в
связи с тем, что поле трудовой деятельности — это не разно-
видность «зернохранилища», в котором хранится и всегда го-
тово к употреблению всё необходимое для жизни, оно оказы-
вает сопротивление добыванию пропитания человеком), сколь-
ко в той связи, что нам здесь навязывается определённое
решение — и именно таковым мы его ощущаем. Парадоксаль-
ным образом труд даёт нам ощущение свободы. Его характер
бремени произведен от ещё более изначальной разновидности
бремени, связанной с человеческой жизнью вообще: с тем, что
мы не можем равнодушно относиться к жизни, а всегда долж-
ны её «переносить», «ею руководить» — ручаться, отвечать за
неё. Поэтому труд, который (согласно анализу X. Арендт) все-
гда изначально служит потреблению, возможен только на осно-
ве свободного бытия-в-мире, но вместе с тем он способен тор-
мозить и подавлять разворачивание этой свободы и всю свя-
занную с ней проблематичность. Мир, в котором на основе
скрытой свободы осуществляется привязывание жизни к ней
самой, — это мир труда, исходным элементом и образцом ко-
торого выступает домашнее хозяйство, сообщество тех, кто
работает для обеспечения пропитания (а позднее для того, что-
бы освободить некоторых своих членов от этого обязательства).
Великие царства древнего мира, первые высокие цивилизации
и культуры были в этом смысле монументальными домашними
хозяйствами. Жизнь в них подчинялась прежде всего репродук-
ции жизни, поддержанию её пламени, и ничто в них не указы-
вало на то, что человек выдвигал претензии на нечто большее.
Если мы будем понимать труд таким образом, тогда он ока-
жется фактором не только неисторическим, но даже направ-
ленным против истории, на её торможение. Труд является тем,
что более всего и дольше всего способно удерживать человека
в рамках проекта простейшей непритязательной жизни как
таковой. Человек не может быть объяснён исходя из трудовой
32 • Ян Наточка
деятельности, поскольку сам труд возможен только на основе
открытости человеческой жизни. Историю невозможно объяс-
нить исходя из труда, поскольку только в истории труд вступа-
ет в такое единство с производством, которое делает сам труд
зависимым от истории. Разумеется, уже в первых цивилизаци-
ях мы обнаруживаем различие между трудом и производством.
Только на основе производства человеческий мир приобрета-
ет характер чего-то сохраняющегося во времени, устойчивого
каркаса, скрытого под мягкотелой изменчивой формой репро-
дукции жизни. Городская стена, рыночная площадь, храм, пись-
мо являются выражениями этой устоявшейся жизни. При этом
самопонимание человека по-прежнему определено прежде всего
миром труда, который тем самым демонстрирует своё превос-
ходство. Очевидно и то, что само производство подчинено тру-
ду. Оно служит обеспечению пропитания работающих и нахо-
дится с их трудом в неизбежном обмене. Соответственно, ре-
гулирование этого обмена, организация сообщества трудящихся
с необходимостью осуществляются из центра, привилегирован-
ность которого обусловлена тем, что он освобождён от обеих
обязанностей — как от обязанности трудиться, так и от обязан-
ности производить, — и в этом смысле как бы вознесён над
привычным человеческим уделом.
В диалектике самосознания Феноженологии духа Гегель свя-
зывает начало истории с паникой, охватывающей рабское со-
знание, которое осознаёт привязанность к жизни и отдаёт само
себя, свою свободу в пользу жизни, — и с этого момента начи-
нает принадлежать и подчиняться другому сознанию (созна-
нию господина). Но у нас есть намного более убедительное сви-
детельство изначально рабского самопонимания человечества,
которое в форме жизни первых высоких цивилизаций подчи-
нено жизни; это свидетельство — мифопоэтические творения.
Человек здесь обнаруживает себя как жизнь, которая постоян-
но находится под угрозой, и как жизнь, отмеченная смертью,
посвященная труду, то есть непрекращающемуся предотвра-
щению угрозы, всё равно одерживающей в конце концов побе-
ду над человеком. Однако на краю таким образом понятого
человечества появляется, как его противоположность, жизнь,
Размышления о доисторической эпохе • 33
которая не подвержена этой угрозе, жизнь, которая хотя и мо-
жет быть в самых разнообразных формах нуждающейся, но
она не подчинена смерти. По этой причине она триумфально
торжествует над какими угодно ощущаемыми потребностями;
однако это не человеческая, а божественная жизнь.
В древневавилонском эпосе об Артхашастре7 изначально
боги должны были всю работу выполнять сами. Они попыта-
лись переложить её на низших божеств, что им сделать не уда-
лось. И тогда они были вынуждены изобрести смерть. Они
убили для этого одного из низших божеств, из плоти и крови
которого создали человека, — и препоручили ему труд как его
собственный удел, так что боги смогли позволить себе чистую,
ничем не омрачённую жизнь. Напротив, человеческая жизнь
поддерживает себя посредством труда, истощения и боли, а
связующим звеном между трудом и жизнью выступает смерть.
По этой причине общество является теократическим: те, кто
свободны, без затраты усилий живут за счёт труда других, —
это божества или дети богов, которым на долю не выпадает
обычный человеческий удел. Таким образом созданную дис-
танцию никак нельзя преодолеть, между богами и смертными
не может существовать взаимности в смысле равноправного
признания. И точно так же такого признания не существует
между подданными: они находятся здесь, чтобы трудиться и
на разных ступенях служить производительности. Они созда-
ют отлично организованное домашнее хозяйство, которое при-
носит хорошие результаты, имеющие, по сути, один и тот же
смысл: поддерживать жизнь всех членов этого общества за счёт
того, что иного жизненного содержания они для себя ссилих не
знают и не требуют.
В связи с этим также можно напомнить миф о сотворении
человека в книге Бытия в интерпретации В. Брёкера.8 Соглас-
но этой интерпретации, и в этом случае Бог создал человека
для того, чтобы тот возделывал Его сад. Себя же Он обеспе-
чил чистой жизнью, состоящей в наслаждении плодами с дре-
ва жизни, в то время как человеку в этом было отказано по-
средством запрета на срывание плодов с древа познания добра
и зла. Нарушение запрета означало изгнание из рая незнания о
34 * Ян Наточка
неизбежном уделе смерти и навязывание человеку жребия,
связанного с изнурительным трудом и родовыми муками.
Однако нам необходимо вернуться к мифу об Артхашаст-
ре, если мы хотим лучше понять смысл божественного возвы-
шения над человеческим напряжённым трудом, с одной сторо-
ны, и смысл человеческой смертности — с другой. Боги возне-
сены не над принципиально любым усилием человека — усилие
для них выступает не условием жизни вообще, а только усло-
вием хорошей жизни в упорядоченном мире, где они наслажда-
ются почестями и жертвоприношениями в свою честь. И в этом
смысле они нуждаются в сообществе с людьми, которое, ко-
нечно, является сообществом, образующим оппозицию, кон-
траст. Труд богов поэтому — это сверхчеловеческий труд, зат-
рагивающий мировое устройство и его поддержание, и в их
случае речь не идёт о постоянной заботе о хлебе насущном. С
другой стороны, смерть — это не только плод божественного
насилия над равными себе, но в человеческом понимании так-
же и нечто такое, что превосходит судьбы смертных. Умира-
ют отдельные индивиды, но человеческий род сохраняется как
генеративная связь, пронизывающая вымирающие поколения.
Таким образом человек принимает участие в божественном
порядке. Может оказаться, что боги ощутят пренебрежение
или вмешательство со стороны людей, может оказаться, что
некоторые боги настолько забудутся, что у них возникнет мысль
вообще погубить человеческий род. Отсюда берёт начало ин-
терпретация такого события, как всемирный потоп и спасение
человеческого рода после него. Такого рода катастрофа явля-
ется примером божественного воздействия. Однако Бог муд-
рости уже заранее знает, что человечество не должно быть
уничтожено, и посылает Своему избраннику вещий сон, позво-
лив ему построить ковчег и погрузиться на него со всей семьёй.
Чтобы не возникло недоразумения, спора между богами, сам
избранник тогда становится бессмертным, что ни в коем слу-
чае не распространяется на его потомков, и человеческий род
таким образом может продолжиться. С одной стороны, потоп
делает очевидным критическое положение человека и зависи-
мость этого положения от Бога. Однако, с другой стороны,
Размышления о доисторической эпохе • 35
оказывается, что и боги, испугавшись опустошения, затрагива-
ющего сам корень мирового порядка, возвратились к неравно-
му сообществу с людьми, допускающему такое опустошение
только в виде кары за грехи.
С этого времени потоп означает не только то, что каждый
отдельный индивид подвергнут опасности смерти, но и угрозу
глобальных катастроф для всего человеческого рода. Такие
катастрофы хотя и не могут погубить человечество целиком,
но всё же показывают каждому индивиду, что он находится
под угрозой и что даже труд не может дать уверенности в жиз-
ни. Таким образом, зло в мире существует как божественное
установление, как постоянная угроза, нависающая над челове-
чеством. Существует, конечно, также божественная помощь,
предназначенная для того, чтобы люди под руководством бо-
гов боролись против зла и ограничивали его. Божественное ус-
тановление предполагает, что зло стоит над человечеством, но
так, что при этом человек оказывает ему сопротивление и ве-
дёт против него борьбу, насколько это в человеческих силах.
Таким образом, возможно допущение, что на заднем плане
истории о Гильгамеше9 и его борьбы против мирового зла на-
ходится миф о потопе и что повествующий об этом эпизод
внесён в поэму совершенно не случайно. Гильгамеш не являет-
ся богом в собственном смысле слова: он является богом толь-
ко на две третьих, так как избавлен от забот о насущном хлебе
и находится в мире для совершения сверхчеловеческих дей-
ствий, касающихся мирового порядка; однако при этом он под-
вержен смерти. Его главная, почти божественная задача состо-
ит в том, чтобы поддерживать божественный порядок во имя
добра. Исполнение этой задачи он начинает с того, что строит
город, в котором люди защищены от нищеты и неприятелей.
Однако для этого ему необходимо применить насилие и затра-
тить неизмеримо больше сил и усилий в сравнении с теми, на
какие обычно способны люди. Для удовлетворения просьб смер-
тных боги призывают Гильгамеша к свершению других поступ-
ков. Прежде всего, он должен помериться силами с человеко-
зверем Энкиду, которого он из врага превратил в помощника
и защитника; затем — с мировым духом зла Хумбабой, кото-
36 • Ян Наточка
рый обитает в западных краях и всегда бодрствует, то есть прак-
тически находится начеку, готов к нападению: он охранник бога
земли Энлила, больше всех остальных божеств выступающе-
го за потоп. Поскольку Хумбаба по приказу и с помощью бога
Солнца был повержен и убит, Энкиду выбрали в качестве жер-
твы для примирения, и он сам должен заплатить смертью.
Однако ещё более суровый удел выпадает на долю Гильгаме-
ша, который, подобно первому человеку из книги Бытия, толь-
ко теперь в полной мере осознаёт свою смертность и в пани-
ческом страхе убегает на край света, чтобы найти там бессмер-
тие. (Эпизод с небесным быком и насмешкой богини Иштар
мы опустим, поскольку это всего лишь воспроизведение борь-
бы с мировым духом зла Хумбабой: на месте Энлила здесь
оказывается богиня плодородия Иштар, а вместо Хумбабы —
небесный бык.) На пути к единственному человеку, созданно-
му бессмертным по единодушному мнению богов, мы сталки-
ваемся с характерным эпизодом (который не встречается в
новой версии, имеющейся в библиотеке Ашшурбанипала): «бо-
жественная дарительница» Сидури высказывается здесь осо-
бенно отчётливо о том, что человек может, а чего нет. «Куда
ты бежишь, Гильгамеш? Жизнь, которую ищешь, ты не най-
дёшь! Когда боги сотворили людей, они дали им в удел смерть,
а их жизнь взяли в собственные руки. Ты, Гильгамеш, наполни
желудок, радуйся день и ночь! Ежедневно можешь устраивать
праздники, танцевать и развлекаться день и ночь! Имей чис-
тые одеяния, умытую голову, сам будь выкупан! Взгляни на
ребёнка в своих руках, пусть радуется жена твоим ласкам, та-
ковы дела человеческие!»
Эта речь отнюдь не гедонистична, как иногда говорят, на-
против, она очерчивает границы человеческих возможностей
с точки зрения проекта конечной жизни, привязанной к себе
самой: максимум, которого она может достичь, определяется
мерой упорядоченности домашнего хозяйства, приватного и
конечного «счастья», омрачённого сознанием конца.
Это сознание не делает человеческую жизнь бессмыслен-
ной до тех пор, пока человек включает себя в сферу жизни
богов. Но даже героические подвиги ничего не придают этой
Размышления о доисторической эпохе • 37
постоянно воспроизводящейся картине — кроме временной
опоры. Неизмеримо долгая и запутанная дорога на край света
заканчивается тем, что уставший от великих подвигов Гильга-
меш не может победить самого лёгкого: он побеждён сном,
братом смерти, подкрадьшающимся измождением, которое, как
и усталость и старение, сопровождает человеческую жизнь. Он
возвращается назад, к тому, что единственное из всех плодов
его поступков оказалось надёжным, — к могучей городской
стене, к основанию царства, которое пусть и временно, но пре-
доставляет человеку надёжную защиту.
Таким образом, эта поэма изображает самопонимание че-
ловека, в разумении которого мир принадлежит богам. Боги
же единодушно решают относительно судьбы отдельного че-
ловека и всего человечества. Мир в этой перспективе — это
большое домашнее хозяйство. Им руководят силы, которые
вместе с богами стремятся удерживать мировое зло в грани-
цах и по ту сторону своих героических подвигов делят с людь-
ми смертную судьбу, хотя эта общая судьба ощущается не как
солидарность (при всех причитаниях над Энкиду Гильгамеш в
панике всё время думает о себе самом и ему страшно за себя),
а как тёмная власть конечной, постоянно исчерпывающейся
жизни, которую нужно обеспечивать и охранять.
Между миром и «великим домашним хозяйством» не суще-
ствует чёткой границы. Городская стена — это, конечно же,
произведение людей, и, как и всё остальное, что делают и за
что берутся люди, она принадлежит единому дому, сохраняе-
мому неравным сообществом богов и людей. Не существует
принципиальной границы между миром и царством, посколь-
ку само царство необходимо понимать на основе чего-то тако-
го, что не является делом людей, то есть на основании несво-
бодной жизни, данной людям в удел. И сам господин не в пол-
ной мере действует в сообществе с людьми и посредством него,
поскольку он сам является тем, кто опосредует между людьми
и остальным мировым порядком.
Главное содержание этого размышления образует, таким
образом, подчинённость смерти, а в этой связи и труду, кото-
рый необходим, чтобы оказывать сопротивление постоянной
38 • Ян Паточка
внешней угрозе самопожирающей жизни, следствием чего в
конечном итоге оказывается то, что жизнь исчерпывается «ве-
ликим домашним хозяйством». Мы должны, однако, принять
во внимание ещё и то, что человек предопределён к смерти
богами вследствие жертвоприношения одного из богов. Чело-
веческая смертность, конечно, неотвратима, но отношению
человека к тёмному царству смерти присуще всё-таки нечто
высшее. Это высшее исходит от богов, но его сферой являют-
ся отношения между мёртвыми и живыми. Этим отношениям
присуще нечто наподобие бессмертия, которое, однако, каса-
ется не отдельных людей, а всех тех, кто согласно происхож-
дению находится в генеративной связи друг с другом. В опре-
делённом смысле они существуют как единое целое, как раз-
новидность свидетельства того, что то, что выходит из царства
тьмы при помощи индивидуализации, постоянно несёт на себе
печать не-индивидуальности. После смерти отдельные люди су-
ществуют только как «образы», как нечто, являющее себя жи-
вым, как бытие для них, для других. Поэтому индивидуальное
бытие после смерти полностью зависит от тех, кто и в дальней-
шем имеет с ними связь, кто считает умерших в этом бытии
живыми, кто видит их, например, во сне, разговаривает с ними
в молитве, угощает на погребальной трапезе. Разумеется, к
этому поведению живые предопределены тем, что в области,
превосходящей индивидуализацию, они существуют вместе с
мёртвыми, поскольку индивидуальное сущее есть действитель-
ность рода, который сам является средним звеном между не-
дифференцируемостью великой ночи и самостоятельностью
отдельного индивида. В результате, для сообщества живых и
мёртвых не всё равно, как живые относятся к мёртвым и жи-
вым, к предкам и потомкам. От предков зависит собственная
индивидуальная жизнь в её реальности, от потомков — произ-
водный от этой жизни образ, являющийся актуальной формой
отношения живущих к родовому субстрату. Отец, производя-
щий детей на свет, принимает их и принимает заботу о них,
включаясь таким образом в отношение с переживающим его
надындивидуальным субстратом рода, который выпускает жи-
вущих индивидов из себя и обратно принимает их в себя. Од-
Размышления о доисторической эпохе • 39
нако отец также относится и к себе самому как к смертному
существу, зависимому от потомков в своей сомнительной ин-
дивидуальной жизни после смерти. Эта жизнь после смерти
одновременно укоренена во всемогущей, постоянно актуаль-
ной и надындивидуальной жизни субстрата, который позднее
(римляне) назовут larfamiliaris10. Вследствие этого каждый ин-
дивид оказывается звеном в «цепи принятия»: он приходит в
жизнь не только как тот, кого зачали и произвели на свет жи-
вые люди, но и как тот, кого они приняли и кто зависим от их
заботы. Отходящий из мира живых также зависим от тех, кого
он сам принял. В таком случае в этой зависимости мы нахо-
димся не только в связи с миром повседневной жизни, подчи-
нённой труду. Область индивидуализации и труда сама оказы-
вается составной частью тёмной области мира, к которому име-
ли доступ также и боги, когда они отпустили в мир смерть и
сделали человека рабом жизни и труда. Эта тёмная область
мира является одновременно областью плодородия, из кото-
рой исходит всё единичное, местом не только принятия уже
рождённого потомства, но и подготовки к его рождению: чело-
век принимает не только уже рождённых детей, но и того Дру-
гого, вместе с которым он вступает в плодоносную темноту и
которому позволяет принять себя. Так, движение процесса
труда отсылает к тёмному движению принятия, которое само,
как кажется, отсылает к движению ещё более основополагаю-
щему, выводящему всё сущее нашего Дня из неиндивидуиро-
ванной Ночи.
Более ста лет тому назад Фюстель де Куланж показал, что
эта совокупность представлений в существенных чертах стала
фундаментом античной семьи (патрициев) в Греции и Риме.11
Конечно, Фюстель говорил о «вере в бессмертие», которая свя-
зывалась с погребальным культом и содержание которой со-
ставляла загробная жизнь мёртвых. Эту интерпретацию мы
не разделяем, поскольку мысль об индивидуальной жизни пос-
ле смерти связана, как доказано, с платоновской идеей «забо-
ты о душе» и не существует до неё. Возможно, в модифициро-
ванной версии, которую предлагает вышеприведённое объяс-
нение, идейное основание семьи эвпадридов всё лее может
40 • Ян Наточка
получить оправдание, принципиальное и для многих выводов
Фюстеля о том, что касается происхождения семейных инсти-
тутов и семейных ритуалов, института собственности на зем-
лю, усыновления, сущности клиентелы и т. д. Однако на са-
мую важную — более позднюю — модификацию обратила вни-
мание X. Арендт, указавшая на то, что сфера дома там
перестаёт быть ядром мира вообще и превращается во всего
лишь приватную сферу, по отношению к которой в Греции и
Риме появилась другая, не менее важная и противостоящая ей
сфера публичности. Мы будем исходить из этого её тезиса и
попытаемся в дальнейшем показать, что это различие укоре-
нено в том, что в этот период начинается история в собствен-
ном смысле слова.
Новым историческим исследованиям, связанным с расшиф-
ровкой древнемикенского письма, удалось показать, что обще-
ственная организация всего эгейского пространства была в сущ-
ности, за исключением некоторых нюансов, той же самой, ко-
торая определяла высокие цивилизации Передней Азии, что
имеет силу и для первой греческой высокой цивилизации. Если
предшествующие выводы верны, тогда все эти блистательные
цивилизации со своими удивительными достижениями в обла-
сти архитектуры и искусства, среди которых не последняя роль
действительно принадлежала поэзии, были не чем иным, как
огромными домашними хозяйствами, которые в своих конеч-
ных целях служили поддержанию жизни и труда. Разумеется,
хотя производство здесь и находилось на высокой ступени раз-
вития, оно не определяло самопонимание и направление жиз-
ни. Производство находилось на службе у тех, кто сам был
предопределён трудом. Всё, что, как кажется, преступало эти
рамки, происходило не из человеческой области, а из того [фак-
та], что изначальная связь смертных и богов, живых и небезо-
пасных сил земли и неба не прерывалась и что самосохране-
ние человека осуществлялось в блеске этого нерушимого есте-
ственного мира. Однако по отношению к нему человек
существовал несвободно, он не имел в этом мире никакого про-
странства, которое было бы его собственностью и его творени-
ем, как и никаких цели и задач, превосходивших цель сохра-
Размышления о доисторической эпохе • 41
нения жизни. То, что он обладал искусством, означает не что
иное, как то, что он принял эту позицию, которая предопреде-
лила его к тому, чтобы в качестве заложника жизни прино-
сить облегчение богам и делать возможным их единодушие в
вопросе заботы о поддержании мирового порядка. Искусство —•
это такое же богослужение, как и остальная жизнь, поскольку
постоянно подвергаемая угрозе жизнь не зависит от людей.
Труд, окружённый заботой, — это только неизбежное условие,
полностью поглощающее человеческую жизнь. Что-то подоб-
ное потопу не преодолевается трудом. Искусство — это то бо-
жественное, которое постоянно напоминает человеку о присут-
ствии богов и о его собственной роли.
Мир мифологии Передней Азии шагнул гораздо дальше
изначальных представлений, имевшихся в этом регионе. Он
даже явился основой дальнейшей поэтической рефлексии,
дающей о себе знать в рамках гомеровского эпоса. Как в Или-
аде, так и в Одиссее были переработаны мифы Передней Азии,
доставшиеся Гомеру от микенской поэзии. В Илиаде, согласно
правдоподобной гипотезе, тема потопа — и гибели человече-
ства вообще — трансформировалось в размышления об ионий-
ской, послемикенской, эпохе, о гибели поколения героических
полубогов и связанных с ними жизненных и общественных
форм, о теократическом домашнем хозяйстве, которое вели
героические властители. Это означает далее, что эти представ-
ления не только посредством библейского повествования, но и
через Илиаду — не говоря уже об Одиссее с её темой хождения
на край света, — стали частью нашей исторической традиции.
Тем самым, пусть и изменённые до неузнаваемости, они могут
служить трамплином для осуществления дальнейших, содер-
жательно богатых размышлений.
Эта традиция, таким образом, свидетельствует о доистори-
ческом мире, который в соответствии с охарактеризованным
выше смыслом можно обозначить как «естественный». Этот
мир является естественным, поскольку признаёт определяю-
щее его сообщество в качестве чего-то данного, в качестве того,
что показывает себя из себя самого. Это сообщество богов и
смертных, это жизненное пространство тех, кто зависит от пи-
42 • Ян Наточка
тательной силы земли и света небес, и тех, кто независим и
тем самым выступает достойной восхищения загадкой этого
мира. Они независимы и тем не менее утроены так, что под-
держание сообщества с людьми может быть для них полез-
ным, потому что то, что люди делают на службе собственного
самосохранения, их сизифов труд, служащий самопожираю-
щей жизни, в конце концов является работой богов, поскольку
имеет отношение к поддержанию мирового порядка, поддер-
жанию связи того, что вверху, с тем, что внизу, — земли и све-
та, сотворенного видимого [мира] и царства тьмы. В то же са-
мое время боги являются самыми таинственными для челове-
ка, поскольку, обнаруживая свою мощь, сами скрываются; и
всё-таки наивысшая сила возможна только как проявление сво-
бодного существования в мире, свободном от смерти.
Не является ли это воззрение правильным по сути? Не поня-
та ли человеческая жизнь здесь в своей основе? Что ещё мо-
жет постичь человек сверх этого всеохватывающего фона,
неотвратимо подчиняющего его несвободе поддержания жизни?
В сущности, только одно: касательно того, что создаёт великое
домашнее хозяйство, великое сообщество, можно достичь от-
носительной ясности (ясным также оказывается и то, почему,
подобно темноте могилы и нерождённости, на задний план от-
ступает и эта сверхсущая сфера богов). Но что способствует
тому, что всё это являет и показывает себя, остаётся неясным,
как и то, почему оно не выступает перед нами и не разоблачает
себя. Разоблачить то, что таким образом скрывается в показы-
вании, означает обнаружить вопрошание, или, точнее, пробле-
матичность отнюдь не той или иной вещи, а сущего в целом и
строго подчинённой ему жизни. Если однажды такой вопрос
будет поставлен, то человек пустится в длинный путь, на кото-
рый до сих пор не вступал, в путь, на котором можно будет
что-то найти, но придётся также многое потерять. Этим путём
является история. В её начале человек — бессильный неволь-
ник жизни, у которого, однако, есть естественный мир и его
боги, служба, направленная на удовлетворение богов, и искус-
ство, посредством которого выражается эта служба и связь с
богами. Всё это он ставит на кон на своём новом пути.
Размышления о доисторической эпохе • 43
Примечания
! Ср.: Avenarius R. Der menschliche Weltbegriff. Leipzig, 1891.
2 К примеру, Н. О. Лосским. - Прим. ред.
3 Паточка имеет в виду в первом случае А. Н. Уайтхеда, во втором —
Р. Авенариуса. — Прим. ред.
4 «Всё полно богов»; см.: Diels Н., Kranz W. Die Fragmente der Vorsokra-
tiker. Berlin, 195L Thales, A 22.
5 Ср.: Diels H., Kranz W. Op. cit. Heraklit, A 9. (A.d.b.)
6 Арендт X. Vita activa, или О деятельной жизни. СПб., 2000.
7 Ср.: Артхашастра, или Наука политики. М., 1993.
8 Brocker W. Der Mythos vom Baum der Erkenntnis. In: Anteile, M. Hei-
degger zum 60. Geburtstag. Frankfurt/Main, 1950.
9 Ср.: Эпос о Гильгамеше («О все видавшем»). М., 1961.
10 «Покровитель семьи» (лат.). — Прим. ред.
11 Ср.: Coulanges F. de La Cite antique, Paris, 1880. P. 7-20.
2
Начало истории
Х\арл Маркс когда-то сказал, что существует только одна
наука, а именно наука истории. По его мнению, истинное
знание состоит в познании хода мирового развития. Однако
подобное утверждение является либо редукцией истории к
абстракции всеобщего временного процесса (причём возни-
кает вопрос, в каком времени происходит сам этот процесс),
либо смелой спекуляцией, согласно которой всё происходя-
щее в природе — это необходимая подготовка к историчес-
кому процессу, то есть к особому случаю осмысленных или
имеющих отношение к смыслу событий. Осмысленным (или
относящимся к смыслу) событие становится только тогда,
когда оно кого-то жизненно затрагивает, когда, следователь-
но, мы имеем перед собой не просто констатацию фактов, а
процессы, которые возможно понять исходя из интереса и
отношения к миру, изнутри открытости самому себе и ве-
щам. Первые намёки на этот интерес мы находим в сфере
живого. Однако процесс развития жизни, как его сегодня
понимают, признаётся осмысленным только при условии
спекулятивного рассмотрения. Осмысленной в приведённом
выше значении, насколько это известно из опыта, может
быть только жизнь человека. Самые незначительные про-
явления человека можно объяснить только из его заинтере-
сованного отношения к самому себе, коренящегося в откры-
тости тому, что есть. Но означает ли это, что тем самым
человеческая жизнь вообще учреждает историю, что с ней
Начало истории • 45
как с таковой уже наличествует история? Едва ли так можно
утверждать, даже если, опираясь на точные исследования, по-
лагать, что человеческому существу как таковому свойственна
историчность как нечто такое, что не позволяет нам считать
людей, вне зависимости от того, где и когда мы с ними встреча-
емся, «готовыми» природными созданиями и вынуждает ви-
деть в них свободные существа, которые в значительной степе-
ни определяют сами себя. Но, без сомнения, существуют либо
до недавнего времени существовали «народы без истории». Та-
ким образом, вопрос об истории в собственном смысле требу-
ет более подробного рассмотрения.
Как правило, ответ на этот вопрос пытаются найти путём
указания на феномен коллективной памяти, которая либо впер-
вые появляется вместе с письмом, либо имеет в нём свою са-
мую прочную опору. Но это означает, что мы должны выво-
дить смысл события из смысла повествования о нём. Однако
смысл повествования о том, что произошло, отличается от смыс-
ла самого события. Смысл события является результатом по-
ступков тех, кто действует и страдает, в то время как смысл
повествования состоит в понимании логических форм, кото-
рые указывают нам на это событие. Смысл, артикулирован-
ный в этом понимании, относительно независим от ситуации.
Это выражается в том, что он должен (в определённой степе-
ни) быть одинаково понятным людям, живущим в иных мес-
тах и принадлежащим иным эпохам и традициям, в то время
как смысл события присущ самой разворачивающейся ситуа-
ции. Может показаться, что подлинное историческое действие
и событие действительно требуют ориентации при помощи тра-
диции и повествования — но тогда смысл повествования от-
крывается на основе исторического события, а не наоборот.
Если допустить, что не каждое повествование, а тем более
не каждое повествование о чём-то бывшем ориентировано из-
начально и тематически на действительную историчность, то
мы столкнёмся с собственно феноменом неисторической исто-
рии, истории без истории. Согласно нашей точке зрения, са-
мые первые хроники в том виде, в котором они велись на Ближ-
нем Востоке, в Египте, Древнем Китае и т. д., и являлись по-
46 • Ян Наточка
добной историей без собственно истории. Задачей и смыслом
этих хроник было поддержание жизненного уклада доистори-
ческого человека, человека данного и предписанного смысла,
определённого принятием, продолжением, поддержанием и
обеспечением жизни. Такая жизнь может протекать внутри
сложных и могущественных общественных образований, в ве-
ликих империях со сложной иерархией и бюрократией, кото-
рые в своей основе — не более чем крупные домашние хозяй-
ства либо совокупность домашних хозяйств, нагромождённых
вокруг королевской резиденции или другого центра- Поэтому
такая жизнь по своей сути и по смыслу происходящего не вы-
ходит за рамки домашнего хозяйства со свойственными ему
круговоротами зачатия, рождения и обеспечения жизни, как и
за рамки дополняющего движения по поддержанию жизни по-
средством непрерывного труда и производства. Хроники фик-
сируют прошлое, важное для успешного функционирования
хозяйства (которое в таком смысле заботится о самом себе) в
будущем. При этом речь прежде всего идёт о ритуальных ма-
нускриптах, культово-магических записях, заметках о позитив-
ных и негативных последствиях определённых событий и дей-
ствий. Но пока человек живёт таким образом, что смысл его
действий исчерпывается жизненным циклом, состоящим из при-
нятия и трансляции, защиты и укрепления жизни, можно ска-
зать, что он движется в ритме вечного возвращения, даже если
в действительности там самым создаётся традиция, соверша-
ются открытия, меняется стиль жизни, а всё перечисленное при-
водит к таким существенным изменениям, как, например, воз-
никновение упомянутой выше коллективной памяти.
Несмотря на то что жизнь таких обществ, основная цель
которых состоит в принятии и поддержании самой жизни, то
есть в фундаментальном непосредственном человеческом бы-
тии, для которого — как мы попытались показать это в пред-
шествующем эссе, — явление не показывает себя, а жизнь не
вызывает сомнений, — такая жизнь, воспроизводящая саму себя,
не избавлена полностью от третьего основного движения жиз-
ни — движения истины, хотя и без явной тематической направ-
ленности, характерной для исторической эпохи. Именно то,
Начало истории в 47
что человек здесь живёт только для того, чтобы жить, а от-
нюдь не для того, чтобы искать более глубокую, истинную
форму жизни, то, что он сосредоточивается на движении при-
нятия и сохранения [жизни], делает эту жизнь своего рода он-
тологической метафорой.
Мы различаем три фундаментальных движения человечес-
кой жизни, каждое имеет изначальную форму, (тематический
или нетематический) смысл, собственную временность, харак-
теризующуюся доминирующим измерением: движением при-
нятия, движением защиты и движением истины. Движение при-
нятия заключается в том, что человек должен быть принят и
введён в мир, что его вхождение в область открытого индиви-
дуального сущего определяется в ходе подготовки и взаимного
переплетения [сущего] (harmonia). Для большинства вещей,
простейших элементов, природной действительности, не создан-
ной человеческими руками, даже для большей части живого
принятие не имеет внутреннего смысла, и переплетение [суще-
го] здесь, говоря языком современной биологии, имеет вид ме-
ханического приспособления. Бытие человека, его вхождение
в сферу индивидуальности, в безграничность универсума не
могут быть такими же, как бытие упомянутых выше единиц
сущего: оно таково, что их самих оно, по сути, не касается, оно
им «безразлично» (вернее, оно ни безразлично, ни небезраз-
лично, а просто не имеет для них смысла). Бытие же человека
с самого начала небезразлично, то есть оно ощущает собствен-
ную чуждость и «несправедливость» (adikia) и требует «спра-
ведливости» (dike), и действительно находит ее благодаря тем
самым ближним, уже принявшим новую сущность, прежде чем
она в собственном смысле начала существовать тут. Они при-
няли её уже благодаря тому, что существовали вместе и тем
самым создали потенциальную вогнутость пространства, в ко-
торую может быть введена новая сущность. Принятие челове-
ка — это то didonai diken kai tisin allelois tes adikias, «быть спра-
ведливыми друг по отношению к другу и искоренять неспра-
ведливость»1, о котором идёт речь в древнем изречении
Анаксимандра. Adikia — это тот изначальный ключ к понима-
нию, которым сущность «открывает себя» индивидуации, вхож-
48 • Ян Наточка
дению в универсум, а наполненная им adikia — это проникнове-
ние, вторжение, компенсирующееся усилиями других, тех, кто
принял эту сущность и для неё превратил мир в тот тёплый и
ласковый очаг, который символизирует поддержание жизнен-
ного огня. Эта adikia также и исправляется принятой сущнос-
тью — она исправляется применительно ко всем тем, которым
даёт частицу себя, которых она любит и которых в свою оче-
редь принимает.
Теперь ясно, что второе движение, движение защиты (кото-
рое также может быть названо движением самоотдачи), неиз-
бежно сопутствует первому. Принять другого можно только
отрекшись от самих себя, заботясь о его потребностях не ме-
нее, чем о своих, то есть трудясь. Труд, по сути — это распоря-
жение собой и также предоставление себя в распоряжение дру-
гих, та фактическая привязанность жизни к самой себе, кото-
рая и превращает жизнь в онтологическую метафору.
Невозможно быть, то есть совершить вторжение в универсум
индивидуированных вещей, без движения принятия и самоот-
дачи, dike kai tisis. Едва мы становимся звеньями цепи приня-
тия, мы становимся ео ipso потенциальными участниками про-
цесса труда. Уже дети готовятся к труду, и сама эта подготов-
ка знаменует его начало.
Однако основополагающая характеристика труда — это его
недобровольность. Мы принимаемся за работу вынужденно,
труд тяжёл, это бремя. Гармония, переплетение, без которых
мы не можем существовать, — это palintropos harmonik1, пере-
плетение противоположного. Жизнь неизбежно связана с бре-
менем, что означает: tisis tes adikias, «возмещение несправедли-
вости», которое само рождает adikia} несправедливость. У нас
нет выбора, если мы хотим жить. Основополагающий выбор,
жить или не жить, несёт с собой это бремя и есть это бремя,
которое в дальнейшем проявляется и конкретизируется в не-
свободе, в утомительности труда.
Бремя, лежащее в основе конечного помещения человека в
универсум сущего, «вторжения» в него, всё же отсылает к об-
легчению. Бремя, которое человек берёт на себя и которое со-
провождает его всю жизнь, само принимается в атмосфере об-
Начало истории • 49
легчения. Ритм и взаимопроникновение страдания и облегче-
ния создают шкалу жизненных ощущений, соотносясь с кото-
рой мы движемся, пока существуем. Облегчение по своей мо-
дальности восходит от простой паузы и минутного забвения к
экстатическому и оргиастическому. В абсолютной лёгкости эй-
фории (само название указывает на движение, ничем не огра-
ниченное, осуществляемое в абсолютной невесомости), как если
бы бремя полностью исчезло, и мы уносимся вихрем, которо-
му отдаёмся без остатка. К движению принятия принадлежит
и то особенное упоение, которое называется эросом: с одной
стороны, это отдача, означающая принятие и включающая в
себя волю быть принятым, — такая охраняющая вогнутость,
позволяющая принять новое существо, даже если это и не яв-
ляется её замыслом и темой. С другой стороны, эрос — это уси-
лившаяся оторванность, которая позволяет в экстазе прикос-
нуться к нераздельному и принять в нём участие, словно в упо-
ении бытием — в том наслаждении, о котором говорит «Ночная
песнь» Заратустры.
Для человека доисторической эпохи характерно то, что он
понимает жизнь как своего рода онтологическую метафору и
не отличает ночь как факт опыта от ночи как темноты, в кото-
рой сверкает молния бытия, не отличает землю, дающую пло-
ды и пропитание, от того фона сущего, мира, который никогда
не совпадает с выходящим из него единичным фактом. Для
этого человека сущее и бытие, феномены и движение, их явле-
ния соединены в единой плоскости, что напоминает язык по-
этических метафор, где отношения, невоспринимаемые в по-
вседневном опыте, выражены оборотами, взятыми из этого
опыта, правда, при помощи недопустимых в повседневном опы-
те связующих, разъединительных и варьирующих операций,
которые как таковые не являются тематическими. Хотя их не-
тематизируемость во многом ещё глубже той, какой она даёт о
себе знать в поэзии, поскольку читатель поэтических произве-
дений относится к метафоре как метафоре, фигуре речи, в то
время как мифический человек не отличает переносного зна-
чения от области перенесения, значения — от предмета, а саму
речь — от того, о чём идёт речь. Однако благодаря этой онто-
50 • Ян Паточка
логической метафоре проявляется то, что никакая теория мифа
и мифология, исходящая из гипотез нашего мира, расколотого
переворотами в метафизической философии, конфликтом
между более или менее рациональными конструкциями и чув-
ственным опытом, не позволяют объяснить и справиться в по-
зитивном смысле (то есть без сокращений и ложной мистифи-
кации) с тем [фактом], что мир доисторических людей полон
сил и богов, что это является совершенно очевидным и прини-
мается, хотя никто не видел богов и не может свидетельство-
вать об их присутствии, — хотя, с другой стороны, доистори-
ческие люди способны к критике и сомнению не в меньшей
мере, чем исторический человек научной эпохи. Это высшее,
«трансцендентное», «надприродное», о котором всё точно из-
вестно, хотя оно и не дано человеку в обычном опыте, а возни-
кает из двойственности онтологической метафоры: в мире су-
щего заявляет о себе актуальность бытия, которое понимается
как высшее, неизмеримое, сверхпорядковое. Оно еще не явля-
ется ясным как таковым, но находится, как и сущее, в той же
области единого мира, в которой всё одновременно показыва-
ет и скрывает себя — неотличимым образом.
Очевидно, что в «естественном мире» доисторического че-
ловека имеет место и движение истины, хотя тематически оно
подчинено движению принятия и защиты (самоотдачи). Оно
проявляется именно в этом доминировании высших сил в еди-
ном и единственном мире. Движение истины, то есть собствен-
ное отношение человека к открытию, точнее, к тому, что дела-
ет открытие возможным, даёт о себе знать в различии между
надприродным и природным, божественным и эмпирическим.
Движение истины также является истоком искусства, в кото-
ром тем самым проявляется более всего открытый, будущнос-
тный характер движения истины, характер произведения. По-
скольку божественное — это то, что делает открытым всё ос-
тальное, например Небо и Землю, но само не существует среди
вещей, уже доставшихся нам. В этом смысле оно всегда ещё
только «приходит», и человек вступает с ним в отношения че-
рез образ, танец и пение. В отличие от движения принятия с
моментом вторжения в мир и с противопоставлением adikia—
Начало истории • 51
dike и бремени—облегчения, по сути, основанным в прошлом,
движение защиты, или самоотдачи, основано в настоящем. Ра-
зумеется, каждое из этих движений содержит в себе всю вре-
менность целиком, без чего ни одно не являлось бы движени-
ем. Но в каждом доминирует свой «экстаз»3, свой горизонт.
Временность движения принятия мы можем, пожалуй, луч-
ше всего показать на примере семьи патриция в античной Гре-
ции или Риме. Отец, поднимающий с земли младенца, поло-
женного к его ногам, совершает ритуал принятия, содержащий
отношение ко всем временным горизонтам, — в акте, принад-
лежащем настоящему, посредством которого решается вопрос
жизни и смерти, он усматривает не только возможности ре-
бёнка, но и собственную возможность продолжения существо-
вания в ребёнке, собственную конечность, но всё это заключе-
но в непрерывности домашнего lar4, существование которого
является исходным пунктом для акта принятия в целом и к
которому возвращается круговорот этого движения.
Пока человек движется в рамках обеспечения «простой
жизни», означающего неразделимую заботу о сохранении всей
familia, «вера» в богов является единственным способом бытия
в мире и понимания универсума, единственной соразмерной
ему истиной. (Антропология левогегельянцев частично гово-
рит об этом, когда ищет в круге семьи первоосновы религии.
Правда, она сама закрывает себе путь к решению проблемы,
перенимая из идеализма учение о «представлении» как об ос-
новном способе установления связи человека с миром и учение
об отчуждении как источнике овеществления представлений.)
Тогда вопрос состоит в том, на что именно и насколько далеко
простирается в этом мире сфера божественного. Понятно, что
прежде всего она охватывает всё то, что касается обществен-
ного порядка, его поддержания и организации, поскольку имен-
но это содержится в универсуме богов, который никоим обра-
зом не отделён от человеческого общества. И, действительно,
мы видим, что первые империи теократичны, во главе стоят
божественные владыки или владыки как управляющие боже-
ственным домашним хозяйством. В любом случае, эти влады-
ки являются посредниками между божественным и человечес-
52 • Ян Наточка
ким. По этой причине, однако, между царством и универсу-
мом не может быть существенного разделения или различия.
Фараон осуществляет руководство не только человеческим тру-
дом, но и регулярными наводнениями. Китайский император
ответствен за природные катастрофы не менее, чем за соци-
альные. Персидский царь состоит в добрых отношениях с бо-
жествами всех подвластных ему народов. О Ксерксе традиция
повествует, что он приказал сечь кнутами Геллеспонт за непос-
лушание. (Когда позднее Платон будет основывать своё иде-
альное государство, государство философов, на божественных
идеях, это будет означать нечто принципиально отличное, хотя
такой идеальный универсум рекомендуется как образец для
подражания. Чувственная реальность — а государственное об-
разование таковым и является — никогда не может быть со-
ставной частью идеальной реальности. Основание государства
на идеях разрушает взаимосвязь со всем остальным чувствен-
ным миром. Платон следует в этом пункте, в выведении горо-
да-государства из «природы», традиции греческого полиса.)
Конечно, кажется, что история высокоразвитых цивилиза-
ций по существу отличается от жизни «естественного» челове-
чества всего лишь наличием письменной традиции, поскольку
письмо и то, что передаётся посредством него, обнаруживают
волю к осознанному поддержанию сложной жизненной систе-
мы и решимость противиться любой перемене, следовательно,
раскрывают стремление людей самим регулировать течение
событий, ставить себе цели, изначально отсутствующие. Одна-
ко воля к традиции, а именно к неизменной традиции, суще-
ствовала ещё до изобретения письма. Поэтому письмо стало
всего лишь новым, высоко эффективным средством для зак-
репления форм жизни, а отнюдь не новой целью. Воля к неиз-
менности, в сущности, сакральна и ритуальна, она связана с
фундаментальным характером доисторической истины, с кос-
мическсюнтологической метафорой. Письмо, безусловно, имеет
изначальное отношение к царствам и ритуалам, то есть сфе-
рам, тесно связанным между собой, как мы попытались пока-
зать выше. Обычно принято делить древнейшие тексты Ближ-
него Востока (включая микенские) на дворцовые, правовые,
Начало истории ° 53
литературные и письма, но это не означает, что, например, двор-
цовые тексты должны считаться профанными в нашем пони-
мании, поскольку правители своим словом и своими распоря-
жениями производят сверхчеловеческие действия, организую-
щие жизнь и вносящие порядок, которые обеспечивают
сохранность всего социума и даже предотвращают опустоше-
ние определённой части Земли. Поэтому первоначально пись-
мо и закрепленная в такой форме память не связаны с челове-
ческими действиями, благодаря которым человек восходит к
приданию жизни нового смысла. Тем не менее, благодаря пись-
му возникает новое присутствие прошлого и возможность той
обширной рефлексии, которая отражается в поэзии и в её не-
слыханном, простирающемся по всей тогдашней ойкумене вли-
янии. По этим причинам в человеческой истории справедливо
различать три ступени: неисторическую, когда всё происходит
внутри анонимности прошлого и в чисто природном ритме; до-
историческую, связанную с существованием коллективной па-
мяти в форме письменной традиции; и ступень собственно ис-
торическую. Однако доисторичность является предпосылкой
истории не только по причине того, что прошлое в письмен-
ных документах становится настоящим, но прежде всего пото-
му, что история активно дистанцируется от доисторической
эпохи, поскольку является реакцией на неё, взлётом над её
уровнем, попыткой обновить и поднять жизнь с колен.
В опубликованной на французском языке статье La trans-
cendence de la vie et I'irruption de Vexistence3, которая не вошла в
сборник исследований Dasein und Dawesen, О. Беккер попытал-
ся провести ступенчатое различие человеческой истории, в
определённой мере аналогичное предложенной нами диффе-
ренциации. При этом он выделил «civilisation de base» («базо-
вую цивилизацию»). Эта цивилизация разрывает «круг имею-
щейся ситуации», в котором протекает жизнь животных и из
которого невозможно выйти: согласно Беккеру, экзистенция
путем использования языка и инструментов вторгается в этот
круг вместе со своими горизонтами сохранения и антиципации
[жизни], но только с целью поддержания жизни в «малом рит-
ме», без далеко идущих целей. Далее Беккер говорит о «низ-
54 • Ян Паточка
ших цивилизациях», которые характеризуются, со ссылкой на
Шеллинга, вторжением свободы (как свободы к творению зла —
вторжения чувственной страсти и libido dominationis6, а также
как вторжения сознания вины, которое проявляется в библей-
ской книге Бытия и вавилонских поэтических текстах), но так-
же господством фрейдовского «принципа удовольствия». Пос-
леднюю ступень Беккер называет собственно историческим
периодом с главной темой разворачивания фундаментальных
возможностей свободного человеческого существа, направлен-
ных на нахождение или потерю себя.
Нам не кажется, что посредством вторжения «свободы ко
злу» и появления нового момента страсти и вины уместно отде-
лять возникновение великих царств (или «низших цивилиза-
ций», по Беккеру) от изначального человечества. Первые цар-
ства отличаются от бытия «естественного человечества» не
каким-то новым моментом человеческой жизни, не проявлен-
ным на предшествующей ступени, как в случае отличения с
помощью использования речи и инструментов человеческой
ступени от животной. Первые царства отличаются только тем,
что они организованно следуют той же самой цели и придают
человеческой экзистенции тот же самый смысл общей заботы
о выживании, которая у природного человека скорее стихийна.
Впечатление чего-то принципиально нового в значительной сте-
пени отпределяется тем, что в великих царствах Древнего Вос-
тока используются достижения продолжительного неолитичес-
кого периода, приведшего к возникновению феномена челове-
ческой оседлости, которая затем выкристаллизовалась и
организовалась в рамках царств. Но общий смысл и направлен-
ность, данные человеческим поступкам и действиям, остаются
прежними — это продолжение жизни и её защита, сама жизнь
в своём саморазрушении и восстановлении. Говоря языком
древних — поддержание огня жизни. Тем не менее, великие
царства выступают существенной предступенью иного способа
понимания смысла жизни, хотя этот новый способ в них не
развился. Однако скопление индивидов, их организованная
зависимость друг от &руга, постоянный контакт и коммуникация
посредством слов, человеческий способ позволения явиться
Начало истории ° 55
явлению создают для человека возможное пространство для
существования вне самого себя, во имя легенды, славы и жизни
в памяти других. Организованная жизнь создаёт основу для
человеческого бессмертия или, по меньшей мере, для того, что к
нему наиболее приближено. Правда, в той степени, в которой
организации требуется письмо, последнее становится предпо-
сылкой для возникновения той высшей ступени, на которой
жизнь явно относится к памяти, к другим и к жизни с ними и в
них, причём вне области собственного генеративного конти-
нуума.
Там, где жизнь перестаёт существовать ради самой жизни
и тем самым открывается возможность жить для чего-то ино-
го, проходит грань, которая не является только количествен-
ной. X. Арендт указала на эту грань в своих глубоких размыш-
лениях о роли труда (а в связи с этим и производства) в челове-
ческой жизни в изначальном противопоставлении жизни
политической.7 Поскольку семья является изначальным мес-
том труда, политическая жизнь, жизнь в polis(e), развивается
хотя и на основании семейного oikos (дома, домашнего хозяй-
ства), но и в противоположность его замкнутой генеративной
приватной сфере, с волей к публичности, которая со своей сто-
роны является континуальностью, причём создаёт и поддер-
живает её свободная человеческая активность. Эта новая че-
ловеческая возможность заключается во взаимном признании
равных и свободных, признании, которое необходимо постоян-
но осуществлять, в признании, в котором человеческая актив-
ность не имеет характера вынужденного усилия, как в случае
труда, но является манифестом превосходства, демонстрацией
того, каким может быть человек в состязании с принципиаль-
но равными себе. Но одновременно это означает, по существу,
жить не в модусе принятия, а в модусе инициативы и быть
готовым подстерегать открывающиеся возможности, удобный
момент. Это означает жизнь в активном напряжении, в ситуа-
ции постоянного риска и непрекращающегося подъёма, когда
каждая пауза уже неизбежно является слабостью, и её подсте-
регает инициатива других. Этот новый способ жизни ограж-
ден от несвободы природного круговорота надёжностью, кото-
56 • Ян Наточка
рую предоставляет oikos, дом, гарантирующий заботу о потреб-
ностях жизни. В противовес собственной внутренней склонно-
сти к покою, стагнации, расслабленности, этот способ распола-
гает стимулом к публичности, дающей жизни шанс, но вместе
с тем чреватой риском оступиться.
X. Арендт противопоставляет труду, препятствующему уга-
санию и декадансу жизни, пожирающей себя, без того чтобы
оставлять нечто постоянное, — производство, которое создаёт
надёжный и долговременный остов жизни, даёт кров и обще-
ние, создаёт места, обязательные для того, чтобы иметь дом,
домашний очаг. На этом фундаменте, гарантирующем осво-
бождение от саморазрушения и растворения в недолговечнос-
ти, теперь возникает нечто по сути иное — жизнь, свободно
определяющая себя так, чтобы люди и в дальнейшем могли
определять себя свободно, независимо от этого фундамента.
С этой минуты такая жизнь всей своей сущностью, всем своим
бытием отличается от жизни, определяющейся принятием.
В этом случае жизнь принимается человеком не как нечто го-
товое, данное, а преобразуется в самом своём основании, пре-
вращается в подъём.
Но к этому подъему принадлежит также и то, что он не
воспринимается просто как островок в принятой жизни — ка-
ковым он и не является, — поскольку, напротив, всякое приня-
тие [жизни] в целом, всё пассивное основано в нём и обоснова-
но с его помощью. Политическая жизнь хотя и черпает свобод-
ные возможности из дома и домашней работы, но сам дом не
может существовать без сообщества граждан, которое не только
его защищает, но и придаёт ему смысл. Политическая жизнь
как жизнь в ситуации непрерывного вызова времени, «време-
ни к», эта постоянная бдительность означает одновременно
постоянную неукоренённость, отсутствие твёрдой земли под
ногами. Жизнь уже не стоит здесь на твёрдой основе генера-
тивной непрерывности, не чувствует спиной тёмную силу зем-
ли, а имеет эту темноту, то есть, конечность и постоянную уг-
розу, перед собой. Только лицом к лицу с этой угрозой, в этой
неустрашимости свободная жизнь как таковая может развер-
нуться, а её свобода согласно собственной сути — это свобода
Начало истории • 57
неустрашимых. Разумеется, можно возразить, что сказанное
относится к жизни каждого воина на любой ступени истории,
даже самой близкой к природе. Но до возникновения политиче-
ской жизни воин опирается только на смысл, который уже зало-
жен в непосредственности жизни, он воюет за свой дом, семью,
за жизненный континуум, к которому принадлежит, — в них
он имеет опору и цель, они дают необходимую защиту перед
опасностью. В противоположность этому цель политической
жизни состоит в свободной жизни как таковой, неважно, своей
или чужой; и эта жизнь в своей основе ничем не защищена.
Незащищённая жизнь, жизнь подъёма и инициативы не
знает остановок и расслабления; это не только жизнь с иными
целями, иным содержанием, иная по структуре, чем принятая
жизнь, но она и существует иначе, а именно так, что сама для
себя открывает возможность, которой себя отдаёт» И одновре-
менно видит в этом свою освобождённость, видит зависимость
одной жизни и возвышающую свободу другой, видит, что та-
кое жизнь и какой она может быть. Эта человеческая жизнь
становится свободной без того, чтобы возноситься в область
сверхчеловеческого. Это означает, однако: жить на той грани-
це, которая превращает жизнь во встречу с сущим, жизнь на
границе всего того, что есть, когда эта вселенная становится
постоянно довлеющей, поскольку здесь неизбежно возникает
нечто совершенно иное, чем единичные вещи, интересы, фраг-
менты действительности. — Эта жизнь не избавляет себя от
своей собственной случайности, однако и не отдаётся пассивно
на волю случая. Посредством того, что человеку показала себя
возможность подлинной жизни, то есть целостность жизни, ему
также впервые открылся и сам мир — мир перестал быть тем
обычным фоном, на котором показывает себя то, что нас зах-
ватывает, теперь мир способен показать сам себя — как целос-
тность того, что раскрывается на чёрном фоне непроглядной
ночи. Это целое обращается непосредственно к человеку, отка-
зываясь от дымки традиций и мифа, оно хочет, чтобы человек
сам его принял и взял на себя ответственность. Ничего из пре-
жней жизни принятия не осталось незатронутым этим целым
мира, все опоры общества потрясены в равной мере, измени-
58 • Ян Наточка
лись традиции и мифы, и все те ответы, которые даются перед
постановкой самих вопросов. Изменился весь этот скромный,
но защищенный и успокаивающий смысл, изменился, но не
исчез: он оказался поставлен под вопрос, стал таким же зага-
дочным, как и все остальное. В результате человек перестал
совпадать с этим смыслом, миф больше не служит ему объяс-
нением. В тот момент, когда жизнь обновляется, всё открыва-
ется в новом свете — у свободного человека, словно пелена спа-
дает с глаз, но при этом он не начинает видеть новые вещи, он
просто начинает видеть по-новому: эти вещи — будто ландшафт,
озарённый вспышкой молнии, человек стоит один, без опоры,
и его жизнь зависит только от того, что ему само показывает
себя, а показывает себя всё без исключения. Это момент твор-
ческого рассвета, первый «день творения», загадочный и на-
столько притягательный, что он захватывает изумлённых, при-
нимает их и уносит с собой.
Это означает, что обновление жизненного смысла, знаме-
нующее возникновение политической жизни, одновременно
содержит в себе зародыш философской жизни — если правы
Платон и Аристотель, для которых thauma arche tes sophias, «удив-
ление — источник мудрости». Конечно, Аристотель говорит,
что почитатель мифов — это своего рода философ, но он толь-
ко тогда им становится, когда пробуждает в себе удивление,
изумление перед тем, что действительно есть. Удивительное в
бытии — это не сказка, оно открывает себя только тому, кто
отваживается отправиться на границу ночи и дня к тем воро-
там, к которым имеет ключ Dike, и такой неустрашимый одно-
временно и есть eidos phos, «знающий муж»8.
X. Аренд удачно проинтерпретировала пассаж Аристотеля
из Никожаховой этики, в котором говорится об основополагаю-
щих возможностях свободной жизни (apolausis, bios politikos и
bios philosophikosf', с точки зрения освобождения посредством
политической жизни (от сферы приватности с её привязаннос-
тью к саморазрушению жизни). Согласно Арендт, политичес-
кая жизнь ставит человека перед возможностью целостной
жизни и жизни в целом, на почве которой пускает корни фи-
лософская жизнь, разворачивающая то, что ранее было в этой
Начало истории • 59
жизни в целом сокрыто и существовало в неразвитом виде.
Но, возможно, опираясь на эти размышления, которые в свою
очередь связаны с аристотелевским определением деятельной
жизни, можно говорить о начале истории в собственном смыс-
ле. История в собственном смысле возникает там, где жизнь
становится свободной и целостной, где осознанно выстраива-
ется пространство для этой свободной, не исчерпывающейся
простым принятием жизни и где в результате потрясения «ма-
лого» жизненного смысла, который содержит в себе движение
принятия, эта новая жизнь отваживается на новые попытки
осмыслить саму себя в свете того, как ей показывает себя бы-
тие мира, в который она помещена.
Эти размышления не стоит рассматривать как некое идеа-
лизированное понимание греческого полиса, который как буд-
то возникает из духа бескорыстной преданности «обществен-
ному благу» и понимается по аналогии с жизнью мудрого вои-
на, каким его видит — но не изображает в собственном смысле —
Платон в диалоге Государство. Возникновение полиса — это,
однако, не тот процесс, который можно было бы точно лока-
лизовать и приписать тем или другим индивидам; анонимные
предпосылки, случайность определённых ситуаций играют
здесь свою роль, которую невозможно чётко определить. Вплоть
до персидских войн, например, афинский полис был чем-то
таким, что постепенно выкристаллизовывалось в войнах с со-
седями и в борьбе политических партий между собой. В этом
процессе немалую роль играла также тирания, казалось бы,
противоречащая самому духу полиса. Для этой новой формы
жизни характерно именно то, что полис возникает и поддер-
живает себя во внешней и внутренней борьбе, что он inter armaU)
находит свой смысл и столь долго искомое определение эллин-
ской жизни. Здесь, в локальных столкновениях на небольшой
территории с незначительными материальными ресурсами,
возникли не только западный мир и его дух, но и, можно ска-
зать, мировая история вообще. Западный дух и мировая исто-
рия связаны друг с другом в своём возникновении: их опреде-
ляет дух свободного осмысления, потрясение жизни как всего
лишь принятия, потрясение гарантов этой жизни, их определя-
60 • Ян Наточка
ет дух новых возможностей жизни внутри этой потрясённое-
ти, то есть философия. Однако благодаря тому, что филосо-
фия и дух полиса настолько тесно связаны между собой, что
дух полиса и дальше продолжает существовать в форме фи-
лософии, это частное событие, возникновение полиса, получа-
ет универсальное значение.
Доказательства в пользу связи философии с духом полиса
мы находим уже у ранних греческих философов.
Дух полиса — это дух единства в споре, в борьбе. Невоз-
можно быть гражданином (potties) иначе, чем в сообществе
одних против других, причём этот спор сам создаёт напряже-
ние, тонус жизни города, форму того пространства свободы,
которое жители полиса предоставляют друг другу и одновре-
менно оспаривают и укрепляют — предоставляют так, что ищут
опору для своего действия и превозмогают сопротивление. Но
действие, в свою очередь — это в своей основе не что иное как
борьба, оборона себя от других и наступление там, где предос-
тавляется возможность. Так в полисе в ходе постоянной борь-
бы и спора образуется [инстанция] власти, которая располага-
ется над противоборствующими сторонами и от которой зави-
сит значение и слава города: «вечная слава среди смертных»,
kleos aenaon thnetdnn.
Гераклит говорил о том общем, из чего «питаются» все «че-
ловеческие законы», то есть о полисе в аспекте его общего
функционирования и каждого отдельно принятого решения.12
Но в чём же состоит этот божественный закон? «Необходимо
знать, что общее — это polemos и что справедливость — это спор
(dike = eris), и что всё возникает через eris и её натиск».13
Polemos и есть это общее. Polemos соединяет противостоящие
стороны не только потому, что находится над ними, но и потому,
что они в нём существуют в единстве. В нём создаётся единая и
единообразная власть и воля, из которых и вырастают все за-
коны и установления, какими бы различными они ни были.
Но власть, которая создаётся в борьбе, не является слепой
силой. Власть, выросшая из спора, является знающей, видя-
щей: только в этом придающем силы споре содержится жизнь,
которая действительно смотрит в суть вещей, tophronein. Phrone-
Начало истории в 61
sis, «понимание», по своему характеру не может существовать
иначе, нежели одновременно в единстве и споре. Видеть мир и
жизнь в целом означает видеть polemos, eris как это общее: хипоп
estipasi to phroneein, «общее для всего — это мышление».14
Говорить, облекать понимание в слова общего происхожде-
ния означает «говорить рассудительно» (хип voii). Но это означа-
ет «сопровождать вещи словами, которые разлагают каждую
вещь в соответствии с её смыслом, и говорить о том, как с
ними обстоят дела»15. Разлагать вещь согласно её бытию означа-
ет видеть, как она выступает из темноты и вступает в сферу
открытого (индивидуированного Космоса), означает видеть
вспышку бытия над универсумом, освещенную ночь сущих ве-
щей. Но это дело того, кто мудр, это дело философа. В нём
объединяются все arete, доблести (определение свободной жиз-
ни, характеризующей polites). «To phronein — это высшая arete,
мудрость же состоит в том, чтобы говорить то, что разоблачено
(ta alethea), и делать то, что таким образом понято в его сути».16
Polemos, проблеск бытия в ночи мира, позволяет быть всему
единичному и показывать себя в качестве того, что оно есть.17
Наибольшее противоречие, следовательно, содержится в гос-
подствующем надо всем единстве, проявляется во всём, владе-
ет всем. С этим единственно мудрым18 человек встречается
только тогда, когда сам действует, совершает поступки в той
атмосфере свободы, которую ему обеспечивает закон полиса19,
закон, подпитывающийся из божественного закона, имя кото-
рому polemos.
Polemos — это одновременно то, что создаёт полис как пер-
вовидение, делающее возможной философию.
Polemos — это не опустошающая ярость дикого варвара, а
создание единства. Закладываемое им единство глубже, чем
эфемерная симпатия или коалиция по интересам; испытывая
потрясение предданного смысла, противники сходятся и обра-
зуют новый способ бытия человека — возможно, единственный,
исполненный надежды в ситуации мировых бурь; это единство
потрясённых, но не устрашённых.
Так Гераклит усматривает единство и общий исток сообще-
ства и философии-
62 • Ям Наточка
Таким образом, как кажется, решено относительно начала
истории. История возникает там и может возникнуть только
благодаря тому, что arete — доблесть людей, которые живут
уже не ради голой жизни, — создаёт значимое пространство,
что она зрит в корень вещей и действует в соответствии с этим;
arete создаёт полис на основе мирового закона, polemos, и выс-
казывает то, что усматривает в качестве того, что открывается
свободному, незащищённому и неустрашённому человеку (фи-
лософия).
История Запада, и история вообще, имеет, таким образом,
начало действительно достойное — а именно такое, которое
показывает не только то, где проходит граница между доисто-
рической жизнью и историей, но и то, на каком уровне должна
поддерживаться историческая жизнь, если она не хочет пасть
жертвой перед лицом внешней или внутренней угрозы. Это
начало подпитывает и все дальнейшие попытки исторического
подъёма, не в последнюю очередь благодаря тому, что учит
тому, чего человечество, несмотря на всю безмерно суровую
историю, не хочет понять и чему оно скорей всего сможет на-
учиться только гораздо позднее, когда достигнет вершины раз-
рушений и гибели: тому, что жизнь необходимо понимать не
только с точки зрения дня, с точки зрения простого продолже-
ния жизни и её принятия, но и с точки зрения борьбы, ночи, с
точки зрения polemos. А также тому, что в истории речь идёт
не о том, что можно опровергнуть или чем можно потрясти, но
об открытости для самого потрясающего.
Теперь нам необходимо проанализировать две концепции
истории, которые разработаны создателями феноменологии и
представляются глубоко отличными от нашего понимания ис-
тории, поскольку обе ясно говорят о философии как исходной
точке и одновременно центральном моменте истории.
Э. Гуссерль говорит о европейской истории как о телеоло-
гической взаимосвязи, осью которой является мысль о разум-
ном усмотрении и основанной на нём (то есть ответственной)
жизни. Благодаря этой телеологической идее, согласно Гуссер-
лю, европейская культура отличается от всех прочих культур.
Идея жизни, опирающейся на разум, идея созерцающей жизни
Начало истории • 63
позволяет отделить Европу от других культур как сущностную
культуру, противопоставленную случайным культурам. Созер-
цание, разум — это «врождённые» идеи человечности, так что
европейский дух — это одновременно человеческий дух вообще.
Европейская культура и цивилизация являются общезначимы-
ми, тогда как все остальные культуры имеют всего лишь парти-
кулярное значение, какими бы интересными они ни казались.
Отсюда, видимо, следует, что история как разворачивание
и последовательная реализация этой телеологической идеи
является по существу историей Европы, в то время как осталь-
ной мир становится историчным, как только он вступает в поле
европейской культуры. Дальнейшие следствия должны состо-
ять в том, что начало истории совпадает с началом европейс-
кой культуры. С этим согласуется то, что Гуссерль говорит о
первых начинаниях греков и понимает под этим «первоучреж-
дение» (Urstiftung) телеологической идеи Европы в древнегре-
ческой философии.
На первый взгляд, эта точка зрения кажется воспроизводя-
щей воззрения наивного просвещенческого рационализма, со-
гласно которому Просвещение, «свет» являются источником
жизни. В действительности понимание истории у Гуссерля свя-
зано со своеобразием его феноменологии и феноменологичес-
кой философии. Какое значение в ней может иметь история?
Феноменология — это учение не только о структуре сущего, но
и о том, что сущее являет себе и как оно себе являет и почему
оно себя являет именно так, как оно себя являет. История здесь
не может быть ничем иным, как необходимым каркасом этого
самораскрытия, этого явления сущего. Это явление сущего
может достигнуть кульминации только в том, что явится его
собственная сущность, — это и есть философия, и не какая-то
определённая, а философия как процесс. К природе вещи от-
носится то, что сущее обнаруживает себя не только в качестве
разумного, но и в качестве самого разума. Феноменология Гус-
серля напоминает тем самым не столько просвещенческий,
сколько гегелевский рационализм.
Ирония состоит в том, что произведение, которое содержит
феноменологическую концепцию истории, Гуссерль создал в
64 • Ян Наточка
преддверии Второй мировой войны, окончательно лишившей
Европу ведущей роли в мире. Справедливо то, что эта война
сделала европейскую науку и технику планетарным связующим
звеном. Но этим связующим звеном европейская цивилизация
стала в той версии, о которой Гуссерль в Кризисе европейских
наук говорит как обрекающей Европу на упадок, поскольку
утрачен смысл, то есть утрачена та смыслообразующая теле-
ологическая идея, которая, согласно Гуссерлю, и образовыва-
ла внутреннюю духовную сущность Европы.
Феноменология не может рассматривать историю как не-
что существенное, не может сделать её одним из своих осново-
полагающих предметов без того, чтобы при этом не дала о
себе знать вся её концепция — как с методической, так и с
содержательной стороны. Гуссерль, в дальнейшем развивая
свои идеи, акцентировал генезис в противовес статическому
анализу, указывал на роль пассивного генезиса, на возникнове-
ние всех только мнимо воспринятых компонентов пережива-
ния во внутреннем сознании-времени. Всё статическое указы-
вает на генезис, а тем самым — на историю. Таким образом,
история — это самый глубокий содержательный пласт, которо-
го достигает феноменология; однако если мы понимаем исто-
рию как свободное действие и решение, то есть как их осново-
полагающие предпосылки, тогда следует сказать, что гуссер-
левский генезис, пусть даже трансцендентальный и именно как
трансцендентальный, полагает структуры, постижимые толь-
ко в рефлексии свободного от предубеждений, незаинтересо-
ванного наблюдателя, то есть, по сути, неисторичной (в нашем
понимании) субъективности. Если феномен феноменологии —
то есть глубокий, отнюдь не «вульгарный» феномен того, что
показывает себя из себя самого, это значит феномен его скры-
тых и делающих его возможным предпосылок, — состоит в
трансцендентальном генезисе, тогда следует сказать, что его
постижение предполагает субъективность в основе «неистори-
ческую», поскольку незаинтересованную. С этим, далее, связа-
но само понятие рефлексии. Гуссерлевская рефлексия пости-
гает субъективные структуры через обращение объективного
взгляда «внутрь», к переживанию, к «ноэтической» стороне —
Начало истории • 65
как если бы структура акта, изначально свободного от проти-
воположности «ноэма — ноэзис», была присуща всякому фено-
мену вообще и как если бы интенциональность была после-
дним словом, сказанным о субъективности субъекта.
В противоположность этому концепция Хайдеггера историч-
на — и не только в том смысле, что феноменологический ана-
лиз ведёт к действительному генезису. Хайдеггеровская кон-
цепция исторична прежде всего потому, что не только отверга-
ет незаинтересованного наблюдателя как предпосылку
возможности феноменологизации, но и прямо указывает на
заинтересованность в бытии как на исходный пункт и условие
возможности понимания глубокого феномена, а именно фено-
мена бытия. Тем самым указывается на необходимость, с од-
ной стороны, обновления онтологического вопроса на феноме-
нологическом фундаменте, а с другой — соответствующего по-
нимания значения феноменологии вообще.
Для Хайдеггера феноменология — это не содержательный,
а методический термин, используемый для исследования, опира-
ющегося во всем, что оно утверждает, на прямое удостоверение
и прямое предъявление. Это, однако, не означает, что в случае
феноменологических исследований речь идёт о чём-то само
самой разумеющемся, что лежит на поверхности. Напротив,
собственные феномены феноменологии изначально сокрыты,
поскольку касаются не сущих вещей, которые показывают сами
себя, а их бытия, того, что делает их возможными, а также их
сущности, которую для начала ещё необходимо выявить. Это
«вынесение на свет» возможно именно по той причине, что от-
ношение человека к своему бытию — и тем самым к бытию
вообще — чуждо ему не настолько, насколько чуждо оно,
например, природным вещам или предметам, созданным че-
ловеческими руками. Это отношение уже с первого взгляда не
кажется незаинтересованным и не является и не может быть
только лишь созерцательным констатированием. Именно оно
подразумевает, что в бытии человека речь идёт об этом бытии.
Его собственное бытие дано ему для ответственности, а отнюдь
не для созерцания. Он должен его нести, осуществлять, он и
есть в соответствии с тем, принимает ли он эту задачу либо
GG • Ян Наточка
освобождает себя, убегая и скрываясь от неё. Иначе говоря:
вот-бытие (то есть сущность человеческой жизни) есть ради себя
самого.
Как видно, уже это первое положение анализа Хайдеггера
исторично в совершенно ином смысле, чем трансценденталь-
ный генезис Гуссерля. Однако «осуществление», которое не есть
наблюдающее созерцание, не становится от этого слепым. Оно
имеет собственный способ видения, в котором наше «поведе-
ние», практическое обхождение с практическими вещами на-
шего окружения, образует всего лишь последнюю, бросающу-
юся в глаза часть, возвышающуюся над нашей повседневнос-
тью как вершина айсберга. Однако подобное поведение и
действие не могут быть объяснены посредством общеприня-
той теории актов сознания: эта теория подчёркивает или со-
храняет только то, что возможно констатировать с помощью
либо прямого, либо внутреннего созерцания. В действительно-
сти такое поведение — это только схватывание тех возможнос-
тей (возможностей отношения к нам самим посреди вещей и
посредством них), которые должны быть нам уже как-то от-
крыты, а открытыми они могут быть только в действительной
ситуации, в том фактическом «вот», которое для каждого из
нас и в каждое мгновение оказывается иным и в котором со-
здаётся настроение нашего возможного отношения к тому су-
щему, к которому мы приставлены в силу наших возможнос-
тей обхождения с ним. Таким образом, этот «исходный факт
расположенности» одним махом и неинтенционально, непред-
метно открывает нашу загадочную поставленность в середину
вещей, а также то целое, к которому мы постоянно относимся,
целое отношения к себе посредством возможности встречать-
ся с вещами и с другими людьми. Но именно постольку, по-
скольку поведение всегда предполагает поставленность в то,
что не мы сами создали и что уже должно было быть вот тут,
предполагается, что мы понимаем то, для чего и почему мы
действуем: поскольку практическое понимание является пер-
вичным и единственно постижимым и вещи в нём суть то, что
«отвечает» или «удовлетворяет» нашим возможностям. Это
предполагает снова, что возможности как таковые, то есть как
Начало истории • 67
наши, так и только нам ещё предстоящие, уже находятся тут в
качестве понятной смыслообразующаей взаимосвязи и что в
то же «мгновение» я оказываюсь впущен в круг вещей, держу
перед собой «проект», из которого понимаю то, что есть. Отсю-
да, опять же, понимание и истолкование того, с чем я встреча-
юсь, — это не некая апперцепция, которая как таковая всегда
производит синтез констатированного в прошлом с актуально
констатированным, но понимание, которое видит актуальное в
свете того, что мы имеем «перед собой», но не как предмет, а
как то, что «нам предстоит схватить».
Как мы видим, отношение к единичному сущему предпола-
гает понимание определённой целостности бытия, которая от-
крыта нам в «проекте» наших возможностей и как целое ощу-
щается в переживании настроенности. Ни проект, ни настрое-
ние не являются интенциональными предметами, как и чем-то
самостоятельным, но без них невозможно конкретное схваты-
вание нашей жизненной задачи, без них нельзя понять жизнь
как свободу и изначальную историю. Отнюдь не интенциональ-
ность, а трансценденция выражает изначальный характер жиз-
ни, чем она отличается от бытия того сущего, для которого
речь не идёт о его бытии, которое не существует ради себя
самого и не имеет никакого «ради», существуя в состоянии мер-
цания [бытия], как животные. Трансценденция со взаимно обус-
ловленными моментами расположенности, проекта и поведе-
ния — это трансценденция человека к миру, к тому целому
освещённости, целому спроектированного, к которому всегда
уже принадлежит сущее характера бытия человека, являюще-
еся отношением, и сущее, для которого не свойствен этот ха-
рактер. Мир не является, как это впервые увидел Кант, какой-
либо вещью или совокупностью данных в опыте вещей. При-
чиной является не то, что мир — это всего лишь «производная»,
не осуществимая в реальности идея, а то, что мир дан через
посредство целостности трансценденции, посредством «перво-
истории», как говорит Хайдеггер. Мир не является предметом
опыта, но не потому, что он не может быть дан, а потому, что
он принципиальным образом не дан, поскольку не является
сущим и по своей сути не может «существовать». Трансцензус
68 • Ян Наточка
к миру не дан изначально, как у Канта, благодаря активности
рассудка и разума. Его основой является свобода.
Мы видим, как в этих двух феноменологических концепци-
ях снова даёт о себе знать древняя философская оппозиция
примата интеллекта и свободы, когда встаёт вопрос о том, что
определяет собственную сущность человеческого духа, с чем с
необходимостью связан вопрос об основании философии и ха-
рактере истории. Хайдеггер является философом примата сво-
боды, и история для него — это не театр, который разыгрыва-
ется на наших глазах, а ответственное осуществление установ-
ления отношения, которым является человек. История — это
не зрелище, а ответственность. Однако свобода понимается
Хайдеггером не как liberum arbitrium20 и не как освобожденность
для исполнения долга, а прежде всего как свобода позволения
сущему быть тем, что оно есть, не искажать сущее. Эта свобо-
да предполагает не только понимание бытия, но и потрясение
того, что изначально, в рамках наивной самоочевидности, при-
нимается за бытие, обрушение его мнимого смысла, к чему
ведёт выступление самого бытия в форме радикального «нет»,
и отчётливо поставленный вопрос о бытии. Разоблачение бы-
тия — это тот опыт, из которого вырастает философия как
постоянно возобновляемая попытка жизни в истине. Свобода —
это, в конце концов, свобода истины, и именно в форме разоб-
лачённости самого бытия, истины самого бытия, а не только
сущего (в форме открытого поведения и адекватности выска-
зываний). Свобода — это не одна из сторон человеческой сущ-
ности, она означает в основе своей то, что само бытие конечно,
что бытие таится в потрясении всех наивно полагаемых «убеж-
денностей», стремящихся найти пристанище в сущем, чтобы
не признаваться самим себе, что сам человек не имеет никако-
го пристанища, кроме того бытия, которое всё разоблачает и
которое свободно и именно потому не может «быть» таким,
как сущие единичности: бытие с его тайной и чудом, состоя-
щим в том, что сущее есть. Однако разоблачение бытия само
разыгрывается в философии и в её изначальном радикальном
вопрошании. Поэтому разоблачение с неизбежностью способ-
ствует тому, что не только область доступного в качестве ра-
Начало истории ° 69
зоблачённого сущего, но и сам мир, мир определённой эпохи,
подвергается изменению. С момента возникновения филосо-
фии история является, прежде всего, этой внутренней истори-
ей мира как бытия, которое отделено от сущего и всё-таки ему
принадлежит как бытие сущего.
При этом противопоставлении обеих феноменологических
философий удивляет то, что, принципиально расходясь в ис-
ходных позициях (в первом случае — созерцание, во втором —
свобода), обе приходят к мысли о центральном положении
философии в истории. А поскольку под философией понима-
ется философия Запада, обе с неизбежностью приходят к цен-
тральному положению Европы в истории.
История не мыслима без свободной ответственности. Обе
философии знают это и признаются в этом. Но одна видит
источник ответственности в незамутнённости очевидного (эви-
денции), в подчинении простого полагания созерцанию, тогда
как другая — в том, что мы не отступаем перед требованием,
состоящим в том, чтобы обеспечить вольную дорогу и место
для свободы, для того вот-бытия, которое освобождено от при-
вычного и поверхностного забвения тайны бытия сущего.
Откуда исходит сходство трактовки истории в этих двух
так глубоко различных философиях? Откуда происходит то,
что обе придают философии центральное значение в истории,
что в ней видят собственное начало истории? Очевидно, в обе-
их речь идёт о философии истины: истина — это их централь-
ная проблема, которую они хотят решить не с позиции якобы
очевидных положений, а исходя из феноменов, из того, что
показывает себя. Но если первая философия видит истину как
полную ясность, которая признаёт тёмные места только как
вопросы, переходные ступени для ответа, то вторая, вдох-
новлённая конечностью бытия, открыта для вечной таин-
ственности сущего, которое именно в этой своей таинственнос-
ти побуждается к вопросам, остающимся вопросами, и тем са-
мым стремится сохранить собственную сущностную истину:
открытость бытия сущего, к которой с неизбежностью принад-
лежит его сокрытость, как это выражено в греческом слове
aletheia.
70 • Ян Наточка
Философия Хайдеггера имеет в своём ядре столь же тесное
отношение к философскому мышлению, как и феноменоло-
гия Гуссерля. И всё же она в большей мере подходит в каче-
стве исходного пункта философствования об истории, посколь-
ку сама исходит из того, что свобода и ответственность имеют
своим основанием человеческое бытие, а не только лишь мыш-
ление. В её центре находятся такие проблемы, как освобожде-
ние от падения в вещи и мир, которым сегодня ограничены
ведущие учения о философии истории. Как философия ко-
нечной свободы и как напоминание о том, что существует над
миром, поскольку делает его возможным, она родственна иде-
ализму. При этом она обосновывает исторический подъём че-
ловека глубже и «реалистичнее», поскольку является единой и
последовательной доктриной, утверждающей самостоятель-
ность сущего в противоположность субъективизму любого вида,
в том числе такого, который вытекает из распространённого
материалистического понимания отношения между субъектом
и объектом как базирующегося на каузальности, присущей
внешнему миру. Философии Хайдеггера удаётся разъяснить
суть исторического свершения и открыть глаза на то, о чём
идёт речь в истории. Наши дальнейшие рассуждения направ-
лены на рассмотрение некоторых проблем древней и совре-
менной истории в свете импульсов, исходящих из этой фило-
софии. Ответственность за эти размышления несёт, разумеет-
ся, сам автор.
Примечания
1 Ср.: Diels H., Kranz W. Die Fragmente der Vorsokratiker. Berlin, 1951.
Anaximandtos^ В 1.
2 Ср.: Diels H., Kranz W. Op. cit. Heraklit, В 51. «Гармония противополож-
ных элементов» (греч.), в тексте Гераклита — лука и лиры.
:i В философии М. Хайдеггера — измерение временности человеческого
существования, выражающее его «выступление», «выхождение за собствен-
ные пределы». — Прим.. ред.
4 «Покровитель [дома]» (лат.). — Прим,, ред.
5 См.: Recherches philosophique. Puech H.-Ch. Spaier A. T. II (1932/33). Paris.
P. 112-130.
Начало истории • 71
ь «Страсть власти» (лат.). — Прим. ред.
7 Арендт X. Vita activa, или О деятельной жизни. СПб., 2000.
8 Ср.: Diels H., Kranz W. Op. cit. Parmenides, В 1.
9 «Жизнь сибаритская, политическая и философская» (греч.). —■ Прим. ред.
10 «Поле брани» (лат.), часть высказывания Цицерона «Inter arma leges
silent» («Когда гремит оружие, законы молчат»). — Прим. ред.
11 Ср.: Diels H., Kranz W. Op. cit. Heraklit, В 29.
12 Ibid.: Heraklit, В 114. «Кто намерен говорить (^«изрекать логос») с умом,
те должны крепко опираться на общее для всех, как граждане полиса — на
закон... Ибо все человеческие законы зависят от одного, божественного: он
простирает свою власть так далеко, как только пожелает, и над всем довле-
ет и (всё) превосходит».
13 Ср.: Diels H., Kranz W. Op. cit. Heraklit, В 80.
14 Ibid., В 113.
15 Ibid., В 1.
1GIbid., В 112.
17 Ibid., В 64.
18 Ibid., В 32.
19 Ibid., В 114.
20 «Свободная воля» (лат.). — Прим. ред.
3
Имеет ли история смысл?
Аасто говорят о смысле определённых человеческих дел,
о смысле жизни, истории, различных институтов, о смысле
демократии и т. д., не определяя само понятие смысла и не
предпринимая попытки такого определения. Это происхо-
дит, возможно, потому, что, с одной стороны, ощущается
потребность в этом понятии, а с другой — оно считается
чем-то самоочевидным. Потребность в этом понятии объяс-
няется тем, что все эти «человеческие дела» проблематич-
ны и требуют разъяснения, поскольку различие между их
возможными истолкованиями не может оставить нас равно-
душными. Самоочевидность, хотя и кажущуюся, понятие
смысла разделяет со всеми основополагающими понятия-
ми, которые являются настолько общими, что их существо
противоречит обычному способу определения в рамках
дефинитивной рецептуры традиционной логики. Таковы по-
нятия бытия, становления, явления. Смысл, без сомнения,
при- надлежит к этому разряду. Трудность в определении
этого понятия и одновременно необходимость в нём высту-
пают причиной того, что мы традиционно избегаем его бо-
лее подробного анализа, предполагая очевидность (эви-
денцию).
Мы попытаемся начать с анализа отношения между по-
нятиями «смысла» и «значения». Для Фреге, в ряду логи-
ков, «значение» представляло собой предметное отношение,
а «смысл» — способ понимания предмета: например, «четы-
рёхсторонник» и «четырёхугольник» являются двумя смыс-
Имеет ли история смысл? • 73
лами того же самого значения, как и «вечерняя» и «утренняя
звезда». Это показывает, что и в логике важно различать меж-
ду обоими понятиями, причём если смысл более тесно связан с
нашим способом понимания, то значение более объективно. Но,
с другой стороны, кажется, что «значение» мы ограничиваем
скорее областью логоса, тогда как «смысл» для нас — это нечто
более реальное, то, что, например, касается чувств и действий.
Мы спрашиваем, например, скорее о том, имеет ли страдание
смысл (а не какое оно имеет значение); или о том, каков был
смысл определённого действия, например, замалчивания не-
мецкой стороной целей войны в период Первой мировой вой-
ны (от этого мы строго отличаем значение этого замалчивания,
которое оно имело, например, для продолжение этой войны).
Смысл — это то, из чего можно понять, что эти цели необходи-
мо было утаивать (например, руководствуясь волей изменить
весь status quo тогдашнего мира). «Значение для» вытекает из
таким образом понятого смысла и является его результатом.
Отсюда обоснованность хайдеггеровского определения смыс-
ла как того, на основе чего нечто становится понятным. Со-
гласно этому смысл был бы чем-то обосновывающим, но не
только в качестве формально-логической предпосылки, но так-
же и в качестве материально-содержательной понятности. К
этой материально-содержательной понятности принадлежат не
только мотивации поступков, но также и тот более глубокий
фон переживания и действия, о которых идет речь, например,
когда мы говорим о смысле страдания, смысле ужаса, смысле
того, что человек является телесным существом. Во всех этих
случаях смысл не лежит на поверхности, напротив, мы долж-
ны его найти путём истолкования, разоблачающего то, что из-
начально препятствует его видеть, что его скрывает, искажает,
затемняет.
Прояснение мотивации поступка приводит к вопросу об от-
ношении между смыслом и целесообразностью. Мотивом по-
ступка является, в сущности, цель, которую преследует дея-
тель, затем — побуждение, из которого цель вытекает. Нена-
висть и желание устранить ненавидимую личность являются
побуждением и целью, диктующими убийство как средство ус-
74 • Ян Наточка
транения, понятого в качестве цели. Теперь ясно, что каждое
целесообразное действие является осмысленным, но не всякая
осмысленность будет целесообразной или подкреплённой це-
лями. Отношение между средством и целью — это каузальная
связь, которая становится осмысленной благодаря включению
во взаимосвязь человеческих мотивов и действий. Следователь-
но, нельзя отождествлять смысл с целесообразностью либо
объяснять смысл исходя из целесообразности. Напротив, дей-
ствие может быть целесообразным и всё-таки потерять (исход-
ный) смысл: так, например, кажется, что современная наука
ввиду вездесущего объективизма утратила внутренний смысл
и обосновывает себя только с опорой на внешние цели, вытека-
ющие из возможностей практического применения. С другой
стороны, человеческие поступки могут быть нецелесообразны-
ми или даже отрицающими целесообразность и всё-таки иметь
смысл: патологическое поведение истериков и вообще невро-
тиков имеет смысл, который можно понять, но это поведение
не является целесообразным. Ошибки, которые мы допускаем
в действиях, понятны, но не целесообразны, хотя, разумеется,
они предполагают цель и (ложный) выбор (неадекватных)
средств. — Стремиться вывести смысл из цели и целесообраз-
ности означает подчинить его категории причинности, посколь-
ку цель можно понимать в кантовском смысле как каузаль-
ность представления. Но если всё же смысл не сводится к цели,
тогда, напротив, можно с большим основанием полагать, что
цель — это каузальность, возвышенная до сферы смысла, при-
чём остаётся открытым, является ли она единственным спосо-
бом разворачивания эффектов смысла.
В связи со сказанным встаёт вопрос об отношении между
смыслом и ценностью. Ценности, такие как истина, добро, кра-
сота, не являются сами по себе целями и задачами, но их осу-
ществление, конечно же, может стать целью и задачей челове-
ческого действия. Однако, по существу, «ценности» означают
не что иное, как то, что сущее наполнено смыслом, и обознача-
ют то, что ему «придаёт» смысл: истина означает, что сущее
может быть понято и доступно постижению и прояснению.
Красота означает, что вхождение сущего в человеческий мир
Имеет ли история сжысл? • 15
указывает на таинственность бытия как чего-то постоянно зах-
ватывающего; добро означает, что в мире возможна самоот-
верженная и альтруистическая благосклонность и милость.
Точно так же дело обстоит и со всем остальным многообрази-
ем ценностей, которые постоянно к нам апеллируют, нас при-
тягивают и отталкивают и «воздействуют» так, что сущее явля-
ется для нас не простым фактом, к которому мы равнодушны,
а тем, что к нам «обращается», что-то говорит нам, является
предметом позитивного или негативного интереса. Ценность,
таким образом, — это не что иное, как осмысленность сущего,
которая выражена, как если бы речь шла о чём-то самостоя-
тельном, как если бы имелось в виду какое-то «качество» (если
выражать в привычных терминах). В действительности речь
идёт о том, что ничто не может нам показывать себя иначе,
нежели внутри осмысленной и понятной взаимосвязи, в рам-
ках нашей открытости миру. Эта открытость означает, что мы
существуем в мире не как равнодушные наблюдатели и свиде-
тели и что бытие-к-миру, наше присутствие в мире образуют
то, что касается нас самих самым непосредственным образом.
В этой связи важной является определённая сторона поня-
тия мира — та, которая представляет смысл как нечто самосто-
ятельное, как некое позитивное сущее, при всех обстоятель-
ствах являющееся тем, что оно есть. Идеи красоты и добра у
Платона являются тем, что делает прекрасным и добрым лю-
бое сущее в той мере, в какой онф принимает участие в этой
идее. Таким образом, проблематичным может быть само су-
щее как таковое, но никак не идеи. Осмысленность сущего тем
самым гарантирована, несмотря на то что единичное сущее
может пасть жертвой обессмысливания.
Осмысленность сущего нерушима, пока сами ценности ос-
таются непроблематизированными, понимаются ли они, по Пла-
тону, как то, что придает сущему смысл, или, как в христианс-
кой теологии, подвергшейся влиянию неоплатонизма, проис-
ходят от совершенства Бога-творца. Пока ценность понимается
как вечный источник смысла, а идея или Бог — как то, что даёт
смысл вещам, человеческим поступкам и событиям, сохраня-
ется возможность понимания опыта утраты смысла как изъя-
76 • Ян Наточка
v на, присущего, однако, не тому, что даёт смысл, а тому, кто им
наделяется. Это преимущество образует преграду на пути ни-
гилизма смысла. Слабой стороной здесь является то, что необ-
ходимо возвратиться к метафизическим понятиям, в то время
как смысл и его утрата принадлежат к феноменам конкретно-
го опыта. Вернуться к метафизике означает считать смысл чем-
то данным в готовом виде и целиком и полностью предаться
вопросу о его происхождении (не во временно-эмпирическом,
а в структурно-философском смысле).
Другое дело, когда мы воспринимаем с полной серьёзнос-
тью опыт утраты смысла, который, несомненно, встречается в
нашей жизни. Этот опыт не только указывает на нашу недо-
статочность, на неспособность схватить смысл, понять его, но
и на радикальную возможность полной утраты смысла, на то,
что мы можем оказаться в его нулевой точке. Вещи не имеют
смысла для самих себя, их смысл подразумевает, что кто-то
придаёт им «смысл»: смысл изначально наличествует не в су-
щем, а в открытости, в уже упомянутом понимании смысла, в
понимании как процессе, движении, не отличимом от движе-
ния, каковым, по существу, является сама наша жизнь. Конеч-
но, прекрасны и истинны сами вещи, но отнюдь не для самих
себя: только у нас есть возможность установить отношение
вещей к их собственному смыслу, поскольку мы устроены так,
что наша собственная жизнь может для нас самих иметь смысл,
тогда как вещам это отношение к ним самим не дано, «не име-
ет для них смысла».
Если это так, не являемся ли мы сами поэтому теми, кто
придает смысл вещам? Не является ли наше отношение к ним,
опосредованное нашим отношением к самим себе, «осмысле-
нием бессмысленного» ? Если существует опыт бессмысленнос-
ти, не означает ли это, что всё основано на нас и на открытос-
ти, каковой мы сами являемся? А когда мы закрыты, в резуль-
тате чего вещи нам «ничего не говорят», не молчит ли это
осмысление и не показывает ли себя мир в качестве ничтожно-
сти смысла, смысловой пустоты? И если удаётся показать, что
этот опыт является одновременно основополагающей откры-
тостью для целого нашей жизни, для свободы нашей экзистен-
Нжеет ли история смысл? в 77
ции, не означает ли это тем более, что исток всякого смысла,
его нулевая точка, находится в нас и в нашей власти?
И всё же мысль о том, что мы создаём смысл так, что ос-
мысленность или смысловая пустота находятся в нашей влас-
ти, противоречит феноменально обоснованной мысли [о нашей]
открытости сущему и его смыслу. Придание смысла, прежде
всего, не подвластно нашей воле или нашему произволу. Наде-
лять вещи смыслом — это не «наше дело», мы не распоряжаем-
ся тем, что вещи при определённых обстоятельствах оказыва-
ются бессмысленными, и наоборот и в дополнение к этому —
смысл вещей обращается к нам, если мы ему открыты. Мы
открыты тому, что наполнено смыслом, не в меньшей мере,
чем бессмысленному, и это то же самое бытие, которое пока-
зывает себя то как наполненное смыслом, то как бессмыслен-
ное, как ничего не говорящее. Идёт ли тут речь о чём-то, кро-
ме проблематичности любого смысла? И что означает эта про-
блематичность кроме того, что сама наша открытость вещам
и другим предостерегает нас от того, чтобы мы не склонялись
к абсолютизации определённых способов понимания смысла и
соответствующих им смыслов?
Теперь необходимо сделать несколько замечаний касатель-
но отношения между понятием «смысл» и понятием «бытие».
Между ними существует как обширная аналогия, так и глубо-
кое различие. Как смысл, так и бытие имеют свойство принад-
лежать, с одной стороны, такому сущему, которое по своему
характеру возможно только внутри отношения к нему, с дру-
гой стороны, такому, которое по сути лишено подобного отно-
шения. В то время как существа, изначально имеющие отно-
шение к собственному бытию, устанавливают связь между про-
сто наличествующими вещами и их бытием посредством того,
что схватывают вещи как нечто, а затем выносят о них сужде-
ние, — существа, открытые собственному бытию, устанавлива-
ют связь между вещами и их собственным смыслом посред-
ством того, что схватывают вещи с точки зрения значимости,
при этом не только созерцательно-эстетически, но и с помо-
щью практических действий. Таким образом, феноменологи-
чески было доказано, что мы только тогда отчётливо относим-
78 • Яи Наточка
ся к бытию, когда вещи теряют для нас значимость или «свой
смысл». Наполненность смыслом вещей и наш отчётливый
подступ к бытию, его разоблачение в этих случаях исключают-
ся. Бытие обнаруживает себя только там, где кончается смысл,
и оказывается в таком случае по своему характеру чем-то бес-
смысленным.
Как показал В. Вайшедель1, осмысленность никогда не воз-
можна только как нечто единичное, как нечто, характеризую-
щее ту или иную единичную вещь независимо от остальных
взаимосвязей. Каждый единичный смысл указывает на общий
смысл, а каждый релятивный — на абсолютный. Поскольку
смысл вещей неотделим от нашей открытости вещам и их зна-
чимости, можно также сказать, что там, где эта открытость
отсутствует, мир не может к нам обращаться, вследствие чего
бытие человека как бытие-в-мире невозможно. Из этого далее
вытекает то, что человеческая жизнь невозможна без (либо
наивно, либо критически найденного) доверительного отноше-
ния к абсолютному смыслу, к общему смыслу универсума су-
щего, жизни и всего происходящего. Там, где человеческая
жизнь находится в конфронтации с полной бессмысленностью,
ей не остается ничего иного, кроме как капитулировать и отка-
заться от самой себя. В. Мрштик, сам закончивший жизнь са-
моубийством, в этой связи говорил об «ужасной неподвижнос-
ти самоубийц»2. Антиномия смысла и бессмысленности, смыс-
ла и бытия, кажется, указывает на то, что жизнь возможна
только благодаря постоянной иллюзии тотального смысла, ко-
торая в определенных жизненных ситуациях обнаруживается
именно как иллюзия. Одновременно может показаться, что
истина является принципиально враждебной по отношению к
жизни, находится в непримиримой оппозиции и неутомимой
борьбе с ней.
Мы знаем, что борьба истины с жизнью, пусть и философ-
ски обоснованная иным образом, является одним из основных
тезисов Ницше. Разумеется, у Ницше истина означает именно
абсолютный смысл, а он находится в противоречии с сущнос-
тью сущего, каковой является воля к власти, непрерывное ста-
новление, означающее самопреодоление, жизнь. Несмотря на
Имеет ли история смысл? • 79
это понятийное различие, можно сказать, что Ницше догады-
вался о наличии конфликта между бытием сущего и абсолют-
ным смыслом даже тогда, когда интерпретировал этот абсо-
лютный смысл именно как нечто враждебное жизни, следова-
тельно, с нашей точки зрения, неправильно. Этот конфликт
явился для него сигналом, симптомом нигилизма, обесценива-
ния высших ценностей, упадка того, что до настоящего време-
ни придавало жизни смысл. Тогда для него эта ситуация, оче-
видно, разрешается признанием нигилизма, провозглашением
мира бессмысленным во имя творческой жизни, вследствие это-
го способной организовать часть сущего так, чтобы сущее об-
рело релятивный смысл.
Однако если предложенный выше анализ антиномии бы-
тия и смысла, смысла и бессмысленности верен, тогда реше-
ние проблемы нигилизма с помощью релятивного и партику-
лярного смысла невозможно, поскольку это иллюзорное реше-
ние. Жизнь в своём практическом разворачивании не может
опираться на релятивный смысл, основанный на бессмыслен-
ности, поскольку никакой релятивный смысл не может наде-
лить смыслом бессмысленное и всегда сам оказьюается захва-
чен бессмысленностью того, на чём он основывается. Истин-
ная жизнь в состоянии абсолютного нигилизма, в ситуации
осознания бессмысленности целого невозможна, возможной она
становится только ценой иллюзии.
Полагание таким образом понятого нигилизма не менее
догматично, нежели полагание нерушимой в своей наивности
веры в смысл! Принципиальный скепсис должен содержать в
себе не только скепсис по отношению к самому скепсису и та-
ким образом доходить, по крайней мере, до дефинитивного
доказательства и до состояния необоснованности, состояния
подвешенности. Он должен, более того, требовать опроса само-
го феномена утраты смысла, того, что это собственно означа-
ет. В хайдегтеровском анализе фундаментальной расположен-
ности ужаса мы находим, что в ужасе открывается возмож-
ность, а также — пусть и на одно мгновение — действительность
поставленное™ перед ничто. Почему только на мгновение?
Потому что ужас не означает ничего иного, кроме момента
80 • Ян Наточка
кризиса, с необходимостью требующего либо вернуться к миру,
а это означает к смыслу и значимости, либо удалиться в «ужа-
сающую неподвижность» абсолютно глубокой тоски, taedium
vitae6, из которой нет пути назад. Но возвратиться не означает
возвратиться к тем же вещам, какими они были. Никогда боль-
ше они не будут теми непроблематичными, нерушимыми ве-
щами, какими они являли себя до того. С ними всё обстоит
сходным образом — и всё же иначе, чем с освобождёнными
узниками пещеры у Платона: эти узники тоже должны возвра-
титься назад, хотя и не вполне ясно, почему. В нашем же слу-
чае, напротив, смысл возвращения понятен, поскольку возвра-
щение означает саму жизнь. Но освобождение из плена, из при-
вычной предубежденности здесь не является открытием чего-то
позитивного в превосходном смысле, открытием вечных и тем
самым лишённых всякой релятивности сущностей. Это откры-
тие бытия сущего за границами всего сущего и его значимости,
открытие бытия, которое не является сущим. С точки зрения
сущего, это всего лишь ничто, всего лишь чудо — то удивитель-
ное, которое и есть сущее, то, что делает возможным отступле-
ние, «шаг назад» перед всяким сущим4, на основании которого
человеческая жизнь является тем, что она есть, — постоянной
дистанцией по отношению к сущим вещам и возможностью в
этом spatium5 и на его основе вступать в отношение с ними.
Пережить опыт утраты смысла означает, что смысл, к ко-
торому мы по возможности вернёмся, будет для нас уже не
простым и несокрушимым фактом, а отрефлексированным,
требующим обоснования и оправдывающим себя смыслом. Со-
ответственно, смысл никогда не может быть ни просто дан, ни
каким-то образом окончательно найден. Возникает новое отно-
шение, новый способ отношения к тому, что наделено смыс-
лом: смысл может явить себя только в деятельности, которая
вытекает из поиска недостающего смысла, то есть как беско-
нечно удалённая точка проблематичности, как косвенная эпи-
фания. Если мы не ошибаемся, то это нахождение смысла внут-
ри самого поиска, соответствующего отсутствию смысла, буду-
чи новым проектом жизни, является смыслом сократовского
существования. Постоянное потрясение наивного сознания под-
Имеет ли история смысл? • 81
разумевает новую разновидность смысла, открытие того, что
смысл и загадочность бытия и сущего взаимосвязаны.
Не только индивидуальная жизнь — если она приобретает
опыт утраты смысла, из которого выводит возможность и не-
обходимость установления совершенно нового отношения меж-
ду собой и всем остальным, — претерпевает полное «превраще-
ние». Возможно, собственная сущность той разделительной гра-
ни, которую мы стремимся установить для отделения
доисторической эпохи от собственно истории, состоит в этом
потрясении наивной уверенности в смысле, подчинившей себе
человеческую жизнь вплоть до того специфического превра-
щения, которое означает почти одновременное — а в глубин-
ном смысле фактически совместное — возникновение полити-
ки и философии.
Не то чтобы доисторический человек был в своем опреде-
лении того, что наполнено смыслом, каким-то требователь-
ным — напротив, он скромен в оценке человека и человечес-
кой жизни, мир для него в каком-то смысле находится в поряд-
ке и справедливо устроен. Опыт смертности или стихийных и
социальных катастроф не потрясает этого человека, и для обес-
печения осмысленности его мира достаточно того, что боги
оставили за собой всё самое лучшее: вечность в смысле бес-
смертия. Ценности универсума никак не вредит то, что в нём
существуют смерть, болезнь и страдание, точно так же, как её
не приуменьшает то, что в универсуме умирают звери и расте-
ния и что все вещи подчинены ритму становления и гибели.
В самом крайнем случае это не исключает чувства паники пе-
ред смертью, когда человек перед лицом мёртвого друга осоз-
нает, что его ждёт то же самое; однако поиск другого смысла,
например вечной жизни, — это дело во всяком случае какого-
нибудь полубога, а отнюдь не собственно людей. Человек —
действительный человек — возвращается из этих приключе-
ний к своему человеческому окружению, к жене и детям, к
своей виноградной лозе и к своему очагу, к размеренному рит-
му жизни, принадлежащей великому прибою, которым управ-
ляют совершенно иные сущности и силы. «Дело людей» — это
забота о собственной жизни и о жизни своих близких, оно при-
82 • Ян Наточка
надлежит тому, что внушает человеку чувство привязанности
к процессу постоянного поддержания жизни, оно обнаружива-
ет себя в скромности, которая учит человека примиряться с
уделом служения жизни и с тягостным нескончаемым трудом.
Ценой этого человек может жить в гармонии с миром и счи-
тать свою жизнь не бессмысленной, а просто эксцентричной
по отношению к тому, что выносит решения на его счёт, счи-
тать её «естественным образом» наполненной смыслом, как
жизнь цветов на полях и животных в лесу. Для настоящих кос-
мических существ мир без оживления цветами и животными
был бы таким же бедным и безрадостным, что и мир без лю-
дей. Так говорят сами боги, ужаснувшиеся результату того опу-
стошения, в которое мир поверг потоп.
История отличается от доисторической эпохи потрясением
этого принятого смысла. Вопрос о том, что привело к этому
потрясению, является неправильным и напрасно поставленным,
как если бы мы спросили о том, благодаря чему человек выхо-
дит из состояния защищённости детства и становится ответ-
ственным зрелым человеком. Человек доисторической эпохи
в силу самоотречения возвращается к принимающему прими-
рению с универсумом (свидетельством чего является паника
Гильгамеша, вызванная смертью его друга), подобно тому как
подросток любит впадать в состояние инфантильной защищён-
ности. Возможность потрясения довлеет над ним, но он её от-
вергает. Он отдаёт предпочтение скромной включённости в уни-
версум, и этому также отвечает его специфическое существо-
вание в сообществе, которое само не отличает себя от
универсума и от определяющих его сил, И то, или, лучше ска-
зать, и тот, кто управляет царством людей, является божествен-
ным по своей природе, и люди в собственном смысле слова
предопределены к тому, чтобы служить ему. В ответ на это и
благодаря его участию они получают всё то, в чём они нужда-
ются как телесные существа и что образует смысл их суще-
ствования. Не существует никакой специфически человечес-
кой сферы сущего, предназначенной для человека и его наме-
рения нести ответственность за самого себя, и совсем
невозможно «царство человека». То есть там, где люди пыта-
Ижеет ли история смысл? • 83
ются создать такое spatium, не может сохраниться скромность,
присущая принятию смысла, скромность, характеризовавшая
человека до этого момента. Благодаря тому что человек берёт
на себя ответственность за себя и за других, имплицитно он
ставит вопрос о смысле по-новому и иначе. Он уже не удовлет-
воряется привязанностью жизни к ней самой, продолжением
жизни как содержанием, не имеющим пробелов, и службой в
«поте лица» как уделом существа, смыслом которого является
эпизодичность и подчинённость. Изначальное потрясение при-
нятого смысла подразумевает вследствие этого не падение в
бессмысленность, а, напротив, открытие возможности достиг-
нуть более свободного и более претенциозного смысла. — С
этим связано недвусмысленное удивление перед сущим в це-
лом, перед чудесным фактом того, что универсум есть, то удив-
ление, которое образует, согласно мнению древних философов,
исток собственного пафоса и возникновения философии. Люди,
которые не остаются скромными потребителями пассивно при-
нятого смысла, не могут удовлетвориться задачей, просто так
на них возложенной. К этому также органически принадле-
жит та обозначенная выше новая возможность отношения к
бытию и смыслу, которая базируется не на готовом, заранее
принятом ответе, а на вопрошающем поиске, каковым и явля-
ется философия. Вопрошающий поиск, однако, предполагает
опыт загадочности, проблематичности. Это тот опыт, которо-
го избегает доисторическое человечество, перед которым оно
отступает в глубины мифа, вынашивающего истину, и кото-
рый разворачивается в форме философии. Подобно тому как
в политической деятельности человек оказывается перед ли-
цом её проблематичности ввиду непрогнозируемое™ послед-
ствий, и каждая его инициатива немедленно попадает в чужие
руки, точно так же и в философии человек ставит себя под
удар проблематичности бытия и смысла всего сущего.
В историческую эпоху человечество не уклоняется от про-
блематичности, а требует её напрямую и благодаря ей получа-
ет доступ к более глубокому измерению смысла жизни, чем
то, которое было присуще доисторическому человечеству. В
общине, npolis(e), в жизни, посвященной общине, в политичес-
84 • Ян Наточка
кой жизни создаётся пространство для автономного и чисто
человеческого смысла, смысла действия и воздействия, совер-
шающихся внутри взаимного признания и имеющих значение
для всех участников, как и не ограничивающихся простым под-
держанием телесной жизни. Эти действие и воздействие обра-
зуют источник жизни, преодолевающей саму себя благодаря
памяти о совершённых поступках, памяти, которую сохраняет
именно община. Эта жизнь во многих отношениях более рис-
кованная и опасная, чем та вегетативная самоотреченность, ко-
торая характеризует доисторическое человечество. И точно так
же недвусмысленное вопрошающее искание, определяющее фи-
лософию, является более рискованным, чем погружённое [в
себя] разгадывание [сущего], характеризующее миф. Это воп-
рошание более рискованно, поскольку оно — как и в случае с
действием, с деятельной инициативой, которой деятельный че-
ловек лишается в тот самый момент, когда недвусмысленно
ею овладел, — отдаёт себя в руки бесконечному соперничеству
мнений, приводящему исходные замыслы отдельных мысли-
телей к непредсказуемому и непредвиденному. Оно более рис-
кованно, поскольку втягивает всю жизнь — и индивидуальную,
и общественную — в область изменения смысла, в область, внут-
ри которой жизнь в своём устройстве, производном от её смыс-
ла, должна полностью измениться. История означает именно
это — и ничто иное.
Философия потрясает скромный смысл строго заданного
жизненного ритма, продиктованного ослеплением телесной
жизнью и её привязанностью к самой себе, не для того, чтобы
обеднить человека, а для того, чтобы обогатить его волей. Че-
ловек должен избавиться от принятого смысла, чтобы возвы-
сить себя до того, что до настоящего времени придавало смысл
универсуму сущего и ему самому, как и другим, зависимым
существам, растениям и всему живому, и что принимало реше-
ния относительно их всех, поскольку было непреходящим и
поэтому божественным.
Философия предлагает новую форму непроходящего [бы-
тия]: не только постоянство, бессмертие, непрерывность, прису-
щая богам, но и вечность. Вечность изначально выступает перед
VLueem ли история смысл? • 85
философией в форме того непреходящего, из которого всякое
сущее возникает и куда оно возвращается после своей гибели,
из которого оно себя являет и в котором зарождается, и к кото-
рому оно приходит, чтобы погибнуть и впасть в темноту — в
форме physis(a)6. К ночи physis(a) принадлежат сумерки Космо-
са, порядка вещей, что не уменьшает, а подчёркивает тайну
бытия и сущих вещей. Но как жизни свободного полиса был
предопределён лишь короткий срок для соответствующего его
сути, свободного и смелого раскрытия, бесстрашно направлен-
ного к неизвестному, также и философия, осознавая привязан-
ность к проблеме общины и предчувствуя в зародыше грозящую
опасность и свой конец, привела своим стремлением к дефини-
тивному и новому осмыслению к тому, чтобы в темноте видеть
только недостаток света, в ночи — ослабление дня. Благодаря
сплошной ясности окончательной уверенности, пронизывающей
всякое созерцание, философия превратилась в теорию суще-
го, которая по-новому и дефинитивно исчерпывает смысл все-
го сущего. В ту минуту, когда гибель полиса была предрешена,
философия превратилась в то, что будет её формой на протя-
жении тысячелетий. Она превратилась в руках Платона и Де-
мокрита в метафизику, в двойственную метафизику, в мета-
физику «сверху» и «снизу»: метафизику логоса и идеи, с одной
стороны, и метафизику вещей в их чистой вещественности — с
другой. При этом каждая выступает с претензией на дефини-
тивную ясность и окончательное истолкование вещей, причём
обе опираются на тот образец мыслительной ясности, который
представлен открытием математики (как, в конечном счете,
зародыша будущей трансформации философии в науку).
В связи с этим математическим масштабом для всего того,
чем является истина как ясно и раз и навсегда, как и всё равно
при каких условиях и кем понятая, находится такой мотив пла-
тоновского метафизического мышления, как ckorismos7. Ckorismos
означает разрыв, пропасть между истинным, доступным стро-
гому и точному умозрению миром и неточным, чувственно яв-
ляющим себя и в строгом смысле не схватываемым миром,
того, что повседневный опыт провозглашает в качестве един-
ственной действительности, — нашего окружения, мира вокруг
86 • Ян Наточка
нас. Эта на первый взгляд странная, причудливая точка зре-
ния, провозглашающая в качестве истинной действительности
то, о чём здравый человеческий рассудок и подавляющее боль-
шинство людей вообще ничего не знают, является на самом
деле одним из исторически наиболее действенных метафизи-
ческих мотивов, без которого не существовало бы сейчас для
нас не только такой сомнительной дисциплины, как теология,
но и, прежде всего, всей современной науки, особенно естествоз-
нания и базирующихся на нём и далеко идущих способов его
применения. Можно даже сказать, что благодаря этому моти-
ву Платон превзошёл и оставил далеко за собой Демокрита.
Несмотря на видимость, современная наука идёт скорее за Пла-
тоном, чем за Демокритом.
Для исторического развития наиболее значима та двойствен-
ность, существование которой поддерживают такие фигуры,
как Платон и Демокрит: это означает, что уже с момента воз-
никновении метафизика имела не одну, а две формы, к ко-
торым затем присоединяется третья, принципиально от них от-
личная, а именно — аристотелевская. Философия в своей мета-
физической форме хотя и стряхнула с себя таинственность,
которая была исходным пунктом потрясения, приведшего фи-
лософию к возникновению, тем не менее, эта таинственность
вернулась в форме загадки плюрализма метафизических кон-
цептов, в форме принципиально различных воззрений на ха-
рактер сущего как такового.
Тесная взаимосвязь метафизической философии и полити-
ки документально зафиксирована в рамках платоновского уче-
ния благодаря тому, что в качестве своей преимущественной
задачи оно намечает конструирование такого государственно-
го объединения, в котором философы (то есть люди, приняв-
шие решение вести жизнь, базирующуюся на истинности) смо-
гут жить с этим объединением без конфликта, одинаково смер-
тоносного для обеих сторон. Аристотель первым философски
обосновывает политику, исходя из polis(a). Однако заслугой Пла-
тона остаёется то, что даже там, где эта основа была устранена
из западного контекста жизни — как это произошло в эпоху
эллиннизма и при переходе римского civitas8 в принципат, —
Ъ\жеетли история смысл? • 87
государство осталось чем-то таким, что жёсткой границей от-
делено от всего остального мира. Связано это с тем, что госу-
дарство и дальше сохраняло связь с «истинным» миром, утвер-
ждая на его основе свои институты и начинания.
То, что философия не может дать человеку более высокий,
абсолютно позитивный, ненадломленный и непосредственно
понятный смысл жизни, лишённый какой бы то ни было зага-
дочности, к которой ведёт потрясение первоначального, огра-
ниченного смысла; то, что заводит метафизику в тупик, так
что вместо обещанной или чаянной позитивности она приво-
дит к неуверенности, — образует опыт, который наиболее стре-
мительно пробивается именно в ту эпоху, когда человек, поте-
рявший практический смысл своего существования в общине,
обращается внутрь себя. Он делает это, чтобы найти там то,
что ему не дала жизнь в общине, а это означает — в Космосе,
частью и образом которого является община. Между челове-
ком и Космосом, таким образом, возникает стена недоверия,
затрагивающая и философию как орган смыслополагания. При
этом значение христианского опыта, если следовать истории,
состоит в следующем: в том, на что не способна философская
наука с её притязанием на прочную ерШётё9 (и в чём ей отказа-
но ввиду её скепсиса) и что недоступно самым напряжённым
усилиям человека, то для Бога совершенно легко, и вера, обра-
щение к человеку через божественное слово и ответ на это
слово делают отношение к Космосу каким-то второстепенным
и, в конце концов, бессмысленным. При этом христианской
теологии отнюдь не мешает, что толкование обращения Бога к
человеку разыгрывается в сфере трансцендентального chorismos,
некогда созданного с совершенно иной целью платоновской
метафизикой. Божественная трансценденция, чьё идейное ос-
нование происходит, конечно же, не из идейного богатства
Израиля, является наследием «истинного мира», созданного
Платоном и теологически преобразованного Аристотелем. Хри-
стианская вера — это смысл, искомый и автономно найденный
отнюдь не человеком, а диктуемый ему из потустороннего мира.
Поэтому христианской вере сущностно присуще нечто такое,
что в данной форме не встречается в греческой жизни, то есть
88 • Ян Наточка
осознание бедственного положения человека, как такового не
способного к тому, чтобы творить смысл и придавать его своей
собственной жизни. Это элемент христианского воззрения, при-
сущий также и прежней скептической установке, но в более
радикальной форме и без того отречения, которое характери-
зует скепсис. Имея перед глазами своё бедственное положе-
ние, христианин не оставляет надежды на абсолютный и всеох-
ватывающий смысл, — он утверждает его тем упорнее, чем более
очевидным становится это положение.
Вопрос о смысле оказывается решённым в позитивном смыс-
ле, тогда как философия отодвигается в сторону, а скепсис
сдерживается с помощью слова из другого, иначе никак недо-
ступного, «истинного» мира. На этой основе вырастает, с од-
ной стороны, новое общество, с другой — новое, соразмерное
познанию обхождение с универсумом всего того, что есть. Новая
община, конечно же, уже не является исключительно делом
человеческих рук, тем не менее люди свободно принимают
участие в её жизни: это не только сообщество людей, которые
как соучастники процесса взаимного признания обеспечивают
идеальное продолжение собственного существования в добле-
стной памяти, — это сообщество с Богом, который является их
вечной памятью и с позиции которого они являются духовны-
ми существами. Это община, в которой, несмотря на любую
иерархию, люди равны перед лицом последней — «истинной» —
действительности, в результате чего они впервые становятся
подлинными соучастниками смысла, не ими созданного, но в
осуществлении которого они призваны участвовать.
Этот концепт новой общины естественно предлагает целый
ряд возможностей исторического оформления. В наиболее ран-
нем виде он даёт о себе знать в нравственной дилемме Римс-
кой империи, существование которой, как и жизнь, и приня-
тые в ней на себя обязанности, требовало высшей, абсолютной
санкции. Модель управления, предложенная Константином, при
которой светский и духовный миры совпадают, является толь-
ко одной из возможностей. Миры совпадают таким образом,
что цицероновская идея, согласно которой наилучшее государ-
ство, государство «истинной сущности», и римская res publica
Имеет ли история сжысл? • 89
суть одно и то же, базируясь на новой догматике и разворачи-
ваясь в плоскости римского волюнтаризма, осуществляется мо-
нументальным образом. Правда, эта возможность, пусть и в
«секуляризованной» форме, оказывает воздействие вплоть до
сегодняшнего дня. Исламу также не чужда идея священной
общины истинного существа, по крайней мере в интерпретаци-
ях некоторых главных философских представителей, которые
в свою очередь стремились установить связь понятия пророче-
ства и его отношения к царству арабских законов с платоновс-
ким учением о философе-правителе (Аль-Фараби, Ибн Сина).
Наиболее значимо и продуктивно эта тема разворачивается в
контексте западного Средневековья, где она принимает вид соб-
ственной проблемы, вокруг которой концентрируются усилия
деятелей как историко-политической, так и духовной сфер вли-
яния. Реальные рамки для наполненной смыслом жизни здесь
больше не задаются так просто, как задавалось мировое госу-
дарство для римлянина поздней императорской эпохи или оп-
ределённое собственными законами царство для ислама. Воп-
рос об отношении между земной и истинной общинами разре-
шается в течение столетий по-разному, и это несмотря на веру
как основание, остающееся, по существу, одним и тем же (хотя
соответствующие версии понимания отношения веры к другим
естественным сторонам и качествам человека могут существо-
вать отдельно друг от друга).
Здесь необходимо понять новое место и значение метафи-
зики в системе христианской веры и христианской догматики.
Верно то, что она перестала быть областью, в которой ищут
смысл всего сущего и где его надеются найти автономно. Тем
не менее, метафизическое мышление и метафизическая поста-
новка вопросов приобретают такой смысл, что в определён-
ных и гарантированных верой рамках можно в определённой
мере найти понимание того, что даёт вера. Таким образом,
разумное познание достигает трансцендентных целей, не опа-
саясь того, что может заблудиться, а с другой стороны, оно
может совершенно смело предаваться спекулятивным размыш-
лениям, не боясь того, что они приведут к скептическим край-
ностям, где подстерегает бессмысленность. Так, ум как есте-
90 • Ян Наточка
ственный орган познания истины хотя и утратил ведущую роль
в жизни, тем не менее можно сказать, что он тем самым толь-
ко выиграл: найдя твёрдую почву под ногами, он обрёл уверен-
ность, а вместе с ней и смелость.
Первоначально, находясь под влиянием античной концеп-
ции, средневековый универсум заключён в конечное простран-
ство, но имеет тенденцию к пространственной бесконечности.
Однако при этом он, по сути, конечен во времени, и его время
происходит из истории Спасения, сущностно принадлежащей
средневековому пониманию жизненного и исторического смыс-
ла (истории, которая присуща уже творению, грехопадению
человека, спасению и суду).
К этому христианскому пониманию смысла истории и уни-
версума европейское человечество настолько привыкло, что
не может освободиться от некоторых его основных черт даже
там, где уже перестали быть значимыми основные христианс-
кие понятия Бога как творца, спасителя и судьи. Как и прежде,
оно ищет смысл в секуляризированной концепции христиан-
ства, в которой человек или человечество приходят на место
Бога. Карл Лёвит, обративший особое внимание на то, что ан-
тичный космос как источник смысла в эпоху христианства за-
меняется сближением Бога и человека, видит в этой, значимой
и для современности, привязке смысла к истории один из ис-
точников современного отчаяния, обусловленного утратой смыс-
ла. Поскольку если история является местом смысла, то опи-
раться на неё означает то же самое, что хвататься за волну во
время кораблекрушения.
Другим христианским источником нигилизма, согласно
Левиту, является отношение к природе как к области вещей,
данных человеку в распоряжение, чтобы он владел и управлял
ими. Идея, которая изначально подразумевала заботу о вещах,
доверенных человеку, становится в современную эпоху докт-
риной овладения сокровищницей природы и её использования
в корыстных целях без какой-либо оглядки не только на саму
природу, но и на будущее человечества.
Самым важным, однако, оказывается не то, что природа
для христианского человека не является с необходимостью тем
ЬЪиеетли история сжысл? ° 91
конкретным, в которое он погружен и к которому он сам при-
надлежит (в качестве одного из основных мест открытия пол-
ного тайн характера природы), а то, что, в особенности, со вре-
мён господства номинализма она выступает предметом логи-
ческого выведения и конструирования. Природа нам не дана и
не открыта, она от нас далека и нам чужда, и поэтому сред-
ствами собственного духа мы ещё должны её вывести. Местом
смысла и бытия является Бог в своём отношении к человечес-
кой душе; природа же является местом холодных абстракт-
ных размышлений. Поэтому в вопросе о природе современ-
ный человек примыкает не к античной, и прежде всего гречес-
кой, традиции с её эстетическим пониманием геометрии, а к
христианскому способу рассмотрения с его холодным дистан-
цированием и недоверием [по отношению к природе]. В после-
дней фазе христианского учения о природе близость Бога к
человеческой душе понимается как божественная гарантия того,
что теперь начинает служить в качестве главного интереса (а
для авторитетных личностей уже давно служит). Это гарантия
существования природы и математически истолкованных кон-
цепций о ней, которые позволяют не столько её наблюдать,
сколько исчислять. Природа как таковая, как самостоятель-
ное сущее перестаёт интересовать, перестаёт быть предметом
рассмотрения и становится чем-то формальным — предметом
математического естествознания.
В математическом естествознании природа — это не то, что
показывает себя из себя самой, это не феномен, а предмет кон-
струирования и эксперимента, «устанавливающих» природу в
рамках строго определённых антиципации, которые как тако-
вые не могут быть реализованы, но делают возможным исчис-
ление. Нигде в природе нельзя зафиксировать инерционного
движения в строгом смысле, и тем не менее принцип инерции
в ней действует, и без него не мыслима никакая точная кине-
матика. Отсюда же, а также ввиду неслыханных и прямо-таки
завораживающих успехов математических методов в физике
и естественных науках вообще, исходит новый трезвый и одно-
временно отважный взгляд на действительность в целом,
взгляд, не признающий никакого иного сущего, кроме того, ко-
02 • Ян Наточка
торое достигнуто посредством математических реконструкций
чувственного мира, где мы «естественным образом» ориенти-
руемся. Так, не без помощи христианского концепта смысла в
лоне западноевропейских обществ возникает вскормленное хри-
стианством понимание действительности. Это понимание не
только постепенно отворачивается от собственного происхож-
дения христианского смысла, так что такие понятия, как Бог,
творец, грехопадение, спасение, теряют для него всякий смысл,
но и постепенно приходит к окончательному разграничению
реальности и смысла. Согласно этому пониманию, действитель-
ность в собственном смысле слова, действительность эффек-
тивного знания не обладает смыслом, бессмысленна.
Благодаря применимости и эффективности в самых раз-
ных сферах жизни математическое естествознание стало не-
обходимой составной частью нашей сегодняшней действитель-
ности, без чего мы не можем жить. Но если и нельзя жить без
него, а именно в физическом смысле, тем самым ещё не сказа-
но, что нам удастся жить с ним и исключительно на его основе.
Если Вайшедель прав в том, что нельзя в буквальном смысле
физически жить с сознанием полной бессмысленности, и если
математическое естествознание этого вида, существующего вот
уже на протяжении трехсот лет с момента возникновения со-
временного механицизма, сегодня превратилось в норму бы-
тийственности для всё возрастающего числа людей, тогда ста-
новится понятным, что в условиях постоянного умножения не-
обходимых средств наша жизнь не только оказывается пустой,
но и отданной в распоряжение опустошающих сил.
В своём великом произведении, посвященном кризису ев-
ропейских наук10, Гуссерль показал, как в руках современного
человека сама математика, благодаря формальному и всё бо-
лее сосредоточивающемуся на голых форме и структуре ха-
рактеру там, где уже недостаточно ясно просматривается ме-
тодический характер её естественнонаучного применения, не-
избежно ведёт к устранению всякой конкретной наглядности в
тумане формул. Естествознание тем самым становится ниги-
лизмом: природы, если превращается в чисто фактологичес-
кую дисциплину, занятую невразумительными, хотя и прозрач-
Уилеетли история смысл? • 93
ным образом оперируемыми фактами. Такая наука не способ-
на обосновать саму себя как осмысленную деятельность и с
неизбежностью получает свой смысл извне, в качестве «соци-
ального заказа», по меньшей мере, сомнительного в качестве
инстанция смысла, если вообще не свидетельствующего о том
же самом нигилизме, симптомом которого является сама до-
минирующая в обществе — по её же заказу — наука.
Математическое естествознание как дисциплина и как при-
мер для любого научного построения является — или до недав-
него времени являлась — одним из главных бастионов совре-
менного нигилизма. Гуссерль описывает, скорее, его негатив-
ную сторону, способ, каким оно разрушает естественную
реальность. Однако налицо также неизмеримая эффективность
этой технонауки, под присмотром которой реальность превра-
тилась в резервуар сил и взаимодействий, используемых по
собственному усмотрению человека. Эта сеть взаимодействий,
это овладевание не могут исключать человека, функциониру-
ющего как аккумулятор и реле. Общество поэтому предлагает
тот же самый образец процессов мобилизации и аккумулиро-
вания сил, который затем разряжается в неизмеримых конф-
ликтах, всегда ведущих только к более обширным и, наконец,
планетарно-универсальным столкновениям сил.
Сторонники научной жизни часто сетуют на «злоупотреб-
ление наукой» в современную эпоху. В действительности на-
ука, утратившая внутренний смысл, не может претендовать на
то, от чего сама избавилась: в её собственных глазах и по её
собственным меркам это «злоупотребление» — подразумеваю-
щее относительное и, таким образом, бессмысленное учрежде-
ние смысла — есть нечто легитимное.
Не только отдельные индивиды, но и целые общества про-
тиводействуют сегодня бессмысленности при помощи дерива-
тов старого христианского смысла. К таковым относятся наши
историко-философские концепции, в большинстве случаев
мертворождённые, такие как религия гуманности Конта или
анималистический пантеизм Дюркгейма, или такие концепции,
как марксизм, с упорством и применением насилия разыскива-
ющие смысл там, где его ex datis не может быть. Речь идёт о
94 • Ян Наточка
марксизме не как о критической науке об обществе, а как о
«священной» доктрине новых, структурно мутировавших и аг-
рессивных обществ, которые используют мучительный скеп-
сис древних обществ. Эта доктрина основана на материализме
Фейербаха и разделяет с ним двусмысленность понятия «мате-
риализм». «Материю» можно понимать либо, следуя за совре-
менной наукой, как нечто по существу лишённое смысла, или
бессмысленное, с чем согласуется разделение действительнос-
ти на материальное основание, имеющее реальную силу, и на
вторичную, действенную только по причине концептуальной
непоследовательности идеологию, либо, отталкиваясь от образ-
ца старого гилозоизма, что в таком случае означает отказ от
конструктивно-диалектического метода и доверительное отно-
шение к вещам как таковым и, тем самым, совершенно иной
способ философско-научного целеполагания и принципиально
отличные установку и способ подхода к миру. В действитель-
ности здесь неосознанно практикуется та ницшеанская проти-
восмысленная установка, которая находит выражение в следу-
ющем рецепте: если смысла нет, то его необходимо создать
посредством «организации той части мира, которая нам дос-
тупна»11. Такую противосмысленность выводят на свет размыш-
ления Вайшеделя о различных ступенях смысла: каждый от-
дельный смысл предполагает, если он действительно должен
быть смыслом, тотальный и абсолютный смысл. А релятив-
ный и частичный смысл никогда не может стать смыслом це-
лого, поскольку партикулярный смысл образует единое целое
с бессмысленностью, или быть её продуктом, и только тоталь-
ный смысл может воспрепятствовать тому, чтобы всё единич-
ное потонуло в бессмысленности. Возможно, самый страшный
опыт бессмысленности — это тот, который позволяет увидеть
разрушение частичных смыслов, упадок целых обществ и ду-
ховных миров, созданных усилиями нескольких поколений. И
если верны дальнейшие размышления Вайшеделя о том, что
действие и жизнь, которые выше мы пытались обосновать с
помощью обнаружения феноменального источника в том, что
нам хотелось бы назвать кажущейся антиномией жизни и бы-
тия, невозможны без осознания осмысленности, тогда в них
VLueem ли история смысл? в 95
заложено объяснение, почему при растущей аккумуляции сил
и средств наша жизнь венчается катастрофами или капитуля-
цией. (Сюда же следует отнести и бессмысленность.) Кроме
того, это позволяет понять, почему именно в планетарную эпо-
ху, когда Европа, исходя из своей собственной исторической
необходимости, ввиду своего собственного погружения в бес-
смысленность, выходит из центра истории, господствующей ста-
новится анонимность нигилизма, подавляющая все судорожно
взращенные надежды вместе с присущими им философиями.
Современный мир в своей поляризации может кому-то по-
казаться полем битвы двух видов нигилизма, в терминах Ниц-
ше — пассивного и активного нигилизмов: нигилизма тех, кто
парализован посредством остатков смысла, доставшегося из
прошлого, и тех, кто, ни минуты не думая, производит пере-
оценку всех ценностей с точки зрения силы и власти. При этом
доминирующие философии современности, явно или тайно,
поддерживают такое понимание человека и его сущностных
интересов, согласно которому человек предстаёт как биологи-
ческий организм, как часть материального мира, не так, как
мы живём, будучи телесными существами, а так, как видит
нас лишённая смысла, естественнонаучная в основных чертах
теория: как организм, который сохраняет и воспроизводит себя
посредством метаболического обмена с окружающей средой.
Сообразно этому кажется, что движение истории со всеми его
порывами к абсолютному смыслу в политике, метафизичес-
кой философии и настолько глубокой религии, как христиан-
ство, пришло к тому же самому, с чего оно начиналось, — к
привязанности жизни к своему самопожиранию и труду как
основополагающему медиуму её сохранения. Что касается этой
привязанности, то мы попытались показать, что удовлетворен-
ность ею и внутри неё является тем, что отличает человека
доисторической эпохи от человека, живущего в собственно ис-
торическое время. Здесь заключён парадокс истории, состоя-
щий в её завершении доисторичностью. Этим объясняется то
особое обстоятельство, что нации и цивилизации, которые в
течение тысячелетий находились в доисторическом состоянии
(как, например, Китай), а сегодня успешно вступают в исто-
QG • Ян Т1аточка
рию, могут спокойно опираться на некоторые элементы доис-
торической жизни, разумеется, с некоторыми корректурами и
даже черпать из неё существенную часть энергии, позволяю-
щую выйти на новую сцену борьбы.
Но это не так. Доисторичность не характеризуется смысло-
вой опустошённостью, она не является нигилистичной, как наша
современность. Доисторичность подразумевает скромный, но
не релятивный смысл. Это смысл, эксцентричный по отноше-
нию к человеку, изначально относящийся к иным существам и
силам. С этим скромном смыслом человек может жить по-че-
ловечески и при этом интерпретировать себя как цветок или
как животное в чистом поле. Он может жить в согласии с су-
щим, а не вести с ним опустошающую борьбу, в ходе которой
вынужден приносить в жертву повседневному и самому бес-
смысленному, что только встречается в человеческом суще-
ствовании, жизненные возможности, приобретённые в течение
миллиардов веков.
Может показаться, что все наши рассуждения тонут в без-
надёжном пессимизме. Поскольку сквозь все приведённые
феномены проглядывает бессмысленность как последний ре-
зультат человеческого стремления к истине, то есть к действи-
тельному смыслу. «Догматический» нигилизм кажется здесь
последним словом человеческой мудрости, в полной мере со-
впадающей с тем, что мог бы подразумевать под ней сегод-
няшний господин ОмэЧ
Но нигилизм оказывается действительно догматическим, как
только он начинает утверждать бессмысленность как послед-
ний и несомненный факт вообще и когда его сомнение в догма-
тически утверждаемом смысле одновременно перестаёт содер-
жать скепсис по отношению к этому скепсису. Догматический
нигилизм оказывается в таком случае коррелятом догматичес-
ких полаганий смысла, то есть таких, которые относятся к об-
ласти метафизики и связанной с ней догматической теологии
(тем хуже, если она оказывается «откровением»),
С этой точки зрения история не была бы поступательным
разоблачением бессмысленности, по крайней мере не была бы
с необходимостью, и тем самым для человечества существова-
Имеет ли история смысл? • 97
ла бы возможность того, чтобы осуществить экзистенцию ос-
мысленным образом — при условии осуществления гигантско-
го поворота, неслыханного metanoein16.
Человек не может жить без смысла, то есть без целостного
и абсолютного смысла. Это означает: он не может жить, буду-
чи уверенным в бессмысленности. Но означает ли это, что он
не может жить в поиске, в ситуации проблематичного смысла?
Что к осмысленности в подлинном, неограниченном, но также
и недогматическом понимании принадлежит именно это про-
живание в атмосфере проблематичности? Возможно, это знал
Сократ, и в таком случае верна и имеет глубокий смысл следу-
ющая характеристика, данная ему одним современным мыс-
лителем: Сократ был если не самым крупным, то всё же са-
мым истинным мыслителем. И не имел ли Лессинг то же са-
мое в виду, предпочтя «поиск истины» «обладанию истиной»?
Ситуация приобретает особый оттенок, если мы вместе с Вай-
шеделем, а до него — вместе с его учителями — окончательно
проясним то, что вопрос и постановка под сомнение являются
не только субъективными актами и установками, а предпола-
гают проблематичность как нечто более фундаментальное и
вещественное — как вещественно-объективную составляющую
ситуации. И, наконец, не находится ли в ядре самой действи-
тельности нечто наподобие тайны и чего-то тайного? И не яв-
ляются ли в таком случае тайное и тайна чем-то неизбежно
частно-субъективным, в рамках действительности приобрета-
ющим значение такой ясности, которая в состоянии озарить
яркими лучами всё, что мы только принимаем за ясность в
нашей повседневной жизни? Не является ли бесконечная глу-
бина действительности возможной именно потому, что её дно
недоступно взгляду, и не является ли именно это вызовом и
шансом для человека в его подъёме к смыслу, представляюще-
му собой нечто большее, чем расцвет и увядание полевых ли-
лий перед взором божеств?
Возможность metanoesis в масштабах истории зависит от того,
будет ли способна та часть человечества, которая понимает, о
чём шла и сейчас идёт речь в истории, и которая, одновремен-
но, благодаря нахождению современного человечества на ост-
98 • Ян Наточка
рие технонауки всё больше принуждается к принятию ответ-
ственности за бессмысленность, на ту дисциплину и то самоот-
речение, которых требует состояние неукоренённости? Посколь-
ку именно в этом состоянии и может реализовываться абсо-
лютный и одновременно доступный человечеству, в силу своей
проблематичности, смысл.
Подведём итоги.
Мы различаем, с одной стороны, смысл, который возника-
ет в понимании и познании как постоянный седимент14, — смысл
как значение, понятие; к этой рубрике также принадлежат ос-
мысленные средства передачи, среди которых первое место за-
нимает язык. С другой стороны, смысл, содержащийся в са-
мих вещах, то есть то, посредством чего вещь обращается к
нам и отвечает нашим возможностям, состоящим в том, чтобы
вместе с ней или с её помощью разобраться с прочим сущим и
с пониманием отнестись к вещам и людям. Относительно это-
го смысла следует задаться вопросом, является ли он абсолют-
ным, целостным и всеохватывающим либо всегда только отно-
сительным, обусловленным чем-то другим (например, живот-
ной жизнью), так что он существует и умирает вместе с этим
другим. В рамках этого объективно-вещественного смысла мы
различаем опять же смысл, эксцентричный по отношению к
человеку, и смысл, который центрируется в человеке. Релятив-
ный смысл вещей из нашего окружения человечески центри-
рован, он отнесён к человеческой жизни. Абсолютный смысл
не должен быть в каждом случае эксцентричным по отноше-
нию к человеку. Он не является эксцентричным, если в чело-
веке то, что может притязать на смысл, отвечает тому, что
придаёт смысл вселенной сущего.
Опыт утраты смысла ведёт к вопросу о том, не направлен
ли всякий смысл вообще на человека и не является ли он реля-
тивным по отношению к жизни. Если это так, то мы оказыва-
емся перед нигилизмом. Смысл, который мы надеялись постичь
применительно ко всему сущему, к сущему как целому и в его
отдельных частях, оказывается ограниченным и ничтожным.
Такое потрясение смысла должно вести к стагнации жизни,
если не будет найден выход. Поскольку потрясение данного
Имеет ли история смысл? • 99
смысла происходит одновременно с постижением бытия как
того, чего нельзя достичь в качестве сущего, целесообразным
кажется определить нигилизм через антиномию бытия и смыс-
ла: опыт бытия, выныривающего на поверхность, оказывается
в то же самое время опытом полной бессмысленности сущего.
В действительности речь теперь идёт о разоблачении смыс-
ла, который не может быть понят как вещь и которым нельзя
овладеть, который нельзя ограничить, позитивно осмыслить и
покорить, но который актуально присутствует только в поиске
бытия. Поэтому он не может встретиться нам как релятивный
и позитивный смысл прямо в вещах и непосредственно вместе
с ними. Основой такого смысла является, словами Вайшеделя,
проблематичность, а вслед за Хайдеггером — сокрытость су-
щего как основа всякой открытости и всякого самооткрыва-
ния. Это то тайное, которое находит выражение в потрясении
наивно принимаемого смысла (речь здесь идёт либо о релятив-
ном смысле непосредственного человеческого поведения и дей-
ствия, либо об абсолютном смысле мифа). Так, благодаря по-
трясению наивного смысла возникает точка зрения на абсолют-
ный и всё-таки неэксцентричный по отношению к человеку
смысл при условии, что человек готов отказаться от непосред-
ственной данности смысла и освоить смысл как путь.
Проблематика, набросок которой здесь предложен, являет-
ся—и это важно для постановки вопроса о смысле истории —
значимой не только для нашей индивидуальной жизни, но так-
же и для самой истории. История начинается с потрясения наи-
вного и абсолютного смысла вместе с почти одновременным и
взаимообусловленным возникновением политики и философии.
В сущности, философия и политика представляют собой раз-
ворачивание возможностей, зародыш которых заложен в этом
потрясении. По этой причине для тех, чьим идеалом выступа-
ет непосредственность жизни, история превращается в ниги-
лизм сущего, избавленного от смысла. Это наиболее значимо
для понимания бытия, присущего современной объективистс-
кой науке, то есть науке, отказывающейся в вопрошании о смыс-
ле от любых идеальных асимптот. Этот объективизм внутрен-
не противоречив, и сама наука обнаруживает склонность к тому,
100 • Ян Наточка
чтобы его преодолеть. Дискуссию по этому вопросу, однако,
следует развернуть в другом сочинении.
Примечания
1 Ср.: Golwitzer Н., Weischedel W. Denken und Glauben. Stuttgart, 1965, S.
268-274; Weischedel W. Der Gott der Philosopher Bd. 2. Miinchen, 1971. S. 165—
182.
2 Mrstfk V. Santa Lucia. 1893.
3 «Усталость от жизни», «отвращение к жизни» (лат.). — Прим. ред.
I Heidegger M. Vom Wesen der Wahrheit. In: GA 34. S. 188.
' «Промежуточное пространство» (лат.). — Прим. ред.
ь «Природа» (греч.). — Прим. ред.
7 «Отд елейность» (греч). — Прим. ред.
8 «Город», «городская община» (лат.), также принятие решений гражда-
нами, противопоставленное монархическому правлению (принципату). —
Прилг. ред.
9 «Знание» (греч.). — Прим. ред.
10 Ср.: Husserl E. Die Krisis der europaischen Wissenschaften und die
transzendentale Phanomenologie. In: Husserliana VI. Den Haag, 1954.
II Nietzsche F. Sdmtliche Werke (Kritische Studienausgabe), hrsg. v. G. Colli,
M. Montinari. Bd. 12: Nachgelassene Fragmente. Herbst 1887bisMarz 1888. Berlin—
Munchen, 1980. S. 364.
12 Персонаж флоберовского романа «Госпожа Бовари». — Прим. ред.
13 «Передумать», от греч. мефЬнпйб, букв, «после ума»; в раннехристи-
анской традиции означает «покаяние». — Прим. ред.
" В геологии: «осадок», «отложение породы». Введено в феноменологию
Э. Гуссерлем и использовалось затем М. Мерло-Понти для выражения спо-
соба накопления опыта. — Прим. ред.
4
Европа и европейское наследство
вплоть до конца XIX века
JJ своей ранней незавершённой работе Конституция Гер-
мании Гегель пишет, что ни единство законов, ни единая
религии (по крайней мере, в Новое время) не определяют
государство. Однако были эпохи, когда и «в холодной Ев-
ропе» религия «неизменно оказывалась основополагающим
условием возможности государства». И эти «узы» время от
времени становились настолько сильными, что даже наро-
ды, чуждые друг другу и жившие в национальной ненавис-
ти, неожиданно объединялись в единое государство, «кото-
рое, как единая мировая сила и как государство, обрело оте-
чество для своей временной и вечной жизни в борьбе против
Востока, будучи в единстве народом и господом, а не просто
священной христианской общиной, или коалицией, объеди-
няющей интересы во имя достижения своих целей»1. Это
значит, что, в версии Гегеля, на пороге XIX века и в пред-
дверии последнего коллапса Римской империи германской
нации Европа теряет статус государства — хотя некогда им
и была. Европа означает здесь Западную Европу, объеди-
нённую когда-то крестовыми походами против исламского
мира (хотя в четвёртой экспедиции также и против Визан-
тии). Это единство возникло и окрепло в войне, и поэтому
его сознание сохранилось и в эпоху европейского партику-
ляризма и распада [Европы] на современные суверенные го-
сударства. Однако ни у Гегеля, ни у остальных европейцев
102 • Ян Наточка
его времени не было ни малейшего сомнения на счёт духовно-
го происхождения этого европейского единства, и это, конечно
же, правильное представление.
В чём же оно заключается? Закалённое военными экспеди-
циями единство Западной Европы, изнутри определяемое дуа-
лизмом духовной и светской власти при одновременном вер-
ховенстве власти духовной, является одним из вариантов идеи
sacrum imperium, известной в трёх версиях: западноевропейской,
византийской и исламской [священные империи]. Идея sacrum
imperium в христианской версии выкристаллизовалась на осно-
ве исторической теологии, содержащейся в Послании к евреям
и Послании к римлянам апостола Павла. Борьба внутри дожи-
вающей свой век Римской империи — как на периферии, так и
в средиземноморском центре — за жизненный нерв тогдашне-
го мира получила в VII в. духовное определение благодаря
расколу на Восток — Запад и экспансии арабского мира.2 За-
падная Европа противостоит византийскому Востоку, прежде
всего, политически, а затем и духовно в борьбе за церковную
независимость и автономию по отношению к светской власти,
которые удалось отстоять только здесь. Исламская версия [им-
перии], связанная с идеей профетизма и поэтому близкая ев-
рейской концепции3, в ходе крестовых походов потеряла кон-
курентоспособность так же, как и, на некоторое время, Визан-
тия. В результате вновь созданное образование посвятило себя
заботе о своей собственной организации, её внутренней разра-
ботке и консолидации, а также колонизации северо-восточно-
го пространства, не имевшего, особенно с ослаблением Польши
и исчезновением Киевской Руси после татарского нашествия,
никакой основы, на которую можно было бы опереться.
Чем лее всё-таки была идея sacrum imperium в своей сердце-
вине? Ничем иным, как духовным наследием Римской импе-
рии, пришедшей к упадку в результате отчуждения государ-
ственной организации от общества, на которое она опиралась.
Римская империя, несомненно, символизирует завершение эпо-
хи эллинизма с его империализмом, поддерживавшимся убеж-
дённостью в превосходстве греческого духа и его свершений.
Однако все эти свершения без исключения были осмыслены
Европа и европейское наследство вплоть до конца XIX века ° 103
внутри греческой философии, которая в своей эллинистичес-
кой фазе, по крайней мере в рамках самого зрелого направле-
ния — стоицизма, видела одной из главных задач преобразова-
ние классической философии сократовско-платоновской тра-
диции в воспитательный фермент универсального государства,
чьей наиболее удачной версией, в конце концов, оказался Рим.
Разумеется, Рим определяется тем, что он одержим идеей им-
перии, то есть идеей государства в аутентичном виде, не зави-
сящем ни от этнического субстрата, ни от территории, ни от
формы правления, или, по крайней мере, именно к этому типу
государства устремлены все его военные и организационные
усилия, и именно в нём идея империи находит своё определе-
ние. Наиболее значимые фигуры Рима можно понять, только
принимая во внимание их воодушевлённость целью, сформу-
лированной в соответствии со сказанным выше. Однако в сво-
их истоках Рим, по сути, не отличается от греческого полиса, с
которым Рим отождествлял ещё Аристотель, а в самом (римс-
ком) полисе чем-то обычным и само собой разумеющимся, по
крайней мере для образованных слоев, становится стоически-
платоновская идея воспитания, служащего всеобщему благу,
универсальности, государству, в котором господствуют право
и справедливость и которое основано на истине и созерцании.
Цицерон и Сенека представляют литературные свидетельства
этой самопонятности, а персонажи философских диалогов
Цицерона репрезентируют тенденцию к отождествлению рим-
ской государственности с воспитательным идеалом, принадле-
жащим главному направлению эллинистической философии.
Идея sacrum imperium является свидетельством, с одной стороны,
провала этой программы, а с другой — её трансформации в
новую форму: отнюдь не мирового государства Цезарей с его
слишком человеческим колебанием между произволом и волей
к справедливости, между естественным деспотизмом и «естест-
венным правом», на которое опираетсяущ- civile4', а града, непос-
редственно основанного в истине, который берёт начало не из
этого, а из того мира, и норму и прообраз которого задаёт не
человеческая, а божественная власть и божественная история,
входящая в человеческую историю и втягивающая её в себя.
104 • Ян Наточка
Это означает, что наследие Рима само является продолже-
нием того наследия, которое римское и эллинистическое госу-
дарства переняли от греческого полиса и которое объединено
стремлением к граду истины, достигнутой благодаря созерца-
нию, и к справедливости как высшей моральной идее класси-
ческой философии. Сама эта идея, однако, вызрела в рефлек-
сии о величии и закате полиса, о мировом значении и нищете
греческого человека в типичных для его жизни общественных
рамках, в которых он реализовывал себя вопреки простому
количественному превосходству [соседей], чтобы затем из-за
недоверия, зависти и боязни того, что он будет побеждён и
окажется в тени, дискредитировать и уничтожить сами эти рам-
ки. Судьба истинного и справедливого человека, судьба чело-
века, установившего для себя в качестве жизненной цели жизнь
в истине, с необходимостью порождает идею нового челове-
ческого сообщества: только в таком граде истины он сможет
жить, без того чтобы погибнуть вследствие конфликта с дей-
ствительностью. Мир в таком случае лежит во зле, и осужде-
ние миром праведного человека становится приговором для
самого мира.
Однако человек справедлив и правдив потому, что заботит-
ся о душе. Наследие классической греческой философии нахо-
дит своё выражение в заботе о душе. Забота о душе означает:
истина никогда не дана раз и навсегда и не является делом
созерцания, которое реализуется только в сознании; истина —
это опыт всей жизни, контролирующей саму себя и делающей
саму себя идентичной мыслительно-жизненной практике. В гре-
ческом мышлении забота о душе была доведена до совершен-
ства в двух формах: мы заботимся о душе, чтобы она могла в
абсолютной чистоте и при незамутнённом видении духовно
странствовать по миру, в вечности космоса, и тем самым хотя
бы короткое время вести тот способ существования, который
присущ богам (Демокрит, позднее Аристотель); либо, наобо-
рот, мы мыслим и познаём, чтобы сделать свою душу твёрдым
кристаллом существования, кристаллом, ставшим с точки зре-
ния вечности как сталь. Такое превращение души в кристалл
существования является одной из возможностей сущего, име-
Европа и европейское наследство вплоть до конца XIX века • 105
ющего в себе источник движения, выносящего решения о сво-
ём бытии и небытии, понятом как растворение в неопределён-
ности инстинктов или непрояснённое™ традиции (Платон).
Забота о душе — это практическая форма того открытия
универсума и зрелого мыслительного отношения к нему, к ко-
торому пришла уже ионийская прафилософия. Здесь откры-
тие космоса приняло форму философского идеала жизни в
истине, которую вслед за Эдмундом Гуссерлем, последним ве-
ликим диадохом5 этого способа мышления, можно определить
следующим образом: мнение должно следовать за созерцани-
ем, а не наоборот. Отсюда становится понятным и доказывает-
ся посредством всего процесса возникновения Европы тезис
того же философа о «своеобразии европейской культуры» как
единственной из мировых культур, являющейся культурой со-
зерцания, культурой, в которой во всех существенных жизнен-
ных вопросах — и связанных с познанием, и практических —
созерцание играет решающую роль. Это историческое образо-
вание будет всегда формироваться, по меньшей мере, с участи-
ем созерцания, и созерцание здесь заступает на место несозер-
цательной, анонимной, уходящей в темноту традиции. В це-
лом следует сказать, что европейское наследство — это нечто
тождественное, обнаруживающееся в разных формах и при-
нимающее вид заботы о душе, пережившей две великие исто-
рические катастрофы: распад полиса и распад Римской импе-
рии. И можно даже сказать, что именно это наследие способ-
ствовало тому, чтобы обе катастрофы трансформировались
из чисто негативных явлений в попытки преодоления всего того,
что окостенело и потеряло жизнеспособность в актуальных ис-
торических условиях, в ходе приспособления и одновременно
генерализации европейского наследства. В этой связи в Римс-
кой империи забота о душе приобретает форму стремления к
правовым отношениям в рамках всей ойкумены, на большую
часть которой империя распространяется реально и чей оста-
ток она охватывает по меньшей мере благодаря своему притя-
занию на него и своему влиянию. Западно-христианская sacrum
irnperium создаёт гораздо более широкое человеческое сообще-
ство, чем сообщество римско-средиземноморское, и тем самым
106 • Ян Наточка
дисциплинирует человека и даёт ему внутреннюю глубину. В
таком случае, забота о душе, tes psyches epimeleia, — это то, отку-
да возникла Европа. Этот тезис можно отстаивать, не боясь
обвинений в преувеличении.
Величайшим переломом в западноевропейской жизни, как
представляется, был XVI век. С этого времени в противовес
теме заботы о душе выступает вперёд новая тема, которая под-
чиняет себе политику, экономику, веру и науку и преобразует
их в соответствии с новым стилем. Отнюдь не забота о душе, не
забота о том, чтобы 6ытъ> а забота о том, чтобы иметь, забота
о внешнем мире и овладении им становится доминантной. Этот
текст, однако, не нацелен на то, чтобы развивать диалектику,
присущую христианским жизнеописаниям, в которые с самого
начала вплетена забота о том, чтобы иметь, то есть воля к гос-
подству. Несомненно, экспансия Европы за изначальные гра-
ницы, экспансия, пришедшая на смену простому подавлению
конкурентоспособности внеевропейского мира, содержала в
себе семена нового жизненного принципа, пагубного для ста-
рого. Направленная на Восток европейская экспансия не при-
вела к изменению европейского стиля жизни. Изменение про-
исходит в ходе борьбы с исламом на Западе; она приводит к
заокеанским открытиям и к заслуживающей удивления дикой
погоне за богатствами мира, главным образом Нового света,
оставленного на произвол европейской промышленной и воен-
ной организации, её вооружению и техникам.6 Только в комби-
нации с этой экспансией Европы на Запад политическое значе-
ние приобретает сущностное, воплощённое в Реформации из-
менение христианской практики жизни, которая из священной
становится мирской. Это политическое значение обнаружива-
ет себя в организации североамериканского континента с по-
мощью радикально протестантских элементов. Не пройдёт и
столетия, как Бэкон сформулирует совершенно новую идею
знания и познания, глубоко отличную от той, которая опреде-
ляла заботу, попечение о душе: знание — сила. Иначе говоря,
только эффективное знание является действительным знани-
ем, и то, что первоначально было значимым только для прак-
тики и производства, теперь значимо для знания вообще. Зна-
\Lepona и европейское наследство вплоть до конца XIX века • 107
ние должно вернуть нас в рай, в рай изобретений и возможно-
стей, нацеленных на то, чтобы изменить мир и овладеть им в
соответствии с собственными потребностями — при том, что
потребности никак не определены и не ограничены. И вскоре
уже Декарт скажет нам, что знание должно сделать нас госпо-
дами и хозяевами природы. Государство, или, лучше сказать,
государства становятся теперь (в противоположность средне-
вековому пониманию, основывающему силу на авторитете, воп-
лощённом лучше всего в таком образовании, как Imperium
Romanum Nationis Germanicae, которое было чем-то средним
между институтом публичного и международного права) обо-
ронительным и военным механизмом, служащим для обеспе-
чения сохранности общественного имущества (как позже оп-
ределит Гегель). Партикуляризм такого понимания государства
привязан к определённым тенденциям средних веков, но в то
же время в значительной степени выходит за их пределы. Орга-
низация экономической жизни с помощью модерных капита-
листических методов, характерная для той же эпохи, форми-
рует единство её принципиального стиля. С этого времени для
осуществляющей экспансию Западной Европы уже не суще-
ствует универсального связующего звена, универсальной идеи,
которая могла бы в конкретном и действенном воплощении
связать институции и авторитет: примат обладания перед бы-
тием, исключает единство и универсальность, и тщетны попыт-
ки заменить последние с помощью гегемонии власти.
Политически это проявляется в новой международной сис-
теме отношений, в которой империя вытеснена из центра на
восточную периферию. Центральное место всё больше и боль-
ше занимает Франция как строго организованная сила, пред-
ставляющая континентальный противовес гигантски разрос-
шимся доменам — Испании и Англии. А когда начинает давать
о себе знать гигантская мощь молодой Америки, несущая в
себе обещание новой формы организации [жизни], не знаю-
щей ни иерархии, ни эксплуатации или проявления насилия
одних людей в отношении других, не только в Новом свете, но
и во всей Европе появляется проблеск надежды на новую эпо-
ху человечества. Однако почти в это же время, сначала неза-
108 • Ян Наточка
метно, а затем и более интенсивно Европа начинает испыты-
вать давление Востока. Начиная с XVI века московская Русь
вступает в византийское наследие восточного христианства,
наследие имперской церкви, притязания которой она делает
своими. К этим притязаниям относится экспансия в простран-
стве неведомого размаха, приводящая к возникновению на до
сих пор неопределённой восточной границе Европы [очага] мо-
гущественной, иерархически, сверху, имперски и императорс-
ки организованной власти, власти, распространившейся вплоть
до побережья азиатского континента. С этой минуты эта власть
начинает определяться, обособляться и укрепляться в проти-
воположность Западу, чтобы затем использовать его, угрожать
ему, разложить его и овладеть им. Внутри остатка империи,
раздробленной в результате Тридцатилетней войны (выгоды
из которой извлекла Франция), концентрирующей внимание
на Востоке и обеспокоенной турецкой опасностью, сначала не
замечают роста этой гигантской массы, которая начиная с XVIII
века ляжет тяжким грузом на плечи империи, а опосредован-
но — и на плечи всей Европы.
Затем Европа с невероятным усердием начинает работать
над реструктурированием своих идей, институтов, способов про-
изводства, своей государственной и политической организации.
Этот процесс, получивший название Просвещения, означал, по
сути, приспособление прежней Европы к новому положению в
мире, к экономике, принимающей планетарный размах, к про-
никновению европейцев в новые пространства с новыми, выте-
кающими отсюда требованиями к знанию и вере. Самым глу-
бинным результатом всего этого движения стала современная
наука — математика, естествознание, история, которым при-
сущ совершенно иной дух и тип знания в сравнении с духом
предшествующей эпохи. Ренессансная наука Коперника, Кеп-
лера и Галилея ещё связана отчётливым образом с античной
theoria как моментом заботы о душе. Однако всё больше в са-
мой науке, и прежде всего в математике, проявляется дух тех-
нического овладения [миром], универсальность совершенно
иного типа, чем античная, — формализующая универсальность,
незаметно делающая результаты предпочтительней содержа-
Европа и европейское наследство вплоть до конца XIX века • 109
ния, а господство — понимания. Эта наука всё больше раскры-
вает свой характер как техника и поэтому всё больше склоня-
ется к технологии и применению. И чем больше этот способ
мышления пробивает себе дорогу, тем очевиднее становится
уход на задний план остатков «метафизического» мышления,
которое в XVII веке ещё господствует в европейской филосо-
фии, когда французские и голландские мыслители, а также
мыслители, на которых они повлияли, ещё раз попытались
достигнуть старых целей новыми средствами, В XVIII веке
Франция и Испания становятся во главе радикального движе-
ния Просвещения, во Франции к этому времени уже радикаль-
но секуляризированного.
Достаточно правдоподобным кажется то, что идея револю-
ции, идея радикального переворота в человеческих отношени-
ях, возможность жизни без иерархии в равенстве и свободе
произрастают из действительности Нового Света, и успех ре-
волюции в британских колониях лежит у истоков революци-
онного способа мышления как основополагающего характера
современной эпохи вообще.7 Франция переняла этот способ
мышления напрямую у Америки и в ходе собственной револю-
ции придала ему, хотя и не в полной мере, откровенно соци-
альный характер, обнаруживший, что ничто не сможет избе-
жать потрясения. Французское радикальное Просвещение, бо-
рющееся против основ авторитета духовенства, оказалось
неспособным, как этого тогда многие ожидали, остановиться
перед зданием общественного и государственного устройства.
Связь промышленности, технологии и капиталистической орга-
низации в Англии и западной части континента привела к про-
рыву индустриальной революции. В результате, прыжок к бо-
гатствам мира приобретает новое значение — ведёт к созданию
небывалого военно-технологического превосходства, которому
неевропейский мир ничего не может противопоставить. С это-
го времени мировой рынок функционирует не только во имя
благосостояния Европы, но и во имя материальной мощи Ев-
ропы. Первым ошеломляющим проявлением этой мощи ста-
новятся революционные наполеоновские войны, посредством
которых Франция как европейский центр пытается утвердить
110 • Ян Наточка
своё универсальное значение на новом, светско-рациональном
фундаменте, уничтожая тем самым последние иллюзорные
остатки Римской империи. Континентальной Европе вместе с
Англией удаётся защитить себя не иначе как посредством от-
крытого обращения к российской власти, которая на длитель-
ный период становится арбитром в разрешении европейских
вопросов и проектировщиком европейской политической сис-
темы; этот арбитр самым выгодным образом использует евро-
пейские конфликты и неудачи. Ослабив конкурентов в лице
северо-восточных государств Европы XVII века — Швецию и
Польшу — и неуклонно вытесняя последнюю со сцены; исполь-
зуя при поддержке набирающей силу Пруссии глубокий конф-
ликт между нею и династией Габсбургов — двух оставшихся на
почве Римской империи мощных игроков — и тем самым под-
спудно уничтожая исторические организмы восточной части
империи (такие как Богемское государство), Россия на пороге
XIX века образует в сердце Европы преграду на пути первой
волны американизации, которая на тот момент успела захлест-
нуть революционную и постреволюционную Европу. В резуль-
тате, во второй декаде XIX века Австрия и Пруссия — две на-
следницы Европы — впервые сталкиваются на европейской
арене, но пока не как политические противники, а только как
принципы.
По тому поводу, кто станет наследником Европы — Амери-
ка или же Россия, — однажды высказался Гегель. Однако кон-
кретность его размышление о будущем приобрело только тог-
да, когда эта проблема была рассмотрена с точки зрения стрем-
ления к общественному равенству и рациональной организации,
и пионером такого рассмотрения был де Токвилль8. В этом
смысле европейский способ мышления переняли раньше и глуб-
же именно Соединённые Штаты, а не Россия, что и понятно,
поскольку Соединённые Штаты были европеизированной Аме-
рикой, а американизированная Европа — постреволюционной
Европой. Более глубокого отношения восточного мира к Евро-
пе, аналогичного пониманию Токвилля, западный мир ждал
долго и, по существу, ждет до сих пор. Но прежде чем перейти
к разговору о Европе XIX века как поле битвы, уже попавшем
Европа и европейское наследство вплоть до конца XIX века • 111
в тень будущего с его новыми пространствами и новыми сила-
ми, выросшими из Европы и поставившими под вопрос её бу-
дущее, мы должны упомянуть ещё об одной попытке рефлек-
сии и постановки под вопрос самого принципа Просвещения.
Эта попытка дала о себе знать на немецкой почве, на почве
распадающейся Римской империи. Прежде всего, речь должна
идти о прусском пространстве, в котором Просвещение суще-
ствовало в форме военного государства, рационально исполь-
зующего традиционные структуры, а следовательно, в форме
совершенно парадоксального синтеза старого и нового.
Сила и глубина Просвещения заключались, несомненно, в
использование того, что было оставлено без внимания старым,
по преимуществу обращенным вовнутрь и ориентированным
на человека знанием, а именно — в новой идее активного, эф-
фективного, ориентированного на результаты и постоянно обо-
гащающегося знания. К этому знанию нельзя было уже ни лег-
ковесно отнестись, ни привести его внешне в простую связь со
старыми европейскими принципами разума и веры. С другой
стороны, невозможно ни удовлетвориться синтезом, осуществ-
ляемым только под углом зрения непосредственной примени-
мости — как это было в англосаксонских землях, ни прийти к
радикальным ампутациям — если не иметь намерения следо-
вать по французскому революционному пути. Восходящая к
Канту немецкая философия и родственная её тенденциям
мысль вообще попытались ещё раз осуществить «поворот» ев-
ропейского духа. Согласно им, Просвещение должно быть при-
нято, но только как метод постижения природы, то есть цар-
ства закономерностей, не затрагивающих истинного существа
вещи; там, где этот феноменальный мир проанализирован в
своей феноменальности (то есть с точки зрения сущности), снова
вступает в права старый европейский принцип заботы о душе,
философской созерцательной theoria, которая освобождает нас
для [бытия в] духовно-моральной сфере — области собственно-
го укоренения и назначения человека. После совершения этого
прорыва, не перечёркивающего Просвещения, но ограничива-
ющего и ослабляющего его значение для человечества, в том
же направлении прилагаются усилия немецкого искусства, поэ-
112 • Ян Наточка
зии и музыки. Своего апогея они достигают в философии — в
соединении неслыханного абсолютного идеализма и метафи-
зической радикальности, которую мы не собираемся здесь рас-
сматривать более подробно. Эта духовная Германия предлага-
ла себя Западной Европе как страну, в которую после кризиса
революционной анархии может вернуться дух и где он может
выздороветь, в чем нуждается свобода для того, чтобы укоре-
ниться в реальности через её понимание. Однако духовный
универсум, сам по себе лишённый силы, порождает двусмыс-
ленные мыслительные формы, которые способна использовать
для своего развития реальная борьба за европейское наслед-
ство: идею духовной индивидуальности (служит дальнейшему
укреплению партикуляризации и национальному расколу Ев-
ропы), идею диалектики (используется для дальнейшей рево-
люционной борьбы) и идею государства как божества на зем-
ле, не терпящего ограничения своей суверенности. Таким об-
разом, эта величественная немецкая попытка приводит к
усилению тех тенденций европейского раскола, против кото-
рых изначально она была направлена. Немецкие философс-
кие проекты, сильные и действенные в виде критики, в виде
духовных позиций, ограничивших область воздействия Просве-
щения, сами по себе оказались неспособными разрешить поли-
тические и социальные проблемы в рамках просвещенческой
проблематики и на практике деградировали до простого сред-
ства борьбы за политическую и социальную реальность.
После наслаждения свежим воздухом, который принесли
революции и послереволюционные наполеоновские войны, Ев-
ропа возвращается, прежде всего под давлением имперской
России, к дискредитированной, никому не внушающей дове-
рия «легитимности». Поскольку в борьбе против французской
деспотии необходимо было апеллировать к партикуляризму
региональных традиций и к спонтанности народов, это только
видимое возвращение даёт толчок новым пёстрым и отчасти
совершенно хаотичным процессам, которые можно собиратель-
но обозначить как «национализм», «национальные движения».
На западе Европы, где издавна существовали централизован-
ные и унифицированные в языковом отношении государствен-
Европа и европейское наследство вплоть до конца XIX века • 113
ные образования, эти движения естественным образом образо-
вали единство с фактической потребностью промышленной ре-
волюции в государственной защите предпринимательства и спе-
куляций, в результате чего государства попали под влияние
буржуазного капитализма. Центральная же и центрально-вос-
точная Европа с завистью наблюдала за этим процессом как за
образцом, в то время как принципиальный универсализм рево-
люционного радикализма [Западной Европы] начал искать при-
бежище в сфере социальной революции и в возникающем со-
циализме. Все эти тенденции создают пёстрые и часто эклектич-
ные смеси с единственным содержанием — неприятием status quo.
Принимая во внимание, с одной стороны, революции и на-
полеоновскую эпоху, а с другой — Россию, европейская публи-
цистика развивает в это время понятия «мировая мощь» и «ми-
ровая государственная система».9 Между тем Россия, которая
с успехом защищает имперское состояние от первых попыток
пошатнуть его посредством западных влияний, всё больше раз-
рабатывает свои, по преимуществу взятые из византийского
имперского христианства, политические категории. Эти кате-
гории венчаются идеей стать наследницей приходящей в упа-
док Европы, Европы в состоянии распада. Эта идея сохраняет-
ся на протяжении всего XIX столетия, включая в себя европей-
ские мотивы, для неё пригодные. В сущности, в российском
мышлении существует согласие по поводу европейского насле-
дия, которое должно достаться российскому государству, по-
тому что оно предопределено к этому. Различия в трактовках
здесь возникают только касательно средств, необходимых для
присвоения этого наследия. Старый петровский концепт состо-
ял в том, чтобы использовать Европу и не подчиняться ей, ов-
ладеть ею, и этот концепт содержал в себе как возможность
более интенсивного присоединения к Западу, так и закрытость
в ожидании удобного момента. Та часть европейской публици-
стики, взор которой был прикован к России и её могучему вли-
янию в Европе, такие фигуры как Мозес Хесс, Хакстхаузен,
Фаллмерайер, но особенно консервативная католическая пуб-
лицистика таких авторов, как Иорг, Марло и Константин
Франц, ещё не отошедших от ностальгии по Римской империи
114 • Ян Наточка
германской нации, содержит определённые ростки европеиз-
ма — стремление к европейскому единству, по крайней мере, в
форме солидарности западных государств по отношению к
российскому колоссу. Франц указал также на сходство выяв-
ленных тенденций с традиционализмом, содержащимся в по-
зитивизме Конта (с его «позитивной политикой» он не был зна-
ком). Однако эти начинания, к которым в 1860-х гг. также при-
соединился со своим американским опытом либерал Юлиус
Фрёбель, не стали организующей силой в сравнении с преобла-
дающими тенденциями европейской реальности.
В буржуазно-капиталистической Европе определяющие силы
европейского Запада, то есть Просвещение, наука (естествоз-
нание и история) и техника, были переплетены с партикуляр-
ной реальностью национального государства. Его образцом на
континенте выступала Франция (времён третьей кайзерской
империи), сыгравшая судьбоносную роль для этого движения
к партикулярности. Сюда же можно отнести и её эфемерные
успехи, такие как раздираемая недоверием друг к другу коали-
ция европейских государств, созданная для противостояния
России в Крымской войне, или частичное и временное пораже-
ние России. Эти успехи усыпляли внимание Европы и создава-
ли фальшивое доверие друг к другу [национальных] государств,
опирающихся на собственный промышленный, технический и
научный перевес сил.
Исходный универсализм радикального Просвещения пре-
образуется, как мы уже сказали, в социалистическое мышле-
ние и социалистическое движение. Особенно с того момента,
когда он приходит к «гегелевскому преодолению мышления
Гегеля»10 Марксом: Маркс не перестаёт обличать неискренность,
половинчатость, нелогичность и, особенно, цинизм и нравствен-
ный хаос, порождённые в европейских странах буржуазно-ли-
беральным status quo. Слабости французского варианта реше-
ния европейской проблемы умножатся ещё и благодаря прус-
скому решению немецкого вопроса, которое вытеснило
Францию из центра Европы и вновь поместило в этот центр
Германию, принявшую новый облик устройства по образцу
западноевропейского национального государства. При этом
Европа и европейское наследство вплоть до конца XIX века в 115
прусская Германия несёт в себе чрезвычайно дисгармоничные
элементы феодальной традиции, так и не ослабленной реаль-
ными общественными преобразованиями, а также консерва-
тивный восторг по отношению к русскому колоссу, которому
Пруссия обязана всей своей карьерой, сделанной в Германии и
в Европе. И всё это находится в связи с пониманием необходи-
мости быстро переориентироваться по направлению к решению
задачи «щита и меча» юго-восточной Европы. Решение буржу-
азии определять национальное государство как защиту посто-
янно развивающегося промышленного производства обнаружи-
вает тут свою внутреннюю противоречивость одновременно и
гораздо отчётливее, чем на европейском Западе. Это обуслов-
лено тем, что усиление промышленного могущества означает
в то же самое время укрепление того, что тогда было обозна-
чено «четвёртым сословием» с присущими ему самосознанием
и несгибаемой организацией. Берущий здесь исток и всё более
обостряющийся конфликт ведёт к социальному напряжению,
не известному до этого времени, и к увековечиванию господ-
ства «твёрдой руки» — обеспеченного бисмарковской коалици-
ей 1879 года, — над подавляющим большинством населения.
(Известен тезис Е. Галеви11, что один из истоков военного кон-
фликта 1914 года необходимо искать в стремлении преодолеть
это внутреннее напряжение посредством мобилизации обще-
ства для достижения международных политических целей и
высвобождения пространства для немецкой хозяйственной и
организационной энергии.)
Как из этого следует, в Европе XIX века углубляется поли-
тический кризис именно там, где вопросы кажутся уже решен-
ными: таковы немецкий вопрос, итальянский вопрос. Их кажу-
щееся решение, вместо того чтобы успокоить Европу, в дейст-
вительности только усилило тенденции к партикуляризации и
сделало их смертоносными в узком европейском пространстве.
Наряду с этим с течением времени обостряется социальный
кризис, и незаменимый промышленный пролетариат начинает
предъявлять счёт всё более настойчиво. Именно в этот момент
предлагается «выход», некоторыми считавшийся вершиной
мировой государственной дальновидности: ввести европейские
116 • Ян Наточка
проблемы в глобальные рамки, распространить разделение
Европы на разделение мира. В результате этот «выход» только
выявил до сих пор латентные антагонизмы и послужил сред-
ством для включения пространства всего мира в опасное для
жизни предприятие, ведомое европейской конкуренцией. И это
произошло в тот самый момент, когда неевропейский мир на-
чал осознавать возможность научиться у современной Европы
масс, Европы всеобщего избирательного права и больших бю-
рократизированных партий искусству увеличивать свой соб-
ственный политический вес и стоять на своих собственных но-
гах в противовес Европе.
Третий и самый глубинный момент состоял в том, что всё
более отчётливым становилось осознание морального кризиса
современной Европы. То, что европейские государственные
институты, политический и социальный каркас основываются
на чём-то таком, чему общество в своей реальной практике
уже давно отказалось доверять и следовать, было выражено в
заострённом виде только в революционном радикализме и ста-
ло составной частью его преобразовательной программы. Од-
нако сам радикализм, в измерении его «веры», держался идей-
ных дериватов, взятых из европейского наследства, понять
которые настолько же сложно, насколько сложно разобраться
с представлениями, от которых они производны. Бог мёртв,
однако материальная природа, с закономерной необходимос-
тью производящая человечество и его прогресс, является ни-
как не меньшей фикцией. Её слабой стороной выступает то,
что в ней нет никакой инстанции, которая могла бы устано-
вить контроль над человеком в его индивидуальном стремле-
нии к эскапизму, то есть к приспособлению в этом случайном
мире в качестве «последнего человека», имеющего «свою ма-
ленькую радость днём и свою маленькую радость ночью»12.
Один герой Достоевского выразил это следующим образом:
небытие существует, всё дозволено! То, чему противостоял
Достоевский, обращаясь к традиционной России с её изломан-
ной душой и к индивиду, который покоряется великиму граду,
издевающемуся над ним и требующему от него просветления,
достигаемого благодаря страданию, выражает Ницше с осо-
Европа и европейское наследство вплоть до конца XIX века • 117
бой остротой для европейской современности. Ницше пишет:
будем правдивыми, посмотрим в лицо фактам, мы — нигилис-
ты, мы не убедим себя в обратном — только так мы будем в
силах преодолеть тот моральный кризис, который стоит за всем
остальным и всё в себе содержит. «То, о чём здесь повествует-
ся, — это история двух последующих столетий. Я описываю то,
что приходит и что не может не прийти: восхождение нигилиз-
ма. Эту историю можно рассказывать уже сегодня: её творит
сама необходимость. Эта будущность говорит уже в тысячах
знамений, эта судьба провозглашается везде, для этой музыки
все уже навострили уши. Вся наша европейская культура уже
издавна движется с мучительным напряжением и от одного
десятилетия к другому, как будто дорастая до катастрофы: бес-
покойно, насильственно, поспешно; как течение реки, которая
стремится к своему устью — впасть в море, течение, которое
уже не осмысливает себя, которое имеет страх перед самоос-
мыслением».13 Для Ницше нигилизм возникает именно там,
куда Достоевский призывает вернуться: в христианском обес-
ценивании этого мира посредством «истинного» мира, в обес-
ценивании жизни, воли, поступков посредством морали и за-
поведи «ты должен». Необходимо в таком случае избавиться
от всего потустороннего и от всех уловок, которые превозно-
сят истину над действительностью, необходимо изо всех сил
утверждать жизнь и действительность. Действительность, од-
нако, должна пониматься как самопреодоление, возрастающая
сила; так будет создана новая ступень существования — чело-
век, избавленный от всех имеющихся на настоящий момент
возможностей отступить и найти убежище, от всех слабостей,
сверхчеловек, поселившийся в неизбежной, поскольку вечной,
действительности.
Выступление Ницше против современной европейской ци-
вилизации как нигилистичной, конечно, само нигилистично, а
прохождение через нигилизм он считает выражением своей
прямоты и своей заслугой. Его радикализм привлекает и сегод-
ня, даже если сам титанизм индивидуальности кажется комич-
ным. Предложенная же Ницше критика прогресса и Просве-
щения как криптонигилизма действенна до настоящего време-
118 • Ян Наточка
ни. Поэтому диагностика европейского общества XIX века как
нигилистического вбирает в себя все тогдашние кризисы: кри-
зис политический и социальный заключаются в кризисе мо-
ральном.
Достоевский предлагает в качестве выхода возвращение к
византийскому христианству, Ницше — «вечное возвращение
того же самого». Однако собственный фундамент и христиан-
ства, и нового открытия вечности делает очевидным всё-таки
повторение того, что уже было действительностью когда-то, в
самом начале европейской эпохи: действительности души как
того в нас, что находится в отношении к той бессмертной, не-
преходящей компоненте универсума, которая делает возмож-
ной истину и вместе с ней — бытие-в-истине отнюдь не сверхче-
ловека, а подлинного человеческого существа.
Примечания
1 Ср.: Hegel G. W. F. Die Verfassung Deutschlands. In: Hegel G. W. F.
Werke in 20 Banden, I. Friihe Schriften. Frankfurt/Main, 1986. S. 478. Идея
европеизма в католической версии дала о себе знать в йенском роман-
тизме, главным образом, в работе Новалиса Christenheit oder Europa (1799).
Здесь также присутствует идея новой миссии Германии, которую пере-
нял затем Гегель в Феноменологии духа, разумеется, уже без католичес-
кой направленности.
2 Ср.: Dempf A. Sacrum tmperium. Miinchen, 1929 (особенно ч. II, гл. 1:
Grundbegriffe der christlichen Geschicktstheologie).
3 Ср.: Strauss L. Philosophie und Gesetz. Berlin, 1935. S. 113 ff (особенно в
связи с Платоном, Ибн-Синой, Ибн-Рушдой и Маймонидом).
4 «Гражданское, или цивильное, право» (лат.). — Прим. ред.
' «Приемник» (греч.). — Прим. ред.
6 К. Леви-Стросс обозначил опыт, ознаменованный 1499 годом, как
наивысший эксперимент в измерении встречи человека с самим собой;
одновременно он показал, насколько брутально протекал этот экспери-
мент и какой катастрофой обернулся для неевропейского, американско-
го населения. Ср.: Levi-Strauss С. Tristes Tropiques. Paris, 1955.
7 Так представляет это X. Арендт в работе: Arendt H. On Revolution.
London, 1963.
8 Ср.: Tocqueville A. La Democratic en Amerique. Paris, 1835—40.
{) Ср.: Groh D. Russland als We It mac ht. In: Orbis scriptus. Miinchen, 1966.
S. 331 ff.
Y,epona и европейское наследство вплоть до конца XIX века ° 119
10 De Waelhens A. La philosophie et les experiences naturelles. Den Haag,
1961. S. 13.
11 Ср.: Halevy E. L'ure de tyrannies: etudes sur le socialisme de la guerre.
Paris, 1938.
12 Ср.: Nietzsche F. Also sprach Zarathustra. In: Samtliche Werke (Kritische
Studienausgabe). Hrsg. von G. Colli, M. Montinari. Bd. 4. Berlin—Miinchen,
1980. S. 20.
13 Nietzsche F. Nachlass, November 1887 - Marz 1888,11/411/. In: Samtliche
Werke... Bd. 13. S. 189 (Wille zur Macht, Vorrede № 2).
5
Обречена ли техническая
цивилизация на упадок
и если да — почему?
{ Девятнадцатое и двадцатое столетия — это эпоха промыш-
ленной цивилизации, которая, как кажется, окончательно
отбросила предыдущие попытки человечества организовы-
вать или даже просто создавать свою жизнь без помощи
науки и техники (техники, основанной на науке и сливаю-
щейся, в определенном смысле, с наукой). Таким образом
образовалась огромная прорезь в континуальности челове-
ческой истории, позволяющая некоторым современным про-
светителям рассматривать недавний период, последние три-
ста лет, в качестве несмелого начинания собственной исто-
рии человечества, тогда как вся остальная история
низводится ими до статуса предыстории. Человек индуст-
риальной эпохи несравнимо могущественнее, в его распоря-
жении находится гораздо больше ресурсов и сил, чем в рас-
поряжении людей предшествующих эпох, он проникает в
субатомарные области, из которых берут начало звезды,
поскольку Земли для него уже недостаточно; он живёт в
ситуации несравнимо большей плотности населения и мо-
жет использовать это для повышения интенсивности воз-
действия на окружающую природу, которая должна отда-
вать ему всё. И он хочет вписать её в свои вычислительные
схемы и получить над ней полный контроль.
Быстрый рост промышленной цивилизации кажется
здесь тенденцией, не сдерживаемой никакими внешними или
Обречена ли техническая цивилизация на упадок и если да - понежу? • 121
внутренними барьерами. К внешним барьерам, которые (с фи-
зикалистской и количественной точек зрения), возможно, наи-
более убедительно и адекватно современности отражены в раз-
мышлениях Римского клуба, относятся проблемы исчерпания
мировых запасов энергии, демографического роста, загрязне-
ния окружающей среды и невозможности увеличивать ресур-
сы продовольствия, причём экспоненциальный характер рос-
та этих тенденций указывает на не слишком отдалённую перс-
пективу грядущих катастроф. Эти тревожные заключения,
против которых, как известно, пока не существует убедитель-
ных контраргументов, не вызвали, тем не менее, в современ-
ном обществе принципиального интереса, на что рассчитыва-
ли рационалисты. В то же время внутренние барьеры дают о
себе знать в том, что цивилизация воздействует на характер
человеческого существа как такового, что нашло своё выраже-
ние в тысячах и десятках тысяч жертв — количество, не пред-
ставимое в «доисторический» период. Исторически эти барье-
ры обратили на себя внимание разве что в качестве импульса к
тому, чтобы так интенсивно, как это только возможно, искать
забвения в дальнейшем росте технических достижений. Как
известно, ещё никогда европейские страны не были настолько
богаты и не располагали столь всеохватывающей системой со-
циального обеспечения, как в «послевоенное» время (то есть
после Второй мировой войны), как если бы это компенсирова-
ло выход Европы из центра истории (я имею в виду здесь ста-
рую Европу, европейский Запад, выросший из Римской импе-.
рии восточного мира). Тем не менее, этот беспрецедентный про-
гресс в целом не был достаточно удовлетворяющим, а претензии
на богатства мира и вместе с тем на поддержание такой струк-
туры общества, которая, как кажется, отвергает их дальней-
шее накопление, росли и дальше. Оптимизм в отношении тен-
денций развития, стихийный и неукротимый, кажется более
сильным, чем любое возражение, исходящее из самого хода
событий. А возражений и вправду достаточно; можно сказать,
что такое ответвление науки и мышления, как современная со-
циология, выросло большей частью из рефлексии над опасно-
стями, из ощущения того, что всё предшествующее развитие
122 • ЯнПаточка
промышленной цивилизации было патологичным. Одни счи-
тали эту патологию временной, якобы устранимой благодаря
внутренней закономерности будущего развития, которую со-
циологи полагали установленной. Так, Огюст Конт видел кри-
зис в недостатке общественного консенсуса, спонтанного со-
гласования мнений. Это согласие якобы вновь можно достиг-
нуть посредством всеобщего придания человеческому
мышлению позитивистского и научного характера. Такой
взгляд разделял и Карл Маркс, хотя и развивал его иначе: па-
тологию он связывал с неизбежным внутренним разложением
и упадком промышленного способа производства, к которому
капиталистическое общество неизбежно приближается благо-
даря своему собственному функционированию. Другие же ус-
матривали явные симптомы патологии в росте числа само-
убийств и ментальных заболеваний. Сегодня они могли бы
добавить к этому списку наркоманию, бунтарство молодых и
стирание всех социальных табу — всё то, что ощутимо прибли-
жают нас к границе анархии.
Но прежде чем мы ответим на вопрос, обозначенный в на-
звании, мы должны договориться о критериях и масштабах, в
соответствии с которыми мы сможем судить об упадке или
прогрессе. Мне не хотелось бы здесь обсуждать как таковой
вопрос о ценностях и их отношении к проблеме истины. Огра-
ничимся общим утверждением, что «упадок» и его противопо-
ложность — это не просто абстрактные «ценности» и «мораль-
ные понятия», но что они неотделимы от человеческой жизни
с точки зрения её интимнейшей сути, её наиболее собственного
бытия. Упадок предопределён той жизни, которая утратила
собственный внутренний нерв, ядро которой повреждено, так
что якобы «полноценная жизнь» в действительности каждым
шагом и действием опустошает и уродует себя. На упадок обре-
чено также общество, которое благодаря способу функциониро-
вания приводит к упадочной жизни, к жизни, погрязшей в том,
что по своему бытийному характеру не является человеческим.
Но какова жизнь, уродующая себя там, где на первый взгляд
она полноценна и богата? Ответ мы можем найти непосред-
ственно в самом вопросе.
Обречена ли техническая цивилизация на упадок и если да - почему? • 123
Что же тогда такое человеческая жизнь, допускающая не-
что подобное, что-то такое, в результате чего в действительно-
сти она оказывается отличной от того, чем представляется са-
мой себе? То, что вещи показывают себя иначе, чем они суть,
основывается на том, что они показывают себя всегда односто-
ронне, с дистанции, перспективно, а вследствие этого могут
принимать внешний вид, делающий их похожими на вещи, по
существу отличные от них. То, что мы сами являемся себе ина-
че, чем мы суть, должно, однако, основываться на другом прин-
ципе. Человек чужд самому себе не так, как ему чужда вещь и
её способ бытия: человек есть он сам. Если он должен будет
явиться самому себе как-то иначе, то ему придётся при этом
отчуждать себя от самого себя, а это отчуждение должно бу-
дет принадлежать ему, должно основываться на его собствен-
ном способе бытия. Человек, следовательно, устроен так, что
отчуждение для него «предпочтительнее» и «естественнее», чем
его собственное бытие. Собственное бытие никогда не само-
очевидно, поскольку это всегда свершение. Однако в таком слу-
чае, можно сказать, что и отчуждение является подобным свер-
шением. Оно представляет собой «облегчение», но не естествен-
ную «лёгкость», а следствие определённого «акта».
Человек не может прибывать в самопонятностщ как осталь-
ное сущее, он должен осуществлять, нести свою жизнь, он дол-
жен «справляться» с ней, «приводить себя в соответствие с нею».
Только на первый взгляд может показаться, что он якобы все-
гда находился между двумя равнозначными возможностями.
Но это не так» Отчуждение означает, что равнозначности не
существует, что только одна из этих возможных жизней явля-
ется «истинной», собственной, незаменимой, той, которая осу-
ществляется только нами самими в том смысле, что мы её дей-
ствительно несём и отождествляем себя с её тяжестью, — тог-
да как вторая будет уклонением, побегом, уходом в неподлинное
и необременённое. Поэтому позиция «выбора», «принятия ре-
шения» — это всегда ложный, объективированный и объекти-
вистский взгляд извне. Правильный «взгляд» — это понимание
неравнозначности. Для такого взгляда принципиально разли-
чие между ответственностью, которую несут и «экспонируют»,
124 • Ян Наточка
с одной стороны, и необременённостью, бегством — с другой.
Поэтому действительность человеческой жизни не допускает
взгляда извне, взгляда «незаинтересованного наблюдателя».
Однако наряду с проведением различия между подлинным
и неподлинным необходимо провести ещё одно различение.
Различие подлинное/неподлинное основывается на том, что
мы не можем быть не заинтересованными в нашем собствен-
ном бытии. Мы всегда захвачены, пленены собственной ответ-
ственностью: в отношении нас было решено раньше, чем мы
сами «приняли о себе решение». Однако подлинное, собствен-
ное бытие состоит в том, что мы способны позволить всему,
что есть, быть тем и так, что и как оно есть, не искажать его и
не скрывать от него его бытие и его сущность.
Но кроме этого существует различие между повседневным,
«всеми днями», и исключительным, праздничным. Исключи-
тельное и праздничное также приносят облегчение, но не благо-
даря побегу от ответственности, а посредством открытия такого
измерения жизни, в случае которого речь не идёт о бремени
ответственности или о бегстве от неё. Мыувлечены этим измере-
нием, в которое, как кажется, проникло нечто более сильное,
чем наша свободная возможность и наша ответственность, и
оно дает смысл нашей жизни, иначе ей неведомый. Это измере-
ние демонического и страсти, и человек находится во власти
этого измерения. Он просто не убегает от себя ко «всем», к
привычной повседневности, к «деловитости», не отчуждается
посредством повседневного существования. Это не отчуждение
от самого себя, а состояние, которое одолевает и увлекает че-
ловека. Мы не убегаем здесь от себя, а удивлены, увлечены,
захвачены чем-то, и это что-то не принадлежит миру вещей и
повседневности, где мы можем потеряться, будучи озабочены
разными вещами. Мы убеждаемся в том, что мир — это не
только область того, на что мы способны, но и того, что нам
открывается салю по себе и что затем в качестве опыта (напри-
мер, эротического, сексуального, демонического или опыта свя-
щенного ужаса) способно пронизывать и изменять нашу жизнь.
Встречаясь лицом к лицу с этими феноменами, мы склонны
забывать об измерении борьбы за самих себя, об ответственное-
Обречена ли техническая цивилизация на упадок и если да — понежу? • 125
ти и бегстве от неё и позволяем увлекать себя в новое открытое
измерение, как если бы перед нами в этот момент оказалась
действительная жизнь и как если бы в этой «новой жизни» вооб-
ще отсутствует необходимость заботиться об ответственности.
Таким образом, измерение sacrum/profапит отличается от
измерения «подлинности», измерения «ответственность/бег-
ство». И его отношение к ответственности должно быть иным,
чем бегство, и это измерение нельзя обойти вниманием, оно
должно стать частью ответственной жизни.
Различие sacrum/prof апит имеет значение также потому, что
prof апит — это, по сути, область труда и самопорабощения жиз-
ни, подразумевающая привязанность жизни к самой себе. Демо-
ничное, оргиастическое измерение находится в сущностной оп-
позиции к этому порабощению жизнью, ощущаемому только
человеком и наиболее сильно проявляющемуся в необходимо-
сти труда. Труд всегда принудителен. Труд считается с самим
собой, демоническое же бесцеремонно. Жизни, которая привя-
зана к самой себе, скована сама собой, присущ оргиастический
противовес — жизнь, сопровождающаяся высвобождением того,
чем нельзя озаботиться и распоряжаться. Оргиастическое из-
мерение поэтому не исчезает просто так там, где ответствен-
ность как таковая не проявлена или где её не принимают во
внимание, избегают — напротив, там оно проявляется особен-
но остро. Оно неизбежно и господствует как в укладах жизни
«примитивных» народов, так и в современных обществах.
Таким образом, сакральное, область сакрального являются
следующей оппозицией по отношению к повседневности. В со-
циологии Дюркгейма, например, отмечается, что в тотемичес-
ких обществах — как, например, в некоторых австралийских,
проанализированных им, — реальность распадается на две ос-
новные категории: профанных вещей, к которым человек от-
носится «экономически», и священных вещей, к которым при-
надлежат тотемы, их символы и представители среди людей.
Каждый, кто знаком с исследованиями Дюркгейма, вспом-
нит оргиастические сцены, описанные путешественниками Спен-
сером и Гилленом, вернее, их интерпретации Дюркгеймом.
«Можно легко представить себе, что человек на этой ступени
126 • ЯнПаточка
экзальтации себя больше не узнаёт. Поскольку он захвачен,
увлечён какой-то внешней силой, принуждающей его к тому,
чтобы мыслить и действовать иначе, чем он это обычно дела-
ет. Для него совершенно естественно состояние, заключающе-
еся в том, чтобы больше не быть самим собой. Ему далее ка-
жется, что он стал новым существом: переодевания, маски, под
которыми он скрывает своё лицо, визуализируют это внутрен-
нее превращение. Или даже больше: они содействуют тому,
чтобы он его достиг. Одновременно и все его товарищи ощу-
щают сходное превращение ... в результате чего он верит в то,
что действительно перенесся в чужой, совершенно иной, неже-
ли тот, в котором он обычно живёт, мир... Может ли такого
рода опыт, особенно если он повторяется ежедневно в течение
недели, не способствовать укреплению убеждения, что действи-
тельно существуют два различных и друг с другом не сравни-
мых мира? В одном из них он с трудом влачит своё повседнев-
ное существование, в другой же стоит только ему проникнуть,
как он вступает в связь с исключительными силами, которые
способны довести его до неистовства. Первый мир профанный,
второй — мир священных вещей».1
Позитивистский предрассудок о том, что обыденный мир
имеет преимущество перед другим миром, не может помешать
нам увидеть в приведённой интерпретации точное представле-
ние анализируемого феномена.
Демоническое должно быть приведено в отношение с от-
ветственностью, которое ему изначально и первично не прису-
ще. Демоническое является демоническим именно потому, что
способно углубить самоотчуждение, на которое, с другой сто-
роны, оно позволяет обратить внимание: человек отчуждает
себя тем, что привязывается к жизни и к её вещам и теряет
себя в них. Отрешение [демонического] является отрешением
от службы [вещам]. Но это не делает его свободой. Отрешение
может выдавать себя за свободу и иногда так и делает — из
перспективы преодоления оргиастической сакральности оно
понимается именно как демоническое.
То, что и сексуальность принадлежит к этому измерению
демонической оппозиции по отношению к повседневной про-
Обречена ли техническая цивилизация на упадок и если да — почему? • 127
фанности, не нуждается в специальных доказательствах — орги-
астические культы почти всегда имеют сексуальную составля-
ющую. С другой стороны, сексуальность определяется тем же
самым моментом двойственного мира, двойственной действи-
тельности, который характерен для оргии, как её описывают
Спенсер и Гиллен.
На примере сексуальности также видно, что оргиастичес-
кая область неизбежно должна быть приведена в отношение
со сферой ответственности. Это приведение в отношение с от-
ветственностью, следовательно, с областью человеческой под-
линности и истины, по всей вероятности, является зародышем
истории религии. Религия не сакральна и не возникает непос-
редственно из опыта сакральных оргий и обрядов, но скорее
существует там, где сакральное в качестве демонического от-
чётливым образом преодолевается. Сакральный опыт перехо-
дит в религиозный, как только предпринимается попытка ин-
тегрировать ответственность в сакральность или регулировать
сакральность посредством ответственности.
Всё это первоначально происходит и может происходить
без отчётливого прояснения того, что определяет способ бы-
тия ответственного существа, которым является человек. Эту
ясность в отношении человека невозможно найти без установ-
ления отчётливого отношения к бытию. Опыт сакрального и
религиозного характера не содержит этой ясности; это опыт
переломов, поворотов и превращений, в которых бытие чело-
века реализуется без отчётливой ясности, то есть без сущност-
ного определения того, что есть, а чего нет. Поэтому в вопросе
о человеческом бытии религиозные трансформации (и то, что
с ними связано, например, опыт искусства) не имеют того осно-
вополагающего значения, которым обладает онтологический
опыт философии. Поэтому также может оказаться, что на ре-
лигию временно найдет затмение, до тех пор пока её пробле-
мы не будут решены философски.
Оппозиция подлинное/неподлинное не исчерпывается ни
оппозицией sacrum/profапит, ни оппозицией праздник/повсед-
невность, ни оппозицией исключительное/повседневное, кото-
рые принадлежат к числу проблем, чьим господином ответ-
128 • Ян Наточка
ственность ещё должна стать. Любой форме человеческой
жизни на любой «ступени» и в любом воплощении известна
оппозиция повседневного и неповседневного, но это не означа-
ет, что каждая форма борется за подъём из состояния упадка.
Оппозиция «повседневность/неповседневность» может означать:
мы избавились от повседневного; но действительно ли тем са-
мым мы достигли нашего собственного, полноценного и неот-
чуждаемого бытия, на которое так таинственно указывает сло-
во «я»? Мы предполагаем, что я в этом смысле возникает в
начале истории и основывается не на том, что оно не теряет
себя в священном и так просто не отказывается внутри него от
самого себя, а на том, что — принимая на себя ответственность,
храня верность повседневной трезвости и при этом с энергич-
ным мужеством вынося то головокружение, которое вызыва-
ется открытой проблематичностью, те вопросы, которые разъяс-
няют саму эту проблематичность, — л проявляет оппозицию
sacrum/profапит во всей её полноте и преодолевает повседнев-
ность без того, чтобы самозабвенно погрузиться в область тём-
ного, какой бы манящей она ни была. Историческая жизнь оз-
начает, с одной стороны, дифференциацию между запутанной
посредством повседневности доисторической жизнью, разде-
лением труда и функционализацией индивидов; с другой сто-
роны, внутреннее овладение священным посредством интерио-
ризации благодаря тому, что мы больше не отдаёмся ему из-
вне, а внутренне конфронтируем с его сущностной основой, к
которой нам открывает путь фундаментальное потрясение рас-
плывчатости и неясности из нашей повседневной рутины. По-
этому такое большое значение имеет возникновение эпичес-
кой и особенно драматической поэзии в начале исторического
процесса. В ней человек сначала внутренним, а затем и вне-
шним оком следит за происходящим, принять участие в кото-
ром означает впасть в оргиастическое; история возникает как
подъём над состоянием упадка, как понимание того, что пре-
жняя жизнь была упадочной и что существует иная возмож-
ность или иные возможности жизни, кроме как, с одной сторо-
ны, нужда, дефицит и их искусное обуздание посредством из-
быточных техник в случае наполненных желудков, а с другой —
(Обречена ли техническая цивилизация на упадок и если да — почему? • 129
приватные или публичные оргиастические минуты, сексуаль-
ность, культ. Греческий полис, эпос, трагедия и философия
являются разными сторонами того же самого воодушевления,
означающего подъём над состоянием упадка.
Именно по той причине, что история означает прежде всего
это внутреннее событие, то есть возникновение человека, кото-
рый становится хозяином изначальной фундаментальной оп-
позиции своих возможностей, открывая истинное и единствен-
ное в своём роде я, вследствие этого история в значительной
степени является историей души. Поэтому история почти с са-
мого начала сопровождается рефлексией по поводу истории и
поэтому Сократ обозначает полис собственным местом исто-
рии, как и местом заботы о душе. И поэтому ещё раньше Ге-
раклит, прогневанный тем, что его община губит тех лучших,
которые способны осуществить подъём над состоянием упад-
ка, в противовес оргиастическому прыжку в темноту, говорит
о границах души (то есть о том, что даёт ей форму). Эти грани-
цы не могут быть найдены, если идти привычными путями,
поскольку logos души, её слово или выражение слишком глубо-
ки.2 Поэтому у Платона главный предмет размышления — это
государство, одновременно являющееся для него моделью, с
помощью которой можно извне показать строение отдельной
души. Поэтому философия Платона сущностно сосредоточе-
на вокруг души как своего центра, что делает её теперь чем-то
надёжным и определяемым. Конечно, можно предположить,
что особое устройство античного общества определяет и свое-
образие античной философии в классический период. Мыш-
ление Платона, решающее для онтологического замысла фи-
лософии как метафизики, является, по удачной характери-
стике Е. Финка, мышлением света без тени (разумеется, в
последней её версии, поскольку применительно к фактическо-
му миру Платон не сомневается на счёт дуализма разум/необ-
ходимость).3 Это означает, что философия может посвящать
себя решению собственной жизненной задачи, состоящей в том,
чтобы быть неэкстатическим, неоргиастическим антиподом и
давать собственное решение проблем, которые предлагает по-
вседневность, не принимая во внимание социальную структуру
130 • Ян Наточка
общества. Разум и рассудок имеют здесь только эту функцию
и способны полностью в ней проявиться, поскольку в реаль-
ности жизни обнаруживается столько неповседневного, что
можно не бояться того, что пафос повседневности станет
доминирующим и подавит свою противоположность. Поэтому
эта онтология является философией души, которая лишь че-
рез усматривание различия между подлинным, трансцен-
дентным по своему бытийному характеру, вечно неподвижным
сущим и реальностью наших всего лишь преходящих, ме-
няющихся мнений приобретает собственное целостное ядро,
способное противостоять напору всех тех разнообразных воп-
росов и проблематик, которые в противном случае швыряют
души из стороны в сторону. Сущностью души является един-
ство, достигаемое посредством мышления, внутреннего диало-
га, диалектики как собственого метода познания и сущности
ума. Тем самым проясняется, почему философия должна быть
заботой о душе (epimeleia tes psyches), онтологией и теологией
одновременно, и что она является всем этим как забота о по-
лисе, о наилучшем государстве. Эта её структура сохраняется,
даже когда собственная сущность бытия того, что является
предметом философии, превращается из idea в energeia4 (как у
Аристотеля), а трансценденция переносится из мира идей на
божество или божества. Философская теория также и тут
постоянно служит своему предназначению быть собственной
сферой, в которой наше я приходит к самому себе и к пере-
живанию своей постепенно постигаемой сущности. (Тем самым
трансцендентность божественной части мира только под-
чёркивается невозможностью для мира достигнуть божества,
а для божества — мыслить о мире: эта трансценденция явля-
ется точным выражением того «духовного» преодоления по-
вседневности, которому философия существенным образом со-
действует.)
Учение Платона о душе содержит и другие аспекты. На один
из них, особенно важный, обратил внимание Е. Финк в своей
интерпретации платоновского мифа о пещере.5 Этот миф, осо-
бенно в драматической части, является искажением традици-
онных мистерий и оргиастических культов. Уже эти культы
Обречена ли техническая цивилизация на упадок и если да - понежу? • 131
имели тенденцию если не к соединению, то к конфронтации
ответственности и оргиастичности. Пещера выступает рудимен-
том подземного места мистерии, лоном матери-земли. Новиз-
на мысли Платона основывается на воле покинуть лоно мате-
ри-земли и вступить на чистый «путь света», подчинить весь
этот оргиазм ответственности. Поэтому дорога души, в пони-
мании Платона, ведёт прямо к вечности и источнику всякой
вечности — к солнцу «добра».
Следующий аспект связан с предыдущим. Платоновское
«превращение» позволяет созерцать само Добро. Это созерца-
ние неизменно и вечно, как само Добро. Путь к Добру как
новая мистерия души разыгрьгоается в форме внутреннего раз-
говора души. Бессмертие, неразделимое с этим разговором, сле-
довательно, подразумевает совершенно иное бессмертие, чем
бессмертие в мистериях. Впервые в истории речь начинает идти
об индивидуальном бессмертии. Оно индивидуально, потому
что является внутренним, поскольку неотделимо от собствен-
ного свершения. Платоновское учение о бессмертии души яв-
ляется результатом конфронтации между оргиазмом и ответ-
ственностью. Ответственность триумфально одерживает победу
над оргиазмом, включает его в себя как подчинённый момент,
как Эрос, который так долго не мог уразуметь самого себя и
понять, что его происхождение связано не с телесным миром,
не с пещерой, не с темнотой, и что он является только сред-
ством восхождения к Добру с его абсолютной требовательнос-
тью и твёрдой дисциплиной.
В результате этого понимания — в неоплатонизме — демо-
ническое становится служебным царством (а Эрос — великим
демоном) с точки зрения подлинного философа, который пре-
возмог все его искушения. Отсюда слегка неожиданный вы-
вод: философ — это одновременно великий тауматург. Плато-
новский философ — это волшебник, Фауст. Голландский исто-
рик идей Жиль Квиспел усматривает здесь один из главных
источников легенды о Фаусте и фаустовском начале вообще
как о том «бесконечном стремлении», которое делает всякого
Фауста столь опасной фигурой, но, в конце концов, само мо-
132 • Ян Наточка
Ещё один важный момент состоит в том, что платоновский
философ преодолел смерть, в сущности, тем, что не отступил,
а остался лицом к лицу с ней. Его философия была melete
thanatou, «заботой о смерти», и забота о душе неразрывно свя-
зана с заботой о смерти, становящейся истинной заботой о жиз-
ни, так что из этого непосредственного созерцания смерти, из
преодоления смерти рождается (вечная) жизнь (которая, воз-
можно, является не чем иным, как таким «преодолением»). Всё
это, наряду с отношением к Добру, отождествлением с Доб-
ром и избавлением от демонии и оргиазма, означает господ-
ство ответственности, а тем самым — свободы. Душа абсолют-
но свободна, то есть выбирает свою судьбу.
Так, на основе двойственности истинного, ответственного, с
одной стороны, и внепорядкового, оргиастического — с другой,
вырастает новая, связанная со светом, мифология души: орги-
астическое не устраняется, а дисциплинируется и занимает слу-
жебное положение.
Легко понять, что вся эта совокупность мотивов приобрета-
ет значение дая мировой истории в тот момент, когда заверше-
ние эпохи polis—civitas в форме римского принципата ставит
проблему новой, основанной на трансценденции ответственно-
сти теперь уже в рамках общества, а именно государства, кото-
рое перестаёт быть сообществом равных в свободе. Свобода
определяется уже не из отношения между равными друг другу
(гражданами), а из отношения к трансцендентному Добру. Тем
самым возникают новые вопросы и возможные новые ответы.
Социальная проблематика Римской империи, наконец, разво-
рачивается на основе, которую сделало возможной платоновс-
кое понятие души.
Неоплатоник на императорском троне Юлиан Отступник —
как это правильно отметил Квиспел7 — это символ решающего
поворота в отношениях между оргиазмом и воспитанием от-
ветственности. Христианство не могло преодолеть это плато-
новское решение иначе, как повторным поворотом. Сама от-
ветственная жизнь понималась в нём как дар чего-то такого,
что, в конечном счете, хотя и имеет характер Добра, содержит
также черты недоступного и всегда стоящего над человеком —
Обречена ли техническая цивилизация на упадок и если За - почему? • 133
черты мистерии, за которой остаётся последнее слово. Христи-
анство всё-таки понимает добро иначе, чем Платон, — как доб-
роту самозабвенной и самоотверженной (отнюдь не оргиасти-
ческой) любви. Отнюдь не как оргиазм — который оказывает-
ся не только подчинённым, но и практически полностью
подавленным, — но как misterium tremendum8. Tremendum, посколь-
ку ответственность помещается теперь отнюдь не в прозрач-
ную для человеческого понимания сущность доброты и един-
ства, а в непрозрачное отношение к абсолютному, наивысше-
му сущему, которое держит нас в руках отнюдь не с внешней,
а именно с внутренней стороны. Свобода превозмогшего орги-
азм мудреца может быть понята всё ещё как определённая
демония, воля к отделению и обособлению, как воля к сопро-
тивлению простой самоотдаче и самозабвенной любви, кото-
рая и выражает, собственно, подобие [человека] Богу. Поиск
души теперь осуществляется не только посредством развития
внутреннего разговора, но и благодаря ощущению небезопас-
ности его развития. В конечном счете, душа характеризуется
не отношением к предмету, каким бы возвышенным он ни был
(как платоновское Добро), а отношением к личности, которая
смотрит в душу, сама не будучи видимой. Что такое эта лич-
ность, в христианском учении действительно адекватно не те-
матизировано. Но она с особой силой актуализируется в обра-
зах и «лицах», прежде всего в форме проблемы божественной
любви и Богочеловека, берущего на себя наши грехи. Грехи
после этого также приобретают новый смысл, поскольку те-
перь означают оскорбление божественной любви, обес-
ценивание наивысшего. Грех имеет личный характер и может
быть искуплен только лично. Ответственный человек как та-
ковой — это я, это индивид, не совпадающий ни с одной ролью,
в которой он может выступать, — у Платона это находит вы-
ражение в мифе о выборе жизненного жребия. Человек — это
ответственное л, поскольку в конфронтации со смертью и во
взаимодействии с ничто он берёт на себя то, что каждый мо-
жет осуществить только сам в себе и в чём он незаменим. Но
теперь индивидуальность помещается в отношение к беско-
нечной любви, и человек является индивидуумом, поскольку
134 * Ян Наточка
он виновен и всегда будет виновен по отношению к этой люб-
ви. Каждый как индивидуум определён благодаря непов-
торимости своего положения по отношению ко всеобщности
греха.
Ницше однажды сказал, что христианство — это платонизм
для народа, и в этой мысли есть рациональное зерно, посколь-
ку христианский Бог «перенял» понятие трансценденции из
онтотеологической концепции как нечто самоочевидное. Но в
христианской концепции души имеется принципиальное, глу-
бокое отличие от этого понятия трансценденции. Оно состоит
не только в том, что христианин, как это формулирует апос-
тол Павел, отвергает греческую sofia tou kosmou9 (метафизику)
и метод внутреннего диалога — мыслительное созерцание —
как путь к тому бытию, которое неизбежно принадлежит к
открытию души. Главное различие, как кажется, заключается
в том, что только теперь открыто то собственное содержание
души, которое состоит в том, что истина, за которую душа ве-
дёт борьбу, — это не истина созерцания, но истина собственной
судьбы, истина, связанная с вечной, никогда не разрешаемой
ответственностью. Отнюдь не через созерцание идей, а следо-
вательно, не через привязку к сущему, которое с позиции веч-
ности само вечно, а через открытие себя для несоизмеримости
божественного и человеческого, через открытие себя богоче-
ловеческому, которое совершенно уникально и поэтому, по оп-
ределению, принимает решение относительно самого себя, воз-
никает собственная жизнь души, её сущностное содержание,
возможное только в этой беспрецедентной драме. Классичес-
кий трансцендентный Бог в комбинации с ветхозаветным Гос-
подом истории становится главной фигурой этой внутренней
драмы — теперь драмы спасения и милости. Преодоление по-
вседневности принимает форму заботы о спасении души, кото-
рая нашла себя в нравственном превращении, в отступлении
перед лицом (вечной) смерти и живёт страхом и надеждой,
находящимися в самой тесной взаимосвязи, дрожит при осоз-
нании греховности и всем своим существом предлагает себя в
качестве искупительной жертвы. Сказанное имплицитно содер-
жит мысль — хотя отчётливо нигде не продуманную и не став-
Обречена ли техническая цивилизация на упадок и если За - почему? • 135
шую центром философских размышлений — о том, что сущ-
ность души абсолютно не сравнима с сущностью любого пред-
метного сущего, что эта сущность души связана с заботой о
собственном бытии, в котором она, в отличие от всего прочего
сущего, бесконечно заинтересована. К этому строению души,
далее, сущностно принадлежит ответственность, следователь-
но, возможность выбора и достижения-самого-себя в этом вы-
боре, то есть мысль о том, что душа не является чем-то с самого
начала, а только постепенно обнаруживается тут, что она явля-
ется по своему существу чем-то историческим и только поэто-
му неупадочным.
Поскольку христианство фундировано в этой бездонной
глубине души, оно до сего дня является не только наивысшим
и непревзойденным, но также и до конца не продуманным
подъёмом, благодаря чему человек способен к борьбе против
упадка. Конкретный образ внешней (общественной) и внутрен-
ней (мыслительной) жизни в христианскую эпоху был, правда,
связан с проблематикой Римской империи (изначально анало-
гичной греческому полису, однако затем благодаря собствен-
ным успехам трансформировавшейся из республики в импе-
рию, тем самым став чуждой массе граждан, у которых таким
образом было отнято содержание их жизни) и с её закатом.
Этот закат подразумевает не только негативный феномен упад-
ка элитарного общества — постоянно находящегося в зависи-
мости от всё укрепляющейся и одновременно подверженной
кризисам системы рабовладения — и изменение его социально-
экономического устройства. Упадок Римской империи одно-
временно означает возникновение Европы в современном смыс-
ле слова. Философия экономической диалектики, ориентиро-
ванной на революцию, закрывает нам глаза на то, что основа
нашей революционной эпохи состоит в перемене, которая осу-
ществилась благодаря внешнему краху, а не внутреннему из-
вержению. Внутреннее социальное изменение происходило
спокойно и состояло в том, что трудовое бремя всё больше
перекладывалось с вещи, которой был раб, с существа без мо-
рального характера, на существо, которое в своей семье и в
своём имуществе, каким бы скромным и незначительным оно
136 • Ян Наточка
ни было, имело самостоятельный, частично свободный харак-
тер, характер личности. (Гегель и Конт ещё в полной мере осоз-
навали значение этого изменения и его ключевой характер.)
Именно это изменение привело к тому, что после столетий не-
разберихи обнаружился европейский и собственно западноев-
ропейский социальный фундамент как могущественная экспан-
сивная сила и что заложенные в нём потенциальные возмож-
ности нашли выражение в новых социальных и политических
структурах небывалого размаха: в колонизации, возникнове-
нии городов, полностью отличных от античного полиса, в ко-
торых труд движим идеей машины и её усовершенствования,
а тяжесть труда пытаются переложить с человека на вещь.
Их выражением стала также экспансия в области, которые
Римская империя утратила — Средиземноморье и Восток, — и
в те, которых она никогда не имела — Центральная и Северо-
восточная Европа.
В этой связи более всего интересно то, что вся современная
социология, восходящая к Токвиллю, считает, что современ-
ное развитие направлено к поиску демократического равнове-
сия, к равенству возможностей, приоритету благосостояния
перед «величием». Где следует искать основы этой направлен-
ности? Средневековое общество было изначально иерархичес-
ким, основанным на остатках римской муниципальной органи-
зации и на германских завоеваниях, но на его фундаменте воз-
никло новое отношение к труду, основанное на колонате и
городском производстве. Церковный клир при этом был эле-
ментом, обеспечивающим преодоление повседневности аутен-
тичным способом, с одной стороны, разрушающим оргиасти-
ческие тенденции, с другой (как в крестовых походах) — на-
правляющим их. Теперь, возможно, становится понятным, что
городской элемент играл в этих процессах роль носителя не-
которых новых потенциалов. Из нового отношения к труду и
скептического использования античной рационалистической
традиции со временем выросло и новое понимание знания как
сущностно практического и овладевающего. Это соответ-
ствовало определённым практическим тенденциям христианс-
кой теологии, утверждавшей, что человек существует в мире
Обречена ли техническая цивилизация на упадок и если да - почежу? • 137
не для того, чтобы его только или преимущественно созерцать,
а чтобы служить ему и быть деятельным. Экспансия Европы
перестала осуществляться посредством крестовых походов и
приняла форму заокеанских открытий и рывка к богатствам
всего мира. Внутреннее развитие производства, различных тех-
ник, торговых и финансовых практик одновременно вело к воз-
никновению рационализма совершенно нового типа, а именно
единственно нам знакомого: рационализма, который стремит-
ся подчинить себе вещи и одновременно сам подчинён им (вслед-
ствие стремления к прибыли).
Генезис этого современного (не-платоновского) рационализ-
ма сложен. Важное место занимает нерешённость проблемы,
которую христианская эпоха переняла от античности: пробле-
мы преодоления повседневности и оргиазма. Платоновское
решение было отброшено христианской теологией, но та же
теология переняла важнейшие элементы открытого Платоном
решения.
Платоновский рационализм, стремясь подчинить и саму
ответственность объективности познания, продолжает оказы-
вать влияние в глубинах христианского понимания. Теология
сама основывается на «естественном» фундаменте, «сверхъес-
тественное» же понимается как осуществление «естественного».
Дистанция по отношению к «природе», которая является
уже не тем, в чём человек находится, а тем, что от него отделе-
но благодаря единственному непосредственному отношению,
ему присущему, благодаря отношению к Богу, позволяет те-
перь относиться к «природе» как «объекту».
В результате человек стремится к собственной свободе в
рамках природы, понятой по-платоновски: того, над чем он
стоит, поскольку он её постигает с помощью созерцания идей.
Отсюда исходит «математический» проект природы и его но-
вая форма, которая подготавливается начиная с XIV века и
прочно укрепляется в XVII веке, когда достигает своих самых
значительных интерпретативных успехов. Известно, что Гали-
лей был платоником. Посредством метафизики бессмертной
души Платон способствовал тому, что в христианском мире с
его нерешённой проблемой метафизической философии и хри-
138 • Ян Наточка
стианской теологии значимым становится овладение природой
посредством человеческого духа.
Платоновскими являются также наука о чудесах, алхимия
и медицина Парацельса эпохи Ренессанса. Фаустовское нача-
ло даёт о себе знать и побуждает к тому, чтобы разорвать
связи с божественным через заключение договора с демони-
ческим.
С другой стороны, христианское отношение к жизненной
практике, то есть позитивная оценка практической жизни в
противовес теории, делает возможным подчинение и платонов-
ское «овладение» природой внутри практических взаимосвя-
зей, ведущее к созданию по-настоящему эффективного знания,
одновременно и технического, и научного, — к созданию совре-
менного естествознания.
Само изменение духовной сердцевины христианства, пере-
ход сначала от аристократического христианства к церковной
автономии, а затем — к светскому христианству, сделало воз-
можным то, что христианство с его выросшей из реформации
ментальностью аскезы и пафосом испытания личности эконо-
мическим благосостоянием способствовало возникновению той
автономии производства, которая характеризует современный
капитализм. Последний же быстро избавляется от религиозно-
го импульса и связывает себя с по существу внешним, отчуж-
4
денным от всякого личного и морального призвания, современ-
ным рационализмом с его в высшей степени эффективным ма-
тематическим формализмом и обеспечивающим успехи
современным механицизмом, обращенным к овладению при-
родой, движением и силой. Этот механицизм затем без труда
преобразовался в машинизм и тем самым способствовал так
называемой «промышленной революции». В результате про-
мышленная революция всё глубже пронизывает и определяет
нашу жизнь: европейское человечество, а сегодня уже и чело-
вечество вообще с разветвлённой дифференциацией профес-
сий и сложным переплетением интересов не может уже про-
сто физически существовать без этого, всё больше опирающе-
гося на науку и технику (и, разумеется, всё более активно
опустошающего запасы мировой энергии) способа производ-
Обречена ли техническая цивилизация на упадок и если да — почему? • 139
ства. Также и рациональное овладение, холодная «истина» этого
самого холодного из всех холодных чудовищ полностью скры-
вает сегодня от нас его возникновение. Эта холодная «истина»
в нашем обществе отодвигает в сторону все традиционные спо-
собы преодоления повседневности неоргиастическим, а поэто-
му подлинным способом (понятым как более глубокая истина,
принимающая во внимание не только формальное одеяние
овладеваемои нами природы, но и человека в его незаменимо-
сти и бездонной индивидуальности) и выглядит как всё во всём,
как хозяин в доме Космоса.
Таким образом, столь значительное многообразие духовных
мотивов соединяется с формированием совершенно недухов-
ного, «практического», светского и материального понимания
[всего] действительного как предмета овладения, осуществляе-
мого посредством нашего мышления и наших рук.
То, что изначально у Платона препятствовало оргиастичес-
кой безответственности, теперь поставлено на службу повсед-
невности. Внутри неё человек обольщён тем, что управляет
своей жизнью, и он действительности оказывается способным
к тому, чтобы, используя открытые им основания, создавать
средства, предназначенные для облегчения и внешнего приум-
ножения жизни и её благ. При этом сам труд хотя поначалу и
небывало порабощает, но затем всё больше «освобождает», пока
человек не находит возможности полностью от него «освобо-
диться».
Одним из результатов этого, сначала не принятым во вни-
мание, а затем ставшим всё более заметным, является скука.
Скука — это не нечто второстепенное, не «просто настроение»
или чьё-то персональное расположение духа; скука выражает
онтологический статус человечества, которое подчинило по-
вседневности и её безличности всю свою жизнь. Ещё в XIX
столетии Киркегор характеризовал скуку как корень эстети-
ческой установки, того непостоянства, которое не может уко-
рениться в сущем, поскольку его оттуда вытесняет скука. По-
добные мотивы можно найти ещё в XVII столетии у Паскаля,
определявшего скуку через связь с вступавшим в пору своего
разцвета механицизмом.
140 ° Ян Наточка
Дюркгейм обратил внимание на то, что определённые фак-
ты Великой французской революции указывают на спонтан-
ное обновление сакральности. В эпоху Французской револю-
ции люди были захвачены каким-то «религиозным» восторгом.
«Эта способность общества обожествлять себя или создавать
божества никогда не была так очевидна, как в первые годы
Революции. Под влиянием всеобщего воодушевления средства-
ми общественного мнения были обожествлены и такие чисто
профанные вещи, как родина, свобода, разум».10 Конечно же,
этот восторг, без всякого ущерба для культа Разума, имеет
оргиастический характер, не подчинённый либо не вполне под-
чинённый дисциплине принятия личностью на себя ответствен-
ности. Опасность нового впадения в оргиазм здесь проявляет-
ся с особенной остротой.
Подчинённость вещам, повседневной озабоченности ими и
скованности жизнью имеет обязательным дополнением новый
наплыв оргиастического. Чем дальше продвигается современ-
ная технонаука как особое отношение к сущему, чем больше
она овладевает всем природным, а затем и человеческим, чем
больше традиции давнего примирения подлинного с оргиасти-
чески захватывающим вытесняются и отбрасываются как не-
реальные, не заслуживающие доверия и фантастические, тем
более грубым оказывается реванш оргиастического энтузиаз-
ма. Он даёт о себе знать уже в «освободительных» войнах и
революционных кризисах XIX столетия. Направленные про-
тив него жёсткие репрессии только усилили его. В этой сфере
социальной борьбы концентрируется вся серьёзность жизни,
вся её заинтересованность в собственном бытии. Повседнев-
ность и энтузиазм, присущие этой борьбе, которая ведётся изо
всех сил и без всякой пощады, принадлежат друг другу. На
протяжении всего XIX столетия эта связка оставалась по боль-
шей части латентной, поскольку продолжали господствовать
большие инерционные силы. В XX столетии, которое стано-
вится «моментом истины» XIX-го, она становится настолько
господствующим надо всем мотивом, что для этого не требует-
ся никаких доказательств.
Война в этом столетии становится получившей завершение
Обречена ли техническая цивилизация на упадок и если да ~ понежу? • 141
революцией повседневности. Рука об руку с ней совершается
универсальное освобождение и универсальный хепенинг, орги-
азм в новых формах. Эту взаимосвязь доказывает не только
начало войн и революций, но и падение прежних форм этоса,
провозглашение «права на тело» и на «собственную жизнь»,
универсальное расширение хепенинга и т. д. Война как уни-
версальное «всё дозволено», как дикая свобода захватывает
государства, становится «тотальной». Одна и та же рука
организует повседневность и оргию. Организатор пятилеток
одновременно выступает автором инсценированных процессов,
являющихся частью нового гонения на ведьм. Война — это са-
мое большое предприятие промышленной цивилизации, про-
дукт и инструмент тотальной мобилизации (как это правильно
заметил Э. Юнгер11) и одновременно высвобождение оргиас-
тического потенциала, который нигде в другом месте не мо-
жет позволить себе проявление крайних форм опьянения унич-
тожением. Уже в начале нового времени, в эпоху религиозных
войн XVI-XVTI веков, господствовала подобная жестокость и
оргиастика такого же стиля, виной чему стало падение всей
тогдашней дисциплины и демонизация противника, — но то,
что демония достигла вершины именно в эпоху максимальной
трезвости и рациональности, является чем-то совершенно
новым.
Скука, естественно, не отступает, а, напротив, выступает на
авансцену с заднего плана. Она проявляется не только в рафи-
нированных формах эстетизма и романтического протеста, но
и отчасти в грубой форме консюмеризма и конца всякой уто-
пии (реализованной «позитивными» средствами). В форме обя-
занности получать удовольствие она становится разновиднос-
тью того коллективного метафизического опыта, который оп-
ределяет нашу эпоху (в качестве других примеров можно
привести фронтовые переживания, Хиросиму).
Однако, что означает эта необъятная Скука, которую при
всей изобретательности современной науки и техники невоз-
можно скрыть и которую было бы наивно и цинично недооце-
нивать и оставлять без внимания? Самые рафинированные
изобретения скучны, если не ведут к углублению опыта Тайн-
142 * Ян Маточка
ственности, скрытой за тем, что открыто и разоблачено. Хотя
небывалая проникающая способность человеческого мышле-
ния способна разоблачать с решимостью, о которой невозмож-
но было и мечтать, в то же самое время этим мышлением ов-
ладевает повседневность и такое понимание сущего, для кото-
рого сущее в принципе утке полностью разоблачено и прояснено
и которое в один миг превращает тайны сегодняшнего дня в
болтовню и тривиальность завтрашнего дня.
Проблема индивидуума, проблема человеческой личности
была с самого начала проблемой преодоления повседневности
и оргиазма. Это одновременно означало: человек не может быть
отождествлён ни с одной ролью, которую он может играть в
мире. Современный индивидуализм, распространившийся на-
чиная с эпохи Ренессанса (по мнению Буркхардта12 и других),
означал не стремление отказаться от какой бы то ни было роли,
а стремление играть значимую роль. За роли вели борьбу бур-
жуазные революции (равенство — это равенство ролей! А сво-
бода — это возможность выбора той роли, которая нам нравит-
ся!). Современный индивидуализм всё больше проявляется в
качестве коллективизма (универсализма), коллективизма как
ложного индивидуализма. В этой связи собственно вопрос об
индивидууме не формулируется как альтернатива между либе-
рализмом и социализмом, демократией и тоталитаризмом,
поскольку, при всех глубоких различиях, все они не обращают
внимания на то, что не является объективным и не является
ролью. Поэтому разрешение конфликта альтернатив не достига-
ется посредством выдвижения требования о постановке челове-
ка на его собственное место и об освобождении его от блужда-
ний за пределами себя и того места, которое ему принадлежит.
Это блуждание за пределами себя выражается в современ-
ной бездомности. При всех огромных объёмах производства
средств, служащих для обеспечения жизни, последняя остаёт-
ся безродной. Дом и родина всё больше понимаются как при-
станище, как место, в котором человек может переночевать,
чтобы на следующий день пойти на работу, и как место, в ко-
торое он вкладывает заработанное своим трудом и где ведет
«семейную жизнь», всё менее для него значимую. Человек про-
Обречена ли техническая цивилизация на упадок и если да - почему? • 143
живает в доме, в отличие от всех других живых существ, толь-
ко потому, что он ощущает, что мир не является ему домом,
потому что он из него вытолкнут и именно поэтому имеет в
нём и по отношению к нему своё предназначение, укоренённое
в глубочайшем и непреходящем (пока оно продолжает жить в
человеке) прошлом. Всё это утрачивается перед лицом совре-
менной мобильности, добровольной или вынужденной, исчеза-
ет перед лицом этого гигантского переселения народов, охва-
тившего практически все континенты. Однако самая острая без-
домность кроется в нашем отношении к природе и к себе самим:
X. Арендт обратила внимание на то, что человек уже не пони-
мает, что делает, и показала, что человек в своём отношении к
природе удовлетворяется простым практическим овладением
ею и прогнозами, не требующими усилий по их осмыслению.
Это означает, что внутри естествознания человек утратил по-
чву под ногами, определившую его предназначение, уже за-
долго до космических полётов. Одновременно он потерял са-
мого себя и своё особое положение в универсуме, смысл кото-
рого заключается в том, что он — единственное из известных
нам живых существ, имеющее отношение к бытию или далее
являющееся этим отношением. Бытие перестало быть пробле-
мой, когда всё сущее в своей исчисляемой бессмысленности
открыто раскинулось перед нашими глазами.
Человек перестал быть отношением к Бытию и стал силой,
одной из самых могущественных сил вообще. Он стал, глав-
ным образом в своём общественном вот-бытии, гигантской стан-
цией, служащей для высвобождения космических, в течение
очень долгого времени аккумулированных и потенциальных
сил. Это выглядит так, как если бы в мире, состоящем только
из различных сил, человек превратился в большой аккумуля-
тор, который, с одной стороны, использует силы, чтобы суще-
ствовать и расти, а с другой — именно поэтому сам включён в
этот процесс, аккумулирован, просчитан, использован и под-
чинён манипуляции, как и любой другой комплекс сил. На пер-
вый взгляд этот образ кажется мифологичным: является ли
«сила» чем-то иным, нежели понятием, служащим для обозна-
чения человеческого способа предвидящего управления дей-
144 • Ян Наточка
ствительностью? Но именно в этом и состоит punctum saliens13,
поскольку понимание мира как Силы превращает простые силы
в нечто большее, чем коррелят человеческого вмешательства.
В Силе скрывается Бытие, не перестающее быть тем светом,
который освещает мир, — пусть теперь и зловещим образом.
Если мы понимаем бытие только с точки зрения сущего, кото-
рому оно принадлежит — а мы действительно так его понима-
ем, поскольку сущее для нас издавна является тем, что раз и
навсегда, радикально и вечно господствует над всем и таким
образом зависит от первых начал, овладеть которыми означа-
ет овладеть всем, — тогда Сила, в современном понимании,
является наивысшим сущим, всё создающим и уничтожающим,
которому всё и вся служит.
Метафизика силы, возможно, фиктивна и неистинна, явля-
ется разновидностью антропоморфизма, и всё-таки эта крити-
ка несправедлива. Поскольку именно практическое обожеств-
ление силы превращает силу не только в понятие, но и в дей-
ствительность, в то, что посредством нашего понимания вещей
высвобождает всю продуктивность, потенциально содержащу-
юся в вещах, актуализирует все её потенциалы. Так сила из
сущего превращается в саму реальность. Всё существует толь-
ко в действии, в аккумулировании и высвобождении потенциа-
лов; любая другая реальность, всякое качественное содержа-
ние, предметное существование (для познающего субъекта,
который сам уже не «познаёт», а только осуществляет транс-
формации) теряются. Таким образом Сила обнаруживает себя
в качестве величайшей сокрытости Бытия, которая, как похи-
щенное письмо в известном рассказе Э. По14, находится в наи-
большей безопасности там, где выставлено напоказ, обнару-
живается в качестве всеобщности сущего, то есть сил, которые
взаимно организовываются и высвобождаются, не отпуская че-
ловека, избавленного при этом, наравне со всеми сущими, от
любой таинственности.
Такое видение бытия, которое сущее вобрало в себя, пред-
ставил в своем творчестве великий современный мыслитель,
не снискавший при этом доверия публики и даже не заслужив-
ший её внимания. В следующем, заключительном эссе об исто-
Обречена ли техническая цивилизация на упадок и если да - понежу? • 145
рии мы попытаемся показать, какое отражение в современном
историческом процессе и его альтернативах находит это воб-
ранное сущим бытие.
Как кажется, теперь можно ответить на вопрос о том, обре-
чена ли промышленная цивилизация (в целом и как технона-
учная) на упадок. И всё-таки мы колеблемся с ответом. Верно
то, что эта цивилизация не только не разрешила центральную
внутреннюю проблему человека — и самой себя, — состоящую
в том, чтобы не просто жить, а жить действительно по-челове-
чески, возможность чего история уже продемонстрировала, но
и усложнила эту проблему, предложив своё решение. Это ус-
ложнение связано с тем, что в концепцию возможностей этой
цивилизации не включено отношение человека к самому себе
и одновременно отношение к миру в целом, включая его сущ-
ностную таинственность. Концепции этой промышленной ци-
вилизации делают мышление поверхностным, отучают от мыш-
ления в глубинном, принципиальном смысле слова. Промыш-
ленная цивилизация предлагает суррогаты там, где требуется
оригинал. Она отчуждает человека от себя самого, отбирает у
него его местопребывание в мире, насильственно предлагает
ему альтернативу повседневной скуки (поскольку работа пере-
стала быть тяжёлой), с одной стороны, и дешёвые суррогаты и
брутальные оргиазмы — с другой. Она заставляет познание ру-
ководствоваться однообразным образцом прикладной матема-
тики. Она создаёт концепт господствующей над всем силы,
мобилизующей действительность с целью высвобождения по-
тенциальных сил, с целью осуществления господства Силы, раз-
ворачивающегося посредством конфликтов планетарного мас-
штаба. В итоге, человек оказывается внешне уничтожен, а внут-
ренне опустошён, лишён своей «самости», своего незаменимого
л, отождествлён со своей ролью, с которой живёт и умирает.
С другой стороны, верно и то, что эта цивилизация делает
возможным то, что не смогла дать никакая цивилизация до
неё: жизнь без насилия и с далеко идущим равенством воз-
можностей. Нельзя сказать, что эта цель где-то была достигну-
та. Человек никогда не имел возможности бороться с внешней
нуждой, обходясь без средств, которые предоставляет эта ци-
146 • Ян Наточка
вилизация. Однако в этой борьбе с внешней нуждой нельзя
одержать победу общественными путями и благодаря тем ис-
ключительным средствам, которые дала нам научно-техничес-
кая цивилизация. Борьба с внешней нуждой — это также и внут-
ренняя борьба. Решающая же возможность, воплощённая нашей
цивилизацией, — это впервые в истории возникающая возмож-
ность поворота от господства случайной власти к господству
тех, кто понимает, о чём идёт речь в истории. О трагической
вине (но не несчастии) интеллигенции можно было бы говорить
в том случае, если бы она не поняла этого шанса и не восполь-
зовалась им. История — это не что иное, как потрясение досто-
верности предданного смысла. Она не имеет иного смысла и
иной цели. Для дурной бесконечности сомнительного челове-
ческого существования в мире, которое сегодня усложняется
существованием масс в планетарных масштабах, масс, привык-
ших к лести и к своим возрастающим требованиям, что спо-
собствует их превращению в удобную жертву ма-нипуляций и
демагогии — этого смысла и цели вполне достаточно.
Другим главным доводом в пользу того, почему техничес-
кую цивилизацию нельзя без колебаний назвать «обречённой
на упадок», является то, что упадочные явления, которые мы в
ней обозначили, не ею созданы, а созданы наследием предше-
ствующих эпох, из постановки духовных проблем и тем кото-
рых она создала свою собственную мотивационную систему.
Подтверждением служит наш собственный набросок возник-
новения современной эпохи и её основополагающего метафи-
зического характера. Современная цивилизация страдает не
только от собственных ошибок и собственной близорукости,
но и от нерешённости проблемы истории в целом. Однако про-
блема истории не может быть решена окончательно, она дол-
жна оставаться проблемой. Сегодня опасность состоит в том,
что знание множества деталей отучает нас видеть вопросы и
то, что является их основой.
Возможно, что сам вопрос об упадке цивилизации постав-
лен неверно. Не существует цивилизации в себе. Вопрос состо-
ит в том, хочет ли ещё исторический человек признать свою
причастность к истории.
Обречена ли техническая цивилизация на упадок и если да — понежу? ° 147
Примечания
1 Durkheim E. Les formes elementaries de la vie religieuse. Paris, 1925.
2 Ср.: Diels H., Kranz W. Die Fragmente der Vorsokratike. Berlin 19*51:
Heraklit, В 45.
3 Ср.: Fink E. Metaphysik der Erziehung im Weltverstandnis von Platon und
Aristoteles. Frankfurt a. M., 1970.
4 «Деятельность», «сила» (греч.). Используется Аристотелем в проти-
вопоставлении ergon — завершенному процессу. — Прилл. ред.
5 Ср.: Fink E. Op. cit. S. 43 f.
6 Ср.: Quispel G. Faust, Symbol of Western Man, in: Eranos Jahrbuch 1966,
Zurich 1967.
7 Ср.: Quispel G. Gnosis ah Weltreligion, Zurich 1951,
8 «Ужасающая тайна» (лат.). — Прим. ред.
9 «Мировая мудрость» (греч.). — Прим. ред.
10 Durkheim E. Op. cit.
11 Ср.: Junger E. Die totale Mobilmachung (1930). In: Samtliche Werke, 2.
Abteilung. Bd. 7. Essays I: Betrachtungen zur Zeit. Stuttgart, 1980.
12 Ср.: Burckhardt J. Die Renaissance in Italien. Basel, 1860.
13 «Ключевой пункт» (лат.). — Прим. ред.
11 Рое Е. A. The Purloined Letter (1844).
6
Войны XX века и
XX век как война
х Хервая мировая война породила целый ряд объяснений,
отразивших стремление людей понять это чудовищное со-
бытие, хотя и осуществлённое людьми, но при этом пре-
восходящее горизонт понимания каждого отдельного че-
ловека и всего человечества — событие в определённом
смысле космическое. Мы пытались вместить это событие в
наши собственные категории, обращаться с ним так, как
мы только умеем, то есть, в сущности, опираясь на способ
мышления XIX века. Вторая мировая война не вызвала ни-
чего подобного; в своих непосредственных причинах и по
своей форме она была, может быть, даже слишком (на пер-
вый взгляд) ясной, и главное — она не закончилась, а пере-
шла в какое-то странное состояние, которое выглядит и не
как война, и не как мир. В то же время революция1, как-то
позволявшая комментировать это состояние, не позволяла
набраться духу для произнесения слова, которое «разделя-
ло бы каждую вещь согласно её бытию и говорило, как
вещи существуют»2. Кроме того, укрепилось убеждение, что
должно существовать некое истинное, то есть марксистское,
объяснение Второй мировой войны, нечто сокрытое в идей-
ных арсеналах партии, направляющей ход истории. То, что
подобное объяснение не существует, никем не принималось
в расчёт
Я не ставлю задачу критиковать отдельные формули-
ровки, предложенные для интерпретации Первой мировой
Войны XX века и XX век как война • 149
войны. Однако я обратил бы особое внимание на то, что во
всех этих интерпретациях, независимо от того, идёт ли в них
речь о борьбе германского и славянского миров, об империа-
листическом конфликте, возникшем на последней стадии ка-
питализма, либо о последствиях современного гипертрофиро-
ванного субъективизма, который насильственно объективиру-
ется, или, как иногда говорят, о борьбе между демократией и
теократией, — война рассматривается всегда с позиции мира,
дня и жизни, так что исключается тёмная, ночная сторона
жизни. С этой точки зрения, жизнь, и прежде всего историчес-
кая жизнь, оказывается континуумом, в котором отдельные
индивиды выступают носителями общего движения, только и
имеющего какое-то значение, тогда как смерть означает некое
изменение функций. Война — это массовым образом организо-
ванная смерть, неприятная, но необходимая пауза, которую мы
в интересах действительных целей континуальности жизни дол-
жны с необходимостью взять, но при этом не пытаться искать
в войне нечто само по себе «позитивное». Прежде всего, как
говорил Гегель (а вслед за ним Достоевский), война может слу-
жить тем оздоровляющим потрясениям, которое необходимо
гражданской жизни, чтобы она не окостенела и не застыла в
рутине. Но то, что война сама может что-то объяснять, что она
сама по себе имеет силу, наделяющую смыслом, — эта идея
чужда всем философиям историй, а поэтому и всем извест-
ным нам экспликациям мировой войны.
Таким образом, война 1914—18 гг. объясняется с позиций
идей XIX века — идей мира, дня и его интересов. Неудивитель-
но, что при этом не удаётся постигнуть основополагающие прин-
ципы нового XX века, поскольку это столетие является эпохой
ночи, войны и смерти. Это не означает, что для понимания не
нужно возвращаться к предшествующей эпохе. Но посредством
идей, программ и целей предшествующей эпохи удаётся объяс-
нить только возникновение той страшной воли, которая столько
времени гнала миллионы людей во всепоглощающий огонь вой-
ны, а другие неисчислимые миллионы принуждала к грандиоз-
ным и бесконечным приготовлениям к этому монументально-
му аутодафе. Так же, как и нельзя объяснить собственное со-
150 • Ян Наточка
держание этого столетия, и прежде всего его столь глубокую
склонность к ведению войн.
Как и любая европейская война, война 1914—18 гг. проходи-
ла на фоне всеобщего убеждения, насильственно пробивавше-
го путь к манифестации, к осуществлению. И эта война также
была идейной, хотя её идею трудно усмотреть, поскольку в
своей негативности она не бросается в глаза. Такие войны, как
наполеоновские, ещё коренились в идеях Великой французс-
кой революции, и Просвещение отразилось в них в особой,
военно-технизированной форме. В указанную эпоху Просвеще-
ние выступало общим идейным достоянием и убеждением мира,
в котором наличествовала позитивная идея, состоявшая в том,
что разум управляет миром. Точно так же в период Тридцати-
летней войны общим убеждением было то, что необходимо
раз и навсегда устранить раскол в западном христианстве; в
свою очередь крестовые походы опирались на убеждение о пре-
восходстве западного христианства, заключающемся в его внут-
ренней правдивости. Напротив, общую идею, на фоне которой
разворачивалась Первая мировая война, питало постепенно уко-
реняющееся убеждение о том, что не существует никакого веч-
ного объективного смысла мира и вещей и что смысл можно
установить посредством силы и власти в том окружении, кото-
рое доступно человеческому воздействию. В этом духовном
настроении разыгрывалась подготовка к войне; с одной сторо-
ны, она направлялась волей к поддержанию существующего
status quo, с другой — волей, нацеленной на его радикальное
изменение. Разумеется, давали о себе знать и дериваты иных,
более старых концептов христианского происхождения: про-
свещенческо-демократическая идея, с одной стороны, и теок-
ратически-иерархическая, с другой. Но если мы посмотрим на
действительное положение вещей того времени, то увидим, что
как раз демократические европейские государства более всего
репрезентировали европейский империализм, и в этом случае
их демократизм являлся составной частью защиты мирового
status quo. Особенно очевидным это становится на примере ко-
алиции с самым слабым звеном тогдашнего империалистичес-
кого status quo, каким была, конечно же, царская Россия. Без
Войны XX века и XX век как война в 151
сомнения, обозначенные дериваты ни в коем случае не явля-
лись тем, за что люди шли на войну, они скорее оказывали
влияние на ход событий и на интенсивность воли, которая в
них проявлялась. Только вступление в войну Америки и вме-
шательство социалистической революции в России обнаружи-
ли — как на стороне Антанты, так и на стороне её противни-
ков, — те направленные против status quo силы, во имя которых
война будет закончена, но которые, одновременно, поскольку
итоги войны не были подведены, заложат основу для новых,
или, скорее, старо-новых конфликтов.
В этом отношении важно отметить следующее: если мы
рассматриваем военные действия и волю, определившую нео-
жиданную продолжительность войны, с позиции, единственно
отвечающей фактам, тогда сторона, сопротивляющаяся status
quo, сторона, которая в действительности и вопреки видимости
должна быть названа революционной, является послебисмар-
ковской Германией. Неужели это образование под предводи-
тельством консервативной Пруссии с военной кастой и косной
бюрократией, предельно ограниченное лютеровской ортодок-
сией, и есть революционный элемент, носитель и агент миро-
вой революции? Не свидетельствуют ли против этого все фак-
ты и, кроме всего прочего, социальная история войны? Если
мы отдадим предпочтение общепринятому пониманию рево-
люции, выдвигаемому главным образом в рамках социально-
экономических доктрин исторического материализма и теории
социализма XIX в., где она понимается с политической сторо-
ны и, в свою очередь, стилизуется под революции XVIII в. (глав-
ным образом французскую, в меньшей степени, американскую),
тогда, конечно же, этот тезис окажется не чем иным, как пара-
доксом, сконструированным насильственным способом. Но из
всех стран мира (кроме Соединённых Штатов) именно Герма-
ния, вопреки своим традиционным структурам, выступает тем
образованием, которое ближе всего подошло к осуществлению
действительности новой научно-технической эпохи. Её консер-
ватизм служит поддержанию дисциплины, которая, решитель-
но, безоглядно пренебрегая возможностью всякого нивелиро-
вания и демократизацией, устремляется к аккумуляции созда-
152 • ЯнПаточка
ющей, организующей и преобразующей энергии. В Рабочем Эр-
нста Юнгера имплицитно содержится предчувствие этого ре-
волюционного момента старой, предвоенной Германии.3 Это,
прежде всего, всё более углубляющийся научно-технический
характер жизни Германии. Это, далее, организационная воля
её хозяйственных вождей, технократических репрезентантов,
чьи планы неизбежно вступали в противоречие с существую-
щей на тот момент организацией мира. Эти планы целиком и
полностью сводились (что совершенно естественно) к некото-
рой исторически обусловленной форме; не показала ли война
1870—1871 гг., что Франция — нынешний центр Европы — уже
не в состоянии выполнять функции государства, объединяю-
щего наследие Западной Римской империи? Что Австрия как
последний остаток старой империи может стать лёгкой добы-
чей этого планирования и что «европейский концерт», рассмот-
ренный в этой перспективе, оказывается совершенно устарев-
шим понятием? Конечно, в результате возникает впечатление,
что империалистическая Германия остаётся традиционалистс-
кой и лишь возобновляет властное притязание на старую им-
перию, «обогатившись» национализмом, укрепившемся в вой-
не 1870—71 гг. Её внутренние противники, социалисты, долж-
ны были снова усмотреть тут козни алчных капиталистических
магнатов, позднее — типичных представителей мирового капи-
талистического империализма с его стремлением стать хозяи-
ном всех богатств планеты и всех производительных сил. В дей-
ствительности же, они сами участвовали в организации нового
общества труда, дисциплины, производства и планомерного
строительства, ведущего к высвобождению всё больших запа-
сов энергии.
Задолго до войны эта Германия превратила Европу в энер-
гетический комплекс. При всей осмотрительности, с которой
остальные европейские страны, и особенно Франция, двигались
в том же направлении, их преобразования были более посте-
пенными и направлялись волей к индивидуальному способу
жизни той тенденцией, которую подметил Фридрих Зибург в
свой работе Gott in Frankreich*. Консервативные структуры пред-
военной Германии широкомасштабно служили этому преобра-
Войны XX века и XX век как война в 153
зованию, функционировали так, чтобы эти перемены происхо-
дили дисциплинированно, без больших потрясений, и чтобы
массы поддавались этому преобразованию, несмотря на скрип
зубов своих политических вождей, хотя, впрочем, и полити-
ческая организация рабочего класса в скором времени была
поставлена партийной бюрократией на те же рельсы и начала
двигаться в том же направлении. Революция, к которой всё
шло, имела глубокую движущую силу в той очевидной сциен-
тизации, факт которой констатировали все предвоенные мыс-
лители Европы и Германии как главную черту своей жизни.
Эта сциентизация одновременно предполагала понимание на-
уки как техники и означала фактический позитивизм, в рамках
которого нейтрализуются или же приспосабливаются к новым
научным веяниям традиции, сохранившиеся в Германии первой
половины XIX в., Германии эпохи исчезновения старой импе-
рии и исторической, философской и теологической традиции.
Вопреки видимости обратного, Ахиллесовой пятой всего это-
го натиска явилась военная машина. Хотя и она двигалась в
направлении менеджерского способа работы и мышления, но
многое ей ещё мешало. На её пути стояло очарование традици-
ей, её концептами, схемами и целями. С одной стороны, неве-
роятная твёрдость, упорство, с другой — господствующая гру-
бость и недостаток фантазии. Война ведётся механистически,
победа обеспечивается благодаря организации, твёрдости и по-
рядку там, где армия сталкивается с недостатком этих качеств
на стороне противника. Леность мышления приводит к отсут-
ствию альтернативных планов, например, плана наступления
на Восток. Конечно же, и «гниение» в окопной войне является
заслугой немецкого генерального штаба. Предпосылки для
ведения мобильной войны на моторизованной технике суще-
ствовали ещё в 1914, и только французы смогли частично вос-
пользоваться ими в битве на Марне'. Всё «умение» исчерпыва-
лось подавляющим превосходством в огневой мощи, которая,
в конце концов, обрушивалась на плечи обороняющихся.
Инстинктивная направленность войны на Запад свидетель-
ствует об одном: война велась против существующего status quo,
центром которого выступал европейский Запад. Победить и
154 « Ян Паточка
«обезвредить» Россию — достижения такой цели было недоста-
точно. Необходимо было вмешаться туда, где находился сам
источник угрозы в виде конкуренции других, похожих органи-
зующих центров. Отсюда, возможно, следует очарование За-
падом и расчёт на бессмысленный план Шлиффена6, на «под-
водную войну», на «великое наступление» 1918 года. Идея оста-
вить противника умирать где-нибудь на Рейне, а в это время
окончательно завладеть Востоком как базой для организации
огромного пространства, пространства без достаточных сил для
противодействия, не обсуждалась или же не нашла должной
поддержки.
Первая мировая война явилась решающим событием в ис-
тории XX в. Она определила весь его характер. Прежде всего,
именно война показала, что преобразование мира в лаборато-
рию, где актуализируются запасы энергии, аккумулированные
на протяжении миллиардов лет, должно осуществляться имен-
но посредством войны. Поэтому война имела значение опреде-
ляющего прорыва в том понимании сущего, исток которого
принадлежит XVII в. и которое связано с возникновением ме-
ханистического естествознания, с отстранением всех «конвен-
ций», стоящих на пути этого высвобождения силы, — путём
переоценки всех ценностей под знаком силы.
Почему энергетическое преобразование мира должно про-
исходить посредством войны? Потому что война как крайняя
форма столкновения является самым интенсивным средством
быстрого высвобождения аккумулированных сил. Конфликт —
это великое средство, которым, выражаясь мифологически, вос-
пользовалась Сила для перехода из потенциального в актуаль-
ное состояние. Человек, как и отдельные сообщества, в этом
процессе не более чем реле. Не в этом ли заключается то впе-
чатление от космичности военных действий, которое так удач-
но отметил Тейяр-де-Шарден? «Фронт — это не только огневое
поле, где обнаруживаются и нейтрализуют друг друга проти-
воположные энергии, сосредоточенные в неприятельских мас-
сах. Это также и место частной Жизни, в которой участвуют
только те, кто на неё осмелился, и только так долго, пока они
там остаются»7. «Мне кажется, что молено было бы сказать,
Войны XX века и XX век как война ° 155
что фронт — это не только линия огня; это не только поверхно-
стная коррозия людских масс, которые нападают друг на дру-
га; но, в определённом смысле, это "гребень волны", которая
уносит человеческий мир к новым предназначениям. Мне ка-
жется, что здесь человек стоит на границе между тем, что уже
произошло, и тем, что ещё предстоит».8 Материалистический
и витальный мистицизм Тейяра несёт на себе отпечаток фрон-
товых переживаний.
Итак, силы дня — это то, что на протяжении четырёх лет
посылает миллионы людей в геенну огненную, а фронт — это
то место, которое на протяжении тех же четырёх лет гипноти-
зирует любую активность индустриальной эпохи, названную
фронтовиком Эрнстом Юнгером эпохой рабочего и тоталь-
ной мобилизации.9 Сами эти силы не умирают, а только исчер-
пываются, и им всё равно, уничтожать или организовывать.
В сущности, они скорее «стремятся» организовывать и быть при
том деле, которому война только мешает. «Военные цели» —
это неправильное выражение; речь должна идти о мирных це-
лях, разумеется, в смысле pax teutonica или pax americana и т. д.
Но человечество вынужденно проживает четыре года на фрон-
те, и тот, кто прошёл фронт, говорит Тейяр-де-Шарден, стано-
вится другим человеком. В каком смысле другим?
Существуют разные описания фронтового опыта, составлен-
ные с учётом разных точек зрения. Обратимся к описаниям
Юнгера и Тейяра-де-Шардена.
Оба сполна испытали потрясения фронта, ставшие не про-
сто мгновенной травмой, а основополагающим изменением в
человеческом существовании: война как фронт отмечает чело-
века навсегда. Следующая общая черта — ужас. И в окопах
каждый надеется на то, что он вскоре будет заменён (даже по
не слишком щепетильным меркам генерального штаба там
невозможно выдержать более девяти дней), однако на самом
дне этих переживаний лежит нечто глубоко и загадочно пози-
тивное. Речь здесь идёт не о притягательности гибели и не о
романтике приключений, как и не о перверсии естественных
ощущений. То, что овладевает человеком на фронте, — это
подавляющее все остальные чувства ощущение смысловой пол-
156 • Ян Наточка
ноты, которую, однако, трудно выразить с помощью слов. Это
ощущение, сохраняющееся затем долгие годы. У Юнгера —
это надежды на возвращение мирной жизни, партикулярной,
национал-шовинистической ментальности. Загадка фронтово-
го переживания таким образом не разрешается, но и не вытес-
няется.
Разумеется, это ощущение имеет разные фазы и разные
степени глубины, что играет важную роль в истории более по-
зднего времени. Первая фаза, которую мало кому удаётся пе-
решагнуть, — переживание бессмысленности и невыносимого
ужаса. Фронт — это абсурдность par excellence. To, что предчув-
ствовалось, становится здесь действительностью: самое драго-
ценное, что есть у человека, безоглядно разрывается на куски.
Осмысленным является лишь демонстрация того, что мир,
порождающий нечто подобное, должен исчезнуть. Это ad oculos
доказательство того, что мир уже в полной мере созрел для
гибели. Тот, кто способен пообещать со всей серьёзностью, что
сделает в будущем нечто подобное невозможным, должен нас
полностью и во всём подчинить себе, и тем радикальнее, чем
дальше его обещание отстоит от социальных реалий сегодняш-
него дня, которые и привели нас к чему-то подобному. Такая
форма фронтового переживания и её последствия, форма ак-
тивного неприятия, талантливо изображённая Барбюссом10,
лежит в основе такого грандиозного феномена, как борьба за
мир. Этот феномен обнаруживает свою первую, исторически
значимую, хотя и исторически недооцененную, ипостась в дей-
ствиях, предпринятых для заключения Брест-Литовского мира,
и переживает расцвет в годы Второй мировой войны и после
неё. Решимость покончить со всей действительностью, допус-
кающей подобные вещи, указывает на то, что и здесь имеется
нечто «эсхатологическое», нечто наподобие конца всех ценно-
стей дня. Но едва ли понятно здесь то, что это «иное» опять
захвачено и секвестрировано взаимосвязями дня. Едва чело-
век оказывается «лицом к лицу» с потрясением мира, он не
только захватывается силами мира, но и мобилизуется для но-
вой борьбы. Бессмысленность прежней жизни и прежней вой-
ны учреждает смысл новой войны, войны против войны. Тот,
Войны XX века и XX век как война • 157
кто отверг фронт, на который он вынужденно был призван, на
годы осуждает себя к не менее тяжёлому и жестокому фрон-
ту. Эта война против войны, кажется, использует новый опыт,
кажется, начинается эсхатологически; в действительности же
эсхатология поворачивает назад, в плоскость «мирского», в
плоскость дня, и использует в интересах дня то, что принадле-
жало ночи и вечности. Таково коварство дня, который стре-
мится выглядеть как всё и вся и может нивелировать и исто-
щить даже то, что лежит за его пределами.
Так в 1917, в результате использования радикальными ре-
волюционерами почвы первой русской революции, собствен-
но, первой русской катастрофы, началась новая война, кото-
рая шла вразрез с разворачивающейся прежде борьбой за со-
хранение status quo. Началась новая борьба, призванная
разрушить status quo в обеих странах в соответствии с совер-
шенно иным концептом мира, чем тот, который замышлялся
немцами, даже если первоначально это была немецкая атака
на status quo, обусловившая, сделавшая возможной и в ради-
кальной форме поддержавшая эту новую борьбу. С этой мину-
ты расчёт в войне делается на ослабление или даже уничтоже-
ние обоих противников, прикованных друг к другу во взаим-
ной борьбе не на жизнь, а на смерть. Исчерпание сил одного и
победа другого — это всего лишь тактические моменты некой
другой борьбы; победа же является видимостью, благодаря
которой приготовляется будущее поражение, а поражение об-
разует закваску для новых битв. Победоносный мир — это ил-
люзия, морально разлагающая победителя, а то, что война про-
должается, следует из того, что в стране победившей револю-
ции во всю отрицаются любые соглашения, практикуется всё
та же беспощадность по отношению к жизни, «запускается»
тот же яд подозрений, клеветы и демагогии, который широко
использовался тогда, когда фронт господствовал над всем и
когда использовались не только военные средства огневой
мощи, но и слабости противника, и иные возможности привес-
ти его к внутренней катастрофе, чтобы (хотя бы временно и
призрачно) добиться своего. То, что триумфально побеждает
в этой бескомпромиссной борьбе, — та же Сила, использую-
158 ° Ян Наточка
щая мир как средство войны. В этом случае мир становится
составной частью войны, таким её коварным этапом, когда про-
тивника поражают без выстрела, поскольку его способность к
мобилизации парализуется, тогда как другой, действительный
или потенциальный соперник, держится начеку и пытается вы-
стоять внутри гигантского, болезненного и достигаемого ценой
жизней, свобод и надрыва движения. Сила, однако, одержива-
ет триумфальную победу ещё и потому, что создаёт новую,
возведённую в степень форму взаимного напряжения, напря-
жения в двух плоскостях одновременно, принимает вид моби-
лизационной силы, которая до этого момента приглушалась
слабой организованностью одного из противников; она стано-
вится теперь организационным центром par excellence, таким,
где нет «тормозов», создаваемых в остальном мире уважением
к традиции или прежним понятиям бытия. Теперь такие «тор-
моза» рассматриваются как не заслуживающие внимания пред-
рассудки и материал для манипулирования другими.
Неуклюжие попытки европейского Запада повернуть войну
на Восток приводят лишь к её новому разгоранию на Западе.
Война не завершилась и даже не затихла, она лишь временно
превратилась в дымящийся горн, поскольку не до конца по-
беждённая и уничтоженная Германия оказалась способной к
повторению драмы 1914 года. А это значит — способной ни к
чему иному, как к повтору, сопровождаемому ещё более бес-
смысленной военной машинерией, ещё большими недостатка-
ми военного плана, более изощрёнными актами насилия и ещё
более ужасающими актами мести и ressentimentn. Тем самым
Германия позволила противнику, побеждённому в Первой ми-
ровой войне, взять реванш поистине планетарных размеров:
поскольку этот противник между делом переключился с мира
на войну и оказался в состоянии выстоять там, где первона-
чально проявлял слабость. Запад, который стремился обратить
силу Германии в направлении этого противника, был вынуж-
ден способствовать победе этого противника ценой собствен-
ной разрухи и крови, не принимая во внимания то, что одно-
временно он находится в продолжающейся войне с ним. Так
завершилось то, что было начато Германией: изменение миро-
Войны XX века и XX век как воина ° 159
вого status quo, — но не в пользу Германии, а в пользу более
слабого противника. Одновременно вслед за этой новой кон-
стелляцией, за этим жалким маневрированием должен был на-
ступить окончательный упадок Европы. Европа — мы имеем в
виду Западную Европу, наследовавшую Западно-римской им-
перии, — получила в начале эры Энергии признаки планетар-
ного сверхгосподства, Европа была всем. Эта Европа после Пер-
вой мировой войны уступила гегемонию Соединённым Шта-
там, своему преемнику, выросшему из реализации того, к чему
она напряжённо стремилась и чего так и не достигла, — свобо-
ды. И теперь она покинула лидирующую позицию в мире, ут-
ратила свои империи, престиж, уверенность в себе и своё само-
понимание. Более слабый партнёр Европы в Первой мировой
войне (Россия) оказался дееспособным наследником, посколь-
ку благодаря дисциплине, необходимой для длительной моби-
лизации, для участия в тлеющей и разгорающейся войне, он
снова преобразовался в то, чем традиционно был и остаётся, —
в наследника Восточного Рима, господствующего одновремен-
но и над телом и над душой человека.
Каким же образом день, жизнь, мир властвуют над каж-
дым индивидом, над его телом и душой? При помощи смерти
и угрозы для жизни. С точки зрения дня жизнь для индивида
является всем, наивысшей ценностью. Для сил дня не существует
смерти, они действуют так, как будто бы её и нет; иначе гово-
ря, они планируют смерть отстранённо и статистически, как
если бы она означала всего лишь изменение функций. В воле к
войне, следовательно, господствуют день и жизнь, использую-
щие смерть. Воля к войне рассчитывает на будущие поколе-
ния, которых здесь пока ещё нет, и свои планы она составляет
с учётом их точек зрения. Таким образом, в воле к войне гос-
подствует мир. От войны невозможно избавиться тому, кто не
отказался от господства мира, дня, жизни в той форме, какая
исключает смерть и закрывает на неё глаза.
Однако великий, глубокий опыт фронта с его линией огня
всё же основывается на том, что этот опыт взывает к ночи с её
неотложностью и неизбежностью. Мир и день должны господ-
ствовать, посылая одних людей на смерть для того, чтобы они
160 • Ян Наточка
обеспечили другим, будущий день с его обещанием прогресса,
свободного и поступательного развития, открывающихся воз-
можностей. От тех, кого приносят в жертву, напротив, требуется
выдержка перед лицом смерти. Это означает, что они смутно
понимают, что жизнь — это не всё, от неё самой можно отказать-
ся. Именно этот отказ, эта жертва и требуются. Жертва требу-
ется как нечто относительное, как нечто, что находится в свя-
зи с миром и днём. Опыт же фронта — это абсолютный опыт.
Как показывает Тейяр, на бойцов этого фронта неожиданно
нисходит абсолютная свобода, свобода от всех интересов мира,
жизни, дня. Это означает: жертва этих обречённых теряет от-
носительное значение, перестаёт служить путём к программам
восстановления, прогресса и расширения жизненных возмож-
ностей и получает значение исключительно в себе самой.
Абсолютная свобода подразумевает понимание того, что
здесь уже достигнуто нечто такое, что является не средством
для достижения чего-то другого, не «ступенью к...», а тем, пос-
ле чего и над чем ничего последующего уже не может быть.
Апогей находится именно здесь, в этой самоотдаче, к которой
люди были призваны, будучи оторваны от своих занятий, та-
лантов, возможностей, своей будущности. Оказаться способ-
ным к свободе, быть к ней избранным и призванным в мир,
который посредством конфликта мобилизует силу, благодаря
чему кажется опредмеченным и опредмечивающим источни-
ком кипящей энергии, означает одновременно преодолеть силу.
Мотивы дня, пробудившие к жизни волю к войне, сжигают
себя в пекле фронта, если его опыт достаточно глубок, чтобы
снова не подчиниться силам дня. Мир, ставший волей к войне,
способен опредмечивать и выворачивать наизнанку человека
так долго, пока над ним господствует день, надежда, связан-
ная с повседневными заботами, профессией и карьерой, про-
сто с возможностями, о которых он должен беспокоиться и
над которыми нависла угроза. Но теперь мы приходим к по-
трясению этого мира и его планов, программ, его индиффе-
рентных по отношению к смертности [человека] идей прогрес-
са. Любая повседневность, любые образы будущей жизни блек-
нут в сравнении с этим простым апогеем, которого здесь
Ъойны XX века и XX век как война • 161
достигает человек. В сравнении с ним любые идеи социализма,
прогресса, демократической свободы от принуждения, идеи не-
зависимости и свободы как таковой оказываются мало содер-
жательными, недостаточно плодотворными и неконкретными.
Полный смысл они получают отнюдь не из самих себя, а толь-
ко там и тогда, где и когда выводятся из [идеи] вышеназванно-
го апогея и снова возвращаются к ней. Там, где они способ-
ствуют тому, чтобы человек действительно осуществил пере-
мену всей своей жизни, всего своего существования. Где они
означают отнюдь не наполнение [смыслом] повседневности, а
принимают космический и универсальный вид, к которому че-
ловек приходит через абсолютное принесение в жертву себя и
своих дней.
Так ночь внезапно становится абсолютным препятствием на
пути к дурной бесконечности завтрашнего дня. Посредством
того, что она овладевает нами как предельная возможность,
мнижо надындивидуальные возможности дня оказываются от-
брошенными, и эта жертва провозглашает себя в качестве ис-
тинной надындивидуальное™.
Другое следствие: враг больше не является абсолютным
противником на пути воли к миру, он перестаёт быть тем, что
находится здесь только для того, чтобы быть устранённым.
Враг становится соучастником той же самой ситуации, соотк-
рывателем абсолютной свободы, тем, с кем возможно согла-
сие в разногласии, — он соучастник потрясения дня, мира и
жизни, лишённой оговорённого апогея. И тогда здесь обнару-
живается бездонность «молитвы за врага», феномен «любви к
тем, кто нас ненавидит», и даёт о себе знать солидарность по-
трясённых вопреки противостоянию и спорам.
Самым глубоким открытием фронта является, таким обра-
зом, наличие жизни в ночи, в борьбе и смерти, неустранимость
такого положения в жизни, которое с позиции дня кажется
просто несуществующим, преобразование жизненного смысла,
наталкивающегося здесь на ничто, на непреодолимую грани-
цу, где всё меняется. Так, например, согласно описаниям изве-
стного современного психолога12, с точки зрения переживаний
фронтового артиллериста топографический характер ланд-
162 • Ян Наточка
шафта меняется настолько, что неожиданно становится конеч-
ным,, и руины оказываются уже совсем не такими, какими они
были раньше, то есть деревнями и т. п.; в данный момент они
выступают прикрытиями и ориентирами. Таким образом, пре-
образуется и «ландшафт» основополагающих жизненных зна-
чений — он приходит к концу, за пределами которого не может
располагаться что-то ещё, более обнадеживающее или более
высокое.
Почему же величайший опыт, единственно способный вы-
вести человечество из состояния войны и привести к дей-
ствительному миру, в истории XX в. так и не стал значимым
вопреки тому, что люди прошли через этот опыт дважды в
течение четырёх лет, что он действительно их затронул и кар-
динально изменил? Почему не раскрылся его спасительный
потенциал? Почему он не сыграл и почему не продолжает иг-
рать в нашей жизни ту ни с чем не сравнимую роль, которую
имела и имеет борьба за мир в великой войне, каковой являет-
ся XX столетие?
Ответить на эти вопросы нелегко. Не помогает и тот факт,
что человечество настолько пропитано и околдовано опытом
войны, что только из этого опыта становится возможным по-
нять своеобразие истории нашей эпохи. Вторая мировая война
устранила различие между фронтом и тылом. Война в воздухе
в равной мере способна достигнуть любого. А ситуация с нали-
чием атомной угрозы привела к тому, что последний спрово-
цированный военный конфликт, если за ним будет стоять силь-
ная и интеллектуальная имперская воля, станет в буквальном
смысле слова последним. В течение некоторого времени гово-
рили о «комплексе Хиросимы» как крайнем обобщении воен-
ного опыта, опыта фронта, конца света, наступающего с сенса-
ционной интенсивностью. Здесь даже самые трезвые свидете-
ли этого события не смогли удержаться от эсхатологического
восприятия. А историческое воздействие? До ощутимого воз-
действия, которое стоило бы истолковать как принципиальный
поворот и преобразование, ни с чем иным (по словам Тейяра)
не сравнимое, дело пока не дошло. Сила продолжает пленять
нас, вести нас своими путями, завораживать и обольщать, как
Войны XX века и XX век как война в 163
и превращать нас в юродивых. Там, где, как думается, мы ов-
ладели ею и надеемся с её помощью обезопасить себя, на са-
мом деле мы находимся в состоянии демобилизации и неспо-
собности выиграть войну, которая коварным образом измени-
ла форму, но не прекратилась. Жизнь, конечно же, была бы
рада возродиться, но именно она, именно сама жизнь и порож-
дает войну и не может выпутаться из неё своими собственны-
ми средствами. Где же завершение таких перспектив? Война
как средство Силы, служащее её высвобождению, не может
закончиться сама собой. Напрасно искать укрытие в своём мир-
ке, поскольку больше не существует закрытых мирков; Сила и
технонаука открывают воздействиям весь мир, так что в нём
каждое действие повсюду находит отклик. Перспектива мира,
жизни и дня не имеет конца, это позиция бесконечного конф-
ликта, который рождается всегда в новых формах, оставаясь
при этом тем же самым,
Гигантское предприятие экономического обновления, небы-
валые социальные завоевания, которые нам даже не снились и
которые получили размах в Европе, отпавшей от мировой ис-
тории, показывают, что эта часть света решилась на демобили-
зацию, потому что ей не оставалось ничего иного. Одновре-
менно углубляется пропасть между beatipossidentes13 и теми, кто
на нашей богатой ресурсами планете умирает с голоду, — сле-
довательно, углубляется состояние войны. Бессилие, неспособ-
ность победить в войне, набросок которой сделан с позиции
мира, совершенно очевидны у бывших мировых господ. Пере-
нести центр тяжести в сферу экономической власти — это крат-
ковременный, одномоментный и обманчивый шаг, связанный
с демобилизацией там, где мобилизуются армии трудящихся,
исследователей и инженеров: все они, в конце концов, послуш-
ны ударам бича. Это стало особенно ясно в ходе энергетичес-
кого кризиса недавнего времени.
В новых условиях атомного вооружения и постоянной угро-
зы полного уничтожения война может в любой момент пре-
вратиться из горячей в холодную или тлеющую. Эта тлеющая
война никак не менее сурова, а зачастую даже более сурова,
чем горячая, это война, в которой фронты проходят через це-
164 • Ян Наточка
лые континенты. Ранее уже говорилось, как война включает в
себя «мир» в виде демобилизации. С другой стороны, постоян-
ная мобилизация — это только fatum — тяжело переносимый
для мира, которому невыносимо смотреть в лицо и из которо-
го сложно выводить следствия, несмотря на то что они вполне
ясны. Тот, кто ещё желает, кто сохраняет свою волю несокру-
шимой и не подвергает её коррозии, лишается истины и пуб-
личности, непосредственно принуждается к состоянию войны,
к состоянию внешней и внутренней диктатуры, тайной дипло-
матии, насквозь лживой и циничной пропаганды. Наши оппо-
ненты могут указать на то, что крайние средства мобилизации,
которые проявились в форме процессов систематического тер-
рора или постепенного уничтожения целых социальных групп
и слоев посредством принудительного труда и концентрацион-
ных лагерей, уже отошли в прошлое. Вопрос, однако, состоит
в том, означает ли это действительную демобилизацию, или
же, напротив, войну, которая продолжает вестись «мирными»
средствами. Война показывает здесь своё «мирное» лицо, лицо
циничной деморализации, призывая к воле жить и иметь. Че-
ловечество становится главной жертвой некогда развязанной
войны, то есть войны мира и дня. Мир, день рассматривают
смерть как средство крайней человеческой несвободы, как путы,
на которые люди закрывают глаза, но которые присутствуют
здесь в форме vis a tergol\ в виде террора, толкающего людей в
огонь, — поскольку человек именно благодаря смерти и страху
привязан к жизни и чаще всего подвержен манипулированию.
Именно поэтому, однако, существует определённая перспек-
тива того, как, исходя из порождённой миром войны, обнару-
жить поле действительного мира. Первая предпосылка — это
фронтовой опыт Тейяра-де-Шардена, суть которого в не менее
острой, хотя и менее мистической форме сформулировал, на-
пример, Юнгер: как позитивное значение фронта, когда фронт
понимается отнюдь не как порабощение жизни, а как неслы-
ханное освобождение именно от её рабства. Современная фор-
ма войны — это тот половинчатый мир, когда оба противника
мобилизуются, рассчитывая при этом на демобилизацию друг
друга. Эта война также имеет свой фронт и свои средства, с
Ъойны XX века и XX век как война • 165
помощью которых она сжигает и уничтожает, а также лишает
людей перспектив и обращается с ними как с материалом, пред-
назначенным для высвобождающейся Силы. Этот фронт про-
тивостоит «деморализующим», терроризующим и обольщаю-
щим мотивам дня. Он служит разоблачению их характера,
выступает протестом, за который платят кровью. Эта кровь не
течёт, но гниёт в тюрьмах, в изгнании, в уничтоженных жиз-
ненных планах и возможностях — и она опять потечёт, как
только Сила посчитает это выгодным. Необходимо понять, что
именно здесь находится место, где разыгрывается собственная
драма свободы; свобода не наступит «когда-нибудь потом», ког-
да будет окончена борьба, но именно в этой борьбе её место —
punctum saliens15, высшая точка, с которой можно обозревать
поле боя. Необходимо понять, что те, кто подвергнут воздей-
ствию Силы, свободнее, чем те, кто сидит в тылу и с беспокой-
ством выжидает, когда до него дойдёт очередь.
Каким образом «фронтовой опыт» может приобрести ту
форму, которая сделала бы его историческим фактором? По-
чему он им не становится? Потому что в той форме, в которой
его так ярко изобразили Тейяр-де-Шарден и Юнгер, — это опыт
каждого отдельного человека в наивысшей точке [его жизни],
в отношении которой не остаётся ничего иного, как сойти вниз,
в повседневность, где человека снова с неизбежностью одоле-
вает война в форме планирования Силой мира. Средством, с
помощью которого можно преодолеть это состояние, служит
солидарность потрясённых. Солидарность тех, кто сумел понять,
о чём идёт речь в [ситуации] жизни и смерти и, в результате, в
истории. Потому что история — это и есть конфликт между
элементарной нагой жизнью, скованной страхом, и жизнью в
апогее, которая не планирует каждый свой будущий день, но
ясно видит, что каждый день, его жизнь и «мир» конечны. Толь-
ко тот, кто существует, чтобы понять это, кто способен к пово-
роту, к metanoiau\ и является духовным человеком. Духовный
человек — это тот, кто всегда способен понимать, а его пони-
мание — это не констатирование фактов и не «объективное
знание», хотя он должен иметь в своём распоряжении и объек-
тивное знание, относя его к сфере тех дел и предметов, ко-
166 • ЯнШточка
торыми он занимается и над которыми имеет преимущество
знающего.
Солидарность потрясённых, то есть людей, переживших по-
трясение в своей вере в «день», «жизнь» и «мир», приобретает
особое значение именно в эпоху высвобождения Силы. Высво-
божденная Сила — это то, без чего не могут существовать «день»
и «мир», а также человеческая жизнь, произведённая в мире
экспоненциального роста» Солидарность потрясённых — это
солидарность тех, кто понимает. Однако понимание в совре-
менных условиях должно касаться не только этой основопола-
гающей плоскости, плоскости рабства и свободы по отноше-
нию к жизни, оно также должно быть пониманием значения
науки и техники, той Силы, которую мы высвобождаем. В ру-
ках тех, кто обладает такого рода пониманием, потенциально
находятся все силы. Только опираясь на эти силы современ-
ный человек и может выжить. Солидарность потрясённых в
состоянии сказать «нет» всем тем мобилизационным меропри-
ятиям, которые делают состояние войны непрерывным. Она
не будет выдвигать позитивную программу, но будет действо-
вать, как daimonion Сократа, через предостережения и запре-
ты. Она может и должна создать духовный авторитет и стать
духовной властью, которая приведёт воюющий мир к его дей-
ствительным ограничениям и тем самым сделает невозможны-
ми определённые действия и операции.
Солидарность потрясённых существует в атмосфере пре-
следования и опасности: это её фронт, тихий и избегающий
рекламы и сенсаций, находящийся даже там, где аппарат наси-
лия господствующей Силы стремится подчинить себе солидар-
ность. Она не боится непопулярности, и даже требует её, и взы-
вает тихо, без слов. Человечество не вступит на почву мира,
отдав себя на откуп заботам повседневности и поддавшись её
обещаниям. Тот, кто предаёт эту солидарность, должен осоз-
нать, что он потворствует войне и является её паразитом в тылу,
питающимся кровью других. Особенно активно осознание это-
го поддерживают жертвы фронта потрясённых. Смысл, кото-
рый возвышается над апогеем человеческой жизни и над со-
противлением Силе и которого необходимо достигнуть, пре-
Войны XX века и XX век как война • 167
одолев Силу, заключается в способствовании тому, чтобы каж-
дый, кто способен к пониманию, почувствовал внутреннее не-
удобство своей конформистской позиции. Тем самым достига-
ется то, что техническая компонента духа, «техническая ин-
теллигенция» в лице прежде всего исследователей и практиков,
первооткрывателей и инженеров, начинает чувствовать дуно-
вение этой солидарности и действовать в согласии с ней. Необ-
ходимо потрясти повседневность тех, кто привержен фактам
и находится во власти рутины. Необходимо показать, что их
место по сю сторону фронта, а отнюдь не на стороне бравурных
самодовольных лозунгов «дня», в действительности призываю-
щих к войне, будь то во имя народа, государства, бесклассово-
го общества, мирового единства, которые, как и любые другие
произнесённые или будущие призывы, уже дискредитированы
и легко могут быть дискредитированы в будущем благодаря
фактической решительности и беспощадности Силы.
В самом начале истории Гераклит Эфесский сформулиро-
вал идею войны как божественного закона, лежащего в осно-
вании всего человеческого. Он не имел в виду «войну» в значе-
нии экспансии «жизни», но понимал её как доминирование
Ночи, как волю к свободе риска в aristeia{\ в том удержании на
границе человеческих возможностей, которое выбирают самые
лучшие люди, отдающие предпочтение не бренным вещам и
эфемерному продолжению удобной жизни, а вечной славе в
памяти смертных.18 Эта война (полемос) является матерью всех
законов полиса, как и всего сущего в целом: одних она объяв-
ляет рабами, других — свободными.19 Но и свободная челове-
ческая жизнь имеет ещё одну вершину над собой. Война спо-
собна обнаружить, что некоторые среди свободных способны
стать богами, достигнуть области божественного, то есть того,
что образует последнее единство и последнюю тайну бытия.
Это те, кто понимает, что polemos — это не нечто односторон-
нее, что polemos не разделяет, а связывает20, так что противни-
ки только кажутся изолированными, в действительности же
они связаны друг с другом в совместно переживаемом потря-
сении повседневности. Они понимают, что таким образом дос-
тигли того, что длится во всём и всегда, поскольку образует
168 • Ян Наточка
источник всего сущего и, следовательно, образует божествен-
ное. То же самое ощущение и ту же возможность видения опи-
сывает Тейяр, когда на фронте переживает сверхчеловеческое
божественное. Юнгер же однажды заметил, что идущие в ата-
ку друг на друга становятся двумя частями одной единствен-
ной силы, сливаются в единое тело,, и добавил: «В одно тело —-
это сравнение определённого вида. Тот, кто понимает это, тот
принимает и себя, и врага, тот живёт одновременно и в частях,
и в целом. Тот может помыслить божество, у которого между
пальцев скользят эти пёстрые нити, — божество с улыбкой на
устах».21
Случайность ли это, что два самых глубоких теоретика
фронтовых переживаний, во всех остальных вопросах принци-
пиально отличающихся друг от друга, приходят к сравнениям,
которые становятся новой версией Гераклитова видения бы-
тия как polemos? Или тут открывается нечто, принадлежащее
неопровержимому смыслу истории западного человечества,
который сегодня становится смыслом человеческой истории
вообще?
Примечания
1 Паточка имеет здесь в виду захват власти в Чехии коммунистами в
1948 году. - Прим. ред.
2 Diels Н., Kranz W. Die Fragmente der Vorsokratiker. Berlin, 1951: Heraklit,
В I.
3Junger E. Der Arbeiter. Herrschaft und Gestalt (1932). In: Samtliche Werke,
2. Abt: Essays II, Bd. 8: Der Arbeiter. Stuttgart, 1981.
1 См.: Sieburg F. Gott in Frankreich? Frankfurt a. M. 1929; erweiterter
Neudruck, 1954.
л Крупное сражение, состоявшееся между немецкими и англо-фран-
цузскими войсками 5—12 сентября 1914 на реке Марна, закончилось по-
ражением немецкой армии и сорвало её стратегический наступательный
план, ориентированный на быструю победу на западном фронте и взя-
тие Парижа. — Прим,, ред.
ь План военных действий германского Генерального штаба 1905, пре-
дусматривающий разгром Франции до окончания мобилизации русской
армии, В основе идея «блицкрига» — молниеносной войны, для чего
французский фронт предполагалось обойти с севера по территории ней-
Войны XX века и XX век как война ° 169
тральной Бельгии. Шлиффен, Шлифен (Schlieffen) Альфред фон
(28.2.1833, Берлин, — 4.1.1913, там лее) — германский воен. деятель, гене-
рал-фельдмаршал (1911). Один из идеологов германского милитаризма.
В 1891—1906 — начальник Большого Генштаба. — IJpiu.i. ред.
7 Teillhard de Chardin P. Ecrits du temps de la guerre. Paris, 196,5. S. 210.
8 Ibid. S. 201.
9 См.: junger E. Die totale Mobilmachung (1930). In: Samtliche Werke, 2.
Abt: Essays /, Bd. 7: Betrachtungen zur Zeit. Stuttgart, 1980.
IU См.: Barbusse H. Le Feu. Journal d'une escouade. Paris, 1916; sowie Ders.,
Charte. Paris, 1919.
11 «Мстительность» (фр.)- Специальное понятие философии Ф. Ниц-
ше, выражающее характер человека эпохи нигилизма. — Прим.. ред.
12 Lewin К. Kriegslandschaft. In: Zeitschrift fiir angewandte Psychologies XII
(1917). S. 440-447.
13 «Счастливо обладающие» (лат.). — Прим. ред.
14 «Сила, действующая сзади» (лат.). — Прим. ред.
15 «Важный пункт, важное обстоятельство» (лат). — Прим. ред.
16 Метанойя (греч., букв, «после ума») — термин, обозначающий со-
жаление о чём-то свершившемся, раскаяние (особенно в психологии и
психотерапии); в религиозной (особенно раннехристианской) традиции
зачастую несёт смысловое значение покаяния. — Прим. ред.
17 «Доблесть» (греч.). — Прим. ред.
18 Diels H., Kranz W. Op cit: Heraklit, В 29.
19 Ibid., В 53.
20 Ibid., В 80. ?
21 Junger E. Der Kampfals inneres Erlebnis, Samtliche Werke. 2. Abt.: Essays /,
Bd. 7: Betrachtungen zur Zeit. Stuttgart, 1980.
7
Авторские глоссы
к Еретическим эссе
Ххе продиктованы ли наши размышления о «доисторичес-
кой эпохе» интеллектуализмом, основанным на неоправдан-
ном увлечении спекулятивным мышлением в философии
и отличным от приближенного к жизни способа мышле-
ния науки, техники, юриспруденции и других организую-
щих жизнь контекстов? Почему именно философии, её воз-
никновению, к тому же в столь специфической форме, как
греческая философия архаического периода (который в
целом характеризовался и иными значимыми формами и
свершениями духа), мы придаём столь эпохальное значе-
ние в «создании» истории и возникновении целых истори-
ческих эпох? Неужели высшие достижения поэзии, изоб-
разительного искусства, религиозных движений и трансфор-
маций не являются историей? Не свидетельствует ли
история искусства задолго до рассвета философии о раз-
витии искусства, и разве не существовало истории религии
с её богатыми формами религиозного опыта задолго до
возникновения греческого polis(a) и ионийской historial
Далее, не будет ли не только несправедливым, но и не-
последовательным придавать особое значение политике
ввиду её связи с философией и провозглашать философию
и политику, так сказать, одним махом основоположница-
ми истории в собственном смысле? Ведь с точки зрения
Авторские глоссы к «Еретическим эссе» • 171
общественного, коллективного, влияния можно было бы с боль-
шим правом наделить этим значением религию, которая, как в
случае Израиля, имела решающее слово при формировании
таких носителей истории, какими являются нации? Не будет
ли верхом несправедливости и недальновидности придавать ре-
шающее значение религиозному опыту в ту эпоху человече-
ства, которая обладает только «малым» человеческим смыс-
лом, хотя и абсолютным, но при этом само собой разумею-
щимся и несокрушимым в своей наивности, данным и
найденным без поиска смыслом? Не существует ли множества
доказательств того, что именно в сфере религии обращение^
конверсия, нечто наподобие смерти и перерождения, а следо-
вательно, нахождение принципиально нового смысла и распо-
лагается в центре всякого опыта? Следовательно, либо исто-
рия действительно является в своей сердцевине историей мира
в смысле собрания существовавших в прошлом наших челове-
ческих возможностей, и тогда она будет, прежде всего, истори-
ей религии; либо необходимо вообще отказаться от этого по-
нятия и возвратиться к общепринятой точке зрения, которая
не просто оставляет нерешённым вопрос о начале истории, но
даже не придаёт ему того принципиального значения, которое
мы пытались здесь выявить. Поскольку эта точка зрения опи-
рается на историческую науку, следовательно, рассматривает
начало истории субъективно-методологически — как начало тра-
диции, отслеживаемой на основе письменности.
Возможно, целесообразно начать отвечать на эти неизбеж-
но возникающие вопросы с указания на то, что мы размышля-
ем здесь не об неисторическом, а о ^историческом человече-
стве. Доисторическое человечество — это переход; с одной сто-
роны, с неисторической жизнью его объединяет убожество
жизни ради самой жизни, с другой — оно питается приближе-
нием границы нового, более глубокого, но также и более тре-
бовательного и трагичного способа жизни. Но действительно
ли с появлением пророков, посвятивших жизнь религиозному
перерождению, аскезе и протесту против тирании и насилия,
грань «жизни ради самой жизни» преодолевается? Имеются
пророки, выработавшие путём религиозного созерцания твёр-
172 • Ян Наточка
дые жизненные нормы отнюдь не для индивидов как исключе-
ний, а для целых обширных сообществ, следовательно, для воз-
рождения общественной жизни, которое мы, обычно не колеб-
лясь, идентифицируем с историей. Доисторичность в таких про-
явлениях служит в качестве прообраза, «метафорического»
указания на такую жизненную форму, основа которой не нахо-
дится во «всего лишь жизни»; это жизнь из свободы — однако
это несвободная жизнь, поскольку свобода как действитель-
ная тема в ней пока отсутствует. О том, что можно пожертво-
вать жизнью ради жизненных целей, к которым, возможно,
именно genus, «род» принадлежит в более изначальном смыс-
ле, чем индивид, свидетельствуют примеры из животной жиз-
ни, возможно даже слишком многочисленные. Религия, прав-
да, не является чем-то биологическим, вегетативным или жи-
вотным, она располагает абсолютным смыслом, разумеется,
эксцентричным по отношению к человеку. Но для человека
отсюда вытекает смысл, который практически имеет своим со-
держанием жизнь ради самой жизни, или, говоря вслед за Кан-
том, гетерономию. Это значит, что человек пользуется защи-
той сил или власти, которые решают о его судьбе, он находит-
ся в их сфере и тем самым вознесён к содержаниям,
превосходящим его возможности (если мы рассматриваем его
в данных границах). Разумеется, при этом он подчинён ещё
более суровым нормам и более жёстким условиям отнюдь не в
относительном смысле и эпизодически, а исходя из всей своей
жизни. Если эта дорога уже проложена, с нее невозможно свер-
нуть; она подразумевает полное, тотальное изменение, затра-
гивающее всю жизнь целиком. И всё-таки граница жизни ради
самой жизни ещё не преодолена, мотивация для этого превра-
щения заложена в жизни до превращения, в её страдании (как
в случае Гаутамы), в опасностях, особенно социальных, таких
как угрозы со стороны соседей или угроза проявления насилия
с их стороны (как в древнем Израиле). Но и то, что подвергает-
ся угрозе, и то, что угрожает, является самоочевидным и за-
данным; нет необходимости усматривать его в более глубоком
опыте. Самое большее, о чём можно здесь говорить, — это пред-
чувствие нового значения угрозы — но, в принципе, в этом слу-
Авторские глоссы к «Еретическим эссе» • 173
чае всё продолжает основываться на «естественном мире» и
«принятом им смысле».
Свобода означает, вопреки этому, сначала потрясение, на-
правленное на весь смысл прежней жизни, создаёт новое «ради-
того-чтобы», новое ooheneka\ поскольку проблематичность, воп-
рос о «естественном» смысле, ясно проявляется перед глазами.
Человек уже больше не предчувствует, не проповедует, не проро-
чествует и не полагается на «нерушимую веру» — человек ви-
дит, и это зрение уже не просто глазение на что-то, по отноше-
нию к чему мы можем занять дистанцию и что нам достаточно
только констатировать. Одновременно с потрясением прежне-
го смысла и пониманием его как «малого смысла» возникает
пыл по отношению к новому смыслу, причём узреваемому с
необходимостью. Эта открытость не является очевидностью
видения, созерцания. Она подразумевает скачок к новому смыс-
лу, осуществляющийся в полной ясности ситуации проблема-
тичности. Когда Сократ приходит к выводу, что мужество со-
стоит в том, чтобы знать, чего следует бояться, а чего нет, он
выражает это интеллектуалистски. Однако тем самым выска-
зывается и проблематичный характер непосредственного жиз-
ненного смысла, что не возможно в рамках религиозного опы-
та: он высказывается посредством вопрошания, поскольку воп-
рос поставлен исходя из осознанной проблематичности.
Поэтому свобода, которая всегда является свободой для того,
чтобы оставлять все как есть, оставлять быть тем, что и как
оно есть, но оставлять всегда по-новому и глубже, — это видя-
щая, а отнюдь не предчувствующая и, прежде всего, не веря-
щая свобода, а свобода возвещающая или даже навязывающая
себя. Преобразование мира здесь осуществляется таким спосо-
бом, который не скрывает это событие посредством мифа, а,
наоборот, посредством образа и понятия раскрьюается то, что
есть. И при этом речь идёт не об «интеллектуализме», достига-
ющем непредвиденное и новое more geometrico2 с помощью хо-
лодных объективных конструкций и приходящем к результа-
там, которые в равной мере доступны каждому, кто в доста-
точной степени умён. И речь не идёт с неизбежностью о той
метафизике, которая охотно заменяла бы каждое новое потря-
174 • Ян Наточка
сение единственным в своём роде определением и актом при-
своения бытия (наподобие «созерцания идей» у Платона).
Миф, религия, поэзия говорят не из проблематичности, а до
неё, они действуют на основе экстаза, энтузиазма - непосред-
ственно из «одержимости» божественным. Философия ведёт
речь исходя из проблематичности и по направлению к пробле-
матичности. Гораздо о более глубоком переломе в человечес-
кой жизни, в области человеческих возможностей, чем рели-
гиозное обновление и артистическая экзальтация, которая, к
слову, возможно связана с религиозным экстазом, свидетель-
ствует тот факт, что человек открыл измерение проблематич-
ности. Это измерение, в котором создаётся (но с которым не
совпадает!) действительное «знание». Только теперь жизнь ста-
новится радикально новой, потому что только здесь она от-
крывает свободу как иную, подлинную, отличную от обыден-
ного и общепринятого смысла, и именно как свершаемую, осу-
ществляемую нами, а не только как полученную возможность.
Особое положение политики обусловливается тем, что по-
литическая жизнь в изначальной и первичной форме есть не
что иное, как сама действующая свобода (из свободы и для
свободы). Целью здесь является не жизнь ради самой жизни
(какой бы она ни была), а только жизнь для свободы и из неё,
и это означает, что понято, то есть активно принято, то, что
такая жизнь возможна. Это сближает политику в изначаль-
ном смысле слова с философией в гораздо большей степени,
чем это возможно в случае религии и искусства, независимо от
того, насколько велико их значение для духовной жизни. Если
же духовная жизнь — это принципиально потрясение (непос-
редственных жизненных достоверностеи и непосредственного
смысла жизни), тогда в религии это потрясение предчувствует-
сяу в поэзии и искусстве вообще представляется и изображает-
ся, в политике обращается к самой жизненной практике, а в
философии понятийно схватывается.
Однако такую форму — форму радикального вопроса о
смысле, вопроса, основанного на потрясении наивного и непос-
редственно принимаемого жизненного смысла, который сразу
же влечёт за собой вопрос об истине, всё больше углубляю-
Авторские глоссы к «Еретическим эссе» • 175
щий эту проблематичность, — приняла философия только в
западной версии. Это решающее основание для нашего утвер-
ждения, что история в собственном смысле возникла именно
как западная история, а сложности, сопровождающие её соб-
ственную проблематику, обусловили то, что она начала вклю-
чать в себя всё новые и новые народы с областями их прожива-
ния — вплоть до того, что в наше время, наконец, стала плане-
тарной и универсальной. Универсальность обнаруживается
отнюдь не в начале истории в виде всего человечества, кото-
рое, как это представлял себе Конт, следуя одному и тому же
закону, «развивается» здесь быстрее, там медленнее. Универ-
сальность даёт о себе знать в конце истории Европы, или, вер-
нее, в конце истории, понятой как европейская (той, которая
развилась из западной истории).
Здесь необходимо ещё раз вернуться к тем «иным, близким
жизни формам мышления», о которых шла речь ещё в самом
начале (техника, юриспруденция, организация). Все они в сво-
ей самой элементарной форме происходят из определённых
жизненных потребностей. Однако в монументально-эффектив-
ной форме, в которой римский мир открыл им свою огкоитепё,
и в той современной форме, в которой в их распоряжении ока-
зывается вся планета и её «космос», они всегда несли на себе
отпечаток философии и политической традиции (традиции
полиса). Как римский мир, которому обязаны своим происхож-
дением почти все современные государства и римская церковь
и который до сих пор живёт в современной воле к обретению
мирового значения и к созданию мирового государства, так и
современная техника, позволяющая этим планам реализовать-
ся, имеют свои основания в философии (разумеется, в посто-
янном столкновении с другими традициями) и без неё немыс-
лимы. То, что вместе с этим они указывают на кризис, охва-
тивший эти основания, представляет уже другую проблему.
Однако творящая историю сила этих мотивов происходит не
из элементарной формы мыслительных образований, а из об-
ласти свободы, и становится возможной, прежде всего, благо-
даря философии.
176 • Ян Наточка
II
Мысль о том, что история является сферой деятельности, ис-
ходящей из свободы, и что свобода основывается на реализа-
ции возможности позволить вещам быть тем, что они суть,
то есть позволить им раскрыться из них самих, показать себя,
основывается на готовности быть почвой их явления, на готов-
ности к потрясению привычных и «заданных» достоверностей,
что должно позволить показаться тому, что действительно
есть, — эта мысль, на первый взгляд, кажется подпадающей
под критику того самого исторического субъективизма, кото-
рый господствовал в историко-научных дисциплинах вплоть
до открытия предметных методов, анализирующих объектив-
ные условия таких «субъективных» позиций, как свобода и её
осознание. Феноменологический метод кажется исторической
науке всего лишь «терминологическим переизданием» идеали-
стического субъективизма, причём ухудшенной версией. Свя-
зано это с тем, что он не только провозглашает движущей си-
лой истории нечто настолько субъективное, как понимание и
понимающее схватывание, но и подвергает это понимание про-
извольной интерпретации, которая нацеливается на то, что в
этот самый момент кажется подходящим «потрясённому». Иде-
алистический метод неправомерно выдаёт за движущую силу
истории разум, претендуя при этом на объективную всеобщую
законность; экзистенциально ориентированная феноменология
применяет точно такой же субъективный, следовательно, не-
предметный принцип, тем самым отказываясь от претензии на
всеобщую значимость.
Но что конкретно означает этот упрёк в субъективизме?
Что он означал, когда его противопоставляли идеализму? «Не
сознание определяет бытие людей, а, напротив, общественное
бытие определяет их сознание».3 Идеализму, говоря философ-
ски, ставится в упрёк то, что он некритически определяет бы-
тие человека как сознание. И здесь, действительно, необходи-
мо поставить вопрос о том, достаточно ли сознания для толко-
вания конкретного человеческого жизненного процесса, без
Авторские глоссы к «Еретическим эссе» • 177
которого не существует никакого сознания. Здесь обнаружива-
ется, что не только существование, но и форма и содержание
сознания определены чем-то более глубоким — общественным
бытием человека. Это бытие определяется как производствен-
ные отношениЛу которые объективны и зависимы не от созна-
ния, а от производительных сил. Производительные силы и
производственные отношения являются объективными факто-
рами. Их наличие можно констатировать с объективностью ес-
тествознания, но не в рамках самого естествознания: в них гос-
подствует диалектика, закономерность, которая затем в есте-
ствознании реализуется разве что спонтанно, поскольку в
естествознании ещё господствует «метафизический метод».
Однако в жизни общества эта диалектика обнаруживает себя
со всей отчётливостью. Диалектика — это теория объективных
конфликтов, напряжений, противоречий. «Бытие» — противо-
речиво. Сознание, следовательно, тоже.
Общественное воспроизводство жизни — это сложный фе-
номен, затрагивающий различные сферы от природных мате-
риалов и сил до человеческого общества, отдельных членов и
отношений, и поэтому его необходимо анализировать в соот-
ветствии с этим: Маркс анализирует его диалектически. Он
представляет товарное производство как диалектический про-
цесс, в котором сознание тоже играет свою роль, а именно не-
гативную; он показывает, что отношения преобразуются в ус-
ловиях капиталистического производства в вещъ; что обществен-
ные человеческие отношения капитализм превращает в нечто
самостоятельно-вещное. Иллюзия, или, скорее, обман сознания
состоит не в том, что сознание устанавливает нечто объектив-
ное, а в том, что объективными являются не вещи, а отношения
и их диалектика, напряжение и превращение, движение и раз-
витие этих отношений.
Особенно важно тут следующее: человеческое бытие невоз-
можно редуцировать к сознанию и его структурам. Необходи-
мо преодолеть сознание, если мы хотим прийти к бытию. Но
каково это бытие? И, прежде всего, что такое общественное
бытие человека? Удаётся ли, сказав, что на основе определён-
ных феноменов возникает необходимость преодолеть индиви-
178 • ЯнПаточка
дуальное самосознание, показать, чем является то изначальное
сущее, отражением которого выступает сознание?
Общественное бытие человека - это интерсубъективность в
своих конкретных, in specie, социально-экономических и зави-
сящих от экономики функциях (производство, «воспроизвод-
ство жизни») и (классовых) отношениях. Утверждается, что
эту интерсубъективность можно и нужно понимать диалекти-
чески. Диалектика пригодна здесь по нескольким причинам:
прежде всего, было указано (Шеллингом и особенно Гегелем в
Феноменологии духа), что сознание может отчуждаться таким
образом, что опредмечивает своё собственное движение. Если
мы применим это положение для анализа экономической про-
блемы цены и стоимости, то получим конкретную диалектику
товара. С другой стороны, уже старая, доматериалистическая,
диалектика показала, что индивидуальное сознание, субъект,
не удовлетворяется собой и с необходимостью преодолевает
себя в направлении объективного духа, который теперь высту-
пает как субъект-объект, или, лучше сказать, объект-субъект;
на примере внутреннего движения индивидуального сознания
эта диалектика показывает, как это сознание интерсубъектив-
но обусловливается. Если следовать дальше, то уже прежняя
диалектика показывала, что каждый этап в развитии «духа»
(то есть общества) имел свой мир, неистинный в той мере, в
какой он не являлся тотальным. Таким образом, диалектика в
её «материалистической трансформации» оказывается пригод-
ной для разоблачения «идеологии» господствующих классов.
И пригодна она именно потому, что предлагает к рассмотре-
нию логику истории, то есть её необходимое движение, выступаю-
щее следствием переворотов, отрицания и отрицания отрица-
ния, а вместе с ней — основу для теории революции как пути к
ликвидации всех общественных антагонизмов, всех противо-
речий и открытия нового этапа истории, разворачивающегося
под знаком свободы (освобождения человека от всякой нуж-
ды, материального порабощения, а вместе с ними — от при-
нуждения порабощать других и позволять им порабощать себя).
Сама диалектика изначально была инструментом анализа
субъект-объектного отношения с той целью, чтобы показать
Авторские глоссы к «Еретическим, эссе» • 179
абсолютное, бесконечное в его основании. Таким образом, Ге-
гель создал новую версию метафизической онто-теологии, кото-
рой он придал форму логики. «Материалистическая трансфор-
мация» диалектики должна сохранить эту внутреннюю необхо-
димость логико-диалектического [методологического] хода,
правда, внутри истории и её «впадения» в состояние в наивыс-
шей степени реальной и осознанной свободы. /\ля достижения
этой цели материалистическая диалектика исходит из той сфе-
ры человеческой жизни, в которой закономерность, матери-
альная обусловленность, объективность и её структуры проявля-
ются наиболее отчётливо, — из экономической сферы. Разра-
ботка теории этой сферы, исходя из требований естествознания,
была целью английской политической экономии. К сожалению,
она имела эмпирические основания и не была, таким образом,
избавлена от релятивизма, пригодного разве что для составле-
ния релятивных прогнозов. И если диалектический материа-
лизм хочет при помощи новой, историко-диалектической, ло-
гики справиться с той же самой проблемой, он должен либо
тоже опуститься на эмпирический уровень, либо привнести в
критическую теорию элемент неисправимого догматизма.
Следует обратить внимание на то, что ни диалектически,
ни эмпирически не было доказано, что «общественное бытие
человека» совпадает с экономическими процессами и отноше-
ниями, и эта необходимая предпосылка материалистического
понимания истории, являющаяся на самом деле предпосылкой,
то есть чем-то таким, что заранее установлено, образует посту-
лат, а отнюдь не доказанный или очевидный тезис.
Концепция истории, согласно которой прогресс является
железной необходимостью, требующей принесения себе в жер-
тву индивидуальной субъективности (как выразился Шеллинг,
«отработки субъективного духа»), настолько распространена,
что её можно без преувеличения провозгласить такой, латент-
ной или явной, исторической философией, которая господству-
ет над современным человеком. Надежда Мандельштам в Веке
волков* показала, какую роль эта концепция играла и играет в
капитуляции интеллигенции перед режимом, объявившем ди-
алектику официальной идеей.
180 • ЯнПаточка
Обратим внимание на еще одну формулировку: «В обще-
ственном воспроизводстве своей жизни люди вступают в опре-
делённые, необходимые, не зависящие от их воли отношения,
в производственные отношения»5. Эта основная формулировка
исторического материализма грешит, пожалуй, принципиаль-
ной неисторичностью. Если права X. Арендт, утверждающая,
что необходимо чётко различать труд, предметом которого
выступает поддержание жизни и её порядка, и производство,
направленое на неодушевлённые вещи и нацеленное на то, что-
бы придать человеческому миру прочное и долговременное
измерение, необходимое как опора и служащее для его оборо-
ны и воздействия на окружающую природу, то, следовательно,
такая формулировка, как «производство жизни», вводит в заб-
луждение. И не потому, что в труде индивид в меньшей степе-
ни зависим от «объекта». (Хотя это ещё вопрос, насколько тер-
мин «объект» пригоден для той действительности, с которой
сталкивается трудящийся человек, — для земли, материала, ин-
струментов; насколько все эти «объекты» существуют для
«субъекта» — поскольку субъект-объектное отношение всё же
является принципиально теоретически-созерцательным (!); с
другой стороны, человек нигде не является настолько зависи-
мым и не чувствует настолько конкретно эту свою зависимость,
как в труде, — труд с давних пор понимался как тяжкая судь-
ба, которая имеет и позитивные стороны, но, в сущности, озна-
чает порабощение человека (!).) А потому, что рассматривать
труд как производство можно только в рамках определённой
эпохи, когда работа действительно связывалась с производством
в единое целое. Это целое заимствует у работы изменчивый и
всегда незавершённый характер, а от производства — обращён-
ность к неживой природе, к земле не как к матери, а как к
вещи или эксплуатируемому и используемому материалу. Но
всё это возможно только в современной капиталистической ин-
дустриальной системе, которая сама является продуктом исто-
рического развития с его длительным этапом отделения труда
от производства. В рамках этого отделения история впервые
«вздохнула с облегчением» благодаря тому, что труд как при-
надлежащий сфере домашнего хозяйства освободил некото-
Авторские глоссы к «Еретическим эссе» • 181
рых индивидов для политической жизни, как это мы попытались
продемонстрировать выше. Если кто-то хочет видеть в этом
обусловленность политики экономикой, пусть будет так; но он
должен признать, что здесь возникает нечто новое, что с мо-
мента «изобретения политики» речь должна идти о взаижной
обусловленности, а отнюдь не односторонней. Мы попытались
показать, что изобретение политики не тождественно простой
организации труда на фундаменте религиозной власти. Так воз-
никает империя, но не политика, которая появляется только
там, где начинается придание смысла жизни, исходя из свободы и
для свободы, делающее невозможным то, чтобы, словами Геге-
ля, только кто-то один (государь, фараон) обладал «сознанием
свободы». Поскольку сознание свободы человек может иметь
только в сообществе равных друг другу людей. Поэтому нача-
лом истории в собственном смысле слова является полис.
Тезис об «общественном производстве жизни» является на-
столько ярким свидетельством взаимного воздействия полити-
ки и экономики друг на друга, что обычные споры о «первич-
ности» каждой из них имеют схоластический характер. В тот
момент, когда возникает политика, экономика приобретает
новое служебное значение. При этом политика как сфера от-
крытия свободы и поле истины (поскольку речь идет о дей-
ствительной свободе, о жизни, которая действительно служит
не только голой жизни) не есть лишь отражение экономичес-
ких отношений. Скорее, именно политика образует «высшую
сферу», отражающуюся в низшей, — её состояние, её взлёт и
упадок проецируются на экономику. С другой стороны, если
диалектика истории идентифицируется по преимуществу с
классовой борьбой, тогда необходимо признать, что эта борь-
ба разыгрывается в политической сфере и что это, в принципе,
борьба в сфере свободы за более широкий доступ к свободе. По этим
причинам классовая борьба не обязательно является аргумен-
том в пользу экономического понимания истории.
Но если классовая борьба — это не сугубо экономический,
но и «духовный» и «экзистенциальный» процесс, тогда она не
может быть изолирована от других сфер духовного опыта,
получающих свою значимость в сфере свободы. Существует
182 • Ян Маточка
не только борьба, но и солидарность, существует не только
общность, но и объединение в сообщество, и это объединение
знает и иные формы связи, нежели объединение перед лицом
врага.
Мы не хотим утверждать, что диалектика лишена всякого
фундамента; существует проблема и проблемы диалектики. Од-
нако нам кажется, что исторически действенная, метафизичес-
кая и материалистическая диалектика грешит против одного
из наиболее важных принципов, который в явном виде сфор-
мулирован в философии XX века и образует исток и этой фи-
лософии, и диалектики. Это принцип феномена. Необходимо
философствовать на основе феноменов, а не на основе гипоте-
тических конструкций, выведенных из принципов. Диалектика
поэтому остаётся до тех пор живой проблемой, пока помогает
нам видеть, читать, истолковывать феномены, и окостеневает,
как только пытается преодолеть эту границу по направлению
к абсолютному философствованию или к абсолютизации оп-
ределённых исторических позиций, которые тем самым мифо-
логизируются .
Что означает феномен? Феномен — это то, что мы видим,
что находится «вот» тут в нашем опыте, «что показывает себя
из себя самого», в границах того, как оно себя показывает. По-
этому диалектика — это составная часть, возможное ответвле-
ние феноменологии в том случае, если она позволяет показаться
тому, что дано в опыте. В этой связи было бы неправильно
полагать, что учение о феноменах зависит от диалектической
логики, неважно, идеалистической или материалистической.
В этом смысле вопрос об общественном бытии человека —
это, прежде всего, феноменологический вопрос. Однако здесь мы
должны сказать несколько слов о феноменологии. В феноме-
нологии, в концепции её творца Э. Гуссерля, также был по-
ставлен вопрос об общественном бытии человека (в форме
проблемы интерсубъективности). Причём в феноменологии, так
же как и в диалектике, исходили из анализа сознания, хотя и
понятого как феномен, следовательно, стремились показать то,
что здесь показывает себя в отношении к истине и целиком,
без остатка (изначально в связи с идеей Декарта о том, что
Авторские глоссы к «Еретическим эссе» • 183
единственной действительной достоверностью является само-
достоверность сознания).
Гуссерль попытался при помощи своей феноменологии рас-
ширить, углубить и прояснить область сознания как традици-
онную область философских интерпретаций. Вслед за старым
немецким идеализмом, хотя и несколько иначе, Гуссерль от-
крыл в самом сознании противоречие конечного и бесконечно-
го как противоречие «трансцендентального» и «земного» со-
знания. Бытие человека, как стремится показать Гуссерль, это —
сознание, но только при том условии, что мы «очистим» его от
того, что превращает его в вещь среди других вещей, и, в кон-
це концов, от каузальных отношений. Тогда мы имеем перед
собой сознание как основание для «чистого феномена», следо-
вательно, новое интерпретативное основание, о котором не ве-
лось речи в рамках субъект-объектной схемы. По этой причи-
не гуссерлевскую феноменологию можно действительно счи-
тать новой версией философского субъективизма. На данной
основе человека и его субъективное сознание можно рассмат-
ривать в качестве носителей телесных (тело понимается тут
как переживаемое, отличное от физиологического!) и духовных
актов, которым не присущ характер вещей, потому что они
отличаются от вещей тем, как они себя показывают, способом
своей «феноменализации». Гуссерль полагал, что сможет пре-
доставить точно определяемый и поддающийся строгой науч-
ной проверке анализ сущности человечества.
Как было уже сказано выше, основная идея Гуссерля состо-
яла в том, что философия должна быть основана отнюдь не на
общих принципах, то есть не на понятиях и положениях, кото-
рые всегда остаются гипотезами — пусть даже необходимыми
для объяснения отдельных видов действительности, — филосо-
фия должна основываться на феноменах, на том, что показыва-
ет себя, что актуально присутствует для взгляда и созерцания.
Но на пути феноменов стоит cnocofnamero обхождения с ними в
повседневной практике и в науках. В повседневной практике
мы используем их в целях поддержания жизни и её потребно-
стей; в науке — для каузальной классификации, для предвиде-
ния действительности (что, в конце концов, тоже является раз-
184 • Ян Наточка
новидностью практики, обнаруживающей себя в технологии,
технике и их переплетениях с теорией). Если мы теперь хотим
в чистом виде схватить то, что показывает себя, то есть фено-
мены, мы должны произвести «выключение», осуществить «эпо-
хэ»6 всех интересов и веры в предметность как таковую, на-
сколько они выходят за границы того, что нам показывается в
чистом виде. Эпохэ — это не отрицание существования, не со-
мнение в нём, не чистая абстракция, но акт свободы, который
не касается вещей и поэтому всегда возможен. Его [эпохэ] ох-
ват и сфера применения универсальны: оно касается как тако-
вого «генерального полагания» естественной веры в мир, ха-
рактеризующего наше привычное поведение как мирских ко-
нечных существ, которые благодаря этому полаганию делают
конечными себя сами. Но откуда берётся эта сила свободы,
подвешивание того, что значимо для меня изначально и непре-
менно, даже если оно и не доказано? Эпохэ — это нечто более
отрицательное, чем отрицание, всегда являющееся полагани-
ем\ посредством же эпохэ ничего не устанавливается.
Теперь попытаемся показать, насколько сама гуссерлевская
рефлексия способна привести нас к необходимости выйти за
пределы рефлексии и оставить гуссерлевский рефлексивный
метод, в интерпретации которого эпохэ подразумевает осуще-
ствление редукции «мира» к чистому сознанию, а задача фи-
лософии заключается в «конституировании» любой предмет-
ности в рамках закономерных структур осознанных пережива-
ний. Но достигает ли рефлексия в действительности глубин
переживания? Удаётся ли полностью постигнуть переживание
через осознание и тождественно ли, наконец, переживание са-
мому сознанию?
Некоторые из современных феноменологов показывают, что
последнюю сущность сознания удаётся определить на почве
гуссерлевской «трансцендентально-гем^ягм^стсом» позиции толь-
ко негативно. Бытие сознания в своём последнем ядре образу-
ет ничто, поскольку всякая предметность в качестве предмета
опыта сознания является собственным делом сознания, делом,
совершаемым самим сознанием. Последнее основание всякого
сознания — это никакой не объект; и то, что в конце концов
Авторские глоссы к «Еретическим эссе» • 185
делает возможным cogito, — это никакой не cogitatum7. Таким
образом мы оказываемся перед чистым, предметно неопреде-
лимым бытием.
Но не является ли этот негативный результат именно ре-
зультатом решительной готовности к абсолютной рефлексии,
результатом стремления к абсолютному отказу от предрассуд-
ков и к тому, чтобы редуцировать человеческое бытие к про-
стому созерцанию и констатированию?
Не является ли этот результат в своей негативности — в не-
возможности постигнуть в позитивном смысле деятельность,
конституирующую предметность, — одновременно указанием
на необходимость преодолеть почву рефлексии, чтобы выйти
туда, где феномены обещают больше позитивности?
Радикальная рефлексия упирается в непостижимость, в не-
вещественность, непредметность. Но речь идёт всё-таки о дос-
тижениях. Каков сущностный характер наших действий, на-
ших достижений? Не их ли следует философски прояснить? Не
является ли апперцепция, в которой и заключается весь наш
опыт, в то же самое время вхождением в мир, и не является ли
этот мир миром нашей возможной жизни в нём, жизни, кото-
рую мы должны осуществлять, потому что мы на это способны!
Не является ли, далее, эта возможность основополагающим
онтологическим характером бытия человека? И не является
ли экзистенция в качестве чего-то нам препорученного, в каче-
стве в своём основании чего-то не нами произведённого, но взя-
того под нашу ответственность, одновременно тем, что мы
искали и что подразумевается, когда мы говорим, что наше
«мышление», наше «сознание» зависят от бытия, а не наобо-
рот? Не является ли сознание, то есть субъект, который имеет
перед собой объект, схватыванием в рефлексии и конституи-
рующей характеристикой результата того, что изначально яв-
ляется свершениеж? Причём свершением не в смысле креатив-
ной конституции, а в смысле свершения в рамках самой жиз-
ни, всегда уже существующей в мире, не созданном и не
могущем быть созданным этой жизнью, но в который эта жизнь
тем не менее введена как в свой мир. И этот мир она должна
взять на себя и объясниться с ним на предмет своей возмож-
186 • Ян Наточка
ной целостности. Не является ли этот предмет таким же неиз-
бежным и необходимым, как и изначальная и основополагаю-
щая фактичность мира, или даже не совпадает ли он с этой
последней?
Чем же является гуссерлевское эпоха, рассмотренное из при-
ведённой перспективы? Оно выступает одним из тех радикаль-
но негативных актов нашего сознания, которые показывают,
насколько глубоко в нём заключается понимание не, отрица-
ния, более глубокого, чем любые логические отрицания. Это
отрицание как таковое, пожалуй, и образует тот феномен, из
которого следует исходить, если нам необходимо понять то,
что является фундаментом сознания и что само не является
сознанием: бытие человека. Сознание является сознанием бла-
годаря тому, что ему нечто себя показывает. Само же показы-
вание, однако, себя не показывает. Но если показывание долж-
но показаться, то в определённом смысле необходимо выйти и
за пределы сферы того, что схватывается в сознании. Почему?
Потому что радикальное не, ничто, не существует и никогда не
может быть предметом. И всё-таки из него берёт начало лю-
бая сила, необходимая для явления: об этом свидетельствует и
гуссерлевское эпохэ. Показьшание может показывать себя толь-
ко на фоне ничто. Однако мы не обладаем «ничто» как пред-
метом, то есть в актуальности настоящего: по отношению к
нему мы можем забегать вперёд. В этом забегании вперёд мы
относимся к смерти как к последней возможности, как к воз-
можности радикальной невозможности быть. Эта невозмож-
ность не только омрачает, но также и делает возможной всю
нашу жизнь, позволяет ей быть целостной. Однако теперь от-
крывается то, что является основой нашего бытия: то, что оно
является бытием возможности. Основных возможностей две:
либо вступить в явные отношения с целым и концом (что озна-
чает не просто думать о смерти, а обесценить тот способ жиз-
ни, который пытается сохранить жизнь любой ценой и берёт в
качестве своего мерила простейшую жизнь, а значит, и «мир» и
жизнь в нем), либо не вступать в эти отношения, то есть бе-
жать от конца и тем самым закрыть для себя эту самую свою
основополагающую возможность. Все эти «акты» не относятся
Авторские глоссы к «Еретическим эссе» • 187
к сознанию с его субъект-объектной структурой, а являются чем-
то более основополагающим: экзистенцией или существовани-
ем, бытие которого состоит в понимании (а не в познании или
осознании!) вещей, других людей, себя самого.
И если мы в случае этого бытия пришли к возможностям —
при том, что одна из двух основополагающих возможностей
является возможностью освободиться от привязанности к жиз-
ни и привязать саму жизнь к чему-то свободному, к тому, что
способно взять на себя ответственность и уважать ответствен-
ность, то есть свободу других, — не будет ли необходимо рас-
смотреть вслед за этим именно историю, то есть наисобствен-
нейшее свершение человека, из этого измерения его бытия, а
следовательно, отнюдь не из сознания?
Тезис о том, что бытие определяет наше сознание, не под-
тверждается там, где человеческая жизнь понимается только
в качестве подчинённой «объективным» взаимосвязям. При та-
ком понимании вопроса о собственном характере человеческого
бытия, основополагающей проблемы философии, то есть про-
блемы бытия вообще, вне рассмотрения остаётся измерение
жизни, как если бы жизнь была, с одной стороны, предмет-
ным основанием этого измерения, а с другой — субъектом, ко-
торый созерцает и фиксирует в созерцании это основание.
Именно история, выступающая сферой общественного бы-
тия человека, постигнутого в движении, почвой традиций, внут-
ри которых позитивно и негативно, посредством утверждения
и отрицания, устанавливаются связи с определёнными сверше-
ниями прошлого, может обнаружить общественное бытие чело-
века как принципиально свободное, «объективно» доступное нам
в той мере, в какой мы можем ретроспективно констатировать
то, что из него обрело вид твёрдо установленных фактов. Од-
нако при этом мы не можем редуцировать бытие к этим фак-
там или даже истолковать его без остатка, исходя из той опре-
делённой области, к которой эти факты принадлежат.
Что такое общественное бытие человека? Для позитивного
ответа на этот вопрос недостаточно того, что изложено выше.
Но, возможно, сказанного достаточно для того, чтобы сделать
очевидным, что общественное бытие имеет свои корни в той
188 • Ян Наточка
глубине, которая не исчерпывается экономическими отноше-
ниями. Точно так же эти отношения не могут стать адекват-
ным масштабом для рассмотрения этого бытия. Стремление
редуцировать эту глубину к экономическим отношениям явля-
ется также разновидностью субъективизма, но теперь не толь-
ко теоретического, но и практического.
Мы ограничились здесь в основном ответом на критику на-
шей концепции с позиции материалистической философии
истории. Мы не стремились представить ни систематическую
философскую критику этой философии истории, ни социоло-
гическую критику, хотя это было бы интересно и необходимо.
Примеры социологической критики любознательный читатель
может найти сегодня в достаточном количестве, но едва ли он
обнаружит принципиально отличную от материалистической
концепцию истории. Если же мы своими слабыми силами по-
пытались предложить такую концепцию, то следует ожидать
того, что со стороны философии, господствующей сегодня не
только над государствами, но и над мыслящими головами, воз-
никнут возражения на этот счёт. Именно поэтому мы и попы-
тались осуществить это краткое разъяснение.
Примечания
1 «Ради чего» (греч). — Прим. ред.
2 «Геометрический метод» (лат). — Прим. ред.
3 Marx К. Zur Kritik der Politischen Okonomie. In: Marx Engels Werke
(MEW), Bd. 13. Berlin, 1985. S. 9.
4 Mandelstam N. Das Jahrhundert der Wolfe. Eine Autobiographie. Frankfurt
a. Main: Fischer, 1971.
b Marx K. Zur Kritik der Politischen Okonomie... S. 8.
6 От греч. epohe — «задержка, остановка, удерживание, самооблада-
ние». Заимствованное Э. Гуссерлем у стоиков понятие, означающее «воз-
держание от суждения о мире». — Прим.. ред.
7 От лат. cogito — «я мыслю», соответственно, cogitatum — «предмет
мысли». — Прилг. ред.
Приложение
История Европы как проблема.
Двойственное отношение
Яна Паточки к духу Европы1
Карел Новотны
ХХогда в начале 1970-х гг. Паточка размышлял об акту-
альной ситуации своего времени, он, с одной стороны, под-
верг критике европоцентризм современной философии, об-
наруженный им как в феноменологии Эдмунда Гуссерля,
так и в марксизме, а с другой стороны, попытался выдви-
нуть проект философии истории, которой, однако же, вви-
ду латентного гегельянства самой присущ явный европо-
центризм. Обе эти противоположные тенденции можно
было бы представить, отталкиваясь от следующих двух
пунктов. Во-первых, в рамках дискуссии о конце по-евро-
пейски определяемой истории, конце, который предваряет
одновременно начало новой эпохи, обозначаемой как «Пост-
Европа», Паточка формулирует следующую методическую
позицию: «Мы не обладаем никаким иным эксплицитным
мышлением, кроме европейского, и именно по отношению
к нему необходимо уметь вести себя крайне критично, если
мы хотим видеть будущее с его собственными, подлинны-
ми проблемами». Во-вторых, несколько позднее у Паточки
мы находим лапидарный тезис, обоснованию которого он
посвятил свои самые поздние произведения: «История —
это история Европы, и нет никакой другой истории»2.
История Европы как проблема ° 191
В первом упомянутом контексте Паточка говорит о некой
новой ситуации, называя ее «постевропейской», поскольку для
него она означает, очевидно, разрыв с прошлым, которое он,
размышляя в основном о XIX веке, характеризует как мир,
определяемый Европой, Новая ситуация устанавливается, са-
мое позднее, с возникновением новой политической констел-
ляции после Второй мировой войны, однако для «постевропей-
ского» времени, по-видимому, более важной, нежели тогдаш-
няя констелляция сил, является глобализация, которая — что
мы сегодня можем видеть ещё отчётливее, чем Паточка, — вме-
сте с новыми технологиями распространяет по всей планете
определённый тип рациональности, навязывая его самым раз-
ным культурам. Отсюда возникают новые проблемы, которые
Паточка связывает с понятием «Пост-Европа».
Одна из проблем состоит в том, что необходимо выяснить,
следуют ли обе эти эпохи линейно друг за другом в рамках
единой истории, или здесь присутствует настолько фундамен-
тальный разрыв со старой историей, что мы уже больше не
можем и не имеем права говорить о единой истории. Если дей-
ствительно наличествует разрыв со старым миром, тогда это
новое должно по-новому мыслиться. Дело, однако, обстоит та-
ким образом, что весь наш инструментарий возникает на фоне
предшествующего мышления, так что всякий проект рамок, в
которых это новое должно постигаться, неизбежно промахи-
вается мимо того, что здесь ново. Это проблема, которую оба
тезиса Паточки не только отражают, но даже и частично эксп-
лицируют.
Оба упомянутых тезиса имеют общее ядро, а именно мето-
дическое воззрение на тот счет, что в нашем распоряжении
нет никакого иного мышления, кроме европейского, и что мы,
следовательно, понимаем историю только в его рамках. Если
это мышление может идентифицировать свою собственную ис-
торию как европейскую, артикулировать её, привести к тако-
му виду знания, которое делает возможным определённое ис-
толкование фактов, тогда само собой напрашивается, что это
192 • Карел Новотпны
европейское мышление из своей перспективы выносит сужде-
ние также и о иных способах обладания или необладания исто-
рией, и происходить это будет вполне европоцентрично; да и
как это может быть иначе?
Эдмунд Гуссерль чётко сформулировал методологическую
проблему, когда написал в одной из своих поздних рукописей
следующее: «Не является ли всё то, что я высказываю, форму-
лирую здесь касательно возможных мировоззрений, логик, те-
орий познания, мыслимых миров каких-либо людей, народов,
примитивных или непримитивных культур, ничем иным, как
истолкованием в рамках моего собственного царства познавае-
мого бытия, субъективным результатом моего осмысления, мо-
его мышления, соответственно, моей эвидентной аподиктичес-
кой истиной?,. Не следует ли после этого считать вздором
мысль, что универсум моей истины и моего бытия находится в
неразрешимом противоречии с универсумом каких-либо Дру-
гих, пусть более примитивных людей, тогда как эти более при-
митивные люди и весь их универсум (после всего того, что я
могу сказать об этом) уже содержатся в моем универсуме?»3
Это суждение вполне обосновано, последовательно, логично,
и оно тем более имеет силу там, где мы имеем дело не с каки-
ми-нибудь «примитивными», но, как это часто бывает, с Други-
ми, внешне не сильно отдалёнными от нас, — и тем не менее,
это другие, которые таковыми и останутся. Это рассуждение
Гуссерля обосновано, поскольку совершенно нормально воспри-
нимать Других на основе того, что является понятным для нас.
И всё же в этой логике, включающей Другого в сферу соб-
ственного и вследствие этого хотя бы частично, а с этой точки
зрения — часто как раз чрезмерно присваивающей его, ясно
ощущается насилие. Одно ассимилирует Другое, которое при
этом нейтрализуется в своей инаковости и даже подавляется.
Об этом свидетельствует также продолжение уже процитиро-
ванного высказывания из наследия Гуссерля: «Не дана ли мне
здесь возможность не только последовательно прийти к исти-
не о том, чем они [Другие] сами являются... [но] и другая воз-
можность — противопоставить их и моё действительное сущее,
их и мой "мир" мнимому познанию мира, а также осуществить
История Европы как проблема • 193
их критику, придя таким образом, наконец, к универсальной
окончательной истине, по отношению к которой никакая при-
митивная истина более не является истиной, а представляет
собой один из типов существующего окружающего мира, уже
принадлежащих в своём разнообразии к единству человечес-
кой жизни, а затем — к единству родины, и вновь — к единству
мира народа со многими родинами и т. д., вместе с домашни-
ми мирами, посредством которых представляет себя истинный
мир, интенциональным единством — единством разума — кото-
рого выступает эта истина»4.
В случае европоцентризма речь идёт о разновидности раци-
онализма, причём, опираясь на науку и технику, очень трудно,
в особенности сегодня, определить этот рационализм как ис-
ключительно европейский, когда региональные различия в этом
отношении теряют значение. И всё же, имеются серьёзные при-
чины связывать этот рационализм с Европой, по меньшей мере
в историческом аспекте, и именно Эдмунд Гуссерль отчётливо
сформулировал специфичность характера Европы как некое-
го исторического и учреждающего историю образования, не
побоявшись подчеркнуть его положительную сторону. Эта спе-
цифичность связана с тем значением, которое для Гуссерля
имеет философия как аутентичное, критическое знание, обя-
зательное для жизни, Гуссерль убеждён в том, что истинное
знание универсально и что аутентичная, подлинная, жизнь обя-
зательно обретает этот специфический характер, но только при
ориентации на такую универсальность разума.5 Образцом для
такого — по возможности всегда и для каждого очевидного —-
стремления к истине, понятой как рациональная очевидность,
является, для Гуссерля, философия, как она себя конституиро-
вала в античности в качестве задачи благодаря «сверхидее уни-
версального познания, распространяемого на весь универсум
сущего»0.
Его убеждение в том, что «европеизация всего остального
человечества» будет свидетельствовать о «господстве абсолют-
ного смысла»7, то есть о единстве разума, возникает из тради-
ции европейской метафизики, согласно которой у всех людей
есть принцип знания, разум, способный развиваться повсюду.
194 • Карел Иовотны
*
Паточка является одним из тех критиков, которые указы-
вали на фатальные следствия подхода, представляемого так-
же Гуссерлем. Я процитирую в этой связи один фрагмент из
текста Паточки: «Европейское возвысится здесь в качестве
якобы обсерватории "объективности" благодаря своей "всеоб-
щей рациональности" над всеми остальными точками зрения;
и его высшая значимость, его необходимость в противополож-
ность к случайности прочих способов развития человечества
будет наивно ему приписываться, вместо того чтобы доказы-
ваться. На этой основе достигается не взаимопонимание меж-
ду человеческими мирами, не универсальный человеческий
контакт, а только лишь разрушение фундаментальных форм
существования человечества посредством полного опустоше-
ния тайны мира»8.
Под тайной мира Паточка подразумевает компонент, опре-
делённым образом присущий всякому жизненному миру, а не
только так называемым «примитивным», мифологическим жиз-
ненным мирам, но и нашему, современному научно-техничес-
кому, всё более технизируемому миру: это «всегда непостижи-
мый компонент... который не есть Doxa9», то есть всего лишь
субъективноютносительное мнение, «но только исходя из Doxa,
интерпретируемый как Hyperdoxa»10. В рамках нашей рациона-
листической цивилизации с этим компонентом, в другие вре-
мена чаще всего представленным в форме мифа, системати-
чески ведут борьбу. Отсюда вытекает, что, с одной стороны,
не может идти речи ни о каком преимуществе нашей цивили-
зации по отношению к мифологическим культурам, с другой
стороны, согласно Паточке, наша активная борьба с этим из-
мерением жизненного мира, осуществляемая посредством на-
учного просвещения, уничтожения тайны, есть «не что иное,
как негативное, неплодотворное свидетельство его парадоксаль-
ного отсутствующего присутствия»11.
Подобный способ проблематизации нашей собственной ра-
циональности, то есть указание с помощью философских ар-
гументов на фон ясного и отчётливого знания, посредством
этого знания не достижимый, Паточка, очевидным образом,
История Европы как проблема ° 195
считает равнозначным другим подходам — этического ли дей-
ствия, мифологии, религии или искусства — к тому, что укло-
няется от рационального постижения. Поэтому можно гово-
рить здесь о близости к модели, согласно которой существуют
как синхронически, так и диахронически различные доступы
к более глубокому измерению мира, обозначаемому Паточкой
тайной. В качестве парадигматического представителя такой
модели может быть назван, например, Дильтей. У него можно
обнаружить равноизначальность различных мировоззрений,
часть из которых хотя и связаны друг с другом, поскольку при-
надлежат к определённой эпохе, но при этом друг к другу не
сводимы. Различные исторические центры имеют тогда соб-
ственные картины мира. В результате мы возвращаемся на-
зад, к намеченной в самом начале проблеме единства истории,
к вопросу: как вообще возможно мыслить историю в единствен-
ном числе, если мы всегда имеем дело только с частной перс-
пективой, увиденной изнутри?
К этой проблеме Паточка приближается там, где он гово-
рит о постевропейском времени, которое характеризуется от-
крытым заявлением о себе как «плюральное™ разных духов-
ных субстанций», то есть традиций. Новизна этой ситуации
объясняется не самим существованием такой плюральности,
которая «наличествовала» всегда, а тем, что все эти традиции
при посредстве универсальности научно-технической рациональ-
ности вступают в более тесную взаимосвязь, подвергаясь вмес-
те с тем навязчивой опасности унификации, то есть прямого
подавления. Паточка видит опасность европоцентризма не толь-
ко в том, что Европа несёт историческую ответственность за
эту, коротко говоря, техническую рациональность. Опасность
европоцентризма ещё в большей мере заключается, по его
мнению, в желании устранить негативное влияние этой рацио-
нальности её же средствами, безразлично, со старого конти-
нента или откуда-либо ещё. В этом состоит внутренняя опас-
ность европоцентризма, границы которого, правда, уже уста-
новлены, но который, тем не менее, хочет и дальше оказывать
196 • Карел Новотны
воздействие faute de mieux11. По этому поводу Паточка в одном
месте из своего наследия замечает; «Предназначение европей-
ской рефлексии состоит не в том, чтобы сделать избыточной
внеевропейскую рефлексию, а в том, чтобы послужить ей на-
чалом и способствовать её плодотворности»13.
Можно сформулировать проблему в более общем виде: ев-
ропейская инициативность в решении проблем, с которыми
сталкиваются восприемники технической рациональности за
пределами Европы, предполагает, что мы знаем рамки и вла-
деем рамками, позволяющими нам соотносить собственное и
чужое, то есть, если рассматривать синхронически — европейс-
кое и внеевропейское, диахронически — европейское и постев-
ропейское. В таком случае мы снова предлагаем, вуалируя это,
всеобщую рамку единой истории другим традициям и тем са-
мым другими средствами продолжаем вести ту же самую по-
литику, которая ранее была совершенно открытым проявле-
нием империализма. Мы вынуждены снова совершить логи-
чески последовательный и вместе с тем противоречивый шаг,
а именно, исходя из нашей частной перспективы, создать то,
что выдадим затем за всеобщие универсальные рамки. Эмпири-
ческим доказательством тому, что в случае объявления партику-
лярное™ чем-то универсальным речь идёт не только о логичес-
ком противоречии, но и о насилии, порождающем ответное наси-
лие, послужили для Паточки обе мировые войны XX столетия.
Паточка видит тут тупик и поэтому говорит о конце Европы и
о постевропейской эпохе, когда экспансия старой Европы всё
более отчётливо удерживается в равновесии — пусть и хруп-
ком — на многих фронтах как раз благодаря противодействию
других сил. Я, конечно же, не собираюсь здесь развивать эту
линию рассуждений и вникать в проблемы международной
политики. Интерес Паточки был направлен на духовные осно-
вания нашего времени, и я хотел только подчеркнуть методо-
логическую проблему, связанную с тем, что конец Европы тре-
бует нового мышления, нового духовного основания. Однако
откуда такое мышление должно возникнуть в Европе?
Один вариант ответа звучит совершенно убедительно: но-
вое мышление должно появиться из соприкосновения различ-
История Европы как проблема ° 197
ных духовных субстанций и взаимодействия между ними, пока
они встречаются нам именно вживую, однако при этом необ-
ходимо избегать внутренней опасности европоцентризма; это
означает, что европейцы в широком смысле слова («по-евро-
пейски мыслящие») не могут и не вправе решать за других их
проблемы или хотя бы предопределять процедуры их реше-
ния. Это означает, что новое, о котором речь шла выше, нельзя
проектировать исходя из умозрительных конструкций, оно
должно возникать в точке соприкосновения и проверяться на
практике.14
От этой мысли Паточка возвращается к требованию евро-
пейского самоосмысления как способа, который для начала мо-
жет помочь нам подготовить и открыть пространство для воз-
можности встречи с другими. Это самоосмысление касается
находящихся в нашем распоряжении средств, предназначен-
ных для преодоления закрытости европейского рационалисти-
чески-универсалистского духа. Под закрытостью здесь подра-
зумевается нечто, что себя универсализирует, повсюду распро-
страняет и ассимилирует всё другое и в конечном итоге не имеет
перед собой ничего другого и заперто таким образом в самом
себе. Поэтому закономерно, что из Европы миру не предписы-
ваются лекарства против болезней, связанных с порождённым
самой Европой рационализмом; здесь осуществляется крити-
ческое европейское самоосмысление, критически направлен-
ное против собственной традиции и её дальнейшего влияния.
От «критической деструкции» собственной традиции, однако,
пока ещё не сделан шаг к оправданию процитированного ра-
нее тезиса Паточки, согласно которому, собственно, нет ника-
кой другой истории, кроме европейской. Этот тезис, представ-
ленный в последних текстах Паточки, остаётся европоцентрич-
ным, и тем самым Паточка осознанно высказывается в пользу
той части философии старого мира, которая, как он предпола-
гает, вот-вот исчезнет и чья дальнейшая судьба поэтому не мо-
жет и не должна больше предвосхищаться исходя из этого ос-
нования.
198 ° Карел Новотны
*
Философия истории, которую Паточка формулирует в сво-
ём позднем творчестве, является попыткой через историчес-
кое осмысление собственной традиции, то есть европейской эпо-
хи истории как единства, найти, несмотря на методологичес-
кую проблему отсутствия преемственности между европейским
и постевропейским, определённые элементы, которые сохра-
нятся в ходе осуществления критической деструкции этой тра-
диции и поэтому, по его мнению, смогут стать для нас ориенти-
рами также и на пути в постевропейскую эпоху. В этом он ос-
таётся верным требованию, которое уже в самых первых
текстах по философии истории предъявил этой центральной
для него дисциплине: философия истории является персональ-
ным «судьбоносным» способом мышления, который не может
избегать принятия окончательных решений.13
Европейская история определяется, согласно Паточке, за-
ботой о душе, благодаря чему человек снова и снова выходит
из состояния упадка, в который его, будто сама собой, приво-
дит жизнь в соответствии со всего лишь принятыми ценностя-
ми. Тем не менее, он может противостоять этой тенденции и
реализовать свою сущностную свободу. Опыт проблематиза-
ции заданных ценностей — их ничтожности — может настоль-
ко усиливать свободу человека, что человек в такие моменты
отсутствия смысла сам собой «бросается» к новому смыслу, на
который он может согласиться по собственному разумению и
потому способен отстаивать как «абсолютный смысл».
Этот подъём индивидуумов на фоне проблематичности
смысла и, как следствие, его прерывности кажется Паточке
чем-то единственно непрерывным и составляющим единствен-
ный смысл истории.1G Это и является для него историей в под-
линном смысле слова, и если что-то в этой истории всё ещё
живо, даже после конца Европы, то только благодаря заботе о
душе. Необходимое для этой жизни напряжение свободы ста-
новится, таким образом, нормой для того, что, согласно Па-
точке, означает иметь душу, быть историческим. Он сам гово-
рит об этом недвусмысленно в Еретических эссе: «История и
свобода идут вместе... Философия истории возможна только
История Европы как проблема ° 199
на основании понятия свободы, исторический человек суще-
ствует из свободы и ради свободы...».17
Свободное полагание смысла для Паточки несёт в себе не-
что героическое, так как оно по-прежнему мыслится как отно-
шение конечного к бесконечному; эта фигура хотя и не связы-
вает его непосредственно с онтотеологиеи, однако постулирует
всё же нечто «метафизическое», а именно абсолютный смысл
бесконечного целого, который, так сказать, основывает и не-
сёт в себе тайну мира и все культуры. «Это то тайное, — пишет
Паточка в третьем Еретическом эссе, — которое находит своё
выражение в потрясении наивно принимаемого смысла (речь
здесь идёт либо о релятивном смысле непосредственного чело-
веческого поведения и действия, либо об абсолютном смысле
мифа). Так, благодаря потрясению наивного смысла возника-
ет точка зрения на абсолютный и всё-таки неэксцентричный
по отношению к человеку смысл, при условии, что человек готов
отказаться от непосредственной данности смысла и освоить
смысл как путь».1Ь
Таким образом, Паточка видит проблему прерывистости
между европейским и постевропейским временем достаточно
остро; он понимает, что эта прерывистость не может быть пре-
одолена средствами европейской философии. Ведь он недвус-
мысленно пишет в 1970 г.: «Какой бесконечной задачей было
бы попытаться проанализировать и исследовать вчерашний и
сегодняшний дни, выдвинуть гипотезу об основополагающих,
определяющих их рамках, проверить гипотезу на фактах и на
основании этого, возможно, отважиться бросить взгляд в завт-
рашний день! Это было бы задачей, которая имплицирует как
всю методологию современной истории, так и основные её раз-
работки. Понятно, что мы здесь ... не можем предпринять ни-
чего подобного»19. Поэтому его концентрация на вопросе об
истории Европы, к которому он начинает обращаться в это
время, является последовательной, а критическое осмысление
собственной традиции через «деструкцию метафизики истории»
выступает вполне легитимным способом, служащим для того,
чтобы разобраться с тем, что всё ещё определяет нас.
В результате Паточки формулирует тезис о единстве исто-
200 • Карел Новотны
рии Европы, чрезвычайно для него важный, то есть в итоге,
как кажется, он настолько в нем убеждён, что видит в том, что
нашёл, историю как таковую. «Динамичное новое», которое он
в последней из процитированных статей, написанной в 1970 г.,
стремится схватить посредством анализа современности, «со-
поставляя её с предыдущей эпохой»20, в последующие годы пре-
вращается в проецирование существа европейской истории на
определение истории вообще. Поэтому его тезис о том, что
«нет никакой другой истории, кроме европейской», можно пе-
ревести так: для человека имеется только один способ быть
историчным — это забота о душе, индивидуальная ответствен-
ность за смысл целого, набросок которого возникает только
благодаря подъёму из состояния упадка.
Таков, в конечном счете, его тезис, хотя он самокритично
замечает в конце пятого Еретического эссе, что, возможно, его
точка зрения ошибочна, поскольку исходит из полярности упад-
ка/подъёма цивилизации — при том, что, вероятно, не суще-
ствует «цивилизации в себе». После этого замечания Паточки
вопрос состоит в том, «хочет ли ещё исторический человек при-
знать свою причастность к истории». Не вполне ясно, что он
тут имел в виду, однако наверняка он хотел сказать в том чис-
ле и то, что мы не можем решать за историчного, то есть сво-
бодного и осознающего эту свободу, человека, к какой исто-
рии и какой историчности он причастен. История, к которой
Паточка считает причастным себя, понимается исходя из забо-
ты индивидуальной души о преодолении состояния упадка.
Причём этот принцип распространяется не только на всю ци-
вилизацию, но и генерализируется до принципа времени, в ко-
торое, однако, как признавал сам Паточка, сталкиваются раз-
личные цивилизации и культуры, и в результате этой зачас-
тую конфликтной встречи создаются новые рамки, в которых
принцип индивидуального подъёма из бессмысленности ока-
зывается недостаточным основанием: «неким» духом, ищущим
смысл бытия. Паточка, как кажется, в этом случае ориентиру-
ется на раннее хайдеггеровское понимание историчности, со-
гласно которому Dasein, проектирующее смысл, всё ещё оста-
ётся субъектом, конституирующим историю.
История Европы как проблелш ° 201
В то время как Паточка, вместе с Гуссерлем и Хайдегге-
ром, пытается найти исток истории, который для нас будто бы
всё ещё имеет обязательное значение и образует некую учреж-
дающую единство смычку истории, этот путь, этот подход на-
меренно избегается, например, М. Фуко21. Вместо того чтобы
концентрироваться на изначальном, речь теперь идёт о том,
чтобы при помощи «рассеивания» и «децентрализации» наме-
ренно и последовательно бороться с опасностью «трансценден-
тального нарциссизма»22, которую Паточка также связывает с
закрытой душой европоцентристского мышления, но не поры-
вает с ней по-настоящему радикально. Можно, собственно го-
воря, поставить вопрос о том, избегает ли Паточка с его выше-
упомянутой критикой Гуссерля опасности европоцентризма.
Ведь даже если то трансцендентальное, к которому стремится
философия Паточки, а именно тайна мира, по существу укло-
няется от взора духа, то, тем не менее, благодаря ему сохраня-
ется европейская метафизическая идея некоего основания. Па-
точка говорит по поводу своей критики Гуссерля: «Мы крити-
куем проблематику жизненного мира за то же, за что он
[Гуссерль] сам критиковал естественно-научный "истинный
мир": за то, что этот мир забыл о своём основании. Однако, до
тех пор пока это общее для всех самых разнообразных форм
существования человечества основание не будет извлечено из
долгого забвения, никакой настоящий диалог между культура-
ми и формами человечества не возможен; ведь вместо того
чтобы исходить в разговоре из общего, будут исходить из чего-
то единично-специфического, выдавая его за всеобщее».23
То, в чём Паточка упрекает здесь Гуссерля, а именно, «что
он выдавал идеал европейского Ratio за всеобщую энтелехию
человечества»24, определённым образом присуще и ему само-
му, когда он стремится обнаружить общее основание всех куль-
тур. Однако само основание нашей духовной истории уклоня-
ется — как он сам вместе с Хайдеггером позднее формулирует
в первом Еретическом, эссе — от любого подобного тематичес-
кого извлечения. Основания не существует постольку, посколь-
ку свобода духа, которая трансцендентна такому основанию —
назови мы его естественным миром или бытием, — «должна
202 • Карел Новотны
обладать такой прозрачностью, которая невозможна без сокры-
тия', и в этом уклонении основывается двусмысленность сво-
боды, которая может — и даже должна ускользать от самой
себя, как может — и даже должна уклоняться от самой себя
изначальная истина»25. Разве мы вправе тогда говорить об ос-
новании всех культур?
Историческое мышление Паточки предлагает нам нечто
большее, чем критику ответов, вводящих в заблуждение и же-
лающих окончательно охватить историю и её основание: это
напоминает нам о необходимости вопрошания, о необходимос-
ти однажды вплотную столкнуться с проблематичностью мира,
а не всегда уклоняться от неё. Открытым остаётся вопрос, хо-
тят ли современные люди вопрошать подобным способом, по-
средством которого Паточка признаёт свою причастность к
старой Европе,
Примечания
1 За основу текста взят мой доклад «Европа и пост Европа в фило-
софской рефлексии Яна Паточки», прочитанный на конференции Фено-
менология и политика, которая проходила в апреле 2000 г. в Праге.
2 PatockaJ. Platon a Evropa (Лекции 1973). In: Sebtane spiy Jana Patocky
[Gesamtausgabe der SchrtftenJ, Patockas), 2. Band: Pece о dusi, II. Teil. Hg. von
I. Chvatik und P. Kouba. Praha, 1999. S. 343.
3 A VII 9, Typoskriptseite 25L Я цитирую этот манускрипт от б ноября
1933 г. и выражаю признательность директору архива Гуссерля в Левене.
4 Ibid. S. 26 f.
5 Он однозначно говорит в §5 своего последнего произведения о кри-
зисе европейской науки: «Обычно истинное бытие оказывается идеаль-
ной целью, задачей познания (Episteme) и разума, которому противопос-
тавляется бытие, предстающее в рамках мнения как нечто "само собой
разумеющееся", устойчивое. В глубине души каждый из нас осознаёт
это различие, относимое к истинному и подлинному человечеству, но
столь же не чужда и повседневная жизнь человечества истине как цели
и задачи» (Husserl Е. Krisis der europaischen Philosophic und, transzendentale
Phanomenologie. Hua VI, 11).
() Ibid.
7 Ibid. S. 14.
H PatockaJ. Die Selbstbesinnung Europas. In: Perspektiven der Philosophie.
Bd. 20. 1994. S. 2.57.
История Европы как проблема • 203
!) «Мнение» (греч.). — Прим. ред.
10 Patocka J. Op. cit. S. 256.
11 Ibid. S. 257.
12 «За неимением лучшего» (фр.). — Прим. ред.
{'Л Was Europa ist... (sechs Bruchstucke). In: Samisdat-Ausgabe der gesam-
melten Wcrke Jan Patockas. Pece о dusi. B. VI. S. 306. (ASSJP PD VI, 306.)
11 Ср.: Kouba P. Europa denken. Вступительное слово на конференции
Phanomenologie und Politik (Прага, апрель 2000).
15 Ср. две работы середины 1930-х гг., опубликованные в: Patocka J.
Ketzerischen Essays uber die Philosophic der Geschichte. Stuttgart, 1990. S. 318-
345, а также: Karfik F. La philosophie de Vhistoire et leprobleme de Vage technique
chezjan Patocka. In: Etudes phenomenologiques XV (1999), № 29-30. S. 5-28.
]<] Паточка рассматривает историю как «необратимое развитие про-
буждения свободы (в философии и политике)», в котором, как ему ка-
жется, смысл «истории только и существует рационально»(Brief an
L. Langrebe vom 20. 8. 1976). Ср. также следующее место: «История —
это нчто иное как потрясение достоверности предданного смысла. Она
не имеет иного смысла и иной цели» (Паточка Я. Еретические эссе. Наст,
изд. С. 146).
17 Patocka J. Vor-Geschichtliche Betrachtungen, написанная по-немецки,
последняя версия первого Еретического эссе, машинописный текст, S. 16.
19 Паточка Я. Еретические эссе. Наст. изд. С. 99.
19 Patocka J. Die geistigen Grundlagen des Lebens in unserer Zeit. In: KE.
S. 354.
20 Ibid. S. 353.
21«Если философия — это воспоминание или возвращение к первоис-
токам, тогда, может быть, то, что я делаю, ни в коем случае не рассмот-
рят в качестве философии» (Foucauet M. Archaologie des Wissens, Ubers.
von U. Koppen. Frankfurt a. M., 1981, S. 293.
22 Ibid. S. 289 ff.
24 Patocka J. Die Selbstbesinnung Europas. In: Perspektiven der Philosophie.
Bd. 20. 1994. S. 273.
il Ibid.
2:' PatockaJ. Vor-Geschichtliche Betrachtungen, написанная по-немецки,
последняя версия первого Еретического эссе, машинописный текст, S. 16.
Научное издание
Паточка Ян
Еретические эссе
о философии истории
Перевод с чешского
Редактор С. Калиновскал
Корректор И, Голяшевич, Е. Ладо
Дизайн обложки С. Жданович
Подписано в печать 04.02.2008. Формат 60x84 У1(..
Бумага офсетная. Офсетная печать. Уч.-изд. л. 11,9.
Усл. печ. л. 11,9. Тираж 1000 экз. (1 з-д. - 500). Заказ
Издатель И. П. Логвинов.
ЛИ 02330/013307 от 30.04.2004 г.
220050, г. Минск, пр. Независимости, 19/5.
logvinovpress@mail.ru
Типография СООО "Медисонт".
ЛП 02330/0056748 от 22.01. 2004 г.
220004. г. Минск, ул. Тимирязева, 9.