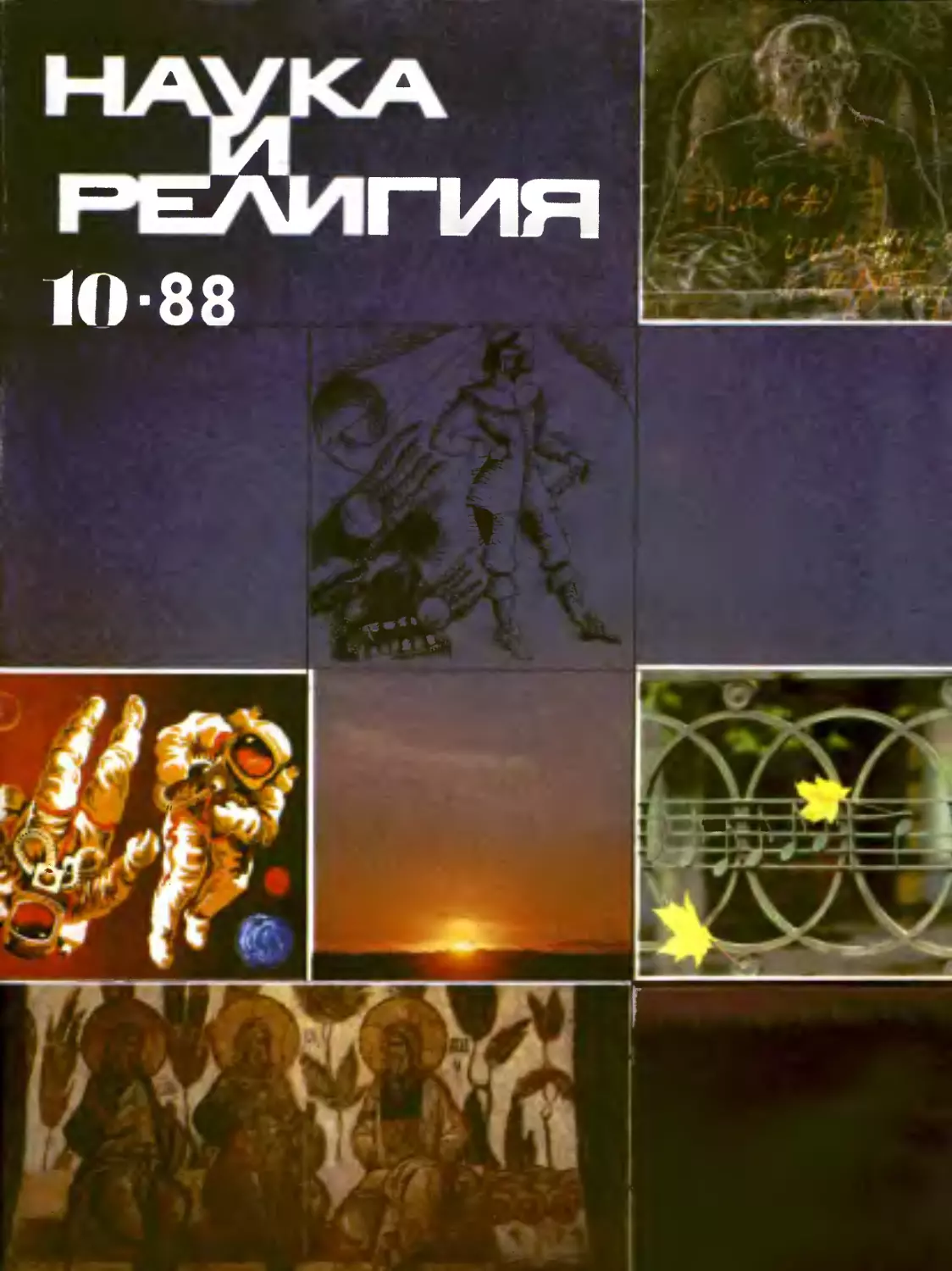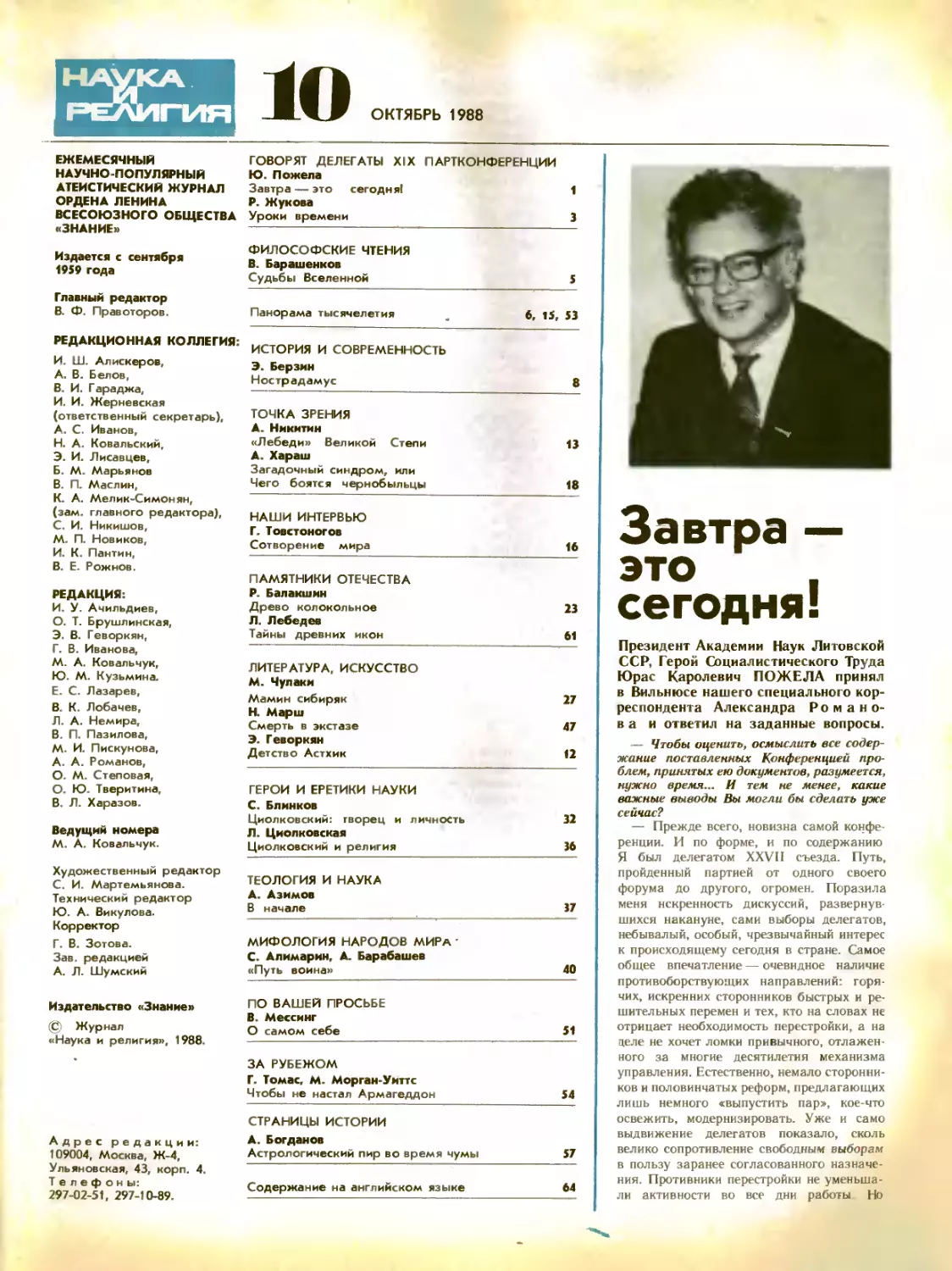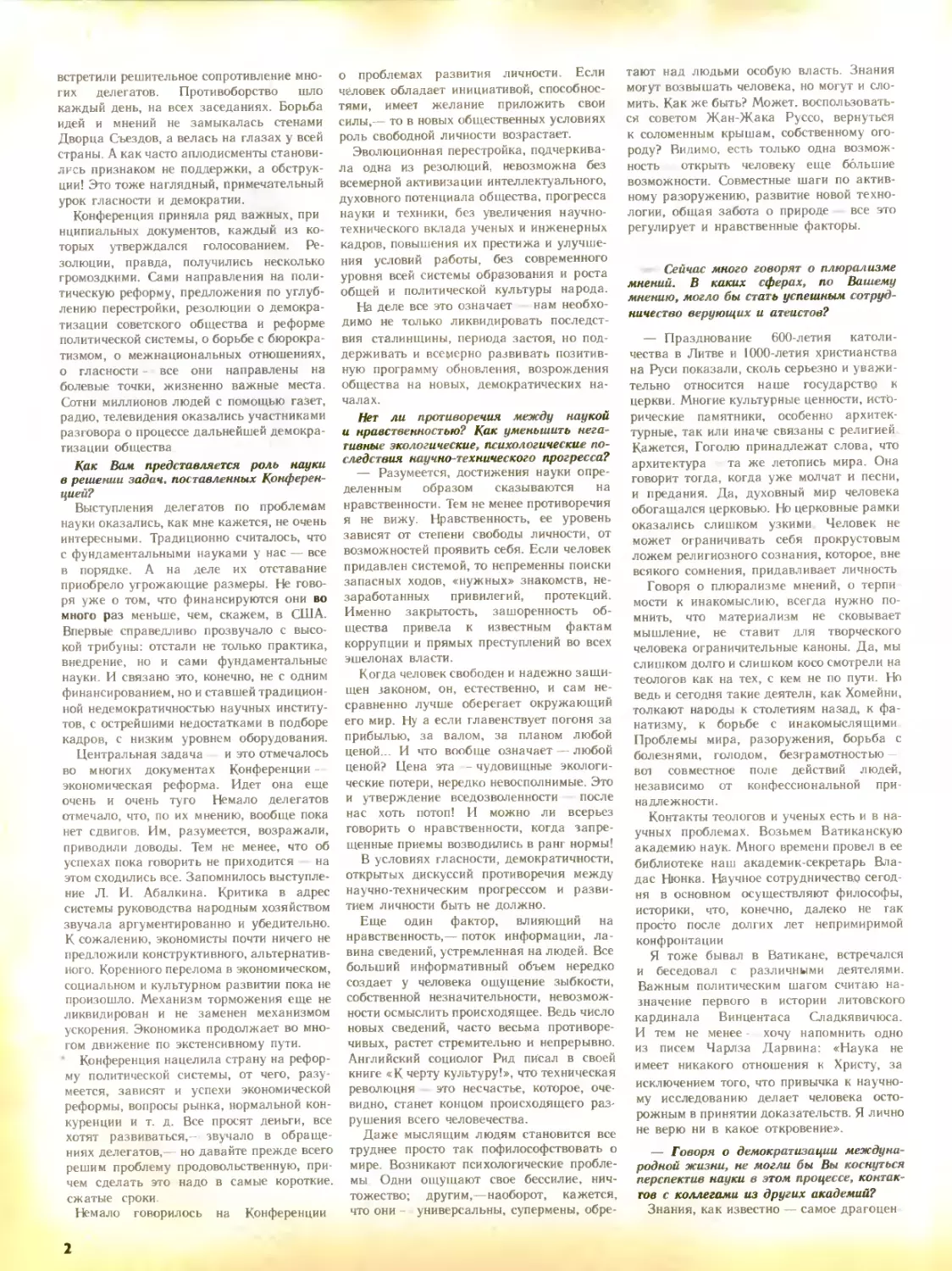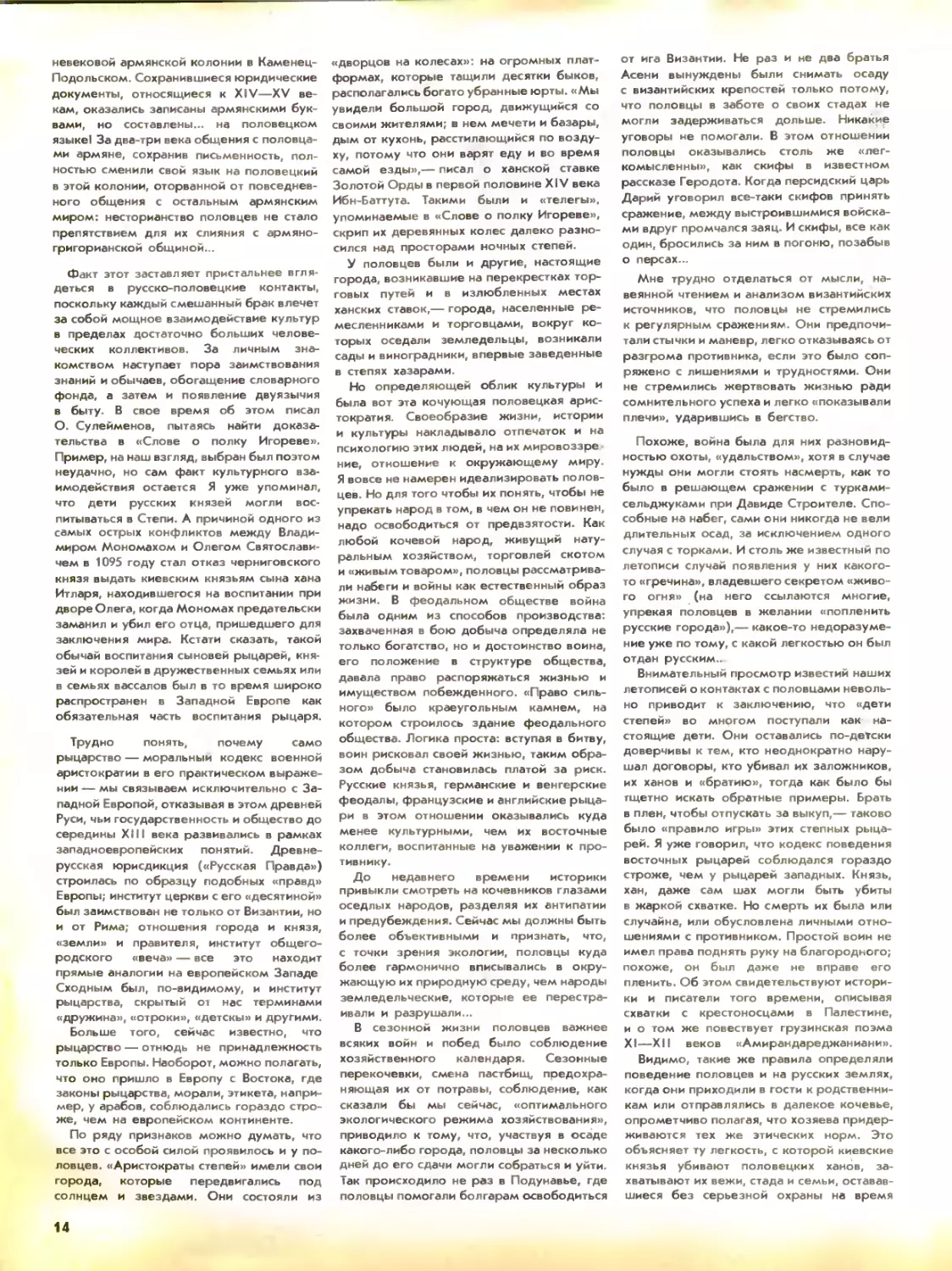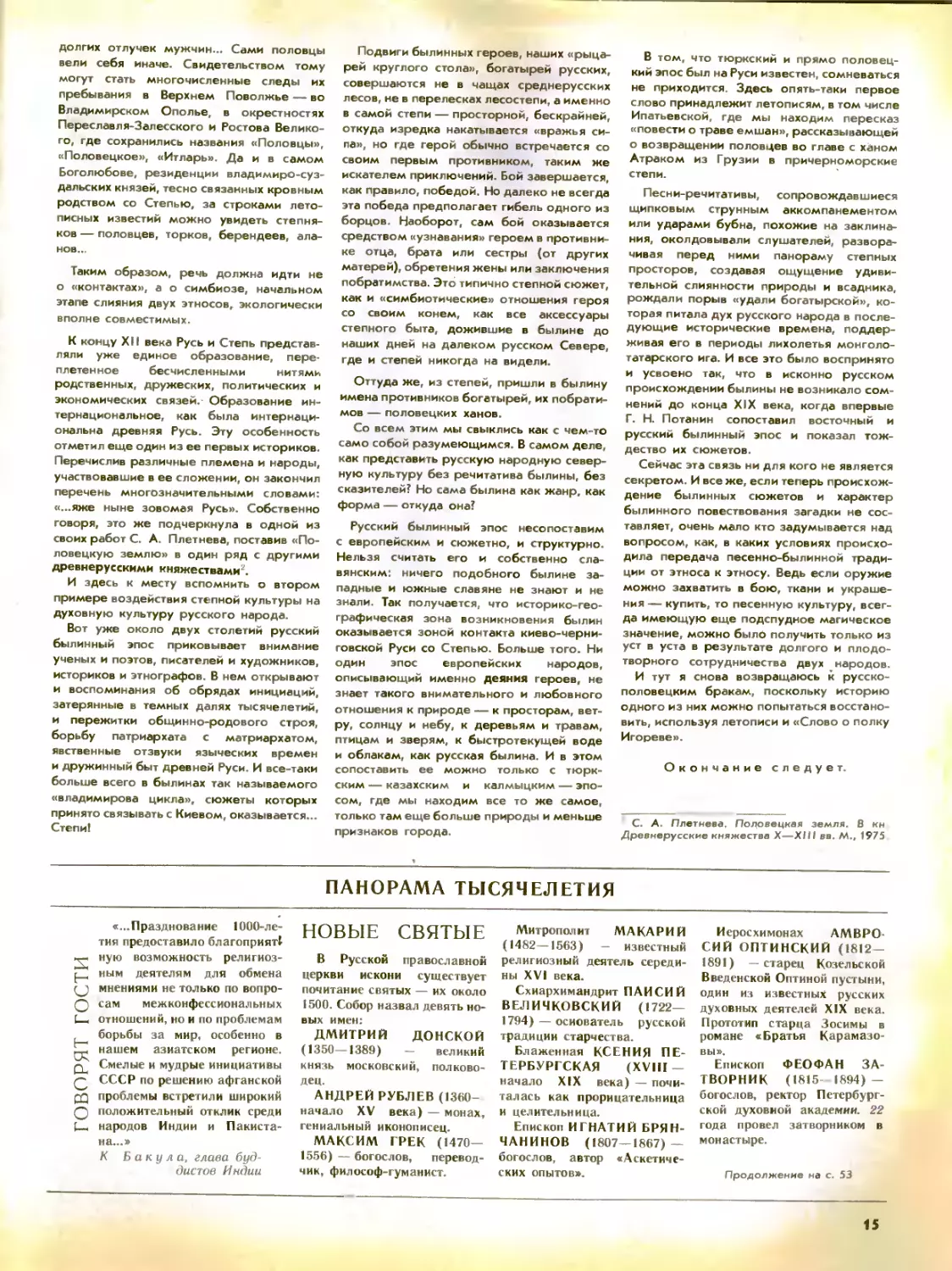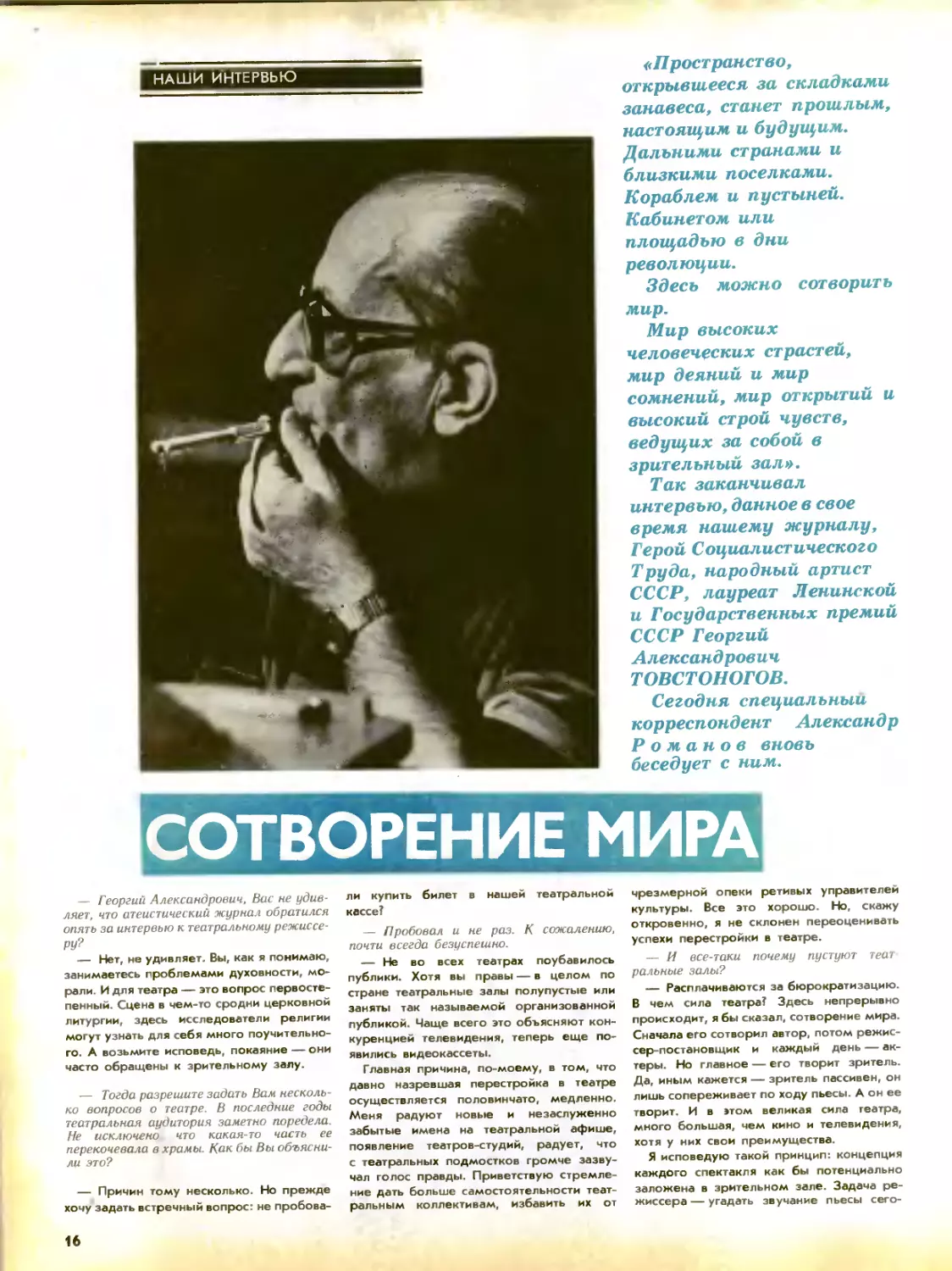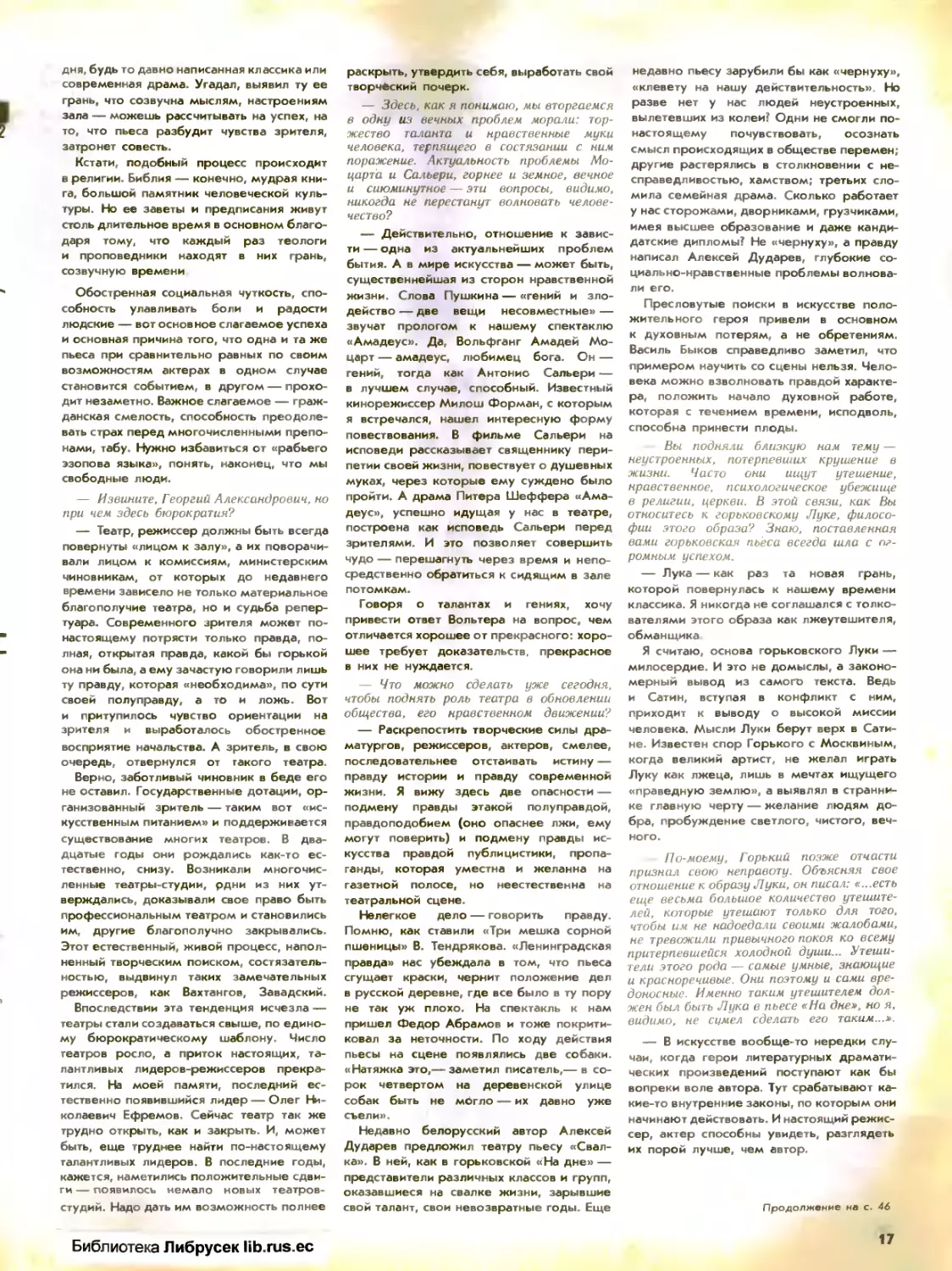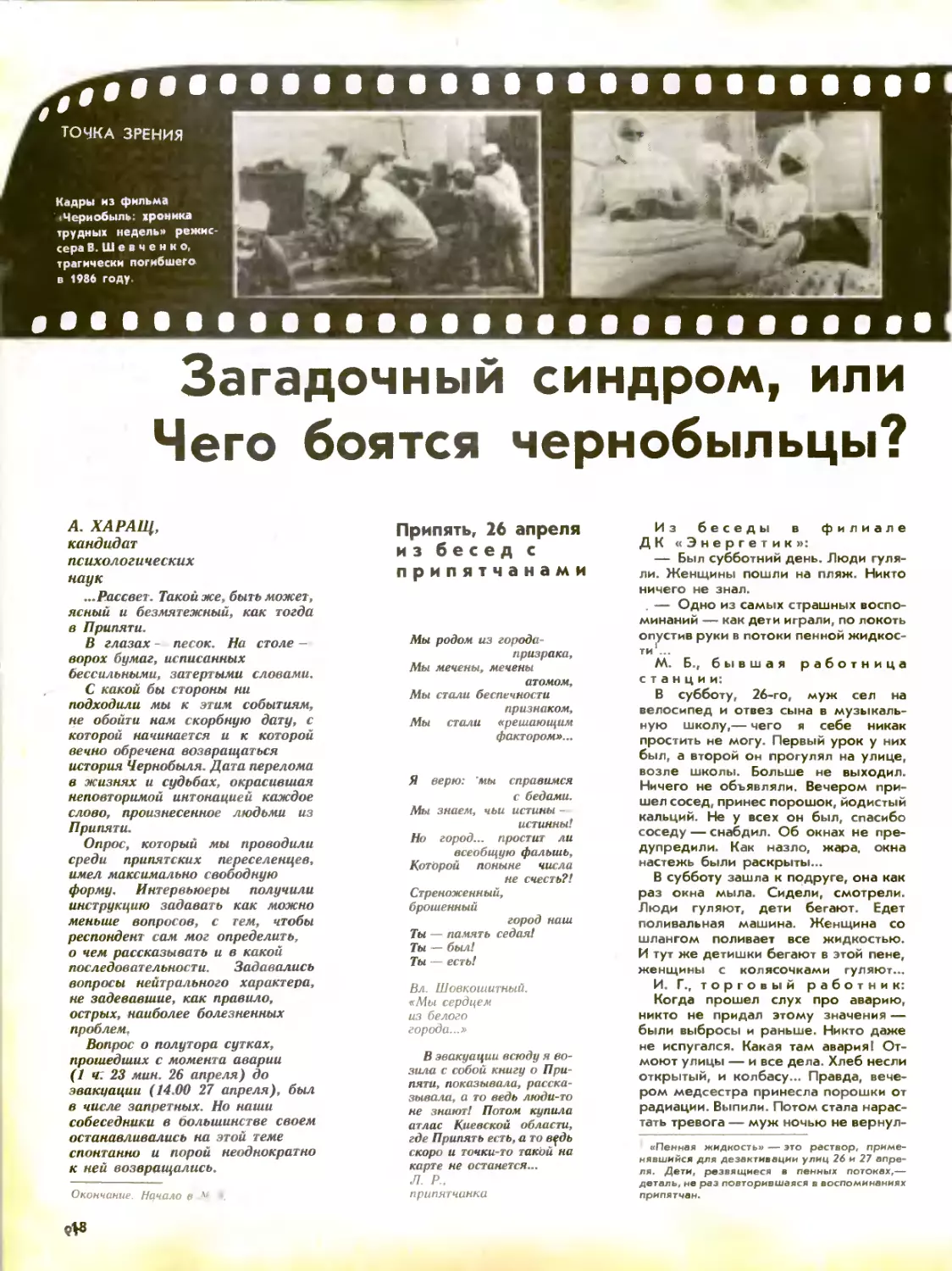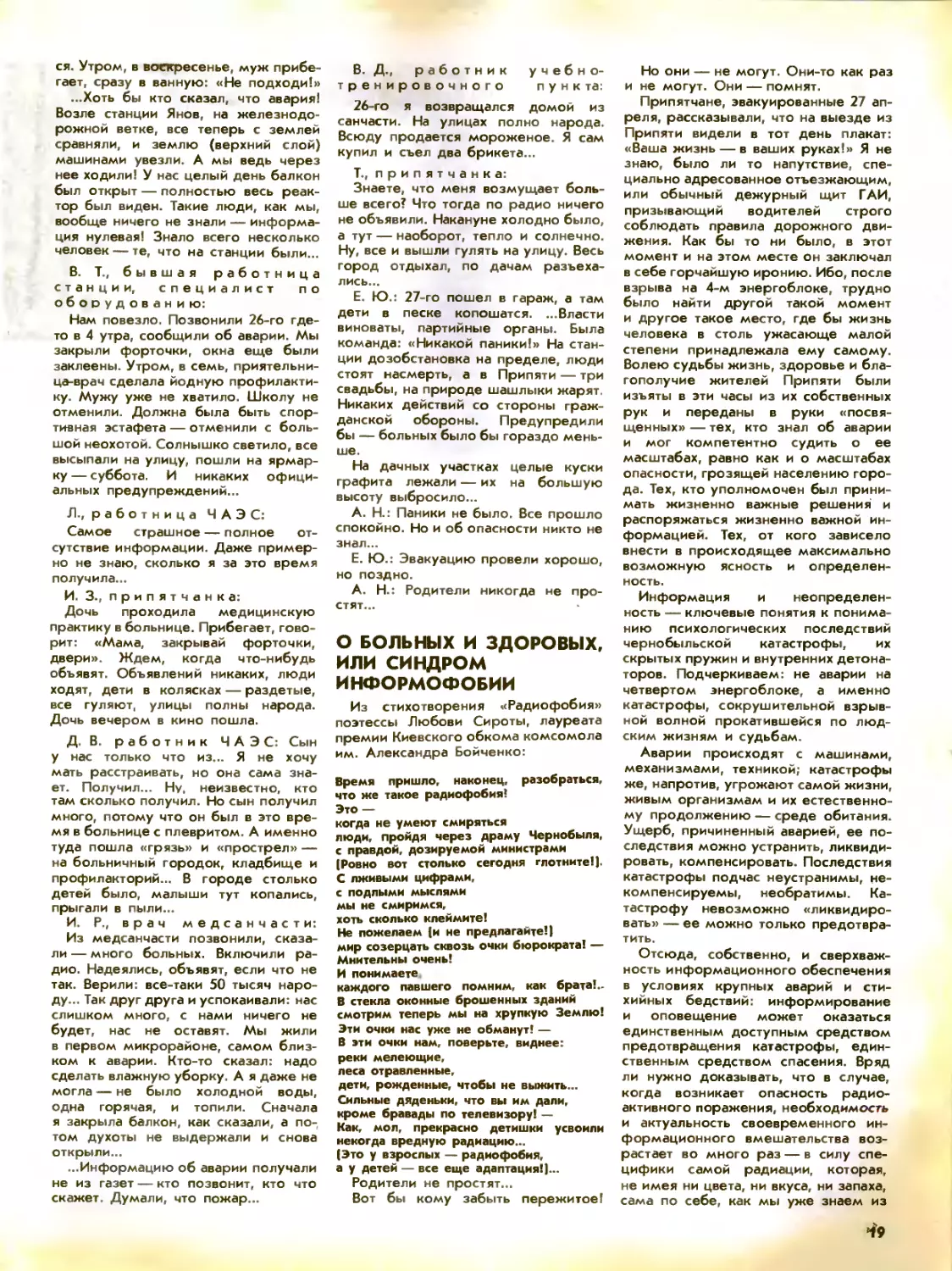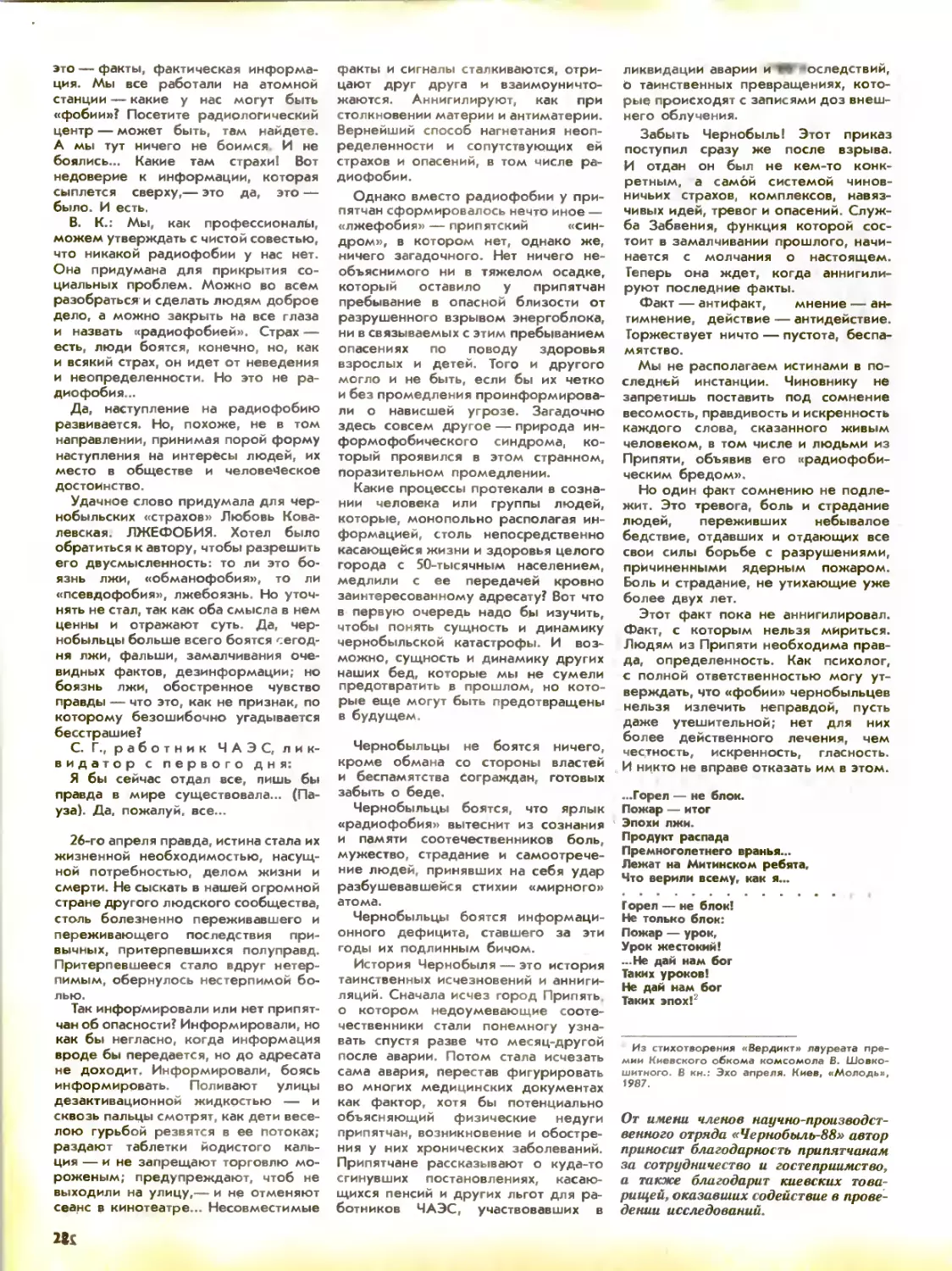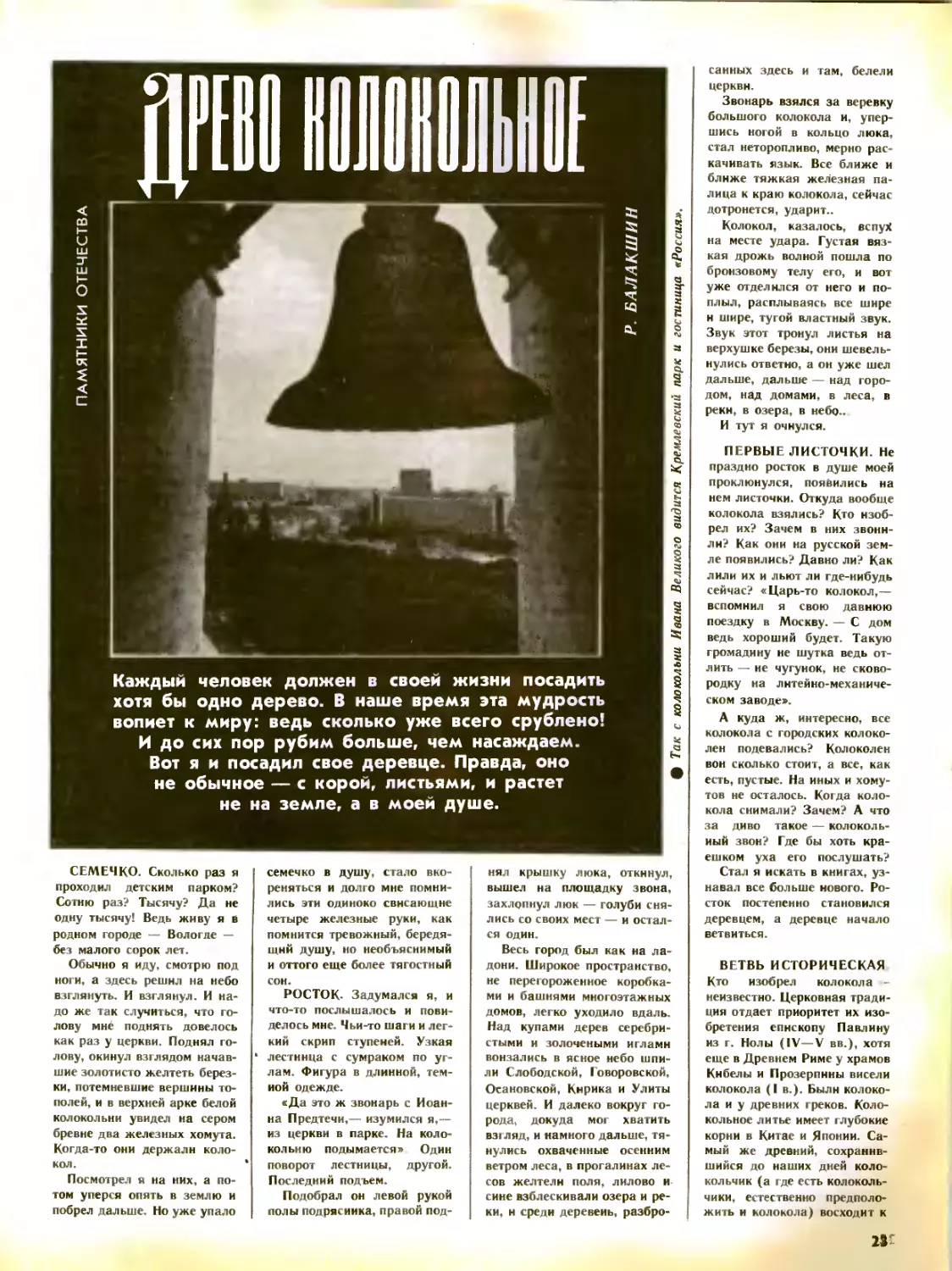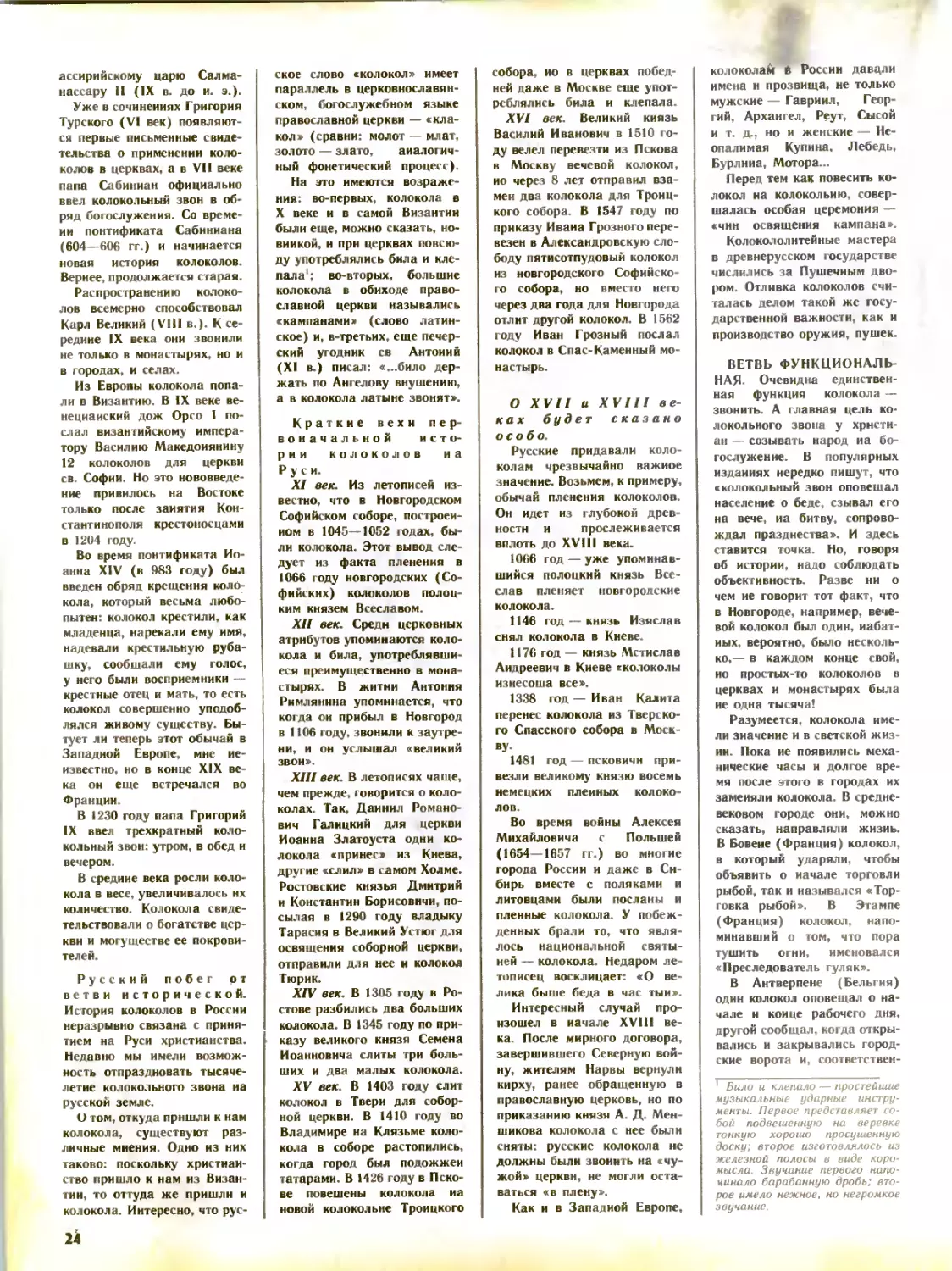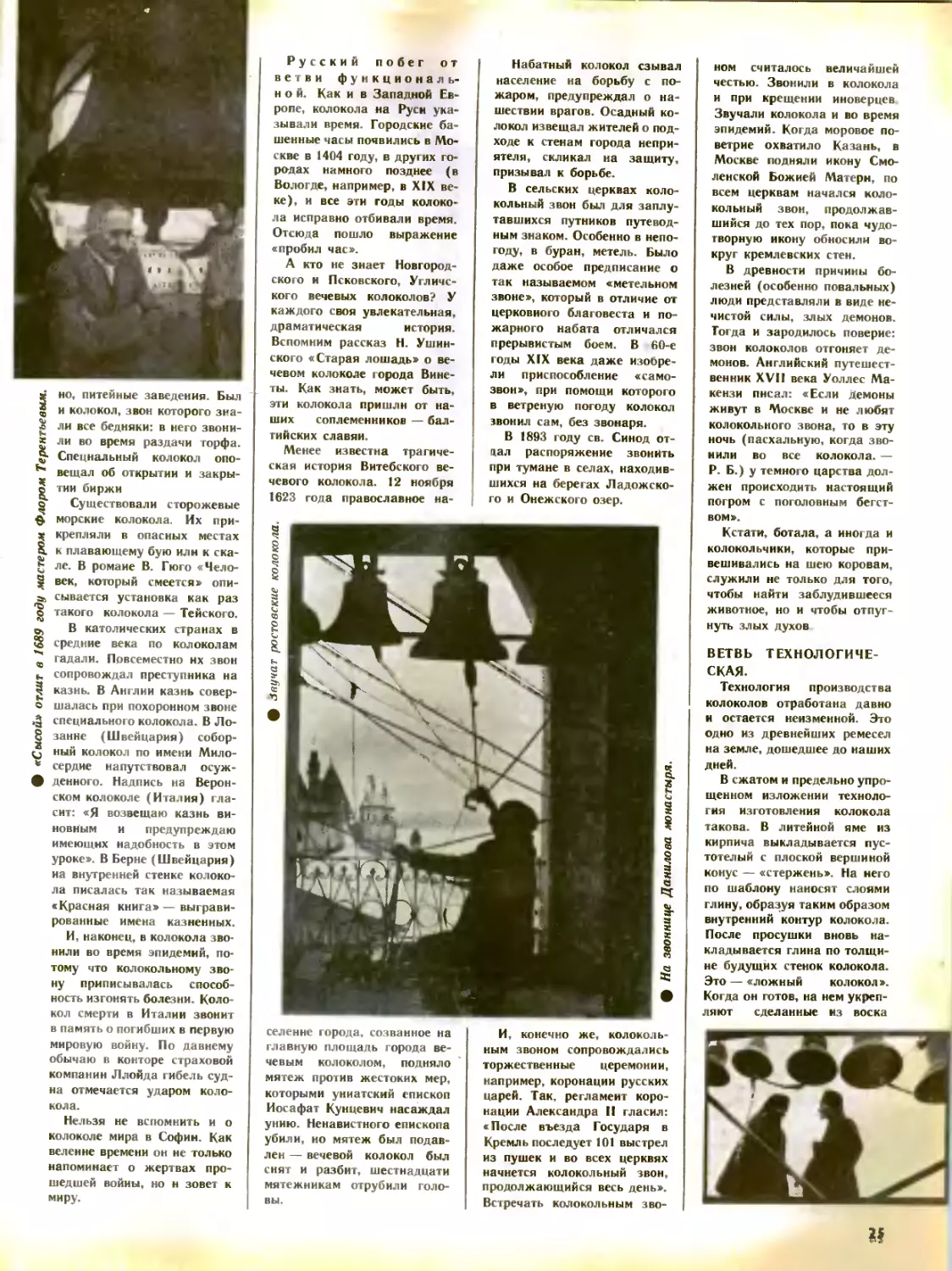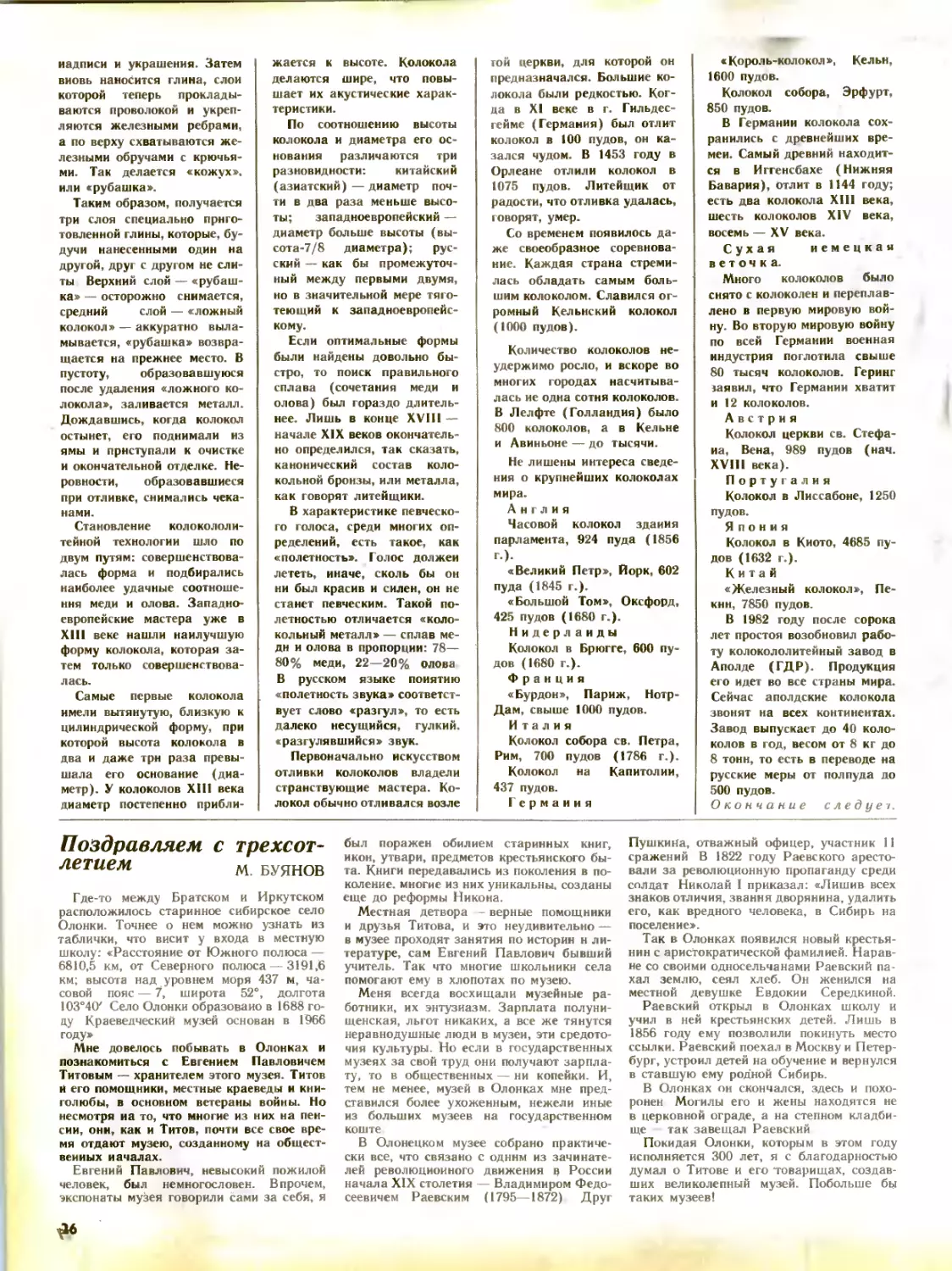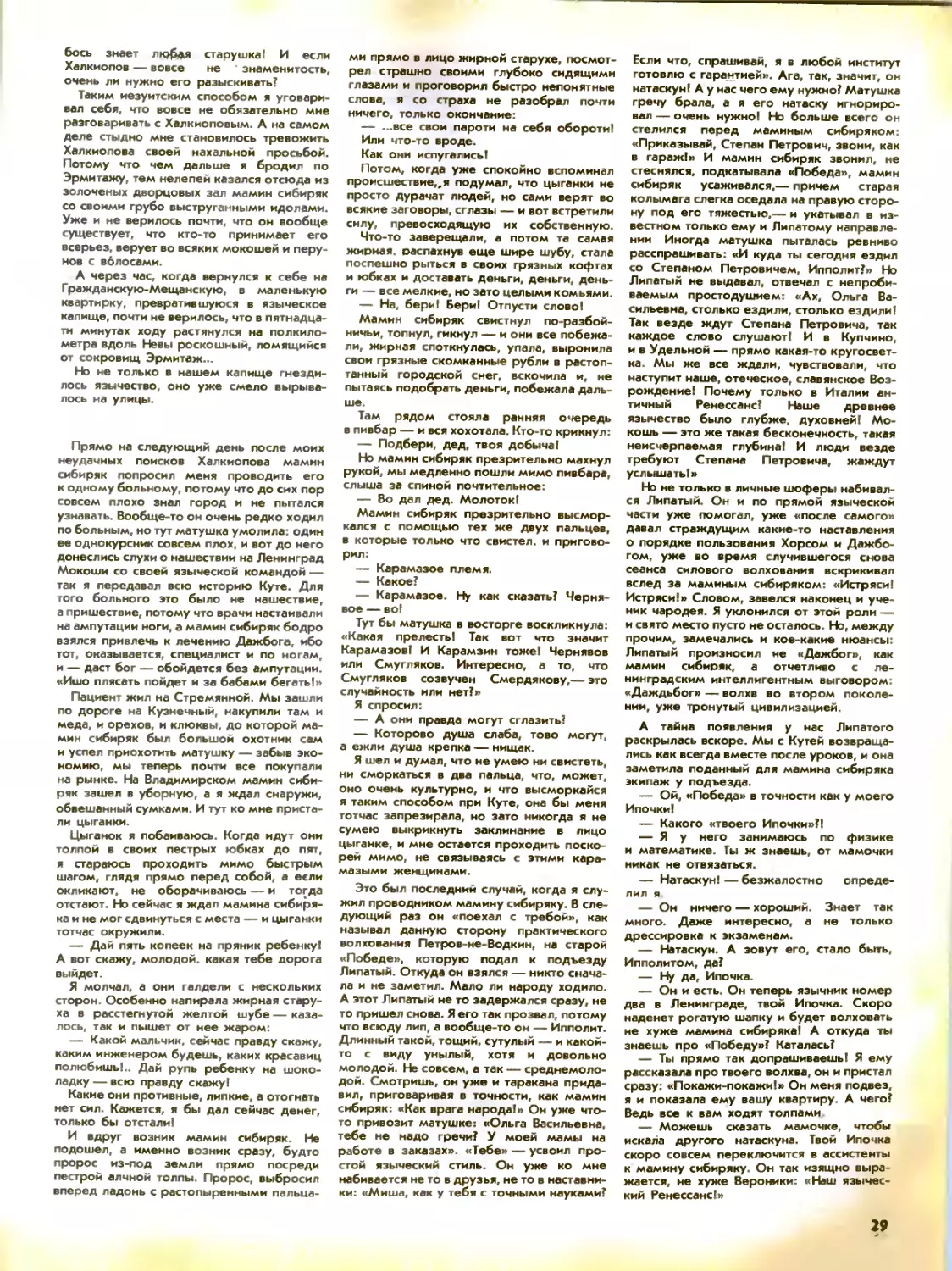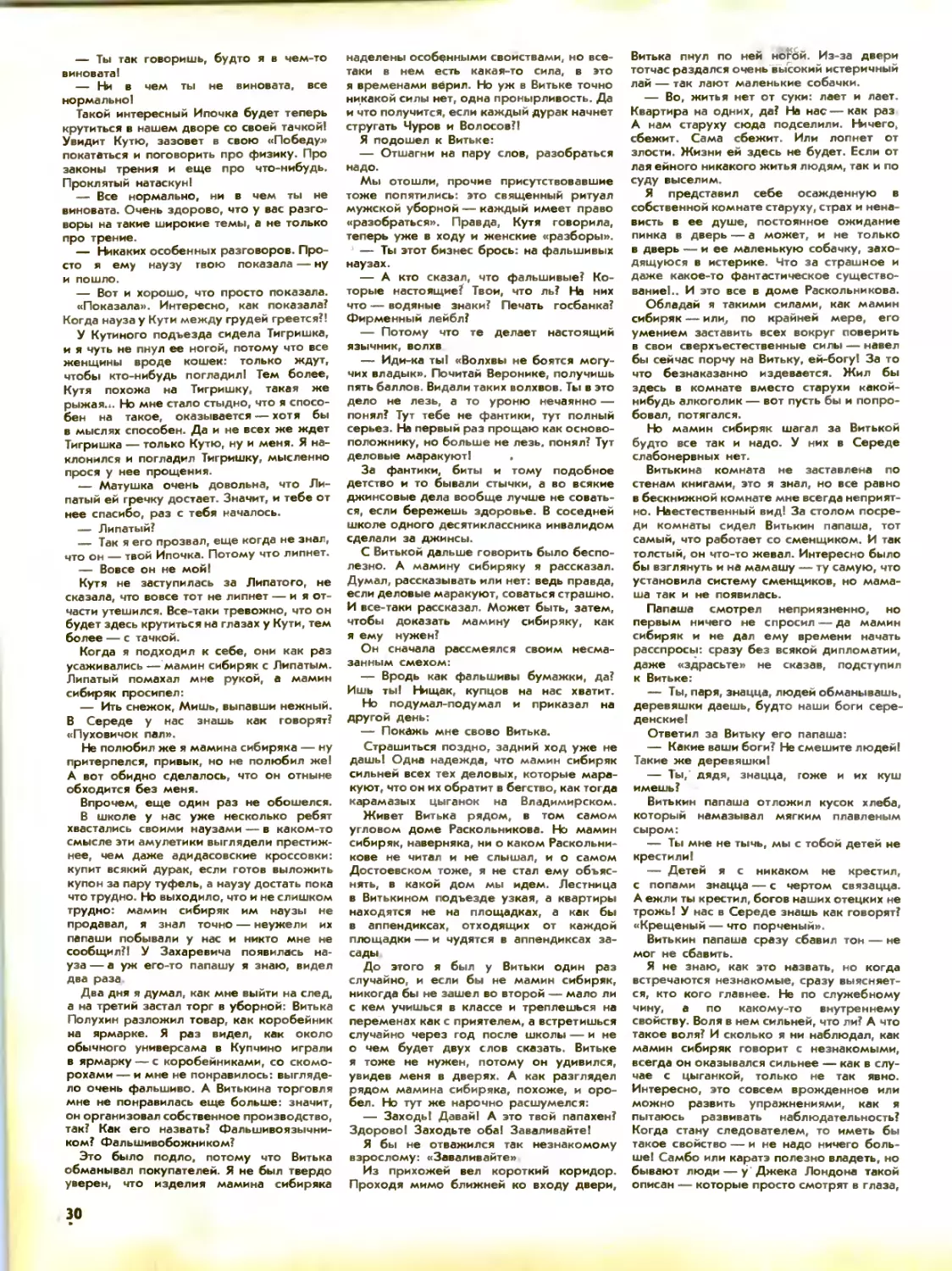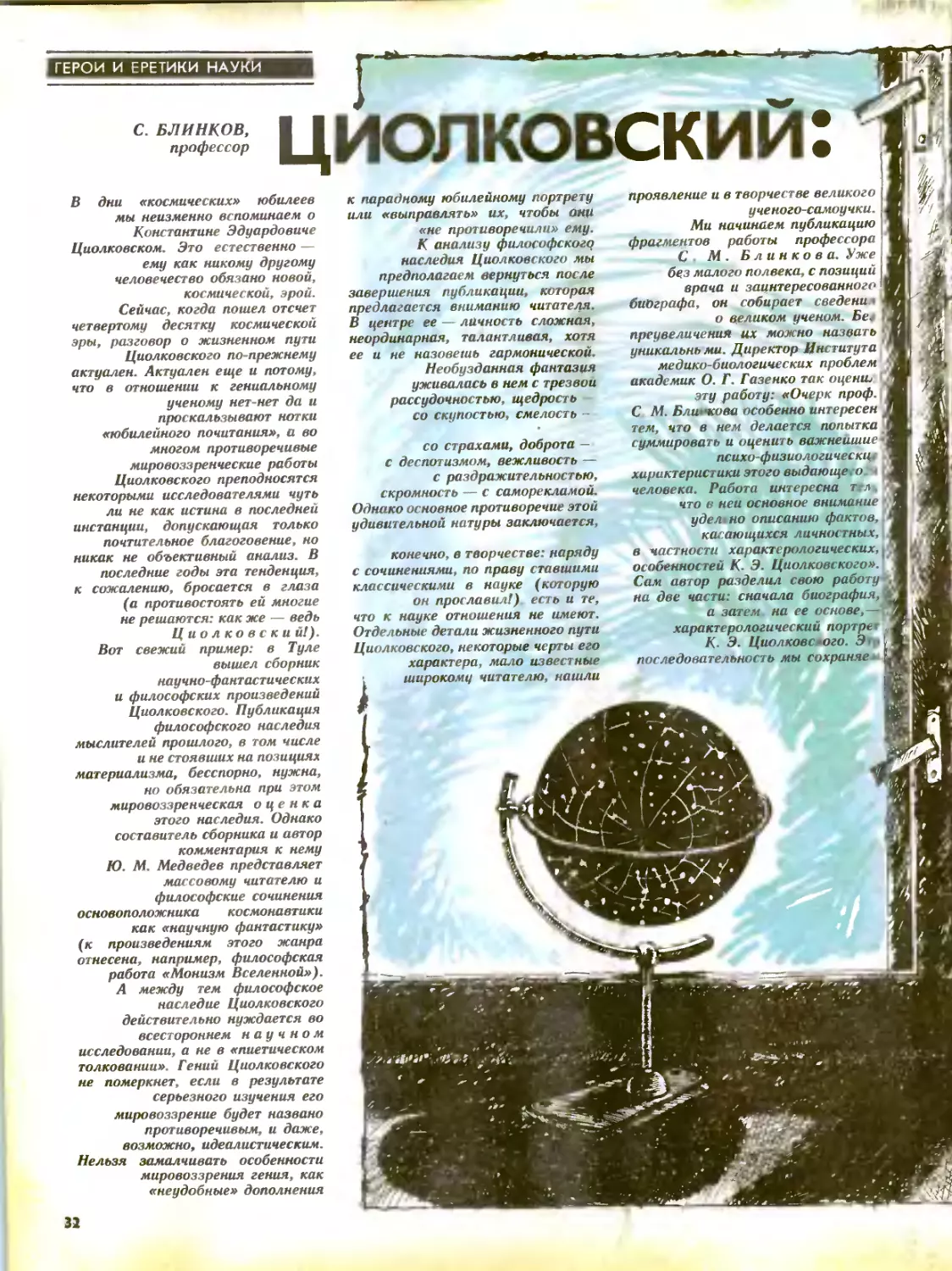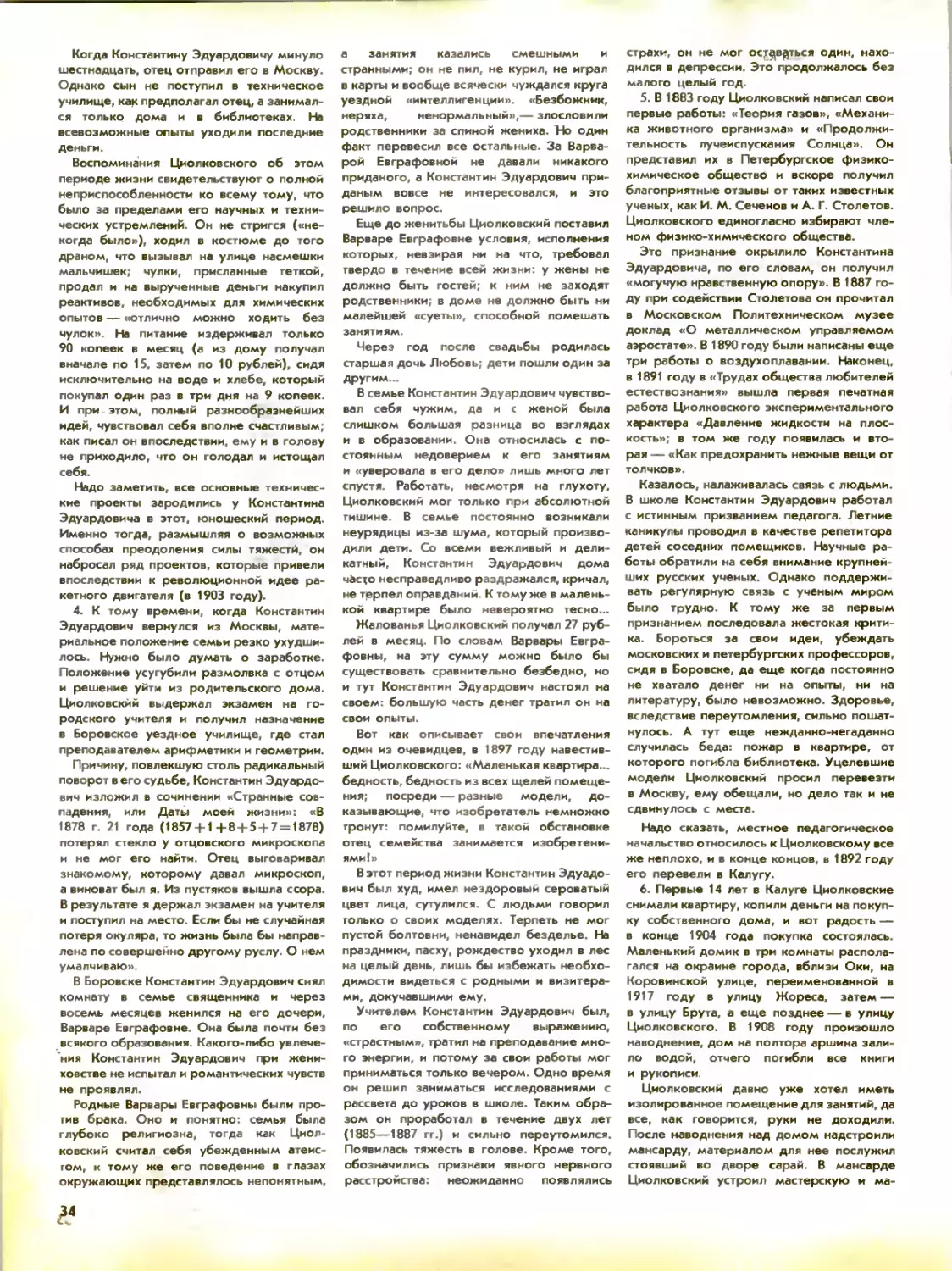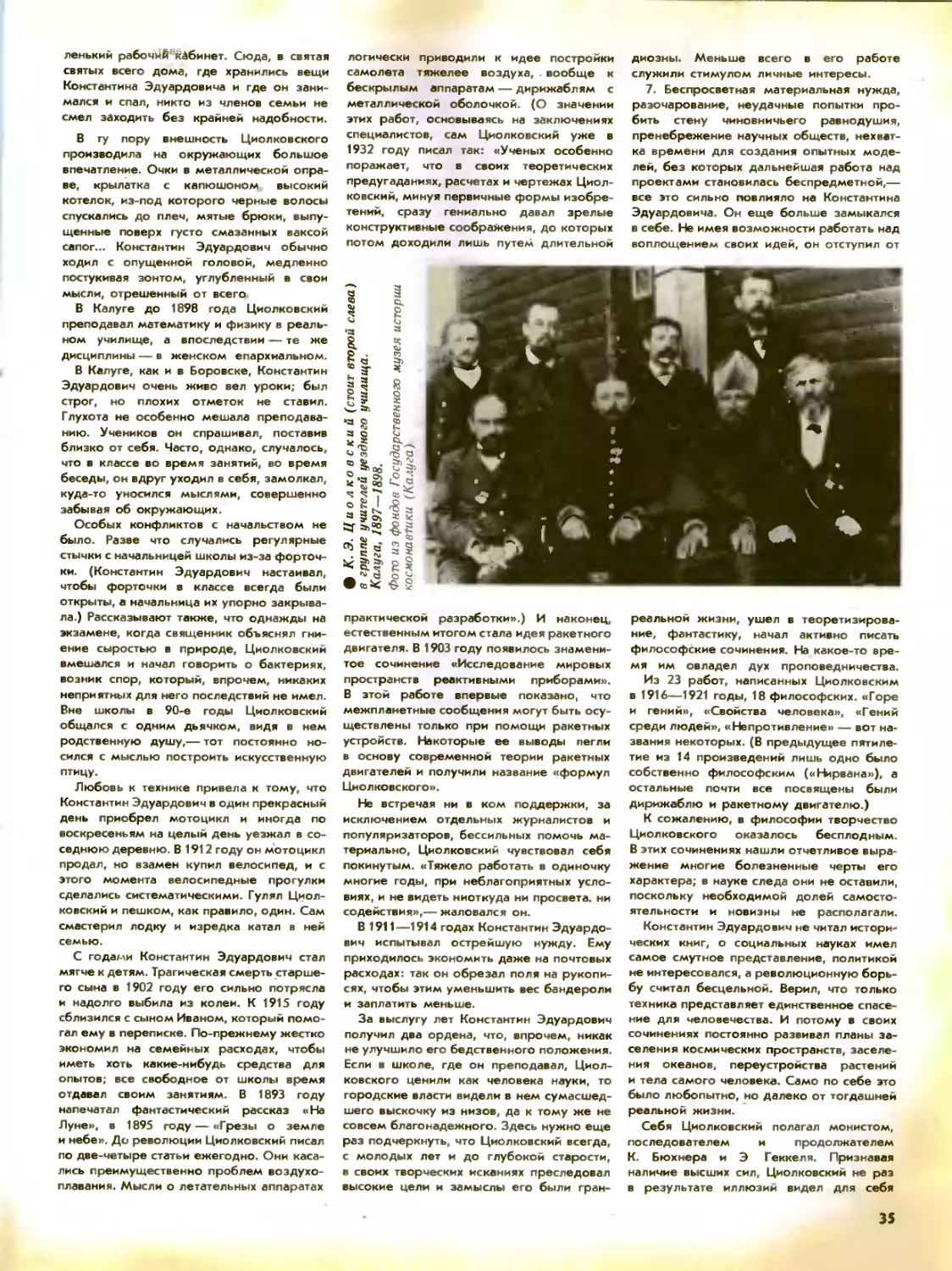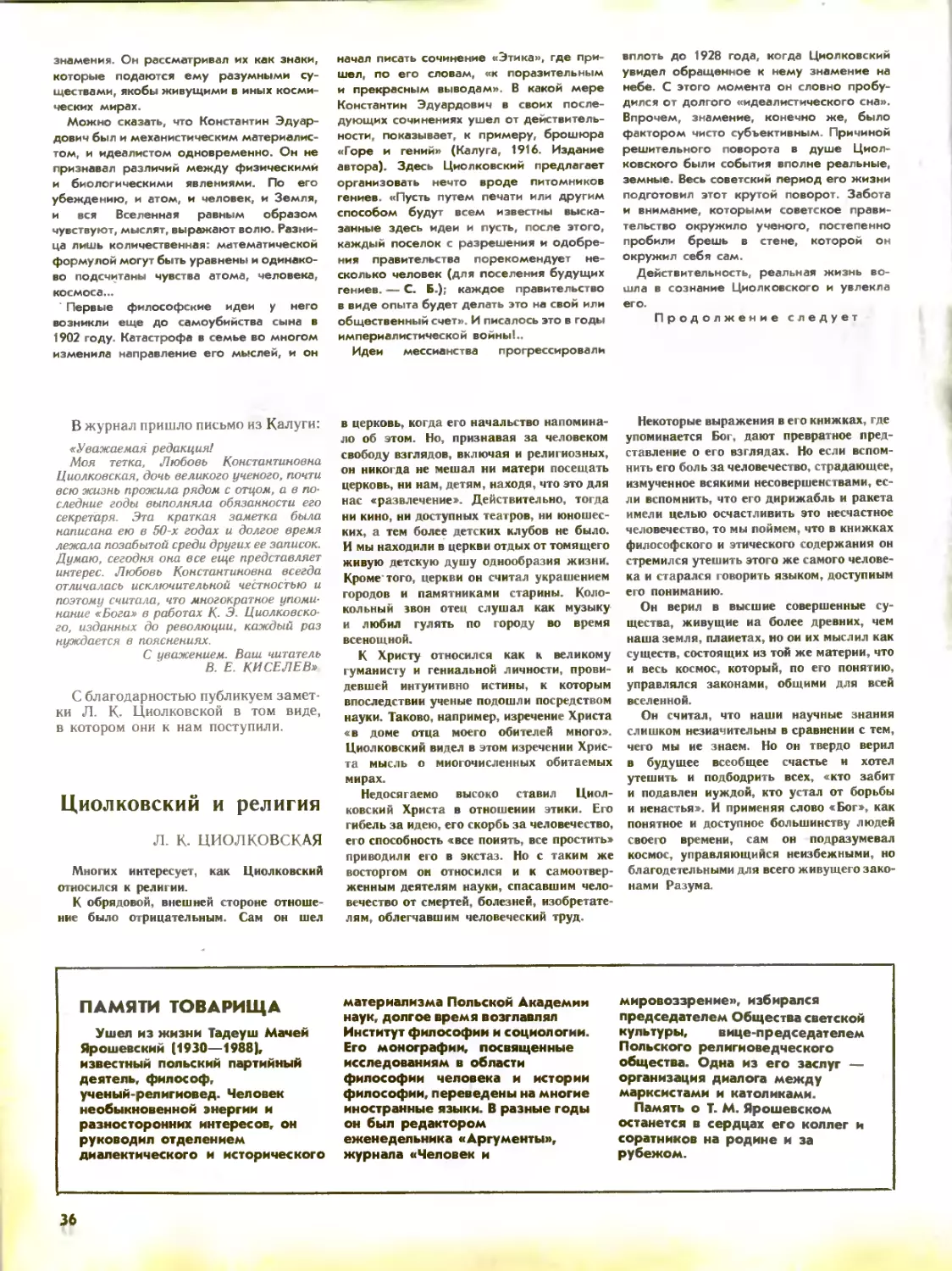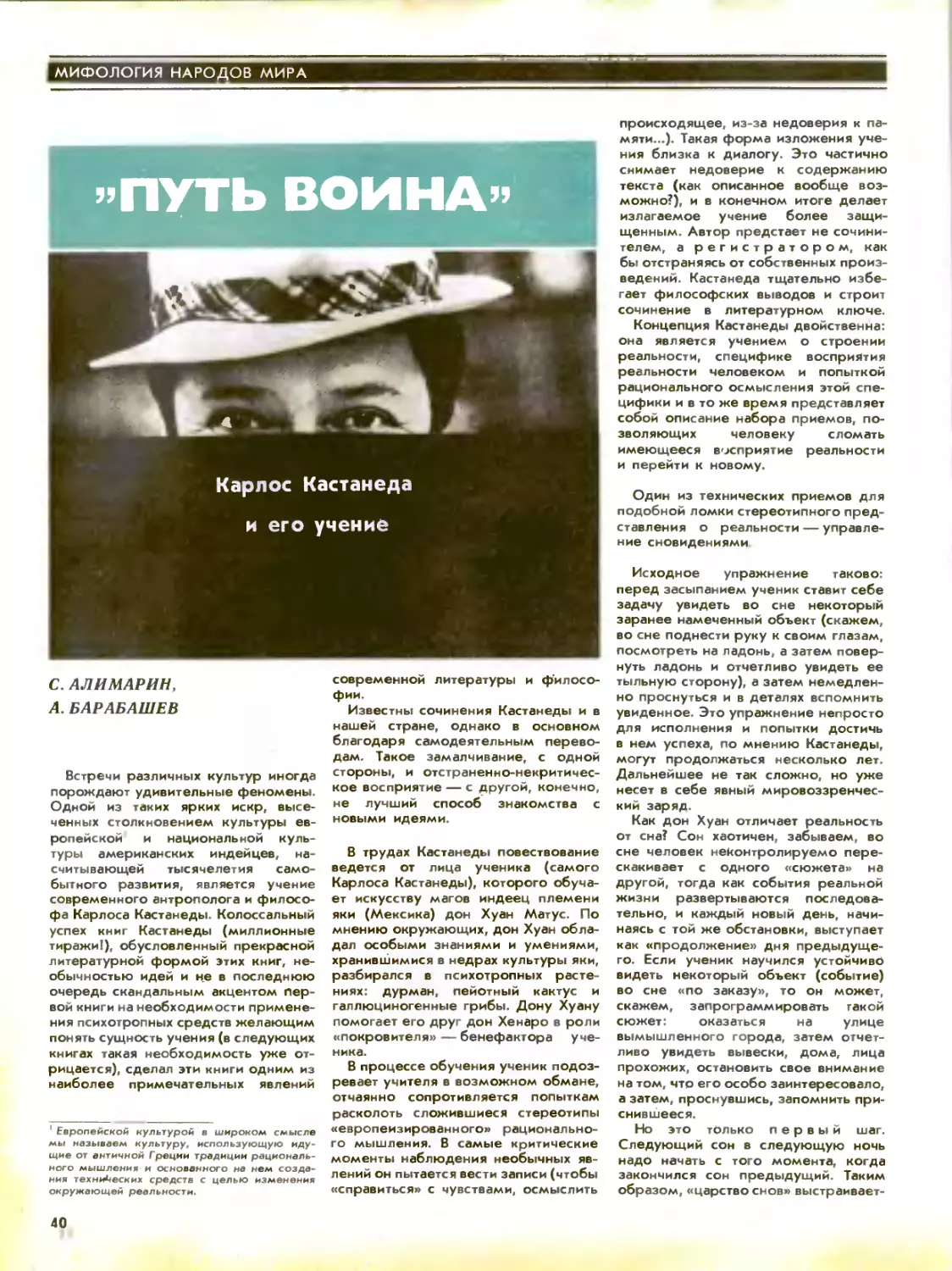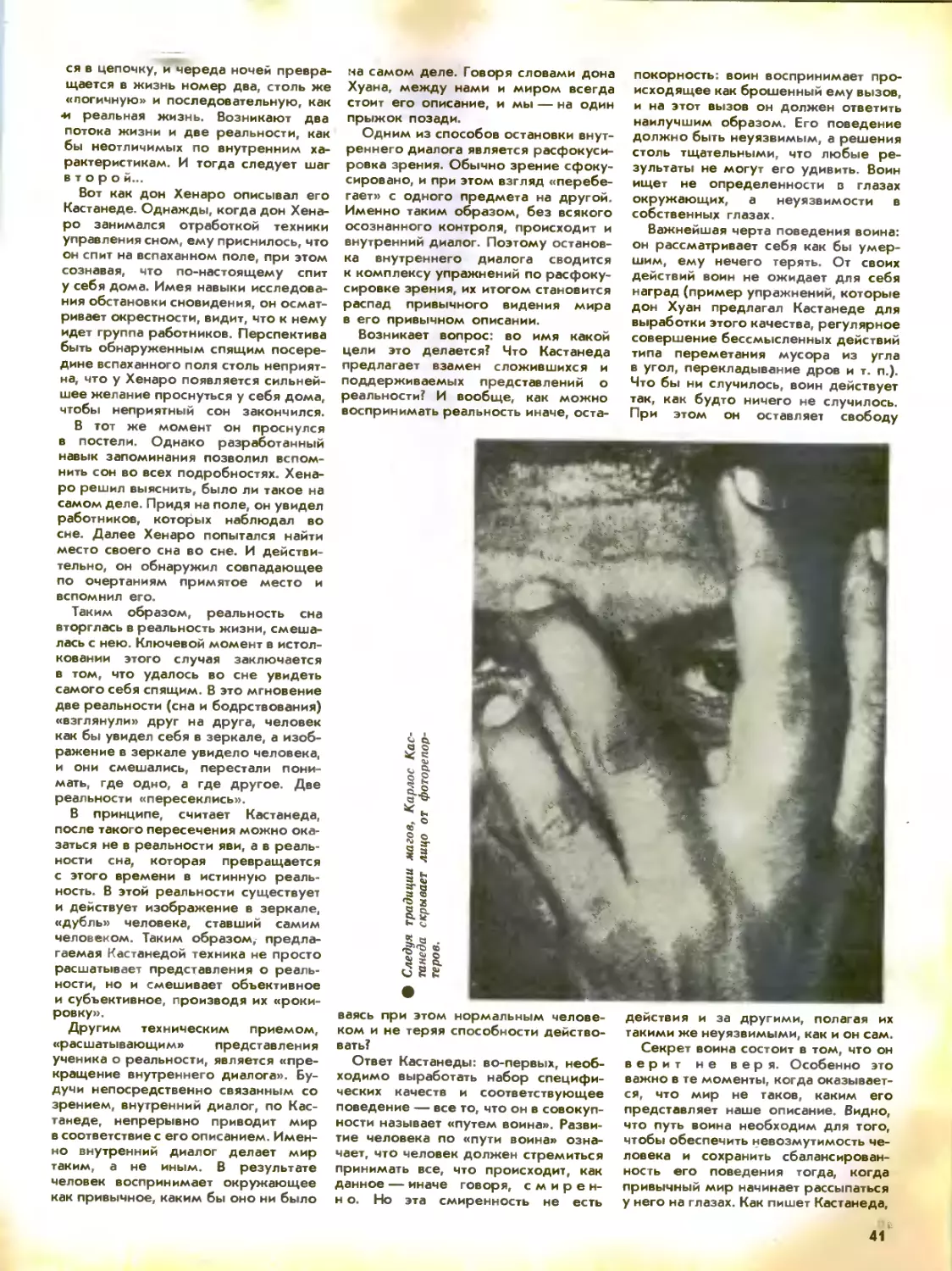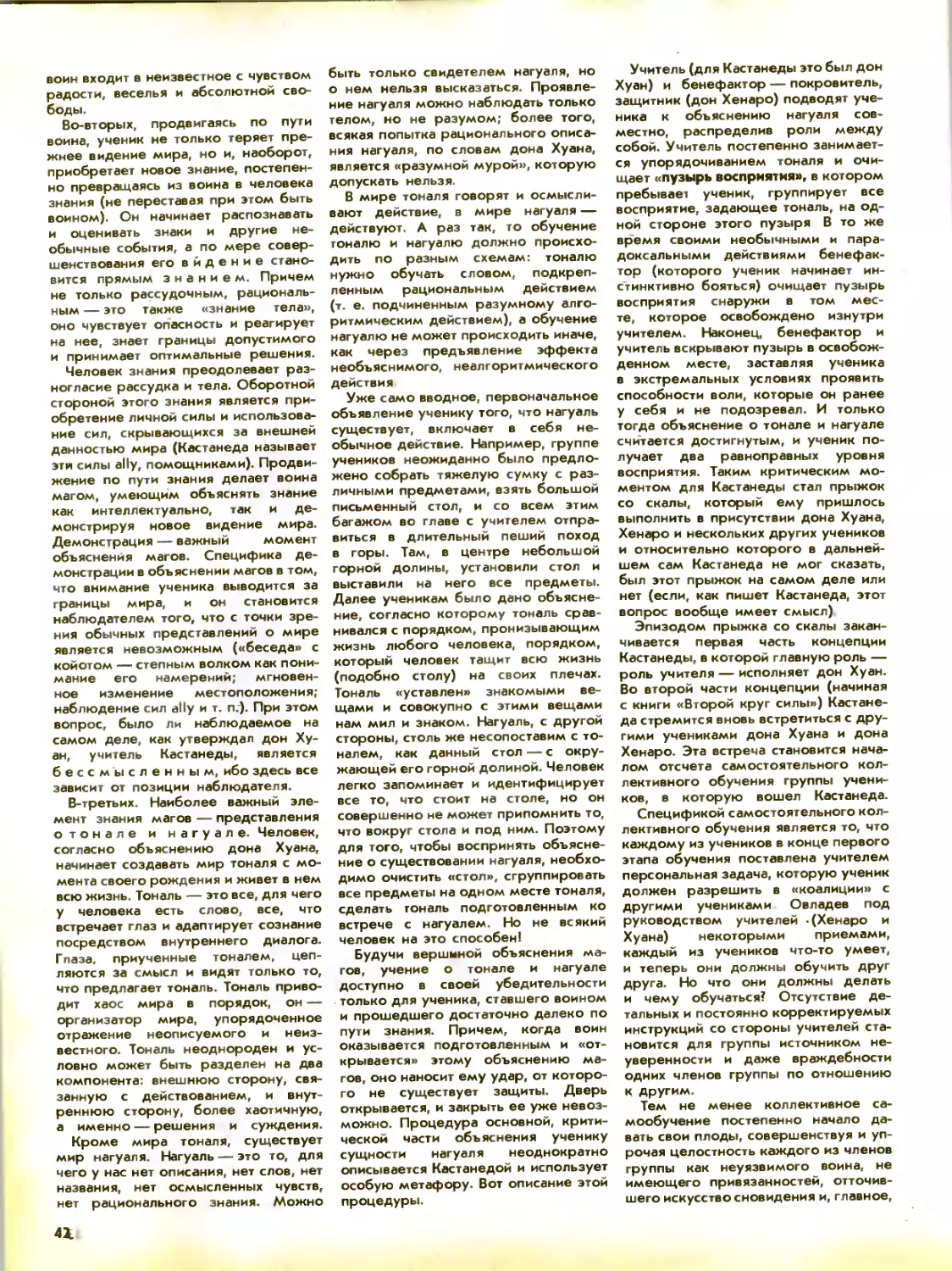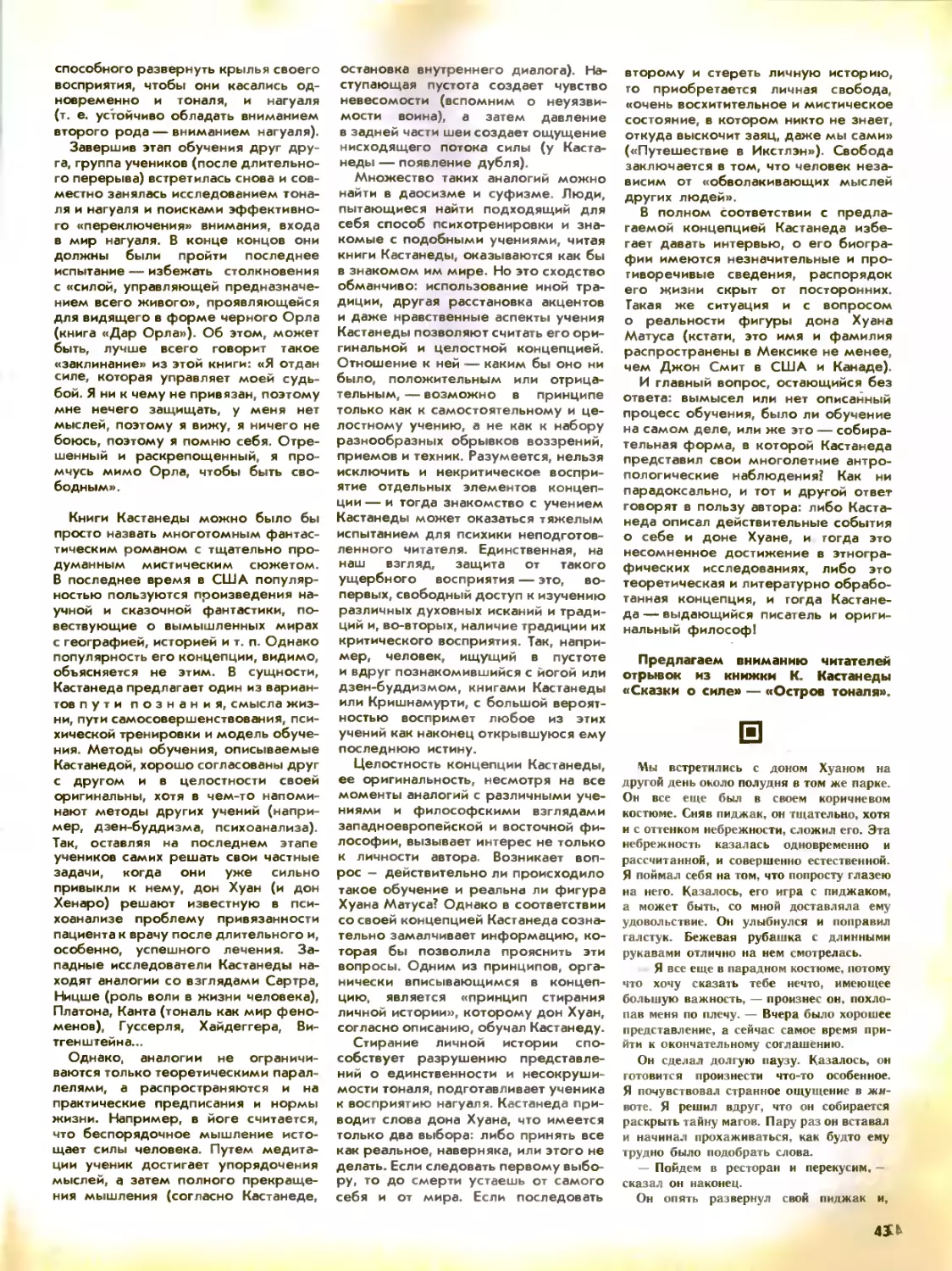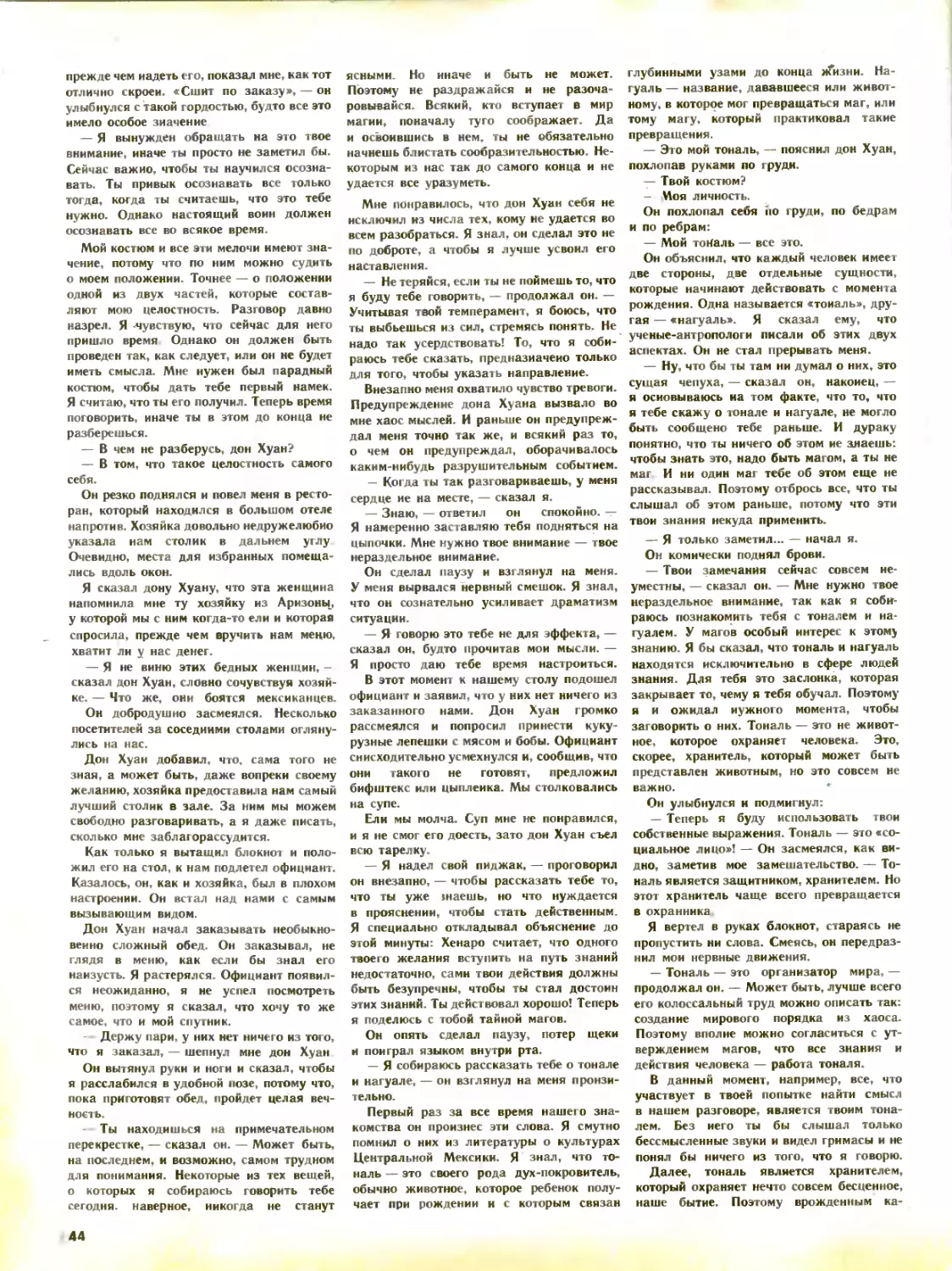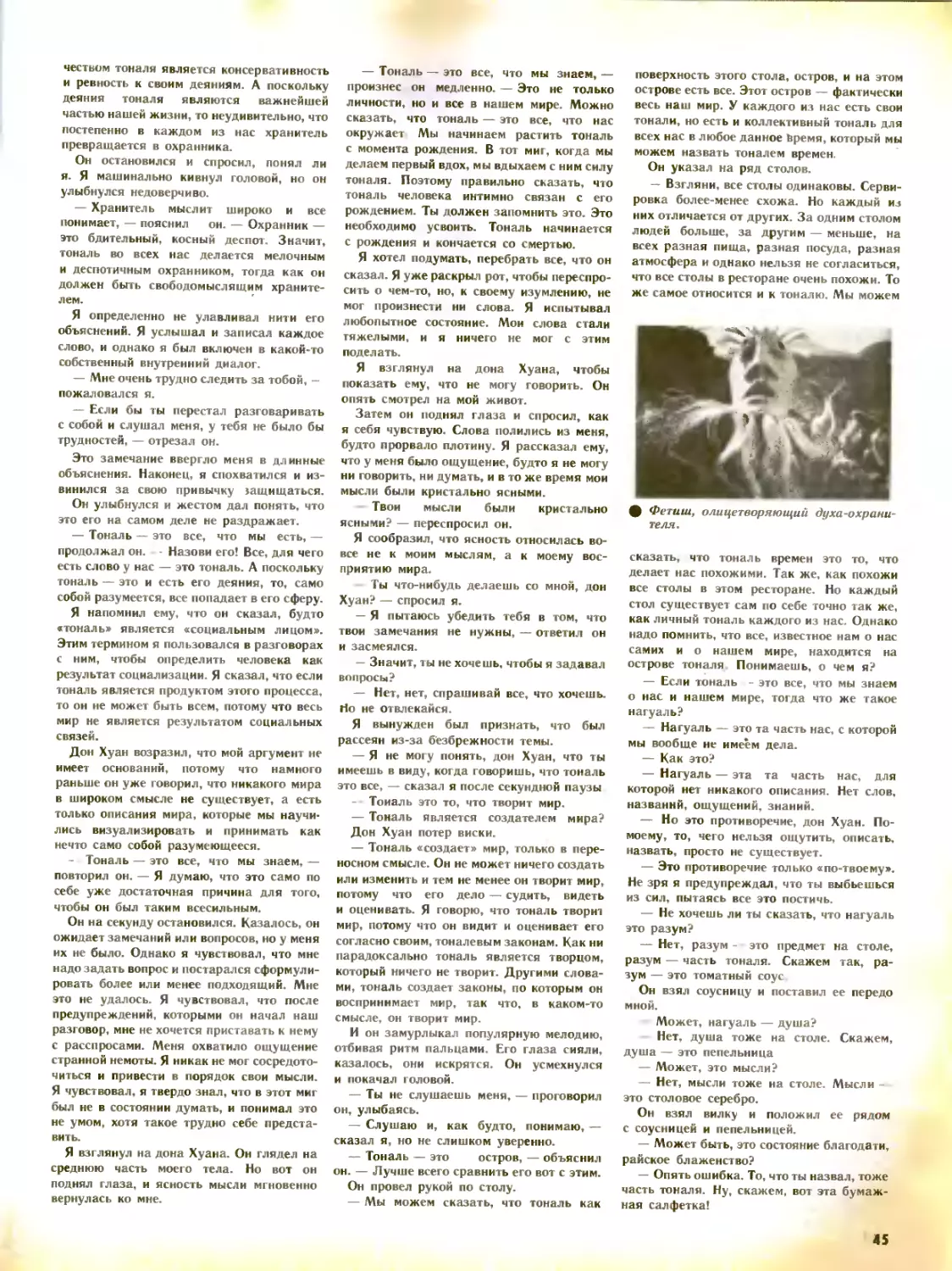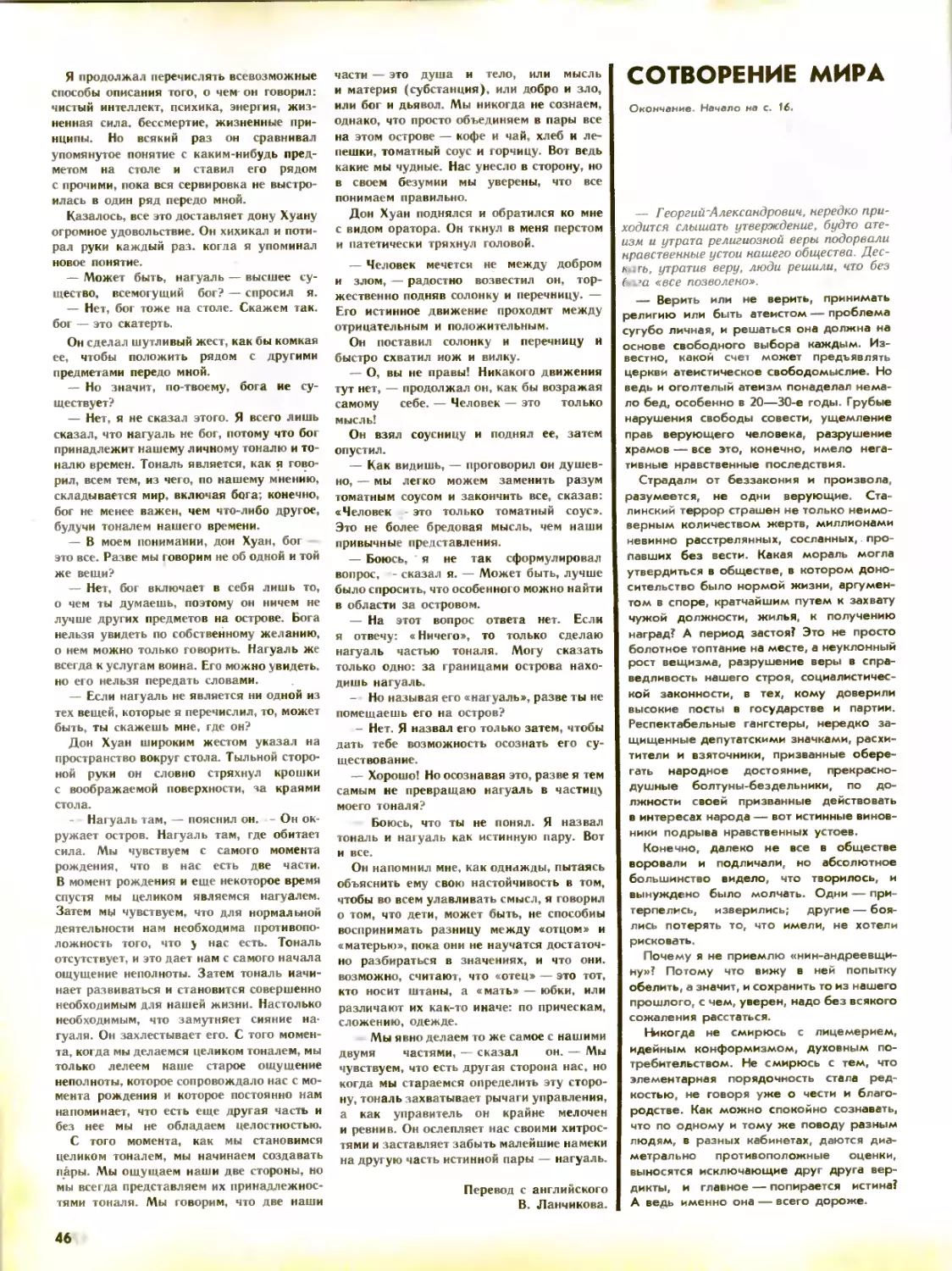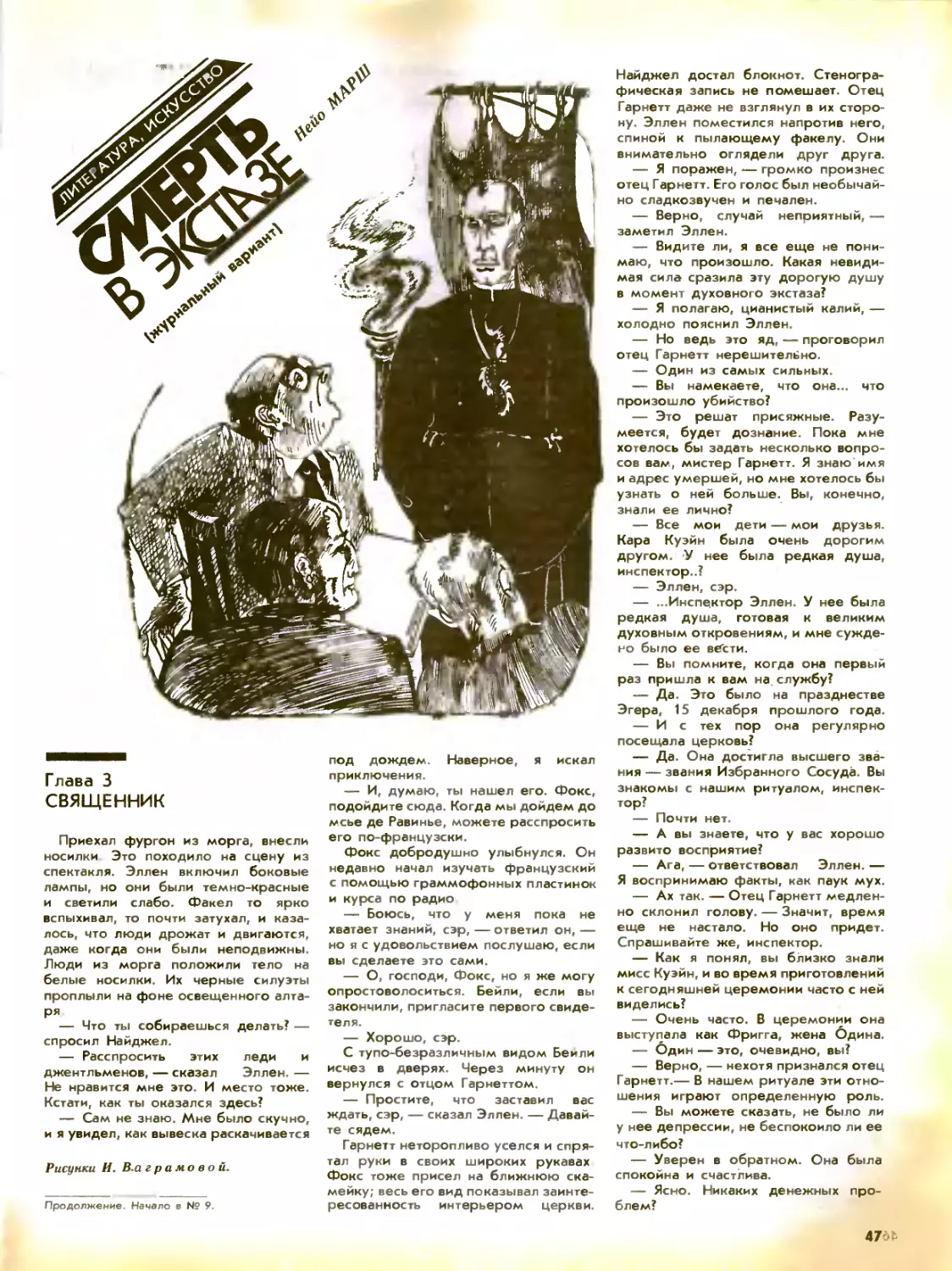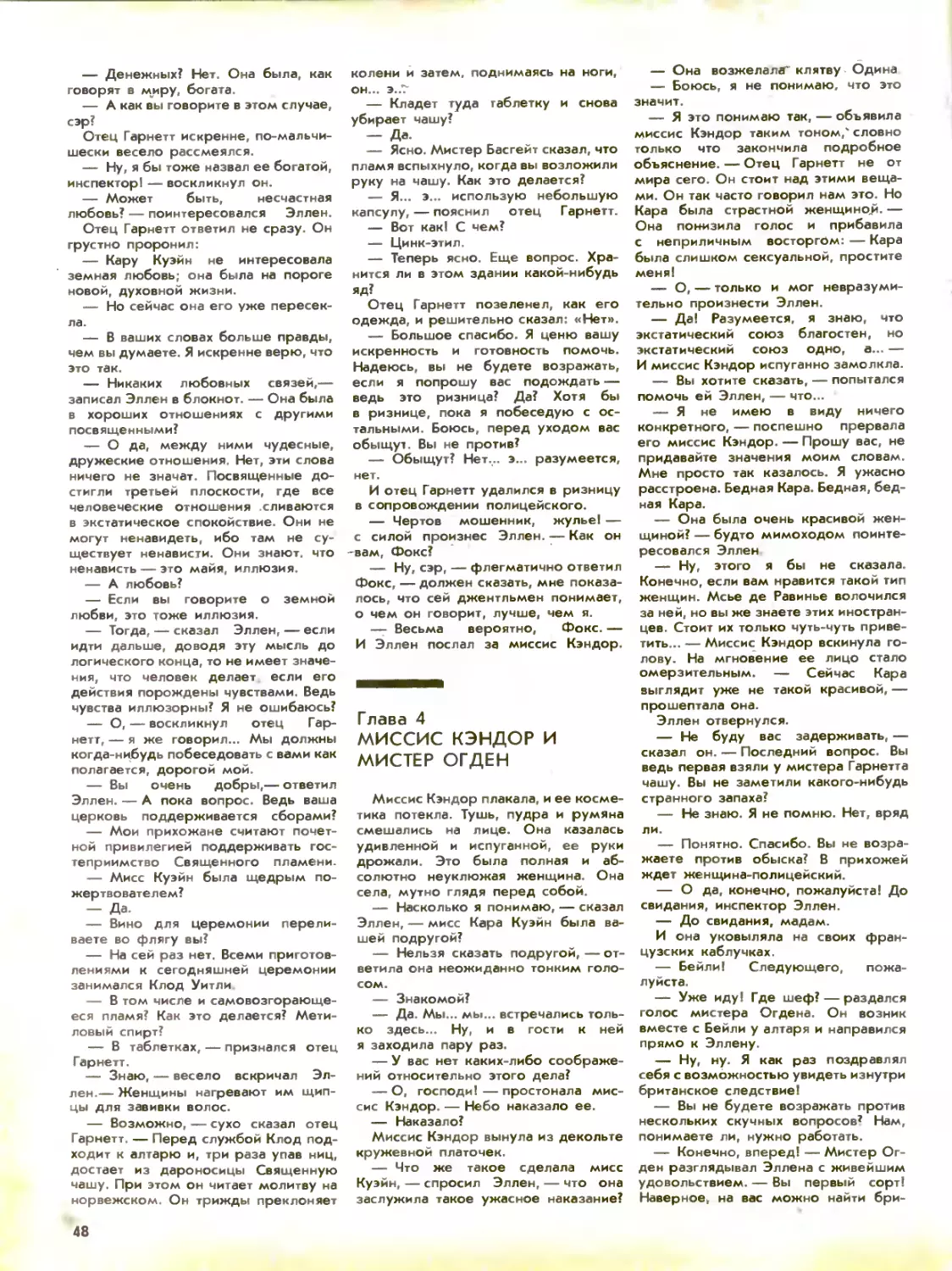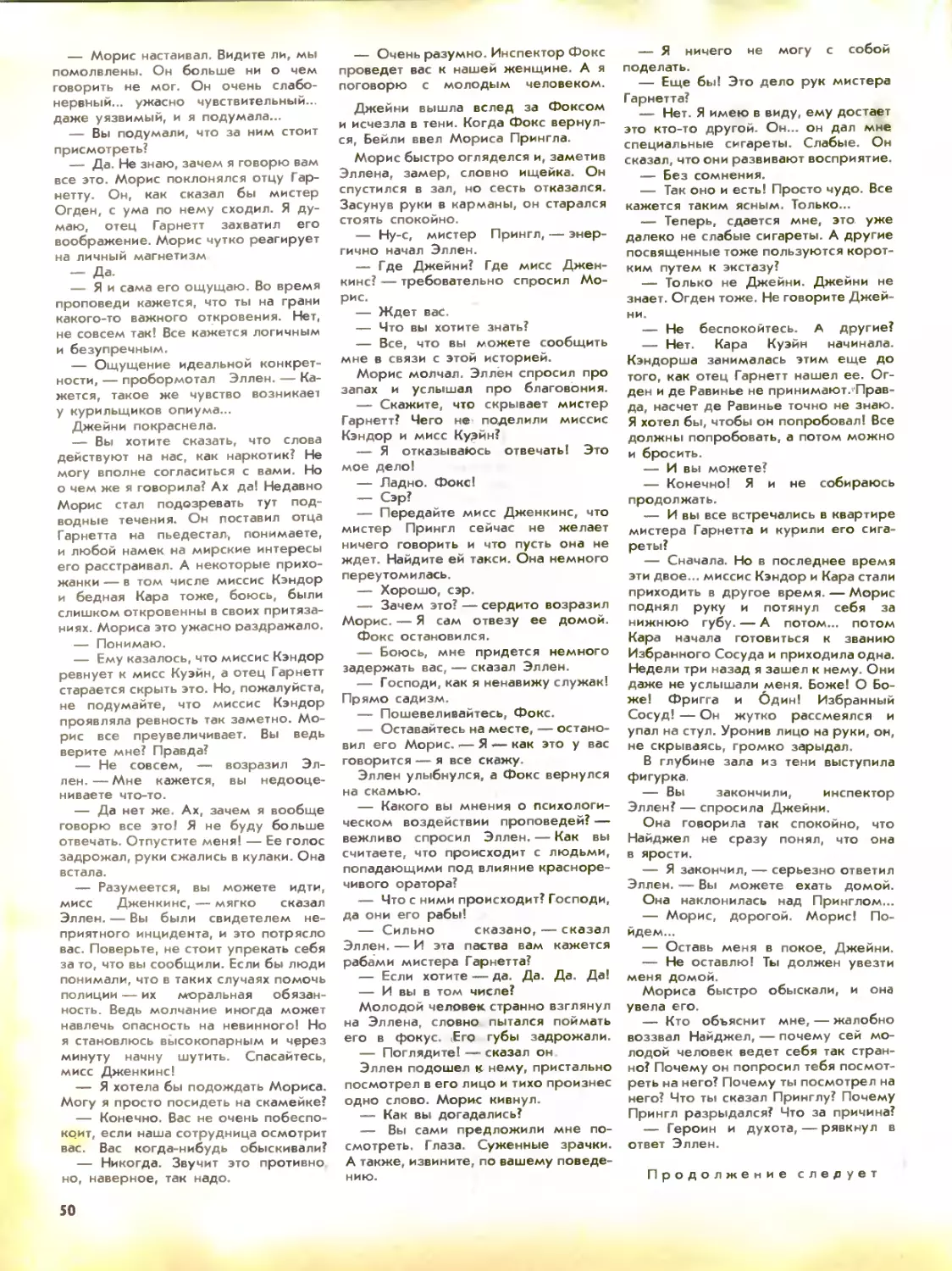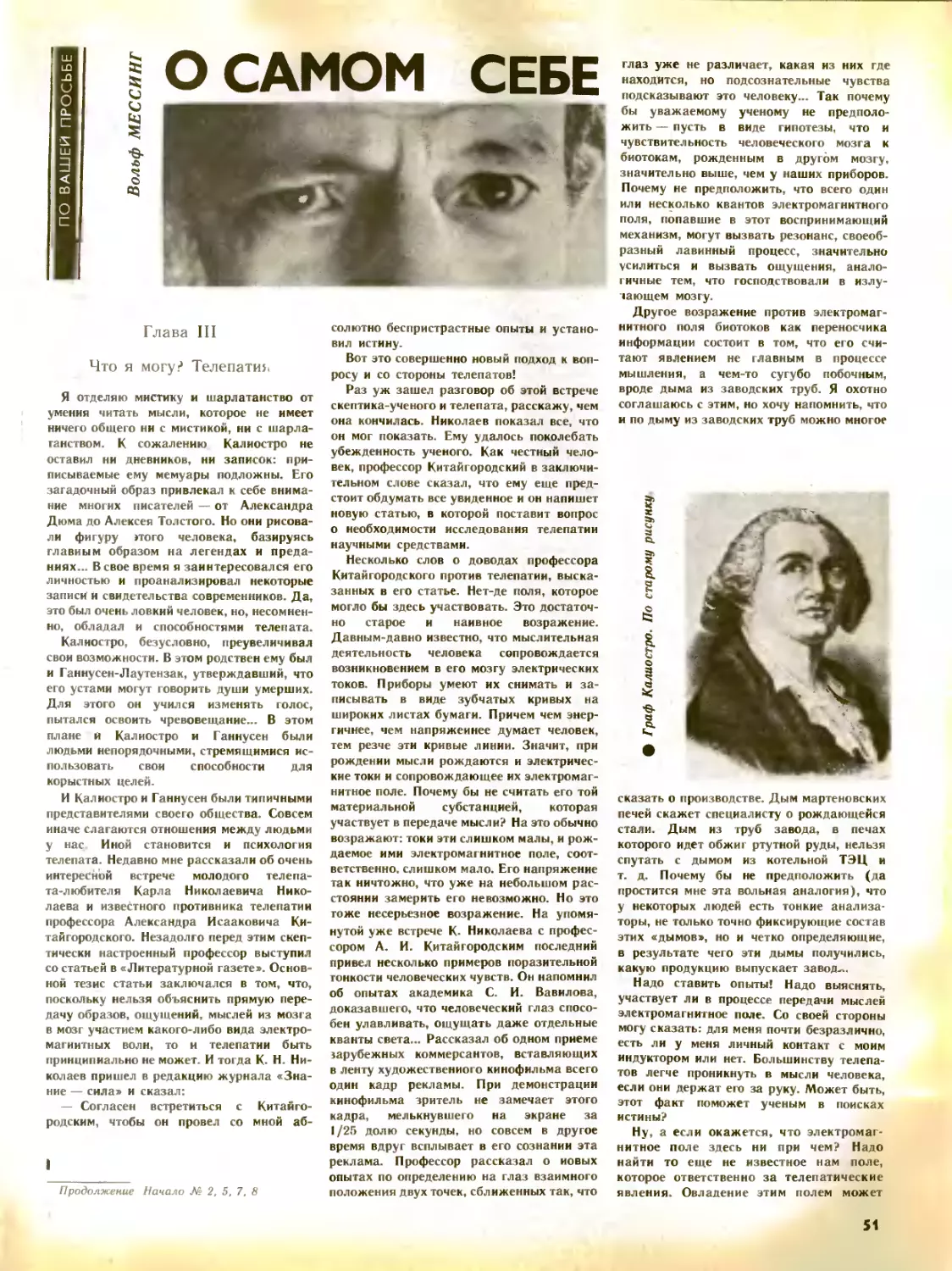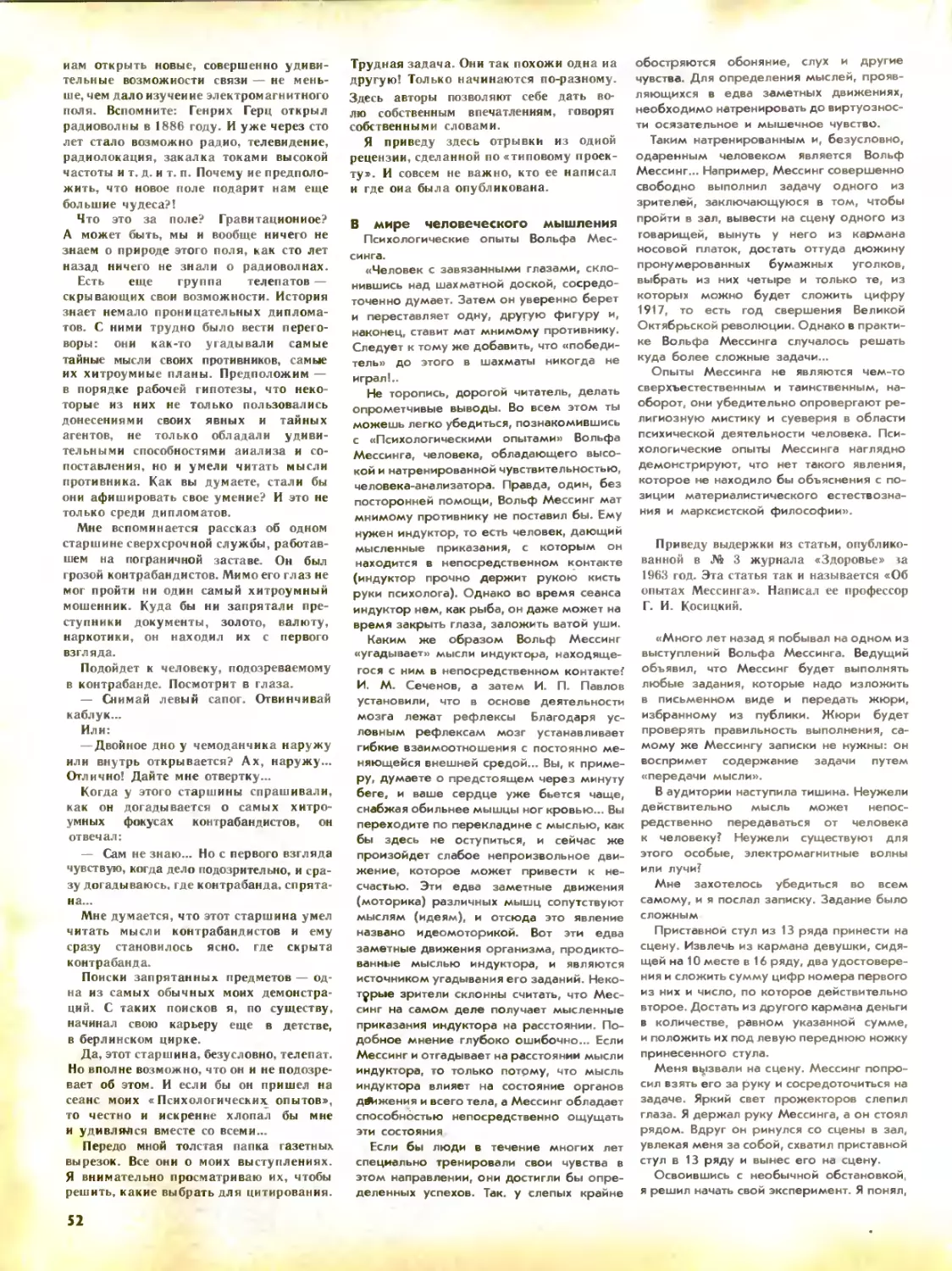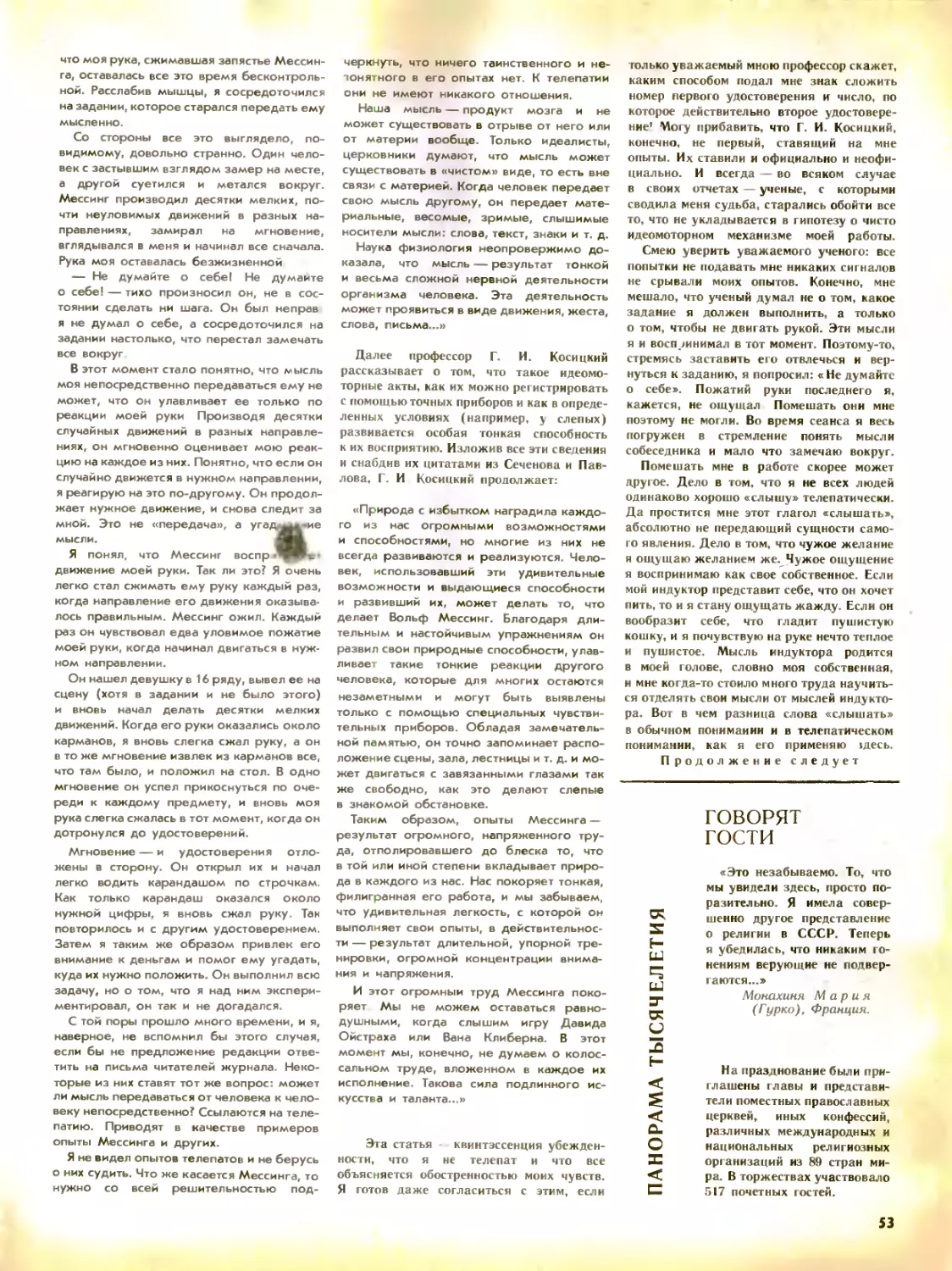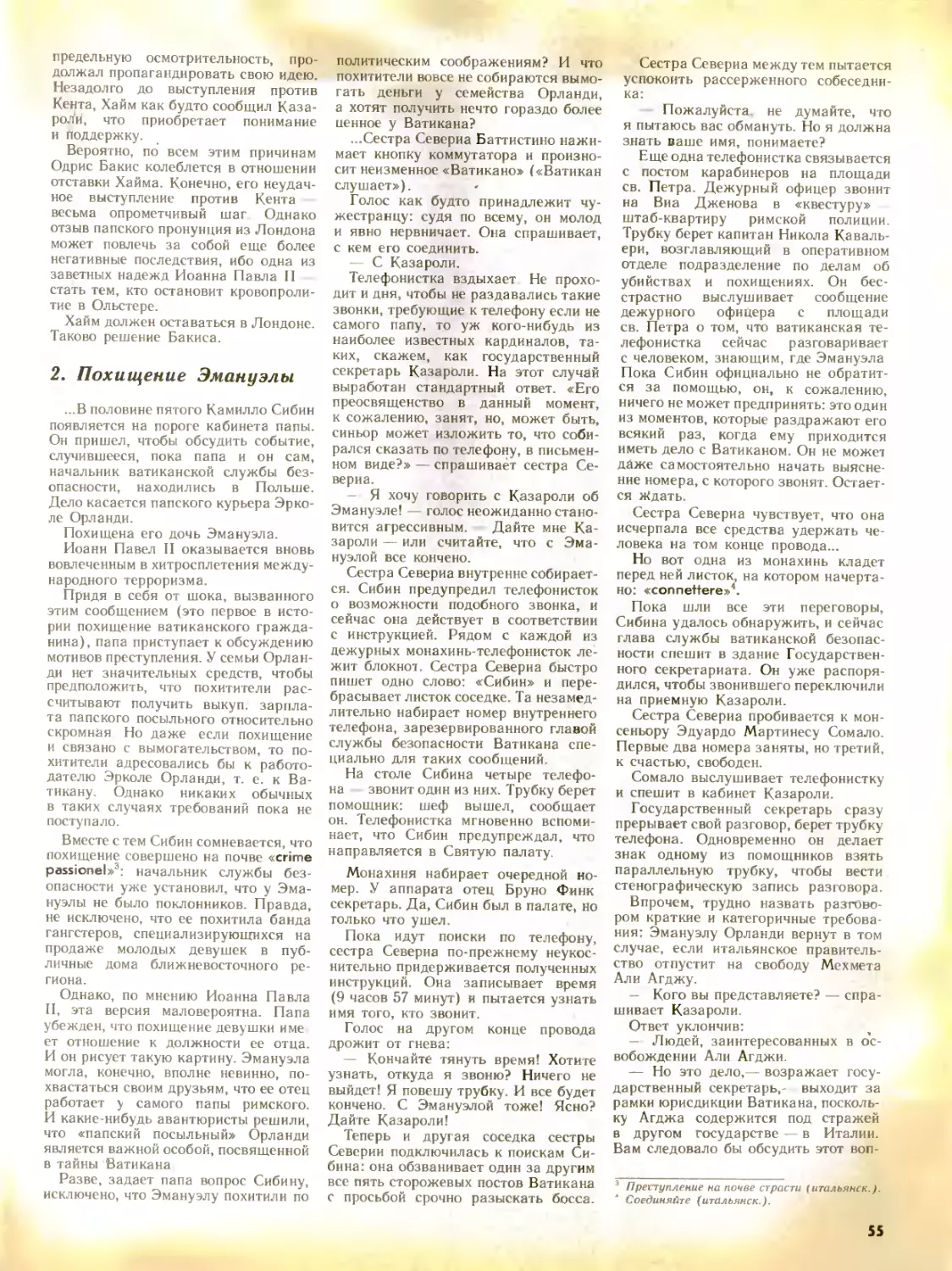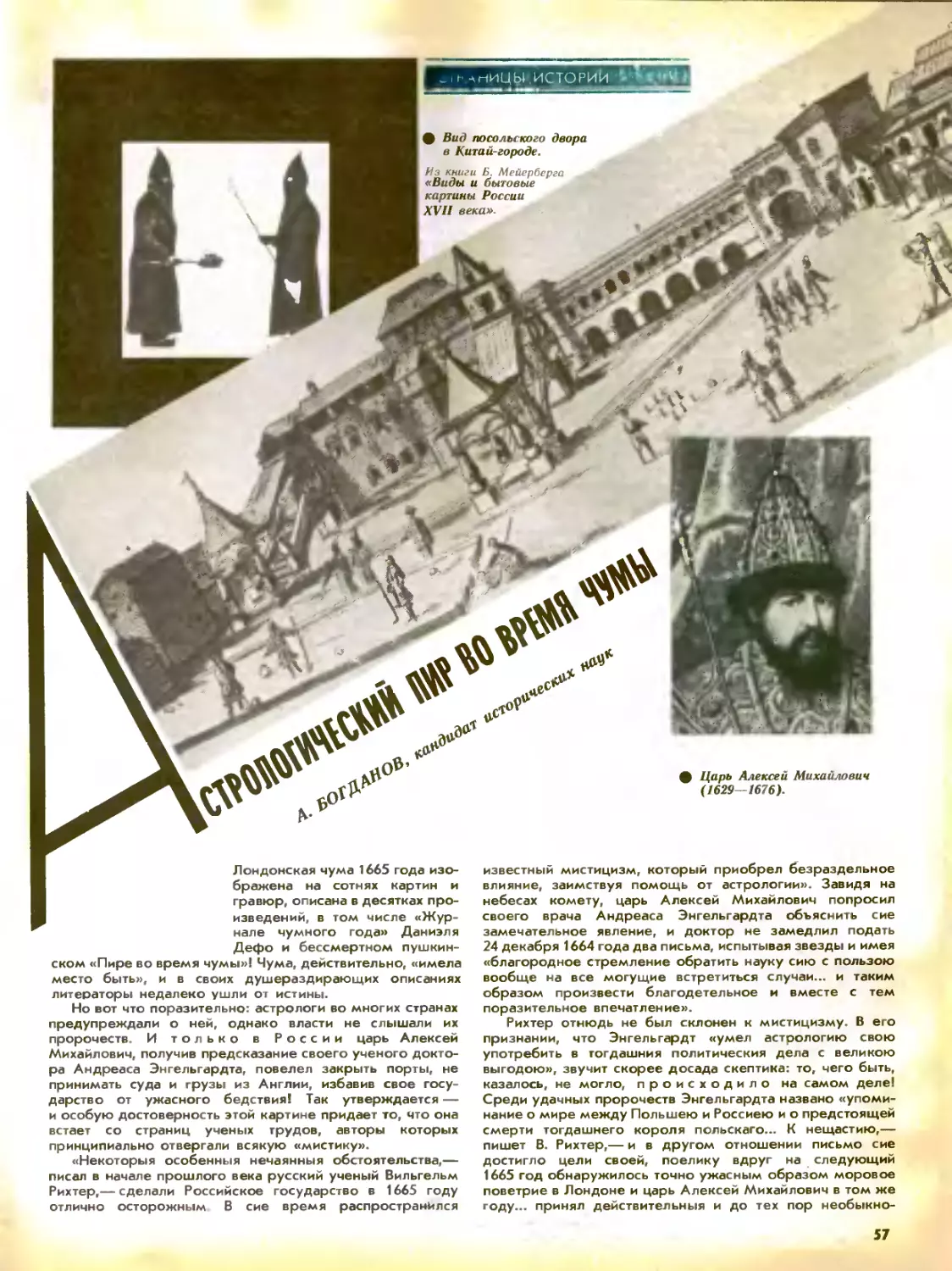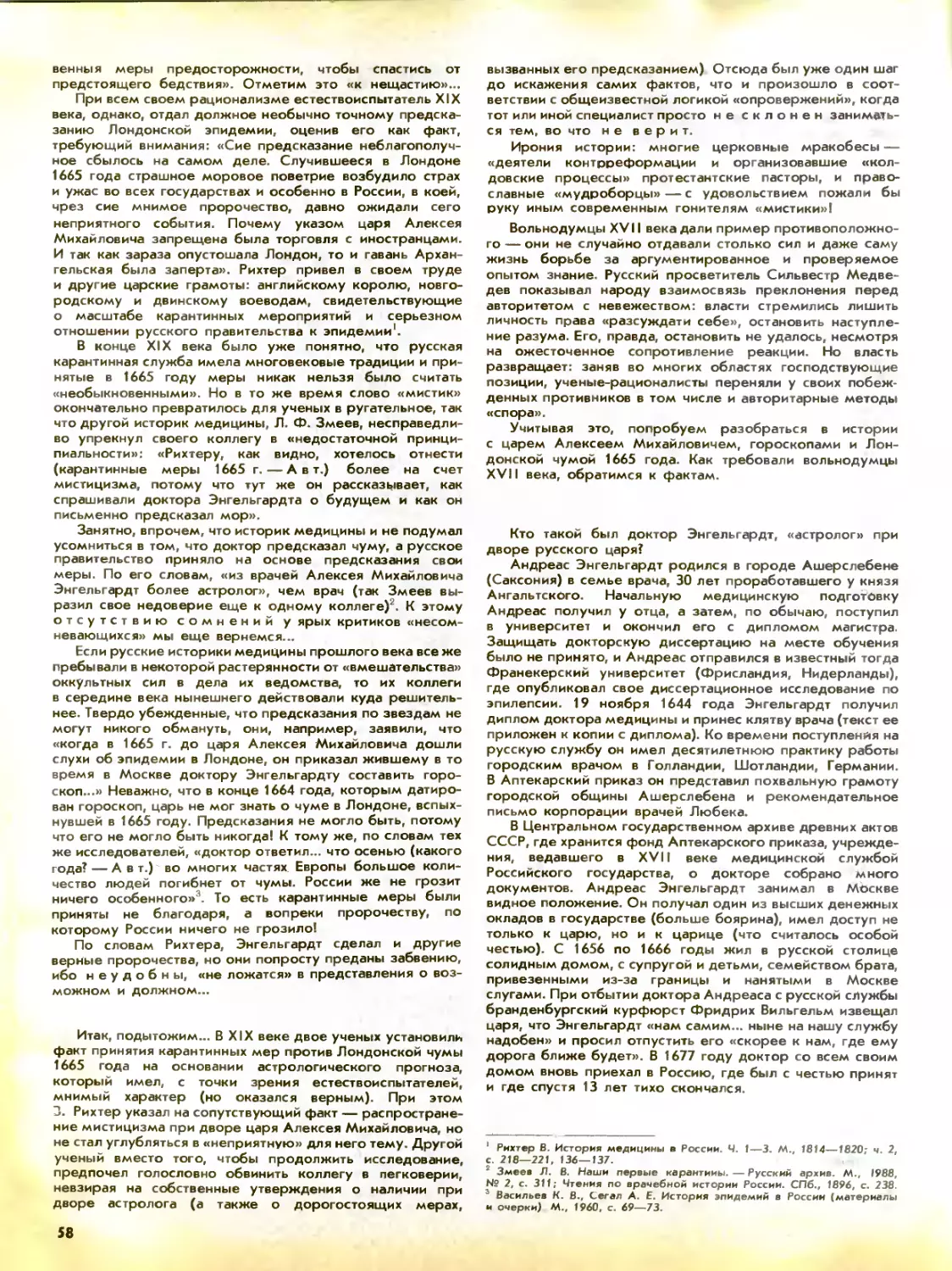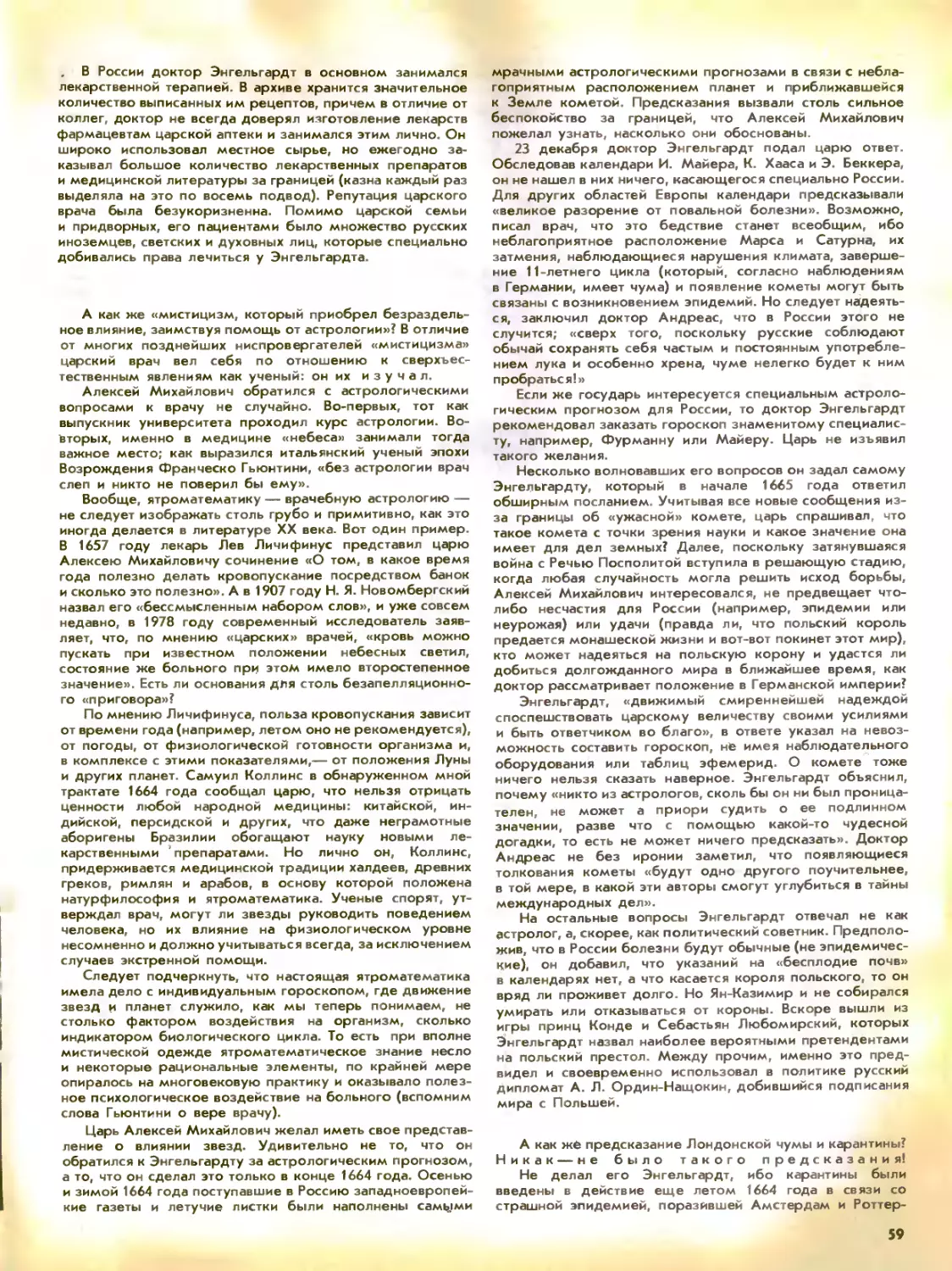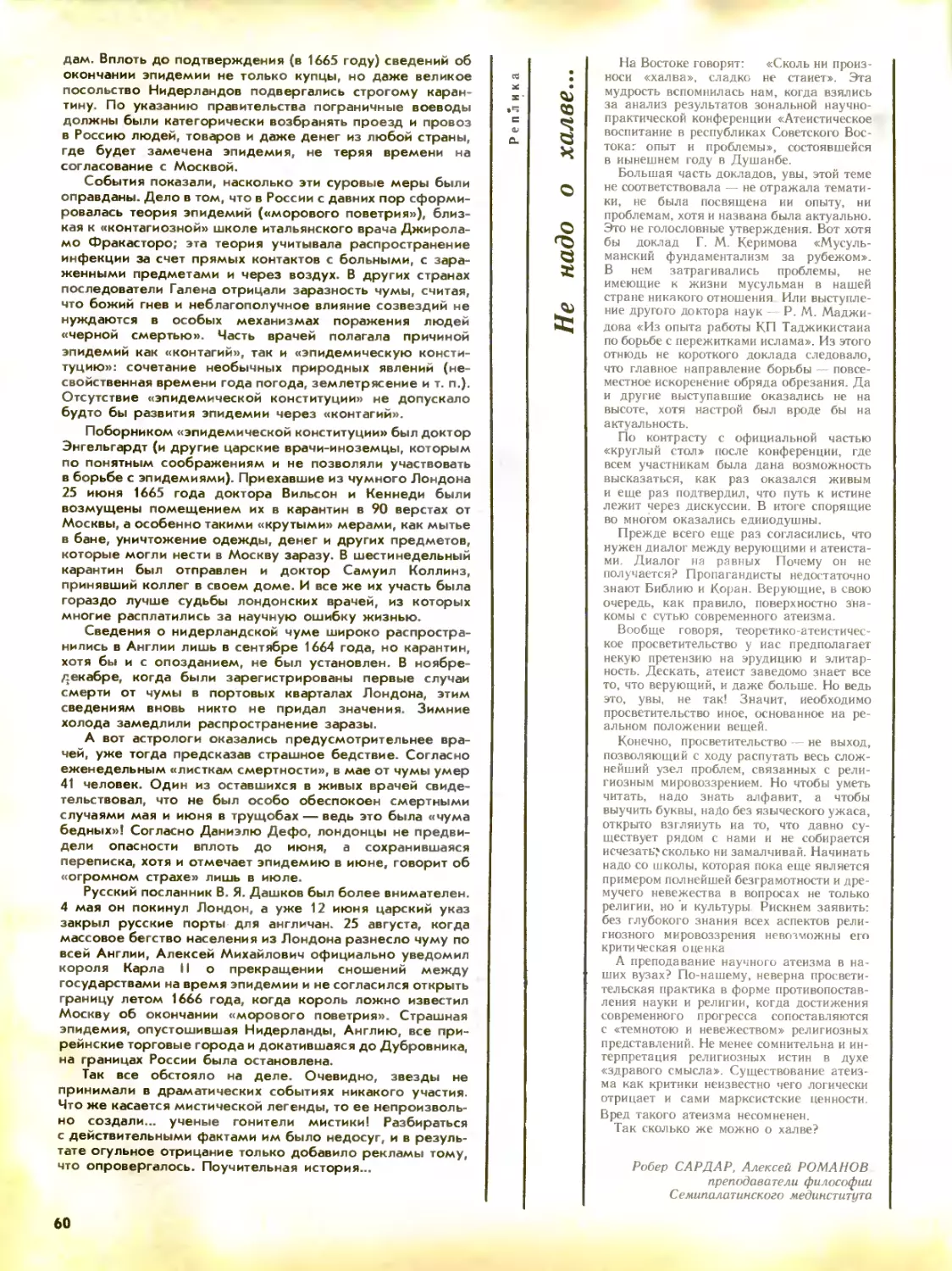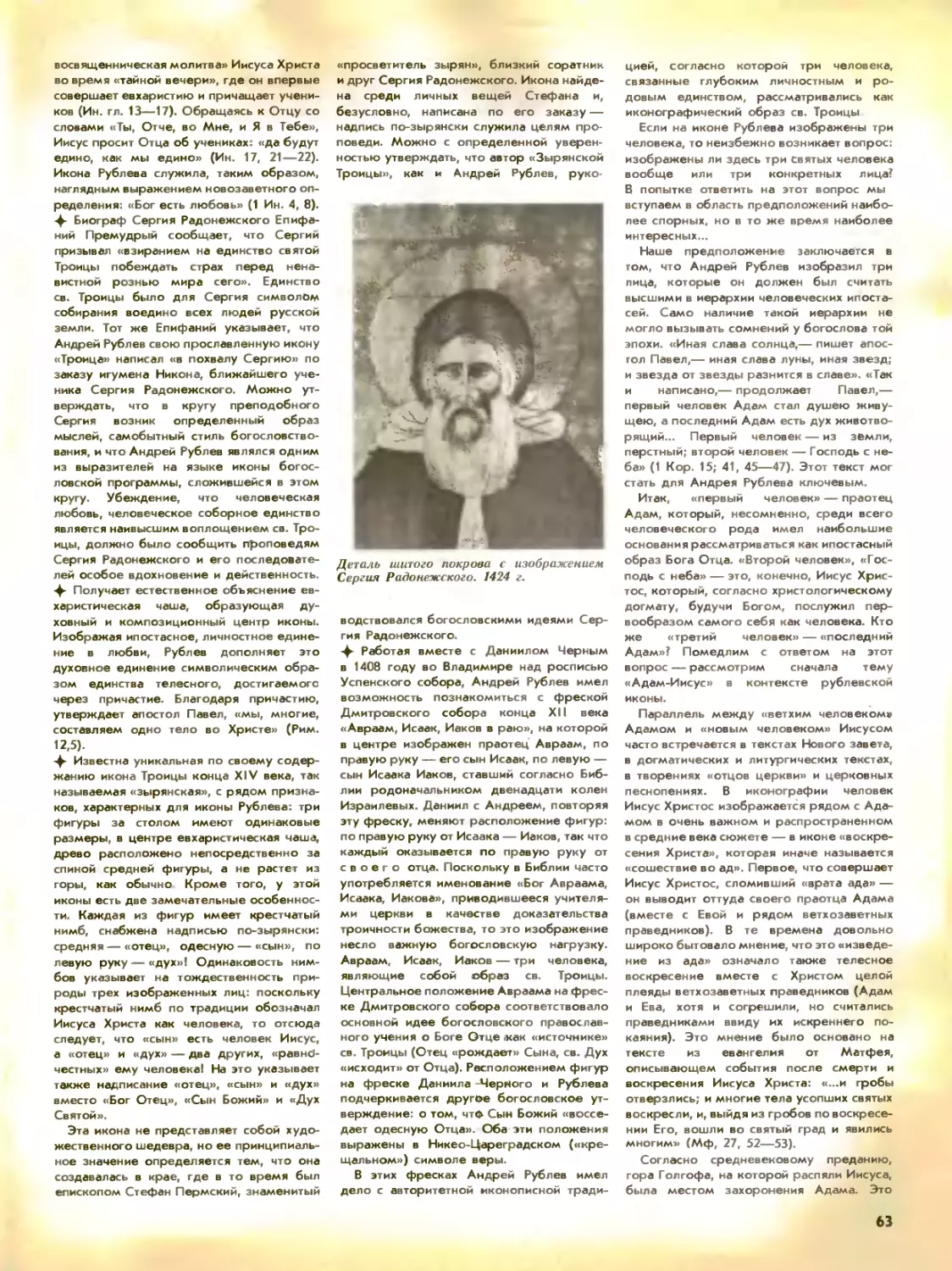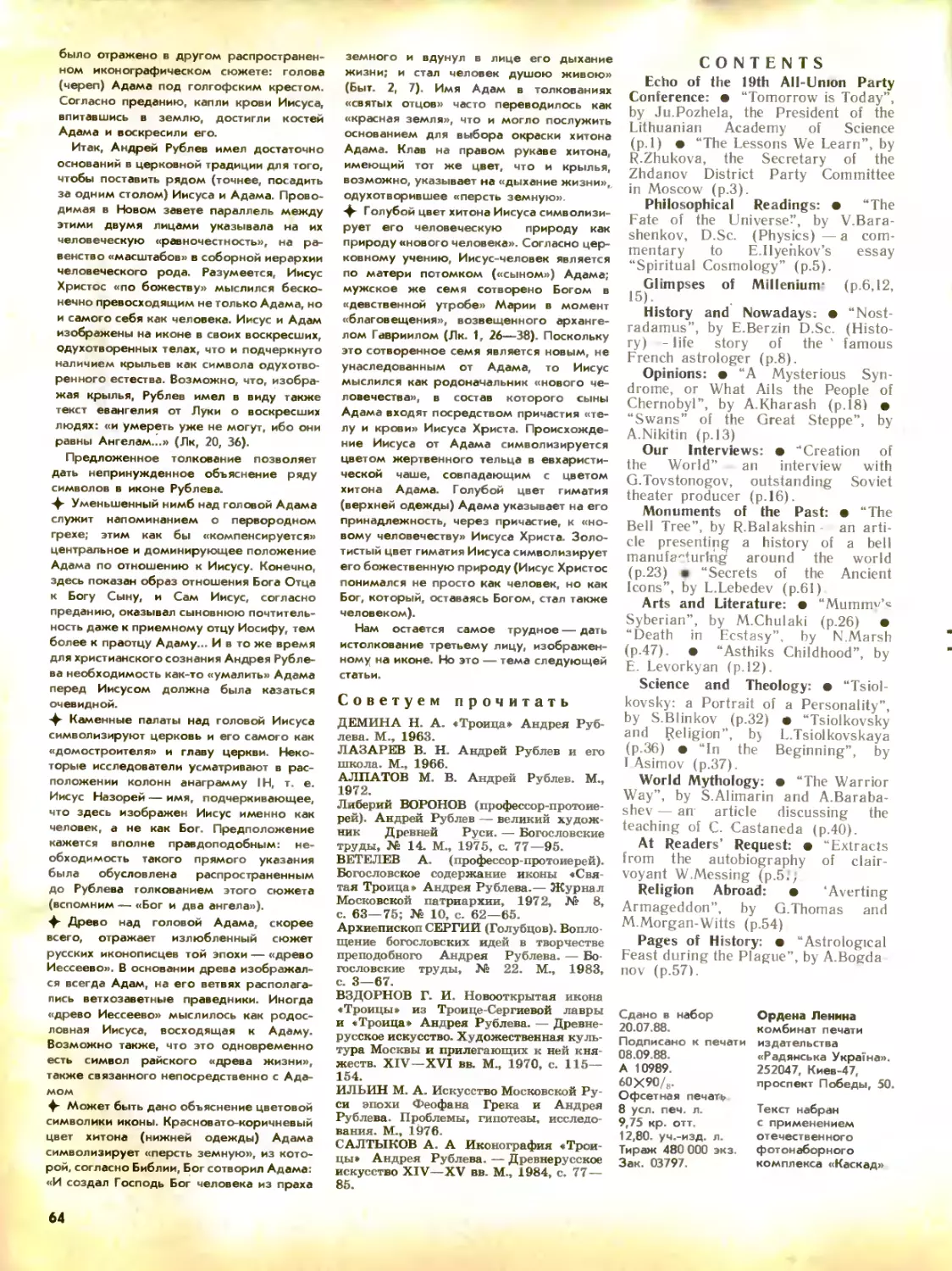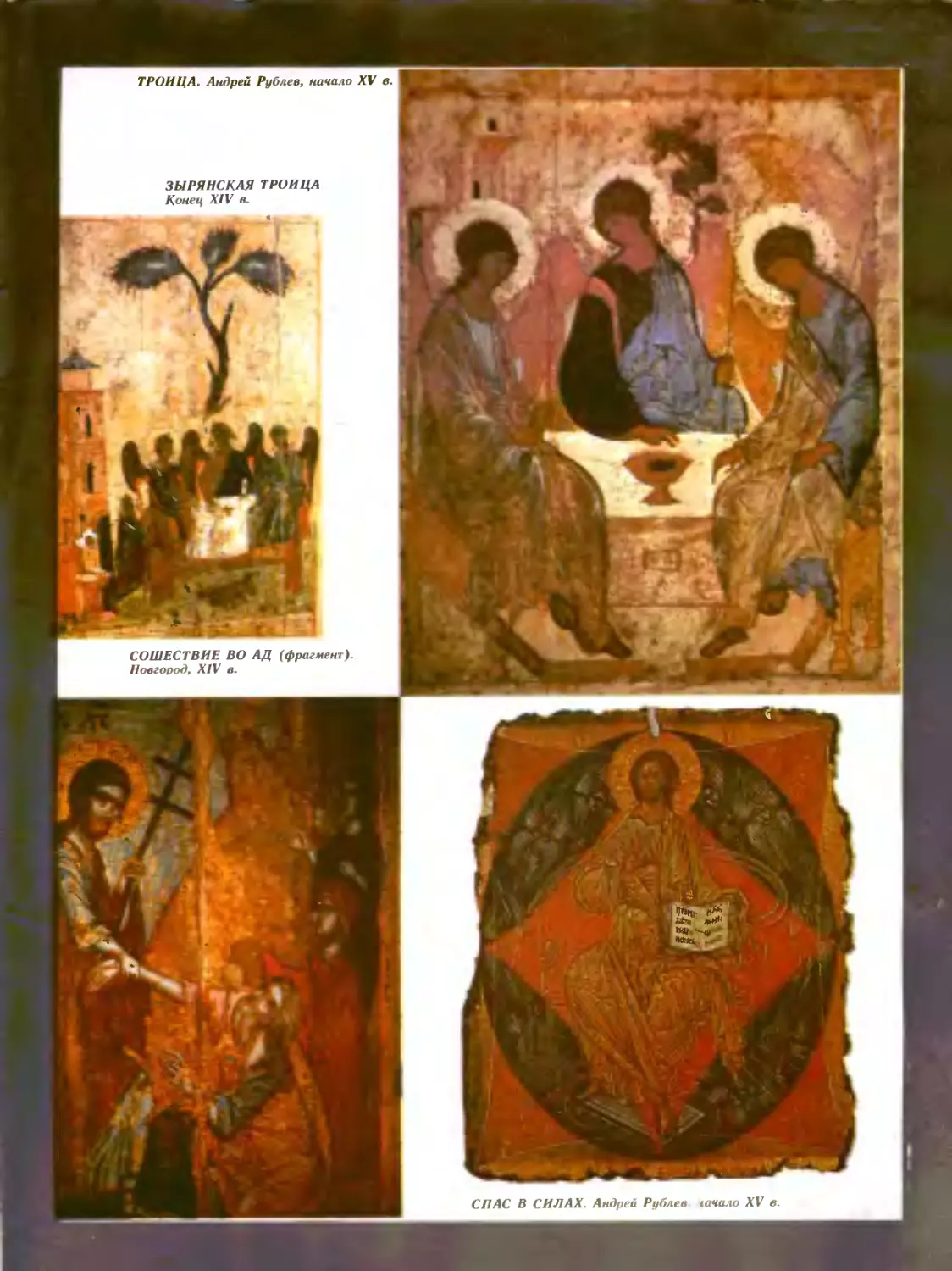Текст
Работает Поместный собор.
Троиц е-С е р г и е в а лавра.
Торжественное шествие членов
Поместного собора.
Фото ТАСС.
Ленинград.
Возложение венков
на Пискаревском
кладбище.
Баку.
Кафедральный собор
Рождества Богородицы.
10 „„
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ГОВОРЯТ ДЕЛЕГАТЫ XIX ПАРТКОНФЕРЕНЦИИ
НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ Ю. Пожела
АТЕИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ Завтра — это сегодня! 1
ОРДЕНА ЛЕНИНА ВСЕСОЮЗНОГО ОБЩЕСТВА «ЗНАНИЕ» Р. Жукова Уроки времени 3
Издается с сентября 1959 года ФИЛОСОФСКИЕ ЧТЕНИЯ В. Барашенков Судьбы Вселенной 5
Главный редактор В. Ф. Правоторов. Панорама тысячелетия 6, 15, 53
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
И. Ш. Алискеров, А. В. Белов, В. И. Гараджа, И. И. Жерневская Э. Берзин Нострадамус 8
ТОЧКА ЗРЕНИЯ
(ответственный секретарь).
А. С. Иванов, А. Никитин
Н. А. Ковальский, «Лебеди» Великой Степи 13
Э. И. Лисавцев, А. Хараш
Б. М. Марьянов Загадочный синдром, или
В. П. Маслин, Чего боятся чернобыльцы 18
К. А. Мелик-Симонян, (зам. главного редактора). НАШИ ИНТЕРВЬЮ
С. И. Никишов, Г. Товстоногов
М. П. Новиков, И К Пантин, Сотворение мира 16
В. Е. Рожнов. ПАМЯТНИКИ ОТЕЧЕСТВА
РЕДАКЦИЯ: ₽. Балакшин
И. У. Ачильдиев, Древо колокольное 23
О. Т. Брушлинская, Л. Лебедев
Э. В. Геворкян, Тайны древних икон 61
Г. В. Иванова, М. А. Ковальчук, ЛИТЕРАТУРА, ИСКУССТВО
Ю. М. Кузьмина. М. Чулаки
Е. С. Лазарев, В. К. Лобачев, Л. А. Немира, В. Г1. Пазилова, М. И. Пискунова, А. А. Романов, Мамин сибиряк Н. Марш Смерть в экстазе Э. Геворкян Детство Астхик 27 47 12
О. М. Степовая, О. Ю. Тверитина, ГЕРОИ И ЕРЕТИКИ НАУКИ
В. Л. Харазов. С. Блинков
Ведущий номера Циолковский: творец и личность Л. Циолковская 32
М. А. Ковальчук. Циолковский и религия 36
Художественный редактор С. И. Мартемьянова. ТЕОЛОГИЯ И НАУКА
Технический редактор А. Азимов
Ю. А. Викулова. В начале 17
Корректор Г. В. Зотова. МИФОЛОГИЯ НАРОДОВ МИРА
Зав. редакцией С. Алимарин, А. Барабашев
А. Л. Шумский «Путь воина» 40
Издательство «Знание» © Журнал ПО ВАШЕЙ ПРОСЬБЕ В. Мессинг О самом себе 51
«Наука и религия», 1988.
• ЗА РУБЕЖОМ
Г. Томас, М. Морган-Уитте Чтобы не настал Армагеддон 54
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
Адрес редакции: А. Богданов
109004, Москва, Ж-4, Астрологический пир во время чумы 57
Ульяновская, 43, корп. 4. Телефоны: 297-02-51, 297-10-89. Содержание на английском языке 64
Завтра —
это
сегодня!
Президент Академии Наук Литовской
ССР, Герой Социалистического Труда
Юрае Каролевич ПОЖЕЛА принял
в Вильнюсе нашего специального кор-
ре( пондента Александра Романо-
ва и ответил на заданные вопросы.
— Чтобы оценить, осмыслить все содер-
жание поставленных Конференцией про-
блем, принятых ею документов, разумеется,
нужно время... И тем не менее, какие
важные выводы Вы могли бы сделать уже
сейчас?
— Прежде всего, новизна самой конфе-
ренции. И по форме, и по содержанию
Я был делегатом XXVII съезда. Путь,
пройденный партией от одного своего
форума до другого, огромен. Поразила
меня искренность дискуссий, развернув-
шихся накануне, сами выборы делегатов,
небывалый, особый, чрезвычайный интерес
к происходящему сегодня в стране. Самое
общее впечатление — очевидное наличие
противоборствующих направлений: горя-
чих, искренних сторонников быстрых и ре-
шительных перемен и тех, кто на словах не
отрицает необходимость перестройки, а на
деле не хочет ломки привычного, отлажен-
ного за многие десятилетия механизма
управления. Естественно, немало сторонни-
ков и половинчатых реформ, предлагающих
лишь немного «выпустить пар», кое-что
освежить, модернизировать. Уже и само
выдвижение делегатов показало, сколь
велико сопротивление свободным выборам
в пользу заранее согласованного назначе-
ния. Противники перестройки не уменьша-
ли активности во все дни работы Но
встретили решительное сопротивление мно-
гих делегатов. Противоборство шло
каждый день, на всех заседаниях. Борьба
идей и мнений не замыкалась стенами
Дворца Съездов, а велась на глазах у всей
страны. А как часто аплодисменты станови-
лись признаком не поддержки, а обструк-
ции! Это тоже наглядный, примечательный
урок гласности и демократии.
Конференция приняла ряд важных, при
нципиальных документов, каждый из ко-
торых утверждался голосованием. Ре-
золюции, правда, получились несколько
громоздкими. Сами направления на поли-
тическую реформу, предложения по углуб-
лению перестройки, резолюции о демокра-
тизации советского общества и реформе
политической системы, о борьбе с бюрокра-
тизмом, о межнациональных отношениях,
о гласности - все они направлены на
болевые точки, жизненно важные места.
Сотни миллионов людей с помощью газет,
радио, телевидения оказались участниками
разговора о процессе дальнейшей демокра-
тизации общества
Как Вам представляется роль науки
в решении задач, поставленных Конферен-
цией?
Выступления делегатов по проблемам
науки оказались, как мне кажется, не очень
интересными. Традиционно считалось, что
с фундаментальными науками у нас — все
в порядке. А на деле их отставание
приобрело угрожающие размеры. Не гово-
ря уже о том, что финансируются они во
много раз меньше, чем, скажем, в США.
Впервые справедливо прозвучало с высо-
кой трибуны: отстали не только практика,
внедрение, но и сами фундаментальные
науки. И связано это, конечно, не с одним
финансированием, но и ставшей традицион-
ной недемократичностью научных институ-
тов, с острейшими недостатками в подборе
кадров, с низким уровнем оборудования.
Центральная задача и это отмечалось
во многих документах Конференции -
экономическая реформа. Идет она еще
очень и очень туго Немало делегатов
отмечало, что, по их мнению, вообще пока
нет сдвигов. Им, разумеется, возражали,
приводили доводы. Тем не менее, что об
успехах пока говорить не приходится на
этом сходились все. Запомнилось выступле-
ние Л. И. Абалкина. Критика в адрес
системы руководства народным хозяйством
звучала аргументированно и убедительно.
К сожалению, экономисты почти ничего не
предложили конструктивного, альтернатив-
ного. Коренного перелома в экономическом,
социальном и культурном развитии пока не
произошло. Механизм торможения еще не
ликвидирован и не заменен механизмом
ускорения. Экономика продолжает во мно-
гом движение по экстенсивному пути.
Конференция нацелила страну на рефор-
му политической системы, от чего, разу-
меется, зависят и успехи экономической
реформы, вопросы рынка, нормальной кон-
куренции и т. д. Все просят деньги, все
хотят развиваться,- звучало в обраще-
ниях делегатов,— но давайте прежде всего
решим проблему продовольственную, при-
чем сделать это надо в самые короткие,
сжатые сроки
Немало говорилось на Конференции
о проблемах развития личности. Если
человек обладает инициативой, способнос-
тями, имеет желание приложить свои
силы,— то в новых общественных условиях
роль свободной личности возрастает.
Эволюционная перестройка, подчеркива-
ла одна из резолюций, невозможна без
всемерной активизации интеллектуального,
духовного потенциала общества, прогресса
науки и техники, без увеличения научно-
технического вклада ученых и инженерных
кадров, повышения их престижа и улучше-
ния условий работы, без современного
уровня всей системы образования и роста
общей и политической культуры народа.
На деле все это означает нам необхо-
димо не только ликвидировать последст-
вия сталинщины, периода застоя, но под-
держивать и всемерно развивать позитив-
ную программу обновления, возрождения
общества на новых, демократических на-
чалах.
Нет ли противоречия между наукой
и нравственностью? Как уменьшить нега-
тивные экологические, психологические по-
следствия научно-технического прогресса?
— Разумеется, достижения науки опре-
деленным образом сказываются на
нравственности. Тем не менее противоречия
я не вижу. Нравственность, ее уровень
зависят от степени свободы личности, от
возможностей проявить себя. Если человек
придавлен системой, то непременны поиски
запасных ходов, «нужных» знакомств, не-
заработанных привилегий, протекций.
Именно закрытость, зашоренность об-
щества привела к известным фактам
коррупции и прямых преступлений во всех
эшелонах власти.
Когда человек свободен и надежно защи-
щен законом, он, естественно, и сам не-
сравненно лучше оберегает окружающий
его мир. Ну а если главенствует погоня за
прибылью, за валом, за планом любой
ценой.. И что вообще означает — любой
ценой? Цена эта - чудовищные экологи-
ческие потери, нередко невосполнимые. Это
и утверждение вседозволенности после
нас хоть потоп! И можно ли всерьез
говорить о нравственности, когда запре-
щенные приемы возводились в ранг нормы!
В условиях гласности, демократичности,
открытых дискуссий противоречия между
научно-техническим прогрессом и разви-
тием личности быть не должно.
Еще один фактор, влияющий на
нравственность,— поток информации, ла-
вина сведений, устремленная на людей. Все
больший информативный объем нередко
создает у человека ощущение зыбкости,
собственной незначительности, невозмож-
ности осмыслить происходящее. Ведь число
новых сведений, часто весьма противоре-
чивых, растет стремительно и непрерывно.
Английский социолог Рид писал в своей
книге «К черту культуру!», что техническая
революция это несчастье, которое, оче-
видно, станет концом происходящего раз-
рушения всего человечества.
Даже мыслящим людям становится все
труднее просто так пофилософствовать о
мире. Возникают психологические пробле-
мы Одни ощущают свое бессилие, нич-
тожество; другим,—наоборот, кажется,
что они - универсальны, супермены, обре-
тают над людьми особую власть. Знания
могут возвышать человека, но могут и сло-
мить. Как же быть? Может, воспользовать-
ся советом Жан-Жака Руссо, вернуться
к соломенным крышам, собственному ого-
роду? Видимо, есть только одна возмож-
ность открыть человеку еще большие
возможности. Совместные шаги по актив-
ному разоружению, развитие новой техно-
логии, общая забота о природе все это
регулирует и нравственные факторы.
Сейчас много говорят о плюрализме
мнений. В каких сферах, по Вашему
мнению, могло бы стать успешным сотруд-
ничество верующих и атеистов?
— Празднование 600-летия католи-
чества в Литве и 1000-летия христианства
на Руси показали, сколь серьезно и уважи-
тельно относится наше государство к
церкви. Многие культурные ценности, исто-
рические памятники, особенно архитек-
турные, так или иначе связаны с религией
Кажется, Гоголю принадлежат слова, что
архитектура та же летопись мира. Она
говорит тогда, когда уже молчат и песни,
и предания. Да, духовный мир человека
обогащался церковью. Но церковные рамки
оказались слишком узкими Человек не
может ограничивать себя прокрустовым
ложем религиозного сознания, которое, вне
всякого сомнения, придавливает личность
Говоря о плюрализме мнений, о терпи
мости к инакомыслию, всегда нужно по-
мнить, что материализм не сковывает
мышление, не ставит для творческого
человека ограничительные каноны. Да, мы
слишком долго и слишком косо смотрели на
теологов как на тех, с кем не по пути. Но
ведь и сегодня такие деятели, как Хомейни,
толкают народы к столетиям назад, к фа-
натизму, к борьбе с инакомыслящими
Проблемы мира, разоружения, борьба с
болезнями, голодом, безграмотностью —
вот совместное поле действий людей,
независимо от конфессиональной при
надлежности.
Контакты теологов и ученых есть и в на-
учных проблемах. Возьмем Ватиканскую
академию наук. Много времени провел в ее
библиотеке наш академик-секретарь Вла-
дас Нюнка. Научное сотрудничество сегод
ня в основном осуществляют философы,
историки, что, конечно, далеко не гак
просто после долгих лет непримиримой
конфронтации
Я тоже бывал в Ватикане, встречался
и беседовал с различными деятелями.
Важным политическим шагом считаю на-
значение первого в истории литовского
кардинала Винцентаса Сладкявичюса.
И тем не менее - хочу напомнить одно
из писем Чарлза Дарвина: «Наука не
имеет никакого отношения к Христу, за
исключением того, что привычка к научно-
му исследованию делает человека осто-
рожным в принятии доказательств. Я лично
не верю ни в какое откровение».
— Говоря о демократизации междуна-
родной жизни, не могли бы Вы коснуться
перспектив науки в этом процессе, контак-
тов с коллегами из других академий?
Знания, как известно — самое драгоцен
2
ное, вечное, неуничтожимое богатство чело-
вечества. Их уровень на протяжении
цивилизации определял и уровень социаль-
ного, культурного развития. Деятельность
государственных и общественных деятелей,
престиж стран и народов оцениваются
в истории по уровню поддержки и развития
наук, по именам творческих людей -
создателей новых шаний. В этом плане
ученые, без ложной скромности, оглядыва-
ясь на любые времена, могут сказать: тяга
к искреннему, творческому, плодотворному
союзу была и есть всегда. Другое дело,
помехи, препоны, вмешательство полити-
Уроки
времени
Корреспондент журнала встретился
с первым секретарем Ждановского
РК КПСС г. Москвы Риммой Ва-
сильевной ЖУКОВОЙ.
— С каким чувством шли Вы в Крем-
левский Дворец съездов?
— С ощущением неординарности, зна-
чительности этого события. Оно появилось
раньше, уже после обсуждения Тезисов
XIX партконференции: такого обсужде-
ния, такого подъема общественной актив-
ности трудящихся я не припоминаю. Мы
получили свыше полутора тысяч предло-
жений. Когда систематизировали их, полу-
чилась характерная картина. Хотя для
нашего производственного района и ак-
туальны проблемы хозрасчета, вопросы
экономической реформы, но они не прева-
лировали над предложениями, относящи-
мися к сфере общественной, духовной
жизни, проблемам взаимоотношений че-
ловека и общества, личности и государства,
межнациональных отношений. Трудящиеся
активно высказывались за разделение
функций партийных и советских органов,
повышение роли различных общественных
институтов. Самым существенным итогом
обсуждения Тезисов я назвала бы пробуж-
дение общественного сознания, мысли
о жизненном кредо советского человека.
ков Мы очень надежно, дружески сотруд-
ничаем со всеми республиканскими акаде-
миями. Трудно даже перечислить коли-
чество контактов, совместных работ с на-
учными сотрудниками из Армении, Эсто-
нии, Азербайджана, Украины, Молдавии.
Если брать зарубежные контакты, то заслу-
живают внимание наши связи, скажем, с
учеными США по проблемам математики,
физики, электроники, вычислительной тех-
ники. Традиционно хорошие отношения
у нашей академии с коллегами из Англии,
Франции. Интересные совместные работы
ведем мы с Японией, откуда я только что
Можно говорить о политическом уроке,
связанном с подготовкой к XIX партконфе-
ренции. Это тот элемент состязательности,
который сопровождал все стадии выборов
делегатов. Из 70 выдвинутых кандидатов
к собранию партийно-хозяйственного акти-
ва района пришли 23 человека, из них на
конференцию выбрали 9 делегатов.
Надеюсь, что такая здоровая конкурен-
ция в выборной кампании этого года
поможет выявить тех, кто принесет с собой
новые подходы в решении задач пере-
стройки.
Были предложения, относящиеся к
сфере взаимоотношений церкви и госу-
дарства?
— Практически не было.
— Что в выступлениях делегатов пора-
довало Вас больше всего? Что разочаро-
вало?
— Меня порадовали выступления деле-
гатов-рабочих — своей смелостью, неор-
динарностью, обоснованностью и
конкретными предложениями по пози-
циям доклада Генерального секретаря
ЦК КПСС М. С. Горбачева. Вообще на
конференции ярко проявилось стремле-
ние привлечь внимание к типичным про-
блемам перестройки. У представителей
творческой интеллигенции это были про-
блемы гласности, у рабочих — советы
трудовых коллективов, нормативная база
хозрасчета, экономисты говорили о страте-
гии и огрехах развития экономики.
Запомнилось нетрафаретное ведение
конференции, обсуждение шести ре-
золюций и появление в ходе работы
седьмой — «О некоторых неотложных ме-
рах по практическому осуществлению
реформы политической системы страны.»
А что разочаровало7 По-прежнему не
меняется критика в адрес министерств,
которые сковывают углубление демокра-
тизации. Трудовые коллективы, которые
имеют сейчас Закон о государственном
предприятии, могут самостоятельно ре-
шать многие свои проблемы, в том числе
социальные, то есть участвовать в том, что
раньше делалось за коллектив, а минис-
терства с их жесткими нормами не хотят
выпускать их из своих рук.
Удивило то, что никто из советских ра-
ботников не выступил с конкретными
предложениями по реформе политичес-
кой системы, хотя в кулуарах эта тема
обсуждалась со знанием дела
Как работник районного масштаба,
вернулся. Японцы пытаются сейчас создать
новое поколение сверхбыстро-
действующих транзисторов, позволяющих
производить 100 миллиардов операций
в секунду. Задача трудная, но разрешимая
К слову сказать, наши новейшие транзис-
торы в республике, считаю, по некоторым
компонентам отвечают мировым стандар
там Лично я, еще с аспирантуры, зани-
маюсь так называемыми «горячими
электронами», температура которых несо-
поставимо выше самого кристалла. Эффект
«горячих электронов» используется ныне во
всех сверхбыстродействующих приборах
в каком общественном звене видите Вы
момент торможения перестройки?
— Если говорить откровенно, то он не
в одном, а в сцеплении двух звеньев —
низового и среднего. Очень многие зани-
мают еще выжидательную позицию, смот-
рят, что будет дальше. А среднее звено —
мастера, начальники цехов — еще не го-
товы к тому, чтобы воспринимать актив-
ность масс там, где она есть.
У определенной части рабочих сра-
батывает устойчивый психологический сте-
реотип, когда не спрашивают с себя, не
оценивают результат своей работы, а ки-
вают на руководителя. С себя спросить
сложнее, а когда этого нет, то страдает
дело, возникают негативные коллизии в
коллективе-
— А Вы меняетесь, Римма Васильевна?
— Стиль работы первого секретаря
райкома меняется в корне. Главное ору-
жие — убеждение. Сейчас многие ставят
вопросы остро, отстаивают свое мнение,
и к этому мнению нужно прислушиваться,
особенно если его поддерживают другие
Я опираюсь на поддержку своих еди-
номышленников в районе, ищу понимания
у членов бюро райкома партии — все они
люди опытные, авторитетные, прошедшие
большую жизненную, хозяйственную, пар-
тийную школу.
Выйду за пределы вашего вопроса.
Сейчас, как никогда, растет требователь-
ность людей к своим руководителям,
к партийным и советским работникам.
Отмечу такой факт: в последнее время
заметно уменьшилось число жалоб в рай-
ком и исполком района. Это следствие
увеличения гласности, откровенных бесед
с населением.
В районе 6 православных церквей,
Рогожская старообрядческая община, ка-
федральный Покровский собор старооб-
рядцев. Авторитет церковных организаций
растет. Что вы скажете об этом?
— Здесь свои закономерности. Нега-
тивные явления духовной жизни, связанная
с ней аполитичность стали причиной обра-
щения многих людей к тем нравственным
идеалам, которые они находят в религиоз-
ном учении. В церкви их и утешат и дадут
возможность общения, и наставят в даль-
нейшей жизни, воспитании детей и
т. д. Когда мы выступаем в роли ортодок-
сов, не замечая обстоятельств жизни
людей, не проявляя к ним добросердеч-
ности, соучастия в их судьбе — мы людей
теряем. Они ожесточаются, уходят от нас.
Запрещать? Но запреты в работе с челове-
3
ком не приносят добра. Нужна истинная,
не показная заинтересованность в его
жизни. Я ведь не случайно назвала низовое
звено, где буксует перестройка, хозрасчет.
Руководителей среднего звена не интере-
сует то, что выходит за производственные
рамки, что подчас определяет истинное
лицо рабочего или работницы.
Разбирали мы недавно персональное
дело: растрату общественных денег работ-
ницей одного из предприятий района.
Нужно наказывать? Нужно. Проступок оче-
виден. Но как он мог произойти? Что
знали о провинившейся ее руководители?
Как жилось ей с двумя детьми после
смерти мужа, имея на руках мать-пен-
сионерку? Побывали у нее дома? Руково-
дители только развели руками А ведь
случилось это на большом московском
предприятии, где трудится более 1000 че-
ловек, где есть женсовет, сове.' ветеранов,
профком, партком, цеховые организации.
Кругом люди — а женщина была одна со
своей непосильной жизненной ношей.
Разрыв естественных человеческих вза-
имоотношений в обществе — это и одино-
чество людей в коллективе, и одинокая
старость, и обездоленные дети, распад
семьи.
Вплотную к этому стоит проблема нам
необходимо обновлять, омолаживать кад-
ровый корпус партийных работников, ре-
зервы у нас есть, но нужно учить их работе
в новых условиях — демократии, гласнос-
ти, формировать у них чувство обострен-
ной личной ответственности, заинтересо-
ванности в людях.
В Ждановском районе, как и в других,
развернуты большие строительные работы.
Как обстоят дела с реставрацией памятни-
ков истории и культуры, культовых зданий?
— Формируется в районе заповедная
зона Заяузье, солидные средства и силы
вложены в реставрацию усадьбы Уса-
чевых-Найденовых, усадьбы Баташова, в
обновление церкви Всех святых на Кулиш-
ках. Старообрядческая церковь получила
сейчас для освоения почти 3000 квад-
ратных метров. Мы обратились с просьбой
к ее руководству — в одном из предос-
тавленных зданий организовать картинную
галерею из тех произведений живописи,
которыми она располагает.
Старообрядческая церковь оказывает
регулярную денежную помощь нашему
районному Дому ребенка. Есть сферы, где
наши интересы полностью совпадают.
— Чувствуете ли Вы присутствие в
районе журнала «Наука и религия»?
— Ив традиционных для нас формах
атеистической работы, и в подготовке ее
организаторов, проведении районных се-
минаров, совещаний. Ваш коллектив —
желанный гость на предприятиях, в биб-
лиотеках, надежный консультант в
сложных вопросах
— Ставится вопрос о переименовании
Ждановского района?
— Ставится Сейчас у нас работает
комиссия, которая этим занимается. К ис-
тории нужно относиться объективно, не-
льзя вырывать ее факты и анализировать
их только с позиции сегодняшнего дня.
В период гласности мы должны четко
знать, на основании чего принимаем реше-
ние. Поэтому райком партии, исполком
райсовета обратились за соответствующим
разъяснением в Институт марксизма-лени-
низма. Естественно, будет учтено и мнение
грудящихся района.
Что можно увидеть
в дыму?
g Недавно американский
журнал «Омни» опубликовал
щ любопытную информацию
СО Некая мисс Д. Холл, просмат-
2 ривая видеозапись трагиче-
ского старта «Челленджера»,
вдруг увидела в клубах дыма
к лик Иисуса Христа. На во-
щ прос, почему Христос явился
S именно в момент старта, она
5* ответила: «Это была попытка
щ вмешаться, предотвратить
катастрофу».
Специалист из «Комиссии
на лист бумаги и сложить ее
пополам в этом месте, то в
причудливой кляксе можно
разглядеть лица, фигуры зве-
рей и людей, все, что угодно...
Нечто похожее имело место
и в наших краях (вспомните
очерк В. Харазова «Чудеса в
Грушеве». Наука и религия,
№ 5, 6 за 1988 год).
Сотрудники редакции долго
всматривались в фотографию,
но так ничего и ие обнаружи-
ли. Снимок, тем не менее, пуб-
ликуем, возможно, у нас про-
сто не хватило воображения...
по научному объяснению па-
ранормальных явлений»
Р. Курц считает, что уви-
денное мисс Холл — всего
лишь игра воображения.
Курц напоминает о тесте Рор-
шаха - если капнуть чернила
По прочтении —
съесть!
Одна из английских фирм
приступила к выпуску «съе-
добных» рекламных проспек-
тов, имеющих вкус реклами-
руемых продуктов.
Съедобная реклама печата-
ется на рисовой бумаге, крас-
ки изготовляются на сахарной
основе, вкус доводится до
кондиции за счет ароматичес-
ких добавок.
Интересно, каким будет
следующий этап эволюции
пищевой полиграфии? Неуже-
ли вполне съедобная поварен-
ная книга?
«Пуна и происхож-
дение жизни
Загадка возникновения
жизни на Земле будет волно-
вать пытливые умы, наверно,
столько времени, сколько про-
существует сама жизнь. Мно-
гие вбпросы, связанные с этой
проблемой, остаются нере-
шенными. Одна из них — как
первые «носители» жизни уце-
лели в более чем неблагопри-
ятных условиях?
Дж. Пирсон из штата
Огайо, США, полагает, что
жизнь на Земле во многом
обязана магнитному полю, за-
щитившему первые организ-
мы от губительного косми-
ческого излучения. Но поче-
му у нашей планеты такое
сильное магнитное поле, в от-
личие, скажем, от Марса, Ве-
неры и некоторых других пла-
нет Солнечной Системы?
Возникновение магнитного
поля Пирсон связывает с Лу-
ной! Существует гипотеза, по
которой Луна была самосто-
ятельным небесным телом,
впоследствии «захваченным»
притяжением Земли. И вот
из-за приливных сил, текто-
нических сдвигов, глубоких
разломов и трещии ядро на-
шей планеты расплавилось,
жидкость начала циркулиро-
вать, циркуляция жидкости
породила магнитное поле,
поле защитило жизнь, жизнь
эволюционировала и в итоге
породила нас с вами,— дав
тем самым возможность озна-
комиться еще с одной гипо-
тезой о возникновении жиз-
ни...
Космическая стан-
ция из пустого бака
Специалисты из НАСА рас-
сматривают возможность ис-
пользования пустого топли-
вного бака «шаттла» в каче-
стве своеобразной космичес-
кой станции. После старта
корабля многоразового ис-
пользования, лятидесятимет-
ровая алюминиевая махина
топливного бака отстрелива-
ется, разрушается в плотных
слоях атмосферы и падает в
океан.
Подсчитано что при не-
больших дополнительных зат-
ратах топлива эту огромную
цистерну можно выводить на
орбиту. Емкость бака — свы-
ше 2000 кубических метров,
это в три раза больше орби-
тальной станции «скайлеб».
Выведенный на орбиту бак
предполагается оснастить
солнечными батареями, теле-
скопом, приборами.
4
ФИЛОСОФСКИЕ ЧТЕНИЯ
О философской гипотезе Эвальда
Васильевича Ильенкова
СУДЬБЫ ВСЕЛЕННОЙ
В. БАРАШЕНКОВ,
доктор физико-
математических наук
Поражающие воображение выводы фи-
зиков о рождении Вселенной «из точки»,
а колоссальных масс ее вещества «из
чистого вакуума» разрушили представле-
ние о бесконечной и вечной Вселенной
и породили массу вопросов. Что было до ее
«рождения», во времена, «когда еще не
было времени»? Какова дальнейшая судьба
окружающего нас мира? Будет ли он
расширяться, постепенно рассеивая свое
вещество, превращаясь в бесконечное, хо-
лодное и пустое пространство, или его ждет
иная судьба? Какова роль мыслящего
существа в этой с трудом поддающейся
осознанию картине — ведь могущество ра-
зума уже сегодня становится фактором
космического масштаба, а что будет через
миллионы и Миллиарды лет?! Может, «кос-
мический разум» как раз и есть то, что
в конечном счете дирижирует мировыми
процессами?
Простая декларация философского поло-
жения о первичности материи и вторичнос-
ти сознания не может удовлетворить
пытливого человека, особенно сейчас, когда
создаются искусственные, неживые сис-
темы, все более полно воспроизводящие
свойства человеческого интеллекта, а гра-
ница, разделяющая «мыслящее» и
«немыслящее», становится все тоньше.
А что если мышление действительно неотде-
лимый от материи, органически присущий
ей атрибут, и проблема соотношения мате-
риального и духовного начал в судьбе
нашего мира, веками разделявшая филосо-
фов на два противоположных лагеря,
утратила смысл и стала похожей на
* См Э. В. Ильенков. Космология духа. № 8, 9.
сакраментальный вопрос о том. кто стар-
ше — яйцо или курица?
Как известно, философия изучает наибо-
лее общие закономерности мира и способы
его познания. Бесспорно, в конечном счете
они — следствие нашего опыта, результат
его теоретического осмысления, однако они
имеют настолько общий характер, что
далеко выходят за рамки физики, астроно-
мии, математики и всех других конкретных
наук. Как образно заметил английский
философ и логик Бертран Рассел, филосо-
фия — это как бы «ничейная земля» между
религией и конкретными науками. Вырас-
тая на их почве, она выдвигает свои
интересы в область все большей общности,
ио в отличие от религиозных догм ее
положения доступны экспериментальной
проверке.
Статья Э. В. Ильенкова — пример ф и-
лософской гипотезы. Она ут-
верждает, что если иметь в виду «мир
в целом», то материя и мышление — это
нечто единое, в котором обязательно при-
сутствуют обе эти стороны С помощью
мышления, представляющего, по мнению
Ильенкова, наивысшую форму взаимо-
действия материальных объектов, его аб-
солютный предел, природа воссоздает усло-
вия, периодически возвращающие ее к не-
которому исходному состоянию, так ска-
зать, бесконечно сама себя омолаживая.
Мировой процесс Э. В. Ильенков пред-
ставляет чем-то вроде безостановочно
вращающегося колеса — взрыв, порож-
дающий туманности и солнца, постепенное
истечение их энергии в пространство и усло-
жнение материальных форм до предельной,
мыслящей, которая осознает необходи-
мость и находит способ снова превратить
мир в огненную протоплазму. Вселенная
как легендарная птица Феникс, возрож-
дающаяся из пепла бесконечное число раз!
Первое, что обращает здесь на себя
внимание,— однообразность процесса. Не-
смотря на грандиозные космические
масштабы и пафос самопожертвования, ои
удивительно скучен - типичный пример
«дурной бесконечности» (так философы
называют ряд качественно не отличающих-
ся, а только бесконечно повторяющихся
событий), различие разве лишь в способах
самосожжения. А главное, нарисованная
Э В. Ильенковым картина по грандиоз-
ности и масштабам событий ни в какое
сравнение не идет с «диковинными» выво-
дами современной физики и космологии. Но
давайте по порядку.
Окружающий нас мир нельзя представ-
лять себе как бесконечное, неограниченно
простирающееся по всем направлениям
пространство, «пронзенное» не имеющей
конца и начала «стрелой времени» Мир
устроен гораздо сложнее. Теория относи-
тельности Эйнштейна и ее обобщения (в их
разработке важную роль сыграли советские
ученые) приводят к выводу о том, что окру-
жающий мир, который мы склонны воспри-
нимать как «всю Вселенную», возможно,
всего лишь один из бесчисленного множе-
ства миров, расширяющихся или сжимаю-
щихся в зависимости от их свойств и фазы
развития, ие зависящих друг от друга или
связанных узкими горловинами «черных
дыр» — ворот из одного мира в другой.
Почти 70 лет назад ленинградский физик
А. А. Фридман построил математическую
модель мира, который, возникнув в точке,
стремительно увеличивает свои размеры —
подобно раздувающемуся мыльному
пузырю, а через несколько лет амери-
канский астроном Э. Хаббл измерил ско-
рость «распухания» пространства. Из
наблюдений Хаббла и расчетов Фридмана
следовало, что расширение мира началось
15—20 миллиардов лет назад. Если масса
распределенного вокруг нас вещества неве-
лика, это расширение никогда не закончит-
ся, но если вещества в мире достаточно
много, то порождаемая им сила всемирного
тяготения постепенно замедлит, потом ос-
тановит «распухание», и процесс пойдет
5
в обратном направлении — Вселенная на-
чнет сжиматься и «схлопнется» в очень
малый, практически точечный объем Ника-
ких специальных усилий «космического
разума» для этого не потребуется — все
произойдет само собой.
Но и это еще не самое удивительное.
Расчеты физиков подсказывают, что в мик-
роскопически сжатом «пузыре» мира
свойства пространства и времени совсем не
таковы, к каким мы привыкли. Про-
странство и время распадаются там на
отдельные порции-кванты. Понятия «ле-
вое», «правое», «раньше», «позже» утрачи-
вают смысл. Более того, возникают новые,
дополнительные измерения, тогда как
привычные нам длина, ширина и высота
могут исчезнуть. С точки зрения наших
обыденных представлений, это будет выгля-
деть как стягивание мира в точку и его
переход «в никуда». Обратный процесс —
рождение «из ничего».
Современная квантовая механика и те-
ория относительности приводят к выводу
о том, что «вся Вселенная» — необычайно
сложная многомерная структура. И если
в какой-то области гравитационные силы
недостаточны для ее сжатия и вещество
растекается в расширяющемся про-
странстве, это вовсе ие означает гибели
Мира. Говорить о каком-то одном «направ-
лении» его развития просто неверно.
Тогда возникает вопрос о том, насколько
универсальны свойства материи, которые
мы называем «жизнь» и «мышление». Мы
не будем сейчас заниматься выяснением,
что следует называть живым и мыслящим,
хотя это тоже — чрезвычайно сложные
проблемы. Ограничимся интуитивным
представлением, как это делает Э. В. Иль-
енков.
Можно ли утверждать, что при всем
многообразии физических законов, реали-
зующихся в отдельных мирах, там непре-
менно должна возникать иерархия мате-
риальных форм, заканчивающаяся цветком
мышления? Особенно если учесть, что
свойства мнра (его пространство, время,
вакуум) таковы, что устойчивые атомарные
структуры невозможны? Едва ли... Во
всяком случае, у нас нет оснований для
таких утверждений. Природа слишком мно-
юобразна, чтобы всегда следовать одной
и той же схеме.
По мнению некоторых ученых (обосно-
ванию этой идеи много внимания уде-
лил известный советский астрофизик
И. С Шкловский), не исключено, что на-
ша Земля — единственный мыслящий
оазис Вселенной, ведь все попытки обнару-
жить присутствие разума или следов хотя
бы примитивной жизни (а таких попыток
в последние годы предпринималось нема-
ло) окончились неудачей, и это можно
считать прямым экспериментальным под-
тверждением гипотезы.
Действительно, в пользу идеи о мно-
жественности обитаемых миров и универ-
сальности мышления как свойства высо-
коорганизованной материи сегодня можно
привести лишь соображения общего харак-
тера о заурядности, принципиальной
невыделенности космического положения
Солнечной системы и нашей планеты, о том,
что подобных планет в Космосе должно
быть огромное количество. Но когда дело
касается решения фундаментальных про-
блем, общие соображения являются наибо-
лее весомыми.
Если сопоставить все «за» и «против»
гипотезы о множестве обитаемых миров, то
с методологической философской точки
зрения аргументы «за» выглядят более
убедительными.
Правда, есть вторая сторона проблемы:
в некоторых мирах, подобных, например,
нашему, жизнь и разум возникают доста-
точно часто, но затем в силу каких-то при-
чин погибают, не успев выйти за окрестно-
сти своей колыбели. Таких причин может
быть много: необратимое экологическое за-
грязнение среды на ранних этапах развития
цивилизации — раньше, чем будут созданы
«чистые» технологии, быстрое истощение
энергетических ресурсов. социальные
конфликты, неконтролируемые последствия
научных открытий и так далее. Ученые
серьезно занимались изучением подобных
отрицательных факторов и многие из них
пришли к выводу о том, что значительная
часть, а скорее всего даже большинство
космических цивилизаций действительно
погибают, прожив негколько сотен тысяч
лет. Поэтому факт «молчания» ближайше-
го к нам Космоса не является столь
удивительным, как это может показаться
с первого взгляда.
Итак, хотя далеко не все космические
миры пригодны для возникновения мысля-
щих форм материи, среди них должно быть
множество и таких, где должны возникать
жизнь и разум, хотя их формы могут быть
совсем не похожими на наши земные. Но
вот можно ли считать мышление атрибутом
материи, как это предлагает Э. В. Ильен-
ков? Атрибут — это органически присущее-
неотъемлемое свойство. Например, атрибу-
том материи является движение, котопое
в философии понимается очень общо — как
любое изменение. Не бывает материи без
движения, оно присуще всякой, самой
маленькой ее частичке. С ней всегда
связаны какие-то либо внешние, либо
Из обращения
Совета Министров
СССР к участникам
Поместного собора
Русской православ-
ной церкви
...Единство народа, граж-
дан вне зависимости от их
отношения к религии, явля-
ется важнейшим условием на-
шего продвижения к общест-
ву социальной справедливо-
сти. Все трудящиеся вместе
совершили Октябрьскую ре-
волюцию. сообща строят со-
циализм, героически отстаи-
вали его на фронтах Великой
Отечественной войны, самоот-
верженно трудились в тылу.
Мы с удовлетворением от-
мечаем, что между церковью
и государством существуют
нормальные отношения... Как
отметил Генеральный секре-
тарь ЦК КПСС М. С. Горба-
чев, у нас общая история, од-
но Отечество и одно буду-
щее. .
ПАНОРАМА
ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ
1000-летие христианизации
Руси стало событием не толь-
ко внутрицерковной, но и в
общественной жизни. Нам
еще предстоит проанализи-
ровать широкий круг проб-
лем. высвеченных юбилеем.
ПОМЕСТНЫЙ
СОБОР
Главным событием празд-
нования 1000-летия Русской
православной церковью стал
Поместный собор. На нем
присутствовало 272 делегата
от 67 внутренних и 9 зарубеж-
ных епархий.
Среди деяний Поместного
собора — канонизация новых
святых и утверждение нового
устава управления Русской
православной церковью.
Участники собора заслушали
и обсудили доклады «Тыся-
челетие крещения Руси»,
«Жизнь и деятельность Рус-
ской православной церкви с
1971 по 1988 год», «Миро-
творческое служение Русской
православной церкви».
Участники Собора совер-
шили богослужение в память
о воинах, погибших при вы-
полнении патриотического
долга в Афганистане, пере-
числили в фонд помощи инва-
лидам и пострадавшим вои-
нам-интернационалистам 200
тысяч рублей.
из письма
Поместного собора
Генеральному
секретарю
ЦК КПСС Михаилу
Сергеевичу
Горбачеву
6
внутренние изменения. Иное дело, напри-
мер, электрический заряд — некоторые
частицы его имеют, а другие нет, хотя
в, целом он присущ веществу и с ним
связана вся молекулярно-атомная структу-
ра нашего мира. Заряд — свойство, но не
атрибут материи. В похожем отношении,
представляется, находятся материя и
мышление.
Можно утверждать, что мышление неот-
делимо от материи в целом, но этого
недостаточно, чтобы признать его ее атри-
бутом. Образно говоря, мыслящий дух —
это своеобразный интеллектуальный заряд
материи, определенное свойство некоторых
весьма специфических ее состояний.
Уточнения требует и положение о том,
что мышление — предельная форма движе-
ния и развития. Дело в том, что может быть
целая иерархия уровней мышления. Про-
стейшие формы интеллектуальной деятель-
ности — примитивная память, рефлек-
торные процессы — свойственны уже таким
простым существам, как амеба. По мере
усложнения организмов усложняется и их
интеллектуальная деятельность. Ее самая
совершенная известная нам форма - ра-
зум человека. Возможны ли дальнейшие
усложнения?
В отдельных аспектах — несомненно.
Например, компьютерные системы уже
сегодня обладают чудовищной скоростью
решения логических задач, способны удер-
живать в своей памяти, не искажая ни
одной буквы, содержание целой библиоте-
ки. Это — мощные «приставки» к нашему
разуму, усилители наших интеллекту-
альных способностей. Ну, а в целом —
возможен ли более высокий, «сверхчелове-
ческий» уровень мышления?
Поставим вопрос несколько иначе. Для
того чтобы понимать разделы физики,
описывающие первичную «протоплазму»
в окрестностях «начала мира», нужно знать
теории кварков и супергравитации. Чтобы
разбираться в этих науках, необходимо
владеть общей теорией относительности
и квантовой механикой, а они, в свою
очередь, основаны на теории электромагне-
тизма, ньютоновской механике,'сложней-
ших разделах математики. В связи с этим
американский фнзик-теоретик Н. Винер,
всю жизнь имевший дело с самыми
абстрактными разделами естествознания,
одним из первых поставил вопрос о грани-
цах нашего разума: существуют ли в беско-
нечно многообразной природе проблемы,
понятия и образы, которые наш мозг,
представляющий собой всего лишь конеч-
ную, ограниченную материальную систему,
просто не в состоянии осознать?
Возможно, для овладения наукой буду-
щего достаточно будет дополнить мозг
сложными многоуровневыми компьютер-
ными «усилителями», или же человечество
предпочтет путь биологическбго усовер-
шенствования мозга. Как бы то ни бы-
ло, весьма опрометчиво утверждать,
что мозг и, соответственно, мышление
современного земного человека — «аб-
солютный предел». Если же эту характерис-
тику относить к «мышлению вообще»,
к мышлению как некоторому феномену,
безотносительно к его форме и субстан-
ционному носителю, она становится бессо-
держательной декларацией.
Не зря говорят, что человек — это целая
вселенная. Наука по сути дела еще только
приступила к изучению ее глубинных зако-
нов. Моделирование умственной деятель-
ности заставляет постепенно осознавать,
что способностью к мышлению природа, по-
видимому, наделила не только нас. Воз-
можно, мы всего лишь звено длинной цепи
качественно различных форм разума.
Человеческий разум становится важным
космическим фактором. Займется ли чело-
век перестройкой звездных систем и галак-
тик, будет ли путешествовать в другие
вселенные, а, может, предпочтет создавать
удобные для себя новые миры — иной
размерности, с другими физическими
свойствами? Вот только взрывать Вселен-
ную ему не придется. Во-первых, незачем,
а во-вторых, едва ли человек будущего
станет вести себя в Кбсмосе подобно
дикарю, сжигающему леса, чтобы освобо-
дить место для пашни. Слишком примитив-
но, да и вовсе не обязательно ломиться
сквозь пространство и время напрямую —
как танк сквозь ельник. Наверное, разум
изобретет что-нибудь более совершенное.
Сегодня эти вопросы обсуждают пока лишь
писатели-фантасты, выдумывающие про-
странственно-временные «проколы», соеди-
няющие гибнущие и юные миры, «вневре-
менные перемещения» и тому подобное...
Я во многом не разделяю точки зрения
Э В Ильенкова. Тем не менее публика-
цию статьи покойного Эвальда Васильеви-
ча я считаю вполне оправданной. Далекие
экскурсы к основам мироздания никогда не
бывают бесспорными и однозначными. Мы
привыкли многое брать на веру, не за-
думываясь и не задавая себе вопрос:
«Почему именно так?» А убежденность,
глубокое понимание проблемы достигаются
лишь при сопоставлении разных точек
зрения, особенно когда речь идет о фунда-
ментальных мировоззренческих вопросах.
Научное знание тем и отличается от
религии, что, допуская дискуссии, споры,
ставит вопросы проверки и обоснования.
Празднование 1000-летия
крещения Руси мы, право-
славные христиане, восприни-
маем не только как побужде-
ние к оценке пройденного
Церковью пути, но и как
время, благоприятное для
осмысления задач, стоящих
ныне перед нашим Государст-
вом, Церковью, перед каж-
дым из нас.
Мы сознаем, что эти задачи
обусловлены процессом ре-
шительной всесторонней пере-
стройки жизни нашего об-
щества, стремлением осу-
ществить в новых условиях
идеи, провозглашенные Вели-
кой Октябрьской социали-
стической революцией...
ГОВОРЯТ
гости
«Мы присутствуем на пре-
красном празднике поистине
пронветаюшей Русской пра-
вославной церкви. Это —
радостное торжество всех
христиан на земле, и поэтому
без преувеличения весь мир
принимает в нем участие...»
Архиепископ Кипрский
Хризостом
Продолжение на с. 15
зале Большого театра Союза ССР.
7
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Уважаемая редакция!
Недавно у своих знакомых я смотрел видеофильм о Нострада-
мусе. Не зная языка, я многого не понял: то ли он на самом деле
предсказал все на свете, вплоть до убийства братьев Кеннеди, то ли
был обыкновенным мошенником? Вроде бы предсказал вторую
мировую войну, чуть ли не назвав Гитлера по имени. И это сотни
лет назад! Правда ли это? И вообще, кто такой Нострадамус?
Н. ТРОПИН, Саратов.
Э. БЕРЗИН
нося®< сади эс
то всего лишь латинская фор-
J ма фамилии Мишеля де Нотр
Дама. Он родился 23 декабря
Y 1503 года в маленьком горо-
де Сен-Реми на юге Франции
в семье нотариуса. Дед Ми-
шеля по матери, Жан де Сен-Реми, был
известным врачом. В течение многих лет
он служил лейб-медиком одного из круп-
нейших феодалов Франции Рене Доброго,
герцога Анжуйского и Лотарингского, гра-
фа Прованского и Пьемонтского, носивше-
го также титулы короля Неаполитанского,
Сицилийского и Иерусалимского. Дед по
отцу, Пьер де Нотр Дам, тоже преуспел на
медицинском поприще, был лейб-меди-
ком сына Рене Доброго, Жана. А после
смерти последнего (не от плохого лече-
ния — герцога отравили шпионы короля
Арагона) перешел на службу к отцу убито-
го, Рене Доброму. Наличие двух врачей на
одном посту не привело, как это часто
бывает, к соперничеству. Напротив, они
крепко сдружились, а после смерти Рене
Доброго решили поселиться в одном
городе и впоследствии поженить своих
детей
Так и вышло. Мишель вырос в большой
дружной семье. Дед Жан учил его началам
математики, латыни, греческому, древ-
нееврейскому языкам. Он же познакомил
его с основами астрологии, науки, к кото-
рой в то время относились вполне серьез-
но. После смерти Жана домашним образо-
ванием Мишеля продолжал заниматься
дед Пьер. А затем родители послали его
учиться в Авиньон.
В 1522 году, закончив обучение в
Авиньоне, 19-летний Мишель поступает
в университет Монпелье, один из наиболее
знаменитых медицинских центров Европы.
В 1525 году получает степень бакалавра
и право на самостоятельную медицинскую
практику
В том году Южную Францию поразила
эпидемия чумы. Первое испытание на
посту врача Мишель выдержал. Он не
только проявил незаурядную смелость,
исполняя свой долг, но уже тогда стал
выделяться среди прочих врачей примене-
нием неортодоксальных средств лечения.
Вместо традиционных, освященных веками
медицинской практики кровопусканий и
клистиров по любому поводу он обращает-
ся к средствам народной медицины,
прежде всего — лекарственным травам.
Странствующий лекарь Нострадамус по-
льзует больных в Провансе, посещает
лекции знаменитых алхимиков в Нарбонне
(в те времена алхимики, как правило,
занимались медициной, а медики — алхи-
мией), его встречали в Каркассоне, в Тулу-
зе, а в Бордо его занесло как раз в тот
момент, когда там свирепствовала чума.
В городе своей юности — Авиньоне — он
работает в папской библиотеке над труда-
ми по магии и оккультным наукам, и в то
же время продолжает углублять свои
познания в фармацевтике.
Но< градамус возвращается в Монпелье
для защиты докторской диссертации. Эта
процедура состояла из длинной серии
экзаменов. Финал — публичный диспут со-
искателя с профессорами. Нострадамус
отстаивал пользу своих неортодоксальных
лекарств, которые он четыре года приме-
нял на практике. После защиты новоиспе-
ченному 26-летнему доктору были по
традиции вручены докторская шапочка,
золотое кольцо и книга Гиппократа.
История любит шутить — почти в это же
время в Монпелье степень доктора полу-
чил один из величаиших гениев Возрожде-
ния — Франсуа Рабле — острослов, бого-
хульник и беспощадный насмешник над
суевериями. Пересекались ли когда-либо
их пути — неизвестно..
Доктору Но< градамусу было предостав-
лено место на факультете. Но он пробыл
здесь всего год с небольшим — очевидно,
его взгляды на медицину уж очень расхо-
дились с канонами.
В 1532 году Нострадамус снова в пути.
Два года он странствует по югу Франции,
слава его как врача растет. В 1534 году
он получает письмо-приглашение от
выдающегося гуманиста Жюля Сезара
Скалигера (уступавшего в то время из-
вестностью только Эразму Роттердамско-
му) и переезжает в город Ажан. Здесь он
женился, у него родились сын и дочь. Но
три года спустя эпидемия неизвестной
болезни унесла жену и детей Врач,
спасший столько жизней, не мог спасти
своих близких — авторитет Нострадамуса
у пациентов стал стремительно падать...
Беда не приходит одна: разрыв со Скалиге-
ром, а в 1538 году последовал вызов
к инквизитору Тулузы — держать ответ за
вольнодумные речи.
Наш доктор предпочел уклониться,
покинув Ажан, а затем и Францию. Шесть
лет он странствует по Лотарингии, Нидер
ландам и Италии.
Только в 1544 году он возвращается
в Марсель. В этом же году там вспыхивает
чума. Два года спустя его приглашают в
столицу Прованса город Экс, где эпидемия
приняла ужасающие размеры. Местные
власти и аристократия бежали из города,
лавки закрыты, улицы поросли сорной
травой. Паника в Эксе достигла такого
размаха, что, по свидетельству, очевидца,
«люди заворачивались в две простыни
и устраивали себе похороны при жизни
(неслыханная вещь!)».
Нострадамус прибыл в город 1 мая
1546 года и сразу принялся за работу. Он
применял составленные им самим
пилюли. «Все, кто пользовались ими,—
писал он впоследствии,— спаслись, и на-
оборот». За эту работу парламент Прован-
са наградил его пожизненной пенсией.
В 1547 году Нострадамус обосновался
в маленьком провинциальном городке
Салоне. Дом Нострадамуса в Салоне, на
улице, носящей ныне имя его, сохранился
до сих пор. Здесь он вторично женился
и почти безвыездно прожил до самой
смерти...
изнь Нострадамуса в Са-
лоне протекала разме-
ренно. Он занимается
медицинской практикой,
интересуется многим,
например мелиорацией
Но чем дальше, тем больше посвящает
он свое время оккультным наукам. Ностра-
дамус уже немолод, а предсказание
будущего в то время было делом
хлебным. Каждый уважающий себя король
или крупный феодал имел придворного
астролога. Впрочем, не только короли, но
дворяне и буржуа также интересовались
астрологией. Большими тиражами ежегод-
но выходили десятки альманахов.
В 1550 году Нострадамус выпустил первый
такой альманах с предсказаниями на
каждый месяц и продолжал их выпускать
ежегодно до конца жизни. Особенной
славы и доходов они ему, видимо, не
принесли. До нас дошел только один такой
ежегодник (за 1559 год), в котором
8
/ n i
довольно много банальных предсказаний
о голоде, эпидемиях, наводнениях... ниче-
го «конкретно-исторического».
Но в 1555 году Нострадамус публикует
первую часть так называемых «Столетий»
В полном виде книга состояла из 10 глав —
«столетий», в каждое из которых (кроме
седьмого)' входило 100 четверостиший-
предсказаний. Впрочем, сами главы не
совпадали со столетиями человеческой
истории, а в изложении сюжетов не было
никакого хронологического порядка.
В предисловии Нострадамус писал: «До-
1 V// столетие по какой-то причине осталось
неполным — всего в нем 42 четверостишия.
9
лгое время я делал многие предсказания,
далеко вперед событий, которые с тех пор
произошли в указанных мной местностях.
Все это мне удалось совершить благодаря
Божьей силе, вдохновившей меня... Одна-
ко из-за возможности вреда и для на-
стоящего, и, в особенности, для будущего,
я предпочитал молчать и воздерживался
от записи этих предсказаний. Ибо царства,
секты и религии претерпят огромные
изменения, станут диаметрально противо-
положными нынешним. И это так мало
соответствует тому, что хотели бы
услышать главы царств, сект, религий
и вер. И поэтому они осудили бы то, что
узнают будущие столетия, и то, . что
окажется правдой. А, как сказал Спаси-
тель, «Не давайте святыни псам и не
бросайте жемчуга вашего пред свиньями,
чтобы не попрали они его ногами своими и,
обратившись, не растерзали вас» (От
Матфея VII, 6). Эта причина удерживала
мой язык от речи на людях, а перо от
бумаги. Но позже, имея в виду пришествие
простонародья (commun avenement), я ре-
шил в темных и загадочных выражениях
все же рассказать о будущих переменах
человечества, особенно наиболее близких,
тех, что я предвижу, пользуясь такой
манерой, которая не потрясет их хрупкие
чувства. Все должно быть написано в ту-
манной форме, прежде всего пророчес-
кое... Я составил книги пророчеств, каждая
из которых состоит из ста астрономических
катренов, или пророчеств. Это вечные
пророчества, ибо они простираются от
наших дней до 3797 года».
Заявка на исчерпывающую картину
будущей истории, таким образом, была
нешуточной. Впрочем, предсказания
Нострадамуса не простираются до
XXXVIII века. На 942 катрена (четверости-
шия) он дает только 12 абсолютных дат (от
1580 до 1999) и еще полтора десятка
относительных (которые можно вычислить
по сочетанию созвездий на небе; Эти
относительные датировки также, как пра-
вило, не заходят в III тысячелетие.
В принципе основная масса предсказаний
уже должна была бы сбыться.
Но поскольку они изложены, как и обе-
щано Нострадамусом, «в темных и зага-
дочных выражениях», спор о том, осу-
ществилось ли в полной мере хотя бы одно
из них (не говоря уже о подавляющем
большинстве) идет веками не утихая.
момент своего появления
«столетия» не произвели
на современников большо-
го впечатления. Никто, в
частности, не обратил вни-
мания на 35 катрен I столе-
тия
«Молодой лев одолеет старого
На поле битвы в одиночной дуэли.
Он выколет ему глаза в золотой
клетке.
Два флота (или два перелома —
Э. Б.). — одно,
потом умрет жестокой смертью».
Менее всего это предсказание взволно-
вало короля Франции Генриха II. Ему
и в голову не пришло, что оно грозит ему
гибелью, что, впрочем, неудивительно,
учитывая туманный (и совершенно ти-
пичный для Нострадамуса) стиль предска-
зания.
Правда, король, побуждаемый своей
женой Екатериной Медичи, обожавшей
астрологию и магию, пригласил его летом
1556 года в Париж. Нострадамус приехал,
беседовал с королем и королевой и полу-
чил от них в награду 130 экю. Путешествие
явно оказалось убыточным, так как одна
дорога до Парижа обошлась астрологу
в 100 экю. Пришлось занять на обратную
дорогу у парижского купца Жана Мореля.
Задерживаться в Париже Нострадамус не
стал еще и потому, что одна «добрая
Женщина» предупредила, что им заинтере-
совалось парижское правосудие. Астроло-
гия (несмотря на покровительство сильных
мира сего) всегда была у церкви на
подозрении.
Вернувшись в Салон, Нострадамус во-
зобновил работу над «Столетиями» и в
1558 году издал вторую их часть, в которой
он поместил послание к Генриху,
раскрывающее «методику» предсказа-
тельной работы. «Мои ночные пророчес-
кие расчеты,— пишет он,— построены
скорее на натуральном инстинкте, в сопро-
вождении поэтического исступления, чем
по строгим правилам поэзии. Большинство
из них составлено и согласовано с астроно-
мическими вычислениями, соответственно
годам, месяцам и неделям областей и
стран и большинства городов всей Европы,
включая Африку и часть Азии... Хотя мои
расчеты могут не оказаться правильными
для всех народов, они, однако, опреде-
лены небесными движениями в сочетании
с вдохновением, унаследованным мной от
моих предков, которое находит на меня
в определенные часы... Это так, как будто
глядишь в горящее зеркало с затуманен-
ной поверхностью и видишь великие
события, удивительные и бедственные...»
Вторая часть «Столетий» тоже осталась
без внимания. Генрих II не реагировал на
послание. Новое предприятие Нострада-
муса, казалось, было обречено на неуспех,
как и его альманахи. Тем не менее год
спустя «Столетия» внезапно стали, говоря
современным языком, бестселлером. Что
же произошло?
В программу праздничных торжеств
в честь свадьбы дочери Генриха 11 Елиза-
веты с испанским королем Филиппом 11
был включен начинавший уже выходить из
моды рыцарский турнир. Эти состязания
считались вполне безопасными, и когда на
третий день турнира (1 июля) на поле
выехал сам Генрих II, никто не полагал, что
священная особа монарха подвергнется
какой-либо опасности.
Генрих II и его соперник, капитан
шотландской гвардии граф Габриэль
Монтгомери, помчались друг на друга
и «преломили копья», то есть каждый
нанес противнику такой удар, что копье
в его руках сломалось, но противник не
был выбит из седла. Затем они разъеха-
лись в разные стороны, взяли новые копья,
и все повторилось сначала. То же произош-
ло и в третий раз, но теперь соперники
стали разворачивать коней в непос-
редственной близости друг от друга,
а Монтгомери еще сжимал в руке обломок
копья. Одно неудачное движение — и
острый отщеп вонзился в прорезь на
шлеме Генриха II, пронзил королю глаз
и проник в мозг. 10 дней спустя Генрих II
умер.
Внезапная нелепая смерть еще не старо-
го, полного сил короля настолько поразила
окружающих, что поиски какого-либо зна-
мения, предвещавшего это событие, были
вполне естественными и в духе времени
Тут-то и подвернулась книга Нострада-
муса с предсказанием о дуэли и выкалыва-
нии глаз. С этого момента интерес к пред-
сказаниям врача из Салона стремительно
растет, и скоро его катрены (четверости-
шия) становятся не только предметом
пересудов придворных и горожан, но и те-
мой политических донесений послов,
аккредитованных при французском дворе.
17 ноября 1560 года новый король
Франциск II, болезненный юноша не-
полных 18 лет, заболел лихорадкой, а уже
20 ноября венецианский посол Микель
Суриано доносил дожу: «Все придворные
вспоминают 39-й катрен Х-го «столетия»
Нострадамуса и обсуждают его втихомол-
ку». Этот катрен гласил:
«Первый сын, вдова, несчастливый
брак.
Без детей два острова в раздоре:
До восемнадцати, в незрелом возрасте,
А другой вступит в брак еще моложе».
Комментаторы более позднего времени
извлекли из этого катрена бездну инфор-
мации Франциск II (1559—1560) был
первым сыном Генриха II. Его жена,
шотландская королева Мария Стюарт,
прожила с ним менее двух лет, и в этом
плане их брак можно считать не-
счастливым. Детей у них не было. Относи-
тельно двух островов в раздоре вспомни-
ли, когда Мария Стюарт вступила в борьбу
с английской королевой Елизаветой I. Хотя
всем известно, что Англия и Шотландия
находятся на одном острове, это предска-
зание почему-то производило особенно
сильное впечатление. Строчки «А другой
вступит в брак еще моложе» относили ко
второму сыну Генриха II королю Карлу IX
(1560—1574). Правда, он женился на При-
нцессе Елизавете Австрийской только
в двадцатилетнем возрасте. Но коммента-
торы обходят эту трудность, указывая, что
обручился-то он с нею в возрасте одиннад-
цати лет.
Но все эти толкования пока
еще в будущем. В конце
же 1560 года внимание
современников было со-
средоточено на смертель-
ной болезни Франциска II.
3 декабря тосканский посол Никколо
Торнабуони писал герцогу Косимо Меди-
чи: «Здоровье короля очень неопределен-
ное, и Нострадамус в своих предсказаниях
на этот месяц говорит, что королевский
дом потеряет двух молодых членов от
непредвиденной болезни». Альманах
Нострадамуса за 1560 год до нас не дошел,
и мы не знаем, в каких выражениях было
сделано это предсказание, скорее всего,
в самых туманных, как это обычно в до-
шедших до нас его книгах. Но Франциск 11
действительно умер 5 декабря, и в том же
месяце умер юный граф Рош-сюр-Йон,
отпрыск самой младшей ветьи коро-
левского дома. Этот факт вызвал новые
отклики в дипломатической переписке.
Испанский посол Шатоннэ, такой же
10
твердокаменный католик, как и его мо-
нарх, оценивал в этот момент пророчес-
кую деятельность Нострадамуса без всяко-
го юмора. В своем донесении Филиппу 11
он сообщал:
«Было замечено, что в один месяц
умерли первый и последний члены коро-
левского дома. Эти катастрофы потрясли
двор вместе с предсказанием Нострадаму-
са, которого лучше было бы наказать, чем
позволять публиковать свои пророчества,
которые ведут к распространению суеве-
рий».
Суриано, посол родственника Екате-
рины, флорентийского правителя Косимо
Медичи, естественно, занимал противопо-
ложную позицию.
«Имеется другое предсказание,— писал
он в мае 1561 года,— широко распростра-
ненное во Франции, исходящее от этого
знаменитого и божественного астролога
по имени Нострадамус, и которое угро-
жает трем братьям, говоря, что королева-
мать увидит их всех королями». Иначе
говоря, что они умрут без потомства.
Собственно говоря, это предсказание не
сбылось, так как из трех оставшихся после
смерти Франциска II сыновей Екатерины
Медичи королями стали только двое,
а третий умер, не дождавшись своей
очереди на трон. Но позднейшие коммен-
таторы обошли это препятствие, решив,
что Нострадамус предсказал им три ко-
роны, а Генрих III был королем дважды
(в Польше и во Франции).
В 1561 году популярность Нострадамуса
начала приносить реальные плоды. В де-
кабре его пригласили ко двору герцога
Савойского в Ниццу для составления го-
роскопа наследнику Карла-Эммануила.
Нострадамус галантно предсказал ново-
рожденному карьеру великого полковод-
ца — и промахнулся!
Известность Нострадамуса достигла сво-
его пика в октябре 1564 года. В Салон
прибыл 14-летний король Карл IX, в сопро-
вождении матери-регентши Екатерины
Медичи и огромной свиты. Донесение
испанского посла Франциско де Алава об
этой встрече вызвало немалый переполох
при дворе Филиппа II. «Нострадамус на
приеме объявил королеве Екатерине и
Карлу IX, что тот женится на королеве
Елизавете Английской»,— писал он. Такой
брак повлек бы за собой антииспанский
союз Франции и Англии.
Но это предсказание так и не исполни-
лось. Такова, по-видимому, судьба всех
ясных и четких предсказаний Нострадаму-
са. Испанский посол об этом, однако, не
знал и продолжал писать о прорицателе из
Салона с большим раздражением.
«Чтобы Ваше Величество могло убедить-
ся, насколько легковерны здесь люди,—
сообщал он в следующем донесении
Филиппу II,— я скажу, что королева (Ека-
терина Медичи. — Э. Б.), когда она проез-
жала через город, где жил Нострадамус,
призвала его к себе и подарила ему
200 крон. Она велела ему составить
гороскоп короля и королевы. И, так как он
самый дипломатичный человек в мире
и никогда не говорит того, что может кого-
нибудь огорчить, он решил в этих двух
гороскопах польстить королю и королеве,
да так, что они приказали ему следовать за
их двором, обращаясь с ним по-коро-
левски, пока они не разделились и не
расстались с ним в Арле. Королева сказала
мне сегодня в ответ на мои слова, что
я надеюсь, большое благо выйдет из
будущей встречи (с ее дочерью Елизаве-
той, королевой испанской. — Э. Б.),— «Вы
знаете,— сказала она,— Нострадамус ут-
верждает, что в 1566 г. во всем мире
наступит всеобщий мир и Франция будет
мирной и ее положение укрепится». И,
говоря это, она имела такой уверенный
вид, как будто цитировала (евангелие от)
Св. Иоанна или Св. Луки».
И это предсказание Нострадамуса, увы,
оказалось более чем далеким от действи-
тельности. В 1566 году религиозные войны,
раздирающие Францию, отнюдь не кончи-
лись. Они продолжались еще три десяти-
летия. Да и мир во всем мире остался
делом неопределенно далекого будущего.
Ко времени визита королевского двора
в Салон (18 октября 1566 года.) относят
еще одно предсказание Нострадамуса,
которое в точности сбылось, несмотря на
крайне малую вероятность его осу-
ществления.
Вместе с Карлом IX и Екатериной
Медичи в Салон прибыл малолетний Ген-
рих Бурбон, король Наваррский, дальний
родственник правящей династии Валуа.
Говорят, что Нострадамус проявил боль-
шой интерес к этому ребенку. «Он
попросил воспитателя (Генриха Наваррско-
го) показать ему юного принца. На
следующее утро, во время церемонии
одевания, когда принц стоял голый,
Нострадамуса ввели в комнату, и, пока
принцу подали рубаху, он долго смотрел
на него, а затем сказал, что (он (принц)
получит все наследство и, «Если Бог явит
вам (воспитателю. — Э. Б.) милость, и вы
доживете до тех пор, вашим хозяином
будет король Франции и Наварры». То, что
казалось невероятным тогда, случидось
в наши дни. Это пророчество король с тех
пор не раз пересказывал, даже королеве,
добавляя шутливо, что ему долго не
давали рубашку, чтобы Нострадамус мог
его не спеша рассмотреть, и он (Генрих)
даже испугался, что они собираются его
выпороть».
Шансы Генриха Наваррского пережить
трех здравствовавших в 1564 году сыновей
Екатерины Медичи и их потенциальное
потомство действительно были ничтожны.
И если бы это предсказание было зафикси-
ровано в документах того времени (ска-
жем, в донесениях послов) или в любых
рукописных или печатных мемуарах, соз-
данных до восшествия Генриха Наваррско-
го на трон Франции, этот факт мог бы
сильно подкрепить репутацию Нострада-
муса — пророка. Но, увы, даже в подроб-
нейшем описании визита королевского
двора в Салон, составленном сыном
Нострадамуса Цезарем де Нотр Дамом, об
этом эпизоде нет ни слова. А ведь Цезарь
писал свои воспЬминания в годы правления
Генриха IV, когда более чем уместно было
бы вспомнить славное предсказание. Увы
и еще раз увы) — рассказ, приведенный
выше, был впервые опубликован в 1718 ГО-
ДУ-
После посещения Салона королевским
двором Нострадамус прожил еще около
двух лет. Он умер 2 июля 1566 года от
последствий подагры (есть гипотеза, что
это типичная болезнь гениев2). Его похоро-
нили в церкви францисканского мо-
настыря. На мраморной плите была высе-
чена надпись: «Здесь покоятся кости
знаменитого Мишеля Нострадамуса,
единственного из всех смертных, который
оказался достоин запечатлеть своим почти
божественным пером, благодаря влиянию
звезд, будущие события всего мира».
опулярность Нострадамуса
после его смерти не пошла
на убыль. Напротив, с каж-
дым десятилетием она
продолжала расти.
«Столетия» переводят
на многие языки, издания быстро раску-
паются. Книга Нострадамуса, как заметил
один из «нострадамоведов», едва ли не
единственная книга, кроме Библии, кото-
рая в течение 400 лет публиковалась
практически непрерывно. За эти 400 лет
успела накопиться и целая библиотека книг
о Нострадамусе.
Первые из них появились еще при его
жизни. Современники не очень жаловали
Нострадамуса — уже в 1557 году появи-
лась «Первая инвектива сеньора Геркулеса
Французского против Нострадамуса, пере-
веденная с латинского языка». Кто именно
укрылся под именем Геркулеса Фран-
цузского, неизвестно, но это явно был
человек, принадлежавший к кальви-
нистскому кругу и возмущенный «нечес-
тием» Нострадамуса, пытавшегося
раскрыть божьи тайны. В следующем году
появилась анонимная книга «Чудовище
кощунства», автором которой, видимо,
был известный кальвинистский проповед-
ник Теодор де Без. Самое мягкое из
сравнений, которое он находит в своем
памфлете для Нострадамуса — это срав-
нение с Геростратом. «Ты подобен тому
безумцу,— пишет он,— который не буду-
чи в состоянии обессмертить себя до-
стойными и похвальными деяниями, хочет
увековечить свое имя бесчестным де-
лом — сожжением Эфесского храма».
Католические идеологи Лоран Видель
и дю Павийон проявили в этом вопросе
полное единодушие с кальвинистами.
В своих изданных примерно в то же время
работах они объявили его предсказания
«ложными и возмутительными», а его
самого наглым шарлатаном. В 1560 году
к этому хору негодования присоединилась
третья ветвь христианства — англиканская
церковь в лице английского автора
У. Фулька, написавшего трактат о «беспо-
лезности астрологических предсказаний»,
главным образом, на примере Нострада-
муса.
Стойкое неодобрение церковных авто-
ритетов, однако, не могло отвадить публи-
ку от чтения предсказаний Нострадамуса,
а в числе читателей (и почитателей)
Нострадамуса были очень влиятельные
2 См. «Наука и религия», 1987, №8, 9, 10
(Прим. ред.).
11
лица. Так, в 1622 году могилу Нострадаму-
са посетил король Людовик XIII, а спустя
38 лет — Людовик XIV в сопровождении
своей матери королевы Анны Австрийской
и кардинала Мазарини.
При таком высоком покровительстве
притязания церкви — сжечь книгу Ностра-
дамуса рукой палача — остались нереали-
зованными. А число апологетических ра-
бот, превозносящих Нострадамуса и
отыскивающих у него все новые, удиви-
тельные пророчества, довольно быстро
поевзошло число работ критических.
Первым апологетом и комментатором
Нострадамуса стал его ученик Жан-Эме де
Шавиньи, мэр города Бона, бросивший
этот пост и многообещающую карьеру
ради занятий астрологией. В книге «Первое
лицо французского Януса» (1594) он
первый систематизировал «уже сбывши-
еся» предсказания Нострадамуса, выстро-
ив их в историческую цепочку от 1556 до
1589 года. Значительную часть их он
привязал к деяниям Генриха Наваррского,
который к этому времени вошел в силу
Большое число несбывшихся предсказани»
он приписал ему же (с благочестивой
оговоркой, что все это, мол, сбудется, если
Генрих, только что принявший католи-
чество, не впадет снова в ересь).
Начиная с этого времени вплоть до
наших дней, комментаторы приспосабли-
вали катрены Нострадамуса к своему
времени, переориентируя большую часть
предсказаний сообразно политической об-
становке и личным пристрастиям То, что
в XVI веке приписывалось Генриху На-
варрскому, в XIX веке могли приписать
Наполеону, а в XX веке — Гитлеру. Под
агентами Антихриста, о которых немало
говорится у Нострадамуса, в XVI веке
понимались «безбожные кальвинисты», в
XVIII веке — «безбожные якобинцы», а в
XX веке — «безбожные большевики», в за-
висимости от симпатий или антипатий
толкователей к конкрет .ому историческо-
му лицу.
Если же катренов «не Хватало» или они
были недостаточно выразительны, от его
имени изготовлялись новые. Так, в 1649 го-
ду, во время Фронды вышло подложное
издание «Столетий», в которое были
включены катрены, разоблачающие кар-
динала Мазарини.
Словом, авторитет Нострадамуса на
протяжении веков оставался устойчивым.
Да и в наше время на Западе публикации
Нострадамуса и о Нострадамусе продол-
жают исправно выходить и спрос на : «х не
только не падает, но скорее растет. Понять
этот интерес нетрудно.
Легких времен строго говоря, никогда
не было: Люди во все времена были
озабочены тем, что сулит им будущее.
А сейчас, когда простое нажатие кнопки
может вообще привести к концу челове-
ческую историю, интерес к будущему
обострился как никогда. Может, и правда,
будущая судьба человечества скрыта в кат-
ренах Нострадамуса и верность его пред-
сказаний будущего обеспечена точностью
уже сбывшихся? Так ли это?
Продолжение следует
ДЕТСТВО АСТХИК
Опыт реконструкции мифа
Широкий двор обнесен зеркальной сте-
ной. Песок у стены мельче и не жжет пятки,
но сохранитель Седраг не любит, когда
младшие подбираются к стене.
В середине двора на круглом барабане
дремлет Пастан. Если позвать ее, она
приоткроет узкий глаз, затем второй, пока
тает зрачками из одного в другой, мяукнет
и снова заснет.
Астхик любит играть с ней. Она разре-
шает Астхик играть и терпеливо наблюдает,
как младшая сыплет песок на барабан,
рядом с хвостом. Песчинки гудят на туго
натянутой коже, подпрыгивают... Пастан
вытягивает лапы, опрокидывается на спину
и дозволяет младшей погладить себя по
животу — младшая робко тянет руку и. не
веря глазам, трогает мягкую сверкающую
шерсть. Пастан никому не разрешает тро-
гать себя. Пастан знает, что Астхик скоро
покинет Двор Хранителей. Ей не жалко
младшую. Она забыла, что такое жалость
с тех пор, как ее приплод был раздавлен
тяжелыми, харкающими огнем колесница-
ми Хранителей, а она сама прошла через
семь кругов памяти. Ей не жалко младшую,
но волосы Астхик напоминают шерсть
одного из котят. И еще она знает, что
Астхик назначена в Сопредельное навечно
вместе с братом. Ей не жалко младшую, но
все же...
Астхик оборачивается и видит себя,
идущую к стене. Это играет Асарас — брат.
Вот он дошел до стены, и в зеркальных
складках замигали, запрыгали цветные
пятна.
- Не следует, не следует, не сле-
дуем... — проплыл иад двором тихий низкий
голос сохранителя Седрага.
Асарас отбежал от стены, сбросил изоб-
ражение Астхик и засмеялся. Подбежал
к барабану и. увидев Пастан, робко
протянул руку к ее животу. Пастан не-
доуменно взглянула на него и исчезла. Ей
безразличен Асарас.
Астхик села на барабан, Асарас присел
рядом и осторожно дотронулся пальцем до
ее плеча. Она вздрогнула ио ничего ие
сказала. Ей показалось, что она видит дом
и двор в последний раз — и зеркальные
стены, и красный песок у стен, и нави-
сающие над двором грузные крепления
Неба, и овал дома... в последний раз.
Она знает, что все кажущееся — случит-
ся. Она встает и сбрасывает руку Асараса.
Младший обижается, но она, ие обращая
на него внимания, медленно идет к дому.
И только у высокого порога оборачивается
и говорит: «Сохранитель Седраг и тебя
призывает!»
Тихий прохладный коридор выложен
камнем. Плиты звенят под ногами. Астхик
не оборачивается, но она знает, что за ней
неотступно следует всевидящий зрак сохра-
нителя Седрага. Ее догоняет Асарас,
и в зал они вступают вместе.
Младшие удивлены — зал полон сохра-
нителями, а на большом ложе восседает
Хранитель. Младшие только однажды ви-
дели Хранителя, когда Великая Вода чуть
не залила зеркальные стены.
— Вот они! — голос сохранителя Седра-
га громок и высок
Сохранители выстраиваются в ряды
Э. ГЕВОРКЯН
прощания, и младшие, еще ие понимая
смысла происходящего, идут к ложу Храни-
теля.
Астхик становится страшио. Она вспоми-
нает ночные рассказы в комнате младших
о Колесе и Очищении, невероятные истории
о прохождении кругов памяти, она помнит
глаза младших, которые были назначены
в Сопредельное...
Хранитель поднимается с ложа — и Аса-
рас чуть не прыскает от смеха: он не-
высокий, почти по пояс младшему, круг-
логоловый. Издали он казался больше
и страшнее. Хранитель замечает веселье
Асараса и прикрывает веки. Рядом с ним
возникает еще один Хранитель — такой же
маленький и смешной
— Я всегда был против этого,— не
словами говорит Хранитель-первый и так
же отвечает Хранитель-второй: — У иас
нет выхода.
Астхик слышит и понимает. С каждым
шагом Знание наваливается сверху, давит
на затылок, длинной мохнатой гусеницей
вползает в мозг и жжет спину. Асарас пока
безмятежен, но вот и он перестал улыбать-
ся.
— Бедные дети,— молча говорит Храни-
тель-второй и исчезает
А за ним исчезает и первый.
Обернувшись к сохранителям, Асарас
вскидывает в прощальном жесте руки и,
заметив серьезные глаза Седрага, подмиги-
вает ему. Седраг вздрагивает, Асарас
чувствует, что потерял частицу Знания.
Астхик исчезает, не оглянувшись.
Младшие оказываются в центре огненно-
го вихря, их внутренности взрываются от
жара, испепеленное тело рассыпается в
прах и разлетается по всем кругам памяти,
чтобы пройти муки существования и соб-
раться в неуязвимую плоть.
Хранитель-первый смотрит в глаза
Хранителю-второму и видит в них горе —
дети Хранителя-второго погибли, растер-
занные голодной толпой во время Великой
Воды.
— Жаль малышей,— говорит слышимо
Хранитель-второй.
— Мне жаль девочку,— отвечает Храни-
тель-первый. — Я видел ее назначение.
Кровь, кровь, кровь...
— Она не спасет...
— Нет. не спасет и не искупит...
Хранители исчезли. По кругам памяти
распадалась, дробилась, растиралась сла-
бо трепещущая душа той, которой суждено
было выйти в Сопредельное грозным име-
нем Астхик, Астарты, Ашторет, Иштар,
Исиды...
12
« Лебеди
Великой
ТОЧКА ЗРТНИЯ
«...голубоглазые и
златоволосые...»
Чтобы понять, что скрывается за
абстрактным понятием «народ», нужно
вглядеться в лица людей, которые его
составляют, проникнуться их судьбами,
ощутить дыхание их повседневной жизни
Только тогда нам станут доступны их
мысли, их идеалы, отношение к окру-
жающему их миру.
От половцев нас отделяют разные
барьеры: временные, этнокультурные,
языковые, психологические. Целостную
картину их жизни никто из исследователей
не пытался составить, довольствуясь
рассмотрением отдельных кусочков, сос-
тавляющих ее мозаику. Впрочем, даже
если собрать все, что осталось, то и тогда
перед нами будут отдельные, очень не-
большие фрагменты обширного панно.
И все же это единственный путь, которым
можно идти И начинать его придется опять
с археологии.
Обычно половцев изображают желто-
лицыми, черноволосыми, скуластыми и ко-
соглазыми — типичными монголоидами.
Такими они предстают нам в научных
статьях, популярных и художественных
произведениях, на книжных иллюстрациях,
на сцене и на экране. На самом деле это
ошибка уже потому, что половцы —
тюрки, то есть европеоиды. Более того,
когда археологам все же удается при
раскопках степных могил с максимальной
достоверностью установить половецкую
принадлежность погребенного, антропо-
логи восстанавливают облик людей так
называемого средиземноморского типа —
с высоким лбом, тонким, с горбинкой
носом, нормальными скулами и энер-
гичным подбородком. Можно сказать, что
это классический тип населения Южной
Европы, каким мы знаем его по мра-
морным портретам императорского Рима,
по сохранившемуся населению Балкан
и Подунавья, а еще лучше — по погребе-
ниям эпохи бронзы Восточной Европы на
всем необозримом пространстве евра-
зийских степей от Дуная до Прибайкалья.
Ничего удивительного в этом нет. По-
ловцы принадлежали к тюркоязычной
семье народов, а древние тюрки всегда
славились красотой. Свидетельств тому
много, и не последнее место в их ряду
занимают каменные половецкие изваяния.
Лица пострадали от времени, еще боль-
ше — от мусульманской нетерпимости к
«идолам», и все же иногда можно увидеть,
как красивы мужские и женские лица,
правда, выполненные в несколько услов-
ной манере. Пористый, грубый известняк
не способствовал гонкой моделировке лиц
и требовал от резчика значительной схема-
• Продолжение. Начало в № 9
Андрей НИКИТИН
По-видимому, зада-
скульпторов было не
портретное сходство, а возможно более
точная передача особенностей костюма.
По счастью, о красоте половцев, в пер-
вую очередь половчанок, сохранились
и другие свидетельства. Красота Гуран-
духт, дочери хана Атрака, ставшей женой
Давида Строителя, как видно, с успехом
конкурировала с красотой грузинских при-
дворных дам. Персидский поэт Низами
Ганджеви, сам женатый на половчанке,
воспевал красоту женщин этого народа.
Наконец, стоит вспомнить эпитет Конча-
ковны, племянницы Гурандухт — «красная
девка», употребленный в «Слове о полку
Игоревен по отношению к ней и к полов-
чанкам вообще; эпитет, выразивший
высшее восхищение поэта и не употреб-
ленный больше в отношении представи-
тельниц прекрасного пола других народов,
в том числе и русского.
Тот или иной антропологический облик,
вписывающийся в привычный стереотип
или, наоборот, встающий в противоречие
с подсознательными канонами красоты,
играет важную роль в установлении
межэтнических контактов. Одно из прояв-
лений ксенофобии, боязни «чужого», ново-
го, оно и в наши дни может оказаться
невольной помехой в общении народов
В древности этот фактор играл еще
большую роль. Но в данном случае, как
можно думать, барьера не возникало.
Облик половцев, и в первую очередь
облик половецкой аристократии, как не-
льзя больше импонировал эстетическим
вкусам славян, грузин и обитателей Поду-
навья. Объяснялось это теми харак-
терными чертами, выделявшими половцев
из числа остальных тюрок, которые опре-
делили нарицательное имя этого народа.
Сами половцы называли себя «кумана-
ми», или «кунами»,— словами, которые
некоторые тюркологи возводя! к древ-
нетюркскому «кум» — «лебедь»: «белые»,
«белокрылые», «лебеди». Догадка воз-
можная, но ведет она нас не к тотемичес-
кому предку половцев, поскольку действи-
тельных следов тотемизма у половцев мы
не находим, а к тому названию, под
которым эти странники степей вошли
в историю своих восточноевропейских
соседей Немецкое слово «фальбы», вен-
герское «палоць», польское и чешское
«плавцы», армянское «хардеш» и русское
«половцы» означают один и тот же цвето-
вой оттенок — «соломенно-желтый», «зо-
лотистый», «белокурый»,— который опре-
деляет цвет не кожи, а волос куманов.
Пигментация волос связана и с опреде-
ленным цветом глаз. В отличие от ос-
тальных тюрок, черноволосых и каре-
глазых, белокожие половцы представали
в золотистом нимбе волос над яркими
голубыми глазами, поражая черноволосых
и смуглых грузин, болгар и поднепровских
славян. Китайские хроники прямо
называют половцев «людьми с бело-
курыми волосами и голубыми глазами».
Такая характерная «цветовая гамма» по-
ловцев, вызывавшая восхищение совре-
менников, оказывается для историка сво-
его рода «генеалогическим аттестатом»,
помогая связать их происхождение с зага-
дочными динлинами китайских хроник
(«белой расой Центральной Азии»), а че-
рез них — с людьми гак называемой
«афанасьевской культуры», чьи погребе-
ния III тысячелетия до н. э. были открыты
археологами в Прибайкалье.
Другими словами, в океане времен
половцы предстают как потомки доевних
индоевропейцев или индоиранцев —
«арийцев», вытесненные из Азии начав-
шейся экспансией монголоидных народов.
«Отуреченные» некогда динлины потеряли
свою древнюю родину, сменили язык,
и общетюркский поток вынес на черно-
морские берега остатки некогда сильного
и многочисленного, но уже вымирающего
и размывающегося среди других золото-
волосого народа...
Под стать облику и психологическая
характеристика половцев, которую мы
находим у разных авторов. Египетский
историк XIV века Аль-Омари с высокоме-
рием аристократа арабского мира пишет
о простоте нравов половцев, но речь его
сразу меняется, едва он касается их
внешних и внутренних качеств: «Тюрки
эти — один из лучших родов тюркских по
своей добросовестности, храбрости,
честности, совершенству своей фигуры
и благородству характера». Схожую харак-
теристику в XV веке дает испанец Педро
Тафкар рабам-половцам. Говоря об их
врожденной честности и верности, он
замечает, что «ни один из них никогда не
предавал своего хозяина»'.
К сожалению, все, чем мы обычно
оперируем, говоря о половцах,— только
случайные факты их долгой и богатой
истории. Когда-нибудь — я верю — она
будет написана на основании сведенных
воедино археологических исследований,
работ антропологов, известий арабских,
персидских, китайских и европейских ис-
точников. Половцы отнюдь не были «цыга-
нами», кочующими в жал сих кибитках по
степи. Не сравнить их и с казахами или
туркменами, какими их застали этнографы
в XIX веке. Они стояли на гораздо более
высоком уровне культуры и общественно-
го развития. В отличие от печенегов
и торков, половцы позволяют говорить
о себе как о некоем устойчивом госу-
даоственном образовании, предпола-
гающем развитую социальную структуру
общества, наследственную власть, доста-
точно высокую материальную и духовную
культуру, в том числе и письменность.
Насколько мощным было воздействие
культуры половцев на окружающие на-
роды, с которыми они вступали в контакт,
показывают два примера.
Первым и самым поразительным по
своей яркости может служить архив сред-
' Цит по книге: Г. А. Федоров-Давыдов. Кур-
ганы, идолы, монеты. М., 1968, с. 91
13
невековой армянской колонии в Каменец-
Подольском. Сохранившиеся юридические
документы, относящиеся к XIV—XV ве-
кам, оказались записаны армянскими бук-
вами, но составлены... на половецком
языке! За два-три века общения с половца-
ми армяне, сохранив письменность, пол-
ностью сменили свой язык на половецкий
в этой колонии, оторванной от повседнев-
ного общения с остальным армянским
миром: несторианство половцев не стало
препятствием для их слияния с армяно-
григорианской общиной...
Факт этот заставляет пристальнее вгля-
деться в русско-половецкие контакты,
поскольку каждый смешанный брак влечет
за собой мощное взаимодействие культур
в пределах достаточно больших челове-
ческих коллективов. За личным зна-
комством наступает пора заимствования
знаний и обычаев, обогащение словарного
фонда, а затем и появление двуязычия
в быту. В свое время об этом писал
О. Сулейменов, пытаясь найти доказа-
тельства в «Слове о полку Игореве».
Пример, на наш взгляд, выбран был поэтом
неудачно, но сам факт культурного вза-
имодействия остается Я уже упоминал,
что дети русских князей могли вос-
питываться в Степи. А причиной одного из
самых острых конфликтов между Влади-
миром Мономахом и Олегом Святослави-
чем в 1095 году стал отказ черниговского
князя выдать киевским князьям сына хана
Итларя, находившегося на воспитании при
дворе Олега, когда Мономах предательски
заманил и убил его отца, пришедшего для
заключения мира. Кстати сказать, такой
обычай воспитания сыновей рыцарей, кня-
зей и королей в дружественных семьях или
в семьях вассалов был в то время широко
распространен в Западной Европе как
обязательная часть воспитания рыцаря.
Трудно понять, почему само
рыцарство — моральный кодекс военной
аристократии в его практическом выраже-
нии — мы связываем исключительно с За-
падной Европой, отказывая в этом древней
Руси, чьи государственность и общество до
середины XIII века развивались в рамках
западноевропейских понятий. Древне-
русская юрисдикция («Русская Правда»)
строилась по образцу подобных «правд»
Европы; институт церкви с его «десятиной»
был заимствован не только от Византии, но
и от Рима; отношения города и князя,
«земли» и правителя, институт общего-
родского «веча» — все это находит
прямые аналогии на европейском Западе
Сходным был, по-видимому, и институт
рыцарства, скрытый от нас терминами
«дружина», «отроки», «детскы» и другими.
Больше того, сейчас известно, что
рыцарство — отнюдь не принадлежность
только Европы. Наоборот, можно полагать,
что оно пришло в Европу с Востока, где
законы рыцарства, морали, этикета, напри-
мер, у арабов, соблюдались гораздо стро-
же, чем на европейском континенте.
По ряду признаков можно думать, что
все это с особой силой проявилось и у по-
ловцев. «Аристократы степей» имели свои
города, которые передвигались под
солнцем и звездами. Они состояли из
«дворцов на колесах»; на огромных плат-
формах. которые тащили десятки быков,
располагались богато убранные юрты. «Мы
увидели большой город, движущийся со
своими жителями; в нем мечети и базары,
дым от кухонь, расстилающийся по возду-
ху, потому что они варят еду и во время
самой езды»,— писал о ханской ставке
Золотой Орды в первой половине XIV века
Ибн-Баттута. Такими были и «телегы»,
упоминаемые в «Слове о полку Игореве»,
скрип их деревянных колес далеко разно-
сился над просторами ночных степей.
У половцев были и другие, настоящие
города, возникавшие на перекрестках тор-
говых путей и в излюбленных местах
ханских ставок,— города, населенные ре-
месленниками и торговцами, вокруг ко-
торых оседали земледельцы, возникали
сады и виноградники, впервые заведенные
в степях хазарами.
Но определяющей облик культуры и
была вот эта кочующая половецкая арис-
тократия. Своеобразие жизни, истории
и культуры накладывало отпечаток и на
псих тлогию этих людей, на их мировоззое
ние, отношение к окружающему миру.
Я вовсе не намерен идеализировать полов-
цев. Но для того чтобы их понять, чтобы не
упрекать народ в том, в чем он не повинен,
надо освободиться от предвзятости. Как
любой кочевой народ, живущий нату-
ральным хозяйством, торговлей скотом
и «живым товаром», половцы рассматрива-
ли набеги и войны как естественный образ
жизни. В феодальном обществе война
была одним из способов производства:
захваченная в бою добыча определяла не
только богатство, но и достоинство воина,
его положение в структуре общества,
давала право распоряжаться жизнью и
имуществом побежденного. «Право силь-
ного» было краеугольным камнем, на
котором строилось здание феодального
общества. Логика проста; вступая в битву,
воин рисковал своей жизнью, таким обра-
зом добыча становилась платой за риск.
Русские князья, германские и венгерские
феодалы, французские и английские рыца-
ри в этом отношении оказывались куда
менее культурными, чем их восточные
коллеги, воспитанные на уважении к про-
тивнику.
До недавнего времени историки
привыкли смотреть на кочевников глазами
оседлых народов, разделяя их антипатии
и предубеждения. Сейчас мы должны быт»
более объективными и признать, что,
с точки зрения экологии, половцы куда
более гармонично вписывались в окру-
жающую их природную среду, чем народы
земледельческие, которые ее перестра-
ивали и разрушали...
В сезонной жизни половцев важнее
всяких войн и побед было соблюдение
хозяйственного календаря. Сезонные
перекочевки, смена пастбищ, поедохра-
няющая их от потравы, соблюдение, как
сказали бы мы сейчас, «оптимального
экологического режима хозяйствования»,
приводило к тому, что, участвуя в осаде
какого-либо города, половцы за несколько
дней до его сдачи могли собраться и уйти.
Так происходило не раз в Подунавье, где
половцы помогали болгарам освободиться
от ига Византии. Не раз и не два братья
Асени вынуждены были снимать осаду
с византийских крепостей только потому,
что половцы в заботе о своих стадах не
могли задерживаться дольше. Никакие
уговоры не помогали. В этом отношении
половцы оказывались столь же «лег-
комысленны», как скифы в известном
рассказе Геродота. Когда персидский царь
Дарий уговорил все-таки скифов принять
сражение, между выстроившимися войска-
ми вдруг промчался заяц. И скифы, все как
один, бросились за ним в погоню, позабыв
о персах...
Мне трудно отделаться от мысли, на-
веянной чтением и анализом византийских
источников, что половцы не стремились
к регулярным сражениям. Они предпочи-
тали стычки и маневр, легко отказываясь от
разгрома противника, если это было соп-
ряжено с лишениями и трудностями. Они
не стремились жертвовать жизнью ради
сомнительного успеха и легко «показывали
плечи», ударившись в бегство.
Похоже, война была для них разновид-
ностью охоты, «удальством», хотя в случае
нужды они могли стоять насмерть, как то
было в решающем сражении с турками-
сельджуками при Давиде Строителе. Спо-
собные на набег, сами они никогда не вели
длительных осад, за исключением одного
случая с горками. И столь же известный по
летописи случай появления у них какого-
то «гречина», владевшего секретом «живо-
го огня» (на него ссылаются многие,
упрекая половцев в желании «попленить
русские города»),— какое-то недоразуме-
ние уже по тому, с какой легкостью он был
отдан русским..
Внимательный просмотр известий наших
летописей о контактах с половцами неволь-
но приводит к заключению, что «дети
степей» во многом поступали как на-
стоящие дети. Они оставались по-детски
доверчивы к тем, кто неоднократно нару-
шал договоры, кто убивал их заложников,
их ханов и «братию», тогда как было бы
тщетно искать обратные примеры. Брать
в плен, чтобы отпускать за выкуп,— таково
было «правило игры» этих степных рыца-
рей. Я уже говорил, что кодекс поведения
восточных рыцарей соблюдался гораздо
строже, чем у рыцарей западных. Князь,
хан, даже сам шах могли быть убиты
в жаркой схватке. Но смерть их была или
случайна, или обусловлена личными отно-
шениями с противником. Простой воин не
имел права поднять руку на благородного;
похоже, он был даже не вправе его
пленить. Об этом свидетельствуют истори-
ки и писатели того времени, описывая
схватки с крестоносцами в Палестине,
и о том же повествует грузинская поэма
XI—XII веков «Амирандареджаниани».
Видимо, такие же правила определяли
поведение половцев и на русских землях,
когда они приходили в гости к родственни-
кам или отправлялись в далекое кочевье,
опрометчиво полагая, что хозяева придер-
живаются тех же этических норм. Это
объясняет ту легкость, с которой киевские
князья убивают половецких ханов, за-
хватывают их вежи, стада и семьи, оставав-
шиеся без серьезной охраны на время
14
долгих отлучек мужчин... Семи половцы
вели себя иначе. Свидетельством тому
могут стать многочисленные следы их
пребывания в Верхнем Поволжье — во
Владимирском Ополье, в окрестностях
Переславля-Залесского и Ростова Велико-
го, где сохранились названия «Половцы»,
«Половецкое», «Итларь». Да и в самом
Боголюбове, резиденции владимиро-суз-
дальских князей, тесно связанных кровным
родством со Степью, за строками лето-
писных известий можно увидеть степня-
ков — половцев, торков, берендеев, ала-
нов...
Таким образом, речь должна идти не
о «контактах», а о симбиозе, начальном
этапе слияния двух этносов, экологически
вполне совместимых.
К концу XII века Русь и Степь представ-
ляли уже единое образование, пере-
плетенное бесчисленными нитями
родственных, дружеских, политических и
экономических связей. Образование ин-
тернациональное, как была интернаци-
ональна древняя Русь. Эту особенность
отметил еще один из ее первых историков.
Перечислив различные племена и народы,
участвовавшие в ее сложении, он закончил
перечень многозначительными словами:
«...яже ныне зовомая Русь». Собственно
говоря, это же подчеркнула в одной из
своих работ С. А. Плетнева, поставив «По-
ловецкую землю» в один ряд с другими
древнерусскими княжествами .
И здесь к месту вспомнить о втором
примере воздействия степной культуры на
духовную культуру русского народа.
Вот уже около двух столетий русский
былинный эпос приковывает внимание
ученых и поэтов, писателей и художников,
историков и этнографов. В нем открывают
и воспоминания об обрядах инициаций,
затерянные в темных далях тысячелетий,
и пережитки общинно-родового строя,
борьбу патриархата с матриархатом,
явственные отзвуки языческих времен
и дружинный быт древней Руси. И все-таки
больше всего в былинах так называемого
«Владимирова цикла», сюжеты которых
принято связывать с Киевом, оказывается...
Степи!
Подвиги былинных героев, наших «рыца-
рей круглого стола», богатырей русских,
совершаются не в чащах среднерусских
лесов, не в перелесках лесостепи, а именно
в самой степи — просторной, бескрайней,
откуда изредка накатывается «вражья си-
па», но где герой обычно встречается со
своим первым противником, таким же
искателем приключений. Бой завершается,
как правило, победой. Но далеко не всегда
эта победа предполагает гибель одного из
борцов. Наоборот, сам бой оказывается
средством «узнавания» героем в противни-
ке отца, брата или сестры (от других
матерей), обретения жены или заключения
побратимства. Это типично степной сюжет,
как и «симбиотические» отношения героя
со своим конем, как все аксессуары
степного быта, дожившие в былине до
наших дней на далеком русском Севере,
где и степей никогда на видели.
Оттуда же, из степей, пришли в былину
имена противников богатырей, их побрати-
мов — половецких ханов
Со всем этим мы свыклись как с чем-то
само собой разумеющимся. В самом деле,
как представить русскую народную север-
ную культуру без речитатива былины, без
сказителей? Но сама былина как жанр, как
форма — откуда она?
Русский былинный эпос несопоставим
с европейским и сюжетно, и структурно.
Нельзя считать его и собственно сла-
вянским ничего подобного былине за-
падные и южные славяне не знают и не
знали. Так получается, что историко-гео-
графическая зона возникновения былин
оказывается зоной контакта киево-черни-
говской Руси со Степью. Больше того. Ни
один эпос европейских народов,
описывающий именно деяния героев, не
знает такого внимательного и любовного
отношения к природе — к просторам, вет-
ру, солнцу и небу, к деревьям и травам,
птицам и зверям, к быстротекущей воде
и облакам, как русская былина. И в этом
сопоставить ее можно только с тюрк-
ским — казахским и калмыцким — эпо-
сом, где мы находим все то же самое,
только там еще больше природы и меньше
признаков города.
В том что тюркский и прямо половец-
кий эпос был на Руси известен, сомневаться
не приходится. Здесь опять-таки первое
слово принадлежит летописям, в том числе
Ипатьевской, где мы находим пересказ
«повести о траве емшан», рассказывающей
о возвращении половцев во главе с ханом
Атраком из Грузии в причерноморские
степи.
Песни-речитативы, сопровождавшиеся
щипковым струнным аккомпанементом
или ударами бубна, похожие на заклина-
ния, околдовывали слушателей, развора-
чивая перед ними панораму степных
просторов, создавая ощущение удиви-
тельной слиянности природы и всадника,
рождали порыв «удали богатырской», ко-
торая питала дух русского народа в после-
дующие исторические времена, поддер-
живая его в периоды лихолетья монголо-
татарского ига. И все это было воспринято
и усвоено так, что в исконно русском
происхождении былины не возникало сом-
нений до конца XIX века, когда впервые
Г. Н. Потанин сопоставил восточный и
русский былинный эпос и показал тож-
дество их сюжетов.
Сейчас эта связь ни для кого не является
секретом И все же, если теперь происхож-
дение былинных сюжетов и характер
былинного повествования загадки не сос-
тавляет, очень мало кто задумывается над
вопросом, как, в каких условиях происхо-
дила передача песенно-былинной тради-
ции от этноса к этносу. Ведь если оружие
можно захватить в бою, ткани и украше-
ния — купить, то песенную культуру, всег-
да имеющую еще подспудное магическое
значение, можно было получить только из
уст в уста в результате долгого и плодо-
творного сотрудничества двух народов.
И тут я снова возвращаюсь к русско-
половецким бракам, поскольку историю
одного из них можно попытаться восстано-
вить, используя летописи и «Слово о полку
Игореве».
Окончание следует.
С. А. Плетнева. Половецкая земля. В кн
Древнерусские княжества X—XIII вв. М., 1975
ПАНОРАМА ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ
«...Празднование 1000-ле-
тия предоставило благоприят!
ную возможность религиоз-
ним деятелям для обмена
’ мнениями не только по вопро-
Q сам межконфессиональных
[_ отношений, но и по проблемам
борьбы за мир, особенно в
нашем азиатском регионе.
р Смелые и мудрые инициативы
0 СССР по решению афганской
p"l проблемы встретили широкий
0 положительный отклик среди
[_ народов Индии и Пакиста-
на...»
К Пакула, глава буд-
дистов Индии
НОВЫЕ СВЯТЫЕ
В Русской православной
церкви искони существует
почитание святых — их около
1500. Собор назвал девять но-
вых имен:
ДМИТРИЙ ДОНСКОЙ
(1350—1389) — великий
князь московский, полково-
дец.
АНДРЕЙ РУБЛЕВ (1360-
начало XV века) — монах,
гениальный иконописец.
МАКСИМ ГРЕК (1470—
1556) — богослов, перевод-
чик, философ-гуманист.
Митрополит МАКАРИЙ
(1482—1563) — известный
религиозный деятель середи-
ны XVI века.
Схиархимандрит ПАИСИЙ
ВЕЛИЧКОВСКИЙ (1722—
1794) — основатель русской
традиции старчества.
Блаженная КСЕНИЯ ПЕ-
ТЕРБУРГСКАЯ (XVIII —
начало XIX века) — почи-
талась как прорицательница
и целительница.
Епископ ИГНАТИЙ БРЯН-
ЧАНИНОВ (1807—1867) —
богослов, автор «Аскетиче-
ских опытов».
Иеросхимонах АМВРО-
СИЙ ОПТИНСКИЙ (1812—
1891) —старец Козельской
Введенской Оптиной пустыни,
один из известных русских
духовных деятелей XIX века.
Прототип старца Зосимы в
романе «Братья Карамазо-
вы».
Епископ ФЕОФАН ЗА-
ТВОРНИК (1815 1894) —
богослов, ректор Петербург-
ской духовной академии. 22
года провел затворником в
монастыре.
Продолжение на с. 53
15
НАШИ ИНТЕРВЬЮ
«Пространство,
открывшееся за складками
занавеса, станет прошлым,
настоящим и будущим.
Дальними странами и
близкими поселками.
Кораблем и пустыней.
Кабинетом или
площадью в дни
революции.
Здесь можно сотворить
мир.
Мир высоких
человеческих страстей,
мир деяний и мир
сомнений, мир открытий и
высокий строй чувств,
ведущих за собой в
зрительный зал».
Так заканчивал
интервью, данное в свое
время нашему журналу,
Герой Социалистического
Труда, народный артист
СССР, лауреат Ленинской
и Государственных премий
СССР Георгий
Александ ров ич
ТОВСТОНОГОВ.
Сегодня специальный
корреспондент Александр
Романов вновь
беседует с ним.
СОТВОРЕНИЕ МИРА
— Георгий Александрович, Вас не удив-
ляет, что атеистический журнал обратился
опять за интервью к театральному режиссе-
ру?
— Нет, не удивляет. Вы, как я понимаю,
занимаетесь проблемами духовности, мо-
рали. И для театра — это вопрос первосте-
пенный. Сцена в чем-то сродни церковной
литургии, здесь исследователи религии
могут узнать для себя много поучительно-
го. А возьмите исповедь, покаяние — они
часто обращены к зрительному залу.
— Тогда разрешите задать Вам несколь-
ко вопросов о театре. В последние годы
театральная аудитория заметно поредела.
Не исключено что какая-то часть ее
перекочевала в храмы. Как бы Вы объясни-
ли это?
— Причин тому несколько. Но прежде
хочу задать встречный вопрос: не пробова-
ли купить билет в нашей театральной
кассе?
— Пробовал и не раз. К сожалению,
почти всегда безуспешно.
— Не во всех театрах поубавилось
публики. Хотя вы правы — в целом по
стране театральные залы полупустые или
заняты так называемой организованной
публикой. Чаще всего это объясняют кон-
куренцией телевидения, теперь еще по-
явились видеокассеты.
Главная причина, по-моему, в том, что
давно назревшая перестройка в театре
осуществляется половинчато, медленно.
Меня радуют новые и незаслуженно
забытые имена на театральной афише,
появление театров-студий, радует, что
с театральных подмостков громче зазву-
чал голос правды. Приветствую стремле-
ние дать больше самостоятельности теат-
ральным коллективам, избавить их от
чрезмерной опеки ретивых управителей
культуры. Все это хорошо. Но, скажу
откровенно, я не склонен переоценивать
успехи перестройки в театре.
— И все-таки почему пустуют теат
ральные залы?
— Расплачиваются за бюрократизацию.
В чем сила театра? Здесь непрерывно
происходит, я бы сказал, сотворение мира.
Сначала его сотворил автор, потом режис-
сер-постановщик и каждый день — ак-
теры. Но главное — его творит зритель.
Да, иным кажется — зритель пассивен, он
лишь сопереживает по ходу пьесы. А он ее
творит. И в этом великая сила театра,
много большая, чем кино и телевидения,
хотя у них свои преимущества.
Я исповедую такой принцип: концепция
каждого спектакля как бы потенциально
заложена в зрительном зале. Задача ре-
жиссера— угадать звучание пьесы сего-
16
дня, будь то давно написанная классика или
современная драма. Угадал, выявил ту ее
грань, что созвучна мыслям, настроениям
зала — можешь рассчитывать на успех, на
то, что пьеса разбудит чувства зрителя,
затронет совесть.
Кстати, подобный процесс происходит
в религии. Библия — конечно, мудрая кни-
га, большой памятник человеческой куль-
туры. Но ее заветы и предписания живут
столь длительное время в основном благо-
даря тому, что каждый раз теологи
и проповедники находят в них грань,
созвучную времени
Обостренная социальная чуткость, спо-
собность улавливать боли и радости
людские — вот основное слагаемое успеха
и основная причина того, что одна и та же
пьеса при сравнительно равных по своим
возможностям актерах в одном случае
становится событием, в другом — прохо-
дит незаметно. Важное слагаемое — граж-
данская смелость, способность преодоле-
вать страх перед многочисленными препо-
нами, табу. Нужно избавиться от «рабьего
эзопова языка», понять, наконец, что мы
свободные люди.
— Извините, Георгий Александрович, но
при чем здесь бюрократия?
— Театр, режиссер должны быть всегда
повернуты «лицом к залу», а их поворачи-
вали лицом к комиссиям, министерским
чиновникам, от которых до недавнего
времени зависело не только материальное
благополучие театра, но и судьба репер-
туара. Современного зрителя может по-
настоящему потрясти только правда, по-
лная, открытая правда, какой бы горькой
она ни была, а ему зачастую говорили лишь
ту правду, которая «необходима», по сути
своей полуправду, а то и ложь. Вот
и притупилось чувство ориентации на
зрителя и выработалось обостренное
восприятие начальства. А зритель, в свою
очередь, отвернулся от такого театра.
Верно, заботливый чиновник в беде его
не оставил. Государственные дотации, ор-
ганизованный зритель — таким вот «ис-
кусственным питанием» и поддерживается
существование многих театров. В два-
дцатые годы они рождались как-то ес-
тественно, снизу. Возникали многочис-
ленные театры-студии, рдни из них ут-
верждались, доказывали свое право быть
профессиональным театром и становились
им, другие благополучно закрывались.
Этот естественный, живой процесс, напол-
ненный творческим поиском, состязатель-
ностью, выдвинул таких замечательных
режиссеров, как Вахтангов, Завадский.
Впоследствии эта тенденция исчезла —
театры стали создаваться свыше, по едино-
му бюрократическому шаблону. Число
театров росло, а приток настоящих, та-
лантливых лидеров-режиссеров прекра-
тился. На моей памяти, последний ес-
тественно появившийся лидер — Олег Ни-
колаевич Ефремов. Сейчас театр так же
трудно открыть, как и закрыть. И, может
быть, еще труднее найти по-настоящему
талантливых лидеров. В последние годы,
кажется, наметились положительные сдви-
ги — появилось немало новых театров-
студий. Надо дать им возможность полнее
раскрыть, утвердить себя, выработать свой
творческий почерк.
— Здесь, как я понимаю, чы вторгаемся
в одну из вечных проблем морали: тор-
жество таланта и нравственные муки
человека, терпящего в состязании с ним
поражение. Актуальность проблемы Мо-
царта и Сальери, горнее и земное, вечное
и сиюминутное — эти вопросы, видимо,
никогда не перестанут волновать челове-
чество?
— Действительно, отношение к завис-
ти — одна из актуальнейших проблем
бытия. А в мире искусства — может быть,
существеннейшая из сторон нравственной
жизни. Слова Пушкина — «гений и зло-
действо — две вещи несовместные» —
звучат прологом к нашему спектаклю
«Амадеус». Да, Вольфганг Амадей Мо-
царт — амадеус, любимец бога. Он —
гений, тогда как Антонио Сальери —
в лучшем случае, способный. Известный
кинорежиссер Милош Форман, с которым
я встречался, нашел интересную форму
повествования. В фильме Сальери на
исповеди рассказывает священнику пери-
петии своей жизни, повествует о душевных
муках, через которые ему суждено было
пройти. А драма Питера Шеффера «Ама-
деус», успешно идущая у нас в театре,
построена как исповедь Сальери перед
зрителями. И это позволяет совершить
чудо — перешагнуть через время и непо-
средственно обратиться к сидящим в зале
потомкам.
Говоря о талантах и гениях, хочу
привести ответ Вольтера на вопрос, чем
отличается хорошее от прекрасного: хоро-
шее требует доказательств, прекрасное
в них не нуждается.
— Что можно сделать уже сегодня,
чтобы поднять роль театра в обновлении
общества, его нравственном движении?
— Раскрепостить творческие силы дра-
матургов, режиссеров, актеров, смелее,
последовательнее отстаивать истину —
правду истории и правду современной
жизни. Я вижу здесь две опасности —
подмену правды этакой полуправдой,
правдоподобием (оно опаснее лжи, ему
могут поверить) и подмену правды ис-
кусства правдой публицистики, пропа-
ганды, которая уместна и желанна на
газетной полосе, но неестественна на
театральной сцене.
Нелегкое дело — говорить правду.
Помню, как ставили «Три мешка сорной
пшеницы» В. Тендрякова. «Ленинградская
правда» нас убеждала в том, что пьеса
сгущает краски, чернит положение дел
в русской деревне, где все было в ту пору
не так уж плохо. На спектакль к нам
пришел Федор Абрамов и тоже покрити-
ковал за неточности. По ходу действия
пьесы на сцене появлялись две собаки.
«Натяжка это,— заметил писатель,— в со-
рок четвертом на деревенской улице
собак быть не могло — их давно уже
съели».
Недавно белорусский автор Алексей
Дударев предложил театру пьесу «Свал-
ка». В ней, как в горьковской «На дне» —
представители различных классов и групп,
оказавшиеся на свалке жизни, зарывшие
свой талант, свои невозвратные годы. Еще
недавно пьесу зарубили бы как «чернуху»,
«клевету на нашу действительность». Но
разве нет у нас людей неустроенных,
вылетевших из колеи? Одни не смогли по-
настоящему почувствовать, осознать
смысл происходящих в обществе перемен;
другие растерялись в столкновении с не-
справедливостью, хамством; третьих сло-
мила семейная драма. Сколько работает
у нас сторожами, дворниками, грузчиками,
имея высшее образование и даже канди-
датские дипломы? Не «чернуху», а правду
написал Алексей Дударев, глубокие со-
циально-нравственные проблемы волнова-
ли его.
Пресловутые поиски в искусстве поло-
жительного героя привели в основном
к духовным потерям, а не обретениям.
Василь Быков справедливо заметил, что
примером научить со сцены нельзя. Чело-
века можно взволновать правдой характе-
ра, положить начало духовной работе,
которая с течением времени, исподволь,
способна принести плоды.
Вы подняли близкую нам тему —
неустроенных, потерпевших крушение в
жизни. Часто они ищут утешение,
нравственное, психологическое убежище
в религии, церкви. В этой связи, как Вы
относитесь к горьковскому Луке, филосо-
фии этого образа? Знаю, поставленная
вами горьковская пьеса всегда шла с ог-
ромным успехом.
— Лука — как раз та новая грань,
которой повернулась к нашему времени
классика. Я никогда не соглашался с толко-
вателями этого образа как лжеутешителя,
обманщика
Я считаю, основа горьковского Луки —
милосердие. И это не домыслы, а законо-
мерный вывод из самого текста. Ведь
и Сатин, вступая в конфликт с ним,
приходит к выводу о высокой миссии
человека. Мысли Луки берут верх в Сати-
не. Известен спор Горького с Москвиным,
когда великий артист, не желал играть
Луку как лжеца, лишь в мечтах ищущего
«праведную землю», а выявлял в странни-
ке главную черту — желание людям до-
бра, пробуждение светлого, чистого, веч-
ного.
По-моему, Горький позже отчасти
признал свою неправоту. Объясняя свое
отношение к образу Луки, он писал: «...есть
еще весьма большое количество утешите-
лей, которые утешают только для того,
чтобы им не надоедали своими жалобами,
не тревожили привычного покоя ко всему
притерпевшейся холодной души... Утеши-
тели этого рода — самые умные, тающие
и красноречивые. Они поэтому и сами вре-
доносные. Именно таким утешителем дол-
жен был быть Лука в пьесе «На дне», но я,
видимо, не сумел сделать его таким...».
— В искусстве вообще-то нередки слу-
чаи, когда герои литературных драмати-
ческих произведений поступают как бы
вопреки воле автора. Тут срабатывают ка-
кие-то внутренние законы, по которым они
начинают действовать. И настоящий режис-
сер, актер способны увидеть, разглядеть
их порой лучше, чем автор.
Продолжение на с. 46
Библиотека Либрусек lib.rus.ec
17
Загадочный синдром, или
Чего боятся чернобыльцы?
А. ХАРАЩ,
кандидат
психологических
наук
...Рассвет. Такой же, быть может,
ясный и безмятежный, как тогда
в Припяти.
В глазах - песок. На столе -
ворох бумаг, исписанных
бессильными, затертыми словами.
С какой бы стороны ни
подходили мы к этим событиям,
не обойти нам скорбную дату, с
которой начинается и к которой
вечно обречена возвращаться
история Чернобыля. Дата перелома
в жизнях и судьбах, окрасившая
неповторимой интонацией каждое
слово, произнесенное людьми из
Припяти.
Опрос, который мы проводили
среди припятских переселенцев,
имел максимально свободную
форму. Интервьюеры получили
инструкцию задавать как можно
меньше вопросов, с тем, чтобы
респондент сам мог определить,
о чем рассказывать и в какой
последовательности. Задавались
вопросы нейтрального характера,
не задевавшие, как правило,
острых, наиболее болезненных
проблем,
Вопрос о полутора сутках,
прошедших с момента аварии
(1 47 23 мин. 26 апреля) до
эвакуации (14.00 27 апреля), был
в числе запретных. Но наши
собеседники в большинстве своем
останавливались на этой теме
спонтанно и порой неоднократно
к ней возвращались.
Окончание. Начало в ы
Припять, 26 апреля
из бесед с
припятчанами
Мы родом из города-
призрака,
Мы мечены, мечены
атомом,
Мы стали беспечности
признаком,
Мы стали «решающим
фактором»...
Я верю: 'мы справимся
с бедами.
Мы знаем, чьи истины -
истинны!
Но город... простит ли
всеобщую фальшь,
Которой поныне числа
не счесть?!
Стреноженный,
брошенный
город наш
Ты — память седая!
Ты — был!
Ты — есть!
Вл. Шовкошитный.
«Мы сердцем
из белого
города...»
В эвакуации всюду я во-
зила с собой книгу о При-
пяти, показывала, расска-
зывала, а то ведь люди-то
не знают! Потом купила
атлас Киевской области,
где Припять есть, а то в^дь
скоро и точки-то такой на
карте не останется...
Л. Р„
припятчанка
Из беседы в филиале
Д К «Энергетик»:
— Был субботний день. Люди гуля-
ли. Женщины пошли на пляж. Никто
ничего не знал.
. — Одно из самых страшных воспо-
минаний — как дети играли, по локоть
опустив руки в потоки пенной жидкос-
ти1...
М. Б., бывшая работница
станции:
В субботу, 26-го, муж сел на
велосипед и отвез сына в музыкаль-
ную школу,— чего я себе никак
простить не могу. Первый урок у них
был, а второй он прогулял на улице,
возле школы. Больше не выходил.
Ничего не объявляли. Вечером при-
шел сосед, принес порошок, йодистый
кальций. Не у всех он был, спасибо
соседу — снабдил. Об окнах не пре-
дупредили. Как назло, жара, окна
настежь были раскрыты...
В субботу зашла к подруге, она как
раз окна мыла. Сидели, смотрели.
Люди гуляют, дети бегают. Едет
поливальная машина. Женщина со
шлангом поливает все жидкостью.
И тут же детишки бегают в этой пене,
женщины с колясочками гуляют...
И. Г., торговый работник:
Когда прошел слух про аварию,
никто не придал этому значения —
были выбросы и раньше. Никто даже
не испугался. Какая там авария! От-
моют улицы — и все дела. Хлеб несли
открытый, и колбасу... Правда, вече-
ром медсестра принесла порошки от
радиации. Выпили. Потом стала нарас-
тать тревога — муж ночью не вернул-
«Пенная жидкость» — это раствор, приме-
нявшийся для дезактивации улиц 26 и 27 апре-
ля. Дети, резвящиеся в пенных потоках,—
деталь, не раз повторившаяся в воспоминаниях
припятчан.
ся. Утром, в воскресенье, муж прибе-
гает, сразу в ванную: «Не подходи!»
...Хоть бы кто сказал, что авария!
Возле станции Янов, на железнодо-
рожной ветке, все теперь с землей
сравняли, и землю (верхний слой)
машинами увезли. А мы ведь через
нее ходили! У нас целый день балкон
был открыт — полностью весь реак-
тор был виден. Такие люди, как мы,
вообще ничего не знали — информа-
ция нулевая! Знало всего несколько
человек — те, что на станции были...
В. I., бывшая работница
станции, специалист по
оборудованию:
Нам повезло. Позвонили 26-го где-
то в 4 утра, сообщили об аварии. Мы
закрыли форточки, окна еще были
заклеены. У гром, в семь, приятельни-
ца-врач сделала йодную профилакти-
ку. Мужу уже не хватило. Школу не
отменили. Должна была быть спор-
тивная эстафета — отменили с боль-
шой неохотой. Солнышко светило, все
высыпали на улицу, пошли на ярмар-
ку— суббота. И никаких офици-
альных предупреждений...
Л., работница ЧАЭС:
Самое страшное — полное от-
сутствие информации. Даже пример-
но не знаю, сколько я за это время
получила...
И. 3., п р и п я т ч а н к а:
Дочь проходила медицинскую
практику в больнице. Прибегает, гово-
рит: «Мама, закрывай форточки,
двери». Ждем, когда что-нибудь
объявят. Объявлений никаких, люди
ходят, дети в колясках — раздетые,
все гуляют, улицы полны народа.
Дочь вечером в кино пошла.
Д. В. работник ЧАЭС: Сын
у нас только что из... Я не хочу
мать расстраивать, но она сама зна-
ет. Получил... Ну, неизвестно, кто
там сколько получил. Но сын получил
много, потому что он был в это вре-
мя в больнице с плевритом. А именно
туда пошла «грязь» и «прострел» —
на больничный городок, кладбище и
профилакторий... В городе столько
детей было, малыши тут копались,
прыгали в пыли..
И. Р., врач медсанчасти:
Из медсанчасти позвонили, сказа-
ли — много больных. Включили ра-
дио. Надеялись, объявят, если что не
так. Верили: все-таки 50 тысяч наро-
ду... Так друг друга и успокаивали: нас
слишком много, с нами ничего не
будет, нас не оставят. Мы жили
в первом микрорайоне, самом близ-
ком к аварии. Кто-то сказал: надо
сделать влажную уборку. А я даже не
могла — не было холодной воды,
одна горячая, и топили. Сначала
я закрыла балкон, как сказали, а по-
том духоты не выдержали и снова
открыли...
...Информацию об аварии получали
не из газет — кто позвонит, кто что
скажет. Думали, что пожар...
В. Д., работник учебно-
тренировочного пункта:
26-го я возвращался домой из
санчасти. На улицах полно народа.
Всюду продается мороженое. Я сам
купил и съел два брикета...
Т., припятчанка
Знаете, что меня возмущает боль-
ше всего? Что тогда по радио ничего
не объявили. Накануне холодно было,
а тут — наоборот, гепло и солнечно.
Ну, все и вышли гулять на улицу. Весь
город отдыхал, по дачам разъеха-
лись...
Е. Ю.: 27-го пошел в гараж, а там
дети в песке копошатся. ...Власти
виноваты, партийные органы. Была
команда: «Никакой паники!» На стан-
ции дозобстановка на пределе, люди
стоят насмерть, а в Припяти — три
свадьбы, на природе шашлыки жарят.
Никаких действий со стороны граж-
данской обороны. Предупредили
бы — больных было бы гораздо мень-
ше.
На дачных участках целые куски
графита лежали — их на большую
высоту выбросило...
А. Н.: Паники не было. Все прошло
спокойно. Но и об опасности никто не
знал...
Е. Ю.: Эвакуацию провели хорошо,
но поздно.
А. Н.: Родители никогда не про-
стят...
О БОЛЬНЫХ И ЗДОРОВЫХ,
ИЛИ СИНДРОМ
ИНФОРМОФОБИИ
Из стихотворения «Радиофобия»
поэтессы Любови Сироты, лауреата
премии Киевского обкома комсомола
им. Александра Бойченко:
Время пришло, наконец, разобраться,
что же такое радиофобия!
Это —
когда не умеют смиряться
люди, пройдя через драму Чернобыля,
с правдой, дозируемой министрами
(Ровно вот столько сегодня глотните!).
С лживыми цифрами,
с подлыми мыслями
мы не смиримся,
хоть сколько клеймите!
Не пожелаем (и не предлагайте!)
мир созерцать сквозь очки бюрократа! —
Мнительны очень!
И понимаете
каждого павшего помним, как брата!..
В стекла оконные брошенных зданий
смотрим теперь мы на хрупкую Землю!
Эти очки нас уже не обманут! —
В эти очки нам, поверьте, виднее:
реки мелеющие,
леса отравленные,
дети, рожденные, чтобы не выжить...
Сильные дяденьки, что вы им дали,
кроме бравады по телевизору! —
Как, мол, прекрасно детишки усвоили
некогда вредную радиацию...
(Это у взрослых — радиофобия,
а у детей — все еще адаптация!]...
Родители не простят...
Вот бы кому забыть пережитое!
Но они — не могут. Они-то как раз
и не могут. Они — помнят.
Припятчане, эвакуированные 27 ап-
реля, рассказывали, что на выезде из
Припяти видели в тот день плакат:
«Ваша жизнь — в ваших руках!» Я не
знаю, было ли то напутствие, спе-
циально адресованное отъезжающим,
или обычный дежурный щит ГАИ,
призывающий водителей строго
соблюдать правила дорожного дви-
жения. Как бы то ни было, в этот
момент и на этом месте он заключал
в себе горчайшую иронию. Ибо, после
взрыва на 4-м энергоблоке, трудно
было найти другой такой момент
и другое такое место, где бы жизнь
человека в столь ужасающе малой
степени принадлежала ему самому.
Волею судьбы жизнь, здоровье и бла-
гополучие жителей Припяти были
изъяты в эти часы из их собственных
рук и переданы в руки «посвя-
щенных» — тех, кто знал об аварии
и мог компетентно судить о ее
масштабах, равно как и о масштабах
опасности, грозящей населению горо-
да. Тех, кто уполномочен был прини-
мать жизненно важные решения и
распоряжаться жизненно важной ин-
формацией. Тех, от кого зависело
внести в происходящее максимально
возможную ясность и определен-
ность.
Информация и неопределен-
ность — ключевые понятия к понима-
нию психологических последствий
чернобыльской катастрофы, их
скрытых пружин и внутренних детона-
торов. Подчеркиваем: не аварии на
четвертом энергоблоке, а именно
катастрофы, сокрушительной взрыв-
ной волной прокатившейся по люд-
ским жизням и судьбам.
Аварии происходят с машинами,
механизмами, техникой; катастрофы
же, напротив, угрожают самой жизни,
живым организмам и их естественно-
му продолжению — среде обитания.
Ущерб, причиненный аварией, ее по-
следствия можно устранить, ликвиди-
ровать, компенсировать. Последствия
катастрофы подчас неустранимы, не-
компенсируемы, необратимы Ка-
тастрофу невозможно «ликвидиро-
вать» — ее можно только предотвра-
тить.
Отсюда, собственно, и сверхваж-
ность информационного обеспечения
в условиях крупных аварий и сти-
хийных бедствий: информирование
и оповещение может оказаться
единственным доступным средством
поедотвращения катастрофы, един-
ственным средством спасения. Вряд
ли нужно доказывать, что в случае,
когда возникает опасность радио-
активного поражения, необходимость
и актуальность своевременного ин-
формационного вмешательства воз-
растает во много раз — в силу спе-
цифики самой радиации, которая,
не имея ни цвета, ни вкуса, ни запаха,
сама по себе, как мы уже знаем из
49
брошюры В. П. Антонова, является
«фактором неизвестности».
Судя по самоотчетам припятчан,
26-го апреля информационная служба
спасения не сработала, снабдив нас
еще одним доказательством той ре-
шающей роли, которую играет ин-
формационный фактор в кризисных
ситуациях. Как это ни горько, доказа-
тельством от противного.
Вот мы и подошли вплотную к воп-
росу о происхождении этого загадоч-
ного феномена — радиофобии. Ибо,
как уже, вероятно, догадывается чита-
тель, к радиации, впрочем, как и к ме-
дицине, радиофобия имеет довольно
косвенное отношение. Потому-то и
растерялись медики перед не-
обычной «эпидемией» — она не сов-
сем по их части. Радиофобия по
природе своей носит не столько
радиационный, сколько информаци-
онный характер. Ее корень и источник,
вирус-возбудитель — информацион-
ный дефицит.
На это обстоятельство указывают
все специалисты, так или иначе анали-
зировавшие происхождение и разви-
тие радиофобии. Указывает на него
>4 В. П. Антонов, подчеркивающий
связь неадекватных фобических реак-
ций на радиационную обстановку
с «дефицитом и дефектами информа-
ции населения» о ней. Он полагает
также, что боязнь радиации поддер-
живалась «неполной информацией,
недомолвками, неточностями и даже
противоречиями в публичных выступ-
лениях ряда руководителей, ученых
и специалистов».
В. В. Навойчик, врач-психиатр мед-
санчасти ЧАЭС, с первых часов
оказывавший медицинскую помощь
пострадавшим от аварии, вообще от-
рицает ведущую роль ионизирующе-
го излучения в формировании у
людей тех или иных «психопатологи-
ческих изменений». При этом «проти-
воречивость информации о насто-
ящем» ставится им в один ряд
с такими, например, психотравми-
рующими факторами, как отсутствие
перспектив на будущее угроза ут-
раты здоровья, «страх генетических
поломок». Словом ионизирующее из-
лучение и здесь тускнеет в свете
«излучения» информационного.
Нам кажется, тем не менее, что
и В. П. Антонов, и В. В. Навойчик, как
и многие другие медики, недооцени-
вают вклад информационного факто-
ра в развитие фобических реакций на
угрозу радиоактивного поражения.
Ибо «радиофобия» — это по сути
своей и генезу не что иное как прямое
следствие «информофобии», вызре-
вающей не где-нибудь, а именно
в хитросплетениях системы массового
информирования, на ее верхних эта-
жах.
Если радиофобия в общем и це-
лом — болезнь «низов», не имеющих
непосредственного доступа к жизнен-
но важной информации, то информо-
Ю
фобия — болезнь «верхов», которые
распоряжаются этой информацией.
Это, по меткому выражению одного
из участников обсуждения пьесы
Вл. Губарева «Саркофаг» («Литера-
турная газета», 1986, № 49), «инфор-
мационная боязнь» — боязнь инфор-
мирования, которая состоит в прочно
укоренившейся привычке «верхов» не
выдавать или по крайней мере недо-
давать «низам» сведения, необхо-
димые для их сознательной ориента-
ции в мире и обществе.
К этому обыкновению «верхов» мы
всем миром, из поколения в поколе-
ние привыкали на протяжении десяти-
летий, получая ранее приобретенную
привычку по наследству и по на-
следству же ее передавая.
И — приспособились. Адаптирова-
лись. Притерпелись.
Информофобия «верхов» и «при-
терпелость» к ней «низов» — две
стороны одной и той же медали. Два
обстоятельства, которые привели к
тем 36 часам, отложившимся в памяти
припятчан тяжким бременем воспо-
минаний.
Как просто и утешительно было бы
назвать все эти тревоги «радиофоби-
ческими», приплюсовав их к общей
массе «неадекватных реакций» на
несуществующую угрозу радиоактив-
ного поражения!
Угроза, однако, существовала. Она
оставила следы в виде таких труд-
ноопровержимых свидетельств, как
удаленная с лица земли, подобно
заразному гнойнику, железнодорож-
ная станция Янов, «рыжий лес» —
вековые сосны, высушенные и убитые
радиационным «прострелом»... Да и
сама покинутая Припять, наконец..
Пора разобраться, что же такое
«радиофобия». Точнее, что — радио-
фобия, а что — нет. Прилипчивость
и внушающая сила медицинских
ярлыков давным-давно стала притчей
во языцех, и кому-кому, а уж медикам
должно быть хорошо известно, какой
урон может нанести человеку слово,
неосторожно оброненное лечащим
врачом. Сами же медики позаботи-
лись о том, чтобы вынести по-
следствия неосторожного врачебного
слова в рубрику особых, так называ-
емых иатрогенных заболеваний.
Радиофобия — это не просто бо-
язнь радиации. Отнести к числу
«радиофобов» человека, который бо-
ится и избегает лучевого пораже-
ния,— это все равно, что назвать
«автофобом» пешехода, который
увертывается от несущегося на него
автомобиля. Подлинный автофоб —
это человек, избегающий столкнове-
ния с несуществующим автомобилем.
Точно так же радиофобия — это бес-
почвенный, необоснованный страх ра-
диоактивного поражения, основанный
на досужих домыслах, слухах, пред-
убеждениях. Страх без опоры на
реальность.
Рассуждая таким образом, можно
вполне заподозрить радиофобию у
моей соседки-москвички, которая, уз-
нав в августе 1986 года, что я соби-
раюсь дней на 10 съездить с женой
и детьми в Одессу и Кишинев, изме-
нилась в лице и принялась бурно
отговаривать нас от этого опасного
предприятия Радиофобическая реак-
ция в данном случае налицо, ибо
страхи эти беспочвенны: они не
имеют под собой никаких оснований,
кроме слухов и расхожего стереотипа
«проникающей радиации». Летом
1986 года таких реакций наблюдалось
великое множество — не только у
нас, но и за рубежом. Хватает их
и сейчас. Например, в американском
журнале «The Economist» за 30 января
1988 года я прочел заметку о статис-
тических изысканиях некоего д-ра
Дж. Гоулда, пытающегося объяснить
чернобыльской аварией возрастание
смертности в США летом 1986 года.
Скачок интенсивности тревожно-мни-
тельных радиофобических реакций
в местах, удаленных от эпицентра
чернобыльской катастрофы, можно
было спрогнозировать заранее.
В принципиально ином положении
оказались жители Киева и некоторых
других городов Украины и Белорус-
сии. Здесь угроза радиоактивного
поражения была, конечно же, не
столь мнимой, как на тихоокеанском
побережье США. Однако порой и на
реальную опасность реакция может
быть преувеличенной, неадекватной.
Вообще граница между нормой и па-
тологией зыбка и неустойчива, о чем,
как это ни прискорбно, психиатры
помнят далеко не всегда. Когда же
речь идет о синдроме, который, как
свидетельствует пресса, сам еще не
имеет строгого научного определе-
ния, об этом помнить особенно
необходимо.
Киевская разновидность радиофо-
бии (присвоим ей такое условное
наименование) отличается, по-види-
мому, особой неоднородностью и
размытостью; будучи знаком с киев-
лянами, пережившими апрельскую
катастрофу, я не взялся бы пока
рассортировать все их «радиационные
тревоги» на обоснованные и необос-
нованные: для этого и в самом деле
нужны специальные исследования.
Хотя, с другой стороны, некоторые
реакции жителей Киева на перипетии
чернобыльской катастрофы вполне
однозначно можно отнести к неадек-
ватным. В Боржоми, 20-го июня
1986 года, на междугородном перего-
ворном пункте наблюдал поздно
вечером сцену, в этом отношении, по-
видимому, весьма характерную. Бесе-
довали, отойдя в сторонку, двое
киевлян — мужчина и женщина. Он
что-то возбужденно ей рассказывал,
она слушала, опустив голову.
Бледный, с блуждающими глазами,
плохо контролируемые движения...
Донеслась фраза, сказанная вполго-
лоса: «Они собираются взорвать...»
Женщина закрыла лицо руками...
Радиофобия — это комплекс бо-
лезненных переживаний, вызванных
воображаемыми событиями и обсто-
ятельствами, компенсирующими ин-
формационный дефицит. Но пережи-
вание-то подлинное, невыдуманное.
Точно так же, впрочем, как и сам
информационный дефицит.
Припятчане рассказывали нам, что
жители Киева в первые недели и ме-
сяцы чурались их, как прокаженных,—
боялись «заразиться». Не все, конеч-
но, но многие.
Из беседы с П. Ш.,
участником ликвидации
пожара на 4-м энергобло-
ке, и его женой Л.:
Л.: Соседи были настроены понача-
лу очень агрессивно. Говорили, что
радиация через стену к ним проходит.
Через неделю после заселения П. до-
гоняет сосед и говорит: «Я замерил
у вас на коврике перед дверью —
звенит Давайте-ка я принесу дози-
метр, мы проверим всю квартиру.
Для успокоения моей жены». Сначала
в лифт вместе не садились — боялись,
наверное.
А вот другие соседи — те ничего,
приходили и приходят. Нормально.
П.: А в основном-то все они боятся.
Хотят больше прожить, наверное.
Я для себя сопоставлял: чем люди
образованнее, тем больше предрас-
судков. В электричке наблюдал: си-
дит, в уме чего-то считает. Дозу
рассчитывает.
Разве они пойдут навстречу, эти
люди? Были неурядицы — я в облис-
полком обратился. Так меня там один
спрашивает: «Правда, что ребята-
пожарники, которые много взяли,
ночью светятся?» Ну что ему отве-
тишь?.. Чего только про нас не
говорят! Тело вроде у нас от костей
отходит... Да что там!
Радиофобические фантазии, осно-
ванные на незнании и невежестве,
явились фактором, посеявшим раз-
дор между киевлянами и чернобыль-
цами в первые месяцы после их
переселения в Киев.
Что же касается опасений и тревог,
сформулированных в приводившихся
выше припятских самоотчетах, то они
имеют иной характер.
Я далек от мысли, что кто-то
скрывает от припятчан какие-то су-
щественные характеристики доз-
обстановки, сложившейся 26—27 ап-
реля в городе и его окрестностях. И от
души надеюсь, что никто из его
жителей, бывших там в эти часы, не
подвергся облучению, представ-
ляющему серьезную опасность для
здоровья. Но вместе с тем с трудом
могу представить себе человека, ко-
торый, пробыв в обстановке столь
явно выраженной угрозы радиацион-
ного поражения энное количество
часов и не приняв при этом надлежа-
щих мер предосторожности, мог бы
постфактум отнестись к данному об-
стоятельству с олимпийским спо-
койствием. Вот такую реакцию уж
точно следовало бы признать психи-
ческой аномалией, отклонением от
нормы, загадочным феноменом, до-
стойным пристального изучения. Тре-
вога же в данном случае — реакция
самая что ни на есть нормальная
и естественная, особенно если речь
идет о здоровье детей. Точно такая
же, как физическая боль при ушибах,
порезах, переломах и т. д. и т. п. Да,
это — боязнь радиации, но абсолютно
адекватная объективной обстановке,
диктуемая здоровым инстинктом са-
мосохранения и заботой о благополу-
чии потомства. Сигнал тревоги, моби-
лизующий защитные ресурсы орга-
низма и сознания. Тревога эта может
оказаться ложной, но она имеет под
собой вполне реальную почву.
Это — во-первых.
Во-вторых, мне, да и никому из
членов отряда, ни в Киеве, на Троещи-
не и в Харьковском массиве, ни на
Зеленом Мысе, ни в профилактории
«Лесная поляна» в поселке Тетерев,
ни на самой ЧАЭС не приходилось
беседовать с людьми, подвергающи-
ми себя типичным «радиофобичес-
ким» ограничениям. Не приходилось
слышать о припятчанах, которые не
пьют молока, не едят овощей и фрук-
тов, сидят взаперти. Или видеть,
чтобы кто-нибудь из них, как это
делают иные киевляне, запрещал
детям выходить на улицу или совал
в форточку дозиметр, прежде чем
выпускать ребенка гулять или выйти
с колясочкой. Правда, на мно-
голюдной встрече работников АЭС
и членов их семей с областным
партийным руководством, предста-
вителями Минатомэнерго СССР и ди-
рекцией станции 8 января 1988 года
в президиум поступила-таки записоч-
ка с требованием дать разъяснения по
поводу несистематического дозимет-
рического контроля на двух близле-
жащих колхозных рынках. Собрание,
однако, реагировало на нее без осо-
бого интереса и энтузиазма.
Есть в поведении и образе жизни
припятчан и другие особенности, ма-
ло совместимые, мягко говоря, с вер-
сией радиофобии. Мы, например,
видели в их квартирах и предметы
обихода, которые ни за что не станет
держать у себя дома ни один ис-
тинный «радиофоб». Чего стоит толь-
ко один «звенящий» коврик перед
дверью супругов LU.I На квартире
у Валерия Навойчика мы оставили
свои автографы на футболке, которая
была на нем 26-го апреля 86-го. Под-
несенный к ней счетчик Гейгера
подымает оглушительную трескотню.
В другой квартире нам проде-
монстрировали еще один припятский
«сувенир» — радиоактивное пятно на
ковре в гостиной, на котором зашка-
ливает дозиметр...
Получается, что чернобыльцы ско-
рее «радиофилы», нежели «радио-
фобы», если воспользоваться саркас-
тическим неологизмом бывшего опе-
ратора ЧАЭС Сергея Грабовского. На
самом деле они ни то, ни другое. Это
умудренные опытом люди, спо-
собные точно и трезво оценить сте-
пень опасности, заключенную в тех
вещах, явлениях и событиях, которые
вызывают панический ужас у обывате-
лей.
Бывает и обратное: хозяйка дома,
ставя на стол банку с вареньем,
заметила: «У нас теперь так приня-
то — варенье в банке на стол ставить.
Сразу видно, где изготовлено». Слу-
чайно или нет, но никто в этом
доме — ни жена, ни муж — не яв-
ляется работником АЭС.
О работниках АЭС — разговор
особый. Особенно о тех, кто остался
на станции, не уехал. Об особой
категории «ликвидаторов с первого
дня». Уж они-то прошли такую про-
верку на радиофобию, после которой
даже у самого придирчивого конси-
лиума медицинских экспертов не
должно остаться ни тени сомнения.
Эта проверка — сама авария.
Ясную и беспощадную суть испыта-
ния на радиофобию четко выра-
жают слова Валентины Петровны
Белокрыловой, ликвидатора с первого
дня, о которой мы слышали от работ-
ников станции немало слов уважения
и восхищения: «Авария показала, кто
на что способен, кто есть кто».
Первое, что бросалось в глаза в
людях, ступивших на чернобыльскую
землю летом 86-го,— это отчетливое
размежевание света и тени в их
душах. Трагедия Чернобыля сделала
эту вечную невидимую грань ося-
заемой и ощутимой, сообщив ей
определенность географической гра-
ницы, которая опоясала район Чер-
нобыльской АЭС правильным кругом
с радиусом в 30 километров. Ги-
гантская центрифуга, отделившая
плевелы от ржи. Испытание, резуль-
таты которого не нуждаются в пере-
проверке с помощью каких бы то ни
было психологических тестов, в том
числе, смею утверждать, и тех, ко-
торые практикуют мои коллеги в
Киевском радиологическом центре
(о некоторых сообщалось уже в
открытой печати — «Правда», 1988,
№ 151,— что и дает нам право в
открытой же печати выразить свое
отношение к ним). Критерий здесь
самый простой, без затей: остался или
сбежал, поддался силе центростреми-
тельной или силе центробежной.
Вот что думают о своей
«радиофобии» сами при-
пятчане — приводим мне-
ния двух бывших работни-
ков ЧАЭС, оказавшихся в
ночь аварии в самой гуще
событий:
В. О.: Это у нас не радиофобия.
(Н
это — факты, фактическая информа-
ция. Мы все работали на атомной
станции — какие у нас могут быть
«фобии»? Посетите радиологический
центр — может быть, там найдете.
А мы тут ничего не боимся. И не
боялись... Какие там страхи! Вот
недоверие к информации, которая
сыплется сверху,— это да, это —
было. И есть.
В. К.: Мы, как профессионалы,
можем утверждать с чистой совестью,
что никакой радиофобии у нас нет.
Она придумана для прикрытия со-
циальных проблем. Можно во всем
разобраться и сделать людям доброе
дело, а можно закрыть на все глаза
и назвать «радиофобией». Страх —
есть, люди боятся, конечно, но, как
и всякий страх, он идет от неведения
и неопределенности. Но это не ра-
диофобия...
Да, наступление на радиофобию
развивается. Но, похоже, не в том
направлении, принимая порой форму
наступления на интересы людей, их
место в обществе и человеческое
достоинство.
Удачное слово придумала для чер-
нобыльских «страхов» Любовь Кова-
левская. ЛЖЕФОБИЯ. Хотел было
обратиться к автору, чтобы разрешить
его двусмысленность: то ли это бо-
язнь лжи, «обманофобия», то ли
«псевдофобия», лжебоязнь. Но уточ-
нять не стал, так как оба смысла в нем
ценны и отражают суть. Да, чер-
нобыльцы больше всего боятся сегод-
ня лжи, фальши, замалчивания оче-
видных фактов, дезинформации; но
боязнь лжи, обостренное чувство
правды — что это, как не признак, по
которому безошибочно угадывается
бесстрашие?
С. Г., р а б о т н и к Ч А Э С, л и к-
видатор с первого дня:
Я бы сейчас отдал все, лишь бы
правда в мире существовала... (Па-
уза). Да. пожалуй, все...
26-го апреля правда, истина стала их
жизненной необходимостью, насущ-
ной потребностью, делом жизни и
смерти. Не сыскать в нашей огромной
стране другого людского сообщества,
столь болезненно переживавшего и
переживающего последствия при-
вычных, притерпевшихся полуправд.
Притерпевшееся стало вдруг нетер-
пимым, обернулось нестерпимой бо-
лью.
Так информировали или нет припят-
чан об опасности? Информировали, но
как бы негласно, когда информация
вроде бы передается, но до адресата
не доходит. Информировали, боясь
информировать. Поливают улицы
дезактивационной жидкостью — и
сквозь пальцы смотрят, как дети весе-
лою гурьбой резвятся в ее потоках;
раздают таблетки йодистого каль-
ция — и не запрещают торговлю мо-
роженым; предупреждают, чтоб не
выходили на улицу,— и не отменяют
сеанс в кинотеатре... Несовместимые
факты и сигналы сталкиваются, отри-
цают друг друга и взаимоуничто-
жаются. Аннигилируют, как при
столкновении материи и антиматерии.
Вернейший способ нагнетания неоп-
ределенности и сопутствующих ей
страхов и опасений, в том числе ра-
диофобии.
Однако вместо радиофобии у лри-
пятчан сформировалось нечто иное —
«лжефобия» — припятский «син-
дром», в котором нет, однако же,
ничего загадочного. Нет ничего не-
объяснимого ни в тяжелом осадке,
который оставило у припятчан
пребывание в опасной близости от
разрушенного взрывом энергоблока,
ни в связываемых с этим пребыванием
опасениях по поводу здоровья
взрослых и детей. Того и другого
могло и не быть, если бы их четко
и без промедления проинформирова-
ли о нависшей угрозе. Загадочно
здесь совсем другое — природа ин-
формофобического синдрома, ко-
торый проявился в этом странном,
поразительном промедлении.
Какие процессы протекали в созна-
нии человека или группы людей,
которые, монопольно располагая ин-
формацией, столь непосредственно
касающейся жизни и здоровья целого
города с 50-тысячным населением,
медлили с ее передачей кровно
заинтересованному адресату? Вот что
в первую очередь надо бы изучить,
чтобы понять сущность и динамику
чернобыльской катастрофы. И воз-
можно, сущность и динамику других
наших бед, которые мы не сумели
предотвратить в прошлом, но кото-
рые еще могут быть предотвращены
в будущем.
Чернобыльцы не боятся ничего,
кроме обмана со стороны властей
и беспамятства Сограждан, готовых
забыть о беде.
Чернобыльцы боятся, что ярлык
«радиофобия» вытеснит из сознания
и памяти соотечественников боль
мужество, страдание и самоотрече-
ние людей, принявших на себя удар
разбушевавшейся стихии «мирного»
атома.
Чернобыльцы боятся информаци-
онного дефицита, ставшего за эти
годы их подлинным бичом.
История Чернобыля — это история
таинственных исчезновений и анниги-
ляций. Сначала исчез город Припять
о котором недоумевающие сооте-
чественники стали понемногу узна-
вать спустя разве что месяц-другой
после аварии. Потом стала исчезать
сама авария, перестав фигурировать
во многих медицинских документах
как фактор, хотя бы потенциально
объясняющий физические недуги
припятчан, возникновение и обостре-
ния у них хронических заболеваний.
Припятчане рассказывают о куда-то
сгинувших постановлениях, касаю-
щихся пенсий и других льгот для ра-
ботников ЧАЭС, участвовавших в
ликвидации аварии и М оследствий,
О таинственных превращениях, кото-
рые происходят с записями доз внеш-
него облучения.
Забыть Чернобыль! Этот приказ
поступил сразу же после взрыва.
И отдан он был не кем-то конк-
ретным, а самой системой чинов-
ничьих страхов, комплексов, навяз-
чивых идей, тревог и опасений. Служ-
ба Забвения, функция которой сос-
тоит в замалчивании прошлого, начи-
нается с молчания о настоящем.
Теперь она ждет, когда аннигили-
руют последние факты.
Факт — антифакт, мнение — ан-
гимнение, действие — антидействие.
Торжествует ничто — пустота, беспа-
мятство.
Мы не располагаем истинами в по-
следней инстанции. Чиновнику не
запретишь поставить под сомнение
весомость, правдивость и искренность
каждого слова, сказанного живым
человеком, в том числе и людьми из
Припяти, объявив его «радиофоби-
ческим бредом».
Но один факт сомнению не подле-
жит. Это тревога, боль и страдание
людей, переживших небывалое
бедствие, отдавших и отдающих все
свои силы борьбе с разрушениями,
причиненными ядерным пожаром.
Боль и страдание, не утихающие уже
более двух лет.
Этот факт пока не аннигилировал.
Факт, с которым нельзя мириться.
Людям из Припяти необходима прав-
да, определенность. Как психолог,
с полной ответственностью могу ут-
верждать, что «фобии» чернобыльцев
нельзя излечить неправдой, пусть
даже утешительной; нет для них
более действенного лечения, чем
честность, искренность, гласность.
И никто не вправе отказать им в этом.
...Горел — не блок.
Пожар — итог
Эпохи лжи.
Продукт распада
Премноголетнего вранья...
Лежат на Митинском ребята.
Что верили всему, как я...
Горел — не блок!
Не только блок:
Пожар — урок.
Урок жестокий!
...Не дай нам бог
Таких уроков!
Не дай нам бог
Таких эпох!2
Из стихотворения «Вердикт» лауреата пре-
мии Киевского обкома комсомола В. Шовко-
шитного. В кн.: Эхо апреля. Киев, «Молодь»,
1987.
От имени членов научно-производст-
венного отряда «Чернобыль-88» автор
приносит благодарность припятчанам
за сотрудничество и гостеприимство,
а также благодарит киевских това-
рищей, оказавших содействие в прове-
дении исследований.
Каждый человек должен в своей жизни посадить
хотя бы одно дерево. В наше время эта мудрость
вопиет к миру: ведь сколько уже всего срублено!
И до сих пор рубим больше, чем насаждаем.
Вот я и посадил свое деревце. Правда, оно
не обычное — с корой, листьями, и растет
не на земле, а в моей душе.
СЕМЕЧКО. Сколько раз я
проходил детским парком?
Сотню раз? Тысячу? Да не
одну тысячу! Ведь живу я в
родном городе — Вологде —
без малого сорок лет.
Обычно я иду, смотрю под
ноги, а здесь решил на небо
взглянуть. И взглянул. И на-
до же так случиться, что го-
лову мне поднять довелось
как раз у церкви. Поднял го-
лову, окинул взглядом начав-
шие золотисто желтеть берез-
ки, потемневшие вершины то-
полей, и в верхней арке белой
колокольни увидел на сером
бревне два железных хомута.
Когда-то они держали коло-
кол.
Посмотрел я на них, а по-
том уперся опять в землю и
побрел дальше. Но уже упало
семечко в душу, стало вко-
реняться и долго мне помни-
лись эти одиноко свисающие
четыре железные руки, как
помнится тревожный, бередя-
щий душу, но необъяснимый
и оттого еще более тягостный
сон.
РОСТОК- Задумался я, и
что-то послышалось и пови-
делось мне. Чьи-то шаги и лег-
кий скрип ступеней. Узкая
• лестница с сумраком по уг-
лам. Фигура в длинной, тем-
ной одежде.
«Да это ж звонарь с Иоан-
на Предтечи,— изумился я,—
из церкви в парке. На коло-
кольню подымается» Один
поворот лестницы, другой.
Последний подъем.
Подобрал он левой рукой
полы подрясника, правой под-
нял крышку люка, откинул,
вышел на площадку звона,
захлопнул люк — голуби сня-
лись со своих мест — и остал-
ся один.
Весь город был как на ла-
дони. Широкое пространство,
не перегороженное коробка-
ми и башнями многоэтажных
домов, легко уходило вдаль.
Над купами дерев серебри-
стыми и золочеными иглами
вонзались в ясное небо шпи-
ли Слободской, Говоровской,
Осановской, Кнрика и Улиты
церквей. И далеко вокруг го-
рода, докуда мог хватить
взгляд, и намного дальше, тя-
нулись охваченные осенним
ветром леса, в прогалинах ле-
сов желтели поля, лилово и
сине взблескивали озера и ре-
ки, и среди деревень, разбро-
санных здесь и там, белели
церкви.
Звонарь взялся за веревку
большого колокола и, упер-
шись ногой в кольцо люка,
стал неторопливо, мерно рас-
качивать язык. Все ближе и
ближе тяжкая железная па-
лица к краю колокола, сейчас
дотронется, ударит..
Колокол, казалось, вспух
на месте удара. Густая вяз-
кая дрожь волной пошла по
бронзовому телу его, и вот
уже отделился от него и по-
плыл, расплываясь все шире
и шире, тугой властный звук.
Звук этот тронул листья на
верхушке березы, они шевель-
нулись ответно, а он уже шел
дальше, дальше — над горо-
дом, над домами, в леса, в
реки, в озера, в небо..
И тут я очнулся.
ПЕРВЫЕ ЛИСТОЧКИ. Не
праздно росток в душе моей
проклюнулся, появились на
нем листочки. Откуда вообще
колокола взялись? Кто изоб-
рел их? Зачем в них звони-
ли? Как они на русской зем-
ле появились? Давно ли? Как
лили их и льют ли где-нибудь
сейчас? «Царь-то колокол,—
вспомнил я свою давнюю
поездку в Москву. — С дом
ведь хороший будет. Такую
громадину не шутка ведь от-
лить — не чугунок, не сково-
родку на литейно-механиче-
ском заводе».
А куда ж, интересно, все
колокола с городских колоко-
лен подевались? Колоколен
вон сколько стоит, а все, как
есть, пустые. На иных и хому-
тов не осталось. Когда коло-
кола снимали? Зачем? А что
за диво такое — колоколь-
ный звон? Где бы хоть кра-
ешком уха его послушать?
Стал я искать в книгах, уз-
навал все больше нового. Ро-
сток постепенно становился
деревцем, а деревце начало
ветвиться.
ВЕТВЬ ИСТОРИЧЕСКАЯ
Кто изобрел колокола -
неизвестно. Церковная тради-
ция отдает приоритет их изо-
бретения епископу Павлину
из г. Нолы (IV—V вв.), хотя
еще в Древнем Риме у храмов
Кибелы и Прозерпины висели
колокола (I в.). Были колоко-
ла и у древних греков. Коло-
кольное литье имеет глубокие
корни в Китае и Японии. Са-
мый же древний, сохранив-
шийся до наших дней коло-
кольчик (а где есть колоколь-
чики, естественно предполо-
жить и колокола) восходит к
2Г
ассирийскому царю Салма-
нассару II (IX в. до и. э.).
Уже в сочинениях Григория
Турского (VI век) появляют-
ся первые письменные свиде-
тельства о применении коло-
колов в церквах, а в VII веке
папа Сабиниан официально
ввёл колокольный звон в об-
ряд богослужения. Со време-
ни понтификата Сабиниана
(604—606 гг.) и начинается
новая история колоколов
Вернее, продолжается старая.
Распространению колоко-
лов всемерно способствовал
Карл Великий (VIII в.). К се-
редине IX века они звонили
не только в монастырях, но и
в городах, и селах.
Из Европы колокола попа-
ли в Византию. В IX веке ве-
нецианский дож Орео I по-
слал византийскому импера-
тору Василию Македонянину
12 колоколов для церкви
св. Софии. Но это нововведе-
ние привилось на Востоке
только после занятия Кон-
стантинополя крестоносцами
в 1204 году.
Во время понтификата Ио-
анна XIV (в 983 году) был
введен обряд крещения коло-
кола, который весьма любо-
пытен: колокол крестили, как
младенца, нарекали ему имя,
надевали крестильную руба-
шку, сообщали ему голос,
у него были восприемники —
крестные отец и мать, то есть
колокол совершенно уподоб-
лялся живому существу. Бы-
тует ли теперь этот обычай в
Западной Европе, мне не-
известно, но в конце XIX ве-
ка он еще встречался во
Франции.
В 1230 году папа Григорий
IX ввел трехкратный коло-
кольный звон: утром, в обед и
вечером.
В средние века росли коло-
кола в весе, увеличивалось их
количество. Колокола свиде-
тельствовали о богатстве цер-
кви и мог} ществе ее покрови-
телей.
Русский побег от
ветви исторической.
История колоколов в России
неразрывно связана с приня-
тием на Руси христианства.
Недавно мы имели возмож-
ность отпраздновать тысяче-
летие колокольного звона иа
русской земле.
О том, откуда пришли к нам
колокола, существуют раз-
личные мнения. Одно из них
таково: поскольку христиан-
ство пришло к нам из Визан-
тии, то оттуда же пришли и
колокола. Интересно, что рус-
24
ское слово «колокол» имеет
параллель в церковнославян-
ском, богослужебном языке
православной церкви — «кла-
кол» (сравни: молот — млат,
золото — злато, аналогич-
ный фонетический процесс).
На это имеются возраже-
ния: во-первых, колокола в
X веке и в самой Византин
были еще, можно сказать, но-
винкой, и при церквах повсю-
ду употреблялись била и кле-
пала'; во-вторых, большие
колокола в обиходе право-
славной церкви назывались
«кампанами» (слово латин-
ское) и, в-третьих, еще печер-
ский угодник св Антоний
(XI в.) писал: «...било дер-
жать по Ангелову внушению,
а в колокола латыне звонят».
Краткие вехи пер-
воначальной исто-
рии колоколов иа
Руси.
XI век. Из летописей из-
вестно, что в Новгородском
Софийском соборе, построен-
ном в 1045—1052 годах, бы-
ли колокола. Этот вывод сле-
дует из факта пленения в
1066 году новгородских (Со-
фийских) колоколов полоц-
ким князем Всеславом.
XII век. Средн церковных
атрибутов упоминаются коло-
кола и била, употреблявши-
еся преимущественно в мона-
стырях. В житии Антония
Римлянина упоминается, что
когда он прибыл в Новгород
в 1106 году, звонили к заутре-
ни, и он услышал «великий
звои».
XIII век. В летописях чаще,
чем прежде, говорится о коло-
колах. Так, Даниил Романо-
вич Галицкий для церкви
Иоанна Златоуста одни ко-
локола «принес» из Киева,
другие «слил» в самом Холме.
Ростовские князья Дмитрий
и Константин Борисовичи, по-
сылая в 1290 году владыку
Тарасия в Великий Устюг для
освящения соборной церкви,
отправили для нее и колокол
Тюрик.
XIV век В 1305 году в Ро-
стове разбились два больших
колокола. В 1345 году по при-
казу великого князя Семена
Иоанновича слиты три боль-
ших и два малых колокола.
XV век. В 1403 году слит
колокол в Твери для собор-
ной церкви. В 1410 году во
Владимире на Клязьме коло-
кола в соборе растопились,
когда город был подожжен
татарами. В 1426 году в Пско-
ве повешены колокола иа
новой колокольне Троицкого
собора, ио в церквах побед-
ней даже в Москве еще упот-
реблялись била и клепала.
XVI век. Великий князь
Василий Иванович в 1510 го-
ду велел перевезти из Пскова
в Москву вечевой колокол,
ио через 8 лет отправил вза
меи два колокола для Троиц-
кого собора. В 1547 году по
приказу Ивана Грозного пере-
везен в Александровскую сло-
боду пятисотпудовый колокол
из новгородского Софийско-
го собора, но вместо него
через два года для Новгорода
отлит другой колокол. В 1562
оду Иван Грозный послал
колокол в Спас-Каменный мо-
настырь.
О XVII и XVIII ве-
ках будет сказано
особо.
Русские придавали коло-
колам чрезвычайно важное
значение. Возьмем, к примеру,
обычай пленения колоколов
Он идет из глубокой древ-
ности и прослеживается
вплоть до XVIII века.
1066 год — уже упоминав-
шийся полоцкий князь Все-
слав пленяет новгородские
колокола.
1146 год—князь Изяслав
снял колокола в Киеве.
1176 год — князь Мстислав
Аи греевич в Киеве «колоколы
изнесоша все».
1338 год — Иван Калита
перенес колокола из Тверско-
го Спасского собора в Моск-
ву
1481 год — псковичи при
везли великому князю восемь
немецких пленных колоко-
лов.
Во время войны Алексея
Михайловича с Польшей
(1654—1657 гг.) во многие
города России и даже в Си-
бирь вместе с поляками и
литовцами были посланы и
пленные колокола. У побеж-
денных брали то. что явля-
лось национальной святы-
ней — колокола. Недаром ле-
тописец восклицает: «О ве-
лика быше беда в час тыи».
Интересный случай про-
изошел в начале XVIII ве-
ка. После мирного договора,
завершившего Северную вой-
ну, жителям Нарвы вернули
кирху, ранее обращенную в
православную церковь, но по
приказанию князя А. Д. Мен-
шикова колокола с нее были
сняты: русские колокола не
должны были звонить на «чу-
жой» церкви, не могли оста-
ваться «в плену».
Как и в Западной Европе,
колоколай В России давдли
имена и прозвища, не только
мужские — Гавриил, Геор-
гий, Архангел, Реут, Сысой
и т. д., но и женские — Не-
опалимая Купина, Лебедь,
Бурлииа, Мотора...
Перед тем как повесить ко-
локол на колокольню, совер-
шалась особая церемония —
«чин освящения кампана».
Колокололитейные мастера
в древнерусском государстве
числились за Пушечным дво-
ром. Отливка колоколов счи-
талась делом такой же госу-
дарственной важности, как и
производство оружия, пушек.
ВЕТВЬ ФУНКЦИОНАЛЬ-
НАЯ. Очевидна единствен-
ная функция колокола —
звонить А главная цель ко-
локольного звона у христи-
ан — созывать народ иа бо-
гослужение. В популярных
изданиях нередко пишут, что
«колокольный звон оповещал
население о беде, сзывал его
на вече, иа битву, сопрово-
ждал празднества». И здесь
ставится точка. Но, говоря
об истории, надо соблюдать
объективность. Разве ни о
чем ие говорит тот факт, что
в Новгороде, например, вече-
вой колокол был один, набат-
ных, вероятно, было несколь-
ко,— в каждом конце свой,
ио простых-то колоколов в
церквах и монастырях была
ие одна тысяча!
Разумеется, колокола име-
ли значение и в светской жиз-
ни. Пока ие появились меха-
нические часы и долгое вре-
мя после этого в городах их
заменяли колокола. В средне-
вековом городе они, можно
сказать, направляли жизнь.
В Бовеие (Франция) колокол,
в который ударяли, чтобы
объявить о начале торговли
рыбой, так и назывался «Тор-
говка рыбой». В Этампе
(Франция) колокол, напо-
минавший о том, что пора
тушить огни, именовался
«Преследователь гуляк».
В Антверпене (Бельгия)
один колокол оповещал о на-
чале и конце рабочего дня,
другой сообщал, когда откры-
вались и закрывались город-
ские ворота и, соответствен-
1 Било и клепало — простейшие
музыкальные ударные инстру-
менты. Первое представляет со-
бой подвешенную на веревке
тонкую хорошо просушенную
доску; второе изготовлялось из
железной полосы в виде коро-
мысла. Звучание первого напо-
минало барабанную дробь; вто-
рое имело нежное, но негромкое
звучание.
• «Сысой» отлит в 1689 году мастером Флором Терентьевым.
но, питейные заведения. Был
и колокол, звон которого зна-
ли все бедняки: в него звони-
ли во время раздачи торфа.
Специальный колокол опо-
вещал об открытии и закры-
тии биржи
Существовали сторожевые
морские колокола. Их при-
крепляли в опасных местах
к плавающему бую или к ска-
ле. В романе В. Гюго «Чело-
век, который смеется» опи-
сывается установка как раз
такого колокола — Тейского.
В католических странах в
средние века по колоколам
гадали. Повсеместно их звон
сопровождал преступника на
казнь. В Англии казнь совер-
шалась при похоронном звоне
специального колокола. В Ло-
занне (Швейцария) собор-
ный колокол по имени Мило-
сердие напутствовал осуж-
денного. Надпись на Верон-
ском колоколе (Италия) гла-
сит: «Я возвещаю казнь ви-
новным и предупреждаю
имеющих надобность в этом
уроке». В Берне (Швейцария)
иа внутренней стенке колоко-
ла писалась так называемая
«Красная книга» — выграви-
рованные имена казненных.
И, наконец, в колокола зво-
нили во время эпидемий, по-
тому что колокольному зво
ну приписывалась способ-
ность изгонять болезни. Коло-
кол смерти в Италии звонит
в память о погибших в первую
мировую войну. По давнему
обычаю в конторе страховой
компании Ллойда гибель суд-
на отмечается ударом коло-
кола.
Нельзя не вспомнить и о
колоколе мира в Софин. Как
веление времени он не только
напоминает о жертвах про-
шедшей войны, но н зовет к
миру.
Русский побег от
ветви функциональ-
ной. Как и в Западной Ев-
ропе, колокола на Руси ука-
зывали время. Городские ба-
шенные часы появились в Мо-
скве в 1404 году, в других го-
родах намного позднее (в
Вологде, например, в XIX ве-
ке), и все эти годы колоко-
ла исправно отбивали время.
Отсюда пошло выражение
«пробил час».
А кто не знает Новгород-
ского и Псковского, Угличс-
кого вечевых колоколов? У
каждого своя увлекательная,
драматическая история.
Вспомним рассказ Н. Ушин-
ского «Старая лошадь» о ве-
чевом колоколе города Вине-
ты. Как знать, может быть,
эти колокола пришли от на-
ших соплеменников — бал-
тийских славян.
Менее известна трагиче-
ская история Витебского ве-
чевого колокола. 12 ноября
1623 года православное на- |
селение города, созванное на
главную площадь города ве-
чевым колоколом, подняло
мятеж против жестоких мер,
которыми униатский епископ
Иосафат Кунцевич насаждал
унию. Ненавистного епископа
убили, но мятеж был подав-
лен — вечевой колокол был
снят и разбит, шестнадцати
мятежникам отрубили голо-
вы.
Набатный колокол сзывал
население на борьбу с по-
жаром, предупреждал о на-
шествии врагов. Осадный ко-
локол извещал жителей о под-
ходе к стенам города непри-
ятеля, скликал на защиту,
призывал к борьбе.
В сельских церквах коло-
кольный звон был для заплу-
тавшихся путников путевод-
ным знаком. Особенно в непо-
году, в буран, метель. Было
даже особое предписание о
так называемом «метельном
звоне», который в отличие от
церковного благовеста и по-
жарного набата отличался
прерывистым боем. В 60-е
годы XIX века даже изобре-
ли приспособление «само-
звон», при помощи которого
в ветреную погоду колокол
звонил сам, без звонаря.
В 1893 году св. Синод от-
дал распоряжение звонить
при тумане в селах, находив-
шихся на берегах Ладожско-
го и Онежского озер.
И, конечно же, колоколь-
ным звоном сопровождались
торжественные церемонии,
например, коронации русских
царей. Так, регламент коро-
нации Александра II гласил:
«После въезда Государя в
Кремль последует 101 выстрел
из пушек и во всех церквях
начнется колокольный звон,
продолжающийся весь день».
Встречать колокольным зво-
ном считалось величайшей
честью. Звонили в колокола
и при крещении иноверцев
Звучали колокола и во время
эпидемий. Когда моровое по-
ветрие охватило Казань, в
Москве подняли икону Смо-
ленской Божией Матерн, по
всем церквам начался коло-
кольный звон, продолжав-
шийся до тех пор, пока чудо-
творную икону обносили во-
круг кремлевских стен.
В древности причины бо-
лезней (особенно повальных)
люди представляли в виде не-
чистой силы, злых демонов.
Тогда и зародилось поверие:
звон колоколов отгоняет де-
монов. Английский путешест-
венник XVII века Уоллес Ма-
кензи писал: «Если Демоны
живут в Москве и не любят
колокольного звона, то в эту
ночь (пасхальную, когда зво-
нили во все колокола. —
Р. Б.) у темного царства дол-
жен происходить настоящий
погром с поголовным бегст-
вом».
Кстати, ботала. а иногда и
колокольчики, которые при-
вешивались на шею коровам,
служили не только для того,
чтобы найти заблудившееся
животное, но и чтобы отпуг-
нуть злых духов
ВЕТВЬ ТЕХНОЛОГИЧЕ-
СКАЯ.
Технология производства
колоколов отработана давно
и остается неизменной. Это
одно из древнейших ремесел
на земле, дошедшее до наших
дней.
В сжатом и предельно упро-
щенном изложении техноло-
гия изготовления колокола
такова. В литейной яме из
кирпича выкладывается пус-
тотелый с плоской вершиной
конус — «стержень». На него
по шаблону наносят слоями
глину, образуя таким образом
внутренний контур колокола.
После просушки вновь на-
кладывается глина по толщи-
не будущих стенок колокола.
Это — «ложный колокол».
Когда он готов, на нем укреп-
ляют сделанные из воска
надписи и украшения. Затем
вновь наносится глина, слои
которой теперь проклады-
ваются проволокой и укреп-
ляются железными ребрами,
а по верху схватываются же-
лезными обручами с крючья-
ми. Так делается «кожух»,
или «рубашка».
Таким образом, получается
три слоя специально приго-
товленной глины, которые, бу-
дучи нанесенными один на
другой, друг с другом не сли-
ты Верхний слой — «рубаш-
ка» — осторожно снимается,
средний слой — «ложный
колокол» — аккуратно выла-
мывается, «рубашка» возвра-
щается на прежнее место. В
пустоту, образовавшуюся
после удаления «ложного ко-
локола», заливается металл.
Дождавшись, когда колокол
остынет, его поднимали из
ямы и приступали к очистке
и окончательной отделке. Не-
ровности, образовавшиеся
при отливке, снимались чека-
нами.
Становление колокололи-
тейной технологии шло по
двум путям: совершенствова
лась форма и подбирались
наиболее удачные соотноше-
ния меди и олова. Западно-
европейские мастера уже в
XIII веке нашли наилучшую
форму колокола, которая за-
тем только совершенствова-
лась.
Самые первые колокола
имели вытянутую, близкую к
цилиндрической форму, при
которой высота колокола в
два и даже три раза превы
шала его основание (диа-
метр). У колоколов XIII века
диаметр постепенно прибли-
жается к высоте. Колокола
делаются шире, что повы-
шает их акустические харак-
теристики.
По соотношению высоты
колокола и диаметра его ос-
нования различаются три
разновидности: китайский
(азиатский)—диаметр поч-
ти в два раза меньше высо-
ты; западноевропейский —
диаметр больше высоты (вы-
сота-7/8 диаметра); рус-
ский — как бы промежуточ-
ный между первыми двумя,
но в значительной мере тяго-
теющий к западноевропейс-
кому.
Если оптимальные формы
были найдены довольно бы-
стро, то поиск правильного
сплава (сочетания меди и
олова) был гораздо длитель-
нее. Лишь в конце XVIII —
начале XIX веков окончатель-
но определился, так сказать,
канонический состав коло-
кольной бронзы, или металла,
как говорят литейщики.
В характеристике певческо-
го голоса, среди многих оп-
ределений, есть такое, как
«полетность». I слое должен
лететь, иначе, сколь бы он
ни был красив и силен, он не
станет певческим. Такой по-
летностью отличается «коло-
кольный металл» — сплав ме-
ди и олова в пропорции: 78—
80% меди, 22—20% олова
В русском языке понятию
«полетность звука» соответст-
вует слово «разгул», то есть
далеко несущийся, гулкий,
«разгулявшийся» звук
Первоначально искусством
отливки колоколов владели
странствующие мастера. Ко-
локол обычно отливался возле
гой церкви, для которой он
предназначался. Большие ко-
локола были редкостью. Ког-
да в XI веке в г. Гильдес-
гейме (Германия) был отлит
колокол в 100 пудов, он ка-
зался чудом. В 1453 году в
Орлеане отлили колокол в
1075 пудов Литейщик от
радости, что отливка удалась,
говорят, умер.
Со временем появилось да-
же своеобразное соревнова-
ние. Каждая страна стреми-
лась обладать самым боль-
шим колоколом. Славился ог-
ромный Кельнский колокол
(1000 пудов).
Количество колоколов не-
удержимо росло, и вскоре во
многих городах насчитыва-
лась ие одна сотня колоколов.
В Лелфте (Голландия) было
800 колоколов, а в Кельне
и Авиньоне — до тысячи.
Не лишены интереса сведе-
ния о крупнейших колоколах
мира.
Англия
Часовой колокол здания
парламента, 924 пуда (1856
г.).
«Великий Петр», Йорк, 602
пуда (1845 г.).
«Большой Том», Оксфорд,
425 пудов (1680 г.).
Нидерланды
Колокол в Брюгге, 600 пу-
дов (1680 г.).
Франция
«Бурдон», Париж, Нотр-
Дам, свыше 1000 пудов.
Италия
Колокол собора св. Петра,
Рим, 700 пудов (1786 г.).
Колокол на Капитолии,
437 пудов.
Германия
«Король-колокол», Кельн,
1600 пудов.
Колокол собора, Эрфурт,
850 пудов.
В Германии колокола сох-
ранились с древнейших вре-
мен Самый древний находит-
ся в Иггенсбахе (Нижняя
Бавария), отлит в 1144 году;
есть два колокола XIII века,
шесть колоколов XIV века,
восемь — XV века.
Сухая немецкая
веточка.
Много колоколов было
снято с колоколен и переплав-
лено в первую мировую вой-
ну Во вторую мировую войну
по всей Германии военная
индустрия поглотила свыше
80 тысяч колоколов. Геринг
заявил, что Германии хватит
и 12 колоколов.
Австрия
Колокол церкви св. Стефа-
на, Вена, 989 пудов (нач.
XVIII века).
Португалия
Колокол в Лиссабоне, 1250
пудов.
Япония
Колокол в Киото, 4685 пу-
дов (1632 г.).
Китай
«Железный колокол», Пе-
кин, 7850 пудов.
В 1982 году после сорока
лет простоя возобновил рабо-
ту колокололитейный завод в
Аполде (ГДР). Продукция
его идет во все страны мира.
Сейчас аполдские колокола
звонят на всех континентах.
Завод выпускает до 40 коло-
колов в год, весом от 8 кг до
8 тонн, то есть в переводе на
русские меры от полпуда до
500 пудов.
Окончание следует.
Поздравляем с трехсот-
летием к БУЯНОВ
Где-то между Братском и Иркутском
расположилось старинное сибирское село
Олонки. Точнее о нем можно узнать из
таблички, что висит у входа в местную
школу: «Расстояние от Южного полюса —
6810,5 км, от Северного полюса — 3191,6
км; высота над уровнем моря 437 м, ча-
совой пояс — 7, широта 52°, долгота
103°40' Село Олонки образовано в 1688 го-
ду Краеведческий музей основан в 1966
году»
Мне довелось побывать в Олонках и
познакомиться с Евгением Павловичем
Титовым — хранителем этого музея. Титов
Н его помощники, местные краеведы и кни-
голюбы, в основном ветераны войны. Но
несмотря иа то, что многие из них на пен-
сии, они, как и Титов, почти все свое вре-
мя отдают музею, созданному на общест-
венных началах.
Евгений Павлович, невысокий пожилой
человек, был немногословен. Впрочем,
экспонаты музея говорили сами за себя, я
был поражен обилием старинных книг,
икон, утвари, предметов крестьянского бы-
та. Книги передавались из поколения в по-
коление. многие из них уникальны, созданы
еще до реформы Никона.
Местная детвора - верные помощники
и друзья Титова, и это неудивительно —
в музее проходят занятия по истории н ли-
тературе, сам Евгений Павлович бывший
учитель. Так что многие школьники села
помогают ему в хлопотах по музею.
Меня всегда восхищали музейные ра-
ботники, их энтузиазм. Зарплата полуни-
щенская, льгот никаких, а все же тянутся
неравнодушные люди в музеи, эти средото-
чия культуры. Но если в государственных
музеях за свой труд они получают зарпла-
ту, то в общественных — ни копейки. И,
тем не менее, музей в Олонках мне пред-
ставился более ухоженным, нежели иные
из больших музеев на государственном
коште
В Олонецком музее собрано практиче-
ски все, что связано с одним из зачинате-
лей революционного движения в России
начала XIX столетия — Владимиром Федо-
сеевичем Раевским (1795—1872) Друг
Пушкина, отважный офицер, участник 11
сражений В 1822 году Раевского аресто-
вали за революционную пропаганду среди
солдат Николай I приказал: «Лишив всех
знаков отличия, звания дворянина, удалить
его, как вредного человека, в Сибирь на
поселение».
Так в Олонках появился новый крестья-
нин с аристократической фамилией. Нарав-
не со своими односельчанами Раевский па-
хал землю, сеял хлеб. Он женился на
местной девушке Евдокии Середкиной.
Раевский открыл в Олонках школу и
учил в ней крестьянских детей. Лишь в
1856 году ему позволили покинуть место
ссылки. Раевский поехал в Москву и Петер-
бург, устроил детей на обучение и вернулся
в ставшую ему родной Сибирь.
В Олонках он скончался, здесь и похо-
ронен Могилы его и жены находятся не
в церковной ограде, а на степном кладби-
ще так завещал Раевский
Покидая Олонки, которым в этом году
исполняется 300 лет, я с благодарностью
думал о Титове и его товарищах, создав-
ших великолепный музей. Побольше бы
таких музеев!
Михаил ЧУ ЛАКИ
ЛИТЕРАТУРА, ИСКУССТВО
Опять началось с Ларисы. Заявилась она
в очередной раз и, жадно глядя на мамина
сибиряка, стала жаловаться:
— Чувствую себя — ну невозможно
как! Ноги-к вечеру не ходят. А внутри так
все и отрывается. От печени, я думаю Мне
давно один гомеопат сказал, что у меня —
печень. А эти твои лупоглазые, они
могут — от печени?
— Печень не быват, быват камни.—
поставил диагноз мамин сибиряк.
— Ну так неужели не могут они камни
выгнать? Какой от них тогда прок?
— Камни в печени бесом мечены.
— Так пусть выгонят! Бесы или кто.
— Попроси. Ругу каку дашь. Чура проси.
Чур — он щекочур, выщекотит
— Правда, выщекотит?! Я так и думала,
что они от щекотки рассыпаются!
— Выщекотит. Приду опосля, научу уж,
как Чура уважить.
Лариса ушла вся в надежде, а мамин
сибиряк повторил ей вслед уже известную
поговорку:
— Бабье жерло кляпом не заткнешь.
Матушка все это терпела молча, но на
следующий день, едва я вошел, сразу
услышал с порога — благо стараниями
мамина сибиряка замок у нас теперь
открывался легко и неслышно:
— ...всякая дрянь здесь выставляет свое
бесстыдство, а ты и рад! Тебе только
и надо, чтобы были откинуты всякие нормы
морали!
Бедная матушка! Даже скандалит она
гак, будто читает утвержденный текст
официальной экскурсии
— Кто марал! Никто не замарал! Попы
приду мат, штоб одна жена, а надо жить да
радовацца!
— Прописала-то тебя я одна, а не все
подряд, которые извращают мораль,
чтобы разврату своему радоваться!
— Баба люба не за прописку, а за
горячу...
Я неслышно отступил на лестницу —
пусть доскандалят без меня.
И каким-то способом доскандалили, так
что через час я застал дома мир.
А Ларисе помогло — Чур ли выщекотил
ей камни, сам ли мамин сибиряк, но слава
пошла, и теперь к нам двинулись не только
коллекционеры, не только желающие при-
общиться к отеческим богам — но и боля-
щие. Этих я отличал сразу: страждущие
выделялись особенным испугом и надеж-
дой в глазах.
Мне часто казалось, что мамин сибиряк
нарочно старался огорошить страждущих
примитивизмом своих медицинских суж-
дений:
— Понос, что ль? Знамо: болит живот —
страдат нос.
— Забиты у гя почки? Знамо: маяли
девочки.
— Не ходют ноги? Худы выбрал дороги.
— Бухат сердце? Жил, знат, с перцем.
И терпели такие диагнозы. Даже считали
за мудрость. Или по контрасту со всякими
непонятными «холецистопанкреатитами»?
Каких-нибудь настоек, хоть святой воды
из водопровода, мамин сибиряк не давал,
и к явным волхованиям прибе1ал редко.
Обычно он вручал своих идолов — и боль-
ше ничего. Правда — по специальностям:
кто головой страдал — тем Перуна, пече-
ночникам прописывал Хорса, легочни-
кам — Дажбога; дряхлым старикам и ста-
рухам при любых немощах — дедушку
Чура; от мужских слабостей, естествен-
но,— Род, от женских — Рожаницы. Од-
нажды пришла женщина, умоляя спасти
собаку, у которой отнимаются задние
лапы. Я ожидал, что мамин сибиряк
накричит на нее, что городские собаки —
один распут. Но нет, он отнесся к случаю
чисто академически и даже впервые зако-
лебался, какого бога прописать, а поколе-
бавшись, выдал Волоса: «Потому как он
есть скотий бог, а собака тож к скотам
тянет». Женщина заикнулась, что ее Чапа
все понимает как человек, но мамин
сибиряк приговора не изменил, так она
и ушла со скотьим Волосом.
Некоторые в прихожей пытались
расспрашивать меня почтительным шепо-
том — и не потому только, что боялись
потревожить мамина сибиряка — нет,
отсвет его могущества падал и на меня,
в глазах посетителей я тоже был посвя-
щенный, ученик чародея
— А что, всем помогает колдун си-
бирский или только особенным людям?
Рекламировать мамина сибиряка я не
собирался, но не вести же тут санпросвет-
работу, не переадресовывать же в поли-
клинику: раз пришли — значит, заслужи-
вают свою участь. Да и бывали они все
множество раз в поликлиниках... Для таких
расспросчиков я раз и навсегда вывел
железную формулу:
— Пока сами не попробуете — все
равно не узнаете. Каждый сам себе
испытатель.
Последняя фраза особенно действовала:
в ней чувствовалась магическая краткость
и энергия. «Каждый сам себе испыта-
тель!» — непонятно и многозначительно.
Только изредка, в особенных случаях,
мамин сибиряк прибегал к более сильным
воздействиям Причем довольно неожи-
данно решал, какие случаи особенные.
Иногда очередная страждущая рыдает на
весь дом, на колени бухается^ хватает руку
целовать «благодетелю последней наде-
жды», а мамин сибиряк буркнет: «Кишки
играт — матку шевелят», сунет, не глядя.
Ладу с Лелей — и все лечение. А однажды
пришел тихий парень, похож на студен-
та — но даже не бородатый, даже не
в джинсах, пожаловался скромно, что
«схватывают как судороги здесь вот под
ложечкой и никакие спазмолитики не
берут».— и тут-то мамин сибиряк встал
и принялся волховать в лучшем языческом
стиле!
— Спасоличики?! Вдовьи потычики!
Хорса проси, дурну кровю истряси!
Откуда-то сама собой — никогда рань-
ше не видел я такой среди его реквизи-
та — явилась на голове мамина сибиряка
рогатая шапка. Страшно смотреть.
— Истряси, истряси! Дурну кровь истря-
си, добру кровь воскреси!
Мамин сибиряк положил свои огромные,
похожие на переплетенные корни, ладони
студенту на плечи и стал трясти беднягу,
повторяя:
— Истряси, истряси! Хорса проси, просо
коси! Смели по росе, слюби по красе!
Мамин сибиряк тряс студента все
быстрее и мельче, наверное, тот по-
чувствовал бы то же самое, если бы попал
на мощный вибростенд, на котором уплот-
няется в формах полужидкое бетонное
месиво.
— Истряси, истряси! Упроси, упроси!
Мамин сибиряк резко убрал ладони
с плеч — и студент повалился на пол, и его
вырвало зеленой слизью. И меня тоже чуть
не вырвало, я выскочил из комнаты,
вбежал на кухню, выпил прямо из носика
крепкого холодного чаю — и стало легче.
Уходил студент через полчаса все еще
дрожащий, но запинающимся языком
пытался благодарить. Вообще все стражду-
щие уходили с надеждой — это точно.
Идола прижимали к груди, как новорож-
денного ребенка. Как мало людям надо!
И как легко сходит образованность конца
двадцатого века. Позолота сотрется —
свиная кожа останется...
Как раз после ухода студента мамин
сибиряк заговорил со мной:
— Сколько идуть, а? И кличут во все
концы, хошь разорвацца. Ты, Мишь, при-
глядам, штоб заместо меня поспевать.
Матушка тут же мыла пол после студен-
та. Я думал, она возмутится, услышав, что
предлагает мне ее сибиряк, но она продол-
жала возить шваброй совершенно равно-
душно.
Я не колебался. Для меня изображать
шамана или волхва было так же невозмож-
но, как, скажем, пойти работать на бойню.
Да, трачу я деньги, которые добывает
таким способом мамин сибиряк, но если
выбирать — пусть не будет этих денег,
а я — не могу. Точно так же, как ем я мясо
и очень люблю хорошее жаркое, но если
б нужно было резать скот самому, я бы
лучше стал вегетарианцем. Я не колебался,
только думал, как отказать мамину сиби-
ряку, чтобы не обидеть.
— Я не смогу. Ты, наверное, веришь по-
настоящему в Мокошь и во всех остальных,
а если только притворяться, ничего не
получится.
— Чаво верить? Всяк знат, што солнце
есть, што луна. Чаво тут верить?
— Солнце состоит из водорода и дейте-
рия на девяносто процентов. И не нужно
волховать, чтобы оно светило.
Мамин сибиряк уже снял рогатую шапку,
но не убрал, а держал на коленях и погла-
живал.
— А кто солнце исделал? Скоро судишь
ты, Мишь А я што? Я штоб в семье. Как мне
от дедов.
Я смотрел на рогатую шапку. Чтобы
я надел такую? Чтобы выкрикивал заклина-
ния?
Рисунки А. Остроменцкого.
Наверное, и мамин сибиряк понял, что
это невозможно. И больше не заговаривал
о преемственности поколений.
До Кути скоро дошли известия, что
мамин сибиряк отчасти переквалифициро-
вался и теперь не только насаждает
язычество, но и врачует все болезни. Я не
спешил этим хвастаться, но какой-то про-
стак спросил ее во дворе:
— Где тут живет заклинатель? Который
лечит от иммунитета?
Она меня тотчас стала дразнить,
расспрашивала, успешно ли мамин сиби-
ряк вылечивает от иммунитета, или, может
быть, и от приоритета тоже, и меня самого
не вылечил ли уже до конца... Я не спорил,
я смеялся вместе с ней, но при этом
чувствовал себя жутко умудренным фило-
софом рядом с наивной школьной отлич-
ницей. Потому что Кутя не понимает
простой вещи: достаточно объявить «здесь
лечат от хронического иммунитета», или
«удаляют первородный грех под общим
наркозом», или «растягивают на колодке
сердечные сокращения» — и пойдут! Чем
нелепее — тем лучше...
Хотя мамин сибиряк каждый день
раздавал по нескольку своих идолов, он не
признавал для своих действий слова «про-
давать». Продавать богов он считал гре-
хом, а руга. Он любил повторять, не плата,
а что-то вроде жертвования — дома у нас
они не убывали, наоборот, распространя-
лись все больше, так что репродукции
Ренуара и Дега уже казались чем-то
чужеродным, матушкина комната превра-
тилась в настоящее капище. Войдешь —
и забываешь, что ты в Ленинграде, что хотя
и живем мы на бывшей Мещанской улице,
но до Медного всадника от нас пять минут
ХОДУ, до Невского — в другую сторону —
десять, а уж Сенная, которая хотя и не
блещет архитектурой, но зато воплощает
собой достоевский Петербург,— Сенная
и вовсе в двух шагах. А у нас тут Мокошь,
у нас Род с Рожаницами — какой Петр,
какой Достоевский?!
Я с детства тыщу раз бывал в Эрмита-
же — благо тоже по соседству, да и ма-
тушка всегда проведет мимо очереди.
Экскурсии я слушать не люблю — ни ее, ни
вообще, а бродить по залам — хоть целый
день. Смотреть картины я устаю довольно
быстро и начинаю просто прогуливаться,
разглядывая то паркет, то резные двери,
то люстры; подхожу к окнам, смотрю
сверху на Неву, на Биржу, на Дворцовую
площадь. Забредаю в русские залы, где
все так непохоже на итальянцев или
французов: не очень умелые, но важные
портреты, старые кафтаны, петровские
станки. Здесь царство Халкиопово, Хал-
киопа Великолепного!
Все-таки интересно, как на нас действует
окружение! Дома рядом с маминым сиби-
ряком я не то что бы совсем поверил
в праотеческих богов, но невольно их
зауважал. Когда все вокруг заняты чем-то
одним, только об этом говорят, превозно-
сят, обсуждают всерьез — это как мед-
ленный гипноз. Ну примерно та же
ситуация, когда вся толпа восхищается
«Аквариумом»: может быть, каждый в от-
дельности и не догадался бы, что это
лучшая рок-группа, но когда все вокруг
балдеют, значит, группа на самом деле
экстра-класс, и от этого общего балдежа
собственное маленькое удовольствие воз-
растает в тысячу раз. И пусть не говорят,
что, мол, подростки изобретают себе
кумиров — и у взрослых то же самое: если
ходят и ходят люди и все говорят, какая
древняя мудрость в Мокоши, как мы
должны вернуться к отеческим богам —
попробуйте сказать наоборот! А в другом
месте, где принято восхищаться чем-
нибудь другим — например, многие эрми-
гажники кинулись на раннее средневе-
ковье, а Возрождение среди них считается
вульгарным — смешно веНоминать, что в
двух километрах отсюда поклоняются этой
дикой Мокоши! Когда в Эрмитаже вокруг
такое искусство, что лучшие мастера
должны годами работать над одним мо-
заичным столиком — тогда отсюда, из
Ламотова павильона, например, идолы
мамина сибиряка вспоминались как убо-
жество и нелепость. Удивительно, как это
матушку на них потянуло, профессора
Татарникова — или когда годами вокруг
искусство, искусство, искусство, от этого
тоже стервенеешь и тянет на самый грубый
примитив?
И вдруг я подумал: ведь Серединские
боги — они же прямо по специальности
Халкиопова! Раз он специалист по русским
древностям, а они — такая тысячелетняя
славянская старина. Когда-то матушка го-
ворила об этом, но потом почему-то
забыла. Почему же Халкиопов до сих пор
не был у мамина сибиряка? Неужели до
него не донеслись слухи? Или донеслись
и он не поверил? Вот взять зайти и спро-
сить! Пригласить Халкиопова к нам. Про-
фессор Татарников не очень его любит —
ну и пусть. А чего такого? Ну и что, что сам
Халкиопов? Я же не за автографом к нему,
я не влюбленная девица, которой лишь бы
предлог, чтобы повеситься на шею к зна-
менитости! Зайти и спросить прямо: «Вы
собираетесь поместить Серединских богов
в свой отдел? Они же тысячелетние, сла-
вянские!» Да я буду последним ничто-
жеством, если Халкиопов или вообще кто-
нибудь на свете для меня такой недо-
ступный бог, что я не решусь к нему
обратиться, когда есть важное дело!
Где помещается отдел, я не знал.
Отдел — это не залы, отдел — это канце-
лярия со столами, шкафами и прочей
бюрократической мебелью. Правда, эрми-
тажники умеют устраиваться, у них и в кан-
целярских комнатах обязательно бюро из
карельской березы, на стене какая-нибудь
картина из второстепенных, стоят брон-
зовые часы со львом или Пегасом, канде-
лябры в виде крылатых женщин — в Эрми-
таже столько всякого искусства, что хва-
тает на всех. Двери в отделы всегда такие
незаметные, что можно сто раз пройти
мимо и не догадаешься. Пришлось спро-
сить у старушки, сидевшей в зале с пет-
ровскими станками.
Но та или не поняла, или сделала Вид:
— Вот, милый, вот самый русский.
— Нет, мне где сотрудники сидят. Где
Халкиопов.
— А не знаю. Я тут недавно, месяц
всего. Мне сказано — сидеть, я и сижу.
А какие сотрудники, какой Ха...ки... — не
знаю.
Спросить бы экскурсовода, но экскурсии
в этих местах попадаются редко — экскур-
сионные маршруты, как торговые пути
в океане: проторены узкой полосой, где
группы идут одна за другой в кильватер,
а чуть в сторону — и пустынная гладь, ни
одного экскурсовода на горизонте.
Я дошел до коридора с гобеленами,
спросил у тамошней старушки — но и она
не знала, где сидит Халкиопов, кто такой
Халкиопов. Такой человек, а они не знают!
Или не такой уж человек? Может, только
мне с чего-то показалось, что Халки-
опов — необычайная знаменитость? Ко-
нечно, старушки — всего лишь старушки,
но они-то и составляют в Эрмитаже тот
самый народ, глас которого — глас божий.
Научных сотрудников всяких рангов в
Эрмитаже, наверное, больше, чем стару-
шек, но все равно научники — не народ,
а старушки — народ. Пиотровского-то не-
бось знает любая стаоушка! И если
Халкиопов — вовсе не ' знаменитость,
очень ли нужно его разыскивать?
Таким иезуитским способом я уговари-
вал себя, что вовсе не обязательно мне
разговаривать с Халкиоповым. А на самом
деле стыдно мне становилось тревожить
Халкиопова своей нахальной просьбой.
Потому что чем дальше я бродил по
Эрмитажу, тем нелепей казался отсюда из
золоченых дворцовых зал мамин сибиряк
со своими грубо выструганными идолами.
Уже и не верилось почти, что он вообще
существует, что кто-то принимает его
всерьез, верует во всяких мокошей и перу-
нов с вблосами.
А через час, когда вернулся к себе на
Гражданскую-Мещанскую, в маленькую
квартирку, превратившуюся в языческое
капище, почти не верилось, что в пятнадца-
ти минутах ходу растянулся на полкило-
метра вдоль Невы роскошный, ломящийся
от сокровищ Эрмитаж...
Но не только в нашем капище гнезди-
лось язычество, оно уже смело вырыва-
лось на улицы.
Прямо на следующий день после моих
неудачных поисков Халкиопова мамин
сибиряк попросил меня проводить его
к одному больному, потому что до сих пор
совсем плохо знал город и не пытался
узнавать. Вообще-то он очень редко ходил
по больным, но тут матушка умолила: один
ее однокурсник совсем плох, и вот до него
донеслись слухи о нашествии на Ленинград
Мокоши со своей языческой командой —
так я передавал всю историю Куте. Для
того больного это было не нашествие,
а пришествие, потому что врачи настаивали
на ампутации ноги, а мамин сибиряк бодро
взялся привлечь к лечению Дажбога, ибо
тот, оказывается, специалист и по ногам,
и — даст бог — обойдется без ампутации.
«Ишо плясать пойдет и за бабами бегать!»
Пациент жил на Оремянной. Мы зашли
по дороге на Кузнечный, накупили там и
меда, и орехов, и клюквы, до которой ма-
мин сибиряк был большой охотник сам
и успел приохотить матушку — забыв эко-
номию, мы теперь почти все покупали
на рынке. На Владимирском мамин сиби-
ряк зашел в уборную, а я ждал снаружи,
обвешанный сумками. И тут ко мне приста-
ли цыганки.
Цыганок я побаиваюсь. Когда идут они
толпой в своих пестрых юбках до пят,
я стараюсь проходить мимо быстрым
шагом, глядя прямо перед собой, а если
окликают, не оборачиваюсь — и тогда
отстают. Но сейчас я ждал мамина сибиря-
ка и не мог сдвинуться с места — и цыганки
тотчас окружили.
— Дай пять копеек на пряник ребенку!
А вот скажу, молодой, какая тебе дорога
выйдет.
Я молчал, а они галдели с нескольких
сторон. Особенно напирала жирная стару-
ха в расстегнутой желтой шубе—каза-
лось, так и пышет от нее жаром:
— Какой мальчик, сейчас правду скажу,
каким инженером будешь, каких красавиц
полюбишь!.. Дай рупь ребенку на шоко-
ладку— всю правду скажу!
Какие они противные, липкие, а отогнать
нет сил. Кажется, я бы дал сейчас денег,
только бы отстали!
И вдруг возник мамин сибиряк. Не
подошел, а именно возник сразу, будто
пророс из-под земли прямо посреди
пестрой алчной толпы. Пророс, выбросил
вперед ладонь с растопыренными пальца-
ми прямо в лицо жирной старухе, посмот-
рел страшно своими глубоко сидящими
глазами и проговорил быстро непонятные
слова, я со страха не разобрал почти
ничего, только окончание:
— ...все свои пароти на себя обороти!
Или что-то вроде.
Как они испугались!
Потом, когда уже спокойно вспоминал
происшествие,,я подумал, что цыганки не
просто дурачат людей, но сами верят во
всякие заговоры, сглазы — и вот встретили
силу, превосходящую их собственную.
Что-то заверещали, а потом та самая
жирная, оаспахнув еще шире шубу, стала
поспешно рыться в своих грязных кофтах
и юбках и доставать деньги, деньги, день-
ги — все мелкие, но зато целыми комьями
— На, бери! Бери! Отпусти слово!
Мамин сибиряк свистнул по-разбой-
ничьи, топнул, гикнул — и они все побежа-
ли, жирная споткнулась, упала, выронила
свои грязные скомканные рубли в растоп-
танный городской снег, вскочила и, не
пытаясь подобрать деньги, побежала даль-
ше
Там рядом стояла ранняя очередь
в пивбар — и вся хохотала. Кто-то крикнул:
— Подбери, дед, твоя добыча!
Но мамин сибиряк презрительно махнул
рукой, мы медленно пошли мимо пивбара,
слыша за спиной почтительное:
— Во дал дед. Молоток!
Мамин сибиряк презрительно высмор-
кался с помощью тех же двух пальцев,
в которые только что свистел, и пригово-
рил:
— Карамазов племя.
— Какое?
— Карамазов. Ну как сказать? Черня-
вое — во!
Тут бы матушка в восторге воскликнула:
«Какая прелесть! Так вот что значит
Карамазов! И Карамзин тоже! Чернявов
или Смугляков. Интересно, а то, что
Смугляков созвучен Смердякову,— это
случайность или нет?»
Я спросил:
— А они правда могут сглазить?
— Которово душа слаба, тово могут,
а ежли душа крепка — нищак.
Я шел и думал, что не умею ни свистеть,
ни сморкаться в два пальца, что, может,
оно очень культурно, и что высморкайся
я таким способом при Куте, она бы меня
тотчас запрезирала, но зато никогда я не
сумею выкрикнуть заклинание в лицо
цыганке, и мне остается проходить поско-
рей мимо, не связываясь с этими кара-
мазыми женщинами.
Это был последний случай, когда я слу-
жил проводником мамину сибиряку. В сле-
дующий раз он «поехал с требой», как
называл данную сторону практического
волхования Петров-не-Водкин, на старой
«Победе», которую подал к подъезду
Липатый. Откуда он взялся — никто снача-
ла и не заметил. Мало ли народу ходило.
А этот Липатый не то задержался сразу, не
то пришел снова. Я его так прозвал, потому
что всюду лип, а вообще-то он — Ипполит.
Длинный такой, тощий, сутулый — и какой-
то с виду унылый, хотя и довольно
молодой. Не совсем, а так — среднемоло-
дой. Смотришь, он уже и таракана прида-
вил, приговаривая в точности, как мамин
сибиряк: «Как врага народа!» Он уже что-
то привозит матушке: «Ольга Васильевна,
тебе не надо гречи? У моей мамы на
работе в заказах». «Тебе» — усвоил про-
стой языческий стиль. Он уже ко мне
набивается не то в друзья, не то в наставни-
ки: «Миша, как у тебя с точными науками?
Если что, спрашивай, я в любой институт
готовлю с гарантией». Ага, так, значит, он
натаскун! А у нас чего ему нужно? Матушка
гречу брала, а я его натаску игнориро-
вал — очень нужно! Но больше всего он
стелился перед маминым сибиряком:
«Приказывай, Степан Петрович, звони, как
в гараж!» И мамин сибиряк звонил, не
стеснялся, подкатывала «Победа», мамин
сибиряк усаживался,— причем старая
колымага слегка оседала на правую сторо-
ну под его тяжестью,— и укатывал в из-
вестном только ему и Липатому направле-
нии Иногда матушка пыталась ревниво
расспрашивать: «И куда ты сегодня ездил
со Степаном Петровичем, Ипполит?» Но
Липатый не выдавал, отвечал с непроби-
ваемым простодушием: «Ах, Ольга Ва-
сильевна, столько ездили, столько ездили!
Так везде ждут Степана Петровича, так
каждое слово слушают! И в Купчино
и в Удельной — прямо какая-то кругосвет-
ка. Мы же все ждали, чувствовали, что
наступит наше, отеческое, славянское Воз-
рождение! Почему только в Италии ан-
тичный Ренессанс? Наше древнее
язычество было глубже, духовней! Мо-
кошь — это же такая бесконечность, такая
неисчерпаемая глубина! И люди везде
требуют Степана Петровича, жаждут
услышать!»
Но не только в личные шоферы набивал-
ся Липатый. Он и по прямой языческой
части уже помогал, уже «после самого»
давал страждущим какие-то наставления
о порядке пользования Хорсом и Дажбо-
гом, уже во время случившегося снова
сеанса силового волхования вскрикивал
вслед за маминым сибиряком: «Истряси!
Истряси!» Словом, завелся наконец и уче-
ник чародея. Я уклонился от этой роли —
и свято место пусто не осталось. Но, между
прочим, замечались и кое-какие нюансы
Липатый произносил не «Дажбог», как
мамин сибиряк, а отчетливо с ле-
нинградским интеллигентным выговором
«Даждьбог» — волхв во втором поколе-
нии, уже тронутый цивилизацией.
А тайна появления у нас Липатого
раскрылась вскоре. Мы с Кутей возвраща-
лись как всегда вместе после уроков, и она
заметила поданный для мамина сибиряка
экипаж у подъезда.
— Ой, «Победа» в точности как у моего
Ипочки!
— Какого «твоего Ипочки»?!
— Я у него занимаюсь по физике
и математике. Ты ж знаешь, от мамочки
никак не отвязаться.
— Натаскун! — безжалостно опреде-
лил я
— Он ничего — хороший. Знает так
много. Даже интересно, а не только
дрессировка к экзаменам.
— Натаскун. А зовут его, стало быть,
Ипполитом, да?
— Ну да, Ипочка.
— Он и есть. Он теперь язычник номер
два в Ленинграде, твой Ипочка. Скоро
наденет рогатую шапку и будет волховать
не хуже мамина сибиряка! А откуда ты
знаешь про «Победу»? Каталась?
— Ты прямо так допрашиваешь! Я ему
рассказала про твоего волхва, он и пристал
сразу: «Покажи-покажи!» Он меня подвез,
я и показала ему вашу квартиру А чего?
Ведь все к вам ходят толпами
— Можешь сказать мамочке, чтобы
искала другого натаскуна. Твой Ипочка
скоро совсем переключится в ассистенты
к мамину сибиряку. Он так изящно выра
жается, не хуже Вероники: «Наш язычес-
кий Ренессанс!»
29
— Ты так говоришь, будто я в чем-то
виновата!
— Ни в чем ты не виновата, все
нормально!
Такой интересный Ипочка будет теперь
крутиться в нашем дворе со своей тачкой!
Увидит Кутю, зазовет в свою «Победу»
покататься и поговорить про физику. Про
законы трения и еще про что-нибудь.
Проклятый натаскун!
— Все нормально, ни в чем ты не
виновата. Очень здорово, что у вас разго-
воры на такие широкие темы, а не только
про трение.
— Никаких особенных разговоров. Про-
сто я ему наузу твою показала — ну
и пошло.
— Вот и хорошо, что просто показала.
«Показала». Интересно, как показала?
Когда науза у Кути между грудей греется?!
У Кутиного подъезда сидела Тигришка,
и я чуть не пнул ее ногой, потому что все
женщины вроде кошек: только ждут,
чтобы кто-нибудь погладил! Тем более,
Кутя похожа на Тигришку, такая же
рыжая... Но мне стало стыдно, что я спосо-
бен на такое, оказывается — хотя бы
в мыслях способен. Да и не всех же ждет
Тигришка — только Кутю, ну и меня. Я на-
клонился и погладил Тигришку, мысленно
прося у нее прощения.
— Матушка очень довольна, что Ли-
патый ей гречку достает. Значит, и тебе от
нее спасибо, раз с тебя началось.
— Липатый?
____ Так я его прозвал, еще когда не знал,
что он — твой Ипочка. Потому что липнет.
— Вовсе он не мой!
Кутя не заступилась за Липатого, не
сказала, что вовсе тот не липнет — и я от-
части утешился. Все-таки тревожно, что он
будет здесь крутиться на глазах у Кути, тем
более — с тачкой.
Когда я подходил к себе, они как раз
усаживались — мамин сибиряк с Липатым.
Липатый помахал мне рукой, а мамин
сибиряк просипел:
— Ить снежок, Мишь, выпавши нежный.
В Середе у нас знашь как говорят?
«Пуховичок пал».
Не полюбил же я мамина сибиряка — ну
притерпелся, привык, но не полюбил же!
А вот обидно сделалось, что он отныне
обходится без меня.
Впрочем, еще один раз не обошелся.
В школе у нас уже несколько ребят
хвастались своими наузами — в каком-то
смысле эти амулетики выглядели престиж-
нее, чем даже адидасовские кроссовки:
купит всякий дурак, если готов выложить
купон за пару туфель, а наузу достать пока
что трудно. Но выходило, что и не слишком
трудно: мамин сибиряк им наузы не
продавал, я знал точно — неужели их
папаши побывали у нас и никто мне не
сообщил?! У Захаревича появилась на-
уза — а уж его-то папашу я знаю, видел
два раза
Два дня я думал, как мне выйти на след,
а на третий застал торг в уборной: Витька
Полухин разложил товар, как коробейник
на ярмарке. Я раз видел, как около
обычного универсама в Купчино играли
в ярмарку — с коробейниками, со скомо-
рохами — и мне не понравилось: выгляде-
ло очень фальшиво. А Витькина торговля
мне не понравилась еще больше: значит,
он организовал собственное производство,
так? Как его назвать? Фальшивоязычни-
ком? Фальшивобожником?
Это было подло, потому что Витька
обманывал покупателей. Я не был твердо
уверен, что изделия мамина сибиряка
наделены особенными свойствами, но все-
таки в нем есть какая-то сила, в это
я временами верил. Но уж в Витьке точно
никакой силы нет, одна пронырливость. Да
и что получится, если каждый дурак начнет
стругать Чуров и Волосов?!
Я подошел к Витьке:
— Отшагни на пару слов, разобраться
надо.
Мы отошли, прочие присутствовавшие
тоже попятились: это священный ритуал
мужской уборной — каждый имеет право
«разобраться». Правда, Кутя говорила,
теперь уже в ходу и женские «разборы».
1 — Ты этот бизнес брось: на фальшивых
наузах.
— А кто сказал, что фальшивые? Ко-
торые настоящие? Твои, что ль? На них
что — водяные знаки? Печать госбанка?
Фирменный лейбл?
— Потому что те делает настоящий
язычник, волхв
— Иди-ка ты! «Волхвы не боятся могу-
чих владык». Почитай Веронике, получишь
пять баллов. Видали таких волхвов. Ты в это
дело не лезь, а то уроню нечаянно —
понял? Тут тебе не фантики, тут полный
серьез. На первый раз прощаю как осново-
положнику, но больше не лезь, понял? Тут
деловые маракуют! .
За фантики, биты и тому подобное
детство и то бывали стычки, а во всякие
джинсовые дела вообще лучше не совать-
ся, если бережешь здоровье. В соседней
школе одного десятиклассника инвалидом
сделали за джинсы.
С Витькой дальше говорить было беспо-
лезно. А мамину сибиряку я рассказал.
Думал, рассказывать или нет: ведь правда,
если деловые маракуют, соваться страшно.
И все-таки рассказал. Может быть, затем,
чтобы доказать мамину сибиряку, как
я ему нужен?
Он сначала рассмеялся своим несма-
занным смехом:
— Вродь как фальшивы бумажки, да?
Ишь ты! Нищак, купцов на нас хватит.
Но подумал-подумал и приказал на
другой день:
— Покажь мне свово Витька.
Страшиться поздно, задний ход уже не
дашь! Одна надежда, что мамин сибиряк
сильней всех тех деловых, которые мара-
куют, что он их обратит в бегство, как тогда
карамазых цыганок на Владимирском.
Живет Витька рядом, в том самом
угловом доме Раскольникова. Но мамин
сибиряк, наверняка, ни о каком Раскольни-
кове не читал и не слышал, и о самом
Достоевском тоже, я не стал ему объяс-
нять, в какой дом мы идем. Лестница
в Витькином подъезде узкая, а квартиры
находятся не на площадках, а как бы
в аппендиксах, отходящих от каждой
площадки — и чудятся в аппендиксах за-
сады
До этого я был у Витьки один раз
случайно, и если бы не мамин сибиряк,
никогда бы не зашел во второй — мало ли
с кем учишься в классе и треплешься на
переменах как с приятелем, а встретишься
случайно через год после школы — и не
о чем будет двух слов сказать. Витьке
я тоже не нужен, потому он удивился,
увидев меня в дверях. А как разглядел
рядом мамина сибиряка, похоже, и оро-
бел. Но тут же нарочно расшумелся:
— Заходь! Давай! А это твой папахен?
Здорово! Заходьте оба! Заваливайте!
Я бы не отважился так незнакомому
взрослому: «Заваливайте»
Из прихожей вел короткий коридор.
Проходя мимо ближней ко входу двери.
Витька пнул по ней но^ой. Из-за двери
тотчас раздался очень высокий истеричный
лай — так лают маленькие собачки.
— Во, житья нет от суки: лает и лает.
Квартира на одних, да? На нас—как раз
А нам старуху сюда подселили. Ничего,
сбежит. Сама сбежит. Или лопнет от
злости. Жизни ей здесь не будет. Если от
лая ейного никакого житья людям, так и по
суду выселим.
Я представил себе осажденную в
собственной комнате старуху, страх и нена-
висть в ее душе, постоянное ожидание
пинка в дверь — а может, и не только
в дверь — и ее маленькую собачку, захо-
дящуюся в истерике. Что за страшное и
даже какое-то фантастическое существо-
вание!.. И это все в доме Раскольникова.
Обладай я такими силами, как мамин
сибиряк — или, по крайней мере, его
умением заставить всех вокруг поверить
в свои сверхъестественные силы — навел
бы сейчас порчу на Витьку, ей-богу! За то
что безнаказанно издевается. Жил бы
здесь в комнате вместо старухи какой-
нибудь алкоголик — вот пусть бы и попро-
бовал, потягался.
Но мамин сибиряк шагал за Витькой
будто все так и надо. У них в Середе
слабонервных нет.
Витькина комната не заставлена по
стенам книгами, это я знал, но все равно
в бескнижной комнате мне всегда неприят-
но. Неестественный вид! За столом посре-
ди комнаты сидел Витькин папаша, тот
самый, что работает со сменщиком. И так
толстый, он что-то жевал. Интересно было
бы взглянуть и на мамашу — ту самую, что
установила систему сменщиков, но мама-
ша так и не появилась.
Папаша смотрел неприязненно, но
первым ничего не спросил — да мамин
сибиряк и не дал ему времени начать
расспросы: сразу без всякой дипломатии,
даже «здрасьте» не сказав, подступил
к Витьке:
— Ты, паря, знацца, людей обманывашь,
деревяшки даешь, будто наши боги сере-
денские!
Ответил за Витьку его папаша:
— Какие ваши боги? Не смешите людей!
Такие же деревяшки!
— Ты,' дядя, знацца, гоже и их куш
имешь?
Витькин папаша отложил кусок хлеба,
который намазывал мягким плавленым
сыром:
— Ты мне не тычь, мы с тобой детей не
крестили!
— Детей я с никаком не крестил,
с попами знацца — с чертом связацца.
А ежли ты крестил, богов наших отецких не
трожь! У нас в Середе знашь как говорят?
«Крещеный — что порченый».
Витькин папаша сразу сбавил тон — не
мог не сбавить.
Я не знаю, как это назвать, но когда
встречаются незнакомые, сразу выясняет-
ся, кто кого главнее. Не по служебному
чину, а по какому-то внутреннему
свойству. Воля в нем сильней, что ли? А что
такое воля? И сколько я ни наблюдал, как
мамин сибиряк говорит с незнакомыми,
всегда он оказывался сильнее — как в слу-
чае с цыганкой, только не так явно.
Интересно, это совсем врожденное или
можно развить упражнениями, как я
пытаюсь развивать наблюдательность?
Когда стану следователем, то иметь бы
такое свойство — и не надо ничего боль-
ше! Самбо или каратэ полезно владеть, но
бывают люди — у' Джека Лондона такой
описан — которые просто смотрят в глаза.
30
и никто не может их ударить, а если нож
у нападающего — бросает нож. Я до сих
пор никогда не видел мамина сибиряка
в драке, но был уверен: стоит ему глянуть
из своих пещер-глазниц — и опустятся
кулаки, упадут ножи. Правда.
Так куда же Витькиному папаше!
— Я ничего не говорю, я ж и сам
некрещеный, это только так — поговорка,
что значит, мол, детей с тобой не крестил.
Но я о чем: если из дерева вырезать
фигурку, то какой же из нее бог? Она,
можно сказать, не бог, а статуэтка.
— Ставь ту етку или эту етку — каку
хоть. Стругай хошь всю жись, из деревяш-
ки только друга деревяшка. А я в ее силу
вдуну! От самой Мокши дыханье, или от
Дажбога, от Волоса гоже.
— А ты ихние дыханья за щекой
держишь? Или в животе?
— Ить ты вонь в животе держишь, и ту
те не удержать. А Мокши дыханье при-
звать уметь Дыхнет, когда захотит —
и войдет от ее дыханье. Тогда станет не
деревяшка, а бог Серединский'
Мамин сибиряк провозгласил по-
следнюю фразу так важно, что Витькин
папаша больше не стал лезть в бого-
словский диспут, заговорил практически:
— Выходит, не в том секрет, что ты бога
этого из полена вырезал, а в том, чтобы ты
в него эту самую силу вдунул, так? Вроде
как благодать. Но вдуть-то быстрее, чем
вырезать! Давай поделимся: мы вырезать
станем этих богов старых, а ты только
вдунул — и пятерик. И сделаем больше,
и будут самые настоящие без обману.
— Легко у тя: вдунул. Я когда прорезаю
глаза и уста ихние, она, сила, и открывацца
От рук входит. Потому в устах всяк грех
и нечисть, а руки — безгрешные. Етово
кроме как сам никто не сделат. Ты стругай
безглазно и безустно, а я попрорезываю,
за то мне кака руга. Хотя по червонной.
Вроде бы и смешно. Но я запомнил
доводы Петрова-не-Водкина: а чем лучше
иконы? Такие же деревяшки! На в дере-
вяшках святость, а в чувстве. И пусть бы
мамин сибиряк хоть вдувал, хоть иначе как
впускал святость в своих идолов — я был
разочарован другим: встретились, догово-
рились, образовали трест — «Г лавязыч-
снаб» — так? Чего-то я ожидал другого:
проклянет мамин сибиряк громовым голо-
сом всякое фальшивобожие, провозгласит,
что отсохнет всякая рука, которая осмелит-
ся... — а тут трест.
И расстались компаньоны почти дру-
желюбно. Витька с папашей вдвоём прово-
дили нас до прихожей; Витька по дороге
снова лягнул дверь соседки и снова из-за
двери раздался визгливый лай.
Папаша ничего не сказал по этому
поводу — по-видимому, вполне одобрял.
По одному пункту я чувствовал облегче-
ние: таинственные «деловые», мести ко-
торых я должен был опасаться, оказались
мифом. Всего лишь семейная артель.
Думал, что будет страшно — оказалось
противно.
В ту ночь я впервые подумал, что мамин
сибиряк — просто жулик. Как сказала Кутя
с самого начала — шарлатан. Нашел дура-
ков, которые только и ждали, во что бы
уверовать, которым скучно и тошно без
мокошей, волосов, дедушек чуров А я то-
же хорош, тоже развесил уши — а ведь
собираюсь в следователи.
Интересно узнать, откуда он взялся
здесь в Ленинграде, на Гражданской ули-
це, бывшей когда-то Мещанской. Матушка
его привела — это понятно. Но где она его
подцепила? В Сибирь в командировку она
не ездила, значит, сам заявился сюда?
А дальше? Пришел прямо с вокзала на
экскурсию в Эрмитаж? Я почему-то никог-
да об этом не расспрашивал, а ни матушка,
ни ее сибиряк сами не рассказывали —
взялся откуда-то, ну и взялся... Может
быть, потому я и не расспрашивал, что
инстинктивно боялся, как бы мой
родственный интерес не переродился в
следовательский? Неприятно же быть
сыщиком в собственном доме
На слёдующий день на литературе
я развлекался тем, что рисовал, как мамин
сибиряк вдувает дыхание, смешанное с из-
рядным кашлем, в симпатичный чурбачок,
превращающийся постепенно с «важным»
новым кашлем кудесника в дедушку Чура.
Нарисовал и перекинул Куте на переднюю
парту. Кутя взглянула, прыснула — и тут
же сделала вид, что ужасно внимательно
слушает: выпрямилась, уставилась на до-
ску и ручки сложила. Вероника взглянула,
но промолчала.
Зато после звонка сказала:
— Ярыгин, подойди ко мне, пожалуйста,
у меня к тебе разговор.
Я был уверен, что она начнет занудство-
вать про внимание на уроках, про то, что
я не только ничего не делаю сам, но
и отвлекаю других, что вот и Троицкая
в последнее время под моим дурным
влиянием стала рассеянной... Но Вероника
сказала:
— Ярыгин, я слышала, у тебя есть отчим,
который излечивает неизлечимые болез-
ни?
Урок был последним, все уже убежа-
ли — Кутя, выходя, сделала гримасу, озна-
чающую, что, мол, держись, мы все
с тобой! — и никто не мог слышать, о чем
спрашивает Вероника своего далеко не
лучшего ученика.
Написал бы я в сочинении, что вместо
врачей нужно обращаться к таким знаха-
рям, как мамин сибиряк, Вероника поста-
вила бы два балла и долго возмущалась
перед всем классом, как тогда за Пушкина
с Дантесом — потому что заранее из-
вестно, что полагается сочинять в сочине-
ниях. А саму приперло, так «я слышала, что
у тебя отчим, который излечивает...»
— Отчим есть, Вероника Назаровна,
а излечивает он или нет — не знаю. Дело
его такое — ненаучное. Ходят вообще-то
к нему — это правда.
— А как к нему попасть? Он всех
принимает?
Оказывается, я и не знал, всех ли
принимает мамин сибиряк. Приходят мно-
гие, а откуда берутся — бог знает. Или,
выражая*.» точнее, Мокошь знает. Сами
приходят ли все кто хочет или только по
рекомендациям?
— А кому нужно? Вашим знакомым?
Я не решался предположить вслух, что
нужно самой Веронике. Пусть признается
сама, если хочет. И точно:
— Мне самой нужно. То есть не самой,
а ребенку. Когда болен ребенок, пойдешь
к кому угодно.
— Я не знаю, всех ли он принимает, но
если я попрошу, не откажет точно.
Не хотел, чтобы мои слова прозвучали
покровительственно, но сказал — и тотчас
почувствовал, что прозвучали именно так.
Напомнить бы ей про те два балла! Но
я не стал. Сама должна помнить, если
имеет хоть грамм совести. Впрочем, я не
уверен, что у учителей имеется совесть —
то есть не вообще, вообще-то они люди
как люди, а для внутриклассного употреб-
ления: когда входят в класс, раскрывают
журнал, садятся лицом ко всем остальным
грешным людям, словно бы образуя еди-
ноличный президиум, они делаются каки-
ми-то не такими. Они уверены, что всегда
правы, что знают истину, непогрешимы как
папа римский — я не встречал еще ни одну
сомневающуюся учительницу (мужчин-
учителей у нас не было и нет, кроме
физкультурника, трудиша и военрука),
а если из-за последнего обстоятельства
сравнение с римским папой хромает, что
ж: будь в природе римская мама, она бы
воображала себя еще более непогреши-
мой, чем папа. А когда человек ни в чем не
сомневается, совесть ему не нужна —
просто не вписывается в конструкцию, все
равно как в конструкции трамвая был бы
лишний руль: зачем руль, когда всегда
катишься по рельсам?..
— Чего ей нужно? — спросила Кутя,
едва я вышел из класса.
Ждала у двери!
— Хочет испообовать лечение мамина
сибиряка.
— Дошла! И правда: плоды просвеще-
ния.
— Просвящения,— удачно нашелся
я. — Теперь все ищут чего-нибудь священ-
ного. Если бы я поступал на философский,
непременно бы потом написал диссерта-
цию: «О диалектическом переходе про-
свЕщения в просвЯщение».
Если бы не Кутя рядом, я бы не сумел так
скаламбурить. На самом деле, любимая
женщина вдохновляет. И я был немедлен-
но вознагражден за свое вдохновение:
— Ой, Мишка, тебе и правда надо идти
на философский! Что за охота всю жизнь
ловить жуликов? А то идут такие, как наш
Антоша, которые считаются гениями за то,
что набиты чужими мыслями, как сундук
чужими вещами!
Не знаю, сколько своих мыслей у Заха-
ровича, а сколько чужих, но приятно было
услышать, что Кутя без почтения говорит
о нашем гении.
Я взял Кутю за руку.
— Надо вывести формулу, а лотом уж
точно рассчитать по ней, кто вреднее для
человечества: плохие философы или хоро-
шие жулики? Если вреднее плохие фило-
софы, надо идти улучшать философию.
Если хорошие жулики — надо их ловить.
Еще полтора года до аттестата, может,
успею.
— Не надо никакой формулы; ясно, что
плохие философы,— важно сказала Ку-
тя. — Потому что плохие философы как
раз и разводят хороших жуликов
— Или разводят, или сами превра-
щаются.
Я не выпускал ее руку, так мы и шли
домой — и гораздо убедительнее звучали
наши рассуждения, когда рука в руке.
Для Вероники я все устроил. При этом
выяснилось, что Липатый успел навести
свой порядок в нашем капище, записывал
страждущих предварительно и назначал
ремя. Но я не хотел унижаться, просить
Липатого, а то бы скоро он и ко мне гостей
взялся записывать и назначать — и догово-
рился прямо с маминым сибиряком.
Липатый попробовал было попенять ласко-
во, что он придумал, как удобнее для всех,
но я ему ответил довольно грубо — сам не
ожидал, вообще-то я грублю редко:
— Лучше чтоб неудобно, да самому,
чем удобно по приказу.
— Я разве приказываю, я только ста-
раюсь.
— Видал я таких старателей!
Не уточнил все-таки, что в гробу видал.
Да он понял.
Окончание следует.
31
ГЕРОИ И ЕРЕТИКИ НАУКИ
С. БЛИНКОВ,
профессор
ЦИОЛКОВСКИМ
В дни «космических» юбилеев
мы неизменно вспоминаем о
Константине Эдуардовиче
Циолковском. Это естественно —
ему как никому другому
человечество обязано новой,
космической, эрой.
Сейчас, когда пошел отсчет
четвертому десятку космической
эры, разговор о жизненном пути
Циолковского по-прежнему
актуален. Актуален еще и потому,
что в отношении к гениальному
ученому нет-нет да и
проскальзывают нотки
«юбилейного почитания», а во
многом противоречивые
мировоззренческие работы
Циолковского преподносятся
некоторыми исследователями чуть
ли не как истина в последней
инстанции, допускающая только
почтительное благоговение, но
никак не объективный анализ. В
последние годы эта тенденция,
к сожалению, бросается в глаза
(а противостоять ей многие
не решаются: как же — ведь
Циолковский!).
Вот свежий пример: в Туле
вышел сборник
научно-фантастических
и философских произведений
Циолковского. Публикация
философского наследия
мыслителей прошлого, в том числе
и не стоявших на позициях
материализма, бесспорно, нужна,
но обязательна при этом
мировоззренческая оценка
этого наследия. Однако
составитель сборника и автор
комментария к нему
Ю. М. Медведев представляет
массовому читателю и
философские сочинения
основоположника космонавтики
как «научную фантастику»
(к произведениям этого жанра
отнесена, например, философская
работа «Монизм Вселенной»).
А между тем философское
наследие Циолковского
действительно нуждается во
всестороннем научном
исследовании, а не в «пиетическом
толковании» Гений Циолковского
не померкнет, если в результате
серьезного изучения его
мировоззрение будет названо
противоречивым, и даже,
возможно, идеалистическим.
Нельзя замалчивать особенности
мировоззрения гения, как
«неудобные» дополнения
ее
к парадному юбилейному портрету
или «выправлять» их, чтобы дни
«не противоречили» ему.
К анализу философского
наследия Циолковского мы
предполагаем вернуться после
завершения публикации, которая
предлагается вниманию читателя.
В центре ее — личность сложная,
неординарная, талантливая, хотя
и не назовешь гармонической.
Необузданная фантазия
уживалась в нем с трезвой
рассудочностью, щедрость
со скупостью, смелость -
со страхами, доброта —
с деспотизмом, вежливость —
с раздражительностью,
скромность — с саморекламой.
Однако основное противоречие этой
удивительной натуры заключается,
конечно, в творчестве: наряду
с сочинениями, по праву ставшими
классическими в науке (которую
он прославил!) есть и те,
что к науке отношения не имеют.
Отдельные детали жизненного пути
Циолковского, некоторые черты его
характера, мало известные
широкому читателю, нашли
проявление и в творчестве великого
ученого-самоучки.
Ми начинаем публикацию
фрагментов работы профессора
С М . Блинкова. Уже
без малого полвека, с позиций
врача и заинтересованного
биографа, он собирает сведена
о великом ученом. Бе,
преувеличения их можно назвать
уникальньми. Директор Института
медико-биологических проблем
академик О. Г. Газенко так оцени.
эту работу: «Очерк проф.П
С М. Блшкова особенно интересен )
тем, что в нем делается попытка j
суммировать и оценить важнейшиеj
психо-физиологически
характеристики этого выдающе. о
человека. Работа интересна т л.
что в ней основное внимание
удел но описанию фактов,, J
касающихся личностных,
в частности характерологических,
особенностей К. Э. Циолковского».
Сам автор разделил свою работу .
на две части: сначала биография, >
а затем на ее основе,— '
характерологический портра ,
К. Э. Циолковс-ого. Э ।
последовательность мы сохраняе
32
личность
Черты
биографии
1. Родился Константин Эдуардович 4 (по
старому стилю) сентября 1857 года в селе
Ижевском Спасского уезда Рязанской гу-
бернии. Отец его, Эдуард Игнатьевич,
поляк из Волыни, служил лесничим, всерь-
ез интересовался естественными науками,
был склонен к изобретательству и, хотя
всегда считал себя атеистом, к концу
жизни сделался весьма набожным. Воз-
можно, этому способствовали личная не-
устроенность, частая вынужденная пере-
мена места работы. Обладая тяжелым
характером, отец при всем при том, как
отмечал впоследствии Константин Эдуар-
дович, «был очень честный, за что и терпел
всю жизнь бедность». В роду у матери
также были искусные мастера, но о ней
самой Циолковский вспоминает очень ску-
по и указывает только, что она была
«с искрой».
Разумеется, родителям приходилось
хлопотно со столь громадной семьей: ведь
Константин Эдуардович имел десять стар-
ших братьев и еще двух младших сестер...
Видимо,' отношения между детьми
складывались непростые, поскольку в вос-
поминаниях Циолковский своих братьев не
касался совершенно и писал только о
сестрах. Известно, однако, что братья его
проявляли склонность к художественным
ремеслам, один из них стал, как и отец,
лесничим, другой — капитаном «с
дурными замашками». Младшая из сестер
росла остроумной, способной девушкой,
писала интересные письма, вела дневник.
Отличалась странностями.
Чтобы завершить краткую характеристи-
ку семьи Циолковского, отметим, что сам
он впоследствии имел трех дочерей и
четырех сыновей. Психопатия шизоидного
характера его жены неблагоприятно сказа-
лась на некоторых детях. Сам Константин
Эдуардович говаривал, что «жену выбрал
неудачно и -от этого дети вышли пе-
чальные». Два сына — Александр и Игна-
тий — отличались странным поведением,
страдали суицидальными идеями (навязчи-
вой тягой к самоубийству), которые, увы,
и реализовали. Тем не менее среди детей
были и способные к литературе, технике,
математике, музыке, рисованию. Очень
долгое время, до старости, Циолковский
относился к ним совершенно равнодушно.
2. Рос Константин Эдуардович, как он
пишет о себе, «очень смышленым и за-
бавным ребенком». Его в семье любили
и отчего-то дали прозвище — Птица. Воз-
можно потому, что, играя с детьми, он
любил залезать на крыши, заборы, де-
ревья и частенько прыгал с высоты, чтобы
испытать ощущение полета.
С детства Константин Эдуардович читал
запоем все, что только мог достать. Но уже
тогда простым чтением он не удовлетво-
рялся, жизнь любимых героев, их
приключения не давали покоя, хотелось
сочинять, придумывать дальше. Для само-
го себя — как-то даже и не интересно..
И вот характерная деталь: он платил
младшему брату за то, что тот терпеливо
выслушивал его рассказы. Есть над чем
поразмыслить...
В десятилетнем возрасте Циолковский
заболел скарлатиной с тяжелыми осложне-
ниями, вследствие чего наступила сильная
тугоухость, а также, по видимости, крат-
ковременная задержка в умственном раз-
витии Во всяком случае, Константин
Эдуардович обмолвился в одной из своих
заметок: «После скарлатины я оглох и оту-
пел... Проясняться мысль начала только
с 14—15 лет».
Жизнь резко изменилась. Глухота меша-
ла поступлению в школу. Циолковский
простодушно указал на это в автобиогра-
фии: «Понятно, что моя глухота, с детского
возраста лишив меня общения с людьми,
оставила меня с младенческим знанием
практической жизни, с которым я
пребываю до сих пор. Я поневоле чуждал-
ся ее и находил удовлетворение только
в книгах и размышлениях. Вся моя жизнь
состояла из работ, остальное было недо-
ступно».
3. Школьный период в биографии
Константина Эдуардовича должен быть
поставлен в кавычки, ибо в школе Циол-
ковский не учился и права учителя приоб-
рел впоследствии по экзамену, сданному
экстерном в 1879 году.
Понемногу все сильнее выявлялась
склонность к труду. Делал из бумаги,
картона, сургуча игрушечных коньков,
домики, санки, часы с гирями, очень
увлекался демонстрацией разных фокусов.
С 14—16 лет Константин Эдуардович начал
конструировать игрушки, которые возбуж-
дали удивление у окружающих: мастерил
бегающие игрушечные локомотивы, по-
строил модель экипажа с ветряной мель-
ницей — эта модель легко ходила по доске
против ветра, изготовил коляску, приво-
дившуюся в движение паровой машиной.
Все эти игрушки он изобретал самостоя-
тельно, еще практически не зная физи-
ки и не читая каких-либо технических книг.
Лишь в 14 лет он сам изучил школьную
арифметику, но уже в 17 лет без чьей бы то
ни было помощи прошел курс дифферен-
циального и интегрального исчисления
и свободно решал задачи по аналитичес-
кой механике.
И вот что важно: в ранней юности,
с 15 лет, им овладевает увлечение, ставшее
одним из главных на протяжении всей
долгой жизни. «Я... имел уже достаточно
данных, чтобы решить вопрос: каких раз-
меров должен быть воздушный шар, чтобы
подниматься на воздух с людьми, будучи
сделан из металлической оболочки опре-
деленной толщины. Мне было ясно, что
толщина оболочки может возрастать
беспредельно при увеличении аэростата.
С этих пор мысль о металлическом аэро-
стате засела у меня в мозгу».
33
Когда Константину Эдуардовичу минуло
шестнадцать, отец отправил его в Москву.
Однако сын не поступил в техническое
училище, как предполагал отец, а занимал-
ся только дома и в библиотеках. На
всевозможные опыты уходили последние
деньги.
Воспоминания Циолковского об этом
периоде жизни свидетельствуют о полной
неприспособленности ко всему тому, что
было за пределами его научных и техни-
ческих устремлений. Он не стригся («не-
когда было»), ходил в костюме до того
драном, что вызывал на улице насмешки
мальчишек; чулки, присланные теткой,
продал и на вырученные деньги накупил
реактивов, необходимых для химических
опытов — «отлично можно ходить без
чулок». На питание издерживал только
90 копеек в месяц (а из дому получал
вначале по 15, затем по 10 рублей), сидя
исключительно на воде и хлебе, который
покупал один раз в три дня на 9 копеек.
И при-этом, полный разнообразнейших
идей, чувствовал себя вполне счастливым;
как писал он впоследствии, ему и в голову
не приходило, что он голодал и истощал
себя.
Надо заметить, все основные техничес-
кие проекты зародились у Константина
Эдуардовича в этот, юношеский период.
Именно тогда, размышляя о возможных
способах преодоления силы тяжестй, он
набросал ряд проектов, которые привели
впоследствии к революционной идее ра-
кетного двигателя (в 1903 году).
4. К тому времени, когда Константин
Эдуардович вернулся из Москвы, мате-
риальное положение семьи резко ухудши-
лось. Нужно было думать о заработке.
Положение усугубили размолвка с отцом
и решение уйти из родительского дома.
Циолковскйй выдержал экзамен на го-
родского учителя и получил назначение
в Боровское уездное училище, где стал
преподавателем арифметики и геометрии.
Причину, повлекшую столь радикальный
поворот в его судьбе, Константин Эдуардо-
вич изложил в сочинении «Странные сов-
падения, или Даты моей жизни»: «В
1878 г. 21 года (1857 + 1+8 + 5 + 7=1878)
потерял стекло у отцовского микроскопа
и не мог его найти. Отец выговаривал
знакомому, которому давал микроскоп,
а виноват был я. Из пустяков вышла ссора.
В результате я держал экзамен на учителя
и поступил на место. Если бы не случайная
потеря окуляра, то жизнь была бы направ-
лена по совершенно другому руслу. О нем
умалчиваю».
В Боровске Константин Эдуардович снял
комнату в семье священника и через
восемь месяцев женился на его дочери,
Варваре Евграфовне. Она была почти без
всякого образования. Какого-либо увлече-
ния Константин Эдуардович при жени-
ховстве не испытал и романтических чувств
не проявлял.
Родные Варвары Евграфовны были про-
тив брака. Оно и понятно: семья была
глубоко религиозна, тогда как Циол-
ковский считал себя убежденным атеис-
том, к тому же его поведение в глазах
окружающих представлялось непонятным,
а занятия казались смешными и
странными; он не пил, не курил, не играл
в карты и вообще всячески чуждался круга
уездной «интеллигенции». «Безбожник,
неряха, ненормальный»,— злословили
родственники за спиной жениха. Но один
факт перевесил все остальные. За Варва-
рой Евграфовной не давали никакого
приданого, а Константин Эдуардович при-
даным вовсе не интересовался, и это
решило вопрос.
Еще до женитьбы Циолковский поставил
Варваре Евграфовне условия, исполнения
которых, невзирая ни на что, требовал
твердо в течение всей жизни: у жены не
должно быть гостей; к ним не заходят
родственники; в доме не должно быть ни
малейшей «суеты», способной помешать
занятиям.
Через год после свадьбы родилась
старшая дочь Любовь; дети пошли один за
другим...
В семье Константин Эдуардович чувство-
вал себя чужим, да и с женой была
слишком большая разница во взглядах
и в образовании. Она относилась с по-
стоянным недоверием к его занятиям
и «уверовала в его дело» лишь много лет
спустя. Работать, несмотря на глухоту,
Циолковский мог только при абсолютной
тишине. В семье постоянно возникали
неурядицы из-за шума, который произво-
дили дети. Со всеми вежливый и дели-
катный, Константин Эдуардович дома
часто несправедливо раздражался, кричал,
не терпел оправданий. К тому же в малень-
кой квартире было невероятно тесно...
Жалованья Циолковский получал 27 руб-
лей в месяц. По словам Варвары Евгра-
фовны, на эту сумму можно было бы
существовать сравнительно безбедно, но
и тут Константин Эдуардович настоял на
своем: большую часть денег тратил он на
свои опыты.
Вот как описывает свои впечатления
один из очевидцев, в 1897 году навестив-
ший Циолковского: «Маленькая квартира...
бедность, бедность из всех щелей помеще-
ния; посреди — разные модели, до-
казывающие, что изобретатель немножко
тронут: помилуйте, в такой обстановке
отец семейства занимается изобретени-
ями!»
В этот период жизни Константин Эдуадо-
вич был худ, имел нездоровый сероватый
цвет лица, сутулился. С людьми говорил
только о своих моделях. Терпеть не мог
пустой болтовни, ненавидел безделье. На
праздники, пасху, рождество уходил в лес
на целый день, лишь бы избежать необхо-
димости видеться с родными и визитера-
ми, докучавшими ему.
Учителем Константин Эдуардович был,
по его собственному выражению,
«страстным», тратил на преподавание мно-
го энергии, и потому за свои работы мог
приниматься только вечером. Одно время
он решил заниматься исследованиями с
рассвета до уроков в школе. Таким обра-
зом он проработал в течение двух лет
(1885—1887 гг.) и сильно переутомился.
Появилась тяжесть в голове. Кроме того,
обозначились признаки явного нервного
расстройства: неожиданно появлялись
страхи, он не мог осрдв^1ься один, нахо-
дился в депрессии. Это продолжалось без
малого целый год.
5. В 1883 году Циолковский написал свои
первые работы: «Теория газов», «Механи-
ка животного организма» и «Продолжи-
тельность лучеиспускания Солнца». Он
представил их в Петербургское физико-
химическое общество и вскоре получил
благоприятные отзывы от таких известных
ученых, как И. М. Сеченов и А. Г. Столетов.
Циолковского единогласно избирают чле-
ном физико-химического общества.
Это признание окрылило Константина
Эдуардовича, по его словам, он получил
«могучую нравственную опору». В 1887 го-
ду при содействии Столетова он прочитал
в Московском Политехническом музее
доклад «О металлическом управляемом
аэростате». В 1890 году были написаны еще
три работы о воздухоплавании. Наконец,
в 1891 году в «Трудах общества любителей
естествознания» вышла первая печатная
работа Циолковского экспериментального
характера «Давление жидкости на плос-
кость»; в том же году появилась и вто-
рая — «Как предохранить нежные вещи от
толчков».
Казалось, налаживалась связь с людьми.
В школе Константин Эдуардович работал
с истинным призванием педагога. Летние
каникулы проводил в качестве репетитора
детей соседних помещиков. Научные ра-
боты обратили на себя внимание крупней-
ших русских ученых. Однако поддержи-
вать регулярную связь с ученым миром
было трудно. К тому же за первым
признанием последовала жестокая крити-
ка. Бороться за свои идеи, убеждать
московских и петербургских профессоров,
сидя в Боровске, да еще когда постоянно
не хватало денег ни на опыты, ни на
литературу, было невозможно. Здоровье,
вследствие переутомления, сильно пошат-
нулось. А тут еще нежданно-негаданно
случилась беда: пожар в квартире, от
которого погибла библиотека. Уцелевшие
модели Циолковский просил перевезти
в Москву, ему обещали, но дело так и не
сдвинулось с места.
Надо сказать, местное педагогическое
начальство относилось к Циолковскому все
же неплохо, и в конце концов, в 1892 году
его перевели в Калугу.
6. Первые 14 лет в Калуге Циолковские
снимали квартиру, копили деньги на покуп-
ку собственного дома, и вот радость —
в конце 1904 года покупка состоялась.
Маленький домик в три комнаты распола-
гался на окраине города, вблизи Оки, на
Коровинской улице, переименованной в
1917 году в улицу Жореса, затем —
в улицу Брута, а еще позднее — в улицу
Циолковского. В 1908 году произошло
наводнение, дом на полтора аршина зали-
ло водой, отчего погибли все книги
и рукописи.
Циолковский давно уже хотел иметь
изолированное помещение для занятий, да
все, как говорится, руки не доходили.
После наводнения над домом надстроили
мансарду, материалом для нее послужил
стоявший во дворе сарай. В мансарде
Циолковский устроил мастерскую и ма-
ленький рабочйЙкАбинет. Сюда, в святая
святых всего дома, где хранились вещи
Константина Эдуардовича и где он зани-
мался и спал, никто из членов семьи не
смел заходить без крайней надобности.
В гу пору внешность Циолковского
производила на окружающих большое
впечатление. Очки в металлической опра-
ве, крылатка с капюшоном высокий
котелок, из-под которого черные волосы
спускались до плеч, мятые брюки, выпу-
щенные поверх густо смазанных ваксой
сапог... Константин Эдуардович обычно
ходил с опущенной головой, медленно
постукивая зонтом, углубленный в свои
мысли, о । решенный от всего
Ь Калуге до 1898 года Циолковский
преподавал математику и физику в реаль-
ном училище, а впоследствии — те же
дисциплины — в женском епархиальном.
В Калуге, как и в Боровске, Константин
Эдуардович очень живо вел уроки; был
строг, но плохих отметок не ставил.
Глухота не особенно мешала преподава-
нию. Учеников он спрашивал, поставив
близко от себя. Часто, однако, случалось,
что в классе во время занятий, во время
беседы, он вдруг уходил в себя, замолкал
куда-то уносился мыслями, совершенно
забывая об окружающих.
Особых конфликтов с начальством не
было. Разве что случались регулярные
стычки с начальницей школы из-за форточ-
ки. (Константин Эдуардович настаивал,
чтобы форточки в классе всегда были
открыты, а начальница их упорно закрыва-
ла.) Рассказывают также, что однажды на
экзамене, когда священник объяснял гни-
ение сыростью в природе, Циолковский
вмешался и начал говорить о бактериях,
возник спор, который, впрочем, никаких
неприятных для него последствий не имел.
Вне школы в 90-е годы Циолковский
общался с одним дьячком, видя в нем
родственную душу,— тот постоянно но-
сился с мыслью построить искусственную
птицу.
Любовь к технике привела к тому, что
Константин Эдуардович в один прекрасный
день приобрел мотоцикл и иногда по
воскресеньям на целый день уезжал в со-
седнюю деревню В 1912 году он мотоцикл
продал, но взамен купил велосипед, и с
этого момента велосипедные прогулки
сделались систематическими. Гулял Циол-
ковский и пешком, как правило, один. Сам
смастерил лодку и изредка катал в ней
семью.
С годами Константин Эдуардович стал
мягче к дегям. Трагическая смерть старше-
го сына в 1902 году его сильно потрясла
и надолго выбила из колеи. К 1915 году
сблизился с сыном Иваном, который помо-
гал ему в переписке. По-прежнему жестко
экономил на семейных расходах, чтобы
иметь хоть какие-нибудь средства для
опытов; все свободное от школы время
отдавал своим занятиям. В 1893 году
напечатал фантастический рассказ «На
Луне», в 1895 году — «Грезы о земле
и небе». До революции Циолковский писал
по две-четыре статьи ежегодно. Они каса-
лись преимущественно проблем воздухо-
плавания. Мысли о летательных аппаратах
логически приводили к идее постройки
самолета тяжелее воздуха, . вообще к
бескрылым аппаратам — дирижаблям с
металлической оболочкой. (О значении
этих работ, основываясь на заключениях
специалистов, сам Циолковский уже в
1932 году писал так: «Ученых особенно
поражает, что в своих теоретических
предугаданиях, расчетах и чертежах Циол-
ковский, минуя первичные формы изобре-
тений, сразу гениально давал зрелые
конструктивные соображения, до которых
потом доходили лишь путем длительной
практической разработки».) И наконец,
естественным итогом стала идея ракетного
двигателя. В 1903 году появилось знамени-
тое сочинение «Исследование мировых
пространств реактивными приборами».
В этой работе впервые показано, что
межпланетные сообщения могут быть осу-
ществлены только при помощи ракетных
устройств. Некоторые ее выводы легли
в основу современной теории ракетных
двигателей и получили название «формул
Циолковского».
Не встречая ни в ком поддержки, за
исключением отдельных журналистов и
популяризаторов, бессильных помочь ма-
териально, Циолковский чувствовал себя
покинутым. «Тяжело работать в одиночку
многие годы, при неблагоприятных усло-
виях, и не видеть ниоткуда ни просвета, ни
содействия»,— жаловался он.
В 1911—1914 годах Константин Эдуардо-
вич испытывал острейшую нужду. Ему
приходилось экономить даже на почтовых
расходах: так он обрезал поля на рукопи-
сях, чтобы этим уменьшить вес бандероли
и заплатить меньше.
За выслугу лет Константин Эдуардович
получил два ордена, что, впрочем, никак
не улучшило его бедственного положения.
Если в школе, где он преподавал, Циол-
ковского ценили как человека науки, то
городские власти видели в нем сумасшед-
шего выскочку из низов, да к тому же не
совсем благонадежного Здесь нужно еще
раз подчеркнуть, что Циолковский всегда,
с молодых лет и до глубокой старости,
в своих творческих исканиях преследовал
высокие цели и замыслы его были гран-
диозны. Меньше всего в его работе
служили стимулом личные интересы.
7. Беспросветная материальная нужда,
разочарование, неудачные попытки про-
бить стену чиновничьего равнодушия,
пренебрежение научных обществ, нехват-
ка времени для создания опытных моде-
лей, без которых дальнейшая работа над
проектами становилась беспредметной,—
все это сильно повлияло на Константина
Эдуардовича. Он еще больше замыкался
в себе. Не имея возможности работать над
воплощением своих идей, он отступил от
реальной жизни, ушел в теоретизирова-
ние, фантастику, начал активно писать
философские сочинения. На какое-то вре-
мя им овладел дух проповедничества.
Из 23 работ, написанных Циолковским
в 1916—1921 годы, 18 философских. «Горе
и гений», «Свойства человека», «Гений
среди людей», «Непротивление» — вот на-
звания некоторых. (В предыдущее пятиле-
тие из 14 произведений лишь одно было
собственно философским («Нирвана»), а
остальные почти все посвящены были
дирижаблю и ракетному двигателю.)
К сожалению, в философии творчество
Циолковского оказалось бесплодным,
в этих сочинениях нашли отчетливое выра-
жение многие болезненные черты его
характера; в науке следа они не оставили,
поскольку необходимой долей самосто-
ятельности и новизны не располагали.
Константин Эдуардович не читал истори-
ческих книг, о социальных науках имел
самое смутное представление, политикой
не интересовался, а революционную борь-
бу считал бесцельной. Верил, что только
техника представляет единственное спасе-
ние для человечества. И потому в своих
сочинениях постоянно развивал планы за-
селения космических пространств, заселе-
ния океанов, переустройства растений
и тела самого человека. Само по себе это
было любопытно, но далеко от тогдашней
реальной жизни.
Себя Циолковский полагал монистом,
последователем и продолжателем
К Бюхнера и Э Геккеля. Признавая
наличие высших сил, Циолковский не раз
в результате иллюзий видел для себя
35
знамения. Он рассматривал их как знаки,
которые подаются ему разумными су-
ществами, якобы живущими в иных косми-
ческих мирах
Можно сказать, что Константин Эдуар-
дович был и механистическим материалис-
том, и идеалистом одновременно. Он не
признавал различий между физическими
и биологическими явлениями. По его
убеждению, и атом, и человек, и Земля,
и вся Вселенная равным образом
чувствуют, мыслят, выражают волю. Разни-
ца лишь количественная: математической
формулой могут быть уравнены и одинако-
во подсчитаны чувства атома, человека,
космоса...
Первые философские идеи у него
возникли еще до самоубийства сына в
1902 году Катастрофа в семье во многом
изменила направление его мыслей, и он
начал писать сочинение «Этика», где при-
шел, по его словам, «к поразительным
и прекрасным выводам». В какой мере
Константин Эдуардович в своих после-
дующих сочинениях ушел от действитель-
ности, показывает, к примеру брошюра
«Горе и гений» (Калуга, 1916. Издание
автора). Здесь Циолковский предлагает
организовать нечто вроде питомников
гениев. «Пусть путем печати или другим
способом будут всем известны выска-
занные здесь идеи и пусть, после этого,
каждый поселок с разрешения и одобре-
ния правительства порекомендует не-
сколько человек (для поселения будущих
гениев. — С. Б.); каждое правительство
в виде опыта будет делать это на свой или
общественный счет». И писалось это в годы
империалистической войны!..
Идеи мессианства прогрессировали
вплоть до 1928 года, когда Циолковский
увидел обращенное к нему знамение на
небе. С этого момента он словно пробу-
дился от долгого «идеалистического сна».
Впрочем, знамение, конечно же, было
фактором чисто субъективным Причиной
решительного поворота в душе Циол-
ковского были события вполне реальные,
земные. Весь советский период его жизни
подготовил этот крутой поворот. Забота
и внимание, которыми советское прави-
тельство окружило ученого, постепенно
пробили брешь в стене, которой он
окружил себя сам.
Действительность, реальная жизнь во-
шла в сознание Циолковского и увлекла
его.
Продолжение следует
В журнал пришло письмо из Калуги:
«Уважаемая редакция!
Моя тетка, Любовь Константиновна
Циолковская, дочь великого ученого, почти
всю жизнь прожила рядом с отцом, а в по-
следние годы выполняла обязанности его
секретаря. Эта краткая заметка была
написана ею в 50-х годах и долгое время
лежала позабытой среди других ее записок.
Думаю, сегодня она все еще представляет
интерес. Любовь Константиновна всегда
отличалась исключительной честностью и
поэтому считала, что многократное упоми-
нание «Бога» в работах К. Э. Циолковско-
го, изданных до революции, каждый раз
нуждается в пояснениях.
С уважением. Ваш читатель
В. Е. КИСЕЛЕВ»
С благодарностью публикуем замет-
ки Л. К. Циолковской в том виде,
в котором они к нам поступили.
Циолковский и религия
Л. к. ЦИОЛКОВСКАЯ
Многих интересует, как Циолковский
относился к религии.
К обрядовой, внешней стороне отноше-
ние было отрицательным. Сам он шел
в церковь, когда его начальство напомина-
ло об этом. Но, признавая за человеком
свободу взглядов, включая и религиозных,
он никогда не мешал ни матери посещать
церковь, ни нам, детям, находя, что это для
нас «развлечение». Действительно, тогда
ни кино, ни доступных театров, ни юношес-
ких, а тем более детских клубов не было.
И мы находили в церкви отдых от томящего
живую детскую душу однообразия жизни.
Кроме'того, церкви он считал украшением
городов и памятниками старины. Коло-
кольный звон отец слушал как музыку
и любил гулять по городу во время
всенощной.
К Христу относился как к великому
гуманисту и гениальной личности, прови-
девшей интуитивно истины, к которым
впоследствии ученые подошли посредством
науки. Таково, например, изречение Христа
«в доме отца моего обителей много».
Циолковский видел в этом изречении Хрис-
та мысль о многочисленных обитаемых
мирах.
Недосягаемо высоко ставил Циол-
ковский Христа в отношении этики. Его
гибель за идею, его скорбь за человечество,
его способность «все понять, все простить»
приводили его в экстаз. Но с таким же
восторгом он относился и к самоотвер-
женным деятелям науки, спасавшим чело-
вечество от смертей, болезней, изобретате-
лям, облегчавшим человеческий труд.
Некоторые выражения в его книжках где
упоминается Бог. дают превратное пред-
ставление о его взглядах. Но если вспом-
нить его боль за человечество, страдающее,
измученное всякими несовершенствами, ес-
ли вспомнить, что его дирижабль и ракета
имели целью осчастливить это несчастное
человечество, то мы поймем, что в книжках
философского и этического содержания он
стремился утешить этого же самого челове-
ка и старался говорить языком, доступным
его пониманию.
Он верил в высшие совершенные су-
щества, живущие иа более древних, чем
наша земля, планетах, но он их мыслил как
существ, состоящих из той же материи что
и весь космос, который, по его понятию,
управлялся законами, общими для всей
вселенной.
Он считал, что наши научные знания
слишком незначительны в сравнении с тем,
чего мы ие шаем. Но он твердо верил
в будущее всеобщее счастье м хотел
утешить и подбодрить всех, «кто забит
и подавлен нуждой, кто устал от борьбы
и ненастья». И применяя слово «Бог», как
понятное и доступное большинству людей
своего времени, сам он подразумевал
космос, управляющийся неизбежными, но
благодетельными для всего живущего зако-
нами Разума.
ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
Ушел из жизни Тадеуш Мачей
Ярошевский (1930—1988),
известный польский партийный
деятель, философ,
ученый-религиовед. Человек
необыкновенной энергии и
разносторонних интересов, он
руководил отделением
диалектического и исторического
материализма Польской Академии
наук, долгое время возглавлял
Институт философии и социологии.
Его монографии, посвященные
исследованиям в области
философии человека и истории
философии, переведены на многие
иностранные языки. В разные годы
он был редактором
еженедельника «Аргументы»,
журнала «Человек и
мировоззрение», избирался
председателем Общества светской
культуры, вице-председателем
Польского религиоведческого
общества. Одна из его заслуг —
организация диалога между
марксистами и католиками.
Память о Т. М. Ярошевском
останется в сердцах его коллег и
соратников на родине и за
рубежом.
36
Предположим, что слово «совершил» не
относится к «исторической» части Библии,
и посмотрим на коммен1ируемый стих
с точки зрения соответствия его известным
природным процессам, над которыми че-
ловек не властен и на фоне которых
разыгрывается его собственная драма. Но
даже и в этом узком толковании трудно
принять написанное в Библии буквально.
На Земле, как легко видеть, окружающий
человека «фон» тоже не назовешь неиз-
ГЛАВА 258
1. Так совершены небо и
земля и все воинство их59.
58. Как я уже замечал, книга Бытия
представляет единое повествование: раз-
бивка на главы и стихи была произведена
позже и это иногда сбивает читающего
с толку К примеру, первая глава завер-
шается стихом, описывающим окончание
шестого дня творения, но сам рассказ
о сотворении мира в «Жреческом кодек-
се» продолжается еще в течение трех
с половиной стихов. Было бы куда удобнее
завершить рассказ (и с ним 1-ю главу) как
раз на них — но поздно менять что-либо.
59. Не совсем понятно, что имеется в виду
под «воинством». Что это — ангелы, ко-
торые, как повествуют легенды, были
создань. еще до творения земли и неба?
Впрочем, скорее всего это просто неудач-
ное обозначение бесконечного множества
деталей, элементов, вовлеченных в только
что завершившийся акт творения: все
звезды на небе, все географические «до-
стопримечательности», все множество жи-
вотных и растений, все мыслимые взаимо-
связи всего со всем.
Продолжение. Начало а № 7,8, 10, 12 — 1987,
№ 1,7 — 1988.
2. И совершил' Бог к
седьмому дню дела Свои, ко-
торые Он делал, и почил6'
в день седьмый от всех дел
Своих, которые делал. 60
60. Можно поспорить, что имели в виду
авторы Библии, написав «совершил». В уз-
ком толковании это, по-видимому, просто
констатация факта: божий труд
полностью закончен, ибо творение
его совершено (что еще ожидать от бога?)
и ничего сверх того не потребуется целую
вечность.
Но поскольку речь пойдет о человечес-
кой истории, вышесказанное теряет смысл,
поскольку вся Библия будет дальше посвя-
щена взаимоотношениям бога и челове-
ческого сообщества. История человечества
с точки зрения библейских текстов есть не
что иное как постоянное, на всех уровнях,
вмешательство бога в дела людские,
вмешательство с ясным чередованием
«кнутов и пряников». И создателю порой
приходится неимоверно трудно (повто-
ряю: это прямо следует из текста Библии)
в выполнении пустяковой, на первый
взгляд, задачи: всего-то — заставить от-
дельных индивидов хоть в малой степени
следовать принятым правилам поведения!
менным, совершенным и неподвластным
времени. На теле планеты все время
происходят изменения: реки меняют курс,
«съедаются» океаном береговые линии,
сдвиги в земной коре меняют форму
горных цепей и так далее.
Греческие философы допускали, что все
земное изменчиво и подвержено порче,
но (по общему мнению) в небесах, за
пределами земной сферы как раз находит-
ся идеал, неподвластный изменениям,
неразложимый, совершенный. Это вполне
согласуется с иудео-христианской точкой
зрения, согласно которой небеса созданы
исключительно для человека и должны
оставаться нетронутыми временем, покуда
не закончится человеческая драма на
земле, не остановятся часы Вселенной и на
смену ей не явится какая-то новая, по-
строенная на совсем иных принципах. Так
повествует об этом последняя книга Ново-
го завета — Откровение Иоанна Богослова
(Апокалипсис).
Однако наука твердо стоит на другой
точке зрения. Все с неизбежностью
изменчиво, и работа по «сотворению»
нашего, мира никогда не кончалась и,
может быть, никогда не увидит конца.
С тех пор как сформировалась Земля,
биологическая эволюция вызвала к жиз-
ни — и приговорила к полному исчезнове-
нию — множество видов (считается, что
20 миллионов их, или девять десятых всех
когда-либо существовавших) Кануло в Ле-
ту. Но эволюция не прекратила свою
работу и сейчас. С течением достаточного
времени формы жизни еще изменят свой
внешний вид, структуру, функции — все
формы жизни, включая человека. И это не
все. Многие виды прекратили существова-
ние на протяжении нескольких последних
столетий (большинство не без помощи
землян), а другие пребывают на грани
исчезновения. Можно ли с абсолютной
уверенностью утверждать, что и челове-
ческий род никогда не прекратится, не
уступит планету иным формам жизни?
Не прекращаются изменения и на Зем-
ле. Не только те, что мы можем
наблюдать, предусмотреть — но и весьма
медленные, разглядеть которые не хватит
никаких исторически обозримых сроков.
Это сход ледников, а также еще более
неторопливое движение тектонических
плит, из которых построена земная по-
верхность, с течением времени
вызывающее горообразование, рост вул-
канов и островов в океане, соединения
и разрыв континентов.
Даже звезды, включая Солнце, подвер-
жены эволюционным процессам. Все све-
тила смертны, как и мы с вами. Они светят
за счет ядерных реакций в их «нутре»,
определяющих в конечном счете жиз-
ненный путь звезды: от первоначального
расширения до коллапса — катастрофи-
ческого сжатия в крошечное, чрезвычайно
плотное тело. В редких случаях коллапсу
предшествует гигантский взрыв звезды.
Сколько времени звезда может поддер-
живать нормальное состояние (называ-
емое «главной последовательностью»; в
нее входит и наше Солнце), зависит от ее
массы. Чем больше масса, тем короле
время жизни: некоторые сверхмассивные
звезды способны продержаться на главной
последовательности «всего» миллион лет
или около того. Напротив, едва чадящие
красные звезды могут оставаться в почти
стабильном состоянии сотни миллиардов
лет!
Наше Солнце — весьма ординарная по
размерам звезда и по расчетам физиков,
ей уготован вполне приличный срок жизни
на главной последовательности — до
12 миллиардов лет. Еслиучесть, что пять из
них уже минули, у нас в запасе остается
еще целых 7 миллиардов лет. Только по
истечении их Солнце начнет расширяться,
а Земля разогреется до такой степени, что
жизнь на ее поверхности станет невозмож-
ной.
В результате Большого Взрыва должны
были образоваться бессчетные мириады
звезд, и среди них — достаточно много
«средних» (по размерам). Другие закончи-
ли свою жизнь на главной последователь-
ности, разбросали, взорвавшись, свои
остатки и ныне сморщились от старости
(диаметр некоторых не превышает не-
скольких километров!).
Кроме того, во Вселенной остается еще
множество пылевых и газовых облаков,
в которых могут родиться новые звездь
К собственному веществу в таких облаках
постоянно добавляются остатки взорвав-
шихся звезд. В то время как сами облака,
образовавшиеся в результате Большого
Взрыва, состоят только из двух простейших
атомов — водорода и гелия, горючий ма-
териал, подбрасываемый в облако
взрывающимися звездами, имеет более
сложный состав — углерод, азот, кисло-
род, сера, кремний, железо... Все эти
элементы сформированы в пылающем
ядре звезды еще дс наступления критичес-
кого момента, когда звезда взорвалась.
Звезды, образовавшиеся из пылевого
облака, в которые проникли эти сложные
атомы, называются звездами второго по-
коления. Наше Солнце, сформированное
около 5 миллиардов лет назад (то есть
спустя 10 миллиардов лет после Большого
Взрыва) как раз принадлежит к таковым.
Сложные атомы, составляющие су-
щественную часть всех нас и всего живого
на Земле, возникли из недр взрывающихся
звезд, погибших и исчезнувших задолго до
появления Солнца и Земли.
Процесс звездообразования не прекра-
тился с рождением нашего Солнца.
Должны быть звезды и моложе его.
Можно сказать и определеннее: все
звезды, которые ярче и крупнее Солнца,
наверняка его моложе В противном слу-
чае — если предположить, что они ровес-
ники — эти звезды должны были бы уже
взорваться и закончить свое существова-
ние. Более того, мы можем наблюдать
безошибочные свидетельства того, что
прямо сейчас (разумеется, с учетом
времени, необходимого свету, чтобы до-
стичь Земли. — Прим, п е р е в.) в обла-
ках пыли и газа, например, в туманности
Ориона, рождаются звезды..
Целые галактики совершают довольно
сложную эволюцию и постоянно изме-
няются. Да что галактики — сама Вселен-
ная, оказывается, подвержена ходу време-
ни. Что ждет ее в конце и будет ли это
действительно конец, сказать нельзя. Но
можно утверждать со всей определен-
ностью: работа по «сотворению мира» —
даже допустив, что она началась с Большо-
го Взрыва — никогда не прерывалась и
продолжается все это время. Даже сейчас,
если верить доказательствам, которые
дае: наука.
61. Глагол «почил» по отношению к богу —
не слишком ли антропоморфный образ?
Ведь в данном случае о мотивах и жиз-
ненных функциях всевышнего говорится
как о чисто человеческих. Резоннее было
бы предположить, что богу покой ни
к чему: ничто не в состоянии утомить
существо всесильное и совершенное. По-
чему же авторы «Жреческого кодекса»
и его рискнули отправить на покой?
Во-первых, в который раз мы являемся
свидетелями того, как создается облег-
ченная, в буквальном смысле более
«возвышенная» версия достаточно «при-
земленного» вавилонского мифа о сотво-
рении мира. Там множество богов, завер-
шив создание Вселенной, отмечают это
событие своего рода вечеринкой, на кото-
рой по обыкновению ни слова не говорится
о делах. Для создателей «Жреческого
кодекса» бог един и веселиться ему не
с кем, поэтому он просто решил отдохнуть
от дел праведных в одиночку.
Но почему бы вместо этого смущающе-
го слова «почил» не написать более опре-
деленно: «отдохнул», -j ^позволил себе
передышку после напряженной творчес-
кой работы» — или что-то в этом роде? Не
пришлось бы долго и велеречиво отводить
намеки на господню «усталость»
Одно возможное объяснение лежит на
поверхности: нельзя истолковать действия
и побуждения господни иначе, как при-
бегая к сравнениям с человеческими
действиями и побуждениями. Даже невзи-
рая на новые трудности интерпретации,
которые неизбежно возникнут, это все же
единственный путь рассказать о божьих
деяниях на доступном людям языке.
Есть и другие объяснения. Например,
такое* авторы «Жреческого кодекса»,
улучшая (как им казалось) вавилонский
миф, сами еще не достигли к той поре
полного и ясного понимания трансцен-
дентной сущности бога. И создавали текст,
в глубине души продолжая подозревать,
что такой труд, как сотворение всего
сущего — да всего за шесть дней — «ука-
тает» и всевышнего.
о реальности все обстоит следующим
образом: всякое движение и вообще какое
бы ‘то нм было действие — утомительны.
Даже неодушевленные предметы стре-
мятся остановиться и «почить», как только
представится возможность.
Мысль вполне естественна, ибо в земных
условиях мы наблюдаем, что все движу-
щееся со временем останавливается; взле-
тевшая в небо палка стремится обратно —
в состояние покоя. К покою тянутся и все
живые формы, чье поведение полностью
определяется окружающей средой.
Свойство усталости, присущее всему
живому, включая человека, можно объяс-
нить с помощью термодинамики. Дело
в том, что живые ткани поддерживаются
в состоянии относительно низкой энтро-
пии, а постоянно идущие в них изменения
приводят к ее увеличению. Поэтому, чтобы
жизнь продолжалась, нужно каким-то об-
разом эти изменения нейтрализовать,
компенсировать. Когда любое произве-
денное действие выбивает из графика
организм, занятый этой работой,— растет
усталость. И наоборот, во время отдыха
организму как бы дается шанс успешно
выполнить поставленную задачу (поддер-
жание возможно более низкоэнтропийно-
го состояния). В конце концов, и это
совершенно естественно, мы эту борьбу со
стремящейся возрастать энтропией про-
игрываем — и наступает смерть...
Все неодушевленные объекты, встретив-
шись с препятствием, останавливаются.
В основном, причиной остановки служат
сопротивление воздуха и трение, они
вызывают увеличение энтропии, которое
неодушевленные объекты погасить не в
состоянии. Их движение стопорится и
окончательно «умирает».
В тех случаях, когда энтропию можно не
принимать в расчет, никакой усталости не
наблюдается и действие продолжается
бесконечно. Некоторые элементарные час-
тицы, предоставленные самим себе (про-
гон, электрон, фотон, нейтрино и другие),
постоянно находятся в состоянии движе-
ния. Определенные комбинации их могут
образовывать стабильные атомы, которые
в свою счерёДЬ соединяются в стабильные
комбинации атомов — молекулы.. Те, если
на них никак не воздействовать, тоже
практически вечны.
Можно развить схему рассуждений
дальше. И Земля, и планеты, не встречая
сопротивления, будут бесконечно обра-
щаться вокруг Солнца (в стародавние
времена полагали, что это ангелы постоян-
но «подкручивают» завод вселенских ча-
сов...). То же самое справедливо и в отно-
шении Солнца, обращающегося вокруг
ядра Галактики.
Итак, у нас есть все основания сделать
одно важное заключение: любые измене-
ния, происходящие с неодушевленными
предметами во Вселенной во время про-
цесса ее возникновения и дальнейшей
эволюции, протекают с неизбежным рос-
том энтропии. Поэтому говорить о какой-
то «усталости» неживой природы нет
оснований: Вселенная утомляется от уве-
личения энтропии в той же мере, что
и стекающая отвесно вниз вода.
3. И благословил Бог седь-
мый день, и освятил его62,
ибо в оный почил от всех дел
Своих, которые Бог творил
и созидал.
62. Освященный седьмой день — это ев-
рейский «саббат», ныне называемый суб-
ботой.
Иными словами, в первое воскресенье
господь сотворил свет, в понедельник —
небеса, во вторник — сушу и покрывав-
шую ее растительность; среда ознамено-
валась созданием небесных тел, четверг —
животных, морских и воздушных; пятницу
бог посвятил животным суши и человеку.
В субботу он решил отдохнуть.
Из текста «Жреческого кодекса» ясно
следует: суббота была утверждена
всевышним во время сотворения мира,
следовательно, д о начала записанной
человеческой истории. Однако в прямом
противоречии с этим находятся данные
науки, позволяющие предположить, что
в период, предшествовавший вавилонско-
му плену (времена судей и царей Из-
раилевых), суббота не пользовалась каким-
то особым вниманием со стороны ве-
рующих. Только во времена плена
и особенно после него «саббат» становится
первостепенным днем недели: о нем
особо сказано в десяти заповедях. Какая
же связь дня «саббат» с вавилонянами?
По-еврейски «саббат» значит «прекра-
тить, остановиться» — термин вполне со-
ответствует отдыху после напряженной
работы. Простой ежедневный сон необхо-
дим: тот, кто нашел время выспаться,
передохнуть, добьется большего на протя-
жении следующего рабочего дня. Вполне
естественно распространить это правило
и на большие промежутки времени, напри-
мер, неделю.
Но откуда взять этот выходной? Должен
ли он наступать регулярно или только от
случая к случаю? И если принять первое, то
с каким интервалом?
В те ранние периоды человеческой
истории, когда жили большими семьями
(и никак иначе), счет дням велся исходя из
обстоятельств или с соизволения главы
семьи. По мере развития и усложнения
человеческого общества потребовалось
как-то регламентировать и выходные: не-
льзя было допустить, чтобы совместный
труд терял эффективность от такого раз-
нобоя. Наилучшим способом привести все
в порядок в те времена было связать
выходные с религией.
Более 4000 лет назад разработали
лунный календарь народы, населявшие
долину Тигра — Евфрата. Появление новой
луны, отмечавшее наступление нового
месяца, было приурочено к религиозному
празднику и, естественно, другие фазы
Луны также не прошли незамеченными.
Впервые словом «саббат» («саббату» на
языке древней аккадской цивилизации,
распространившей свое влияние на терри-
торию долины в 3-м тысячелетии до новой
эры) был назван день полнолуния. Слово
перешло к жителям соседних земель, и до
вавилонского плена в израильском госу-
дарстве полная Луна (саббат) и новолуние
отмечались как равнозначные по важности
события.
Так, когда женщина собирается идти
к чудотворцу-пророку Елисею просить об
оживлении мертвого сына, муж говорит
ей: «.. Зачем тебе ехать к нему? сегодня не
новомесячие и не суббота» (4-я книга
Царств, гл. 4, ст. 23). Однако во времена
пленения вавилоняне отмечали также и
промежуточные фазы Луны: первую чет-
верть и третью. Эти четыре фазы появ-
ляются на небе с интервалом, примерно
соответствующим неделе, и само
английское слово week (Woche по-немец-
ки) происходит от старого тевтонского
слова, означающего «изменение»
Действительность, конечно, оказалась
сложнее. Каждая новая лунная фаза насту-
-пает через 7,4 суток и для сохранения
привязки к лунному календарю потребует-
ся существенная корректировка всей
схемы расчета. Некоторые недели должны
стать семидневными, другие будут сос-
тоять из восьми дней. На это древние
составители календаря не пошли, а посту-
пили так: решено было все недели считать
семидневными — после чего всякая связь
с фазами Луны была потеряна. Виновницей
произведенного беспорядка (с точки зре-
ния верующих) вновь, вероятнее всего,
оказалась магическая «семерка». Правда,
на сей раз магия цифр была связана
с конкретными знаниями древних вавило-
нян, ибо означала семь известных в те
времена «планет»: Солнце, Луна, Мерку-
рий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн.
С точки зрения астрологии, вполне разум-
но было закрепить за каждой планетой
один день недели (а он в свою очередь
снабжался собственным небесным богом-
патроном). Восьмой день оставался бы
незаполненным, обделенным, и этого,
конечно, нельзя было допустить.
Итак, возникла стабильная неделя, со-
стоявшая из семи дней. Один из них был
отдан под религиозный праздник, когда
работать не полагалось, а предписано было
отправлять религиозные ритуалы. Кроме
того, вполне вероятно, что работа в этот
день заведомо считалась обреченной на
неудачу.
Но все, о чем пока шла речь, касалось
Вавилона. Находившиеся в вавилонском
плену евреи, наблюдая наступление еже-
недельных выходных, и не подумали
смириться с их политеистическим оправда-
нием. Оставалось одно — выработать свое
собственное.
Создатели «Жреческого кодекса» нашли
способ включить выходной в господен
график работ по сотворению мира: шесть
дней напряженного труда, затем день
отдыха. Так вавилонская неделя-семиднев-
ка получала могучее «высшее» обоснова-
ние. И это объяснение выбора магической
семерки куда проще греческой выдумки
с «совершенными числами».
Возвратившись из вавилонского плена,
евреи установили свой наиважнейший ре-
лигиозный праздник — субботу, и этот
обычай перешел к христианам. Однако те
постепенно свели на нет традицию
праздновать седьмой по счету день, пере-
неся выходной на первый — на «божий
день» (воскресенье), когда воскрес Иисус
Христос. Что касается мусульман, то у них
выходной приходится на пятницу...
Неделя ныне входит во все календари
мира.
Ну, а что по сему поводу думает наука?
Ученые считают, что деление на недели
абсолютно искусственно и только услож-
няет календарь. В каждом обычном году
получается 52 недели плюс 1 день; в висо-
косном — на день больше. Эти доба-
вочные дни сбивают схему счета лет,
потому что каждый новый год наступает на
новый же день недели (этот день повто-
ряется только по истечении сложного
28-летнего цикла) Если добавочные дни
считать дополнительными днями отдыха
вне всякой связи с неделями, календарь
стал бы и вправду стабильным и каждый
год все повторялось бы без изменений.
Можно даже «организовать» интервал
в три месяца, повторяющий сам себя
в точности.
Но, кажется, такое естественное измене-
ние существующего календаря невозмож-
но. В основном, из-за нежелания боль-
шинства населения Земли — иудеев, хрис-
тиан и мусульман (в этом вопросе
солидарных) — вносить какие-либо изме-
нения в их собственную идею недели,
пришедшую из их собственной религии.
Подведем итоги. Первая случайность:
семь наблюдаемых на небе «планет».
Вавилоняне связывают их астрологически
с днями недели. Далее, авторы «Жречес-
кого кодекса» сохраняют вавилонскую
неделю, но очищают ее от всего, по их
мнению, «ненужного» и связывают с пре-
данием о сотворении мира. И в результате
мы обречены и дальше жить по столь
неуклюже составленному календарю, хотя
нет ничего проще — привести его в поря-
док...
Перевели с английского
К. МИХАИЛОВ и
В. НИКИТИН
Продолжение следует
19
МИФОЛОГИЯ НАРОДОВ МИРА
С. АЛИМАРИН,
А. БАР АБАШЕВ
Встречи различных культур иногда
порождают удивительные феномены.
Одной из таких ярких искр, высе-
ченных столкновением культуры ев-
ропейской и национальной куль-
туры американских индейцев, на-
считывающей тысячелетия само-
бытного развития, является учение
современного антрополога и филосо-
фа Карлоса Кастанеды. Колоссальный
успех книг Кастанеды (миллионные
тиражи!), обусловленный прекрасной
литературной формой этих книг, не-
обычностью идей и не в последнюю
очередь скандальным акцентом пер-
вой книги на необходимости примене-
ния психотропных средств желающим
понять сущность учения (в следующих
книгах такая необходимость уже от-
рицается), сделал эти книги одним из
наиболее примечательных явлений
1 Европейской культурой в широком смысле
мы называем культуру, использующую иду-
щие от античной Греции традиции рациональ-
ного мышления и основанного на нем созда-
ния технических средств с целью изменения
окружающей реальности.
современной литературы и филосо-
фии.
Известны сочинения Кастанеды и в
нашей стране, однако в основном
благодаря самодеятельным перево-
дам. Такое замалчивание, с одной
стороны, и отстраненно-некритичес-
кое восприятие — с другой, конечно,
не лучший способ знакомства с
новыми идеями.
В трудах Кастанеды повествование
ведется от лица ученика (самого
Карлоса Кастанеды), которого обуча-
ет искусству магов индеец племени
яки (Мексика) дон Хуан Матус. По
мнению окружающих, дон Хуан обла-
дал особыми знаниями и умениями,
хранившимися в недрах культуры яки,
разбирался в психотропных расте-
ниях: дурман, пейотный кактус и
галлюциногенные грибы. Дону Хуану
помогает его друг дон Хенаро в роли
«покровителя» — бенефактора уче-
ника.
В процессе обучения ученик подоз-
ревает учителя в возможном обмане,
отчаянно сопротивляется попыткам
расколоть сложившиеся стереотипы
«европеизированного» рационально-
го мышления. В самые критические
моменты наблюдения необычных яв-
лений он пытается вести записи (чтобы
«справиться» с чувствами, осмыслить
происходящее, из-за недоверия к па-
мяти...). Такая форма изложения уче-
ния близка к диалогу. Это частично
снимает недоверие к содержанию
текста (как описанное вообще воз-
можно?), и в конечном итоге делает
излагаемое учение более защи-
щенным. Автор предстает не сочини-
телем, а регистратором, как
бы отстраняясь от собственных произ-
ведений. Кастанеда тщательно избе-
гает философских выводов и строит
сочинение в литературном ключе.
Концепция Кастанеды двойственн.
она является учением о строении
реальности, специфике восприятия
реальности человеком и попыткой
рационального осмысления этой спе-
цифики и в то же время представляет
собой описание набора приемов, по-
зволяющих человеку сломать
имеющееся восприятие реальности
и перейти к новому.
Один из технических приемов для
подобной ломки стереотипного пред-
ставления о реальности — управле-
ние сновидениями
Исходное упражнение таково:
перед засыпанием ученик ставит себе
задачу увидеть во сне некоторый
заранее намеченный объект (скажем,
во сне поднести руку к своим глазам,
посмотреть на ладонь, а затем повер-
нуть ладонь и отчетливо увидеть ее
тыльную сторону), а затем немедлен-
но проснуться и в деталях вспомнить
увиденное. Это упражнение непросто
для исполнения и попытки достичь
в нем успеха, по мнению Кастанеды,
могут продолжаться несколько лет.
Дальнейшее не так сложно, но уже
несет в себе явный мировоззренчес-
кий заряд.
Как дон Хуан отличает реальность
от сна? Сон хаотичен, забываем, во
сне человек неконтролируемо пере-
скакивает с одного «сюжета» на
другой, тогда как события реальной
жизни развертываются последова-
тельно, и каждый новый день, начи-
наясь с той же обстановки, выступает
как «продолжение» дня предыдуще-
го. Если ученик научился устойчиво
видеть некоторый объект (событие)
во сне «по заказу», то он может,
скажем, запрограммировать такой
сюжет: оказаться на улице
вымышленного города, затем отчет-
ливо увидеть вывески, дома, лица
прохожих, остановить свое внимание
на том, что его особо заинтересовало,
а затем, проснувшись, запомнить при-
снившееся.
Но это только первый шаг.
Следующий сон в следующую ночь
надо начать с того момента, когда
закончился сон предыдущий. Таким
образом, «царство снов» выстраивает-
40
ся в цепочку, и череда ночей превра-
щается в жизнь номер два, столь же
«логичную» и последовательную, как
и реальная жизнь. Возникают два
потока жизни и две реальности, как
бы неотличимых по внутренним ха-
рактеристикам. И тогда следует шаг
второ й...
Вот как дон Хенаро описывал его
Кастанеде. Однажды, когда дон Хена-
ро занимался отработкой техники
управления сном, ему приснилось, что
он спит на вспаханном поле, при этом
сознавая, что по-настоящему спит
у себя дома. Имея навыки исследова-
ния обстановки сновидения, он осмат-
ривает окрестности, видит, что к нему
идет группа работников. Перспектива
быть обнаруженным спящим посере-
дине вспаханного поля столь неприят-
на, что у Хенаро появляется сильней-
шее желание проснуться у себя дома,
чтобы неприятный сон закончился.
В тот же момент он проснулся
в постели. Однако разработанный
навык запоминания позволил вспом-
нить сон во всех подробностях Хена-
ро решил выяснить, было ли такое на
самом деле. Придя на поле, он увидел
работников, которых наблюдал во
сне. Далее Хенаро попытался найти
место своего сна во сне. И действи-
тельно, он обнаружил совпадающее
по очертаниям примятое место и
вспомнил его.
Таким образом, реальность сна
вторглась в реальность жизни, смеша-
лась с нею. Ключевой момент в истол-
ковании этого случая заключается
в том, что удалось во сне увидеть
самого себя спящим. В это мгновение
две реальности (сна и бодрствования)
«взглянули» друг на друга, человек
как бы увидел себя в зеркале, а изоб-
ражение в зеркале увидело человека,
и они смешались, перестали пони-
мать, где одно, а где другое. Две
реальности «пересеклись».
В принципе, считает Кастанеда,
после такого пересечения можно ока-
заться не в реальности яви, а в реаль-
ности сна, которая превращается
с этого времени в истинную реаль-
ность. В этой реальности существует
и действует изображение в зеркале,
«дубль» человека, ставший самим
человеком. Таким образом, предла-
гаемая Кастанедой техника не просто
расшатывает представления о реаль-
ности, но и смешивает объективное
и субъективное, производя их «роки-
ровку».
Другим техническим приемом,
«расшатывающим» представления
ученика о реальности, является «пре-
кращение внутреннего диалога». Бу-
дучи непосредственно связанным со
зрением, внутренний диалог, по Кас-
танеде, непрерывно приводит мир
в соответствие с его описанием. Имен-
но внутренний диалог делает мир
таким, а не иным В результате
человек воспринимает окружающее
как привычное, каким бы оно ни было
на самом деле. Говоря словами дона
Хуана, между нами и миром всегда
стоит его описание, и мы — на один
прыжок позади.
Одним из способов остановки внут-
реннего диалога является расфокуси-
ровка зрения. Обычно зрение сфоку-
сировано, и при этом взгляд «перебе-
гает» с одного предмета на другой.
Именно таким образом, без всякого
осознанного контроля, происходит и
внутренний диалог. Поэтому останов-
ка внутреннего диалога сводится
к комплексу упражнений по расфоку-
сировке зрения, их итогом становится
распад привычного видения мира
в его привычном описании.
Возникает вопоос во имя какой
цели это делается? Что Кастанеда
предлагает взамен сложившихся и
поддерживаемых представлений о
реальности? И вообще, как можно
воспринимать реальность иначе, оста-
ваясь при этом нормальным челове-
ком и не теряя способности действо-
вать?
Ответ Кастанеды: во-первых, необ-
ходимо выработать набор специфи-
ческих качеств и соответствующее
поведение — все то, что он в совокуп-
ности называет «путем воина». Разви-
тие человека по «пути воина» озна-
чает, что человек должен стремиться
принимать все, что происходит, как
данное — иначе говоря, смирен-
но. Но эта смиренность не есть
покорность: воин воспринимает про-
исходящее как брошенный ему вызов
и на этот вызов он должен ответить
наилучшим образом. Его поведение
должно быть неуязвимым, а решения
столь тщательными, что любые ре-
зультаты не могут его удивить. Воин
ищет не определенности в глазах
окружающих, а неуязвимости в
собственных глазах.
Важнейшая черта поведения воина:
он рассматривает себя как бы умер-
шим, ему нечего терять. От своих
действий воин не ожидает для себя
наград (пример упражнений, которые
дон Хуан предлагал Кастанеде для
выработки этого качества, регулярное
совершение бессмысленных действий
типа переметания мусора из угла
в угол, перекладывание дров и т. п.).
Что бы ни случилось, воин действует
так, как будто ничего не случилось.
При этом он оставляет свободу
действия и за другими, полагая их
такими же неуязвимыми, как и он сам
Секрет воина состоит в том, что он
верит не веря. Особенно это
важно в те моменты, когда оказывает-
ся, что мир не таков, каким его
представляет наше описание. Видно,
что путь воина необходим для того,
чтобы обеспечить невозмутимость че-
ловека и сохранить сбалансирован-
ность его поведения тогда, когда
привычный мир начинает рассыпаться
у него на глазах. Как пишет Кастанеда,
41
воин входит в неизвестное с чувством
радости, веселья и абсолютной сво-
боды.
Во-вторых, продвигаясь по пути
воина, ученик не только теряет пре-
жнее видение мира, но и, наоборот,
приобретает новое знание, постепен-
но превращаясь из воина в человека
знания (не переставая при этом быть
воином). Он начинает распознавать
и оценивать знаки и другие не-
обычные события, а по мере совер-
шенствования его видение стано-
вится прямым знанием. Причем
не только рассудочным, рациональ-
ным — это также «знание тела»,
оно чувствует опасность и реагирует
на нее, знает границы допустимого
и принимает оптимальные решения.
Человек знания преодолевает раз-
ногласие рассудка и тела. Оборотной
стороной этого знания является при-
обретение личной силы и использова-
ние сил, скрывающихся за внешней
данностью мира (Кастанеда называет
эти силы ally, помощниками). Продви-
жение по пути знания делает воина
магом, умеющим объяснять знание
как интеллектуально, так и де-
монстрируя новое видение мира.
Демонстрация — важный момент
объясненйя магов. Специфика де-
монстрации в объяснении магов в том,
что внимание ученика выводится за
границы мира, и он становится
наблюдателем того, что с точки зре-
ния обычных представлений о мире
является невозможным («беседа» с
койотом — степным волком как пони-
мание его намерений; мгновен-
ное изменение местоположения;
наблюдение сил ally и т. п.). При этом
вопрос, было ли наблюдаемое на
самом деле, как утверждал дон Ху-
ан, учитель Кастанеды, является
бессмысленным, ибо здесь все
зависит от позиции наблюдателя.
В-третьих. Наиболее важный эле-
мент знания магов — представления
отонале и нагуале. Человек,
согласно объяснению дона Хуана,
начинает создавать мир тоналя с мо-
мента своего рождения и живет в нем
всю жизнь. Тональ — это все, для чего
у человека есть слово, все, что
встречает глаз и адаптирует сознание
посредством внутреннего диалога.
Глаза, приученные тоналем, цеп-
ляются за смысл и видят только то,
что предлагает тональ. Тональ приво-
дит хаос мира в порядок, он —
организатор мира, упорядоченное
отражение неописуемого и неиз-
вестного. Тональ неоднороден и ус-
ловно может быть разделен на два
компонента: внешнюю сторону, свя-
занную с действованием, и внут-
реннюю сторону, более хаотичную,
а именно — решения и суждения.
Кроме мира тоналя, существует
мир нагуаля. Нагуаль — это то, для
чего у нас нет описания, нет слов, нет
названия, нет осмысленных чувств,
нет рационального знания. Можно
быть только свидетелем нагуаля, но
о нем нельзя высказаться. Проявле-
ние нагуаля можно наблюдать только
телом, но не разумом; более того,
всякая попытка рационального описа-
ния нагуаля, по словам дона Хуана,
является «разумной мурой», которую
допускать нельзя
В мире тоналя говорят и осмысли-
вают действие, в мире нагуаля —
действуют. А раз так, то обучение
гоналю и нагуалю должно происхо-
дить по разным схемам: тоналю
нужно обучать словом, подкреп-
ленным рациональным действием
(т. е. подчиненным разумному алго-
ритмическим действием), а обучение
нагуалю не может происходить иначе,
как через предъявление эффекта
необъяснимого, неалгоритмического
действия
Уже само вводное, первоначальное
объявление ученику того, что нагуаль
существует, включает в себя не-
обычное действие. Например, группе
учеников неожиданно было предло-
жено собрать тяжелую сумку с раз-
личными предметами, взять большой
письменный стол, и со всем этим
багажом во главе с учителем отпра-
виться в длительный пеший поход
в горы. Там, в центре небольшой
горной долины, установили стол и
выставили на него все предметы.
Далее ученикам было дано объясне-
ние, согласно которому тональ срав-
нивался с порядком, пронизывающим
жизнь любого человека, порядком,
который человек тащит всю жизнь
(подобно столу) на своих плечах.
Тональ «уставлен» знакомыми ве-
щами и совокупно с этими вещами
нам мил и знаком. Нагуаль, с другой
стороны, столь же несопоставим с то-
налем, как данный стол — с окру-
жающей его горной долиной. Человек
легко запоминает и идентифицирует
все то, что стоит на столе, но он
совершенно не может припомнить то,
что вокруг стола и под ним. Поэтому
для того, чтобы воспринять объясне-
ние о существовании нагуаля, необхо-
димо очистить «стол», сгруппировать
все предметы на одном месте тоналя,
сделать гональ подготовленным ко
встрече с нагуалем. Но не всякий
человек на это способен!
Будучи вершиной объяснения ма-
гов, учение о тонале и нагуале
доступно в своей убедительности
только для ученика, ставшего воином
и прошедшего достаточно далеко по
пути знания. Причем, когда воин
оказывается подготовленным и «от-
крывается» этому объяснению ма-
гов, оно наносит ему удар, от которо-
го не существует защиты. Дверь
открывается, и закрыть ее уже невоз-
можно. Процедура основной, крити-
ческой части объяснения ученику
сущности нагуаля неоднократно
описывается Кастанедой и использует
особую метафору. Вот описание этой
процедуры.
Учитель (для Кастанеды это был дон
Хуан) и бенефактор — покровитель,
защитник (дон Хенаро) подводят уче-
ника к объяснению нагуаля сов-
местно. распределив роли между
собой. Учитель постепенно занимает-
ся упорядочиванием тоналя и очи-
щает «пузырь восприятия», в котором
пребывает ученик, группирует все
восприятие, задающее тональ, на од-
ной стороне этого пузыря В то же
время своими необычными и пара-
доксальными действиями бенефак-
тор (которого ученик начинает ин-
стинктивно бояться) очищает пузырь
восприятия снаружи в том мес-
те, которое освобождено изнутри
учителем. Наконец, бенефактор и
учитель вскрывают пузырь в освобож-
денном месте, заставляя ученика
в экстремальных условиях проявить
способности воли, которые он ранее
у себя и не подозревал. И только
тогда объяснение о тонале и нагуале
считается достигнутым, и ученик по-
лучает два равноправных уровня
восприятия. Таким критическим мо-
ментом для Кастанеды стал прыжок
со скалы, который ему пришлось
выполнить в присутствии дона Хуана,
Хенаро и нескольких других учеников
и относительно которого в дальней-
шем сам Кастанеда не мог сказать,
был этот прыжок на самом деле или
нет (если, как пишет Кастанеда, этот
вопрос вообще имеет смысл)
Эпизодом прыжка со скалы закан-
чивается первая часть концепции
Кастанеды, в которой главную роль —
роль учителя — исполняет дон Хуан.
Во второй части концепции (начиная
с книги «Второй круг силы») Кастане-
да стремится вновь встретиться с дру-
гими учениками дона Хуана и дона
Хенаро. Эта встреча становится нача-
лом отсчета самостоятельного кол-
лективного обучения группы учени-
ков, в которую вошел Кастанеда
Спецификой самостоятельного кол-
лективного обучения является то, что
каждому из учеников в конце первого
этапа обучения поставлена учителем
персональная задача, которую ученик
должен разрешить в «коалиции» с
другими учениками Овладев под
руководством учителей -(Хенаро и
Хуана) некоторыми приемами,
каждый из учеников что-то умеет,
и теперь они должны обучить друг
друга. Но что они должны делать
и чему обучаться? Отсутствие де-
тальных и постоянно корректируемых
инструкций со стороны учителей ста-
новится для группы источником не-
уверенности и даже враждебности
одних членов группы по отношению
к другим.
Тем не менее коллективное са-
мообучение постепенно начало да-
вать свои плоды, совершенствуя и уп-
рочая целостность каждого из членов
группы как неуязвимого воина, не
имеющего привязанностей, отточив-
шего искусство сновидения и, главное,
4Х
способного развернуть крылья своего
восприятия, чтобы они касались од-
новременно и тоналя, и нагуаля
(т. е. устойчиво обладать вниманием
второго рода — вниманием нагуаля).
Завершив этап обучения друг дру-
га, группа учеников (после длительно-
го перерыва) встретилась снова и сов-
местно занялась исследованием тона-
ля и нагуаля и поисками эффективно-
го «переключения» внимания, входа
в мир нагуаля В конце концов они
должны были пройти последнее
испытание — избежать столкновения
с «силой, управляющей предназначе-
нием всего живого», проявляющейся
для видящего в форме черного Орла
(книга «Дар Орла»). Об этом, может
быть, лучше всего говорит такое
«заклинание» из этой книги: «Я отдан
силе, которая управляет моей судь-
бой. Я ни к чему не привязан, поэтому
мне нечего защищать, у меня нет
мыслей, поэтому я вижу, я ничего не
боюсь, поэтому я помню себя. Отре-
шенный и раскрепощенный, я про-
мчусь мимо Орла, чтобы быть сво-
бодным».
Книги Кастанеды можно было бы
просто назвать многотомным фантас-
тическим романом с тщательно про-
думанным мистическим сюжетом.
В последнее время в США популяр-
ностью пользуются произведения на-
учной и сказочной фантастики, по-
вествующие о вымышленных мирах
с географией, историей и т. п. Однако
популярность его концепции, видимо,
объясняется не этим В сущности,
Кастанеда предлагает один из вариан-
тов пути познания, смысла жиз-
ни, пути самосовершенствования, пси-
хической тренировки и модель обуче-
ния. Методы обучения, описываемые
Кастанедой, хорошо согласованы друг
с другом и в целостности своей
оригинальны, хотя в чем-то напоми-
нают методы других учений (напри-
мер, дзен-буддизма, психоанализа).
Так, оставляя на последнем этапе
учеников самих решать свои частные
задачи, когда они уже сильно
привыкли к нему, дон Хуан (и дон
Хенаро) решают известную в пси-
хоанализе проблему привязанности
пациента к врачу после длительного и,
особенно, успешного лечения. За-
падные исследователи Кастанеды на-
ходят аналогии со взглядами Сартра,
Ницше (роль воли в жизни человека),
Платона, Канта (тональ как мир фено-
менов), Гуссерля, Хайдеггера, Ви-
тгенштейна...
Однако, аналогии не ограничи-
ваются только теоретическими парал-
лелями, а распространяются и на
практические предписания и нормы
жизни. Например, в йоге считается,
что беспорядочное мышление исто-
щает силы человека. Путем медита-
ции ученик достигает упорядочения
мыслей, а затем полного прекраще-
ния мышления (согласно Кастанеде,
остановка внутреннего диалога). На-
ступающая пустота создает чувство
невесомости (вспомним о неуязви-
мости воина), а затем давление
в задней части шеи создает ощущение
нисходящего потока силы (у Каста-
неды — появление дубля).
Множество таких аналогий можно
найти в даосизме и суфизме. Люди,
пытающиеся найти подходящий для
себя способ психотренировки и зна-
комые с подобными учениями, читая
книги Кастанеды, оказываются как бы
в знакомом им мире. Но это сходство
обманчиво: использование иной тра-
диции, другая расстановка акцентов
и даже нравственные аспекты учения
Кастанеды позволяют считать его ори-
гинальной и целостной концепцией.
Отношение к ней — каким бы оно ни
было, положительным или отрица-
тельным, — возможно в принципе
только как к самостоятельному и це-
лостному учению, а не как к набору
разнообразных обрывков воззрений,
приемов и техник. Разумеется, нельзя
исключить и некритическое воспри-
ятие отдельных элементов концеп-
ции — и тогда знакомство с учением
Кастанеды может оказаться тяжелым
испытанием для психики неподготов-
ленного читателя. Единственная, на
наш взгляд, защита от такого
ущербного восприятия — это, во-
первых, свободный доступ к изучению
различных духовных исканий и тради-
ций и, во-вторых, наличие традиции их
критического восприятия Так, напри-
мер, человек, ищущий в пустоте
и вдруг познакомившийся с йогой или
дзен-буддизмом, книгами Кастанеды
или Кришнамурти, с большой вероят-
ностью воспримет любое из этих
учений как наконец открывшуюся ему
последнюю истину.
Целостность концепции Кастанеды,
ее оригинальность, несмотря на все
моменты аналогий с различными уче-
ниями и философскими взглядами
западноевропейской и восточной фи-
лософии, вызывает интерес не только
к личности автора. Возникает воп-
рос — действительно ли происходило
такое обучение и реальна ли фигура
Хуана Матуса? Однако в соответствии
со своей концепцией Кастанеда созна-
тельно замалчивает информацию, ко-
торая бы позволила прояснить эти
вопросы. Одним из принципов, орга-
нически вписывающимся в концеп-
цию, является «принцип стирания
личной истории», которому дон Хуан
согласно описанию, обучал Кастанеду.
Стирание личной истории спо-
собствует разрушению представле-
ний о единственности и несокруши-
мости тоналя, подготавливает ученика
к восприятию нагуаля. Кастанеда при-
водит слова дона Хуана, что имеется
только два выбора: либо принять все
как реальное, наверняка, или этого не
делать. Если следовать первому выбо-
ру, то до смерти устаешь от самого
себя и от мира. Если последовать
второму и стереть личную историю,
то приобретается личная свобода,
«очень восхитительное и мистическое
состояние, в котором никто не знает,
откуда выскочит заяц, даже мы сами»
(«Путешествие в Икстлэн»). Свобода
заключается в том, что человек неза-
висим от «обволакивающих мыслей
других людей».
В полном соответствии с предла-
гаемой концепцией Кастанеда избе-
гает давать интервью, о его биогра-
фии имеются незначительные и про-
тиворечивые сведения, распорядок
его жизни скрыт от посторонних.
Такая же ситуация и с вопросом
о реальности фигуры дона Хуана
Матуса (кстати, это имя и фамилия
распространены в Мексике не менее,
чем Джон Смит в США и Канаде).
И главный вопрос, остающийся без
ответа: вымысел или нет описанный
процесс обучения, было ли обучение
на самом деле, или же это — собира-
тельная форма, в которой Кастанеда
представил свои многолетние антро-
пологические наблюдения? Как ни
парадоксально, и тот и другой ответ
говорят в пользу автора: либо Каста-
неда описал действительные события
о себе и доне Хуане, и тогда это
несомненное достижение в этногра-
фических исследованиях, либо это
теоретическая и литературно обрабо-
танная концепция, и тогда Кастане-
да — выдающийся писатель и ориги-
нальный философ!
Предлагаем вниманию читателей
отрывок из книжки К. Кастанеды
«Сказки о силе» — «Остров тоналя».
В
Мы встретились с доном Хуаном на
другой день около полудня в том же парке.
Он все еще был в своем коричневом
костюме. Сняв пиджак, он тщательно, хотя
и с оттенком небрежности, сложил его. Эта
небрежность казалась одновременно и
рассчитанной, и совепшенно естественной.
Я поймал себя на гом. что попросту глазею
на него. Казалось, его игра с пиджаком,
а может быть, со мной доставляла ему
удовольствие. Он улыбнулся и поправил
галстук. Бежевая рубашка с длинными
рукавами отлично на нем смотрелась.
Я все еще в парадном костюме, потому
что хочу сказать тебе нечто, имеющее
большую важность, — произнес он, похло-
пав меня по плечу. — Вчера было хорошее
представление, а сейчас самое время при-
йти к окончательному соглашению.
Он сделал долгую паузу. Казалось, он
готовится произнести что-то особенное.
Я почувствовал странное ощущение в жи-
воте. Я решил вдруг, что он собирается
раскрыть тайну магов. Пару раз он вставал
и начинал прохаживаться, как будто ему
трудно было подобрать слова.
— Пойдем в ресторан и перекусим, —
сказал он наконец.
Он опять развернул свой пиджак и.
43*
преж те чем надеть его, показал мне, как тот
отлично скроен. «Сшит по заказу», — он
улыбнулся с такой гордостью, будто все это
имело особое значение
— Я вынужден обращать на это твое
внимание, иначе ты просто не заметил бы.
Сейчас важно, чтобы ты научился осозна-
вать. Ты привык осознавать все только
тогда, когда ты считаешь, что это тебе
нужно. Однако настоящий воин должен
осознавать все во всякое время.
Мой костюм и все эти мелочи имеют зна-
чение, потому что по ним можно судить
о моем положении. Точнее — о положении
одной из двух частей, которые состав-
ляют мою целостность. Разговор давно
назрел. Я -чувствую, что сейчас для него
пришло время Однако он должен быть
проведен так, как следует, или он не будет
иметь смысла. Мне нужен был парадный
костюм, чтобы дать тебе первый намек.
Я считаю, что ты его получил. Теперь время
поговорить, иначе ты в этом до конца не
разберешься.
— В чем не разберусь, дон Хуан?
— В том, что такое целостность самого
себя.
Он резко поднялся и повел меня в ресто-
ран, который находился в большом отеле
напротив. Хозяйка довольно недружелюбно
указала нам столик в дальнем у|лу
Очевидно, места для избранных помеща-
лись вдоль окон.
Я сказал дону Хуану, что эта женщина
напомнила мне ту хозяйку из Аризоны,
у которой мы с ним когда-то ели и которая
спросила, прежде чем вручить нам меню
хватит ли у нас денег.
— Я не виню этих бедных женщин, -
сказал дон Хуан, словно сочувствуя хозяй-
ке. — Что же, они боятся мексиканцев.
Он добродушно засмеялся. Несколько
посетителей за соседними столами огляну-
лись на нас.
Дон Хуан добавил, что, сама того не
зная, а может быть, даже вопреки своему
желанию, хозяйка предоставила нам самый
лучший столик в зале. За ним мы можем
свободно разговаривать, а я даже писать,
сколько мне заблагорассудится.
Как только я вытащил блокнот и поло-
жил его на стол, к нам подлетел официант.
Казалось, он, как и хозяйка, был в плохом
настроении. Он встал над нами с самым
вызывающим видом.
Дон Хуан начал заказывать необыкно-
венно сложный обед. Он заказывал, не
глядя в меню, как если бы знал его
наизусть. Я растерялся Официант появил-
ся неожиданно, я не успел посмотреть
меню, поэтому я сказал, что хочу то же
самое, что и мой спутник.
Держу пари, у них нет ничего из того,
что я заказал, — шепнул мне дон Хуан
Он вытянул руки и ноги и сказал, чтобы
я расслабился в удобной позе, потому что.
пока приготовят обед, пройдет целая веч-
ность.
Ты находишься на примечательном
перекрестке, — сказал он. — Может быть,
на последнем, и возможно, самом грудном
для понимания. Некоторые из тех вешей,
о которых я собираюсь говорить тебе
сегодня, наверное, никогда не станут
ясными. Но иначе и быть не может.
Поэтому не раздражайся и не разоча-
ровывайся. Всякий, кто вступает в мир
магии, поначалу туго соображает. Да
и освоившись в нем, ты не обязательно
начнешь блистать сообразительностью. Не-
которым из нас так до самого конца и не
удается все уразуметь.
Мне понравилось, что дон Хуан себя не
исключил из числа тех, кому не удается во
всем разобраться. Я знал, он сделал это не
по доброте, а чтобы я лучше усвоил его
наставления.
— Не теряйся, если ты не поймешь то, что
я буду тебе говорить, — продолжал он. —
Учитывая 1вой темперамент, я боюсь, что
ты выбьешься из сил, стремясь понять. Не
надо так усердствовать! То, что я соби-
раюсь тебе сказать, предназначено только
для того, чтобы указать направление.
Внезапно меня охватило чувство тревоги.
Предупреждение дона Хуана вызвало во
мне хаос мыслей. И раньше он предупреж-
дал меня точно так же, и всякий раз то,
о чем он предупреждал, оборачивалось
каким-нибудь разрушительным событием.
— Когда ты так разговариваешь, у меня
сердце ие на месте, — сказал я.
— Знаю, — ответил он спокойно. —
Я намеренно заставляю тебя подняться на
цыпочки. Мне нужно твое внимание — твое
нераздельное внимание.
Он сделал паузу и взглянул на меня.
У меня вырвался нервный смешок. Я знал,
что он сознательно усиливает драматизм
ситуации.
— Я . оворю это тебе не для эффекта, —
сказал он. будто прочитав мои мысли. —
Я просто даю тебе время настроиться.
В этот момент к нашему столу подошел
официант и заявил, что у них нет ничего из
заказанного нами. Дон Хуан громко
рассмеялся и попросил принести куку-
рузные лепешки с мясом и бобы. Официант
снисходительно усмехнулся и, сообщив, что
они такого не готовят, предложил
бифштекс или цыпленка. Мы столковались
на супе.
Ели мы молча. Суп мне не понравился,
и я не смог его доесть, зато дон Хуан съел
всю тарелку.
— Я надел свой пиджак. — проговорил
он внезапно, — чтобы рассказать тебе то,
что ты уже шаешь, но что нуждается
в прояснении, чтобы стать действенным.
Я специально откладывал объяснение до
этой минуты Хенаро считает, что одного
твоего желания вступить на путь знаний
недостаточно, сами твои действия должны
быть безупречны, чтобы ты стал достоин
этих знаний. Ты действовал хорошо! Теперь
я поделюсь с тобой тайной магов.
Он опять сделал паузу, потер щеки
и поиграл языком внутри рта
— Я собираюсь рассказать тебе о тонале
и нагуале, — он взглянул на меня пронзи-
тельно.
Первый раз за все время нашего зна-
комства он произнес эти слова. Я смутно
помнил о них из литературы о культурах
Центральной Мексики. Я знал, что то-
наль — это своего рода дух-покровитель,
обычно животное, которое ребенок полу-
чает при рождении и с которым связан
глубинными узами до конца лГизни. На-
гуаль— название, дававшееся или живот-
ному, в которое мог превращаться маг, или
тому магу, который практиковал такие
превращения.
— Это мой тональ, — пояснил дон Хуан,
похлопав руками по груди.
— Твой костюм?
- Иоя личность.
Он похлопал себя по груди, по бедрам
и по ребрам:
— Мой тоИаль — все это.
Он объяснил, что каждый человек имеет
две стороны, две отдельные сущности,
которые начинают действовать с момента
рождения. Одна называется «тоиаль», дру-
1 ая — «нагуаль». Я сказал ему, что
ученые-антропологи писали об этих двух
аспектах. Он не стал прерывать меня.
— Ну, что бы ты там ни думал о них, это
сущая чепуха, — сказал он, наконец, —
я основываюсь иа том факте, что то, что
я тебе скажу о тонале и нагуале, не могло
быть сообщено тебе раньше. И дураку
понятно, что ты ничего об этом ие знаешь:
чтобы знать это, надо быть магом, а ты не
маг И ни один маг тебе об этом еще не
рассказывал. Поэтому отбрось все, что ты
слышал об этом раньше, потому что эти
твои знания некуда применить.
— Я только заметил... — начал я.
Он комически поднял брови.
— Твои замечания сейчас совсем не-
уместны, — сказал он. — Мне нужно твое
нераздельное внимание, так как я соби-
раюсь познакомить тебя с тоналем и на-
гвалем У магов особый интерес к этому
знанию. Я бы сказал, что тональ и нагуаль
находятся исключительно в сфере людей
знания. Для тебя это заслонка, которая
закрывает то. чему я тебя обучал. Поэтому
я и ожидал нужного момента, чтобы
заговорить о них. Тональ — это не живот-
ное, которое охраняет человека. Это,
скорее, хранитель, который может быть
представлен животным, но это совсем не
важно. *
Он улыбнулся и подмигнул:
— Теперь я буду использовать твои
собственные выражения. Тональ — это «со-
циальное лицо»! — Он засмеялся, как ви-
дно. заметив мое замешательство. — То-
наль является защитником, хранителем. Но
этот хранитель чаще всего превращается
в охранника
Я вертел в руках блокнот, стараясь не
пропустить ни слова. Смеясь, он передраз-
нил мои нервные движения.
— Тональ — это организатор мира, —
продолжал он. — Может быть, лучше всего
его колоссальный труд можно описать так:
создание мирового порядка из хаоса.
Поэтому вполне можно согласиться с ут-
верждением магов, что все знания и
действия человека — работа тоналя
В данный момент, например, все, что
участвует в твоей попытке найти смысл
в нашем разговоре, является твоим тона-
лем. Без него ты бы слышал только
бессмысленные звуки и видел гримасы и не
понял бы ничего из того, что я говорю.
Далее, тональ является хранителем,
который охраняет нечто совсем бесценное,
наше бытие. Поэтому врожденным ка-
44
честном тоналя является консервативность
и ревность к своим деяниям. А поскольку
деяния тоналя являются важнейшей
частью нашей жизни, то неудивительно, что
постепенно в каждом из нас хранитель
превращается в охранника.
Он остановился и спросил, понял ли
я. Я машинально кивнул головой, но он
улыбнулся недоверчиво.
— Хранитель мыслит широко и все
понимает, — пояснил он. — Охранник —
это бдительный, косный деспот Значит,
тональ во всех нас делается мелочным
и деспотичным охранником, тогда как он
должен быть свободомыслящим храните-
лем.
Я определенно не улавливал нити его
объяснений. Я услышал и записал каждое
слово, и однако я был включен в какой-то
собственный внутренний диалог.
— Мне очень трудно следить за тобой, -
пожаловался я.
— Если бы ты перестал разговаривать
с собой и слушал меня, у тебя не было бы
трудностей, — отрезал он.
Это замечание ввергло меня в длинные
объяснения. Наконец, я спохватился и из-
винился за свою привычку защищаться.
Он улыбнулся и жестом дал понять, что
это его на самом деле не раздражает.
— Тональ — это все, что мы есть, —
продолжал он. - Назови его! Все, для чего
есть слово у нас — это тональ. А поскольку
тональ — это и есть его деяния, то, само
собой разумеется, все попадает в его сферу.
Я напомнил ему, что он сказал, будто
«тональ» является «социальным лицом».
Этим термином я пользовался в разговорах
с ним, чтобы определить человека как
результат социализации. Я сказал, что если
тональ является продуктом этого процесса,
то он не может быть всем, потому что весь
мир не является результатом социальных
связей.
Дон Хуан возразил, что мой аргумент не
имеет оснований, потому что намного
раньше он уже говорил, что никакого мира
в широком смысле не существует, а есть
только описания мира, которые мы научи-
лись визуализировать и принимать как
нечто само собой разумеющееся.
- Тональ — это все, что мы знаем, —
повторил он. — Я думаю, что это само по
себе уже достаточная причина для того,
чтобы он был таким всесильным.
Он на секунду остановился. Казалось, он
ожидает замечаний или вопросов, но у меня
их не было. Однако я чувствовал, что мне
надо задать вопрос и постарался сформули-
ровать более или менее подходящий. Мне
это не удалось. Я чувствовал, что после
предупреждений, которыми он начал наш
разговор, мне не хочется приставать к нему
с расспросами. Меня охватило ощущение
странной немоты. Я никак не мог сосредото-
читься и привести в порядок свои мысли.
Я чувствовал, я твердо знал, что в этот миг
был не в состоянии думать, и понимал это
не умом, хотя такое трудно себе предста-
вить.
Я взглянул на дона Хуана. Он глядел на
среднюю часть моего тела. Но вот он
поднял глаза, и ясность мысли мгновенно
вернулась ко мне.
— Тональ — это все, что мы знаем, —
произнес он медленно. — Это не только
личности, но и все в нашем мире. Можно
сказать, что тональ — это все, что нас
окружает Мы начинаем растить тональ
с момента рождения. В тот миг, когда мы
делаем первый вдох, мы вдыхаем с ним силу
тоналя. Поэтому правильно сказать, что
тональ человека интимно связан с его
рождением. Ты должен запомнить это. Это
необходимо усвоить. Тональ начинается
с рождения и кончается со смертью.
Я хотел подумать, перебрать все, что он
сказал. Я уже раскрыл рот, чтобы переспро-
сить о чем-то, но, к своему изумлению, не
мог произнести ни слова. Я испытывал
любопытное состояние. Мои слова стали
тяжелыми, и я ничего не мог с этим
поделать.
Я взглянул на дона Хуана, чтобы
показать ему, что не могу говорить. Он
опять смотрел на мой живот.
Затем он поднял глаза и спросил, как
я себя чувствую. Слова полились из меня,
будто прорвало плотину. Я рассказал ему,
что у меня было ощущение, будто я не могу
ни говорить, ни думать, и в то же время мои
мысли были кристально ясными
Твои мысли были кристально
ясными? — переспросил он.
Я сообразил, что ясность относилась во-
все не к моим мыслям, а к моему вос-
приятию мира.
Ты что-нибудь делаешь со мной, дон
Хуан? — спросил я.
— Я пытаюсь убедить тебя в том, что
твои замечания не нужны, — ответил он
и засмеялся.
— Значит, ты не хочешь, чтобы я задавал
вопросы?
— Нет, нет, спрашивай все, что хочешь.
Но не отвлекайся.
Я вынужден был признать, что был
рассеян из-за безбрежности темы.
— Я не могу понять, дон Хуан, что ты
имеешь в виду, когда говоришь, что тональ
это все, — сказал я после секундной паузы
Тоиаль это то, что творит мир.
— Тональ является создателем мира?
Дон Хуан потер виски.
— Тональ «создает» мир, только в пере-
носном смысле. Он не может ничего создать
или изменить и тем не менее он творит мир,
потому что его дело — судить, видеть
и оценивать. Я говорю, что тональ творит
мир, потому что он видит и оценивает его
согласно своим, тоналевым законам. Как ни
парадоксально тональ является творцом,
который ничего не творит. Другими слова-
ми, тональ создает законы, по которым он
воспринимает мир, так что, в каком-то
смысле, он творит мир.
И он замурлыкал популярную мелодию,
отбивая ритм пальцами. Его глаза сияли,
казалось, они искрятся. Он усмехнулся
и покачал головой.
— Ты не слушаешь меня, — проговорил
он, улыбаясь.
— Слушаю и, как будто, понимаю, —
сказал я, но не слишком уверенно.
— Тональ — это остров, — объяснил
он. — Лучше всего сравнить его вот с этим.
Он провел рукой по столу.
— Мы можем сказать, что тональ как
поверхность этого стола, остров, и на этом
острове есть все. Этот остров — фактически
весь наш мир. У каждого из нас есть свои
тонали, но есть и коллективный тональ для
всех нас в любое данное Время, который мы
можем назвать тоналем времен.
Он указал на ряд столов.
— Взгляни, все столы одинаковы. Серви-
ровка более-менее схожа. Но каждый из
них отличается от других. За одним столом
людей больше, за другим — меньше, на
всех разная пища, разная посуда, разная
атмосфера и однако нельзя не согласиться,
что все столы в ресторане очень похожи. То
же самое относится и к тоналю. Мы можем
ф Фетиш, олицетворяющий духа-охрани-
теля.
сказать, что тональ времен это то, что
делает нас похожими. Так же, как похожи
все столы в этом ресторане. Но каждый
стол существует сам по себе точно так же,
как личный тональ каждого из нас. Однако
надо помнить, что все, известное нам о нас
самих и о нашем мире, находится на
острове тоналя Понимаешь, о чем я?
— Если тональ - это все, что мы знаем
о нас и нашем мире, тогда что же такое
нагуаль?
— Нагуаль — это та часть нас, с которой
мы вообще не имеем дела.
— Как это?
— Нагуаль — эта та часть нас, для
которой нет никакого описания. Нет слов,
названий, ощущений, знаний.
— Но это противоречие, дон Хуан По-
моему, то, чего нельзя ощутить, описать,
назвать, просто не существует.
— Это противоречие только «по-твоему».
Не зря я предупреждал, что ты выбьешься
из сил. пытаясь все это постичь.
— Не хочешь ли ты сказать, что нагуаль
это разум?
— Нет, разум - это предмет на столе,
разум — часть тоналя. Скажем так, ра-
зум — это томатный соус
Он взял соусницу и поставил ее передо
мной.
Может, нагуаль — душа?
Нет, душа тоже на столе. Скажем,
душа — это пепельница
— Может, это мысли?
— Нет, мысли тоже на столе. Мысли -
это столовое серебро.
Он взял вилку и положил ее рядом
с соусницей и пепельницей.
— Может быть, это состояние благодати,
райское блаженство?
— Опять ошибка. То, что ты назвал, тоже
часть тоналя. Ну, скажем, вот эта бумаж-
ная салфетка!
45
Я продолжал перечислять всевозможные
способы описания гого, о чем он говорил:
чистый интеллект, психика, энергия, жиз-
ненная сила, бессмертие, жизненные при-
нципы. Но всякий раз он сравнивал
упомянутое понятие с каким-нибудь пред-
метом на столе и ставил его рядом
с прочими, пока вся сервировка не выстро-
илась в один ряд передо мной.
Казалось, все это доставляет дону Хуану
огромное удовольствие. Он хихикал и поти-
рал руки каждый раз. когда я упоминал
новое понятие.
— Может быть, нагуаль — высшее су-
щество, всемогущий бог? — спросил я.
— Нет, бог тоже на столе. Скажем так.
бог — это скатерть.
Он сделал шутливый жест, как бы комкая
ее, чтобы положить рядом с другими
предметами передо мной.
— Но значит, по-твоему, бога не су-
ществует?
— Нет. я не сказал этого. Я всего лишь
сказал, что нагуаль не бог, потому что бог
принадлежит нашему личному тоналю и то-
нал ю времен. Тональ является, как я гово-
рил, всем тем, из чего, по нашему мнению,
складывается мир, включая бога; конечно,
бог не менее важен, чем что-либо другое,
будучи тоналем нашего времени.
— В моем понимании, дон Хуан, бог
это все. Разве мы юворим не об одной и той
же вещи?
— Нет, бог включает в себя лишь то,
о чем ты думаешь, поэтому он ничем не
лучше других предметов на острове. Бога
нельзя увидеть по собственному желанию,
о нем можно только говорить. Нагуаль же
всегда к услугам воина. Его можно увидеть,
но его нельзя передать словами.
— Если нагуаль не является ни одной из
тех вещей, которые я перечислил, то, может
быть, ты скажешь мне, где он?
Дон Хуан широким жестом указал на
пространство вокруг стола. Тыльной сторо-
ной pvKH он словно стряхнул крошки
с воображаемой поверхности, за краями
стола.
- Нагуаль там, — пояснил он. - Он ок-
ружает остров. Нагуаль там, где обитает
сила. Мы чувствуем с самого момента
рождения, что в нас есть две части.
В момент рождения и еще некоторое время
спустя мы целиком являемся нагуалем.
Затем мы чувствуем, что для нормальной
деятельности нам необходима противопо-
ложность того, что у нас есть. Тональ
отсутствует, и это дает нам с самого начала
ощущение неполноты. Затем тональ начи-
нает развиваться и становится совершенно
необходимым для нашей жизни. Настолько
необходимым, что замутняет сияние на-
гуаля. Он захлестывает его. С того момен-
та, когда мы делаемся целиком тоналем, мы
только лелеем наше старое ощущение
неполноты, которое сопровождало нас с мо-
мента рождения и которое постоянно нам
напоминает, что есть еще другая часть и
без нее мы не обладаем целостностью.
С того момента, как мы становимся
целиком тоналем, мы начинаем создавать
пары. Мы ощущаем наши две стороны, но
мы всегда представляем их принадлежнос-
тями тоналя. Мы говорим, что две наши
части — это душа и тело, или мысль
и материя (субстанция), или обрл и зло,
или бог и дьявол Мы никогда не сознаем,
однако, что просто объединяем в пары все
на этом острове — кофе и чай, хлеб и ле-
пешки, томатный соус и горчицу. Вот ведь
какие мы чудные. Нас унесло в сторону, но
в своем безумии мы уверены, что все
понимаем правильно.
Дон Хуан поднялся и обратился ко мне
с видом оратора. Он ткнул в меня перстом
и патетически тряхнул головой.
— Человек мечется не между добром
и злом, — радостно возвестил он, тор-
жественно подняв солонку и перечницу. —
Его истинное движение проходит между
отрицательным и положительным
Он поставил солонку и перечницу и
быстро схватил иож и вилку.
— О, вы не правы! Никакого движения
тут нет, — продолжал он, как бы возражая
самому себе. — Человек — это только
мысль!
Он взял соусницу и поднял ее, затем
опустил.
— Как видишь, — проговорил ои душев-
но, — мы легко можем заменить разум
томатным соусом и закончить все, сказав:
«Человек - это только томатный соус».
Это не более бредовая мысль, чем наши
привычные представления.
— Боюсь, я не так сформулировал
вопрос, - сказал я. — Может быть, лучше
было спросить, что особенного можно найти
в области за островом.
— На этот вопрос ответа нет. Если
я отвечу: «Ничего», то только сделаю
нагуаль частью тоналя. Могу сказать
только одно: за границами острова нахо-
дишь нагуаль.
- Но называя его «нагуаль», разве ты не
помешаешь его на остров?
- Нет. Я назвал его только затем, чтобы
дать тебе возможность осознать его су-
ществование.
— Хорошо! Но осознавая это, разве я тем
самым не превращаю нагуаль в частиц)
моего тоналя?
Боюсь, что ты не понял. Я назвал
тональ и нагуаль как истинную пару. Вот
и все.
Он напомнил мне, как однажды, пытаясь
объяснить ему свою настойчивость в том,
чтобы во всем улавливать смысл, я говорил
о том, что дети, может быть, не способны
воспринимать разницу между «отцом» и
«матерью», пока они не научатся достаточ-
но разбираться в значениях, и что они.
возможно, считают, что «отец» — это тот,
кто носит штаны, а «мать» — юбки, или
различают их как-то иначе: по прическам,
сложению, одежде.
Мы явно делаем то же самое с нашими
двумя частями, — сказал он. — Мы
чувствуем, что есть другая сторона нас, но
когда мы стараемся определить эту сторо-
ну, тональ захватываем рычаги управления,
а как управитель он крайне мелочен
и ревнив. Он ослепляет нас своими хитрос-
тями и заставляет забыть малейшие намеки
на другую часть истинной пары — нагуаль.
Перевод с английского
В. Ланчикова.
СОТВОРЕНИЕ МИРА
Окончание. Начало на с. 16*
— Георгий'Александрович, нередко при-
ходится слышать утверждение, будто ате-
изм и утрата религиозной веры подорвали
нравственные устои нашего общества. Дес-
к . гь, утратив веру, люди решили, что без
( «все позволено».
— Верить или не верить, принимать
религию или быть атеистом — проблема
сугубо личная, и решаться она должна на
основе свободного выбора каждым. Из-
вестно, какой счет может предъявлять
церкви атеистическое свободомыслие. Но
ведь и оголтелый атеизм понаделал нема-
ло бед, особенно в 20—30-е годы. Грубые
нарушения свободы совести, ущемление
прав верующего человека, разрушение
храмов — все это, конечно, имело нега-
тивные нравственные последствия.
Страдали от беззакония и произвола,
разумеется, не одни верующие. Ста-
линский террор страшен не только неимо-
верным количеством жертв, миллионами
невинно расстрелянных, сосланных, про-
павших без вести. Какая мораль могла
утвердиться в обществе, в котором доно-
сительство было нормой жизни, аргумен-
том в споре, кратчайшим путем к захвату
чужой должности, жилья, к получению
наград? А период застоя? Это не просто
болотное топтание на месте, а неуклонный
рост вещизма, разрушение веры в спра-
ведливость нашего строя, социалистичес-
кой законности, в тех, кому доверили
высокие посты в государстве и партии.
Респектабельные гангстеры, нередко за-
щищенные депутатскими значками, расхи-
тители и взяточники, призванные обере-
гать народное достояние, прекрасно-
душные болтуны-бездельники, по до-
лжности своей призванные действовать
в интересах народа — вот истинные винов-
ники подрыва нравственных устоев.
Конечно, далеко не все в обществе
воровали и подличали, но абсолютное
большинство видело, что творилось, и
вынуждено было молчать. Одни — при-
терпелись, изверились; другие — боя-
лись потерять то, что имели, не хотели
рисковать.
Почему я не приемлю «нин-андреевщи-
ну»? Потому что вижу в ней попытку
обелить, а значит, и сохранить то из нашего
прошлого, с чем, уверен, надо без всякого
сожаления расстаться.
Никогда не смирюсь с лицемерием,
идейным конформизмом, духовным по-
требительством. Не смирюсь с тем, что
элементарная порядочность стала ред-
костью, не говоря уже о чести и благо-
родстве. Как можно спокойно сознавать,
что по одному и тому же поводу разным
людям, в разных кабинетах, даются диа-
метрально противоположные оценки,
выносятся исключающие друг друга вер-
дикты, и главное — попирается истина?
А ведь именно она — всего дороже.
46
Глава 3
СВЯЩЕННИК
Приехал фургон из морга, внесли
носилки Это походило на сцену из
спектакля. Эллен включил боковые
лампы, но они были темно-красные
и светили слабо. Факел то ярко
вспыхивал, то почти затухал, и каза-
лось, что люди дрожат и двигаются,
даже когда они были неподвижны.
Люди из морга положили тело на
белые носилки. Их черные силуэты
проплыли на фоне освещенного алта-
ря
— Что ты собираешься делать? —
спросил Найджел.
— Расспросить этих леди и
джентльменов, — сказал Эллен. —
Не нравится мне это. И место тоже.
Кстати, как ты оказался здесь?
— Сам не знаю. Мне было скучно,
и я увидел, как вывеска раскачивается
Рисунки И. В.а громовой.
Продолжение. Начало в № 9.
под дождем. Наверное, я искал
приключения.
— И, думаю, ты нашел его. Фокс,
подойдите сюда. Когда мы дойдем до
мсье де Равинье, можете расспросить
его по-французски.
Фокс добродушно улыбнулся. Он
недавно начал изучать французский
с помощью граммофонных пластинок
и курса по радио
— Боюсь, что у меня пока не
хватает знаний, сэр, — ответил он, —
но я с удовольствием послушаю, если
вы сделаете это сами.
— О, господи, Фокс, но я же могу
опростоволоситься. Бейли, если вы
закончили, пригласите первого свиде-
теля.
— Хорошо, сэр.
С тупо-безразличным видом Беи пи
исчез в дверях. Через минуту он
вернулся с отцом Гарнеттом.
— Простите, что заставил вас
ждать, сэр, — сказал Эллен. — Давай-
те сядем.
Гарнетт неторопливо уселся и спря-
тал руки в своих широких рукавах
Фокс тоже присел на ближнюю ска-
мейку; весь его вид показывал заинте-
ресованность интерьером церкви.
Найджел достал блокнот. Стеногра-
фическая запись не помешает. Отец
Гарнетт даже не взглянул в их сторо-
ну. Эллен поместился напротив него,
спиной к пылающему факелу. Они
внимательно оглядели друг друга.
— Я поражен, — громко произнес
отец Гарнетт. Его голос был необычай-
но сладкозвучен и печален.
— Верно, случай непонятный, —
заметил Эллен.
— Видите ли, я все еще не пони-
маю, что произошло. Какая невиди-
мая сила сразила эту дорогую душу
в момент духовного экстаза?
— Я полагаю, цианистый калий,—
холодно пояснил Эллен.
— Но ведь это яд, — проговорил
отец Гарнетт нерешительно.
— Один из самых сильных.
— Вы намекаете, что она... что
произошло убийство?
— Это решат присяжные. Разу-
меется, будет дознание. Пока мне
хотелось бы задать несколько вопро-
сов вам, мистер Гарнетт. Я знаю'имя
и адрес умершей, но мне хотелось бы
узнать о ней больше. Вы, конечно,
знали ее лично?
— Все мои дети — мои друзья.
Кара Куэйн была очень дорогим
другом. У нее была редкая душа,
инспектор..?
— Эллен, сэр.
— ...Инспектор Эллен. У нее была
редкая душа, готовая к великим
духовным откровениям, и мне сужде-
но было ее вести.
— Вы помните, когда она первый
раз пришла к вам на. службу?
— Да. Это было на празднестве
Эгера, 15 декабря прошлого года.
— Ис тех пор она регулярно
посещала церковь?
— Да. Она достигла высшего зва-
ния — звания Избранного Сосуда. Вы
знакомы с нашим ритуалом, инспек-
тор?
— Почти нет.
— А вы знаете, что у вас хорошо
развито восприятие?
— Ага, — ответствовал Эллен. —
Я воспринимаю факты, как паук мух.
— Ах так. — Отец Гарнетт медлен-
но склонил голову. — Значит, время
еще не настало. Но оно придет.
Спрашивайте же, инспектор.
— Как я понял, вы близко знали
мисс Куэйн, и во время приготовлений
к сегодняшней церемонии часто с ней
виделись?
— Очень часто. В церемонии она
выступала как Фригга, жена Одина.
— Один — это, очевидно, вы?
— Верно, — нехотя признался отец
Гарнетт.— В нашем ритуале эти отно-
шения играют определенную роль.
— Вы можете сказать, не было ли
у нее депрессии, не беспокоило ли ее
что-либо?
— Уверен в обратном. Она была
спокойна и счастлива.
— Ясно. Никаких денежных про-
блем?
47^
— Денежных? Нет. Она была, как
говорят в миру, богата
— А как вы говорите в этом случае,
сэр?
Отец Гарнетт искренне, по-мальчи-
шески весело рассмеялся.
— Ну, я бы тоже назвал ее богатой,
инспектор! — воскликнул он.
— Может быть, несчастная
любовь? — поинтересовался Эллен.
Отец Гарнетт ответил не сразу. Он
грустно проронил:
— Кару Куэйн не интересовала
земная любовь; она была на пороге
новой, духовной жизни.
— Но сейчас она его уже пересек-
ла.
— В ваших словах больше правды,
чем вы думаете. Я искренне верю, что
это так.
— Никаких любовных связей,—
записал Эллен в блокнот. — Она была
в хороших отношениях с другими
посвященными?
— О да. между ними чудесные,
дружеские отношения Нет, эти слова
ничего не значат. Посвященные до-
стигли третьей плоскости, где все
человеческие отношения .сливаются
в экстатическое спокойствие. Они не
могут ненавидеть, ибо там не су-
ществует ненависти. Они знают, что
ненависть — это майя, иллюзия.
— А любовь?
— Если вы говорите о земной
любви, это тоже иллюзия.
— Тогда, — сказал Эллен, — если
идти дальше, доводя эту мысль до
логического конца, то не имеет значе-
ния, что человек делает если его
действия порождены чувствами. Ведь
чувства иллюзорны? Я не ошибаюсь?
— О,—воскликнул отец Гар-
нетт, — я же говорил... Мы должны
когда-нибудь побеседовать с вами как
полагается, дорогой мой.
— Вы очень добры,— ответил
Эллен. — А пока вопрос. Ведь ваша
церковь поддерживается сборами?
— Мои прихожане считают почет-
ной привилегией поддерживать гос-
теприимство Священного пламени.
— Мисс Куэйн была щедрым по-
жертвователем?
— Дз
— Вино для церемонии перели-
ваете во флягу вы?
— На сей раз нет. Всеми приготов-
лениями к сегодняшней церемонии
занимался Клод Уитли
— В том числе и самовозгорающе-
еся пламя? Как это делается? Мети-
ловый спирт?
— В таблетках, — признался отец
Гарнетт.
— Знаю, — весело вскричал Эл-
лен.— Женщины нагревают им щип-
цы для завивки волос.
— Возможно, — сухо сказал отец
Гарнетт. — Перед службой Клод под-
ходит к алтарю и, три раза упав ниц,
достает из дароносицы Священную
чашу. При этом он читает молитву на
норвежском. Он трижды преклоняет
колени и затем, поднимаясь на ноги,
он . э.Л"
— Кладет туда таблетку и снова
убирает чашу?
- Да-
— Ясно. Мистер Басгейт сказал, что
пламя вспыхнуло, когда вы возложили
руку на чашу. Как это делается?
— Я... э... использую небольшую
капсулу, — пояснил отец Гарнетт.
— Вот как! С чем?
— Цинк-этил.
— Теперь ясно. Еще вопрос. Хра-
нится ли в этом здании какой-нибудь
яд?
Отец Гарнетт позеленел, как его
одежда, и решительно сказал: «Нет».
— Большое спасибо. Я ценю вашу
искренность и готовность помочь.
Надеюсь, вы не будете возражать,
если я попрошу вас подождать —
ведь это ризница? Да? Хотя бы
в ризнице, пока я побеседую с ос-
тальными. Боюсь, перед уходом вас
обыщут. Вы не против?
— Обыщут? Не- . э... разумеется,
нет.
И отец Гарнетт удалился в ризницу
в сопровождении полицейского.
— Чертов мошенник, жулье! —
с силой произнес Эллен. — Как он
-вам, Фокс?
— Ну, сэр, — флегматично ответил
Фокс. — должен сказать, мне показа-
лось, что сей джентльмен понимает,
о чем он говорит, лучше, чем я.
— Весьма вероятно, Фокс. —
И Эллен послал за миссис Кэндор.
Глава 4
МИССИС КЭНДОР И
МИСТЕР ОГДЕН
Миссис Кэндор плакала, и ее косме-
тика потекла. Тушь, пудра и румяна
смешались на лице. Она казалась
удивленной и испуганной, ее руки
дрожали. Это была полная и аб-
солютно неуклюжая женщина. Она
села, мутно глядя перед собой.
— Насколько я понимаю, — сказал
Эллен, — мисс Кара Куэйн была ва-
шей подругой?
— Нельзя сказать подругой, — от-
ветила она неожиданно тонким голо-
сом.
— Знакомой?
— Да. Мы... мы... встречались толь-
ко здесь.. Ну, и в гости к ней
я заходила пару раз
— У вас нет каких-либо соображе-
ний относительно этого дела?
— О, господи! — простонала мис-
сис Кэндор. — Небо наказало ее.
— Наказало?
Миссис Кэндор вынула из декольте
кружевной платочек.
— Что же такое сделала мисс
Куэйн, — спросил Эллен, — что она
заслужила такое ужасное наказание?
— Она возжелала" клятву Одина
— Боюсь, я не понимаю, что это
значит.
— Я это понимаю так, — объявила
миссис Кэндор таким тоном,4 словно
только что закончила подробное
объяснение. — Отец Гарнетт не от
мира сего. Он стоит над этими веща-
ми. Он так часто говорил нам это. Но
Кара была страстной женщиной. —
Она понизила голос и прибавила
с неприличным восторгом: — Кара
была слишком сексуальной, простите
меня!
— О, — только и мог невразуми-
тельно произнести Эллен.
— Да! Разумеется, я знаю, что
экстатический союз благостен, но
экстатический союз одно, а... —
И миссис Кэндор испуганно замолкла.
— Вы хотите сказать, — попытался
помочь ей Эллен, — что...
— Я не имею в виду ничего
конкретного, — поспешно прервала
его миссис Кэндор. — Прошу вас, не
придавайте значения моим словам.
Мне просто так казалось. Я ужасно
расстроена. Бедная Кара. Бедная, бед-
ная Кара.
— Она была очень красивой жен-
щиной? — будто мимоходом поинте-
ресовался Эллен
— Ну. этого я бы не сказала.
Конечно, если вам нравится такой тип
женщин. Мсье де Равинье волочился
за ней, но вы же знаете этих иностран-
цев. Стоит их только чуть-чуть приве-
тить... — Миссис Кэндор вскинула го-
лову. На мгновение ее лицо стало
омерзительным. — Сейчас Кара
выгляди- уже не такой красивой, —
прошептала она.
Эллен отвернулся.
— Не буду вас задерживать, —
сказал он. — Последний вопрос. Вы
ведь первая взяли у мистера Гарнетта
чашу. Вы не заметили какого-нибудь
странного запаха?
— Не знаю. Я не помню. Нет, вряд
ли.
— Понятно. Спасибо. Вы не возра-
жаете против обыска? В прихожей
ждет женщина-полицейский.
— О да, конечно, пожалуйста! До
свидания, инспектор Эллен.
— До свидания, мадам
И она уковыляла на своих фран-
цузских каблучках.
— Бейли! Следующего, пожа-
луйста.
— Уже иду! Где шеф? — раздался
голос мистера Огдена. Он возник
вместе с Бейли у алтаря и направился
прямо к Эллену.
— Ну, ну. Я как раз поздравлял
себя с возможностью увидеть изнутри
британское следствие!
— Вы не будете возражать против
нескольких скучных вопросов7 Нам,
понимаете ли, нужно работать.
— Конечно, вперед! — Мистер Ог-
ден разглядывал Эллена с живейшим
удовольствием. — Вы первый сорт!
Наверное, на вас можно найти бри-
48
танское клеймо в таком месте, где
оно никогда не сотрется. Эти хладно-
кровие и выдержка — прямо из бри-
танского бестселлера. Я словно вижу
сон.
Найджел позволил себе иронически
ухмыльнуться. Эллен, заметив это,
пришел в негодование. Он холодно
спросил Огдена, не заметил ли тот
странного запаха, и в ответ узнал, что
благовония перебивают все запахи.
— Как я понимаю, вы состоите
в исполнительном комитете?
— Верно! Церковный староста.
— Вы интересовались предприяти-
ем с момента его основания?
— Верно! Это было — да, два года
назад. Я познакомился с отцом Гар-
неттом по пути в Англию. Мне
приходится много ездить, инспектор.
Такая уж у меня работа. Личность
отца Гарнетта произвела на меня
очень, очень большое впечатление.
— Правда, — согласился Эллен.
— Да, сэр. Я сам зарабатывал свои
деньги, шеф Мое образование про-
сто-напоосто забыло появиться, но
когда я вижу культуру, я уважаю
ее. Мне нравится, когда ее подают
сочно и красиво, вот как отец Гарнетт.
Когда мы высадились в Саусэмптоне,
эта церковь уже существовала в пла-
нах, в через полгода мы собирали уже
три сотни прихожан.
— Замечательно, — сказал Эл-
лен. — Откуда поступают деньги?
— Как откуда? От паствы. У отца
Гарнетта был малюсенький холл на
Грейт Холленд Роуд. По сравнению
с этим просто дешевка, но как он
тянул дело! Отец вел службу каждый
день целый месяц. Потом появилось
несколько влиятельных людей, они
притащили других. Когда он довел их
до энтузиазма, то устроил неделю
пожертвований и выдал серию высо-
ковольтных речей. Я сам дал пять
кусков и горжусь этим
— Кто были остальные?
— Ну, тысячу фунтов дала Дагмар
Кэндор, столько же — бедная Кара.
Потом мсье де Равинье и — короче,
все посвященные Я бы здорово за-
держал вашу работу, если бы стал
перечислять всех.
— Мисс Куэйн, должно быть, была
очень богата?
— Она была очень, очень богата
и обладала чудесным характером.
Боже, ведь еще и месяца не прошло,
как она положила в сейф за алтарем
облигации на предъявителя на пять
тысяч! Они там будут лежать, пока мы
не соберем еще столько же, и тогда
все это пойдет на строительство новой
церкви. Вот какой щедрой она была!
Найджел застыл с поднятой ручкой,
глядя на вдохновенное лицо мистера
Огдена. Он думал о том, как удиви
тельно податливы люди! Он бы не
сказал, что кто-то из них был особен-
но глуп, разве что миссис Кэндор. Но
все эти с виду разумные люди подда-
лись обаянию Гарнетта и расстались
со своими деньгами. Странно!
— Вот какой щедрой она была, —
повторил мистер Огден.
— Какие отношения были между
умершей и мсье де Равинье?
— С ума по ней сходил!
— Но я слышал, что посвященные
выше земной любви, — заметил
Эллен.
— Пожалуй, мсье де Равинье еще
не совсем стряхнул телесные цепи, —
сухо ответил мистер Огден. — Но
знайте: Кару он не интересовал! Нет,
сэр! Ее душа жаждала духовных тайн.
— Не желаете ли подвергнуться
обыску, мистер Огден? Мы делаем
это весьма аккуратно.
— Ну и ну! — вскричал Огден,
громко расхохотавшись. — Сколько
угодно, — сказал он, — сколько угод-
но. Ради бога! Не желаю ли я по-
двергнуться обыску! Конечно, желаю!
— Займитесь, Фокс, — сказал Эл-
лен.
Обыск закончился прежде, чем
мистер Огден перестал хохотать.
— Пузырьков с ядом нет, — весело
заметил Эллен. — Все, сэр!
— Здорово, — констатировал мис-
тер Огден. — Даже в Штатах не
смогли бы обшарить тщательнее, а это
кое-что значит! Ну что ж, инспектор,
если это все, то я удаляюсь
И он удалился.
— Следующего, пожалуйста, Бей-
ли.
Появилась Джейни Дженкинс.
Глава 5
ДЖЕЙНИ И МОРИС
Она была из тех женщин, которых
инстинктивно называешь просто по
имени. Она была похожа на свое имя.
Невысокая, хорошо сложенная, кур-
носая, с прямыми тщательно приче-
санными волосами, живыми черными
глазами и смешливым ртом. Не краси-
вая, но привлекательная. Ей было
около 22. Она быстро вошла, непри-
нужденно села и обратилась к Элле-
ну: — Ну-с, инспектор Эллен, за дело.
Я отвечу на все вопросы, деликатные
и неделикатные; только быстрее.
— Я благодарю всех богов, —
ответил Эллен, — ведь вопросов в
этом месте хватает. Простите за
шутку.
— Ничего Это просто обычная
показуха!
— Не очень-то вы похожи на
посвященную!
— Право? Ну, я и не считаю себя
очень хорошей посвященной. Я соби-
раюсь пойти на попятный, инспектор
Эллен. Нет, не из-за этого ужасного
случая. По крайней мере, не уверена,
что из-за этого. Наверное, он показал
нас в неприглядном свете. — Она
остановилась и наморщила лоб. —
Наверное, это все кажется вам липой,
но... но... в этом что-то есть... по-
моему.
— На предпоследнем курсе я всту-
пил на два месяца в Плимутское
братство. Тогда это казалось мне
ужасно важным. Кажется, сейчас они
занимаются черной магией.
— Да, Морис пробовал сначала
пристроиться к ним. Потом
переключился на это.
— Вы говорите о мистере Прингле?
— Да.
— Это он привел вас сюда?
— Правильно догадались, — сказа-
ла Джейни. — Он.
— Когда?
— Уже с полгода.
— Вы быстро продвинулись.
— Сегодня я впервые была посвя-
щенной. М< рис уже принадлежал
к ним. На следующей неделе я долж-
на была начать курс специальной
подготовки.
— Но вы не пойдете на него?
— Нет, — ответила Джейни.
— Почему же?
— Я сомневаюсь во всем этом. Уже
давно, если быть честной.
— Тогда зачем?..
49
— Морис настаивал. Видите ли, мы
помолвлены. Он больше ни о чем
говорить не мог. Он очень слабо-
нервный... ужасно чувствительный...
даже уязвимый, и я подумала...
— Вы подумали, что за ним стоит
присмотреть?
— Да. Не знаю, зачем я говорю вам
все это. Морис поклонялся отцу Гар-
нетту. Он, как сказал бы мистер
Огден, с ума по нему сходил. Я ду-
маю, отец Гарнетт захватил его
воображение. Морис чутко реагирует
на личный магнетизм
— Да.
— Я и сама его ощущаю. Во время
проповеди кажется, что ты на грани
какого-то важного откровения. Нет,
не совсем так! Все кажется логичным
и безупречным.
— Ощущение идеальной конкрет-
ности, — пробормотал Эллен. — Ка-
жется, такое же чувство возникает
у курильщиков опиума...
Джейни покраснела.
— Вы хотите сказать, что слова
действуют на нас, как наркотик? Не
могу вполне согласиться с вами. Но
о чем же я говорила? Ах да! Недавно
Морис стал подозревать тут под-
водные течения. Он поставил отца
Гарнетта на пьедестал, понимаете,
и любой намек на мирские интересы
его расстраивал. А некоторые прихо-
жанки — в том числе миссис Кэндор
и бедная Кара тоже, боюсь, были
слишком откровенны в своих притяза-
ниях. Мориса это ужасно раздражало.
— Понимаю.
— Ему казалось, что миссис Кэндор
ревнует к мисс Куэйн, а отец Гарнетт
старается скрыть это. Но, пожалуйста,
не подумайте, что миссис Кэндор
проявляла ревность так заметно. Мо-
рис все преувеличивает. Вы ведь
верите мне? Правда?
— Не совсем, — возразил Эл-
лен.— Мне кажется, вы недооце-
ниваете что-то.
— Да нет же. Ах, зачем я вообще
говорю все это! Я не буду больше
отвечать. Отпустите меня! — Ее голос
задрожал, руки сжались в кулаки Она
встала.
— Разумеется, вы можете идти,
мисс Дженкинс, — мягко сказал
Эллен. — Вы были свидетелем не-
приятного инцидента, и это потрясло
вас. Поверьте, не стоит упрекать себя
за то, что вы сообщили. Если бы люди
понимали, что в таких случаях помочь
полиции — их моральная обязан-
ность. Ведь молчание иногда может
навлечь опасность на невинного! Но
я становлюсь высокопарным и через
минуту начну шутить. Спасайтесь,
мисс Дженкинс!
— Я хотела бы подождать Мориса
Могу я просто посидеть на скамейке?
— Конечно. Вас не очень побеспо-
коит, если наша сотрудница осмотрит
вас. Вас когда-нибудь обыскивали?
— Никогда. Звучит это противно
но, наверное, так надо.
— Очень разумно Инспектор Фокс
проведет вас к нашей женщине. А я
поговорю с молодым человеком.
Джейни вышла вслед за Фоксом
и исчезла в тени. Когда Фокс вернул-
ся, Бейли ввел Мориса Прингла.
Морис быстро огляделся и, заметив
Эллена, замер, словно ищейка. Он
спустился в зал, но сесть отказался.
Засунув руки в карманы, он старался
стоять спокойно.
— Ну-с, мистер Прингл, — энер-
гично начал Эллен.
— Где Джейни? Где мисс Джен-
кинс? — требовательно спросил Мо-
рис.
— Ждет вас.
— Что вы хотите знать?
— Все, что вы можете сообщить
мне в связи с этой историей.
Морис молчал. Эллен спросил про
запах и услышал про благовония.
— Скажите, что скрывает мистер
Гарнетт? Чего не поделили миссис
Кэндор и мисс Куэйн?
— Я отказываюсь отвечать! Это
мое дело!
— Ладно. Фокс!
— Сэр?
— Передайте мисс Дженкинс, что
мистер Прингл сейчас не желает
ничего говорить и что пусть она не
ждет. Найдите ей такси. Она немного
переутомилась
— Хорошо, сэр.
— Зачем это? — сердито возразил
Морис. — Я сам отвезу ее домой.
Фокс остановился.
— Боюсь, мне придется немного
задержать вас, — сказал Эллен.
— Господи, как я ненавижу служак!
Прямо садизм.
— Пошевелипайтесь, Фокс.
— Оставайтесь на месте, — остано-
вил его Морис. — Я — как это у вас
говорится — я все скажу
Эллен улыбнулся, а Фокс вернулся
на скамью.
— Какого вы мнения о психологи-
ческом воздействии проповедей? —
вежливо спросил Эллен. — Как вы
считаете, что происходит с людьми,
попадающими под влияние красноре-
чивого оратора?
— Что с ними происходит? Господи,
да они его рабы!
— Сильно сказано, — сказал
Эллен. — И эта паства вам кажется
рабами мистера Гарнетта?
— Если хотите — да. Да. Да. Да!
— И вы в том числе?
Молодой человек странно взглянул
на Эллена, словно пытался поймать
его в фокус. Его губы задрожали.
— Поглядите! — сказал он
Эллен подошел к нему, пристально
посмотрел в его лицо и тихо произнес
одно слово. Морис кивнул.
— Как вы догадались?
— Вы сами предложили мне по-
смотреть. Г лаза. Суженные зрачки.
А также, извините, по вашему поведе-
нию.
— Я ничего не могу с собой
поделать.
— Еще бы! Это дело рук мистера
Гарнетта?
— Нет. Я имею в виду, ему достает
это кто-то другой. Он... он дал мне
специальные сигареты. Слабые. Он
сказал, что они развивают восприятие.
— Без сомнения.
— Так оно и есть! Просто чудо. Все
кажется таким ясным. Только...
— Теперь, сдается мне, это уже
далеко не слабые сигареты. А другие
посвященные тоже пользуются корот-
ким путем к экстазу?
— Только не Джейни. Джейни не
знает. Огден тоже. Не говорите Джей-
ни.
— Не беспокойтесь. А другие?
— Нет. Кара Куэйн начинала.
Кэндорша занималась этим еще до
того, как отец Гарнетт нашел ее. Ог-
ден и де Равинье не принимают. Прав-
да, насчет де Равинье точно не знаю.
Я хотел бы, чтобы он попробовал! Все
должны попробовать, а потом можно
и бросить.
— И вы можете?
— Конечно! Я и не собираюсь
продолжать.
— И вы все встречались в квартире
мистера Гарнетта и курили его сига-
реты?
— Сначала. Но в последнее время
эти двое... миссис Кэндор и Кара стали
приходить в другое время — Морис
поднял руку и потянул себя за
нижнюю губу. — А потом... потом
Кара начала готовиться к званию
Избранного Сосуда и приходила одна.
Недели три назад я зашел к нему. Они
даже не услышали меня. Боже! О Бо-
же! Фригга и Один! Избранный
Сосуд! — Он жутко рассмеялся и
упал на стул. Уронив лицо на руки, он,
не скрываясь, громко зарыдал.
В глубине зала из тени выступила
фигурка.
— Вы закончили, инспектор
Эллен? — спросила Джейни.
Она говорила так спокойно, что
Найджел не сразу понял, что она
в ярости.
— Я закончил, — серьезно ответил
Эллен. — Вы можете ехать домой.
Она наклонилась над Принглом...
— Морис, дорогой. Морис! По-
йдем...
— Оставь меня в покое, Джейни.
— Не оставлю! Ты должен увезти
меня домой.
Мориса быстро обыскали, и она
увела его.
— Кто объяснит мне, — жалобно
воззвал Найджел, — почему сей мо-
лодой человек ведет себя так стран-
но? Почему он попросил тебя посмот-
реть на него? Почему ты посмотрел на
него? Что ты сказал Принглу? Почему
Прингл разрыдался? Что за причина?
— Героин и духота, — рявкнул в
ответ Эллен.
Продолжение следует
50
ш
-О
о
о
О.
Г
X
ш
3
<
со
о
С
55
S!
О САМОМ СЕБЕ
Глава III
Что я могу? Телепатия
Я отделяю мистику и шарлатанство от
умения читать мысли, которое не имеет
ничего общего ни с мистикой, ни с шарла-
танством. К сожалению Калиостро не
оставил ни дневников, ни записок: при-
писываемые ему мемуары подложны. Его
загадочный образ привлекал к себе внима-
ние многих писателей — от Александра
Дюма до Алексея Толстого. Но они рисова-
ли фигуру этого человека, базируясь
главным образом на легендах и преда-
ниях... В свое время я заинтересовался его
личностью и проанализировал некоторые
записи и свидетельства современников. Да,
это был очень ловкий человек, но, несомнен-
но, обладал и способностями телепата.
Калиостро, безусловно, преувеличивал
свои возможности. В этом родствен ему был
и Ганнусен-Л аутензак, утверждавший, что
его устами могут говорить души умерших.
Для этого он учился изменять голос,
пытался освоить чревовещание... В этом
плане и Калиостро и Ганнусен были
людьми непорядочными, стремящимися ис-
пользовать свои способности для
корыстных целей.
И Калиостро и Ганнусен были типичными
представителями своего общества. Совсем
иначе слагаются отношения между людьми
у нас Иной становится и психология
телепата. Недавно мне рассказали об очень
интересной встрече молодого телепа-
та-любителя Карла Николаевича Нико-
лаева и известного противника телепатии
профессора Александра Исааковича Ки-
тайгородского. Незадолго перед этим скеп-
тически настроенный профессор выступил
со статьей в «Литературной газете». Основ-
ной тезис статьи заключался в том, что,
поскольку нельзя объяснить прямую пере-
дачу образов, ощущений, мыслей из мозга
в мозг участием какого-либо вида электро-
магнитных волн, то и телепатии быть
принципиально не может. И тогда К- Н. Ни-
колаев пришел в редакцию журнала «Зна-
ние — сила» и сказал:
— Согласен встретиться с Китайго-
родским, чтобы он провел со мной аб-
I
Продолжение Начало № 2, 5, 7, 8
солютно беспристрастные опыты и устано-
вил истину.
Вот это совершенно новый подход к воп-
росу и со стороны телепатов!
Раз уж зашел разговор об этой встрече
скептика-ученого и телепата, расскажу, чем
она кончилась. Николаев показал все, что
он мог показать. Ему удалось поколебать
убежденность ученого. Как честный чело-
век, профессор Китайгородский в заключи-
тельном слове сказал, что ему еще пред-
стоит обдумать все увиденное и он напишет
новую статью, в которой поставит вопрос
о необходимости исследования телепатии
научными средствами.
Несколько слов о доводах профессора
Китайгородского против телепатии, выска-
занных в его статье. Нет-де поля, которое
могло бы здесь участвовать. Это достаточ-
но старое и наивное возражение.
Давным-давно известно, что мыслительная
деятельность человека сопровождается
возникновением в его мозгу электрических
токов. Приборы умеют их снимать и за-
писывать в виде зубчатых кривых на
широких листах бумаги. Причем чем энер-
гичнее, чем напряженнее думает человек,
тем резче эти кривые линии. Значит, при
рождении мысли рождаются и электричес-
кие токи и сопровождающее их электромаг-
нитное поле. Почему бы не считать его той
материальной субстанцией, которая
участвует в передаче мысли? На это обычно
возражают: токи эти слишком малы, и рож-
даемое ими электромагнитное поле, соот-
ветственно, слишком мало. Его напряжение
так ничтожно, что уже на небольшом рас-
стоянии замерить его невозможно. Но это
тоже несерьезное возражение. На упомя-
нутой уже встрече К- Николаева с профес-
сором А. И. Китайгородским последний
привел несколько примеров поразительной
тонкости человеческих чувств. Он напомнил
об опытах академика С. И. Вавилова,
доказавшего, что человеческий глаз спосо-
бен улавливать, ощущать даже отдельные
кванты света... Рассказал об одном приеме
зарубежных коммерсантов, вставляющих
в ленту художественного кинофильма всего
один кадр рекламы. При демонстрации
кинофильма зритель не замечает этого
кадра, мелькнувшего на экране за
1/25 долю секунды, но совсем в другое
время вдруг всплывает в его сознании эта
реклама. Профессор рассказал о новых
опытах по определению на глаз взаимного
положения двух точек, сближенных так, что
глаз уже не различает, какая из них где
находится, но подсознательные чувства
подсказывают это человеку... Так почему
бы уважаемому ученому не предполо-
жить — пусть в виде гипотезы, что и
чувствительность человеческого мозга к
биотокам, рожденным в другом мозгу,
значительно выше, чем у наших приборов.
Почему не предположить, что всего один
или несколько квантов электромагнитного
поля, попавшие в этот воспринимающий
механизм, могут вызвать резонанс, своеоб-
разный лавинный процесс, значительно
усилиться и вызвать ощущения, анало-
гичные тем, что господствовали в излу-
чающем мозчу.
Другое возражение против электромаг-
нитного поля биотоков как переносчика
информации состоит в том, что его счи-
тают явлением не главным в процессе
мышления, а чем-то сугубо побочным,
вроде дыма из заводских труб. Я охотно
соглашаюсь с этим, но хочу напомнить, что
и по дыму из заводских труб можно многое
сказать о производстве. Дым мартеновских
печей скажет специалисту о рождающейся
стали. Дым из труб завода, в печах
которого идет обжиг ртутной руды, нельзя
спутать с дымом из котельной ТЭЦ и
т. д. Почему бы не предположить (да
простится мне эта вольная аналогия), что
у некоторых людей есть тонкие анализа-
торы, не только точно фиксирующие состав
этих «дымов», но и четко определяющие,
в результате чего эти дымы получились,
какую продукцию выпускает завод,..
Надо ставить опыты! Надо выяснять,
участвует ли в процессе передачи мыслей
электромагнитное поле. Со своей стороны
могу сказать: для меня почти безразлично,
есть ли у меня личный контакт с моим
индуктором или нет. Большинству телепа-
тов легче проникнуть в мысли человека,
если они держат его за руку. Может быть,
этот факт поможет ученым в поисках
истины?
Ну, а если окажется, что электромаг-
нитное поле здесь ни при чем? Надо
найти то еще не известное нам поле,
которое ответственно за телепатические
явления. Овладение этим полем может
51
нам открыть новые, совершенно удиви-
тельные возможности связи — не мень-
ше, чем дало изучение электромагнитного
поля. Вспомните: Генрих Герц открыл
радиоволны в 1886 году. И уже через сто
лет стало возможно радио, телевидение,
радиолокация, закалка токами высокой
частоты и т. д. и т. п. Почему не предполо-
жить, что новое поле подарит нам еще
большие чудеса?!
Что это за поле? Гравитационное?
А может быть, мы и вообще ничего не
знаем о природе этого поля, как сто лет
назад ничего не знали о радиоволнах.
Есть еще группа телепатов —
скрывающих свои возможности. История
знает немало проницательных диплома-
тов. С ними трудно было вести перего-
воры: они как-то угадывали самые
тайные мы< ли своих противников, самые
их хитроумные планы Предположим —
в порядке рабочей гипотезы, что неко-
торые из них не только пользовались
донесениями своих явных и тайных
агентов, не только обладали удиви-
тельными способностями анализа и со-
поставления, но и умели читать мысли
противника. Как вы думаете, стали бы
они афишировать свое умение? И это не
только среди дипломатов.
Мне вспоминается рассказ об одном
старшине сверхсрочной службы, работав-
шем на пограничной заставе Он был
грозой контрабандистов. Мимо его глаз не
мог пройти ни один самый хитроумный
мошенник. Куда бы ни запрягали пре-
ступники документы, золото, валюту,
наркотики, он находил их с первого
взгляда.
Подойдет к человеку, подозреваемому
в контрабанде. Посмотрит в глаза.
— Снимай левый сапог. Отвинчивай
каблук...
Или:
— Двойное дно у чемоданчика наружу
или внутрь открывается? Ах, наружу...
Отлично! Дайте мне отвертку...
Когда у этого старшины спрашивали,
как он догадывается о самых хитро-
умных фокусах контрабандистов, он
отвечал:
— Сам не знаю... Но с первого взгляда
чувствую, когда дело подозрительно, и сра-
зу догадываюсь, где контрабанда, спрята-
на...
Мне думается, что этот старшина умел
читать мысли контрабандистов и ему
сразу становилось ясно, где скрыта
контрабанда.
Поиски запрятанных предметов — од-
на из самых обычных моих демонстра-
ций. С таких поисков я, по существу,
начинал свою карьеру еще в детстве,
в берлинском цирке.
Да, этот старшина, безусловно, телепат.
Но вполне возможно, что он и не подозре-
вает об этом. И если бы он пришел на
сеанс моих «Психологических опытов»,
то честно и искренне хлопал бы мне
и удивлялся вместе со всеми
Передо мной толстая папка газетных
вырезок. Все они о моих выступлениях.
Я внимательно просматриваю их, чтобы
решить, какие выбрать для цитирования.
Трудная задача. Они так похожи одна иа
другую! Только начинаются по-разному.
Здесь авторы позволяют себе дать во-
лю собственным впечатлениям, говорят
собс гвенными словами
Я приведу здесь отрывки из одной
рецензии, сделанной по «типовому проек-
ту». И совсем не важно, кто ее написал
и где она была опубликована.
В мире человеческого мышления
Психологические опыты Вольфа Мес-
синга.
«Человек с завязанными глазами, скло-
нившись над шахматной доской, сосредо-
точенно думает. Затем он уверенно берет
и переставляет одну, другую фигуру и,
наконец, ставит мат мнимому противнику.
Следует к тому же добавить, что «победи-
тель» до этого в шахматы никогда не
играл!..
Не торопись, дорогой читатель, делать
опрометчивые выводы. Во всем этом ты
можешь легко убедиться, познакомившись
с «Психологическими опытами» Вольфа
Мессинга, человека, обладающего высо-
кой и натренированной чувствительностью,
человека-анализатора. Правда, один, без
посторонней помощи, Вольф Мессинг мат
мнимому противнику не поставил бы. Ему
нужен индуктор, то есть человек, дающий
мысленные приказания, с которым он
находится в непосредственном контакте
(индуктор прочно держит рукою кисть
руки психолога). Однако во время сеанса
индуктор нем, как рыба, он даже может на
время закрыть глаза, заложить ватой уши.
Каким же образом Вольф Мессинг
«угадывает» мысли индуктора, находяще-
гося с ним в непосредственном контакте!
И. М Сеченов, а затем И. П. Павлов
установили, что в основе деятельности
мозга лежат рефлексы Благодаря ус-
ловным рефлексам мозг устанавливает
гибкие взаимоотношения с постоянно ме-
няющейся внешней средой... Вы, к приме-
ру. думаете о предстоящем через минуту
беге, и ваше сердце уже бьется чаще,
снабжая обильнее мышцы ног кровью... Вы
пеоеходите по перекладине с мыслью, как
бы здесь не оступиться, и сейчас же
произойдет слабое непроизвольное дви-
жение, которое может привести к не-
счастью. Эти едва заметные движения
(моторика) различных мышц сопутствуют
мыслям (идеям), и отсюда это явление
названо идеомоторикой. Вот эти едва
заметные движения организма, продикто-
ванные мыслью индуктора, и являются
источником угадывания его заданий. Неко-
торые зрители склонны считать, что Мес-
синг на самом деле получает мысленные
приказания индуктора на расстоянии. По-
добное мнение глубоко ошибочно... Если
Мессинг и отгадывает на расстоянии мысли
индуктора, то только потому, что мысль
индуктора влияет на состояние органов
движения и всего тела, а Мессинг обладает
способностью непосредственно ощущать
эти состояния
Если бы люди в течение многих лет
специально тренировали свои чувства в
этом направлении, они достигли бы опре-
деленных успехов. Так. у слепых крайне
обостряются обоняние, слух и другие
чувства. Для определения мыслей, прояв-
ляющихся в едва заметных движениях,
необходимо натренировать до виртуознос-
ти осязательное и мышечное чувство.
Таким натренированным и, безусловно,
одаренным человеком является Вольф
Мессинг... Например, Мессинг совершенно
свободно выполнил задачу одного из
зрителей, заключающуюся в том, чтобы
пройти в зал, вывести на сцену одного из
товарищей, вынуть у него из кармана
носовой платок, достать оттуда дюжину
пронумерованных бумажных уголков,
выбрать из них четыре и только те, из
которых можно будет сложить цифру
1917, то есть год свершения Великой
Октябрьской революции. Однако в практи-
ке Вольфа Мессинга случалось решать
куда более сложные задачи...
Опыты Мессинга не являются чем-то
сверхъестественным и таинственным, на-
оборот, они убедительно опровергают ре-
лигиозную мистику и суеверия в области
психической деятельности человека. Пси-
хологические опыты Мессинга наглядно
демонстрируют, что нет такого явления,
которое не находило бы объяснения с по-
зиции материалистического естествозна-
ния и марксистской философии».
Приведу выдержки из статьи, опублико-
ванной в № 3 журнала «Здоровье» за
1963 год. Эта статья так и называется «Об
опытах Мессинга». Написал ее профессор
Г. И. Косицкий.
«Много лет назад я побывал на одном из
выступлений Вольфа Мессинга. Ведущий
объявил, что Мессинг будет выполнять
любые задания, которые надо изложить
в письменном виде и передать жюри,
избранному из публики. Жюри будет
проверять правильность выполнения, са-
мому же Мессингу записки не нужны: он
воспримет содержание задачи путем
«передачи мысли».
В аудитории наступила тишина. Неужели
действительно мысль может непос-
редственно передаваться от человека
к человеку? Неужели существуют для
этого особые, электромагнитные волны
или лучи?
Мне захотелось убедиться во всем
самому, и я послал записку. Задание было
сложным
Приставной стул из 13 ряда принести на
сцену. Извлечь из кармана девушки, сидя-
щей на 10 месте в 16 ряду, два удостовере-
ния и сложить сумму цифр номера первого
из них и число, по которое действительно
второе. Достать из другого кармана деньги
в количестве, равном указанной сумме,
и положить их под левую переднюю ножку
принесенного стула.
Меня вызвали на сцену. Мессинг попро-
сил взять его за руку и сосредоточиться на
задаче. Яркий свет прожекторов слепил
глаза Я держал руку Мессинга, а он стоял
рядом Вдруг он ринулся со сцены в зал,
увлекая меня за собой, схватил приставной
стул в 13 ряду и вынес его на сцену.
Освоившись с необычной обстановкой,
я решил начать свой эксперимент. Я понял,
52
что моя рука, сжимавшая запястье Мессин-
га, оставалась все это время бесконтроль-
ной. Расслабив мышцы, я сосредоточился
на задании, которое старался передать ему
мысленно.
Со стороны все это выглядело, по-
видимому, довольно странно. Один чело-
век с застывшим взглядом замер на месте,
а другой суетился и метался вокруг.
Мессинг производил десятки мелких, по-
чти неуловимых движений в разных на-
правлениях, замирал на мгновение,
вглядывался в меня и начинал все сначала.
Рука моя оставалась безжизненной
— Не думайте о себе! Не думайте
о себе! — тихо произносил он, не в сос-
тоянии сделать ни шага. Он был неправ
я не думал о себе, а сосредоточился на
задании настолько, что перестал замечать
все вокруг
В этот момент стало понятно, что мысль
моя непосредственно передаваться ему не
может, что он улавливает ее только по
реакции моей руки Производя десятки
случайных движений в разных направле-
ниях, он мгновенно оценивает мою реак-
цию на каждое из них. Понятно, что если он
случайно движется в нужном направлении,
я реагирую на это по-другому. Он продол-
жает нужное движение, и снова следит за
мной. Это не «передача», а угад^.ие
мысли.
Я понял, что Мессинг воспр
движение моей руки. Так ли это? Я очень
легко стал сжимать ему руку каждый раз,
когда направление его движения оказыва-
лось правильным. Мессинг ожил. Каждый
раз он чувствовал едва уловимое пожатие
моей руки, когда начинал двигаться в нуж-
ном направлении.
Он нашел девушку в 16 ряду, вывел ее на
сцену (хотя в задании и не было этого)
и вновь начал делать десятки мелких
движений. Когда его руки оказались около
карманов, я вновь слегка сжал руку, а он
в то же мгновение извлек из карманов все,
что там было, и положил на стол. В одно
мгновение он успел прикоснуться по оче-
реди к каждому предмету, и вновь моя
рука слегка сжалась в тот момент, когда он
дотронулся до удостоверений.
Мгновение — и удостоверения отло-
жены в сторону. Он открыл их и начал
легко водить карандашом по строчкам.
Как только карандаш оказался около
нужной цифры, я вновь сжал руку. Так
повторилось и с другим удостоверением.
Затем я таким же образом привлек его
внимание к деньгам и помог ему угадать,
куда их нужно положить. Он выполнил всю
задачу, но о том, что я над ним экспери-
ментировал, он так и не догадался.
С той поры прошло много времени, и я,
наверное, не вспомнил бы этого случая,
если бы не предложение редакции отве-
тить на письма читателей журнала. Неко-
торые из них ставят тот же вопрос: может
ли мысль передаваться от человека к чело-
веку непосредственно? Ссылаются на теле-
патию. Приводят в качестве примеров
опыты Мессинга и других.
Я не видел опытов телепатов и не берусь
о них судить. Что же касается Мессинга, то
нужно со всей решительностью под-
черкнуть, что ничего таинственного и не-
тонятного в его опытах нет. К телепатии
они не имеют никакого отношения.
Наша мысль — продукт мозга и не
может существовать в отрыве от него или
от материи вообще Только идеалисты,
церковники думают, что мысль может
существовать в «чистом» виде, то есть вне
связи с материей. Когда человек передает
свою мысль другому, он передает мате-
риальные, весомые, зримые, слышимые
носители мысли: слова, текст, знаки и т. д.
Наука физиология неопровержимо до-
казала, что мысль — результат тонкой
и весьма сложной нервной деятельности
организма человека. Эта деятельность
может проявиться в виде движения, жеста,
слова, письма...»
Далее профессор Г. И Косицкий
рассказывает о том, что такое идеомо-
торные акты, как их можно регистрировать
с помощью точных приборов и как в опреде-
ленных условиях (например, у слепых)
развивается особая тонкая способность
к их восприятию. Изложив все эти сведения
и снабдив их цитатами из Сеченова и Пав-
лова, Г. И Косицкий продолжает:
«Природа с избытком наградила каждо-
го из нас огромными возможностями
и способностями, но многие из них не
всегда развиваются и реализуются. Чело-
век, использовавший эти удивительные
возможности и выдающиеся способности
и развивший их, может делать то, что
делает Вольф Мессинг. Благодаря дли-
тельным и настойчивым упражнениям он
развил свои природные способности, улав-
ливает такие тонкие реакции другого
человека, которые для многих остаются
незаметными и могут быть выявлены
только с помощью специальных чувстви-
тельных приборов. Обладая замечатель-
ной памятью, он точно запоминает распо-
ложение сцены, зала, лестницы и т. д. и мо-
жет двигаться с завязанными глазами так
же свободно, как это делают слепые
в знакомой обстановке.
Таким образом, опыты Мессинга —
результат огромного, напряженного тру-
да, отполировавшего до блеска то, что
в той или иной степени вкладывает приро-
да в каждого из нас. Нас покоряет тонкая,
филигранная его работа, и мы забываем,
что удивительная легкость, с которой он
выполняет свои опыты, в действительнос-
ти — результат длительной, упорной тре-
нировки, огромной концентрации внима-
ния и напряжения.
И этот огромный труд Мессинга поко-
ряет Мы не можем оставаться равно-
душными, когда слышим игру Давида
Ойстраха или Вана Клиберна. В этот
момент мы, конечно, не думаем о колос-
сальном труде, вложенном в каждое их
исполнение. Такова сила подлинного ис-
кусства и таланта...»
Эта статья - квинтэссенция убежден-
ности, что я не телепат и что все
объясняется обостренностью моих чувств.
Я готов даже согласиться с этим, если
только уважаемый мною профессор скажет,
каким способом подал мне знак сложить
номер первого удостоверения и число, по
которое действительно второе удостовере-
ние' Могу прибавить, что Г. И. Косицкий,
конечно, не первый, ставящий на мне
опыты. Их ставили и официально и неофи-
циально. И всегда — во всяком случае
в своих отчетах — ученые, с которыми
сводила меня судьба, старались обойти все
то, что не укладывается в гипотезу о чисто
идеомоторном механизме моей работы.
Смею уверить уважаемого ученого: все
попытки не подавать мне никаких сигналов
не срывали моих опытов. Конечно, мне
мешало, что ученый думал не о том, какое
задание я должен выполнить, а только
о том, чтобы не двигать рукой. Эти мысли
я и воспринимал в тот момент. Поэтому-то,
стремясь заставить его отвлечься и вер-
нуться к заданию, я попросил: « Не думайте
о себе». Пожатий руки последнего я,
кажется, не ощущал Помешать они мне
поэтому не moi ли. Во время сеанса я весь
погружен в стремление понять мысли
собеседника и мало что замечаю вокруг.
Помешать мне в работе скорее может
другое. Дело в том. что я не всех людей
одинаково хорошо «слышу» телепатически.
Да простится мне этот глагол «слышать»,
абсолютно не передающий сущности само-
го явления. Дело в том, что чужое желание
я ощущаю желанием же. Чужое ощущение
я воспринимаю как свое собственное. Если
мой индуктор представит себе, что он хочет
пить, то и я стану ощущать жажду. Если он
вообразит себе, что гладит пушистую
кошку, и я почувствую на руке нечто теплое
и пушистое. Мысль индуктора родится
в моей голове, словно моя собственная,
и мне когда-то стоило много труда научить-
ся отделять свои мысли от мыслей индукто-
ра. Вот в чем разница слова «слышать»
в обычном понимании и в телепатическом
понимании, как я его применяю гдесь.
Продолжение следует
ГОВОРЯТ
гости
S
ш
е;
ш
з-
О!
<
%
<
о
X
<
X
«Это незабываемо. То, что
мы увидели здесь, просто по-
разительно. Я имела совер-
шенно другое представление
о религии в СССР. Теперь
я убедилась, что никаким го-
нениям верующие не подвер-
гаются...»
Монахиня Мария
(Гурко), Франция.
На празднование были при-
глашены главы и представи-
тели поместных православных
церквей, иных конфессий,
различных международных и
национальных религиозных
организаций из 89 стран ми-
ра. В торжествах участвовало
517 почетных гостей.
53
1. “Affare Inglese”1
Материалы дела, называвшегося
в Апостольском дворце «Affare Ingle-
se», вновь попадают на стол мон-
сеньору Одрису Бакису. Он непрестан-
но думает о нем по мере того, как
общественный резонанс вокруг все
усиливается. На его памяти, как при-
знался Бакис коллегам, еще не было
столь прискорбного дипломатического
конфуза. «Английское дело» приняло
такие размеры, что пришлось обра-
титься к дипломатам-старожилам из
церковного Совета по связям с об-
щественностью и некоторым из их
коллег в Государственном секрета-
риате с настоятельной просьбой найти
выход из создавшейся деликатной
ситуации.
Их-то рекомендации и легли сейчас
на стол монсеньора. Один из вариан-
тов заключался в том, чтобы устранить
со сцены ключевую фигуру архиепис-
копа Бруно Хайма, папского пронун-
ция в Великобритании. Однако при
этом оставались двое других участии
ков драмы монсеньор Брюс Кент
и его непримиримый оппонент кар-
динал Джордж Бейзил Хьюм, ар-
хиепископ Вестминстерский и примас
всей Англии и Уэльса. Оба находятся
в эпицентре «английского дела».
«Дело» было спровоцировано на
редкость откровенным письмом, кото
рое написал принунций. Каким-то об-
разом письмо вскоре стало достояни-
ем печати. Бруно Хайм обвинил Кента,
тогдашнего генерального секретаря
британского Движения за ядерное
разоружение2, а заодно и его еди-
номышленников, в том, что они либо
симпатизируют Советам, либо яв-
ляются «полезными Советам идиота-
ми», или «идеалистами с шорами на
глазах».
Дело усложнялось еще тем, что
Хайм приложил к письму выдержку из
послания папы Иоанна Павла II
к ООН в июне 1982 года «При
существующих условиях, — говори
лось в ней, «сдерживание», основан
ное на взаимном балансе, является
Продолжение Начало в № а, У.
54
пусть не самоцелью, но все же шагом
к постепенному разоружению и потому
может считаться морально прием-
лемым». Связав слова папы со своими
личными нападками на Кента и на
ДЯР, пронунций допустил капи-
тальный дипломатический промах.
Бакис, как ни бьется, не может
понять, что заставило Хайма вести
себя со столь не свойственным ему
безрассудством. Цитируя папу, Хайм
как бы давал понять, что тот на его
стороне в споре с Кентом. Более того,
из-за промаха папского пронунция
Хайма казалось, что Святой престол
бесцеремонно вмешивается во внут-
ренние дела суверенной страны, к тому
же по вопросу, который расколол
британское общественное мнение.
В условиях приближавшихся всеоб-
щих выборов проблема ядерного разо-
ружения стала одной из острейших
в предвыборной борьбе. В этом кон-
тексте выходило, что Хайм якобы от
лица самого папы осуждает Кента,
таким образом поддерживая полити-
ческий курс г-жи Маргарет Тэтчер.
Обнародование письма Хайма не-
медленно втянуло в развернувшуюся
в печати полемику и кардинала
Хьюма. Он предостерег Кента,
объявив, что эти события «внушают
ему серьезное беспокойство» и что
генеральному секретарю ДЯР, воз-
можно, придется уйти со своего поста,
если движение перейдет на преиму-
щественно политические рельсы. Боль-
ше того, сообщалось, что сам Хьюм
поддерживает позицию г-жи Тэтчер.
В конце концов кардинал должен
был опубликовать специальное заяв-
ление. «У меня не было непос-
редственных контактов с политрчески-
ми лидерами консерваторов, говори-
лось в нем. Конечно, я знаю, какова
их позиция. Об этом все знают из
газет Но контактов со мной, повто-
ряю, они не поддерживали. Обычно
я реагирую болезненно, если вижу, что
какая-либо группа пытается оказать
на меня давление»
Высказались все, кроме Кента, хра-
нившего молчание. А страсти вокруг
него тем временем накалялись
Находящийся в Западной Германии
в больнице, где ему делали операцию,
Хайм упрямо отказывается взять об-
ратно свои обвинения в адрес руково-
дителя ДЯР-
Бакису предстоит решить, как по-
ступить с папским пронунцием. Оче-
видно, Хайма необходимо наказать.
Ведь из-за него Сам папа оказался
вовлеченным в полемику, грозящую
подорвать его престиж: такие вещи
нельзя оставлять безнаказанными!
Один из вариантов, который рассмат-
ривает Бакис, состоит в том, чтобы
Ватикан, вопреки обычной практике,
публично отмежевался от позиции
Хайма, сославшись на то, что письмо
отражало всего лишь «частную» ини-
циативу, отнюдь не санкционирован-
ную свыше. Сам Бакис стоял за такое
решение и даже составил на сей счет
соответствующий проект. Однако до-
статочно ли этого? Не следует ли
отозвать Хайма? И из Лондона, и из
Ватикана доносятся весьма вли-
ятельные голоса, настаивающие на
том, что вмешательство Хайма было
чересчур серьезным, чтобы ограни-
читься полумерами.
Между тем Хьюм - именно так
расценят его позицию в Секретари-
ате вдруг переметнулся в стан про-
тивника: он решил, что Кент должен
оставаться руководителем Движения
за ядерное разоружение. Похоже, что
из двух противоборствующих лиц
именно Хайма кардинал считает на-
иболее компрометантной персоной.
И все же Бакис колеблется и не
решается отозвать Хайма из Велико-
британии.
В чем причина его нерешительнос-
ти? Может быть, страх перед еще
более серьезным скандалом, чем тот,
который вызвали заявления Хайма
в адрес Кента и ДЯР? Ведь в течение
последних четырех лет папский по-
сланник играл первостепенную роль
в тайных попытках Святого престола
помочь восстановить мир на земле
Северной Ирландии.
Кроме Бакиса и Казароли, очень
немногие в Ватикане знают об этом во
всех тонкостях. Маджи, знаток ир-
ландской проблемы,— один из них.
Уроженец Ольстера, он был секрета-
рем у трех пап, прежде чем стал
церемониймейстером у нынешнего.
В свое время именно он возглавил,
правда, безуспешную попытку спасти
объявивших в ольстерской тюрьме
голодовку членов Ирландской респуб-
ликанской армии (ИРА). Учитывая
опыт Маджи в ирландских делах, его
попросили оказать содействие в осу-
ществлении новой ватиканской ини-
циативы Папский нунций в Дублине
Алибранди непосредственно занят
изучением реакции на нее.
Но ключевой фигурой остается все-
таки Хайм.
Независимо от Хьюма, пронунций
проводит неофициальные встречи с
высокопоставленными членами каби-
нета и оппозиции. Некоторые были его
гостями на обедах в его резиденции —
большом особняке, выходящем окнами
на Уимблдон-Коммон, на юго-западе
Лондона. Там, в тиши и уединении
своих великолепных апартаментов,
пронунций исподволь старался вну-
шить своим собеседникам, что, воз-
можно, пришло время Британии
вывести войска из Ольстера и согла-
ситься на размещение там миротвор-
ческих сил ООН
До самого отъезда на лечение
в Западную Германию Хайм,проявляя
«Английское дело» (итальянок.).
Сокращенно ДЯР влиятельная паци
фистская организация, выступающая протш
размещения крылатых ракет на британскои
земле
G. Thomas, М. Morgan-Witts. Ltd. 1984
предельную осмотрительность, про-
должал пропагандировать свою идею.
Незадолго до выступления против
Кента, Хайм как будто сообщил Каза-
роли, что приобретает понимание
и Поддержку.
Вероятно, по всем этим причинам
Одрис Бакис колеблется в отношении
отставки Хайма. Конечно, его неудач-
ное выступление против Кента
весьма опрометчивый шаг Однако
отзыв папского пронунция из Лондона
может повлечь за собой еще более
негативные последствия, ибо одна из
заветных надежд Иоанна Павла II
стать тем, кто остановит кровопроли-
тие в Ольстере.
Хайм должен оставаться в Лондоне.
Таково решение Бакиса.
2. Похищение Эмануэлы
...В половине пятого Камилло Сибин
появляется на пороге кабинета папы.
Он пришел, чтобы обсудить событие,
случившееся, пока папа и он сам,
начальник ватиканской службы без-
опасности, находились в Польше.
Дело касается папского курьера Эрко-
ле Орланди.
Похищена его дочь Эмануэла.
Иоанн Павел II оказывается вновь
вовлеченным в хитросплетения между-
народного терроризма.
Придя в себя от шока, вызванного
этим сообщением (это первое в исто-
рии похищение ватиканского гражда-
нина), папа приступает к обсуждению
мотивов преступления. У семьи Орлан-
ди нет значительных средств, чтобы
предположить, что похитители рас-
считывают получить выкуп, зарпла-
та папского посыльного относительно
скромная Но даже если похищение
и связано с вымогательством, то по-
хитители адресовались бы к работо-
дателю Эрколе Орланди, т. е. к Ва-
тикану. Однако никаких обычных
в таких случаях требований пока не
поступало.
Вместе с тем Сибин сомневается, что
похищение совершено на почве «crime
passionel»3: начальник службы без-
опасности уже установил, что у Эма-
нуэлы не было поклонников. Правда,
не исключено, что ее похитила банда
гангстеров, специализирующихся на
продаже молодых девушек в пуб-
личные дома ближневосточного ре-
гиона.
Однако, по мнению Иоанна Павла
II, эта версия маловероятна. Папа
убежден, что похищение девушки име
ет отношение к должности ее отца.
И он рисует такую картину. Эмануэла
могла, конечно, вполне невинно, по-
хвастаться своим друзьям, что ее отец
работает у самого папы римского.
И какие-нибудь авантюристы решили,
что «папский посыльный» Орланди
является важной особой, посвященной
в тайны Ватикана
Разве, задает папа вопрос Сибину,
исключено, что Эмануэлу похитили по
политическим соображениям? И что
похитители вовсе не собираются вымо-
гать деньги у семейства Орланди,
а хотят получить нечто гораздо более
ценное у Ватикана?
...Сестра Севериа Баттистино нажи-
мает кнопку коммутатора и произно-
сит неизменное «Ватикане» («Ватикан
слушает»).
Голос как будто принадлежит чу-
жестранцу: судя по всему, он молод
и явно нервничает. Она спрашивает,
с кем его соединить.
— С Казароли.
Телефонистка вздыхает Не прохо-
дит и дня, чтобы не раздавались такие
звонки, требующие к телефону если не
самого папу, то уж кого-нибудь из
наиболее известных кардиналов, та-
ких, скажем, как государственный
секретарь Казароли. На этот случай
выработан стандартный ответ. «Его
преосвященство в данный момент,
к сожалению, занят, но, может быть,
синьор может изложить то, что соби-
рался сказать по телефону, в письмен-
ном виде?» — спрашивает сестра Се-
верна.
- Я хочу говорить с Казароли об
Эмануэле! — голос неожиданно стано-
вится агрессивным. Дайте мне Ка-
зароли — или считайте, что с Эма-
нуэлей все кончено.
Сестра Севериа внутренне собирает-
ся. Сибин предупредил телефонисток
о возможности подобного звонка, и
сейчас она действует в соответствии
с инструкцией. Рядом с каждой из
дежурных монахинь-телефонисток ле-
жит блокнот. Сестра Севериа быстро
пишет одно слово: «Сибин» и пере-
брасывает листок соседке. Та незамед-
лительно набирает номер внутреннего
телефона, зарезервированного главой
службы безопасности Ватикана спе-
циально для таких сообщений.
На столе Сибина четыре телефо-
на звонит один из них. Трубку берет
помощник: шеф вышел, сообщает
он. Телефонистка мгновенно вспоми-
нает, что Сибин предупреждал, что
направляется в Святую палату.
Монахиня набирает очередной но-
мер. У аппарата отец Бруно Финк
секретарь. Да, Сибин был в палате, но
только что ушел.
Пока идут поиски по телефону,
сестра Северна по-прежнему неукос-
нительно придерживается полученных
инструкций. Она записывает время
(9 часов 57 минут) и пытается узнать
имя того, кто звонит.
Голос на другом конце провода
дрожит от гнева:
- Кончайте тянуть время! Хотите
узнать, откуда я звоню? Ничего не
выйдет! Я повешу трубку. И все будет
кончено. С Эмануэлой тоже! Ясно?
Дайте Казароли!
Теперь и другая соседка сестры
Северии подключилась к поискам Си-
бина: она обзванивает один за другим
все пять сторожевых постов Ватикана
с просьбой срочно разыскать босса.
Сестра Севериа между тем пытается
успокоить рассерженного собеседни-
ка:
Пожалуйста не думайте, что
я пытаюсь вас обмануть. Но я должна
знать ваше имя, понимаете?
Еще одна телефонистка связывается
с постом карабинеров на площади
св. Петра. Дежурный офицер звонит
на Виа Дженова в «квестуру»
штаб-квартиру римской полиции.
Трубку берет капитан Никола Каваль-
ери, возглавляющий в оперативном
отделе подразделение по делам об
убийствах и похищениях. Он бес-
страстно выслушивает сообщение
дежурного офицера с площади
св. Петра о том, что ватиканская те-
лефонистка сейчас разговаривает
с человеком, знающим, где Эмануэла
Пока Сибин официально не обратит-
ся за помощью, он, к сожалению,
ничего не может предпринять: это один
из моментов, которые раздражают его
всякий раз, когда ему приходится
иметь дело с Ватиканом. Он не может
даже самостоятельно начать выясне-
ние номера, с которого звонят. Остает-
ся Ждать.
Сестра Севериа чувствует, что она
исчерпала все средства удержать че-
ловека на том конце провода...
Но вот одна из монахинь кладет
перед ней листок, на котором начерта-
но: «connettere»4.
Пока шли все эти переговоры,
Сибина удалось обнаружить, и сейчас
глава службы ватиканской безопас-
ности спешит в здание Государствен-
ного секретариата. Он уже распоря-
дился, чтобы звонившего переключили
на приемную Казароли.
Сестра Севериа пробивается к мон-
сеньору Эдуардо Мартинесу Сомало.
Первые два номера заняты, но третий,
к счастью, свободен.
Сомало выслушивает телефонистку
и спешит в кабинет Казароли.
Государственный секретарь сразу
прерывает свой разговор, берет трубку
телефона. Одновременно он делает
знак одному из помощников взять
параллельную трубку, чтобы вести
стенографическую запись разговора.
Впрочем, трудно назвать разгово-
ром краткие и категоричные требова-
ния: Эмануэлу Орланди вернут в том
Случае, если итальянское правитель-
ство отпустит на свободу Мехмета
Али Агджу.
— Кого вы представляете? — спра-
шивает Казароли.
Ответ уклончив:
— Людей, заинтересованных в ос-
вобождении Али Агджи.
— Но это дело,— возражает госу-
дарственный секретарь,- выходит за
рамки юрисдикции Ватикана, посколь-
ку Агджа содержится под стражей
в другом государстве — в Италии.
Вам следовало бы обсудить этот воп-
3 Преступление на почве страсти (итальянок.).
Соединяйте (итальянок.).
55
рос с министерством юстиции Италии
Однако если есть какие-либо новости,
касающиеся Эмануэлы...
Голос в трубке перебивает:
— Италия уже знает. Мы звонили
в АНСА5. Возможен только прямой
обмен. Мы вам — девушку, вы нам —
Агджу.
Казароли слышит легкий щелчок:
его собеседник повесил трубку.
Через несколько мгновений прихо-
дит Сибин. Узнав подробности, он
немедленно созывает оперативную
группу, созданную по делу Эмануэлы
Поджидая членов группы, начальник
службы безопасности Ватикана зани-
мается тем же, чем занят на протяже-
нии последних десяти дней: он снова
и снова изучает досье, где собрано все,
что имеет хоть какое-то отношение
к делу. Может быть, удастся обнару-
жить малейшую зацепку?
Итак, Эмануэла в тот день отправи-
лась, как обычно, к четырем пополудни
в одну из музыкальных школ в Риме на
занятия она играет на флейте. По-
том она неожиданно позвонила сестре
и сказала, что ей предложили работу
в рекламном отделе компании
«Авон» - продавать изделия фирмы
на выставках мод. Это был тот
счастливый случай, которого она жда-
ла: ведь не исключено, что на одном из
просмотров ее заметит какой-нибудь
знаменитый фотограф или агент бюро
по набору натурщиц? Тогда перед ней
откроется дорога к осуществлению
своей мечты: стать натурщицей-звез-
дой!.. Это были ее последние слова
Сначала в газетах появилось крат-
кое сообщение: в нем Эмануэла числи-
лась как «пропавшая». Но Сибин знал,
что это ненадолго: вот-вот разразится
газетная «буря». Он предупредил
семью Орланди, чтобы их не застигли
врасплох, и посоветовал ничего не
говорить представителям прессы.
Через некоторое время, с ведома
Иоанна Павла II, Ватикан предпринял
первые шаги: по городу были раскле-
ены две тысячи фотографий Эмануэлы.
Теперь лицо пропавшей девушки смот-
рело на прохожих со всех рекламных
щитов Рима
Ватиканский коммутатор буквально
захлестнули звонки газетных репорте-
ров, жаждавших новостей. Похитите-
ли, однако, молчали.
Интерес средств массовой информа-
ции к делу Эмануэлы еще больше
возрос цосле публичного обращения
Иоанна Павла II. Посоветовавшись
с Сибином и предупредив семью Ор-
ланди о задуманной акции, во время
своего выступления перед тысячами
верующих, собравшихся в воскресенье
на площади св. Петра, папа посвятил
часть проповеди страстному призыву
к освобождению Эмануэлы. Его голос
гремел из всех громкоговорителей,
установленных на площади, а радио
Ватикана вело прямую трансляцию
проповеди более чем на сто стран
мира. Глава римско-католической
церкви обращался непосредственно
к похитителям:
— Я разделяю беспокойство и му-
чительную тревогу семьи похищенной
и в то же самое время не теряю
надежды, что люди, ответственные за
это дело, проявят чувство гуманности!
Папа уведомил семью Орланди, что
он настроен оптимистически в отноше-
нии скорейшего отклика на сделанный
им шаг. Никто не мог и предположить,
что этим откликом станет требование
об освобождении Агджи.
Сибин прекрасно знает как дипло-
матические, так и юридические пре-
грады, делающие невозможным учас-
тие папского престола в предлагаемой
сделке. Полностью исключена сама
возможность обращения Ватикана к
итальянскому правительству по тако-
му делу Точно так же, если такое
требование было бы выдвинуто,
исключена и возможность выкупа
Эмануэлы Ватиканом.
В этом плане Эмануэла Орланди не
может рассчитывать на работодателей
своего отца. Но во всех других отноше-
ниях Ватикан не пожалеет усилий,
чтобы помочь ей. Со своей стороны,
Камилло Сибин намерен использовать
все свои могущественные связи с тем,
чтобы найти похищенную девушку.
Иоанн Павел II лично распорядил-
ся, чтобы начальник службы безопас-
ности Ватикана добился этого во что
бы то ни стало.
..Что касается капитана Никола
Кавальере, то он прекрасно знает
о том, что происходит, и это ему не по
душе: по его мнению, нынешняя си-
туация имеет явно политический при-
вкус
Именно об этом он не устает
твердить полицейским детективам,
своим подчиненным. Да, ворчливо
замечает худощавый капитан, посвер-
кивая своими пронзительными глаза-
ми, с того момента, как ему пришлось
заняться делом о похищении Эма-
нуэлы Орланди, он по уши погрузился
в политику, будь она неладна.
Начать с того, что политическим
является уже вопрос: кто ответствен
за- ведение расследования по делу
о похищении девушки? Обычно именно
в его, капитана Кавальере, юрисдик-
ции находится расследование любого
аналогичного преступления, совер-
шенного в пределах города. На этот
раз, однако, все обстоит иначе. Хотя
географически Ватикан занимает пло-
щадь в 108 акров по периметру
центральной части Рима, он столь же
далек от Вечного города, как Се-
верный полюс от Южного. Вступить
в его пределы Кавальере не может без
особого приглашения.
Капитану необходимо опросить не
только членов семьи Орланди, но и их
соседей, а также коллег папского
посыльного. Он хотел бы побеседовать
с ватиканскими священнослужителя-
ми, которые знают Орланди, побро-
дить по коридорам Апостольского
дворца — одним словом, заняться
этим делом так, как он привык, не
боясь ничего и не ожидая специальных
привилегий, бывая там, где он считает
нужным, и не ожидая разрешения от
кого бы то ни было: ведь люди
в обычных условиях, опасаясь наказа-
ния, не чинят помех при расследовании
такого рода преступлений.
Но в Ватикане Кавальере позволили
опросить только ближайших родствен-
ников Эмануэлы и не разрешили
предпринимать никаких иных
действий. Эти беседы, как и расспросы
школьных друзей Эмануэлы, практи-
чески ничего не дали. Самое примеча-
тельное в жизни девушки заключалось
в том, что в ней не было ничего
примечательного. Если не считать
желания Эмануэлы стать натурщицей,
то Кавальере не на чем основывать
версию для расследования. Между тем
его детективы опросили все агентства,
занимающиеся наймом натурщиц: там
о похищенной ничего не знали.
Весьма характерно, брюзгливо ска-
зал он своим помощникам, что о
расклейке объявлений с фотографией
Орланди ему сообщили в самую по-
следнюю минуту. А обращение папы
к похитителям он услышал в дневной
программе теленовостей в час трид-
цать по местному времени
Когда на следующий день поступило
требование об освобождении Агджи
в обмен на возвращение Эмануэлы,
Кавальере информировали об этом из
Ватикана сразу после звонка. На сей
раз ему была предоставлена полная
свобода действий.
Он тут же позвонил судье Мартелле®
и заявил, что должен переговорить
с Агджой, которого нужно доставить
в полицейское управление. Мартелла
согласился: они договорились, что
будут держать это в секрете.
Сейчас, стоя у окна своего служеб-
ного кабинета, Кавальере недоуме-
вает, как эта договоренность оказа-
лась так грубо нарушена: большой
квадратный двор, на который выходят
окна квестуры, заполнен телевизи
онными съемочными группами, ра-
диокомментаторами, репортерами га-
зет.
Пока Агджа находился на пути из
тюрьмы Ребиббиа (его перевели туда
из тюрьмы Асколи Пицено) в здание
полицейского управления, италь-
янское агентство новостей уже успело
передать об этом экстренное сообще
ние.
Кто предупредил агентство и п о ч е-
м у? Как опытный полицейский, Ка-
вальере убежден, что присутствие
иностранной прессы - отнюдь не про-
стое совпадение Кому-то явно тре-
буется, чтобы о приезде Агджи узнало
как можно больше народа, и не только
в Италии.
Продолжение следует.
6 Итальянское телеграфное агентство
6 Судья, занимавшийся делом Агджи.
56
_и--чг1ИЦЫ ИСТОРИЙ !
ф Вид посольского двора
в Китай-городе.
Из книги Б. Мейерберга
«Виды и бытовые
картины России
XVII века».
ф Царь Алексей Михайлович
(1629—1676).
X1
о»-*
Лондонская чума 1665 года изо-
бражена на сотнях картин и
гравюр, описана в десятках про-
изведений, в том числе «Жур-
нале чумного года» Даниэля
Дефо и бессмертном пушкин-
ском «Пире во время чумы»! Чума, действительно, «имела
место быть», и в своих душераздирающих описаниях
литераторы недалеко ушли от истины.
Но вот что поразительно, астрологи во многих странах
предупреждали о ней, однако власти не слышали их
пророчеств. И только в России царь Алексей
Михайлович, получив предсказание своего ученого докто-
ра Андреаса Энгельгардта, повелел закрыть порты, не
принимать суда и грузы из Англии, избавив свое госу-
дарство от ужасного бедствия! Так утверждается —
и особую достоверность этой картине придает то, что она
встает со страниц ученых трудов, авторы которых
принципиально отвергали всякую «мистику».
«Некоторыя особенныя нечаянный обстоятельства,—
писал в начале прошлого века русский ученый Вильгельм
Рихтер,— сделали Российское государство в 1665 году
отлично осторожным В сие время распространился
известный мистицизм, который приобрел безраздельное
влияние, заимствуя помощь от астрологии». Завидя на
небесах комету, царь Алексей Михайлович попросил
своего врача Андреаса Энгельгардта объяснить сие
замечательное явление, и доктор не замедлил подать
24 декабря 1664 года два письма, испытывая звезды и имея
«благородное стремление обратить науку сию с пользою
вообще на все могущие встретиться случаи... и таким
образом произвести благодетельное и вместе с тем
поразительное впечатление»
Рихтер отнюдь не был склонен к мистицизму. В его
признании, что Энгельгардт «умел астрологию свою
употребить в тогдашния политическия дела с великою
выгодою», звучит скорее досада скептика: то, чего быть,
казалось, не могло, происходило на самом деле!
Среди удачных пророчеств Энгельгардта названо «упоми-
нание о мире между Польшею и Россиею и о предстоящей
смерти тогдашнего короля польскаго... К нещастию,—
пишет В. Рихтер,— и в другом отношении письмо сие
достигло цели своей, поелику вдруг на следующий
1665 год обнаружилось точно ужасным образом моровое
поветрие в Лондоне и царь Алексей Михайлович в том же
оду. . принял действительныя и до тех пор необыкно-
57
венныя меры предосторожности, чтобы спастись от
предстоящего бедствия». Отметим это «к нещастию»...
При всем своем рационализме естествоиспытатель XIX
века, однако, отдал должное необычно точному предска-
занию Лондонской эпидемии, оценив его как факт,
требующий внимания: «Сие предсказание неблагополуч-
ное сбылось на самом деле. Случившееся в Лондоне
1665 года страшное моровое поветрие возбудило страх
и ужас во всех государствах и особенно в России, в коей,
чрез сие мнимое пророчество, давно ожидали сего
неприятного события. Почему указом царя Алексея
Михайловича запрещена была торговля с иностранцами.
И так как зараза опустошала Лондон, то и гавань Архан-
гельская была заперта». Рихтер привел в своем груде
и другие царские грамоты: английскому королю, новго-
родскому и двинскому воеводам, свидетельствующие
о масштабе карантинных мероприятий и серьезном
отношении русского правительства к эпидемии1.
В конце XIX века было уже понятно, что русская
карантинная служба имела многовековые традиции и при-
нятые в 1665 году меры никак нельзя было считать
«необыкновенными». Но в то же время слово «мистик»
окончательно превратилось для ученых в ругательное, так
что другой историк медицины, Л. Ф. Змеев, несправедли-
во упрекнул своего коллегу в «недостаточной принци-
пиальности»: «Рихтеру, как видно, хотелось отнести
(карантинные меры 1665 г. — Ав т.) более на счет
мистицизма, потому что тут же он рассказывает, как
спрашивали доктора Энгельгардта о будущем и как он
письменно предсказал мор».
Занятно, впрочем, что историк медицины и не подумал
усомниться в том, что доктор предсказал чуму, а русское
правительство приняло на основе предсказания свои
меры. По его словам, «из врачей Алексея Михайловича
Энгельгардт более астролог», чем врач (так Змеев вы-
разил свое недоверие еще к одному коллеге)2. К этому
отсутствию сомнений у ярых критиков «несом-
невающихся» мы еще вернемся...
Если русские историки медицины прошлого века все же
пребывали в некоторой растерянности от «вмешательства»
оккультных сил в дела их ведомства, то их коллеги
в середине века нынешнего действовали куда решитель-
нее. Твердо убежденные, что предсказания по звездам не
могут никого обмануть, они, например, заявили, что
«когда в 1665 г. до царя Алексея Михайловича дошли
слухи об эпидемии в Лондоне, он приказал жившему в то
время в Москве доктору Энгельгардту составить горо-
скоп...» Неважно, что в конце 1664 года, которым датиро-
ван гороскоп, царь не мог знать о чуме в Лондоне, вспых-
нувшей в 1665 году. Предсказания не могло быть, потому
что его не могло быть никогда! К тому же, по словам тех
же исследователей, «доктор ответил... что осенью (какого
года? — Авт.) во многих частях Европы большое коли-
чество людей погибнет от чумы. России же не грозит
ничего особенного»3. То есть карантинные меры были
приняты не благодаря, а вопреки пророчеству, по
которому России ничего не грозило!
По словам Рихтера, Энгельгардт сделал и другие
верные пророчества, но они попросту преданы забвению,
ибо неудобны, «не ложатся» в представления о воз-
можном и должном...
Итак, подытожим... В XIX веке двое ученых установили
факт принятия карантинных мер против Лондонской чумы
1665 года на основании астрологического прогноза,
который имел, с точки зрения естествоиспытателей,
мнимый характер (но оказался верным). При этом
3. Рихтер указал на сопутствующий факт — распростране-
ние мистицизма при дворе царя Алексея Михайловича, но
не стал углубляться в «неприятную» для него тему. Другой
ученый вместо того, чтобы продолжить исследование,
предпочел голословно обвинить коллегу в легковерии,
невзирая на собственные утверждения о наличии при
дворе астролога (а также о дорогостоящих мерах,
вызванных его предсказанием) Отсюда был уже один шаг
до искажения самих фактов, что и произошло в соот-
ветствии с общеизвестной логикой «опровержений», когда
тот или иной специалист просто не склонен занимать-
ся тем, во что не верит.
Ирония истории: многие церковные мракобесы —
«деятели контрреформации и организовавшие «кол-
довские процессы» протестантские пасторы, и право-
славные «мудроборцы»—с удовольствием пожали бы
руку иным современным гонителям «мистики»!
Вольнодумцы XVII века дали пример противоположно-
го — они не случайно отдавали столько сил и даже саму
жизнь борьбе за аргументированное и проверяемое
опытом знание. Русский просветитель Сильвестр Медве-
дев показывал народу взаимосвязь преклонения перед
авторитетом с невежеством власти стремились лишить
личность права «разсуждати себе», остановить наступле-
ние разума. Его, правда, остановить не удалось, несмотря
на ожесточенное сопротивление реакции. Но власть
развращает: заняв во многих областях господствующие
позиции, ученые-рационалисты переняли у своих побеж-
денных противников в том числе и авторитарные методы
«спора».
Учитывая это, попробуем разобраться в истории
с царем Алексеем Михайловичем, гороскопами и Лон-
донской чумой 1665 года. Как требовали вольнодумцы
XVII века, обратимся к фактам.
Кто такой был доктор Энгельгардт, «астролог» при
дворе русского царя?
Андреас Энгельгардт родился в городе Ашерслебене
(Саксония) в семье врача, 30 лет проработавшего у князя
Ангальтского. Начальную медицинскую подготовку
Андреас получил у отца, а затем, по обычаю, поступил
в университет и окончил его с дипломом магистра.
Защищать докторскую диссертацию на месте обучения
было не принято, и Андреас отправился в известный тогда
Франекерский университет (Фрисландия, Нидерланды),
где опубликовал свое диссертационное исследование по
эпилепсии. 19 ноября 1644 года Энгельгардт получил
диплом доктора медицины и принес клятву врача (текст ее
приложен к копии с диплома) Ко времени поступления на
русскую службу он имел десятилетнюю практику работы
городским врачом в Голландии, Шотландии, Германии.
В Аптекарский приказ он представил похвальную грамоту
городской общины Ашерслебена и рекомендательное
письмо корпорации врачей Любека.
В Центральном государственном архиве древних актов
СССР, где хранится фонд Аптекарского приказа, учрежде-
ния, ведавшего в XVII веке медицинской службой
Российского государства, о докторе собрано много
документов. Андреас Энгельгардт занимал в Москве
видное положение. Он получал один из высших денежных
окладов в государстве (больше боярина), имел доступ не
только к царю, но и к царице (что считалось особой
честью). С 1656 по 1666 годы жил в русской столице
солидным домом, с супругой и детьми, семейством брата,
привезенными из-за границы и нанятыми в Москве
слугами. При отбытии доктора Андреаса с русской службы
бранденбургский курфюрст Фридрих Вильгельм извещал
царя, что Энгельгардт «нам самим., ныне на нашу службу
надобен» и просил отпустить его «скорее к нам, где ему
дорога ближе будет». В 1677 году доктор со всем своим
домом вновь приехал в Россию, где был с честью принят
и где спустя 13 лет тихо скончался.
1 Рихтер В. История медицины в России. Ч. 1—3. М., 1814—1820; ч. 2,
с. 218—221, 136—137.
Змеев Л. В. Наши первые карантины. — Русский архив. М., 1988,
№ 2, с. 311; Чтения по врачебной истории России. СПб., 1896, с. 238.
3 Васильев К. В., Сегал А. Е. История эпидемий в России (материалы
и очерки) М., 1960, с. 69—-73.
58
. В России доктор Энгельгардт в основном занимался
лекарственной терапией. В архиве хранится значительное
количество выписанных им рецептов, причем в отличие от
коллег, докюр не всегда доверял изготовление лекарств
фармацевтам царской аптеки и занимался этим лично. Он
широко использовал местное сырье, но ежегодно за-
казывал большое количество лекарственных препаратов
и медицинской литературы за границей (казна каждый раз
выделяла на это по восемь подвод). Репутация царского
врача была безукоризненна. Помимо царской семьи
и придворных, его пациентами было множество русских
иноземцев, светских и духовных лиц, которые специально
добивались права лечиться у Энгельгардта.
А как же «мистицизм, который приобрел безраздель-
ное влияние, заимствуя помощь от астрологии»? В отличие
от многих позднейших ниспровергателей «мистицизма»
царский врач вел себя по отношению к сверхъес-
тественным явлениям как ученый: он их изучал
Алексей Михайлович обратился с астрологическими
вопросами к врачу не случайно. Во-первых, тот как
выпускник университета проходил курс астрологии. Во-
вторых, именно в медицине «небеса» занимали тогда
важное место; как выразился итальянский ученый эпохи
Возрождения Франческо Гьюнтини, «без астрологии врач
слеп и никто не поверил бы ему».
Вообще, ятроматематику — врачебную астрологию —
не следует изображать столь грубо и примитивно, как это
иногда делается в литературе XX века. Вот один пример.
В 1657 году лекарь Лев Личифинус представил царю
Алексею Михайловичу сочинение «О том, в какое время
года полезно делать кровопускание посредством банок
и сколько это полезно». А в 1907 году Н. Я. Новомбергский
назвал его «бессмысленным набором слов», и уже совсем
недавно, в 1978 году современный исследова1ель заяв-
ляет, что, по мнению «царских» врачей, «кровь можно
пускать при известном положении небесных светил,
состояние же больного при этом имело второстепенное
значение». Есть ли основания для столь безапелляционно-
го «приговора»?
По мнению Личифинуса, польза кровопускания зависит
от времени года (например, летом оно не рекомендуется),
от погоды, от физиологической готовности организма и,
в комплексе с этими показателями,— от положения Луны
и других планет. Самуил Коллинс в обнаруженном мной
трактате 1664 года сообщал царю, что нельзя отрицать
ценности любой народной медицины: китайской, ин-
дийской, персидской и других, что даже неграмотные
аборигены Бразилии обогащают науку новыми ле-
карственными 'препаратами. Но лично он, Коллинс,
придерживается медицинской традиции халдеев, древних
греков, римлян и арабов, в основу которой положена
натурфилософия и ятроматематика. Ученые спорят, ут-
верждал врач, могут ли звезды руководить поведением
человека, но их влияние на физиологическом уровне
несомненно и должно учитываться всегда, за исключением
случаев экстренной помощи.
Следует подчеркнуть, что настоящая ятроматематика
имела дело с индивидуальным гороскопом, где движение
звезд и планет служило, как мы теперь понимаем, не
столько фактором воздействия на организм, сколько
индикатором биологического цикла. То есть при вполне
мистической одежде ятроматематическое знание несло
и некоторые рациональные элементы, по крайней мере
опиралось на многовековую практику и оказывало полез-
ное психологическое воздействие на больного (вспомним
слова Гьюнтини о вере врачу).
Царь Алексей Михайлович желал иметь свое представ-
ление о влиянии звезд. Удивительно не то, что он
обратился к Энгельгардту за астрологическим прогнозом,
а то, что он сделал это только в конце 1664 года. Осенью
и зимой 1664 года поступавшие в Россию западноевропей-
кие газеты и летучие листки были наполнены самими
мрачными астрологическими прогнозами в связи с небла-
гоприятным расположением планет и приближавшейся
к Земле кометой. Предсказания вызвали столь сильное
беспокойство за границей, что Алексей Михайлович
пожелал узнать, насколько они обоснованы.
23 декабря доктор Энгельгардт подал царю ответ.
Обследовав календари И. Майера, К. Хааса и Э. Беккера,
он не нашел в них ничего, касающегося специально России.
Для других областей Европы календари предсказывали
«великое разорение от повальной болезни». Возможно,
писал врач, что это бедствие станет всеобщим, ибо
неблагоприятное расположение Марса и Сатурна, их
затмения, наблюдающиеся нарушения климата, заверше-
ние 11-летнего цикла (который, согласно наблюдениям
в Германии, имеет чума) и появление кометы могут быть
связаны с возникновением эпидемий. Но следует надеять-
ся, заключил доктор Андреас, что в России этого не
случится; «сверх того, поскольку русские соблюдают
обычай сохранять себя частым и постоянным употребле-
нием лука и особенно хрена, чуме нелегко будет к ним
пробраться!»
Если же государь интересуется специальным астроло-
гическим прогнозом для России, то доктор Энгельгардт
рекомендовал заказать гороскоп знаменитому специалис-
ту, например, Фурманну или Майеру. Царь не изъявил
такого желания.
Несколько волновавших его вопросов он задал самому
Энгельгардту, который в начале 1665 года ответил
обширным посланием Учитывая все новые сообщения из-
за границы об «ужасной» комете, царь спрашивал, что
такое комета с точки зрения науки и какое значение она
имеет для дел земных? Далее, поскольку затянувшаяся
война с Речью Посполитой вступила в решающую стадию,
когда любая случайность могла решить исход борьбы,
Алексей Михайлович интересовался, не предвещает что-
либо несчастия для России (например, эпидемии или
неурожая) или удачи (правда ли, что польский король
предается монашеской жизни и вот-вот покинет этот мир),
кто может надеяться на польскую корону и удастся ли
добиться долгожданного мира в ближайшее время, как
доктор рассматривает положение в Германской империи?
Энгельгардт, «движимый смиреннейшей надеждой
споспешствовать царскому величеству своими усилиями
и быть ответчиком во благо», в ответе указал на невоз-
можность составить гороскоп, не имея наблюдательного
оборудования или таблиц эфемерид. О комете тоже
ничего нельзя сказать наверное. Энгельгардт объяснил,
почему «никто из астрологов, сколь бы он ни был проница-
телен, не может а приори судить о ее подлинном
значении, разве что с помощью какой-то чудесной
догадки, то есть не может ничего предсказать». Доктор
Андреас не без иронии заметил, что появляющиеся
толкования кометы «будут одно другого поучительнее,
в той мере, в какой эти авторы смогут углубиться в тайны
международных дел».
На остальные вопросы Энгельгардт отвечал не как
астролог, а, скорее, как политический советник. Предполо-
жив, что в России болезни будут обычные (не эпидемичес-
кие), он добавил, что указаний на «бесплодие почв»
в календарях нет, а что касается короля польского, то он
вряд ли проживет долго. Но Ян-Казимир и не собирался
умирать или отказываться от короны. Вскоре вышли из
игры принц Конде и Себастьян Любомирский, которых
Энгельгардт назвал наиболее вероятными претендентами
на польский престол. Между прочим, именно это пред-
видел и своевременно использовал в политике русский
дипломат А. Л. Ордин-Нащокин, добившийся подписания
мира с Польшей.
А как же предсказание Лондонской чумы и карантины?
Никак — не было такого предсказания!
Не делал его Энгельгардт, ибо карантины были
введены в действие еще летом 1664 года в связи со
страшной эпидемией, поразившей Амстердам и Роттер-
59
дам. Вплоть до подтверждения (в 1665 году) сведений об
окончании эпидемии не только купцы, но даже великое
посольство Нидерландов подвергались строгому каран-
тину. По указанию правительства пограничные воеводы
должны были категорически возбранять проезд и провоз
в Россию людей, товаров и даже денег из любой страны,
где будет замечена эпидемия, не теряя времени на
согласование с Москвой.
События показали, насколько эти суровые меры были
оправданы. Дело в том, что в России с давних пор сформи-
ровалась теория эпидемий («морового поветрия»), близ-
кая к «контагиозной» школе итальянского врача Джирола-
мо Фракасторо; эта теория учитывала распространение
инфекции за счет прямых контактов с больными, с зара-
женными предметами и через воздух В других странах
последователи Галена отрицали заразность чумы, считая,
что божий гнев и неблагополучное влияние созвездий не
нуждаются в особых механизмах поражения людей
«черной смертью». Часть врачей полагала причиной
эпидемий как «контагий», так и «эпидемическую консти-
туцию»: сочетание необычных природных явлений (не-
свойственная времени года погода, землетрясение и т. п.).
Отсутствие «эпидемической конституции» не допускало
будто бы развития эпидемии через «контагий».
Поборником «эпидемической конституции» был доктор
Энгельгардт (и другие царские врачи-иноземцы, которым
по понятным соображениям и не позволяли участвовать
в борьбе с эпидемиями). Приехавшие из чумного Лондона
25 июня 1665 года доктора Вильсон и Кеннеди были
возмущены помещением их в карантин в 90 верстах от
Москвы, а особенно такими «крутыми» мерами, как мытье
в бане, уничтожение одежды, денег и других предметов,
которые могли нести в Москву заразу. В шестинедельный
карантин был отправлен и доктор Самуил Коллинз,
принявший коллег в своем доме И все же их участь была
гораздо лучше судьбы лондонских врачей, из которых
многие расплатились за научную ошибку жизнью.
Сведения о нидерландской чуме широко распростра-
нились в Англии лишь в сентябре 1664 года, но карантин,
хотя бы и с опозданием, не был установлен. В ноябре-
декабре, когда были зарегистрированы первые случаи
смерти от чумы в портовых кварталах Лондона, этим
сведениям вновь никто не придал значения. Зимние
холода замедлили распространение заразы.
А вот астрологи оказались предусмотрительнее вра-
чей, уже тогда предсказав страшное бедствие. Согласно
еженедельным «листкам смертности», в мае от чумы умер
41 человек. Один из оставшихся в живых врачей свиде-
тельствовал, что не был особо обеспокоен смертными
случаями мая и июня в трущобах — ведь это была «чума
бедных»! Согласно Даниэлю Дефо, лондонцы не предви-
дели опасности вплоть до июня, а сохранившаяся
переписка, хотя и отмечает эпидемию в июне, говорит об
«огромном страхе» лишь в июле.
Русский посланник В. Я. Дашков был более внимателен.
4 мая он покинул Лондон, а уже 12 июня царский указ
закрыл русские порты для англичан. 25 августа, когда
массовое бегство населения из Лондона разнесло чуму по
всей Англии, Алексей Михайлович официально уведомил
короля Карла II о прекращении сношений между
государствами на время эпидемии и не согласился открыть
границу летом 1666 года, когда король ложно известил
Москву об окончании «морового поветрия». Страшная
эпидемия, опустошившая Нидерланды, Англию, все при-
рейнские торговые города и докатившаяся до Дубровника,
на границах России была остановлена.
Так все обстояло на деле. Очевидно, звезды не
принимали в драматических событиях никакого участия.
Что же касается мистической легенды, то ее непроизволь-
но создали... ученые гонители мистики! Разбираться
с действительными фактами им было недосуг, и в резуль-
тате огульное отрицание только добавило рекламы тому,
что опровергалось. Поучительная история...
На Востоке говорят: «Сколь ни произ-
носи «халва», сладко не станет». Эта
мудрость вспомнилась нам, когда взялись
за анализ результатов зональной научно-
практической конференции «Атеистическое
воспитание в республиках Советского Вос-
тока: опыт и проблемы», состоявшейся
в нынешнем году в Душанбе.
Большая часть докладов, увы, этой теме
не соответствовала — не отражала темати-
ки, не была посвящена ни опыту, ни
проблемам, хотя и названа была актуально.
Это не голословные утверждения. Вот хотя
бы доклад Г. М. Керимова «Мусуль-
манский фундаментализм за рубежом».
В нем затрагивались проблемы, не
имеющие к жизни мусульман в нашей
стране никакого отношения Или выступле-
ние другого доктора наук — Р. М. Маджи-
дова «Из опыта работы КП Таджикистана
по борьбе с пережитками ислама». Из этого
отнюдь не короткого доклада следовало,
что главное направление борьбы — повсе-
местное искоренение обряда обрезания. Да
и другие выступавшие оказались не на
высоте, хотя настрой был вроде бы на
актуальность.
По контрасту с официальной частью
«круглый стол» после конференции, где
всем участникам была дана возможность
высказаться, как раз оказался живым
и еще раз подтвердил, что путь к истине
лежит через дискуссии. В итоге спорящие
во многом оказались единодушны.
Прежде всего еще раз согласились, что
нужен диалог между верующими и атеиста-
ми. Диалог на равных Почему он не
получается? Пропагандисты недостаточно
знают Библию и Коран. Верующие, в свою
очередь, как правило, поверхностно зна-
комы с сутью современного атеизма.
Вообще говоря, теоретико-атеистичес-
кое просветительство у иас предполагает
некую претензию на эрудицию и элитар-
ность. Дескать, атеист заведомо знает все
то, что верующий, и даже больше. Но ведь
это, увы, не так! Значит, необходимо
просветительство иное, основанное на ре-
альном положении вещей.
Конечно, просветительство — не выход,
позволяющий с ходу распутать весь слож-
нейший узел проблем, связанных с рели-
гиозным мировоззрением. Но чтобы уметь
читать, надо знать алфавит, а чтобы
выучить буквы, надо без языческого ужаса,
открыто взглянуть иа то, что давно су-
ществует рядом с нами и не собирается
исчезать?сколько ни замалчивай. Начинать
надо со школы, которая пока еще является
примером полнейшей безграмотности и дре-
мучего невежества в вопросах не только
религии, но и культуры Рискнем заявить:
без глубокого знания всех аспектов рели-
гиозного мировоззрения невозможны его
критическая оценка
А преподавание научного атеизма в на-
ших вузах? По-нашему, неверна просвети-
тельская практика в форме противопостав-
ления науки и религии, когда достижения
современного прогресса сопоставляются
с «темнотою и невежеством» религиозных
представлений. Не менее сомнительна и ин-
терпретация религиозных истин в духе
«здравого смысла». Существование атеиз-
ма как критики неизвестно чего логически
отрицает и сами марксистские ценности.
Вред такого атеизма несомненен.
Так сколько же можно о халве?
Робер САРДАР, Алексей РОМАНОВ
преподаватели философии
Семипалатинского мединститута
60
ПАМЯТНИКИ ОТЕЧЕСТВА
Тайны древних икон
Л. ЛЕБЕДЕВ
Кто изображен на
иконе «Троица»
Андрея Рублева?
Икона Андрея Рублева «Троица» —
вершина русского иконописного твор-
чества, а по мнению некоторых
специалистов, ей нет равных и во всем
мировом изобразительном искусстве.
Так или иначе, ее художественное
значение неоспоримо. Что же касает-
ся содержания, то, пожалуй, нет
иконы более загадочной. Речь идет
о решении простейшего на первый
взгляд вопроса: кто на ней изобра-
жен?
В исследовательской литературе на
этот счет существуют три гипотезы.
Рассмотрим их, исходя из предполо-
жений о мировоззрении Андрея Руб-
лева, о той богословской программе,
которой он руководствовался при
создании иконы.
ГИПОТЕЗА ПЕРВАЯ
На иконе изображены три
лица св. Троицы: Бог Отец,
Бог Сын и Бог Дух Святой.
Ее неубедительность, на наш взгляд,
очевидна. Ученик Феофана Грека, воспи-
танный в строгих традициях византийского
богословия, Андрей Рублев не мог и
помыслить о возможности непосредствен-
ного изображения ипостасей (лиц) «три-
единого Бога». Отступление в этом вопро-
се было тем более недопустимо, чтс
еретики — антитринитарии выдвигали на
первый план учение священного писания
о невидимости и неизобразимости бо-
жества. На этом основании они доказыва-
ли, что никаких икон Троицы вообще быть
не может.
ГИПОТЕЗА вторая
На иконе изображен Иисус
Христос «по божеству» в
сопровождении двух
ангелов.
Она соответствует наиболее традицион-
ному в XV веке толкованию данного
иконографического сюжета. Согласно Биб-
лии (Быт. гл. 18), Авраама и Сарру, живших
в дубраве Мамре, посетили три странника.
После трапезы и возвещения им о скором
рождении сына, двое странников отправи-
лись в близлежащие города Содом и Го-
морру, которые за их крайнюю развра-
щенность подлежали уничтожению, а тре-
тий остался с Авраамом.
Церковный историк Евсевий Кеса-
«Ч
s;
S:
§
о *
ЙЗ-ч.
us
АВРААМ, ИСААК, ИАКОВ. Фреска Ус-
пенского собора во Владимире. 1408 г.
(См. 1 страницу обложки).
рийский (IV в.) описал икону, находив-
шуюся в его время возле легендарного
дуба в Мамре. На ней была изображена
трапеза трех странников, которым прислу
живают Авраам и Сарра (отсюда этот
сюжет получил название «гостеприимство
Авраама»). Объясняя, почему центральная
фигура странника крупнее двух других,
Евсевий писал «Это и есть явившийся нам
Господь, сам Спаситель наш... Сын Божий
явил праотцу Аврааму, каков Он и дал ему
знание об Отце».
Один из крупнейших «отцов церкви»
Иоанн Златоуст (конец IV в.) подтвержда-
ет это толкование: «В куще Авраама
явились вместе и ангелы и Господь их; но
потом ангелы, как служители, посланы
были на погубление тех городов, а Господь
остался беседовать с праведником, как
друг беседует с другом, о том, что
намерен был сделать». Этим особым
преимущественным положением одного
из странников Златоуст объясняет обраще-
ние к ним Авраама в единственном числе:
«Владыка! если я обрел благоволение пред
очами Твоими...» (Быт. 18, 3). Наиболее
распространенный, в особенности на хрис-
тианском Востоке, иконографический тип
«Троицы» соответствовал такому толкова-
нию.
В пользу этой гипотезы приводились
следующие доводы.
+ Андрей Рублев в силу его подразуме-
вающегося богословского «традициона-
лизма» не мог отклониться от общеприня-
того канона.
+ Боковые ангелы изображены как бы
в готовности к движению, тогда как
средний ангел пребывает в покое.
+ Светлая полоса, так называемый
«клав», на хитоне среднего ангела — знак
его особого достоинства.
Эта гипотеза также не бесспорна.
0 Андрей Рублев, не выходя за пределы
византийской традиции, сумел наполнить
ее новым смысловым содержанием. «Ико-
на «Троица» Андрея Рублева резко отли-
чается от предшествующих ей памятни-
ков,— считает один из современных иссле-
дователей творчества Рублева Г. И. Вздор-
нов. — Она имеет полемическое содержа-
ние и, несомненно, была направлена
против еретических толкований догмата».
0 Известно, что Рублев в своих богос-
ловских «новшествах» опирался на автори-
тет Сергия Радонежского — «тайновидца
святой Троицы», как его именует житийная
летопись. К тому же недавно открытая
икона Троицы, написанная для Сергиева
монастыря на ТО—15 лет раньше «Троицы»
Рублева, показывает, что направление ду-
ховного поиска было уже задано. Рублев
завершает его, с гениальным совер-
шенством реализуя замысел, родившийся
до него и хорошо ему известный.
0 Как заметил М. В. Алпатов, у среднего
ангела приподнято правое колено, то есть,
как и боковые ангелы, он готов встать.
Гармоничное сочетание покоя и движения
характерно для всех трех фигур и для
композиции иконы в целом.
61
0 Несмотря на стертость изображения, на
хитоне правого ангела просматривается
клав зеленого цвета. Правда, на левом
рукаве, а не на правом, как у среднего
ангела.
0 На иконе отсутствуют Авраам и Сарра.
Этим иконописец дает понять, что содер-
жание иконы не привязано к библейскому
эпизоду «гостеприимства Авраама».
0 Если бы средний ангел изображал
Иисуса Христа, то, в соответствии с иконо-
писной традицией, его нимб был бы
восьмиугольным или крестчатым. Простой
круглый нимб свойствен изображениям
ангелов или святых.
0 Нимб среднего ангела заметно мень-
ше, чем нимбы боковых ангелов, что явно
противоречит предположению о его более
высоком иерархическом положении. Со-
ображение искусствоведа А. А. Салтыкова
о том, что уменьшенный размер нимба
среднего ангела служит для создания
впечатления «глубины» и, следовательно,
значительности фигуры среднего ангела,
малоубедительно. На иконе Андрея Рубле-
ва применена, в соответствии с иконопис-
ной традицией эпохи, не прямая, а обрат-
ная перспектива, то есть удаленные пред-
меты изображаются крупнее, чем близкие.
ГИПОТЕЗА ТРЕТЬЯ
Изображены три
ангела, понимаемые
как «образ и подобие»
св. Троицы.
Этой гипотезы придерживается боль-
шинство церковных богословов и неко-
торые искусствоведы. Как пишет, напри-
мер, А. А. Салтыков, «в этом произведении
художник изобразил, конечно, не сами
ипостаси, а ангелов, в действиях и атрибу-
тах которых они (ипостаси) проявляются».
В пользу этой гипотезы приводятся
следующие доводы:
+ Основная богословско-полемическая
задача Рублева состояла в наглядном
изображении «равночестности» трех лиц
св. Троицы; это возможно лишь в том
случае, если все три фигуры на иконе
являются существами одной и гой же
природы, в данном случае — ангельской.
В дорублевской иконографии идея равно-
честности выражалась в так называемом
«изокефальном» типе икон, распростра-
нившимся на Западе еще с VI в. и встречав-
шимся на Руси в эпоху Рублева В соот-
ветствии с этой задачей три фигуры
имеют одинаковые размеры.
+ Ангельская природа символизирована
крыльями и круглыми простыми нимбами.
+ «Непривязанность» изображения к биб-
лейскому эпизоду позволяет изменить
расположение фигур, являющихся образа-
ми лиц св. Троицы. Средний ангел может
пониматься как образ Бога Отца, его
центральное положение соответствует в
таком случае богословскому учению о
св. Троице как о «соборе равночестных
лиц» и в то же время как о «монархии
Отца». Среди современных искусствове-
дов такой точки зрения придерживалась,
например Н. А. Демина. Оригинальный
вариант этой гипотезы предложил ар-
хиепископ Сергий (Голубцов), считающий,
что образ Бога Отца расположен по левую
руку от центральной фигуры Бога Сына.
Сын оказывается в таком случае «одес-
ную» Отца. Большинство исследователей
(В. Н. Лазарев и пр.) считают, что Рублев
расположил образ Отца по правую руку от
центральной фигуры, символизирующей
Сына.
Против этой гипотезы также можно
возразить.
0 Во времена Рублева не существовало
устойчивой церковной традиции, выделяв-
шей каких-либо трех ангелов, равных по
своей значимости. В богослужебных и биб-
лейских текстах, в иконографии и цер-
ковных сказаниях четко выделяются два
высших архангела— Михаил и Гавриил, но
поставить с ними в ряд третье ангельское
имя затруднительно. В иконописных изоб-
ражениях высших ангельских чинов встре-
чаются четыре или семь «равночестных»
по положению ангелов, но число три для
ангельских иерархий совершенно не харак-
терно. Учитывая своеобразную «конкрет-
ность» богословского мышления той эпохи,
трудно представить, чтобы Рублев, изобра-
жая трех ангелов как образ св. Троицы, не
задался вопросом — какие именно ангелы
могут служить ее символом?
В связи с этим неизбежно вставал более -
принципиальный вопрос: может ли вообще
собор трех ангелов любого чина нести
в себе полноту образа св. Троицы? Речь
могла идти, конечно, не о полноте образа
в смысле совершенства (никакая «тварь
Божия», ни человек, ни ангелы не могли
претендовать на это), но лишь в смысле
внутренней структуры, самого принципа
триединства.
Исследуя иконографию ангелов у Рубле-
ва и его современников, можно высказать
предположение, что архитектоника ан-
гельских чинов соответствует не «структу-
ре» самой св. Троицы, но структуре
божественных энергий. Это наглядно про-
демонстрировано самим Рублевым в ико-
не «Спас в силах». Божественные энергии,
по учению Григория Паламы, хорошо
известному на Руси того времени, мысли-
лись не как энергии отдельных лиц
св. Троицы, но как энергии всей Троицы
в целом. Печать триединства должна была
лежать и на божественных энергиях и,
соответственно, на «ангельском соборе».
Но это был бы лишь вторичный, «энергети-
ческий» образ триединства, тогда как
Рублеву было необходимо дать первичный
образ триединства «ипостасного».
0 Крылья в иконографии рублевской
эпохи нельзя рассматривать как однознач-
ное указание на ангельскую природу. Так,
среди византийских и русских икон XIV—
XV вв. нередко можно встретить сюжет
«Иоанн Предтеча — ангел пустыни», где
пророк Иоанн изображен с крыльями.
Крылья в иконографии — это общий сим-
вол духовности, они могут принадлежать
как ангелам, так и святым, достигшим
особой степени одухотворения своей чело-
веческой природы.
0 При любом толковании расположения
фигур на иконе остается непонятным
уменьшенный размер нимба среднего
ангела. Будь он образом Сына или, тем
более, Отца, такое его «умаление» по
сравнению с двумя другими ангелами
ничем не оправдано.
0 Чаша с головой тельца на престо-
ле, безусловно,— символ евхаристии, т. е.
«причащения телу и крови» Иисуса Хрис-
та как человека. Если Андрей Рублев
хотел изобразить именно ангелов, то
непонятно, почему он подчеркивает евха-
ристический характер трапезы. В рамках
церковной традиции мысль о причащении
ангелов плоти и крови Иисуса Христа
представляется совершенно недопусти-
мой. Конечно, в библейском описании
«гостеприимства Авраама» указывается,
что странники ели и пили, но в этом
эпизоде ангельская природа странников
явным образом не подчеркивается.
В тексте Библии говорится, что к Аврааму
пришли «три мужа», то есть три человека.
В другом эпизоде жители Содома не
опознают ангелов в двух странниках и при-
нимают их за обыкновенных людей. Лишь
благодаря пророческому прозрению Ав-
раам постигает, что к нему явился Господь
в сопровождении двух ангелов (в неко-
торых преданиях утверждается, что это
Михаил и Гавриил). Одна из возможностей
богословского понимания этого эпизода
заключалась в том, что ангелы незримо
вселились в каких-то конкретных
людей, живших при Аврааме.
Поскольку изложенные гипотезы встре-
чают серьезные возражения, мы позволим
себе высказать еще одну, и попытаемся ее
обосновать.
ГИПОТЕЗА ЧЕТВЕРТАЯ
На иконе Андрея Рублева
изображены три человека,
являющие собой образ
св. Троицы.
В пользу этой гипотезы можно привести
следующие доводы.
+ Согласно текстам Священного писания,
среди всех сотворенных существ полнота
образа Божия принадлежит исключитель-
но человеку. «И сказал Бог,— повествует
Библия,— сотворим человека по образу
Нашему, и по подобию Нашему... И сотво-
рил Бог человека по образу Своему, по
образу Божию сотворил его...» (Быт. 1,
26—27). Про ангелов же говорится, что
«они суть служебные духи, посылаемые на
служение для тех, которые имеют насле-
довать спасение» (Евр. 1,14). По учению
отцов церкви. Бог, желая соединиться со
своим творением, стал человеком, а не
ангелом, именно потому, что только чело-
век несет в себе полноту образа Божия
и является «венцом творения».
Вполне достоверно предположить, что
для Андрея Рублева три человека, обре-
тающие единство в духовной любви,
представлялись наиболее совершенным
и полным образом ипостасного единства
Св. Троицы. В этом его должен был
убеждать также один из важнейших ново-
заветных текстов — так называемая «пер-
62
восвященническая молитва» Иисуса Христа
во время «тайной вечери», где он впервые
совершает евхаристию и причащает учени-
ков (Ин. гл. 13—17). Обращаясь к Отцу со
словами «Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе»,
Иисус просит Отца об учениках: «да будут
едино, как мы едино» (Ин. 17, 21—22).
Икона Рублева служила, таким образом,
наглядным выражением новозаветного оп-
ределения: «Бог есть любовь» (1 Ин. 4, 8).
•4- Биограф Сергия Радонежского Епифа-
ний Премудрый сообщает, что Сергий
призывал «взиранием на единство святой
Троицы побеждать страх перед нена-
вистной рознью мира сего». Единство
св. Троицы было для Сергия символом
собирания воедино всех людей русской
земли. Тот же Епифаний указывает, что
Андрей Рублев свою прославленную икону
«Троица» написал «в похвалу Сергию» по
заказу игумена Никона, ближайшего уче-
ника Сергия Радонежского. Можно ут-
верждать, что в кругу преподобного
Сергия возник определенный образ
мыслей, самобытный стиль богословство-
вания, и что Андрей Рублев являлся одним
из выразителей на языке иконы богос-
ловской программы, сложившейся в этом
кругу. Убеждение, что человеческая
любовь, человеческое соборное единство
является наивысшим воплощением св. Тро-
ицы, должно было сообщить проповедям
Сергия Радонежского и его последовате-
лей особое вдохновение и действенность.
+ Получает естественное объяснение ев-
харистическая чаша, образующая ду-
ховный и композиционный центр иконы.
Изображая ипостасное, личностное едине-
ние в любви, Рублев дополняет это
духовное единение символическим обра-
зом единства телесного, достигаемого
через причастие. Благодаря причастию,
утверждает апостол Павел, «мы, многие,
составляем одно тело во Христе» (Рим.
12,5).
+• Известна уникальная по своему содер-
жанию икона Троицы конца XIV века, так
называемая «зырянская», с рядом призна-
ков, характерных для иконы Рублева: три
фигуры за столом имеют одинаковые
размеры, в центре евхаристическая чаша,
древо расположено непосредс гвенно за
спиной средней фигуры, а не растет из
горы, как обычно Кроме того, у этой
иконы есть две замечательные особеннос-
ти. Каждая из фигур имеет крестчатый
нимб, снабжена надписью по-зырянски:
средняя — «отец», одесную — «сын», по
левую руку — «дух»! Одинаковость ним-
бов указывает на тождественность при-
роды трех изображенных лиц: поскольку
крестчатый нимб по традиции обозначал
Иисуса Христа как человека, то отсюда
следует, что «сын» есть человек Иисус,
а «отец» и «дух» — два других, «равнО-
честных» ему человека! На это указывает
гакже надлисание «отец», «сын» и «дух»
вместо «Бог Отец», «Сын Божий» и «Дух
Святой».
Эта икона не представляет собой худо-
жественного шедевра, но ее принципиаль-
ное значение определяется тем, что она
создавалась в крае, где в то время был
епископом Стефан Пермский, знаменитый
«просветитель зырян», близкий соратник
и друг Сергия Радонежского. Икона найде-
на среди личных вещей Стефана и,
безусловно, написана по его заказу —
надпись по-зырянски служила целям про-
поведи. Можно с определенной уверен-
ностью утверждать, что автор «Зырянской
Троицы», как и Андрей Рублев, руко-
Деталь шитого покрова с изображением
Сергия Радонежского. 1424 г.
водствовался богословскими идеями Сер-
гия Радонежского.
+ Работая вместе с Даниилом Черным
в 1408 году во Владимире над росписью
Успенского собора, Андрей Рублев имел
возможность познакомиться с фреской
Дмитровского собора конца XII века
«Авраам, Исаак, Иаков в раю», на которой
в центре изображен праотец Авраам, по
правую руку — его сын Исаак, по левую —
сын Исаака Иаков, ставший согласно Биб-
лии родоначальником двенадцати колен
Израилевых. Даниил с Андреем, повторяя
эту фреску, меняют расположение фигур:
по правую руку от Исаака — Иаков, так что
каждый оказывается по правую руку от
своего отца. Поскольку в Библии часто
употребляется именование «Бог Авраама,
Исаака, Иакова», приводившееся учителя-
ми церкви в качестве доказательства
троичности божества, то это изображение
несло важную богословскую нагрузку.
Авраам, Исаак, Иаков — три человека,
являющие собой образ св. Троицы.
Центральное положение Авраама на фрес-
ке Дмитровского собора соответствовало
основной идее богословского православ-
ного учения о Боге Отце как «источнике»
св. Троицы (Отец «рождает» Сына, св. Дух
«исходит» от Отца). Расположением фигур
на фреске Даниила -Черного и Рублева
подчеркивается другое богословское ут-
верждение: о том, чтф Сын Божий «воссе-
дает одесную Отца». Оба эти положения
выражены в Никео-Цареградском («кре-
щальном») символе веры.
В этих фресках Андрей Рублев имел
дело с авторитетной иконописной тради-
цией, согласно которой три человека,
связанные глубоким личностным и ро-
довым единством, рассматривались как
иконографический образ св. Троицы
Если на иконе Рублева изображены три
человека, то неизбежно возникает вопрос:
изображены ли здесь три святых человека
вообще или три конкретных лица?
В попытке ответить на этот вопрос мы
вступаем в область предположений наибо-
лее спорных, но в то же время наиболее
интересных...
Наше предположение заключается в
том, что Андрей Рублев изобразил три
лица, которые он должен был считать
высшими в иерархии человеческих ипоста-
сей. Само наличие такой иерархии не
могло вызывать сомнений у богослова той
эпохи. «Иная слава солнца,— пишет апос-
тол Павел,— иная слава луны, иная звезд;
и звезда от звезды разнится в славе». «Так
и написано,— продолжает Павел,—
первый человек Адам стал душею живу-
щею, а последний Адам есть дух животво-
рящий... Первый человек — из земли,
перстный; второй человек — Господь с не-
ба» (1 Кор. 15; 41, 45—47). Этот текст мог
стать для Андрея Рублева ключевым.
Итак, «первый человек» — праотец
Адам, который, несомненно, среди всего
человеческого рода имел наибольшие
основания рассматриваться как ипостасный
образ Бога Отца. «Второй человек», «Гос-
подь с неба» — это, конечно, Иисус Хрис-
тос, который, согласно христологическому
догмату, будучи Богом, послужил пер-
вообразом самого себя как человека. Кто
же «тре. ий человек» — «последний
Адам»? Помедлим с ответом на этот
вопрос — рассмотрим сначала тему
«Адам-Иисус» в контексте рублевской
иконы.
Параллель между «ветхим человеком»
Адамом и «новым человеком» Иисусом
часто встречается в текстах Нового завета,
в догматических и литургических текстах,
в творениях «отцов церкви» и церковных
песнопениях. В иконографии человек
Иисус Христос изображается рядом с Ада-
мом в очень важном и распространенном
в средние века сюжете — в иконе «воскре-
сения Христа», которая иначе называется
«сошествие во ад». Первое, что совершает
Иисус Христос, сломивший «врата ада» —
он выводит оттуда своего праотца Адама
(вместе с Евой и рядом ветхозаветных
праведников). В те времена довольно
широко бытовало мнение, что это низведе-
ние из ада» означало также телесное
воскресение вместе с Христом целой
плеяды ветхозаветных праведников (Адам
и Ева, хотя и согрешили, но считались
праведниками ввиду их искреннего по-
каяния) Это мнение было основано на
тексте из евангелия от Матфея,
описывающем события после смерти и
воскресения Иисуса Христа: «...и гробы
отверзлись, и многие тела усопших святых
воскресли, и, выйдя из гробов по воскресе-
нии Его, вошли во святый град и явились
многим» (Мф, 27, 52—53).
Согласно средневековому преданию,
гора Голгофа, на которой распяли Иисуса,
была местом захоронения Адама. Это
63
было отражено в другом распространен-
ном иконографическом сюжете: i олова
(череп) Адама под голгофским крестом.
Согласно преданию, капли крови Иисуса,
впитавшись в землю, достигли костей
Адама и воскресили его.
Итак, Андрей Рублев имел достаточно
оснований в церковной традиции для того,
чтобы поставить рядом (точнее, по< адить
за одним столом) Иисуса и Адама. Прово-
димая в Новом завете параллель между
этими двумя лицами указывала на их
человеческую «равночестность», на ра-
венство «масштабов» в соборной иерархии
человеческого рода. Разумеется, Иисус
Христос «по божеству» мыслился беско-
нечно превосходящим не только Адама, но
и самого себя как человека. Иисус и Адам
изображены на иконе в своих воскресших,
одухотворенных телах, что и подчеркнуто
наличием крыльев как символа одухотво-
ренного естества. Возможно, что, изобра-
жая крылья, Рублев имел в виду также
текст евангелия от Луки о воскресших
людях: «и умереть уже не могут, ибо они
равны Ангелам...» (Лк, 20, 36).
Предложенное толкование позволяет
дать непринужденное объяснение ряду
символов в иконе Рублева.
+ Уменьшенный нимб над головой Адама
служит напоминанием о первородном
грехе; этим как бы «компенсируется»
центральное и доминирующее положение
Адама по отношению к Иисусу. Конечно,
здесь показан образ отношения Бога Отца
к Богу Сыну, и Сам Иисус, согласно
преданию, оказывал сыновнюю почтитель-
ность даже к приемному отцу Иосифу, тем
более к праотцу Адаму... И в то же время
для христианского сознания Андрея Рубле-
ва необходимость как-то «умалить» Адама
перед Иисусом должна была казаться
очевидной.
Каменные палаты над головой Иисуса
символизируют церковь и его самого как
«домостроителя» и главу церкви. Неко-
торые исследователи усматривают в рас-
положении колонн анаграмму IН, т е.
Иисус Назорей — имя, подчеркивающее,
что здесь изображен Иисус именно как
человек, а не как Бог. Предположение
кажется вполне правдоподобным: не-
обходимость такого прямого указания
была обусловлена распространенным
до Рублева толкованием этого сюжета
(вспомним — «Бог и два ангела»).
Древо над головой Адама, скорее
всего, отражает излюбленный сюжет
русских иконописцев той эпохи — «древо
Иессеево». В основании древа изображал-
ся всегда Адам, на его ветвях располага-
лись ветхозаветные праведники. Иногда
«древо Иессеево» мыслилось как родос-
ловная Иисуса, восходящая к Адаму.
Возможно также, что это одновременно
есть символ райского «древа жизни»,
также связанного непосредственно с Ада-
мом
4- Может быть дано объяснение цветовой
символики иконы. Красновато-коричневый
цвет хитона (нижней одежды) Адама
символизирует «персть земную», из кото-
рой, согласно Библии, Бог сотворил Адама:
«И создал Господь Бог человека из праха
земного и вдунул в лице его дыхание
жизни; и стал человек душою живою»
(Быт. 2, 7). Имя Адам в толкованиях
«святых отцов» часто переводилось как
«красная земля», что и могло послужить
основанием для выбора окраски хитона
Адама. Клав на правом рукаве хитона,
имеющий тот же цвет, что и крылья,
возможно, указывает на «дыхание жизни»,
одухотворившее «персть земную».
+ Голубой цвет хитона Иисуса символизи-
рует его человеческую природу как
природу «нового человека». Согласно цер-
ковному учению, Иисус-человек является
по матери потомком («сыном») Адама;
мужское же семя сотворено Богом в
«девственной утробе» Марии в момент
«благовещения», возвещенного арханге-
лом Гавриилом (Лк. 1, 26—38). Поскольку
это сотворенное семя является новым, не
унаследованным от Адама, то Иисус
мыслился как родоначальник «нового че-
ловечества», в состав которого сыны
Адама входят посредством причастия «те-
лу и крови» Иисуса Христа. Происхожде-
ние Иисуса от Адама символизируется
цветом жертвенного тельца в евхаристи-
ческой чаше, совпадающим с цветом
хитона Адама. Голубой цвет гиматия
(верхней одежды) Адама указывает на его
принадлежность, через причастие, к «но-
вому человечеству» Иисуса Христа. Золо-
тистый цвет гиматия Иисуса символизирует
его божественную природу (Иисус Христос
понимался не просто как человек, но как
Бог, который, оставаясь Богом, стал также
человеком).
Нам остается самое трудное — дать
истолкование третьему лицу, изображен-
ному на иконе. Но это — тема следующей
статьи.
Советуем прочитать
ДЕМИНА Н. А. «Троица» Андрея Руб-
лева. М., 1963.
ЛАЗАРЕВ В. Н. Андрей Рублев и его
школа. М., 1966.
АЛПАТОВ М. В. Андрей Рублев. М.,
1972.
Либерий ВОРОНОВ (профессор-протоие-
рей). Андрей Рублев — великий худож-
ник Древней Руси. — Богословские
труды, № 14. М., 1975, с. 77—95.
ВЕТЕЛЕВ А. (профессор-протоиерей).
Богословское содержание иконы «Свя-
тая Троица» Андрея Рублева.— Журнал
Московской патриархии, 1972, № 8,
с. 63—75; № 10, с. 62—65.
Архиепископ СЕРГИИ (Голубцов). Вопло-
щение богословских идей в творчестве
преподобного Андрея Рублева. — Бо
гословские труды, V» 22. М., 1983,
с. 3—67.
ВЗДОРНОВ Г. И. Новооткрытая икона
«Троицы» из Троице-Сергиевой лавры
и «Троица» Андрея Рублева. — Древне-
русское искусство. Художественная куль-
тура Москвы и прилегающих к ней кня-
жеств. XIV—XVI вв. М., 1970, с. 115—
154.
ИЛЬИН М. А. Искусство Московской Ру
си эпохи Феофана Грека и Андрея
Рублева. Проблемы, гипотезы, исследо-
вания. М., 1976
САЛТЫКОВ А. А Иконография «Трои-
цы» Андрея Рублева. — Древнерусское
искусство XIV—XV вв. М-, 1984, с. 77 —
85.
CONTENTS
Echo of the 19th All-Union Party
Conference: • “Tomorrow is Today”,
by Ju.Pozhela, the President of the
Lithuanian Academy of Science
(p.l) • “The Lessons We Learn”, by
R.Zhukova, the Secretary of the
Zhdanov District Party Committee
in Moscow (p.3).
Philosophical Readings: • “The
Fate of the Universe”, by V.Bara-
shenkov, D.Sc. (Physics) —a com-
mentary to E.Ilyenkov’s essay
“Spiritual Cosmology” (p.5).
Glimpses of Millenium- (p.6,12,
History and Nowadays: • “Nost-
radamus”, by E.Berzin D.Sc. (Histo-
ry) - life story of the ' famous
French astrologer (p.8).
Opinions: • “A Mysterious Syn-
drome, or What Ails the People of
Chernobyl”, by A.Kharash (p.18) •
“Swans” of the Great Steppe”, by
A.Nikitin (p.13)
Our Interviews: • “Creation of
the World” an interview with
G.Tovstonogov, outstanding Soviet
theater producer (p.16).
Monuments of the Past: • “The
Bell Tree”, by R.Balakshin - an arti-
cle presenting a history of a bell
manufacturing around the world
(p.23) • “Secrets of the Ancient
Icons”, by L.Lebedev (p.61)
Arts and Literature: • “Mummv’=
Syberian”, by M.Chulaki (p.26) •
“Death in Ecstasy", by N.Marsh
(p.47). • “Asthiks Childhood”, by
E. Levorkyan (p.12).
Science and Theology: • “Tsiol-
kovsky: a Portrait of a Personality”,
by S.Blinkov (p.32) • “Tsiolkovsky
and Religion”, by L.Tsiolkovskaya
(p.36) • “In the Beginning”, by
I Asimov (p.37).
World Mythology: • “The Warrior
Way”, by S.Alimarin and A.Baraba-
shev — an article discussing the
teaching of C. Castaneda (p.40).
At Readers’ Request: • “Extracts
from the autobiography of clair-
voyant W.Messing (p.5.,
Religion Abroad: • ‘Averting
Armageddon”, by G.Thomas and
M.Morgan-Witts (p.54)
Pages of History: • “Astrological
Feast during the Plague", by A.Bogda
nov (p.57).
Сдано в набор
20.07.88.
Подписано к печати
08.09.88.
А 10989.
60Х90/8.
Офсетная печать
8 усл. печ. л.
9,75 кр. отт.
12,80. уч.-изд. л.
Тираж 480 000 экз.
Зак. 03797.
Ордена Ленина
комбинат печати
издательства
«Радянська УкраТна».
252047, Киев-47,
проспект Победы, 50.
Текст набран
с применением
отечествен него
фотонаборного
комплекса «Каскад»
64
Цена 40 коп Индекс 70602.
РОСКОШЬ И НИЩЕТА БЕРНАРДИНЦЕВ
Нищета была их приме-
той и девизом. Они соби-
рали деньги на храмы, не
оставляя себе ни гроша.
Бритая голова, темно-се-
рая ряса с непременными
заплатами, вместо поя-
са — шерстяной шнур с
тремя узлами, памяткой
о данных обетах (цело-
мудрие, послушание, ни-
щенство). Такова внеш-
ность монаха-бернардин-
ца. А вот его идеальный
характер Истовая рели-
гиозность и веселость
нрава, скромность и об-
щительность, богослов-
ская искушенность и уме-
ние проповедовать на
языке улицы. Бернарди-
нец вездесущ, он вечный
странник и поэтому раз-
носчик новостей и свежих
анекдотов. Но когда он
рассказывает о муках
Христа, то по щекам его
текут настоящие слезь'
Бернардинец нищ и по-
стоянно голоден, но он не
постник — волчий аппетит
монахов вошел в пого-
ворку.
Орден бернардинцев,
возникший в XV веке, стал
популярен в Европе. Мо-
нахов пригласил на свои
земли польский король,
вскоре они попали в Лит-
ву. В Вильно стараниями
воеводы и кардинала им
был устроен монастырь —
у подножья Замковой го-
ры, в излучине речки
Вильняле, в садах, при-
надлежавших литовским
правителям
Поначалу монастырь
был деревянный, как, ве-
роятно, и стоявший не-
подалеку старый вилен-
ский храм святой Оны
(Анны). На рубеже XVI
века Вильно начали уси-
ленно укреплять. Коро-
левский указ освобож-
дал виленцев от воинской
повинности с тем чтобы
они обнесли город стеной
и заодно уменьшили чис-
ло ворот Крестьянам,
едущим в город на торг,
предлагалось вместо
въездной пени привозить
с собой камень для строи-
тельства.
Камень в Литве — де-
фицит. Это и породило
необычное архитектурное
явление — кирпичную го-
тику Из хрупкого мате-
риала воздвигались ажур-
ные, устремленные ввысь
костелы. Самый замеча-
тельный из них — костел
святой Анны. Рядом —
монастырский собор во
имя святых Франциска
Ассизского и Бернардина
Сиенского, патронов ор-
дена. Ставя вместо дере-
вянного каменный костел,
монахи приблизили его к
костелу Анны, а впослед-
ствии даже соединили ко-
ридором Такой плотности
церковная готика не до-
стигает, пожалуй, нигде.
Фасад костела Оны к тому
же выдвинут на улицу.
И без того выразитель-
ный, он еще больше обра-
щает на себя внимание. А
напротив него — еще
один шеде р, костел свя-
того Михаила...
У тяжелой стены монас-
тыря появилась знаме-
нитая часовня с «лест-
ницей Христовой», по
ней верующие на коле-
нях ползли вверх, туда,
где в нише статуя Спа-
сителя в терновом венце
А виленские слесаря при-
строили к бернардинско-
му костелу свою каплицу:
вся утварь в ней — узор-
чатое паникадило, под-
свечники и прочее — бы-
ла искусно выкована из
стали и железа Часовню
в обиходе так и звали
«слесарной». Обрастал
монастырь и прочными
жилыми постройками, бо-
гател сад
Обстраиваясь, бернар-
динцы век от века стано-
вились все более оседлы-
ми Давно уже было ре-
шено что право на общую
собственность они все-
таки имеют, а их обет-
ное нищенство — индиви-
дуально Однако, по от-
зывам современников в
Литве в XIX веке еще
встречались, так сказать,
хрестоматийные бернар-
динцы Правда, осталось
их совсем немного, в
1860-е годы монастырь
был закрыт Так же, как и
обитель бернардинок по
ту сторону Вильняле. Она
была соединена с косте-
лом Франциска и Бер-
нардина крытым пере-
ходом, который вел на
особый женский клирос
Собственного храма у
бернардинок никогда не
было...