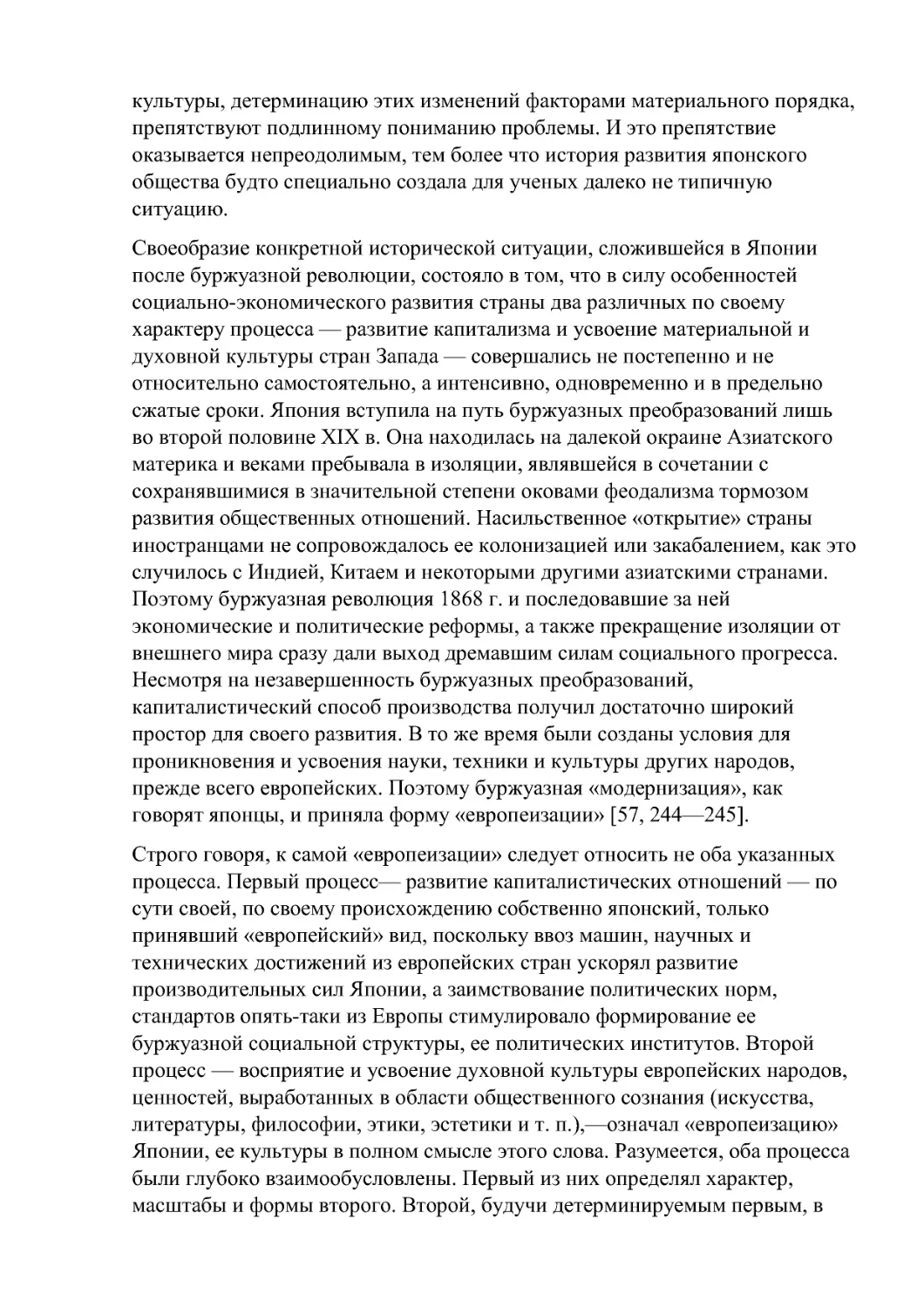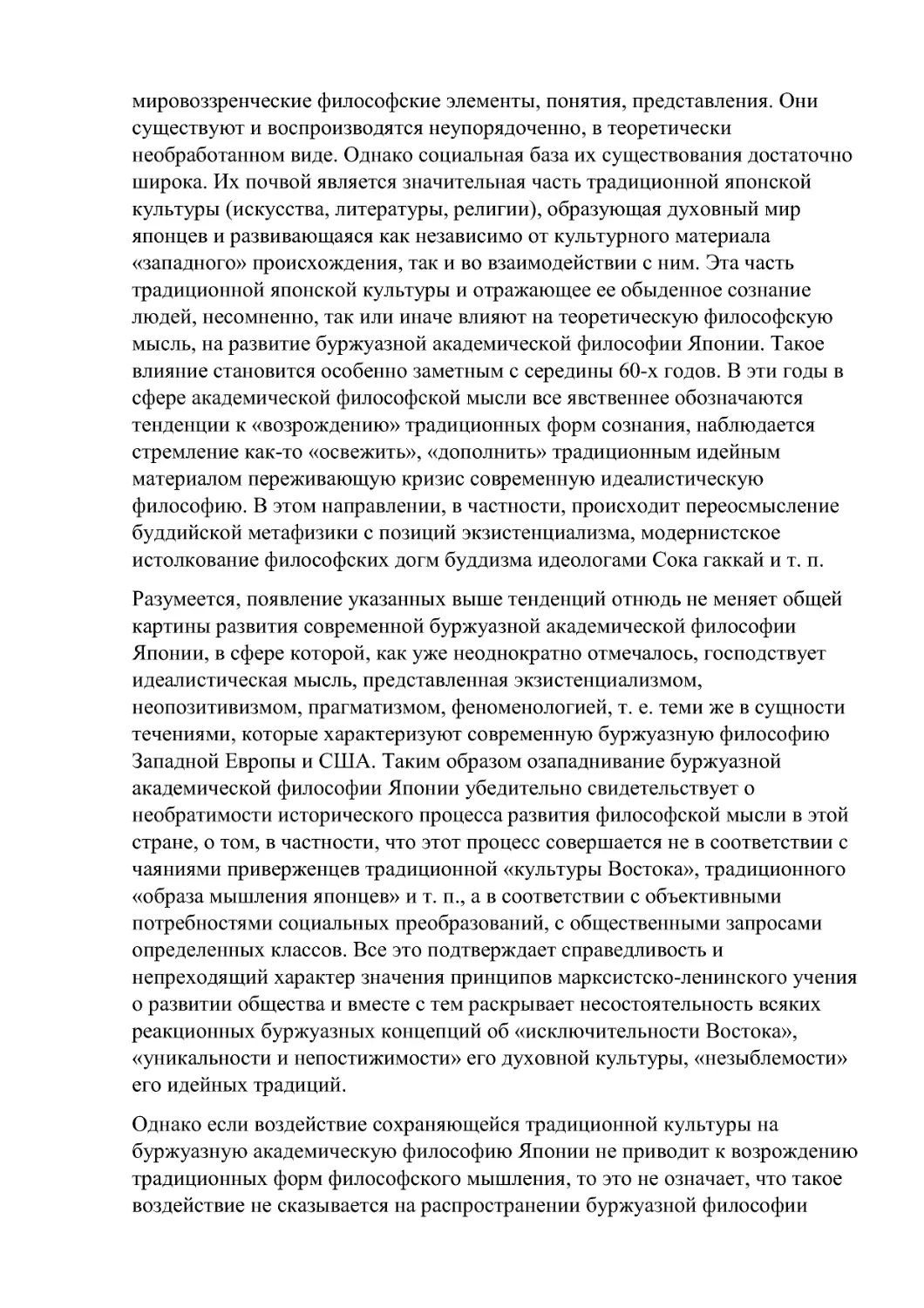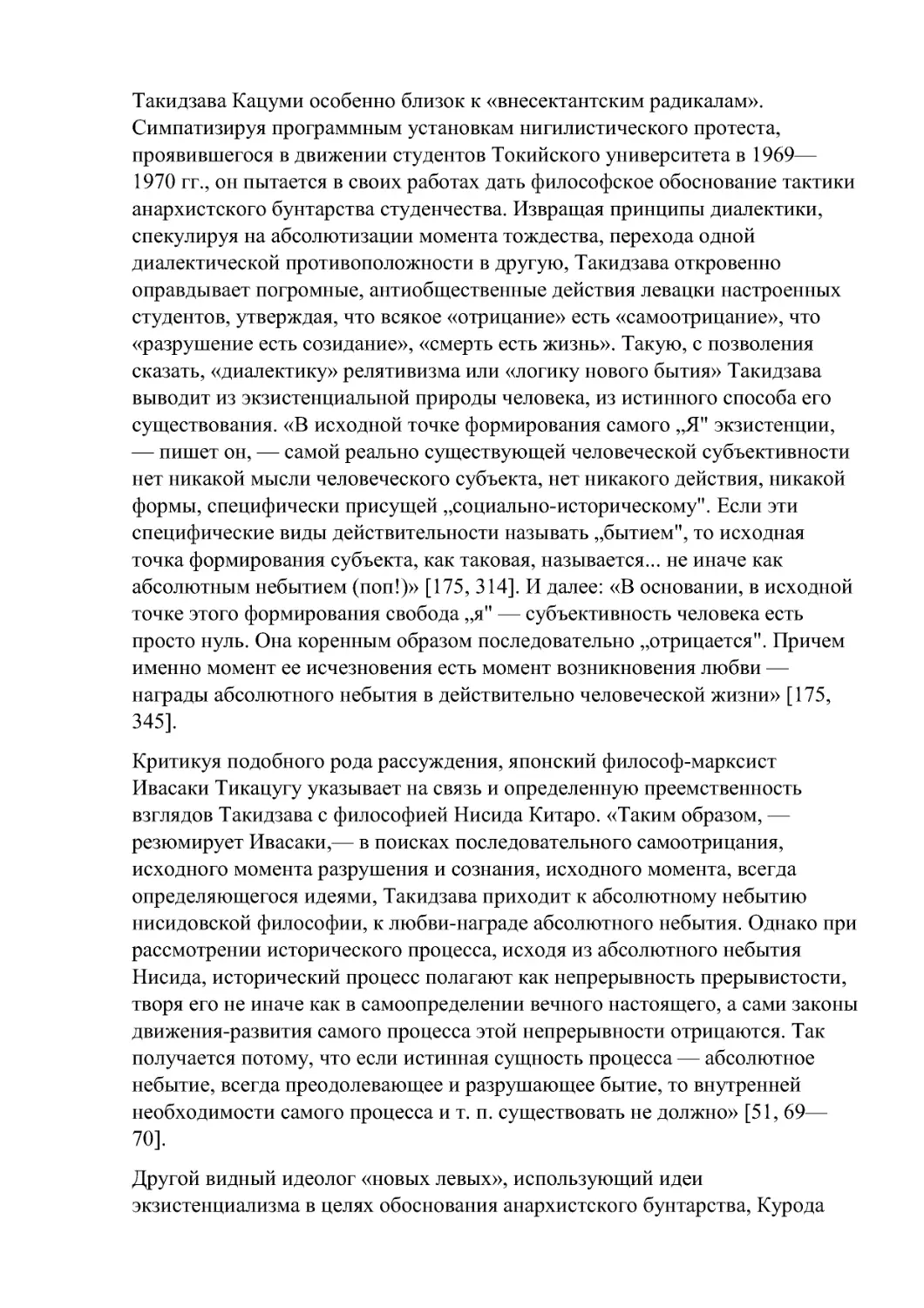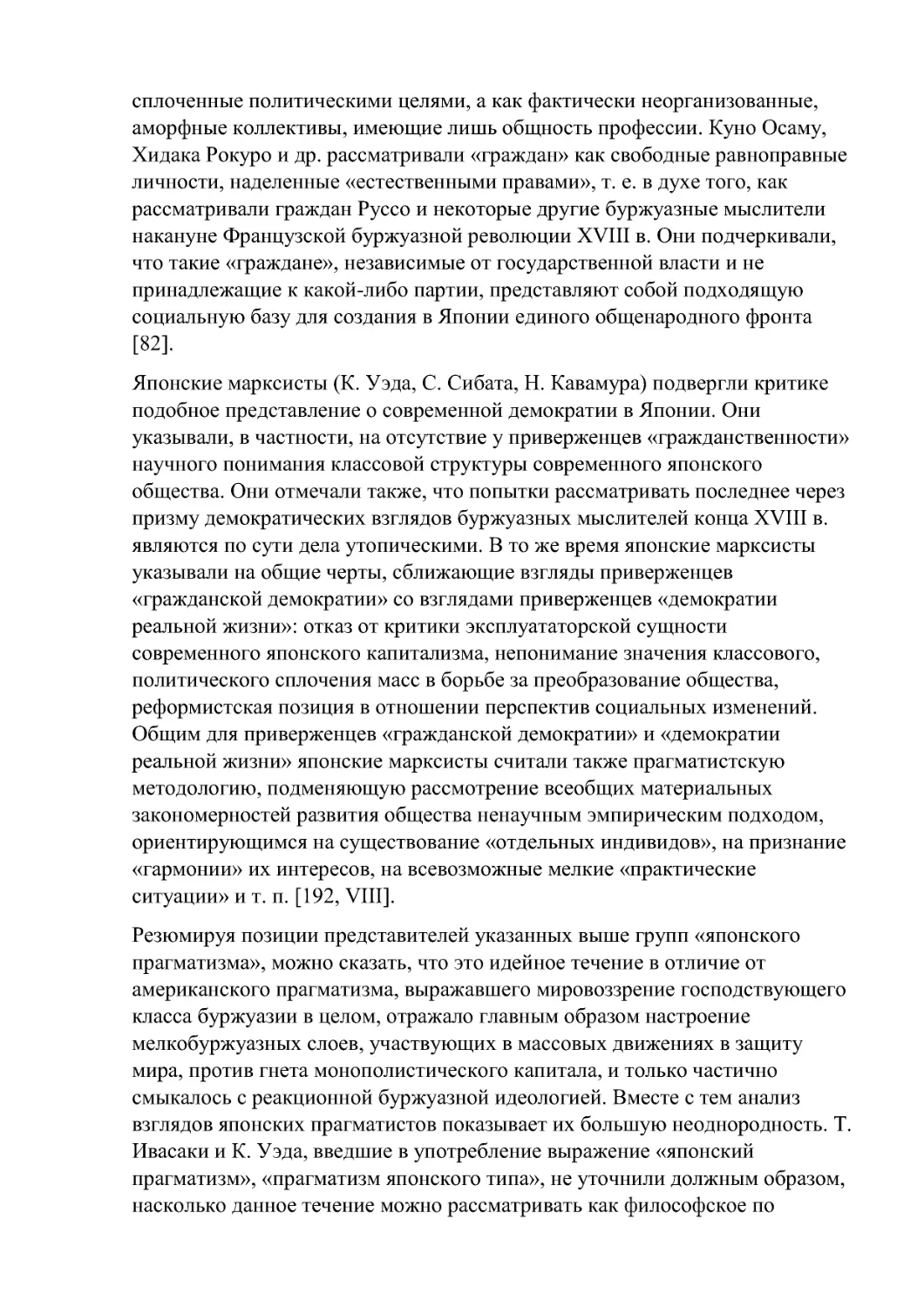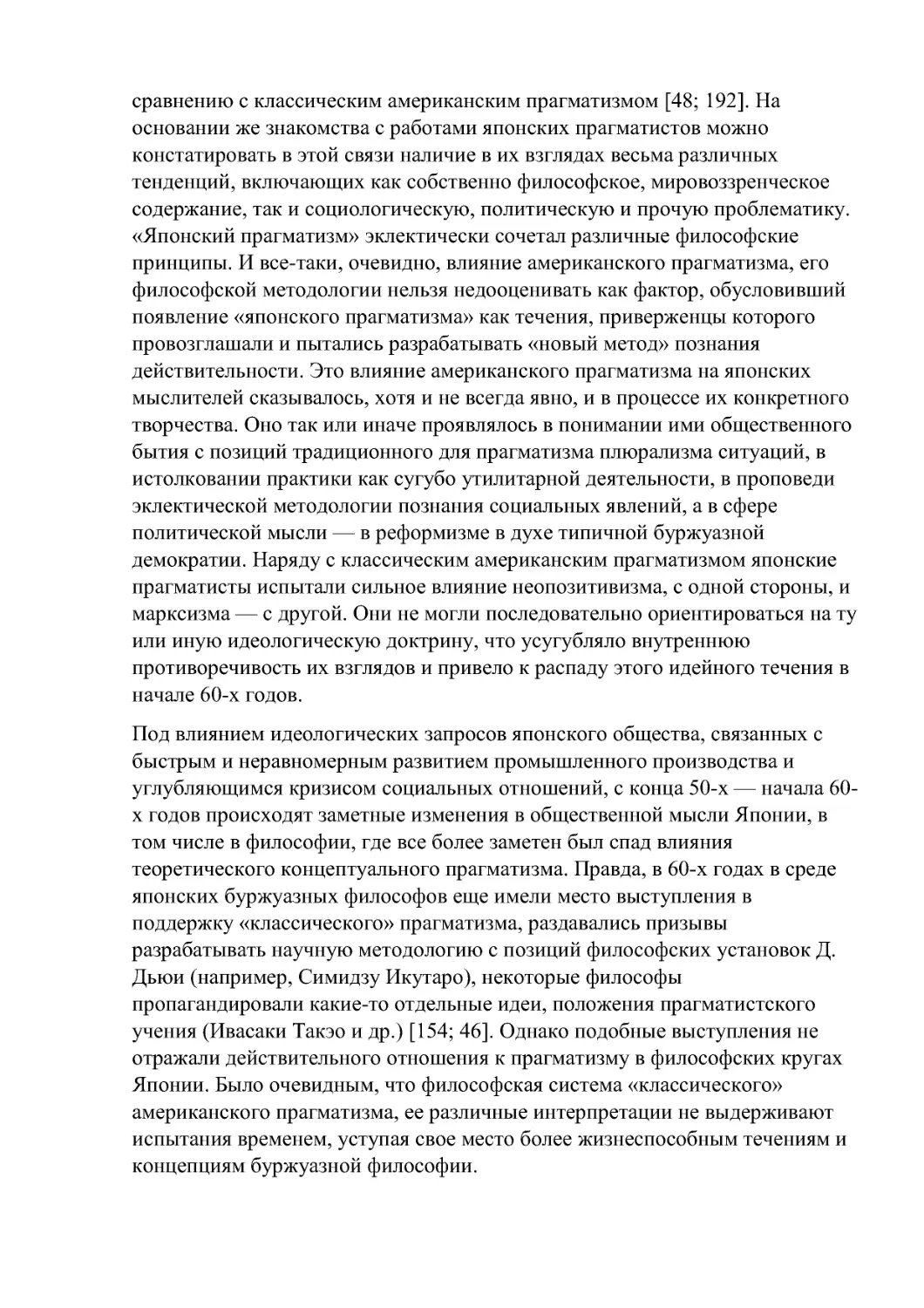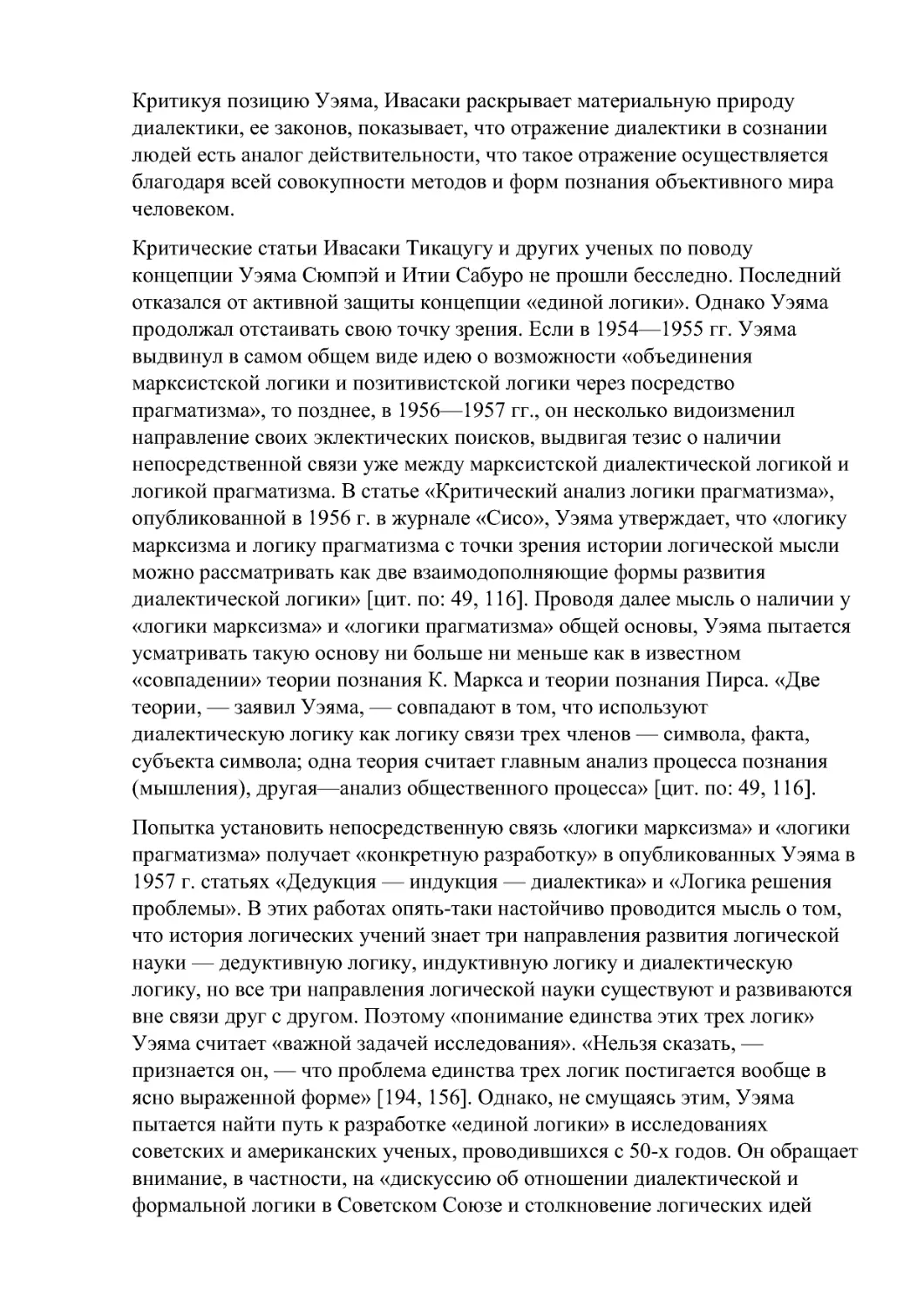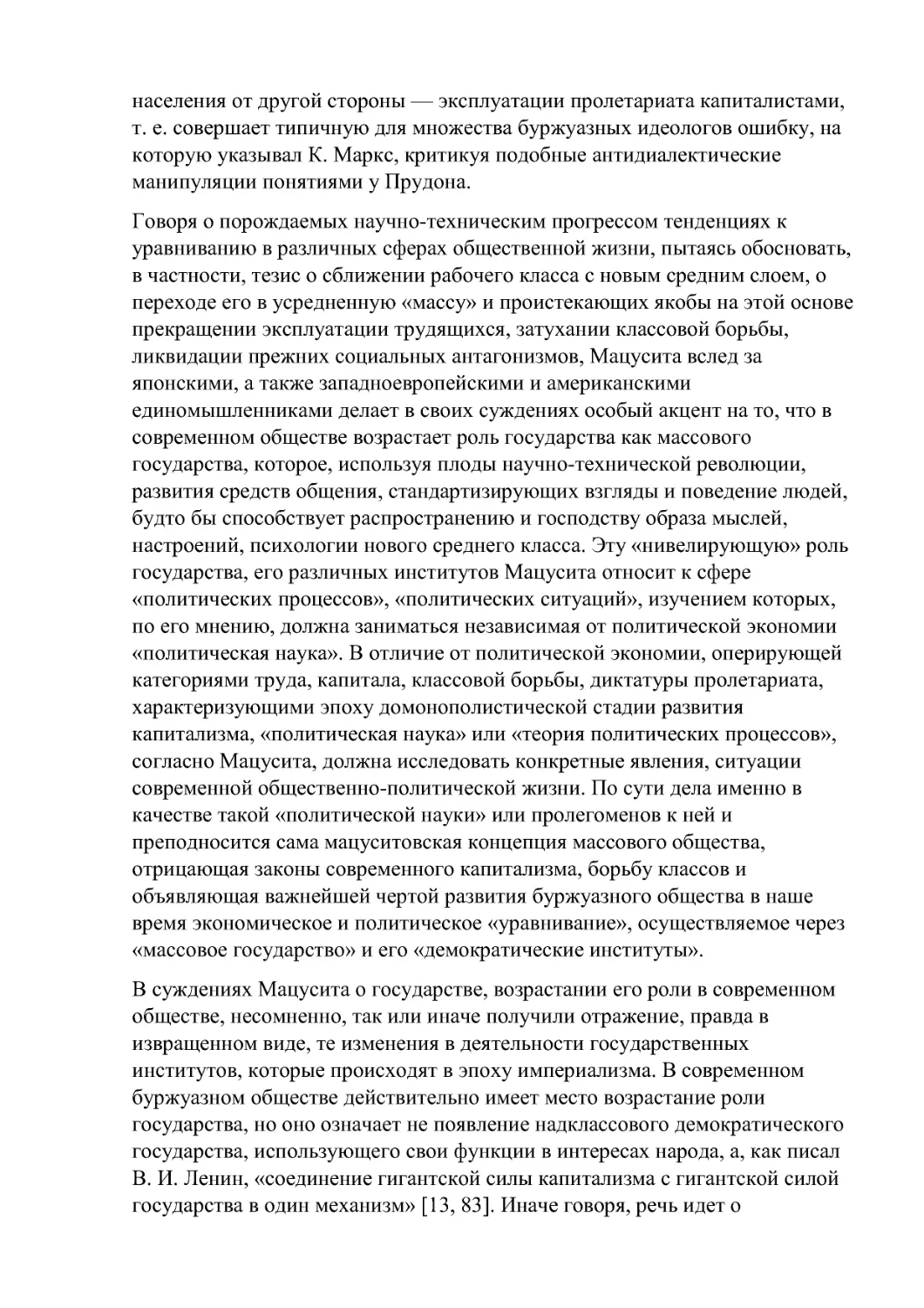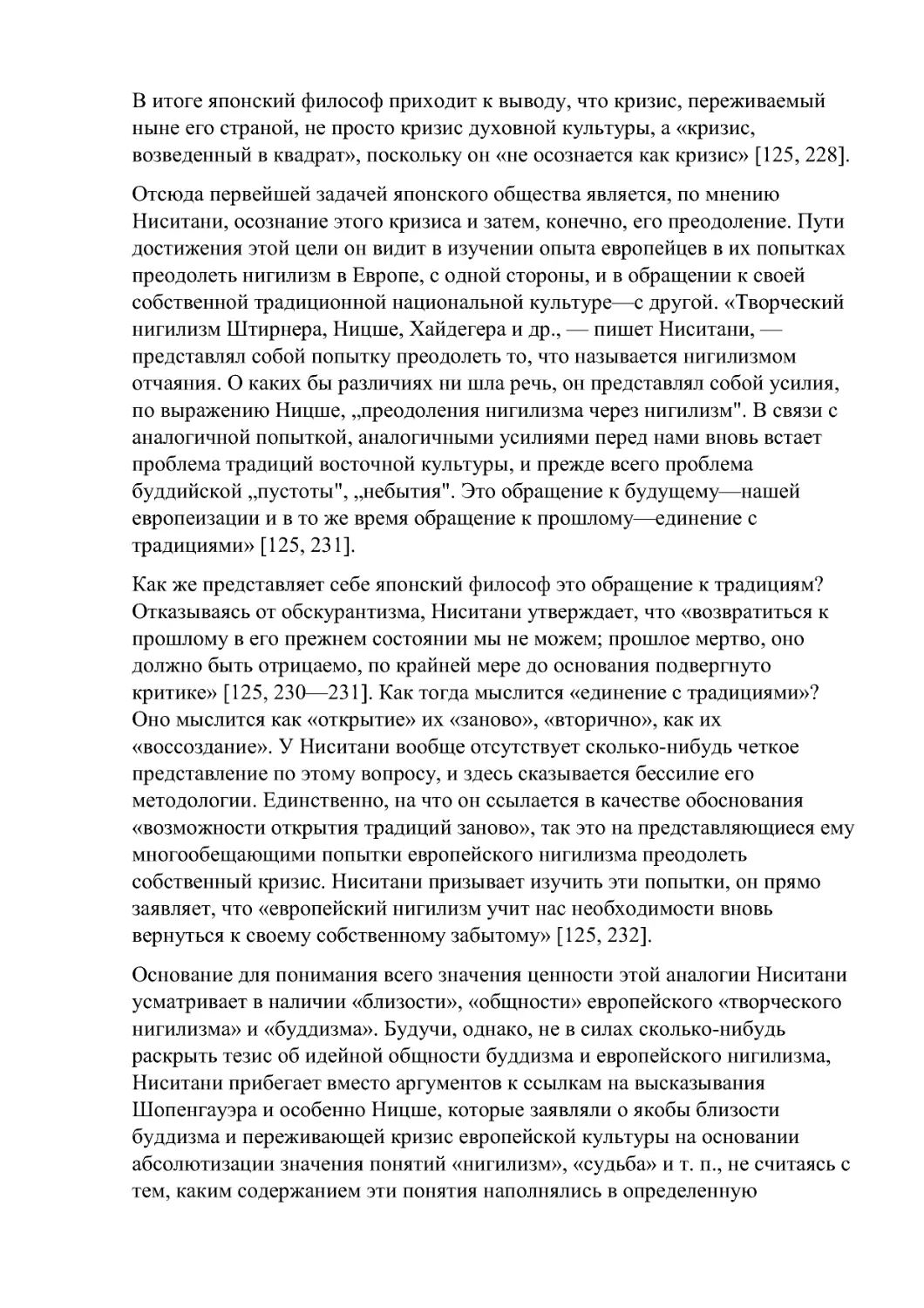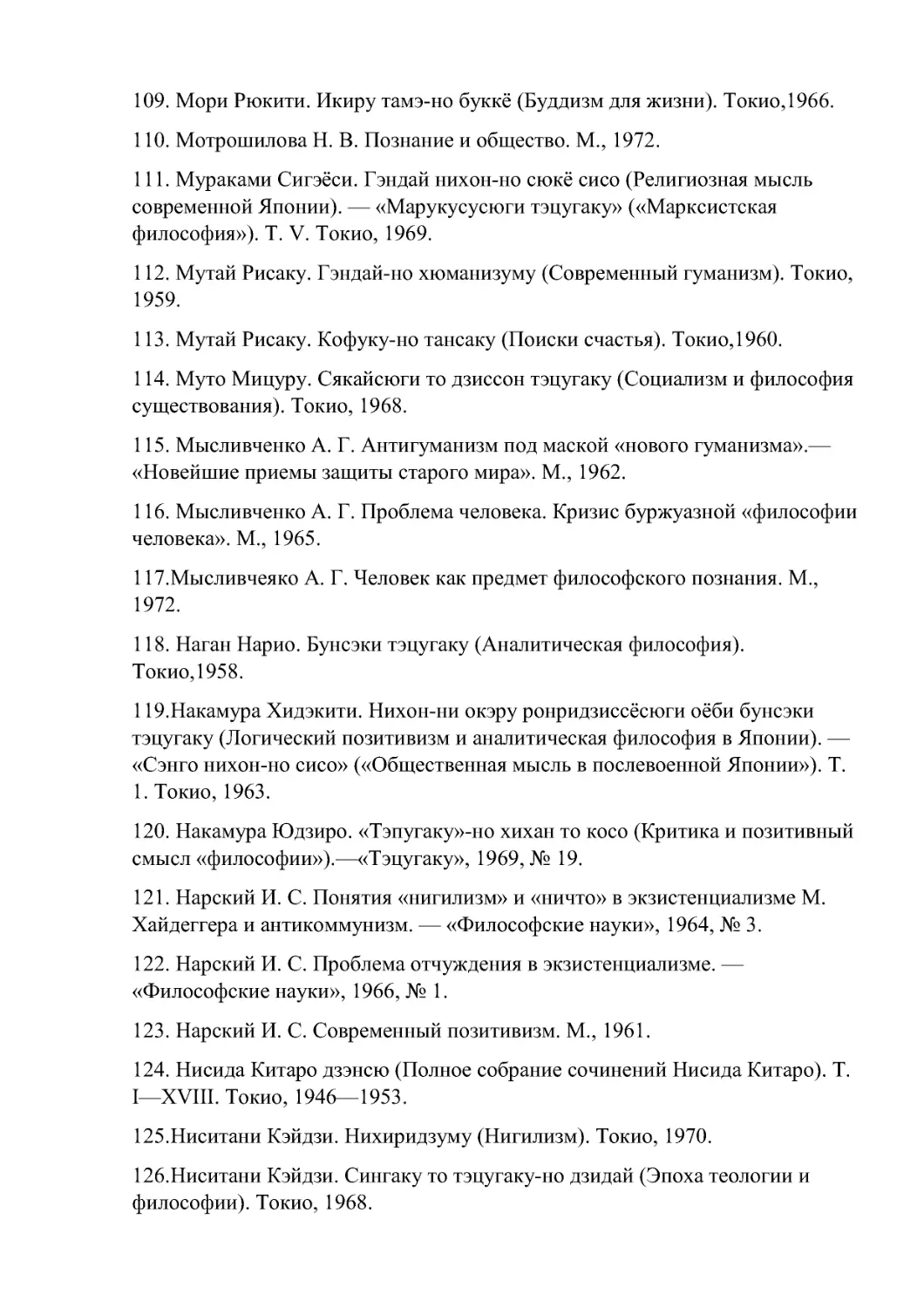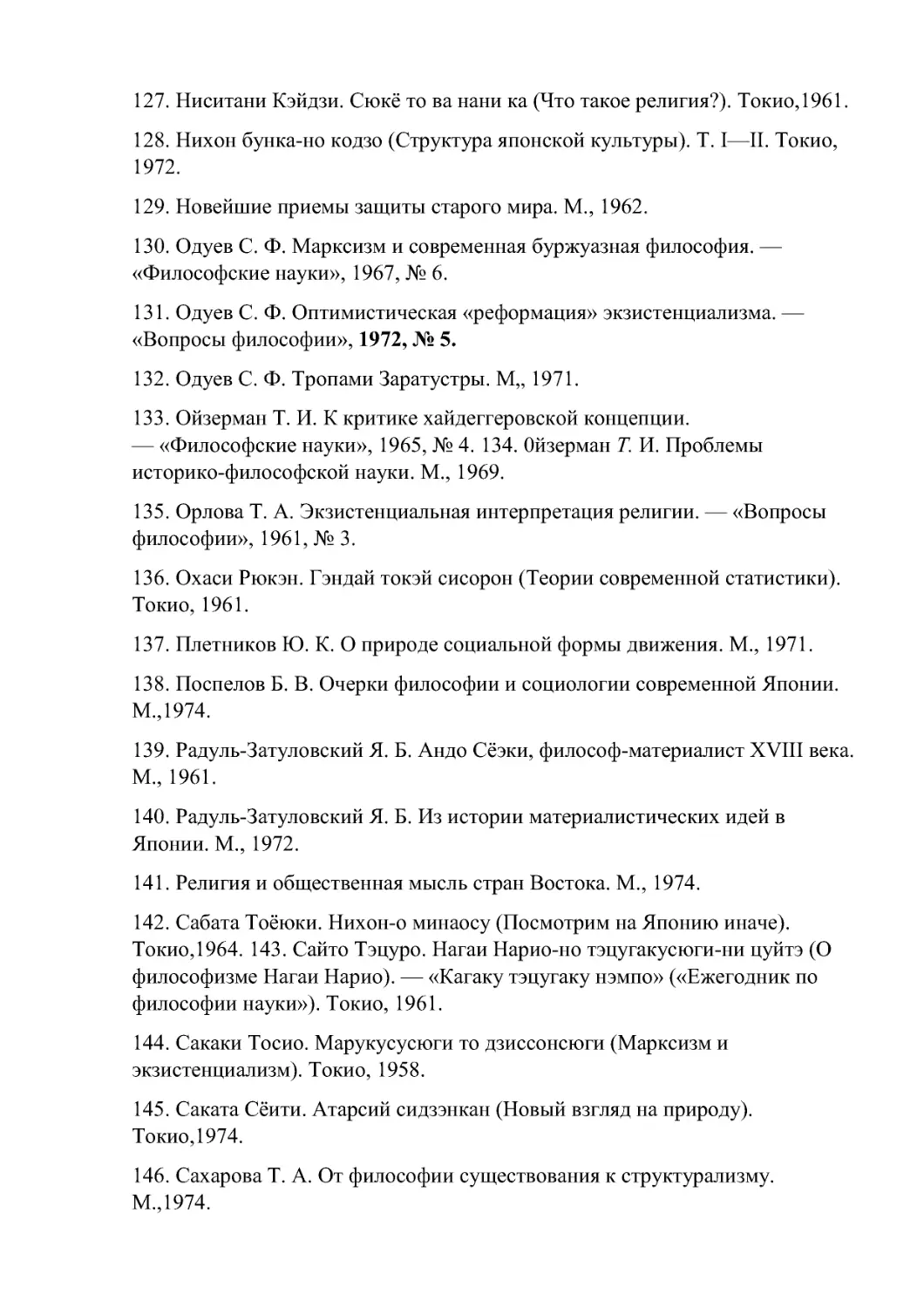Текст
АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ
Ю. Б. Козловский
СОВРЕМЕННАЯ БУРЖУАЗНАЯ ФИЛОСОФИЯ В ЯПОНИИ
ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
ГЛАВНАЯ РЕДАКЦИЯ ВОСТОЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1977
Ответственный редактор А. Г . Мысливченко
Козловский Ю. Б. Современная буржуазная философия в Японии. Главная
редакция восточной литературы издательства "Наука", 1977. 214 с.
В монографии дается целостное представление о современной буржуазной
философии Японии в период со второй половины 40-х по начало 70-х годов.
В ней критически анализируется классовая сущность и идейное содержание
основных направлений буржуазной философской мысли Японии, показана
борьба с ними японских марксистов.
ВВЕДЕНИЕ
Эпоха перехода от капитализма к социализму во всемирном масштабе в
духовной жизни человечества получает отражение в борьбе двух идеологий
—
коммунистической и буржуазной. Силы, утверждающие социальные
прогресс, созидающие новые, коммунистические общественные отношения,
по самой своей природе непримиримы с буржуазной идеологией,
защищающей старый, отживающий капиталистический мир. Поэтому одной
из важнейших задач марксистов, носителей научного мировоззрения,
является разоблачение буржуазной идеологии, решительная,
бескомпромиссная борьба с самыми разнообразными формами и средствами
ее распространения [15, 122]. В области философской науки осуществление
этой актуальной задачи идет прежде всего по линии углубления
всесторонней критики буржуазного мировоззрения, буржуазной
идеалистической философии, ее современных направлений, концепций,
теорий, используемых в целях оправдания, идейного обоснования
существования капиталистической системы.
Философы-марксисты различных стран, активно участвующие в борьбе с
современной буржуазной философией, все глубже анализируют основные
тенденции ее развития и вместе с тем все основательнее исследуют
специфические особенности буржуазной философской мысли, их конкретное
проявление в разных регионах капиталистического мира. Советские
философы за последнее десятилетие опубликовали ряд монографий, в
которых специально исследуется буржуазная философская мысль в США,
ФРГ, Англии, Франции, Италии, Швеции. Очевидна в этой связи и
потребность изучения и критического анализа современной буржуазной
философии в Японии — второй по уровню промышленного развития
капиталистической державе.
Как в структурном, так и в идейном отношении буржуазная философская
мысль в современной Японии — явление весьма сложное и противоречивое.
Она характеризуется распространением тех же в сущности идейных течений,
что и в Западной Европе и США, и в то же время она довольно своеобразна,
поскольку социально обусловлена в своем развитии как особенностями
материальных общественных отношений, так и особенностями развития
национальной духовной культуры в этой стране.
В нашей научной литературе еще нет сколько-нибудь фундаментальных,
обобщающих исследований, раскрывающих общие и специфические черты и
тенденции развития современной послевоенной японской буржуазной
философии. Между тем в самой Японии публикуется на эту тему много
монографий, сборников, статей и даже энциклопедических изданий [186; 39].
Большинство таких работ написано с позиций буржуазной методологии. Для
них типичны, как правило, поверхностный подход, описательный характер, а
главное, некритичное объективистское освещение предмета исследования.
Коренным образом отличаются от этих работ исследования японских
философов-марксистов. Хотя их не так много, им свойственны ясно
выраженная философская партийность, серьезный анализ актуальных
философских проблем. По своей структуре и содержанию марксистские
исследования по критике буржуазной философии 50 — 60-х годов
неоднородны. Одни из них, чисто философские, имеют весьма обобщенный
характер, рассматривают экзистенциалистские, прагматистские,
неопозитивистские и другие идеалистические концепции, как таковые, и
непосредственно не отражают специфические черты их проявления в Японии
[18; 144], тогда как другие, освещающие тот же период, содержат богатый
конкретный материал по Японии, но посвящены критике всей буржуазной
идеологии в целом и включают философские разделы фрагментарно, по тем
или иным аспектам [см. 90; 150; 49]. Эти и иные особенности марксистских
исследований, посвященных критике современной послевоенной буржуазной
философии в Японии, во многом объясняются условиями идеологической
борьбы японских марксистов, задачами, встающими перед ними на том или
ином ее этапе.
Учитывая ценный опыт исследований японских ученых-марксистов в
области критики буржуазной философии и стремясь также внести скромный
вклад в дело борьбы с буржуазной идеологией в Японии, в ее критическое
осмысление, автор ориентировался в то же время на советского читателя, для
которого, несомненно, важно как получить целостное представление о
современной буржуазной философии Японии, так и уяснить присущие ей
специфические особенности, ознакомиться с тенденциями ее развития,
характерными для послевоенного периода. Исходя из этих соображений и
считаясь с особенностями предмета исследования — буржуазной
академической профессиональной философской мысли Японии, автор
сосредоточил внимание на основных, ведущих во второй половине 40-х
—
начале 70-х годов направлениях этой мысли, представленных философией
экзистенциализма, прагматизма, неопозитивизма и социальной философией.
В каждом из разделов исследования автор стремился критически
проанализировать наиболее существенные черты соответствующих
философских направлений и выявить наиболее видные фигуры буржуазного
философского мира Японии, оказывающие влияние на формирование
общественного мнения. В то же время и в носящей общий характер первой
главе и в основной третьей главе настоящего исследования автор пытался
отразить по возможности динамику развития основных направлений
современного японского идеализма, показать наиболее типичные тенденции
их эволюции, характеризующейся все более углубляющимся и
обостряющимся кризисом буржуазного философского сознания.
Выявление классовой сущности и особенностей развития современной
буржуазной философии в Японии поставило перед автором и другую задачу
—
раскрыть социальную обусловленность развития буржуазной
философской мысли не только изменениями непосредственно
экономического базиса, общественно-политической жизни и т. п ., но и
изменениями, происходящими в различных областях духовной культуры
японцев. Этот очень важный аспект рассмотрения современной буржуазной
философии Японии, раскрывающий влияние на нее разных форм
общественного сознания, недостаточно освещается в японской научной
литературе, либо совсем выпадая из поля зрения ученых, либо становясь
предметом изучения автономно, вне связи с философией. Тем не менее
значение исследования данного вопроса трудно переоценить как для
понимания самого развития академической буржуазной философии в
Японии, так и для уяснения форм и путей распространения буржуазных
философских концепций и взглядов в сфере «массового сознания».
Параллельно с рассмотрением основных вопросов, отвечающих профилю
данной работы, автор касается в процессе исследования и ряда других
относительно самостоятельных проблем и аспектов развития буржуазной
философской мысли послевоенной Японии, таких, как традиции и
современное состояние японской философии, специфические особенности
японского буржуазного академизма философской мысли, соотношение
буржуазной философии и религиозного сознания в современной Японии и
др.
В качестве источников при написании настоящего исследования были
использованы японские материалы — монографии, коллективные труды,
журнальные публикации современных буржуазных японских философов, а
также работы известных японских исследователей-марксистов,
выступающих с критикой современной послевоенной буржуазной
философской мысли в стране.
Автор пользуется случаем выразить глубокую благодарность сотрудникам
Института философии АН СССР, и в особенности сотрудникам сектора
философии и социологии стран Востока, принявшим участие в обсуждении
настоящего труда и высказавшим ценные замечания по различным вопросам.
Особую признательность автор выражает своему коллеге — японскому
философу Мори Коити, чьи ценные советы и соображения он учитывал в
процессе написания настоящего исследования.
Глава первая
СОВРЕМЕННАЯ БУРЖУАЗНАЯ ФИЛОСОФИЯ В ЯПОНИИ И
СОЦИАЛЬНАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ ЕЕ РАЗВИТИЯ
Современная буржуазная философия Японии — продукт современной
японской действительности, одна из форм ее отражения в сознании
японского общества. Социальная природа буржуазной философской мысли,
ее классовая сущность, ее идейное содержание раскрываются нам не иначе
как в соотнесенности с общественным бытием современной Японии, из
которого в конечном счете вытекают коренные изменения в развитии
основных философских направлений, подъем одних идейных течений и
упадок других, появление новых концепций и взглядов и видоизменение
старых. Социальная обусловленность развития буржуазной философии
материальными общественными отношениями — эта важнейшая и
необходимая предпосылка ее познания — со всей отчетливостью
обнаруживается на протяжении уже трех десятилетий послевоенной истории
Японии.
Конечно, выявление детерминирующей роли материального общественного
бытия по отношению к философской мысли всегда требует конкретного
подхода — учета изменений, происходящих в различных сферах
материальной и духовной жизни японского общества на том или ином этапе
его развития. Это существенное обстоятельство дает основание, в частности,
и для выделения различных периодов в послевоенном развитии буржуазной
философии в Японии. У различных исследователей могут быть различные
точки зрения относительно периодизации послевоенной истории этой
страны. Однако при всех возможных расхождениях по этому вопросу не
вызывает сомнений тот очевидный рубеж, который отделяет этап
послевоенного восстановления (вторая половина 40-х
—
первая половина 50-
х годов) и собственно послевоенного развития Японии, как такового
(вторая половина 50-х
—
первая половина 70-х годов). Исходя из признания
такого рубежа в новейшей истории Японии, в ее экономической,
политической и культурной жизни, возможно и целесообразно, на наш
взгляд, выделять по крайней мере два периода и в развитии буржуазной
философской мысли в Японии после второй мировой войны.
Япония вступила в послевоенный период своего развития, имея истощенную
войной экономику, в условиях краха императорского строя со всеми
освещавшими его традициями и мифами. После капитуляции в стране был
установлен оккупационный режим. В результате разгрома японского
милитаризма при решающей роли Советского Союза в Японии были
осуществлены значительные социальные преобразования демократического
характера. В области экономики были распущены «дзайбацу», проведена
аграрная реформа, упразднившая крупное землевладение и ликвидировавшая
класс помещиков. В политической жизни страны были запрещены
реакционные, фашистские организации и легализованы прогрессивные,
демократические организации и объединения. Была введена новая
конституция, узаконившая целый ряд демократических институтов и
включавшая положение о добровольном отказе Японии от войны. По своей
значимости все эти послевоенные преобразования в жизни японского
общества были равносильны во многих отношениях осуществлению
буржуазно-демократической революции [213; 7].
Однако оккупационные власти США, управлявшие Японией от имени
воевавших с ней союзных держав, очень скоро отказались от
последовательного проведения политики демократизации страны. Уже с
конца 40-х годов они взяли курс на возрождение японского
монополистического капитала. Обезвредив старые японские концерны как
конкурентов, США оставили незыблемым принцип концентрации
производства в руках частного капитала и тем создали редкую в практике
монополистического капитализма временную ситуацию, способствовавшую
оживлению конкуренции [213, 8]. В этих условиях стали восстанавливать
свои позиции прежние монополистические компании и появляться новые.
Процесс концентрации и централизации капитала особенно ускорился в
результате использования Соединенными Штатами японской экономики для
агрессии в Корее в начале 50-х годов, а позднее — со второй половины 50-х
годов — для ведения войны во Вьетнаме. В области политической жизни
американские оккупационные власти стали на путь ограничения
провозглашенных конституцией демократических прав трудящихся. В 1951
г. США заключили с Японией сепаратный мирный договор и навязали ей
«договор безопасности», по которому американская армия сохранила
большое число военных баз на японской территории.
Такое направление американской политики в Японии встретило растущее
сопротивление народных масс, всех прогрессивных сил японского общества.
В авангарде борьбы за демократию, за повышение материального
благосостояния трудящихся находился японский рабочий класс, его наиболее
сознательная часть — коммунисты и социалисты. В активную политическую
жизнь вступили крепнущие профсоюзные объединения Японии.
Значительный подъем получило и крестьянское движение. Борьба
трудящихся Японии в конце 40-х
—
начале 50-х годов за социальный
прогресс и демократию сливается с борьбой против политической
зависимости от США.
Эти послевоенные изменения в социально-экономической и политической
жизни Японии не могли не получить соответствующего отражения и в
общественном сознании японцев, в различных сферах их общественной
мысли. Место идеологии монархо-фашистского императорского строя заняла
идеология так называемой буржуазной демократии. В то же время победа над
японским империализмом и развернувшаяся классовая борьба трудящихся
создали новые возможности для дальнейшего распространения идей
марксизма-ленинизма в массах. Большое влияние на умы японцев стали
оказывать практика воплощения этих идей в СССР, а также возникновение
после войны мировой системы социализма.
Однако переход от абсолютизма к буржуазно-демократическому правлению
произошел в Японии очень быстро и сопровождался стремительным
усвоением достижений современной науки, техники и буржуазно-
демократических институтов. Это не могло не породить иллюзий среди
широких слоев японской общественности относительно «прогрессивности» и
«демократичности» внедряемой современной культуры и идеологии
капиталистических стран Запада. В сознании миллионов японцев после
войны получили большое распространение представления в духе идеологии
буржуазного «модернизма», будто все старое, японское, «восточное»
является «реакционным» и «отживающим», тогда как все новое, «западное»
—
«прогрессивным» и «демократичным». Чтобы уяснить, насколько велико
было влияние таких представлений на японскую общественность,
необходимо иметь в виду также, что аналогичные или близкие им взгляды
уже имели хождение среди японцев в конце прошлого века.
Как известно, разложение феодальных отношений и буржуазные
преобразования в 1868—1880 гг. в результате «реставрации Мэйдзи»
происходили одновременно с отказом от политики изоляционизма и
открытием Японии для культуры и науки западного мира. Совпадение во
времени тут не случайно, ибо именно развитие производительных сил,
общественных отношений в Японии вызвало потребность в приобщении к
достижениям духовной1 и материальной культуры других народов. Широкое
проникновение в страну западной буржуазной культуры ассоциировалось в
головах многих японцев с вытеснением «восточного», «старого»,
«феодального» «западным», «новым», «буржуазным». Это представление
было подхвачено буржуазными идеологами и оформлено в виде своего рода
теории. И хотя для Японии, особенно в послемэйдзийский период,
противопоставление «восточного» «западному» во многом имело свой
смысл, само по себе оно не отличалось строгой научностью и чем дальше,
тем меньше объясняло динамику изменения японской действительности.
Приверженцы противопоставления «восточного» «западному» не замечали,
что само «восточное» с течением времени претерпевало значительные
изменения, наполняясь зачастую «западным содержанием, и потому делали
все больше ошибок при оценке различных процессов общественной жизни.
Они переоценивали, в частности, значение элементов феодальной
надстройки, не видели все более подчиненной роли этих элементов, их
служения новому, капиталистическому базису. Такую же переоценку они
допускали и при рассмотрении общественной мысли, гипертрофируя, как
правило, специфику «восточного». Поэтому в реакционной идеологии
«японизма» они видели прежде всего ультранационализм, выражающий
интересы полуфеодальной аристократии, милитаристской военщины ч
императорского двора, упуская из виду связь «японизма» с идеологией
монополистической буржуазии, его служение последней. В академической
философии, я частности в философии Нисида, также видели главным
образом «восточную» форму, «восточные» буддийские характеристики, не
замечая ее духовной близости западноевропейскому идеализму.
В первые послевоенные годы тенденция противопоставления «восточного»
«западному» возрождается в Японии с новой силой, а вытекавшие из нее в то
время представления о «прогрессивности» и «демократичности» «западной»
культуры и «реакционности», «консервативности» «восточной» приобретают
новое социальное звучание, вуалирующее классовый характер
совершавшихся буржуазных преобразований. Эти особенности
послевоенного японского «модернизма» очень важно иметь в виду для
понимания состояния общественного сознания Японии, различных форм его
конкретного проявления, для уяснения идейной ситуации в конце 40-х—
начале 50-х годов, в атмосфере которой перед широкой японской
общественностью встали вопросы о дальнейших перспективах социального
прогресса, о развитии демократии, о роли человека в общественной жизни.
Буржуазная интеллигенция подходила к решению этих вопросов с
узкоиндивидуалистических позиций. Для нее в эти годы центральной
проблемой была проблема личности, ее свободы, ее творческой
индивидуальности. Среди представителей разных сфер интеллектуального
труда на эту тему развернулось множество дискуссий. В литературных
кругах получила популярность так называемая теория субъективности,
провозглашавшая эмансипацию личности. Эта теория получила резонанс и
среди ученых. В кругах социологов получила распространение теория так
называемого гражданского общества, характеризовавшая послевоенное
японское общество как общество равноправных граждан в духе буржуазной
демократии в странах Западной Европы ч ХIХ в. Становится модной и теория
мирного сосуществования в области идеологии. Для всех этих и подобных
им теорий, отражавших реакцию мелкобуржуазного сознания японской
интеллигенции на демократические преобразования первых послевоенных
лет, было характерно отрицание научного классового подхода к решению
социальных проблем.
В сфере собственно философской мысли после войны сразу образуются два
противоположных лагеря—буржуазной и марксистской философии. После
долгих лет монархо-фашистского режима, ставившего под запрет
распространение марксистских идей в любой форме, марксистская
философия обрела право на легальное существование. Ученые-материалисты
начали быстро восстанавливать свои позиции. Члены довоенного
«Юйбуцурон кэнкюкай» («Общество по изучению материализма») создали в
1947 г. «Юйбуцурон кэнкюсё» («Институт по изучению материализма»),
который позднее был преобразован в «Юйбуцуоон кэнкюкай» («Общество по
изучению материализма»). Усилиями коммунистов и прогрессивных ученых
деятельность организованной в 1946 г. «Минею кагаку кёкай» («Ассоциация
демократических ученых») стала приобретать ясно выраженную
марксистскую направленность. Секция философии этой ассоциации с 1947 г.
начала издавать ежемесячный журнал «Рирон» («Теория»), на страницах
которого велась пропаганда диалектического материализма. Появились
первые послевоенные работы философов-марксистов, начавших критиковать
современную буржуазную философию. Что касается буржуазной философии,
то она была представлена в этот период целым рядом современных
идеалистических течений, и прежде всего экзистенциализмом и
прагматизмом. Оба эти направления, использовавшие «прогрессивную»,
«демократическую» окраску послевоенного японского «модернизма», с
самого начала получили большое распространение в общественном сознании
японцев. Они закрепляются и развиваются в философских кругах страны,
отражая различные потребности буржуазного сознания в соответствии со
специфическими особенностями каждого из этих направлений.
Философия экзистенциализма получила в Японии в послевоенный период
достаточно широкую социальную базу для своего развития. Как и в странах
Западной Европы, она стала выражать настроения различных прослоек
буржуазного класса, и прежде всего мелкой буржуазии, интеллигенции,
которые в условиях современного капиталистического производства с его
разнообразными формами эксплуатации человека, отчуждением продуктов
труда, отчуждением личности остро ощущают углубляющийся кризис
буржуазной культуры, пагубное воздействие на духовное творчество
всевозможных стандартов, штампов, шаблонов, отвечающих потребностям
развития буржуазного общества в современную эпоху. Однако
распространение философии экзистенциализма в Японии в тот или иной
период обусловливалось конкретными изменениями в общественно-
политической жизни страны. В первые послевоенные годы интерес к
экзистенциализму, тяга к нему среди мелкой буржуазии, интеллигенции
вызывались прежде всего пережитыми японцами потрясениями военных лет.
последствиями экономической разрухи, крушением всего старого уклада
общественных отношений. Прежняя система ценностей, идеалов, норм
жизни была утрачена, а новая еще не была выработана. Настроение японской
интеллигенции определяли уныние, разочарование и вместе с тем
неуверенные поиски нового, создавая благоприятную почву для возрождения
и распространения экзистенциалистских идей в философии, моральном
сознании, художественной литературе и других сферах общественной мысли
и духовного творчества.
В области собственно философской мысли распространению
экзистенциализма способствовали также ранее сложившиеся традиции этой
философии, тот идейный фундамент, который был заложен ею еще в
довоенные годы. Как известно, экзистенциализм пустил корни на японской
почве очень рано почти сразу же вслед за его появлением в Западной Европе.
Уже с конца 20-х голов переводились работы Хайдеггера и Ясперса
пропагандировались взгляды Хайдеггера в работах Мики Киеси. Вацудзи
Тэцуро и др. С 30-х же годов господствующим течением в академической
философии стал японский экзистенциализм, представленный киотоской
школой. Философы этой школы при всем разнообразии присущих им
особенностей строили свои концепции путем сочетания идей
западноевропейского идеализма с идеалистической метафизикой Востока, и
прежде всего буддизма. Но все же важнейшим элементом и, как правило,
сердцевиной их философских построений был экзистенциализм и близкие
ему по духу гуссерлианство и философия жизни. Основатель киотоской
школы Нисида Китаро в конце 20-х
—
начале 30-х годов разработал
концепцию, эклектически сочетавшую в себе идеи западноевропейских
философов с метафизикой махаянистского буддизма секты Дзэн. Он объявил
эту концепцию сугубо «восточной», выражающей типично буддийский
способ постижения мира. Однако за внешней оболочкой его философских
рассуждений явственно проступало идейное содержание современного ему
западноевропейского идеализма, и в первую очередь экзистенциализма.
Другой крупный представитель киотоской школы, Танабэ Хадзимэ, следуя в
общем русле взглядов Нисида и критикуя их в частностях, еще яснее
обнаруживал экзистенциалистскую направленность своих философских
изысканий. Проповедовал экзистенциализм и третий видный представитель
киотосцев — Мики Киёси, не только пытавшийся сочетать экзистенциализм
с идеями других идеалистических философских концепций, но и
выступавший с интерпретацией марксизма с экзистенциалистских позиций.
Быстрое усвоение и распространение экзистенциализма после второй
мировой войны было обусловлено и целым рядом других обстоятельств
идейного порядка, в частности относительно большей по сравнению с
прагматизмом, неопозитивизмом и другими течениями совместимостью
философии существования с национально» культурой японцев, с их
«классическими», традиционными формами общественного сознания.
Экзистенциализм более активно вступал во взаимодействие с традиционной
философской мыслью японцев, и прежде всего с буддизмом, а потому
выглядел «ближе», «доступнее» при осмыслении мировоззренческих
проблем. В 20— 30-е годы влияние этого фактора сказывалось в появлении
японской модификация экзистенциализма в киотоской школе, а в
послевоенный период, в частности в 60—70-е годы, вызвало к жизни
различные формы экзистенциализации буддийских понятий и представлений,
конкретнее о которых будет сказано ниже.
В первые же послевоенные годы наметились два направления развития
экзистенциализма — одно, стремившееся возродить идеи киотоской школы,
философии Нисида, модернизировать эклектические построения-японского
экзистенциализма, и другое, продолжавшее интерпретировать и
модифицировать классический западноевропейский экзистенциализм.
Первое направление, однако, очень скоро обнаружило свою
нежизнеспособность. В обстановке полной дискредитации идеологии
императорского строя окрашенная в «восточные» тона философия киотосцев
стала быстро утрачивать влияние в академических кругах и к концу 40-х
годов перестала играть сколько-нибудь заметную роль в идейной жизни
Японии. Зато «классический», свободный от «восточной окраски
западноевропейский экзистенциализм в атмосфере буржуазно-
демократического «озападнивания» Японии захватил сознание значительных
слоев японской общественности, проникая как в философию, так и в
нравственные нормы и психологию японцев. При этом, конечно, имеет место
не механическое усвоение западноевропейских экзистенциалистских
концепций, а их социально обусловленный отбор. Под влиянием буржуазно-
демократических преобразований и иллюзорных представлений о
«наступлении эры подлинной демократии» особую популярность в первое
послевоенное десятилетие в философских кругах приобрела
экзистенциалистская концепция Сартра, претендовавшего на «близость» к
марксизму. Концепция же Хайдеггера, запятнавшего себя в глазах
общественности связью с нацизмом, хотя и получила признание в Японии
еще до войны, оставалась пока в тени. В то же время идеи «классического»
западноевропейского экзистенциализма начали все более переосмысливаться
в сознании японских философов, приобретать специфические, собственно
японские особенности.
Что касается прагматизма, то после окончания второй мировой войны он
также обрел достаточно широкую социальную базу в стране.
Распространению философии прагматизма способствовала прежде всего сама
послевоенная буржуазная действительность Японии. Восстановление
экономики страны, расширение внутреннего рынка за счет проведения
аграрной реформы, а также временные ограничения деятельности крупного
монополистического капитала создавали возможность свободного
предпринимательства для мелких и средних производителей, порождали
буржуазный дух наживы, иначе говоря, те самые социальные настроения,
которые в свое время служили питательной почвой для возникновения и
распространения прагматистских идей в конце XIX—начале XX в. в США.
Однако философия прагматизма не имела в Японии таких довоенных
традиций, как экзистенциализм. Правда, она проникла в философские круги
Японии еще в конце XIX в. и в первые два десятилетия XX в. пользовалась
известным влиянием среди японских философов. Так, в 20-х годах
философская концепция Д. Дьюи получила популярное истолкование в
работах видного тогда буржуазного философа Танака Одо. Однако с конца
20-х годов наблюдался очевидный спад влияния прагматизма. По мере
фашизации страны, развертывания внешней экспансии, усиления
идеологической обработки масс в духе шовинизма в буржуазной философии
взяли верх открыто иррационалистические направления, а прагматизм с его
спекуляциями на научном знании, псевдопретензиями на демократический
образ мышления уже не отвечал потребностям правящих классов. В начале
30-х годов философия прагматизма перестала быть сколько-нибудь заметным
явлением в философской жизни Японии, а в первой половине 40-х годов о
ней уже не вспоминали. Вот почему обращают на себя внимание «взлет»
прагматизма после войны, его «второе рождение» в кругах японской
буржуазной философии. Одним из решающих факторов, вызвавших такую
метаморфозу, явилась, разумеется, политика американских оккупационных
властей. Под флагом утверждения в Японии «демократии» эти власти
усиленно прививали японцам различные стандарты и нормы так называемого
«американского образа жизни». Составной частью этой политики была и
пропаганда американской идеологии, в частности американского
прагматистского образа мышления. В таких условиях философия
прагматизма проникает во все поры идейной жизни японского общества.
Значительной популярностью пользуются взгляды корифея прагматизма
Дьюи и его различных интерпретаторов. Хотя прагматистские идеи
распространялись вначале в своем «чистом», «классическом» американском
виде, в сознании японцев они получили со временем собственное
истолкование, которое в дальнейшем вызвало к жизни новый, специфически
японский вариант философии прагматизма.
И экзистенциализм, и прагматизм, представляя господствующие в
буржуазной философии Японии направления, нередко занимали
критическую позицию по отношению друг к другу и в то же время — и это
довольно характерно для первого послевоенного десятилетия—
подчеркивали свою «близость», свои «симпатии» к марксизму. Однако,
несмотря на расхождения и противоречия между этими двумя буржуазными
философскими течениями, их связывала общность основных
идеалистических принципов и установок, реакционных в своей сущности и
враждебных последовательно научному марксистскому мировоззрению. Эта
общность, идейная близость философии экзистенциализма и прагматизма
обнаруживалась как в концепциях японских экзистенциалистов и
прагматистов, так и в конкретном решении ими тех или иных философских
проблем. Между философией экзистенциализма и прагматизма в Японии
существовало также и определенное «распределение труда» в
удовлетворении идеологических запросов буржуазного сознания. И если
экзистенциализм в Японии выдвигал прежде всего претензию на разработку
широкой мировоззренческой концепции человека и его роли в современном
обществе, если он критически реагировал на научно-технический прогресс и
его последствия в условиях капитализма и выступал при этом с открыто
иррационалистических антинаучных и фактически примиренческих позиций
в отношении буржуазной действительности, то прагматизм выдвигал
претензию на разработку науки, научного метода, спекулировал на
рациональном подходе в понимании общественных явлений, хотя по сути
дела также антинаучно, иррационально и апологетически истолковывал
современную буржуазную действительность. Такое своеобразие идейной
сущности и функциональной направленности экзистенциализма и
прагматизма было очевидно для японских философов-марксистов, которые,
борясь против буржуазной философии Японии, указывали на необходимость
одновременной критики обоих этих течений.
В середине 50-х годов Япония переходит от восстановительного периода к
послевоенному развитию в полном смысле этого слова. В эти годы
начинается процесс так называемого «форсированного развития японской
экономики». Со второй половины 50-х годов и особенно в 60-е годы
непрерывно и быстро увеличивается объем промышленного производства. В
результате, научно-технической революции в промышленности широко
внедряются автоматизация и механизация труда, кибернетика, атомная
энергия, полупроводниковая, лазерная техника и т. п. В 60-е годы по общему
объему национального дохода Япония обогнала многие промышленно
развитые страны и вышла по экономическому развитию на второе после
США место в капиталистическом мире. Японский монополистический
капитал в ходе этого процесса все более освобождался от экономической
зависимости от Соединенных Штатов и все успешнее конкурировал с
американским и западноевропейским монополистическим капиталом.
Научно-технический прогресс в развитии производительных сил Японии не
сопровождался, однако, прогрессом в производственных отношениях, в
обеспечении реальных прав трудящихся на создаваемые материальные и
духовные ценности. Напротив, происходило дальнейшее обострение
социальных, классовых антагонизмов. Борьба между трудом и капиталом
принимала самые разнообразные формы, проявляясь и в традиционных
забастовках, и в знаменитых, охватывающих всю страну «весенних
наступлениях» трудящихся, и в таких общенациональных движениях
протеста, как выступления против «договора безопасности» и американских
военных баз. Эта борьба особенно возросла в 70-х годах, когда
промышленный бум сменился депрессией и спадом производства и резко
выявились кризисные явления — перепроизводство товаров, безработица,
рост цен, инфляция.
Рабочий класс Японии при всех происходивших в послевоенный период
сдвигах в производстве, при всех изменениях собственной структуры,
вызванных научно-техническим прогрессом, остается революционной и
революционизирующей силой японского общества. Он значительно вырос
количественно, возросла его организованность и политическая
сознательность. Соответственно возросло и влияние на политическую жизнь
страны Коммунистической партии Японии, Социалистической партии
Японии, прогрессивных профсоюзных объединений и организаций,
защищающих интересы рабочего класса. Под непосредственным
воздействием рабочего движения в борьбу за социальные и демократические
преобразования все активнее вступают крестьянские массы, городская
мелкая буржуазия, интеллигенция, студенчество. На повестку дня
прогрессивного лагеря Японии все настоятельнее выдвигается вопрос о
создании единого фронта демократических сил страны.
Однако успешному развитию рабочего, демократического движения наносит
огромный вред отсутствие единства в его рядах. Еще огромная масса
японских рабочих остается неорганизованной, вне профсоюзов. В самом
профсоюзном движении наблюдается раскол, организационная
распыленность. Все это подрывает сплоченность рабочего движения,
ослабляет демократические силы Японии.
Правящие круги предпринимают всемерные усилия в целях противодействия
развитию японского рабочего и демократического движения. Им еще удается
за счет сверхприбылей, быстрого экономического роста привлекать на свою
сторону высококвалифицированные категории японских рабочих, научно-
технической интеллигенции, удается поддерживать реформистские
настроения среди значительной части японских трудящихся. В их
распоряжении по-прежнему находятся все основные рычаги политической
власти, все основные звенья государственного аппарата, опираясь на которые
они приводят в действие всю систему буржуазной демократии с ее тщательно
разработанными атрибутами и формами, создающими видимость подлинно
демократического правления. Все это так или иначе позволяет правящей
либерально-демократической партии побеждать на всеобщих выборах,
добиваться выгодных для себя опросов общественного мнения и т. п . [90, V,
11—12].
Противоречия современного капитализма в экономике, в социально-
классовой структуре Японии находят свое отражение в общественном
сознании, в духовной жизни японского общества. По мере того как
обостряются социальные антагонизмы и резче проявляется несоответствие
капиталистического способа производства законам общественного развития,
для идеологии господствующего класса Японии, апологетически
выполняющей свою служебную роль по отношению к экономическому
базису и политической надстройке, становится характерным использование
всё более утонченных приемов и способов обработки сознания трудящихся.
Механизм образования и функционирования господствующей в Японии
буржуазной идеологии определенным образом соответствует характеру
современного производства, разрастающаяся и усложняющаяся структура
которого требует дальнейшего повышения роли его организации, диктует
необходимость все более сознательного объединения тех, кто в нем
участвует. Монополистический капитал Японии всячески использует эту
объективную потребность современного производства в своих
узкокорыстных интересах для создания «системы управления» сознанием
масс, манипулирования мыслями и чувствами людей. Именно этой цели и
служит «производство» буржуазной идеологии в массовом масштабе, т. е .
производство идей теорий, концепций, создаваемых как стандартизируемый
товар для духовного потребления масс. На такой основе в послевоенной
Японии, как и в других развитых капиталистических странах, возникает
индустрия так называемого массового сознания. Производство такого типа
сознания осуществляется не отдельными мыслителями, людьми свободных
профессий, как в прошлом, а целыми научными коллективами.
исследовательскими центрами, институтами, которые строят свою
деятельность в соответствии с запросами и требованиями финансирующих
их учреждений [160, 567—578].
По своему идейному содержанию продукция современной индустрии
сознания в Японии представляет собой такие теории, концепции, доктрины,
которые так или иначе через призму буржуазного мировоззрения искаженно
отражают и объясняют послевоенное развитие японской экономики,
послевоенные преобразования классовой политической структуры,
изменения в психологии людей и т. п . В 50—60-е годы XX в. в Японии
получили широкое распространение и популяризируются буржуазной
пропагандой модные в США и в странах Западной Европы теории массового
общества, индустриального общества, общества благосостояния, общества
потребления, теории народного капитализма, нового среднего класса,
деидеологизации и т. п. Японские интерпретаторы и пропагандисты этих
теорий Томинага Кэнъити, Симидзу Икутаро, Косака Токусабуро, Мацусита
Кэнъити и др. стараются доказать, что Япония в послевоенный период являет
собой пример общества, в котором, как и на Западе, совершается новая
промышленная революция, ликвидирующая якобы монополистический
капитализм, эксплуатацию и угнетение трудящихся, в котором будто бы на
смену антагонистическим классам приходит новый, свободный от
идеологических предрассудков, средний класс квалифицированных
тружеников, равноправно участвующих в производстве, в распределении
доходов [153; 180; 79; 98]. Буржуазные идеологи порой видоизменяют,
модернизируют те или другие детали, второстепенные положения этих
теорий, однако неизменно воспроизводят их основное идейное содержание,
односторонне фиксируя развитие производительных сил, игнорируя
господство капиталистических производственных отношений, роль
буржуазного государства, сращивающегося с монополистическим капиталом,
сознательно замалчивая обостряющуюся классовую борьбу, пролетаризацию
основной массы населения и прочие органически присущие современному
капитализму явления1.
Научно-технический прогресс в Японии не только порождает производство
«стандартизируемого сознания», но и создает соответствующие средства для
распространения и потребления «продуктов» такого сознания — так
называемые «масу-коми» (массовые коммуникации), иначе говоря, средства
массовой информации, включающие прессу, радио, кино, телевидение, с
помощью которых в самых широких масштабах с применением изощренных
приемов осуществляется идеологическая обработка сознания японской
общественности. Средства массовой информации в современной Японии
являются основным источником и проводником потребления духовной
культуры. Их роль в повседневной жизни японцев приобретает такое
большое значение, что современную эпоху все чаще называют в Японии
«эпохой информации», «веком информации», говорят о наступлении такого
общества, жизнь которого определяет прежде всего информация, ее
использование. Однако по мере развития и совершенствования
использования средств массовой информации усиливается критика в их
адрес. Буржуазные ученые, журналисты, публицисты разного профиля, не
замечающие, как правило, всей тенденциозности содержания передаваемой
информации, тем не менее все больше обращают внимание на нездоровые,
«болезненные явления» в деятельности средств массовой информации. Они
указывают, в частности, на то, что информация, содержащаяся в газетах и
журналах, передаваемая по радио, становится все более «безличностной»,
«анонимной», что она «создается количественно неопределенными группами
людей» и «направляется на количественно неопределимую массу
потребителей». Способы доведения подобного рода информации до
потребителя таковы, указывается далее, что передаваемые сообщения
становятся все более «фрагментарными», «утрачивающими какое-либо
единство, внутреннюю связь между собой» [106,55].
Разумеется, многие ученые и публицисты, пишущие на эту тему, в
большинстве случаев не понимают или сознательно скрывают то
обстоятельство, что замечаемые ими «болезненные явления» не следствие
плохого управления или плохой организации средств массового общения, а
результат вполне продуманной, целенаправленной деятельности тех, в чьих
руках эти средства информации находятся. Представляющиеся буржуазным
ученым и публицистам всего лишь «нездоровыми», такие формы и средства
доведения информации до потребителя специально отрабатываются и
совершенствуются в интересах осуществления буржуазной пропаганды,
имеющей целью дезориентировать рядового человека, не дать ему
возможности разобраться в бездне конкретного материала, не позволить
разглядеть в массе отдельных фактов, сообщений, эпизодов их существенные
связи, социальный смысл и значение.
Подобной форме подачи информации соответствует и ее содержание. Оно
буквально пропитано индивидуалистической психологией. В центре
внимания всего того, что передается по радио, телевидению, сообщается в
газетах и журналах, как правило, находится человек как отдельная личность
со своими индивидуальными склонностями и запросами, человек,
оторванный от своих жизненно необходимых общественных функций. В
изображении массовых коммуникаций человек оказывается вне труда, вне
политики, вне всякой важной общественной деятельности. Это в основном
человек потребления, человек досуга с его интересом к спорту, популярным
песням, модной одежде, вкусной пище и прочим чувственным
удовольствиям. Другими словами, решающим мотивом передачи
информации средствами массового общения в Японии, является, таким,
образом, не ее достоверность, не ее духовная ценность, а только фактическая
сторона, погоня за новизной сообщений, обеспечивающей легкую смену
впечатлений. Такой чисто потребительский характер передачи информации
ведет, по мнению социологов, к снижению активности сознания людей,
вырабатывает пассивный характер восприятия того информационного
материала, который передается. Иначе говоря, способность к
самостоятельному мышлению и оценке информации подменяется готовыми
стандартизированными взглядами и мнениями [169, 20—22].
Особенно большое значение в качестве средства информации в жизни
японцев приобретает телевидение. Оно становится поистине универсальным
средством распространения современной «массовой культуры». Телеэкран
заменяет восприятие шрифта газет, журналов, восприятие на слух
радиопередач живым изображением, и таким образом усиливается его
чувственно-эмоциональное воздействие на интеллект. На телеэкране
безличностный, анонимный характер печати, радио уступает место
«естественному», «конкретному», «вполне реальному» изображению
событий. В результате извращение фактов политической, экономической
действительности в телепрограммах, воспевание чисто потребительского
отношения к жизни, пропаганда секса, гангстеризма и прочих нездоровых
явлений приводит в современных японских условиях к еще более пагубным
последствиям [203, 243—246]. Буржуазные социологи в последнее время
вынуждены с тревогой писать о фальшивой природе «культуры живого
изображения». Они отмечают, что телевизионный экран, особенно с
переходом на цветное изображение, сводит до минимума активность
человеческого интеллектуального восприятия, притупляя не только функцию
рационального мышления, но и всякую человеческую чувственность [106,
59—60].
Не вскрывая причин нездоровых, уродливых явлении в деятельности
системы массовой информации, не показывая классовой природы
общественных отношений, порождающих такие явления, буржуазные
социологи вынуждены все же обращать внимание на опасность подобного
функционирования средств информации. Они все чаще пишут о тенденциях,
ведущих к превращению «информационизируемого общества» в
«контролируемое общество», а нередко и еще более определенно указывают
на то, что чрезмерное развитие «информационизируемого общества» создает
«благоприятные условия для фашизма» [106, 64].
Если одни японские буржуазные исследователи явно критически оценивают
все возрастающую роль средств массовой информации, то другие, напротив,
ее оправдывают. Они выступают, в частности, с так называемой «теорией
информационизируемого общества» и «футурологической теорией».
Согласно «теории информационизируемого общества», например, все
мировое пространство состоит из трех основных элементов — материи,
энергии и информации. Причем в складывающемся ныне современном
обществе информация становится наиболее значительным жизненным
фактором, основой как материального производства, так и духовного
творчества людей. В современной, все более усложняющейся жизни,
утверждают приверженцы этих теорий, все решают в конечном счете знания,
их своевременное приобретение;
в экономической конкуренции, в политике исход борьбы всегда зависит от
степени обладания информацией, позволяющей правильно ориентироваться в
быстро меняющемся мире, предвидеть возможный ход событий и т. п.
Поэтому и реальная власть в современном обществе, с точки зрения
приверженцев этих теорий, переходит от капиталистов к ученым, к людям
интеллектуального труда [63; 67].
Японские философы и социологи-марксисты, вскрывающие научную
несостоятельность указанных теорий, их идеалистическую сущность,
обращают внимание на то, что выделение знания, информации в качестве
самостоятельной субстанции и важнейшего фактора общественной жизни
осуществляется на основе идеалистической методологии. Критикуя
подобного рода абсолютизацию значения знания, информации, они
указывают, что знание, информация не представляют чего-либо совершенно
независимого от материи, что они суть разного рода формы ее отражения,
характерные для таких мыслящих или саморегулирующих «систем», как
живые существа, люди, автоматы. Философы-марксисты разоблачают
идеалистическую сущность установки приверженцев «теории
информационизируемого общества», будто знание и информация составляют
основу производительных сил общества, будто производят в конечном счете
само знание и информация в отрыве от материальной и производительной
деятельности человека [151, 67—70]. Подчеркивая порочность «теории
информационизируемого общества» и «футурологической теории» с точки
зрения их социального смысла [71, V, 68—70], философы-марксисты
отмечают, что эти теории, как и близкие им по духу теории индустриального
общества, общества благосостояния, общества потребления,
постиндустриального общества и др., игнорируют роль общественных
производственных отношений и классовой борьбы в условиях современного
буржуазного общества, что эти теории в сущности своей являются
«идеологией организованного капитализма», которая утверждает о
возможности якобы «совершенствования всей общественной системы без
ликвидации капитализма» [151, 70].
Распространение в послевоенной Японии заимствованных на Западе
техницистских теорий экономического роста, общества промышленной
революции, постиндустриального общества, общества потребления и их
позднейших японских вариантов вроде «теории информационизируемого
общества», «футурологической теории» удовлетворяет запросы буржуазной
идеологии в той мере и постольку, поскольку она спекулирует на развитии
производительных сил и современного научного знания. Апеллируя к
«чистой науке», свободной от «классовой субъективности», провозглашая
«идеологический нейтрализм», призывая к «деидеологизации», приверженцы
этих теорий стараются тем самым завуалировать свою действительную
позицию апологетов капитализма и вместе с тем свое враждебное отношение
к социализму и коммунизму. В то же время придерживающиеся этих
сциентистских теорий буржуазные идеологи дают им свою интерпретацию,
основываясь прежде всего на категориях и представлениях о современном
обществе, человеке, его практической деятельности, сложившихся в русле
таких течений современной буржуазной философии, как неопозитивизм,
прагматизм и отчасти экзистенциализм2.
Однако сциентистское направление буржуазной теоретической мысли не
исчерпывает в полной мере существа послевоенной буржуазной идеологии
Японии, имеющей целью не только скрыть от трудящихся масс подлинную
природу капиталистического строя, но и создать какой-то психологический
духовный потенциал, выработать более широкие мировоззренческие основы,
как-то согласующиеся с духовной культурой народа. Решение этой задачи
ведущие представители идеологии правящего класса Японии пытаются
найти, в частности, во вновь возрождающемся в послевоенное время
буржуазном национализме.
Буржуазный национализм начал поднимать голову в Японии со второй
половины 50-х годов. В 60-х годах он заметно набирает силу и в 70-х годах
становится серьезным фактором политической и идеологической жизни
страны. И это не случайно. Именно в этот период Япония становится
высокоразвитой индустриальной державой и играет все более заметную роль
на мировой арене. В то же время происходят изменения и в различных
сферах духовной жизни японцев. Наряду с процессом озападнивания
различных областей национальной культуры в широких кругах японской
интеллигенции возникают и набирают силу встречные тенденции — к
сохранению классического культурного достояния прошлого. Однако в
условиях обострения классовой борьбы, господства буржуазной идеологии
чувство национальной гордости все более уступает место
националистическим настроениям. Правящие круги способствуют
разжиганию национализма, видя в нем одно из средств духовной обработки
сознания трудящихся для отвлечения их от классовой борьбы в интересах
«единения японцев как одной нации». Политика господствующего класса,
направленная на ослабление прогрессивных сил Японии, на ограничение
демократических институтов и изменение конституции, определенным
образом увязывается с возрождением национализма, опирается на него,
активизирует деятельность правых, милитаристских организаций,
реакционных элементов японского общества [32, 143— 1461.
Еще в середине 50-х годов по инициативе реакционных организаций в
Японии началось движение за пересмотр школьных программ и исправление
учебников, в которых якобы слишком негативно изображается история
страны. В последующие годы в политических кругах Японии все больше
внимания уделяют проблемам воспитания японцев в духе «патриотизма», все
громче раздаются призывы к «формированию нового человека» — так
называемого хитодзукури и т. п . Так, в 1964— 1966 гг. составлялись
различные варианты проекта документа под названием «Образ человека, на
которого возлагаются надежды», в котором особый акцент делался на
«воспитание патриотических чувств», на «осознание единства японской
нации» и т. п . [77]. Красноречивым свидетельством роста буржуазного
национализма стали попытки различных «патриотических» организаций
использовать празднование во второй половине 60-х годов «столетия
преобразований Мэйдзи» для пропаганды идей об «исключительности»
японской нации и «особых» путях ее социального развития. Ту же цель
преследуют попытки реакционных сил Японии в той или иной форме
возродить культ императора. Националистически настроенные идеологи
всячески стараются внушить массам представления о том, что хотя японский
император и не бог, но это монарх, не имеющий себе подобных, что он
заслуживает «глубокого уважения» как «символ японского государства» [90,
V, 26—29].
Под влияние националистических настроений подпадает все большее число
буржуазных ученых, занимающихся изучением различных сфер духовной
культуры, психологии поведения, образа мышления японцев. В стремлении
выявить специфические черты национальной культуры, своеобразие тех или
иных ее атрибутов целый ряд исследователей старается доказывать какую-то
совершенно особую созидательную природу духовных традиций Японии,
пытается возводить особенности образа жизни японцев, их характера в некие
внеисторические «неизменные принципы», которые будто бы определяют
бытие людей и развитие общественных отношений [16; 19; 142].
Деятельность правящих кругов Японии, способствующая росту
националистических настроений, еще более усиливается в 70-х годах. Ее
острие открыто направляется против демократических, прогрессивных
организаций японского общества, приобретая все более ясно выраженную
антикоммунистическую окраску [213, 432—433]. Концепции проповедников
современного японского национализма формируются и развиваются, как и в
прошлом, в русле иррационалистической идеологии, основу которой
составляют известные реакционные идеи западноевропейского и
американского образца, а также модернизируемый на современный лад
традиционный идейный материал буддийского, конфуцианского и
синтоистского происхождения.
Националистическая идеология реакционных сил в современной Японии
определенным образом смыкается с идеологией левацкого и анархистского
движений, усилившихся в среде мелкой буржуазии и студенчества в 60—70-
х годах. Так называемые «новые левые», троцкисты и прочие анархистские и
левацкие элементы, так же, как и буржуазные националисты,
руководствуются идейными принципами, имеющими прежде всего
иррационалистическую антинаучную сущность. Идеологическая платформа
таких левацких группировок в Японии чрезвычайно пестра и эклектична; она
включает и откровенно реформистские концепции, и ревизионистские
теории, спекулирующие на марксистско-ленинском учении, и современное
маркузеанство и многое другое. Программные установки идеологов левацких
группировок— Курода Канъити, Умэмото Кацуми, Ота Рю и др.— с одержат
как положения, копирующие зарубежные образцы, повторяющие, в
частности, троцкистские идеи, так и положения, видоизменяющие их
сообразно практическим задачам левацкого движения в Японии [187; 190].
Однако, как справедливо отмечают японские марксисты, характерной чертой
всех идеологических программ левацкого движения в современной Японии
неизменно является откровенный или слабо завуалированный
антикоммунизм [49].
Иррационалистические идейные течения в идеологии как консервативных
сил, так и леворадикальных группировок в Японии имеют свою
мировоззренческую основу в таких антисциентистских направлениях
современного философского идеализма, как, в частности, экзистенциализм,
феноменология, антропология, философия культуры, философия
франкфуртской школы. В то же время теоретический антисциентизм в
идеологии буржуазного национализма и в рассматриваемых ниже
идеалистических течениях буржуазной философской мысли в современной
Японии все более очевидно смыкается и тесно переплетается с религиозным
сознанием [74].
Религии, несомненно, все еще принадлежит значительное место в духовной
жизни послевоенной Японии. Хотя после поражения японского
империализма позиции традиционных религий — синтоизма и буддизма,
связанных с идеологией императорского строя, — были сильно подорваны,
социальная база существования религии по-прежнему сохранилась. Несмотря
на декреты об отделении религиозных институтов от государства,
буржуазная действительность Японии способствует воспроизводству
религиозного сознания в самых различных формах.
Сразу после окончания войны наряду с продолжавшими существовать
прежними религиозными сектами стали появляться и быстро расти
религиозные секты и организации, названные позднее «синко-сюкё» —
«новые религии». Общее число таких «религий» достигло почти четырех
сотен [172, 73]. Среди них особенно выделяются Сока гаккай (Общество
создания ценностей), Риссё косэйкай (Общество по установлению
справедливости и дружественных отношений), Тэнрикё (Религия
божественной мудрости), Сэйтё-но иэ (Дом роста), Сэкай кюсэйкё (Религия
спасения мира). Каждая из «новых религий» формулирует свою идейную
доктрину на основе определенных положений синто, буддизма и
христианства или же посредством эклектического сочетания их догматики.
Появление и широкое распространение «новых религий» объясняется в
первую очередь тем, что в отличие от традиционных религий они сумели
очень быстро и активно приспособиться к новым условиям жизни, к тем
запросам, которые предъявляет к религии современный японец. Наши
исследователи отмечают целый ряд особенностей в деятельности новых
религиозных организаций, позволяющих им привлекать в число своих
сторонников большие массы людей. Они указывают, в частности, что «новые
религии» отличаются чрезвычайной простотой самого ритуала
вероисповедания, процедуры вступления в организацию и большой
доступностью религиозной догматики. Отмечается далее, что по сравнению с
традиционными религиями «новые религии» не только не отрешены от
земной жизни, а, напротив, призывают к активному в ней участию, обещая
спасение не в потустороннем мире, а на «грешной земле», и не в далеком
будущем, а в ближайшее время. Более того, «новые религии»
предусматривают осуществление «мирской» общественной деятельности
(движение за мир и т. п.) и даже прямое участие в политической
деятельности [20, 105].
Благодаря этим и некоторым другим особенностям новых религиозных сект
они распространили свое влияние на значительную часть населения страны.
При всех скидках на необъективный характер статистики,
преувеличивающей число адептов той или иной религии, нельзя не признать,
что религиозная идеология, пропагандируемая как старыми, традиционными,
так и новыми сектами и организациями, захватила сознание многих
миллионов японцев, по своему социальному составу принадлежащих, как
правило, к наиболее отсталым слоям городских низов (рабочие мелких и
средних предприятий) и крестьянства. Характерным примером в этом
отношении может служить Сока гаккай, насчитывающая несколько
миллионов адептов и имеющая свои организации не только во всех
префектурах Японии, но и за рубежом — в США и Западной Европе.
Руководство этой религиозно-политической организации, используя
собственную систему идеологической пропаганды, свои средства массовой
информации, призывает к переустройству общества, к построению «третьей
цивилизации», «буддийского социализма» и т. п .
Помимо деятельности религиозных организаций с определенной сектантской
принадлежностью религиозное сознание в послевоенной Японии получает
распространение и в более расплывчатой, недогматической форме. В
литературе, освещающей религиозные проблемы, нередко можно встретить
высказывания о том, что японцы, не разделяющие программу религиозных
доктрин тех или иных сект, считают все же «религиозный дух»,
«религиозную веру» необходимой для себя [109, 27]. Да и в
общеполитических изданиях, в газетах и журналах постоянно помещаются
статьи, авторы которых, ссылаясь на то, что в настоящее время якобы
«широко читаются доступно написанные книги по религиозным
отношениям», утверждают, что «это объясняется тем, что внимание людей
начало обращаться от вещей к духу, что, видимо, компьютерная футурология
идет на спад и людей начинает привлекать мистическое, духовное» [184]. В
то же время наблюдается также тенденция поддержать авторитет религии за
счет ее «теоретического» — философского осмысления. Поборники религии
такого профилг вынуждены констатировать недостаточность на сегодняшний
день одной «позитивной теологии» и откровенно призывают дополнить
последнюю «религиозной философией» [176, 51—52].
В 60—70-е годы в связи с оживлением элементов традиционной культуры, с
подъемом националистических настроений снова возрождается интерес и к
традиционным буддийским и синтоистским религиозным сектам,
осуществляются попытки модернизировать их идеологию. Особенно
популяризуется в этом отношении буддизм. Выпускается огромное
количество книг и брошюр, посвященных историческому прошлому
буддийской религии, ее догматам. В этих публикациях идейное содержание
буддизма объявляется наивысшей духовной ценностью, стержнем
национальной японской культуры [65]. В них помимо учений сектантского
буддизма очень широко пропагандируется буддизм вообще, безотносительно
к тем или иным религиозным сектам, буддизм как «вечное учение», в
котором указан «путь к спасению человеческой души», воплощена «истина и
красота мира», «все дорогое и близкое человеку» [200; 174; 97]. Именно
таким путем, в частности, делаются попытки возвеличить религиозную
догматику буддизма, приписывая ей многое из того, что на самом деле
составляет содержание буддизма философского.
Наряду с указанными выше сциентистскими и антисциентистскими
течениями буржуазной идеологии современная буржуазная философия
Японии отражает в своем послевоенном развитии обостряющиеся
социальные антагонизмы японского общества, углубляющийся кризис его
культуры. На общий взгляд ее развитие во второй половине 50-х —начале 70-
х годов характеризуется распространением разнообразных течений
современного идеализма, отличающихся еще большей, нежели ранее,
пестротой и обилием идейных оттенков. Однако сквозь это бросающееся в
глаза многообразие философских течений (объясняющееся продолжающимся
размежеванием в общественном сознании, выдвижением новых проблем,
проникновением в академическую философию традиционной мысли ввиду
усиления националистических тенденций и т. п .) достаточно четко
просматриваются Два основных направления. Одно из них,
ориентирующееся на осмысление проблем научного творчества, методологии
исследования, на анализ языка науки, представлено главным образом
неопозитивизмом, его новейшими модификациями — аналитической и
семантической философией, а также прагматизмом. Другое,
ориентирующееся на осмысление проблем бытия человека в современном
обществе, проблем развития культуры, ее кризиса, охватывает
экзистенциализм, разного рода философскую антропологию и
культурологию, неонисидианство и т. п. Оба эти направления развития
современной буржуазной философии Японии в целом аналогичны тем,
которые имеют место в буржуазной философской мысли стран Западной
Европы и США и определяются нашими исследователями с некоторыми
оговорками как сциентистское и антисциентистское направления в
современной буржуазной философии. Поэтому и основные характеристики
этих направлений, раскрывающие общие черты современной буржуазной
западноевропейской и американской философии, можно с полным правом
отнести и к современной буржуазной философии Японии [27; 196]. Как и на
Западе, оба направления, при всех различиях их проблемно-
исследовательской ориентации, имеют глубокую идейную общность и
функционально дополняют друг друга. Как и на Западе, при всех претензиях
на преодоление материализма и идеализма, на открытие «третьего пути» в
философии, идейным течениям, составляющим эти направления в Японии,
присуща ненаучная идеалистическая методология. У экзистенциалистско-
антропологического направления эта методология выражается более явно
ввиду характерного для него иррационалистического идейного содержания и
ясно проступающих религиозно-мистических мотивов. У неопозитивистско-
прагматистского направления она более скрыта, завуалирована
«критическими» выступлениями против «абстрактной метафизики», в
защиту «рационального научного анализа».
Разумеется, при всей общности с буржуазной философией Западной Европы
и США указанные направления современной буржуазной философии Японии
имеют и свои особенности. В сциентистской философии, не испытывающей
на себе влияния традиционной национальной культуры, эти особенности
видны меньше. Они могут быть зафиксированы в известной мере в развитии
философии прагматизма и ее взаимодействии с неопозитивистскими
течениями. Возрождение прагматизма в послевоенных японских условиях,
появление его особой японской модификации, а затем постепенный спад его
влияния и в то же время большая приспособляемость прагматистских идей к
сочетанию с новейшими неопозитивистскими сциентистскими концепциями
—
все это не может не свидетельствовать о некоторых специфических чертах
развития этого философского течения в Японии. Что же касается
антисциентистской философии, связанной в значительной мере с
традиционной культурой, с традиционными формами общественного
сознания, то ее особенности по сравнению с современной буржуазной
философией стран Запада проявляются достаточно определенно. Они
устанавливаются, в частности, в развитии экзистенциализма, философской
антропологии и культурологии, в появлении их японских вариантов и
модификаций (более подробно эти направления рассматриваются в третьей
главе).
Помимо указанных выше двух основных направлений развития буржуазной
академической философии заметное влияние на японскую философскую
общественность оказывает и религиозно-философская мысль. Ее развитие
также отличается определенным своеобразием. В Японии, как известно, в
сфере буржуазной философии отсутствует такое влиятельное течение
религиозно-философского характера, как, например, неотомизм в Западной
Европе или философия протестантизма в США3. Однако это не значит, что
потребности религиозного сознания в японском обществе не находят
соответствующего для себя выхода в философском мышлении. Религиозные
проблемы, в частности, широко обсуждаются в философских кругах Японии
на различных уровнях [35, 37—72]. Они становятся предметом специальных
исследований в работах видных японских буржуазных философов [126].
Религиозные мотивы достаточно ясно проступают в современном японском
экзистенциализме. Наконец, религиозная идеология совершенно очевидно
обнаруживается в предпринимаемых попытках модернизировать буддийскую
философию. Примером этого может служить как появление современных
философских интерпретаций традиционной религиозной догматики
буддизма, так и возникновение причудливых сочетаний и переплетений
философского и религиозного сознания, имеющих место в так называемых
«новых религиях». Особенно явно эта тенденция выявляется в идеологии
Сока гаккай. Исследователи духовной жизни современного японского
общества, в том числе и марксисты, называя Сока гаккай, как правило,
религиозно-политическим движением, указывают на то, что его идеология
основывается на религиозных догматах буддийской секты Нитирэн [148,
160]. В то же время в научной литературе отмечают, что идейной основой
Сока гаккай является теория ценностей Макигути, включающая идеи
прагматизма, неокантианства, философии жизни [111, 210]. Это
противоречие в оценке идеологической платформы Сока гаккай, несомненно,
имеет под собой еще не обратившее на себя достаточного внимания
исследователей объективное основание, вызывающее появление в Японии
своеобразного идеологического симбиоза философского и религиозного
сознания.
Развитие указанных выше направлений современной буржуазной философии
Японии идет под знаком дальнейшего углубления ее кризиса, отражающего
кризис современной буржуазной культуры, общественных отношений.
Проявлением кризиса буржуазной философской мысли в Японии является
прежде всего ее очевидная неспособность научного объяснения процессов и
явлений, совершающихся в современной японской действительности,
отсутствие у нее какой-либо фундаментальной позитивной программы,
отвечающей актуальным потребностям общественного развития страны.
Современный японский экзистенциализм и близкие к нему
антропологические течения уходят от подлинного осмысления реальных
общественных процессов и явлений. Они делают основной акцент не на
разработку жизнеутверждающей социальной теории, а главным образом на
буржуазно-ограниченную критику существующей действительности,
ведущую к примирению с ней, отвлекающую от борьбы за ее
преобразование. Хотя в 60—70-е годы жизнь все более заставляет
экзистенциалистов включать социальную проблематику в их концепции,
выдвигать теорию так называемой «социальной экзистенции», в сущности
представители этого философского направления не могут, не порывая с
основными принципами своего мировоззрения, преодолеть
индивидуалистические, субъективно-идеалистические ассоциальные
установки своих взглядов. Поэтому подлинно научное решение актуальных
философских проблем подменяется у них мнимым решением с позиций
иррационализма как в его «классическом» западноевропейском выражении
(посредством категорий «небытие», «ничто», «смерть» и т. п.), так и с
привлечением переосмысляемых на экзистенциалистский манер
представлений буддийской метафизики (понятий «пустота», «карма»,
«небытие» и т. п .) .
В неопозитивистской философии в Японии, как и в Западной Европе и США,
также наблюдается сдвиг от конструктивистских построений
методологического порядка в сторону критического анализа, все больший
отход от исследования самой логики познания, мышления к изучению
главным образом формальных средств выражения мысли в языке и т. п. Тем
самым современный позитивизм в Японии все более порывает с исходными
принципами этого философского течения и превращается в бесплодный
критический негативизм. Но особенно ярко кризисное состояние в
неопозитивистской философии в Японии — как, впрочем, в США и в
Западной Европе — проявляется в том, что критика «мировоззренческой
метафизики» и неспособность выдвижения конструктивных вопросов4
доходит у ее представителей до отказа от рассмотрения философских
проблем, как таковых, до подмены этих проблем нефилософскими или
растворения их в конкретике позитивного научного знания.
Отмеченные выше черты кризиса современной буржуазной философии
Японии не означают, однако, что эта философия утрачивает свое влияние на
общественное сознание японцев. Господствующие в современном японском
обществе капиталистические материальные отношения приводят к
постоянному воспроизводству буржуазной идеологии, в частности
буржуазной философии. Поэтому после дискредитации одних
идеалистических течений, взглядов, концепций появляются новые варианты
прежних теорий, идей, не выдержавших испытания временем. И все же
возможности осуществления буржуазной философией Японии своих
идеологических функций становятся все более ограниченными. В условиях
обострения классовой борьбы, повышения политической активности масс, их
стремления к научному осмыслению действительности буржуазная
философия Японии приходит ко все более широкой идеологической
конфронтации с марксизмом, с марксистско-ленинской философией.
Идеи марксизма-ленинизма, научного мировоззрения получают все большее
распространение в послевоенной Японии. Все глубже проникая в сознание
рабочего класса, различных слоев общества, марксистское учение отражает
объективные потребности социального развития. Вместе с тем возрастающая
сила его влияния представляет собой результат деятельности поколений
японских марксистов, итог усилий коммунистов, социалистов, профсоюзных
активистов, представителей различных прогрессивных организаций страны.
В послевоенные годы японские марксисты развернули большую работу
среди трудящихся по пропаганде идей социализма. В рабочих кружках, в
популярных изданиях, в периодической печати они разъясняют содержание
марксистского учения, раскрывают значение его основных положении для
реализации практических задач современной классовой борьбы, борьбы за
демократию, мир и социальный прогресс. Наряду с пропагандистской
работой в массах японские марксисты уделяют в послевоенный период
большое внимание изучению марксистской теории, умению применять
научные принципы этой теории к конкретной действительности, обобщать на
их основе опыт прошлого, осмысливать новые проблемы, встающие на
повестку дня в ходе идеологической борьбы.
Важное звено в практической и теоретической деятельности японских
марксистов составляет деятельность философов-марксистов. Философы-
марксисты вносят свой вклад в распространение научного мировоззрения в
послевоенной Японии, в борьбу с буржуазной идеологией, с буржуазной
пропагандой, с правым и левым оппортунизмом. Они ведут большую работу
в научных обществах по изучению материализма, по изучению социализма,
устраивают традиционные дискуссии ученых за круглым столом по
важнейшим философским проблемам, издают свои научные журналы,
публикуют работы в буржуазной периодической печати, участвуют в
крупнейших энциклопедических изданиях самого широкого профиля [33;
186].
В послевоенные годы ряды философов, выступающие с марксистских
позиций, заметно выросли. К старшему поколению, перенявшему эстафету от
довоенного Общества по изучению материализма и включающему таких
философов, как Кодзаи Ёсисигэ и Мори Коити, в 50— 60 -е годы
присоединились новые ученые, уже достаточно зарекомендовавшие себя в
научном отношении (в частности, Сибата Синго, Ивасаки Тикацугу,
Тэрадзава Цунэнобу). Появляется и совсем молодое поколение философов-
марксистов, творчество которых получает все более заметное выражение [90,
V]. На позиции диалектического и исторического материализма в той или
иной степени переходят и некоторые видные представители буржуазной
академической мысли. К ним относятся, в частности, Идэ Такаси, Мутай
Рисаку, Янагида Кэндзюро, которые, не сразу расставаясь со своим
прошлым, испытывая разного рода колебания, все-таки понимают
несостоятельность идеалистического мировоззрения [112; 212].
Значительно вырос теоретический уровень японских ученых-марксистов,
расширился диапазон их исследований. Большое внимание, в частности,
уделяется ими разработке материалистической теории на основе обобщения
достижений современного научного знания. Наряду с философским
осмыслением физики, химии, биологии и других традиционных областей
естествознания предметом их исследования становятся новейшие сферы
научного творчества — кибернетика, экология, структурный анализ и т. п .
[43]. Необходимо отметить труды по философским вопросам теоретической
физики ученых с мировым именем — Саката Сёити и Такэтани Мицуо [145].
Написан ряд серьезных исследований по вопросам материалистической
диалектики, в том числе исследования Тэрадзава Цунэнобу о системе
категорий диалектической логики, Мита Сэкисукэ — о диалектическом
методе «Капитала» К. Маркса, Ивасаки Тикацугу — о роли диалектики в
методологии современного научного знания [185; 104; 47].
Значительная работа проделана философами и социологами марксистами по
изучению проблем исторического материализма. Его методология находит
применение в трудах Кодзаи Ёсисигэ, Мори Коити, Сибата Синго, Авата
Кэндзо, Акидзава Сюдзи, Кавамура Нодзому и др. Методологию
исторического материализма используют известные японские историки,
например, такой видный ученый, как Иэнага Сабуро, автор ценных трудов по
истории морали и других сфер духовной культуры Японии [57; 58]. С
позиций исторического материализма осуществляется, в частности,
разработка конкретно-социологической проблематики, проводятся
интересные изыскания по таким вопросам, как изучение особенностей
умственного труда в современную эпоху [150].
Своеобразным итогом работы философов и отчасти социологов марксистов в
послевоенный период явился выход в свет в 1968—1969 гг. пятитомного
труда «Марксистская философия» под редакцией Кодзаи Ёсисигэ, Мори
Коити, Тэрадзава Цунэнобу, Юкава Хидэо, Сибата Синго, Симада Ютака,
Акима Минору [90]. В этом издании приняли участие как известные ученые,
так и целый ряд авторов, только вступающих на поприще философской
науки. Авторы этого издания сумели охватить важнейшие вопросы
современной марксистской философской науки. В последнем томе этого
издания показаны своеобразие развития общественной мысли и особенности
идеологической борьбы в самой Японии. Кроме того, в 60-е годы вышли
собрание сочинений Кодзаи Ёсисигэ, философские произведения Мори
Коити, а также полное собрание сочинений Тосака Дзюн, выдающегося
философа-марксиста довоенной Японии [72; 107; 183].
Разработка японскими учеными-марксистами философских и
социологических проблем, осмысление современных общественных явлений,
новейших достижений естествознания осуществляется в борьбе с
современной буржуазной идеологией, с ее идеалистическим мировоззрением.
Основное направление теоретических выступлений философов-марксистов
—
разоблачение реакционной сущности современных буржуазных
сциентистских концепций, а также националистических, культурологических
теорий, критика философских доктрин экзистенциализма, прагматизма,
гуссерлианства, неопозитивизма и прочих современных идеалистических
течений. В работах Сибата Синго, Ивасаки Тикацугу, Уэда Коитиро все
большее внимание уделяется, в частности, критическому рассмотрению
собственно японских разновидностей «классических» философских и
социологических концепций «западного» происхождения [см. 149; 192; 51).
Японские философы-марксисты, способствуя таким образом своей научной
деятельностью распространению, в широких слоях японского народа
передового научного мировоззрения, в то же время уделяют большое
внимание делу борьбы с буржуазной философией, буржуазной идеологией в
Японии, разоблачают реакционный характер буржуазной пропаганды в этой
стране. Многие из послевоенных работ японских философов-марксистов,
посвященных критике современной буржуазной философской мысли,
использованы автором при конкретном анализе распространенных в
послевоенной Японии философских течений современного идеализма.
Глава вторая
БУРЖУАЗНАЯ ФИЛОСОФИЯ В СИСТЕМЕ КУЛЬТУРЫ ЯПОНИИ
Определяющая роль материальных общественных отношений в развитии
современной буржуазной философии Японии составляет основу для
понимания социального, классового характера, идейной сущности, общих
закономерностей и специфических особенностей философской мысли в этой
стране. Однако действие механизма социальной детерминации в отношении
японской буржуазной философии принимает весьма сложный характер.
Поскольку философия наиболее удалена от материальной социальной
действительности, «парит» над ней, определяющие ее развитие объективные
потребности и мотивы проходят через толщу разного рода духовных
отношений людей, их духовной культуры, общественного сознания. В
результате эти потребности и мотивы оказываются преобразованными,
приобретают превращенную, а то и мистифицированную форму. Различные
компоненты духовной культуры людей, представляя собой среду, через
которую материальные потребности и мотивы влияют на философию, в то же
время проявляют и свою относительную самостоятельность по отношению к
философии, воздействуют на последнюю также и непосредственно «от себя».
При этом сказывается специфическая природа отдельных компонентов
духовной культуры, каждый из которых по-своему связан с философией и
по-своему на нее влияет. В ряду этих компонентов занимают место не только
формы общественного сознания, идеологии — политика, право, мораль,
религия, о которых чаще всего пишут в этой связи, но и «духовно-
практическая» деятельность людей, «духовно-практическое освоение» ими
действительности в различных видах искусства, народного творчества, а
также не относимое прямо к теоретической мысли и культурному творчеству
обыденное сознание и социальная психология философия, таким образом,
отражая материальную и духовную культуру общества и выражая тем самым
«квинтэссенцию эпохи», вместе с тем в процессе своего развития испытывает
воздействие на себе в той или иной степени всех элементов, всех сфер
материальной и духовной жизнедеятельности человека.
Если проблема детерминации развития философии материальными
общественными отношениями во многих ее аспектах получила широкую
разработку в трудах советских и зарубежных марксистов [см., например: 137;
66], то проблема воздействия на философию собственно духовной культуры,
как таковой, ее отдельных компонентов исследована, строго говоря, пока еще
довольно слабо. И дело тут не только в недостаточности усилий ученых, но и
в объективных обстоятельствах, связанных с тем, что при изучении
влияющих на развитие философии факторов далеко не всегда есть
возможность четко разграничить и выделить действие факторов
материального порядка и факторов духовного порядка, а также
дифференцировать эти последние. Возможность выявления относительно
самостоятельного воздействия на философию отдельных факторов духовной
культуры, обыденного сознания, психологии и т. п. появляется особенно
заметно в эпохи резких изменений и преобразований самой культуры, ее
ценностного содержания, ее, так сказать, формообразующего материала, а
также в периоды широкого взаимодействия различных по происхождению
культур. Именно такого рода благоприятные перспективы открывает
исследователю новая и новейшая история Японии, претерпевшей за
последнее столетие беспрецедентные по своему характеру изменения в
развитии как материальной, так и духовной культуры. Учитывая важность
исследования этих изменений, их значение для выяснения влияния духовной
культуры Японии на развитие философской мысли, автор в то же время не
может не считаться с тем обстоятельством, что многие вопросы, касающиеся
культурных преобразований в Японии, связанные, в частности, с усвоением
японцами культурных ценностей других народов, не получили еще
достаточного освещения в марксистской литературе. Чтобы в какой-то мере
восполнить этот пробел и последовательно подвести читателя к пониманию
своеобразия развития философской мысли Японии в эпоху капитализма,
необходимо сначала рассмотреть в общих чертах самый процесс так
называемой «европеизации» культуры японского народа, а затем показать,
какое конкретное проявление получил этот процесс в буржуазной
философской мысли Японии вообще и в современной буржуазной
философской мысли в особенности.
Своеобразие развития национальной культуры Японии
До буржуазной революции 1868 г., положившей конец изоляции Японии от
внешнего мира и способствовавшей проникновению в страну достижений
цивилизации европейских народов, японское общество имело собственную
национальную культуру, сформировавшуюся на ином, во многом отличном
от европейского, идейном материале. Эта культура складывалась в стране
веками, включая процесс усвоения японцами материальных и духовных
ценностей, выработанных народами Индии, Китая и других стран Востока.
Она развивалась путем переработки, переосмысления этих ценностей в
соответствии с потребностями развития японского общества с учетом
особенностей, присущих ему на том или ином этапе его истории.
Образовавшийся таким образом самостоятельный культурный комплекс
имел свою систему понятий и представлений о мире, человеке,
взаимоотношениях и способом освоения реальной действительности. Он
включает отношения людей и отличался характерным для него сплетающим
религиозные верования собственно японского происхождения, японскую
модификацию буддийской религии, интерпретированную на японский лад
буддийскую и конфуцианскую философскую догматику, японский вариант
конфуцианской морали, эстетическое мироощущение японцев.
Неотъемлемой частью этого культурного комплекса было художественное
творчество народа — его классическая литература и поэзия, его искусство,
проявившееся в японской манере живописи, в японском стиле дворцовой и
храмовой архитектуры, в самобытной музыке, театре, в уникальном
мастерстве аранжировки цветов, в сооружении садов камней и т. д .
Своеобразие форм общественного сознания и духовного творчества японцев
создало, таким образом, устойчивую историческую преемственность,
богатые традиции в развитии национальной культуры.
По своему классовому характеру национальная культура Японии включала
как прогрессивное, так и реакционное содержание. Изменение этого
содержания, изменение социальной значимости составляющих его элементов
отражало в конечном счете те сдвиги, которые происходили в материальной
экономической жизни общества. Со второй половины XIX в., с переходом
Японии на путь капиталистического развития и обострением социальных
противоречий, в национальной духовной культуре все явственнее
обнаруживается обособление господствующей буржуазной культуры,
сохранившихся элементов феодальной культуры, с одной стороны, и
элементов новой, нарождающейся демократической и пролетарской
культуры — с другой.
Однако изменения национальной культуры Японии затрагивали не только ее
классовое содержание. После буржуазной революции 1868 г. японское
общество, ускоренно пройдя этап промышленного капитализма и вступив в
его империалистическую стадию, в течение нескольких десятилетий
овладело достижениями науки и техники Запада и в кратчайший
исторический срок усвоило духовные ценности западноевропейской
культуры, в значительной мере отказавшись от собственных традиций, от
культурного достояния прошлого, на котором воспитывалось веками.
Эта «модернизация», или, как ее еще называют, «европеизация» ', японского
общества, его культуры, его общественного сознания, приведшая к
вытеснению огромного идейного материала из сферы духовной жизни
японцев, представляет большой интерес для науки. Она не только позволяет
отчетливо уяснить действие социальных факторов, определяющих развитие
духовной культуры японского народа, но и дает ключ к пониманию более
универсальных, характерных для различных социальных структур
закономерностей общественных преобразований и порождаемой этими
закономерностями сложной динамики взаимосвязи базисных и надстроечных
элементов, процессов взаимодействия культур разных народов,
Проблема «европеизации», озападнивания культуры Японии, как и другие
связанные с ней проблемы, всегда находилась в центре внимания японской
общественности. В этом нет ничего удивительного, если учитывать, что
усвоение западной, европейской культуры происходило во многих областях
духовной жизни японцев далеко не безболезненно, что этот процесс усвоения
все еще продолжается и не может оставить японскую интеллигенцию
безучастной к судьбам национальной культуры. Естественно, что японские
ученые, и в частности культурологи, придают большое значение
исследованию «модернизации» культуры, общественной мысли Японии,
влияния европейского культурного достояния на различные сферы жизни
японского общества [147]. Эти вопросы привлекают внимание также многих
зарубежных социологов, философов, историков, искусствоведов [221].
Однако, несмотря на обилие работ, написанных на эту тему, проблема
«европеизации» Японии, ее духовной культуры не получила еще
фундаментальной разработки ни в японской, ни в зарубежной научной
литературе.
Даже самый беглый обзор работ японских буржуазных ученых показывает,
что исследователи по-разному подходят к рассмотрению самого вопроса
«европеизации», озападнивания национальной культуры Японии. Одни
ученые стараются не касаться причин этого процесса. Они констатируют
лишь сам факт озападнивания духовной культуры, обращают свои усилия на
анализ уже утвердившихся в японской действительности различных видов и
форм европейского модерна [16]. Другие исследователи выдвигают
различные положения, мотивировки, но не аргументируют их и по сути дела
ограничиваются утверждениями, что японцы-де восприняли европейскую
культуру «некритически», что эта чужеземная культура была чисто внешним
образом «перенесена», «пересажена» на японскую почву и т. п. [109].
Подобные высказывания выглядят, конечно, неубедительно, ибо ссылки на
отсутствие у японцев «критического восприятия» при усвоении «западной
культуры» или на «пересадку» этой культуры «извне» вызывают
естественные вопросы о том, отчего зависит характер «критического» или
«некритического» восприятия культуры, при каких обстоятельствах
становится возможным «перенос» или «пересадка» культурного материала
извне и т. п . Исключение же из рассмотрения объективных факторов
открывает простор для всяких субъективистских интерпретаций причин
процесса «европеизации», вызывает различные предположения о том, что
характер «восприятия» или «переноса» иноземной культуры зависит в
первую очередь от сознательного отношения людей к этому процессу, от их
продуманных действий, воли и т. п.
Имеется и такая категория буржуазных ученых, которая указывает на
причины «европеизации» японской культуры более или менее определенно.
Одни из этих ученых, такие, как Маруяма Масао, видят, в частности,
причину европеизации в том, что в Японии «отсутствуют» будто бы
«устойчивые идейные традиции», а другие, вроде Ниситани Кэйдзи,
усматривают источник «засилья всего европейского» в утрате «национальной
моральной энергии». При всех различиях в аргументации этих ученых, более
подробно разбираемой нами в последнем разделе третьей главы,
характерным для их взглядов по этому вопросу является стремление
установить основную причину изменений в развитии духовной культуры
«внутри» или «на уровне» самой этой культуры, объяснять их в зависимости
от наличия у нее устойчивых, так называемых «стержневых», «осевых»
идейных традиций или за счет какого-то непостижимого первичного начала
вроде «национальной моральной энергии», что явно восходит к
идеалистическим установкам этих исследователей. Такие установки,
исключающие из рассмотрения действительные причины изменений
культуры, детерминацию этих изменений факторами материального порядка,
препятствуют подлинному пониманию проблемы. И это препятствие
оказывается непреодолимым, тем более что история развития японского
общества будто специально создала для ученых далеко не типичную
ситуацию.
Своеобразие конкретной исторической ситуации, сложившейся в Японии
после буржуазной революции, состояло в том, что в силу особенностей
социально-экономического развития страны два различных по своему
характеру процесса — развитие капитализма и усвоение материальной и
духовной культуры стран Запада — совершались не постепенно и не
относительно самостоятельно, а интенсивно, одновременно и в предельно
сжатые сроки. Япония вступила на путь буржуазных преобразований лишь
во второй половине XIX в. Она находилась на далекой окраине Азиатского
материка и веками пребывала в изоляции, являвшейся в сочетании с
сохранявшимися в значительной степени оковами феодализма тормозом
развития общественных отношений. Насильственное «открытие» страны
иностранцами не сопровождалось ее колонизацией или закабалением, как это
случилось с Индией, Китаем и некоторыми другими азиатскими странами.
Поэтому буржуазная революция 1868 г. и последовавшие за ней
экономические и политические реформы, а также прекращение изоляции от
внешнего мира сразу дали выход дремавшим силам социального прогресса.
Несмотря на незавершенность буржуазных преобразований,
капиталистический способ производства получил достаточно широкий
простор для своего развития. В то же время были созданы условия для
проникновения и усвоения науки, техники и культуры других народов,
прежде всего европейских. Поэтому буржуазная «модернизация», как
говорят японцы, и приняла форму «европеизации» [57, 244—245].
Строго говоря, к самой «европеизации» следует относить не оба указанных
процесса. Первый процесс— развитие капиталистических отношений — по
сути своей, по своему происхождению собственно японский, только
принявший «европейский» вид, поскольку ввоз машин, научных и
технических достижений из европейских стран ускорял развитие
производительных сил Японии, а заимствование политических норм,
стандартов опять-таки из Европы стимулировало формирование ее
буржуазной социальной структуры, ее политических институтов. Второй
процесс — восприятие и усвоение духовной культуры европейских народов,
ценностей, выработанных в области общественного сознания (искусства,
литературы, философии, этики, эстетики и т. п.),—означал «европеизацию»
Японии, ее культуры в полном смысле этого слова. Разумеется, оба процесса
были глубоко взаимообусловлены. Первый из них определял характер,
масштабы и формы второго. Второй, будучи детерминируемым первым, в
свою очередь, также воздействовал на его развитие. Но при всей
взаимообусловленности этих процессов и зависимости усвоения европейской
культуры от развития капиталистических отношений процесс европеизации»
японской культуры, духовного облика народа отличался самостоятельностью
и своими характерными особенностями.
Несомненно, «европеизация» духовной культуры Японии представляла
собой явление чрезвычайной значимости для японского общества конца
XIX—начала XX в. Проникновение европейской культуры способствовало
разностороннему развитию японской нации, ее материальному и духовному
прогрессу. Оно обогащало японцев культурными ценностями,
выработанными на протяжении веков другими народами, раскрывало им
новые горизонты в самых различных сферах человеческого
самоутверждения. Благодаря «европеизации» японцами была воспринята, в
частности, и прогрессивная мысль Запада, а позднее идеи марксизма, глубоко
проникшие в сознание японского рабочего класса. Однако, отмечая
положительную сторону «европеизации» японской духовной культуры,
нельзя забывать, что она с самого начала осуществлялась в условиях
господства капиталистических общественных отношений, поэтому ее формы
и методы отвечали потребностям развития капиталистического
материального производства и духовным запросам класса буржуазии. В этом
отношении «европеизация» духовной культуры японского народа вполне
сопоставима с «европеизацией» культуры многих других народов Азии, ибо
капитализм, «беспредельно» расширявший «всемирные связи и отношения»,
способствовавший взаимодействию культур разных народов, в то же время
придавал культурному обмену, взаимообогащению духовными ценностями
все более уродливый характер, подчиняя этот процесс законам
экономического и политического порабощения людей. Данное явление,
приобретавшее решающее значение при возникновении и развитии процесса
«европеизации», сказалось в Японии особенно ярко ввиду специфических
условий, в которых проходил этот процесс в стране.
На пути «европеизации» японской духовной жизни, общественного сознания
стояла традиционная, веками складывавшаяся культура, которая, как уже
отмечалось, во многом отличалась от европейской культуры. Естественно,
что японцы не могли принять чужую, незнакомую им культурную среду,
усвоить ее иначе, чем через свою собственную А последняя ввиду большой
несхожести с европейской не создавала «мостиков», путей для культурного
обмена. Такие «мостики», пути нужно было еще строить. Машины, техника,
завозимые в Японию, при наличии инструкций или инструкторов-
иностранцев вступали в действие достаточно быстро, а идеи, духовные
ценности, попадавшие в эту страну, не могли так же просто начинать
«работать». Для их нормального функционирования необходимо было их
усвоение в том комплексе, в котором они возникли, развивались, обретали
свой подлинный смысл. Такое усвоение европейских идей в комплексе, их
разносторонняя переработка на основе традиционного культурного
материала требовали времени и интеллектуальных усилий всей нации.
Таким образом, во второй половине XIX в., в период буржуазных
преобразований, в Японии создалась парадоксальная ситуация: развитие
производительных сил, базиса общества, происходившее ускоренными
темпами под непосредственным воздействием извне, настоятельно ставило
на повестку дня вопрос об изменении общественного сознания, духовных
норм жизни, морали, философии, художественного творчества и т. п., а
традиционная идеология не была готова к радикальному преобразованию на
собственной основе, она сама не обеспечивала достаточно быстрого
вызревания нового мировоззрения и в то же время проявляла чрезвычайную
неподатливость к восприятию непохожего иноземного культурного
материала. В этих-то условиях материальные экономические потребности
развития японского общества и взяли верх над инерцией духовного развития
нации. Не находя «выхода» для удовлетворения на собственной почве, они
устремили свой поиск вовне, используя необходимый иноземный идейный
материал, пробивая, расчищая ему дорогу в различные сферы жизни японцев.
Под нарастающим напором этих материальных потребностей была прорвана
плотина традиционной идеологии, общественной мысли, стоявших на пути
идей, культурных ценностей Запада. И подобно тому как наука и техника
Европы беспрепятственно проникали на Японские острова, поток
общественной мысли, идеологии, духовной культуры Европы,
соответствовавшей буржуазным преобразованиям эпохи Мэйдзи, хлынул в
страну, обходя, преодолевая традиции, все глубже проникая в общественное
сознание японцев.
Традиционной японской идеологии и культуре в целом, хотя и
обнаружившей еще в XVII—XVIII вв. тенденцию к сближению с
общественной мыслью и культурой Европы, но не выработавшей
действительно широких путей к взаимодействию с ними, не оставалось
ничего другого, как продолжать существовать самостоятельно, наряду с
европейской. Поэтому уже с первых десятилетий периода Мэйдзи, и чем
дальше, тем больше, в Японии наблюдалось, как указывают японские авторы,
существование «смешанной культуры», включающей два типа или две
структуры культурного материала, не проникавших друг в друга
органически2. Такой параллелизм культур становится характерным для всей
духовной жизни японцев. Разумеется, с течением времени подобный
параллелизм становится все менее жестким, в нем все больше
просматривается не только механическое переплетение, но и
взаимопроникновение традиционной и нетрадиционной общественной
мысли, культуры. И тем не менее этот параллелизм остается, о нем и по сей
день немало пишут и говорят в Японии. Как замечено одним японским
автором: «Старое и новое, японское и европейское сосуществуют, словно
отдельные комнаты в квартире — стучи в любую дверь, кому куда хочется»
[109, 22].
Однако одним параллелизмом, сосуществованием культур дело не
ограничилось. С проникновением в Японию европейской общественной
мысли, духовных ценностей различные элементы традиционной буддийско-
конфуцианско-синтоистской идеологии стали все более утрачивать активный
жизненный импульс. Не исчезая совсем, они продолжали некоторое время
существовать, но уже не играли прежней роли в духовной деятельности
общества. Это были в первую очередь именно элементы идеологии,
составлявшие феодальную надстройку, уже не отвечавшую объективным
потребностям развития страны. За такими идеологическими звеньями
прежней надстройки, как политика и право, активные функции в той или
иной степени начали утрачивать философия, мораль, эстетика и т. п., а далее
и другие связанные с ними элементы духовной культуры. Самообновление
же и развитие традиционного сознания в духе новых веяний, совершавшееся
довольно медленно, не могло конкурировать с проникавшей из Европы
общественной мыслью, гораздо более приспособленной к служению
буржуазному базису. Поэтому с течением времени все большее число
элементов традиционной идеологии, традиционной культуры приобретало
консервативный характер и вытеснялось из сферы духовной жизни
японского общества.
В сознании японской общественности модернизация культуры, ее
озападнивание получали соответствующее осмысление. Появилось
множество взглядов, точек зрения, пытающихся как-то соотнести «японское»
и «европейское», «Восток» и «Запад», дать им оценку, выработать к ним
практическое отношение. Наибольшее распространение среди
общественности во второй половине XIX в. завоевало представление о том,
что все «японское», «восточное», является «феодальным», «реакционным»,
«отживающим», а все «европейское», «западное», — «буржуазным»,
«прогрессивным», «новым». Это представление с научной точки зрения было
неверным, поскольку далеко не всякое «европейское» было только
буржуазным и прогрессивным, да и само «японское», «восточное» со
временем изменялось, включало в себя так или иначе «западное»
содержание. Однако в тот период подобного рода взгляды имели свой смысл,
поскольку отражали изменения в социальной структуре японского общества.
Для передовой интеллигенции Японии идеалы буржуазного
просветительства, «западное» и «европейское» символизировали очевидный
социальный прогресс, служили знаменем борьбы за демократические
преобразования. Крупнейшие мыслители того времени, такие, как Фукудзава
Юкити, Наказ Тёмин, Узки Эмори и др., призывая к овладению знаниями, к
просвещению, к освобождению личности, видели образцы всего этого в
«духовной цивилизации Запада».
Но чем дальше шел процесс европеизации Японии, обогащающий японцев
прогрессивными идеями, культурными ценностями, созданными
европейцами, тем все более очевидным для сознания интеллигенции
становилось, что проникновение западной культуры не только приносит с
собой благо, но и оказывает отрицательное воздействие на развитие
традиционной национальной культуры, ставит под угрозу ее существование.
Осознание этого вызывало в среде интеллигенции реакцию, своего рода
«японизм», вылившийся в осуждение нигилистического отношения к
национальной культуре и чрезмерного увлечения всем европейским. Первое
проявление такой реакции наблюдалось уже в конце 80-х годов, когда
возникло движение в защиту традиционной культуры, использовавшее
заимствованные из Европы просветительские идеи равенства, свободы,
независимости в целях ограждения национального культурного наследия от
нарастающего засилья европейского.
Вынужденная все же считаться с реальностью «европеизации» страны,
значительная часть японской интеллигенции старалась найти какое-то
объяснение сосуществованию европейского и традиционного в области
культуры, пыталась как-то их «примирить», отвести каждому из них
собственную сферу социального применения. Были сформулированы и
провозглашены принципы такого «примирения». Они гласили: «Японский
дух — европейские знания», «Техника Запада—мораль Востока». Однако
подобные принципы не могли разрешить реального противоречия. Процесс
«европеизации» различных сторон жизни японцев, их культуры
продолжался. И наряду с ним, то ослабевая, то усиливаясь в зависимости от
конкретно-исторических условий, продолжала существовать и отрицательная
реакция интеллигенции на те или иные стороны европеизации национальной
культуры. В то же время по мере дальнейшего развития японского общества
становилось очевидно, что эти национально-патриотические настроения
японской интеллигенции создавали благоприятную почву для
распространения буржуазного национализма. Правящие классы Японии
всячески использовали их в своих интересах, в борьбе с демократическими
силами страны. Идеологи реакционного буржуазно-помещичьего блока под
маской патриотов, защитников национальных традиций, культуры
возрождали и модернизировали феодальную конфуцианскую мораль, идеи
культа императора, синтоистские мифы и т. п. Эта спекуляция на психологии
масс, на их отношении к традициям служила, таким образом, формированию
и пропаганде ультрареакционной идеологии «японизма» — «японизма» уже
иного рода, выражавшего идеи расизма и монархофашизма, которые
возобладали в Японии в 30-х
—
первой половине 40-х годов.
Современный этап озападнивания японской культуры, японского
общественного сознания наступил сразу после окончания второй мировой
войны и капитуляции Японии. В обстановке оккупации страны американской
армией озападнивание японской культуры совершается уже не в виде
«европеизации», а в виде «американизации» различных сфер общественной
действительности. Оно обусловливается во второй половине 40-х—первой
половине 50-х годов не только объективными факторами, связанными с
поражением японского империализма и крахом идеологии императорского
строя, но и прямым, декретируемым оккупационными властями внедрением
американских стандартов «культуры» и «демократии», внедрением так
называемого американского образа жизни. Озападниванию культуры
способствовало то обстоятельство, что после долгих лет абсолютистской
диктатуры, в атмосфере крушения прежних идеалов, изжившей себя системы
ценностей довоенной Японии, «западное», американское, европейское снова
воспринималось японцами как прогрессивное, подлинно демократическое, а
«восточное», национальное, традиционное ассоциировалось с реакционным,
консервативным. Культурные традиции, достояние японской классики в этот
период в большой степени вытесняются, утрачивают влияние во многих
сферах духовной жизни.
Однако по мере экономического развития Японии в 50-х и особенно в 60-х
годах и постепенного освобождения страны от политической зависимости от
США происходят сдвиги в идеологии японской общественности. Осознание
того, что теперь уже не Запад диктует Японии нормы жизни, что японцы и
сами могут показать пример другим народам, приобретает все более
националистическую окраску. Националистические настроения,
проявившиеся в различных областях культуры, общественной мысли
японцев, обнаруживались в особенности в требованиях переоценки роли
традиций, культурного достояния прошлого.
Однако рост производительных сил, прогресс науки и техники в Японии и
связанные с этим изменения ч идеологии и культуре нельзя понимать в
отрыве от того социального фона, который характеризуется в первую
очередь противоречивым развитием современного монополистического
капитализма, резким обострением антагонизмов капиталистического
производства, углубляющимся кризисом буржуазной культуры, буржуазного
общественного сознания. Научно-техническая революция в современной
японской действительности, осуществляемая на основе новейших и все более
совершенствующих ся методов эксплуатации трудящихся, порождает
всевозможные формы отчуждения духовного труда, пагубно влияет на
свободное творчество, подменяет его производством всякого рода образцов,
норм, моделей так называемой «массовой культуры». Поэтому материальный
прогресс капиталистического производства в современной Японии
сопровождается действием регрессивных тенденций в развитии духовной
культуры, сопровождается возникновением во многих ее сферах нездоровых,
уродливых явлений, и в частности неравномерного, дисгармоничного
сочетания традиционного и современного.
Современная японская интеллигенция, испытывающая на себе кризис
капиталистической системы, буржуазной культуры в особенности, пытаясь
осмысливать эти социальные процессы, ищет пути к их преодолению. Одним
из таких путей для части буржуазной интеллигенции и являются
наблюдаемые в последнее десятилетие попытки обращения к классическому
наследию, культурному достоянию прошлого, призывы к «возрождению»
традиций, «открытию их заново». Однако такого рода устремления японской
интеллигенции остаются безрезультатными. Те, кто призывают обратиться к
традициям, выступают за их возрождение, не понимая действительных
причин, порождающих социальные антагонизмы, видят в первую очередь
лишь «модернизацию», «стандартизацию» национальной культуры в духе
буржуазной действительности Запада Такие «поборники» традиций
утверждают, что все беды, все пороки современного японского общества
вытекают главным образом из «европеизации», «американизации»
национальной культуры. На этом основании «западное» осуждается,
отвергается, а действительный источник антагонизмов — капиталистические
производственные отношения — остается вне поля зрения и вне критики.
Подобные взгляды подхватывает и афиширует буржуазная пропаганда,
стремящаяся всеми средствами выгородить капиталистический строй,
затушевать его неразрешимые противоречия в контрастах
противопоставлений Запада—Востоку, Японии — Европе и т. п .
Приверженцы обращения к традициям не в состоянии объяснить, как они
мыслят реально пути их «возрождения». Деятели культуры, ученые
высказывают по этому поводу различные суждения. Нередко они
ограничиваются лишь утверждениями о том, что традиционная культура в
Японии еще «не умерла», что буддизм, например, ярчайшим образом
выражает «духовную силу» японцев и не случайно поэтому «расцвел в
Японии так пышно, как ни в какой другой стране» [96, 134]. В работах
некоторых исследователей подчеркивается также, что хотя традиции скрыты,
«задавлены» модернизмом, но тем не менее достаточно дают знать о себе,
как это видно, в частности, на примере получивших распространение среди
японцев «новых религий»3, движения за «вторичное открытие красоты
Японии» и т. п . [109, 21].
Более развернуто и конкретно вопрос о традициях ставится теми
исследователями, которые на первый план выдвигают требования изучения
национальной культуры, ее своеобразия. В их работах «традиционное»
японское уже не соотносится прежде всего с «восточной» или «буддийско-
конфуцианской» культурой. Авторы этих работ все более приходят к выводу,
что «Восток» не есть некий монолит, что он включает различные регионы
культур и поэтому принадлежность к нему еще не раскрывает «японского
типа национальной культуры», «японского образа восприятия и освоения
мира», который в отличие от китайского, индийского, тибетского «по-своему
преобразует, преломляет духовный ценностный материал» [219].
Исследователи делают акцент на выявлении «черт» и «особенностей»
национальной культуры, уяснение которых, по их мнению, помогло бы
обнаружить не раскрытые еще возможности, потенции японского духа и
использовать их в поисках средств преодоления кризисного состояния
современного японского общества. К таким характерным «чертам»,
«особенностям» традиционной японской культуры ученые чаще всего
относят «естественность», «естественную простоту», «близость к природе»
[16; 17]. Эти черты, формирующиеся, по мнению исследователей, под
влиянием разнообразия географической среды, решающей роли земледелия в
древней и феодальной Японии, с одной стороны, связываются, как правило, с
развитием у японцев «повышенной чувствительности», «эмоциональной
восприимчивости» к окружающему, а с другой стороны,
противопоставляются «цивилизации» Запада с его «сухим рационализмом»,
«строгим разделением на субъект и объект» [64]. Один из приверженцев
подобных взглядов, философ Уэяма Сюмпэй, считает, например, что
«принцип естественности», присущий японской культуре, предполагает
сохранение «одинаковой дистанции» в отношении разного рода
цивилизаций, что для этого принципа характерна как «высокая способность к
усвоению» культурного материала других цивилизаций, так и «способность
восстановления до состояния естественной простоты». Последняя
способность, по мнению Уэяма, действует всякий раз таким образом, что
«при усвоении культурного материала следующей цивилизации может
создавать очень свежее ее восприятие» [128, 34—35].
Подобные мысли развивает и другой ученый — Накамура Юдзиро. Он
утверждает, что само представление о культуре подразумевает
созидательную деятельность людей, активное преобразование мира
человеком, поскольку всякая культура всегда означает своего рода «отход»,
«отдаление» от природного естества. Однако этот «отход», «отдаление», по
убеждению Накамура, зависят от характера воздействия людей на природу, в
соответствии с которым можно различить два класса или типа культур —
культуры «цивилизованные», или «культурные», и культуры «естественные»,
или «природные». К первому классу или типу Накамура относит культуры
западноевропейских народов, осваивающих природу в формах, «контрастно
противостоящих» естественной среде, в формах ее «непосредственного
преодоления», ко второму — культуры народов Востока, в особенности
японскую культуру, носители которой, с его точки зрения, преобразуют
природу в «формах самой природы» [120, 172—173].
Если С. Уэяма, Ю. Накамура и их единомышленники пытаются выявить
особенности национальной культуры, игнорируя или недооценивая значение
социальной обусловленности отношения человека к природе и
преувеличивая специфику восприятия японцами естественной среды, то
другие стараются объяснить своеобразие традиционной культуры не
превратно понимаемым отношением людей к природе, а посредством
абсолютизации каких-либо черт характера японцев, их психического,
эмоционального склада. Примером подобного подхода может служить, в
частности, концепция Дои Такэо, который на основании изучения
психологии и языка японцев, используя конкретные данные семантического
анализа логики, этимологии слов, утверждает, что особенности духовного
облика японцев, их мировосприятия и по сути дела их духовной культуры
коренятся в непонятной европейцам системе представлений, синтетически
раскрывающихся в так называемом «чувстве амаэ» — отношении к
окружающим, выражающем самоуничижение, стремление добиться
расположения партнера [40].
В отличие от довоенных исследований традиционной национальной
культуры, проникнутых идеями исключительности японской нации, ее
божественного происхождения и т. д ., во многих современных
культурологических изысканиях содержатся интересные сведения,
наблюдения, различные выводы, соображения, заслуживающие внимания
[219]. Однако в целом буржуазные японские исследователи не
руководствуются последовательно научной методологией. Не учитывая роль
материальных социально-экономических условий развития японского
общества, оказывающих решающее воздействие на формирование и
изменение духовной культуры народа, они выделяют и гипертрофируют
значение того или иного фактора, рассматривают его абстрактно, в отрыве от
действительного конкретно-исторического процесса. Во взглядах этих
исследователей так или иначе проявляются неизжитые представления' так
называемого «дискретно-исторического подхода» к развитию человеческих
сообществ, предполагающего существование самодовлеющих, внутренне
замкнутых культур, тяготеющих каждая к своему центру, сущность которого
выражается в каком-то непостижимом идеальном духе или некоем
абсолютном «начале»4. Выявленные в работах буржуазных японских ученых
«черты» и «особенности» традиционной культуры Японии, хотя и имеют под
собой определенное рационалистическое обоснование, напоминают такие
«начала», исходные точки культуры, будто бы априорно ей присущие или
неизвестно каким путем приобретенные. Очевидно, конечно, что подобного
рода изучение культуры народа, ее традиций легко согласуется с
националистической идеологией, способствуя появлению всяких
современных вариантов истолкования специфически «японского», будь то
«теория японской культуры», «теория поведения японцев» или их
«образа мышления» [17; 19].
Таким образом, антиисторизм в понимании развития национальной культуры
у буржуазных идеологов приводит их к национализму, обнаруживает общие
с ним теоретические принципы.
Разумеется, повышение интереса японской общественности к традициям,
осмысление интеллигенцией происходящих в области культуры, духовной
жизни процессов никак, конечно, не может поколебать основных
закономерностей развития японского общества, не может обеспечить пути к
преодолению кризисного состояния буржуазной культуры Японии, а также к
преодолению еще наблюдающейся тенденции к ее «озападниванию», к
диктуемому интересами буржуазного практицизма сочетанию в ней
традиционного и модернистского. В современной японской
действительности невозможен «полный возврат» к уже изжитым традициям
национальной культуры, восстановление всего того идейного культурного
материала, который был заменен в сфере активной духовной жизни нации
культурным материалом европейского и американского происхождения.
Этот материал, усваивавшийся десятилетиями и отвечавший духовным
запросам общества, не уступает своих позиций. Он прочно утверждает свой
статус, функционирует в обществе к из «чужого», «внешнего» для сознания,
мироощущения людей постепенно становится «своим», «внутренним». Более
того, он уже действует и как самодовлеющая сила, влекущая за собой новые
звенья элементов когда-то иноземной, но теперь уже все более понятной,
близкой культуры других народов. Что же касается «своего»,
«традиционного» в культурном достоянии японцев, то еще значительная его
часть удержалась в современной японской культуре и сосуществует с
модерном, в то время как огромная масса либо исчезла совсем из сферы
активного социального функционирования, либо становится все более
«антикварным», «чужим», отмирает, консервируется, утрачивает реальный
смысл.
Ввиду того что озападнивание буржуазной японской культуры происходило
чрезвычайно неравномерно, соотношение традиций и модерна в разных
сферах духовной жизни Японии далеко не одинаково. В таких областях
общественного сознания японцев, как философская, социологическая,
правовая, политическая, экономическая и пр. общественная мысль,
традиционный идейный материал вытеснен фактически полностью или в
подавляющем своем объеме. В религиозном, нравственном сознании
традиции еще в значительной мере сохраняются, хотя и здесь налицо их
определенное переосмысление и преобразование5. Разного рода
переплетение традиционного и модернистского наблюдается в
художественном творчестве, в современном японском искусстве, его
отдельных видах и жанрах6. Если эти неравномерности и дисгармонию в
современной японской национальной культуре рассматривать в свете все
более углубляющегося кризиса буржуазных общественных отношений и
обострения борьбы демократических и реакционных сил в различных сферах
культуры, то можно представить, сколь сложными и противоречивыми
путями развивается духовная жизнь современного японского общества.
Особенности развития философской мысли в Японии
«Модернизация» японской культуры, общественного сознания японцев
особенным образом сказалась в области философской мысли. В этой сфере
общественного сознания процесс «европеизации», озападнивания
национального мышления проходил столь радикально и такими темпами, что
привел фактически к вытеснению традиционного идейного материала из
академической «научной» мысли. Идеи, концепции, учения, сложившиеся в
русле традиционной философской метафизики японского буддизма и
конфуцианства, в 50—60 -х годах исчезли из сферы профессионального
употребления. Для современных японских философов они уже не служат
основным средством выражения своих мировоззренческих взглядов.
Такое коренное преобразование академической философской мысли, ее
идейного содержания, культурного материала было вызвано тем, что с
развитием капиталистических производственных отношений, науки, техники
перед философией как мировоззренческой формой общественного сознания
встала задача осмысления различных процессов, происходивших в
материальной и духовной культуре Японии. Философская мысль должна
была вырабатывать новое отношение к социальным изменениям и прежде
всего к науке, к позитивному научному познанию, становившемуся одной из
движущих сил общественного развития. Однако решение этой задачи,
связанное с развитием познавательной теоретической функции философии,
ее метода осмысления действительности, оказалось невозможным на основе
идеологии, оставшейся в наследство от феодализма и не приспособленной к
достаточно быстрой реформации. Поэтому общественная мысль Японии
нашла выход для удовлетворения социальных потребностей в обращении к
философской мысли европейских народов, в усвоении ее и постепенной
замене ею традиционного японского буддийско-конфуцианского идейного
материала, вытеснения его из сферы активного функционирования
философии.
Однако философия в Японии изменялась в этот период по своей форме,
содержанию, функциям не только как мировоззренческая теория, по-новому
осмысливающая развивавшуюся действительность. Она все более
рефлексировала, стремилась осознать значение происходивших в ней самой
перемен. В специфических условиях развития капитализма в Японии,
сопровождавшегося озападниванием национальной культуры,
распространением совершенно необычных для японцев европейских норм и
стандартов поведения и мышления, эта рефлексирующая, оценочная
деятельность философии не могла не поставить перед японскими
мыслителями целый ряд проблем. Одной из таких проблем, находившейся в
центре внимания на протяжении целого исторического периода, был вопрос
о том, существовала ли у японцев своя собственная философия до
проникновения в Японию европейской общественной мысли, была ли
присуща философия вообще традиционной японской культуре.
Решение этого вопроса для японской научной общественности оказалось не
легким. Мнения ученых не только значительно расходились, но образовались
два полярно противоположных направления — противников признания
философии как неотъемлемой части традиционной японской культуры и
сторонников такого признания. Дискуссии между теми и другими
разгорелись уже в первые годы периода Мэйдзи [98, 3—4]. Они
продолжались десятилетия и не прекратились по сути дела по сей день. Такая
затянувшаяся на целое столетие полемика, отражающая отношение японцев к
традициям своей духовной культуры, понимание ими особенностей
национальной мировоззренческой мысли, представляет несомненный
интерес, поскольку проясняет те объективные идейные основания, из
которых исходят мыслители и в свете рассмотрения, которых раскрываются
реальное содержание и характерные черты самого традиционного
философского мышления в Японии.
Взгляд, согласно которому философия, как таковая, не свойственна исконно
японской традиционной общественной мысли и культуре, сложился в
последней трети XIX в. как реакция пробуждавшегося самосознания
японского общества на фронтальное столкновение с резко отличной по
социально-историческому и культурному развитию западной цивилизацией.
Разделявшие этот взгляд представители японской интеллигенции устами
известного буржуазного реформатора Наказ Тёмина провозгласили ставшую
крылатой формулу: «В Японии не было философии». Они утверждали, что
японцы познакомились с философией в собственном смысле слова только
после буржуазной революции 1868 г. как с явлением чисто европейского
общественного сознания, что до этого в Японии господствовала буддийско-
конфуцианская общественная мысль, не содержавшая в себе философского
знания. В социально-классовом отношении выразителями такого взгляда в
первые десятилетия эпохи Мэйдзи явились идеологи японского буржуазного
просветительства. Они рассматривали философию как благо, как завоевание
передовой западной культуры и призывали к ее усвоению наряду с другими
культурными ценностями западного мира в интересах социального прогресса
японского общества. Однако по мере развития капитализма в Японии,
перехода его в империалистическую стадию и с усилением реакционных
тенденций в политике, националистических и шовинистических настроений
в идеологии правящих классов вопрос о том, является ли философия частью
традиционной японской культуры, приобретает совсем иное истолкование. В
частности, исследователи социальных проблем, оказавшиеся под влиянием
проповедников идей японского ультранационализма, расизма и фашизма,
уже отвергают философию как позитивное знание и заявляют, что японская
культура абсолютно уникальна, что она не имеет ничего общего с западной
цивилизацией, ее догматизмом, доктринерством, в том числе философским,
что «Восток есть Восток, а Запад есть Запад», и т. п.
После второй мировой войны этот взгляд вновь привлекает внимание
научной общественности, но уже в связи с иными идейными проблемами. С
одной стороны, японские ученые, ищущие пути преодоления кризиса
буржуазной культуры и уповающие, в частности, на «традиции» и их
«неиспользованные возможности», делают особый акцент в своих
исследованиях на изучении особенностей, своеобразия национальной
классической культуры и нередко при этом доходят до их абсолютизации и
отрицания наличия в ней общезначимых, присущих всякой культуре
элементов, и в том числе ее мировоззренческого содержания, ее философии.
С другой стороны, отрицание философии как составной части традиционной
японской культуры получает новое обоснование в свете отношения
буржуазной интеллигенции к научно-техническому прогрессу в условиях
современной японской действительности. Исследователи, не
руководствующиеся научной методологией, видят источник многих
социальных антагонизмов, разного рода отчуждений в «господстве техники»,
в «сухом рационализме» научного знания и, конечно же, в философии,
«занесенных с Запада» и «чуждых» классическому японскому обществу, его
традиционной «восточной» культуре.
Позиция противников признания философии составной частью
традиционной японской культуры, несмотря на ее различные интерпретации
и классово обусловленные тенденциозные мотивы, выражает вместе с тем и
определенную преемственность в аргументации. Чтобы четче выявить общие
мотивы этой аргументации, целесообразнее обратиться к работам
современных мыслителей, более рационалистически обосновывающих свою
точку зрения. Характерны в этом отношении высказывания уже
упоминавшегося Хасимото Минэо в статье, опубликованной в 1969 г. Этот
философ утверждает, в частности, что, когда к понятию «философия»
добавляют предикат «японская», получается «какое-то странное,
неправильное выражение, какое-то несоответствие одного другому».
«Философия, — пишет он, — это, несомненно новая наука, воспринятая у
Запада после Мэйдзи. Это наука, сущностью которой прежде всего считается
всеобщность» [186, 53]. Принимая за классический образец философии
философскую мысль античной Греции, Хасимото выделяет два органически
ей присущих компонента — «логическое научное знание» и «взгляд на мир,
на человеческую жизнь» [186, 55].
Концентрируя внимание на первом компоненте, «рационально выражаемом
научном знании», Хасимото заявляет, что оно необходимо присуще всякой
философии, что именно оно делает философию ею самой и предполагает
выведение системы понятий из нескольких фундаментальных, имеющих
универсальное значение категорий [186, 55]. Иначе говоря, он считает
философию такой формой осознания мира, которая основывается на строго
научном методе познания. С этих позиций Хасимото рассматривает далее
«японскую» и «восточную» общественную мысль в целом и приходит к
выводу, что с точки зрения «логической системности метода» японская
общественная мысль «слаба» и потому не позволяет обнаружить в ней
философского знания. Хасимото подчеркивает, что ученые, возводящие в
степень философии буддизм и конфуцианство, как раз игнорируют
отсутствие в последних логического, строго систематизированного метода
познания [186, 55] 7.
Примерно так же высказывается и Накамура Юдзи ро. В статье,
опубликованной в том же, 1969 г., он отмечает, что многие японцы, когда их
спрашивают: «Что такое философия?» или «Какая должна быть
философия?», затрудняются, что сказать, и стараются уклониться от ответа.
Признавая, что на Востоке, и в Японии в частности, была своя
мировоззренческая мысль, Накамура тем не менее полагает, что, хотя и не
возбраняется называть эту мысль философией, «строго говоря, „восточная
философия" есть всего лишь метафорическое выражение» [120, 170].
Накамура аргументирует тем, что философия, по его убеждению, является
методом познания, она раскрывает всеобщее, т. е . как раз то, что не
свойственно национальной японской культуре, для которой в отличие от
европейской характерно освоение природы «в формах самой природы», и
поэтому, естественно, в ней слаба «метафизичность» [120, 173].
Приведенные выше высказывания согласуются в более широком плане с
известными утверждениями многих японских ученых о том, что в Японии
вообще научная мысль и прежде всего естествознание развивались крайне
слабо и что это можно рассматривать как характерное явление для истории
японского общества на всем ее протяжении вплоть до буржуазной
революции 1868 г. [183, 306—307].
Как уже можно было заметить ранее, приверженцы взгляда о нефилософском
характере традиционной японской культуры исходят из реальной проблемы
отношения философии к науке. Они справедливо ратуют за признание связи
и зависимости между философией как теоретической формой мировоззрения
и конкретными естественными и общественными науками. Однако,
устанавливая такую связь и зависимость, они не в состоянии дать им
правильного объяснения, ибо рассматривают эту взаимосвязь в отрыве от
объективных законов развития общества, его материальной экономической
основы. При таком подходе научно-теоретический характер философского
мировоззрения выступает в сознании буржуазных японских мыслителей как
«атрибут» той или иной определенной культуры, как ее специфическая
«черта». Иначе говоря, на первый план при решении этого вопроса
выдвигается не всеобщая закономерность, а разность культурного материала.
Если в системе культуры, например, европейских народов, ясно
просматривается научно оформленная, теоретически разработанная
мировоззренческая мысль, то существование философии признается; если
таких признаков мировоззренческой мысли четко не выявляется, скажем, как
в системе культуры многих народов Востока, Японии в частности, то
наличие у них философии отрицается. Подобный способ выявления наличия
философии в духовной культуре народов, исходящий из ориентации на
признаки конкретного типа, как правило, «европейского» философского
знания, естественно, не позволяет буржуазным ученым фундаментально
разрабатывать проблему отношения философии к науке, не дает
возможности показать различную степень развитости философского
мышления у разных народов, раскрыть изменяющуюся, как теперь принято
говорить, «меру» его «научности». А это обстоятельство препятствует, в
свою очередь, обнаружению за многообразием культурного материала
тождества философских проблем, их принципиальной идентичности.
Рассмотренная выше концепция об отсутствии философии в традиционной
японской культуре, как уже отмечалось, оспаривается сторонниками
признания философии неотъемлемой частью национальной культуры
Японии. Последние считают, что философия искони существовала в Японии
и других странах Востока, что она всегда была представлена в буддизме и
конфуцианстве, которые включают не только религиозное сознание,
но ц философскую, этическую, эстетическую и другие формы общественного
сознания [198, 3—4]. Сторонники этого взгляда, будучи также
представителями просветительского движения, четко формулировали его
еще в первые годы периода Мэйдзи. Однако по мере развития капитализма,
нарастания империалистических тенденций и усиления националистических
настроений в буржуазной идеологии Японии сторонники признания
существования традиционного философского мышления стали утрачивать
свои позиции в широких кругах общественности. Лишь после второй
мировой войны, в условиях ликвидации авторитарной императорской
системы и крушения ее идеологии, их голос зазвучал в полную силу. В рядах
исследователей, признававших наличие философии в традиционной
японской культуре, оказались передовые ученые-материалисты, философы-
марксисты, для которых было естественным рассматривать философию как
всеобщую форму общественного сознания, присущую каждому народу [90,
V, 261—318]. Но в этой же группе исследователей была и часть буржуазных
ученых, которая, сохраняя известную преемственность взглядов от
просветителей, развивала собственную концепцию по данному вопросу.
Попытки этой категории ученых объяснить природу традиционного
мировоззренческого мышления японцев, его право на звание философии
представляют определенный интерес.
Одним из наиболее типичных представителей этого направления среди
современных ученых является Умэхара Такэси, видный историк и философ,
исследователь буддийской и конфуцианской мысли в Японии. В своей
опубликованной в 1968 г. работе под названием «Три идейных принципа,
пронизывающих японскую культуру» Умэхара Такэси признает, что взгляд,
согласно которому до буржуазной революции в Японии не было своей
философии, получил широкое распространение и, «кажется, и теперь все еще
сохраняется не только в среде философов, но и в обыденном сознании
многих японцев» [191, 313]. Умэхара считает этот взгляд ошибочным,
оказывающим отрицательное воздействие на развитие философской мысли,
но предупреждает, что опровергнуть его отнюдь не легко, так как «он имеет
за собой длительную историю». Умэхара указывает на целый ряд
укоренившихся в сознании японцев «предубеждений», объясняющих, по его
мнению, причины такого предвзятого отношения к традиционному
мышлению. Главными из таких «предубеждений», согласно Умэхара,
следует считать те, которые возникли в результате «европеизации» Японии, в
процессе которой вместе с достижениями европейской цивилизации в
общественную мысль японцев были занесены и многие неправильные
взгляды, свойственные европейцам. Одним из них и является, с его точки
зрения, европоцентристский взгляд на философию, возводящий ее
европейский образец в абсолютный эталон такого рода знания и
исключающий все то, что на него не походит [191, 313—314].
Критикуя европоцентристские представления о философии, перенятые
японцами у европейцев, Умэхара обращается к неизменно признаваемой за
образец греческой философии, отмечает ее значение в развитии европейской
культуры и характеризует ее как выражение «универсального логоса»,
«рационального духа», «разума» человека, но вместе с тем заявляет, что
«люди живут не только разумом. И если философия призвана разгадать
тайны мира и человека, то наряду с изучением разума необходимо изучение
чувств и страстей людей» [191, 314]. Поскольку эта задача издавна
осуществлялась в «философской мысли Востока», последняя «может
рассматриваться в равной мере ценной, а не по аналогии с философией
Запада»8. Именно поэтому японский исследователь выступает против
общепринятого «слишком узкого» определения философии как
«самосознания разума». Такое определение, по его мнению, исходит из
признания логики «наукой о самосознании разума», а «логика» в этом
смысле «присуща только европейскому знанию» [191, 315]. Отвергая такую
недостаточную трактовку понятия «философия», Умэхара ссылается на то,
что даже в Европе философская мысль после Гегеля уже не отвечала
подобного рода представлению о ней. «Разве может послегегелевская
философия Ницше, Хайдеггера, Сартра, — вопрошает он, — подойти под
категорию самосознающего себя разума?» [191, 316]. Эта европейская
философия исходила, согласно Умэхара, не из разума, не из рационального
духа, а из «жизни» и потому заслужила название «философия жизни». По
убеждению японского исследователя, у народов Востока также была своя
собственная «философия жизни». В махаянистском буддизме, замечает он,
«традиционно присущая ему философия жизни более глубока, чем
философия жизни Ницше и Дильтея... но многие, признавая философию у
Ницше, не признают за философию учение о жизни в буддизме Махаяна»
[191, 316]. Европейцам, по мнению Умэхара, мало известна философская
общественная мысль народов Востока, они судят о ней, как правило, по тому
немногому, что им становится доступно, приобретает у них особую
популярность, как, например, мистическое учение Дзэн и т. п . Поэтому,
замечает Умэхара, его не удивляет, почему европейцы игнорируют
существование «традиционной философии на Востоке». Его удивляет другое:
«До каких пор мы, японцы, люди Востока, будем думать таким же образом,
предавая забвению свое классическое философское наследие?» [191, 315].
Сторонники признания существования философии в традиционной японской
культуре, в частности выражающий их взгляды Умэхара Такэси, исходят, как
было показано выше, из собственно философских мировоззренческих
проблем, как таковых. В противоположность критикуемому ими
европоцентризму, отлучающему многие народы от философии, они
отстаивают идею всеобщности философии, ее присущность самым
различным культурным сообществам. Однако эта сама по себе верная идея не
получает научного обоснования с точки зрения понимания социального
назначения философии, ее функционального служения обществу. Наличие
философии в культуре того или другого народа констатируется в самой
общей форме. При этом философия представляется только как оценочное
осмысление действительности, тогда как познавательная функция
философии выпадает из поля зрения, а отсюда и проблема отношения
философии к науке не ставится вовсе или ставится исключительно как
региональная, имеющая значение только при рассмотрении философской
мысли Европы. Отказ от признания познавательной роли философии, ее
связи с наукой, стремление видеть основу философии в равной мере и в
«разуме», и в «чувствах», «страстях» людей и т. п. создает для буржуазных
ученых препятствие к изучению тех социальных факторов, которые
обусловливают развитие философского знания, его системы категорий, его
метода осмысления реальной действительности, определяющего характер
разработки специфически философских мировоззренческих проблем. При
таком подходе идея всеобщности философии у сторонников признания
наличия философской мысли в традиционной культуре японцев и других
народов Востока выглядит крайне декларативно. Эта идея основывается по
существу на одном лишь принципе равноценности философского знания у
разных народов и совершенно не согласуется с идеей развития, с идеей
прогресса самой философии.
Рассмотренные выше взгляды противников признания философии
неотъемлемой частью традиционной японской культуры и сторонников
такого признания объективно выражают две ориентации при определении
существования философии в системе традиционной японской культуры —
ориентацию на познавательную функцию философии, ее научно-
теоретическую методологию и ориентацию на мировоззренческую
оценочную функцию, предполагающую наличие определенной,
специфически философской проблематики. Каждое из направлений
гипертрофирует, возводит в абсолют значение той или другой функции
философии, фактически отрывает их друг от друга, в то время как уяснение
именно взаимодействия обеих функций на конкретном историческом
материале развития японской общественной мысли и открывает путь к
пониманию особенностей традиционного философского мышления японцев.
Исследования японских ученых, основательно изучавших фактический
материал истории общественной мысли, убедительно показывает, что в
Японии задолго до проникновения европейской культуры были мыслители,
которые ставили и решали проблемы о мире, человеческом бытии, о
познании окружающей действительности, иначе говоря, по-своему ставили и
решали философские проблемы, как таковые. Дошедшие до нас манускрипты
не оставляют сомнения в том, что в разное время в Японии философскими
проблемами занимался целый ряд мыслителей, и в том числе таких
оригинальных, как Андо Сёэки, Миура Байэн, Ито Дзинсай и др. [147, 207—
210]. Правда, осмысление мировоззренческих проблем японцами в эпоху
феодализма происходило в условиях замедленного развития
производительных сил, застоя научной мысли, прежде всего естествознания,
и это, естественно, отрицательно сказывалось на характере философского
мышления, на обогащении философских категорий научным содержанием.
«Низкая мера научности» традиционной японской философии определяла во
многом и ее место в системе других форм общественного сознания, ее
функциональную соотнесенность с ними. Традиционная японская философия
выступала, с одной стороны, как крайне спекулятивная, далекая от
конкретной жизни мысль, а с другой стороны, как натурфилософия,
включающая значительный нефилософский материал позитивных научных
знаний. Традиционная философская мысль японцев слабо
дифференцировалась внутри себя, и в то же время от нее чрезвычайно
медленно отпочковывался «посторонний», нефилософский идейный
материал. Поэтому японская философия и не выглядела «философской
наукой» в «классическом» европейском понимании этого слова. Такое
состояние традиционной философской мысли в Японии в эпоху
средневековья обусловливало, естественно, подавляющее воздействие на нее
других форм общественного сознания, занимавших доминирующее
положение при феодализме, в первую очередь таких, как религия (народные
верования, синтоизм, буддизм). Философское мировоззрение, как правило,
выполняло роль «служанки богословия», что открывало простор развитию
идеализма и сковывало развитие материалистической мысли.
Невысокий теоретический уровень традиционного мышления, влияние
религиозного сознания сказывались на истолковании японцами
философского содержания таких проникших в их мировоззренческую мысль
из классического буддизма категорий «восточной метафизики», как
всеохватывающая, не поддающаяся четкому определению «пустота», из
которой возникает и в которой исчезает все реально существующее, как
«дхармы», универсальные частицы эфира, элементы, лежащие в основе всех
вещей, как «карма», своеобразное фатальное предопределение человеческой
судьбы, как «перевоплощение» всех живых существ и т. п . Они сказывались
далее на истолковании философского содержания таких усвоенных из
классического конфуцианства категорий, как «тайкеку» — «великий предел»,
творческое начало всех вещей, как «ки» и «ри» — носители материального и
духовного начала, таких, как «инь» и «ян» — противоположные созидающие
силыит.д.
Недостаточная теоретическая разработка содержания концепций, понятий,
представлений философской мысли японцев в эпоху средневековья во
многом определяла и форму их философствования. Развитие традиционной
философской мысли, смена одних философских учений другими
совершались, как правило, в виде «комментаторства», в виде «более
глубокого» истолкования, изложения мыслей, принципов, выдвинутых
предшественниками. Иначе говоря, философы чаще всего выражали свои
взгляды, концепции прежде всего не столько как свои собственные, сколько
как «истинные» мысли, как «истинные» разъяснения взглядов мудрых
авторитетов, учителей. Конечно, эта черта философского мышления
прошлого опять-таки обнаруживается не только на Востоке, в данном случае
в Японии. Она может быть зафиксирована и в истории философского
мышления народов других регионов мировой культуры, и в частности в той
же самой античной (греческой или римской) философской мысли раннего
периода. И тем не менее нельзя отрицать, что в так называемой «восточной
философской культуре», в японской в частности, эта черта на протяжении
длительного исторического периода явно преобладает, доминирует,
характеризуя специфику развития философской мысли.
Вполне понятно, что отмеченные черты традиционной философской мысли
Японии сложились исторически, на протяжении многих веков. Истоки их
формирования можно отнести еще к VI—VII вв., когда в Японию из Китая и
Кореи начинают проникать буддизм и отчасти элементы конфуцианства, и
результате деятельности сект Тэндай, Сингон и др. начинается усвоение
буддийской культуры, религиозного сознания, философского знания, но оно
идет постепенно ввиду сложности восприятия японцами абстрактных
представлений религиозно-философского характера. В IX в. с появлением
таких мыслителей, как Кукай, Сайтё, наблюдаются попытки серьезного
осмысления японцами буддизма, и, видимо, можно говорить о первых
проблесках философской мысли, как таковой. А в XII—XIII вв. с
возникновением в Японии учений сект Дзэн, Дзёдо и Нитирэн, хотя
преимущественно и в иррациональной форме, но уже определенно начинает
развиваться собственно философское знание, выдвигаются крупнейшие
мыслители и интерпретаторы буддийской философии — Догэн, Синран,
Нитирэн.
В XIV—XVI вв. буддизм в Японии неограниченно господствует в религии,
философии, этике, эстетике и других формах общественного сознания.
Возникают разновидности существующих буддийских сект, появляются
новые секты. Однако с XVII в. положение резко меняется. Господствующей
идеологией вместо буддизма становится проникающее из Китая
конфуцианство, более соответствующее запросам феодального строя. В
сфере японской общественной мысли, философии в частности, наряду с
существовавшей с XII в. неоконфуцианской школой последователей Чжу-си
видное место занимают школа классического конфуцианства Кокугакуха и
неоконфуцианская школа последователей Ван Ян-мина — Оёмэйгакуха. В
противовес ортодоксальной философии конфуцианства, а также буддизма в
XVI—XVIII вв. в Японии развиваются и оппозиционные критические
философские течения. Представители одних критических течений, такие, как
Муро Кюсо, Ямагата Сюнан и отчасти Миура Байен, пытались опровергать
догмы ортодоксии, не выходя все же из общего русла буддийско-
конфуцианской идеологии. Другие мыслители, такие, как Ито Дзинсай и
Андо Сёэки, радикально отрицали идеалистическое мировоззрение и
провозглашали принципы материализма.
Конечно, распространение буддийской и конфуцианской философии в
Японии не означало простого воспроизведения ее известных классических
образцов, заимствованных из Китая и Индии. Совершенно очевидно, что
усвоение японцами буддийской и конфуцианской философской мысли было
обусловлено развитием общественных отношений. Распространение в
Японии получали идейные доктрины тех буддийских сект и конфуцианских
школ, которые отвечали социальным потребностям, классовым интересам в
тот или иной конкретно-исторический период. В процессе борьбы
ортодоксальных и неортодоксальных течений буддийской и конфуцианской
философии, которая велась между материализмом и идеализмом или в
рамках идеалистической мысли, происходила модификация философских
идей, появлялись различные варианты их истолкования, наблюдался
синкретизм буддийско-конфуцианской философской метафизики. В
результате всего этого в общественной мысли Японии определенным
образом складываются как собственно японские разновидности классических
учений буддийской и конфуцианской философии, так и оригинальные
философские учения, созданные на буддийско-конфуцианском идейном
материале.
Таким образом, история японской культуры, история формирования и
развития японской философской мысли свидетельствует вопреки
концепциям буржуазных идеологов 9 о наличии в Японии в
докапиталистический период ее развития вполне сложившихся устойчивых
идейных традиций. Но тем большего внимания заслуживает факт коренной
ломки этих устойчивых идейных традиций в конце XIX — первой половине
XX в. и по существу полного вытеснения традиционной буддийско-
конфуцианской метафизики из профессиональной академической
философской мысли. Потребности развития японского общества как в сфере
духовной культуры в целом, так и в сфере философской мысли в частности
преодолели косность традиционного идейного материала. Попытки
модернизации философии на буддийско-конфуцианской основе накануне и
после буржуазной революции 1868 г. оказались неэффективными, и
общество обратилось к философской мысли других народов. Стало
неизбежным сосуществование сначала двух форм, типов философской
культуры, а затем все более очевидное вытеснение традиционного идейного
материала, замена его западным, европейским.
Процесс озападнивания, «европеизации» философской мысли Японии
прошел в своем развитии три этапа. На первом этапе (конец XIX в.— первое
десятилетие XX в.) происходило ознакомление японской общественности с
философской мыслью Запада, и прежде всего Европы, наблюдались еще
только попытки овладения незнакомым философским знанием. На первых
порах среди японской интеллигенции получали распространение
философские учения Западной Европы, и в частности взгляды Г. Спенсера,
Монтескье, Гольбаха, Гельвеция и др., отвечавшие духу буржуазных
преобразований периода Мэйдзи. По мере развития японского капитализма
по «прусскому пути» на смену английскому позитивизму и французскому
просветительству пришли немецкий классический идеализм, в первую
очередь кантианство и гегельянство. Однако в этот период западные
философские учения еще не получали широкого распространения ввиду
недостаточно глубокого усвоения европейской культуры в целом, и поэтому,
несмотря на ее популярность среди интеллигенции, западноевропейская
философия существовала относительно обособленно наряду с сохранившей
еще свое значение философской догматикой буддийско-конфуцианского
толка.
Для второго этапа (20—40-е годы XX в.) характерно более фундаментальное
и систематическое усвоение европейской философской мысли. Именно на
этом этапе в Японии получили распространение почти одновременно самые
различные философские течения — кантианство и неокантианство,
гегельянство и неогегельянство, экзистенциализм и философия жизни,
фейербахианство. В это же время японцы основательно стали знакомиться с
марксистским философским мировоззрением, диалектическим и
историческим материализмом.
Философский мир Японии превратился в своего рода лабораторию, в которой
всевозможные направления философской мысли проходили проверку на
жизнеспособность. И действительно, из этой пестроты сменявших друг друга
философских школ и направлений социальные потребности производили
своеобразный «отбор». В буржуазной философской мысли в 20-е годы верх
все больше брали такие новейшие для того времени идеалистические
течения, как прагматизм, гуссерлианская феноменология, экзистенциализм.
Наряду с ними формировался и развивался так называемый японский
«классический идеализм» в лице киотоской школы. Крупнейшие его
представители Нисида Китаро и Танабэ Хадзимэ выдвигали претендующие
на оригинальность концепции, которые больше отличались «восточной»
окраской, использованием отдельных категорий буддийской метафизики, но
в сущности своей были выдержаны в духе западноевропейской
идеалистической философии, и прежде всего экзистенциализма. В эти же
годы получила распространение и прочно утвердилась в философской мысли
Японии марксистско-ленинская философия. Несмотря на недостаточное
знакомство с марксизмом. (лишь небольшое количество классической
марксистской литературы было переведено на японский язык), японская
общественность проявляла растущий интерес к диалектическому и
историческому материализму. Из рядов лучших представителей японской
интеллигенции формировались кадры философов-марксистов,
развертывавших пропаганду марксистских идей среди трудящихся.
За буддийскую догматику, за конфуцианские принципы в этот период,
особенно в 30-х
—
первую половину 40-х годов, цеплялись только
философские интерпретаторы «японизма», идеологи монархофашистского
абсолютизма, стремившиеся идейно оправдать деспотизм императорского
строя внутри страны и его агрессивную экспансионистскую внешнюю
политику.
Третий этап «озападнивания» философской мысли Японии начался после
окончания второй мировой войны. В этот период традиционные буддийские
и конфуцианские принципы, нормы, каноны оказались низверженными.
Японская философская мысль окончательно европеизируется и
американизируется. После распада в конце 40-х годов киотоской школы, в
50-х годах в буржуазной академической философии Японии стали
безраздельно господствовать экзистенциализм и прагматизм, а позднее, с
середины 50-х и с 60-х годов, получают распространение логический
позитивизм, аналитическая философия и другие современные
идеалистические направления. При этом не только воспроизводятся образцы
современной буржуазной философии Западной Европы и США, но и
появляются их японские варианты, интерпретации — так называемые
«японский прагматизм», «японский экзистенциализм» и т. п. Так же, как и в
довоенный период, японской буржуазной философии противостоит
марксистско-ленинская философия, возродившаяся после войны и
получающая все более широкое распространение среди философски
мыслящей общественности. Что же касается традиционной буддийско-
конфуцианской философской метафизики, то она фактически полностью
вытесняется из академических научных кругов.
Конечно, на уровне обыденного сознания сохраняется еще значительный
слой традиционной общественной мысли, имеющий в своем составе
мировоззренческие философские элементы, понятия, представления. Они
существуют и воспроизводятся неупорядоченно, в теоретически
необработанном виде. Однако социальная база их существования достаточно
широка. Их почвой является значительная часть традиционной японской
культуры (искусства, литературы, религии), образующая духовный мир
японцев и развивающаяся как независимо от культурного материала
«западного» происхождения, так и во взаимодействии с ним. Эта часть
традиционной японской культуры и отражающее ее обыденное сознание
людей, несомненно, так или иначе влияют на теоретическую философскую
мысль, на развитие буржуазной академической философии Японии. Такое
влияние становится особенно заметным с середины 60-х годов. В эти годы в
сфере академической философской мысли все явственнее обозначаются
тенденции к «возрождению» традиционных форм сознания, наблюдается
стремление как-то «освежить», «дополнить» традиционным идейным
материалом переживающую кризис современную идеалистическую
философию. В этом направлении, в частности, происходит переосмысление
буддийской метафизики с позиций экзистенциализма, модернистское
истолкование философских догм буддизма идеологами Сока гаккай и т. п .
Разумеется, появление указанных выше тенденций отнюдь не меняет общей
картины развития современной буржуазной академической философии
Японии, в сфере которой, как уже неоднократно отмечалось, господствует
идеалистическая мысль, представленная экзистенциализмом,
неопозитивизмом, прагматизмом, феноменологией, т. е . теми же в сущности
течениями, которые характеризуют современную буржуазную философию
Западной Европы и США. Таким образом озападнивание буржуазной
академической философии Японии убедительно свидетельствует о
необратимости исторического процесса развития философской мысли в этой
стране, о том, в частности, что этот процесс совершается не в соответствии с
чаяниями приверженцев традиционной «культуры Востока», традиционного
«образа мышления японцев» и т. п ., а в соответствии с объективными
потребностями социальных преобразований, с общественными запросами
определенных классов. Все это подтверждает справедливость и
непреходящий характер значения принципов марксистско-ленинского учения
о развитии общества и вместе с тем раскрывает несостоятельность всяких
реакционных буржуазных концепций об «исключительности Востока»,
«уникальности и непостижимости» его духовной культуры, «незыблемости»
его идейных традиций.
Однако если воздействие сохраняющейся традиционной культуры на
буржуазную академическую философию Японии не приводит к возрождению
традиционных форм философского мышления, то это не означает, что такое
воздействие не сказывается на распространении буржуазной философии
среди различных слоев современного японского общества. Самый отрыв
профессиональной теоретической философской мысли от стихийного
мировоззренческого мышления японцев на уровне обыденного сознания, как
ввиду социального отчуждения, так и вследствие несовместимости
культурного материала «западного» и «восточного» происхождения,
способствует образованию своеобразного идеологического барьера, граница
которого приобретает чрезвычайно сложный характер. Эта граница не
совпадает непосредственно с классовым размежеванием японского общества,
поскольку разные социальные слои и прослойки придерживаются как
традиционной, так и модернистской культурной ориентации. Однако в
основе этой границы в конечном счете все же лежит классовое размежевание,
социальное неравенство, ибо оно в первую очередь разделяет обеспеченную
часть общества (предпринимателей, бюрократическую верхушку, высшие
круги интеллигенции), воспитанную в большой мере в духе «западных»
культурных ценностей, и широкие слои народа, не имеющие достаточного
доступа к полноценному образованию и находящиеся ближе к традиционной
национальной культуре.
Подобного рода обособленность, разорванность академического,
профессионального и обыденного сознания на почве несовместимости
культурного материала еще более усугубляет развивающийся процесс разных
форм духовного отчуждения в различных сферах жизни японцев, и в том
числе в мировоззренческом, философском мышлении. Широкие слои
японского общества, в значительной своей массе изолированные от
теоретической научной мысли, повседневно подвергающиеся тенденциозной
обработке средствами информации, буржуазной пропагандой, находятся
таким образом в чрезвычайно трудных условиях: им оказываются чужды,
враждебны не только содержание и форма выражения буржуазных
философских идей, взглядов, концепций, им становится чуждой и сама
эмоционально-психологическая и языковая сторона того культурного
материала, в который облекаются эти философские идеи, взгляды,
концепции. Такого рода своеобразный характер академизма буржуазной
философской мысли Японии не встречается в буржуазной общественной
мысли Западной Европы и США. И он, совершенно очевидно, обнажает всю
остроту социальных противоречий японского общества, глубину кризиса его
общественных отношений.
Глава третья
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ БУРЖУАЗНОЙ
ФИЛОСОФИИ В ЯПОНИИ
Философия экзистенциализма
Философию экзистенциализма можно без преувеличения считать наиболее
значительным направлением буржуазной философии Японии за последние
три десятилетия ее развития. Если прагматистская философия, получившая
после войны не меньшее распространение среди японской интеллигенции,
уже переживает определенный спад, а неопозитивизм и его позднейшие
модификации в виде аналитической философии, семантической философии
приобретают влияние только за последние полтора десятилетия, то
экзистенциализм на всем протяжении послевоенного периода продолжает
сохранять устойчивые позиции как по степени своего влияния в собственно
философских кругах, так и по диапазону своего распространения в
различных сферах духовной жизни японского общества. Такие позиции
экзистенциализма в Японии объясняются действием целого ряда социально-
экономических, политических и идеологических факторов, отмеченных в
первой главе.
Экзистенциализм в Японии выступает под флагом «критики эпохи». Как и в
Западной Европе, экзистенциалистская критика, являясь критикой
современной буржуазной действительности Японии, выражает протест
мелкого буржуа, протест буржуазного интеллигента против присущих этой
действительности всевозможных форм отчуждения труда, против
стандартизации взглядов, норм поведения личности в обществе, лишения ее
самобытности, творческой индивидуальности. Такая критика буржуазной
действительности обращена против «современной эпохи» вообще. Она
игнорирует природу общественного строя, характер производственных
отношений, классовую структуру общества, а тем самым не замечает
эксплуататорской сущности капитализма, всей антидемократичности,
антигуманности буржуазного общества, т. е . не замечает источника тех
самых пороков бед, невзгод, против которых выступает. Для
экзистенциалистской «критики» современная эпоха — это прежде всего
эпоха господства техники со всеми ее новейшими атрибутами:
автоматизацией, кибернетикой, атомной энергией и прочими достижениями
научно-технического прогресса. Это эпоха, в условиях которой развитие
техники неотвратимо надвигается на человека, лишает его свободы,
естественных свойств его натуры, превращая его в усредненный социальный
атом—индивид «man», существующий в обществе таких же абстрактных
усредненных индивидов. В противоположность такому неистинному
нечеловеческому бытию, а в атмосфере всеобщего отчуждения человек
вынужден стремиться утвердить свое подлинное бытие — свою экзистенцию
вне рамок общества, в узком мирке своего индивидуального «я», своих
сугубо интимных отношений. Иначе говоря, общественная сторона
человеческого бытия выступает в экзистенциалистской критике как
абстрактная, неистинная, нечеловеческая, тогда как интимная, личная,
асоциальная сторона — как единственно конкретная, истинная, подлинно
человеческая. В этой дихотомии общественного и индивидуального
человеческого бытия экзистенциалистская критика объективно, независимо
от сознания самих критиков, оборачивается против капитализма, против
присущего этому общественному строю антагонизма интересов отдельных
личностей, групп, классов, порождаемого частной собственностью. Однако,
обнаруживая подобный разрыв существования человека в том виде, в каком
он представляется буржуазному сознанию, не выходящему за пределы своего
классового опыта, «критика эпохи», как уже отмечалось, не видит причин,
которые с необходимостью воспроизводят «критикуемую» действительность,
не видит сил, выступающих за ее сохранение, равно как и сил, действующих
в обратном направлении—в направлении ее преобразования. Более того,
объясняя противоречия современной действительности вечной дисгармонией
человеческого бытия, его «промежуточным положением» между «предметно-
вещественным миром» и «трансценденцией», «критика эпохи» не только
отвлекает внимание от подлинного источника реальных противоречий, но и,
как справедливо отмечают марксистские критики философии
экзистенциализма, перекладывает вину за социальные конфликты
буржуазного общества на «человеческую природу» и тем самым объективно
оправдывает его существование. Эти мотивы приверженцев
экзистенциализма и использует буржуазная пропаганда в целях апологии
капитализма, идеологической обработки сознания трудящихся.
Отмеченные выше черты современного японского экзистенциализма
достаточно четко прослеживаются при рассмотрении всей послевоенной
истории распространения и эволюции этого философского направления в
стране. Сразу же после окончания второй мировой войны в японских
философских кругах обозначились два направления развития
экзистенциализма: одно, стремившееся возродить философию киотоской
школы и ее основателя Нисида Китаро, и другое, продолжавшее
интерпретировать и модифицировать «классический» западноевропейский
экзистенциализм.
Представители первого направления, бывшие ученики Нисида (Ниситани
Кэйдзи, Мутай Рисаку, Янагида Кэндзюро, Кояма Ивао), заметно
активизировали свою деятельность во второй половине 40-х годов. Они
выступили с рядом работ, пропагандирующих основные идеи философской
концепции Нисида, и проявили инициативу в деле издания полного собрания
сочинений своего учителя.
В отличие от них, в то время еще правоверных киотосцев, видоизменил свою
идейную платформу Танабэ Хадзимэ. Уже в первые послевоенные годы он
опубликовал работы, в которых как-то попытался осмыслить происшедшие
изменения в жизни японского общества. X. Танабэ поставил, в частности,
вопрос об «ответственности» за войну, принесенные ею страдания. Он
утверждал, что «за нынешнее тяжелое положение вина ложится не на одну
военную клику, большую ответственность за это должны нести также
идеологи-мыслители, проявившие бессилие и трусость» [178, 10]. Однако
Танабэ возлагал ответственность за войну на такое большое число лиц,
испытывавших чувство «раскаяния» за прошлое, что истинные виновники
терялись в этой niacce людей [177, 7]. Вместе с тем надежную гарантию
возвращения Японии к нормальной жизни Танабэ видел в сохранении
императорского строя как «воплощения понятия национального единства,
преодолевающего противоречия политических партий» [178, 36]. Эти и
некоторые другие положения так называемой «политической философии»
Танабэ, выдвинутые им в первых послевоенных работах, были щедро
обрамлены социал-демократической фразеологией и связаны
формулировками, претендующими на диалектический анализ общественных
явлений.
Философы-марксисты, выступившие с критикой взглядов Танабэ,
разоблачили как его попытку с помощью «всеобщего раскаяния» умалить
ответственность за войну империалистических кругов Японии, так и его
стремление затушевать реакционную сущность японской монархии,
находящейся на службе правящих классов. Они показали, что
провозглашавшееся Танабэ положение: «демократия — это тезис, социализм
—
антитезис, а социал-демократия — синтез» — представляет собой всего
лишь попытку спекулировать на диалектике и восходит в конечном счете к
иррационалистическим построениям так называемой «логики вида»,
проповедовавшейся Танабэ еще в довоенные годы [107, 18—19].
Однако, как правоверные киотосцы, так и модернизировавший свои взгляды
Танабэ Хадзимэ не могли уже задавать тон в развитии буржуазной
философской мысли в новых условиях. Их усилия оказались обреченными,
ибо идеи, которые они проповедовали, были органически связаны с
идеологией довоенного периода и военных лет и не отвечали духу нового
времени. Ввиду этого в конце 40-х годов киотоская школа, представлявшая в
значительной мере специфически японский экзистенциализм 30—40-х годов,
окончательно распалась и утратила свое влияние в философских кругах.
Мыслители консервативного толка (Ниситани Кэйдзи, Кояма Ивао, Нода
Матао) перешли на позиции других идеалистических направлений и вскоре
вновь заявили о себе как адепты новой «философской веры». Такие же
представители киотоской школы, как Янагида Кэндзюро и Мутай Рисаку, в
условиях послевоенных социальных преобразований постепенно порывают с
идеалистическим мировоззрением и переходят в лагерь материализма [212;
11З].
Что же касается Танабэ, то и он отказался вскоре от дальнейшей разработки
проблем своей «конкретной» политической философии, возвратился в лоно
академической философии экзистенциалистского профиля. И уже не
выступал сколько-нибудь активно в философских кругах1.
С распадом киотоской школы экзистенциалистскую философию в Японии
стали представлять исключительно течения «классического»
западноевропейского экзистенциализма. Однако само определение
экзистенциализма как западноевропейского идейного направления
становится для японских философов все более относительным.
Экзистенциализм, восстанавливая свои довоенные позиции, получает такое
значительное распространение, что уже не нуждается в той мере, как раньше,
во взаимодействии с традиционной идеологией. Все более открыто вытесняя
элементы последней, философия экзистенциализма начинает доминировать в
своем «классическом» западноевропейском виде, воспроизводя и
видоизменяя взгляды ее корифеев.
С самого начала послевоенного периода стало характерным широкое
распространение взглядов французских представителей этого философского
направления, и прежде всего Жан-Поля Сартра. Произведения Сартра
оказывали сильное воздействие на умонастроения буржуазной
интеллигенции, особенно после его полемики с Камю и выхода в свет работы
«Марксизм и экзистенциализм». В 50-е годы на японском языке вышли
почти все произведения французского мыслителя, и популярность их автора
стала общепризнанной в философских и литературных кругах, среди
различных слоев интеллигенции и студенчества. Вслед за Сартром и наряду с
ним японская общественность познакомилась и с работами других известных
представителей французского экзистенциализма — А. Камю и Симоны де
Бовуар. Исключением в этом отношении оказался лишь Г. Марсель, к
которому японская философски образованная публика не проявила сколько-
нибудь заметного интереса.
Широкое распространение в послевоенной Японии французского
экзистенциализма, и прежде всего взглядов Сартра, — явление весьма
примечательное, имеющее определенную социальную обусловленность. Во-
первых, здесь, несомненно, сыграла роль специфика французского
экзистенциализма, сочетание в нем критики современного буржуазного
общества, «экзистенциального протеста» против его антигуманистического
характера, с поисками перспектив общественного развития. Во-вторых,
нельзя не учитывать того, что идеи французского экзистенциализма
действовали на японское общественное сознание не только через абстрактное
философское мышление, но и в более доступной и яркой форме
произведений художественной литературы. Наконец, немаловажным было и
то, что работы французских экзистенциалистов, и в первую очередь Сартра,
были «атеистическими» по форме, свободными от чисто «европейской»
христианской догматики и потому более совместимыми с резко отличной по
характеру традиционной культурой, традиционной общественной мыслью
стран Востока. Это важное обстоятельство, разбираемое подробнее ниже,
дает, между прочим, ключ к пониманию того факта, почему к работам такого
видного представителя французского экзистенциализма, как Г. Марсель,
японцы оставались равнодушными2. Исследователи современной японской
философии, в частности экзистенциализма, расценивают подобное
равнодушие как нечто «необъяснимое», как «пробел либо пропущенную
страницу в истории восприятия экзистенциальной мысли после войны» [39,
1, 267]. Конечно, неприятие Марселя японской философской
общественностью могло быть вызвано стечением ряда обстоятельств. Однако
решающее значение при этом, как нам представляется, имел тот факт, что
взгляды Марселя были относительно слабо систематизированы и пронизаны
христианскими мотивами, менее совместимыми с японской традиционной
общественной мыслью, нежели атеистические взгляды Сартра, Камю и
Симоны де Бовуар.
Не меньшее распространение и влияние среди буржуазных японских
философов получает и немецкий экзистенциализм К. Ясперса и М.
Хайдеггера. Философия существования Ясперса, особенно после выхода в
свет его работы «Разум и экзистенция», привлекла внимание философской
общественности уже в первые послевоенные годы. По инициативе Мутай
Рисаку и Канэко Такэдзо в 1951 г. было основано «Ясупаасу кёкай»
(«Общество Ясперса») и стал издаваться журнал этого общества
«Дзиссонсюги» («Экзистенция»). Члены общества поддерживали
непосредственный контакт с немецким философом, взгляды которого они
пропагандировали. В 50-е и особенно в 60-е годы получают распространение
и работы Хайдеггера. Несмотря на сложный философский язык
произведений Хайдеггера, а также отрицательную реакцию японской
общественности на его симпатии к нацизму в годы войны, в Японии
появляется немало приверженцев взглядов этого философа, переводятся и
издаются собрания его сочинений, выходит целый ряд исследований,
написанных под влиянием его философской концепции.
Второе рождение обретает на японской почве и философия основоположника
экзистенциализма С. Кьеркегора. Еще в 1950 г. японские единомышленники
датского философа создают «Киерукегоору кёкай» («Общество Кьеркегора»).
Позднее произошло объединение этого общества с «Обществом Ясперса» в
«Дзиссонсюги кёкай» («Общество экзистенциализма»), и с 1957 г. начал
выходить новый журнал «Экзистенциализм». Однако вскоре приверженцы
философии Кьеркегора, и прежде всего Отани Нагаи, вновь учредили
«Общество Кьеркегора» и с 1964 г. стали выпускать журнал «Киерукегоору
кэнкю» («Изучение Кьеркегора»).
Известное влияние в японских академических кругах приобретают также
взгляды таких причисляемых к экзистенциализму мыслителей, как Бубер и
Гвардини. В духе идей экзистенциализма воспринимаются среди
интеллигенции художественные произведения Достоевского, Кафки, Рильке.
Наконец, говоря о распространении философии экзистенциализма в
современной Японии, нельзя не отметить еще одно не совсем обычное
явление — пробуждение интереса некоторых социальных слоев японского
общества к сошедшей со сцены в конце 20-х годов философии жизни в связи
с новым экзистенциалистским ее «прочтением». В последнее десятилетие
исследователи японской общественной мысли прямо указывают на
«возрождение» философии жизни, в особенности ницшеанства, и
сосуществование ее с экзистенциализмом. Они утверждают, что идеологи
различных радикально настроенных слоев, в частности «новых левых»,
апеллируют в своих программных документах к человеческой экзистенции,
пишут об охватывающих личность чувствах неуверенности, заброшенности,
отчаяния и в то же время выступают с проповедью всепроникающей
«жизни», ее иррациональных порывов, воспевают секс, безумие, смерть и т.
п. [51, 14]. Вместе с этим указывается, что идеологи левых экстремистов
наряду с Хайдеггером, Ясперсом, Камю поднимают на щит Ницше, Бергсона,
Фрейда, Маркузе [51, 15]. Конечно, данное явление, еще требующее
изучения, вряд ли можно истолковывать в том смысле, что в настоящее
время наблюдается очевидное возрождение философии жизни, как таковой.
Видимо, речь может идти не столько о «возрождении» философии жизни,
сколько о ее видоизмененной модернистской интерпретации, смыкающейся с
экзистенциализмом или попадающей в русло его идей. Данное явление, по-
видимому, свидетельствует о наличии такой органической связи между
этими двумя философскими течениями, которая не исчерпывается
исторически зафиксированной идейной преемственностью, необратимым
«снятием» элементов предшествующего течения последующим, но допускает
их сосуществование, возможно обусловленное преимущественно влиянием
одного из них — экзистенциализма. Как бы там ни было, возрождающийся
среди японской интеллигенции интерес к Ницше, Фрейду, Бергсону,
стремление связать взгляды этих философов с экзистенциализмом есть одно
из ярких проявлений кризиса буржуазной идеологии.
Наконец, в определенной связи с экзистенциализмом в Японии получают
распространение близкие ему по духу философская антропология и
гуссерлианская феноменология; в значительной мере под влиянием
экзистенциализма приобретают популярность в буржуазных философских
кругах взгляды представителей франкфуртской школы. Эти и некоторые
другие идеалистические течения имеют, конечно, специфические
особенности того же порядка, что и в западноевропейской философии, но в
сущности своей они в той или иной мере смыкаются и переплетаются с
экзистенциалистским образом мышления, образуя одно общее
антисциентистское, откровенно иррационалистическое направление в
развитии современной академической буржуазной философии Японии.
Распространение философии экзистенциализма западноевропейского образца
в послевоенной Японии не означало, конечно, простого механического
копирования японскими философами концепций Сартра, Ясперса,
Хайдеггера, Кьеркегора и др. Японские экзистенциалисты не только
воспроизводят, но и по-своему истолковывают различные концепции,
аспекты, принципы, выдвинутые их западноевропейскими
единомышленниками, они преломляют идеи экзистенциализма
применительно к той или иной сфере теоретического знания.
Вследствие того, что современный японский экзистенциализм отражает
взгляды различных социальных прослоек мелкой буржуазии, его идейное
содержание отличается неоднородностью. Однако при всем многообразии
вариантов истолкования экзистенциалистских принципов в современной
философии существования просматриваются два основных направления.
Одно направление—консервативное, придерживающееся уже сложившихся
традиционных экзистенциалистских представлений. Его представители —
приверженцы классических концепций западноевропейского
экзистенциализма — интерпретируют философские взгляды Ясперса,
Хайдеггера, Сартра, Кьеркегора, всячески варьируют эти взгляды, пытаясь
найти новые пути к решению извечной для экзистенциализма дихотомии
индивидуального и социального. Представители этого направления з
экзистенциализме нередко истолковывают, модифицируют исходные
принципы и взгляды какого-то одного из корифеев философии
существования. Характерным представителем такого типа философов может
служить, в частности, Канэко Такэдзо. Этот известный представитель
японского экзистенциализма основывается в своих георетических
изысканиях на философской концепции Ясперса. В своих работах Канэко не
только излагал свое понимание философских взглядов этого корифея
немецкого экзистенциализма, но и выступил с претензией на разработку на
основе этих взглядов новой после Кьеркегора теории «философского
реализма». Исходя из ясперсовской идеи «экзистенциального разума»,
Канэко попытался пересмотреть все философское наследие Ясперса и
создать иной вариант концепции экзистенциализма образца Ясперс —
Канэко [61].
В отличие от Канэко Такэдзо, сторонника своего рода «этической»
философии существования, Имамити Томонобу является представителем
«эстетического» экзистенциализма. Свою концепцию существования
искусства, художественного творчества Имамити строит
на методологических принципах философии Хайдегера. Вслед за немецким
мыслителем Имамити предлагает «перевернуть» общепринятый «метод
философствования»:
исходить не из реальных явлений бытия искусства, а я их «основы», из
«определения» искусства, которое представляет собой иррациональную
творческую силу и является в конечном счете формой проявления небытия -
всеобъемлющего созидающего и отрицающего начала [53, 19]. Небытие, с
точки зрения Имамити, раскрывается человеку в смерти, которую он
понимает не как гибель сущего, а как наивысший кайрос человеческого духа,
как его вознесение и полное освобождение от материальной чувственной
предметности. С этих позиций Имамити пытается объяснить и назначение
искусства рассматривая его как сферу неполного или частичного
освобождения духа от предметности, от состояния тревоги, от чувства
заброшенности и т. п. В художественном творчестве, в процессе усвоения
человеком произведений искусства Имамити видит единственно возможный
путь подлинной реализации человеческих способностей в условиях земного
существования [53, 35—36].
Среди философов-экзистенциалистов консервативного направления
встречаются и такие, которые сочетают в своих спекулятивных построениях
принципы различных идеалистических концепций. Примером в этом
отношении может служить уже упоминавшийся Танабэ Хадзимэ. В своих
работах «Философия как путь раскаяния» (1946), «Экзистенция, любовь,
практика» (1947) и «Свидетельство христианства» (1948) он пытается
выдвинуть концепцию теистического экзистенциализма. Танабэ использует
при этом философское учение Кьеркегора, догматику христианства и
вероучение японского мыслителя XIV в. Синрана. Эклектически сочетая
разного рода идеи, Танабэ стремится провозгласить в качестве
универсального начала тождество экзистенциалистского небытия и
христианской любви [39, 1, 269].
К другому направлению современного японского экзистенциализма
принадлежат те философы, которые под влиянием социальных
противоречий, обострения классовой борьбы и критики со стороны
марксистов в той или иной степени представляют слабость идейных позиций
классического экзистенциализма и потому стараются выработать какие-то
новые варианты решения поставленных философией существования
проблем. Представители этого направления все больше обращаются к
социальному аспекту, все чаще пытаются обосновывать не только природу
субъекта, человека, но и природу общественных отношений и их значение
для бытия отдельной личности. Яркое проявление этой тенденции
наблюдается, например, во взглядах Судзуки Тору, ставшего известным в
среде японских экзистенциалистов в 60— 70-х годах. Судзуки вынужден
признать ограниченность идейных принципов классического
экзистенциализма, его узкие рамки, субъективизм, неспособность решения
проблем объективного природного мира и общественной жизни людей. В
этом отношении он не может не считаться с критикой марксизма в адрес
экзистенциализма [165, 112]. Однако, соглашаясь во многом с этой критикой,
Судзуки вместе с тем полагает, что марксистский материализм, марксистское
учение об обществе не решили проблему человека как субъекта
исторической действительности [168, 158]. Он стремится поэтому связать
ядро экзистенциализма — учение об экзистенции — с учением
исторического материализма. Судзуки утверждает, что если Маркс в
отчужденном труде обнаружил материальное выражение его двойственности
и в анализе этой двойственности характера труда открыл «основной закон
человеческого бытия», то Кьеркегор сделал аналогичное открытие в сфере
духа, также установив его противоречивую двойственность. Вот почему,
согласно Судзуки, марксистская философия и экзистенциализм не
исключают, а взаимно дополняют друг друга [165, 40—41]. Объявляя
«двойственность» человеческого существования «основным законом бытия»,
японский философ придает ей еще более универсальный характер,
усматривая ее проявления во всех сферах объективного мира. «Она, — пишет
Судзуки,— не ограничивается рамками одного человеческого
существования, а не что иное, как естественный закон, пронизывающий и
биологическую жизнь и бытие материи» [165, 27]. Хотя Судзуки и критикует
основоположников экзистенциализма за «индивидуалистический подход» к
истолкованию человеческого бытия, ему не удается преодолеть присущую
экзистенциализму дихотомию индивидуального и социального. Отвергая
концепции Ясперса, Марселя ри др. о коммуникации, Судзуки пытается
заменить их учением о всеобщей любви и связи субъектов в мире так
называемого «эхо-бытия», где человек с человеком «подлинно
перекликаются» [168, 267]. Мир эхо-бытия истолковывается Судзуки как мир
пустоты, в которой все возникает и исчезает. Всеохватывающая,
всеобъемлющая абсолютная пустота оказывается, таким образом, у Судзуки
своеобразным обоснованием «третьего пути» в философии,
преодолевающего якобы как марксистское материалистическое
мировоззрение, так и классическое идеалистическое кредо экзистенциализма.
Иной вариант истолкования «социальной экзистенции» встречается во
взглядах известного идеолога японского социал-реформизма Муто Мицуру.
Последний стремится обосновывать свои взгляды о развитии общества не
путем сочетания извращенно понятых марксистских положений с идеями
Кьеркегора и буддийской догматикой, а используя учение Ясперса о
коммуникации. В своей книге «Социализм и философия существования»
Муто рисует картину современного буржуазного общества, в которое
«заброшены» пролетарии, страдающие от бедности, безработицы и прочих
невзгод [114, 4]. Отрицая нечеловеческое «наличное бытие» этого общества,
пролетарии, согласно Муто, все более исполняются «решимостью
экзистенциального протеста, направленного на преобразование
капиталистических общественных отношений в социалистические». Эта
«решимость экзистенциального протеста» пролетариев реализуется, по
убеждению Муто, на основе развития общественных связей или
коммуникаций людей. Вслед за Ясперсом Муто выделяет разного рода
коммуникации. Прежде всего он указывает на «коммуникацию пролетариев в
личной жизни», откуда исходит протест против нечеловеческих условий
существования на работе [114— 121]. Далее, под влиянием этого протеста
каждый отдельный пролетарий постепенно обнаруживает общность своей
судьбы с судьбой других пролетариев, испытывающих аналогичную
«пограничную ситуацию», и обретает с ними новую коммуникацию —
«коммуникацию общности интересов по профессии» [114, 126]. Однако,
поскольку эта коммуникация, направленная, согласно Муто, на обеспечение
демократизации управления производством и участие рабочих в функциях
контроля через профсоюзы, не дает желаемых результатов при капитализме,
протест пролетариев обращается против государственной власти, и на этой
основе формируется новая коммуникация — «коммуникация товарищества,
солидарности с теми, кто испытывает чувство отчаяния на работе» [114,
129—130]. Три вида коммуникаций, о которых говорит Муто, создают
представление, что он признает наличие общественных связей,
общественных закономерностей, определяющих объективное социальное
бытие людей в условиях той или иной экономической формации. Однако на
самом деле такое представление о взглядах Муто оказывается в конечном
счете ошибочным. Хотя он и рассуждает о коммуникациях, охватывающих
разного рода общественные связи и отношения людей, фактически
«истинной экзистенциальной коммуникацией», в которой «реализуется
коренной способ человеческого бытия», Муто считает «коммуникацию
пролетариев в личной жизни» [114, 121]. Другие же, действительно
социальные — производственные, политические и т. п .— коммуникации
оказываются' у него «коммуникациями наличного бытия», они низводятся по
существу до уровня вторичных, производных связей, противостоящих
личным, интимным отношениям людей. Иначе говоря, усматривая наиболее
подлинную исходную коммуникацию в личной жизни людей, Муто тем
самым опять постулирует асоциальную природу человеческого бытия, столь
характерную для экзистенциалистски мыслящих философов. Эти и другие
интерпретации ясперсовской концепции коммуникаций Муто пытается
использовать для обоснования идей социал-реформизма. Хотя он словесно
признает существование капитализма и социализма в современном мире и
говорит даже о преобразовании капиталистического общества в
социалистическое, однако социализм в понимании Муто оказывается в
конечном счете все тем же капитализмом с лейбористским, социал-
демократическим правительством [114, 134].
Конечно, разработка японскими экзистенциалистами концепций «социальной
экзистенции», предполагающих включение в идейный арсенал
экзистенциализма действительного содержания общественных отношений,
приходит в противоречие с исходными установками этого философского
течения. Тем не менее большинство буржуазных мыслителей-
экзистенциалистов не решаются порывать с исходными принципами
философии существования и продолжают искать решение извечных для этой
философии проблем в эклектических комбинациях экзистенциалистских
идей с идеями других философских направлений. Одни философы при этом
стараются сделать экзистенциализм более «рациональным», «научным»,
подкрепляют его новой «аргументацией», «дополняют» идеалистически
переосмысленными положениями марксистской философской теории.
Другие философы напротив, ищут выход из тупика экзистенциалистской
методологии в откровенном иррационализме. Для оба снования своих
взглядов они не только привлекают западноевропейский и американский
иррационализм модернизируемой философии жизни, фрейдизма и т. п., но и
обращаются к традиционной философской мысли прошлого. Используется, в
частности, иррациональная, до ходящая до мистики буддийская философская
догматика. Судзуки Тору подкрепляет, как уже отмечалось, свою
экзистенциалистскую концепцию буддийской категорией «пустоты»,
Ниситани Кэйдзи призывает экзистенциалистов осмыслить значение понятия
«карма», Юаса Ясуо апеллирует к методу мышления древнего японского
буддизма, якобы родственного экзистенциализму [см. 76]»
Одним из выражений такой крайне иррационалистической тенденции среди
современных японских экзистенциалистов является и вновь
возрождающийся у них интерес к философии Нисида Китаро. Философы-
экзистенциалисты пишут монографические исследования, статьи в научных
журналах, содержащие «новейшую» интерпретацию философии Нисида,
разъясняющие значение его «абсолютного небытия», «диалектики места»,
«абсолютно противоречивого тождества» и других категорий. Конечно, как и
в прошлом, различные буржуазные философы по-разному и с разных
позиций характеризуют философские взгляды Нисида [78]. Однако обращает
на себя внимание то обстоятельство, что многие мыслители все больше
подчеркивают органическую связь философии Нисида с экзистенциализмом.
Выявление этой связи вполне определенно устанавливается в работах
бывших учеников Нисида, консервативных философов старшего поколения,
таких, как Ниситани Кэйдзи, Кояма Ивао, Косака Масааки, которые после
войны в той или иной мере стали адептами экзистенциализма. К
интерпретации философии Нисида обращаются и философы среднего
поколения вроде Судзуки Тору, задающие тон в современном японском
экзистенциализме. За счет категорий нисидовской философии, в частности,
они пытаются как-то пополнить понятийный арсенал «классической»
философии существования [167]. Наконец, как будет показано ниже, к
философским взглядам Нисида, к его философскому иррационализму в той
или иной мере обращаются и левацки настроенные мыслители,
склоняющиеся к экзистенциализму.
Такой интерес к философии Нисида японских буржуазных философов,
стоящих на позициях экзистенциализма или привлекающих экзистенциализм
для обоснования своих идейных программ, вполне объясним, ибо, как
показывает марксистский анализ философских взглядов Нисида, последние
действительно чрезвычайно близки экзистенциализму и, можно сказать, в
значительной мере непосредственно выражают экзистенциалистский образ
мышления [см. 75, 74]. Примечательно здесь другое, а именно то, что такое
«новейшее» прочтение Нисида буржуазными философами в духе
экзистенциализма, их возврат к иррационализму и антиинтеллектуализму
основоположника киотоской школы имел место в 60-е годы, т. е . через
несколько десятилетий после появления и распространения философской
концепции Нисида. Примечательно также и то, что экзистенциалистское
прочтение буржуазными мыслителями философии Нисида в эти годы
выявляет ее подлинную сущность гораздо глубже, чем это было ранее. В
отличие от преобладавшего до второй мировой войны взгляда на
философскую концепцию Нисида как на «восточную», раскрывающую будто
бы «буддийский образ мышления» в категориях западной философии, теперь
уже многие представители философских кругов Японии, как критики, так и
приверженцы философии Нисида, квалифицируют эту философию не как
«восточную», «буддийскую» и т. п., а как философию «западного образца»,
унаследовавшую традиции немецкой идеалистической мысли [199, 210],
либо же высказываются на этот счет еще более определенно и категорично,
объявляя философию Нисида непосредственно течением «экзистенциальной
мысли» [167].
Для философии экзистенциализма в современной Японии весьма характерно
еще более интенсивное, чем до войны, проникновение экзистенциалистских
идей в конкретное научное знание, в методологию исследования частных
наук. Причем в отличие от прагматизма; логического позитивизма,
аналитической философии, получающих распространение преимущественно
в естественных науках, идеи философии экзистенциализма проникают
главным образом в общественные науки — в социологию, этику, педагогику,
эстетику и т. п.
В сфере общественных наук экзистенциалистские идеи используются
буржуазными мыслителями при истолковании природы отдельного,
индивидуального человека, его бытия, при истолковании отчуждения
человеческого труда, результатов его материального и духовного творчества.
Ярким примером в этом отношении может служить современная буржуазная
социология Японии. Методологическим стержнем таких распространенных в
японской социологии теорий, как теория массового общества, теория
индустриального общества, теория модернизации, является
экзистенциалистское пониманий «личности», «массы», «отчуждения»,
экзистенциалистско-прагматистское понимание социальной «среды» и
«приспособления» к ней отдельного индивида и т. п . Конечно, идеи
экзистенциализма, равно как и идеи других идеалистических философских
течений, выступают в японской буржуазной социологии по большей части не
в своей непосредственной чисто философской форме, а в социологически
опосредованном виде, будучи «снятыми», так сказать, в системе понятий той
или иной социологической концепции. Тем не менее они буквально
пронизывают строй мышления буржуазных социологов и могут быть легко
обнаружены в их теоретических построениях. Экзистенциалистские идеи
широко проникли также в буржуазную этику и педагогику, проповедующие
так называемое «хитодзукури» и т. п . [77]. Теоретической основой очень
многих идеологических, идейно-воспитательных программ и документов
является, в частности, экзистенциалистская трактовка характера социальных
противоречий, усматривающая их источник в «небывалом развитии
индустриальной техники» и «естественнонаучного мышления» и
предлагающая разрешить эти противоречия путем «трансцедентального
освобождения» с помощью иррациональных «эмоций и воли». Наличие
экзистенциалистских идей можно также без труда установить в японской
буржуазной правовой науке, в эстетике, искусствоведении и других областях
общественной мысли.
Область конкретного научного знания, в особенности общественных наук,
является сферой непримиримой идеологической борьбы между буржуазной
философией и марксизмом. Здесь ярко обнаруживается и идеологическая
конфронтация марксистской философии с экзистенциализмом. Марксистская
философия является в этой конфронтации ведущей, наступательной
стороной, в то время как экзистенциализм, напротив, стороной,
испытывающей постоянное воздействие марксизма. Влияние марксистского
мировоззрения сказывается на развитии экзистенциализма в Японии все
более очевидным образом. Конечно, японские буржуазные философы
реагируют на марксистскую философию по-разному. Одни занимают по
отношению к ней резко враждебную позицию, другие — умеренно
критическую, третьи подходят к марксистскому учению с интересом, с
желанием понять, усвоить те или иные его положения. Своеобразной
реакцией буржуазной философии, и в частности экзистенциализма, на
марксизм было появление в философских кругах целого ряда течений,
которые пытались дать ответ на волновавшие общественность вопросы о
перспективах социального прогресса, о роли личности в общественной
жизни, ее свободе, творческой индивидуальности и т. п. Одним из таких
течений, получивших заметное распространение во второй половине 40-х
—
первой половине 50-х годов, было течение «субъектного материализма»3.
Течение «субъектного материализма» было неоднородным по своему
составу. Однако идеологи этого течения стояли так или иначе на
экзистенциалистских позициях. Они заявляли, что разделяют основные
принципы материалистической теории о развитии общества, но фактически
воспринимали эти принципы через призму буржуазного сознания и
приходили поэтому в конечном счете к разрыву с исходными
материалистическими установками. Наиболее ярко это проявилось во
взглядах Умэмото Кацуми.
Умэмото Кацуми сформулировал в конце 40-х и в 50-х годах ряд положений,
которые он рассматривал как «идеологию переходного периода» от
идеализма философии Нисида к диалектическому материализму [188]. Свое
«движение к материализму» К. Умэмото расценивал, однако, не просто как
переход к последнему, но как такую эволюцию, которая предполагает
критику современного материализма, «преодоление» его «недостатков» и
утверждение «новой концепции» — «субъектного материализма» [190].
«Недостатками» современного, марксистского материализма К. Умэмото
считал присущие ему якобы «чрезмерный объективизм» и «недооценку
значения активности субъекта, его свободы, его сознания». Идеализм, по
мнению Умэмото, глубоко разработал эти вопросы и построил на них свою
последнюю «крепость». Однако философы-идеалисты абсолютизировали
проблему активности субъекта. Поэтому от материалистов, согласно
Умэмото, требуется диалектически снять эту абсолютизацию и, взяв
«крепость» идеализма, усвоить все ценное, что отсутствует в современной
материалистической теории [188].
К. Умэмото утверждал далее, что признает исходные тезисы материализма о
первичности материи и вторичности сознания, о происхождении сознания из
материи. Однако он полагал, что «справедливость положения о
происхождении сознания из материи касается очень ограниченного момента
в истории природы» [190, 18]. Если отвлечься от факта однократного
происхождения сознания из материи в далеком прошлом, то сознание и
материя должны рассматриваться как относительно самостоятельные по
отношению друг к другу. «Факт современного сознания», по убеждению
Умэмото, противостоит материи как «равная ей субстанция» [190, 19].
Принцип дуализма, предполагающий самостоятельность и независимость
сознания от материи, отсутствие обусловленности сознания материей в
современную эпоху, Умэмото пытался отстаивать в несколько
преобразованном виде и в области познания. Он различает два рода познания
—
обычное «научное познание», или «познание предметов», и «самосознание
субъекта», или его «решимость», раскрывающую будто бы активную роль
сознания в полном смысле слова [190, 21]. Характеризуя такого рода
«решимость» самосознающего субъекта, Умэмото признает за ней не только
познавательные, но и формирующие саму действительность
«онтологические» способности. Именно в практике этой «решимости»
самосознающего субъекта «конкретный» индивид «разрушает старый мир —
старое общее — и созидает новый мир — новое общее» [190, 21]. Из
самостоятельности сознания по отношению к материи, из его активности,
понимаемой указанным выше образом, Умэмото выводит объяснение и
свободы субъекта, видя ее прежде всего в познавательной деятельности
людей, в целесообразном постижении ими законов природы, общественного
развития и т. п . С этих позиций и вся социальная история раскрывается
Умэмото в первую очередь как процесс овладения «объективной
необходимостью» с помощью сознательной активности человека [190, 25].
Японские философы-марксисты в конце 40-х годов подвергли критике
взгляды Умэмото Кацуми и других представителей «субъектного
материализма'». Отмечая эволюцию Умэмото к материализму как
«положительное явление», как стремление мелкобуржуазного сознания
«подойти к рабочему классу, к марксизму», они вместе с тем подчеркивали
ошибочность основных идейных установок Умэмото. Они указывали, в
частности, что он не понял самого существа диалектики взаимодействия
материи и сознания, объекта и субъекта в сфере социальной
действительности и в результате пришел к их метафизическому
противопоставлению. Умэмото не понял также, заявляли они далее,
сущности марксистского учения о сознании как свойстве
высокоорганизованной материи, что сознание не только возникло из материи
в процессе ее длительной эволюции, но и функционирует, основываясь на
простой чувственности, на материальной чувственной практике людей, в
которой постоянно раскрывается зависимость сознания от материи, его
вторичный, производный по отношению к материи характер. Философы-
марксисты отмечали, что ошибки Умэмото по вопросу о соотношении
материи и сознания дают о себе знать в истолковании им процесса познания,
в отрицании решающей роли материального фактора в этом процессе, в
интерпретации познавательной деятельности как своего рода «решимости»,
формирующей саму действительность. Все эти несостоятельные положения
концепции Умэмото марксистская критика объясняла тем, что он не сумел
решительно порвать с идеализмом и исходил прежде всего из
мировоззренческих представлений философии экзистенциализма и близкой
ей по духу философии киотоской школы [149].
Критика японских философов-марксистов оказала заметное влияние на
взгляды Умэмото. В начале 50-х годов он опубликовал ряд новых работ, в
которых проблема субъекта приобретает все более очевидный социально-
классовый подход. Умэмото не отказывается окончательно от
экзистенциалистской методологии, сводящей социальное к
индивидуальному, сохраняет экзистенциалистское представление о
«решимости», «субъективной сущности», ведущей свое начало из
«диалектики небытия» Нисида, но он уже придает решающее значение
«субъектности» в процессе классовой борьбы трудящихся, в деятельности
«партийной организации» в этой борьбе, он ставит вопрос о «единстве
марксистской организации», способной объединить «субъектность
отдельных индивидов и субъектность коллектива» [189, 190]. Умэмото уже
признает необходимость того, чтобы человек «приносил всего себя в жертву
революционной организации, партийному авангарду пролетариата как
концентрированному выражению освобождения человека в настоящее
время» [189, 215].
Этот сдвиг в мировоззренческой эволюции Умэмото, обнаруживший его
симпатии к рабочему классу, его позитивное отношение к марксизму,
оказался, однако, непрочным. Уже во второй половине 50-х годов в условиях
обострения идеологической борьбы в Японии, усиления нападок на
марксизм, распространения ультралевых, троцкистских концепций,
извращенно представлявших критику культа личности в Советском Союзе,
Умэмото порвал свои связи с марксистской философской теорией. Его
теоретической платформой вскоре стало так называемое «учение о
человеке», в основе которого лежали крайний индивидуализм, культ
чувственности, возведение в абсолют аморализма, революционной
субъективности масс. Не устояв на позициях прогрессивного ученого,
пытающегося разобраться в марксизме, Умэмото оказался среди идеологов
левацкого оппортунизма и антикоммунизма [187].
Если буржуазные философы, принадлежавшие к «субъектному
материализму» и близким ему течениям, относились к марксизму с
интересом, пытались как-то разобраться в его теории, усвоить ее отдельные
положения, то многие другие представители буржуазных философских
кругов экзистенциалистского профиля занимали откровенно враждебную
позицию в отношении марксистского мировоззрения. Нападки на марксизм
характерны прежде всего для реакционных и консервативных буржуазных
философов, обосновывающих идеологию современного национализма с
помощью экзистенциализма, его идей и принципов. Однако эти же нападки с
позиций идеалистического мировоззрения, в частности экзистенциализма,
становятся все более присущи и идеологам оппортунизма и ревизионизма, от
типичных троцкистов и до так называемых «новых левых».
Движение «новых левых», получившее значительный размах в Японии со
второй половины 60-х годов, включает самые различные группировки: так
называемых «революционных марксистов», «противников ядерного
разоружения», «внесектантских радикалов» и др. Однако при всей
стихийности и политической разношерстности движение «новых левых»
имеет собственную идейную программу, представляющую собой смесь
разнообразных левацких, уснащенных в известной мере марксистской
терминологией установок и лозунгов. Для идейной программы «новых
левых» в целом характерны ярко выраженный иррационализм, отказ от
признания решающей роли объективных законов общественного развития,
отрицание возможности познания этих законов, переустройства общества на
основе использования достижений современной науки. Философским
фундаментом такого иррационализма служит экзистенциализм и
видоизменяемая на современный лад философия жизни. В попытках
теоретически обосновать свои анархистские программные установки
идеологи «новых левых» сочетают философские идеи Хайдегера, Ясперса и
Камю со взглядами Ницше и Фрейда. Их кумиром, как и на Западе, является
Г. Маркузе, а девизом—отрицание всех и вся [51, 15].
Что касается философских идей собственно экзистенциализма, то идеологи
движения «новых левых» используют прежде всего «отрицание
повседневности», «трансценденцию из повседневности» (Хайдеггер),
«решимость», «заброшенность» (Сартр), представление об усредненном
«человеке» (man), наконец, вульгаризованное понятие собственно
«экзистенции». Они берут на вооружение экзистенциалистскую критику
различных форм отчуждения труда, копируют, порой в очень утрированном
виде экзистенциалистский протест против «современной системы»
общественных отношений, стремятся довести до предела требование
«радикального отрицания существующего». Среди идеологов,
подкрепляющих программные установки «новых левых» философскими
идеями экзистенциализма, выделяются Такидзава Кацуми и Курода Канъити.
Такидзава Кацуми особенно близок к «внесектантским радикалам».
Симпатизируя программным установкам нигилистического протеста,
проявившегося в движении студентов Токийского университета в 1969—
1970 гг., он пытается в своих работах дать философское обоснование тактики
анархистского бунтарства студенчества. Извращая принципы диалектики,
спекулируя на абсолютизации момента тождества, перехода одной
диалектической противоположности в другую, Такидзава откровенно
оправдывает погромные, антиобщественные действия левацки настроенных
студентов, утверждая, что всякое «отрицание» есть «самоотрицание», что
«разрушение есть созидание», «смерть есть жизнь». Такую, с позволения
сказать, «диалектику» релятивизма или «логику нового бытия» Такидзава
выводит из экзистенциальной природы человека, из истинного способа его
существования. «В исходной точке формирования самого „Я" экзистенции,
—
пишет он, — самой реально существующей человеческой субъективности
нет никакой мысли человеческого субъекта, нет никакого действия, никакой
формы, специфически присущей „социально-историческому". Если эти
специфические виды действительности называть „бытием", то исходная
точка формирования субъекта, как таковая, называется... не иначе как
абсолютным небытием (поп!)» [175, 314]. И далее: «В основании, в исходной
точке этого формирования свобода „я" — субъективность человека есть
просто нуль. Она коренным образом последовательно „отрицается". Причем
именно момент ее исчезновения есть момент возникновения любви —
награды абсолютного небытия в действительно человеческой жизни» [175,
345].
Критикуя подобного рода рассуждения, японский философ-марксист
Ивасаки Тикацугу указывает на связь и определенную преемственность
взглядов Такидзава с философией Нисида Китаро. «Таким образом, —
резюмирует Ивасаки,— в поисках последовательного самоотрицания,
исходного момента разрушения и сознания, исходного момента, всегда
определяющегося идеями, Такидзава приходит к абсолютному небытию
нисидовской философии, к любви-награде абсолютного небытия. Однако при
рассмотрении исторического процесса, исходя из абсолютного небытия
Нисида, исторический процесс полагают как непрерывность прерывистости,
творя его не иначе как в самоопределении вечного настоящего, а сами законы
движения-развития самого процесса этой непрерывности отрицаются. Так
получается потому, что если истинная сущность процесса — абсолютное
небытие, всегда преодолевающее и разрушающее бытие, то внутренней
необходимости самого процесса и т. п . существовать не должно» [51, 69—
70].
Другой видный идеолог «новых левых», использующий идеи
экзистенциализма в целях обоснования анархистского бунтарства, Курода
Канъити — один из основателей в конце 50-х годов «лиги японских
троцкистов», а с конца 60-х годов активный деятель группы так называемого
«революционного марксизма». По своим философским взглядам Курода
довольно длительное время стоял на позициях «субъектного материализма»
и, в частности, разделял рассмотренную выше концепцию Умэмото Кацуми.
С конца 50-х годов, усугубляя ошибки последнего, он эволюционировал в
направлении еще большего субъективизма и волюнтаризма [84]. Пытаясь в
своих работах обосновывать левацкий протест против современного
буржуазного общества, Курода стал грубо извращать научные принципы
марксистского учения об обществе, отрицая объективную необходимость
законов общественного развития, подменяя последовательно
материалистический подход к изучению общественных явлений
идеалистической методологией их исследования, и прежде всего
экзистенциалистскими представлениями о «способах бытия» человека,
диалектикой «абсолютно противоречивого тождества» в духе Нисида [149,
134—265].
Помимо идеологов, связанных с «новыми левыми», идеи экзистенциального
протеста в той или иной интерпретации используются самыми
разнообразными левацкими течениями и анархистскими группами,
спекулирующими своей «прогрессивностью» и «ультрареволюционностью».
Характер и особенности распространения философии экзистенциализма в
Японии, проникновение ее идей в самые различные слои японского общества
трудно представить в полной мере без рассмотрения еще одного вопроса —
отношения экзистенциализма к национальной японской культуре.
Своеобразие отношения экзистенциализма к последней находит свое
проявление, как уже отмечалось, в относительно большей совместимости
философии существования с традиционной общественной и философской
мыслью Японии по сравнению с другими философскими направлениями
Запада.
Проблема такой относительной совместимости выступает фактически как
проблема взаимодействия философии экзистенциализма с традиционной
религиозной и философской буддийско-конфуцианской духовной культурой
в широком смысле слова, взаимодействия реального, живого,
существовавшего со времени проникновения западноевропейской
философской мысли в Японию и существующего в современный период.
Такое взаимодействие оказывается тем более неизбежным для философии
экзистенциализма, что она значительно больше, чем прагматизм, логический
позитивизм, аналитическая философия и др., включает этическую,
религиозную проблематику, больше касается тех сфер общественного
сознания, в пределах которых невозможно так или иначе не считаться с
особенностями национальной культуры, национальных традиций.
Это взаимодействие экзистенциализма с традиционной идеологией Японии
выступает прежде всего, как взаимодействие экзистенциализма с
буддизмом4. Оно усиливается в 60-х годах, когда, как отмечалось,
наблюдается оживление элементов национальной культуры, подъем
националистических настроений и т. п . Со стороны экзистенциализма это
взаимодействие складывается в силу наличия внутренних потребностей
развития самой этой философии в условиях ее углубляющегося кризиса.
Японские экзистенциалисты в своих попытках преодолеть коренные
противоречия экзистенциалистской мысли обращаются помимо всего
прочего и к традиционно «восточному» материалу, к буддийским догмам,
категориям, переосмысливая их с позиций философии существования. Этим
попыткам философов-экзистенциалистов отвечают по сути дела и
стремления идеологов современного буддизма, старающихся в своих
собственных целях как-то оживить буддизм, вывести его из состояния упадка
за счет использования современных экзистенциалистских идей. Однако эти
усилия модернизировать буддизм с помощью экзистенциализма оказываются
тщетными. Они приводят лишь к тому, что идеологи буддизма, как правило,
сами попадают под влияние философии экзистенциализма и начинают
говорить о буддизме на «экзистенциалистском языке».
Таким образом, в результате усилий как философов-экзистенциалистов, так и
идеологов буддизма происходит фактическая экзистенциализация
буддийской догматики, осмысление ее идейного арсенала с точки зрения
философии существования. Этот процесс приобретает в Японии самые
различные формы, причем объектом экзистенциализации становится
разнообразный идейный материал — от категорий, типичных для японского
буддизма, до категорий, характерных для индийских буддийских сект, и даже
до категорий конфуцианства. Дело при этом не ограничивается
экзистенциалистской интерпретацией буддийского трансцендентного
«небытия» в духе «пустоты». Экзистенциализацией охватываются и другие
буддийские догмы и учения, в частности учение о фатальности
существования. Используя буддийские категории, японские
экзистенциалисты пытаются даже как-то модифицировать и центральное
понятие философии существования — экзистенцию. Можно встретить
различные варианты выражения этого понятия. В своих попытках
модернизировать его экзистенциалисты прибегают, в частности, к
использованию правил словообразования японского языка. Наряду со словом
«дзиссон» (сокращенное от «гэндзицу сондзай» — «реальное, истинное
бытие») они вводят в употребление производные от него слова, образуемые
путем добавления к корню слова «сон» (сокращенное от «сондзай» —
«бытие») предикативного префикса того или иного значения. У Т. Соя,
например, своеобразным эквивалентом слова «дзиссон» («экзистенция»)
оказывается слово «гэнсон» (сокращенное от «генкётэки дзиссон»—
«иллюзорное бытие»). Этому слову придается значение иллюзорного бытия в
духе «Sankara maya». T. Китакава в качестве эквивалента слова «дзиссон»
употребляет слово «эйсон» (сокращенное от «кэиэйтэки дзиссон» —
«управляющее бытие»), которое получает значение, напоминающее
абсолютную трансценденцию у Чжуан Цзы. Т. Судзуки, исходя из
философии Нисида, предлагает термин «кёсон» (сокращенное от «эйкётэки
дзиссон» — «отдающееся эхом бытие»). Он интерпретирует это понятие как
означающее такое откликающееся эхом бытие, которое в основе своей
покоится в «трансцендентной пустоте».
Если объективно взаимодействие философии экзистенциализма с
традиционной общественной мыслью Японии реализуется главным образом
в форме экзистенциализации идейного материала буддизма, то субъективно,
с точки зрения самих мыслителей экзистенциалистов и буддистов, это
взаимодействие получает отражение в их концепциях об идейном родстве,
близости и даже тождестве экзистенциализма и буддизма. Эти концепции,
встречающиеся на страницах философских книг и журналов, формулируются
по-разному. В одних из них буддизм прямо объявляется экзистенциализмом
азиатского типа, а экзистенциализм — современным вариантом буддизма. В
других, не столь прямолинейных, обосновывается лишь глубокое идейное
родство, идейная близость непосредственно буддизма и экзистенциализма,
как таковых. Подобные концепции стали в буржуазной японской философии
настолько ходкими, что оказывают свое влияние даже на некоторых
философов, считающих себя материалистами5.
Приверженцы подобных концепций не выдвигают сколько-нибудь
фундаментальной системы аргументов в обоснование своих взглядов.
Сопоставляя главным образом доктрины экзистенциализма и буддизма, они
ссылаются, как правило, на то, что для этих доктрин является общим: идею о
раздвоении человеческого существования на истинное (экзистенция и
бессмертная душа) и неистинное (предметно-безличное бытие и телесная
плоть), представление о всеобъемлющем универсальном небытии, морально-
этическое отношение человека к окружающей его среде. Рассуждая на основе
таких сопоставлений об идейном родстве экзистенциализма и буддизма, их
принципиальном тождестве, приверженцы буддизма и экзистенциализма
пытаются тенденциозно (каждый в своих интересах) освещать как историю
общественной мысли, так и современное состояние идеологии.
Экзистенциалисты, в частности, выдвигают концепции об идейном родстве с
буддизмом для обоснования якобы вековых традиций философии
существования, уходящей своими корнями в седую древность. Проповедники
же буддизма, опираясь на те же концепции, стараются доказать, что буддизм
не испытывает упадка в настоящее время, что его «великие принципы»
обнаруживают себя в современном экзистенциализме и поэтому надо-де
давать последнему лишь верное буддийское истолкование.
Разумеется, концепции, рассматривающие буддизм и экзистенциализм как
глубоко родственные или даже тождественные идейные течения, научно
несостоятельны. Порочность концепций такого рода состоит прежде всего в
том, что те, кто их проповедует, подходят к рассмотрению экзистенциализма
и буддизма довольно упрощенно, принимая во внимание в первую очередь
их наиболее общие черты, абсолютизируя значение этих черт и исключая из
рассмотрения главное—социальную сущность и специфическое идейное
содержание. Такой подход является следствием ненаучности методологии
авторов подобных концепций, которые анализируют экзистенциализм и
буддизм в отрыве от конкретной социальной почвы, вызвавшей их к жизни и
способствовавшей их широкому распространению.
Однако, несмотря на научную несостоятельность указанных выше
концепций, порочность их методологии, они все же продолжают привлекать
внимание японской общественности, поскольку в самой действительности, в
общественном сознании японцев существует определенная реальная основа,
обусловливающая взаимодействие экзистенциализма и буддизма. Выявление
этой объективно существующей основы дает возможность понять характер
относительной совместимости идейных доктрин экзистенциализма и
буддизма, определить точки их взаимного соприкосновения и в то же время
позволяет увидеть, на чем спекулируют в своих концепциях буржуазные
идеологи, какие черты, общие для экзистенциализма и буддизма, они
абсолютизируют.
Чтобы выявить эту основу относительной совместимости экзистенциализма с
буддизмом, нужно учитывать, с одной стороны, тот факт, что
экзистенциализм сам по себе, по своему идейному содержанию имеет
глубокую общность с религией, с религиозным сознанием, как таковым,
вообще и с буддизмом как «мировой религией» в частности. Эта общность
явно обнаруживается в иррациональном, доходящем до мистики отношении
экзистенциализма к реальной действительности. Экзистенциализм, как и
религия, выражает протест против «бесчеловечности» социальной среды,
против отчуждения продуктов человеческого труда, против самоотчуждения
человека, как такового. Этот протест, эта реакция человеческой личности на
нечеловеческие условия ее существования в рамках буржуазного общества
получает соответствующую философскую форму выражения в
экзистенциализме на основе прежде всего не рационального, а
эмоционального отношения человека к окружающей его действительности и
потому формулируется в таких характерных для философии
экзистенциализма понятиях и представлениях, как забота, отчаяние, чувство
заброшенности в мире, страх смерти и т. д . Данное обстоятельство,
несомненно, сближает экзистенциализм с религией, выражающей протест
против страданий земного, суетного мира, юдоли человеческой скорби6.
Эта общность с религией, как таковой, независимо от того или иного ее вида
не случайно способствовала тому, что среди философов экзистенциализм
рассматривают как своего рода «атеистическую религию» или «теистический
атеизм».
С другой стороны, буддизм, как специфический вид религии, обладает
такими особенностями, которые делают его еще более приспособленным для
взаимодействия с экзистенциализмом. Его расплывчатая, пережившая века
догматика, допускающая как религиозную, так и философскую
интерпретацию, выражает обожествление человеческих отношений таким
образом, что не предполагает личного бога-творца, как, скажем, в
христианстве, не признает индивидуального бессмертия души, как в
христианском или мусульманском вероучениях, а утверждает вместо этого
более абстрактные представления о небытии, пустоте, нирване и т. п.,
поддающиеся самому различному толкованию. Такой характер идейной
сущности буддийского мировоззрения приводил и приводит в настоящее
время к возникновению и существованию в буддизме огромного множества
течений, направлений, сект, которые по-разному трактуют его догмы в
зависимости от тех или иных исторических условий. Все это делает буддизм
более подверженным модернизации вообще и модернизации на базе
философии экзистенциализма в частности.
Однако отмеченные выше общие черты экзистенциализма с религией, с
буддизмом в особенности, не дают основания говорить о глубоком идейном
родстве, а тем более тождестве непосредственно именно этих двух течений,
как таковых. Как известно, буддизм и экзистенциализм появились в разные
эпохи, имеющие колоссальное различие в образе жизни людей, в уровне их
материальной и духовной культуры, в характере общественного строя,
классовой структуры, политических институтов, идеологии. Велико различие
поэтому и между идейным содержанием буддизма и экзистенциализма.
Буддизм отражает развитие социальных отношений народов Востока в эпоху
древности и средневековья, представляет мировоззрение, в основе которого
лежат идеи спасения, освобождения человека от социального гнета на путях
отвлечения от мирских забот, экстатического самосозерцания и т. п.
Экзистенциализм же — это философия современного буржуазного общества,
отражающая реакцию мелкобуржуазного сознания на отчуждение
человеческих потенций, она ставит иные, нежели буддизм, проблемы бытия
личности, ее творчества в совершенно конкретных условиях глубокого
кризиса капиталистических отношений. Игнорирование всего этого, попытки
непосредственно связать буддизм и экзистенциализм, как нечто органически
родственное, вопреки логике исторического развития общественных
отношений, культуры, форм общественного сознания и т. п.—яркое
выражение типично антиисторического подхода буржуазных философов, не
желающих или неспособных считаться с необходимостью конкретного
анализа, с учетом обусловленности развития идеологии, философии и
религии изменениями в материальной общественной жизни на родов7.
Указывая, однако, на несостоятельность попыток буржуазных философов
рассматривать буддизм и экзистенциализм как тождественные или
непосредственно родственные течения, на антинаучный, антиисторический
характер подхода к характеристике данных идейных течений, нельзя в то же
время не отметить, что сами эти попытки буржуазных философов являются
достаточно красноречивыми. Они свидетельствуют, в частности, о том, что
представители современной буржуазной философии, экзистенциализма в
особенности, обращают свои взоры не только к крайнему иррационализму и
религиозному сознанию, как таковому, им чрезвычайно импонирует
идеология, сохраняющаяся в современном японском обществе с
незапамятных времен. Эта черта является также одним из очевидных
проявлений деградации, упадка современной буржуазной философской
мысли в Японии.
Философия прагматизма
Философия прагматизма, как и философия экзистенциализма, имела свои
традиции в довоенной буржуазной философской мысли Японии. Концепции
ведущих идеологов прагматизма — Пирса, Джемса, Дьюи — получили
распространение среди японских философов еще в конце XIX—начале XX в.
В первой четверти XX в. философия прагматизма в той или иной мере
привлекла к себе внимание таких видных японских философов-идеалистов,
как Нисида Китаро, Куваки Гэнъёку, Танака Одо, Танака Китироку и др.
Однако с конца 20-х годов XX в. под влиянием изменений, происходивших в
социально-политической и идеологической жизни Японии, прагматизм стал
быстро утрачивать свои позиции и скоро совсем перестал играть сколько-
нибудь заметную роль в философских кругах.
После окончания второй мировой войны, в условиях буржуазно-
демократических преобразований и действия ряда других факторов (см.
главу первую), философия прагматизма снова стала приобретать
популярность среди буржуазных японских философов и получила
значительное распространение в конкретном научном знании.
Прагматистские философские идеи проникают в различные сферы
естественных наук, в методологию научного познания, в исследования по
логике и психологии. Глубоко захватил прагматизм буржуазную
социологию. Его идеи и принципы становятся неотъемлемым элементом как
общесоциологических теорий, так и конкретно-социологических
исследований. С развитием количественных методов изучения
экономических явлений, с использованием математической статистики и
программирования прагматистская методология вместе с научным знанием
проникает и в буржуазные экономические теории. Прочные позиции
приобрел прагматизм также в японской педагогике и в сфере японского
просвещения в целом. Этому во многом способствовали посещавшие
Японию американские миссии по просвещению, стремившиеся
реформировать японскую школу по американскому образцу в духе системы
progressive education [34].
Главными очагами распространения философии прагматизма в
послевоенный период были возникшие в конце 40-х
—
начале 50-х годов ряд
обществ и организации вроде «Кагаку тэцугакукай» («Общество философии
науки»), «Гэндай сисо кэнкюкай» («Общество по изучению современной
общественной мысли»), «Сякай синригаку кэнкюсё» («Институт
общественной психологии»). В этих обществах объединялись наиболее
активные приверженцы прагматизма, пропагандировавшие его идеи в
научных кругах и среди философски мыслящей интеллигенции. Их усилиями
на страницах журналов, а также отдельными изданиями публиковались
переводы работ американских прагматистов, а также статьи, представлявшие
интерпретацию этих работ японскими философами. Большую роль в деле
популяризации идей прагматизма, особенно в первое послевоенное
десятилетие, играли средства массовой информации, находившиеся под
контролем американских оккупационных властей.
Если на первых порах адепты философии прагматизма в основном
воспроизводили совокупность идей и принципов, сформулированных
идеологами американского прагматизма, то в дальнейшем, по мере усвоения
прагматизма японскими мыслителями, наряду с интерпретацией
«классического» философского прагматизма все более заметно
обнаруживается тенденция к переосмыслению содержания прагматистской
идеологии, к видоизменению ее в соответствии с условиями японской
действительности. Наиболее яркое проявление эта тенденция нашла в
существовании во второй половине 40-х и в 50-х годах специфически
японского идейного течения — так называемого «японского прагматизма».
Возникновение и эволюция этого идейного течения позволяют проследить
социальную обусловленность распространения прагматизма в современной
Японии, дают возможность выявить характерные особенности
трансформации прагматистской идеологии в сознании послевоенной
японской интеллигенции.
Появление «японского прагматизма» как идейного течения отразило
сложные и противоречивые процессы в сознании мелкобуржуазных слоев,
либеральной интеллигенции, испытавших на себе влияние послевоенных
демократических преобразований. На формировании этого течения, с одной
стороны, сказалось действие таких факторов, как политика оккупационных
властей, пропаганда американского образа жизни, распространение
американской идеологии, а с другой — рост антиамериканского массового
движения японских трудящихся и усиливавшееся влияние идей марксизма-
ленинизма в послевоенной Японии. Непосредственно «японский
прагматизм» явился своего рода реакцией на американский прагматизм
определенной группы буржуазных социологов и публицистов, которые
критически восприняли изменение политического курса США,
препятствовавшего осуществлению подлинной демократизации, но не
освободились в полной мере от влияния привнесенной американцами
идеологии, включавшей прагматизм.
В роли идеологов «японского прагматизма» выступила группа
исследователей японской общественной мысли, в частности Куно Осаму,
Цуруми Сюнсукэ, Маруяма Масао, Рокуро Хидака, Уэяма Сюмпэй и
Симидзу Икутаро. Эта группа организационно оформилась, основав «Сисо
кэнкюсе» («Институт общественной мысли»), органом которого стал журнал
«Сисо-но кагаку» («Наука мысли»). Используя этот журнал и опираясь на
поддержку издательства «Иванами сётэн» и журнала «Сэкай» («Мир»),
представители этой группы начали широко публиковать свои работы.
Распространению их взглядов во многом способствовало то обстоятельство,
что идеологи «японского прагматизма» принимали активное участие в
развернувшемся в 50-х годах в Японии движении в защиту мира и пытались
теоретически обосновывать основные идеологические принципы этого
движения [171]. Деятельности приверженцев «японского прагматизма»
благоприятствовало также и то, что японские философы и социологи
марксисты не смогли в первое время сплоченно выступить с критикой
данного идейного течения ввиду имевшего место в этот период
определенного застоя в теоретической деятельности и ослабления борьбы с
буржуазной идеологией8. Тем не менее философы-марксисты развернули
борьбу с идеологами «японского прагматизма». Критика в адрес японских
прагматистов, содержавшаяся как в ранних выступлениях Ивасаки Тикацугу,
так и в позднейшем по времени исследовании Уэда Коитиро, безусловно
представляет интерес для понимания сущности «японского прагматизма»,
его социальной основы, особенности его идейно-теоретических принципов
[48; 192]. Опираясь на эти критические работы, а также используя некоторые
произведения самих японских прагматистов, мы попытаемся дать
характеристику этого не совсем обычного идейного течения.
Идейная программа японских прагматистов весьма непоследовательна. Это
легко обнаруживается при ознакомлении с их исходными теоретическими
установками. В программных декларациях, публиковавшихся от имени
редколлегии журнала «Сисо-но кагаку», утверждалось, что «до сих пор в
Японии наблюдалась тенденция, когда „общественная мысль" находилась во
власти небольшой кучки профессиональных мыслителей из академических
кругов», что эти «профессионалы-мыслители не увязывали жизнь с
„мыслью" и поэтому их деятельность не могла быть продуктивной».
Идеологи японского прагматизма заявляли далее, что в целях исправления
такого «ненормального» положения они будут пропагандировать «живую
мысль», тесно связанную с «повседневной жизнью», будут содействовать
свободному выражению самых различных взглядов, точек зрения, мнений и
т. п. В качестве важнейшей принципиальной установки они предлагали, в
частности, «в противовес немецкому идеализму и кальвинизму,
развивающему мысль от понятия к понятию, постигать мысль как стадию
действия, находить место тем или иным понятиям в процессе деятельности»
[цит. по: 192, VII, 14—15].
Более развернуто о задачах «японского прагматизма» его лидеры
высказывались в своих монографических исследованиях. Так, Цуруми
Сюнсукэ, видевший основную задачу этого течения в борьбе с академизмом
прежней философии, занимавшейся далекими от жизни абстрактными,
умозрительными спекуляциями, провозглашал в своих работах своеобразный
принцип «антифилософизма», предполагавший в сущности коренную
реформу философского мышления [204, 202]. С . Цуруми утверждал, что
проекты по преобразованию философии с позиций «антифилософизма» уже
выдвигались в прошлом и даже делались попытки их осуществить в рамках
американского прагматизма. Однако такие попытки окончились неудачно,
поскольку те, кто их осуществлял, недостаточно ясно представляли себе пути
их реализации и поэтому сами постепенно скатились к типичному
академизму, к умозрительным философским построениям. Чтобы избежать
повторения таких неудачных попыток, Цуруми призывал к
«последовательному» проведению принципа «антифилософизма» [204, 202].
Возможность реализации своих замыслов Цуруми и его единомышленники
видели прежде всего в том, чтобы разрабатывать «метод прагматизма» без
«философской системы прагматизма», которая, по их убеждению, не
отвечает запросам современного японского общества. Японские прагматисты
рассматривали философскую систему прагматизма как «идеологию
империализма», как «реакционную идеалистическую философию» и при
этом заявляли, что разделяют «конечные выводы» марксистов в отношении
оценки американского прагматизма как философского течения [цит. по: 192,
VII, II]. Ставя перед собой задачу размежевания «метода» и «системы» в
прагматизме и разработку только метода познания, японские прагматисты в
какой-то мере отдавали себе отчет в том, что между методом и теорией
существует органическая связь. «Следует особо подчеркнуть, — писали они,
—
что сделать прагматизм плодотворным с помощью такого метода трудно
ввиду его идеологической зависимости от современного американского
прагматизма» [цит. по: 192, VII, 12]. Поэтому решение вопроса о том, как
теоретически возможно создание метода познания без философской системы
взглядов, японские прагматисты старались оставить на будущее и призывали
сконцентрировать все усилия на конкретной разработке и применении
прагматистского метода.
Японские прагматисты не выдвинули серьезного обоснования того, каким
путем, с их точки зрения, конкретно должна осуществляться разработка
«метода» познания без «философской системы». Они полагались больше на
самый процесс творчества в этом направлении. И все же общие установки
плана своей работы они предлагали. Тот же Цуруми в книге «Введение в
прагматизм» считает обязательным выполнение ряда предварительных
условий, гарантирующих успех дела. В первую очередь он высказывает свою
точку зрения в отношении людей, на которых можно возложить миссию по
преобразованию философии. «Пока те, кто постоянно твердит на эту тему,
являются философами, — пишет Цуруми, — реформа философии будет
неосуществима. Философы, изучающие философию в учебном заведении,
затем двадцать—тридцать лет читающие лекции по истории философии в
университетах, сколько бы ни провозглашали „связь с действиями",
фактически не осуществляют эту связь, а занимаются тем, что отстаивают
точку зрения все той же единственной философии, в которую они сами
посвящены» [204, 203]. Поэтому, заключает Цуруми, «дело философии
следует взять из рук профессиональных философов и передать другим
людям. Именно те, кто до сих пор находился вне философии, станут
подлинными носителями философии» [204, 204]. Цуруми считает также, что
«желательно способствовать тому, чтобы изъять философские проблемы из
сферы прежней философии и распределить их по разным областям научного
знания и практической деятельности. Необходимо, — подчеркивает он, —
чтобы осмысление философских проблем осуществлялось в течение
определенного периода времени в других науках, в других профессиях, в
другой обстановке» [204, 204].
Развивая далее свои соображения, Цуруми заявляет о том, что философский
метод познания следует разрабатывать в рамках, как он выражается,
«псевдонауки». «Многие прогрессивные мыслители современной Японии, —
пишет он, — приходят к совершенно „научным" заключениям, но из-за
недостаточной методологии познания не могут ликвидировать разрыв между
сферой науки и сферой практики. Для устранения этого разрыва нет иного
пути, как утверждение промежуточной сферы—псевдонауки» [204, 205].
Существование и развитие последней диктуется, по мнению Цуруми,
потребностями самой жизни. «Нужно уважать точные методы специальных
наук, — пишет он, — но одновременно можно уважать и дилетантский образ
мышления. Мир, видимо, велик, а история человеческого мышления еще
короткая, поэтому в мире есть множество истин и ценностей, которые могут
быть вновь открыты, если обладающие здравым смыслом и честностью
простые люди будут непосредственно размышлять о мире, не касаясь
специальных наук... Несмотря на то что часть ученых обладает страшно
сложными и точными научными знаниями, человечество, включая и этих
ученых, и теперь еще испытывает ярмо эксплуатации, подвергается
опасности войны и даже оказывается лишенным свободы слова... Такое
ужасное положение происходит от того, что воспитание осуществлялось в
рамках цивилизации разрозненно, лишь в пределах двух сфер — науки и
практики, и не получала сильного развития связывающая обе эти сферы
промежуточная сфера, так сказать, псевдонауки» [204, 206].
В стремлении вывести развитие философской мысли из профессиональной
сферы, связать ее с практическими нуждами, Цуруми предлагает идти еще
дальше, настаивая на необходимости максимального приближения
философии к непосредственным фактам действительности, к повседневной
жизни людей, как таковой. «Умение сочетать уголки повседневной жизни с
философией, — пишет он, — это значит связывать основные вопросы об
истине, добре и красоте с такими мелкими практическими делами человека,
как чтение книги, слушание разговора, голосование, принятие пищи, ведение
дневника... Философия в таком смысле явится даже удобным методом
существенного повышения интереса к жизни» [204, 2 II]. В связи с таким
«погружением» философии в конкретную повседневную жизнь, с
рассредоточением ее «по самым различным уголкам» Цуруми рекомендует
изменить и самый язык философии, ее понятийный арсенал:
«Основа новой философской терминологии должна включать в себя слова из
искусства, повседневной жизни, изъятые из прежнего употребления и
используемые в более широком смысле, термины из различных наук, а также
термины этих наук, лишенные их прежней строго познавательной функции и
наделенные эмоциональным содержанием» [204, 212]. В конечном счете, по
убеждению Цуруми и его единомышленников, «ключом к перестройке
философии должны стать широкие поиски среди ипразличных идейных
течений» [204, 212]. В этой связи они призывают не ограничиваться
идеологией классического прагматизма, а изучать иные направления
философской и прочей мысли, но тут же делают весьма характерное
предостережение, замечая, что «марксистское движение представляет собой
идеологию, не подходящую для правильного формирования
антифилософизма» [204, 213].
Как ясно видно из приведенных выше установок «японского прагматизма»,
идеологи этого течения ставят — который уж раз в японской буржуазной
философии! — кардинальную проблему связи философии с реальной
действительностью и выдвигают обусловленную этой проблемой задачу
преодоления академизма в философии, преодоления отрыва философской
теории от исторического развития общественных отношений в Японии.
Однако не менее очевидно из тех же самых установок явствует и полная
неспособность их авторов подойти к научному решению этой проблемы.
Последнее подменяется общими рассуждениями насчет развития
псевдонауки, доведения философии до повседневной жизни, изменения
философских понятий и т. п . Все эти пороки идейных установок японских
прагматистов не могли не сказаться и на конечных результатах их
теоретических изысканий. В их писаниях не только не обнаруживаются
какие-то конструктивные рациональные элементы, согласующиеся с
изначальными установками, но, напротив, выявляется отсутствие единства во
взглядах и какой-либо общности в выдвигаемой проблематике.
Уэда Коитиро, написавший обстоятельную работу о японских прагматистах
и обобщивший итоги их реального творчества, выделил три характерные, с
его точки зрения, черты этого идейного течения. Первая черта— отмеченное
выше стремление разделять прагматизм на «прагматизм как идеологию или
философию» и «прагматизм как метод» и стараться сознательно усваивать
его в последнем качестве. Вторая черта — «влияние» марксизма на японских
прагматистов, их стремление «оценивать марксизм скорее положительно» -
Третья черта — «особого рода эклектизм», основывающийся на
«свободном», «творческом» истолковании самых различных позиций. «Такой
эклектизм и плюрализм, — отмечает Уэда, — выражается преимущественно
в виде эклектики прагматизма и марксизма. И можно сказать, что именно
этот эклектизм является самой характерной особенностью японского
прагматизма и в то же время составляет его самое большое „очарование"»
[192, VII, 15—17].
Такая характеристика «японского прагматизма», несомненно, дает
представление о тенденциях развития этого течения. Принимая ее во
внимание, следует вместе с тем подчеркнуть, что выявление специфических
особенностей идеологической платформы японских прагматистов не
ограничивается рассмотрением их претензий на разработку «метода познания
без философской системы», как и их утверждений о «позитивном» якобы
отношении к марксизму, поскольку аналогичные претензии и заявления были
свойственны целому ряду идеалистических направлений буржуазной
философии. Кроме того, в этой связи следует отметить, что, говоря об
«эклектике прагматизма и марксизма» как особенности метода японских
прагматистов, надо в то же время иметь в виду, что такая «эклектика»
фактически означает использование некоторых теоретических положений,
произвольно взятых из марксистского учения и истолкованных со своей
точки зрения.
Приводимый ниже анализ теоретических позиций японских прагматистов,
сделанный Уэда, фактически подтверждает указанные выше соображения.
Уэда предпринимает попытку разъяснить, в чем конкретно заключается
существо прагматистского эклектического метода, и обращает, в частности,
внимание на призывы приверженцев «японского прагматизма» развивать
«свободное», «творческое» рассмотрение «всяких взглядов», образно
уподобляемое «чайной церемонии». Уэда приводит характерное
высказывание по этому поводу С. Цуруми. «Метод прагматизма — это метод
разъяснения смысла. И „чайная церемония", осуществляемая прагматизмом,
представляет собой своеобразный эклектический метод, когда в процессе
достижения ясного понимания смысла различных идейных направлений
выявляют достоинства и недостатки этих идейных направлений и
определяют связи между ними. Если прагматизм оформится как
оригинальная система идей, то оригинальность его как такой системы
вырастает не иначе как из оригинальности такого эклектического метода»
[192, VI, 17].
В качестве образца эклектики японских прагматистов Уэда указывает на
взгляды Уэяма Сюмпэй и Итии Сабуро, которые «от эклектики в логике»
доходят «до эклектики в исторической закономерности». Уэда
останавливается на изложении логической концепции Уэяма, поскольку у
него эклектика выражается в наиболее «последовательной» и «ясной» форме.
Уэда раскрывает попытку Уэяма «объединить» логические учения от
Аристотеля до К. Маркса и В. И. Ленина и создать в результате такого
«объединения» самую совершенную «синтетическую» диалектическую
логику. Основой такого эклектического единства, по мнению Уэяма, должны
служить логика марксизма и логика прагматизма (Ч. Пирс, Д. Дьюи).
Подвергая критике позицию Уэяма, Уэда указывает, в частности, на
следующие моменты: «Во-первых, он (Сюмпэй Уэяма. — Ю . К .), определяя
диалектику как „науку о законах мышления", выбросил ядро марксистской
гносеологии — отражательную зависимость между объективной диалектикой
и субъективной диалектикой... Во-вторых, когда от диалектики как законов
развития мира и познания отрывают диалектику как „науку о законах
мышления", в логику и теорию познания легко открываются двери для
дуализма и идеализма... В -третьих, диалектика, ставящая во главу угла
„учение о единстве противоположностей" (В. И. Ленин), утверждающая, что
во всех явлениях и процессах имеются взаимно исключающие,
противоположные тенденции, признающая абсолютный характер борьбы
противоположностей и условный характер единства противоположностей,
подменяется плоской абстрактной прагматистской логикой „гипотез и
тестов"» [192, VI, 20—21].
В критических замечаниях Уэда по поводу идеалистической методологии
Уэяма и Итии, понимания ими гипотез, их обоснования и проверки,
правильно характеризуется антинаучное существо эклектических построений
этих философов. В то же время в целях выявления специфических
особенностей эклектических взглядов Уэяма и Итии необходимо добавить,
что фактически в эклектических комбинациях этих представителей
«японского прагматизма» наблюдается очевидное переплетение
прагматистских принципов с неопозитивистскими, причем у Итии последние
заметно преобладают. Именно это обстоятельство и дает основание
рассматривать концепцию «единой логики», особенно в ее эволюции у Итии,
прежде всего, как выражение неопозитивистского направления в
современной буржуазной философии Японии (подробнее взгляды Уэяма и
Итии рассматриваются в следующем разделе данной главы).
Если Уэяма и Итии, подвизаясь в области разработки метода познания,
комбинировали прагматизм и позитивизм и склонялись в большей мере к
последнему, то группа так называемых приверженцев «демократии реальной
жизни», в которую входили Цуруми Сюнсукэ, Оно Тикара, Нагаи и др.9,
тяготела скорее к прагматизму классического американского образца. И хотя
представители этой группы словесно отказывались от признания
философских принципов американского прагматизма, фактически в
конечном счете они не смогли освободиться от его влияния. Об этом
свидетельствуют их взгляды на различные явления общественной жизни, и в
том числе на природу мышления человека. Приверженцы «демократии
реальной жизни» проповедовали прежде всего извращенное представление о
природе человеческого мышления, склоняясь к прагматистской формуле —
«размышление есть часть действия». Не признавая открыто биологический
подход американского прагматизма в понимании природы мышления,
трактовку последнего как инструмента для приспособления к окружающей
среде, они тем не менее провозглашали положения, ведущие к стиранию
грани между практическим действием и мышлением, к растворению мысли в
действии. Пытаясь на этой основе реализовать свои установочные идеи о
связи теории с практикой, представители данной группы выдвинули, в
частности, требование отказаться от ориентации в первую очередь на так
называемые «большие ситуации», выражающие общие закономерности
социального развития, и обратить внимание на само конкретное содержание
жизни, т. е . на «малые ситуации», которые позволяют будто бы правильно
понять объективную картину реальной действительности. По утверждению
японских прагматистов, именно познание «малых ситуаций» формирует так
называемые «малые предпосылки», которые, в свою очередь, должны
увязываться с «большими предпосылками», т. е . с представлениями о
наиболее общих принципах и закономерностях. Призывая «закалить
материализм» изучением «малых ситуаций», «малых предпосылок»,
представители «демократии реальной жизни» направляли свои критические
высказывания в адрес японских марксистов, которые якобы
непоследовательно выступают за единство теории и практики. В вину
марксистам ставилась их приверженность «системе идей», «принципам» или
все тем же «большим предпосылкам», из которых будто бы «путем чистой
дедукции» выводятся суждения о конкретной жизни. Критикуя ими же
надуманную интерпретацию марксистской теории познания, эти
представители японского прагматизма заявляли, что «с помощью одной
дедукции невозможно получить все правильные выводы», что, «даже когда
правильная система взглядов дается в качестве больших предпосылок, из
этих последних нельзя непосредственно вывести надлежащих суждений о
конкретных ситуациях, разворачивающихся перед глазами», что «помимо
больших предпосылок необходимы еще малые предпосылки (правильные
суждения о происходящих прямо на глазах непосредственных ситуациях)» и
т. п. [83, 34].
Из указанных выше критических высказываний японских прагматистов в
адрес марксистов видно, что представители этого идейного течения
совершенно не понимают глубоко научного существа марксистского учения,
жизненности и силы его принципов и идей и поэтому представляют себе
важнейшие положения марксизма в виде каких-то абстрактных «больших
предпосылок», стараются их «подкрепить» или «дополнить» «малыми
предпосылками». Как можно расценивать это «дополнение», эти «малые
предпосылки»? Ведь всякий, кто действительно знаком с марксистским
учением, знает, что марксистский, подлинно научный подход к изучению
объективной действительности необходимо предполагает диалектическое
единство общих принципов, закономерностей и особенного, единичного как
проявления этих общих закономерностей в конкретной жизни. Для
прагматистов же, не владеющих подлинно диалектическим методом
познания, общие принципы только общи, только абстрактны, а конкретная
действительность понимается в отрыве от них. Отсюда и все неясные
рассуждения прагматистов о необходимости связать общие принципы с
конкретной действительностью посредством каких-то «малых предпосылок».
К. Уэда в своем исследовании довольно убедительно показывает, что в
высказываниях японских прагматистов о «малых ситуациях» и «больших
ситуациях», о «малых предпосылках» и их связи с «большими
предпосылками» проявляется очевидное стремление игнорировать или
недооценивать закономерности, устанавливаемые наукой, принижать
научную теорию в полном смысле этого слова. Уэда приводит ряд примеров
оценки действительности с позиций прагматистских «малых ситуаций», а
затем подвергает их критике. «Во-первых, — пишет он, — понимание связи
„больших ситуаций" и „малых ситуаций" крайне схематично и односторонне.
Само представление о „ситуации" чревато отрицанием закономерностей
исторического развития событий. При этом даже в основе своей происходит
отрыв друг от друга „единичной ситуации — особенной ситуации — общей
ситуации", которые в марксистской философии нужно понимать в
соответствии с трехступенчатыми категориями „единичного — особенного
—
общего", и совершается абсолютизация понятий единичного и
особенного» [192, VI, 30]. Уэда отмечает, что такая односторонняя
абсолютизация «малых ситуаций» сторонниками «демократии реальной
жизни» не преодолевает ограниченности американского прагматизма и
представляет собой в сущности разновидность идеалистической концепции.
«Во-вторых, — продолжает Уэда, — изменения „больших ситуаций",
возникающие в результате того, что „малые ситуации" отрываются от
„больших" и таким образом фактически отождествляются с последними, есть
не что иное, как изменения „малых ситуаций", а изменения „ малых
ситуаций" есть „постепенные изменения", т. е . классический реформизм»
[192, VI, 30].
Абсолютизация «малых ситуаций», подмена объективного рассмотрения
объективных закономерностей развития субъективистским плюрализмом
приводит сторонников «демократии реальной жизни» к консервативным ч
открыто реакционным воззрениям. Эту вторую особенность «демократии
реальной жизни» Уэда проследил на работах, опубликованных в журнале
«Сисо-но кагаку». Примером могут служить взгляды Оно Тикара. Уэда
показывает, как этот прагматист вначале пишет об опыте отдельной
личности, а затем об индустриальном обществе, в основе которого
оказываются интересы «рядовых» капиталистов, а в конечном счете и
монополий.
Как явствует из приводимого Уэда Материала, Оно оправдывает
эксплуататорскую систему производства, закрывает глаза на классовые
противоречия и объективно выступает на стороне существующего
общественного строя. Аналогичную позицию занимает Уэдзака Сюндай,
который рассуждает о «мелких ситуациях» с позиций плюрализма и
«нейтралистского» техницизма. Однако в наиболее резкой форме данная
особенность «демократии реальной жизни» проявляется у Цуруми Сюнсукэ.
В его работах, указывает Уэда, за демократию выдается анархистская
деятельность отдельных личностей, а организация как средство объединения
масс отвергается и третируется как нечто бюрократическое. Уэда приводит
далее высказывания Цуруми, в которых тот, доходя до откровенной
апологетики буржуазного общества, заявляет, например, что «система
ответственного капитализма более желательна, чем система
безответственного социализма» [192, VII, 59]. Становится очевидно, таким
образом, что сторонники «демократии реальной жизни», развивая свои
принципы в области политики, приходят фактически к отказу от
сформулированных ими же исходных положений о прагматизме как методе
без теории, о прагматизме, исключающем идеологию империализма, и т. п.
К «японскому прагматизму» в известной мере относят далее группу
приверженцев идеологии «гражданственности» или «гражданской
демократии», которую составляли такие видные социологи, как Хидака
Рокуро, Куно Осаму, Маруяма Масао, а также Такэути ЁСИМИ, Фукуда
Сёдзо и др. Взгляды этой группы в отличие от их последующей
трансформации у сторонников теории массового общества, у радикалов из
«новых левых» и др. некоторые исследователи японской общественной
мысли называют «классической» или «ранней гражданственностью» [149,
215]. Уэда Коитиро рассматривает идеологию «гражданственности» как одно
из направлений в русле «японского прагматизма» [192, VIII, 23]. Однако
Накабада Хидэо, Кавамура Нодзому и Сибата Синго, написавшие
специальные исследования по идеологии «гражданственности», считают ее
скорее самостоятельным течением, выходящим за рамки «японского
прагматизма» [149, 214—216]. Точка зрения последних, видимо, достаточно
основательна, поскольку и сами взгляды ведущих идеологов данной группы
мыслителей и их дальнейшая эволюция лишь частично или только «в самом
широком смысле» связаны с прагматизмом [149, 242].
По своим идейно-политическим взглядам приверженцы идеологии
«гражданственности» или «гражданской демократии» не занимали столь
консервативных, а порой и реакционных позиций, как приверженцы
«демократии реальной жизни». Более того, «гражданские демократы»
зарекомендовали себя как идеологи, активно выступавшие за развертывание
движения в защиту мира, против заключения «договора безопасности» с
США. Они выдвигали программу демократизации японского общества на
основе так называемой «гражданственности», формирования «гражданских
масс». С точки зрения идеологов «гражданственности» или «гражданской
демократии», составляющие основу современного японского общества
«граждане» или «гражданские массы» должны рассматриваться не как
объединения лиц, связанных классовыми интересами, не как группы,
сплоченные политическими целями, а как фактически неорганизованные,
аморфные коллективы, имеющие лишь общность профессии. Куно Осаму,
Хидака Рокуро и др. рассматривали «граждан» как свободные равноправные
личности, наделенные «естественными правами», т. е . в духе того, как
рассматривали граждан Руссо и некоторые другие буржуазные мыслители
накануне Французской буржуазной революции XVIII в. Они подчеркивали,
что такие «граждане», независимые от государственной власти и не
принадлежащие к какой-либо партии, представляют собой подходящую
социальную базу для создания в Японии единого общенародного фронта
[82].
Японские марксисты (К. Уэда, С. Сибата, Н. Кавамура) подвергли критике
подобное представление о современной демократии в Японии. Они
указывали, в частности, на отсутствие у приверженцев «гражданственности»
научного понимания классовой структуры современного японского
общества. Они отмечали также, что попытки рассматривать последнее через
призму демократических взглядов буржуазных мыслителей конца XVIII в.
являются по сути дела утопическими. В то же время японские марксисты
указывали на общие черты, сближающие взгляды приверженцев
«гражданской демократии» со взглядами приверженцев «демократии
реальной жизни»: отказ от критики эксплуататорской сущности
современного японского капитализма, непонимание значения классового,
политического сплочения масс в борьбе за преобразование общества,
реформистская позиция в отношении перспектив социальных изменений.
Общим для приверженцев «гражданской демократии» и «демократии
реальной жизни» японские марксисты считали также прагматистскую
методологию, подменяющую рассмотрение всеобщих материальных
закономерностей развития общества ненаучным эмпирическим подходом,
ориентирующимся на существование «отдельных индивидов», на признание
«гармонии» их интересов, на всевозможные мелкие «практические
ситуации» и т. п. [192, VIII].
Резюмируя позиции представителей указанных выше групп «японского
прагматизма», можно сказать, что это идейное течение в отличие от
американского прагматизма, выражавшего мировоззрение господствующего
класса буржуазии в целом, отражало главным образом настроение
мелкобуржуазных слоев, участвующих в массовых движениях в защиту
мира, против гнета монополистического капитала, и только частично
смыкалось с реакционной буржуазной идеологией. Вместе с тем анализ
взглядов японских прагматистов показывает их большую неоднородность. Т.
Ивасаки и К. Уэда, введшие в употребление выражение «японский
прагматизм», «прагматизм японского типа», не уточнили должным образом,
насколько данное течение можно рассматривать как философское по
сравнению с классическим американским прагматизмом [48; 192]. На
основании же знакомства с работами японских прагматистов можно
констатировать в этой связи наличие в их взглядах весьма различных
тенденций, включающих как собственно философское, мировоззренческое
содержание, так и социологическую, политическую и прочую проблематику.
«Японский прагматизм» эклектически сочетал различные философские
принципы. И все-таки, очевидно, влияние американского прагматизма, его
философской методологии нельзя недооценивать как фактор, обусловивший
появление «японского прагматизма» как течения, приверженцы которого
провозглашали и пытались разрабатывать «новый метод» познания
действительности. Это влияние американского прагматизма на японских
мыслителей сказывалось, хотя и не всегда явно, и в процессе их конкретного
творчества. Оно так или иначе проявлялось в понимании ими общественного
бытия с позиций традиционного для прагматизма плюрализма ситуаций, в
истолковании практики как сугубо утилитарной деятельности, в проповеди
эклектической методологии познания социальных явлений, а в сфере
политической мысли — в реформизме в духе типичной буржуазной
демократии. Наряду с классическим американским прагматизмом японские
прагматисты испытали сильное влияние неопозитивизма, с одной стороны, и
марксизма — с другой. Они не могли последовательно ориентироваться на ту
или иную идеологическую доктрину, что усугубляло внутреннюю
противоречивость их взглядов и привело к распаду этого идейного течения в
начале 60-х годов.
Под влиянием идеологических запросов японского общества, связанных с
быстрым и неравномерным развитием промышленного производства и
углубляющимся кризисом социальных отношений, с конца 50-х — начала 60-
х годов происходят заметные изменения в общественной мысли Японии, в
том числе в философии, где все более заметен был спад влияния
теоретического концептуального прагматизма. Правда, в 60-х годах в среде
японских буржуазных философов еще имели место выступления в
поддержку «классического» прагматизма, раздавались призывы
разрабатывать научную методологию с позиций философских установок Д.
Дьюи (например, Симидзу Икутаро), некоторые философы
пропагандировали какие-то отдельные идеи, положения прагматистского
учения (Ивасаки Такэо и др.) [154; 46]. Однако подобные выступления не
отражали действительного отношения к прагматизму в философских кругах
Японии. Было очевидным, что философская система «классического»
американского прагматизма, ее различные интерпретации не выдерживают
испытания временем, уступая свое место более жизнеспособным течениям и
концепциям буржуазной философии.
Спад влияния концептуального прагматизма как философской системы не
означал столь же значительного падения влияния прагматистских идей в
различных сферах буржуазного сознания. Прагматистская методология,
прагматистские принципы мышления, утратив целостный «системный вид»,
продолжают проникать в конкретное научное знание, привлекая внимание
ученых, не вооруженных последовательно научной теорией. В такой
«оконкреченной» форме прагматистские идеи выступают в контексте
научного знания, что придает им большую наукообразность и вместе с тем
делает их менее уязвимыми для критики. Не случайно поэтому критикующие
прагматизм японские философы иногда называют его «невидимым врагом»
[197].
Сохранение определенного влияния прагматистской методологии,
прагматистских идей в Японии обусловливается усилившейся тенденцией
буржуазной философии к взаимослиянию различных идеалистических
направлений и заимствованию одними идеалистическими течениями
идейного багажа других течений. Эта тенденция, вызываемая глубоким
кризисом буржуазной философии, задачами противодействия крепнущему
влиянию марксизма-ленинизма, обнаруживается, в частности, в
заимствовании прагматистских идей неопозитивизмом и экзистенциализмом.
Известные установки прагматизма на разработку «строго научного» метода
познания, исключающего идеологические «мировоззренческие
предпосылки», ориентация на конвенциализм, инструментализм и тому
подобные субъективистские принципы, отрицающие материалистическую
теорию отражения, всегда составляли методологическую основу для
сближения прагматизма с неопозитивизмом. По мере же происходившей в
50— 60-х годах эволюции прагматизма, усиления в нем тенденций к анализу
логики мыслительного процесса эта основа становилась еще более широкой.
Подобно распространившимся в США позитивистскому логическому
прагматизму (Гудман, Куайн), так называемому «научному эмпиризму»
(Чарльз, Морис), этическому натурализму (Луис, Лупле), в Японии также
наблюдается появление различных вариантов неопрагматистских концепций,
предполагающих сочетание прагматистских ч неопозитивистских идей, и
вместе с тем становится все более заметным использование прагматистской
гносеологии логическим позитивизмом и аналитической философией в
теории методологии научного знания. Другими словами, в буржуазных
философских кругах Японии, как и в буржуазной философии стран Запада,
происходит «перекрестное опыление» этих двух философских течений
(подробнее эти проблемы рассматриваются в следующем разделе) [69, 158].
Что касается взаимодействия прагматистских идей с экзистенциализмом, то
идейную основу этого взаимодействия составляла глубоко
иррационалистическая сущность философии прагматизма, скрываемая за
внешней фразеологией о его «научности» и «логичности». Это привело, в
частности, к появлению эклектических комбинаций прагматистских и
экзистенциалистских идей. Такого рода эклектическое комбинирование
замечается как в чисто философских концептуальных построениях
буржуазных мыслителей (например, у Канэко Такэдзо), так и в
социологических теориях, таких, как теория массового общества, теория
индустриального общества, теория нового среднего класса, так называемая
«поведенческая наука» и т. п. Одной из важнейших категорий, составляющих
идеологический стержень этих техницистских теорий, является, как известно,
конформистское «приспособление», восходящее в конечном счете к
прагматистски истолковываемому приспособлению к «среде» человека как
биологического существа.
Достаточно ярким примером эклектического сочетания прагматистских идей
с экзистенциализмом, примером, выражающим в то же время отмеченную
выше тенденцию «оконкречивания» прагматистских идей в современной
общественной мысли Японии, могут служить, в частности, концепции
японских буржуазных идеологов о происходящем якобы формировании
«новой личности», «нового человека» современного японского общества.
Одна из таких концепций, известная под названием «Образ человека, на
которого возлагают надежды», была сформулирована в 1965 г. Косака
Масааки.
Отправными моментами «Образа человека» являются положения об
«утверждении индивидуального „я "», о «достоинстве личности»,
постулируемые в духе прагматистских принципов. Весьма созвучны
прагматизму в этом документе и высказывания о «демократии»,
исключающие конкретно-исторический классовый подход при рассмотрении
общественных явлений. Противоречия же современного буржуазного
общества, его пороки, кризис культуры, моральная деградация объясняются
«небывалым развитием индустриальной техники» и «естественно-научного
мышления». Преодоление этих противоречий усматривается не на путях
борьбы трудящихся против эксплуататорского строя, замены его новыми
общественными отношениями, а исключительно в «трансцендентальном
освобождении» с помощью иррациональных «эмоций и воли», присущих
«независимому духу», или же в сфере религиозного чувства. В подобном
теоретизировании по поводу развития современного общества,
иррациональном отрицании человеческого разума и научного мышления
явно просматриваются идеи экзистенциалистской философии [77].
Анализируя положения «Образа человека», японский социолог Сабуро Екота
отмечает, что при всех различиях прагматизма и экзистенциализма, их
взаимных критических выпадах, глубокое идейное родство этих течений
позволяет им взаимосочетаться и дополнять друг друга [41, 104—105].
Сабуро Екота утверждает, что в конце 40-х
—
начале 50-х годов
марксистская критика в Японии недооценивала влияния идей
экзистенциализма, в частности, в сфере просвещения, а теперь, когда оно
стало преобладать в этой сфере, наблюдаются случаи недооценки влияния
прагматизма [41, 105]. Предупреждая против той или другой крайности,
Сабуро Екота пишет: «Когда критикуется преимущественно прагматизм,
следует одновременно принимать во внимание экзистенциализм, и, напротив,
когда критикуется преимущественно экзистенциализм, следует
одновременно принимать во внимание прагматизм. Необходимость такого
метода особенно остро ощущается в связи с настоящим „Образом человека,
на которого возлагают надежды (предварительный проект)"» [41, 104].
В свете общей оценки влияния прагматизма на современную японскую
общественную мысль необходимо отметить, что принципы прагматистской
философии не только составляют неотъемлемую часть буржуазной
идеологии в Японии, но и пронизывают методы пропаганды буржуазного
мировоззрения, способствуют формированию и поддержанию так
называемого «общественного мнения» с помощью основных средств
массового общения. Рассматриваемая, в частности, в первой главе практика
буржуазной пропаганды в Японии, доведения массовой информации до
рядового потребителя обусловлена определенным мировоззренческим
подходом, включающим наряду с другими идеологическими установками и
установки философского прагматизма присущие ему плюралистические и
релятивистские принципы. Несомненно, что именно эти прагм атистские
принципы используются для поддержания пресловутого мифа об
«объективности» и «нейтрализме» буржуазной печати, радио, кино,
телевидения. Таким образом прагматизм, его философские идеи
в частности, еще сохраняют значительное влияние в различных сферах
духовной жизни, идеологии японского общества. Не случайно поэтому
критика прагматизма и по сей день рассматривается японскими философами-
марксистами в качестве одной из задач в деле борьбы с буржуазным
мировоззрением в современной Японии [43, 602—603].
Философия неопозитивизма
После второй мировой войны философия неопозитивизма не сразу получила
широкое распространение в Японии. У нее, правда, были свои традиции и
даже существовала определенная преемственность во взглядах философов
довоенного, военного и послевоенного времени. Однако в первое
послевоенное десятилетие социальные условия недостаточно
благоприятствовали распространению неопозитивистских концепций. Лишь
с середины 50-х годов по мере возрастания темпов экономического развития
Японии у буржуазных философов значительно повышается интерес к
неопозитивизму. Японские адепты неопозитивизма не только знакомятся, с
новейшими тенденциями развития этого философского направления, но и
сами все более активно пытаются разрабатывать его проблематику. Отражая
с позиций буржуазного сознания возрастающую роль науки, значение
новейших методов и средств научного познания, японские приверженцы
неопозитивизма отстаивают курс на «чистую науку», свободную от
идеологических, мировоззренческих проблем, провозглашают «нейтрализм»
научного знания, якобы разрешающего социальные противоречия путем
преобразования понятий и языка, и тем самым выступают за отказ от
переустройства общественных отношений, за примирение с существующей
действительностью. Таким образом, японские неопозитивисты независимо от
тех или иных субъективных мотивов объективно выражают в конечном счете
интересы класса буржуазии и представляют, так же как их
единомышленники в Западной Европе и США, «идеологию буржуазного
консерватизма» [68, 37].
Конкретная история послевоенного неопозитивизма в Японии начинается по
существу сразу после капитуляции страны с основания уже упоминавшегося
ранее общества «Наука мысли», которое наряду с распространением
прагматизма—главного направления своей деятельности — осуществляло
также в известной степени и пропаганду неопозитивистских идей.
Группировавшиеся вокруг этого общества философы и ученые проявляли
интерес к различным течениям современного неопозитивизма 10. Они
переводили на японский язык и популяризировали исследования наиболее
видных представителей американского и западноевропейского логического
позитивизма, аналитической и семантической философии. В 1949 г., сначала
в качестве филиала общества «Наука мысли», образуется общество «Кагаку
ронригакукай» («Логика науки»), которое постепенно объединяет ученых,
интересующихся неопозитивизмом и прежде всего аналитической
философией. Члены этого общества выступают непосредственно как
активные популяризаторы и интерпретаторы неопозитивистских концепций.
Так, в частности, Оэ Сэйдзи, еще до войны ознакомивший японскую
общественность с работами Лангра и Тарского, в 1953 г. опубликовал
«Общую теорию познания». Итии Сабуро, находившийся под влиянием
взглядов Уайтхеда, а затем Поппера, в 1956 г. написал книгу «Философия
Уайтхеда». Исимото Син, эволюционировавший от логического позитивизма
к аналитической философии, организовал целую группу приверженцев
философии анализа. В составе этой группы находились Ханада Кэйсукэ,
пропагандировавший работы основателей «Венского кружка», Мацумото
Окато, изучавший труды Фреге и Витгенштейна, Нагай Нарио,
находившийся под влиянием взглядов Карнапа, и др.
С середины 50-х годов в научных кругах Японии заметно растет интерес к
аналитической философии. Одним из факторов, стимулировавших
распространение ее влияния, явилась активизация научных контактов между
учеными США и Японии. Представители американского неопозитивизма
приезжали в Японию для чтения лекций и ведения семинаров в японских
университетах, В 1954 г. японские приверженцы аналитической философии
создали «Кагаку кисо рирон кёкай» («Общество теории основ науки»). В
деятельности этого общества приняли участие известные философы
Симомура Торатаро, Миякэ Гоити, Оэ Сэйдзи и ряд видных ученых, а том
числе всемирно известный физик Юкава Хидэки, С 1958 г. общество стало
проводить ежегодные конгрессы по «философии науки». Распространением и
интерпретацией аналитической философии помимо указанных; обществ
занимаются группы исследователей в крупных японских университетах, в
частности группа Савада Нобусигэ в университете Кэйо и группа Такэда в
Осакском университете.
В 50—60-х годах появился целый ряд исследований по символической
логике, написанных с позиций неопозитивизма. В 1958 г. вышли работа
Накамура Хидэкити «Логика» и работа Есида Каохико под тем же названием
по проблемам символической логики. Затем увидели свет: в 1960 г. —
«Современная логика» Сумихара Такэо, в 1961 г. — «Символическая логика»
Мацусита Гохаку, в 1962 г.— «Введение в логику» Савада Нобусигэ. По мере
развития исследований по символической логике среди японских
неопозитивистов рос интерес к вопросу о соотношении современной
формальной логики и диалектики. В этой связи приверженцы
неопозитивизма все чаще обращались к марксистским работам и пытались
давать им свою интерпретацию [11].
Если в довоенных исследованиях и исследованиях первого послевоенного
десятилетия представители японского неопозитивизма делали акцент на
обоснование законов развития единой науки и руководствовались идеей
целостности познавательного процесса, то по мере дальнейшей эволюции их
взглядов для их работ все более характерны дифференцированный подход к
различным сферам научного знания и большая обособленность в'
исследованиях. Явления такого порядка объясняются не только
продолжающейся дифференциацией наук, специализацией в разработке
научных проблем, но и тем, что сам процесс исследовательской работы и ее
результаты все более явно приходят в противоречие с принципами
неопозитивистской философии. Проявления этого обнаруживаются в
характере и методологии исследований японских ученых, в их фактическом
отношении к постулатам неопозитивизма. При этом можно наблюдать
размежевание приверженцев японского неопозитивизма на две группы: более
«спекулятивных» и более «реалистичных». Представители первой группы,
типичные неопозитивисты, более или менее твердо следуют принципам этой
философии, формулируют ее общие теоретические установки и мало
считаются с конкретным фактическим материалом. Их идейная позиция
достаточно определенна и поддается четкой характеристике. Представители
второй группы, хотя и стараются сознательно придерживаться
неопозитивистской методологии, в ходе исследований объективно в той или
иной степени отступают от нее и нередко в решении конкретных вопросов
стихийно переходят на научные материалистические позиции. Эта группа
буржуазных ученых-неопозитивистов довольно многочисленна, но в отличие
от первой группы взгляды ее представителей весьма неустойчивы, и их
оценка требует в каждом отдельном случае детального и специального
рассмотрения.
Отказ от научной методологии исследования и стремление освободиться от
классических гносеологических проблем, связанных с истолкованием
предмета, объекта и субъекта познания, толкает японских неопозитивистов к
продуцированию все более отвлеченных моделей анализа языка, к
«прояснению» смысла значений слов, «очищению» их от всяких
«метафизических» понятий и т. п . В целях предельной формализации знания,
ведущей фактически к выхолащиванию его конкретного содержания, они
ищут новые аргументы в подкрепление своих принципов, привлекают и
комбинируют близкие по духу идеи различных идеалистических концепций.
Особенно примечательна в этом отношении уже отмеченная в разделе о
прагматизме тенденция эклектического сочетания неопозитивистских и
прагматистских методологических установок. Среди японских буржуазных
философов и ученых-естественников, находящихся под влиянием
идеалистического мировоззрения, эта тенденция четко выступает в форме
попыток разработать всеобщую методологию научного познания в
противовес теории познания диалектического и исторического материализма.
Типичным примером такой тенденции может служить концепция так
называемой «единой логики», сформулированная философами Уэяма
Сюмпэй и Итии Сабуро.
Уэяма Сюмпэй впервые изложил свою концепцию в 1954—1955 гг. в статьях,
опубликованных в журнале «Сисо» («Мысль») и «Кансай тэцугакукай кие»
(«Записках Кансайского философского общества»). В этих статьях он
недвусмысленно высказался за «объединение» и «взаимодополнение»
логического позитивизма и диалектического материализма в целях
разработки нового философского метода [195]. Уэяма формулировал свою
точку зрения следующим образом: «Логические идеи прагматизма играют
роль посредника между логическими идеями марксизма и логическими
идеями логического позитивизма. Используя это посредничество, можно,
видимо, осуществить соединение диалектической, логики и формальной
логики (символической логики), выросших соответственно из логических
идей этих двух направлений» [цит. по: 48, 19]. Обосновывая возможность
разработки единой «марксистско-позитивистской» логики через посредство
прагматизма на основе объединения диалектики с символической логикой
или «новой формальной логикой», Уэяма ссылался на особую роль Японии,
на особую миссию японских ученых в деле исследования «единой» теории
логики. «В то время как в Советском Союзе, — писал он, — развиваются
лишь исследования по диалектике и весьма отстают исследования по
формальной логике, в Америке и Англии картина совершенно обратная. Я
думаю, что в силу политических обстоятельств советским ученым трудно
развивать аналитическую философию, глубоко связанную с формальной
логикой, а американским ученым трудно развивать марксизм, тесно
связанный с диалектикой. В Японии же раньше диалектика высоко
расценивалась как правыми, так и левыми. Но после войны ввиду появления
тесных связей с Америкой среди молодежи стали довольно интенсивно
проводиться исследования по аналитической философии и новой
формальной логике. Поэтому можно сказать, что Япония занимает выгодную
позицию для выполнения международной философской задачи по
„связыванию" диалектики и формальной логики» [195, 7].
Не касаясь соображений Уэяма относительно развития исследований по
логике в Советском Союзе, чрезмерных упрощений, допускаемых им в
оценке диалектической и формальной логики, попытаемся разобраться в том,
как представляет он себе возможность разработки такой «новой», «единой»
логики.
По классификации Уэяма, в настоящее время существуют четыре основных
направления по исследованию логической мысли — символическая логика,
диалектика, теория поиска и индуктивный метод. При этом, с его точки
зрения, символическая логика выражается системой дедуктивной логики, а
теория поиска или логика прагматизма сводится им к так называемой
«логике абдукции» (имеется в виду учение об абдукции Ч. Пирса), так что,
если не считать диалектики, которая получает особое истолкование,
устанавливаются три направления развития логики — дедукция, абдукция и
индукция. Соответственно этим направлениям творческое исследование,
согласно Уэяма, должно включать и три этапа познания. Первый этап—это
формирование гипотезы, возникновение мыслей, стимулирующих
исследование. Он совпадает с абдукцией. Второй этап — дедуктивное
построение определенного заключения, вывода на основании гипотезы. Он
соответствует дедукции. Третий этап — экспериментальная проверка
правильности сделанного вывода — соответствует индукции. Характеризуя
все три этапа познания в целом, Уэяма пишет: «Именно способ постижения
трех логических процессов не разрозненно, а в единстве и есть диалектика».
Или: «Именно подвижная логика, управляющая процессом
прогрессирующего чередования „абдукции" — „дедукции" — „индукции", и
будет диалектикой» [195, 9]. Уэяма не только предлагает подобное
рассмотрение процесса познания, но и заявляет, что такое рассмотрение
«прекрасно согласуется с марксистской теорией познания» [195, 9].
С весьма близких к Уэяма позиций выступил и Итии Сабуро. В 1955 г. он
опубликовал в журнале «Сисо» статью «Противопоставление диалектики и
символической логики». Итии, как и Уэяма, «сопоставлял» диалектику и
символическую логику в целях разработки «единой», общей логики. «Я
полагаю, что диалектический материализм и логический эмпиризм, — писал
он, — не только исключают друг друга, но должны и могут заимствовать
друг от друга что возможно» [55, 66]. Итии выдвигал идею разработки
«логики как всестороннего метода познания», который «располагал бы в
какой-то форме и постигал в едином процессе познания традиционную
формальную логику, индуктивную логику, то, что ранее именовали тезисами
диалектики, и символическую логику» [55, 54]. Согласно Итии, различные
направления в логике «формируют, по-видимому, единую связь, составляя
соответствующие стадии» [55, 59]. В развитии познания Итии усматривает
четыре таких стадии. Первая — стадия осознания проблемы. Вторая —
стадия предположений, догадок, мыслей, гипотез. Третья — стадия
дедуктивного вывода. Четвертая — стадия сопоставления отдельных
выводов с фактами. Итии утверждал, что «метод, предполагающий
нарастающее повторение четырех стадий, может быть подходящим методом
для познания вообще в самом широком смысле слова» [55, 61].
Как мы видим, членение на стадии познания у Итии сходно с этапами
познания Уэяма и отличается только введением «стадии осознания
проблемы». Имеет место совпадение и в общей оценке процесса познания,
ибо Итии указывает, что он придерживается «идентичного с Уэяма мнения,
что логика процесса „нарастающего повторения четырех стадий" и есть
диалектика» [55, 64]. Желая, по-видимому, более убедительно «доказать»
диалектическую природу своего «четырехстадийного цикла» познания, Итии
ссылается также на известное положение В. И. Ленина о том, что
«диалектическая логика требует брать предмет в самодвижении», но при
этом под «самодвижением» он понимает как раз «этапы углубления
познания, осуществляющегося путем нарастающего повторения четырех
стадий», и на этом основании заявляет о «законе самодвижения самих
четырех стадий» [55, 62].
Претензии Уэяма Сюмпэй и Итии Сабуро на разработку единой логики
познания, включающей логические концепции различных философских
течений, не остались не замеченными японскими философами-
материалистами. Против теории «единой логики» Уэяма — Итии с самого
начала выступил Ивасаки Тикацугу 12. В опубликованных в 1955 г. статьях
«Сомнения по поводу работы, Итии „Противопоставление диалектики и
символической логики"» и «„Современные" извращения диалектики» [209]
он подверг критике взгляды Уэяма и Итии, показав, что их истолкование
теории познания носит идеалистический характер и фактически повторяет
как в сущности, так и терминологически прежде всего концепцию познания
Чарльза Пирса.
Ивасаки критически анализирует выдвинутые Уэяма и Итии положения о
ступенях познания. Он указывает, что первая ступень познания, «абдукция»,
трактующая и построении гипотезы, и по содержанию и даже по названию
заимствована непосредственно у Пирса и не имеет ничего общего с первой
ступенью познания в теории диалектического материализма. «Абдукция» у
Уэяма и Итии, как и у их американского предшественника, представлена в
сущности как мыслительная операция, понимание которой не требует
выяснения вопроса о том, какова природа мышления, откуда берется его
содержание, в чем состоит источник мысли. В этом как раз и сказывается
философская партийность позитивистско-прагматистских гносеологических
принципов, избегающих постановки вопроса об объективности истины, по
существу отрицающих существование как объективной действительности,
так и объективной истины и признающих одни лишь гипотезы — полезные и
бесполезные. Такой подход, абсолютизирующий гипотезу, отрывающий ее от
объективной истины, и проповедовал в конечном счете Чарльз Пирс,
утверждавший, что «проблема прагматизма—это не что иное, как проблема
логики абдукции» [220, V, 121]. Уэяма и Итии не только следуют за Пирсом
в этом вопросе, но и пытаются (особенно Уэяма) еще увязать такое
толкование абдукции с точкой зрения диалектического материализма. Более
того, Уэяма прямо отождествляет абдукцию с «чувственным познанием» в
теории познания марксизма [195, 9]. Разумеется, подобное сближение
прагматизма и марксизма несостоятельно. Марксистская теория познания
признает научные гипотезы, их роль в формировании знаний человека, но
понимает гипотезы не просто как конструкции, модели, продуцируемые
мышлением, а как понятия, теории, отражающие так или иначе объективную
действительность и подлежащие проверке на практике. Отсюда определяется
и место гипотез в процессе познания. Познание в конечном счете всегда
начинается не с построения гипотез, неизвестно чем вызванного, а в
результате взаимодействия людей с материальным миром; оно необходимо
предполагает воздействие материального мира на органы чувств, получение
чувственных данных и последующую переработку их мышлением в
различные формы осознания действительности, в том числе и в гипотезы.
Следующая ступень познания (вторая у Уэяма и третья у Итии) — дедукция.
Она истолковывается ими по сути как стадия формально-логического
мышления или в современном значении — как стадия символической логики.
«Символическая логика, — пишет, например, Итии, — есть та наука, которая
изучает роль дедукции...» [55, 60]. Уэяма же прямо соотносит дедукцию со
стадией рационального мышления в теории познания диалектического
материализма [195, 9].
Т. Ивасаки, критикуя такую точку зрения, показывает, что дедукция не какая-
то особая ступень познания,. что ее нельзя свести также и к мышлению в
целом; она представляет собой всего лишь один из методов мышления,
существующий наряду с индукцией, анализом, синтезом и т. д . Соотнесение
дедукции с мышлением вообще, с научно-теоретическим мышлением в
частности, указывает Ивасаки, обусловлено у Уэяма и Итии несомненным
влиянием позитивизма, который толкует всякое мышление в плане чисто
формально-логических операций. Между тем само развитие познания,
прогресса научной мысли убедительно свидетельствует о том, что научно
теоретическое мышление носит творческий характер, что, воссоздавая
действительность в понятиях, оно непрерывно обогащается новым
содержанием, вооружает человека новыми знаниями, необходимыми для
овладения законами природы и общественной жизни.
Наконец, заключительная ступень познания (третья— у Уэяма и четвертая—
у Итии) — индукция. Она понимается ими не в старом традиционно
бэконовском значении как метод мышления от частного к общему, а в том
совершенно ином смысле, который придается понятию индукции в
современной формальной логике или, вернее, в ее неопозитивистской
интерпретации. Согласно последней, как известно, индукция является не чем
иным, как проверкой всевозможных гипотетических обобщений. Такая
проверка производится в виде логического обоснования этих обобщений,
которое осуществляется посредством дедукции, т. е . с помощью так
называемого «гипотетико-дедуктивного метода». Раскрывая такое понимание
индукции в работах Уэяма и Итии и указывая на их связь с
неопозитивистскими интерпретаторами современной логики Райхенбахом и
Карнапом, Т. Ивасаки в то же время опять-таки отмечает и влияние на них
Пирса, являющегося предшественником неопозитивистов в подобной
интерпретации индукции13. Таким образом, индукция как проверка
выдвинутых гипотез совпадает фактически у Уэяма и Итии с дедуктивным
методом и не выходит при таком подходе за рамки формально-логического
мышления. Разумеется, что подобного рода проверка никогда не может стать
подлинным критерием оценки результатов познания и тем более нет никаких
оснований соотносить ее, как это делает Уэяма, с практикой—критерием
познания в учении диалектического материализма.
Как уже было отмечено, все три этапа познания у Уэяма (или четыре стадии
познания у Итии) объединяются ими в «единую логику», а прогрессирующее
чередование этих этапов или стадий объявляется «диалектикой». Т . Ивасаки
показывает, что подобное объединение этапов или стадий познания
осуществляется Уэяма ч Итии по давно уже выработанному позитивистско-
прагматистскому образцу. Так, в сущности «объединял» различные этапы и
методы познания в свою «логику поиска» Чарльз Пирс [220, II, 760].
Принципиально таким же образом поступал и Джон Дьюи, соединявший в
единый бесконечно повторяющийся цикл свои шесть этапов познания и
определявший такой цикл как «логику антидуализма», «принципы
непрерывности поиска» и т. п . Ивасаки отмечает, что в таком же плане
рассуждают и современные логические позитивисты, например Райхенбах,
который, говоря об «общей процедуре эмпирических методов», утверждает,
что такую процедуру также «можно рассматривать как непрерывное
повторение диалектической закономерное и» [цит. по: 49, 16]. Японский
марксист устанавливает влияние Райхенбаха на Итии и пишет, что его
четырехстадийная теория познания является по существу детализацией точки
зрения Райхенбаха на процесс мышления [49, 112].
Анализируя концепцию «единой логики» Уэяма и Итии, Ивасаки
подчеркивает, что «единство» в понимании процесса познания носит у них
сугубо внешний, формальный характер, а вся логика такого «единства» не
выходит за пределы пресловутого «метода проб и ошибок». Он отмечает всю
беспочвенность усилий Уэяма и Итии связать их прагматистски-
позитивистские представления о «единстве» и «целостности» логических
процессов с диалектикой, с диалектическим методом. Справедливо критикуя
попытки Уэяма и Итии объявить «диалектикой» и «самодвижением» их трех-
или четырехстадийный цикл познания, Ивасаки указывает, что в
марксистской философии, в работах В. И. Ленина, на которого, как мы
видим, ссылается, в частности, Итии, говорится о необходимости с точки
зрения диалектики «брать предмет в самодвижении» по той причине, что
самодвижение, его диалектика прежде всего присущи самой материи,
объективной действительности, и лишь постольку отражаются в категориях
диалектической логики. В противоположность этому у философов-
немарксистов типа Уэяма и Итии, отмечает Ивасаки, ввиду их отказа
следовать научной материалистической методологии «речь идет лишь о том,
что в „самодвижении" находится процесс познания (!) без движения материи,
без опосредования практикой» [49, 114].
Критикуя позицию Уэяма, Ивасаки раскрывает материальную природу
диалектики, ее законов, показывает, что отражение диалектики в сознании
людей есть аналог действительности, что такое отражение осуществляется
благодаря всей совокупности методов и форм познания объективного мира
человеком.
Критические статьи Ивасаки Тикацугу и других ученых по поводу
концепции Уэяма Сюмпэй и Итии Сабуро не прошли бесследно. Последний
отказался от активной защиты концепции «единой логики». Однако Уэяма
продолжал отстаивать свою точку зрения. Если в 1954—1955 гг. Уэяма
выдвинул в самом общем виде идею о возможности «объединения
марксистской логики и позитивистской логики через посредство
прагматизма», то позднее, в 1956—1957 гг., он несколько видоизменил
направление своих эклектических поисков, выдвигая тезис о наличии
непосредственной связи уже между марксистской диалектической логикой и
логикой прагматизма. В статье «Критический анализ логики прагматизма»,
опубликованной в 1956 г. в журнале «Сисо», Уэяма утверждает, что «логику
марксизма и логику прагматизма с точки зрения истории логической мысли
можно рассматривать как две взаимодополняющие формы развития
диалектической логики» [цит. по: 49, 116]. Проводя далее мысль о наличии у
«логики марксизма» и «логики прагматизма» общей основы, Уэяма пытается
усматривать такую основу ни больше ни меньше как в известном
«совпадении» теории познания К. Маркса и теории познания Пирса. «Две
теории, — заявил Уэяма, — совпадают в том, что используют
диалектическую логику как логику связи трех членов — символа, факта,
субъекта символа; одна теория считает главным анализ процесса познания
(мышления), другая—анализ общественного процесса» [цит. по: 49, 116].
Попытка установить непосредственную связь «логики марксизма» и «логики
прагматизма» получает «конкретную разработку» в опубликованных Уэяма в
1957 г. статьях «Дедукция — индукция — диалектика» и «Логика решения
проблемы». В этих работах опять-таки настойчиво проводится мысль о том,
что история логических учений знает три направления развития логической
науки — дедуктивную логику, индуктивную логику и диалектическую
логику, но все три направления логической науки существуют и развиваются
вне связи друг с другом. Поэтому «понимание единства этих трех логик»
Уэяма считает «важной задачей исследования». «Нельзя сказать, —
признается он, — что проблема единства трех логик постигается вообще в
ясно выраженной форме» [194, 156]. Однако, не смущаясь этим, Уэяма
пытается найти путь к разработке «единой логики» в исследованиях
советских и американских ученых, проводившихся с 50-х годов. Он обращает
внимание, в частности, на «дискуссию об отношении диалектической и
формальной логики в Советском Союзе и столкновение логических идей
прагматизма и логического позитивизма в США, проявившееся в первую
очередь в полемике Карнапа и Куайна» [194, 157]. Уэяма уделяет несколько
страниц также изложению дискуссий по логике в СССР и США, но не
сопровождает его сколько-нибудь серьезным анализом, так что остается
неясным, в чем же эти дискуссии подтверждают необходимость разработки
«единой логики». Впрочем, связь между этими дискуссиями и стремлением
Уэяма создать «единую логику» становится очевидной после того, как ниже
он высказывает собственные соображения по вопросу о «структуре единой
логики».
В работе «Дедукция — индукция — диалектика» Уэяма заявляет, в
частности, что теория познания марксизма и теория познания прагматизма в
том виде, как ее сформулировал Ч. Пирс, принципиально совпадают ввиду
наличия у них сходства в этапах познания. В марксистской теории познания,
пишет С. Уэяма, «первый, второй, третий этапы процесса познания
соответствуют— (1) чувственному познанию, (2) рациональному познанию,
(3) практике... а в логике Ч. Пирса— абдукции (вывод процесса
„восприятие—мысль"), дедукции (вывод процесса „мысль—мысль"),
индукции (вывод процесса „мысль—действие")» [194, 171]. В работе «Логика
решения проблемы» Уэяма повторяет утверждение о совпадении этапов
познания в теории познания марксизма и прагматизма при сопоставлении, в
частности, «известного положения В. И. Ленина „живое созерцание"—
„мышление"—„практика (проверка)" с положением Дьюи — „построение
гипотезы" — „вывод"— „тест" и Пирса — „абдукция" — „дедукция" —
„индукция"» [194, 200—201].
Подобные «выводы» о «совпадении» или «соответствии» теории познания Ч.
Пирса, Д. Дьюи и марксизма делаются без сколько-нибудь серьезного
обоснования. И как бы восполняя отсутствие аргументации, Уэяма старается
придать убедительность своей концепции за счет... графической наглядности.
Он приводит таблицу, в которой располагает этапы познания в том порядке,
в каком они сформулированы у ряда известных мыслителей, и в качестве
итога таблицы и прообраза новой теории предлагает свою собственную
формулу: этап без проблемы, этап с проблемой, этап с разрешенной
проблемой [194, 203].
Разумеется, рассуждения С. Уэяма о «совпадении» теории познания
марксизма, с одной стороны, и теории познания прагматизма или
позитивизма — с другой, совершенно несостоятельны. В самом деле, можно
ли говорить о каком-то «совпадении» или «сходстве» позиций В. И. Ленина
и, скажем, Ч. Пирса в трактовке собственно теории познания, отдельных
ступеней, этапов или элементов познавательного процесса?!
Последовательно отстаивая материализм в этом вопросе, В. И. Ленин писал:
«Тут действительно, объективно три члена: 1) природа; 2) познание
человека, = мозг человека (как высший продукт той же природы) и 3) форма
отражения природы в познании человека, эта форма и есть понятия, законы,
категории etc» [12, 164]. В противоположность этому Ч. Пирс рассматривал
акт познания как взаимодействие субъекта, факта или объекта и символа,
причем надо иметь в виду, что под фактом или объектом подразумевалась не
реальная независимая от сознания действительность, а факт или объект
вообще, а под символом—не отражение, как соответствие представления о
предмете познания самому предмету познания, и даже не условный знак,
относящийся к объективно существующей действительности, а условный
знак, как таковой. Как известно, В. И. Ленин самым решительным образом
критиковал подобного рода взгляды на связь субъекта и объекта в так
называемой принципиальной координации Авенариуса или в рассуждениях
об «опыте» махистов. Именно он разоблачал также теорию символов
Гельмгольца и напоминавшую ее теорию иероглифов Плеханова.
Не может быть «совпадения» взглядов В. И. Ленина и взглядов Ч. Пирса и Д.
Дьюи и по вопросу об отдельных этапах познания. Согласно марксистско-
ленинской гносеологии, познание начинается с непосредственных
чувственных ощущений и восприятий, отражающих объективную
материальную действительность, черпающих из нее конкретное содержание
знания, и затем восходит до абстрактного мышления, которое
перерабатывает чувственные данные в обобщенное знание, формирует
понятия, суждения, умозаключения, теории, творчески воссоздающие
действительность в ее существенных связях и закономерностях. Результаты
полученного таким путем знания проверяются на практике, имеющей
общественно-исторический характер и составляющей основу, критерий и
цель познания. Совсем иное дело гносеология позитивизма и прагматизма у
Пирса, Райхенбаха, Дьюи, Карнапа и их последователей. У них отправным
пунктом познания является абдукция, стадия формирования гипотезы,
которая не указывает ни на источник, ни на материал познавательного
процесса. Далее следует дедукция, истолковываемая как абстрактное
формально-логическое мышление. Наконец, третьим этапом познания
служит либо индукция, понимаемая как опять-таки мысленная операция,
либо тест-проверка как критерий определения соответствия вывода с
ожидаемым результатом, но отнюдь не с реальной объективной
действительностью. Совершенно очевидно, что такое расхождение в
понимании этапов познания марксистами и позитивистско-прагматистски
мыслящими философами не оставляет никаких оснований для утверждений о
каком-то принципиальном «сходстве» или «совпадении» их теорий
познавательного процесса- ["101; 85; 156].
Конечно, концепция «единой логики», разрабатываемая рассмотренным
выше образом, не плод абсолютно произвольных построений, а продукт
определенной спекулятивной конструкции. Авторы этой концепции
рассуждают о «единстве» различных теорий познавательного процесса,
строят всякие заключения о их «сходстве» и «совпадении» ввиду наличия
здесь действительной проблемы — проблемы единства методов и средств
познания, как таковых, проблемы развития объективного научного знания о
различных сторонах, этапах, элементах самого познания, взятых в их
целостном взаимодействии. Всякий исследователь, изучающий процесс
познания, поскольку он не отступает от науки, выражает эти стороны, этапы,
элементы процесса познания более или менее адекватно их объекту. Это
несомненно можно сказать о самых разных ученых и философах, в том числе
и философах-идеалистах — Гегеле, Пирсе, Дьюи, Карнапе, в той мере, в
какой они исследовали процесс познания, логику познания мира человеком
14. Однако ученые отражают в своих теориях определенное мировоззрение,
их исследования социально обусловлены их взглядами на мир, их
философской партийностью. Поэтому, естественно, только те из них могут в
полной мере объективно отображать окружающую действительность,
постигать ее законы, кто руководствуется научным мировоззрением.
Таковым, как известно, является марксистская философия — диалектический
и исторический материализм, его учение в целом, его теория познания в
частности. Иное дело идеалистическое мировоззрение, различного рода
направления буржуазной философии, такие, как позитивизм и прагматизм,
которые в своих теориях, системах взглядов противоречат науке и потому
препятствуют объективному отражению мира человеком.
Не понимая реального взаимоотношения между содержанием науки и
мировоззрением ученых и отыскивая с позиций идеалистической
методологии нереальную «связь» различных концепций познавательного
процесса, Уэяма усматривает «единство» марксистского учения о логике и
учений о логике, построенных на идеалистических принципах, в их
«диалектической природе», в том, что различные логические учения
являются будто бы лишь разными «формами развития» диалектической
логики. Такой взгляд вытекает у Уэяма из более общей установки в
отношении истории философии и развития учения о диалектике. «Три
„современные философии", — утверждает он, — критически унаследовали
созданный Гегелем диалектический метод. Маркс, как известно, в противовес
идеалистической диалектике Гегеля предложил материалистическую
диалектику. Но воспринял диалектику не один Маркс. Кьеркегор в
противовес диалектике количества предложил диалектику качества, а Пирс и
Дьюи в противовес спекулятивной диалектике предложили „теорию поиска",
которую можно было бы назвать диалектикой эксперимента» [194, 177—
178].
Подобные суждения Уэяма свидетельствуют о том, насколько велико
непонимание им как самой природы диалектики, диалектической логики, так
и развития теории диалектики в марксизме, а также в классической и
современной буржуазной философии. В этих суждениях выдается за истину
то, что представляется таковой лишь в сознании буржуазного идеолога.
Конечно, философия Гегеля оказала большое влияние на развитие
философской мысли, многие ее идеи либо были заимствованы различными
философскими направлениями, либо, вызвав критическую реакцию, дали
толчок развитию других концепций, теорий. Однако отношение к
гегелевской философии сложившихся позднее ведущих философских
направлений было совсем не таким, каким изобразил его Уэяма. Марксизм,
например, выражая идейные потребности революционного класса, взял на
вооружение революционную сторону гегелевской философии, учение о
диалектическом методе, освободил его от идеалистической мистики,
коренным образом переработал и сделал неотъемлемой частью
материалистического научного мировоззрения. Позитивизм же, прагматизм,
экзистенциализм и прочие идеалистические философские направления,
выражавшие духовные потребности буржуазного класса в эпоху
империализма, восприняли консервативные и реакционные идеи гегелевской
философии, отказавшись от признания объективной закономерности
исторического процесса и соответственно от признания диалектического
характера действия законов общественной жизни.
Несостоятельность рассуждений Уэяма о диалектике и диалектической
логике заключается прежде всего в том, что Уэяма вкладывает в эти понятия
совершенно иной, отличный от их подлинного значения смысл. Как уже
отмечалось ранее, в своих первых работах Уэяма определял диалектику как
«способ постижения трех логических процессов» (т. е . абдукции, дедукции,
индукции) в их единстве, как некий «целостный метод мышления», суммарно
объединяющий все другие16. В статьях, написанных позднее, он дает уже
более определенные разъяснения своей точки зрения на диалектическую
логику как науку. Эти разъяснения, не отличающиеся сколько-нибудь
фундаментальностью сами по себе, все же заслуживают внимания в той мере,
в какой позволяют окончательно разобраться в существе взглядов Уэяма,
характеризующих его философские позиции.
В работе «Дедукция — индукция — диалектика» Уэяма определяет
диалектическую логику, сопоставляя ее с логикой дедуктивной и
индуктивной. «Дедуктивная логика, — пишет он, — занимая позицию
разрыва двух миров 16, исследует логику процесса „мысль — мысль".
Индуктивная логика, исходя из теории познания английского эмпиризма,
открывает путь из мира фактов в мир мысли, исследует логику процесса
„восприятие— мысль". В противоположность этому диалектическая логика,
исходя из взаимосвязи двух миров, раскрывает логику процесса „восприятие
—
мысль — действие". Поэтому можно сказать, что предмет диалектической
логики содержит в себе как свои моменты предметы дедуктивной логики и
индуктивной логики» [194, 172]. Несколько иная по форме, но близкая по
содержанию формулировка диалектической логики дается и в работе
«Логики решения проблемы». «Диалектическая логика, — утверждается там,
—
как логика процесса разработки или решения проблемы в отличие от
дедуктивной логики (формальной логики), ограничивающей поле зрения
только отношением между символами, и индуктивной логики, изучающей
связи между символами и предметами, имеет дело с отношением трех членов
—
символов, предметов и субъектов. Другими словами, в то время как
дедуктивная логика оставляет в стороне предмет и субъект, а индуктивная
логика оставляет в стороне субъект, диалектическая логика не упускает ни
одного из основных элементов процесса познания» [194, 201].
В приведенных выше высказываниях Уэяма вновь демонстрирует
неспособность не только решения, но и постановки вопроса о диалектике, о
диалектической логике. Его не интересуют само содержание предмета
диалектической логики, закономерности, которые в ней проявляются. У него
отсутствует и сколько-нибудь серьезная аргументация по этому вопросу. Все
это подменяется неубедительными рассуждениями о значении предлагаемых
им абстрактных конструкций типа: «восприятие— мысль», «мысль —
мысль», «восприятие — мысль — действие» — и столь же неубедительными
выкладками насчет «символа» «субъекта», «предмета» и т. п.
Разумеется, диалектика, субъективная диалектика как отражение в сознании
диалектического движения, царящего во всей природе, составляет предмет
особой науки — диалектической логики. Эта наука изучает наиболее общие
законы природы, общества и мышления, которые осознаются, отображаются
человеком в форме универсальных понятий — категорий логики. Поэтому
говорить о предмете диалектической логики — значит всегда иметь в виду ее
объект исследования — объективно существующую материальную
действительность, ее законы—и вместе с тем всегда рассматривать
отражающие эту действительность категории, понятия, формы, методы
мышления в их органическом единстве, в их диалектической взаимосвязи и
взаимообусловленности. Именно из этой взаимосвязи и
взаимообусловленности категорий, понятий, форм и методов мышления, а не
из формул типа «мысль — мысль», «восприятие—мысль», «восприятие—
мысль—предмет», можно правильно понять и процесс познания
действительности в целом и его этапы и его соотношение с отдельными
методами мышления, такими, как индукция, дедукция, анализ, синтез,
восхождение от абстрактного к конкретному и т. д . Лишь в общей
взаимосвязи эти методы обеспечивают адекватное отражение объективной
действительности, и только с учетом этой взаимосвязи изучение того или
другого механизма или способа мышления получает право на относительную
самостоятельность. В этом смысле, в частности, и оправдывается
существование дедуктивной и индуктивной логики как определенных
научных дисциплин, которые не могут не базироваться и не определяться
теорией диалектической логики или в более широком значении теорией
отражения в учении диалектического материализма.
Сказанное выше показывает бесплодность попыток Уэяма и Итии
разработать какую-то беспартийную всеобщую «единую логику». Эти
попытки сами по себе не получили сколько-нибудь серьезного
аргументированного обоснования и вместе с тем были подвергнуты критике
со стороны философов-марксистов. Выше уже говорилось о критике Уэяма и
Итии в работах Ивасаки Тикацугу и Уэда Коитиро. Эти критические
выступления сыграли положительную роль в разоблачении антинаучной
сущности концепции «единой логики». В 60-х годах Уэяма и Итии уже не
публиковали новых работ по данному вопросу. Правда, в 1963 г. вышла
книга С. Уэяма «Генеалогия диалектики», в которой концепции «единой
логики» посвящается ряд статей. Однако все они представляют собой
перепечатку ранее изданных работ [194].
Неопозитивистско-прагматистская методология получает распространение в
Японии не только в «традиционной» логико-лингвистической сфере
научного знания. В условиях развития науки и техники, не
сопровождающегося фундаментальным осмыслением новейших научных
достижений, она проникает в разработку современных математических,
вероятностных и других количественных методов исследования. Примером
этого может служить интерпретация рядом японских ученых математической
статистики и, в частности, индуктивной статистики, или, как ее еще
называют, стохастики.
Одними из первых пропагандистов и теоретиков индуктивной статистики в
Японии явились Китакава Тосио и Масуяма Гэндзо, начавшие публиковать
свои работы в конце 40-х годов. В обстановке первых послевоенных лет их
выступление расценивалось как «научное» и «прогрессивное». Многие
японские ученые, группировавшиеся вокруг известной тогда «Ассоциации
демократических ученых», некритически восприняв это выступление,
способствовали распространению точки зрения Китакава и Масуяма на
стохастику. Не заняли первое время четкой позиции в отношении этой точки
зрения и философы-марксисты [49, 120].
Т. Китакава и Г. Масуяма провозгласили стохастику новым направлением
развития статистической науки, заявив, что она коренным образом
отличается от прежней описательной статистики, занимавшейся
регистрацией и внешней классификацией явлений. Значение стохастики
Китакава и Масуяма видели в создании органического единства статистики с
логикой исследования и разработке на этой основе нового метода познания.
«Наиболее заслуживающий внимания прогресс, достигнутый индуктивной
статистикой, — писал Китакава, — состоит в том, что путем выявления
логики проверки гипотезы ей удалось ввести в статистику логику
эксперимента, существующую- в естественных науках. Можно даже, по-
видимому, сказать, что при этом по существу происходит не перевод уже
сложившейся логики эксперимента в статистику, а скорее на основе
прогресса последней впервые ясно определяется логика эксперимента,
характерная для индукции» [цит. по: 49, 131].
Китакава и Масуяма истолковывали стохастику прежде всего как метод
познания, осуществляющийся путем повторения определенного цикла
операций или этапов познания. Этот цикл, согласно Китакава, имеет
следующий вид: множество (построение гипотезы), образец (проведение
эксперимента), сопоставление множества и образца (проверка гипотезы),
множество (построение гипотезы) и т. д . [цит. по: 49, 138]. Масуяма
рассматривал стохастическое познание в виде процесса, включающего три
этапа: на первом этапе на основе экспериментов и наблюдений предполагают
форму множества и таким путем выявляют соответствующую гипотезу. На
втором этапе в соответствии с планом подбирают образец и с помощью этого
выводят параметр. На третьем этапе сопоставляют два указанных выше
результата и делают заключение [цит. по: 49, 132].
Китакава утверждал, что стохастический цикл познания имеет
спиралевидный характер и представляет собой «метод прогрессирующего
приближения» к действительности. Заимствуя для стохастики подобное
oпрeделение, встречающееся в работах по логике научного познания и
понимаемое там в прикладном смысле17, Китакава, однако, истолковывал
стохастический цикл познания не в узкоприкладном значении
гипотетического моделирования реальных процессов, а в
общеметодологическом плане, т. е . возводил его в ранг универсального
метода познания явлений. Так он писал: «Поступательный процесс теория—
эксперимент—проверка не завершается однократным результатом, точнее
говоря, он дается как метод прогрессирующего приближения,
предполагающий все более глубокое, более точное постижение
действительности посредством преобразования теории, выявления новых
гипотез» [49, 192]. Это же общеметодологическое истолкование
стохастического цикла познания обнаруживается и при попытке Китакава
отождествлять стохастический процесс с методом восхождения от
абстрактного к конкретному. «Необходимо, — заявляет он, — применять
метод прогрессирующего приближения. Мы берем за исходное абстрактное и
путем постепенного добавления к нему конкретных условий должны
добиваться воссоздания действительности» [цит. по: 49, 197].
Масуяма также рассматривает стохастический процесс познания как
всеобщую методологию. «Ввиду того что предметы, как таковые, дробятся и
абстрагируются до уровня вероятности, — пишет он, — смежные науки
должны устранять всевозможные ограничения, возникающие в ходе данного
процесса. Без преодоления их законы в своем истинном значении не могут
быть постигнуты. Таково исходное начало стохастики. Хотя многие
естественные науки уже теперь достигли такого рубежа, общественные науки
вследствие сложности предмета скованы всяческими ограничениями и еще
далеки о г достижения этой цели» [цит. по: 49, 137]. Отсюда делается вывод,
что «без множества проверка немыслима, а без проверки не возникает науки
в подлинном смысле» [цит. по: 49, 137].
При поверхностной оценке стохастического метода может на первый взгляд
показаться, что непрерывное повторение цикла стохастического процесса,
его «прогрессирующее приближение» есть какая-то иная форма выражения
диалектической закономерности познания предметов и явлений
действительности как бесконечного приближения к абсолютной истине, как
все более полного и точного отражения объективного мира, как движения от
явления к сущности, от сущности первого порядка к сущности второго
порядка и т. д . Однако на самом деле такое допущение было бы глубоко
ошибочным. Как мы уже отмечали при характеристике этапов
стохастического процесса познания, и у Китакава и у Масуяма этот процесс
начинается не с чувственного созерцания, не с непосредственного
взаимодействия с реальной действительностью, а с построения гипотезы, т.
Р. так или иначе с выведения каких-то теоретических предпосылок18. В этом
отношении трактовка ими стохастического процесса познания как
универсального метода, очевидно, напоминает концепцию «единой логики»
С. Уэяма и С. Итии. Ведь последние выдвигали по существу аналогичную
теорию познавательного процесса, и критики из рядов философов-
марксистов справедливо указывали на сходство двух этих концепций [49,
134]. Отличительная черта стохастического метода познания в
интерпретации Китакава и Масуяма состоит прежде всего в том, что вместо
понятия «абдукция», являющегося исходным моментом познания у Уэяма и
Итии, у Китакава и Масуяма начальный этап познания, а именно построение
гипотезы истолковывается с помощью понятия «множество». Причем
очевидно, что понятию «множество» отводится при этом роль коррелята или
субститута понятия объективной реальности. Иначе говоря, вольно или
невольно в это понятие пытаются без каких-либо оговорок вкладывать
общефилософское содержание. Вот почему материалисты, начавшие критику
такого истолкования стохастического метода познания, обратили внимание в
первую очередь на интерпретацию именно понятия «множество».
В 1949 г. японский ученый Охаси Рюкэн опубликовал работу «Социальный
характер современной статистики — ее историческое место и идеологическая
генеалогия» [136]. В этой работе, критикуя понимание стохастического
метода у Китакава и Масуяма, Охаси уделяет значительное место анализу
понятия «множество», раскрывает, в частности, субъективизм, вытекающий
из неправомерного соотнесения этого понятия с понятием объективной
действительности. «В индуктивной статистике, — указывает он, — для
удобства или по необходимости прежде всего полагают форму множества.
Но это не графически миниатюрное изображение бытия. Это абстракция,
„теоретическая схема"». В результате получения того или иного
«множества», подчеркивает Охаси, «не происходит оформление бытия, а
возникает совершенно абстрактная математическая конструкция. Такое
положение ничем не отличается от того, что имеет место в математике» [136,
19].
Охаси показывает, что построение гипотезы в виде «множества»,
заменяющего отражение бесконечно многообразного бытия реальной
действительности абстрагированием его отдельных сторон, осуществляется
математическим путем исключительно в духе принципов теории вероятности
[136, 20]. Он утверждает далее, что математический, вероятностный подход
стохастического метода обнаруживается не только на стадии построения
гипотезы — множества, но и на стадии приведения ее о соответствие с
реальными материалами и образцами, т. е . на стадии проверки гипотезы.
«Отношение множества и материала, — пишет он, — это отношение
возможностей и их реализации. Материал должен выражать множество. Это
от начала и до конца вероятностный способ выражения» [136, 21]. Вслед за
Охаси математический, вероятностный подход стохастического метода как
на стадии построения, гипотезы—множества, так и на стадии проверки
отмечает и Ивасаки. «Множество, — пишет он, — последовательно берется
за исходный пункт как сфера, в рамках которой идет все последующее
обсуждение. Без вытекающей из него дедукции как предпосылки не
образуется сам процесс вывода. Кроме того, при этом не применяется
символическая логика, а производятся только математические операции в
виде вероятностных расчетов. В этом отношении совершенно так же обстоит
дело и с „проверкой гипотезы". Проверка гипотезы во многих случаях
осуществляется как проверка „нуль-гипотезы" (null-hypothesis), т. е . в
непосредственно созерцаемую гипотезу вводят противоположное в качестве
стохастической гипотезы, его подвергают отрицанию через утверждение
степени риска (сводят к нулю) и таким образом подтверждают правильность
непосредственно созерцаемой гипотезы. Тем не менее вероятностный
характер данной операции при этом нисколько не меняется» [49, 134].
Применение принципов математической вероятности в научном познании —
одно из важных достижений современной науки — и, как таковое,
несомненно служит прогрессу знания, отвечает поступательному развитию
научной мысли. Однако у Китакава и Масуяма оно осуществляется в
конечном счете в ущерб интересам науки, направлено на дискредитацию
научного мировоззрения, и в частности на подрыв материалистического
понимания законов как существующих объективно, независимо от сознания
людей. Правда, Китакава и Масуяма не пытаются прямо опровергать
объективный характер закономерностей действительности. Тем не менее их
точка зрения так или иначе ведет к отказу от признания объективной
необходимости существования законов, к отрицанию детерминизма и
подмене этих основных положений материализма интерпретацией
закономерности с позиции субъективистски трактуемых принципов
вероятности. Выводы, к которым приходят эти исследователи, не оставляют
в этом сомнений. «Проблема закономерности в отношении общественных
явлений, — пишет Китакава, — должна быть пересмотрена со
стохастической точки зрения». И далее: «Закономерность не означает
формулы необходимости и детерминизма, точка зрения индуктивной
статистики, естественно, требует формулы вероятностной» [цит. по: 49,
140—141]. Примечательно, что ему вторит в данном вопросе уже известный
нам по концепции «единой логики» Итии. Рассматривая законы
общественных и естественных наук в единстве, он также утверждает, что и в
природе сущность закономерностей имеет не необходимый, а вероятностный
характер [цит. по: 49, 142]. Подобные высказывания японских теоретиков
стохастики о значении принципа вероятности и замене им таких
материалистических принципов теории отражения, как объективная
необходимость и причинность, выражают общие тенденции в методологии
современной буржуазной науки [19].
Указанное выше истолкование стохастики как всеобщего метода познания,
трактовка понятий «множество», «закономерность», «вероятность» и т. п .
основываются на антинаучной методологии. Анализ этой методологии
свидетельствует о том, что японские теоретики стохастики руководствуются,
в частности, известными установками позитивистско-прагматистской
гносеологии, Эти установки в той или иной мере просматриваются в
истолковании самого процесса познания, его этапов, в акцентировании
значения гипотетичности знания, в трактовке проверки результатов
познания, при которой теоретики стохастики уклоняются от постановки
вопроса о существовании объективной действительности, объективной
истины и т. д . Совершенно очевидно также, что при анализе стохастической
теории процесса познания обнаруживается ее значительное сходство с
концепцией «единой логики» Уэяма — Итии. Поэтому критика
стохастической теории в этом отношении в значительной мере совпадает с
критикой концепции «единой логики». В то же время критическое
рассмотрение стохастической теории не может не принимать в расчет и
особые претензии ее авторов. Эти претензии, преследующие цель исключить
или подменить материалистическую теорию отражения, ее принципы
объективной необходимости и причинности вероятностным подходом,
являются несостоятельными, противоречащими современному научному
знанию. Объективная необходимость и связанная с ней причинно-
следственная взаимозависимость предметов и явлений ни в коей мере не
отменяются ни в реальной действительности, ни в сфере изучения ее
статистическими методами. Они лишь получают там специфическое
проявление, обусловленное научным аппаратом самой статистики.
Объективная необходимость самым непосредственным образом
обнаруживает себя в той устойчивости, повторяемости явлений и процессов,
от которой постоянно отправляется всякое статистическое исследование.
Необходимость распределяется в статистической «массе» явлений
неравномерно, в зависимости от различной обусловленности ею
совокупности явлений и процессов. Отсюда статистике и приходится иметь
дело с учетом степени повторяемости, устойчивости признаков, явлений,
процессов, или, как говорят, их частотности. В этом, собственно, и
заключается сущность принципа вероятности в математической статистике.
В отличие от позитивистско-прагматистских установок, ничего не говорящих
о причинах устойчивости частот вероятностных явлений, марксисты,
последовательно исходя из принципа детерминизма, выявляют глубокую
причинную основу вероятностных явлений и таким путем раскрывают
вероятность как количественный показатель возможности одного явления
стать причиной другого.
Японские критики теории стохастики в 60-х годах в целом ряде случаев при
характеристике ее методологии указывают на связь последней с философией
прагматизма. Так, Накамура Рюэй и Хирота Дзюн прямо заявляют о том, что
«образ мышления прагматизма и утилитаризма лежит в основе современной
математической статистики», что последняя «имеет отношение к идеологии
прагматизма» [цит. по: 49, 122]. К их точке зрения склоняется и Ивасаки
Тикацугу, указывающий, что связь математической статистики с философией
прагматизма подтверждается заимствованием ее теоретиками
гносеологических установок Пирса, его интерпретации этапов процесса
познания, а также идей Дьюи, провозглашавшего вероятность и плюрализм
основными принципами современной науки [49, 141]. Критические
выступления этих и других ученых против антинаучной интерпретации
стохастической теории шли в целом з правильном направлении, поскольку
вскрывали неправомерность абсолютизации применения этой теории,
выявляли идеалистические мотивы обоснования такой абсолютизации.
Вместе с тем трудно согласиться с тезисом критиков антинаучной
интерпретации стохастической теории, будто методология этой
интерпретации определяется прежде всего установками философии
прагматизма.
При оценке антинаучной интерпретации стохастической теории нельзя не
учитывать, во-первых, того обстоятельства, что на методологию
стохастической теории наряду с влиянием взглядов Пирса и Дьюи, на
которое указывают критики, не меньшее, если не большее влияние оказали
взгляды Райхенбаха, Карнапа и других представителей неопозитивизма. И
если Дьюи действительно в общем плане пытался противопоставлять теорию
вероятности марксистской теории познания, то именно Райхенбах, Карнап и
их последователи как в конкретной разработке вероятностной логики, так и в
ее интерпретации делали акцент на количественный подход при оценке
степени вероятности гипотез, отвлекаясь от качественного рассмотрения,
выражающего связь вероятности и объективной необходимости. Во-вторых,
следует иметь в виду — и это касается критического рассмотрения и теории
стохастики и разобранной ранее концепции «единой логики»,— что даже
ссылки на Пирса как теоретика прагматизма нужно расценивать конкретно-
исторически, т. е . с учетом того, как его логико-семантический метод,
открывавший выход к позитивизму уже в своем исходном виде,
воспринимается в настоящее время, причем нередко в неопозитивистском
прочтении.
Антинаучная методология стохастической теории не сводится к какой-то
одной гносеологической методологической основе. Помимо известных
позитивистски-прагматистских принципов и установок она отличается,
кроме того, еще и другими специфическими чертами. По мере знакомства с
работами теоретиков стохастики выявляется их стремление приобщиться к
достижениям передовой научной и философской мысли, и прежде всего к
учению диалектического и исторического материализма. Так, буржуазные
теоретики стохастики, в частности Китакава и Масуяма, пытаются
характеризовать познание средствами стохастики как «диалектическое». При
этом Масуяма прямо определяет стохастику как «современную статистику
диалектико-материалистического характера» [цит. по: 49, 134].
Масуяма приписывает стохастическому методу почти без оговорок все, что
ему известно о диалектике и ее законах. В стохастическом познании,
утверждает он, «мастерски применяются закон единства
противоположностей, закон отрицания отрицания, закон перехода
количества в качество». Эти важнейшие законы диалектики Масуяма
квалифицирует как «философию, лежащую в основе» стохастики [95, 20].
Китакава тоже старается связать стохастику с «диалектикой», но несколько
осторожнее высказывается относительно ее материалистической природы20.
В вопросе о соотношении стохастики и диалектики Китакава идет еще
дальше, чем Масуяма. Он объявляет стохастику более совершенным, нежели
диалектика, методом, наиболее развитой и гибкой формой диалектического
познания. «Нам, очевидно, нельзя успокаиваться на том подходе, — пишет
Китакава, — который предполагает переход количества в качество,
отрицание отрицания. Недостаточно говорить только о возможности
диалектической интерпретации статистического познания. Именно
статистическое познание на современном этапе верно постигает свое
истинное достоинство как конкретизацию так называемой диалектики,
имеющей в известной мере еще туманное содержание и неопределенные
компоненты» [70, 6].
Подобные рассуждения о связи диалектического метода со стохастикой и
даже их совпадении — пример неправомерной абсолютизации значения
стохастики, с одной стороны, и непонимания существа диалектического
метода—с другой. На самом деле в данном случае ни о каком совпадении
или соответствии диалектики и стохастики не может быть и речи.
Диалектика как наука есть всеобщая методология познания. Являясь
аналогом действительности, выражая самые общие и глубокие
закономерности развития природы, общества и мышления, она составляет
незыблемый фундамент для всякого научного познания, для прогресса
конкретных частных наук. Что же касается статистики в математической
интерпретации, то она представляет собой один из многих специальных
методов исследования и имеет достаточно ограниченную сферу применения.
Математическая индуктивная статистика имеет дело с количественно
упорядоченными так называемыми «массовыми» явлениями. Она
отвлекается от качественного многообразия процессов той или иной области
исследования, не принимает в расчет перехода одних состояний в другие и
изучает закономерности явлений, как нечто «среднее», «равнодействующее»
для известной совокупности или группы предметов и явлений. Эти
совершенно четко определенные возможности математической индуктивной
статистики настолько очевидны, что некоторые представители этой науки
справедливо признают неправомерность ее чрезмерно расширительного
истолкования. «„Прогрессивность" современной математической статистики,
—
пишут Матаёси Хатакэмура и Цунэхико Ватанабэ, — подчеркивается и
пропагандируется больше, чем нужно» [201, 76—77]. «Мы не можем не
обратить внимания на то, — продолжают они, — что использование
вероятностной сферы также и в отношении природных явлений крайне
ограниченно и касается весьма специфических явлений... В этом причина
ошибочности неосмысленного применения математической статистики, в
особенности её применения в отношении общественных явлений» [201, 87].
Однако, несмотря на такого рода критику, интерпретация стохастической
теории, содержащая антинаучные позитивистско-прагматистские установки,
получила значительное распространение в Японии. В условиях растущих
потребностей в статистической обработке огромного количества информации
подобная интерпретация оказывает влияние на развитие экономической и
социологической мысли, проникает в такие относительно новые области
научного творчества, как эконометрия, социометрия и др.
Если в концепции «единой логики» Уэяма — Итии и в некоторых других
подобных ей концепциях позитивистские установки применялись при
разработке метода мышления, логики научного познания, то в получивших
распространение в японских философских и научных кругах со второй
половины 50-х и в 60-е годы концепциях Оомори Сохэй, Аоуми Дзюнити,
Исимато Син, Нагаи Нарио, Савада Нобусигэ находят отражение более
поздние тенденции в развитии неопозитивизма, связанные с переходом
значительной части буржуазных ученых от исследования методологии
собственно мышления, содержания его логических операций к анализу
преимущественно формальных средств выражения мысли в теоретическом,
разговорном языке и знаковых системах. Вместо логического позитивизма в
кругах японских академических философов и ученых все большую
популярность завоевывают аналитическая философия, философия
лингвистического анализа и другие новейшие философские течения
современного позитивизма. Японские представители этих течений
отстаивают в сущности ту же идейную программу, что и их
единомышленники в Западной Европе и США [18, 163—164]. В то же время,
следуя в общем русле современного неопозитивизма, японские адепты этой
философии не ограничиваются воспроизведением ее известных принципов и
установок, а предпринимают самостоятельные попытки модифицировать
последние, предлагают собственные решения в осмыслении выдвигаемых
неопозитивизмом проблем.
Можно привести немало примеров эволюции современного японского
неопозитивизма, аналитической философии, раскрывающих внутренние
противоречия в развитии позитивистской мысли, указывающих на проблемы,
над решением которых она бьется.
Одним из таких примеров является, в частности, дискуссия представителей
японской аналитической философии в связи с выходом в свет книги Нагаи
Нарио «Философия анализа» [118]. В своей работе Нагаи Нарио предложил
собственную интерпретацию аналитической философии как метода
исследования, отличную от широко принятой среди представителей этого
направления в Японии. Принимая во внимание работы У. Морриса,
сформулировавшего общую теорию символов (семиотику) в ее
подразделении на синтактику, семантику и прагматику, работы А. Тарского,
утвердившего понятие истины для формализованных языков, и Карнапа,
пытавшегося разрабатывать семантику как философскую теорию, Нагаи
Нарио предложил свой критерий определения характера этих наук о языке и
мышлении, с одной стороны, и философии — с другой.
Нагаи Нарио характеризует семантику, семиотику, прагматику как науки,
занимающиеся исследованием структуры естественных и формализованных
языков, изучением правил и норм языкового функционирования, операциями
по прояснению смысла языковых терминов, знаков и т. п . Однако вопреки
общеизвестным взглядам представителей аналитической философии в США,
Западной Европе и Японии, согласно которым семантика и семиотика
представляют собой философскую науку, Нагаи Нарио решительно
возражает против возведения этих наук в ранг философии. «Я,—заявляет
он,—не только низко расцениваю возможности семантико-семиотического
метода как философского, но и категорически не признаю этот метод
философским» [118, 32, 169]. Разъясняя свою точку зрения, он далее пишет:
«Причина того, почему семантику и семиотику нельзя считать философией,
состоит в том, что эти науки не могут принимать рассматриваемые ими
исходные данные как они есть, а искусственно преобразуют их, подвергая
определениям и другим операциям» [118, 32]. Основой подобных
преобразований в семантике и семиотике является, согласно Нагаи Нарио,
конвенционалистский подход, предполагающий условный, согласованный
критерий принимаемых значений истинности и ложности и принципиально
отвлекающийся от вопроса о происхождении языкового материала, от
проблемы соответствия того, что высказывается, реальному содержанию
того, о чем говорится [118, 174—175]. Философия, с точки зрения Нагаи
Нарио, также не ограничивается исследованием» непосредственно данного
материала, она проясняет его смысл, идеально обрабатывая его присущим ей
способом. «Однако, — подчеркивает Нагаи Нарио, — философия ставит
вопрос об отношении идеально сконструированного и находящегося в его
основе непосредственно данного. Философия, таким образом, должна
включать процесс объяснения и прояснения хорошо известных,
непосредственно связанных с жизнью представлений с помощью понятий,
сконструированных опосредованно мышлением» [118, 13—14].
Философский метод исследования, указывает далее Нагаи Нарио,
основывается не на конвенционализме, заранее обусловливающем правила
оперирования языковыми знаками, установление их значений и т. п., а на
анализе реально существующего речевого общения людей. «Философский
анализ, — пишет Нагаи Нарио, — стремится познавать общепринятый
способ выражения, как он есть, в том виде, как он используется в
повседневной жизни и научной деятельности» [118, 176]. Причем, если, по
утверждению Нагаи Нарио, научный семантико-семиотический (или
семантико-прагматический) метод познания предполагает конструирование
каких-то определенных, заранее заданных или согласованных рамок
употребления того или иного языка и является поэтому «конструктивно-
научным», философский метод познания предполагает подход двоякого рода
—
«рефлексивный» и «трансцендентально-онтологический». Согласно Нагаи
Нарио, трансцендентально-онтологический подход использует «понятие
истины» по отношению к самим «рамкам исследования», как таковым, тогда
как рефлексивный подход не касается вопроса о «рамках исследования».
Акцентируя, однако, внимание на рассмотрении философского метода как
«рефлексивного», Нагаи Нарио видит по существу своеобразие этого метода
прежде всего в аналитических операциях по прояснению и уточнению
содержания и значения употребляемых в повседневной речи и теоретической
мысли понятий и представлений. Возможности понимаемого таким образом
философского рефлексивного анализа Нагаи Нарио демонстрирует на
конкретных примерах анализа логических апорий и антиномий [118, 166].
Подобные попытки Нагаи Нарио разграничить философский и семантико-
семиотический методы исследования, равно как и стремление определить
особенности философского метода познания, привлекли 'внимание
представителей аналитической философии в Японии. Их выступления по
поводу концепции Нагаи Нарио, как и сама эта концепция, представляют
интерес в том отношении, что позволяют судить в известной мере о
состоянии аналитической философии в этой стране в начале 60-х годов.
Примечательно прежде всего, что отклики японских ученых на взгляды
Нагаи Нарио касаются в первую очередь не специальных проблем
исследования в области семантики и семиотики (метод псевдопорочного
круга, парадоксы прояснения смысла), где заслуги его для них очевидны
[119, 115], а вопроса о соотношении этих наук и философии и определении
особенностей философского метода. Это видно, в частности, из работы
Накамура Хидэкити, автора единственного обобщающего исследования на
тему об эволюции логического позитивизма и аналитической философии в
Японии [см. 119].
Накамура отмечает «оригинальный характер» попыток Нагаи Нарио
разграничить философию от семантики и семиотики и установить
специфические особенности философского метода. Но вместе с тем он
указывает на недооценку, с его точки зрения, Нагаи Нарио значения
семантико-семиотического анализа как общей методологии. Накамура
Хидэкити берет под защиту ортодоксальную линию приверженцев
аналитической философии, пытаясь оправдывать отказ аналитиков от
исследования происхождения используемого ими исходного языкового
материала. «Вероятно, — пишет он, — точка зрения Нагаи основательна и в
некотором смысле справедлива. Однако имеется немало случаев, когда
занимающиеся изучением семантики и семиотики исследователи тоже не
представляют их непосредственно в качестве философской истины, а
рассматривают как средство для подхода к исходному материалу. Дело не в
том, что представители аналитической философии допускают те или иные
ошибки в своих рассуждениях о непосредственно данном исходном
материале, а в том, что стремятся подойти к нему через посредство
логических операций с понятиями. Поэтому у них нет прямых высказываний
об исходных данных. Если представители аналитической философии и
заслуживают порицания, то не потому, что не ставят вопроса об исходном
материале, а потому, видимо, что этот важный аспект исследования не
поддается изучению методом аналитической философии» [119, 119]. К
попыткам Нагаи Нарио разграничить философию от семантики и других наук
и определить философский метод прежде всего как метод рефлексивного
анализа Накамура Хидэкити относится критически, так как считает, что
подобные попытки означают возврат к традициям прежней классической
философии. «Нас удивляет, — замечает он, — что в отношении философии
Нагаи отстаивает точку зрения рефлексивного анализа, подобно
приверженцу старой кантианской школы, и решительно отрицает
аналитический метод аналитической философии,
представляющийся значительно более рациональным» четким и в ряде
случаев даже продуктивным. Это объясняется, видимо, тем, что Нагаи
чрезвычайно формализует свой аналитический метод и ограничивает
возможности метода семантики и прагматики» [119, 124—125].
Другой видный представитель аналитической философии, Сайто Тэцуро,
согласен с тем, что знаковые операции со строго обусловленной
терминологией на основе конвенции, применяемые в семантике и
прагматике, отличаются от рефлексивного анализа общеупотребительного
предметного языка. Однако он возражает против того, чтобы рассматривать
конвенционализм как единственный принцип исследования, обязательный
для частных наук, и не разделяет поэтому стремления Нагаи Нарио
распространять конвенционализм не только на операции с терминами, но и
на определение смысла и значения основной массы слов в прагматике как
эмпирической науке [143, 53]. В прагматических исследованиях, согласно
Сайто Тэцуро, как и в философии, имеется немало понятий и терминов,
значения которых заимствованы из общеупотребительной речи. «В
прагматических исследованиях, — утверждает он, — даются
конвенциональные определения терминов, обозначающих „объем" понятий.
Но вряд ли требуется давать определение объема слова „философ", о котором
говорит Х в отрезок времени t. Каков объем слова „философ", используемого
говорящим Х в отрезок времени t при осуществлении конвенциональных
определений „объема", решается эмпирически. Поэтому нет надобности
прерывать тесты в ходе исследования и заключать соглашение» [143, 54]. На
этом основании, заявляет Сайто Тэцуро, конвенция как принцип
исследования не может служить критерием отличия научного знания от
философии, и, следовательно, «различие философского и научного подхода
нельзя усматривать в различии рефлексивного анализа и определения по
конвенции. Поэтому я считаю, что невозможно обосновать принципы
философии, подчеркивая различие философии и научного знания подобным
методом» [143, 54]. Сайто Тэцуро не может согласиться также и с тезисом
Нагаи Нарио о том, что анализ как метод исследования присущ
исключительно философии. Сайто Тэцуро упрекает Нагаи за отождествление
философского анализа со всяким анализом вообще. Иронизируя на этот счет,
он заключает: «Анализ То be a brother is to be a male sibling, очевидно, не
представляет ценности в философском смысле, но с точки зрения
философизма Нагаи и такой анализ, вероятно, является философским» [143,
54].
Как выступление Нагаи Нарио с претензией на разработку более
совершенной методологии исследования языка и мышления, так и полемика
вокруг выдвинутых им положений весьма показательны, поскольку
свидетельствуют о противоречиях, в которых бьется современная
неопозитивистская мысль в Японии. Как было видно из приведенных выше
высказываний Нагаи и его критиков, эти исследователи, несомненно,
руководствуются методологией, не позволяющей им понять объективную
связь частных наук, изучающих логико-грамматические и математические
знаковые системы, с материалистической научной гносеологией. Нагаи и его
критики не желают считаться, в частности, с тем, что изучаемые ими
естественные и искусственные языковые системы функционируют
исключительно как формы выражаемого в них мышления, которое, в свою
очередь, отражает в процессе познания явления реальной, объективной
действительности. Отсюда эти исследователи не могут уяснить себе и
подлинное действие закономерностей и принципов знаковых систем,
значение характерного для них собственного (например, семантического)
критерия истинности, его соотнесенности с критерием истины в теории
отражения научного материализма и т. п. Хотя Нагаи и ставит задачу
отграничить философию от семантики и семиотики, пытаясь усматривать в
них принципиально различные науки, он далек от решения этой задачи, так
как не понимает по-настоящему значения и роли философии как всеобщей
методологии по отношению к конкретному научному знанию. Нагаи и его
критика рассуждающие о различиях аналитического рефлексивного
мышления, о знаковых операциях, основывающихся на конвенционализме,
не видят всей ограниченности использования рефлексии, как они ее
понимают, а тем более конвенции в реально осуществляющемся процессе
познания.
Конечно, критики концепции Нагаи Нарио более консервативны, чем сам
Нагаи, в своих определениях сущности философии. Однако и они не могут не
учитывать тех трудностей, неразрешимых проблем, с которыми сталкивается
современный позитивизм, и вынуждены поэтому порой формулировать
неопределенную, противоречивую точку зрения по вопросу о соотношении
философии и конкретно-научного знания. Тот же Накамура Хидэкити,
резюмируя свое критическое выступление по адресу Нагаи Нарио, пишет, в
частности, следующее:
«По сути дела и семантика и прагматика не просто науки. Они представляют
собой также и философскую теорию, философский метод. Философию ни в
коей мере невозможно от них отделить». Но, повторяя этот по сути дела
известный постулат неопозитивизма, он тут же добавляет: «Однако
философию нельзя также использовать только как рефлексивно-
аналитический метод. Скорее философия — это ведущая, направляющая
анализ наука, задачей которой является постановка вопроса о способе бытия
мира в целом. Конечно, и результаты анализа влияют на философию, как
таковую. Нагаи недостает понимания философии с позиций такого
целостного синтетического представления» [119, 126].
Приведенные выше высказывания Накамура Хидэкити и Сайто Тэцуро, так
же как и где-то сходные с ними ранее приведенные высказывания Нагаи
Нарио о раздвоении функций философии, весьма характерны не только своей
непоследовательностью, но и все более ясно проступающей в
неопозитивистской мысли Япония тенденцией отхода от прежних
«классических» установок современного позитивизма об отрицании
«философской метафизики» и отождествлении философии с науками о языке
и мышлении. При этом важно подчеркнуть, что подобного рода тенденция
имеет место не только в японском неопозитивизме. Советские ученые,
исследующие эволюцию неопозитивизма в послевоенные годы в США и
странах Западной Европы, отмечают там аналогичную тенденцию. Они
указывают, в частности, что представители современного неопозитивизма, в
особенности адепты аналитической философии, все меньше говорят о задаче
«истребления философии», более того, признают даже «допустимость
внесения в теорию познания... онтологических предпосылок» [123, 412]. На
этом основании совершенно справедливо указывается, что «неопозитивизм
перестает быть „чистым" неопозитивизмом», что тем самым мы наблюдаем
«крах надежд позитивизма на создание якобы „независимого" от философии
метода логического анализа и „единого и непротиворечивого" формального
знания, т. е . кризис неопозитивизма» [123, 412—413].
Размывание «классических» принципов неопозитивизма и другие
отмеченные выше кризисные явления в сфере позитивистской мысли Японии
60—70-х годов не означают, однако, упадка влияния этого философского
направления среди буржуазных ученых. В условиях господства буржуазного
мировоззрения, широкого распространения идеалистической методологии в
различных областях научного знания неопозитивистская философия в
Японии все еще находит достаточно благоприятную почву для утверждения
в той или иной форме своих гносеологических принципов. Последние по-
прежнему проникают в различные сферы исследования естественных и
общественных наук, оказывают влияние на ученых, занимающихся
теоретическим осмыслением новых научных достижений, разработкой
новых, прогрессивных методов научного познания. Не случайно поэтому
японские философы-марксисты, ведущие борьбу с буржуазной идеологией, и
по сей день рассматривают неопозитивизм во всех его разновидностях как
одно из господствующих в современной буржуазной философии течений и
уделяют все большее внимание критике его идейной программы [90, IV,
149—200].
Социальная философия
Буржуазная философская мысль в Японии находит свое выражение не только
непосредственно в различные идеологических системах, онтологических и
гносеологических конструкциях, но и опосредованно в контексте
конкретного научного знания. Особенно заметно влияние идеалистической
философии, ее методологии сказывается в общественных науках. Это
влияние настолько велико, что некоторые общественные науки, изучающие
актуальные проблемы современной японской действительности, называют
зачастую «философией, не носящей названия философии» [90, IV, 11—12].
Характерными примерами в этом отношении могут служить как
традиционная буржуазная социология, так и относительно новая сфера
теоретического знания — культурология.
Что касается современной буржуазной социологии, то, как уже отмечалось в
главе 'первой, в послевоенный период в ней преобладают теории,
рассматривающие социальное развитие страны преимущественно с позиций
«экономического роста». Эти сменяющие друг друга теории — общества
благосостояния, общества потребления, индустриального общества,
постиндустриального общества — в сущности своей воспроизводят, как
правило, содержание аналогичных техницистских теорий, получивших
распространение в странах Западной Европы и США. В центре внимания
подобных теорий находится, как известно, развитие производительных сил,
взятое в отрыве от рассмотрения характера общественных производственных
отношений, классовой борьбы и других важнейших социальных факторов.
Разумеется, японские буржуазные социологи так или иначе видоизменяют
эти теории, дают им порой свою интерпретацию, отражающую, по их
мнению, специфические особенности развития японского общества. Более
того, в ряде случаев японские буржуазные социологи претендуют на
создание собственных оригинальных вариантов техницистских теорий21.
Кроме того, распространение в Японии теорий «экономического роста», их
сменяемость, влияние на общественное мнение также отличаются некоторым
своеобразием по сравнению с тем, что имеет место в США и странах
Западной Европы. Согласно утверждениям японских ученых-марксистов, во
второй половине 40-х годов наибольшую популярность в буржуазной
японской социологии имела теория гражданского общества, в 50-х годах ей
на смену пришла теория массового общества, а с 60-х годов широкое
распространение приобрела теория индустриального общества [152, 188]. В
первой половине 60-х годов значительную популярность получила теория
модернизации, во второй половине 60-х годов — футурологическая теория
[90, 24]. Как видно из новейшей литературы, в 70-х годах становятся
модными теории постиндустриального общества и информационизируемого
общества [106, 203]. Японские марксисты, раскрывающие классовую
сущность сменяющихся социологических концепций, подчеркивают, что в
процессе эволюции этих концепций все более явно проявляется их
апологетическая роль в отношении существующей капиталистической
системы производства, все более отчетливо обнаруживается их
тенденциозность в истолковании роли буржуазного государства и других
неотъемлемых политических атрибутов надстройки современного японского
общества. Вместе с тем философы и социологи марксисты, разоблачающие
антинаучную сущность современной буржуазной социологии, справедливо
отмечают, что методологическим стержнем, мировоззренческой основой у
всех техницистских теорий являются прагматистские, позитивистские,
экзистенциалистские идеи, понятия, принципы [59].
Другое направление в изучении актуальных социальных проблем в Японии,
имеющее тесные связи с буржуазной философской мыслью и в известной
мере непосредственно с ней смыкающееся, — культурология. Это
направление получило значительное развитие в послевоенные годы под
влиянием обострения социальных противоречий, кризиса буржуазной
культуры, углубляющегося разрыва между естественнонаучным и
гуманитарным знанием, исчезновения связей между отдельными
компонентами культуры. В теоретическом плане оно проявляется в развитии
так называемой «философии культуры»22, в отпочковании от традиционной
«философии истории» различных философско-социологических течений и
концепций вроде культур-антропологии23.
Развитие теоретического знания по осмыслению актуальных проблем
современной культуры характерно, конечно, не только для Японии; в весьма
сходных формах оно наблюдается, в частности, и в западноевропейских
странах [196, 23]. Однако в Японии распространение культурологических
концепций философско-социологического плана возможно даже более
значительно, чем в Западной Германии, Англии, Франции. Стремление к
широкому философскому, общесоциологическому осмыслению
происходящих в духовной культуре Японии социальных процессов имеет в
сущности те же мотивы, что и в Западной Европе и США, в том числе такие»
как кризис современного буржуазного общества, всевозможные формы
отчуждения труда, духовная деградация, прагматизация творческих
возможностей. Но эти общие мотивы усугубляются и осложняются
действием дополнительных, специфически японских факторов, связанных с
рассмотренными в главе второй «европеизацией» японской национальной
культуры, сосуществованием алей традиционного наследия и модерна.
Как общие, так и специфические проблемы развития современной культуры
привлекают внимание самых широких кругов японских ученых и вместе с
тем становятся предметом острейшей идеологической борьбы. Этим
проблемам посвящаются коллективные труды, монографии, отдельные
научные статьи, им щедро отводится место в популярной периодической
печати, в их обсуждении принимают участие видные философы, социологи,
историки различных направлений, оказывающие заметное влияние на
формирование общественного мнения.
Какие же конкретно вопросы оказываются в центре внимания японских
философов и социологов культурологов? Прежде всего вопросы, касающиеся
изучения национальной культуры, как таковой, ее содержания, особенностей,
ее «модернизации». Значимость этих вопросов в современных японских
условиях очевидна сама по себе, но она представляется еще более весомой,
если учитывать влияние в этой области в прошлом традиционных
представлений, исторически сложившихся среди интеллигенции. Нельзя
забывать, что круг вопросов, входящих в компетенцию культурологов, всегда
оставался благодатной почвой для построения всяких антинаучных
реакционных теорий об исключительности японской нации, превосходстве ее
духа, ее культуры. Ранее, как известно, идеологи японского национализма,
расизма, спекулируя на проблемах, не получивших научного освещения,
всячески доказывали, что сущностью японской культуры, ее основой
является «Ямато дамассии» — «дух Ямато», не постижимое разумом
божественное начало, воплощающее идеалы Востока и не имеющее ничего
общего с духовными ценностями других народов. Подобного рода
иррационалистические представления о сущности и своеобразии японской
культуры не исчезли бесследно из сознания японцев. Более того, в атмосфере
подъема националистических настроений в последнее десятилетие они вновь
все заметнее дают о себе знать. Однако приверженцы такого
«традиционного» националистического направления в объяснении японской
культуры уже не могут рассчитывать на успех, проповедуя свои установки
столь откровенно, как ранее. Им приходится считаться с современным
уровнем развития японского общества, приходится преподносить свои идеи в
ином, более тонком облачении, придавать им видимость солидного научного
обоснования.
Наряду с этим откровенно иррационалистическим направлением в
интерпретации японской культуры, берущим свое начало в относительно
далеком прошлом, все явственнее выступает другое направление,
предполагающее рационалистический подход к изучению культуры,
претендующее в той или иной мере на научное ее исследование и
оказывающее поэтому значительное влияние на мыслящую японскую
общественность. Приверженцы этого направления уже не говорят о
национальной культуре как о божественной, выражающей исключительность
японского духа, не изображают ее в первую очередь как сугубо «восточную»,
да и сам «Восток» не считают уже единым и однородным. С точки зрения
теоретиков этого направления, как, впрочем, и многих других японских
буржуазных исследователей, задача заключается в выявлении каких-то
конкретных «особенностей», «черт» собственно японской национальной
культуры, как таковой.
Как традиционно социологическое, так и культурологическое направление в
изучении современных социальных проблем Японии представлены в
настоящем исследовании во взглядах известных японских буржуазных
социологов и философов. С социологией техницистского профиля читатель
может познакомиться на примере теории массового общества Мацусита
Кэйъити и отчасти по социологическим воззрениям Маруяма Масао.
Концепции же приверженцев культурологии, в значительной степени уже
освещенные во второй главе (при рассмотрении взглядов Уэяма Сюмпэй,
Накамура Юдзиро), в данном разделе в известной мере рассматриваются на
примере взглядов Ниситани Кэйдзи.
Теория массового общества—одна из наиболее распространенных в
современной буржуазной социологии. Возникшая еще в довоенный период,
она приобрела после второй мировой войны большую популярность среди
буржуазных мыслителей Западной Европа и США. С 50-х годов эта теория
становится предметом широкого обсуждения на страницах японских
периодических изданий (журналов «Тюокорон» и «Сисо», газет «Нихон
докусё симбун» и «Токио дайгаку симбун»), ей посвящаются капитальные
монографические исследования. В эти годы благоприятной экономической
конъюнктуры и относительной политической стабилизации теория массового
общества непосредственным образом выражала идеологию известной части
буржуазной интеллигенции, ее отношение к возрастающей роли масс в
общественном производстве и вместе с тем реакцию этой интеллигенции на
научно-техническую революцию и вытекающие из нее пагубные последствия
для развитии личности.
Японские приверженцы теории массового общества к целом разделяют тот
распространенный среди современных буржуазных социологов взгляд,
согласно которому с начала XX в. в условиях непрерывно возрастающего
влияния на общественную жизнь научно-технического прогресса и усиления
роли государственной власти капиталистический строй якобы утрачивает
такие органически присущие ему черты, как эксплуатация трудящихся,
борьба классов и т. п ., и преобразуется в так называемое «массовое
общество», для которого характерны разделение на массы и элиту,
господство различных форм отчуждения человеческого труда,
стандартизация взглядов и норм поведения, деградация и опустошение
личности.
Этот взгляд, имеющий определенное теоретическое обоснование, в 50—60 -е
годы отстаивался в той или иной форме целым рядом современных японских
социологов, в том числе Маруяма Масао, Хидака Рокуро» Симидзу Икутаро
[24]. В различной модификации этот взгляд воспроизводится и в новейших
социологических теориях 60—70-х годов.
Ведущее место среди японских социологов, разделяющих позицию
приверженцев теории массового общества, занимает, несомненно, Маруяма
Масао. Он не только выявляет и истолковывает разного рода уродливые и
болезненные явления материального и духовного отчуждения (так
называемой «массовизации»), но и пытается, как уже отмечалось, найти
объяснение этим явлениям в истории развития Японии, в традициях ее
духовной культуры25. В значительной мере под влиянием работ М. Маруяма
появилась целая группа социологов, занимающихся изучением современных
общественных явлений и оказывающих заметное воздействие на японское
общественное мнение.
Одним из таких исследователей стал со второй половины 50-х годов
Мацусита Кэйъити. Для его взглядов характерна претензия на строго
научное, «не подменяющее марксизм» истолкование теории массового
общества [193, I, 45—46]. Эта претензия, естественно, привлекла внимание
научной общественности Японии к его концепции, вызвав, в частности, ряд
критических выступлений японских социологов-марксистов.
Представленная Мацусита Кэйъити концепция массового общества была
сформулирована им сначала в статьях «Формирование массового государства
и его проблемы» (1956), «Условия свободы в современной политике» (1957),
а затем получила дальнейшую разработку в 60-х годах в книгах «Как
развивать движение народа?», «Политическая структура современной
Японии» (1962) и др.
В этих работах К. Мацусита дает следующее определение массового
общества: «Побудительными факторами обобществления производства в
условиях капитализма явились такие предпосылки, как, во-первых,
пролетаризация масс населения, объединяющая их вокруг рабочего класса,
во-вторых, связанное с обобществлением техники стремительное развитие
массового производства средств массового общения и, в-третьих, на базе
всего этого политическое уравнение через уравнение (leveling) традиционных
слоев общества. В результате с необходимостью совершалось
преобразование формы общества, которое тем самым утверждалось как
механизированное „массовое общество"» [99, 32].
Это определение Мацусита по существу повторяет и в более поздних
работах, характеризуя «ситуации массового общества» как, «во-первых,
процесс пролетаризации, во-вторых, развитие техники (в том числе средств
массового общения, массовой пропаганды), в-третьих, утверждение
формальной демократии» [98, 9—10]. При этом он старается подкрепить
свои положения конкретными материалами об ускоренном развитии
производительных сил Японии, изменениях в классовой структуре общества
и политических преобразованиях. Он привлекает многочисленные
статистические данные об усиливающейся пролетаризации населения в
абсолютном и относительном выражении, о пополнении рядов пролетариата
за счет разорения городских средних слоев и за счет вовлечения в
промышленное производство трудящихся деревни. Такие же данные
приводятся относительно роста техники, механизации, автоматизации,
развития средств общения, массовой информации, относительно влияния
этих факторов на «освобождение от традиционного жизненного
пространства», на разрушение прежней «семейной этики — этики
воздержания». Даются и цифровые иллюстрации, касающиеся
распространения буржуазно-демократических свобод после войны, введения
всеобщего избирательного права и т. п. [98, 11—16].
Логика рассуждений Мацусита, основанная на этих данных, выглядит так:
прогресс науки и техники, или, как он выражается, «вечная революция»
производительных сил, развивает «массовое производство» и вместе с тем
развивает и совершенствует «средства массового общениям. Последние,
играя роль посредников, создавая систему стандартов-стереотипов норм
поведения, формируют с ее помощью сознание масс, действуют на массы
эмоционально, приводят их в движение, в результате чего и возникают так
называемые «массовые действия», порождающие «ситуации массового
общества» или «явления массовизации». Господство «массовых ситуаций»
наступает во всем — в производстве, потреблении, политике, культуре.
Одним словом, происходят коренные преобразования в характере общества
—
оно становится «массовым». Этот «переход» капиталистического
общества в массовое Мацусита пытается характеризовать как изменение
«формы общества».
Понятие «форма общества» занимает одно из центральных мест в суждениях
японского социолога. Ему придается такое значение, что сама теория
массового общества понимается порой как теория формы общества [98, 24].
Мацусита отмечает, что истолкование теории массового общества в
зависимости от подхода исследователя может быть оптимистическим или
пессимистическим, но «общим для различных вариантов теории массового
общества является отражение изменения формы общества в период
монополистической стадии развития капитализма» [98, 24]. Стараясь придать
категории «форма общества» более глубокое содержание, Мацусита
пытается связать ее с получившими широкое признание в современной науке
об обществе марксистскими понятиями экономического базиса,
политической и идеологической надстройки26. Он заявляет, в частности, о
наличии «трехслойной структуры» общества, включающей базис, надстройку
и между ними форму общества [цит. по: 193, I, 46]. На основании такого
представления о структуре общества японский социолог выдвигает также
требования о создании «политической науки марксизма», которая изучила бы
«закономерности ситуаций в конкретных политических процессах»
независимо от таких категорий политэкономии, как «классовая борьба»,
«диктатура пролетариата» и т. п . [цит. по: 193, I, 46—47].
Не касаясь пока обоснования выдвинутых Мацусита положений о
преобразовании современного буржуазного общества в массовое, об
изменении формы общества, необходимо сразу же отметить противоречивый
смысл самих этих положений. На первый взгляд может показаться, что,
говоря о переходе капиталистического общества в массовое, Мацусита все
же как-то связывает массовое общество с капитализмом, с его
монополистической стадией развития. Он даже называет два (а то и три)
этапа развития капитализма: ранний этап, соответствующий ранней
промышленной революции, этап промышленного капитализма,
соответствующий первой промышленной революции, и этап
монополистического капитализма, соответствующий второй промышленной
революции и переходу к массовому обществу [98, 10], Возможно, имея в
виду эту связь массового общества с капитализмом вообще или
монополистическим капитализмом в частности, Мацусита и не говорит о
полной противоположности капитализма и массового общества в том
смысле, в каком марксисты говорят о противоположности капитализма и
социализма. Мацусита ограничивается при этом констатацией положения о
переходе капиталистического общества в массовое, и, видимо, это
определение заставляет его формулировать положение об изменении лишь
«формы» общества. Однако предположения о неясности этих формулировок
сразу же отпадают, когда проникаешь в ход мысли Мацусита, в выдвигаемые
им положения и подкрепляющую их аргументацию, ибо все эти положения и
аргументация сводятся к попытке доказать, что наступление «эпохи
массового общества» устраняет капитализм как общественную систему,
прекращает действие его основных законов, его острейших противоречий,
порождающих эксплуатацию, борьбу классов и т. п.
Кажущаяся неясность во взглядах Мацусита по вопросу о соотношении
между капитализмом и массовым обществом объясняется, как мы увидим
дальше, не каким-то случайно допущенным пробелом в его теории, а самой
внутренней логикой обоснования его концепции и, в частности, тем, как он
понимает сущность и конкретное содержание общественной формации
вообще, капиталистической общественной формации в особенности.
Главным аргументом Мацусита в пользу совершающегося будто бы
изменения формы общества и формирования так называемого «массового
общества» является всемерное подчеркивание тенденций к нивелировке, к
уравнению, к сглаживанию противоположностей в основных сферах
общественной жизни. Это касается и пролетаризации населения, как
расширенного производства «однородных атомизированных индивидов», и
массовой культуры, «формирующей и воспитывающей через средства
массового общения одинаковые взгляды у всех членов общества», и,
наконец, буржуазной демократии, будто бы «обеспечивающей посредством
выборов все большее уравнение прав граждан». Конечно, японскому
социологу приходится считаться с реальными фактами. Он вынужден, исходя
из статистических данных, отмечать, что противоположности полностью еще
не исчезли, что сохраняются пока различные прослойки в японском рабочем
классе («двухслойность») 27, что существует резкое противоречие между
положением трудящихся города и деревни. И все же решающим фактором
общественного развития Мацусита считает тенденцию к «уравниванию»
различных «социальных процессов».
Одним из наиболее веских свидетельств господства «массовых явлений» в
современном обществе и преобладания тенденций к «уравниванию
социальных процессов» является, с его точки зрения, положение так
называемого «нового среднего слоя» в Японии. Почти во всех своих работах
он пишет о непрерывно возрастающей роли нового среднего слоя, о его
влиянии на другие социальные слои и группы японского общества. «После
Мэйдзи новый средний слой, и в первую очередь чиновники администрации,
служащие компаний, год от года количественно разрастался» [98, 43].
«Новый средний слой, — пишет Мацусита в другом месте, — являющийся
главным носителем массовых ситуаций, насчитывает всего лишь 15%.
Однако образ жизни, мироощущение нового среднего слоя в настоящее
время повсюду пропагандируется через средства массовой информации. Так,
например, понятие „демократический императорский дом" в период Митчи
бума28 при утверждении статуса императорского дома после войны можно
рассматривать как выражение представлений нового среднего слоя об
императорском доме. Таким образом, не только в „экономике" и „политике",
но и в „идеологии", связанной с аппаратом управления, государственным
аппаратом, средствами массового общения, социальный авторитет среднего
слоя после войны стремительно возрастает» [98, 21].
Может показаться, что такое выделение значения нового среднего слоя
противоречит отмеченному выше положению об усиливающейся
пролетаризации населения, как одной из важнейших черт развития
современного общества. Однако, с точки зрения Мацусита, это не так для
него понятие «пролетариат», «рабочий класс» в его общепринятом научном
смысле фактически не существует. Нередко, говоря о пролетариате, о
рабочем классе, он подчеркивает его растущее сходство с новым средним
слоем. В интерпретации Мацусита получается, что в результате изменения
социальной структуры производства и производительного населения
«рабочие крупных предприятий по форме своего сознания и по форме
коммуникаций сближаются с новым средним слоем» [98, 111—112]. В
других случаях он прямо говорит об «исчезновении рабочего класса»:
«Рабочий класс это уже не тот неимущий, полностью дегуманизированный
пролетариат. Благодаря всеобщим выборам он освободился как
политический субъект в государстве, воспринял общенациональную
массовую культуру и превратился в лояльные „массы", которые стремятся
обеспечивать жизнь с помощью государства» [цит. по: 193, I, 48].
Надо заметить, что весь строй рассуждений японского социолога о
происходящих в современный период колоссальных сдвигах в общественном
производстве и потреблении несомненно имеет под собой определенную
почву. Многие явления и процессы, о которых пишут Мацусита и другие
буржуазные социологи, действительно существуют и заслуживают
тщательного изучения. Все дело, однако, в том, что у теоретиков массового
общества эти явления и процессы приобретают такой смысл, что заслоняют
собой их истинный источник, механизм их образования — современный
капиталистический способ производства. Увлекаясь анализом этих явлений и
процессов и не замечая социальных антагонизмов, их порождающих,
теоретики массового общества поддаются иллюзии, будто в современном
буржуазном, или, кал они его называют, массовом, обществе либо уже
совсем нет жестоких законов капитализма, либо они сильно ослаблены.
Мацусита постоянно связывает «массовые явления» с прогрессом
производительных сил, техники, средств массового общения и вместе с тем с
бюрократизацией производственного аппарата, системы управления. И хотя
рассмотрение развития производительных сил и всех последствий этого
развития — «массовых ситуаций» — дополняется в его работах множеством
фактических данных, оно все же осуществляется без учета общественной
организации труда — производственных отношений. Отсюда и рассмотрение
производительных сил (которое так или иначе имеется в виду, когда речь
идет об обобществлении производства, прогрессе техники, динамике
изменений средств труда, рабочей силы и т. п.) оказывается изолированным
от действительных условий конкретного производства. Игнорирование
органической связи производительных сил и производственных отношений
приводит К. Мацусита не только к забвению действия законов
капиталистического производства, но и вообще к стиранию различий между
капитализмом и социализмом на современном этапе их развития.
Тот же односторонний подход проявляется в работах Мацусита и при
рассмотрении важнейшего элемента производительных сил буржуазного
общества — пролетариата. Японский социолог представляет рабочий класс
как нечто «атомизированное», «усредненное», «механизированное», как
фактически однородную «массу», состоящую из разобщенных,
изолированных друг от друга, отчужденных индивидов. При этом он словно
забывает, что современное капиталистическое производство не только
нивелирует и разобщает людей, не только порождает отчуждение между
ними, но и сплачивает их экономически и политически, что анализ
противоречий капиталистического производства приводит к мысли о
неизбежности гибели капиталистической системы. Мацусита игнорирует тот
факт, что пролетаризация, о которой он все время говорит, на самом деле
возможна лишь как воспроизводство «„свободного" в двояком смысле
рабочего, свободного от всяких стеснений или ограничений продажи рабочей
силы и свободного от земли и вообще от средств производства,
бесхозяйственного рабочего „пролетария", которому нечем существовать
кроме как продажей рабочей силы» [10, 64]. Не понимая этого, Мацусита
отрывает одну сторону противоречия — пролетаризацию большинства
населения от другой стороны — эксплуатации пролетариата капиталистами,
т. е . совершает типичную для множества буржуазных идеологов ошибку, на
которую указывал К. Маркс, критикуя подобные антидиалектические
манипуляции понятиями у Прудона.
Говоря о порождаемых научно-техническим прогрессом тенденциях к
уравниванию в различных сферах общественной жизни, пытаясь обосновать,
в частности, тезис о сближении рабочего класса с новым средним слоем, о
переходе его в усредненную «массу» и проистекающих якобы на этой основе
прекращении эксплуатации трудящихся, затухании классовой борьбы,
ликвидации прежних социальных антагонизмов, Мацусита вслед за
японскими, а также западноевропейскими и американскими
единомышленниками делает в своих суждениях особый акцент на то, что в
современном обществе возрастает роль государства как массового
государства, которое, используя плоды научно-технической революции,
развития средств общения, стандартизирующих взгляды и поведение людей,
будто бы способствует распространению и господству образа мыслей,
настроений, психологии нового среднего класса. Эту «нивелирующую» роль
государства, его различных институтов Мацусита относит к сфере
«политических процессов», «политических ситуаций», изучением которых,
по его мнению, должна заниматься независимая от политической экономии
«политическая наука». В отличие от политической экономии, оперирующей
категориями труда, капитала, классовой борьбы, диктатуры пролетариата,
характеризующими эпоху домонополистической стадии развития
капитализма, «политическая наука» или «теория политических процессов»,
согласно Мацусита, должна исследовать конкретные явления, ситуации
современной общественно-политической жизни. По сути дела именно в
качестве такой «политической науки» или пролегоменов к ней и
преподносится сама мацуситовская концепция массового общества,
отрицающая законы современного капитализма, борьбу классов и
объявляющая важнейшей чертой развития буржуазного общества в наше
время экономическое и политическое «уравнивание», осуществляемое через
«массовое государство» и его «демократические институты».
В суждениях Мацусита о государстве, возрастании его роли в современном
обществе, несомненно, так или иначе получили отражение, правда в
извращенном виде, те изменения в деятельности государственных
институтов, которые происходят в эпоху империализма. В современном
буржуазном обществе действительно имеет место возрастание роли
государства, но оно означает не появление надклассового демократического
государства, использующего свои функции в интересах народа, а, как писал
В. И. Ленин, «соединение гигантской силы капитализма с гигантской силой
государства в один механизм» [13, 83]. Иначе говоря, речь идет о
всестороннем сращивании государства с монополистическим капиталом,
возникновении государственно-монополистического капитализма,
выражающего диктатуру буржуазии в наиболее концентрированной,
законченной форме. Вообще надо сказать, что Мацусита, как правило,
рассматривает политические процессы и ситуации в отрыве от их
экономического содержания, а государство и его функции — в отрыве от их
реального классового характера. Для Мацусита политической власти
господствующего класса, осуществляющей себя через государство, по сути
дела просто не существует. Японский социолог не замечает поэтому и
классовой сущности современной буржуазной демократии, не видит
непреодолимого разрыва между провозглашаемыми ею принципами и их
реализацией.
Руководствуясь ошибочными представлениями о существовании якобы
надклассового «массового государства» в современной Японии, Мацусита
все же оказывается не в состоянии замолчать пороки буржуазного общества,
раздирающие его противоречия в сфере политической жизни. Японский
социолог вынужден, в частности, признать наличие разных форм отчуждения
в различных «политических процессах», в частности бюрократизацию
государственного аппарата и ее последствия. В последних своих работах
Мацусита указывает на отсутствие идеалов, на «небывалый прагматизм» и в
то же время «поведенческий нигилизм» [98, 34—35]. Механизм,
порождающий все эти явления, остается скрытым для Мацусита. Поэтому
японский мыслитель не идет далее вывода о том, что наступил «кризис
послевоенной японской демократии» и вновь надвигается угроза фашизма. В
соответствии с этим выводом Мацусита неоднократно формулирует
положение о том, что «одной из задач моей теории массового общества
является изучение ситуаций, чреватых опасностью установления фашизма в
форме массовой демократии» [цит. по: 193, I, 109]. Здесь бросаются в глаза
две стороны вопроса: тот факт, что Мацусита верно подметил многие
явления кризиса буржуазной демократии, и вместе с тем то обстоятельство,
что он не раскрывает действительной причины этих явлений.
Мацусита и другие теоретики массового общества много говорят о
своеобразии «массовизации», об особенностях кризиса массовой демократии
в Японии. В целях выявления этих особенностей они нередко проводят
сопоставление с аналогичными процессами, имевшими место в нацистской
Германии, и процессами, развивающимися ныне в США. Если процессы
массовизации и кризиса демократии в США определяются японскими
теоретиками как «кризис демократии в нормальных условиях», а в Германии
начала 30-х годов — как «крах демократии в условиях кризиса», то явления,
происходящие сейчас в Японии, представляются им сочетанием или
комбинацией этих двух типов процессов [см. 193, I, 112].
В стремительном расширении промышленного производства в Японии и
вместе с тем в быстром распространении современной «массовой культуры»
американского образца теоретики «массового общества» усматривают
проявление «американского типа», а в усилении антидемократического
законодательства, попытках пересмотра конституции, возрождении
милитаризма, попустительстве реакционным организациям — проявление
«немецкого типа» развития «массовых явлений». Принимая в расчет
переплетение этих двух типов развития «массовых явлений», Мацусита
отмечает, что послевоенная демократия в Японии испытывает «двоякий
кризис»: как. в виде «прямого подавления свобод», так и в виде их
«косвенного подрыва» [цит. по: 193, I, 112].
Мацусита и другие теоретики массового общества характеризуют переход от
нормальных условий развития общества к «кризису» как переход от
«государства благосостояния» с «мягкой политикой» к «тоталитарному
государству» с «жесткой политикой»; они выводят появление тоталитарного
правления из недр «государства благосостояния», стремятся раскрыть
наличие в «массовом обществе» факторов, способствующих такому
преобразованию политической формы государства.
Японские марксисты, подвергая критике эти высказывания теоретиков
массового общества, указывают на ограниченность выводов буржуазных
исследователей, слабость их аргументации. Так, К. Уэда справедливо
отмечает неспособность теоретиков массового общества объяснить
внутренний механизм перехода от «государства благосостояния» к
«тоталитарному государству» [193, I, 111—112].
Он показывает, что теоретики массового общества не учитывают
существующей органической общности между буржуазно-демократической
республикой и диктатурой крупной монополистической буржуазии и
сбиваются на выявление какой-то внешней стороны изменения, развития,
фиксируемой в понятии «форма общества». Уэда предостерегает в
отношении проявляющегося при этом механистического подхода,
предполагающего учет только определенных, уже установленных форм
наступления фашизма. «После второй мировой войны, — пишет он, — важно
учитывать именно многообразие форм фашизации» [193, I, ИЗ].
Социологи-марксисты выступают и против другого рода схемы,
выдвигаемой теоретиками массового общества, пытающимися
истолковывать причины кризиса демократических институтов в Японии.
Речь идет об утверждениях, будто этот кризис развивается в направлении от
«гражданской демократии», напоминающей своего рода классическую
буржуазную демократию прошлого века, к так называемой «массовой
демократии». Уэда, критикуя подобные утверждения, показывает, что
современная демократия в Японии резко отличается от классической
буржуазной демократии XIX в. Последняя, пишет он, была демократией
передовых капиталистических стран, тогда как послевоенная японская
демократия формировалась, как демократия «отсталой страны» в условиях
крушения абсолютизма, иностранной оккупации и возрождения власти
монополистического капитала. Однако, несмотря на отсталость Японии,
движение трудящихся принимает все более боевой характер, становится
более организованным, направленным против гнета монополистического
капитала, перерастает в борьбу против империализма, за мир и социальную
справедливость [193, I, 111]. Эти высказывания японского социолога
несомненно справедливы. Характер современной японской буржуазной
демократии, ее острейшие противоречия таковы, что неизбежно приводят к
нарастанию борьбы трудящихся за свои экономические интересы и
политические права, вызывают повышение политической активности масс.
Несмотря на все трудности, на отсутствие единства в рядах трудящихся,
несмотря на репрессии со стороны господствующего класса, на повседневное
воздействие буржуазной пропаганды, эта борьба становится все более
широкой, принимая порой общенациональные масштабы. Примерами могут
служить развернувшееся в 1960 г. движение против «договора безопасности»
и ставшие традицией ежегодные «весенние наступления» японских рабочих в
защиту своих прав. Иначе говоря, сама японская действительность
опровергает теорию массового общества, положения этой теории о затухании
классовой борьбы, о стирании классовых различий и исчезновении классов, о
решающей роли так называемого «нового среднего слоя», о политической
апатии масс.
Японские социологи, стоящие на марксистских позициях, не только
критикуют теорию массового общества, но и стараются показать связь
взглядов ее сторонников со взглядами их идейных предшественников за
рубежом. Однако при этом встречаются работы, авторы которых, говоря о
предшественниках современных приверженцев теории массового общества,
особенно подчеркивают роль идеологов II Интернационала, их
ревизионистской концепции «среднего класса», их положения о ликвидации
антагонизмов между классами, о превращении рабочих в собственников и т.
д. Причем если одни авторы прямо заявляют о том, что «основное
содержание теории массового общества выражает теорию II
Интернационала» [103, 143], то другие определяют теорию массового
общества несколько осторожнее: как «современное издание
бернштейновского оппортунизма и ревизионизма» [193, I, 48—49].
Конечно, можно установить известную связь и преемственность во взглядах
между идеологами II Интернационала и приверженцами теорий массового
общества, однако не следует переоценивать эту связь. Если говорить о
предшественниках современных глашатаев теории массового общества, то в
первую очередь необходимо указать не на деятелей II Интернационала, а на
таких буржуазных социологов и философов, как Ортега-и -Гасет, Лебон,
Ясперс, на представителей так называемого «неоиндивидуализма» — Э .
Фромма, Д. Рисмена. К числу исследователей, сыгравших роль в разработке
основных понятий теории массового общества, хотя и не разделявших
полностью взглядов ее приверженцев, можно отнести также и таких
известных буржуазных социологов, как М. Вебер и К. Мангейм. Именно
Ортега-и-Гасет и Лебон первыми обратили внимание на то, что. еще в конце
XIX — начале XX в. в развитии буржуазного общества появился целый ряд
явлений и процессов, названных социологами «массовыми». Это важное
обстоятельство не следует упускать из виду, критикуя современных
приверженцев теории массового общества, ибо оно достаточно четко
фиксирует органическую связь между появлением разного рода форм
отчуждения труда или так называемых «массовых явлений» и вступлением
капитализма в империалистическую стадию развития со всеми вытекающими
отсюда последствиями. Это же обстоятельство заодно опровергает и тех
современных теоретиков массового общества, К. Мацусита в частности,
которые пытаются утверждать, будто всякого рода массовые ситуации суть
явления, характерные исключительно лишь для XX в.
Вопрос о выяснении преемственности во взглядах приверженцев теории
массового общества важен не только для понимания сущности этой теории
(ее мацуситовского варианта в особенности), он имеет значение также и
потому, что позволяет глубже выявить ту методологическую, философскую
основу, из которой сознательно или неосознанно исходят буржуазные
социологи при построении своих концепций массового общества.
Многие японские философы и социологи марксисты, критикующие теорию
массового общества, видят такую основу в комбинации идей различных
идеалистических направлений современной буржуазной философии, и
прежде всего прагматизма и экзистенциализма. Так, Сибата Синго отмечает,
что среди теоретиков массового общества имеются представители различных
философских направлений, «начиная от экзистенциалистов и кончая
прагматистами» [152, 174]. Другой исследователь, Маруики Сёдзо,
утверждает, что «философская сущность теории массового общества —
экзистенциализм и прагматизм» [89, 130].
Обращая внимание на приведенные выше высказывания японских
философов и социологов марксистов, следует подчеркнуть, что идеи
прагматизма, экзистенциализма и других идеалистических течений
составляют методологический стержень социологических теорий не в своей
непосредственной, чисто философской форме, а в социологически
опосредованном виде, будучи «снятыми», так сказать, в системе понятий той
или иной социологической концепции. Такая форма выражения философских
идей (в частности, экзистенциализма и прагматизма) достаточно четко
прослеживается и в теории массового общества К. Мацусита. Наглядным
примером в этом отношении может служить то же понятие «масса» как нечто
усредненное, как безличный «man» в духе экзистенциализма или же
категория «приспособления», являющаяся для теории массового общества
одним из самых важных, выражающих дух конформизма, понятий.
«Необходимость техники», непрерывный рост производительных сил в
условиях капитализма со всеми вытекающими пагубными последствиями для
человека как личности оказывается для пропагандистов массового общества
той самой «средой», которую фактически нельзя изменить, к которой
остается лишь приспособиться. Этот лейтмотив прослеживается также и в
рассуждениях о деклассировании общества, депролетаризации его, поскольку
с переходом от промышленного капитализма к монополистическому
происходит якобы превращение рабочего класса из активной боевой силы в
пассивную в политическом отношении «массу». «Когда рабочий класс, —
пишет К. Мацусита, — на стадии монополистического капитализма через
изменение формы общества приспосабливается „политически" к характеру
системы, он приносит с собой образ поведения и форму сознания „массы"»
[цит. по: 193, I, 118].
Понимаемое в указанном выше смысле «приспособление», хотя и восходит в
конечном счете к прагматистски истолковываемому приспособлению к среде
человека как биологического существа, включает различную смысловую
нагрузку, привносимую в это понятие буржуазной социологией от Ортега-и-
Гасета до Вебера, Мангейма, Фромма и др. Именно такое «приспособление»
и связывается с получающими подобную же социологическую обработку
понятиями «отчуждение», «личность» и выступает в итоге как категория
собственно социологической теории.
Все это, разумеется, не может не убеждать в том, что идеи прагматизма,
экзистенциализма и других философских идеалистических направлений
глубоко проникают в концепции японских буржуазных социологов и
представляют собой один из неотъемлемых элементов современной
буржуазной методологии исследования общественных явлений.
Концепции социального развития Японии. Наряду с теориями,
представляющими индустриальную социологию и воспроизводящими, как
правило, буржуазные социологические концепции, типичные для стран
Западной Европы и США, значительное распространение в послевоенной
Японии имеют концепции, в которых техницистский социологический
подход сочетается с культурологическим. Такого рода концепции вызывают
к себе интерес, в частности, тем, что они более рельефно отражают
особенности развития собственно японского общества. Наиболее видным
приверженцем подобных концепций является уже неоднократно
упоминавшийся Маруяма Масао, Он приобрел известность в научных кругах
после выхода в свет в 1940 г. работы «Исследование истории политической
мысли в Японии» [93]. Однако в послевоенный период М. Маруяма
сосредоточил свое внимание на изучении общественных явлений
современной японской действительности. В работах, написанных в 50—60 -х
годах, он делает особый акцент на выявление и анализ различных
отрицательных, теневых сторон развития японского общества, его духовной
культуры [92]. В этом отношении большую популярность приобрела книга
«Общественная мысль Японии», опубликованная в 1961 г. Идеологическая
платформа Маруяма, раскрывающая его мировоззренческие позиции,
выражена в этом произведении достаточно четко. Ее основу, несомненно,
представляет взгляд японского социолога на отношение современного
человека к окружающей его социальной среде, на формы и способы его
взаимодействия с этой средой.
В наиболее общем виде Маруяма характеризует возможности социальной
ориентации современного человека в обществе прежде всего посредством
рассмотрения того, что он называет «образами», которые создаются людьми
в процессе их жизни и общения друг с другом.
«Говоря проще, я полагаю,—пишет он,—что создаваемые нами различные
образы представляют собой своего рода смазочный материал,
вырабатываемый людьми для того, чтобы приспосабливаться к окружающей
среде. Это значит, что во избежание непредвиденных ситуаций человек
заранее создает те или иные образы об отдельных людях или каких-то
коллективах, системах, нациях и, опираясь на них, мыслит и действует» [92,
124—125]. Маруяма утверждает далее, что роль таких образов как средств
социальной ориентации в наше время все более возрастает, ибо, «по мере
того как в современный период постепенно расширяется общая сфера, в
которую входит область нашей повседневной жизни, среда, окружающая нас,
становится все более разнообразной, и поэтому нам приходится судить о
вопросах, к которым мы не имеем прямого отношения, приходится
действовать, исходя из расчетов и предположений о способе деятельности
людей и коллективов, непосредственно с которыми мы дела не имеем, т. е .
приходится действовать, полагаясь на образы» [92, 125].
Что означают эти высказывания Маруяма? Что в современных условиях
познание среды отдельным человеком осуществляется, как правило,
опосредованно, через опыт, знания, добываемые другими людьми? Что с
помощью научных понятий и представлений, отражающих сущность
предметов и явлений, истинные знания об этих предметах и явлениях
получают те, кто непосредственно не имеет к ним отношения? Отнюдь нет.
Для Маруяма — и это становится все более очевидным по мере дальнейшего
чтения его работы—образы совсем не понятия науки, а лишь средство
приспособления к среде, эффективность которого достигается в результате
непосредственного взаимодействия с последней. А поскольку в современной
жизни становится все более невозможно «чувственно определять», «в какой
мере образ и действительность расходятся или совпадают» [92, 126],
постольку, с точки зрения Маруяма, утрачивается и функция образов как
средства социальной ориентации. «Другими словами, — разъясняет
Маруяма, — чем сложнее становится среда, к которой мы должны
приспосабливаться, тем толще становится слой образов, стоящих между
нами и реальной действительностью. И то, что было смазочным материалом,
постепенно отвердевает и образует толстую стену» [92, 126]. Развивая эту
мысль, он пишет: «Таким образом, по мере того как постепенно утолщается
слой образов, они обретают свое собственное бытие в отрыве от исходной
действительности. Иначе говоря, нас отделяют от предметного источника
бесчисленные образы или призраки. И не будет преувеличением сказать, что
мы живем в мире, в котором обретает самостоятельное существование
несчетное множество таких призраков» [92, 127]. Наконец, как бы резюмируя
сказанное выше, он добавляет: «Таким образом, если нельзя воспринимать и
определять сами вещи в их целостном выражении и большинство людей
судит и действует, полагаясь на образы, возникает такое парадоксальное
положение, при котором, как бы ни утопичны, как бы ни ошибочны были эти
образы, как бы ни были они оторваны от источника, все равно эти образы
создают новую действительность, причем иллюзия приобретает еще
большую реальность, нежели действительность» [92, 127—128].
Эти и им подобные высказывания Маруяма об образах, которые, хотя и
создаются людьми в целях приспособления к окружающей среде,
превращаются в независимую от их воли чуждую, властвующую над ними
силу, очень выразительно отражают представления буржуазного идеолога о
вполне реальных социальных явлениях сегодняшней японской
действительности. В попытках дать объяснение этим социальным явлениям
Маруяма не идет далее общих ссылок на «современную эпоху», на то, что
именно «в современную эпоху возникает такая новейшая форма
самоотчуждения» [92, 128]. На самом же деле источник подобного рода
явлений коренится отнюдь не в «современной эпохе» вообще. Еще К. Маркс
дал глубокий анализ капиталистического способа производства, присущих
ему антагонистических противоречий, порождаемых им явлений отчуждения
продуктов человеческого труда, в частности товарного фетишизма и
возникающего на его основе фетишистского сознания. К . Маркс научно
обосновал и возможность утилитарного использования фетишистского
сознания в целях социальной ориентации в условиях буржуазного общества.
Маруяма же, не понимая природы социального отчуждения при капитализме,
не столько объясняет, сколько регистрирует, фиксирует, классифицирует
формы его проявления. Более того, отказываясь от последовательно научного
рассмотрения современной японской действительности, занимаясь прежде
всего изображением, описанием различных проявлений отчуждения
результатов человеческой деятельности, в частности фетишистского
сознания, он сам оказывается во власти последнего. Как показывают
дальнейшие его рассуждения, представления об «образах-призраках», об
«иллюзорном мире, приобретающем большую реальность, нежели
действительность», становятся фактически основой его методологии
исследования японского общества. Маруяма руководствуется при изучении
социальных явлений антинаучными идеалистическими принципами,
берущими свое начало в философии прагматизма и экзистенциализма. Это
так или иначе касается, в частности, и понимания среды и конформистского
приспособления к ней. и мышления как орудия или средства адаптации к
окружающему, да и понимания самой природы отчуждения.
Развитие «новейшей формы самоотчуждения» человеческой деятельности в
виде образов-призраков, образов-иллюзий рассматривается Маруяма как
«тенденция, имеющая всемирные масштабы», и в то же время как явление,
чрезвычайно характерное для современной Японии. Маруяма подчеркивает,
что «обстановка в Японии особенно благоприятствует свободному
существованию этих образов-призраков» [92, 128]. Усугубляющим
обстоятельством для Японии в этом отношении
является, согласно Маруяма, отсутствие устойчивых идейных традиций в
общественной мысли, в национальной культуре народа. В Японии, указывает
он, «не сформировались такие стержневые или осевые идейные традиции,
которые независимо от идей и понятий различных периодов придают им
взаимосвязь и благодаря которым все идеологические концепции в связи с
ними — и даже путем их отрицания—занимают свое историческое место»
[92, 5]. Маруяма неоднократно отмечает в своих работах, что буддизм,
конфуцианство и синтоизм, хотя и распространены в Японии с давних
времен и считаются «традиционными», не создали все же устойчивых
идейных традиций, как, например, христианство в Европе, и в этом
отношении «и так называемая традиционная мысль и проникшая в страну
после Мэйдзи европейская мысль ничем существенно не отличаются» [92, 9].
Поэтому само выражение «традиционные идеи» применительно к буддизму,
конфуцианству, синтоизму Маруяма употребляет условно, поскольку оно
«приобрело широкое хождение в литературе».
Свидетельством «отсутствия» в японской общественной мысли «устойчивых
идейных традиций» и объясняющегося этим «отказа японцев от идейного
наследия прошлого» служит, по убеждению Маруяма, быстрая европеизация
страны. «Часто с сожалением повторяют, —пишет он, — что современная
Япония „европеизировалась", оставив свое идейное наследие домэйдзийского
периода (эти сожаления начиная с эпохи Мэйдзи и до наших дней стали уже
шаблонными). Однако если бы имеющие за собой многовековую давность
„традиционные" идеи действительно создали традицию, то разве могли бы
так просто захлестнуть нас бурные волны „европеизации"?» [92, 9].
Отсутствие устойчивых идейных традиций в домэйдзийской общественной
мысли, в национальной культуре Японии и широкое проникновение и
распространение «западной», прежде всего европейской, мысли, имеющей
иные культурные традиции, не могло не привести, полагает Маруяма, к
определенным отрицательным последствиям в развитии общественного
сознания японцев. «Я хочу обратить внимание на то, — констатирует он, —
что традиционная мысль после Мэйдзи приобретала все более
фрагментарный характер и не функционировала как принцип, который
упорядочивал бы изнутри новые идеи или стойко противостоял бы
инородной мысли. В результате возникло такое положение, когда, несмотря
на огромную разницу в содержании тех или иных идей и месте, которое они
занимают, при заимствовании идей и их внешней конфронтации
„досовременная" и „современная" мысль встали в один ряд» [92, 10—II].
Отмечая далее порождаемые таким положением ненормальные явления в
сфере общественного сознания японцев, Маруяма пишет: «Прошлое,
объективируясь в самосознании, оказывается „не снятым" в настоящем, и
именно поэтому оно просачивается в настоящее сзади» [92, II]. Резюмируя
свои мысли по данному вопросу, японский социолог заключает: «Короче
говоря, в силу тенденции к вневременному сосуществованию идей они
утрачивают историческую структурность» [92,II].
Если во второй главе настоящей монографии рассматривалось в целом
отношение японских буржуазных мыслителей к традициям национальной
культуры и к ее «европеизации», то здесь приходится возвратиться к этому
вопросу прежде всего в той связи, в какой буржуазные исследователи
пытаются объяснить отрицательными последствиями «европеизации»
национальной культуры «уникальный характер японской современности»
[92, б]. Маруяма, будучи типичным представителем исследователей такого
направления, вводит даже свою собственную терминологию для обозначения
двух типов структуры социальных культур. Культуры, имеющие устойчивые
духовные традиции, он называет бамбукообразным типом (по аналогии с
бамбуком, у которого многочисленные ответвления лепестков отходят от
одного основания), а культуры, не имущие устойчивых духовных традиций,
—
пористо-раздробленным типом (по аналогии с множеством сосудов с
отверстиями, расставляемых для ловли осьминогов). Анализируя с этих
позиций различные явления общественного сознания, социальной
действительности, он высказывает следующее общее положение: «Тот факт,
что современной японской науке, культуре или же различным формам
организации общества присущ не бамбукообразный, а пористо-
раздробленный тип культуры, имеет отношение, я полагаю, к той огромной
роли образов, о которой я говорил ранее» [92, 129].
Конкретизируя далее это положение, японский социолог прежде всего
обращает внимание читателя на то обстоятельство, что усвоение Японией
европейской
науки, техники, политических институтов, культуры происходило во второй
половине прошлого века, т. е . в тот период, когда в Европе уже совершался
бурный процесс дифференциации и специализации различных областей
производства и различных сфер научной мысли. Вследствие этого в Японии в
научную мысль, в систему образования механически переносилась
сложившаяся в европейских условиях «размельченная специализированная
форма научного знания». Однако если в Европе, согласно Маруяма, частные,
специальные науки «имели общие корни», т. е . «общие культурные
традиции, проходившие через древность, средние века, эпоху Возрождения»,
то «в Японию эти науки насаждались разобщенно, в отрыве от своей общей
основы» [92, 132]. Такое «пористо-раздробленное» состояние научной мысли
привело к тому, утверждает Маруяма, что была утрачена взаимосвязь
различных сфер знания—между естественными и общественными науками,
между общественными науками и философией, в общественных науках—
между правовой, политической, экономической. По этой причине, заключает
Маруяма, «научные исследователи, в том числе профессора университетов,
оказались не связанными друг с другом общей культурой, интеллектуальной
базой» [92, 133].
Аналогичные мысли японский социолог высказывает и в отношении
существующей в Японии системы образования. «И в Токио, и в Киото, и в
Осака, — пишет Маруяма, — имеются университеты широкого профиля.
Университетами широкого профиля называют такие университеты, которые
имеют различные факультеты, такие, как филологические,
естествоведческие. Однако слова „широкий профиль" по сути дела
заключают в себе иронию. В действительности же никакого широкого
профиля нет. Под университетами широкого профиля имеют в виду только
то, что существуют разнообразные факультеты — права, экономики и т. п.,
они географически концентрируются в одном центре, и кафедры и
лаборатории факультетов территориально соприкасаются друг с другом» [92,
138].
Ту же картину рисует Маруяма и при характеристике современных массовых
организаций. Утверждая, что по мере развития современного общества
организации и объединения всякого рода все более «плюралистически
дифференцируются» и что «это является всемирной тенденцией» [92, 137],
он опять-таки обращает внимание на различное, по его мнению, положение в
Японии и в странах Европы. «В Европе, — отмечает Маруяма, —хотя и
возникает плюралистическая культура таких функциональных организаций, в
то же время существуют традиционные коллективы и организации,
объединяющие людей на иной базе, на ином уровне. Например, церкви,
клубы или салоны по традиции имеют большую силу, они тесно связывают
людей, занимающихся различными профессиями, и становятся средством
общения между ними. В Японии же роль таких организаций, как церкви,
салоны, мала, а поэтому и база свободного общения граждан весьма слаба»
[92, 138].
Говоря о постоянном дроблении массовых организаций в Японии, их
непрерывной дифференциации, Маруяма отмечает стирание у них четких
рамок, расплывчатость. «Бесконечному измельчению, — пишет он, —
подвергается и то, что составляет содержание (организаций. — Ю . К .), и то,
что составляет внешнюю их границу» [92, 139]. В то же время Маруяма
указывает и на то обстоятельство, что в пределах самих организаций и
объединений царит дух замкнутости, специализаторской ограниченности.
«На этой почве, — замечает Маруяма, — в компаниях, университетах,
профсоюзах естественно появляются различные ценностные критерии, слова,
употребляемые только единомышленниками, а отсюда внутри коллективов
возникают жаргоны» [92, 1.40].
Тенденция к усилению социальной обособленности организаций и языковой
разобщенности между членами различных коллективов, согласно Маруяма,
столь значительна, что «трудно проанализировать, в какой мере за пределами
организаций люди употребляют слова, имеющие хождение внутри
организаций», и как следствие этого «забывают об усилиях... по проверке
эффективности слов, циркулирующих в самих организациях, т. е . забывают о
том, насколько утолщается слой образов и насколько велико их расхождение
с действительностью» [92, 147].
В качестве инструмента, который мог бы противодействовать тенденции к
социальной разобщенности организаций и обеспечивать связь и
взаимодействие коллективов, Маруяма указывает на средства массового
общения, или, как принято выражаться, «массовые коммуникации» [92, 145].
Однако, говоря об их роли в жизни общества, он не может не замечать
двойственности их характера. Маруяма отмечает, в частности;
большую силу воздействия средств массового общения, вызывающую
«поразительную стандартизацию и нивелировку мыслей, чувств и вкусов», и
в то же время подчеркивает, что такая деятельность средств массового
общения отнюдь не устраняет отчужденности и разобщенности между
коллективами и организациями. «Они (средства массового общения. — Ю .
К.) действуют только между разрозненными ячейками и не играют сколько-
нибудь заметной роли в проникновении в сами ячейки, в преодолении
языковых барьеров между ними» [92, 145—146].
Маруяма отмечает далее крайнюю однородность информации,
распространяемой средствами массового общения. В этом отношении, пишет
он, «Япония еще намного характернее Америки, считающейся классической
страной массового общества, которой недостает разнообразия в содержании
информации, поставляемой радио и газетами» [92, 146]. Вместе с тем
Маруяма обращает внимание на то обстоятельство, что, несмотря на это,
препятствия на пути стандартизации общения весьма велики. «Таким
образом, — резюмирует он, — внутри организаций стал распространяться
„интимный язык", тогда как в обществе наряду с ним получает хождение
„официальный язык" массовых коммуникации» [92, 146].
В условиях «прогрессирующего дробления организаций», утверждает далее
Маруяма, появляются различные нездоровые явления, связанные не только с
интеллектуальной разобщенностью и распространением жаргонов, но и с
изменением психологического восприятия людьми окружающей
действительности. Японский социолог обращает внимание, в частности, на
тот факт, что коллективы, объединенные в различные организации,
представляют значительную силу, однако в глазах членов этих коллективов
они выглядят как нечто незначительное. Каждая группа того или иного
коллектива «приобретает своего рода сознание того, что она в меньшинстве,
или, если выражаться несколько преувеличенно, навязчивую идею о том,
будто она окружена подавляющими ее враждебными силами, и такое
сознание подавленности присуще каждой группе и особенно руководству
коллектива» [92, 142].
Говоря о психологии отдельных членов коллективов и групп, занимающих, в
частности, административные посты, Маруяма пишет: «Если взглянуть со
стороны, кажется, что чиновник облечен теперь очень большой властью.
Однако у самого этого чиновника поразительно отсутствует сознание, что он
руководитель, имеющий власть. Скорее, считает он, чиновнику всюду
попадает, ему угрожают столкновения с партийным руководством,
критические суждения газет, и он серьезно думает о безопасной работе. С
точки зрения такого чиновника, „общественное мнение" враждебно ему, и он
испытывает чувство беспокойства, одиночества или отрешенности» [92, 144].
Подобные настроения в современном японском обществе, подчеркивает
Маруяма, становятся характерными не только для обывателя, рядового
представителя буржуазной интеллигенции, постоянно испытывающего
чувства неуверенности, страха, подавленности, одиночества, но и для тех,
кто занимает верхние ступени буржуазной иерархии, в том числе для
идеологов правящего класса, осмысливающих эмоционально-
психологическое отношение к жизни, присущее сознанию отдельной
личности. И Маруяма демонстрирует это на собственном примере, выражая
мироощущение той социальной прослойки, к которой сам принадлежит.
Приведенные выше высказывания Маруяма о явлениях культуры «пористо-
раздробленного типа», о характеризующих такие явления различных формах
отчуждения человеческой деятельности в сферах науки, образования, в
общественных организациях отражают типичное отношение буржуазного
теоретика-интеллигента к научно-техническому прогрессу и его
последствиям в условиях современной капиталистической действительности.
Эти высказывания вполне согласуются с известными техницистскими
концепциями массового, индустриального, постиндустриального и т. п .
общества, в которых внимание социологов обращено на роль науки и
техники, на результаты их достижений, на непрерывную дифференциацию,
разделение труда, стандартизацию самих производителей, отчуждение от них
продуктов их производства и совершенно игнорируется роль
производственных отношений и классовых противоречий.
По сравнению с такого рода концепциями взгляды Маруяма отличаются
лишь тем, что пороки современной жизни японского общества он пытается
объяснить особенностями «европеизации» страны, отличием культурных
традиций Запада и Востока. «Европеизацию» Маруяма представляет весьма
упрощенно. Когда он говорит о «переносе» или «пересадке» в Японию
достижений науки и техники Запада на стадии их интенсивной
специализации, он по сути констатирует сам факт этого «переноса», как
таковой, не пытаясь его рассматривать в свете развития общественных
отношений, тех социальных запросов, которые вызвали у японцев
потребность к заимствованию достижений науки и техники других стран.
Поэтому-то у Маруяма и выходит, что беда японского общества состоит
прежде всего в том, что в отличие от европейских стран оно не имеет
устойчивые культурных традиций, которые играют роль социальных
интеграторов, компенсирующих разобщающее действие индустриально-
технической дифференциации и специализации.
Конечно, нельзя недооценивать особенностей «европеизации» Японии,
влияния различия национальные культурных традиций в процессе усвоения
японцами научно-технических достижений и культурного достояния
европейских народов. И в этом отношении некоторые наблюдения и выводы
Маруяма заслуживают внимания исследователей. Однако очевидно и то, что
Маруяма явно преувеличивает значение данного фактора как источника тех
отрицательных, нездоровых явлений, которые он выявляет в жизни
современного японского общества. Не исследуя материальных,
экономических закономерностей развития общества, игнорируя роль
капиталистических производственных отношений, Маруяма рассуждает о
развитии «культуры» вообще и в этой связи в различии культурных традиций
Японии и европейских стран пытается найти главную причину многих
социальных пороков. Для японского социолога словно не существует того
обстоятельства, что и в Западной Европе, где, по его словам, имеются давние
и прочные культурные традиции. якобы препятствующие действию «разного
рода отчуждений», мы наблюдаем в сущности картину, аналогичную тому,
что происходит в современной Японии. Это подтверждают работы
западноевропейских и американских социологов29.
Нет сомнения в том, что исследование Маруяма структуры современного
японского общества содержит критику отдельных сторон капиталистической
действительности, но критику с классово обусловленных позиций, с позиций
буржуазного сознания. Ограниченность этих позиций достаточно четко
проявляется в данном им анализе современной жизни Японии. Та же
классовая ограниченность обнаруживается и в высказываниях Маруяма
относительно путей преодоления пороков современного японского общества.
Весьма характерно, что у Маруяма нет на этот счет сколько-нибудь
разработанной конструктивной программы. Более того, ему по сути дела
вообще нечего сказать по данному вопросу, и он отделывается буквально
несколькими фразами, которые, впрочем, вполне согласуются с его
антинаучной методологией. Что же содержится в этих нескольких фразах?
Лишь упование на создание какого-то нового «способа мышления», на
изобретение или открытие «слов с наиболее высокой степенью общения».
«Нам, видимо, нужны, — пишет Маруяма, — такие техника и образ
мышления, которые дают общую картину в целом, одним словом, позволяют
осуществлять монтаж по кусочкам» [92, 150].
Призывая представителей общественных наук взяться за разработку такого
метода мышления, Маруяма заключает: «Не следует заниматься лишь тем,
что перед 10—20-слойной стеной образов защищать одиноко знамя
„истины". Скорее насущной проблемой общественных наук отныне
становится задача, каким образом синтезировать человеческие представления
или каким образом, преодолев осаждение слов внутри организаций,
расширить сферу свободного общения» [92, 150].
Итак, «выход» из затруднений современного общества связывается не с
учетом объективных законов действительности, не с материальным
преобразованием общественных отношений на основе научного постижения
истины, а с конструированием какого-то нового «образа» или «метода»
мышления. Предлагая этот единственный рецепт, Маруяма так и не
отваживается объяснить ни то, каков же в сущности должен быть этот
«способ» или «метод» мышления, ни то, как его следует разрабатывать.
Обратимся теперь к Ниситани Кэйдзи, также уже упоминавшемуся
известному японскому философу старшего поколения, автору многих работ
по традиционной общественной мысли, философии, религии Японии.
Ниситани, как и Маруяма, чрезвычайно обеспокоен нынешним состоянием
национальной японской культуры и общественной мысли. Он также
усматривает источник всего происходящего в сфере духовной культуры
Японии в «европеизации» страны. «В самом деле, — пишет Ниситани в
своей книге „Нигилизм", — наша культура, наш образ мыслей в настоящее
время стали европейскими. Наша культура — порождение европейской,
наше мышление—копия европейского» [125, 222—2231. Европейская
культура, утверждает Ниситани, была перенесена в Японию, но не стала
духовной основой японцев. «В прошлом буддизм и конфуцианство
составляли такую основу. Но они уже утратили силу... По мере европеизации
(американизации) у последних поколений постепенно исчезал этот духовный
стержень, и теперь в глубине зияет пустота. Многообразная же культура,
которая у нас имеется в настоящее время, при более глубоком рассмотрении
оказывается не более чем тенью, колеблющейся на фоне этой пустоты. Самое
плохое то, что эта пустота не вызвана борьбой, не „вырвана жизнью", а
вакуум, естественно образовавшийся в результате утраты традиций» [125,
223—224]. «Подобное явление, — замечает Ниситани, — ранее никогда не
имело места в истории Японии» [125, 224].
Ниситани указывает далее на то, что японцы усваивали европейскую
культуру некритически, не осмысливая ее содержание. Ссылаясь при этом на
статью Карла Лёвитта «Европейский нигилизм», Ниситани приводит его
слова о том, что японцы заимствовали европейскую культуру тогда, когда
она уже клонилась к упадку, когда сами европейцы в ней уже разуверились.
Ниситани цитирует также утверждение К. Лёвитта о том, что, хотя японцы и
считают себя патриотами, они утратили чувство патриотизма, забыли самих
себя [125, 225—226].
В итоге японский философ приходит к выводу, что кризис, переживаемый
ныне его страной, не просто кризис духовной культуры, а «кризис,
возведенный в квадрат», поскольку он «не осознается как кризис» [125, 228].
Отсюда первейшей задачей японского общества является, по мнению
Ниситани, осознание этого кризиса и затем, конечно, его преодоление. Пути
достижения этой цели он видит в изучении опыта европейцев в их попытках
преодолеть нигилизм в Европе, с одной стороны, и в обращении к своей
собственной традиционной национальной культуре—с другой. «Творческий
нигилизм Штирнера, Ницше, Хайдегера и др., — пишет Ниситани, —
представлял собой попытку преодолеть то, что называется нигилизмом
отчаяния. О каких бы различиях ни шла речь, он представлял собой усилия,
по выражению Ницше, „преодоления нигилизма через нигилизм". В связи с
аналогичной попыткой, аналогичными усилиями перед нами вновь встает
проблема традиций восточной культуры, и прежде всего проблема
буддийской „пустоты", „небытия". Это обращение к будущему—нашей
европеизации и в то же время обращение к прошлому—единение с
традициями» [125, 231].
Как же представляет себе японский философ это обращение к традициям?
Отказываясь от обскурантизма, Ниситани утверждает, что «возвратиться к
прошлому в его прежнем состоянии мы не можем; прошлое мертво, оно
должно быть отрицаемо, по крайней мере до основания подвергнуто
критике» [125, 230—231]. Как тогда мыслится «единение с традициями»?
Оно мыслится как «открытие» их «заново», «вторично», как их
«воссоздание». У Ниситани вообще отсутствует сколько-нибудь четкое
представление по этому вопросу, и здесь сказывается бессилие его
методологии. Единственно, на что он ссылается в качестве обоснования
«возможности открытия традиций заново», так это на представляющиеся ему
многообещающими попытки европейского нигилизма преодолеть
собственный кризис. Ниситани призывает изучить эти попытки, он прямо
заявляет, что «европейский нигилизм учит нас необходимости вновь
вернуться к своему собственному забытому» [125, 232].
Основание для понимания всего значения ценности этой аналогии Ниситани
усматривает в наличии «близости», «общности» европейского «творческого
нигилизма» и «буддизма». Будучи, однако, не в силах сколько-нибудь
раскрыть тезис об идейной общности буддизма и европейского нигилизма,
Ниситани прибегает вместо аргументов к ссылкам на высказывания
Шопенгауэра и особенно Ницше, которые заявляли о якобы близости
буддизма и переживающей кризис европейской культуры на основании
абсолютизации значения понятий «нигилизм», «судьба» и т. п ., не считаясь с
тем, каким содержанием эти понятия наполнялись в определенную
конкретно-историческую эпоху. Примечательна в этом отношении попытка
Ниситани рассматривать ницшеански истолковывавшиеся идеи
«дионисийства», «любви к судьбе» как нечто весьма родственное сущности
буддийского учения. Хотя японский философ уходит от каких бы то ни было
разъяснений по этому поводу, не трудно догадаться, что он имеет в виду.
«Дионисийство», «любовь к судьбе», провозглашавшиеся в свое время
Ницше, близки, по его мнению, пониманию роли судьбы, фатальности,
предустановленности бытия человека в буддизме. Другими словами,
ницшеанский гимн судьбе, выражающей иррациональную волю,
непостижимую, одержимую стремлением к бунту силу, вопреки
действительному смыслу, вложенному в него Ницше, связывается японским
философом с квиетистской отрешенностью от мира, с аскетизмом
буддийского мировоззрения, т. е . волюнтаризм эпохи кризиса буржуазной
мысли связывается с фатализмом, выросшим в феодальные временя на ниве
религиозного мировосприятия.
Как мы видим, рассуждает ли Ниситани о кризисе культуры и его осознании
или о путях его преодоления, он все время находится на уровне «культуры»,
на уровне анализа ее изменений и метаморфоз, т. е . рассматривает явление с
позиций так называемой «философии культуры» — модного сейчас
направления в буржуазной философии, которое не касается материальных
социальных потребностей, вызывающих те или иные сдвиги в развитии
духовной культуры людей, и сводит всю мотивацию событий к какому-то
духовному, рационально непостижимому первичному началу.
У Ниситани, весьма типично отражающего взгляды представителей этого
направления, таким иррациональным первичным началом, определяющим
бытие культуры, ее прогресс, является так называемая «национальная
моральная энергия». Именно утрата последней, точки зрения Ниситани, и
вызвала после эпохи Мэйдзи отход от традиций и кризис духовной культуры,
что, в свою очередь, и привело затем к некритическому заимствованию
культуры и науки европейских стран.
Надо заметить, что понятию «национальная моральная энергия» —
важнейшему фактору, от которого зависит, по убеждению Ниситани, подъем
или упадок духовной культуры, — не дается никакой более или менее четкой
характеристики. Не раскрывается также и содержание категории самой
культуры, хотя она постоянно находится в центре внимания автора. Да и в
отношении «нигилизма» нет полной ясности — подразумевается ли под ним
только осознание кризиса духовной культуры как идеальное отражение ее
кризисного состояния, или же в это понятие включаются и элементы самого
реального состояния духовной культуры, как таковой. Однако главное, что
бросается в глаза в концепции Ниситани, это не столько слабость и
нечеткость его понятийного аппарата, сколько самый подход к анализу
японской духовной культуры, при котором абсолютизируются особенности,
своеобразие ее кризиса и исключаются из рассмотрения общие законы
развития социального организма, т. е . как раз то, что должно в первую
очередь способствовать выявлению путей к решению проблем, поставленных
самим автором.
В самом деле, кризис культуры, о котором пишет Ниситани, это кризис
исторически определенных во времени общественных отношений, а именно
буржуазных отношений. Поэтому, где бы эти отношения ни имели место, в
Западной Европе или Японии, механизм их действия остается в принципе
тем же самым. Отсюда и кризис буржуазной культуры, в какой бы стране он
ни происходил, коль скоро он порождается на известном этапе развития
капиталистического общества, также должен иметь тождественную по своей
сущности причину. Вот почему та самая «пустота», тот «вакуум» в духовной
культуре Японии, о котором пишет Ниситани как об исключительно
японском явлении, в основе своей представляет собой идейное выражение
все той же по своей сути «опустошенности» духа, его «отчужденности», его
«деградации» и т. п., высказывания о которых не сходят со страниц работ
европейских буржуазных исследователей. Конечно, своеобразие развития
исторического прошлого и современной действительности каждой страны
налагает на действие общих законов общественного развития свою печать,
обусловливает конкретную форму их проявления, но вместе с тем оно само
оказывается обусловленным в конечном счете действием этих законов.
И М. Маруяма, о взглядах которого говорилось ранее, и К. Ниситани,
несомненно, ставят проблему своеобразия, специфики развития духовной
культуры Японии, но, как было показано выше, не могут ее решить, ибо
основываются на идеалистической методологии, оставаясь в своих
воззрениях на развитие культуры на уровне той же культуры, духовных
традиций и т. п. и не раскрывая материальные факторы, закономерности,
определяющие как общие, так и специфические черты развития культуры
данной страны. Оба мыслителя ссылаются на «европеизацию» Японии, на
некритическое усвоение японцами достижений науки, культуры, техники
Запада, не анализируя то, чем было вызвано это усвоение, не вскрывая
причин, породивших этот объективный процесс.
Рассмотренные выше взгляды буржуазных исследователей на развитие
современного японского общества свидетельствуют о том, что кризис
буржуазной культуры Японии со всеми сопровождающими его явлениями
носит чрезвычайно глубокий и сложный характер, что в нём обнаруживаются
и переплетаются разного рода и значения социальные процессы. И очевидно,
что преодоление этого кризиса, выход из него находится не на путях
создания какого-то интегрирующего метода мышления, будто бы
снимающего отчуждение, о чем говорит М. Маруяма, как и не на путях
обращения к традициям, открытия непостижимым образом их заново, как
предлагает К. Ниситани, а совсем в иной плоскости, в плоскости реального
коренного преобразования самих общественных отношений, существующих
сейчас в Японии, ликвидации капиталистической системы, духовно
калечащей народные массы, отгораживающей их от подлинного
удовлетворения культурными ценностями. Это с каждым днем все лучше
начинают понимать широкие слои японского народа, прогрессивная
общественность, деятели культуры этой страны. Они все активнее, все
решительнее вовлекаются в борьбу за демократию, за социальный прогресс,
за построение таких общественных отношений, которые обеспечивают
условия всестороннего развития личности на основе обогащения
собственной национальной культурой, а также овладения культурным
достоянием других стран и народов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Представленный в книге критический анализ послевоенной буржуазной
философии в Японии, ее ведущих идеалистических направлений позволяет
сделать вывод, что современная буржуазная философская мысль в этой
стране находится в состоянии глубокого, необратимого кризиса. Основная
черта этого кризиса состоит в том, что выдвигаемые буржуазными
философами концепции, теоретические построения не могут дать ответа на
решение важнейших актуальных проблем сегодняшней японской
действительности. В условиях кризиса буржуазной философской мысли в
Японии, с одной стороны, все более явно обозначаются разрыв философских
доктрин, взглядов, идей с научным знанием, усиление внутренней
противоречивости, непоследовательности идеалистических построений. В
японском экзистенциализме и близких к нему течениях эта тенденция
выражается в возрастании влияния иррационализма, волюнтаризма и
религиозных мотивов, в привлечении мистики буддизма. В
неопозитивистских течениях она проявляется в первую очередь в усилении
субъективизма, формализма, во все более сказывающемся перевесе
«критицизма» над «конструктивностью», в фактическом превращении
позитивизма в подлинный негативизм. С другой стороны, для послевоенного
развития буржуазной философии в Японии характерно то обстоятельство,
что ее представители, вынужденные считаться с социальными
преобразованиями, с прогрессом научной мысли, все более облекают свои
антинаучные по содержанию концепции в наукообразную форму. Японские
буржуазные философы, претендующие на строго научное, теоретическое
обоснование своих взглядов, прибегают к использованию утонченных
средств и приемов аргументации и в то же время всячески спекулируют на
новых, не решенных еще проблемах развивающегося научного знания.
Характерной чертой послевоенной эволюции ведущих направлений
буржуазной философии в Японии является также продолжающийся отход
этих направлений от своих исходных принципов и установок, размывание,
коррозия их «классических» постулатов, конструкций, моделей. Этой
тенденции вполне соответствует обнаруживающаяся все более очевидно
линия на взаимослияние различных идеалистических течений, на
заимствование одними течениями идейного арсенала других течений. Все это
ведет к дальнейшему возрастанию эклектизма буржуазной философской
мысли.
Углубление кризиса послевоенной буржуазной философии Японии
проявляется также в том, что ее представители все более отворачиваются от
собственно «философских», органически присущих философии
мировоззренческих и социальных проблем, в том, что они так или иначе
отказываются от рассмотрения этих проблем, уступают место в их
осмыслении нефилософскому, религиозному сознанию. В японском
экзистенциализме это проявляется в асоциальности его проблематики, в
сужении до предела его онтологического видения; в японском позитивизме—
в уходе от разработки подлинной гносеологии, от исследования методологии
и логики познания к изучению их языкового выражения, в продолжающейся
критике «мировоззренческой метафизики» ц подмене ее идеалистически
истолковываемой конкретикой, подлежащей рассмотрению частных
специальных наук.
Кризисное состояние современной буржуазной философии в Японии не
означает, однако, что эта философия уже утрачивает свое влияние на
общественное сознание, на общественную мысль. В современном японском
обществе все еще «мысли господствующего класса—господствующие
мысли», и воспроизводство там буржуазной материальной действительности
с необходимостью вызывает постоянное воспроизводство буржуазного
сознания, буржуазной философии. На смену одним дискредитированным
жизнью взглядам, концепциям, идеям появляются другие, им подобные;
старые, не отвечающие запросам сегодняшнего дня доктрины и теории
уступают свое место новым, также претендующим на достоверность.
Однако в условиях интенсивного развития производительных сил, научно-
технического прогресса, обострения классовой борьбы, усиления
политической активности масс, их растущего стремления к уяснению смысла
происходящих социальных процессов буржуазная философская мысль
Японии оказывается все более уязвимой, бессильной перед лицом подлинно
научного осмысления действительности. Критика буржуазной идеологии,
буржуазной философии нарастает по мере того, как марксизм, марксистское
мировоззрение все глубже проникает в сознание трудящихся Японии, по
мере того, как оно все основательнее духовно вооружает массы для
подготовки неизбежного преобразования отживающих буржуазных
общественных отношений.
ПРИМЕЧАНИЯ
Введение
1 Речь идет об исследовании собственно теоретической буржуазной мысли
профессионалов-философов, а не философии «массового сознания»,
существующего как стихийно, в популярных модификациях, так и в формах,
предлагаемых буржуазной пропагандой. Конечно, в условиях научно-
технического прогресса и структурных изменений, происходящих в
различных сферах духовного производства Японии, между академической
буржуазной философией и мировоззренческими философскими
представлениями обыденного сознания возникают весьма сложные связи и
отношения Однако эти связи и отношения не снимают все же различий,
существующих между профессиональной философской мыслью буржуазных
ученых и теми популярными интерпретациями и стереотипами, в которых
эта мысль получает распространение в обыденном, массовом сознании.
Глава первая
1 Марксистская критика этих теорий дается в ряде работ советских ученых
[см. 129].
2 Критический анализ современных сциентистских социологических теорий
в Японии представлен, в частности, Кавамура Нодзому¦[см. 59].
3 Это явление, как одно из следствий своеобразия процесса озападнивания
буржуазной философии Японии, в определенной мере раскрываете» в главе
второй.
4 Здесь не имеется в виду разработка научных проблем философами-
позитивистами на материале конкретных наук, например, семиотики,
математической логики и т п.
Глава вторая
' Само это название, получившее широкое распространение в Японии, весьма
условно, ведь речь идет об усвоении японцами культурного наследия
различных стран и народов мира.
2 Указываемое здесь и далее разделение традиционного и модернистского
типов или структур различного по происхождению культурною материала
нельзя свешивать с характеристикой национальной культуры по ее
социально-классовому содержанию, по наличию в ней прогрессивных и
реакционных идейных элементов. Последняя, как известно, настолько
существенна и значима, что даёт основание, как указывал В. И. Ленин,
видеть в культуре одной нации, одного общества, буржуазного в частности,
две культуры—пролетарскую и буржуазную. Совершенно очевидно, что с
такой социально-классовой точки зрения и традиционная и модернистская
культура японцев включала как прогрессивное, так и реакционное идейное
содержание на том или ином этапе своего развитая.
3 Новые религиозные организации широко используют в своих идейных
доктринах традиционную буддийскую догматику. Однако, как видно на
примере Сока гаккай, крупнейшей из таких организаций, весьма часто за
внешней стороной буддийских воззрений имеет место «небуддийское» и
даже нерелигиозное их истолкование с позиций современной буржуазной
идеологии.
4 Имеются в виду буржуазные теории развития культуры XX в.,
представленные в работах Шпенглера, Тойнби, Ясперса и др;
5 Ярким примером в этом смысле могут служить те же «новые религии»
Японии.
6 Хотя сохранились отдельные традиционные виды искусства, как-то:
икэбана, сады камней и т. п., в литературе, поэзии, архитектуре господствует
уже модерн, в изобразительном искусстве сосуществуют и традиционное, и
модернистское.
7 В этой связи С. Уэяма ссылается, между прочим, на Нисида как на
реформатора философии в Японии, требовавшего разработки «логики»,
«метода», «системы» для «восточной мысли».
8 [191, 314]. Имеется в виду искусственная «аналогия», условно подводящая
«философию Востока» под рубрику «философии»;
9 К таким идеологам относится, в частности, Маруяма Масао, который
оспаривает наличие устойчивых идейных традиций в общественной мысли
Японии [см. 192].
Глава третья
' Выражением возврата X. Танабэ к прежней академической философии
явилась написанная им в 1949 г. работа «Введение в философию», которая
сразу же после выхода в свет подверглась критике со стороны прогрессивных
японских мыслителей [см. 107, 19].
2 До 70-х годов произведения Г. Марселя в Японии не переводились.
3 «Сютайсэй юйбуцурон» переводится нами как «субъектный материализм».
Иной вариант перевода — «субъективный материализм» — представляется
менее удачным; он как будто бы не противоречит содержанию, поскольку
приверженцы данного течения, сбиваясь в идеализм, действительно сходят с
объективных позиций в истолковании субъекта. Однако следует учитывать,
что перевод «сютайсэй юйбуцурон» как «субъектный», а не «субъективный
материализм» более правилен, так как этот перевод не только более точный,
но и указывает на генезис данного течения, подчеркивая само значение
субъекта, которое это течение ставит во главу угла. Указанный выше вариант
перевода предпочтительнее также и потому, что не позволяет смешивать
«субъектный материализм» 40— 50-х годов с концепцией «субъективной
материи», выдвинутой в 30-х годах Какэхаси Акэхиде.
4 Экзистенциализм настолько активно взаимодействует с традиционной
Общественной мыслью, что в последнее время наблюдаются отдельные
случаи, когда приверженцы философии существования делают предметом
своего истолкования даже конфуцианство, не, имеющее, казалось бы, с ним
особых точек соприкосновения [см. 217].
5 Обоснованию концепции «азиатского экзистенциализма», например,
посвящена целая глава книги Ямадзаки Кэн «Основные черты современной
японской философии» (Токио, 1957).
6 На близость философии экзистенциализма религиозному мироощущению
указывают многие наши исследователи [см. 135; 173].
7 Концепции, авторы которых пытаются доказывать наличие глубокого
идейного родства или тождества экзистенциализма и буддизма в указанном
ранее смысле, несомненно, заслуживают решительной критики не только
потому, что они научно несостоятельны сами по себе, как отрицающие
материальные законы истории, законы общественного развития, но и потому,
что эти концепции подкрепляют и дополняют многие другие широко
распространяющиеся в странах Востока антинаучные теории—Шпенглера,
Тойнби, Ясперса и др., также отвергающие законы общественного развития и
«обосновывающие» существование самодовлеющих, внутренне замкнутых
культур.
8 Это обстоятельство отмечается во многих работах исследователей
современной японской философии, выступающих с марксистских позиций
[см. 107].
9 В известном смысле к этой группе примыкал и Куно Осаму, который
вместе с Цуруми Сюнсукэ развивал излагаемую ниже точку зрения о так
называемых «больших» и «малых предпосылках».
10 В ряде случаев это были те же лица, которые занимались и пропагандой
философии прагматизма (например, Цуруми Сюнсукэ).
11 Можно отметить, в частности, интерес, проявленный японскими
неопозитивистами к проходившей в СССР дискуссии об отношении
формальной логики и диалектики, и их отклики на труды японских
марксистов по этому вопросу.
12 Полемика Т. Ивасаки с С. Уэяма и С. Итии и затронутые ею вопросы
стали предметом обсуждения у ряда авторов.
13 «Дело индукции, — писал Ч. Пирс, — состоит в том, чтобы проверять
гипотезы, уже выведенные с помощью абдуктивных операций» [цит. по:
49,108].
14 Вклад Гегеля в разработку диалектики общеизвестен. Ч . Пирс как
исследователь логики имеет известные заслуги [см. 101]. О значении
отдельных работ Дьюи для исследования логики см. [25].
15 По мнению Уэяма, отношение диалектики и формальной логики
выражается «отношением целого и части».
16 Имеется в виду мир сознания (теоретического мышления) и мир
практической деятельности.
17 В практическом, прикладном значении «метод прогрессирующего
приближения» применяется при моделировании всевозможных
производственных функций или процессов. При этом прогрессирующее
приближение в форме уравнений математически выражаемой вероятности -
производится следующим образом. Строят какую-либо модель-гипотезу,
выводят ее параметры и затем осуществляют практическую проверку,
принимая в расчет величину расхождений. При больших расхождениях
смоделированную гипотезу исключают, при небольших — принимают, после
чего вводят в точные параметры и получают второе приближение, третье
приближение и т. д .
18 Бесспорно, что познавательный цикл в различных сферах исследования
может начинаться с построения гипотезы, но такой метод познания не может
возводиться до уровня всеобщей методологии научного познания.
19 Обративший на это внимание Т. Ивасаки ссылается, например, на
аналогичные высказывания известного норвежского экономиста Т. Ховальмо
в рабою «Метод вероятностного приближения к экономике».
20 Противопоставляя, например, стохастику описательной статистике,
основатель которой Пирсон был раскритикован как эмпириокритик еще В. И.
Лениным, Китакава писал, что взглядам Пирсона «недостает стремления
утвердить множество материально» ¦70,128].
21 Можно указать, например, на интерпретацию японскими социологами
теории массового общества, теории модернизации, теории
информационизируемого общества и т. д .
22 Хотя в Японии понятие «философия культуры» не вошло в научный
обиход так, как, скажем, в Западной Германии, но по сути дела японские
представители этого течения рассматривают те же проблемы развития
современной культуры, что и немецкие.
23 Типичным представителем культур-антропологии в Японии можно
считать Исида Эйитиро, рассматривающего человеческую культуру в виде
единства, включающего четыре связанные друг с другом системы—
общество, ценности, язык, технику [54, 298].
24 Некоторые японские исследователи считают, что японские приверженцы
теории массового общества более «оригинальны», нежели
западноевропейские и американские, ввиду чего подлинной родиной этой
теории следует считать Японию {62, 69].
25 Работы М. Маруяма — «Исследование истории политической мысли
Японии» (1940), «Теория и практика современной политики» (1956—1957),
«Общественная мысль Японии» (1961) и др. — снискали ему популярность
среди интеллигенции, и особенно в университетских кругах. Они приобрели
известность и за рубежом. Так, в Англии в 1963 г. издан перевод его «Теории
и практики современной политики».
26 Дело не меняется от того, что зачастую К. Мацусита говорит не об
экономическом базисе, а об экономической структуре, не о политической
надстройке, я о политических процессах и т. п .
27 Имеется в виду различие в положении рабочих на крупных и мелких
предприятиях Японии.
28 «Митчибум»— период большой популярности среди японской молодежи
простой девушки по имени Митчи, на которой женился сын императора.
29 Так, известный буржуазный социолог Льюис Мамфорд пишет: «Мой
главный тезис заключается в том, что наша жизнь все больше раскалывается
на автономные области, никак не связанные между собой, что они
связываются и упорядочиваются лишь тем, что вставляются в
автоматизированную организацию и в механизмы, практически
господствующие в нашей жизни» [218, 51].
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Основоположники марксизма-ленинизма*
1. Маркс К. Тезисы о Фейербахе. Т. 3 .
2. Маркс К. К критике политической экономии. Предисловие. Т. 13.
3 Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 года. Т. 42.
4. Маркс К. и Энгельс Ф. Немецкая идеология. Т. 3 . 5 Маркс К. и Энгельс Ф.
Из ранних произведений. М ., 1956.
6. Энгельс Ф. Анти-Дюринг. Т. 20.
7. Энгельс Ф. Диалектика природы. Т. 20.
8. Энгельс Ф. Людвиг Фейербах и конец немецкой классической философии.
Т. 21.
9 Ленин В. И. Материализм и эмпириокритицизм. Т. 18.
10. Ленин В. И. Карл Маркс. Т . 26.
11 Ленин В. И. Империализм, как высшая стадия капитализма. Т. 27.
12. Ленин В. И. Философские тетради. Т. 29.
13. Ленин В. И. Война и революция. Т. 32.
Партийные документы
14. Программа Коммунистической партии Советского Союза. М ., 1972.
15. Материалы и документы XXV съезда КПСС. М ., 1976.
Литература
16. Аида Юдзи. Нихон бунка-но дзёкэн (Условия развития японской
культуры). Токио, 1967.
17. Аида Юдзи. Нихондзин-но исики кодзо (Структура сознания японцев).
Токио,1972.
18. Акима Минору. Бунсэки тэцугаку (Аналитическая философия).—
«Марукусусюги тэцугаку» («Марксистская философия»). Т. IV. Токио, ,1969.
* Работы К. Маркса и Ф. Энгельса даются по Собранию сочинений, изд. 2, а
работы В. И. Ленина—по Полному собранию сочинений.
19. Араки Хираюки. Нихондзин-но кодо ёсики (Образ поведения японцев).
Токио,1973.
20. Арутюнов С. А., Светлов Г. Е . Старые и новые боги Японии. М .,1968.
21. Асмус В. Ф. Избранные философские труды. Т . I—II . М ., 1971.
22. Бакрадзе К. С . Субъективный идеализм — идеология
империалистической буржуазии. Тбилиси, 1955.
23. Боголюбова Е. В . Современная буржуазная культура я «неогуманизм». М .
1971.
24. Богомолов А. С . Англо-американская буржуазная философия. М ., 1968.
25. Богомолов А. С . Идеалистическая диалектика XX столетия. —«Вопросы
философии», 1964, No 6.
26. Богомолов А. С . Немецкая буржуазная философия после 1865 г. М ., 1969.
27. Буржуазная философия XX века. М ., 1974.
28. Габитова Р. М . Человек и общество в немецком экзистенциализме. М .,
1972.
29. Гайденко П. П. Трагедия эстетизма. М ., 1970.
30. Гайденко П. П. Экзистенциализм и проблемы культуры. М ., 1963.
31. Гамазков К. А. Из истории распространения марксизма-ленинизма в
Японии. М ., 1971.
32. Георгиев Ю. В . Японские ультра. — «Япония 1972». М ., 1973.
33. Гэядай (Современная эпоха). Т. I —XVI, «Иванами сётэн». Токио, 1964—
1967.
34. «Гэндай кёику кагаку» («Современная наука просвещения»), 1966, No 2.
35. Гэндай-ни окэру сюкё (Религия в современном мире). — «Тэцугаку»
(«Философия»), 1973, No 23, май.
36. Гэндай-но тэцугаку. Нихон-но киндай сисо (Современная философия.
Современная общественная мысль Японии). Токио, 1959.
37. Гэндай то согай (Современная эпоха и отчуждение). Токио, 1970.
38. Державин И. А. Сока гаккай. Организация и идеология. М ., 1974.
39. Дзиссонсюги (Экзистенциализм). Т. I . Токио. 1968
40. Дои Такэо. Амаэ-но кодзо (Структура Амаэ). Токио, 1971.
41.Ёкота Сабур о. Киндайсюги сисо-но хонсицу то сэнбэ-цусюги (Сущность
и различия современной модернистской мысли). — «Гэндай кёику кагаку»
(«Современная наука просвещения»), 1966, No 2.
42. Ермоленко Д. В . Современная буржуазная философия США. М ., '1965.
43.Есида Кэссюн. Гэндай юйбуцурон-но татиба то кадай (Позиции и задачи
современного материализма). — «Кагаку то сисо» («Наука и мысль»), 1974,
No 12.
44. Желнов М. В . Критика гносеологии современного неотомизма. М ., 1971.
45. Зарубежный Восток и современность. М ., 1973.
46. Ивасаки Такэо. Вэнсёхо, сонО хихан то тэнкай (Диалектика, ее критика и
перспективы развития). Токио, 1965.
47. Ивасаки Тикацугу. Бэнсёхо то гэндай сякай кагаку (Диалектика и
современная наука об обществе). Токио, 1967.
48. Ивасаки Тикацугу. Гэндай-но ронригаку (Современная логика). Токио,
1961.
49.Ивасаки Тикацугу. Гэндай сякайгаку хохорон-но хихьё (Критика
методологии современной иауки об обществе). Токио, 1965.
50.Ивасаки Тикацугу. Нихон марукусусюги тэцугаку си дзёсэцу (Введение в
историю марксистской философии в Японии). Токио,1970. 51-Ивасаки
Тикацугу. «Синсаёку» то хигорисюги («Новые левые» и иррационализм).
Токио, 1970.
52.Имамити Томонобу. Би-но исо то гэйдзюцу (Формы красоты и искусство).
Токио, 1968.
53.Имамити Томонобу. Гэнтэй то гидзюцу (Определение и искусство). —
«Бигаку синейте» («Новые течения эстетической мысли»). Т . I. Токио, 1965.
54. Исида Эйитиро. Гэндай нингэнрои (Современные учения о человеке).
Токио, 1972.
55. Итии Сабуро. Бэнсёхо то симборик ронригаку (Диалектика и
символическая логика). — «Сисо» («Мысль»), 1955, No 1.
56. Итии Сабуро. Ронригаку то соно хаттэн (Логика и ее развитие). Токио,
1956.
57. Иэнага Сабур о. Нихон бункаси (История японской культуры).
Токио,1960.
58. Иэнага Сабур о. Нихон дочоку сисоси (История учений о моральном
сознании в Японии). Токио, 1954.
59. Кавамура Нодзому. Гэндай сякайгаку то марукусусюги (Современная
социология и марксизм). Токио, 1968.
60. Какабадзе 3. М . Проблема «экзистенциального кризиса» и
трансцендентальная феноменология Эдмунда Гуссерля. Тбилиси, 1966.
61.Канэко Такэдзо. Дзиссон рисэй-но тэцугаку
(Философия экзистенциального разума). Токио, 1953.
62.Каориути Мицуро. Тайсюка гэнсё-о доо китэй суру ка (Как определять
явления массовизации?). — «Юйбуцурон кзн-кю» («Изучение
материализма»), il965, No 22.
63.Каорияма Кэн-ьити. Мирайгаку нюмон (Введение в футурологию).
Токио,1968.
64.Караки Дзюндзо. Нихондзин-но кокоро-но рэкиси (История японской
души). Т. I —II. Токио, 1970.
65.Касахара Кадзуо. Нихонси-ни окэру катикан-но кэйфу (Генеалогия
ценностных теорий в японской истории). Токио, 1972.
66. Келле В. Ж., Ковальзон М. Я . Формы общественного сознания. М .,1961.
67.Кисида Дзюнносукэ. Дзёхока сякай-но икиката-канга-эката (Образ жизни
информационизируемого общества). Токио, 1970.
68. Киссель М. А. Особенности критики буржуазной философии на
современном этапе. Л.,1969.
69. Киссель М. А. Судьба старой дилеммы. М ., 1974.
70.К .итакава Тосио. Токэйгаку-но нинсики то токэйгакуси-но сёмондай
(Статистическое познание и вопросы истории ста тистики). — «Сидзен
кагаку» («Естественные науки»), 1948, No 13.
71. Китамура Минору. Гэндай нихон-но хандо сисо (Реакционная идеология
современной Японии). — «Марукусусюги тэцугаку» («Марксистская
философия»). Т . V. Токио, 1969.
72. Кодзаи Есисигэ тесакусю (Собрание сочинений Кодзаи Есисигэ). Т . I—
V. Токио, 1965—1967.
73. Кодзаи Есисигэ. Современная философия. Заметки о
«духе Ямато». М., 1974.
74. Козловский Ю. Б . Основной вопрос философии в трактовке японского
буржуазного философа Нисида Китаро. — «Философские науки», 1963, No 2.
75. Козловский Ю. Б . Распространение экзистенциализма в Японии.
Современный экзистенциализм. М ., 1966.
76. Козловский Ю. Б . Философия экзистенциализма в современной Японии.
М.,1975.
77.Косака Масааки. Китай сарэру нингэндзо (Образ человека, на которого
возлагают надежды). Токио, 1965.
78.Косака Масааки. Нисида Китаро то Вацудзи Тэцуро тэцугаку (Философия
Нисида Китаро и Вацудзи Тэцуро). Токио, 1964.
79.Косака Токусабуро. Сангёдзин сэнгэн (Манифест индустриалистов).
Токио, 1968.
80. Кузнецов В. Н. Жан-Поль Сартр и экзистенциализм. М ., 1968.
81. Кузнецов В. Н. Французская буржуазная философия XX века. М ., 1970.
82. Куно Осаму. Нихон-ни окэру хэйва рирон то хэйва ундо (Концепции о
мире и движение за мир в Японии). — «Сэкай» («Мир»), 1955, No 1.
83. Куно Осам у, Цуруми Сюнсукэ. Гэндай нихон но сисо (Общественная
мысль современной Японии). Токио, 1962.
84. Курода Канъити. Сутарин тэцугаку хихан (Критика философии И. В .
Сталина). Токио, 1959.
85. Курсанов Г. А. Гносеология современного прагматизма. М ., 1958.
86. Лаврентьев Б. П. История общественной мысли Японии. — «Современная
Япония». М ., 1973.
87. Латышев И. А. Внутриполитическая обстановка. — «Япония 1972». М .,
1973.
88. Латышев И. А. Япония наших дней. М ., 1976.
89. Маруики Сёдзо. Юйбуцурон-ни томэн суру сёмондай (Вопросы,
встающие перед материализмом). — «Дзэнъэй» («Авангард»), 1958, июнь.
90. Марукусусюги тэцугаку (Марксистская философия). Т . I—V. Токио,
1969—1970.
91. Маруяма Масао. Гэндай сэйдзи-но сисо то кодо (Теория и практика
современной политики). Токио, 1963.
92. Маруяма Масао. Нихон-но сисо (Общественная мысль Японии). Токио,
1963.
93. Маруяма Масао. Нихон сэйдзи сисоси кэнкю (Исследование истории
политической мысли в Японии). Токио, 1940.
94. Масуяма Гэндзабуро. Амэрика-ни окэру сукэйгаку-но симпо (Прогресс
статистической науки в Америке). — «Кикан дайгаку» («Университетские
публикации»), 1948, No 6.
95. Масуяма Гэндзабуро. Сукэйгаку-но ханаси (Беседы о статистической
науке). Токио, 1949.
96. Мацумото Коннодзё. Нингэн-о кангаэру хито (Человек, размышляющий о
людях). Киото, 1972.
97. Мацумото Масао. Соадзай-но ронригаку кэнкю (Изучение логики бытия).
Токио, 1962.
98. Мацусита Кэйъити, Гэндай нихон-но сэйдзитэки косай (Политическая
структура современной Японии). Токио, 1962.
99. Мацусита Кэйъити. Тайсю кокка-но сэйрику то соно мондайсэй (Характер
массового государства и его проблемы). Токио,1956
100. Мельвиль Ю. К . Американский прагматизм. М ., 1957.
101. Мельвиль Ю. К . Чарльз Пирс и прагматизм. М ., 1968.
102. Менде Г. Очерки о философии экзистенциализма. Пер. с нем. М ., 1958.
103. Миида Кадзуо. Гэндай кэйъэй сисорон то тайсю сякай рирон
(Современные концепции управления и теории массового общества). Токио,
1963.
104. Мита Сэкисукэ. «Сихонрон»-но хохо (Метод «Капитала»). Токио,1963.
105. Миякэ Гоити. Гэндай тэцугаку-ни окэру нингэн сондзай-но мондай
(Проблема человеческого существования в современной философии). Токио,
1959.
106. Миямото Тадао. Дзёхо канкё-но кикэн-на бункитэн (Сфера информации
на опасном распутье). — «Тюокорон» («Центральное обозрение»), 1974, май.
107. Мор и Коити. Развитие материалистической философии Японии после
второй мировой войны. — «Современные прогрессивные философы
Японии». М ., 1964.
108. Мори Коити. Юйбуцурон-но сисо то тосо (Мысли и борьба
материалистов). Т . I—II. Токио, 1971.
109. Мори Рюкити. Икиру тамэ-но буккё (Буддизм для жизни). Токио,1966.
110. Мотрошилова Н. В . Познание и общество. М ., 1972.
111. Мураками Сигэёси. Гэндай нихон-но сюкё сисо (Религиозная мысль
современной Японии). — «Марукусусюги тэцугаку» («Марксистская
философия»). Т . V. Токио, 1969.
112. Мутай Рисаку. Гэндай-но хюманизуму (Современный гуманизм). Токио,
1959.
113. Мутай Рисаку. Кофуку-но тансаку (Поиски счастья). Токио,1960.
114. Муто Мицуру. Сякайсюги то дзиссон тэцугаку (Социализм и философия
существования). Токио, 1968.
115. Мысливченко А. Г . Антигуманизм под маской «нового гуманизма». —
«Новейшие приемы защиты старого мира». М ., 1962.
116. Мысливченко А. Г . Проблема человека. Кризис буржуазной «философии
человека». М ., 1965.
117.Мысливчеяко А. Г . Человек как предмет философского познания. М .,
1972.
118. Наган Нарио. Бунсэки тэцугаку (Аналитическая философия).
Токио,1958.
119.Накамура Хидэкити. Нихон-ни окэру ронридзиссёсюги оёби бунсэки
тэцугаку (Логический позитивизм и аналитическая философия в Японии). —
«Сэнго нихон-но сисо» («Общественная мысль в послевоенной Японии»). Т.
1. Токио, 1963.
120. Накамура Юдзиро. «Тэпугаку»-но хихан то косо (Критика и позитивный
смысл «философии»). —«Тэцугаку», 1969, No 19.
121. Нарский И. С . Понятия «нигилизм» и «ничто» в экзистенциализме М.
Хайдеггера и антикоммунизм. — «Философские науки», 1964, No 3.
122. Нарский И. С . Проблема отчуждения в экзистенциализме. —
«Философские науки», 1966, No 1.
123. Нарский И. С . Современный позитивизм. М ., 1961.
124. Нисида Китаро дзэнсю (Полное собрание сочинений Нисида Китаро). Т.
I—XVIII. Токио, 1946—1953.
125.Ниситани Кэйдзи. Нихиридзуму (Нигилизм). Токио, 1970.
126.Ниситани Кэйдзи. Сингаку то тэцугаку-но дзидай (Эпоха теологии и
философии). Токио, 1968.
127. Ниситани Кэйдзи. Сюкё то ва нани ка (Что такое религия?). Токио,1961.
128. Нихон бунка-но кодзо (Структура японской культуры). Т . I—II . Токио,
1972.
129. Новейшие приемы защиты старого мира. М ., 1962.
130. Одyeв С. Ф. Марксизм и современная буржуазная философия. —
«Философские науки», 1967, No 6.
131. Одуев С. Ф. Оптимистическая «реформация» экзистенциализма. —
«Вопросы философии», 1972, No 5.
132. Одyeв С. Ф. Тропами Заратустры. М„ 1971.
133. Ойзерман Т. И. К критике хайдеггеровской концепции.
—
«Философские науки», 1965, No 4. 134. 0йзерман Т. И. Проблемы
историко-философской науки. М ., 1969.
135. Орлова Т. А. Экзистенциальная интерпретация религии. — «Вопросы
философии», 1961, No 3.
136. Oxаси Рюкэн. Гэндай токэй сисорон (Теории современной статистики).
Токио, 1961.
137. Плетников Ю. К . О природе социальной формы движения. М ., 1971.
138. Поспелов Б. В . Очерки философии и социологии современной Японии.
М.,1974.
139. Радуль-Затуловский Я. Б . Андо Сёэки, философ-материалист XVIII века.
М., 1961.
140. Радуль-Затуловский Я. Б . Из истории материалистических идей в
Японии. М ., 1972.
141. Религия и общественная мысль стран Востока. М ., 1974.
142. Сабата Тоёюки. Нихон-о минаосу (Посмотрим на Японию иначе).
Токио,1964. 143. Сайто Тэцуро. Нагаи Нарио-но тэцугакусюги-ни цуйтэ (О
философизме Нагаи Нарио). — «Кагаку тэцугаку нэмпо» («Ежегодник по
философии науки»). Токио, 1961.
144. Сакаки Тосио. Марукусусюги то дзиссонсюги (Марксизм и
экзистенциализм). Токио, 1958.
145. Саката Сёити. Атарсий сидзэнкан (Новый взгляд на природу).
Токио,1974.
146. Сaxapoва Т. А. От философии существования к структурализму.
М.,1974.
147. Саэгуса Хирото. Сэйёка нихон-но кэнкю (Изучение европеизируемой
Японии). Токио, 1958.
148. Светлов Г. Е. Религия и политика. О социально-религиозных движениях
в современной Японии. — «Проблемы Дальнего Востока», 1974, No 2.
149. Сибата Синго. Гэндай-но радэикаризуму (Современный радикализм).
Токио,1970.
150. Сибата Синго. Гэндай-но сэйсинтэки родо (Современный умственный
труд). Т. I —VI. Токио, 1975—1976.
151. Сибата Синго. Дзёхока сякайрон-но хихан (Критика теории
информационизируемого общества). — «Кэйдзай хёрон» («Экономическое
обозрение»), 1969, No 9.
152. Сибата Синго. Тайсюсякай рирон э-но гимон (Сомнения в отношении
теории массового общества). — «Тюокорон» («Центральное обозрение»),
1957, июнь.
153.Симидзу Икутаро. Гэндай сисо (Современная общественная мысль).
Токио, 1967.
154. Симидзу Икутаро. Сэйсин-но ририку (Отлет духа). Токио,1965.
155. Современная буржуазная идеология в США. М ., 1968.
156. Современная буржуазная философия. М ., 1972.
157. Современные прогрессивные философы Японии. М ., 1964.
158. Современный экзистенциализм. М ., 1966.
159. Современная Япония. М ., 1964.
160. Современная Япония. М .,1973.
161. Соловьев Н. П., Михалев А. А. Философские взгляды Мики Киёси и
общественная мысль Японии в конце 20-х
—
начале 30-х годов. М ., 1975.
162. Соловьев Э. Ю. Экзистенциализм. — «Вопросы философии», 1966, No12;
1967, No 1.
163. Соловьев Э. Ю. Экзистенциализм и научное познание. М ., 1966.
164. Социология и современность. М ., 1974.
165. Судзуки Тору. Гэндай-ни окэру нингэн то дзиссон (Человек и
экзистенция в современную эпоху). Токио, 1967.
166. Судзуки Тору. Гэндай нихон-но тэцугаку-но кэйрай то тэмбо
(Ретроспективный взгляд на современную японскую философию и
перспективы ее развития). — «Тэцугаку», 1968, No 18.
167. Судзуки Тору. Дзиссон сьсо тоситэ-но Нисида тэцугаку (Философия
Нисида как экзистенциальная мысль). — «Дзиссонсюги»
(«Экзистенциализм»). Т. I . Токио, 1968.
168. Судзуки Тору. Кёсонтэки сэкай (Мир эхо-бытия). Токио, 1967.
169. Сэйкацу-но нака-но хосо (Телевизионные и радиопередачи в жизни).
Токио,1971.
170. Сэнго нихон-но сисо (Общественная мысль послевоенной Японии). Т . I.
Тэдугаку (Философия). Токио, 1963.
171. Сэнго нихон сэйсинси (История духовной жизни Японии после войяы).
Токио, 1963.
172. Сюкё нэнкан 1971 (Религиозный ежегодник 1971). Токио, 1972.
173. Тавризян Г. М . Религиозный подтекст экзистенциалистской морали. —
«Вопросы философии», 1965, No 3.
174. Такада Коин. Насакэ (Чувство). Токио, 1972.
175. Такидзава Кацуми. Дайгаку какумэй-но гмтэй-о мотомэтэ (В поисках
причин университетских революций). Токио, 1969.
176. Тамару Токудзэн. Гэндай то сюкё (Современная эпоха и религия). —
«Тэцугаку», 1973, No 23.
177.Танабэ Хадзимэ. Дзангэдо тоситэ-но тэцугаку (Философия как
раскаяние). Токио, 1946.
178.Танабэ Хадзимэ. Сэйдзи тэцугаку-но кюму (Неотложные задачи
политической философии). — «Тэмбо» («Обозрение»), 1946, март.
179. Титаренко А. И. Прагматический материализм—философия
антикоммунизма. М ., 1965.
180. Томинага Кэнъити. Атарасий когё сякай (Новое индустриальное
общество). Токио, 1965.
181. Топеха П. П. Вопросы единства профсоюзного движения в современной
Японии. М .,1964.
182. Топеха П. П. Идеологическая маскировка американской оккупации в
Японии. — «Вопросы философии», 1952, No 1.
183. Тосака Дзюн дзэисю (Полное собрание сочинений Тосака Дзюн). Т . I—
IV. Токио, 1967—1969. 184. Тэнсэй дзинго (Глас о небе). — «Асахд симбун»,
3.1 .1973.
185. Тэрадзава Цунэнобу. Бэнсёхотэки ронригаку сикирои (Опыт по
разработке системы диалектической логики). Токио, 1958.
186. Тэцугаку (Философия), Иванами кодза (Серия Иванами), Т. I—XVIII.
Токио, 1966—1969.
187. Умэмото Кацуми. Какумэйтэки марукусусюги то ва нани ка (Что такое
революционный марксизм?). Токио, 1970.
188. Умэмото Кацуми. Катоки-но исики (Сознание переходного периода).
Токио, 1951.
189. Умэмото Кацуми. Сосики то нингэн (Организация и человек).
Токио,195U.
190. Умэмото Кацуми. Юйбуцурон то сютайсэй (Материализм и
субъектность). Токио,1969.
191. Умэхара Такэси. Нихон-но бунка-о нагарэру мицу-но сисо гэнри (Три
идейных принципа в японской культуре). — «Гэндай тэцугаку-ни окэру
нингэн сондзай-но мондай» («Проблемы человеческого бытия в современной
философии»). Токио, 1968.
192. Уэда Коитиро. Пурагматизуму-но хэнсицу-но гэнкан (Пределы
трансформации прагматизма). — «Бунка хёрон» («Культурное обозрение»),
1962, No VI—VIII.
193. Уэда Коитиро, Фува Тэцудзо. Марукусусюги то гэндай идэороги
(Марксизм и современная идеология). Т . I —П. Токио, 1963.
194. Уэяма Сюмпэй. Бэнсёхо-но кэйфу (Генеалогия диалектики). Токио,1963.
195. Уэяма Сюмпэй. Тэцугаку-но тикара (Сила философии). — «Сисо», 1954,
No5.
196. Философия в современном мире. Философия и наука. М ., 1972.
197. Фудзимото Синдзи. Нихон-но пурагуматизуму (Японский прагматизм).
—
«Сэнго нихон-но сисо» («Общественная мысль послевоенной Японии»). Т.
I. Токио, 1963.
198. Фунаяма Синъити Мэйдзи тэцугакуси кэнкю (Изучение истории
философии периода Мэйдзи). Киото, 1959.
199. Фурута Хикару. Нисида тэцугаку то марукусусюги (Философия Нисида
и марксизм). — «Тэцугаку», 1967, No 17.
200. Хасимото Гёин. Каварадзару моно (Неизменное). Токио, 1972.
201. Xатакэмура Матвее и, Ватанабэ Цунэхико. Кэйдзайгаку то токэйгаку
(Экономика и статистика). — «Кэй-дзай хёрон» («Экономическое
обозрение»), 1952.
202. Хидака Рокуро. Гэндай идэороги (Современная идеология). Токио,1960.
203. Цветов В. Я . Япония: телевидение и общество. — «Япония W3». М .,
1974.
204. Цуруми Сюнсукэ. Пурагуматизуму нюмон (Введение в прагматизм).
Токио,1959.
205. Шварц Т. От Шопенгауэра к Хайдеггеру. М ., 1964.
206. Эфиров С. А. Позитивный экзистенциализм и его крушение. —
«Вопросы философии», 1958, No 5.
207. Юаса Ясуо. Догэн — Синран-ни окэру нихонтэки-дзиссон-тэки-на моно
(Японское-экзистенциальное у Догэна—Синрана). — «Дзиссонсюги»
(«Экзистенциализм»). Т. I, Токио, 1968.
208. Юйбуцурон (Материализм). Токио, 1975.
209. Юйбуцурон (Материализм). — Хоккайдо дайгаку (Университет
Хоккайдо), 1955, май.
210. Ямамото Харуёси. Гэндай-но сисо (Современная общественная мысль).
Токио, 1964. 211 . Ямадзаки Кэн. Нихон Гэндай тэцугаку-но кихон
сэйкаку (Основные черты современной японской философии). Токио, 1957.
212. Янагида Кэндзюро. Эволюция моего мировоззрения. М ., 1957.
213. Япония. М ., 1973.
214. Япония 1972. Ежегодник. М ., 1973.
215. Япония 1973. Ежегодник. М ., 1974.
216. Япония 1974. Ежегодник. М ., 1975.
217. Hwa Yol Yung. Confutsianizm and Ex'stenzializm. — Phylosophy
Phenomenological Research, 1970, vol. XXIX, No 2.
218. Mum ford L. Art and Technics. New York, 1952.
219. Nakamura Н. The Way of Thinking of Eastern Peoples. London, 1960.
220. Peirce Ch. S. Collected Papers. Vol. I—VI, 1932—1935.
221. Studies on Modernization of Japan by Western Scholars. Tokyo, 1962
ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение ........... 3
Глава первая. Современная буржуазная философия в Японии и социальная
обусловленность ее развития .... 7
Глава вторая. Буржуазная философия в системе культуры Японии ............. 40
Своеобразие развития национальной культуры Японии ... 42
Особенности развития философской мысли в Япония ... 58
Глава третья. Основные направления современной буржуазной философии в
Японии ......... 77
Философия экзистенциализма ...... 77
Философия прагматизма ....... 106
Философия неопозитивизма ......... 126
Социальная философия ......... 162
Заключение ............ 198
Примечания ............ 201
Список литературы ........... 205
Автор книги: Юрий Борисович Козловский
Краткая справка об авторе
Юрий Борисович Козловский (4 августа 1927, Москва) — специалист
по японской философии, кандидат философских наук.
Окончил японское отделение Московского института востоковедения,
аспирантуру философского факультет МГУ (1960). В 1951–1956 работал
в Военном институте иностранных языков, в 1956–1960 — внештатный
переводчик Всесоюзного института научной и технической информации.
С 1960 работает в ИФ АН СССР (ныне РАН), старший научный
сотрудник.
Кандидатская диссертация — «Философия Нисида и ее идеалистическая
сущность» (1963). Разрабатываемые темы и проблемы: особенности
развития современной (послевоенной) философской мысли в Японии,
анализ философских концепций ведущих мыслителей современной
Японии. В трудах Козловского Ю.Б. дается критический анализ
историко-философских концепций, базирующихся на использовании
чрезмерно расширительно понимаемых категорий «буддизма»,
«конфуцианства», «даосизма»; исследуется роль авторитарного сознания
в истории развития мировоззренческой мысли в странах Дальнего
Востока.
В последних исследованиях Козловского Ю.Б. выделяются статьи
по буддологии, философии средневековой Японии, в которых
рассматриваются особенности философской мысли Японии, даются
характеристики учений японских философов.
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/57700/Козловский