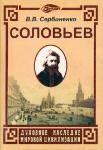Автор: Безансон А.
Теги: история как наука теория и философия истории структура и морфология истории всеобщая история история российского государства философия история культуры социология
ISBN: 5-87902-018-5
Год: 2002
АЛЕН БЕЗАНСОН
ИЗВРАЩЕНИЕ ДОБРА
Соловьев и Оруэлл
Издательство «МИК»
Москва 2002
ALAIN BESANÇON
LA FALSIFICATION DU BIEN
Soloviev et Orwell
Безансон А.
Б 39 Извращение добра: Соловьев и Оруэлл / Перевод с
французского Н. В. Кисловой (введение и первая часть) и
Т. В. Чугуновой (вторая часть и заключение). — М.:
Издательство «МИК», 2002.— 168 с.
ISBN 5-87902-018-5
Известный историк и философ, член Французской академии
Ален Безансон обращается к интерпретации проблемы зла в
XX веке, анализируя итоговые произведения русского мыслителя
Владимира Соловьева (философское эссе «Три разговора») и
английского писателя Джорджа Оруэлла (антиутопию «1984»). По
мнению исследователя, именно эти два автора, на первый взгляд
столь далекие друг от друга, с особой проницательностью
раскрыли изощренный характер зла в современном мире,
пытающегося обольстить людей под маской поддельного добра.
Книга предназначена широкому кругу читателей,
небезразличных к этической проблематике современной культуры и истории.
Считаю приятным долгом поблагодарить
Институт Гувера (Станфорд, Калифорния), где я
получил возможность начать работу над этим эссе в
самых благоприятных условиях; моих друзей, в
частности, Михаила Геллера и Пьера Манана,
согласившихся прочитать мою рукопись и
предложивших важные поправки; наконец, моих
студентов — участников семинара, посвященного
Владимиру Соловьеву и Джорджу Оруэллу.
Станфорд, Магала, 1983—1984
ВВЕДЕНИЕ
ЧУВСТВО ЗЛА В XX ВЕКЕ
Я не убежден, что в XX веке зло распространилось шире, чем в
другие века. История учит нас: стоит обратиться к любой эпохе, —
и мы откроем в ней явное присутствие зла, глубину которого
познать и измерить нам не под силу. Зло видоизменяется. Оно
поражает политическую жизнь, мировое сообщество, экономические
отношения, семью, нравы, мысль, плоть в масштабах, которые мы не
способны оценить. Нередко худший порок века становится
очевиден лишь в следующем столетии. Во все времена великие умы
сетовали на неописуемые бедствия, свидетелями которых они стали, и
сожалели о прошлом, когда не было этого зла. Точно так же во все
времена великие умы (часто те же), с ужасом отворачиваясь от
преступлений, со спокойной совестью содеянных отцами, сами уже не
совершают подобного. Но они не предполагают, что дети поставят
им в вину другие преступления, которых они не сознавали.
Быть может, в истории идет непрерывное и одновременное
развитие и добра и зла. Такая точка зрения представляется
правдоподобной и разумной. Проверить ее мы не можем, поскольку этот
двойной прогресс не является обязательным и измерению не под-
5
лежит. Бывают дни, когда зло как будто застилает горизонт, а в
иное время оно отступает, оставляя едва заметный след, и,
кажется, нужно лишь последнее усилие, чтобы с ним покончить. Были
века оптимизма, были и века отчаяния. Но верить им нельзя, ибо
они заблуждались относительно распространения добра и
глубины зла. Можно ли назвать оптимистическим XIX век, говоривший
голосами Бодлера и Флобера, Гарди и Батлера, Ницше и
Достоевского? Все же это был век оптимизма, и ретроспективный взгляд
позволяет нам признать его правоту. Я не решаюсь вынести
приговор XX веку, исполнившему самые страшные пророчества и
вместе с тем самые захватывающие устремления предыдущего
столетия. Гюго и Бодлер в том, что их объединяло и разделяло,
оказались и правы, и неправы.
Зло меняет точку опоры. В отличие от литературы прошлого века
современную литературу меньше заботит разложение нравов, семьи
и общества. Дело не в том, что оно прекратилось, однако главный
очаг зла усматривают не здесь, или то, что прежде звали злом, теперь
так не называют. Зато объектом критики стала теперь история, на
которую европейская мысль возлагала столь большие надежды.
XX столетие началось с войны: она представляет для нас некую
тайну, так как слишком силен контраст между ничтожностью
причин и огромностью разрушительных последствий. Продолжением
войны стали невиданные до тех пор массовые убийства. Я
воздерживаюсь от приговора своему времени, потому что не могу
целиком охватить его взглядом, но, если ограничиться областью
уничтожения людьми себе подобных, придется констатировать, что в этом
наш век пошел дальше всех других. Это подтверждает статистика.
Такие названия, как Колыма и Освенцим, обозначают новые
явления, до того неизвестные опыту человечества.
Верно и то, что наиболее концентрированное уничтожение людей
наблюдается там, где был развернут самый амбициозный
исторический эксперимент. В самом деле, как коммунистическое движение, так
и нацизм предприняли попытку раз и навсегда искоренить
политическое и социальное зло. Соответствующие учения можно
анализировать как рассуждения о зле, его причинах, локализации, о способах
его уменьшить, изгнать и очистить от него землю. И вот в ходе этой
операции зло возросло, как никогда. То, что казалось добрым и
благородным, обратилось преступным и гнусным в последней степени!
6
Однако, читая свидетельства наиболее чутких и думающих людей,
мы узнаем, что для них самое худшее — не убийства, не гнет или
нищета. Все эти проявления зла стары, как сама история, и хорошо
известны. Что пытаются передать нам свидетели (чаще всего безуспешно),
это опыт удивительного и непонятного для них сверхвозрастания зла,
злейшего, чем само зло, так как его путают с добром. Вот отчего
испытывают они страх, который встречается только в литературе XX века.
Идея конца света живет во все времена. Наше время заново к ней
обращается, открывая не только распад всех вещей, но также распад
сознания и мысли. И уже не о страхе конца света идет речь, не об
ожидании его, — конец света непосредственно осязаем.
На каких свидетелей сослаться? С сожалением приходится
признать, что прямые свидетели — не самые красноречивые: быть
может, крайняя степень зла парализовала саму способность
свидетельства, и понадобилась определенная дистанция, чтобы
осмыслить и выразить, что же в действительности произошло.
Свидетелей убивали, но тех, кто выжил, словно душит слишком яркое
сознание немыслимого, непередаваемого. Литература концлагерей,
например, почти всегда разочаровывает своей
невыразительностью. Но лагерь вполне реален, его можно представить. Между тем,
самые прозорливые из свидетелей пытаются нам объяснить, что
лагерь в его материальности, голод, побои, казни — это не само
зло, а только метафора зла. Определенного рода литературу XX
века характеризует именно затруднение в дефиниции, назывании
того, что она всей плотью ощущает как абсолютное зло.
Современный польский поэт Збигнев Херберт сумел передать
это с мрачно-проницательным юмором. Вот пересказ его поэмы
«Чудовище господина Когито»1. Повезло святому Георгию:
возвышаясь в рыцарском седле, он мог ясно видеть, сколь силен дракон,
и наблюдать за его движениями. Позиция господина Когито вовсе
Об этой поэме я узнал от Чеслава Милоша во время встречи в
Уилмингтоне (Вермонт) в августе 1984 г. Мое переложение (не решаюсь назвать
его переводом, так как не знаю польского языка) в немного
сокращенном виде воспроизводит перевод на английский Милоша и
французский подстрочник (переводчик А. Смолар). Стихи принадлежат к циклу
«Г-н Когито». Польское название — «Potwor Pana Cogito»*. (Здесь и
далее примечания автора обозначены арабскилш цифрами, примечания
переводчика — звездочками).
cogito (лат.) — (я) мыслю.
7
не так удобна. Он сидит в глубокой долине, окутанной густым
туманом, сквозь который угадывается лишь мерцающее ничто.
Чудовище господина Когито трудно описать, оно не поддается
определению. Это нечто вроде великой депрессии, распространившейся
по всей стране. Чудовище неуязвимо ни для пера, ни для
аргументов, ни для копья. Если бы оно не давило с такой силой, не
насылало свыше смерть, можно было бы поверить, что это только
галлюцинация больного воображения. Однако оно существует, ибо
оно разрушает структуры разума и покрывает плесенью хлеб.
Косвенное, но достаточно убедительное доказательство его
существования — это жертвы. Благоразумные люди уверяют, что при нем
можно жить: надо только избегать резких движений и громких
слов, прикинуться камнем или листком, дышать не слышно —
словом, вести себя так, будто тебя здесь нет. Но господину Когито
мало делать вид, что живешь. Он хотел бы сразиться с чудовищем в
открытом бою. С рассветом он выходит в полном снаряжении на
спящую городскую окраину. Он вызывает чудовище на пустые
улицы, бросает ему оскорбления, провоцирует его, как отважный
авангард несуществующей армии. Он обзывает чудовище трусом!
Но в тумане угадывается лишь гигантская морда небытия.
Господин Когито жаждет боя, пусть неравного, и готов к нему. Но
прежде произойдет падение по инерции, наступит банальная и
бесславная смерть, его удушит то, что не имеет формы.
Мало писателей, прошедших такое испытание, и еще меньше
тех, кто оказался на высоте. Французов среди них я не вижу.
Солженицын, похожий на святого Георгия и более удачливый, чем
господин Когито, встретился с чудовищем лицом к лицу и дал ему
имя: ложь. Но он боец, а для моего исследования мне хотелось
найти опору в умах более созерцательных. Я хотел бы сослаться на
Юнгера, Замятина, Булгакова, Платонова, Зиновьева. Юнгер ясно
видел того же врага, но он предпочел пройти мимо, не удостоив
чудовище долгим взглядом, подобно рыцарю Дюрера. Что
касается русских писателей, они вышли из схватки не без ущерба,
истерзанные телом и душой. Иногда им хотелось заключить пакт с
чудовищем, приручить его. Часто они решались его разоблачить,
показывая свои раны и даже нарочно его имитируя.
По крайней мере двое писателей, на мой взгляд, рассказали об
этом неведомом зле как должно — так, что мы можем почувство-
8
вать его сердцем и отчасти понять1. Ни один ни другой не
столкнулись с ним непосредственно. Соловьев умер раньше, чем это зло
проявилось. Оруэлл знал его косвенно и понаслышке. И все же,
мне кажется, они уловили его яснее, чем те, кто в полноте испытал
это иго. Принцип их понимания не эмпиричен. Они провели
частичный эксперимент с помощью сильной теории.
Русского и англичанина не объединяют ни время, ни культура,
ни воспитание, ни вера. Однако их сближают итоги исследования,
что я надеюсь показать в конце этой книги. Отмечу сразу одну
характерную черту, побудившую меня их объединить, каким бы
странным ни казалось такое сопоставление. Этому злу, так ярко
обрисованному их интуицией, они смотрели прямо в лицо, не
поддавшись ни страху, ни отвращению, не чувствуя ни малейшей
снисходительности. Пытливо изучая, объясняя, они сохранили
удивленный взгляд ребенка, чистоту сердца.
Оба они лишь в самом конце жизни обнародовали свои
прозрения. Я прочел большую часть их сочинений. Последние
произведения — «Три разговора» Соловьева и «1984» Оруэлла —
превосходят все написанное ими прежде. Как бы ни был блистателен
Соловьев, не напиши он свою последнюю книгу, и сегодня ему было
бы уготовано место между Флоренским и Булгаковым, в ряду
прочих представителей столь эклектичной и неровной религиозной
философии, расцветшей в царской России накануне ее конца.
Оруэлл считался бы самым симпатичным, самым честным и самым
талантливым среди левых социальных писателей, не превзойди он
самого себя в романе «1984». Я буду говорить не о Соловьеве и
Оруэлле, а только об этих двух произведениях. Моя задача —
проанализировать и прокомментировать их. Оба текста
сопротивляются исследователю; оба они дорого стоили своим авторам. Солнце и
смерть видеть в упор нестерпимо: не легче смотреть в упор на зло.
Соловьев и Оруэлл умерли преждевременно, написав эти
сочинения, и, может быть, именно оттого, что они их написали.
Со времен Иова, со времен Гесиода, столкнувшись с крайним
злом, люди взывают к небесам. Соловьев открыто, Оруэлл более
1 Милош мог бы считаться третьим. «Пленную мысль» (перевод на
французский, 1953 г.) можно поставить рядом с «1984». Но, написав
эту книгу, Милош отказался от смертоносного созерцания зла.
Темперамент вернул его к ценностям жизни.
9
прикровенно разрабатывают свой опыт теологически. Соловьев
занимался богословием по призванию, почти профессионально;
Оруэлл — теолог поневоле, вопреки себе, но не в меньшей
степени, чем Соловьев, — во всяком случае, в «1984».
Ни того ни другого не удовлетворяет классическое
определение зла, предложенное Плотином и принятое Церковью: зло есть
лишение блага1. Предисловие к «Трем разговорам» Соловьева
начинается так: «Есть ли зло только естественный недостаток,
несовершенство, само собою исчезающее с ростом добра, или оно есть
действительная сила, посредством соблазнов владеющая нашим
миром, так что для успешной борьбы с нею нужно иметь точку
опоры в ином порядке бытия?»2 Эта сила и у того и у другого
автора облекается в форму почти личную. Соловьев утверждал, что
ему являлся черт. Оруэлл ничего подобного не утверждал. Но за
образом Старшего Брата отчетливо вырисовывается тот же
персонаж, который совершает столь эффектные появления в романе
Булгакова и который, конечно, знаком и Юнгеру, и Зиновьеву.
Объясняя наших двух авторов, мы должны последовать за ними по
этому пути до конца.
1 Эннеады. 1. 8. 5. Схоласты добавили: лишение надлежащего блага.
2 Собрание сочинений. Т. X. С. 83*.
Неточно воспроизведен курсив в цитате. В оригинальном тексте
выделены такие слова: зло, недостаток, владеющая.
10
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
СОЛОВЬЕВ, или ИЗВРАЩЕНИЕ ДОБРА
Глава I
В салоне...
Три разговора «о войне, нравственности и религии»
происходят в 1899 году в Каннах, в небольшой компании русских,
собравшихся на одной из вилл Средиземноморского побережья1.
Общество собралось у некой светской дамы. Помимо хозяйки,
здесь присутствуют Генерал, Политик, Князь и Философ (за ним
скрывается не кто иной, как сам Соловьев). Центральная
фигура — Князь, так как именно против него последовательно
выступают Генерал, Политик и Философ. Это молодой человек,
проникшийся идеями Толстого, а кроме того — русскими (да и не только
русскими) направлениями мысли конца XIX века: теософией,
идеализмом, спиритуализмом. Таким образом, он представляет собой
новое воплощение Безухова, Левина, Нехлюдова — героев
«Войны и мира», «Анны Карениной», «Воскресения». Есть в нем и
отдельные черты князя Мышкина и Алеши Карамазова. И, наконец,
Издание полного собрания сочинений В. С. Соловьева было
предпринято в 1901 г. С. М. Соловьевым и Э. Л. Радловым. Второе издание,
появившееся в С.-Петербурге, было воспроизведено в 1966 г. в Брюсселе
(Foyer Oriental Chrétien) и содержит 6 томов (в каждом из них — 2 тома
русского издания). «Три разговора» помещены в т. X, с. 83—226.
Французский перевод Э. Тавернье был издан во Франции в 1916 г.: Vladimir
Soloviev. Trois entretiens sur la guerre, la morale et la religion. Paris, Pion,
217 p. Тавернье дает полный текст, кроме важного предисловия
Соловьева. Жан Говен (псевдоним Ж. Лалуа) в своей комментированной
антологии сочинений Соловьева (Conscience de la Russie / Engloff, Fribourg
et LUF. Paris, 1950) предлагает новый и значительно лучший перевод
«Повести об антихристе». Наконец, новый перевод Б. Маршадье и
Ф. Руло опубликован издательством O.E.I.L., Paris, 1984.
11
именно Князь, чьи искренность, бескорыстие, приверженность
высочайшей нравственности несомненны, по этой самой причине
предстает как образ Князя мира сего, подготавливающий
изображение антихриста.
Разговор ведется в салоне. Собеседники принадлежат к
«образованной» России. Мы словно видим один из выцветших
фотоснимков — редких наглядных свидетельств прежнего русского
общества. В этих снимках, в отличие от многих французских
фотографий «эпохи 1900 года», нет ничего смешного или вульгарного.
Стиль одежды прост и приятен, на широких лицах, обрамленных
спокойной бородой, в ясных, прямо смотрящих глазах написано
доброжелательное кроткое достоинство.
Тип русского дворянина сложился в конце царствования
Екатерины Второй. Познакомившись с ним в период войн Первой
империи, Европа сочла его приличным и благовоспитанным. Описывая
русских персонажей в своей прозе, ни Стендаль, ни Клейст не
находят в их поведении и манерах повода для придирок. Пожелав
создать совершенный образ дворянина, каким он представлялся в
эпоху Реставрации — надменно-меланхоличного, недосягаемо-
элегантного, — Энгр пишет портрет графа Гурьева.
Между тем было известно, а с течением XIX века становилось
все яснее, сколь непрочно положение русского дворянства.
Непрочность его проявлялась в двух отношениях — социальном и
нравственном.
С самого появления дворянства при Петре Великом отведенная
ему сфера была ограниченной и находилась под двойной угрозой,
как со стороны «народа», чуждого по нравам, одежде, отчасти и по
языку, так и со стороны бюрократического государства, для
которого ни ранг, ни род — не преграда. В каннском салоне
вспоминают пушкинского безумца в плену меж разбушевавшейся стихией и
Медным всадником.
Еще важнее то, что дворянству трудно сохранять свои нравы и
веру. Дворянство крепко лишь своими традициями, а русская
история не позволила ему сохранить их. Семейные связи ослабли.
Сословное единство, кастовый дух исчезают снобизм почти
отсутствует — это вносит в жизнь покой, но вместе с тем с каждым
браком, в новых поколениях наследников, в избрании того или иного
жизненного поприща социальная группа все больше распыляется.
12
В то же время набирает силу антидворянский снобизм. В
Западной Европе, усвоившей уроки Французской революции, уже
поняли, что литераторов следует держать на расстоянии. Во
Франции, в Англии философы, писатели и поэты утратили влияние на
герцогинь. Их принимают, но отношение к ним в свете вплоть до
войны 1914 г. остается таким же, как при Реставрации. В России с
середины XIX века в среде самого дворянства образуется
оппозиционно настроенная к нему группа, существующая отдельно, но
все же тесно с ним перемешанная, — лишенная корней
революционная интеллигенция. Речь идет не столько о социальной угрозе,
сколько о нравственном недуге, затрагивающем сами основы
бытия дворянства, стабильность его сознания. Дворянин попадает
под влияние интеллигента, испытывает его презрение; нередко,
будто заражаясь, перенимает резкие манеры, грубость, жаргон
журналиста-радикала.
Если бы дворянство могло обрести равновесие хотя бы в
преданности вере! Во всей Европе дворянство уже не шутит с
утвердившейся религией — англиканской, католической,
протестантской. Дело, главным образом, не в вере, — хотя и вера часто была
искренней, — но в образе жизни, в способе прямо,
недвусмысленно обозначить свое общественное положение, подчеркнуть его
отличия. Европейское дворянство дает понять, что его социальное
бытие составляет часть вселенского порядка, согласного с волей
Божией, и публично отдает себя под Божие покровительство.
В России подобного быть не могло. Петр Великий поработил
Церковь и иссушил ее. Он подорвал религиозные традиции
дворянства, обесценив всенародную Церковь и направив
благочестивые чувства на ценности, проповедуемые Государством, и даже на
само Государство.
Религиозный вакуум приводит к разъединению культа и
мысли. Дворянство продолжало посещать богослужения, соблюдать
посты, но это не давало ему никаких социальных преимуществ,
потому что Церковь утратила авторитет даже среди верных.
Мысль находила пищу вне Церкви, в иноверии различных течений
европейской мистики (например, пиетизм, Сведенборг,
мартинизм, франк-масонство, теософия) и приучалась рассматривать
религию как двухэтажное здание, где есть нижний этаж —
экзотерический и верхний — эзотерический. Lex orandi отделяется от
13
lex credendi*. Университетская немецкая философия была понята как
целостная система, объемлющая всю полноту рационального знания
и мистических интуиции. Воодушевление, с которым дворянская
молодежь устремилась в 30-е годы к Шеллингу или к профессорам, его
популяризирующим, носило, с одной стороны, интеллектуальный
характер, так как все пути знания с легкостью, без труда открывались
перед восторженным взором, с другой — характер религиозный,
потому что, пройдя такое посвящение, студенты чувствовали себя
заново рожденными к иной, просветленной жизни, к спасению.
Следует ли оставить религию предков? Романтическая
философия этого не рекомендует. Она утверждает ценность
национального прошлого, народной культуры, религиозных корней.
Славянофилы разработали некий устойчивый синтез, благодаря которому
сохранялось объединяющее видение импортированного
романтизма, приписанное, однако, путем историко-генеалогического
монтажа православной традиции, совершенно забытой (если только
когда-либо она была известна). Славянофильство никогда не было
господствующим учением среди дворянства. Но оно стало своего
рода системой отсчета, как бы очертив горизонт религиозной
рефлексии. Тот, кто хотел мыслить, выйдя за пределы привычной
церковной практики, находил учение славянофилов,
претендовавшее на выражение истинного христианства, очищенного от
искажений. Философско-религиозный синкретизм стал нормой
бытования в России «ученой» религии, обладающей определенной
утонченностью и привлекательностью. Подъем национализма
усиливает привлекательность такого рода религиозности. Россия
имела мало оснований для оправдания ее национальной гордости и
господства над другими народами. Но обладание истинной верой,
истиной означало некое абсолютное право. Тогда православие
превращается в идолопоклонство перед Россией.
В середине века на смену философии приходит идеология.
В Германии возвышенный гностицизм Шеллинга и Гегеля утратил
былую притягательность. Новое поколение предъявляет два новых
требования к системе: она должна подтверждаться наукой и быть
орудием политико-социального преобразования мира. Спасение
достигается путем завоевания власти.
lex orandi... lex credendi (лат.) — закон молитвы... закон веры.
14
В России идеология сложилась в 60-е годы. Сложилась она в
основном за счет дворянства, отняв лучших из его сыновей.
Идеология политически и интеллектуально запугивает дворянство,
стыдит его за унизительное положение между Государством, чьим
пособником оно оказывается, и народом, за счет которого оно
живет. Идеология осмеивает спорадические попытки помещиков и
чиновников улучшить экономические условия и способствовать
процветанию страны. Что касается эстетических, нравственных,
религиозных взглядов, интеллигенция обвиняет дворянство в
невежестве, отставании от прогресса, от науки. Многие из
представителей дворянства пассивно соглашались. Их вера была
недостаточно крепка. Однако в целом дворянству претило обращение в
веру революционной интеллигенции, как, например, Тургеневу и
Толстому.
Авторитетный журнал «Современник» под умелым
руководством поэта Некрасова объединял вокруг себя группу
профессиональных журналистов и двух признанных великими писателей —
Тургенева и Толстого. В середине 60-х годов редакция повернулась
к идеологии. Тургенев принадлежал к самой богатой части
дворянства; Толстой — по матери — к наиболее родовитой. Тургенев
подвергается самым жестоким оскорблениям. Он был либералом, в
области религии склонялся к агностицизму или к
меланхолическому спиритуализму. Он не мог решиться примкнуть к
народничеству, видя в нем воплощение политического фанатизма, к которому
питал самое большое отвращение. Кроме того, он стал мишенью
Достоевского и на сей раз жертвой фанатизма религиозного.
Тургенев уезжает за границу. Толстой, по сравнению с Тургеневым,
принадлежал к более представительному кругу дворянства, не
столько по происхождению, сколько по образу жизни, будучи
помещиком. Пройдя через романтический университет,
ознакомившись с теософскими и масонскими идеями поколения отцов, он
видит вокруг все многообразие крестьянской веры. От
славянофильства он унаследовал убеждение в том, что сущность религии,
как и сущность нации, хранится в избе, в обычаях, в обрядовых
жестах, в смиренной набожности женщин в платках и мужчин с
окладистой бородой. В народничестве ему близки только
презрение к высшим классам и к цивилизованным формам общественной
жизни, убеждение в нравственном превосходстве крестьянства и в
15
особенности чувство вины за невежество и нищету народа. Но, как
и Тургенев, он вынужден отойти от «Современника».
К тому времени, когда пишет свое произведение Соловьев и
когда разворачиваются три разговора, картина интеллектуальной
жизни изменилась и стала более дифференцированной.
На левом фланге сконцентрировалась идеология, укрепившись
и сплотясь вокруг марксизма. Она спустилась в нижние этажи
общества, поскольку ее категоричность и грубость уже не
производят впечатления на лучшую часть общества, за сто лет
европейского воспитания сделавшуюся образованной, утонченной,
просвещенной. Идеология берет реванш среди новой публики,
сформированной массовым образованием, и превращает ее в
заложника целостной культурной системы, на выход из которой
наложен моральный запрет. В самых высоких сферах, где пребывает
основная часть дворянства, можно дышать. Террор в литературе
закончился. Тридцатилетняя цензура революционной
интеллигенции, кажется, снята, будто крышка с кастрюли.
В центре располагается разнообразный, довольно
неопределенный мир либерализма, в общем, преобладающего среди
порядочных людей с начала века. Либерализм зародился в
просвещенных кругах двора и бюрократии, где со времен Екатерины читали
Монтескье, затем Гизо, Бенжамена Констана, Маколея и, наконец,
Токвиля и Милля. Он довольно хорошо ладит с авторитарным
Государством, если занимает «правые» позиции. Ему свойственно
уважение к ценностям цивилизации, к организованному
прогрессу, рациональному управлению, и в этом он наследник Polizeistaat*
века Просвещения. Он сторонник роста привилегий,
соответствующих развитию способностей. Он верит в пристойный гуманизм,
согласный с европейским духом и с той цивилизаторской миссией,
носителем которой чувствует себя Россия, как любая имперская
нация. Такое умонастроение распространяется за пределами
правительственно-административных кругов. Оно вдохновляет
помещиков, достаточно успешно участвующих в быстром развитии
цивилизации в деревне. Проникнут им и средний класс, вовлеченный
в профессиональную деятельность и все более многочисленный
благодаря экономическому прогрессу: инженеры, врачи, адвокаты.
Polizeistaat (нем.) — полицейское государство.
16
Либерализм тяготеет влево по мере того, как он развивает
политическую программу участия в государственных делах. Однако, со
своей стороны, проникая в революционную идеологию,
либерализм разрушает доктрину, размывая ее экстремизм, стараясь
вернуть некоторое число ее приверженцев в реальный, практический
мир. Для ревнителей революционной доктрины либерализм —
главный враг. Он носит светский характер. Принимая научную
критику религии, пришедшую из Франции и Германии, он в
общем придерживается агностицизма. Но антирелигиозность или
догматический атеизм ему не свойственны. Он занимает позицию,
характерную для Сент-Бева или Ренана во Франции: религия
достойна уважения, ее цели благородны, она полезна в нравственном
отношении. Но, увы, она ложна. Это иллюзия, которую наш век, к
своему благу, а возможно, на свою беду, преодолел.
Наконец, на правом фланге картина сложнее. Именно здесь
изобилуют талант и глубина, но мудрости и правды иногда
недостает. Упомяну вскользь о таких побочных ответвлениях и
отдельно растущих побегах, как Данилевский или Розанов, который
умудряется отрицать Новый Завет, принимая Ветхий, и одновременно
быть крайним антисемитом. Но о главном течении — «русской
религиозной философии» — необходимо сказать несколько слов.
Говоря упрощенно, она занимает пространство между двумя
полюсами: эзотерической теософией и православной патристикой. Как
правило, представители этого направления касаются и того и
другого полюса. Если Мережковский или Бердяев явно склоняются в
сторону Штейнера и госпожи Блаватской, время от времени они
проявляют точность интуитивного постижения традиционной
религии. Каких спекулятивных богатств, каких гностических
излишеств не встретишь у Булгакова или у Флоренского, при той
последовательности, которая приводит обоих к принятию
священства, а Флоренского — и к мученической кончине за веру!
Религиозная мысль остается привязанной к своим истокам и к
бессознательному синкретизму, с конца XVIII века смешивающему
спекулятивные течения, пришедшие с Запада, и заново
открываемую с воодушевлением патристику.
Культура Серебряного века, конечно, принадлежит «правому»
флангу, но ее не назовешь ни консервативной, ни либеральной.
Спиритуализм, благородное презрение к материальным вещам, по-
17
шлым достижениям развертывающейся индустриальной
цивилизации порождают незаинтересованность в сохранении того, что
есть. В политике эта культура — сторонница монархизма, но с
апокалиптическим оттенком, так как она не видит для России ничего
худшего, чем идти тем же путем, на который вступила Западная
Европа. Одно из ведущих литературных течений — символизм —
культивирует ненависть к буржуазии и в еще большей степени —
к мещанству. Серебряный век предчувствует близкий кризис
старого режима в России. Культурной аристократии на собственном
опыте известны растущие трудности дворянства, теряющего свои
имения и привычные источники доходов. Но у нее нет никакого
желания войти в современный мир. Париж, Берлин, Лондон
вызывают у нее отвращение. Она ждет катаклизма почти радостно, чуть
ли не с вожделением. И потому через «авангард» она оказывает
некоторую поддержку революционной партии, презирая ее, но в то
же время ожидая от нее очистительного пожара. Однако на рубеже
веков, в тот момент, когда состоялись разговоры, о которых пишет
Соловьев, до этого еще не дошло. Разрушительный нигилизм
присутствует в зачатке в спиритуализме Князя, но еще не осознал
себя. Он открывается Соловьеву раньше, чем Ленин обнаружит
возможность им воспользоваться.
В каннском салоне мы замечаем интонации и настроения,
которых не встретишь в собрании англичан или французов того же
круга. Прежде всего поражают интерес к сфере идей и умение ими
оперировать. Русские находили, что на Западе люди пусты,
поверхностны, невежественны. Если оставить в стороне
националистическое тщеславие, это мнение в чем-то справедливо. В России
принадлежность к дворянству определялась не столько
рождением, сколько воспитанием и образованием. Вследствие слабой
автономии этого класса, скромности его материальных ресурсов (за
немногими исключениями), ограниченности контактов неразвитую
общественную жизнь заменяют идеи. Петербургское общество до
глубины души удивлялось тому, что в Париже или в Лондоне
спорт, новая карточная игра, покрой редингота, победа на скачках,
успех любовницы привлекают больше внимания, чем идеи Гекке-
ля, Спенсера или Михайловского. Западное представление о том,
что человеку света есть чем заняться, кроме размышлений, в
России казалось непонятным.
18
Но первостепенное внимание к идеям объяснялось еще и
соперничеством с революционной интеллигенцией. Не будучи
«естественным» социальным образованием, она формировалась
выходцами их всех групп и слоев общества, объединившихся против
общества вокруг логического ядра общей теории. Общество, в
частности дворянство, смутно чувствует, что именно здесь, на почве
идей, решается его судьба. Здесь заинтересованность в идеях
выходит за рамки простого интереса.
Идеи гнетут и тревожат. Внедрение в умы ложного, безумного
учения у Достоевского сравнивается с одержимостью бесами.
Идеи вселяются в Россию, как «бесы в свиней». В конце века бесы
не изгнаны из русского общества. Его сотрясает изнурительная
мозговая лихорадка. Непосредственная связь с жизнью утрачена:
столь живительная еще во времена Пушкина, для каждого
следующего поколения она все труднее, все недоступнее. Витализм
Толстого — лишь компенсаторная замена этой связи. Деревья уже не
так зелены, солнце сияет не так ярко.
Об этом говорит Политик: «...нет уж теперь больше тех ярких,
а то совсем прозрачных дней, какие бывали прежде во всех
климатах... все как будто чем-то подернуто, тонким чем-то,
неуловимым...» А Дама продолжает и развивает эту мысль: «А я вот с
прошлого года стала тоже замечать, и не только в воздухе, но и в
душе: и здесь нет «полной ясности», как вы говорите. Все какая-то
тревога и как будто предчувствие какое-то зловещее».
Вернемся же в салон и познакомимся поближе с гостями.
Генерал, Политик и Князь представляют три эпохи русского
дворянства, а Философ — выразитель идей Соловьева — подводит
итоги всех трех эпох.
Генерал посвятил себя службе. Это достойный преемник
верных слуг Государства Российского, а точнее, его армии, ибо
испокон веков Россия представляет собой военную монархию. Если
искать ему аналогов в литературе, то мы пройдем мимо буйного
байронического героя Лермонтова, терзающихся и «думающих»
офицеров из прозы Толстого, недалеких генералов Достоевского и
остановимся на пушкинском капитане Миронове — честном,
добродушном, верном своему государю и Богу1. Этот тип скромного,
«Капитанская дочка».
19
знающего свое дело офицера, какими богата была русская армия
вплоть до 1917 года, уцелел, не поддавшись влиянию века, и
сохранил цельность и чистоту.
Политик принадлежит к типу более современному. Когда русские
бояре усвоили цивилизованные манеры, на европейской сцене
появились имперские административно-политические кадры,
призванные производить благоприятное впечатление. В конце века эти
круги знают, чего они хотят. Они убеждены — в духе просветительства
и просвещенной монархии, — что в России прогресс происходит в
результате деятельности Государства. Разве не Государство Петра
Великого решительно осуществило прививку России к Западной
Европе? Разве не Государство Александра II, преодолевая
сопротивление, проявлявшееся на всех уровнях общества, совершило
грандиозное дело отмены крепостного права? Но одновременно это
поколение, воспитанное по-европейски, поняло, что модернизация и
самодержавие несовместимы. Ему хотелось бы заимствовать
прусский судебно-административный порядок, оно привержено
англофильству и французскому языку. Прочитав сочинения основателей
консервативного либерализма, оно хотело бы осторожно привлечь
общество к преобразовательной деятельности, предпринимаемой
Государством. «Политики» составляют цвет русского Государства, его
рациональное ядро. Им постоянно противодействуют то тупые
вульгаризаторы, то интеллигенция — славянофилы или народники, то
царь, а потому их облик поневоле оттенен элегантной
оппозиционностью. Они думают, что обеспечивают связь Государства и общества,
выполняя функции представительства между тем и другим.
Законченные европейцы, сторонники просвещенного патриотизма, они
принадлежат к западникам. Тогда, в конце века, русские активно
участвуют в Гаагской конференции, в разработке цивилизованного
международного права, в установлении арбитражной системы,
способной сделать войны излишними и в конце концов отменить их. Наш
Политик не чужд этим усилиям. Однако его практический
позитивизм отмечен признаками усталости и разочарования. То же
происходит и с Государством, которое постепенно теряет заряд энергии,
веру в себя, в свою цивилизаторскую миссию. Россия предчувствует
наступление своего 1789 года. Общество расшатывается.
Государство слабеет, разлагается, отравляется. Виллы Лазурного берега
населяются чиновниками, впавшими в немилость.
20
Остаются еще двое гостей, но они не представляют собой
социальные типы. Князь — носитель идей толстовства, а г-н Z. —
Философ — воплощает мысль автора в последней стадии ее
развития. В то время, когда написаны «Три разговора», Толстой для
всего мира является русским классиком по преимуществу. Он жив:
это великолепный семидесятилетний старик, который на десять
лет переживет Соловьева. Его система окончательно сложилась
примерно к 1880 году.
Глава II
Толстоевщина
Толстой не был религиозным философом. Это религиозный
гений, человек, живущий религией, духовидец, учитель веры. В
толстовстве нет интеллектуальной строгости. В нем — мощный
призыв, услышанный человеком недюжинным, который в ответ на этот
призыв отдает в залог собственную жизнь. В Коране мы находим
отдельные элементы иудаизма, христианства, еретических
течений — все то, что веяния времени и проходящие караваны могли
донести до жадного и не слишком изощренного слуха Магомета.
Так же входят в голову Толстого религиозные идеи XVIII—XIX
веков. Он не был ни специалистом, ни знатоком церковного учения и
в этом он отличается от классического типа христианского
ересиарха. Это дворянин, не окончивший университетского курса, который
живет в своем имении как помещик, отец семейства и —
поскольку он наделен талантом — как писатель. Но постепенно в глубине
души средоточием его жизни становятся религиозные терзания:
именно от религии ждет он исцеления, ибо ему тяжело, его гнетет
чувство вины, мучают философские загадки, над которыми бьется
могучий ум самоучки'.
Чего он ищет? То, что предлагает официальная Православная
Церковь, подчиненная Государству, покрывающая в его глазах худ-
1 О религии Толстого написана докторская диссертация: Nicolas Weis-
bein. L'Evolution religieuse de Tolstoï. Paris, 1960. Работа отличается
полнотой, и я постоянно использую ее в этой главе, хотя мои выводы
сильно расходятся с выводами автора.
21
шие злодеяния (например, смертную казнь), очевидно,
неприемлемо. Углубившись в чтение учебника догматического богословия
(написанного митрополитом Макарием), он возмущен обилием
бессмыслицы и лжи. Он ищет религию в духе и истине, не
противоречащую естественному разуму. Он прочитал Ренана и других авторов
и не может верить ни в чудеса, ни в божественность Христа, ни в
воскресение из мертвых. Не может он верить и в Троицу,
усматривая тут противоречие в терминах, и в Боговоплощение (снова такое
же противоречие), и в Искупление, ежедневно опровергаемое всем
ходом мирового развития. Толстой ищет гуманитарную религию;
религию, доступную бедным, простым, неграмотным людям;
очищенную от сомнительных догматов и бесполезных обрядов;
свободную от пут, связывающих Дух, а именно от материи, собственности,
права, государства; наконец — и самое главное — религию, которая
идет от сердца, говорит сердцу, отворяет шлюзы чувств, раскрывает
внутреннее состояние, позволяет излить душу. Такая религия
доступна здесь и теперь для всей земли.
Интенсивно читая в уединении Ясной Поляны, Толстой
размышлял над Паскалем (чье понятие сердца он интерпретировал в
психологическом и романтическом смысле), Руссо,
Шопенгауэром, Вине, Ламенне, священными текстами Востока. Под
влиянием всего этого он склоняется к религиозному сентиментализму,
персоналистическому экзистенциальному субъективизму,
спонтанно продолжающему линию пиетизма, Шлейермахера,
славянофильского иррационализма. Он не испытывает желания двигаться
в сторону крупных интеллектуалистских систем, гностических
учений в немецком духе, которыми увлекалось предыдущее
поколение. Он жаждет простоты, опрощения прежде всего, так как
спешит перейти к практике и жить согласно своей религии. С его
любовью к конкретности, вкусом к яркому образу, ему больше по
душе писать притчи, сказки, в крайнем случае катехизис для простых
людей — трактатов для ученых он не пишет.
Когда Толстой принимается за Священное Писание, за его
толкование и исследование богословских вопросов, в его подходе к
делу угадываются наивность самоучки (со своим школьным
греческим языком он исправляет перевод Евангелия), дерзость русского
человека, который полагает, будто всесторонне рассмотрел вопрос,
и рубит сплеча, ссылаясь на внутреннюю очевидность, провинци-
22
альный здравый смысл и новейшую науку; наконец, уверенность
великого писателя, увенчанного мировой славой.
В толстовстве заметны обычные составляющие учения
начинающего гностика. Нас спасает сознание того духовного начала,
которое в нас есть и которое едино с самим Богом. Духовное начало,
божественный свет, сошедший с небес, живет в человеке: это
Разум и одновременно Слово и Душа. Поскольку свет присутствует
в нас как божественная искра, нам надлежит стать детьми света в
этом мире, а не в ином. По смерти мы соединяемся с великим
целым, сливаемся с жизнью, общей для всего человечества, в жизни
Сына Человеческого.
Накануне смерти он диктует дочери несколько строк — это его
ultima verba*. «Бог есть неограниченное все, человек есть только
ограниченное проявление Бога.
Бог есть то неограниченное все, чего человек сознает себя
ограниченной частью. Истинно существует только Бог. Человек есть
проявление Его в веществе, времени и пространстве. Чем больше
проявление Бога в человеке (жизнь) соединяется с проявлением
(жизнями) других существ, тем больше он существует.
Соединение этой своей жизни с жизнями других существ совершается
любовью.
Бог не есть любовь, но чем больше любви, тем больше человек
проявляет Бога, тем больше истинно существует. Бога мы
признаем только через сознание. Его проявления в нас»1**. Итак,
спасение происходит через осознание — мистическое, преображающее
и одновременно рациональное — заложенного в нас
божественного начала, которое должно возделывать надлежащим поведением
для принесения плода.
О таком осознании свидетельствует Писание. Конечно, Будда,
Лао-Цзы, Конфуций, Сократ, Марк Аврелий, Магомет, Лютер,
Спиноза, Руссо, Эмерсон, Рескин и другие также интуитивно
прозревали истину. Следовательно, они разделяли единую «веру», ибо
этим словом Толстой обозначает осознание. Но только через
Иисуса Христа учение было явлено в самом чистом, самом простом,
самом общедоступном виде. Иисус Христос — Сын Божий, но не в
I 1 ноября 1910 г.
ultima verba (лат.) — последние слова.
** Толстая А. Дочь. М., 2000. С. 205—206.
23
традиционном богословском смысле, а в смысле толстовском: а
именно, тот, в ком духовное начало проявилось в полноте и кто дал
правила жизни, способные реально привести к спасению.
Чтобы это доказать и обнаружить эти правила, необходимо
очистить Писание. И Толстой занимается экзегетической работой.
Он располагает в три столбца греческий текст, русский текст и,
наконец, переложение-толкование. Он производит отбор текстов
Писания: оставляет в основном Евангелия и среди них в первую
очередь Евангелия от Матфея и от Иоанна. Ветхий Завет почти весь
отброшен, потому что данный в нем образ Бога (Бог гнева и
ярости, Бог-ревнитель) явно ложен, а Закон, как и всякий закон, есть
созданное людьми средство подавления. Но и в Новом Завете
необходимо сократить лишнее: прежде всего, чудеса, так как они
бесполезны и противоречат разуму; затем, рождение от Девы и
воскресение; наконец, послания апостола Павла. «Разрыв между
учением о жизни и объяснением жизни начался с проповеди
Павла, не знавшего этического учения, выраженного в Евангелии
Матфея, и проповедовавшего чуждую Христу метафизико-каббалис-
тическую теорию, и совершился этот разрыв окончательно во
времена Константина, когда найдено было возможным весь
языческий строй жизни, не изменяя его, облечь в христианские
одежды и потому признать христианским»*. Как можно было
предполагать, пренебрежение к Ветхому Завету и проект
составить единое и непротиворечивое Евангелие сближают Толстого с
маркионитами, а упор на духовность Евангелия от Иоанна и на то,
что новая эра Духа преодолеет видимую Церковь, приводит
писателя к иоахимитам**. Разумеется, Толстой не подозревает об этих
предшественниках. В своей упрямой искренности он думает,
будто возвращается к чистому учению, которое исказили лжецы и
злоумышленники.
Из этого учения нужно извлечь этическое содержание.
Толстого всегда возмущало противоречие между словами и делами.
Лицемерие — вот что заставило его выступать против русского
Государства, называющего себя христианским, и против лжехристиан-
В чем моя вера.
иоахимит — последователь Иоахима Флорского (ок. 1132—1202),
итальянского монаха, чье учение об «эре Святого Духа» осуждено
католической церковью.
24
ской Церкви. Именно с лицемерием ведет он постоянную борьбу в
своем доме, в личной жизни, вплоть до финального бегства и
смерти на маленькой станции Астапово.
В Евангелии и только в Евангелии находит он принципы
истинной нравственности. В основе ее — две заповеди: любовь к Богу,
то есть открытость моего Я духовному миру, где мне
предназначено развиваться; любовь к ближнему, точно так же приводящая
божественную душу к ее предназначению — слиянию с духовным
миром. Из Нагорной проповеди Толстой извлекает положительные
рекомендации, нравственные заповеди толстовства. Их всего пять:
не сердитесь, не блудите, не клянитесь, не защищайтесь насилием,
не воюйте. Смирение, чистота, набожность, кротость, доброта —
таковы главные христианские добродетели. Они предполагают —
Толстой в этом непреклонен — упразднение старого Закона. Но
разве не утверждает Евангелие, что Христос исполнил закон
Моисеев, а вовсе не отменил его?
Это ложное толкование, и если оценить всю глубину его
значения, то в нем заключается причина страшной драмы борьбы зла и
тьмы с добром и светом. Напротив, соблюдение пяти заповедей
являет уже в здешнем мире Царство Божие, «которое в нас».
Однако общество и Государство основаны на старом Законе.
«Все меня окружающее: спокойствие, безопасность моя и семьи,
моя собственность, — все построено было на законе, отвергнутом
Христом, на законе: зуб за зуб»*. Современный мир исповедует
Христа на словах, а на деле отрекается от Него. Невозможно быть
христианином, то есть соблюдать заповедь непротивления злу, и в
то же время работать над устройством государства, защищать
собственность, учреждать суды, строить армию. Заповеди
толстовства требуют практически порвать с этим миром. Толстой подает
пример. Он отказывается быть присяжным заседателем. Он
протестует против разжигания патриотизма — «психопатической
эпидемии», против коллективного убийства, каковым является война.
По поводу союза России с Францией он пишет следующие строки,
обобщая свои социальные убеждения. «Обманутый этот, все тот
же вечно обманутый глупый рабочий народ, тот самый, который
своими мозолистыми руками строил все эти и корабли, и крепос-
В чем моя вера.
25
ти, и арсеналы, и казармы, и пушки, и пароходы, и пристани, и
молы, и все эти дворцы, залы и эстрады, и триумфальные арки, и
набирал и печатал все эти газеты и книжки, и добыл и привез всех
тех фазанов, и ортоланов, и устриц, и вина, которые едят и пьют
все эти им же вскормленные, воспитанные и содержимые люди,
которые, обманывая его, готовят ему самые страшные бедствия;
все тот же добрый глупый народ, который, оскаливая свои
здоровые белые зубы, зевал, по-детски наивно радуясь на всяких
наряженных адмиралов и президентов, на развевающиеся над ними
флаги и на фейерверки, гремящую музыку, и который не успеет
оглянуться, как уже не будет ни адмиралов, ни президентов, ни
флагов, ни музыки, а будет только мокрое пустынное поле, холод,
голод, тоска, спереди убивающий неприятель, сзади неотпускающее
начальство, кровь, раны, страдания, гниющие трупы и
бессмысленная, напрасная смерть»1*. Этот пафос характерен. Мы
встречаем его в сказках (например, «Три смерти»), в романах
(«Воскресение»). Он рождается из противопоставления народа — здорового,
чистого, работящего, эксплуатируемого, обманутого — и элиты,
смешной, прогнившей, паразитирующей. Толстой бичует
роскошь, излишества, разоблачает войну, современный мир.
Толстовская мораль с силой толкает к ненасильственному подрыву.
В 1884 году Толстой писал своему другу А. С. Бутурлину, что
он не собирается отстаивать метафизическую сторону учения, так
как понял, что каждый человек видит «метафизическую сторону
сквозь свою призму». Гностический зародыш не развивается в
систему или в космологию.
«Важно только то, чтобы в этическом учении все неизбежно,
необходимо сходились»**. От гностицизма его защищает
невежество, отчасти добровольное, которому он рад, поскольку изучение
философских систем убедило его в их бессодержательности, за
исключением той части, где они предвосхищают толстовство. Таким
образом, в своем учении он может опираться непосредственно на
авторитет Евангелия.
Возможно, ключ к толстовству надо искать в идее
«христианской нравственности». Это выражение стало слишком привыч-
\ В 1893 г. Цит. по: Weisbein. Р. 341.
Христианство и патриотизм (Поли. собр. соч., т. 39).
** Поли. собр. соч. Т. 63. С. 155.
26
ным, но некоторое усилие позволит нам вспомнить, что в
традиции Церкви ничего подобного нет. Нравственность существует
сама по себе, как требование этого мира, а приход Мессии, отменив
ритуальные предписания Ветхого Завета, ничего не изменил и не
мог изменить в moralia*.
В Новом Завете нет новых жизненных правил, но есть новый
способ понимания Закона и указания относительно образа жизни,
связанные с приближением Царства Божия. Совсем иное толкование дает
Толстой. Христос, не являющийся Богом, спасает не тем, что Он есть,
а тем, что Он говорит. Его «весть» — это квинтэссенция религиозно-
нравственных учений его предшественников, Будды, Конфуция и
прочих. Он дает человеку практические правила, которые вручают
спасение ему самому. Итак, вместо одной, единой для всех людей
нравственности, в общих чертах выраженной Откровением,
существуют две противоборствующие нравственности. Первая — это
ложная мораль, которой следует мир, включая мир Государства и Церкви,
будто бы христианский. Другая — истинная нравственность,
радикально противоположная: она заключена в евангельских указаниях,
возведенных в ранг новых заповедей. Она вновь обретает чистоту и
силу в ipsissima verba** Христа, которые, как Толстой думает, он
восстанавливает. Спасение зависит от воли человека, и эта воля должна
следовать рекомендациям, ставшим обязательными, а потому новая
нравственность более сурова, чем старая, ее иго тяжелее. Из-за этого
Толстой до самого конца будет жить в беспокойстве и терзаниях.
Однако именно оттого, что Толстой объявлял себя христианином,
столь привлекательным оказался брошенный им призыв. Он был
созвучен многим значительным течениям XIX века. Очистить,
облегчить, упростить христианство, убрать незаконные исторические
наслоения, ненужные церковные напластования, искажающие Писание
интерполяции — эти устремления наблюдаются одновременно у
спиритуалистов-агностиков, в либеральном протестантизме и в
католическом модернизме. Ренан, Гарнак, Луази на свой ученый лад делали то
же, что и Толстой с помощью подручных средств в Ясной Поляне.
Толстой держит в поле зрения и христианско-социальную
тематику. В конце жизни он редактирует биографию Ламенне. Он почи-
moralia (лат.) — здесь понятия о нравственности.
** ipsissima verba (лат.) — подлинные слова (Самого Христа).
27
тает Рескина и Маннинга. Осуждение денег, прославление
труженика, отвращение к роскоши, презрение к буржуазии — это общий
фонд, из которого Толстой черпает то, что ему нужно. Он любит
бедняка не потому, что тот нуждается в Боге, а потому, что он
хорош сам по себе, у него есть знание от природы, естественная
добродетель, врожденное христианство и, наконец, он нужен Богу.
В Толстом соединилось большинство религиозных тенденций
русской литературы. Исключение составляет Пушкин, антипод
Толстого, вместе с его последователями. Что касается Гоголя,
Толстому близки его жизненные терзания и муки религиозных
поисков. В середине жизни Гоголя также охватывает горячее желание
добра и нравственного совершенствования. В 1889 году Толстой
перечитывает «Избранные места из переписки с друзьями». Он
восхищен. Он узнает черты кризиса, пережитого им самим, пути
своих поисков. У Гоголя он находит ту же навязчивую идею
чистоты, то же отвращение к пошлости жизни в обществе, то же
мучительное чувство вины и жажду смирения. Гоголь возвеличивал
Россию, потому что она была местом страданий. Страдание, само
по себе искупительное, очистительное, — это единственное
таинство, признаваемое Толстым.
Толстой читает и перечитывает «Братьев Карамазовых».
Достоевский — еще более смятенный христианин, чем Гоголь.
Гоголь несчастлив, но он сдержан. Его богословские произведения
не предназначались для обычных читателей. В светских
сочинениях он не раскрывается как писатель-исповедник. Достоевский же,
напротив, постоянно подчеркивает, что он христианин, громко,
оглушительно кричит о своем христианстве. Все литературное
творчество Достоевского пронизано, пропитано его богословием. Оно
более наглядно и ясно прочитывается в художественной прозе,
начиная от «Человека из подполья»(1863) до «Братьев Карамазовых»
( 1880), чем в более абстрактных эссе, собранных в «Дневнике
писателя». Его произведения наполнены пылкой проповедью,
неуемным желанием обращать. Для многих читателей поворот к
христианству начался с эмоционального потрясения, вызванного
литературными приемами романов Достоевского. Не счесть тех, кто
утверждает, будто обращен Достоевским. Читаем ли мы Мочуль-
ского, Евдокимова, Гвардини, Рене Жирара — Достоевский
обретает значение отца Церкви и пророка для нашего века. В основном
28
ему обязаны своей «мистической» репутацией русский народ и
русская культура1.
Присмотревшись поближе, мы удивимся, сколь туманно и
неопределенно формулирует свою веру автор, который, казалось бы, твердит
0 ней постоянно. Я не касаюсь здесь ни его личной веры (это тайна,
никому не открытая), ни благочестия (в последние годы его церковная
жизнь была регулярной и публичной): речь идет только о материалах,
предоставленных творчеством. Но они не вносят полной ясности в
вопрос, верил ли Достоевский в Бога. В «Бесах» Шатов, выразитель его
идей, заявляет: «Я верую в Россию, я верую в ее православие... Я
верую в тело Христово (то есть Церковь, отождествляемую с Россией, —
А. Б.)... Я верую, что новое пришествие совершится в России... Я
верую... — залепетал в исступлении Шатов. — А в Бога? В Бога? — Я ...
я буду веровать в Бога...» В некоторых местах атеизм предстает более
достойным уважения, более близким к совершенной вере, чем
рутинная равнодушная религиозность светских людей2. В большинстве
текстов Достоевского Бог — это необходимый постулат, к которому
подводит рассуждение о человеке: в Нем заключена гарантия бессмертия.
Однако Бог не утверждается верой. Бог есть условие нравственности
(«Если Бога нет, то все позволено») и социального порядка («Если
Бога нет, то какой же я после этого капитан?» —- говорит один из
персонажей). Зато вера во Христа утверждается многократно. Но в какого
Христа? «Христос был вековечный, от века идеал, к которому
стремится и по закону природы должен стремиться человек». Это — цель
«высочайшего, последнего развития личности»**. Мы не далеки от
романтических концепций Христа как совершенного человека или
идеального типа человеческой личности. Является ли Христос Богом?
Нигде Достоевский этого не утверждал, что вполне логично, ведь Бог
остается для него недоступным понятием. «Христос есть отражение
Бога на земле», говорит писатель . Это подходит к князю Мышкину,
1 Два досье по религии Достоевского: P. Pascal. Dostoïevski. (Les écrivains
devant Dieu). Bruges, 1969; L. Allain. Dostoïevski et Dieu. Presses
universitaires de Lille, 1981. Здесь можно найти основные тексты и
компетентные комментарии.
2 См. Исповедь Ставрогина в «Бесах»: «Совершенный атеист стоит на
предпоследней верхней ступени до совершеннейшей веры»*.
Глава «У Тихона», не вошедшая в основной текст «Бесов».
** Записная книжка 1863—1864 гг., 16 апреля.
Там же.
29
но не соответствует Христу Символа веры. Сомнительно, чтобы Он
воскрес. Картина Гольбейна «Мертвый Христос», увиденная
Достоевским в Базеле, глубоко потрясла его, и он вкладывает в уста Ипполита
в «Идиоте» следующий комментарий: «Природа мерещится при
взгляде на эту картину в виде какого-то огромного, неумолимого и немого
зверя, или, вернее, гораздо вернее сказать, хоть и странно, в виде
какой-нибудь громадной машины новейшего устройства, которая
бессмысленно захватила, раздробила и поглотила в себя, глухо и
бесчувственно, великое и бесценное существо». Бессилие Христа — одна из
констант Достоевского: прежде всего это бессилие против зла и греха.
Зло, действуя с удивительной автономностью, запускает в природу
весь жуткий копошащийся бестиарий Достоевского, червей, вшей,
пауков, тараканов, тарантулов, чудовищного скорпиона из сна
Ипполита — своего рода онтологические отбросы или свидетельства некоего
враждебного творения. Поэтому-то Христос, «идеальное существо»,
увлекает нас из этого мира ввысь. В поучениях старца Зосимы
слышится эхо иной родины, откуда мы пали и куда жаждем вновь
подняться: «...даровано нам тайное, сокровенное ощущение живой связи
нашей с миром иным, с миром горним и высшим, да и корни наших
мыслей и чувств не здесь, а в мирах иных... Бог взял семена из миров иных
и посеял на сей земле и взрастил сад свой, и взошло все, что могло
взойти, но взращенное живет и живо лишь чувством соприкосновения
своего таинственным мирам иным; если ослабевает или уничтожается
в тебе сие чувство, то умирает и взращенное в тебе»1. Так мог бы
написать Сведенборг.
Бог недостоверен, с Его творением соперничает зло, Христос
смутен, мертв, бессилен, но это не мешает Достоевскому горячо
любить Его. Подобно Толстому, Достоевский формулирует
нравственные заповеди блаженства, расходящиеся с общепринятой моралью.
Мир слишком нечист, чтобы разум мог извлечь из его созерцания, из
желания его сохранить и усовершенствовать универсальные
обязательные нравственные законы. Тот, кто строго соблюдает заповеди,
вызывает подозрение в нравственной слепоте, в ханжестве, в
возмутительном жестокосердии. Нравственность Достоевского имеет
основание, а точнее, целиком заключается в любви ко Христу. Вот
почему ветхозаветные заповеди факультативны, а евангельские реко-
1 Братья Карамазовы. Ч. II. Кн. VI. Гл. 3.
30
мендации обязательны. Эта любовь воспламеняется настолько, что
увлекает истинного христианина по ту сторону истины и добра:
«...если б кто мне доказал, что Христос вне истины, и действительно
было бы, что истина вне Христа, то мне лучше было бы оставаться
со Христом, нежели с истиной»1. Можно было бы понять это как
следствие иррационализма, внесенного в русское богословие
славянофилами и проповедуемого Достоевским при всякой возможности.
Но, кажется, здесь нечто большее: заранее допустить ложь во имя
Христа — это жертва, выдающая истинного христианина.
Допустить, будто сказавший: «Я есмь истина», — лжец, и именно потому
последовать за Ним, разделить любовь к истине и любовь ко
Христу— такова первичная интуиция сверххристианина Достоевского.
Далее: любовь к врагу охватывает любовь к злу в этом враге;
подобным образом, любовь к себе включает жалость или умиление в
отношении собственного греха. На этом строится общение грешников,
которое и есть подлинное общение святых. Сверхмилосердие
возлагает на свои плечи бремя зла и самого дьявола. Так же, как атеизм —
это высочайший путь к совершенной вере, грех — это путь к
спасению, более высокий и благородный, чем добродетель. То, что в
Писании утверждается о бедных, в творчестве Достоевского,
вследствие непонятного смещения, утверждается о преступниках. Это
переход от аномизма к открытому антиномизму, с тем, чтобы преодолеть
пронизанное злом творение и бежать к высокому, идеальному.
Мы можем спросить себя, почему же Достоевский, в отличие
от Толстого, остался верным православию и почему его
признавали православным даже такие требовательные умы, как
Победоносцев, строгий обер-прокурор Святейшего Синода? Ответ будет
политическим. Достоевского считают православным, потому что он
националист и антиреволюционер.
«Я верую в Россию»: пылкий национализм питает всю его
веру в Бога: «Бог есть синтетическая личность всего народа, взятого
1 Письмо к Н. Фонвизиной 15 февраля 1854 г. Фраза эта почти дословно
воспроизведена в «Бесах» (II. 1.7).
Приведем эту цитату в более полном виде: «Нет ничего прекраснее,
глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа,
и не только нет, но с ревнивою любовью говорю себе, что и не может
быть. Мало того, если б кто мне доказал, что Христос вне истины, и
действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше было бы
оставаться со Христом, нежели с истиной».
31
с начала его и до конца... Я низвожу Бога до атрибута
народности?.. Напротив, народ возношу до Бога... Народ — это тело Бо-
жие»1. Настоящий посредник для всего человечества, истинный
искупитель — русский народ-богоносец: «...стать настоящим
русским и будет именно значить: стремиться внести примирение в
европейские противоречия уже окончательно, указать исход
европейской тоске в своей русской душе, всечеловечной и
воссоединяющей, вместить в нее с братскою любовию всех наших братьев, а
в конце концов, может быть, и изречь окончательное слово
великой, общей гармонии, братского окончательного согласия всех
племен, по Христову евангельскому закону!(...) Пусть наша земля
нищая, но эту нищую землю «в рабском виде исходил
благословляя» Христос. Почему же нам не вместить последнего слова
Его?»* Истинный Бог — это тайная сущность России. Благая часть
творения, вызывающая у Достоевского возгласы восторга, — это
русская земля. Христос-Спаситель — это русский народ, более
откровенно, более смело согрешающий, чем все другие народы,
последняя метаморфоза того, о чем говорил Лютер: «simul peccator et
Justus» и «pecca fortifer crede fortius»**. Гоголь видел в греховной
нищете России обещание будущего покаяния, а у Достоевского
она становится сама по себе гарантией спасения.
В молодости Достоевский был революционером. Его прошлое,
его евангельская вера, обращенная к простым бедным людям;
национализм, сосредоточенный на загадочной сущности русского
народа, отвращение к Западу и к цивилизованным формам
светской жизни должны были бы естественно привести его к
народничеству. Однако в своем отношении к революционному
народничеству Достоевский, как и его персонажи, крайне противоречив.
Открытие на каторге реального народа, во всей острожной
мерзости, стало жестоким испытанием для его книжного юношеского
народничества. Первыми его друзьями в Сибири стали поляки,
более близкие по культуре и воспитанию. Но внезапно он
оказывается на стороне «несчастных», и это уже бунт не народника, а наци-
I Бесы. II. 1.7.
Пушкин (Дневник писателя. 1880); «в рабском виде исходил
благословляя» — отсылка к стихотворению Ф. И. Тютчева «Эти бедные селенья...»
simul peccator et Justus (лат.) — одновременно грешник и праведник;
pecca fortiter crede fortius (лат.) — кто сильно грешит, сильнее верует.
32
оналиста. Как верно заметил Дж. Франк, Достоевский совершил
своеобразный «прыжок веры» и наделил своих русских товарищей
Христовыми добродетелями не из-за их социального положения, а
в силу их национального статуса1. Как бы низко ни пали эти
русские, в мистическом смысле они бесконечно превосходили
поляков и немцев.
Но вот в 1863 году Достоевский с ужасом читает «Что делать?»
Чернышевского. Руководимый метафизической интуицией, он
задумывает ряд больших романов. В новых революционерах
соединяются атеизм (ненависть к Христу) и отказ от национальной
сущности. Эти ничтожные студенческие заговоры — предвестие
неописуемой беды, готовой обрушиться на Россию и на весь мир: имя
ей — бесовская одержимость. Арестанты — добрые разбойники,
искупленные своей русскостью, но эти — злые разбойники, в
которых вселились бесы. Вот что побуждает Достоевского принять
сторону Победоносцева. Но существует кое-кто похуже
революционеров: либералы, которые хотят заставить Россию учиться у
Европы, денационализируют Россию, отнимают у нее душу,
заражают проклятыми идеями либерализма, социализма и католицизма,
тесно переплетенными и связанными в один узел. Они
представляют в России новый германо-швейцарско-парижский буржуазный
уклад. Они отстаивают порядок, приличия, чистоту, комфорт,
собственность. Им хорошо в этом мире, они довольны творением.
И тут бесы народничества отчасти обретают милость, потому что
они, с их волей к тотальному разрушению, доходящей до
экстремизма во зле, — по крайней мере, русские. Они — христиане в
силу их священного недовольства, потому что осуждают на
уничтожение мир, который того заслуживает, и потому, что, совершая
радикальный грех, они могут претендовать на высочайшее
милосердие. Достоевскому ненавистен Нечаев, но Тургенев
примиряет его с Нечаевым.
Мы можем сказать это о Достоевском, но можно сказать о нем
и другое — ведь гений его живет противоречиями и парадоксами.
Как разобрался в этом запутанном клубке Толстой, чей ум самым
ясным не назовешь, мы не знаем. Он, отошедший от Церкви, отлу-
J. Frank. Dostoievsky's Conversion // New York Review of Books
20.01.1983.
33
ченный от Нее, по сравнению с Достоевским кажется гораздо
более открытым, бодрым, здоровым. В области веры он преемник
достойных религиозных течений XVIII века, потерявшихся в
тревожно-сумрачном романтизме Достоевского. Бог Толстого не так
далек от Верховного Существа, а его Христос напоминает
совершенного человека, почитаемого деистами. В его
практической нравственности добро и зло не меняются местами. Зато он
снимает проклятия, которым предавал революционное движение
Достоевский. Толстой соединяет русскую религиозную тревогу с
народничеством. Призыв к практическому действию, отказ от
церковного квиетизма, требование привести в соответствие слова и
дела — да ведь это тема знаменитого Письма Белинского к
Гоголю, документа, которым датируется рождение революционной
интеллигенции (3 июля 1847 г.). Толстой считает нужным разрушить
сверху донизу это лживое тлетворное общество. Он намерен
перестроить его на народной — но не националистической — основе,
и в этом заключается главное расхождение между авторами «Анны
Карениной» и «Братьев Карамазовых». Вот почему среди всех
союзников, необходимых Ленину для осуществления его проекта
всеобщего разрушения, он не мог найти никого, кто по масштабам
синтеза, по значению превзошел бы Толстого. Ленин весьма точно
определил писателя, как «зеркало русской революции».
Объединив Гоголя и Белинского и, соответственно, их наследников,
Толстой воплощал всю Россию.
Толстой заявляет, что он христианин, и больший христианин,
чем сами христиане. Народники в своей массе — активные
атеисты. Но общее настроение позволяет преодолеть религиозную
пропасть. Самодовольный собственник, помещик, капиталист,
чиновник, жандарм, светская дама; роскошная гостиная, военный
парад, придворный бал, суд вызывают с той и с другой стороны
одинаковое отвращение, презрение, стремление покончить со
всем этим. Ту и другую сторону в равной степени умиляют
крестьянин с сохой, крестьянка за вышиванием или за прялкой,
изнемогающий от тяжкого труда каторжник, ремесленник, который
шьет себе сапоги и картуз; в равной степени возмущают нищета и
несправедливость. Относительно того, где проходит граница
между светом и тьмой, разногласий нет. Второй объединяющий пункт
— высокая нравственность, которая бесконечно превосходит об-
34
щепринятую и узаконенную нравственность. Она не идет на
сделку с личной выгодой. Отрицательная ценность — эгоизм,
положительные ценности — бескорыстие и великодушие. Те, кто пошел
по этому пути, объединены одной моралью, связаны взаимным
признанием, взаимным уважением и восхищением.
Толстовец-непротивленец и вооруженный бомбой террорист питают братские
чувства друг к другу и глубокое презрение к обывателям.
Сверххристианство или антихристианство — все едино для малого
стада избранных.
Возникают два вопроса: откуда происходит это богословие и
чем объясняется его успех?
Отвечая на первый вопрос, следовало бы сделать обзор
значительной части европейской религиозной истории. Не возвращаясь
к потопу (а он, вероятно, должен быть отнесен ко времени
формирования devotio modema в XIV веке)*, можно заметить, что
синдром толстоевщины обрисовывается во Франции, там, где
действуют больная совесть янсенизма и фенелонова чистая любовь. Уже
здесь мы видим сочетание религиозного рвения и страдания,
ненависти к себе и совершенного бескорыстия. Можно проследить
появление того же религиозного движения в Германии XVIII века,
где аскетический пиетизм сосуществует с эзотерическим
умозрением, а кружок спиритуалистов — с тайным обществом
иллюминатов; все это понемногу проникает и в Россию в упрощенных, но
радикальных формах.
Во Франции эти течения либо приводят к дехристианизации,
либо возвращаются в лоно католицизма. В последнем случае уже
нет речи о догматических отклонениях, но лишь о своеобразной
окраске религиозных чувств и нравов. Подверженной такому
брожению католической среде в 1883—1886 гг. виконт Мельхиор де
Вогюе представляет в «Ревю де де монд» «русский роман». В
Германии религиозность этого типа влилась в мощное течение
идеализма и составила одну из глав в истории философии, а
собственно религиозные элементы, иссякнув, были утрачены. Кроме того,
после Гегеля философия возвращается на внерелигиозные
просветительские позиции.
devotio moderna (.пат.) — современное благочестие.
35
Успех русской литературы в Западной Европе совпадает со
«вторым романтизмом», пришедшим на смену господству рационализма
и позитивизма. Европа испытывает дефицит «душевности». Так же,
как в конце XVIII века, когда французская литература потеряла свой
авторитет, став «формальной», «поверхностной», бездушной, на
исходе XIX столетия латинские литературы, вместе взятые, не
выдерживают конкуренции с литературами Севера — более «глубокими»,
выразительными, волнующими и содержательными. Появление во
Франции русской литературы совпало по времени с разочарованием
в итальянской словесности. Еще Делакруа знал наизусть Тассо. Он
был последним. Чтобы ценить классическую литературу, нужно
знание риторики и воспитание вкуса, а молодые люди теперь этим
не занимаются. Тургенев и Пушкин были представлены
французскому читателю в эпоху Второй империи. Для следующего
поколения их славу затмила триада: Гоголь, Достоевский, Толстой.
Увлечение Шеллингом и Гегелем не было чисто философским,
оно носило и религиозный характер. То же нужно сказать и о
русской литературе. Полюбить ее, погрузиться в нее означает в какой-
то степени «обратиться». Литературы Запада никогда не
требовали ничего подобного. Бенишу показал, что в конце XVIII века
авторитет Церкви заменен духовным влиянием «великих
писателей». Но в случае с русской литературой культ писателя
относится к авторам, которые сами выдают себя за духовных
учителей. Авторитет литературы не заменяет духовного влияния
пророка, так как то и другое смешивается.
Нам не хватает дистанции, чтобы оценить воздействие русской
волны на религиозную психологию XX века. Оно представляется
огромным. Как определить вклад Толстого и Достоевского в мизе-
рабилизм, долоризм, пацифизм, популизм, мазохизм,
национализм, «тьермондизм»* и прочие «измы» — болезни,
обрушившиеся на бедные христианские народы в наше время. Очевидно, что
эта «весть», столь странно отклоняющаяся от того, во что верили
все, всегда и везде, не воспринимается как какое-то еретическое
новшество. Скорее, она задает тон современной духовности.
Но фактом является и то, что эту «весть» принесли
литературные произведения, и именно отсюда ее мировой успех. Существу-
идеология солидарности с третьим миром (от франц. tiers monde — третий мир).
36
ет ли область пересечения или общая точка для эстетического
опыта и опыта нравственно-религиозного? Я думаю, что
существует: это область возвышенного.
Не без страха называю понятие, над которым так глубоко
размышляли Берк и Кант. Вот в каком смысле мне кажется
возможным применить его здесь.
Возвышенное разделяет подход к высокому и наслаждение.
Прекрасное радует, воспитывает, а высокое рождает страх и
страдание. Далее, возвышенное дает опыт некоего предела, где разум и
воображение обнаруживают свое бессилие; предела, где
прекрасное превращается в безобразное, а ужасное —- в прекрасное
особого, возвышенного рода.
Кант пишет, с другой стороны: «Возвышенно то, одна
возможность мысли о чем уже доказывает способность души,
превышающую всякий масштаб [внешних] чувств»1. Эта сверхчувственная
способность нашей души есть гениальность. Чувство
возвышенного — не что иное, как восхищение, которое испытывает разум
перед собственной властью. В русской литературе, как ни в какой
другой, гениальность стала необходимым условием для того, кто
берется писать. Французская литература не придает столь
большого значения гениальности, и самые любимые наши писатели легко
без нее обходятся. Но для русской литературы гений есть главное
и достаточное условие.
Если, выходя за рамки эстетики, мы перенесем эти положения
на религиозно-нравственные предметы, мы непосредственно
ощутим дух толстоевщины. Возвышенное приносит страдание; оно
предпочитает пограничные состояния, при которых происходит
coincidentia opositorum**: атеизм превращается в совершенную
веру, а грех взламывает двери искупления. Общепринятую мораль,
банальную веру, как и нашу классическую литературу, привлекает
неяркая прохладная область прекрасного, но этим не могут
довольствоваться глубокие умы и возвышенные сердца. Тем хуже,
если, оглушенные собственным величием, шагнув за
ослепительную черту, они падают в бездну иллюзии, где некоторых из них
ждет самая нелепая смерть.
1 Критика способности суждения. Кн. II. 25*.
*t И. Кант. Сочинения: В 6 т. М., 1966. Т. 5. С. 257.
** coincidentia oppositorum (лат.) — совпадение противоположностей.
37
Глава HI
Терзания Соловьева
Достоевский родился в 1821 году, Толстой — в 1828-м.
Владимир Соловьев, 1853 года рождения, принадлежит к другому
поколению1. Но он вступил в интеллектуальную жизнь таким
молодым, а умер так рано (в 1900 году, сорока восьми лет), что его
расцвет хронологически не совпадает с порой зрелости его
ровесников. Родившийся в среде славянофильства, вскормленный
Шеллингом, он был на равных с поколением «сороковых годов».
Он дружил с Достоевским, так что даже нельзя точно сказать, кто
из двоих чем обязан другому. С Толстым отношения были
любезными, но, обратившись к личным записям обоих, мы убедимся,
что они друг друга презирали. Однако они занимали смежные
позиции в оценке определенных действий Государства и Церкви.
Наконец, Соловьев — глава русской религиозной философии и
русского символизма, представители которых постоянно на него
ссылаются и столь же часто его предают. Эта короткая жизнь была
итогом целого века интеллектуальной истории.
Его отец Сергей Соловьев — автор двадцатидвухтомной
«Истории России с древнейших времен» , остающийся крупнейшим
1 Для любопытных привожу несколько трудов на французском языке.
Наиболее обобщающий труд о Соловьеве — диссертация 193 3 г. : D. Stremooukhoff.
Vladimir Soloviev et son oeuvre messianique (reprint: Age d'Homme, Lausanne,
s.d.). Автор строит систему творчества Соловьева, включая в нее «Три
разговора». Моя позиция отлична тем, что я рассматриваю «Три разговора» как
переоценку Соловьевым значительной части его творчества и главным
образом его системы (или систем). О жизни Соловьева см.: S. M. Solowiew. Vie de
Wladimir Solowiew par son neveu. Paris, 1982.
Соловьев писал и непосредственно по-французски — на прекрасном
фенелоновском французском языке, на котором писали также Чаадаев и
Хомяков, — среди написанного как опубликованные, так и
неопубликованные работы. Они собраны и изданы с замечательным предисловием
о. Франсуа Руло: Vladimir Soloviev. La Sophia et les autres écrits français.
Lausanne, 1978. См. его же предисловие к упомянутому новому
французскому переводу «Трех разговоров», вышедшему в 1984 г. после того, как
была написана эта книга. Важная глава посвящена Соловьеву в работе:
Urs Von Balthasar. La Gloire et la Croix. T. II. 2 partie. Прекрасная
антология, посвященная проблеме России: Vladimir Soloviev. Conscience de la
Russie / Trad, et préface J. Gauvain (J. Laloy). 1950.
На самом деле «История России» содержит 29 томов.
38
!
классиком отечественной историографии. На фоне фантазий
славянофилов и народнической историографии Сергей Соловьев
выступает основателем так называемой «государственной школы».
Общая схема навеяна консервативным гегельянством.
Исторические судьбы русского народа опосредованы Государством, которое
выражает дух России и связывает ее со всемирной историей. Эта
задача довольно успешно выполнена. Теперь предстоит привлечь
общество к национальному созиданию, совершенствовать
правовое Государство, участвовать, в национальной форме, в общем
деле цивилизации. В отличие от антигосударственных, антипетров-
ских, антизападнических мифологий, эта схема верна той истории,
которая реально развертывалась, по крайней мере, до Революции.
Семья философа отличалась глубокой нравственностью,
благочестием, разумной любовью родителей к детям. Такие теплые,
любящие семьи не были редкостью в России, и именно из них часто
выходили самые ярые революционеры (например, Чернышевский,
Ленин). Особенность семьи Соловьевых составляет ее высокий
интеллектуальный уровень, основательное образование, любовь к
истине, точный ум. Соловьев, по характеру склонный к
рискованным духовным авантюрам, видел в отце образец строгой
интеллектуальной дисциплины.
Не по годам развитый блестящий гимназист переживает после
двенадцати лет серьезный кризис. Это было время широкого
проникновения нигилизма в гимназии и университеты. «В четыре
года я пережил, — пишет он, — один за другим все фазисы
отрицательного движения европейской мысли за последние четыре века.
От сомнения в необходимости религиозности внешней, от
иконоборства я перешел к рационализму, к неверию в чудо и в
божественность Христа, стал деистом, потом пантеистом, потом атеистом
и материалистом. На каждой из этих ступеней я останавливался с
увлечением и фанатизмом»1. Он восхищается Писаревым,
выбрасывает из окна свои иконы, опрокидывает крест на кладбище.
Читает Фейербаха; но Спиноза, которого он читает в то же самое
время, а также Огюст Конт помогают ему не порывать с настоящей
философией. В восемнадцать лет он пугает своих кузин шопенга-
1 S. M. Solowiew. Р. 55*.
Соловьев С. М. Владимир Соловьев. Жизнь и творческая эволюция. М,
1997. С. 37.
39
уэровским отчаянием. Тогда же он вновь обретает христианскую
веру. Между тем, однажды в вагоне он внезапно впадает в
состояние какого-то экстаза. Он теряет сознание в присутствии молодой
женщины, а очнувшись, видит ее преображенной и склонившейся
над ним. «Как будто все мое существо расплавилось и слилось в
одно бесконечно сладкое, светлое и бесстрастное ощущение, и в
этом ощущении, как в чистом зеркале, неподвижно отражался
один чудный образ, и я чувствовал и знал, что в этом одном было
все. Я любил новою, всепоглощающею и бесконечною любовью и
в ней впервые ощутил всю полноту и смысл жизни»1 . Таковы его
интонации. Что касается экстазов и видений, среди них были и не
столь лучезарные (время от времени он видел черта). В самых
прекрасных видениях мистический опыт сопрягается с постижением
вечной женственности. Соловьев много раз влюблялся — сложно,
возвышенно, совершенно несчастливо. Он не был женат и,
вероятно, оставался философом-девственником.
Соловьев высок ростом, очень худ. Волосы ниспадают на
плечи, а борода лежит волнистыми складками. Великолепное лицо
освещено серо-голубыми глазами, глубокими и выразительными;
взгляд их то рассеян, то страшен, то нежен. Порой он замыкается
в леденяще-угрюмом молчании, но внезапно в самый
неожиданный момент оно прерывается звонким и раскатистым детским
смехом. Он слеп к житейским нуждам, но, несмотря ни на что,
общителен, и всю жизнь верные друзья и подруги его опекают,
принимают под свой кров, заботятся о том, чтобы у него было все
необходимое. Диккенсовская экстравагантность в сочетании с
простодушием делала его любимцем детей и животных. С
невероятной щедростью и столь же наивно он раздает свои деньги и
одежду и большую часть времени существует без единой копейки. У
него нет ни распорядка дня, ни регулярного питания, ни
постоянного дома. Живет он в гостинице или у друзей. Его поездки в
Египет, в Западную Европу — скорее странствия, искания, чем
путешествия. Он ничего не видит вокруг ни в Лондоне, где
безвыходно сидит в библиотеке Британского музея, ни в Париже, ни в
Италии, которую находит неинтересной, предпочитая ей Финлян-
| Stremooukhoff. Р. 24.
Из повести В. Соловьева «На заре туманной юности».
40
дию. Отсутствие любопытства, слепота к внешнему миру,
всецелая поглощенность своим богатым воображением и лихорадочной
работой мысли — во всем этом Соловьев напоминает многих
русских путешественников, таких, как Достоевский и большинство
революционеров-эмигрантов.
Соловьев кажется чудаком, он похож на трогательно-смешного
гуру или, быть может, теософа, вроде Бердяева или Гурджиева.
Однако от такого рода подозрительных личностей его отличает полное
отсутствие тщеславия, смелый и правдивый ум, чистота сердца.
Этот человек, изнуренный чрезмерной работой, нездоровыми
условиями жизни, уставший от одиночества и умерший в доме своих
друзей в подмосковном имении Узкое 31 июля 1900 года, — самый
привлекательный и достойный глубочайшего уважения писатель
великого столетия русской литературы.
Путь его интеллектуального развития полон превратностей. По
окончании гимназии он начал изучать естественные науки, но без
особого успеха, затем защитил диплом на
историко-филологическом факультете Московского университета. После этого он
посещает лекции в Духовной академии, что вовсе не было в обычаях
тогдашней молодежи. Он углубленно читает Достоевского,
славянофилов (прежде всего, Киреевского), немецких идеалистов; не
теряет интереса к натурфилософии, послужившей фильтром для
дарвиновских идей в Германии, и думает, в свою очередь, о
возможности примирить христианство и современную науку.
Уже в двадцать один год он смог защитить магистерскую
диссертацию. «Кризис западной философии» — настоящий подвиг
сверходаренного молодого человека. Все же это еще студенческая
работа, в которой, в отличие от текстов молодого Гегеля или
молодого Конта, нет намека на будущее творчество Соловьева. История
европейской философии, объясняет он, проходит два цикла, и оба
приводят к тупику. Картезианский рационализм, развитый
Спинозой и Лейбницем, а с другой стороны, эмпиризм (Гоббс, Локк и
Юм) растворяются в идеализме и скептицизме. Цикл, открытый, с
одной стороны, Кантом и получивший развитие благодаря Фихте,
Шеллингу, Гегелю, а с другой — представленный материализмом
и позитивизмом, завершается безысходными противоречиями.
С Шопенгауэра и особенно Гартмана, к которому соискатель
относится с воодушевлением, начинается ренессанс, обреченный на
41
неудачу. В самом деле, западная мысль обременена
«односторонним» рационализмом, «абстрактностью», неспособностью
ухватить «жизнь». В этом изложении системы порождают одна
другую, напоминая композицию фуги, так, будто философская мысль
развивается совершенно изолированно, и ничто вне ее — будь то
наука или политика — не ставит перед нею вопросов. Такая
диалектическая виртуозность позволяет лишь заново пересмотреть
обвинительный акт против европейской мысли,
сформулированный Киреевским, охватив на сей раз Гегеля, Конта, Шопенгауэра,
Гартмана.
В следующем, 1875 году Соловьев уезжает из России.
Вдохновленный стремлением к «всеединому» знанию, он исследует пути
эзотеризма и гностицизма: в Британском музее поглощает
Каббалу, Сведенборга, Беме, Валентина, Ямвлиха. Он приобщается к
спиритизму, и эти сеансы не лучшим образом сказываются на его
душевном равновесии. И вот он в Египте, где отыскивает следы
традиций герметизма. Он блуждает по пустыне в рединготе и
цилиндре, засыпает на песке, и в третий раз ему является София. Это
видение описано в знаменитой поэме.
«Все видел я, и все одно лишь было —
Один лишь образ женской красоты...»1
В то время Соловьев пишет на французском языке краткие,
отчасти зашифрованные наброски своего «Weltanschauung»*:
«Диалоги о Софии», «Начала универсальной религии». В письме к
матери он определяет эти эссе как произведения «мистико-теософо-
философо-теурго-политического содержания», что, увы, точно
соответствует истине.
Таковы его первоначальные опыты. Он полностью преодолеет их
только в «Трех разговорах». Над творчеством Соловьева довлеет
общая схема, от которой оно свободно лишь местами. Это
эволюционистская историософия. Мистический эволюционизм — the Great
Chain of Beeing , — истоки которого он нашел у неоплатоников и
каббалистов, глубокое развитие — у Беме и Шеллинга, научное под-
| Три свидания // Собр. соч. Т. XII. С. 80.
Weltanschauung (нем.) — мировоззрение,
the Great Chain of Beeing (англ. ) — великая цепь бытия.
42
тверждение — у Спенсера, несет в себе великий исторический
замысел. Соловьев отдает все силы детальной разработке этой концепции.
Свидетельство тому — его ранние книги. Во введении к
«Философским началам цельного знания» он трактует мир как развивающийся
организм. Конечно, речь идет о трех стадиях развития. На первой
стадии человечество представляет собой единую
религиозно-социальную общность. Обособление начинается с христианства (Государство
отделяется от Церкви, социальное — от религиозного), находит
продолжение во Французской революции (отделение экономики) и в
итоге ведет к индивидуалистической атомизации. Но уже угадывается
третья стадия: Россия вернет человечество к единству, сохраняя при
этом преимущества индивидуализма. Тогда человечество наконец
достигнет «цельности», о которой возвещали славянофилы. «Критика
отвлеченных начал» утверждает как абсолютную цель человека
«свободное всеединство»: человек осознает свою всеединую
(божественную) сущность и реализует ее в материальном мире, воплощая во
вселенной божественную Софию. В «Чтениях о Богочеловечестве»
уточняется теология эволюции. Первый Адам, в начале его вселенского
бытия, был призван стать посредником между Богом и материальным
миром. Но первый Адам хочет самостоятельно и активно обладать
этим пассивным единством. Он отделяется от Бога (как прежде душа
мира), впадает в зависимость от материального начала и погружается
в хаос. Тогда начинается новый процесс, субъект которого — мировая
душа, а затем — реальное человечество, которое последовательно
(индусы, греки, римляне, евреи) восходит по ступеням религиозной
лестницы, ведущей к Богочеловеку, к новому Адаму — в нем мир и
человечество вновь свободно соединятся с Богом. Посредник такого
единения — Церковь. Но римская Церковь в средние века поддалась
искушению творить зло во имя блага и утверждать веру силой.
Протестантизм, как реакция на эту ошибку, впал в гордыню
рационализма. Только православная Церковь...
Эти резюме похожи на карикатуру. Но если бы Соловьев на том
и остановился, карикатура была бы правдивой. На этом уровне
Соловьев лишь воспроизводит в постматериалистическом контексте
старые космогонии, которые во множестве появлялись на Западе
во времена Шеллинга, Кине и аббата Констана, иначе
называемого Элифасом Леви. Конечно, у Соловьева есть талант,
вдохновение, естественная глубина, позволяющие ему подняться над дру-
43
гими авторами, но это не делает его оригинальным, ибо схема по-
прежнему та же. Однако в зазорах этой системы заметны детали,
фрагменты, которые, постепенно приобретая самостоятельность,
взорвут ее. Их нелегко вычленить. В действительности общая
система была хорошо принята современниками. В течение двадцати
лет они существовали в атмосфере отупляющего обскурантизма
народничества и марксизма. На этом фоне неошеллингианская и
неославянофильская религиозность Соловьева внесла оживление,
тем более что он еще не покушается на мессианство русского
национализма. Соловьев пользуется успехом в обществе;
«религиозная философия» Серебряного века вышла из этого теософа.
Однако есть в мысли Соловьева две черты, обособляющие его на
туманном горизонте русского идеализма, — две оригинальные черты,
благодаря которым он вырывается из собственного плена.
Первая черта — его взгляд на еврейский народ. Небольшая
статья, написанная им в связи с антисемитскими законами 1882 г., —
это средоточие рефлексии, углубляющейся вплоть до самой
смерти философа. В статье изложены интуитивные прозрения и
позиции, которые поднимают Соловьева над всем европейским XIX
веком, несмотря на отдельные неясности и рецидив историософии,
едва не испортивший статью.
Лучше всего заголовок, где перевернута обычная постановка
вопроса: «Еврейство и христианский вопрос». Отказываясь
говорить о еврейском вопросе по отношению к факту христианства,
Соловьев считает более правильным поставить христианский
вопрос относительно факта еврейства, и вопрос этот таков: почему
евреи в их воззрении на христиан не вступают в противоречие со
своим законом, а христиане в их отношении к евреям нарушают
христианские заповеди? Не останавливаясь на том, как Соловьев
вводит евреев в свою систему, рассмотрим, как евреи помогают
ему порвать с укоренившимися шаблонами русской религиозной
мысли.
Следующий текст представляется наиболее важным. «...Еврей
не хочет признавать такого идеала, который не в силах покорить
действительность и в ней воплотиться; еврей способен и готов
признать самую высочайшую духовную истину, но только с тем,
чтобы видеть и ощущать ее реальное действие. Он верит в
невидимое (ибо всякая вера есть вера в невидимое), но хочет, чтобы это
44
невидимое стало видимым и проявляло бы свою силу... Между тем
как практический и теоретический материализм подчиняется
вещественному факту как закону, между тем как дуалист
отвращается от материи как от зла, — религиозный материализм евреев
заставлял их обращать величайшее внимание на материальную
природу, но не для того, чтобы служить ей, а чтобы в ней и через нее
служить Вышнему Богу. Они должны были отделить в ней чистое
от нечистого, святое от порочного, чтобы сделать ее достойным
храмом Высшего Существа. Идея святой телесности и заботы об
осуществлении этой идеи занимают в жизни Израиля несравненно
более важное место, нежели у какого-либо другого народа...
Можно сказать, что вся религиозная история евреев была направлена к
тому, чтобы приготовить Богу Израилеву не только святые души,
но и святые тела»1.
Здесь нет и следа спиритуализма. Религия, отдающая здешний
мир злу, презирающая творение, принижающая закон,
пренебрегающая телом, забывающая о практической справедливости и
необходимости работать для Царства, — такая религия предает дело
Мессии. Именно в этом Соловьев горячо упрекает Русскую
православную Церковь и вообще византизм. Благодаря евреям он
осознает практическое инаковерие православия по всем этим
пунктам. Евреи помогают ему понять также пустоту и ложность
высокой нравственности толстоевщины. То, что чистота, пристойность,
очищение телесное составляют необходимую подготовку ко
всякому духовному усилию, конечно, противоречит патетике
«Карамазовых», «Идиота». Открытие, благодаря евреям, серьезной
нравственности окончательно отрывает Соловьева от этого
национального искушения.
Но в более общем плане понятие тела позволяет вновь обрести
природу и, в частности, природу человеческую.
Восстанавливается связь с гуманизмом, предостерегающим против отрыва от
условий существования сотворенной природы. Соловьев не признает
«ангелической» восторженности, устремлений к «чистой» любви,
всего, что принес в Россию пиетизм. Неприемлемо для него и
громкое отступничество, к которому приводит неизбежное
разочарование. Он отмечает, что евреи пользуются деньгами, а христиа-
1 Собр. соч. Т. IV. С. 149.
45
не сами служат деньгам, и именно они впадают в
идолопоклонство перед Маммоной.
Наконец, размышления об Израиле открывают Соловьеву, что
религия — это не весть, а история; что это не «эволюция», не
историософская схема: она прочитывается в неповторимых
событиях, пережитых в конкретном месте, в определенное время
избранным народом, со свойственными ему непреодолимыми идиосин-
кразиями.
Соловьев избавляется от маркионизма, который надо понимать в 1
двух смыслах. Во-первых, в прямом смысле, это отбрасывание Вет- ,.
хого Завета и, равным образом, неприятие еврейского народа. Во-
вторых, по аналогии, это отбрасывание античности и
греко-латинской мудрости. По крайней мере со времен Реформы христианство {,
колеблется между этими двумя разновидностями маркионизма, то J
отвергая классический гуманизм и философию во имя библейского '
фундаментализма, то, наоборот, во имя гуманизма отрекаясь от биб- j.
лейского наследия как негуманного, варварского, противного циви- j
лизации. В русской мысли также наблюдается это колебание. Рядом ik
с евангелизмом Толстого и Достоевского существуют антиеванге- J.
лизм Розанова, антибиблеизм спиритуалиста Мережковского и ан- J
тигуманизм библеиста Шестова. На фоне всего этого Соловьев ка- \ '
жется феноменом религиозной уравновешенности. ;,
Соловьев изложил размышления о Библии в одном из самых
обширных своих трудов: «История и будущность теократии» !'
(1885—1887). Название не слишком привлекательное. Книга заду- j,
мана как «философия библейской истории» и в значительной части |
таковой и является. Самое интересное в ней — последовательный ! *
комментарий к первым книгам Пятикнижия. Между тем,
внимательное чтение текстов Писания выявляет не только «эволюцию» в
том смысле, в каком понимает ее XIX век и Соловьев в частности, i '
но и некоторые юридические положения и политическое
устройство. Соловьев открывает законодательство еврейского народа,
правовые отличия священнического, царского, пророческого
служений, действующую систему законов. В более общем смысле,
политический характер условий человеческой жизни подразумевается, а
не снимается божественным планом спасения.
Важно, что именно Библия дала повод к этим размышлениям.
Русская традиция принижать значение права, конституций, поли-
46
тической жизни объяснялась ссылками на христианство. Там, где
немцы говорили о Volksgeist*, русские говорили об органическом
единстве православного народа с Церковью и царем. Толстой и
Достоевский обосновывают свои антиполитические позиции
ссылками на Евангелие, предписывающее, по их мнению,
неполитический образ жизни в обществе. Соловьев, напротив, соединяет
Библию и политику. Он находит в Библии и в истории Израиля модель
законодательства и образец хорошего управления. Ушел ли он от
утопии? Увы, не вполне, поскольку он буквально переносит
библейскую модель на современную Восточную Европу. Он рисует в
воображении тесное сотрудничество Российского государства,
польского общества и обосновавшегося на Востоке еврейского
народа, совместно показывающих всему миру и евреям, в частности,
пример осуществленного наконец христианства. Именно это
Соловьев и называет неблагозвучным термином «теократия». С
другой стороны, христианской политикой в социальной сфере он
называет не что иное, как социализм. У Соловьева так всегда: смесь
никогда не отстаивается до полной прозрачности.
Еще одна черта, которая ставит Соловьева особняком, — это его
понимание католицизма. Озабоченность единством Церкви
постоянно присутствовала и в мысли, и в деятельности русского
философа, отдавшего этому делу лучшие годы жизни и лучшие силы, — и
напрасно. То, что он увидел в католицизме, изменило его взгляды.
Кажется, здесь он почерпнул те же уроки, что в иудаизме: урок
нравственной серьезности и понятие права.
С одной стороны, нравственная серьезность. «Западная Церковь,
верная своему апостольскому призванию, не побоялась погрузиться
в грязь исторической жизни. В течение долгих веков она была
единственным началом нравственного порядка и умственной культуры
среди варварских народов Европы и принуждена была поэтому
принять на себя и весь труд материального управления наряду с
духовным воспитанием этих, независимых по своему духу и суровых по
своим инстинктам, народов. Папство, как святой Николай сказания,
думало меньше о своей видимой чистоте, чем о действительных
нуждах человечества. Восточная Церковь, со своей стороны, в своем
пустынническом аскетизме и своем созерцательном мистицизме, в
Volksgeist {нем.) — дух народа.
47
своем удалении от политики и всех общественных задач,
затрагивавших человечество в его целом, желала прежде всего, как святой Кас-
сиан, достигнуть рая без единого пятна на своей хламиде. Там
хотели приложить все божеские и человеческие силы к вселенской цели;
здесь вся работа была лишь в том, чтобы сохранить свою чистоту»1.
С другой же стороны, речь идет о праве. По поводу Эфесского
собора, известного в истории под названием «разбойничьего»,
Соловьев пишет: «Но пока беззаконие, насилие и заблуждение
торжествовали таким образом на вселенском соборе, где же была
непогрешимая и нерушимая Церковь Христа? Она была налицо, и она
проявила себя. В ту минуту, когда святой Флавиан подвергался
грубым истязаниям служителей Диоскора, когда епископы-еретики
шумно приветствовали торжество своего вождя перед лицом
трепетавших и молчавших православных епископов, — Иларий, диакон
римской Церкви, воскликнул: Contradicitur! Уж конечно, не
охваченная ужасом и молчаливая толпа православных Востока
представляла в это мгновение Церковь Божию. Вся бессмертная власть
Церкви сосредоточилась для восточного христианства в этом
простом юридическом термине, произнесенном римским диаконом:
Contradicitur! У нас принято упрекать Западную Церковь за ее в
высшей степени юридический и законнический характер. Без
сомнения, принципы и формулы римского права не имеют силы в
Царстве Божием. Но «ефесское разбойничество» могло служить
прекрасным оправданием латинскому правосудию. Contradicitur
римского диакона представляло принцип, противопоставленный
факту, право, противопоставленное грубой силе; в нем проявилась
непоколебимая моральная твердость перед лицом торжествующего
злодейства одних и малодушия других, — одним словом, то была
несокрушимая скала Церкви, ставшая перед вратами ада»2**.
Священная история Израиля, история католической Церкви
примирили Соловьева с Творением. Другой путь к этому
примирению проходит через одну из главных тем христианского богосло-
1 La Russie et l'Eglise Universelle // La Sophia. P. 153*.
I Ibid. P. 235.
Здесь и далее все цитаты даны по изданию: Соловьев В. Россия и
вселенская церковь / Перевод Г. А. Рачинского. М., 1911.
Contradicitur (лат.) — протестую.
48
вия. Размышление Соловьева над догматом о Троице вело к
гностическому эволюционизму, предвосхищавшему учение Тейяра де
Шардена, но в то же время сдерживающую и отчасти защитную
роль играла замечательно верная и твердая интуиция
относительно догмата о Воплощении. Христология Соловьева не подвержена
романтическим влияниям. Он никогда не покидает классической
почвы Халкидонского собора.
Евреи упрекали христианство в практическом бессилии. Тот же
упрек Соловьев адресует религиозному византизму, или, если
воспользоваться его выражением, «антикафолическому
православию» . Проницательный исторический инстинкт, унаследованный
от отца, позволяет ему распознать политический смысл великих
христологических ересей первых веков.
Арианство отрицает Воплощение: Иисус Христос не есть Сын
Единосущный. Тем самым природа и человечество отделяются от
Божества, и, следовательно, Государство получает полное право на
безусловное верховенство. Согласно Несторию, человечество Христа есть
«лицо, законченное в себе и соединенное с божественным Словом
лишь в порядке отношения». Практический вывод: «Государство есть
законченное и безусловное тело, связанное с религией лишь внешним
отношением». Вот почему император Феодосии II поддержал эту
ересь. Но он поддержал и противоположную ересь — монофизитство,
согласно которому человечество в Иисусе Христе поглощено Его
божественностью. Предпосылка противоположна, а политический
вывод тот же: «раз человечество Христа более не существует,
воплощение является лишь фактом прошлого, — природа и род человеческий
остаются безусловно вне Божества. Христос вознес с собой на небеса
все, что принадлежало Ему, и предоставил землю кесарю».
Две последние императорские ереси — монофелитство и
иконоборчество. Согласно первой из них, у Христа нет человеческой
воли. Человечество Его пассивно и определяется безусловным
фактом Его божественности. Человечество, таким образом, не
участвует в деле своего спасения: действует только Бог. Весь долг
христианина заключается в пассивном подчинении
божественному факту, представленному в духовном отношении неподвижной
кафолический — вселенский («Истинная сущность Церкви связана с
ее вселенским или кафолическим характером». — В. Соловьев. О
расколе в русском народе и обществе).
49
Церковью, а в отношении преходящего — священной властью
божественного Августа. Наконец, иконоборчество восстает против
телесности, внешнего существа человека и, через него, всей
природы. Оно отрицает возможность освящения материального,
чувственного мира и его единства с Богом. Утверждая, что Божество
не может иметь чувственного выражения, внешнего проявления,
оно лишает Воплощение всякой реальности. Отсюда также
вытекает политический вывод. Материальная реализация
божественного ознаменована не только изображениями, но и самим
учреждением — Церковью видимой, а ее «иконой» является, в первую
очередь, апостольский престол в Риме. Вот что отрицает
иконоборчество.
Когда Соловьев освещает политический аспект или
политические отголоски христологических ересей, богослов в нем
неотделим от историка. Тайна Воплощения, заключенная в лице Иисуса
Христа, — по халкидонскому определению, «совершенного
Человека и совершенного Бога, соединяющего оба естества
совершенным образом неслиянно и нераздельно», —- означает, пишет
Соловьев, что историческое дело Бога вступает в новую фазу
«нравственного и социального объединения». Это значит, продолжает он,
что спасительное действие воплощения Слова состоит не в том,
чтобы оторвать человечество от его социальной и политической
природы, а в том, чтобы принять ее бремя и по-настоящему ее
освятить. Нельзя, таким образом, предоставить политику злу; но,
возможно, отклоняя в равной степени и синтезирующее смешение
(«неслиянно»), и квиетистский фатализм («нераздельно»), со-ра-
ботать над построением Царства, первый камень которого есть
Церковь. «Ибо, чтобы... исхитить землю от хаоса и установить
отношение ее к небесам, Слово и стало плотью. Для создания
невидимой Церкви, докетический Христос гностиков, Христос призрак
был бы более чем достаточен.
Но реальный Христос основал реальную Церковь на земле, и
Он положил ей в основание постоянное отчество, повсеместно
распределенное во всех частях общественного организма...»1
В истории мира после Воплощения и, в частности, в истории
Церкви, в ее очаге и средоточии ее роста Соловьев обнаруживает
1 Ibid. Р. 287.
50
с той же очевидностью, как и в истории народа Израиля, работу
институтов, согласованность функций, структуру организма,
стабилизирующее и регулирующее действие права.
Здесь есть двусторонняя зависимость. Если, после факта
Воплощения, любая ошибка, любое заблуждение на этот счет влекут за
собой какое-либо социально-политическое отклонение, точно так же и
наоборот, любое отклонение от правильных политических
отношений и правильного управления, любое их нарушение означает
(независимо от того, осознается это или нет) потерю из виду таинства и
искажение догмата. В этом смысле, халкидонская христология
становится пробным камнем и герменевтическим принципом —
единственным, которому Соловьев никогда не изменял, несмотря на
самые крутые повороты. И потому он пишет: «Богословие есть наука
божественная, но Бог христиан соединил себя с человечеством
связью неразрывной. Богословие Богочеловека не может быть
отделено от философии и науки человеческой. Вы — православны в вашем
исповедании веры, вы одинаково отметаете ересь Нестория и ересь
Евтихия; будьте же православны в приложении вашей веры.
Осуществляя истину Христа в интеллектуальной области христианского
мира, — различайте, но не разделяйте природы, удерживайте в
ваших мыслях и ваших учениях внутреннее, органическое и живое
единство божественного и человеческого, без смешения и без
разделения (неслиянно и нераздельно). Берегитесь допустить, как
бессознательные несторианцы, две науки и две истины, полные и
независимые друг от друга. Не пытайтесь также, по примеру монофизитов,
устранить человеческую истину, философствующий разум, факты
естественной и исторической науки; не преувеличивайте их
важности, но и не отвергайте из предвзятости достоверность их
свидетельства во имя христианского догмата: это — жертва неразумная,
которой воплощенный Разум не требует от вас и которой Он не
может принять»1. Так халкидонский пробный камень помогает
Соловьеву критически определить и «духовно» объяснить два больших
направления в истории современной мысли: с одной стороны,
скептический, позитивистский, сциентистский номинализм, а с
другой — иррационалистический фидеизм; направления, между
которыми уже столетие разрывалась Россия.
1 Ibid. Р. 291—292.
51
Разумеется, Соловьев на этом не останавливается, и халкидон-
ский компас, с которым он иногда забывает сверить свою мысль,
не мешает ему строить на основе Священного Писания
совершенно утопичную политику. Тесный союз римского папы и русского
царя, пишет он, будет фундаментом вселенской империи, первым
осуществлением справедливости в обществе и в Церкви...
Теократический план рухнул. Экуменический план рухнул.
Соловьев поссорился с иезуитами и не был назначен кардиналом в
Риме (разговоры об этом велись в какой-то момент), а между тем
симпатии к католицизму ставили его вне русского общества и
русской Церкви. Ни евреи, ни поляки не шевельнулись, чтобы его
поддержать. Он подавлен.
Глава IV
Защита природы: война
«Существует теперь или нет христолюбивое и достославное
российское воинство?» — этим вопросом Генерала открывается
первый разговор1. Испокон веков, продолжает он, всякий военный
человек, солдат или^фельдмаршал, знал, что он служит важному и
хорошему делу, почетному делу, в котором участвовали лучшие
люди нации, вожди и герои. Еще вчера он знал, что его задача —
поддерживать и развивать в своих войсках не какой-нибудь, а
именно боевой дух — готовность каждого солдата убивать врагов
и самому быть убитым, для чего необходима уверенность в том,
что война — дело святое. В списке русских святых половину
составляют князья, то есть воины. Почему среди всех профессий на
свете не гражданские, мирные, а именно военная профессия
считалась способной практически воспитывать святость? Между тем,
в одно прекрасное утро мы вдруг узнаем, что все это нам нужно
забыть. Дело, служением которому мы гордились, объявлено
дурным и пагубным. Отныне оно признано несовместимым с
Божьими заповедями и человеческими чувствами: оно есть зло.
1 Начиная с этой главы и до конца I части я комментирую «Три
разговора», следуя за текстом Соловьева. Поэтому нет необходимости
снабжать примечанием каждую цитату.
52
Политик отвечает, что следует поставить эту эволюцию в
историческую перспективу. Война всегда оценивалась как зло,
остающееся даже и сегодня неизбежным. Речь не идет об уничтожении
войны, а о постепенном, медленном введении ее в тесные
границы. А пока что война останется тем, чем всегда была. Моя точка
зрения, добавляет он, — обыкновенная, европейская, принятая
образованными людьми.
Тут в разговор вступает Князь: война есть крайнее и
абсолютное зло, от которого человечество должно непременно и теперь же
избавиться, как оно избавилось от каннибализма. Смерть сама по
себе — явление естественное, но убийство — это нравственное
зло, поскольку оно зависит от злой воли. А если мы имеем дело с
мерзавцем? Проблема заключена не в этом человеке, а в нас.
Следует абсолютно, прямо повиноваться голосу совести и Божьей
воле. Бог ненавидит насилие. В прошлом могли быть войны, это нас
не касается. Для нас важно, что нам нужно делать теперь. Ведь
наше нравственное сознание стало более развитым. Мы поняли, что
убийство есть зло, противное воле Божией, запрещенное издревле
заповедью Божией: «оно ни под каким видом и ни под каким
именем не может быть нам позволительно и не может перестать быть
злом, когда вместо одного человека убиваются под названием
войны тысячи людей. Это есть прежде всего вопрос личной совести».
Совести? — парирует Генерал. — В моей жизни «был только
один случай», когда очевидным образом «владела мной одна
только добрая сила», без всякой примеси тщеславия или слабости
душевной. «Единственный раз в жизни испытал я полное
нравственное удовлетворение... и было это мое единственное доброе дело —
убийством, и убийством немалым, ибо убил я тогда в какие-нибудь
четверть часа гораздо более тысячи человек...» И он рассказывает
о своем лучшем боевом подвиге. Дело было во время кавказской
кампании. Генерал проезжает разгромленными армянскими
селами, видит женщин с отрезанными грудями и вспоротыми
животами, младенцев на вертеле. Он обнаруживает отряд башибузуков и
крошит их со своими казаками, как капусту. Велит похоронить
убитых: казаки их отпевают (вероятно, эту сцену вспомнил
Солженицын, сочиняя «Август 14-го»)1. И когда правосудие свершилось,
Красное колесо (Август 14-го), глава 50.
53
«у меня в душе... светлый праздник. Тишина какая-то и легкость
непостижимая, точно и с меня вся нечистота житейская смыта и
все тяжести земные сняты, ну, прямо райское состояние —
чувствую Бога, да и только». Генерал заключает, что «взаправду есть
христолюбивое воинство и что война, как была, так и есть и будет
до конца мира великим, честным и святым делом...»
Князь, конечно, усмехается. Репутация казаков известна. Здесь
защищают борьбу одних разбойников с другими. Моральный долг
велит в ней не участвовать.
Какие аргументы выдвигает между тем Философ — г-н Z.?
Самые классические. Война не является абсолютным злом, так же
как мир не есть абсолютное благо. Могут быть благая война и
дурной мир. Нравственный порядок или Божия воля не утверждаются
сами по себе. Человек участвует в их утверждении и,
следовательно, законным образом берется за оружие, дабы защитить добро и
поразить зло. Злодей — не тот, в ком недостаточно развита совесть
или чей разум не достиг зрелости, а тот, кто решительно
действует наперекор совести и разуму. Зло — не «отсталость», оно есть то,
что оно есть: зло. В конфликте, кроме меня и преступника, есть
третье лицо, жертва злого насилия, требующая моей помощи.
И это первое, что диктует мне совесть: я должен помочь жертве.
Чистая совесть Князя проверяется судом истории: киевские князья
в XII веке позволили себе стать пацифистами. Они не хотели
подвергать свой народ бедствиям войны. В результате Россия
оказалась открытой для набегов и пережила монгольское иго.
Таковы аргументы Философа, в основании которых —
естественное право в самом обычном понимании. Между тем у
Философа есть второй ряд аргументов: он не развивает их в форме
рассуждений, но намеком, как бы «духовно» наводит на них. В конце
рассказа Генерала Соловьев вкладывает в его уста
процитированные нами слова веры, звучащие почти как гимн. К кому отсылают
они, если не к Иисусу Навину или Давиду? Нигде не сказано, что
все евреи были добродетельнее филистимлян. Однако, изгоняя
филистимлян из земли Ханаанской и истребляя их, Иисус Навин и
Давид были уверены в том, что совершают дело святое и
очистительное, согласное с божественным планом. В радости они
возносили хвалы Богу воинств. То же делает и наш добрый Генерал,
изрубив башибузуков.
54
Бесполезно было убеждать Князя ссылками на Ветхий Завет.
Как Толстой, как Достоевский, Князь верит только Евангелию. Он
считает Бога Израиля жестоким варваром, чьи кровавые заповеди
были упразднены кротостью Христа. «Я только сказал, что
человек, исполненный истинного евангельского духа, нашел бы
возможность и в этом случае, как и во всяком другом, пробудить в
темных душах то добро, которое таится во всяком человеческом
существе». В «Идиоте» князь Мышкин, желая обезоружить
Рогожина, расстегивает рубашку и показывает свой крест. Зло — это
заблуждение: его можно победить, открыв человеку, все еще
ослепленному, свет разума и высшей совести. Евангелие действует
гностическим путем. «Кто в самом деле исполнен истинным
духом евангельским, тот найдет в себе, когда нужно, способность и
словами, и жестами, и всем своим видом так подействовать на
несчастного темного брата, желающего совершить убийство или
какое-нибудь другое зло, — сумеет произвести на него такое
потрясающее впечатление, что он сразу постигнет свою ошибку и
откажется от своего ложного пути».
Здесь Соловьев возражает. Почему, спрашивает г-н Z.,
«Христос не подействовал силою евангельского духа, чтобы пробудить
добро, сокрытое в душах Иуды, Ирода, еврейских
первосвященников и, наконец, того злого разбойника, о котором обыкновенно как-
то совсем забывают, когда говорят о его добром товарище?» Спор
между Князем и г-ном Z. касается ценности того, что сегодня
назвали бы диалогом. Князь убежден, что диалог пробуждает истину
и добро, сокрытые в сердце каждого. Генерал в качестве диалога
не придумал «ничего лучше залпов картечи». А г-н Z. замечает,
что Христос не вступал в диалог ни с Иродом, ни с
Первосвященником, ни с Иудой или злым разбойником. Почему Он «не избавил
их душ от той ужасной тьмы, в которой они находились? Почему
Он не победил их злобы силою своей кротости?., или не мог, или
не хотел. В обоих случаях выходит, по-вашему, что Он не был
достаточно проникнут истинным евангельским духом».
Что подсказывают Генералу интуиция и опыт и что известно
Соловьеву, — это серьезность зла. Зло невозможно свести к
наследию прошлого и еще менее — к невольному заблуждению и
недостатку воспитания. Зло есть злая воля, ненависть к Богу. Со злом
нужно биться не на жизнь, а на смерть, — таковы битвы Иисуса
55
Навина, воина, такова битва Христа. Даже Бог не может одолеть
злой воли, не лишив ее свободы. Нравственный оптимизм Князя,
облекающий просветительство в евангельский наряд (то же можно
сказать и о сочувствии Достоевского к злу, становящемуся в итоге
пропедевтикой добра), — это неспособность измерить ту глубину,
куда уходит корнями зло, затрагивая даже и само добро. На том
гости переходят к столу, и первый разговор заканчивается.
Глава V
Защита природы: политическое обоснование
Второй разговор ведет почти единолично Политик. Поскольку
речь идет о политике и события рассматриваются во всех
подробностях, этот разговор в большей степени, чем первый,
сосредоточен на конкретных обстоятельствах. Многие эпизоды европейской
политики подвергаются здесь строгой критике. Начинается
разговор с общего рассуждения — похвалы вежливости. Высшая
нравственность совершенно игнорирует единственно необходимую
добродетель — вежливость. Можно отлично жить в обществе, где не
встретишь ни одного целомудренного, ни одного бескорыстного,
ни одного самоотверженного человека; но если есть вежливость,
как существует она в правильной повседневной жизни
цивилизованных людей, то общественная жизнь уже возможна. И нет
никакой необходимости ни в высшей добродетели, ни в христианстве...
В русском контексте это заявление Политика звучит
провокацией. Первый признак, по которому узнают молодого человека,
приобщившегося к высшей нравственности интеллигенции, — это
приобретенные им дурные манеры. Грубость в словах и поступках
означает, что он порвал с пустыми общественными условностями,
возвысился над буржуазией и мещанством, что он солидарен с
высшими интересами человечества и страждущего русского
народа. Старый Тургенев, русский писатель, который был образцом
учтивости, широко развивает эту тему в «Отцах и детях», а
Достоевский (который сам был неучтив, но по другим причинам),
разгадавший смысл такой невежливости, с пронзительной иронией
анализирует ее во всех своих романах.
56
Политик держится традиции «aufklârer» Российского
государства: прогресс проявляется в развитии цивилизации. Культурное, а
значит, воодушевленное рациональным планом Государство
направляет Россию (быть может, немного сурово) на путь
цивилизации, где Европа ее несколько опередила.
Войну следует оценивать как главный способ создания и
упрочения Государства. Между тем, в противоположность утопическим
утверждениям Князя, без установления Государства человеческое
общество немыслимо. Но разве сегодня Государство, а следовательно,
и война не выполнили до конца свою историческую задачу?
«Военный период истории кончился». «Я твердо уверен, — продолжает
Политик, — что ни мы, ни наши дети больших войн — настоящих
европейских войн не увидим». Вопрос о смысле войны может иметь
лишь относительное решение. Наши святые воители жили в средние
века. Александр Невский, бивший ливонцев и шведов в тринадцатом
веке, — святой, а Александр Суворов, бивший турок и французов в
восемнадцатом, — не святой. Дело в том, что ему не были вручены
спасение и судьба России, а потому он — всего лишь военная
знаменитость. Война 1812 года не была вызвана необходимостью.
Следствием ее стал тридцатилетний ограниченный милитаристский режим,
приведший к севастопольскому разгрому. Крымская война была
бессмысленной. Наш Генерал вспоминает о подвиге 1877 г. Но в 1895 г.
из-за этой войны турки в качестве меры предосторожности
систематически истребляют уже не сотни, а около полумиллиона армян
руками тех же башибузуков. Надо ли уничтожить Турецкую империю?
Но тогда христиане в Святой земле немедленно перережут друг
друга. Стоит России вмешаться, как вся Европа восстанет против нее, и
мы получим Севастополь в больших масштабах. В конце концов
Иван Грозный тоже поджаривал своих врагов на медленном огне или
сажал их на кол. Но из-за этого Российская империя не была
разрушена; она стала цивилизованной, что гораздо лучше. И у нас были
собственные «турецкие зверства». Справедливым ответом была не
война, а отмена крепостного права и шпицрутенов. Точно так же,
выгоднее сохранить Турецкую империю, полезную во многих
отношениях, и поддержать немцев, которые постепенно ее цивилизуют.
Наша общая задача — европеизировать турок, и настало время исполь-
Aufklârer (н&и.) — просветительский.
57
зовать для этого мирные средства. Да и войны-то вести теперь уже
разучились. Человечество в целом живет по законам человеческого
тела, и бесполезные органы атрофируются. Нет больше надобности
в военной доблести, и она пропадает. Мы европейцы с XVIII века,
потому что мы захотели ими быть, и ни дикость народных масс в
России, ни химеры славянофилов нисколько не изменят этого
«свершившегося факта». Пусть Россия занимает свое место в Европе.
Пусть она вступает в соглашения, в частности, с Англией, чтобы
держать на почтительном расстоянии азиатские народы.
Политик думает не только о сегодняшних задачах управления.
У него есть идеал — идеал политически-рациональный. Это
сплоченная, мирная, благоустроенная Европа, где каждая нация занимает
полагающееся ей по рангу место. Сегодня великие европейские нации:
романские, германские, славянские — эти «избранные нации»
сложились, окрепли. Им уже «нечего бояться, кроме междоусобных
раздоров». «Теперь наступает эпоха мира и мирного распространения
европейской культуры повсюду. Все должны стать европейцами.
Понятие европейца должно совпадать с понятием человека, и понятие
европейского культурного мира — с понятием человечества. В этом
смысл истории». Понятие европейца есть мера понятия культуры.
Вначале только греки были представителями европейской идеи, затем
римляне, затем западные народы, потом русские и американцы.
Теперь наступает очередь индийцев, китайцев и турок. «Европеец — это
понятие с определенным содержанием и с расширяющимся
объемом». Однако мы придем не к эгалитарной безразличности, а к
гармоничному разнообразию. Для каждого найдется обитель во
«всеобъемлющем царстве высшей культуры», как и в Царстве небесном.
Может быть, будут еще новые Шекспиры и ньютоны, но в
культуре есть и нравственно-практический аспект, и это как раз то, что
в частной жизни мы именуем вежливостью или учтивостью. Это
некий минимум, наименьший общий знаменатель. «Вежливость
есть культурность à l'usage de tout le monde»*.
Хозяйка резюмирует мысль Политика: «Вы ведь хотели
сказать, что времена переменились, что прежде был Бог и война, а
теперь вместо Бога культура и мир».
à l'usage de tout le monde (фр.) — для всеобщего употребления (в
тексте В. Соловьева по-французски).
58
В этом втором разговоре г-н Z. (или Соловьев) следует за
Политиком, не вступая с ним в спор в той области, которой он
владеет, — в области искусства политики. Начиная с Петра Великого,
Россия вошла в состав Европы. Соловьев в своих сочинениях
неоднократно хвалит Петра за то, что он вырвал Россию из византий-
ско-азиатской отсталости и — пусть насильственно — ввел ее в
живую зону истории, а тем самым и в лоно Вселенской Церкви.
Соловьев давно отказался от национализма славянофилов и
Достоевского. «Поклонение своему народу как преимущественному
носителю вселенской правды; затем, поклонение ему как стихийной
силе, независимо от вселенской правды; наконец, поклонение тем
национальным односторонностям и историческим аномалиям,
которые отделяют народ от образованного человечества, поклонение
своему народу с прямым отрицанием самой идеи вселенской
правды — вот три постепенные фазы нашего национализма,
последовательно представляемые славянофилами, Катковым
(журналистом из поколения Достоевского — А. Б.) и новейшими
обскурантами»1. В «Трех разговорах», как мы увидим, он отвергает
грандиозные планы переустройства мира, которые так долго
лелеял. Теперь он одобряет минималистскую позицию Политика,
поступательное движение шаг за шагом, что близко к общей позиции
Сергея Соловьева, отца философа: насаждение в России
цивилизации правовым Государством и расширение базы этого Государства
по мере того, как получают образование и цивилизуются все
классы общества. Он переносит эту политику на Европу, на ее дикие
окраины. Действие происходит непосредственно после Гаагской
конференции, где выдающийся русский юрист Ф. Ф. Мартене был
одним из самых активных сторонников создания кодекса
международного права и системы межнационального арбитража, с тем,
чтобы (как можно было надеяться) избегать в большинстве
случаев военных конфликтов. Политик охотно ссылается на Мартенса.
Соловьев всю жизнь призывал Россию порвать с этноцентризмом:
в европействе Политика нет ничего, что могло бы его шокировать,
как и в стремлении соблюдать приличия, столь сильном в русском
обществе XIX века. Вся Восточная Европа стремится к «культуре»
Национальный вопрос в России, выпуск II // Собр. соч. Т. V. С. 228. Цит.
Stremooukhoff. Р. 204.
59
в том смысле, который имеет в виду Политик. Культура
заключается главным образом не в том, чтобы восхищаться великими
произведениями, а в том, чтобы мыть руки, соблюдать гигиену, знать
законы правильного образа жизни, манеры поведения за
столом, — и все это с серьезностью и тщательностью, которые
революционная интеллигенция поднимает на смех, но которые тем не
менее оправданны и достойны уважения.
И все же г-н Z. не полностью солидарен с высказываниями
Политика. По мнению Z., в них содержится, несмотря на очевидный
реализм, некоторый элемент фантазии и утопии. Даже учтивость
должна быть умеренной — от избытка вежливости можно умереть.
Тут г-н Z. критикует Политика на его же территории. Он не в
восторге от союза России и Франции: «Но со стороны собственно
политической не кажется ли вам, что, присоединяясь к одному из
двух враждебных лагерей на континенте Европы, мы теряем
выгоду своего свободного положения как третьего беспристрастного
судьи, или арбитра, между ними, теряем свою сверхпартийность.
Пристав к одной стороне и тем уравновесив силы обеих, не
создаем ли мы возможность вооруженного столкновения между ними?»
Это точное замечание. Г-н Z. сомневается, что для русских
возможна полная интеграция с Европой. Он опасается, что
цивилизаторская помощь, оказываемая Европой народам мира, выродится в
«бессмысленную вражду и недостойное соперничество». Он не
верит в то, что человечество придет к пацифизму: «...ежели
мирная политика есть только тень тени, то стоит ли об ней так много
толковать?.. Не лучше ли прямо сказать человечеству то, что отец
Варсонофий говорил той благочестивой даме: «Ты стара, ты слаба
и никогда лучше не будешь». Политическое объединение
человечества противоречит тому, что мы знаем о человечестве.
Всемирные выставки, рекламирующие этот проект, свидетельствуют о
непростительном смешении, особенно когда они претендуют на то,
чтобы соединить все религии человечества в какой-то непонятный
синкретизм. Это антихристов проект.
Политик обнаруживает свою ограниченность, когда
отказывается понять зло как таковое. Рационалистическое направление в
философии Просвещения, конечно, лучше и плодотворнее, чем
«мистическое», но в своем нравственном оптимизме оно уклоняется от
прямого пути разума, отдаляется от истины и близко к соглашатель-
60
ству с идеями Князя. В конечном счете, рациональная политика
изменяет разуму, когда хочет, чтобы человечество порвало с
собственной природой, и пытается навязать ему свою инженерию блага,
руководствуясь «смыслом истории», которого она не может знать.
«Отлично... — заключает Дама, — если бы не наша
«культурность», давно бы уже бросились в столовую». — Однако, —
отвечает по-французски Политик, — «культура и кулинарное
искусство прекрасно сочетаются». После этого сильного аргумента
собеседники переходят к трапезе, и тем завершается второй разговор.
Глава VI
Защита природы: религиозное самозванство
Князь верит в нравственный прогресс: он ошибается. Политик
верит в материальный прогресс, и он прав. Но в какой-то мере он
верит и в умеренный нравственный прогресс, называя его
цивилизацией. Здесь он ошибается: «...заметный, ускоренный прогресс есть
всегда симптом конца». Исторический прогресс идет ускоренно и
«приближается к своей развязке». «К концу света, не так ли?» —
спрашивает Дама по-французски. И тогда Князь произносит:
«Вероятно, вы и антихриста не оставите без внимания?», на что г-н Z.
отвечает: «Конечно, — ему первое место». Когда враг, таким образом,
назван по имени, Князь, почувствовавший себя плохо, просит
разрешения отправиться к себе. Позже он появится снова.
Крик души Политика: «только с условием, чтобы религии
было поменьше... ради Бога, поменьше!» — вызывает одобрение
Соловьева. Он ничего не имеет против агностицизма и позитивизма.
Напротив, он даже написал большую статью «в защиту Огюста
Конта». Он одобряет агностицизм Политика по отношению к
наметившейся апокалиптической битве, потому что антихрист — не
агностик и даже не атеист: это фигура религиозная. «То
антихристианство, которое по библейскому воззрению — и ветхозаветному,
и новозаветному — обозначает собой последний акт исторической
трагедии... будет не простое неверие, или отрицание христианства,
или материализм и тому подобное, а... это будет религиозное
самозванство, когда имя Христово присвоят себе такие силы в челове-
61
честве, которые на деле и по существу чужды и прямо враждебны
Христу и Духу Его».
Это оригинальное утверждение. С тех пор, как получила
распространение просветительская философия, представленная в
Германии поколением Фейербаха и Маркса, в России — их
эпигонами, казалось, что главная битва происходит между религией и
антирелигиозным мировоззрением. Но в конце века эта борьба
теряет остроту, конфликт смещается. Как верующие, так и
неверующие представители XIX века согласны в том, что догматику
следует заключить в скобки. В области религии можно быть
сентиментальным или практичным. Верить во что-то, верить горячо, быть
благочестивым, самоотверженным, находить отраду в высших
чувствах, презирать мирские удовольствия — вот что составляет
сущность религии для большинства верующих, а неверующие не
видят во всем этом ничего такого, что мешало бы прийти к
согласию или соревноваться. Для неверующих религия — достойная
уважения иллюзия. С точки зрения общественной и даже личной,
для большинства религия в целом лучше, чем атеизм. К примеру,
Ренан или Анатоль Франс полагают себя выше христианства, но
оказываются на его стороне, защищая тонкость и достоинства
религиозных чувств. В России происходит то же самое.
Соловьев, однако, призывает к разрушению союзов. Он не
питает уважения ни к приблизительному христианству, ни,
соответственно, к фило-христианству. С другой стороны, по его мнению, общая
почва для верующих и неверующих существует: это истина. Истина
иерархична: высшая ступень ее доступна по откровению. Следствие
же этого утверждения в том, что высшую степень лжи представляет
собой религиозная ложь. Знаменитые слова Достоевского: «...если б
кто мне доказал, что Христос вне истины... то мне лучше было бы
оставаться со Христом, нежели с истиной» — слова, оставившие
глубокий след в русском спиритуализме, Соловьеву кажутся ужасными.
Заявление Философа о религиозном самозванстве вызывает
отклик в сердцах присутствующих. «Я боюсь, однако, как бы все
христиане не оказались самозванцами и, значит, по-вашему,
антихристами», говорит Политик. «Исключение составят разве только
бессознательные народные массы, насколько такие еще существуют в
христианском мире... А уж во всяком случае к «антихристам»
следует отнести тех людей — и здесь, во Франции, и у нас, — что особен-
62
но хлопочут о христианстве, делают... из христианского имени
какую-то свою монополию или привилегию». Есть два разряда таких
христиан, продолжает Политик: «живодеры» (намек на позицию
католиков в деле Дрейфуса) или «новые постники и безбрачники, что
открыли добродетель и совесть, как Америку какую-то, а при этом
потеряли внутреннюю правдивость и всякий здравый смысл».
Генерал же заявляет по-солдатски лаконично: «И в давние
времена христианство кому было непонятно, кому ненавистно; но
сделать его отвратительным... — это лишь теперь удалось».
Итак, не религия с антирелигией столкнутся в решающей
битве. Полем битвы станет сама религия, ибо только здесь истина
достигает таких высот, где искажение ее по-настоящему страшно и
смертоносно. Если лучшие люди — христиане, то, с еще большей
очевидностью, и худшие — также христиане. По каким же
критериям отличить подлинное христианство, поскольку все заявляют о
своей принадлежности к нему?
Критерий — керигма, первая проповедь апостолов, возглас
православной Пасхи «Христос воскрес!». Но предварительно, в
порядке подготовки, Соловьев поднимает несколько вопросов.
1) Мир. Почему Христа называют Князем мира, почему, по Его
словам, миротворцы сынами Божиими нарекутся, и почему, с
другой стороны, Он же говорит, что не мир пришел Он принести на
землю, но разделение? Потому, что Он пришел принести на землю
истину, а истина, как и добро, прежде всего разделяет. Есть два
мира: мир христианский, основанный на том разделении, которое
Христос принес на землю, то есть на разделении между добром и
злом, между истиной и ложью; и есть мирской мир, дурной мир,
основанный на смешении того, что внутренне враждует между
собой. Хороший мир — тот, что заключают лишь тогда, когда цель
войны достигнута. Мир — не отказ от войны, а победоносный
исход битвы, рукопашной схватки между добром и злом.
Почему Христос, при всей своей доброте, не может сделать
ничего хорошего с душой Иуды или злого разбойника? У Князя на
это готов ответ: потому, что «время было слишком темное»,
потому, что «очень немногие души стояли на той степени
нравственного развития, на которой внутренняя сила истины может быть
ощутительна». Между тем, по поводу утверждения о будто бы
необоримой силе истины Соловьев ссылается на одну басню Алексея
63
Толстого из сочинений Козьмы Пруткова (русского собрата
француза Жозефа Прюдома) — историю о камергере Деларю. Этот
истинный толстовец учтиво благодарит убийцу, вонзившего в его
сердце нож, и отдает ему свою дочь. Прикончив отца, убийца
насилует дочь; затем он становится губернатором и наконец
сенатором, окруженным всеобщей любовью и уважением. Здесь
высмеивается христианский мазохизм. Благодеяние увеличивает добро в
добром и зло — в злом. Учтивость приручает зло, а доброта,
раздражая его, пробуждает в нем самое худшее.
2) Прогресс. Можно ли полагаться на цивилизацию, на
развитие науки, медицины? Только до известной степени. С точки
зрения Философа, развитию добра сопутствует одновременное
развитие зла: «в результате получается что-то близкое к нулю». И
заслуживает ли прогресс высокой оценки, если все равно конечным
итогом оказывается всепобеждающая смерть?
3) Притча о виноградарях. Вот как толкует евангельскую
притчу Князь. Виноградари считают, что сад, куда их поместил хозяин,
создан для них. Их дело — наслаждаться жизнью, забыв о хозяине
и его заповедях. Так же и сегодня люди думают, что «они сами
хозяева своей жизни, что она дана им для их наслаждения». А ведь
мы посланы сюда, чтобы исполнить волю нашего хозяина. Эта
воля выражена в учении Христа: «только исполняй люди это учение,
и на земле установится Царство Божие».
Политик удивлен: единственное, в чем мы можем быть
уверены, — это то, что мы существуем на земле. Но что касается «по-
сланничества», у нас нет никаких доказательств того, что нам
поставлена такая цель. Нужно служить Богу? Но службы без
жалованья не бывает, а если «жалованье тут всем одно — смерть»,
благодарю покорно! Уж лучше жить, пока живется, жить как
можно умнее и приятнее, по возможности в условиях мирной культуры.
Г-н Z. ограничивается замечанием о том, что текст притчи о
виноградарях не содержит оснований для толкования Князя. Смысл ее
совершенно ясен: виноградари-убийцы — это израильтяне, которые,
избив пророков, отвергают и убивают посланного Отцом Мессию —
наследника хозяина. Толкование Князя следует рассматривать как
попытку на место буквы Евангелия поставить предполагаемый ее
смысл, или, что то же самое, заменить дело, жизнь и личность
Мессии приписываемым ему учением. То говорится, что дух христианст-
64
ва заключен в Нагорной проповеди; то нам говорят, что нужно
прежде всего в поте лица заниматься земледелием. «То говорят, что
нужно все раздать нищим, а то — никому ничего не давать, потому что
деньги — зло»; то — «нужно только трудиться», а то — «ничего не
делать»; то — родить как можно больше детей, а то — «совсем
ничего такого не надо». То самое большое зло — есть мясо или пить
водку, то главная беда, оказывается, заключена в военной службе.
Всякий раз спасение человека видят в осуществлении идеи, которую
считают главной, а не в деле Мессии, не в замысле Божием.
4) Торжество зла. Для толстовцев сущность христианства
составляет непротивление злу насилием. Зло держится только
нашим сопротивлением, теми мерами, которые мы принимаем
против него, но собственной силы оно не имеет. «Оно является
только вследствие нашего ошибочного мнения, по которому мы
полагаем, что зло есть, и начинаем действовать согласно этому
предположению». Но тогда как объяснить поразительную неудачу
дела Христова в истории? Для толстовцев Христос умер и не
воскрес. Таким образом, из проповеди и подвига Христа и Его
учеников вышла только мучительная смерть, замечает Философ. «Из
дела добра, из проповеди истины никогда ничего, кроме смерти, не
выходило, не выходит и не обещает выйти».
Сила зла царством смерти только подтверждается. Зло сильнее
добра. Значит, правы манихеи: мир есть дело злого начала. Зло
«выражается не в одном отсутствии добра, а в положительном
сопротивлении* и перевесе низших качеств над высшими во всех
областях бытия»: есть зло индивидуальное, общественное,
физическое и, наконец, всеобъемлющее «крайнее зло, называемое
смертью». Зло есть воля к злу.
«Наша опора одна: действительное воскресение... Мы уже
знаем в прошедшем одну победу доброго начала жизни — в
личном воскресении Одного — и ждем будущих побед в
собирательном воскресении всех». Без этой веры можно «только на словах
говорить» о Царствии Божием, а на деле все сводится к царству
смерти. Ваше Царство Божие на земле, —- говорит г-н Z.
Князю, — это эвфемизм для обозначения царства смерти. По мнению
Князя, смерть — такой же безразличный факт, как дурная погода.
выделяет А. Безансон. В оригинальном тексте, далее: «крайнее зло».
65
«Смерть не в нашей воле и потому никакого нравственного
значения для нас иметь не может». Толстовец, наследник Канта и
Руссо принимает в расчет лишь благую волю, послушную голосу
совести. Царство Божие — это сознательное исполнение
нравственного долга. Чистое добро, чистая совесть не признают важности
смерти.
Однако, — продолжает Философ, — для определения
нравственности недостаточно совести. Совесть только запрещает.
Нравственность нуждается в руководстве ума, осторожности и
третьего начала — «вдохновения добра», содействия свыше, благодаря
которому нравственность становится не просто «хорошим
поведением», а жизнью в добре. Здесь мы подходим к самой сердцевине
тайны: Царство Божие — это не царство предписаний, но
божественная жизнь, добытая для людей Воплощением Слова, ставшая
возможной благодаря победе над злом и воскресению —
«действительной победе над злом в действительном воскресении». Бог
Князя — далекий хозяин, требующий добра от других, но сам не
делающий никакого добра; это бог бессильный, никогда не
показывающийся на глаза: «бог века сего». Князь путает истинного
Бога с самозванцем.
Нет ничего хуже такого самозванства. Явный противник
христианства честен, прям, откровенен, и к нему можно испытывать
лишь «искреннее расположение». Ревнитель лжехристианства —
«предатель», которого уже ничто не исправит. «Я верю, —
заключает Философ, — в Добро и в его собственную силу... признаю
такую силу неограниченною, и ничто не препятствует мне верить в
истину воскресения» и в то, что Христос есть воплощение
сущности добра. Но если совершенное изображение Христа — иными
словами, добра — выше художественных возможностей человека,
то же самое можно сказать и об антихристе, воплощении зла. Его
нельзя изобразить, а в церковной литературе мы находим только
общие приметы, как в паспортной характеристике. Однако сегодня
мы можем ощутить его присутствие. «А я вот с прошлого года
стала тоже замечать, — говорит Дама, — и не только в воздухе, но и
в душе: и здесь нет «полной ясности»... Все какая-то тревога и как
будто предчувствие какое-то зловещее...» Генерал же полагает, что
«это черт своим хвостом туман на свет Божий намахивает. Тоже
знамение антихриста!»
66
Глава VII
Извращение добра
«Краткая повесть об антихристе» — рукопись, которую
Философ читает собравшимся. Авторство ее приписывается некоему
отцу Пансофию. Не знаю, вспомнил ли Соловьев Пансофия ранних
розенкрейцеров, когда придумал это имя.
Начало повести носит характер политической фантастики.
XX век (по прогнозам Политика, мирный) оказывается эпохой войн
и потрясений. Народы восточной Азии разработали по образцу
пангерманизма и панславизма великую завоевательную идею панмон-
голизма. Китайцы, отвергая нововведения, принесенные
европейцами, принимают предложенную японцами ускоренную
модернизацию. Огромная китайско-японская армия наводняет Российскую
империю. Немцы успешно преграждают путь завоевателям, но
получают удар в спину от французов, одержимых недальновидными
планами «реванша». Китайцы скоро избавляются от ненужных
союзников. Новое монгольское иго над Европой длится полвека. Пока
что текст повести содержит только экстраполяцию политических
предчувствий Соловьева. Он не одобряет франко-русского союза и
вообще французов, отводя им в Европе роль предателей из-за их
национализма. Он осуждает националистическое идолопоклонство
XIX века и прозорливо предугадывает, что оно же обернется
оружием против Европы в руках неевропейских народов. В конце XIX
века много говорилось о желтой угрозе.
Панмонгольская империя (последняя мировая империя — как
таковая, она может считаться аналогом четвертого царства из
Книги пророка Даниила) существует пятьдесят лет. Она
характеризуется «повсюдным смешением и глубоким взаимнопроникновени-
ем европейских и восточных идей, повторением en grand*
древнего александрийского синкретизма». Надо вспомнить, что этот
синкретизм сохранял свою притягательность для самого
Соловьева почти всю его жизнь. Итак, происходит значительное
обострение социальных отношений из-за массовой иммиграции в Европу
азиатских рабочих и усиления деятельности тайных организаций.
en grand (фр) — в обших чертах (у В. Соловьева по-французски).
67
Они образуют грандиозный заговор с целью изгнания монголов.
Заговор удается, и Европа снова обретает свободу. Политический
характер XXI века определяется торжеством чаяний Политика.
Прежний строй отдельных наций теряет смысл, и создаются
Европейские Соединенные Штаты — демократические,
процветающие, открытые для ускоренного прогресса. Конечно,
фундаментальные проблемы (жизни и смерти и т.п.) остаются «без
разрешения», при все возрастающей сложности физиологических и
психологических открытий. В интеллектуальной сфере
заслуживают внимания две черты. С одной стороны, прежний материализм
эпикурейско-механистического толка полностью изжит. С
другой — окончательно преодолена наивная вера. Так, уже нигде не
учат о сотворении мира ex nihilo*. Достигнут некоторый
«средний» уровень антидогматической мысли, и если огромное
большинство мыслящих людей остаются неверующими, то последние
верующие стремятся выработать приемлемое религиозное
мышление. При этом синкретическом смешении, когда интеллектуальные
разногласия смягчаются, а вера теряет свою соль, на всей земле
кажется утвердившимся спиритуализм Князя.
И тут является антихрист. Это не какой-то отвратительный
монстр из лагеря врагов религии. Это «замечательный человек»,
принадлежащий к узкому кругу последних «верующих
спиритуалистов». В тридцать три года (возраст Христа) он уже получил
признание как великий мыслитель, писатель и общественный
деятель. «Сознавая в самом себе великую силу духа, он был всегда
убежденным спиритуалистом, и ясный ум всегда указывал ему
истину того, во что должно верить: добро, Бога, Мессию. В это он
верил, но любил он только одного себя. Он верил в Бога, но в
глубине души невольно и безотчетно предпочитал Ему себя. Он верил в
Добро, но всевидящее око Вечности знало, что этот человек
преклонится перед злою силою, лишь только она подкупит его — не
обманом чувств и низких страстей и даже не высокою приманкой
власти, а через одно безмерное самолюбие». Как видно, антихрист
не слишком отличается от Адама, да и от любого из его потомков.
Его самолюбие не лишено оснований. «Помимо
исключительной гениальности, красоты и благородства», этот «великий спири-
ех nihilo (лат.) — из ничего.
68
туалист» показывал «высочайшие проявления воздержания,
бескорыстия и деятельной благотворительности». Но из этих
достоинств он выводит собственное исключительное «право и
преимущество перед другими и прежде всего перед Христом». Он не
испытывает вражды к Иисусу, но видит в Нем своего величайшего
предшественника. Сам он, пришедший последним, и есть
«совершенный, окончательный спаситель». До этого момента человек,
явившийся улучшить и завершить дело Мессии, ничем не
отличается от Магомета: здесь то же отношение к Христу. Однако в его
программе звучит и нечто новое. «Христос, проповедуя и в жизни
своей проявляя нравственное добро, был исправителем
человечества, я же призван быть благодетелем» его. «Я дам всем людям
все, что нужно. Христос, как моралист, разделял людей добром и
злом, я соединю их благами, которые одинаково нужны и добрым,
и злым. Я буду настоящим представителем того Бога, который
возводит солнце свое над добрыми и злыми, дождит на праведных и
неправедных. Христос принес меч, я принесу мир. Он грозил
земле страшным последним судом. Но ведь последним судьею буду я,
и суд мой будет не судом правды только, а судом милости».
Антихрист Соловьева совсем не похож на великого
инквизитора Достоевского. Дело в том, что тот и другой — противники не
одного и того же Христа. Инквизитор противостоит Христу
романтическому, приверженцем которого был Достоевский, — доброму,
бессильному, призрачному. Инквизитор хочет осуществить цели,
недостижимые для Христа, и потому он силен, властолюбив,
деспотичен. Соловьевский антихрист — противник того Христа, в
котором традиционное богословие видит всесильного властелина
истории, судью с мечом, судящего огнем живых и мертвых.
Соответственно, антихрист, пользуясь всеми средствами временной
власти, проявляет также силу убеждения, широту ума, либерализм,
прогрессивные взгляды. Эта фигура сочетает в себе инквизитора и
Христа Достоевского, точнее, представляет собой более
совершенный образ инквизитора, выступающего под видом романтического
Христа.
Антихрист переживает нечто вроде Гефсиманской ночи, но
превратным, извращенным образом: «Я, я, а не Он! Нет Его в
живых, нет и не будет. Не воскрес, не воскрес, не воскрес!» И он
предается сатане. Тот говорит с ним голосом «странным, глухим, точ-
69
но сдавленным и вместе с тем отчетливым, металлическим и
совершенно бездушным, вроде как из фонографа». Черт обращается
к нему в фальшиво-высоком стиле и предлагает ему совершать
свое дело именем Христовым, а не своим собственным*. «Прими
дух мой. Как прежде мой дух родил тебя в красоте, так теперь он
рождает тебя в силе». Приняв духа сатаны, замечательный человек
почувствовал, как небывалая сила «вошла в него и наполнила все
существо его», и вместе с этой силой ощутил он «бодрость,
легкость и восторг». Он тут же принялся за работу.
Сначала он со сверхъестественной быстротой пишет книгу,
принятую с восхищением «во всех частях света». Соловьев
описывает ее с тончайшей иронией: «Это будет что-то всеобъемлющее и
примиряющее все противоречия. Здесь соединятся благородная
почтительность к древним преданиям и символам с широким и
смелым радикализмом общественно-политических требований и
указаний, неограниченная свобода мысли с глубочайшим
пониманием всего мистического, безусловный индивидуализм с горячею
преданностью общему благу, самый возвышенный идеализм
руководящих начал с полной определенностью и жизненностью
практических решений». Да ведь это осуществление мечты всего
великого XIX века! С забавной серьезностью, уместной в
энциклопедической статье или некрологе, Соловьев сообщает, что
замечательный человек воплотил Конта, Гегеля, Ренана, Спенсера,
Геккеля. Он сочетает уважение к прошлому и культ будущего,
свободу мышления и самую возвышенную веру, личность и общество,
мысль и действие. Он преодолевает все противоречия. Он
соединяет все условия мирного состояния в области мысли, водворяет
великий мир «смешения». Речь идет о гностическом знании или
идеологии, достигшей высшего совершенства: «И все это будет
соединено и связано с таким гениальным художеством, что всякому
одностороннему мыслителю или деятелю легко будет видеть и
принять целое лишь под своим частным наличным углом зрения,
ничем не жертвуя для самой истины, не возвышаясь для нее действи-
Неточность автора. У Соловьева голос говорит: «Я бог и отец твой...
Делай твое дело во имя твое, не мое. У меня нет зависти к тебе». Ср.
приводимую далее Соловьевым цитату из Евангелия: «Я пришел во
имя Отца, и не принимаете Меня, а придет другой во имя свое, — того
пргшете» (Ин, 6, 43).
70
тельно над своим я... ни в чем не исправляя ошибочности своих
взглядов и стремлений, ничем не восполняя их недостаточность».
Книгу принимают единодушно. Ее переводят на все языки, и
она становится бестселлером как у цивилизованных народов, так и
у варваров, доставляя наслаждение и ученым, и журналистам.
Именно с таким успехом, подобно туче пыли, распространяются
гностические доктрины. Они нравятся и ученым, так как обещают
высшее знание, и невеждам, так как предлагают простое, без труда
усваиваемое учение. Это учение все объясняет, будучи
«откровением всецелой правды». Настоящее объяснено, будущее показано в
чудном свете. Все говорят: «Вот идеал, который не есть утопия».
Некоторые буквоеды заметили, что в книге ни разу не
упомянуто имя Христа. Неважно! «Раз содержание книги проникнуто
истинно христианским духом деятельной любви и всеобъемлющего
благоволения, то что же вам еще?» На место буквы Его Имени
великий человек поставил извлеченный им смысл — этого более чем
достаточно. Гностик отдает предпочтение духу перед буквой,
потому что избегает опирающегося на букву «суда» критики.
Между тем освобожденная от монголов Европа объединяется.
Братство франк-масонов хочет учредить единоличную
исполнительную власть, способную обеспечить единство. Главным
кандидатом становится наш герой — антихрист (он, кстати, тайный
франк-масон), почти единогласно избираемый пожизненным
президентом Европейских Соединенных Штатов. Сверх того он
увенчан особым титулом римского императора, так как Соловьев
буквально следует Апокалипсису: антихрист — сын блудницы и
наследник Нерона. Через год к нему присоединяется весь мир, и
образуется всемирная монархия. Что он обещает? Вечный и
повсеместный мир; затем социализм: каждый получает по своим
способностям, по труду и по заслугам. Он устанавливает «во всем
человечестве самое основное равенство — равенство всеобщей сытости».
Даже животные пользуются всемирным покровительством:
антихрист, будучи сам вегетарианцем, запрещает вивисекцию.
Общество потребления скучно, и человечество нужно
развлекать. Тогда с Востока является великий чудодей,
придерживающийся нескольких религий и «удивительным образом»
соединяющий в себе «обладание последними выводами и техническими
приложениями западной науки с знанием и умением пользоваться
71
всем тем, что есть действительно солидного и значительного в
традиционной мистике Востока». Этот человек, Аполлоний,
соединяет науку и магию. Он способен сводить огонь с небес.
Политический и социальный вопросы улажены, остается
решить вопрос религиозный. К тому времени христиан остается
мало (всего 45 миллионов), но вера их горячее, чем прежде.
Противоречия между конфессиями смягчились. Папство,
обосновавшееся в Петербурге, опростилось, сократило свою пышность и
духовно возросло. Протестанты также стали более искренними
реформаторами, а православие добилось успехов в борьбе с сектами
и с раздиравшим его внутренним расколом. В общем, те
реформаторские устремления, которым Соловьев в течение всей жизни
отдал много труда, — экуменизм, углубление духовности
религиозной жизни, — кажутся осуществившимися. Соловьев
приписывает антихристу большую часть своих религиозных проектов.
В таких обстоятельствах антихрист призывает всех христиан
«без различия исповедания» избрать полномочных
представителей на вселенский собор под его председательством. Собор
состоится в Иерусалиме. Почему в Иерусалиме? Это эсхатологический
центр, где все должно получить окончательное разрешение.
Именно здесь состоялся первый собор, о котором рассказано в Деяниях
апостолов; следовательно, здесь надлежит быть и последнему
собору. Но это объясняется еще и историческими обстоятельствами,
которые сочиняет Соловьев. Иерусалим стал резиденцией
всемирного императора. «Палестина тогда была автономною областью,
населенною и управляемою преимущественно евреями».
Соловьев, вероятно, следивший издалека за работой первого
сионистского конгресса 1897 года, предполагает, таким образом,
осуществление проекта Герцля, и Иерусалим получает статус «вольного
города» на территории, по существу представляющей собой
Государство Израиль. Вся эспланада Храма занята огромным
зданием, сочетающим функции императорского дворца и храма «для
осуществления всех культов». Здесь 14 сентября открывается
собор. Эта дата выбрана, несомненно, потому, что она обозначает
начало церковного года.
Собор этот смешанный: все конфессии заседают вместе, и
наряду с епископатом присутствуют рядовые монахи, представители
низшего духовенства и миряне. Соловьев предвидит, что своего
72
рода церковная демократия сменит идущий от апостолов
иерархический порядок.
Во главе собора стоят три человека: папа Петр II, старец Иоанн
и профессор Паули. Во времена Соловьева в кругах русского
«религиозного возрождения» было принято считать католиков
преемниками апостола Петра, православных — апостола Иоанна,
протестантов — апостола Павла1. Портреты, обрисованные Соловьевым
в карикатурном духе, могли бы родиться в воображении
Достоевского. Заметим, что Петр II напоминает Пия IX в утрированном
виде, Иоанн похож на старца Зосиму из «Братьев Карамазовых», а
Паули воспроизводит образ герра Доктора-Профессора,
характерный для русской литературы.
Собор открывается весьма торжественно. Император входит
вместе с великим магом под звуки всемирного гимна — «марша
единого человечества». Его речь, произнесенная звучным и
приятным голосом, величественно-благосклонна. Он обращается к
христианам как к братьям-«единоверцам». Он напоминает о том, что
Вышний благословил его на царство, выражает удовлетворение
лояльностью своих подданных-христиан и вопрошает, чем мог бы он их
осчастливить. Пусть скажут ему, что для них всего дороже в
христианстве, чтобы он мог направить свои усилия в эту сторону.
Обращаясь более конкретно к католикам и зная, сколь важен для них
духовный авторитет, он предлагает восстановить папу на престоле в Риме
со всеми привилегиями, которыми пользовались его
предшественники со времен Константина. Взамен они должны признать
императора как единственного заступника и покровителя. Повернувшись
затем к православным и зная, что для них всего дороже в
христианстве священное предание, он сулит им «Всемирный музей
христианской археологии», а также восстановление богослужения по
древнейшим канонам*. Затем, обратясь к протестантам и зная, что они
более всего дорожат в христианстве свободным исследованием
Писания, он напоминает, что посвятил одно из юношеских сочинений
библейской критике и получил почетный диплом доктора теологии
Тюбингенского университета, и наконец сообщает об основании
1 Это клише восходит к Шеллингу.
Точнее, у Соловьева так: император выражает готовность принять
меры «с целью возможного приближения современного быта, нравов и
обычаев к преданию и установлениям святой православной церкви».
73
«Всемирного института для свободного исследования Священного
Писания... и для изучения всех вспомогательных наук».
Три обещания затрагивают слабую струнку каждой из трех
христианских конфессий — это исторические искушения.
Значительное большинство иерархов трех исповеданий присоединяется
к императору. «Почти все князья католической церкви, кардиналы
и епископы, большая часть верующих мирян и более половины
монахов», «большая часть иерархов Востока и Севера, половина
бывших староверов и более половины православных
священников, монахов и мирян», «больше половины ученых теологов»
поднимаются на эстраду с радостными возгласами и занимают
приготовленные заранее кресла. Отклоняют предложенное три
небольшие группы, сплотившиеся вокруг старца Иоанна, папы Петра и
профессора Паули. Тогда старец, поднявшись, берет слово: «Всего
дороже для нас в христианстве сам Христос — Он Сам, а от Него
все». Мы готовы принять от тебя всякое благо, предлагаемое
тобою, при одном условии: «исповедуй здесь теперь перед нами
Иисуса Христа, Сына Божия, во плоти пришедшего, воскресшего и
паки грядущего, — исповедуй Его, и мы с любовью примем тебя
как истинного предтечу Его второго славного пришествия». Но
император молчит. Старец сдавленным голосом произносит:
«Детушки, антихрист!» Внезапно пораженный огромной молнией, он
падает мертвым. Тогда раздается громкое и отчетливое слово:
«Contradicitur» . Папа Петр повторяет здесь юридическую
формулу диакона Илария — замечание римского легата, удостоверившее
незаконность «разбойничьего» Эфесского собора. Петр предает
императора анафеме в величественном римском стиле. Еще более
мощный удар молнии поражает и его. Паули пишет декларацию о
разрыве с императором и заявляет о намерении удалиться в
пустыню в ожидании скорого пришествия «истинного Владыки нашего»
Иисуса Христа. Итак, пройдя через искушение своими
слабостями, три конфессии дали ответ, каждая согласно собственной
харизме: в протесте старца слышится явственный восточный оттенок,
обличение понтифика принимает точную форму приговора
римской курии, а протестант, высказавшись по велению совести,
разрывает отношения и уходит.
Contradicitur — см. прим. на стр. 48.
74
Экуменический собор может завершить свою работу. Воссев в
тронной палате, на предполагаемом месте Соломонова престола,
члены собора по предложению императора избирают папой мага
Аполлония. Так скрепляется для общего блага единство Церкви и
Государства. В то же время подписан акт соединения Церквей,
дабы положить конец старым распрям. «Я такой же истинный
православный и истинный евангелист, каков я истинный католик», —
провозглашает новый папа и заключает в объятия императора.
Восхитительные звуки, изумительные световые эффекты,
ангельские голоса незримых певцов наполняют атмосферу. Аполлоний
посреди ликующей толпы совершает множество чудес и
отпускает все грехи, «настоящие и будущие».
Вечером четвертого дня профессор Паули с девятью его
товарищами покидают Иерихон и ночью вступают в Иерусалим. При
входе в церковь Гроба Господня они обнаруживают тела старца и
папы. И вот оба воскресают — теперь их двенадцать, как и
апостолов. По инициативе Иоанна свершается соединение Церквей
тремя их предстоятелями «среди темной ночи». Им является
«жена, облеченная в солнце»... И, в завершение священной истории,
Петр и два его товарища, следуя за апокалиптическим знамением,
направляются по пути к Синаю.
Рукопись оканчивается этими словами. Но Философу известен
конец истории. Антихрист продолжает обращать мир. Расширяя
свой экуменизм сверх пределов ожидаемого, он устанавливает
общение живых с умершими, людей с демонами1. Однако когда
император, завершив свое дело, объявил себя единым истинным
воплощением верховного Божества вселенной, пришла «новая беда,
откуда ее никто не ожидал»: восстали евреи.
До того момента они, наоборот, способствовали успехам
сверхчеловека и признали его Мессией. И вдруг они восстали, дыша
местью. Повод к восстанию, отмечает не без юмора Соловьев, «пред-
1 Здесь намек на Н. Ф. Федорова, библиотекаря Румянцевского музея в
Москве (1829—1903), считавшего, что идеальное общество будущего
(всемирное и бесклассовое) будет основано на естествознании и
сосредоточит все силы на воскрешении мертвых, которое будет достигнуто
научными методами. Эти идеи интересовали Толстого и самого
Соловьева, а впоследствии увлекали некоторых советских писателей
(например, Платонова). Мы видим, что «Три разговора» отвергают проект
Федорова, отданный здесь антихристу.
75
ставлялся... с излишнею простотою и реализмом»: евреи внезапно
обнаружили, что этот Мессия, принятый ими за истинного
израильтянина, «даже не обрезан»]
Соловьев воспринял от евреев урок религиозного реализма,
основанного на святости тела. При извращении духа, это последний
оплот природы. Лжемессия объявляет себя Богом, и евреи
отчетливо распознают «мерзость запустения», идола в Храме. Но
поскольку они позволили себя увлечь и пошли за этим лжемессией,
осознание ошибки связано с напоминанием о первом знаке завета —
обрезании.
И в то время как христиане оказываются бессильными, именно
евреи вступают в смертельную борьбу и объявляют войну. «Вот и
конец нашего разговора вернулся к своему началу», к встрече двух
войск, что вполне удовлетворяет Генерала.
Не успел начаться последний бой, как вблизи Содома земля
разверзлась и поглотила императора вместе с его войсками и
магом. Тогда евреи и христиане объединяются и встречают второе
пришествие Христа.
Глава VIII
Важность истинной веры
«Краткая повесть об антихристе» — безусловно, самый
удивительный текст Соловьева, вызывающий сегодня больше всего
откликов и особенно богатый предчувствиями. Но как определить
его неосязаемую связь с нашим веком?
«Три разговора» написаны в диалогической форме. Нам
вспоминается не Платон, а де Местр и его «Петербургские вечера».
Собеседники под руководством наставника отправляются на поиски
истины, скрывающейся и убегающей, подобно линии горизонта.
Дорога ведет от философии к богословию и наконец к видению,
смысл которого открыт лишь собранию верующих.
Перед нами апокалипсис. Этот литературный жанр особенно
процветал в переходный период от Ветхого к Новому Завету, но
Библия сохранила два образца апокалиптического жанра: часть
Книги пророка Даниила и Откровение святого Иоанна Богослова.
76
Задача апокалипсиса — дать оценку настоящему в масштабе
исторического времени в целом. В нем освещается hic et nunc* в
сопоставлении с окончательными целями. Книга Даниила обозревает
историю великих царств: все они в прошлом, а Израиль живет. Под
конец является образ гонителя, за которым стоит действительная
личность Антиоха Епифана, нечестивца, поставившего себя на
место Бога и осквернившего святилище. В Откровении Иоанна
Богослова эсхатологическая перспектива показывает в зашифрованных
видениях и символах последнюю битву между Христом и силами
антихриста как фон испытаний, через которые проходит «в это
время» народ верных. Центральный эпизод этой битвы, по
крайней мере битвы, развернувшейся на земле, — явление двух
«зверей». Первый зверь — политическая сила. Он богохульствует,
заставляет поклоняться ему вместо Бога, преследует истинно
верующих. Второй зверь — сила религиозная, которая имитирует
Христа, творит ложные чудеса и обольщает людей с тем, чтобы
они поклонялись первому зверю. Она отмечает своей печатью всех
подвластных ей людей, так что все их слова, мысли, движения и
взаимодействие их между собой несут эту печать. В итоге зверь
побежден. «И схвачен был зверь и с ним лжепророк,
производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших
начертание зверя и поклоняющихся его изображению. Оба живые
брошены в озеро огненное, горящее серою»1.
«Три разговора» не просто содержат аллюзии на Апокалипсис:
это его переложение. Рассказ об антихристе — это перевод на
современный язык Откровения Иоанна, адаптированный и
снабженный актуальным комментарием. Это не какой-то другой
апокалипсис, а таргум** того самого Откровения.
Апокалипсис поддерживает надежду верных, показывая им
конечную победу добра. Именно поэтому апокалипсисы говорят
одновременно об Антиохе, Нероне — и о конце света, о вечности,
которая откроется по ту сторону преходящих страданий. Однако в
определенном отношении конец света коэкстенсивен миру. Поскольку
Бог избрал себе народ, вручил ему Закон, послал ему Мессию, мож-
1 Откровение Иоанна Богослова. 19, 20.
hic et nunc (лат.) — здесь и теперь.
** таргумы (арамейск.) — парафразы книг Ветхого Завета на арамейском
языке.
77
но ли ожидать каких-либо новых событий, кроме развивающегося
воздействия этих великих божественных инициатив? Предмет
повествования Пансофия, утверждает Соловьев, — «не всеобщая
катастрофа мироздания, а лишь развязка нашего исторического
процесса, состоящая в явлении, прославлении и крушении
антихриста». Расшифровка возможна в любой момент истории, так же как и
различение между начертанием зверя и начертанием Агнца.
Апокалипсис дает урок доверия, а не устрашает. Не возбраняется черпать
утешение в объяснении нынешних испытаний и в указании на их
относительность. Позволительно также чаять конца истории и того
часа, когда Ангел наконец мир, как свиток. Но непозволительно
опережать события, приближать конец, манипулировать им.
Апокалиптические книги утверждают, что мир, в сущности,
уже кончился. Но, вместе с тем, он должен однажды кончиться по-
настоящему. А что, если мы живем в мире именно в этот
последний час? Что, если действительно настал «конец света»? Как его
узнать, если не по совершенному поражению добра? Какой
признак этого, кроме полной неузнаваемости добра? «Блеска ведь у
этого поддельного добра — хоть отбавляй, ну а существенной
силы — никакой».
Для Соловьева признак конца света — это извращение добра, о
котором свидетельствует эволюция европейского христианства, но
особенно русского — христианства Толстого. Толстого,
Достоевского, а в конечном счете, и самого Соловьева. В последней книге
Соловьев выбрасывает за борт все, чем он мог гордиться в своем
творчестве. Он начинал с теософии и гностицизма — и так и не
освободился от них до конца. Нередко его произведения начинаются
строго, но злоупотребление умозрительными построениями губит
последние главы. В России, где этот грех унаследован от
романтической философии, полагали, что «глубина» важнее правды.
Голую правду всегда подозревали в «односторонности» и
«поверхностности». В последней книге соловьевские темы обретают
строгость в соприкосновении с божественной простотой. Не
достижение сверхчеловеческого уровня сложности и глубины
освобождает ум, а выбор позиции в исходной и решающей битве
добра и зла. Здесь гностицизм высмеивается. Этот апокалипсис — не
раскрытие возвышенного, а суд, которому подвергается Соловьев
перед лицом Единого и Простого.
78
Всю жизнь Соловьев, вслед за своими соотечественниками,
способными мыслить, размышлял над судьбами России. Толстой,
Достоевский, Соловьев отказывались принять общую судьбу для
русского народа, возлагая на него уникальную историческую
миссию. Что же остается в итоге? Весьма скромные достижения, в
пользу которых говорит только то, что они реальны. Русский народ
не достиг ни «всечеловечности», ни «всеединства», ни
христианского царства, ни преодоления права любовью. Зато он отличился
в новейшую эпоху в военном и политическом искусстве. Вот
истинные, единственно бесспорные достижения русских: храбрые
солдаты, знающие офицеры, искусные государственные деятели,
взявшие на себя бремя страшной отсталости и дикости, большей,
чем в любой другой зоне Евразии, и старавшиеся продвинуть
страну по общему пути цивилизации. Соловьев оправдывает Генерала
и Политика — персонажей, которых стыдится интеллигентная
Россия, а мыслителей, которыми она так гордится, он отвергает.
Но, отказавшись от теократической утопии и от священной
миссии христианской империи, Соловьев по тем же причинам
отходит от европейской утопии конца века. У нас не будет мира.
У нас не будет цивилизации. У нас будут страшные столкновения,
и мы потерпим поражение. В исторической фантастике Соловьева
Россия — это пассивное и податливое поле боя, попираемое
иностранными военными полчищами. От тотальных мистических
притязаний он переходит к ограниченным политическим
притязаниям: но и они оборачиваются такой же утопией. Россия и Европа
выйдут из истории голыми, как в день своего рождения.
Всю жизнь Соловьев трудился над объединением Церквей. Ему
пришлось испытать горечь и отвращение, по-видимому, неизбежно
сопутствующие такого рода трудам. Самым очевидным результатом
была ссора с католиками и отторжение со стороны православных.
Ошибка не в том, что он не исследовал богословских путей такого
объединения или не определил церковно-политические рамки, в
которых оно могло бы вступить в силу. Он обратился к Дантовскому
проекту объединения мира во «всеобщей свободной теократии».
Мечта рассеивается, превращаясь в зловонный дым. Экуменизм
осуществлен на практике антихристом под видом стирания различий и
синкретизма, в котором теряется истина: «Христос принес меч, я
принесу мир. Он грозил земле страшным последним судом. Но ведь
79
последним судьею буду я, и суд мой будет не судом правды только, а
судом милости». Между тем, все Церкви, за исключением малого
остатка, с воодушевлением и благодарностью принимают его власть.
Извлекая урок из неудачи, Соловьев понимает, что разделение
Церкви имеет исток в самом ее рождении. Ее последовательные
расколы повторяли первичный раскол между нею и синагогой. Отсюда
внимание Соловьева к еврейскому народу, столь необычное в
истории религиозных идей XIX века. Как бы ни был проницателен его
взгляд на эту проблему, он все же не свободен от старого
противопоставления плотского (евреи) и духовного (христиане). Следуя
немецкой традиции, он изучал также Зогар* и Каббалу в поисках сходства
между гностическими учениями евреев и христиан. Будущее
еврейского народа он связывал с педагогикой сильного и мудрого учителя,
христианского Государства, соединенного с Церковью. Теперь уже
перспектива не столь блистательна. Сила христиан сокрушена,
духовный авторитет подменен. Последние верные так же слабы, как
первые апостолы. Их знание сводится к единому на потребу. Не
лучше и положение еврейского народа, запятнавшего себя признанием
самозванца. Однако в тот момент, когда, кажется, все потеряно,
происходит переворот, и опорой служит то, что представляется
наименее духовным, самым плотским в библейском тексте, — обрезание.
Жизнь и творчество Соловьева — своего рода рыцарский
роман. Он умирает, как Дон Кихот, счастливый оттого, что к нему
вернулось благоразумие и теперь он уже не благодетель
человечества, знающий окончательные решения, а Алонсо Кихано, «за свой
нрав и обычай прозванный Добрым»1**.
Можно ли считать общезначимым интеллектуальный опыт
Соловьева? Если бы у него спросили, что способствовало развитию
его ума, он мог бы ответить, что стремился углубиться в тайны
христианского богословия. Он бы добавил, что его достижения
были в основном связаны с разочарованиями. Жажда знания,
которая с юности была его опорой и толкала к герметизму, эзотеризму,
духовным поискам Плеромы и Единства, в конце жизни обратила
' Дон Кихот. Ч. II. Гл. 74.
Зогар, или Книга сияния — аллегорическое толкование Библии; книга,
написанная на арамейском языке в Кастилии в XIII в.
* Цит. по: Сервантес Саведра М., де. Собр. соч.: В 5 тт. М, 1961. Т. И.
С. 595.
80
его к мудрому незнанию, на общие пути, доступные для младенцев
и простых сердцем. Но имеет ли смысл этот путь для нехристиан?
Вместо ответа Соловьев, чьи глаза отныне широко открыты,
выдвигает некое объяснение. Причина великого распада, в
последнем счете конца света — отклонение от прямого пути религии.
Славянофилы, Толстой, Достоевский в этом были едины. Но они
питали теологическую гордыню и сектантские устремления,
которые они оправдывали чистотой православия, считая себя ее
хранителями. По-иному видит возрождение правой веры поздний
Соловьев. Она являет себя как единство и универсальность истины.
Более того, представляется, что возрождение истинной веры может
быть проверено способностью христианского мира воспринять
внешнюю по отношению к нему правду евреев и язычников. Все
происходит так, как будто открытие ортодоксии христиан (и
одновременно единства Церкви) вызывает богоявление в недрах
правой веры евреев и правоверия язычников, поскольку каждая вера
неисчерпаемо истинна, законна в соответствии со своим порядком
и аналогична другим1.
Относительно пробного камня у Соловьева не может быть
сомнений: это Христос. В истории, как он теперь ее понимает,
признаком отклонения всегда была ошибка, касающаяся Воплощения.
Но такая проверка приемлема не для всех, а общая истина должна
быть доступна всем. Для евреев проверка — это Завет и знак его,
запечатленный во плоти избранного народа. Для язычников — это
природа. В глазах Генерала природа предполагает защиту народа,
защиту жизни, войну. Для Политика природа предполагает
гражданский мир, спокойствие порядка и право.
С точки зрения Соловьева, представляется, что три истинные
веры могут быть обретены или потеряны вместе и что ясное
осознание одной из них позволяет воспринимать и две другие. На
последней странице его повести, когда все расставлено по местам,
люди вместе радуются истинности добра после того, как общий
враг, извратитель добра потерпел поражение.
Рассуждение в перспективе «бесконечности» позволяет понять
коммутативный характер трех правоверии: истинность каждого из них
бесконечна и неисчерпаема. Таким образом, область их совпадения или
взаимоналожения также бесконечна, и это проявляется, как только мы
находимся в зоне одной из ортодоксии.
81
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ОРУЭЛЛ, или ОПРАВДАНИЕ ЗЛА
Глава I
Эрик Блэр
Оруэлл становится выдающимся английским писателем XX
века. И уже стал самым любимым. В коммунистических странах
люди переписывают его книги от руки. Обладание его текстами
чревато самыми серьезными последствиями. Рисковать жизнью ради
того, чтобы прочесть книги: что может быть почетнее для
писателя? Это ль не критерий славы? Да и на Западе его посмертное
признание год от года растет. А ведь было время, он слыл
маргинальным автором, одержимым мрачными фантазиями, не имеющими
ничего общего с реальностью. Может быть, дело в том, что сама
реальность меняется? Некое внутреннее чутье снова и снова
заставляет обращаться к роману «1984». Сама дата — 1984 — звучит
как погребальный звон. И хотя она миновала, все равно
продолжает возвещать о катастрофе космического порядка. Но кто дал
право этому человеку заявить о возможном конце всемирной истории
и назначить срок, за которым человечество ждут ужасы?
Эрик Блэр (настоящее имя Джорджа Оруэлла) с присущей ему
скрупулезностью определил среду, выходцем из которой являлся,
как lower upper middle class*. Upper — поскольку его отец был
чиновником британской колониальной администрации в Индии, что
предполагало уровень жизни, общественное положение и вкусы
джентльмена. Lower — поскольку он не являлся землевладельцем
и довольствовался весьма скромным жалованьем служащего та-
«Низшая прослойка верхнего слоя среднего класса» (англ.).
82
можни. Такова была отправная точка писателя в тонко
регламентированном устройстве Англии Эдуарда VII*.
Полученное Эриком образование ничего не изменило для него
в этом смысле. Он поступил в Итонский колледж со стипендией.
Учился посредственно, что не так уж важно, однако не делал
спортивных успехов, да и его чувство юмора диссонировало с
канонами, принятыми в этом привилегированном учебном заведении, что
было уже серьезнее. Верзила малопривлекательной наружности с
голубыми, как у фарфоровой куклы, глазами, неловкий, склонный
к мизантропии, он пришелся не ко двору. В Оксфорд он поступать
не пытался. Вместо этого нанялся в королевскую полицию Бирмы.
Убивал слонов-хищников, присутствовал при казни преступников,
не получая от этого никакого удовлетворения, и в итоге нажил
ненависть к капитализму. Вернувшись в Англию, не нашел
постоянного места работы. Решив заняться сочинительством,
бродяжничал по Парижу и Лондону, преподавал в частной школе, работал
продавцом в книжной лавке, был построчно оплачиваемым
журналистом и комментатором на Би-би-си. Его книги с трудом
находили издателя, еще труднее читателя и почти никогда не
удостаивались похвалы со стороны критиков. Известность пришла к нему со
«Скотным двором» в 1945 году, за пять лет до смерти. Эта книга
шла вразрез с основным направлением английской литературы тех
лет. Стоит лишь вспомнить о писателях, принадлежащих к так
называемой Блумсберской группе**, как воображение тут же рисует
country houses** в окружении великолепных садов, родственные
связи самого высокого разбора, утонченную культуру,
унаследованную вместе с имениями, поездки в Италию, тонкий
нонконформизм нравов, гомосексуальность хорошего тона и легкий нигилизм
политических взглядов, совместимый с чем угодно, даже с
нацизмом и сталинизмом. Всему этому противостоял Джордж Оруэлл:
без состояния, без связей, тяготеющий к одиночеству. Его манеры
хоть и не отличались аристократизмом, но всегда были по-англий-
Эдуард VII (1841—1910) — король английский (на престоле с 1901) и
император Индии.
** Блумсбери — квартал Лондона (Вест-Энд), где находится большое
количество издательств. С 1907 по 1930 год здесь собирались
интеллектуалы (В. Вулф, О. Хаксли, Т. С. Элиот, Е. М. Форстер, Б. Рассел и др.).
Они образовали кружок — так называемую Блумсберскую группу.
"'Деревенские дома (англ.).
Â-
83
ски выдержанными. Он любил животных. Придавал большое
значение чистоте, не боялся холодной воды, не переносил запахов
немытого тела. Был патриотом. Будучи агностиком (или, как он сам
говорил, «англостиком»), завещал похоронить его по обычаю
англиканства. Нравы его отличались чистотой. Захотел жениться и
сделал это, а когда жена умерла, — жениться вновь и иметь детей.
Держался он просто, скромно и добродушно, по отзывам знавших
его людей. В политике придерживался левых взглядов, даже
крайне левых, левацких, почти до смерти, и без дилетантства. Этого
требовали его нравственные убеждения, он весь был обращен к
простым людям, к тем, кого эксплуатировали, кого обижали. И
поскольку был верен им и относился к этому серьезно, то попал в
немилость к официальным левым кругам. Его обвинили в
«предательстве левого движения». Как писателя английская критика
окрестила его low brow*, называла тяжелым, дидактичным, как порой
случается с самоучками. Романы его были зачислены в lover-mid-
dle-class novel**, что очень огорчило Вирджинию Вулф, Виту Сек-
вил-Веста и Джойса '. Это, впрочем, не так уж неверно, туда же
попал и Солженицын.
У сегодняшней славы Оруэлла, на мой взгляд, двойное
подспорье. Первое — это симпатия, которую внушают он сам и вся его
жизнь. Второе — сделанное им открытие, значение которого
становится все более ясным и которое, возможно, ускорило его
кончину: открытие зла, грозящего человечеству.
Клодель как-то заметил, что среди ученых и музыкантов
немало людей с чистой душой, благородных, бескорыстных, тогда как
среди писателей таких не сыщешь вовсе. И литераторы прошлого,
и его собратья по перу, да и он сам представлялись Клоделю
кичливыми хвастунами, подозрительными скупердяями,
завистливыми злопамятниками. Оруэлл представляет собой исключение. Его
жизнь и творения дышат порядочностью, простотой, правдой и
вкупе с отсутствием претенциозности отвечают его главному
жизненному принципу: decency***. Отличаясь благопристойностью
Т. Eagleton. Orwell and the Lower-Middle-Class Novel // George Orwell, a
Collection of Critical Essays. / R. Williams ed. New York, 1974.
Низкий лоб {ангч.).
^Романы для низшей прослойки среднего класса {англ.).
* Благопристойность (анг.1.).
84
сам, он и от других требовал благопристойного отношения к себе
подобным. Не исключительной преданности, не филантропии, не
милосердия, а именно конкретных прав конкретным людям: чтобы
они могли наслаждаться комфортом, получать образование, иметь
возможность блюсти себя в чистоте и обладать достоинством,
приличествующим человеку.
Идея благопристойности не революционна, в ней нет ни эсхато-
логичности, ни баснословности. Куда ей до прометеевых грез
Маркса и грандиозных проектов «изменить человека». По мысли
Оруэлла, нужна всего лишь справедливость в обществе, и не какая-
то особенная, а, так сказать, исконная, состоящая в том, чтобы
каждому воздавать по заслугам, никого не обижать и жить по совести.
Эта идея не несет в себе ничего авторитарного, никаких претензий
на то, чтобы контролировать жизнь людей или вмешиваться в нее.
Англичанин до мозга костей Оруэлл отстаивает понятие личного
пространства, которым должен распоряжаться сам индивид, в
которое входят изгороди вокруг его дома, привычки, досуг. Первейшей
задачей социализма, с его точки зрения, было оставить людей в
покое, не навязывать им своего понимания, как жить, и освободить от
тяжелого рабского труда. Понятие decency, таким образом,
находится в тесных отношениях с понятием privacy*. Это и есть суть
либеральной и демократической идеи, которая не терпит снобизма,
презрения к иным слоям общества, разницы в социальном положении
людей и мелких труднопреодолимых барьеров, которыми
изобиловало общественное устройство того времени. Англия была
безусловно более свободной и менее демократической (в токвилевском**
понимании) страной, чем Франция. Оруэлл дорожил свободой и,
возможно, неумеренно любил демократию.
Витторио Матьё довольно дельно разграничил два понятия —
бунтарь и революционер1. Бунтарь возмущается
несправедливостью и силовыми методами пытается восстановить справедливость.
У него существует некое расхожее понимание справедливости, и
достигнув ее, он прекращает свои действия. Для революционера
1 Vutorio Mathieu. La Speranza nella revoluzione. Milan, 1972. Ch. V.
Приватное, частное (англ.).
** Токвиль, Алексис (1805—1859) — французский социолог, историк и
политический деятель.
85
несправедливость не является чем-то свершающимся между
свободными, ответственными за свои поступки людьми, а неким
недостатком мирового устройства, порочной наклонностью
общества. Изменив общество, можно покончить с несправедливостью и
сделать ненужной справедливость, которая обеспечена в
отлаженном совершенном обществе и не зависит от людей. Так вот Оруэлл
не революционер. В его лице мы имеем дело с чистым типом
бунтаря, неспособного смириться с несправедливыми деяниями,
которые он видит вокруг, задыхающегося от них и восстающего против
абсолютной несправедливости современного революционера,
отрицающего или желающего уничтожить разницу между
справедливым и несправедливым.
Благовоспитанный бунтарь не сидит сложа руки. Он не кривит
душой и включается в борьбу. Осуждая порабощение одних стран
другими, то есть колониальную политику, Оруэлл подал в
отставку и покинул ряды британской полиции в Бирме. Не вынося
нищеты, отправился на самое дно Парижа и Лондона, чтобы разделить
жизнь отверженных. Во время великой депрессии он обходил
дома рабочих, расспрашивая их об условиях жизни, снимал комнаты
в рабочих кварталах, работал в шахте, частично потеряв там
здоровье. Когда разразилась война в Испании, он записался в
Объединенную Рабочую Марксистскую Партию, сражался в составе 29
дивизиона, зиму провел в траншеях и был ранен в шею, что, как
правило, ведет к летальному исходу.
Пережил он и иллюзии, и политический романтизм. В конце
концов, он не единственный представитель своего поколения,
отдавший дань идеологии и чуть было не простившийся из-за нее с
жизнью. В его лондонских и парижских скитаниях можно
прозреть смутную тягу к бедности как таковой, поиски святости в
порочном обличье, своего рода францисканство в первородном его
смысле*. В основе рассказа об этом периоде его жизни (Down and
out in Paris and London; по-французски это вышло под названием
«Бешеная корова») есть что-то ложное и слегка смущающее,
поскольку остается непонятным: вынужден он был вести этот образ
жизни или же сознательно избрал его. А вот чтобы написать «На-
Францисканцы — католический нищенствующий монашеский орден,
основанный в XIII веке Франциском Ассизским.
86
I
бережную Виган» (То the Wigan Pier), Оруэллу не было нужды
становиться «социалистом» весьма строгого толка и бороться в рядах
Независимой Партии Труда, левацкой фракции лейбористского
движения. И, наконец, чтобы иметь четкое представление о том,
что происходит в Испании, не было необходимости доверяться
анархо-троцкистским идеям Объединенной Рабочей
Марксистской Партии. До самой войны Оруэлл был заражен
революционной бациллой и оттого отклонился от своего внутреннего чутья.
И все же это чутье присутствует уже в первых его книгах.
Чтобы как-то втиснуть его в английские мерки, назовем его позицию
номиналистской. Оруэлл сторонится универсалий*. Он
инстинктивно стремится быть с индивидами. У него дар избегать
употребления абстрактных категорий типа «рабочий класс», «народ»,
«антифашистские массы», он предпочитает концентрировать свое
внимание непосредственно на ближнем: этом шахтере, том
безработном или ополченце, чью жизнь смиренно постигает. Если в
«Бешеной корове» и есть сентиментальная струнка, она
приглушена точными описаниями, живописными персонажами и общим
тоном повествования — плутовским и странным. В «Набережной
Виган» вместо того чтобы возмущаться лачугами, он точно
выверяет количество квадратных метров жилья, перечисляет
имеющиеся предметы обстановки, определяет, каковы средства
обогревания, исследует толщину стен и влажность помещения.
В книге «Во славу Каталонии» (по-французски: «Свободная
Каталония») есть поразительный пассаж. Он находится в VI главе и
следует после долгого правдивого описания войны, такой, какой она
была со стороны республиканцев: ржавые ружья, необстрелянные
бойцы, невзрывающиеся снаряды, беспорядок, неразбериха,
поразительная небоеспособность и сверх всего — ужасающая бедность.
Его полк атакует на сей раз успешно, и Оруэлл отправляется
взглянуть на вражеские траншеи. Что же он видит? Неприятель точно в
таком же положении: нехватка снаряжения, скверное командование,
необученные юнцы и все та же бедность, переносимая все с той же
Универсалии — в средневековой философии общие понятия; в
зависимости от того, признавали ли философы их первичными или
производными по отношению к единичным вещам, они принадлежали к одному
из двух основных направлений схоластической философии —
номинализму или реализму.
87
стойкостью. То, как Оруэлл участвует в этой войне, его чувства к
испанскому народу — пример подлинного благородства.
Вспоминается полотно Веласкеса, на котором изображены копьеносцы: такое
же отсутствие ненависти, уважение к противнику, понимание того,
что история одинаково жестока ко всем, та же предупредительность
по отношению к побежденным. И все же этот человечный и
благородный воин участвовал в страшном конфликте, по идеологическим
причинам принявшем еще более ужасные формы, исключавшие
милосердие. «Во славу Каталонии» — самая правдивая книга о
гражданской войне. Она одна заменяет груду других на разных языках,
принадлежащих невежественным и фанатичным авторам,
заставляет забыть об «испанских мотивах» Хемингуэя и Мальро.
Но одного нравственного величия было бы недостаточно, чтобы
обеспечить ему то место, которое он занимает сегодня в литературе,
если бы он не был способен на интеллектуальное прозрение, которое
до него никому в мире не далось и которое служит нам по сию пору.
В Испании-то и разгорелась искорка. Несколько недель весны
1937 года после ранения он провел в Барселоне. Дело шло на
поправку. Коминтерн предлагал превратить Испанию в страну
народной демократии и чекисты готовили почву. За спущенными жалю-
зями барселонских лавок были устроены пыточные. Один за
другим исчезали друзья Оруэлла. Бойцов из Объединенной Рабочей
Марксистской Партии стали преследовать и уничтожать. Тогда-то
его и осенило.
Ретроспективный взгляд позволяет выдвинуть две идеи по
поводу понимания коммунизма. Понимание это всеобъемлющее или
же, наоборот, узкое. Не то, чтобы коммунистическая теория была
сложна, просто она чужда опыту, накопленному человечеством. К
тому же, если она не является плодом коллективной интуиции, то
не поддается осмысливанию, и «эксперты», какими бы
умнейшими и педантичными они ни были, непременно ошибутся. Когда же
она «распознана», что вовсе нетрудно дается, ее легко
предугадать. Дальнейшее распознавание оказывается уделом немногих.
Ни в одной стране не собралось в определенный временной
отрезок более нескольких десятков человек, способных на
квалифицированное суждение и связный анализ в этой области.
В довоенное время коммунизм представлял такую же
проблему, как и нацизм, противостоящий ему, действующий с открытым
88
забралом и не представлявший никаких загадок. Антинацисты,
или антифашисты (тогда Гитлера и Муссолини почти не
различали), были увлечены коммунистической идеей, или, по крайней
мере, не сопротивлялись ей. Люди, близко соприкасавшиеся с
коммунизмом и борющиеся с фашизмом, интуитивно прозрели аналогию
между этими двумя режимами. И мало-помалу поняли один через
сравнение с другим; они-то и были теми, кто сориентировался
правильно. Единственные, кто в эти годы составил четкое
представление о коммунизме, были: Борис Суварин, Бертрам Вольф, Артур
Кёстлер* — все бывшие коминтерновцы — и некоторые
профсоюзные деятели анархистского толка, а также Джордж Оруэлл.
Консерваторы и либералы до их понимания не поднялись. Но дальше
всех пошел Оруэлл, он добрался до философских корней.
Прозрение было внезапным и носило всеобъемлющий
характер. Это не означает, что он тут же был в состоянии
сформулировать и четко выразить открывшееся ему. Однажды запущенный,
его ум заработал и не остановился, пока не высветил все до конца.
Этапы этого пути прослеживаются по его статьям, выступлениям
по радио, письмам, собранным в знаменитом четырехтомнике,
выпущенном его женой (The Collected Essays. Journalism and letters.
Penguin books**). Долгое время нацеливался он на равенство
фашизм = коммунизм. Аналогия эта манит, слепит, но до
определенного момента, поскольку равенство нестрогое, и все же это два
различных явления. Кроме того, он подвергался всеобщему
осуждению, поскольку с момента вступления СССР в войну подобные
аналогии казались неуместными. Чтобы измерить пройденный им
путь, достаточно сопоставить два его произведения: «Скотный
двор» (1945)и «1984» (1949).
В этих своих последних произведениях Оруэлл нашел
литературную форму, которая прославила его. Жанр этот между тем не
нов и особенно характерен для английской литературы. В нем
соединились воедино фантастическое путешествие и пессимистиче-
Кёстлер, Артур ( 1905—1983) — английский писатель венгерского
происхождения. Бывший коммунист, участник испанской войны (был
приговорен к смертной казни). Романы: «Испанское завещание» (1938),
«Ноль и бесконечность» (1941), «Приезд и отъезд» (1943), «Возраст
недовольства» (1951), «Стрела в лазури» (1951).
** Собрание эссе, статей и писем. Пинжинбук (англ.).
89
екая утопия, так на свет появились «Гулливер», «Робинзон Крузо»,
«Остров доктора Моро», «Лучший из миров».
«Скотный двор» — шедевр, исполненный в лучших традициях
классической литературы. Фабула разворачивается с неотразимой
логикой и непринужденностью, сатира попадает точно в цель.
А цель — история СССР.
На обычной ферме с традиционным укладом хряк
придумывает спасительную теорию под названием «скотизм»*. Все беды
исходят от человека. Изгнать человека будет простым и
универсальным решением проблем обитателей скотного двора. Тем
предложение хряка понравилось. Перед ними озарился разом горизонт
истории. Под руководством партии свиней животные делают
революцию и изгоняют хозяев. Сперва все довольны. Согласно
конституции ни одно животное не может убить другое, и все животные
равны. Все сообща принимаются за работу. Ассоциация по
перевоспитанию обучает всех чтению и скотизму, который сводится к
заповеди: «Четыре ноги хорошо, две — плохо». Фермеры
пытаются вернуть старое положение дел, но их атака отбита.
Сами свиньи, однако, не трудятся: они руководят и
контролируют. Вскоре они впрягаются в построение скотизма,
модернизируют, раздумывают, как наладить сложное с технической точки
зрения производство, планируют возвести ветряную мельницу. Один
из вождей революции — свинья Обвал — казнен. Появляется
полиция, воздвигается мавзолей памяти основателя. Труд становится
принудительным. Когда бурей сносит мельницу, отыскивают
виновных и проводят над ними процессы. История революции
переписывается, насаждается культ Отца Животных, и одним
прекрасным утром старый коняга — всеобщий любимец, безотказный и
ни во что не вмешивающийся, тайно отправлен на живодерню.
Конституция «принята», вышеупомянутые статьи обрели в ней
следующую форму: «Животное да не убьет другое животное без
причины. Все животные равны, но некоторые животные более
равны, чем другие». В последней главе свиньи (которые теперь живут
по-людски, ходят на двух ногах, спят на кроватях, пьют виски) пи-
Все цитаты из «Скотного двора» даются по изданию: Джордж: Оруэлл.
Скотный двор / Перевод Л. Беспаловой. М., «Известия», 1989.
90
руют с соседями-фермерами, играют с бывшими хозяевами в
карты, тогда как прочие животные озадаченно поглядывают на них
издалека, не в силах различить, где люди, а где свиньи.
Ирония сказки оказалась очень действенной, поскольку в ней
детально воспроизведена история СССР, а также всех стран,
вставших на путь построения социализма. Habeas corpus* таково, как
записано в китайской конституции: никто не может быть задержан
«без ордера на арест». Это ли не Оруэлл?
И все же порочная схема мешает полному развенчанию
обмана. Оруэлл рассматривает советскую историю как революцию
астрономического порядка, как возврат к отправной точке. Свиньи
разделались с привилегированным классом и заняли его место.
Критика в «Скотном дворе» носит левацкий характер, уже
намеченный троцкизмом и продолжаемый многочисленными
теоретиками, которые уподобляют советский строй «бюрократии», власти
«нового класса», «стратократии», то есть обществу той же модели,
что и наше, если не принимать во внимание особенности
правящей верхушки. Оруэлл остается пленником аналогичного подхода
к коммунизму, другой конец этой аналогии — «фашизм» или
«капитализм», как их понимали в 40-е годы. От этого он избавляется
в романе «1984».
Глава II
Литературный жанр
«1984» — произведение знаменитое1. Напомним его
содержание. 4 апреля 1984 года Уинстон Смит, чиновник отдела
документации, принимает опасное решение: вести дневник. Участвует в
«двухминутке ненависти». Затем непонятно откуда в его дневнике
появляется фраза: «Долой Старшего Брата». Утром этого дня он
1 Существует два удобных издания: Nineteen Eighty-Four / Penguin
books; 1984 / Folio, Gallimard, № 828. Перевод Амели Одиберти.
Ссылок на цитаты из романа я не даю. Как и цитаты из «Трех
разговоров», их легко отыскать.
Право неприкосновенности (лат).
91
"1
встречает в коридоре молодую женщину, члена молодежного
антиполового союза, которая внушает ему антипатию, и О'Брайена,
члена внутренней партии, в котором он прозревает возможного
единомышленника. Он также наведывается к Парсонсам, соседям
по лестничной клетке. Семья состоит из Парсонса, тупого и
малопривлекательного человека, его забитой жены и злых детей.
Засыпая, он видит во сне свою мать и картины из детства.
Разбуженный телекраном, делает гимнастику и смотрит в окно на
Лондон, над которым возвышаются здания министерств: Правды,
Мира, Изобилия и Любви. Затем отправляется на работу, которая
заключается в том, чтобы подправлять сохраненные в архивах
документы, дабы они не противоречили директивам партии и
показателям сегодняшнего дня. В столовой встречает коллегу Сайма,
который трудится над словарем новояза. Сайм представляется
Уинстону слишком умным, чтоб уцелеть. Делая заметки в
дневнике, Уинстон размышляет о своей личной жизни, политическом
развитии страны, его фальсификации. Затем совершает долгую
прогулку по пролетарским кварталам Лондона и пытается, правда без
особого успеха, понять, какой была жизнь прежде.
За первой частью, в которой описывается будничная жизнь
Уинстона в 1984 году, следует вторая, описывающая историю его
любви. Девица в «антиполовой» униформе признается ему в
любви. Они уславливаются о встрече за городом и проводят там
счастливый день. Уинстон снимает для будущих свиданий комнату в
лавке старьевщика в одном из рабочих кварталов. Освобождение
чувств сопровождается интеллектуальным очищением. Вместе с
Джулией они приходят к О'Брайену и получают запрещенную
книгу Голдстейна. В этом труде объяснены суть и действие ангсо-
ца — строя, установившегося как в Англии, так и во всем мире.
Дочитать книгу до конца не удается, их с Джулией арестовывают.
В третьей части, охватывающей несколько лет, описывается
«переделка» Уинстона. В тюрьме он, к своему удивлению,
встречает Парсонса, также арестованного. Уинстона подвергают
бесконечным пыткам, и под руководством О'Брайена он сознается во
всем, о чем его просят, и даже сверх того. О'Брайен объясняет ему,
что представляет собой партия и каковы ее цели. Уинстон
находится в подземелье министерства Любви, чтобы вылечиться, то есть
стать таким, каким его хочет видеть партия. Доведенный до преде-
92
ла, он находит утешение в том, что, если и уступил во всем, то все
же не предал Джулию и по-прежнему любит ее.
Он продолжает ненавидеть «их». Это единственное, что
остается у него от свободы. Но под угрозой самой страшной пытки он
предает Джулию: «Отдайте им Джулию! Не меня!»*
В последней части мы видим Уинстона, потягивающего
мерзкий джин на террасе кафе. Он погрузнел и подурнел. Как и
Джулия, к которой у него не сохранилось никакого чувства.
Громкоговоритель вещает о победе в никогда не прекращающейся
призрачной войне, ведущейся тремя сверхдержавами, делящими на
планете власть. Уинстон радуется. Он любит Старшего Брата.
Роман сам по себе свидетельствует, каких трудов стоило автору
написать его. В нем и в помине нет целостности стиля и веселого
изящества, которым наполнен «Скотный двор». «1984» — это не
сказка с моралью в конце. Не может Оруэлл прибегнуть к сухому
ироничному стилю, придающему столько силы его репортажам.
В «Набережной Вигам» и «Свободной Каталонии» он, то есть
рассказчик, занимает по отношению к описываемым событиям
беспристрастную позицию. Тон этот мог бы еще появиться в «Скотном
дворе», поскольку речь там шла о разоблачении исторического
обмана. Обман же этот основывался на такой грубой лжи, что
достаточно было простого возврата к реальности, чтобы разоблачить его.
«Скотный двор» — сатира, разрушающая некую видимость и
представляющая ее в комическом свете. Прибегнув к форме
сказки и древнему приему представлять людей в виде животных,
можно было описать историю СССР согласно тем разоблачениям,
которые были представлены западной публике левацкими и
троцкистскими приверженцами. Успех был обеспечен, а талант Оруэл-
ла сделал его безусловным.
В «1984» Оруэлл исследует неизведанное, тайну,
противостоящую интеллектуальному знанию и исполненную ужасов,
преграждающих путь воображению. Цель его — как можно дальше
проникнуть в тайну и сделать ощутимым идущий от нее ужас. Два эти
действия раздельны и потому оправдывают попеременное
использование двух литературных жанров — романа и эссе.
Цитаты даются по: Новый мир. 1989. № 2, 3, 4 / Перевод В.Голышева.
93
Романную форму Оруэлл использовал уже не раз и как раз для
того, чтобы описать нищету и отчаяние. Незадолго до «1984»
вышел его роман «Останови полет Аспидистры». Использованные в
нем приемы описания пейзажа, человеческой жизни, скрупулезная
правдивость, чередующаяся с сентиментальными нотками — все
это теперь вновь идет в дело. Любовная история Гордона Комсто-
ка и Розмари служит ему моделью для любовной истории Уинсто-
на и Джулии.
К эссеистике можно отнести разговор с О'Брайеном, страницы
из «книги», приписываемой Голдстейну. Одновременно это и
эскиз трактата по политической философии, основывающегося на
метафизических постулатах. Этому предшествовали эссе поп
fiction, которые Оруэлл писал с конца 30-х годов или произносил
перед микрофоном Би-би-си в годы войны.
Эти два литературные жанра и приспособлены и не
приспособлены для целей Оруэлла. Удачна или нет выбранная им форма,
решает в конечном счете истолкование авторского замысла.
Предыдущий роман Оруэлла хоть и читается легко, не может считаться
удачным. Романные части «1984», если их мерить тем же
аршином, еще хуже. И критика не оставила это незамеченным:
характеры не прописаны, в них не чувствуется биение жизни и т.д. Те же
недостатки были присущи и предыдущему роману, действие
которого происходит в обычной современной Англии. Жалкая книжная
лавчонка Гордона, удушающая бедность, задымленный
невзрачный пейзаж, невкусная еда — все это вспоминается, а вот сам
Гордон Комсток как-то быстро улетучивается из памяти. В сравнении
с ним Уинстон представляется еще более упрощенным,
схематичным, призрачным. Но на сей раз это сделано намеренно, и Уинстон
не забывается. В мироздании 1984 года запрограммировано
разрушение личности. Образ Джулии вообще только намечен. Комсток
должен бы обладать личными качествами, но не обладает ими и
потому забывается. Уинстон — это описание не личности, через
которую читателю открывается мир, создаваемый автором, и
поэтому Уинстон не забывается. То же самое можно сказать и об
идиллии на лоне природы, которая присутствует в обоих романах,
но во втором именно в силу своей неестественности берет за
живое, чего и добивался Оруэлл. Философия наполняет всю книгу, и
при этом ей отведено еще и специальное место: это отрывки из
94
«книги» Голдстейна и беседы Уинстона и О'Брайена в подвалах
Министерства Любви. Но об этом позже. Оруэлл позаимствовал
материал для своей теории в тех идеях, что бродили в
троцкистских и левацких кругах того времени. Серж, Кестлер, Суварин,
Бёрнхем для объяснения сталинского строя пользовались теми же
понятиями. Но разница между взглядами Оруэлла и воззрениями
его современников все же есть: она в осознании того, что всех этих
теорий, и даже его собственной, — мало. Аткинс1 пишет, что
лучший анализ мира в 1984 году содержится в «книге» Голдстейна.
Это так, однако Уинстон замечает, что эта «книга» лишь
систематизирует те знания, которыми он уже обладал. Мысли Голдстейна
не совпадают с мыслями Оруэлла, как и речи О'Брайена,
представляющие собой более высокий уровень знания. Оруэлл дает понять,
что есть нечто за пределами предложенных теорий и идей, и это
нечто предстоит осознать.
Потому-то «рукопись» Голдстейна обрывается как раз на том
месте, где, казалось бы, должен находиться ключ к разгадке тайны.
Оруэлл стремится создать впечатление, что, если бы он захотел, то
смог бы довести до конца свой анализ и полностью осмыслить
происходящее в романе, однако он знает, что это невозможно.
Сила его видения значительно превосходит силу анализа. Для того-то
и потребовалось объединить под одной обложкой роман и трактат.
Роман призван служить введением в некое видение мира, трактат
призван служить введением в тайну. Под давлением тайны роман
становится порожним, мысль застопоривается, но этот провал как
раз то, что позволяет приоткрыть завесу над этой тайной и
ощутить ее невыносимое присутствие. Пафос «1984» состоит в
захвате читателя — и его чувств, и его ума — и перенесении туда, куда
ему не хочется. Единственный в своем роде страх, исходящий от
этой книги, согласно воле автора, зиждется на привлечении и
немедленном разрушении жанра эссе и жанра романа, и делается это
с целью выпотрошить читателя и увлечь за собой в изгнание или
скорее «депортировать» его из привычного мира, без чего не
ощутить своей шкурой значения произведения.
John Atkins. George Orwell. London, 1971. P. 237.
95
Глава III
Коммунизм
На каком историческом опыте основывается «1984»? С какой
реальностью соотносится?
Если предположить, что это тревожные размышления об
Англии, Оруэлла легко опровергнуть. Лондон по-прежнему на своем
месте, а лейбористы не выдвинули из своих рядов Старшего
Брата1. За истекшие сорок лет жизнь трудового люда, верность
которому Оруэлл сохранил до конца своих дней, улучшилась,
несмотря на спады. И потому критики посчитали, что произведение
Оруэлла не имеет отношения к предсказанию социального плана. Они
все списали за счет предсмертных мук и навязчивых идей
психически больного автора, каким считали Оруэлла. Тут следует
заметить, что нет ничего необычного в том, что художник ставит
внешний мир во взаимосвязь со своим внутренним миром. Он пишет
тем, что имеется в его распоряжении, и о том, что он извлекает из
собственных глубин. Оруэлл имел право использовать свои
личные страхи (например, ужас перед крысами, отвращение к запахам
человеческого тела), чтобы дать почувствовать отчаяние как на
уровне мироздания, так и на уровне межличностных отношений.
Отнюдь не по причине болезни дал он подняться со дна на
поверхность этим темным ощущениям. Он поставил их себе на службу,
придал им форму.
А вот еще одна интерпретация: Оруэлл развенчивает
тоталитарную угрозу, нависшую над всем современным человечеством.
Что понимать под тоталитаризмом? Оруэллу, по природе своей
анархисту, тоталитаризм чудился постоянно, при любом
вмешательстве в самостоятельность индивида, при малейшем попрании
человеческого достоинства. Он ненавидел капитализм в том
смысле, который этому явлению придавал социализм: опустошение
недр, осквернение природы, нищета, непосильный труд,
бюрократия и посягание на личную жизнь. Его тревожили вопросы заката
морали, оскудения английского языка.
1 Cf. in R. Williams éd., op. cit., les contributions d'Jsaak Deutscher, «The
Mysticism of Cruelty», de Jenni Calder, «Orwell's Post-War Prophecy», et
de Conor Cruise O'Brien, «Orwell Books at the World».
96
Но между Англией, которой угрожает упадок, чьи признаки
вполне можно было различить в современной ему жизни, и романом —
дистанция огромного размера, которую не в силах преодолеть ни
один здравомыслящий ум. Ангсоц царит в Англии 1984 года:
возможно, по причине распространения в Англии, как и во всем мире,
тоталитаризма, начавшего существовать в истории в определенной точке
планеты, расположенной далеко от Англии. Возможно, тревожащая
эволюция Англии делала ее уязвимой и неспособной должным
образом сопротивляться злу. Однако сам рассадник зла явно в ином месте.
В годы войны Оруэлл в душе заново обрел Англию: отчий дом,
полный любви, излечивающий и успокаивающий. «Пиво горше, монеты
тяжелее, трава зеленее...»1 Защита английских добротных ценностей
окрашивает патриотизм Оруэлла в консервативные тона, что,
впрочем, вполне согласуется с его социал-либеральными взглядами.
«Когда упоминают тоталитаризм, — пишет он в 1941 году, —
немедленно обращают взор к Германии, России, Италии, но мне
думается, необходимо предвидеть риск распространения этого
явления по всему свету. Очевидно, что период свободного капитализма
подошел к концу, и одна страна за другой вводят у себя
централизованную экономику, которую можно поименовать
социалистической или государственно-капиталистической, кому как нравится»2.
Оруэлл под понятием тоталитаризма понимает нацистский
режим, сталинский режим и фашистский режим. Он опасается, что,
поскольку капитализм исчерпал себя, на смену ему грядет
тоталитаризм, составляющий второй вектор альтернативы, а не
либеральный социализм, который он призывает и чью программу наметил
в статье «Лев и Единорог».
В 1946 году он возвращается к вопросу о Джеймсе Бёрнеме*. Он
так формулирует тезис Бёрнема: «Капитализм на исходе, а социа-
1 The collected Essays, Journalism and Letters of George Orwell. London,
Penguin books. T. II. P. 75.
Cf. Robert Nisbet. Orwell and the Coservative Imagination / Irving Howe
ed. // 1984 Revisited. New York, 1984.
2 Collected Essays. T. II. P. 163.
Бёрнем, Джеймс (p. 1905) — американский социолог. Выдвинул
теорию «революции управляющих» (кн. «Революция управляющих»,
1941), утверждал, что новый господствующий класс организаторов
якобы не зависит от капиталистической собственности и способен
управлять в интересах всего общества. Открытый противник марксизма.
À
97
лизм ему на смену не торопится»1. В этом, замечает он, Бёрнем
подхватывает эстафету авторов, предсказавших появление нового
общественного устройства, основанного на своеобразном рабстве:
это не капитализм и не социализм. Далее он перечисляет этих
авторов: Хилари Беллок («Рабское состояние», 1911), Честертон, Джек
Лондон («Железная пята», 1909, предвидение фашизма), Уэллс
(«Спящий просыпается», 1900), Замятин («Мы», 1923) и Хаксли
(«Дивный новый мир», 1930). Однако он упрекает Бёрнема в том,
что тот рассматривает эту революцию как неизбежную и что он
заворожен ею. Культ, создаваемый интеллигенцией из власти как
таковой, — ведет ее к ошибкам. Интеллектуалы думают, что
сиюминутный победитель одержит конечную победу. Бёрнем ошибся во
всех своих прогнозах. Он продолжил существующую тенденцию,
словно она должна была завершиться судьбоносно. Все не так. За
коммунизм ратуют не «управляющие», а технический персонал,
чиновники, журналисты, сотрудники радиостанций — то есть
средний класс, заблокированный обществом, частично
аристократическим, и стремящийся к власти и престижному статусу. СССР
видится им как страна, где избавились от аристократов, где
уважают рабочий класс, где власть — в руках людей, которые сродни
рабочим. «Лишь после того, как советская власть показала свой
тоталитарный характер, английские интеллектуалы в большом
количестве обратили на нее свои взгляды»2. Тоталитарные общества не
непобедимы. Бёрнем предсказывал победу нацистской Германии и
что же? Не прошло и пяти лет, как этот «новый» «желтый»
социальный порядок пришел в упадок в бёрнемском смысле слова.
Возможно, объявит войну советская Россия, но в любом случае ее
режим станет демократическим либо он рухнет.
Этот текст Оруэлла важен для оценки его пророческого дара.
Не имеет смысла вменять ему в вину то, что утопия « 1984» не
сбылась, поскольку он сам адресует Бёрнему упрек в том, что тот
превращает тенденции в строго детерминированные реалии, а это
недопустимо. В 1947 году Бёрнем отошел от идеи революции
управляющих (то есть тоталитарной). Но и принимая во внимание его
новую книгу, Оруэлл считает, что тот преувеличивает коммунисти-
1 Collected Essays. T. IV. P. 192.
2 Collected Essays. T. IV. P. 212.
98
ческую угрозу. Например, данное Бёрнемом описание человека
коммунистической формации: преданность партии, день и ночь
думы о ней, непонимание того, что партия — это сито и что
большинство коммунистов не остаются в партии навсегда. «Тенденция
авторов, подобных Бёрнему, чье ключевое понятие «реализм» —
заключается в том, чтобы переоценивать роль голой силы в делах
людей». И далее: «Революция управляющих показалась мне
неплохим описанием того, что на самом деле происходит в
некоторых местах планеты — умножение обществ не капиталистической
и не социалистической направленности, организованных в
большей или меньшей степени по модели кастовой системы. Но
Вернем идет дальше и выдвигает положение: раз происходит так, то
уж нечего ждать иного; и еще: новое тоталитарное государство с
завинченными болтами должно быть сильнее разболтанных
демократий. «Однако это не так, — пишет Оруэлл, — и Германия
проиграла войну. Он предвидит падение Соединенных Штатов
Америки. Однако если судить по прошлому опыту, «history never
happens quite so melodramatically as that» l.
Тоталитаризм — это понятие, принятое Оруэллом. Оно
объединяет фашизм, нацизм и коммунизм под единым экономическим
(централизованная экономика), социальным и политическим
(система каст) определением. Есть еще одна составляющая:
организованная ложь (organized lying). «Это нечто неотъемлемое от
тоталитаризма, нечто, что будет существовать и тогда, когда отпадет
необходимость в концентрационных лагерях и тайной полиции».
С точки зрения тоталитаризма, «история должна быть скорее
создана, чем выучена». Тоталитаризм «требует постоянной работы
по изменению прошлого и на длительном этапе требует неверия
(disbelief) в существование объективной истины»2.
Ту же характеристику тоталитаризма находим мы и в романе.
Значит ли это, что объединенные в одно понятие фашизм и
коммунизм должны рассматриваться как идентичные режимы? Оруэлл
поддерживает идею их идентичности по политическим причинам.
Английские писатели, — пишет он, — считающие, что коммунизм
и фашизм суть одно, видят в них два чудовищных зла, с которыми
1 «История никогда не повторится так мелодраматично, как эта». —
Collected Essays. T. IV. P. 372—374.
2 Collected Essays. T. IV. P. 85.
99
пристало сражаться насмерть. А всякий англичанин, считающий,
что это противоположные друг другу вещи, думает, что обязан
встать на защиту одного против другого. Но означает ли, что они и
впрямь одно и то же? По этому поводу Оруэлл высказывается не
слишком ясно. Из-за принадлежности к левым он a priori ненавидит
фашизм, под которым понимает разом и Гитлера, и Муссолини, и
Франко. Однако его личный опыт, идущий вразрез с идеями левой
среды, в большой степени является опытом общения с
коммунизмом. В Испании он столкнулся сразу и с тем и с другим. В книге
«Во славу Каталонии» он поразительно нейтрален по отношению к
фашизму. Он даже испытывает некое братское чувство к тем, кто
находится в траншеях напротив, поскольку, как он убеждается, они
ничем не отличаются от тех, на чьей стороне сражается он. Для
него было настоящим ударом обнаружить в лагере республиканцев
методы сталинского коммунизма. С этой минуты он будет
держаться особняком и войдет в число тех, кто отказывается выбирать из
двух зол наименьшее и борется с обоими. И все же нельзя сказать,
что в представлении Оруэлла эти два зла уравнены. Чем больше он
размышляет на эту тему, тем явственнее тоталитаризм становится
некой моделью, которая существует в нескольких неравноценных
воплощениях. Самым удаленным воплощением модели является
фашизм, чуть ближе нацизм, а сталинский коммунизм еще ближе.
Потому в «1984» почти нет ссылок на фашизм или нацизм. О
фашизме муссолиниевского типа вообще не могло идти речи: эти был
тоталитаризм намерений, театральный. Он не мог внушать
метафизический ужас. Почти нет в романе и разоблачений нацизма с его
чудовищной, порой очень действенной эстетикой. Нет там
открытой преступности, выставления напоказ насилия. Нет участия
народных масс. И наконец, нет обожания Volk*, ни любой другой из
националистических форм. В трех сверхдержавах, ставших
однородными, различия между нациями и национальными культурами
стерлись. Ангсоц — всеобщая общественная система, а добрая
старая Англия утеряла даже свое имя. И напротив, сталинское
воплощение модели тоталитаризма полностью заполнило роман. Это
самое близкое к модели воплощение и стало трамплином, от
которого отталкивается писательское воображение.
Народа (не.».).
100
В « 1984» коммунизм повсюду. На него указывает ряд черт,
позаимствованных непосредственно в советской действительности
30-х годов. В конце 30-х годов к Оруэллу стали поступать
свидетельства людей из его окружения, начиная с Кёстлера. В 1938 году
он делает критический разбор книги Юджина Лайонса
(«Назначение утопии»), а в 1939-м книги Н. де Базили («Россия под властью
Советов»). До конца своей жизни Оруэлл пристально наблюдает за
советской действительностью.
СССР времен больших чисток и процессов и составляет
реальность, с которой соотносится роман. Уинстон получает
задание переписать куски в речах, чтобы предсказанное там
совпадало с тем, что произошло на самом деле. Труженики Океании
выходят на манифестацию и скандируют слова благодарности
Старшему Брату: за «новую и счастливую жизнь под его мудрым
руководством». Это лозунг Сталина, выдвинутый в 1936 году. Или
вот товарищ Огилви, который «не пил и не курил, не знал иных
развлечений, кроме ежедневной часовой тренировки в
гимнастическом зале; считая, что женитьба и семейные заботы
несовместимы с круглосуточным служением долгу, он дал обет безбрачия.
Он не знал иной темы для разговора, кроме принципов ангсоца,
иной цели в жизни, кроме разгрома евразийских полчищ и
выявления шпионов, вредителей, мыслепреступников и прочих
изменников». Разве это списано не со Стаханова, не с положительных
героев Островского, не с литературы «социалистического
реализма», не с «нового человека» из пропагандистских статей? Когда
Уинстона задержали, стали пытать, «он признался в убийстве
видных деятелей партии, в распространении подрывных брошюр,
в присвоении общественных фондов, в продаже военных тайн и
всякого рода вредительстве. Он признался, что стал платным
шпионом Остазии еще в 1968 году. Признался в том, что он
верующий, что он сторонник капитализма, что он извращенец.
Признался, что убил жену, хотя она была жива и следователям
наверняка это было известно. Признался, что много лет лично связан с
Голдстейном и состоит в подпольной организации, включающей
почти всех людей, с которыми он знаком». Это не лишенное
иронии преображение реальных событий — до войны вышли
толстенные тома, в которых содержалось подробное описание
процессов по «шпионажу и саботажу».
101
Политический режим ангсоц представляет собой «аморфные
массы», управляемые партией, которая раздваивается на
внутреннюю, пользующуюся некоторым количеством привилегий, и
находящуюся под ней внешнюю партию. Этот режим следует
социалистической логике. «В годы после революции она [партия] смогла
занять господствующее положение почти беспрепятственно потому,
что процесс шел под флагом коллективизации. Считалось, что, если
класс капиталистов лишить собственности, наступит социализм; и
капиталистов, естественно, лишили собственности. У них отняли
все заводы, шахты, землю, дома, транспорт; а раз все это перестало
быть частной собственностью, значит, стало общественной
собственностью». Это уж никак неприменимо ни к фашизму, ни к
нацизму, а исключительно к советской практике и законности, которую
этот режим установил для себя: социалистической законности.
Оруэлл пытался нащупать ядро системы, благодаря которому
разрозненные и парадоксальные факты могли быть объяснены. Он
описал в романе явления, которые к 1949 году советский строй еще не
развил, — они появились позднее и прижились главным образом на
азиатской почве. Страна Советов восторгалась поступком Павлика
Морозова, предавшего своего отца, и, начиная с 30-х годов, родители
стали следить за тем, что говорят при детях. Но по-настоящему одной
из опор системы сделали испорченных детей в Китае. В « 1984» дети
одеты в «форму разведчиков — синие трусы, серая рубашка и
красный галстук». Вот один из них, девятилетний мальчуган: «В глазах у
мальчика была расчетливая жестокость, явное желание ударить или
пнуть Уинстона, и он знал, что скоро это будет ему по силам, осталось
только чуть-чуть подрасти». Таков отпрыск одного из членов партии.
Пуританство, или, скорее, отвращение к сексуальной жизни в СССР
осталось в зародыше, в Китае же расцвело пышным цветом. «Партия
стремилась убить половой инстинкт, а раз убить нельзя, то хотя бы
извратить и запачкать». А вот как объясняет это Джулия: «Дело не
только в том, что половой инстинкт творит свой собственный мир,
который неподвластен партии, а значит, должен быть по возможности
уничтожен. Еще важнее то, что половой голод вызывает истерию, а
она желательна, ибо ее можно преобразовать в военное неистовство и
в поклонение вождю». То, как Уинстон работает в тюрьме над собой,
над своим перевоспитанием, то, как О'Брайен относится к тюрьме —
будто это не место лишения свободы, а школа или больница, где Уин-
102
J
стону должно быть возвращено умственное здоровье, — этому
аналогов в сталинской России не было, но в более поздний период такие
вещи практиковались в Институте Сербского и в Китае, в «Школах 7
мая» — это название является эвфемизмом, придуманным маоистами
для обозначения концентрационных лагерей.
Хотя Оруэлл и допускает некоторую незначительную общность
между фашизмом, нацизмом и коммунизмом, только последний
кажется ему по-настоящему «глубоким». Специфические черты
нацизма — фантазии местного характера, побочные детали —
мешают воспринимать само явление, в чистой форме представленное
лишь советским вариантом. Фашизм и нацизм кажутся черновым
наброском, стоит сопоставить их с почти законченной и ставшей
классической советской моделью. Оруэллу видно, в чем она еще
может быть усовершенствована, и потому ему случается
предугадать китайские нововведения.
Можно ли в таком случае рассматривать «1984» как анализ
коммунистического строя? Так его воспринимают читатели,
живущие при этом строе. В официальной советской прессе долгое
время наглухо молчали об Оруэлле. Однако это проклятое имя все же
всплыло там в 1984 году, но лишь как имя автора, разоблачившего
Соединенные Штаты Америки и даже больше — «высшую стадию
капитализма». На Западе тоже нашлись критики, подхватившие
этот посыл1. Для всех философов и историков, занимающихся
исследованием явления под названием «коммунизм» — знакомо ли
оно им по личному опыту или нет, « 1984» — неисчерпаемый
классический источник, который будто наделен способностью
обогащаться по мере того, как явление это развивается и познается. Для
советского миропорядка Оруэлл то же, что Барк* для французской
революции, а Токвиль — для демократии.
Это вовсе не означает, что нарисованная Оруэллом картина не
расходится в некоторых важных моментах с советской реальностью
1 О деформации мысли Оруэлла после его смерти см. замечательную
статью Леопольда Лабедза: «А ели бы Джордж Оруэлл дожил до
1984?». Survey, 1984, vol. 28, п. 2, р. 165—209.
Барк, Эдмунд ( 1729— 1797) — английский политический деятель и
писатель. Блестящий оратор, убежденный противник революции
(«Размышления о французской революции», 1790).
103
Первое несоответствие в том, что советский строй, хотя и
напоминает ангсоц, все же не достиг той степени законченности,
последовательности, которые присущи Океании. На это есть
обоснованный ответ Колаковского: «Большинство понятий, к которым мы
прибегаем, описывая социальное явление большого масштаба, не
имеют совершенных по форме эмпирических аналогов. Никогда
не существовало абсолютно чистого капитализма, что нисколько
не мешает нам делать различие между капиталистическим
методом ведения хозяйства и докапиталистическим, и это весьма
полезно. Тот факт, что не существует абсолютной свободы, не
мешает отличать свободную страну от деспотической, да так, чтобы это
было и обоснованно, и понятно. Лучшие образцы тоталитарного
общества ближе к их замыслу, чем любое из капиталистических
обществ к своему»1.
Второе несоответствие в том, что Океания невозможна в
принципе. Государственный строй, описанный в романе, несовместим с
жизнью людей и, в конечном счете, с вечной властью, к которой
стремятся правители Океании. Совдепия живуча по крайне мере
потому, что обеспечивает выживание людского сообщества на
данной территории, да и власть удерживается там, не измененяясь, без
малого семьдесят лет. Это несоответствие возвращает нас к
первому: всякий коммунистический режим несовершенен в сравнении с
Океанией, но и кое-что проясняет. Дабы выжить, режиму,
правителям должно остановиться на полпути. Если контролировать людей
настолько, насколько этого требуют сам строй и образ правления,
люди начнут вымирать. Отсюда необходимость некоего зазора
между властью и людьми, чтобы люди могли хоть на время
обрести отдохновение. Если хозяйство сделать плановым на все сто
процентов, оно перестанет быть эффективным. Значит оно должно
производить товары хотя бы в минимальных размерах, чтобы не
дать людям умереть и обеспечить им трудоустройство — с одной
стороны, позволить партии удержать власть — с другой. Как мы
увидим, Оруэлл все это понимал.
Третье несоответствие, выявленное не так давно Зиновьевым,
состоит в том, что советский режим не столь притесняющий, как в
L. Kolakowski. Totalitarism and the Virtue of the Lie / in Irving Howe ed.
//Op. cit. P. 122.
104
Океании, о чем свидетельствует искреннее принятие его
большинством населения1.
Советский строй приемлем для людей в той мере, в какой он
допускает некоторые человеческие удовольствия и порождает
новые. Обычные удовольствия выживают, затаившись в неких
зазорах, оставленных намеренно. Пролетариям позволена
определенная эмоциональная жизнь; незатейливые и грубые удовольствия,
связанные с постелью и столом, допустимы. Они пьют
отвратительное пойло, но в неограниченных количествах. Есть и такие
удовольствия, что порождены строем: злоба, лень,
безответственность, возможность заставлять страдать и унижать. Низкие
удовольствия, но все же удовольствия, и, раз к ним привыкнув,
трудно обойтись без них. А сама система от этого только выигрывает,
приобретая стабильность. Тысячи страниц Зиновьева пополняют
досье о деградации человеческой натуры и морали при советском
строе, сопровождаемой постыдными удовольствиями. В целом
картина жизни в Океании чернее, чем в СССР, и схематичнее,
поскольку описан некий чистый тип общественного устройства.
Правда ли то, что этот строй принимается людьми? Он
функционирует, лишь прибегая к компромиссам. Будучи враждебным
природе, он может держаться, лишь ухватившись за что-то,
позволяя исключения и отсрочки, терпя симбиоз с природой, которую
он не может окончательно уничтожить, не уничтожив самого себя.
Эти компромиссы воспроизводятся и на индивидуальном
уровне, повторяя, хотя и в новом и чудовищном виде, древнее
различие между частным и общественным. Чудовищное проис-
1 К примеру, в книге «Коммунизм как реальность» (Париж, 1981). Я
касаюсь здесь лишь двух моментов в огромном и постоянно изменчивом
творчестве Зиновьева: 1) полного, как он утверждает, принятия
населением советского строя; 2) понятия «советского общества». Свои
взгляды на этого автора я изложил в общих чертах в работе «Нормальность
коммунизма по Зиновьеву» (Пувуар, 1982. № 21). Владимир Берелович
дал более глубокий его анализ в замечательном эссе: «Социальный
кошмар Александра Зиновьева, советская власть и советское
общество». (Анналы, E.S.C , готовится к печати в 1985 г.). Недавняя эволюция
Зиновьева внушает беспокойство тем, кто был почитателем его
таланта. Порой он вещает словно О'Брайен и оправдывает коммунизм тем,
что он сильнее и неизбежно победит. Нелегко понять, искренне ли
стоит Зиновьев на декларируемых позициях или же он занимает их,
чтобы публично заявить об обоснованности своих положений о советском
человеке и о невозможности того вырваться из своего удела.
105
текает из того факта, что различие не позволено: в теории все
принадлежит всем. Советский человек обязан соответствовать до
самых потаенных уголков души новому человеку, который будто
бы порожден советским строем. Его речь должна следовать
канонам казенного языка, нравственность — ориентироваться на
требования партии, общение с себе подобными — подчиняться
неким правилам, установленным государством. Более того, он, по
крайней мере внешне, становится общественным, социальным
раньше и в большей степени, чем в других государствах.
Семейные узы ослаблены. С детства им занимаются школа,
молодежная организация и военрук. На работе он находится в коллективе,
чья власть над ним превосходит ту, что положена в рамках
контракта в обычном обществе. Коллектив и профсоюзная
организация стремятся сломать внутренние преграды, границы между
индивидом и обществом.
Колхозник, совхозник и рабочий, с потрохами принадлежа
коллективу, получают некий статус — это не статус наемного
рабочего в современном мире, не статус средневекового
крепостного и даже не статус раба в античном обществе. Античный раб был
защищен самой своей обездоленностью: она ставила его под
защиту богов и всеобщей морали. Он был защищен в той мере, в
какой телесно принадлежал хозяину, чей статус был статусом
свободного человека. Презирая рабское состояние, хозяин порой и
сам впадал в него, отдаваясь низким страстям в отношении
своего раба. И все же раб находился в положении, совместимом, пусть
и на самом низком уровне, с человеческой жизнью. Ему была
гарантирована жизнь, что юридически и нравственно оправдывало
его положение. Он мог на своем уровне принимать участие в
семейной жизни тех, кому принадлежал. Мог сохранять
добродетель и даже заставить хозяина признать свое превосходство.
Верно, не очень-то приятно быть хозяином Эпиктета!* Филемон,
получив письмо от святого Павла, доставленное рабом Онезимом,
мог лишь вытянуться перед ним в струнку! Словом, статус раба
Эпиктет (букв. «Прикупленный», ок. 50—ок. 140) — греческий
философ-стоик, раб одного из фаворитов Нерона, позднее отпущен на волю.
Проповедовал стоическую мораль в беседах и уличных спорах, ничего
не записывал. Философские проповеди его сохранились в записи
ученика. Мораль Эпиктета во многом близка христианским проповедям.
106
был правовым и соответствовал реальной исторической
ситуации. Советский гражданин (как и гражданин Океании) во всех
смыслах бесправнее. У него нет хозяина. У него лишь
начальники, которые не свободны. Хозяин раба сам раб: от этого
содрогались античные времена. Статус советского гражданина не
признан юридически, а значит, не подлежит исправлению. Считается,
что он «новый человек»: свободный, даже освобожденный. Это
ложное понимание невыносимо, оно делает его жизнь хуже
жизни раба. И потому (свидетельство Солженицына на сей счет не
единственное) он испытывает чувство облегчения, когда
переступает лагерный порог. Его материальное положение ухудшается,
поскольку он перешел от сносных условий жизни домашнего
раба к условиям жизни раба на плантации. Однако в моральном его
состоянии происходит сдвиг в положительную сторону. Ему
больше не нужно участвовать в комедии под названием «свобода при
социализме». Он получил доступ к определенному статусу зека,
восстановлен в неких, пусть и ничтожных правах,
существовавших на всем протяжении человеческой истории и в этом смысле
естественных. Он перешел в ранг раба.
Те же, что остались за пределами лагеря, — а их
большинство, — должны по полной программе терпеть раздвоение между
ролью и реальностью. Раз все должно быть отдано коллективу,
обществу, все и отдается, но только понарошку. Гражданин выражается
казенным языком, «как свинья», ведет себя с окружающими,
исходя не из взаимного интереса, а с позиции силы. Он все отдал,
чтобы теперь все тащить. Он поступает так, чтобы оградить сферу
личного, единственного, что ему дорого и близко. Раб должен был
отдавать все свои силы, но не душу. У него оставалось нечто
личное, и немалое. Не будучи рабом, но принужденный отдавать всю
свою душу, советский человек вообще ничего не отдает. Вернее,
он делегирует обществу своего двойника. Так, чем больше он
вовлечен в сферу общественного, тем больше он уходит в себя, в
личное, прячется за лживой маской.
Это дает ему некие преимущества. Пользуясь раздвоением, он
полностью принадлежит себе. Двойник — на виду, а он сам в
укрытии. В этом смысле Зиновьев прав: советский строи принят
народом. И даже дважды. Первый раз, когда гражданин голосует,
участвует в демонстрациях, в собраниях, в «общем деле». И вто-
107
1
рой раз, когда раздвоение позволяет утаить частицу личного.
Внешний конформизм желателен, ведь он служит прикрытием. Он
и ребенка своего воспитывает таким же: единственный способ
вооружить его для ожидающей его жизни — научить раздваиваться,
следить за тем, чтобы внешне не отклоняться от нормы самому и
не давать отклоняться другим. Если же кто-то отклоняется, с
искренним возмущением следует выдать его, ведь он подвергает
опасности всеобщее равновесие.
Этого равновесия на самом деле не существует, и ему это
известно. Приятие существующего положения вещей покоится на
убеждении, что изменения могут быть лишь в худшую сторону.
Компромиссы, допущенные системой, временны. Как только у
власти достанет сил и представится возможность, она двинется в
наступление и развернется согласно всему тому, что заложено в
ней. На индивидуальном уровне это означает новое наступление
на сферу личного. Не исключено, что социалистическая
«социализация» начнется раньше, хрупкая семейная скорлупа будет
разбита, и планка участия в «общественной жизни» будет поднята.
Предчувствуя возможность изменения к худшему, гражданин
становится консерватором. А плодами его консерватизма пользуется
все та же система, поскольку оппозиция исключается.
Дабы сохранить в себе некую личную оппозиционность,
гражданин противостоит любому проявлению оппозиции и отчаянно
держится за status quo. Для него важно одно: чтобы не была
запущена дробильная машина.
Двойник прилипает к личности. Их неразделимость — главный
атрибут человека, ведь он может существовать лишь раздваиваясь.
Двойник оказывает на личность постоянное давление. На
выстраивание двойника тратится уйма энергии. На обучение в школе, на
познание лженауки («диамата»), на овладение казенным языком и
новой нравственностью бесполезно расходуется время. Любое
социальное обучение идет на пользу двойнику, а сама личность
питается лишь тем, что подбирает в промежутках, обрывками
традиционного образования, семейными начатками, свидетельствами
носителей дореволюционной культуры. Находя
интеллектуальную, нравственную, религиозную пищу, потребную его
собственным нуждам, гражданин превращается в самоучку. Конечно,
основные предметы, по преимуществу научные, сохранены: они вхо-
108
дят в набор необходимых компромиссов, быть или не быть
которым зависит от расстановки общественных сил. Но и эти
компромиссы временны и подвержены случайностям. В любой день, к
примеру, из книжных магазинов могут исчезнуть классики. Да и
сегодня они представлены далеко не в истинном свете. Может
быть изъята та или иная часть науки. Научный дух в любом случае
извращен.
Построение двойника чревато увечьем. Ум личности еще не
успел сформироваться, а уже должен быть подвергнут
деформациям. Ежедневное пользование казенным языком отражается на
владении родным языком, требуются усилия, чтобы не забыть
его. Необходимость выполнения определенного набора неких
действий согласно новой морали давит на сознание и
мало-помалу разрушает его. В конечном счете, защитная функция двойника
истончается, а затем и вовсе исчезает. И двойник заполняет
личность.
Но, заполняя ее, он не может не прикончить ее окончательно.
Тут-то и кроется объективный предел. Хозяин раба мог плохо
обращаться с ним, но лишь до определенного предела, за которым
наносил вред себе, так как раб был его добром. Партия, владея
телом человека, не может овладеть его душой, не нанеся вреда
основе своей власти. Порог ниже, но он существует. Он же
является и границей того, что приемлет личность, а что нет. Двойник
все же не может заменить собой личность. Соотношение сил в
обществе меняется, двойник перестает оказывать давление, и
личность тут же отвоевывает саму себя. Родной язык,
нравственные начала общие для всех людей, заинтересованность во
взаимной выгоде, загнанные в сферу личного, в подполье, вновь
выходят на свет и распространяются на сферу общественного.
Кажется, будто двойника и не было. Всякий раз, как тоталитарная
власть слабела, мы наблюдали этот процесс. А бдительное
приятие власти гражданами, о котором в своем отчаянии пишет
Зиновьев, не просто на глазах сменяется всеобщей оппозицией, оно
тает, словно его и не было, и индивид забывает о нем. То же
самое происходит и с совестью. Безнравственные поступки,
совершенные прежде, относятся на счет двойника, от них остается
лишь неприятное воспоминание. Бывший эсэсовец задается
вопросом, а что он делает в тюрьме, не находя в памяти связи меж-
109
m
ду мирным пенсионером и человеком в черной униформе.
Зиновьев не делает различия между показным приятием и
непобедимой внутренней силой. Мы еще обратимся к тому, что в этом
смысле происходит в Океании.
В заключение не помешает взглянуть, какое применение
получает у Зиновьева понятие «советское общество». Существует ли
оно? Советское миропонимание предполагает наличие между
людьми социальных связей, способных подвергаться изменениям.
Так же, как существовало «феодальное общество»,
«капиталистическое общество», существует и «социалистическое общество».
Зиновьев с этим согласен и в мельчайших деталях описывает его.
Это не тот «социализм», который подает нам официальная
пропаганда, это совокупность организованных отношений, со своими
законами, своей элитой, иерархией, своими ценностями. Тот факт,
что эта иерархия способствует процветанию ограниченного и
бесчестного, что ценности перевернуты с ног на голову, что
цивилизованные отношения (совокупность тормозов, не позволяющих
человеку вести себя «по-свински») там невозможны, по мнению
Зиновьева, не помеха советскому обществу так же называться
обществом, как и другие.
Вернемся к нашим рассуждениям о «компромиссах» и сделаем
следующие выводы:
1. Социалистическое общество такое, каким претендует быть.
Организация власти прописана в Конституции, организация
экономики — в документах Госплана, человеческие
взаимоотношения — в романах в духе социалистического реализма, в фильмах,
живописи и скульптуре, в печатной продукции, в частных
письмах, публикуемых в газетах, в отчетах собраний, в рапортичках
«коллективов». Во всем этом как бы воссоздается образ общества
нового типа, социалистического, следующего своим принципам и
соответствующего предвидению основателей. И все же общества
на самом деле не существует.
2. Демистифицированное социалистическое общество. Его
можно сравнить с театром, в котором актеры — «двойники»,
делегируемые на социальную сцену индивидами. Поскольку
играют они неплохо — принуждены это делать, в том числе и по
добровольным мотивам, о которых речь шла ранее, — на первый
ПО
взгляд социалистическое общество, если взглянуть на него под
определенным углом зрения, вроде как и существует. Прожив в
СССР некоторое время — правда, недолго, столько, сколько
длится путешествие или поездка в составе делегации, — можно
принять постановку за реальность. Но стоит копнуть поглубже, и
перед нами общество, описанное Зиновьевым, всеобщий «кры-
сятник». Да общество ли это? Не результат ли принуждения в
соответствии с представлениями, каким должно быть
социалистическое общество? Под маской полной бессребренности —
джунгли, под преданностью — симуляция, под честностью — грабеж,
под отвагой — трусость, под рабочим запалом — вопиющее
ничегонеделание. И еще один результат принуждения:
специфические пороки этого общества — преступность, алкоголизм,
нищета, отвращение личности к самой себе и вытекающая из него
деградация.
3. Подлинное общество при социалистическом строе. Оно
составляет одно целое с гражданским обществом, поскольку не
имеет органической связи с государством. Государство мирится с ним
в определенных рамках в соответствии с раскладом политических
сил и из необходимости сохранения власти. Оно является
промежуточным этапом, необходимым для выживания. В этом
подлинном обществе между людьми завязываются нормальные
взаимоотношения. Там говорят на настоящем языке, вследствие чего
становятся возможны литература и искусство. Там признаются
нормы общечеловеческой морали, вследствие чего человеку
предоставляется выбор быть добродетельным либо порочным, и
тогда отвечать за свои грехи. Там происходит обмен ценностями,
услугами на основе принципов справедливого раздела и
соблюдения интересов заинтересованных сторон. Вследствие этого
функционирует экономика, а вместе с ней возникают и
ценообразование, и обогащение, и эксплуатация, и капиталовложения, и
нововведения.
Но власти мирятся с этим лишь какое-то ограниченное время.
Это общество не формообразующее в политическом смысле, и
государство сторонится контактов с ним. Налаживая свои
собственные потребительские потоки, систему здравоохранения,
досуга, воспитания, опасаясь, как бы его политические интересы не
подпали под влияние той или иной группировки подлинного об-
111
щества, государство калечит и ограждает колючей проволокой
это общество, лишает его способов высказывания и пресекает
хождение негосударственных точек зрения. Оно держит
монополию на косноязычие и официозное искусство, не признает
нравственных потоков, спонтанно зарождающихся в обществе.
Взамен предлагает свое понимание нравственности, в которой и
воспитывают детей. И, наконец, экономическая деятельность не
защищена с правовой точки зрения. Она влачит подпольное
существование. Коммерсант приравнивается к торгашу,
предприниматель, к спекулянту, всех наказывают, осуждают и со всех
взыскивают. В результате чего в недрах общества вызревает
патология. Коммерсант, которого никто не уважает, просто
вынужден вести себя как торгаш. Отношения между подлинным
обществом и прокламируемым (идеальным или тем, какое удалось
создать) напоминают отношения личности с двойником, который ее
представляет (или, скорее, прячет) вовне. И те и другие лишены
стабильности. Подлинное общество постоянно пытается
подорвать официальное, наполнить его новым содержанием. Колхоз
все время пытается стать чем-то вроде сельскохозяйственного
кооператива, для чего окольными путями прибегает к помощи
негласных соглашений. Завод стремится преобразоваться в
настоящее предприятие, хозяина производимых им товаров,
участвующего в распределении прибыли. Авторы хитрят с главным
редактором журнала, тот хитрит с цензурой, чтобы выпустить в
свет живое слово или дать ход произведению искусства. Все
тщетно. Общество всегда в проигрыше. Оно не способно устоять
под натиском лжеобщества, паразитирующего на нем,
заражающего его и намеревающегося погубить.
Но может ли оно быть окончательно погублено? Нет, ибо
человек — существо социальное и не может обходиться без
общества, так же, как и без сферы личного. Он умирает, если его жизнь
начисто лишена общения, поступков, совместных с другими
деяний. Никогда общество не было в таком загоне, как в то время,
когда Оруэлл писал свой роман. И все же оно существовало
подспудно и вновь выплыло на поверхность после 1953 года, да с
такой силой, что показалось, будто есть шанс стать ему свободным.
Таким образом, социалистическое общество остается миражом,
который может внезапно испариться, так что задним числом пока-
112
жется, будто его и не было вовсе. Стоило тоталитарной власти
покачнуться, как гигантские декорации и вся мощная постановка с
миллионами участников улетали с колосниками, словно
бесплотные и невесомые духи. Ирреальность лопается подобно
мыльному пузырю.
Зато надолго сохраняются следы увечья. Мы констатируем:
трудно советским диссидентам начать мыслить и реагировать как
«нормальные» люди, словно исчезновение двойника, с которым
они пребывали в длительном симбиозе, Лишает их равновесия и
заставляет ощутить собственное отчаяние. Нужно предвидеть, что
точно также и подлинному обществу, случись ему сбросить с себя
воображаемое, придется сделать немалое усилие, чтобы заполнить
освободившееся место.
У Зиновьева три вида общества — социализм в идеале,
разоблаченный социализм и подлинное общество — образуют одно и
тоже общество. Как и двойник образует с личностью одно целое
под названием «Гомо советикус». В этом кроется причина его
отчаяния. И впрямь, если взглянуть на социализм под
определенным углом зрения, он кажется реализованным, ведь он венец и
форма всему. Он порождает довольно силы, сплоченности,
удовольствий, чтобы быть необратимым и вечным. И все же,
думается, что при всей своей подтвержденной десятилетиями
прочности эта система не образует единого общества и не может быть
названа обществом. Она содержит два чуждых друг другу
элемента, которые ей никогда не удается соединить: сообщество
людей, неполное, изувеченное, лишенное политического
завершения и несравненно более широкое, более разветвленное, чем у
классического государства, и власть, не способная, тем не менее,
внедриться в сообщество людей, быть принятой им (иначе как
делая вид), быть по-настоящему его государственной верхушкой.
И потому в этой системе a priori заложена непрочность. Система
избегает краха с помощью своей косности, оставаясь той же, что
и в первый день своего существования. Она компенсирует эту
шаткость, увеличивая меры предосторожности и принуждения.
Она не может двигаться так, чтобы на ней не появилось
трещины, видимой всем, но у одних вызывающей страх, а у других
надежду.
1
113
Глава IV
Социология Голдстейна
Уинстон завербован О'Брайеном. Он думает, что его выбрали
для того, чтобы он вошел в оппозиционную режиму тайную
организацию под названием «Братство». Здесь Оруэлл воспроизводит
методы русских тайных организаций, характерные для XIX века.
Первый вопрос О'Брайена: «Вы готовы совершить убийство?»
И далее: «Совершить вредительство, которое будет стоить жизни
сотням ни в чем не повинных людей? — Да. — Изменить родине
и служить иностранным державам? — Да. — Если, например, для
наших целей потребуется плеснуть серной кислотой в лицо
ребенку — вы готовы это сделать? — Да». Таким образом крушение анг-
соца должно явиться следствием тех же действий, которые
привели его к власти. Уинстон — частица партии на низшем уровне —
соглашается на все, поскольку иные методы ему неведомы.
«Братство» ратует за революцию в революции.
В пропаганде ангсоца Старший Брат находится на
положительном полюсе, а на отрицательном пребывает Эммануэль Голдстейн,
«враг народа», «закоренелый предатель», «осквернитель
партийной чистоты». Здесь мы, конечно же, имеем дело с
воспроизведением исторической модели Сталин—Троцкий, уже выведенных в
«Скотном дворе» в образах двух свиней.
Голдстейн — предполагаемый автор «книги», полностью
разоблачающей обман, заложенный в ангсоце, книги легендарной, о
которой никто не осмеливается заговорить, но существование
которой ни для кого не секрет. Эта «книга» обладает той же
воспламеняющей силой, что и книга Троцкого «Преданная революция».
Называется она «Теория и практика олигархического
коллективизма». Мы узнаем о ней только то, что успевает прочесть Уинстон,
то есть два фрагмента: один из III главы «Война — это мир»,
другой из I главы «Незнание сила».
В этих фрагментах есть несколько тем, которые можно
классифицировать следующим образом:
1 ) история;
2) международные отношения;
3) политическая экономика;
114
1
4) война;
5) незыблемость системы;
6) структура общества;
7) психологический тренинг члена партии.
1) История
Взгляд, бросаемый Оруэллом на прошлое, — взгляд верного
приверженца социализма, но настроенного пессимистически. С
самого начала исторического времени в мире существовало три
класса: высший, средний и низший. Целью высшего класса было
остаться там, где он есть, среднего — поменяться местами с
высшим, и низшего — если у него была цель — уничтожить все
различия и создать общество, где все будут равны. Оруэлл
продолжает верить в доброту народных масс. «Вся надежда на про-
лов», — думает Уинстон. «Из трех групп только низшим никогда
не удастся достичь своих целей, даже на время». Этот факт стал
очевидным «к концу девятнадцатого века». Однако Оруэлл не
называет мыслителей, доказавших, «что неравенство есть
неизменный закон человеческой жизни». Кто они? Социальные
дарвинисты? Парето* и Михельс**, угадываемые в «Маккиавеллистах»***
Бёрнема?
Долгое время средний класс скрывал за знаменем равенства
свою устремленность к господству в обществе, но затем перестал
это делать. «Теперь средние фактически провозгласили свою
тиранию заранее». Все разновидности социализма освобождаются от
утопических идей XIX века и «ставят себе целью увековечение
несвободы и неравенства». И действительно, впервые в начале
Парето Вильфредо Фредерико Дамасо (маркиз, 1848—1923) —
итальянский экономист и социолог. Его концепция общества основана на
различии между элитами и другими социальными слоями: считал
необходимой «циркуляцию элит» как условие социального равновесия
(«Трактат по социологии», 1916).
** Михельс Роберто (1876—1936) — итальянский социолог и экономист
немецкого происхождения. Один из создателей политической
социологии («Политические партии, эссе об олигархических тенденциях
демократий», 1911; «Социализм и фашизм как политические движения»,
%< 1925, и др.).
""«Маккиавеллисты» (1943) — работа Джеймса Бёрнема.
115
XX века равенство стало возможно благодаря высокой
технической оснащенности общества. И потому, с точки зрения тех, кто
готовился захватить власть, «равенство людей стало уже не идеалом,
к которому надо стремиться, а опасностью, которую надо
предотвратить». Основные течения политической мысли становятся
авторитарными, и «в земном рае разуверились именно тогда, когда
он стал осуществим».
Новая аристократия вышла из среды интеллигенции,
«составилась в основном из бюрократов, ученых, инженеров,
профсоюзных руководителей, специалистов по обработке общественного
мнения, социологов, преподавателей». По сравнению с
аналогичными группами прошлых веков они были «менее алчны, менее
склонны к роскоши, зато сильнее жаждали чистой власти». Они
были решительнее предшественников, «настойчиво стремились
сокрушить оппозицию». Эта мысль захвата власти
интеллектуалами и превращение интеллигенции в эксплуататоров впервые была
выдвинута польским революционером Махайским в 1905 году
(«Интеллектуальный работник»). Оруэлл как будто незнаком с его
работами. Возможно, источником вдохновения ему вновь
послужил Бёрнем с его теорией революции управляющих.
И вновь, рассуждая в терминах классов и классовой борьбы,
Оруэлл выказывает себя троцкистом, крайне левым. Режим ангсо-
ца был установлен сознательной волей социальной группы,
захватившей власть для своей выгоды, в своих интересах. Концепция,
наличествующая уже в «Скотном дворе», не забыта.
Общественный строй в романе — не нов, он воспроизводит старый, разница
лишь в силе власти. И опять мы попадаем в русло классической
политики. Оруэлл и сам почувствует недостаточность подобной
концепции.
2) Международные отношения
Новый строй установился на всей земле. Основополагающие
учения могут по-разному называться {ангсоц, необольшевихм,
культ смерти или же стирание «я»), они равнозначны, и
социальные системы, которым они служат подпорками, неотличимы друг
от друга. Однако всемирная революция не привела к объединению
116
в одно государство. В этом Оруэлл делает шаг вперед в своих
взглядах по сравнению с предшественниками. Замятин и Хаксли
писали о мировом государстве и окончании международных
конфликтов. Оруэлл же понимает, что строй основан на борьбе и
ненависти и, в частности, не может обойтись без внешнего врага.
Мир в 1984 году по-прежнему не един, и каждому государству это
необходимо.
Есть три сверхдержавы. Евразия включает в себя территории
СССР и континентальной Европы. Океания — это обе Америки,
Северная и Южная, вместе с остальным англосаксонским миром —
Британские острова, Австралия, Южная Африка. Остазия
соответствует в общих чертах Китаю и Японии. Они представляют собой
самодостаточные и герметично закрытые конгломераты. Они
вступают в союзнические отношения: двое против одного, но альянсы
лишены стабильности и быстро распадаются. Сверхдержавы
постоянно воюют друг с другом.
Эта война изнутри каждого государства выглядит тотальной.
«Военная истерия имеет всеобщий и постоянный характер, а такие
акты, как насилие, мародерство, убийство детей, обращение всех
жителей в рабство, репрессии против пленных» считаются нормой
и даже доблестью. Но по существу эта война ведется в
определенных рамках, поскольку воюющие страны неспособны сокрушить
одна другую, у них нет веских причин материального свойства
вести войну, да и идеологически они не отличаются одна от другой.
Война востребует небольшое количество специалистов и не
приводит к большим потерям. Цель лишь одна: контроль над Африкой
и Южной Азией ради получения дешевой рабочей силы. Эта
рабочая сила ничего не добавляет к богатству государства, поскольку
все, что ею производится, уходит на военные цели. Но она
позволяет вести войну, а война ведется лишь для того, чтобы завоевать
новые позиции для ведения следующего этапа войны.
3) Политическая экономия
Война является одной из основ для политической экономии
нового типа. Оруэлл понял это первым. Радикальное отличие этой
политической экономии в том, что ее целью является отнюдь не
117
производство материальных ценностей. Ее цель — «израсходовать
продукцию машины и современной технологии. Не повышая
общий уровень жизни».
Удивительное прозрение. «В начале двадцатого века мечта о
будущем обществе, невероятно богатом, с обилием досуга,
упорядоченном, эффективном — о сияющем асептическом мире из
стекла, стали и снежно-белого бетона, — жила в сознании чуть ли
каждого грамотного человека». Эта картина служит декорацией к
утопиям Хаксли и Замятина. Но мир «1984» — «скудное, голодное,
запущенное место по сравнению с миром, существовавшим до
1914 года».
Причина такого положения вещей кроется, по Оруэллу, в
борьбе классов. Машина и технология могли сами справится с
самыми тяжелыми видами человеческого труда, приумножить
богатства и, в конечном счете, стереть социальные различия, до тех пор
основанные на существовании богатства и его неизбежного
спутника — знания. Чтобы общество и впредь оставалось
иерархическим — а именно такова цель правящей группы — нужно
планомерно трудиться над поддержанием бедности и невежества.
«Задача состояла в том, чтобы промышленность работала на полных
оборотах, не увеличивая количество материальных ценностей в
мире». Единственный путь к этому — непрерывная война,
пожирающая излишки производства. Население живет в условиях
хронического недостатка всего, что повышает ценность самых
незначительных привилегий и позволяет расцвести пышным цветом
различиям между группами населения. Члены внутренней партии
пользуются весьма скромными привилегиями: хорошие
квартиры, качественное питание и прочие товары. Но этого достаточно,
чтобы их жизнь отличалась от жизни членов внешней партии,
уровень которых настолько же превосходит уровень жизни
«пролетарских масс». Атмосфера в обществе при этом будто в
осажденном городе: куска конины довольно, чтобы провести черту
между богатыми и бедными, а состояние войны оправдывает
сосредоточение власти в руках высшей касты.
Последняя причина, объясняющая всеобщий экономический
упадок — замораживание технического прогресса и науки. И то и
другое зависит от эмпирического мышления, которое не может
выжить в зарегламентированном {regimented) обществе, не только из-
118
за отсутствия свободы, несовместимого с деятельностью ученого,
но и из-за того, что соотношение науки с реальным миром,
эмпирика в чистом виде были искажены. «В Океании наука в прежнем
смысле почти перестала существовать. На новоязе нет слова
«наука». У технического прогресса осталось только два пути: поиск
нового оружия и борьба со свободой. Таким образом вне войны и
полицейского надзора, где эмпирический подход допустим, наука
пребывает в стагнации или безнадежно отстает. В повозки
впряжены лошади, тексты перепечатывают на машинке. Ученый из
« 1984» — это гибрид психолога и инквизитора, осуществляющий
слежку и перевоспитание людей, либо техник, занимающийся
только теми отраслями своей специальности, «которые связаны с
умерщвлением».
Надо заметить, что писать экономическую часть Оруэллу было
нелегко. Когда Сталин провозгласил «пятилетки», лишь очень
немногие на Западе осмеливались оспаривать их эффективность. Все
описания поездок в страну Советов (кроме нескольких рассказов
рабочих, окунувшихся в заводскую среду, — Айвона, Чилиги)
полны восторгов по поводу достижений и модернизации, идущих
семимильными шагами. Война с нацистской Германией
рассматривалась в качестве неоспоримого теста, который приводил
скептиков в замешательство. Оруэлл нащупал теоретический ключ,
позволивший ему уверенно отрицать прогресс и модернизацию в
СССР и одновременно объяснять, почему там производилось
столько танков. Вернее, он нащупал даже два ключа —
«работающий» и «неработающий». Суть оспариваемой гипотезы — в
стремлении правящего класса к дифференциации и господству.
Чуть дальше Оруэлл заметит, что «партия — не класс в старом
смысле слова». Следует предположить, что этот класс в состоянии
поставить перед собой осознанную цель, согласную с его
классовым интересом, партия же не использует классовые понятия. По
своей сущности и по учению (а они составляют одно целое) не
ведает она и понятия «интерес». Второй ключ — в следующих двух
строках: «У партии две цели: завоевать весь земной шар и
навсегда уничтожить возможность независимой мысли». Отсюда берет
начало политическая экономия Океании: 1) она не свободна и не
имеет собственных целей, будучи подчиненной общим задачам
системы; 2) определение потолка потребления: за его пределами ин-
119
дивид может превратить свое богатство в барьер, не позволяющий
партии надсматривать за ним. Этот потолок может варьироваться
в зависимости от категории, к которой относится индивид:
повыше — для члена внешней партии, еще выше — для члена
внутренней партии, но главное — наличие потолка для всех, а значит
возможности контроля за каждым; 3) определение низшей точки
уровня жизни: за ее пределами индивид не будет в состоянии
исполнять то, чего от него ждут, и вся система окажется в опасности.
Этот порог может быть перейден в любое время, но в целом
подчиняется принципу допущения «компромиссов» ради выживания
системы; 4) истощение отраслей, направленных на повышение
благосостояния людей, и развитие отраслей, направленных на
экспансию и контроль, а также соответствующих им технических и
научных отраслей хозяйства. Первый ключ, который «не
работает», изобретен не Оруэллом: он нашел его готовым в троцкистской
литературе того времени. Второй он получил сам, взглянув на
экономику со стороны и выводя ее из основополагающих принципов
системы. Вывод его оказался действенным и помогает примирить
некоторые противоречия, которые Оруэлл подметил: нищета и
бесхозяйственность, с одной стороны, эффективность и мощь — с
другой. Этим он заложил основы экономической теории,
опережавшей экономическую мысль его времени: экономисты той поры
делали вывод либо исходя из советской бесхозяйственности, либо
из мощи. И выводы их были диаметрально противоположны1.
4) Война
Несмотря на то, что в многочисленных лабораториях идет
совершенствование оружия и оно становится ужасающим,
невероятным, само искусство войны не развивается, и ни одна из трех
сверхдержав не может добиться хоть какого-то перевеса в свою
пользу. Оруэлл — современник изобретения атомной бомбы. Но
он не верит в возможность ее массового применения. «Хотя
никакого официального соглашения не было даже в проекте, атомные
Я сделал попытку построить общую модель «экономики» типа
советской в книге «Анатомия видения» (Париж, 1981). Перечитывая Оруэл-
ла, должен признать, что он опередил меня в этом вопросе.
120
бомбардировки прекратились. Все три державы продолжают лишь
производить и накапливать атомные бомбы в расчете на то, что
рано или поздно представится удобный случай, когда они смогут
решить войну в свою пользу». В целом же военное искусство
топчется на месте. Война ограниченна, поскольку она — порождение
внутренней политики, а она больше нуждается в войне, чем в
победе, экономика же не настолько мощна, чтобы способствовать
окончательной победе одних над другими. Цель войны —
всеобщая стабильность мировой системы, находящейся в состоянии
непрерывного конфликта по причине все той же необходимости
всеобщей стабильности. Три государства подобны друг другу: им ни
к чему завоевывать друг друга, напротив, конфликтуя, они
«подпирают друг друга подобно трем снопам».
Прежние войны велись нациями с различным потенциалом, и
наиболее развитая в техническом отношении могла одержать
победу. Существовала историческая память, придававшая смысл
войне. Да и правящие круги были заинтересованы в исходе войны в
той степени, в какой несли за нее ответственность. Все эти
факторы исчезли. Правящая группа Океании хоть и посвящает себя
завоеванию мира, но понимает и то, что война должна быть
постоянной и никому не приносить победы. Она «сознает и
одновременно не сознает, что делает». И для нее тоже, и в особенности для
нее, контакт с реальностью носит размытый характер.
«Становится возможным отрицание действительности». Научные изыскания,
направленные на войну, — из области мечтаний, а их
неспособность привести к результату никого не волнует. Война перестала
представлять опасность, может быть, за исключением лишь
некоторых. Гражданин Океании, отрезанный от внешнего мира,
окончательно потерялся. Правящая кучка вынуждена заботиться о том,
чтобы народ не вымер от голодания и поддерживать военный
потенциал на том же уровне, что и противник. Выполнив этот
минимум, правителям нет необходимости глубоко вникать в
происходящее, и они деформируют его ad libitum . В конечном счете война
ведется понарошку, поскольку единственной ее целью является
поддержка гомеостаза системы. Став бесконечной, война как тако-
По желанию {лат.).
121
вая перестала существовать. В этом и состоит глубинный смысл
лозунга: война — это мир.
Все три державы следуют одной стратегической линии. «Идея
ее в том, чтобы посредством боевых действий, переговоров и
своевременных изменнических ходов полностью окружить
противника кольцом военных баз, заключить с ним пакт о дружбе и
сколько-то лет поддерживать мир, дабы усыпить всякие
подозрения. Тем временем во всех стратегических пунктах можно
смонтировать ракеты с атомными боевыми частями и наконец нанести
массированный удар, столь разрушительный, что противник
лишится возможности ответного удара. Тогда можно будет
подписать договор о дружбе с третьей мировой державой и готовиться
к новому нападению». Но этот план — «всего лишь греза, он
неосуществим».
Что полезного можно извлечь из этого анализа для
сегодняшнего дня? Вроде ничего, ведь предвидение не оправдалось: мир не
стал гомогенным, революция не распространилась на весь земной
шар. Это было условие, необходимое для того, чтобы
осуществилась энтропия, предсказанная Оруэллом, и велась бесконечная,
топчущаяся на месте бредовая война. И все же кое-какое
представление об этом у нас имеется, на примере отношений Китая и СССР
в течение последних двадцати лет: то же внутреннее нагнетание
истерии, то же бессилие обеих сторон, те же бесконечные
приготовления, та же бездейственность на границах. Был и пример
краткого локального конфликта между Вьетнамом и Китаем. Две
армии с каким-то допотопным вооружением сошлись под
разнузданную пропаганду и при полной дезинформации, так что ни
китайцы, ни вьетнамцы не могли знать, что происходит на самом
деле, а весь мир задавался вопросом, в какой степени этот
конфликт реален, а не выдуман.
Но поскольку конфликт Запада и Востока не
противопоставляет две идентично мощные армии, подготовка к войне вполне
реальна, а задействованные средства должны быть эффективны и
вести к подлинным результатам. Таким образом, кое-что
ускользает от нарастающего бреда. Как бы то ни было, анализ Оруэлла
пробуждает порой эхо, которое трудно устранить. Когда он
утверждает, что руководители Океании ведут войну потому, что не
могут иначе, при этом не веря в победу, невозможно не соотнести
122
f
это с образом мысли коммунистических правителей. Г-н
Черненко тоже мог бы быть «и в курсе и не в курсе» происходящего.
Нельзя не отметить, что скептицизм Оруэлла по поводу
использования атомной бомбы примыкает к позиции Солженицына и
других диссидентов. И, наконец, мирные договора, сопровождаемые
гонкой вооружений, — это разрядка в том виде, в каком она с
успехом применялась СССР. Тут мысль Оруэлла впереди всех на
целое поколение.
5) Вечность системы
Еще ни одна власть так не заботилась о незыблемости своих
основ.
Первый способ обеспечить вечность власти — коллективизм.
Уничтожение права частной собственности означает
концентрацию собственности в руках немногих. Однако новые владельцы
образуют органы управления, а не собрание индивидов, частных
предпринимателей. Партия владеет всем, отдельные ее члены —
почти ничем. Итак, главный пункт социалистической программы
худо-бедно выполнен: собственность капиталистов
экспроприировали. Легитимность системы от этого упрочилась. Но ожидаемый
результат вылился в то, что экономическое неравенство приобрело
перманентный характер. Здесь еще «классовый» подход уводит
Оруэлла в сторону. Собственность — понятие, принадлежащее
старому миру. Конечно, экономическое неравенство существует,
но оно не регулируется количеством собственности. Партия не
является собственником в том смысле, в каком были собственниками
богачи прошлых веков. Однако Оруэлл попадает в точку,
утверждая, что уничтожение всякой собственности — одна из основ
сохранения власти в руках правящей группы, не только потому, что
делает эту группу легитимной, но и в большей степени потому, что
индивиды (даже члены партии) лишены всякой защиты от по
местного контроля со стороны партии. _
Как можно сломать систему? Извне — никак в силу ^^
мости каждой из трех держав. Изнутри тоже никак. ^^ ^
массы не восстают. «Они даже не сознают, что угне ' ти толь.
не дали возможность сравнивать». Опасность
ко изнутри правящей группы. Она может расколоться на две
конкурирующие фракции либо утратить веру в себя и позволить
развиться в своих рядах либерализму и скептицизму. «Проблема
формовки сознания направляющей группы». И не только
направляющей, но и более многочисленной исполнительной группы, которая
следует непосредственно за ней. «На сознание масс достаточно
воздействовать лишь в отрицательном плане». С тех пор, как были
написаны эти строки, диагноз подтвердился. Власть
коммунистических партий остается вне сферы досягаемости до тех пор, пока
сама партия хранит свое единство и коммунистическое сознание.
Потому-то контроль за мыслями (или иначе говоря «формовка»)
более налажена и изощрена для члена партии, чем для рядового
гражданина.
6) Структура общества
After the revolutionary period of the fifties and sixties, society
regrouped itself, as always, into High, Middle, and Low*. Речь идет о
классическом типе общественного устройства (as always) с тремя
традиционными пластами. Но вглядимся в него повнимательнее.
На вершине — Старший Брат: «Каждое достижение, каждый
успех, каждая победа, каждое научное открытие, все познания, вся
мудрость, все счастье, вся доблесть непосредственно проистекают
из его руководства и им вдохновлены».
Это может быть Сталин начала 30-х годов, Мао, Ким Ир Сен и
т.д. Однако «Старшего Брата никто не видел». Значит, это не
тиран, а некто безличный: абстрактное воплощение партии.
«Назначение его — служить фокусом для любви, страха и почитания,
чувств, которые легче обратить на отдельное лицо, чем на
организацию».
Троцкий писал в «Преданной революции»: «Сталин —
олицетворение бюрократии». Франц Неман** в «Бегемоте», написанном
«После революционного периода пятидесятых—шестидесятых годов
общество, как всегда расслоилось на высших, средних и
низших», {англ.). (Цитата из романа «1984»).
Неман Франц (1798—1895) — немецкий физик, автор работ по оптике
и специфическим температурам.
124
в 1942 году, — возможно, Оруэлл читал его, — утверждал, что
тоталитарное государство не должно рассматриваться как
Fuehrerstaat* и что «культ» — всего лишь маска, призванная
закамуфлировать понимание социо-экономического механизма. Роберт
Такер, сопоставляя эти две точки зрения, считает, что Оруэлл
ошибся: Большой Брат существует реально и на всех уровнях
государства-кошмара1. Он проявляет себя в поисках грандиозного, в
потребности быть любимым, обожаемым миллионами подданных,
в желании всегда выходить победителем. Репрессии
мотивированы любым фактом, который противостоит чудовищно
раздувшемуся мифу о Старшем Брате, который он создал о себе как о неком
непогрешимом существе. Сталин объясняет явление сталинизм,
Мао — маоизм.
В целом для Такера тоталитарный строй сводится к
исключительному случаю тирании. Нет разницы между Сталиным и Амин
Дадой, Мао и Дионисием Сиракузским, Гитлером и Нероном. Еще
больше фактов можно было бы почерпнуть у Ксенофонта и
Аристотеля.
Невозможно серьезно отрицать, что тирания не заложена в
характере Сталина, Мао, Гитлера. Сталин, в частности, с рождения
имел темперамент и набор качеств тирана: желание навязать свою
волю другим, вкус к интриганству, мстительность, удовольствие,
получаемое от того, чтобы раздавить, унизить, заставить страдать,
уничтожить как врагов, так и друзей, без разбора. У двоих других
эти черты не так заметны, зато есть другие — страсть к игре,
комедиантству, авантюрность натуры, тяга к небытию и катастрофе:
классической картине тирании.
Есть, правда, одна сложность: эти черты тиранов как будто не
составляют суть тоталитарных режимов, и если эти режимы
временно входят в соприкосновение с тиранией и она им
противостоит, то они стремятся убрать ее со своего пути. Гитлер стал
причиной поражения созданного им же государства, чуть было не сделал
то же самое и Мао. Когда умер Сталин, страна была обескровлена,
и последние проекты «тирана», возможно, опрокинули бы строй.
Для Аристотеля, который в своей классификации государственно-
1 Robert Tucker. Does Big Brother really exist? / Irving Howe ed. // Op. cit.
P. 100—101.
Фюрерское государство (нем.).
125
го устройства за основной критерий брал распределение
материальных ценностей, тираном был тот, кто монополизировал
богатство и управлял в своих собственных интересах. Таковыми не
были ни Сталин, ни Мао, ни Гитлер, не стремившиеся к богатству и
не понимавшие, что значит «частный интерес». Преданность
идеологическому проекту несовместима с понятием «интереса»
(в том материальном смысле, какой придавал ему Аристотель). Но
строй ощущал угрозу со стороны двух других проявлений
тирании: I) способности этих лидеров принимать решения
самостоятельно: произвольно либо согласно капризу, притом, что эти
решения не могли быть подвергнуты критическому анализу, что
выгодно для проекта в целом, для долговечности строя и т.д.;
2) нарциссизма, чрезмерной пропасти между главой государства и
его подчиненными, гонений на окружение. Эти черты суть
отличительные свойства личности тирана, которая становится камнем
преткновения, подлежащим устранению. А после периода
тирании тоталитарный строй заботится о том, чтобы не появился
новый тиран. И все более безличные фигуры следуют одна за другой:
какой-то полумертвец, за ним — ходячий труп, а после совсем уж
мертвое тело, о котором вообще трудно что-нибудь сказать, даже
назвать дату его смерти.
Можно ли говорить, что Оруэлл придерживался мнения
Троцкого и что Старший Брат — «олицетворение бюрократии» и
«маска, под которой партия предпочитает повернуться к миру»? Не
думаю. Марксист русской школы Троцкий в принципе отрицал «роль
личности в истории». По его мысли, руководитель государства —
некий фокус, в котором сходятся пучки огромных анонимных сил,
творящих историю, производственных сил, производственных
отношений, классов. И потому строй, основанный на этой теории,
подвержен захвату и посягательствам тирана. Но не на эту обезли-
ченность было направлено острие Оруэлла. Обезличенность
лидера не является постоянной характеристикой истории в целом;
она — продукт этого нового строя, что ведет к 1984-му. Старший
Брат мог начинать как тиран, но тирания избавлялась от
личностных черт, как это было в конечном итоге с тиранией Сталина,
Гитлера, Мао, да и оставшихся до сих пор тиранов. По мере
расширения культа, разбухания его до абсурдного бреда, он превращается
в пустой идол, манекен, лишенный какого бы ни было интереса,
126
собственного мнения, свободы и самостоятельности, в настоящую
маску, чье существование сомнительно и за которой никого нет: в
Старшего Брата.
Итак, на вершине пирамиды — Старший Брат. Под ним —
внутренняя партия, мозг государства, как пишет Оруэлл,
составляющий чуть меньше двух процентов населения. Два процента —
таково в действительности количество тех, кто в современном
СССР составляет номенклатуру и имеет доступ к благам:
магазинам, больницам, школам, развлечениям, закрытым местам
отдыха. Еще ниже — внешняя партия, «руки государства». В
коммунистических странах — это обычные члены партии, в слабой
степени привилегированные, исполнители ее воли. За ними идут
«аморфные массы», которых называют пролетариями, «пролами».
Их примерно восемьдесят пять процентов населения. Есть еще и
рабское население экваториальных территорий, которых «нельзя
считать постоянной и необходимой частью государства». Так и
тянет провести параллель между этим населением и населением
ГУЛАГа, текучим и не принимаемым в расчет. На самом деле это
перманентно существующая и необходимая государству часть
населения.
Исследуя структуру партии, Оруэлл полностью отстраняется
от социологического подхода, напрямую вытекающего из
троцкизма и отдаленно связанного с социализмом. Он выводит самое
главное: «Партия — не класс в старом смысле слова». И
поясняет: общество расслоено, причем весьма четко, и, на первый
взгляд, расслоение носит наследственный характер. Движения
вверх и вниз по социальной лестнице гораздо меньше, чем было
при капитализме даже в доиндустриальную эпоху. Пролетариям
дорога в партию закрыта. С другой стороны, партия — не
наследственный корпус. Принимают туда по результатам экзамена.
Социальной или расовой дискриминации нет. В самых верхних
эшелонах можно встретить и еврея, и негра, и индейца. Партия
«не стремится завещать власть своим детям как таковым, и если
бы не было другого способа собрать наверху самых способных,
она, не колеблясь, набрала бы целое новое поколение
руководителей в среде пролетариата...» «Суть олигархического правления
не в наследной передаче от отца к сыну, а в стойкости опреде-
127
ленного мировоззрения и образа жизни». «Партия озабочена не
тем, чтобы увековечить свою кровь, а тем, чтобы увековечить
себя». Она воспроизводит себя принятием новых членов, как
католическая церковь, которую Оруэлл ненавидел и которую
считал прообразом современных тоталитарных сообществ.
«Правители соединены не кровными узами, а приверженностью к
доктрине».
Итак, партия — не класс, поскольку не имеет социального
характера. Она напоминает секту, чей принцип — adherence to a
common doctrine .
В «1984» впервые торжественно преподносится роль
идеологии. Однако Оруэлл ничего не разъясняет нам по существу. Нам
известно, что она была унаследована от социализма, но
претерпела такие изменения, что перестала быть узнаваемой. Нам
известно, что это официальная и единственная идеология трех
сверхдержав, что имя ей — ангсоц, необольшевизм, культ смерти. Оруэлл
считает лишним ее анализировать.
Во-первых, потому что она этого не стоит. В «Скотном дворе»
была одна доктрина — скотизм. Она свелась к следующему:
«Четыре ноги хорошо, две — плохо!», что полностью отражало суть
доктрины, нисколько ее не деформируя. Эта краткая
формулировка вполне подходит и ко всем противоположным понятиям: ум —
хорошо, материя — плохо; арийцы — хорошо, евреи — плохо;
социализм — хорошо, капитализм — плохо. Ангсоц находится на том
же уровне, что скотизм: нагромождение абсурдных положений,
недостойных не то чтобы обсуждения, но даже упоминания.
Вторая причина более веская. Дело в том, что с захватом
власти на мировом уровне идеология поменяла свою природу: из нее
ушло содержание. До этого она обладала притягательностью. Это
была одна из многих доктрин, но более мощная с
интеллектуальной точки зрения, более подлинная, более научная — так, во
всяком случае, казалось. Она стала объектом дискуссии, многих
примирила. В нее верили, вера эта была созидающим источником
новой интеллектуальной и нравственной жизни. Ей были преданы,
за нее умирали. Если бы Оруэлл писал о том, как происходил
захват власти, как воцарялся новый режим, тогда он был бы обязан
«Приверженность к общей доктрине» (англ.).
128
объяснить, в чем суть этой идеологии и почему она так
притягательна.
Однако после захвата власти идеология мутирует. Она
представляет собой как бы интерпретацию событий вкупе с научным
предвидением их дальнейшего развития. Поскольку это
предвидение оказалось ложным, следует избегать какой-либо
конфронтации между идеологией и реальностью, на теоретическое изучение
которой она претендует. Лишенная содержания идеология
превращается в оболочку. Эта оболочка — умственная, речевая —
становится формой самой партии. По Аристотелю, душа — оболочка
тела, так и идеология — душа партии, наполненная учением до тех
пор, пока не произошел захват власти. После этого она остается
душой партии, ее формой, но теперь пустой. Таким образом,
тесты на принадлежность к партии или повиновение ей —
формальны. Вопрос веры в нее и принятия ее действий полностью
выхолощен. На первый план выдвигается конформизм.
7) Психологический тренинг члена партии
Психологический тренинг, потребный для того, чтобы партия
сохранила свою структуру, свое единство, свою идентичность,
никак не касается пролетарских масс. Их нечего опасаться. Им
предоставлено из поколения в поколение трудиться, плодиться,
умирать, не имея возможности бунтовать, осознав однажды, что мир и
жизнь могут быть иными. Власти безразлично, что они там
думают или не думают. Можно даже даровать им интеллектуальную
свободу, потому как интеллекта у них нет.
Таким образом, дисциплина касается только члена партии, но
зато во всем: «Небезразличен ни один его поступок. Его друзья,
его развлечения, его обращение с женой и детьми, выражение
лица, когда он наедине с собой, слова, которые он бормочет во сне,
даже характерные движения тела — все это тщательно изучается».
Он не бывает один. С рождения до смерти живет на глазах
полиции мысли.
Речь вовсе не о том, чтобы проверять его на верность учению:
ведь учения в принятом значении этого слова нет. Полиция мысли
— не инквизиция, следившая за правоверностью взглядов. Докт-
129
рины, догмы нет. Ангсоц пуст. И потому мысли или поступки,
влекущие за собой смерть, пытки, «распыление» (то есть стирание
каких-либо следов пребывания человека на земле, любого
упоминания о нем), формально не запрещены. Вообще ничто не позволено
и не запрещено в мире, где не действует закон. Пытки и смерть —
вовсе не кара за содеянное преступление, а способы «устранить
тех, кто мог бы когда-нибудь в будущем стать преступником».
Оценивается не любовь к партии, не поддержка ее идей в данный
момент, а способность ускользнуть от нее в будущем, совершить
по отношению к ней некое прегрешение. Пустая форма, которая и
есть душа партии, требует, чтобы каждый сам отыскивал ее,
соответствовал, вечно предвосхищая, ее объективной форме,
свидетельствующей, что партия здесь, а не в каком-то ином месте.
Идеологически партиец не обработан. Требования к его
убеждениям зачастую не сформулированы ясным образом. Это и
невозможно сделать, «не обнажив противоречивости, свойственной анг-
соцу». Однако можно определить, в нужном ли направлении
ориентируется партиец, по тому, как «он при всех обстоятельствах, не
задумываясь знает, какое убеждение правильно и какое чувство
желательно». Дисциплина помимо мысли распространяется на
инстинкты и рефлексы.
Три из них прежде всего подлежат дисциплинированию.
Согласно их порядку в программе тренинга это на новоязе: самостоп,
белочерный и двоемыслие.
«Самостоп означает как бы инстинктивное умение
остановиться на пороге опасной мысли». Сюда входит способность не
замечать логических ошибок, не понимать даже простейших
доводов, если они враждебны ангсоцу, испытывать отвращение от
самого хода мыслей, способного привести к ереси. Короче говоря,
самостоп означает «спасительную глупость».
Однако глупости недостаточно. Необходимо активное участие
с применением ключевого понятия белочерный. Когда дела
партии не согласуются со словами, дела должны уступить.
Белочерный означает готовность назвать черное белым, если того
требует партийная дисциплина, и сверх того — еще и верить, и даже
больше — знать, что черное — это белое, забыв, что когда-то
думал иначе. Важно именно это. Назвать — некая условная
конформистская позиция, явно недостаточная. Верить — из области
130
искреннего приятия учения, которого больше нет. Знать — это
уже из области очевидного, чего-то неоспоримого, узнанного
de visu*. Подражать партии, с ее абсолютным знанием, быть ее
частичкой — это знать, как знает она, какими бы ни были факты. Бе-
лочерное, однако, находится в зависимости от более общего и
глубокого процесса: двоемыслия.
Двоемыслие — это прежде всего систематическое расслоение
памяти. Член партии должен быть отрезан от прошлого, как и от
остального мира.
Для партии это единственный способ сохранить свою
непогрешимость. Предначертания партии не должны подвергаться
сомнениям, и отчеты, статистика подгоняются под требования
сегодняшнего дня. Партия не может сознаться в изменении политического
курса, поскольку это означает расписаться в собственной слабости.
Если сегодня Океания союзничает с Евразией, а еще вчера — с Ос-
тазией, Остазия должна считаться всегдашним врагом. И потому
история подлежит переписыванию. Ежедневная подчистка
прошлого, которой занято Министерство Правды, также необходима
для устойчивости режима, как репрессивная и шпионская работа,
выполняемая Министерством Любви. Изменчивость прошлого —
главный догмат ангсоца.
Поскольку партия контролирует исторические документы и
умы своих членов, прошлое таково, «каким его желает сделать
партия». Получается, что хотя прошлое и подлежит постоянному
пересмотру, оно неизменно, ведь какой бы ни была последняя
версия тех или иных событий, это и есть прошлое и другого быть не
могло. Партия владеет абсолютной истиной, «абсолютное же
очевидно не может быть иным, чем сейчас».
Внутренняя дисциплина члена партии состоит в том, чтобы
помнить, что события происходили, как того требует текущий
момент, и забыть, что все было иначе. Этому-то и обучаются с
помощью тренинга. Двоемыслие означает способность держаться
одновременно двух противоположных убеждений, утверждать
заведомую ложь, искренне веря в нее. Зная, что искажаешь
реальность, ты с помощью двоемыслия уверяешь себя, что она осталась
Воочию (лат. ).
131
неприкосновенна. Процесс этот должен быть сознательным, иначе
его не осуществить аккуратно, но и бессознательным тоже, иначе
возникает ощущение лжи. Даже пользуясь понятием двоемыслие,
следует прибегать к двоемыслию, ибо, пользуясь им, ты
признаешь, что мошенничаешь с действительностью. Еще один акт
двоемыслия — и ты стер это из памяти. « И так до бесконечности,
причем ложь все время на шаг впереди истины».
Двоемыслие — самое глубокое из открытий Оруэлла как
политического философа.
Роль лжи очень быстро была понята советской властью.
Булгаков, Платонов описали эту ложь 30-х годов в качестве некоего
фокуса страданий, свалившихся на людей вместе с новым
строем. Ложь непереносима в большей степени, чем подавление
личности, нищета, поскольку она порождает страх нового типа.
Человек, принужденный отрицать очевидное, противоположное
тому, что он ощущает и наблюдает, теряет жизненный ориентир и
самого себя. Он страдает раздвоением личности, параличом
воли, сопровождаемых угнетающим его стыдом. Согласно
свидетельству Солженицына, это «самый жуткий аспект» жизни при
этом строе. Все свидетели — Мандельштам, Чуковская,
Ахматова, Зиновьев — усматривали в этой безбрежной лжи самую
главную и самую непередаваемую тайну. О ней не расскажешь, к
примеру, иностранцу, тому, кто этого не пережил, и он уедет, так
ничего и не поняв.
И все же люди в мире поняли это еще до войны и до появления
Оруэлла. Чилига озаглавил свое свидетельство «Страна
обескураживающей лжи». Суварин пишет в 1938 году: «СССР — страна
лжи, абсолютной, полной. Сталин и его подданные лгут всегда и
везде, при любых обстоятельствах, и потому уже не осознают, что
лгут. А когда лжет каждый, получается, что не лжет никто. Там, где
сплошная ложь, лжи нет» '.
Эти авторы остро ощутили новую жуткую тональность. Но
подходит ли тут слово «ложь»?
Это слово означает сознательное отклонение от правды, и тот,
кто лжет, знает эту правду. Но всесильное засилье лжи
характеризует нападки не на правдивое изложение правды, но на саму прав-
Борис Суварин. Против течения. Париж, 1985. С. 339.
132
ду. Исторически эти нападки свершались дважды, а между ними
случился захват власти.
До захвата власти с идеологией приходится считаться.
Идеология имеет двойственный характер и разрушает целостность
правды постольку, поскольку разрушает целостность
действительности. В конфликте участвуют две стороны, и потому
правды две, а не одна. Правда будучи adaequatio rei et intellectus*,
раздваивается, когда речь идет о смертельном конфликте,
поскольку в этом случае есть две res**. Одна из участниц конфликта
соотносится с одной реальностью, и у нее свой взгляд на
происходящее, другая сторона, противостоящая первой, соотносится с
другой реальностью, и взгляд ее диаметрально
противоположный. Нет места общему поиску правды между тем, кто стоит на
позициях пролетариата и привержен идеям коммунизма, и тем,
кто стоит на позициях буржуазии и привержен капитализму.
Задача революционера — не переубедить, не разуверить
противника, а разрушить действительность, которая служит подспорьем
противнику, поскольку она вводит того в заблуждение, но не с
универсальной точки зрения, а с точки зрения
действительности, которой вынесен приговор исторической эволюцией. На деле
это означает бороться с капитализмом и одновременно отрывать
от него тех, кто является его бессознательным пленником в
интеллектуальном отношении, показывая ему иную
действительность, обращая его в социализм. Ему не врут, с ним говорят на
языке, кажущимся им не имеющим отношения к
действительности, поскольку они ошибаются, думая, что действительность у
них общая, когда это не так. Его приглашают переступить через
пропасть, отделяющую его от иной действительности, которая в
свою очередь тоже не является общей, но предназначена стать
таковой и, как следствие, имеет предназначение составлять
единственную подлинную действительность. Пропаганда
социализма не несет в себе кривды. Дополнительно по отношению к
защитникам капитализма может быть с маккиавеллистическим
цинизмом применена и классическая ложь, поскольку ложь —
оружие в политической схватке, которая должна окончиться по-
Адекватной вещам и уму (лат.).
** Здесь: стороны (лат.).
133
ражением «дурной» действительности и соответствующей
лжеправды.
После переворота «добрая» действительность торжествует.
Правда находится в руках партии, которая осуществила переход к
новой действительности. Больше нет капитализма, буржуев и их
идеологов. Исчез конфликт между различными правдами. Однако
действительность вовсе не такая прозрачная и послушная, как ей
полагается. Напротив, она словно ускользает, убегает, не дается, и
так и сяк уворачивается, а с нею и все те, кто не занимает
предусмотренные позиции. Соотношение сил между двумя действитель-
ностями, между двумя правдами парадоксальным образом
кажется менее выгодным, чем до переворота. Теперь вся
действительность, все люди будто перешли на враждебные позиции, тогда как
подлинная действительность и подлинная правда укрылись в
узком партийном кругу. Партия же теперь у власти и наделена всеми
возможными правами, каких и не видывали прежние правители.
Вот тут-то и начинается подлинная партийная работа, гораздо
более трудная, чем сам переворот и победа над капитализмом.
Работа эта движется по двум направлениям, так что они никогда не
пересекаются.
Действительность оказывает сопротивление? Вот как? Значит,
это «дурная» действительность. В противоположность тому, что
предполагалось, социализм не торжествует. Как говорил Ленин,
капитализм силен как никогда. Те, кого считали пролетариями, на
самом деле оказались мелкими буржуа, постоянно секретирующи-
ми капитализм. Социалистическая революция приводит к
расширению капитализма, умножению капиталистов и беспримерному
осложнению в отношениях между классами. Социализм не
наступает сам по себе, а требует построения. Есть лишь один способ это
сделать — он, кстати, применялся еще до переворота — разрушить
капитализм, расчистить место для постройки социалистического
здания. А поскольку капитализм заполнил как будто все
пространство, все становится враждебным и подлежит выкорчевыванию.
Позитивная задача партии будет отныне состоять в том, чтобы
раздробить все основы капитализма, не оставив камня на камне от
классов, наций, составлявших прежнее общество, разделаться с
собственниками и с врагами — сперва с сознательными, затем с
134
бессознательными, и под конец с потенциальными. Это по части
репрессивных органов, помещенных Оруэллом под вывеской
Министерства Любви.
Одновременно насаждаются всевозможные социалистические
структуры. Воспитание, искусство, философия, наука
направляются в нужное русло. Экономика становится социалистической.
Рождается новый человек, вырисовывается его облик. Однако эта
новая структура кажется хрупкой, временной. Вот-вот и рухнет.
Воспитание не прививается. Искусство больше напоминает ремесло,
философия — непохожа на любомудрие. Наука существует в виде
временной уступки старому миру: продолжает свое вековое
развитие и допущена в новую жизнь лишь потому, что одна способна
разрушить прежнее и поддержать народившееся.
Социалистическая экономика — фасад, за которым сосуществуют отрасли,
работающие на вооружение, и торговля — две формы экономики
досоциалистического характера, позаимствованные у общества еще
докапиталистических времен для служения социализму. Новый
человек, по словам Суварина, скрывает за маской «древнюю
гориллу». Чтобы все это не рухнуло, необходимо принуждение,
постоянное понукание, ведь если будет нерадение, социализма и след
простынет. Некоторые теологи утверждают, будто Бог удерживает
мир от распада беспрерывным созиданием, ежесекундным трудом:
так и социализм является плодом непрекращающегося труда
партии по его созиданию и тут же улетучится, если органы
Министерства Любви не будут день за днем печься о нем. Труд этот
изнурителен, он требует мобилизации всех ресурсов, всей энергии на
постройку карточного дома, чьи размеры и сложное устройство
стремятся охватить все пространство, но который рискует
разлететься в пух и прах от малейшего неловкого движения. Новая
действительность, сосредоточившись на краткий миг в партии,
начинает свой завоевательный поход до самых границ очищенного от
капитализма пространства. Но остается на поверхности, не
проникает глубоко, оставаясь артефактом. Ей не дано преосуществиться
в обычаи, не дано войти в плоть и кровь. Она еще ничтожнее: она
доказательство, сфабрикованное для поддержания новой
правды — кривды.
Переворот поставил с ног на голову отношения правды и
действительности. Прежде правда вытекала из действительности, ко-
135
торую отражала. Мир представлялся в реальном свете, как
космогония, где шла борьба между капитализмом и социализмом, и
предпочтение отдавалось социализму. Сегодня все происходит так,
словно действительность должна вытекать из некой правды, иначе
говоря, словно социализм должен родиться и укорениться в
реальности на основе собственного понимания социализма. Понимание
же социализма таково, что законность его существования
проистекает из его сущности. Реальность социализма как бы вылупится из
распространения правды о нем, воплощенной в партии.
Материальное возведение социализма подобно перечислению всех
сказуемых, сочетаемых с понятием социализма. Но ему не хватает
бытия, ведь бытие — это не сказуемое, а существительное. Все, что
связано с бытием, как показал Кант, не зависит от логического
вывода. Оно может быть задумано лишь «как понятое в контексте
всего опыта». А ведь опыт людей, живущих при социализме,
каждый миг дает им знать, что социализма нет. Для партии это
непереносимо. Легитимность партии покоится на том единственном
факте, что она привела страну к победе социализма, позволила
людям шагнуть в новый строй. Если же социализма не существует,
если действительность не соответствует той, что была
провозглашена, власть партии — чистой воды тирания, лишенное смысла
волюнтаристское подавление личности: это опасно с
политической точки зрения. Если, с другой стороны, сущность социализма
не порождает его существования, сомнение будет точить партию, а
истина, призванная подобно раствору держать все здание,
растворится. Но партия существует лишь благодаря владению общей
правдой и вскоре развалится.
Тут-то развертывается еще одно направление деятельности
партии. Первым было построение социализма. Второму предстоит
констатировать его существование. Значит, следует действовать «в
контексте любого опыта», чтобы каждый (пользуясь выражением
Канта) почувствовал себя столь же богатым с сотней возможных
талеров, как и с сотней настоящих. Министерству Правды
приходится неустанно поставлять онтологическое доказательство
существования социализма. Министерство Любви воздействовало на
людскую волю: оно готовило людей к приятию социализма.
Министерство Правды воздействует на разум: учит видеть социализм.
136
Для этого необходимо контролировать некие ориентиры,
появляющиеся у человека с приобретением опыта. Иными словами,
нужно овладеть людской памятью. Для этого информация
подается таким образом, что подданные лишены любых новостей,
касающихся «дурной» действительности, а поскольку иной не
осталось, вообще всех новостей. Не просочится ни то, что происходит
за пределами СССР, ни то, что происходит в СССР и противоречит
социализму. Не поступит сведений ни об уровне жизни, ни о
голоде, ни о преступности, ни о том, есть ли жертвы в результате
наводнения либо землетрясения. Зато подданных станут пичкать
информацией о победном шествии социализма. Им станет известно,
что чудесным образом повысился уровень их жизни, что выполнен
и перевыполнен план, что новыми людьми совершено множество
героических поступков, что побеждены неизлечимые болезни и
набирает темп движение к сияющим вершинам.
Что это? Ложь? Скорее, принятие определенной позиции по
отношению к двум конфликтующим действительностям-правдам.
У этого принятия определенной позиции есть имя — дух
партийности. Партия вынуждена действовать с позиций абсолютного
идеализма. Она вынуждена выводить реальность из теоретических
построений и понятий. Ничто не верно само по себе, но все, что
говорит партия, — верно, поскольку это приближает
действительность, которую партийная правда предвосхитила.
Есть один неоспоримый факт, и лишь им подтверждается новая
действительность: это власть партии. Последнее доказательство
вовсе не в когерентности и не в видимой очевидности идеологии.
И не в явной реализации социализма. Оно в факте власти. Отсюда
и начнется завоевание: ниже по течению — реальности, выше по
течению — правды. Власть обеспечивает переход от одной к
другой. Она — мост, краеугольный камень. Отсюда следует, что после
захвата власти проблема состоит уже не в том, чтобы убедить
людей примкнуть к идеологии, но в том, чтобы заставить их
констатировать власть, принудить согласиться с этой властью, которая
является доказательством всего остального. Принуждая белое
называть черным и черное — белым, людей заставляют делать
власть реальной. Но стоит им дать согласие, в их словах и
поступках больше нет лжи, поскольку все выводится из факта
существования власти и того, что черное есть или будет белым, поскольку
137
так решила партия власти и при этом власть не утратила. Однако
подданные сохраняют способность сопротивляться. В этом им
помогает память. Они могут сравнить то, что утверждают сегодня, с
тем, что утверждали вчера. Власть же — это бесконечное
настоящее, точка абсолюта, где сосредоточивается правда. Власть
проливает свет на прошлое и указует путь к будущему. Отсюда
необходимость ежеминутно менять прошлое, чтобы оно согласовывалось
с настоящим. Человек без памяти — пластилин. Из него можно
лепить что угодно и когда угодно. Он не способен оглянуться назад
и почувствовать, как он связан с историей, не способен сохранить
свою идентичность. Он привит на настоящее и искренне не
сожалеет ни о корнях, ни о подлинном облике. Он принимает любое
толкование настоящего, доказательством чему служит то, что он
принимает и любое толкование прошлого.
Подобное подвижничество требуется не от всех. С масс
довольно отсутствия информации. Они быстро теряют ориентиры,
не имея доступа к записанной памяти, передаваемой из поколения
в поколение. Они замкнуты в своем поколении, заперты во
временном отрезке, соответствующем продолжительности их жизни. Все,
что произошло до того, как они обрели способность регистрации
фактов в памяти, утрачено, осталось в прошлом, недоступном им.
А их собственная память забивается информацией, поступающей
из Министерства Правды. Их разум не в состоянии переработать
эту информацию, поскольку добрая часть их интеллектуальных
способностей была приведена в негодность воспитанием — как в
детстве, так и на протяжении всей жизни. Да и замена родного
языка новоязом делает невозможным осмыслить то, что не должно
быть осмыслено. Словом, система обращается с ними, как с
истуканами, и больше ничего с них не требует.
Иное дело члены партии, сторона заинтересованная. Вся
ответственность ложится на них. Они обязаны отождествлять себя с
партией, которая есть власть, истина, реальность. Этому и
призвано служить двоемыслие. Они сами должны работать над собой и
естественным образом быть заодно с предначертаниями партии,
которые уже сделаны и которые еще только грядут.
Это и есть двоемыслие! Само слово поддается двойному
толкованию. Оно может обозначать тренировку во лжи, ибо лишь во
лжи расцветает и приобретает стабильность двоемыслие. Лжец, в
138
том виде, в каком он всегда существовал и существует теперь в
мире классической политики, думает двояко: одна его мысль
отвечает ситуации, которую он знает и скрывает, другая подчинена тому,
что он хочет внушить. Ловкий враль никогда не путает эти две
мысли, но питает каждую из них таким образом, что
контролирует версию ad intra и версию ad extra*. Ловкий враль должен
развивать память, чтобы, пока врет, не забывать, какова ситуация на
самом деле. Иначе он запутается и собьется.
Упражнение в двоемыслии, о котором идет речь в романе,
совершенно противоположного свойства: требуется стереть
различие между двумя направлениями мысли, перенести акцент с
истины на ложь и считать ложь истиной. Требуется неустанно стирать
и следы самого этого действия, так, чтобы раздвоение мысли
затушевывалось, не признавалось, чтобы в каждое следующее
мгновение существовало лишь одно убеждение, то, которое озвучено
партией, и надеяться, что твои слова и в будущем совпадут с теми, что
скажет партия. У устремленного к близкому будущему,
нацеленного на настоящий момент члена партии должна отсутствовать
память. Таким образом, двоемыслие — это переходное состояние,
которое готовит простую единственную мысль. Это
психологическая подгонка, совершающаяся в нем.
Мысль ли это? И если мысль, то о чем? Каковы
взаимоотношения реального мира с мыслью, расположенной на подвижной,
мимолетной точке, с мыслью, которая не является даже отрицанием мира
как такового, которая просто не связана с ним? Такая мысль похожа
на гайку, что бешено вращается в пустоте, ни за что не цепляясь, не
встречая препятствий для своего вращения, не сдерживаемая ничем.
Такая мысль и есть настоящий «социализм», логический аутизм. Да,
но как партия с выпотрошенными мозгами может оставаться у руля?
Оруэлл ставит этот вопрос, снова и снова пытаясь понять, что
происходит в высших эшелонах партии. То, что подчиненные
получают импульсы от верхних инстанций, еще можно себе
представить. Но сами руководители, отобранные как раз благодаря их
успехам в двоемыслии, должны быть в еще большей степени
узниками, чем их подчиненные. «В нашем обществе те, кто лучше всех
осведомлен о происходящем, меньше всех способен увидеть мир
Здесь: для себя и для других (лат.).
139
таким, каков он есть. В общем, чем больше понимания, тем
сильнее иллюзии, чем умнее, тем безумнее». Это неясно. Правители
одни информированы должным образом. В то же время они же и
искажают информацию, придавая ей нужное направление, они
вырабатывают линию, отшлифовывают истину, определяющую курс.
Известно, что между собой они говорят на казенном языке,
которым владеют лучше других. Следовательно, они больше других
отравлены и в то же время облечены властью, а чтобы удержать ее,
им нужны осмысленные решения. Как это согласуется? Возможно,
и тут допускается компромисс. Они сводят систему к своей
собственной личности: они на высшей ступени идеологии, и та
дистанция, которую они цинично устанавливают между собой и этой
самой идеологией, позволяет ей выжить и получить дальнейшее
развитие. Возможно, существует и разделение ролей: правитель № 1
избирается за неспособность здраво мыслить, с одной стороны, и
с другой стороны, за способность сотрудничать с техническим
персоналом, у которого идеология отложена в сторону и приоритет
отдается реалистическому подходу к полицейской,
дипломатической и военной сфере1. На вершине требуются совместные усилия
воли к материальному разрушению, для чего необходим здравый
смысл, и воли к нравственному и умственному разрушению,
обретающей предел в безумии. Так гармонично сосуществуют друг с
другом Министерство Любви и Министерство Правды.
Глава V
Теология О'Брайена
Уинстон был на пороге открытия для себя «главного секрета»,
содержащегося в «Книге» Голдстейна. До сих пор он не узнал ни-
1 Приходится вообразить селекцию, действующую в двух направления в
поисках одного лица, который докажет, что он самый глупый и самый
смышленый. И все это в наилучшей пропорции с учетом интересов
социализма и частной товарищественности, царящей в партии. Эти две
точки зрения — социализма и товарищественности партии — не
всегда совпадают, откуда берутся конфликты и компромиссы. В конечном
счете, в интересах социализма, чтобы отобранное лицо было
«хорошим товарищем», способным мирно управлять.
140
чего нового: «прочитанное привело его знания в систему». Он
предвкушал разгадку «главной тайны». Двоемыслие, полиция
мыслей, непрекращающаяся война — все это непременные
атрибуты строя, но «под этим кроется исходный мотив,
неисследованный инстинкт, который привел сперва к захвату власти», а затем
уж и к построению всего остального. «Мотив этот
заключается...» — здесь и прервалось его чтение. Он уснул, и это счастливое
утро стало последним, за ним последовал арест.
О'Брайен, от которого он получил книгу, предал его. О'Брайен
ему внушает мысль, что он всегда знал об этом предательстве, он
соглашается с ним и задним числом утверждает, что так оно и
было. О'Брайену необходимо, чтобы отчаяние уничтожило след
былой надежды.
Уинстон оказывается в застенках Министерства Любви. Ору-
элл описывает их в соответствии с тем, что ему было известно о
Лубянке: как и там, тут невозможно догадаться, где ты, который
час, ночь или день на дворе. В «Слепящей тьме» Кёстлер описал
атмосферу тюрем ГПУ в эпоху чисток. Он же сделал
предположение, что психологического давления, логического тренинга,
толкающего коммуниста уцепиться за партию в тот момент,
когда она гноит его, достаточно, чтобы он капитулировал. Оруэлл
еще ближе подошел к сути происходящего в застенках.
Недостаточно бесконечных допросов и подспудной связи, возникающей
между узником и истязателем. Нужны пытки. Они разрешены и
в примитивной форме: удар кулаком, дубинка, и в изощренной:
электричество, уколы. Причем каждый раз человеку отпускается
доза пыток, слегка превышающая то, что, как ему кажется, он
способен вынести. «Если бы я мог спасти Джулию, удвоив свои
мучения, согласился бы я на это? Да, согласился бы», — решает
Уинстон до первого полученного им удара. Но, получив его, он
понимает, что физическая боль сильнее любого решения: «Ни за
что, ни за что на свете ты не захочешь, чтобы усилилась боль.
От боли хочешь только одного: чтобы она кончилась. Нет
ничего хуже в жизни, чем физическая боль. Перед лицом боли нет
героев».
В подвалах он встречается с некоторыми своими коллегами:
поэтом Амплфортом, которому было поручено переписать поэму
Киплинга и который оставил слово «молитва» в конце строки, по-
141
скольку не мог найти рифмы; Парсонсом, его нелепым соседом по
лестничной площадке, с энтузиазмом одобряющим свой арест:
«Конечно, я виноват! Неужели же партия арестует невиноватого,
как, по-вашему?»
«Признание было формальностью, но пытки — настоящими».
Уинстона избивают часами, до потери сознания, затем дают
прийти в себя и снова бьют. Допрос не прекращается, его держат под
ярким светом, подстраивают ему ловушки, переиначивают все, что
он говорит, убеждают его, что он лжет и противоречит сам себе:
«...делалось это лишь для того, чтобы унизить его и лишить
способности спорить и рассуждать». Признание — не главное для
истязателей, а всего лишь некий шаг, благоприятный симптом,
позволяющий судить о прогрессе, сделанном следствием. От
Уинстона «остались только рот и рука, говоривший и подписывавшая все,
что требовалось. Лишь одно его занимало: уяснить, какого
признания от него хотят».
Когда мучители сочли, что узник созрел, его передают О'Брай-
ену. Далее следуют сеансы перевоспитания в духе двоемыслия. С
помощью пыточной машины О'Брайен переделывает Уинстона,
применяя павловские методы для выработки условного рефлекса.
При этом речь ведется об его «излечении», о конце его
«умственного расстройства», выпрямлении памяти. О'Брайен заставляет
Уинстона признать, что Океания находилась и продолжает
находиться в состоянии войны с Остазией, что дважды два порой пять,
порой три, а порой и то и другое одновременно.
О'Брайен ссылается на инквизицию: та расправлялась со
своими врагами, нераскаявшимися и не желавшими отказаться от
своих убеждений или верований. Вся слава при этом доставалась
жертве, а позор падал на голову палачей. Приводит он в пример и
русских коммунистов, которые разрушали человеческое
достоинство своих жертв: «Арестованных изматывали пытками и
одиночеством и превращали в жалких, раболепных людишек, которые
признавались во всем, что им вкладывали в уста, обливали себя
грязью, сваливали вину друг на друга, хныкали и просили пощады».
Но и большевики ушли недалеко, ведь у обреченных оставалась
память.
О'Брайен — приверженец совершенной формы коммунизма —
гиперкоммунизма. «Будущее о вас никогда не услышит. Вас выдер-
142
нут из потока истории. Мы превратим вас в газ и выпустим в
стратосферу. От вас ничего не останется: ни имени в списках, ни
памяти в разуме живых людей. Вас сотрут и в прошлом и в будущем.
Будет так, как если бы вы никогда не жили на свете». Уинстона
убьют, но только тогда, когда он перестанет сопротивляться, когда
сдастся и душой и телом. О'Брайен пытается обратить его в
другую веру, завладеть его душой, переделать ее. «В вашем
восстановлении три этапа. Учеба, понимание и приятие», — говорит он.
Он не довольствуется публичной комедией обращения,
спектаклем с привлечением иностранных журналистов, как это делали
большевики в 30-е годы. Он идет дальше гулаговской практики,
предвосхищая «Северные школы» Китая. В отличие от ГУЛАГа,
где осужденного превращали в отходы, где устроили свалку
истории, на которую оступившихся выкидывали подыхать, китайские
лагеря были местом кропотливой работы, где «обучающийся»
должен был учиться, понимать, принимать, меняться внутренне.
Китайские методы почти не отличаются от методов О'Брайена, хотя
там иной декор, не такой, как на Лубянке, да и нет научного
арсенала для пыток, со шкалой и инъекциями — изобретения какого-
то садиста. Тут Оруэлл вновь экстраполирует и доводит знакомый
ему принцип до некоего логического конца, до которого еще
далеко было его современникам.
Во время перевоспитательной работы О'Брайен разговаривает
со своим подопечным. Он излагает все, что было известно самому
Оруэллу в отношении «главной загадки», или «главного секрета».
И в этот момент в романе происходит переход от социологии,
содержащейся в «Книге» Голдстейна, к философии, а в
замаскированной форме, и к теологии.
Философия, лежащая в основе социалистической системы, в
истории человеческой мысли называется идеализмом. Ее
постулат: вне сознания не существует реальности. «Говорю вам, Уин-
стон: действительность не есть нечто внешнее. Действительность
существует в человеческом сознании и больше нигде», .задача
сконцентрировать это сознание в едином месте, от которого
протянутся контролирующие нити ко всем сознаниям, подверженным
ошибкам, многозначности понимания. Это место парт .
действительность существует «только в сознании партии, в-
143
ном и бессмертном». Поскольку правда и действительность
совпадают, «то, что партия считает правдой, и есть правда».
Так, сконцентрировавшись в некой абстрактной, но
неизменной точке не подвластная ни смерти, ни каким-либо материальным
бедам мысль становится всемогущей. В голову приходит Фихте ,
если бы он сошел с ума. «Мы покорили материю, потому что мы
покорили сознание... Мы создаем законы природы». Уинстон
спорит: земля существовала до появления на ней человека, звезды —
в миллионе световых лет от нас и всегда будут недоступны!
О'Брайен отвечает: глупости! Кости вымерших животных —
выдумки биологов XIX века, а звезды — огненные крупинки в
скольких-то километрах отсюда, и если бы мы захотели, мы сумели бы
их погасить. «Нет ничего кроме человека», земля — центр
вселенной. С практической точки зрения удобнее думать, что земля
вращается вокруг Солнца. Но что из этого? «Думаете, нам не по
силам разработать двойную астрономию?» Для этого существует
двоемыслие.
О'Брайен соглашается с тем, что это солипсизм, но
«коллективный солипсизм». Это агония всевластия, паранойя, хотя и
контролируемая и обратимая, поскольку может быть отложена в сторону,
если того потребует задача политического момента. Природный
разум еще не окончательно разрушен: поле компромиссов
огромно. Чтобы удержать власть, разрешены рынок и скудные
общественные отношения, а порой проскальзывает и здравая мысль.
Однако идеалистический солипсизм делает возможной
операцию высочайшего метафизического уровня: высвобождение
времени, купирование истории. Ключ — в контроле над прошлым.
«Мы, партия, контролируем все документы и управляем
воспоминаниями. Значит, мы управляем прошлым, верно?» Партия
присваивает себе власть, превосходящую божественную: делать так,
чтобы то, что имело место, оказалось никогда не существовавшим».
Кроме того, обладая властью соединять прошлое с каждым мигом
настоящего, партия живет вне времени. Нет ни прошлого, ни
настоящего, ни будущего во временном смысле: есть лишь вечное
сегодня. Партия бессмертна. Это бессмертие она сообщает любому,
Фихте Иоганн Готлиб (1762—1814) — немецкий философ,
представитель немецкого классического идеализма. Всякая реальность, согласно
Фихте, есть продукт деятельности «я».
144
кто ей предан, жертвует своей памятью и выходит из времени.
Партия — Бог, лучше, чем Бог, она награждает своей
божественной привилегией любого, кто ее об этом просит.
Этот бог О'Брайена — двойник философского бога,
единственным атрибутом которого является власть, бог Оккама*, чье
всемогущество включает в себя и распознание, что есть добро и зло.
Или бог Беркли**, создатель нематериальной вселенной,
состоящей из чистого сознания. С этого бога берет пример партия, ему
подражает, его замещает. Наконец Уинстон добирается до
«главной загадки» всего происходящего. Ему кажется, он знает, каков
будет ответ О'Брайена: «что партия ищет власти не ради нее
самой, а ради блага большинства. Ищет власти, потому что люди в
массе своей — слабые трусливые создания, они не могут выносить
свободу, не могут смотреть в лицо правде, поэтому ими должны
править и систематически их обманывать те, кто сильнее их». Это
классический ответ, ответ Великого Инквизитора в «Братьях
Карамазовых». Но это вовсе не то, что собирается ответить ему
посмеивающийся О'Брайен. «Партия стремится к власти исключительно
ради нее самой. Нас не занимает чужое благо, нас занимает только
власть. Ни богатство, ни роскошь, ни долгая жизнь, ни счастье —
только власть, чистая власть».
О'Брайен добавляет, что у нацистов и большевиков никогда не
хватало мужества признаться в собственных побуждениях. Они
делали вид, что захватили власть на ограниченное время, а
впереди — общество свободных и равных людей. «Власть — не
средство, она — цель [...]. Цель репрессий — репрессии. Цель пытки —
пытка. Цель власти — власть». Таков ответ О'Брайена.
Вот он — секрет, главная побудительная причина: быть богом,
ибо бог — это власть, чистая власть, potentia absoluta. Члены
партии — «жрецы власти». Богатство, счастье, свобода — бренны.
Они уходят со сцены жизни с индивидом. Дать их людям —
недостаточная побудительная причина, чтобы возжелать власти и дер-
Оккам Уияльм (1285—1349) — английский философ, логик и
церковный писатель, представитель поздней схоластики. Главный
представитель номинализма своего времени.
** Беркли Джордж (1685—1753) — английский философ, представитель
субъективного идеализма. Отвергал бытие материи, призывал только
существование духовного бытия.
145
жаться за нее. Завоевать божественное право, вечность,
определять, где добро, где зло, что есть правда — вот подлинная
движущая сила партии, и она стоит того, чтобы ради нее пожертвовать
всем. Богатство и счастье меньше, чем спасение. Иметь власть, то
есть стать богом — нечто больше, чем спасение. Это боготворение
доступно всем через участие. Любой человек, «если он может
полностью, без остатка подчиниться, если он может отказаться от
себя, если он может раствориться в партии так, что он станет
партией, тогда он всемогущ и бессмертен».
Яснее не скажешь. Чтобы объяснить суть самого потаенного,
что подсказала ему его интуиция — в чем «главная тайна» —
писателю потребовалась теологическая лексика. Далекий от
догматики, прикоснувшись к тому, что он ощущает как абсолютное зло, и
испытав от этого невыразимую боль, он для описания своего
интеллектуального опыта заимствует у теологии фундаментальные
понятия. Без всяких обиняков представляет он тоталитарную
власть как узурпацию божественных прерогатив, как
демоническую функцию. В качестве «сверхспасения» предложено зло,
боготворение с помощью ада. Намерения дьявола и его подручных,
«жрецов» вроде О'Брайена — подменить подлинные
действительность и правду их действительностью и правдой. А местом
решительной стратегической битвы становится человек, его душа.
«Подлинная власть, власть, за которую мы должны сражаться день
и ночь, это власть не над предметами, а над людьми».
Этот мир — неприкрыто инфернальный. «Власть состоит в
том, чтобы причинять боль и унижать. В том, чтобы разорвать
сознание людей на куски...» О'Брайен не предлагает лжерая, как
прежние революционеры. Он гарантирует настоящий ад: «Мир
страха, предательства и мучений, мир топчущих и растоптанных,
мир, который, совершенствуясь, будет становиться не менее, а
более безжалостным. Прогресс в нашем мире будет направлен к
росту страданий. Прежние цивилизации утверждали, что они
основаны на любви и справедливости. Наша основана на ненависти. В
нашем мире не будет иных чувств, кроме страха, гнева, торжества
и самоуничижения. Все остальное мы истребим — все».
Демоническая программа направлена на все живое и испокон
веков присущее человеку. «Оргазм мы сведем на нет». «Не будет
искусства, литературы, науки». «Исчезнет любознательность». «С
146
разнообразием удовольствий мы покончим». Но всегда будет
опьянение властью, и чем дальше, тем сильнее, тем острее. И вот,
наконец, адекватный образ этого ада: «Вообразите сапог, топчущий
лицо человека — вечно». Постоянный упорный труд по
разрушению личности: это точное определение проклятия.
Кажется, здесь Оруэлл пошел дальше Соловьева. Антихрист из
«Трех разговоров» соблазнял, предлагая лжеспасение. О'Брайен
предлагает подлинный ад и не соблазняет: он мучает. Тут уж не до
фальсификации добра; выбор в пользу зла сделан с открытыми
глазами: зло выбрано за зло. Встает вопрос: почему? Почему
О'Брайен («Лицо его с опухшими подглазьями и резкими носогуб-
ными складками казалось снизу грубым и утомленным») пошел на
службу ко злу, если оно так плохо? Оттого, что дело может
выгореть и зло может победить. Речь идет о том, чтобы победить.
Разрушить уже созданный естественный мир, заменить его другим,
или, за его неимением, водрузить его на место ничто, которое
будет делом его рук, будет зависеть от его воли, — вечное ничто, и
участвовать в этой вечности — такова ставка в этой инфернальной
игре. Если зло может победить, нужно быть на стороне зла: это
хоть и отрицательное спасение, но все же какое-никакое спасение,
единственно возможное. Приняв сторону зла, можно стать
всемогущим и вечным, можно стать вровень с Богом. Это стоит того,
чтобы пройти сквозь ад.
На вопрос, страдает ли дьявол, Святой Фома* отвечает, что он
не испытывает страданий в нашем понимании, поскольку он -—
чистый разум. Но его специфическое страдание состоит в том, что
ему мешают в его вечном стремлении, чтобы того, что есть, не
было, и то, чего нет, было1. «Вас ждет крах. Что-то вас победит.
Жизнь победит», — крикнул Уинстон О'Брайену. Особая,
неповторимая тональность романа «1984» как раз и состоит в том, что в
нем торжествует чистое зло, а то, что есть, будет побеждено.
1 Summa. la. Qu. 64 а.З: «Quia dolor, secundum quod significat simplicem
actum voluntatis, nihil est aliud quam renisus voluntatis ad id quod est vel
non est. Patet autem quod daemones multa vellent non esse quae sunt et esse
quae non sunt».
Фома Аквинский (1225—1271) — средневековый философ и теолог,
основатель толеизма, пятый «учитель церкви». Основные труды
«Сумма теологии» и «Сумма против язычников».
147
Глава VI
Поражение природы
Катастрофа поразила вселенную, природу, тела, отношения
людей, и даже их речь, и само время. Чтобы дать о ней представление,
в первой части «1984» Оруэлл прибегает к романным приемам.
Социологический и философский анализ происходящего идет позже:
сперва нужно погрузить читателя в очевидность бедствия. Но роман
это не аргументы. Ощущение страха появляется оттого, что мир
таков, как он представлен, и этот ужас, исходящий от однообразия,
унылости и грязи окружающего мира, непонятен. Теперь, когда мы
вместе с Уинстоном прочли «Книгу» Годстейна, послушали О'Брай-
ена, мы можем вернуться к началу книги, к описательным главам и
попробовать понять, как преломилось все это в жизни.
С высоты Министерства Правды, пирамиды из сияющего
белого бетона, Уинстон смотрит на Лондон, представляющий собой
ужасающую картину: «Всегда тянулись вдаль эти вереницы
обветшалых домов девятнадцатого века, подпертых бревнами, с
залатанными картоном окнами, лоскутными крышами, пьяными
стенками палисадников? И эти прогалины от бомбежек, где вилась
алебастровая пыль и кипрей карабкался по грудам обломков; и
большие пустыри, где бомбы расчистили место для целой грибной
семьи убогих дощатых хибарок, похожих на курятники?»
Кто бывал на Востоке Европы, посетил Дрезден или Лейпциг,
города Польши, русскую провинцию, не удивится этому
описанию. И главное тут не бедность, ведь на земле существуют места
и победнее, хоть их и не поразило такое проклятие, главное — это
запустение и в еще большей степени всеобщее бессилие возвести
что-то новое и пригодное для жилья. Помимо устрашающих
зданий типа Министерства Правды, больше ничто не останавливает
взгляда, все остальное — лишь доживающий свой век город
прошлого века. Оруэлл первым понял разрушительную суть утопии,
стоящей у кормила власти. Замятину представлялись города из
стекла1. По Оруэллу действительность выставляет напоказ гряз-
1 Замятин (1884—1937), по мнению Михаила Геллера, служит мостом
между Соловьевым и Оруэллом. Оруэлл признался в своем долге перед
ним в рецензии на роман «We» (по-русски «Мы», по-французски «Nous
148
ные облезшие города, в которых недоедающие люди в убогих
башмаках влачат существование в домах XIX века без удобств и
пропахших капустой. Не только город, вся природа поражена недугом.
Не так ярко светит солнце, воздух испорчен тяжелым духом,
исходящим от городов. Деревья не так зелены, а цветы чахлые.
Люди разучились делать добротные вещи и удобно жить в этом
обветшавшем мире. Джин «Победа» отдает тошнотворным
маслянистым запахом. Его глотают, как лекарство. «Сколько он себя
помнил, еды никогда не было вдоволь, никогда не было целых носков
и белья, мебель всегда была обшарпанной и шаткой, комнаты —
нетоплеными, поезда в метро — переполненными, дома —
обветшалыми, хлеб — темным, кофе — гнусным, чай — редкостью,
сигареты — считанными: ничего дешевого и в достатке, кроме
синтетического джина». Всего не хватает, даже предметов первой
необходимости: то бритвенные лезвия исчезнут, то пуговицы, то
шерсть, то шнурки. Уинстон смотрит на поднос с обедом:
«жестяную миску с розовато-серым жарким, куском хлеба, кубиком сыра,
кружкой черного кофе «Победа» и одной таблеткой сахарина».
В столовой «гнутые ложки, щербатые подносы, грубые белые
кружки; все поверхности сальные, в каждой трещине грязь; и кис-
autres»), появившейся в «Трибюн» 4 января 1946 года (Collected Essays.
T. IV. Pp. 96—99). Он обращает наше внимание на многие детали,
которые вслед за романом Замятина появляются и в его романе: потеря
индивидуальности, постоянная слежка «охранников», подавление
сексуальности, преступление, заключающееся в любви, обработка
рентгеновскими лучами болезни под названием «воображение», власть «Благодетеля»
и т.д. Если Замятин и не был свидетелем непрерывной, организованной
властью нищеты, он был свидетелем физической расправы с
неугодными. В романе «Мы» население земного шара уничтожено на 95%.
Замятин был социал-демократом (большевиком) в юности, но
недолго оставался в партийных рядах. По профессии
инженер-кораблестроитель, в 1920 году он принадлежал к литературному
объединению «Серапионовы братья». В этом же году он создал роман «Мы»,
который так и не был опубликован в России. В 1932 году он смог
эмигрировать в Париж, где вскоре умер в одиночестве.
«Writing at about the time of Lenin's death, he cannot have had the
Stalin dictatorship in mind» — пишет Оруэлл. Главное сказано. То, что
было умозрительно у Соловьева — в зачаточном состоянии у Замятина.
Утопия реализовалась в жизни и в четверть века созрела, еще до того,
как к ней стал примериваться Оруэлл. О Замятине: A Soviet Heretic,
essays by Yevgeny Zamyatin / edited and translated by Mirra Ginsburg. The
University of Chicago press, 1970.
149
ловатый смешанный запах джина, скверного кофе, подливки с
медью и заношенной одежды. Всегда ли так неприятно было твоему
желудку и коже, всегда ли было это ощущение, что ты обкраден,
обделен?» Кто живал в странах народной демократии, узнает
сверхъестественный дискомфорт жизни, когда люди привыкают к
тому, что их постоянно обманывают, отделяют от реальных вещей
словно стеклянным щитом и окружают подозрительными
синтетическими вещами. Когда Джулия приносит на свидание еду,
добытую в запасниках внутренней партии, Уинстон потрясен:
настоящие сахар, хлеб, кофе, а еще баснословный напиток, имя которого
сохранилось в старых книгах — вино! Однажды Джулия просит
его отвернуться на несколько минут. Он ожидает увидеть ее голой.
«Но она была не голая. Превращение ее оказалось куда
замечательнее. Она накрасилась».
Прежде всего люди страдают физически. Уинстон ходит с
варикозной язвой над щиколоткой, которая никак не заживает. Кожа
его огрубела от плохого мыла, от тупых бритвенных лезвий,
холодной воды, жесткости и неприветливости, прямо-таки разлитых в
атмосфере. Женщины в большинстве своем некрасивы,
измождены борьбой за выживание, унижены. Их тела тверды и
неподатливы. У пролов царит гнусный разврат, партийцам рекомендовано
воздержание. Женщинам нет места в общественном укладе, где
хозяйничают угрюмость, неучтивость и раздражение. Но есть кое-
что пострашнее дебильных мужчин и никому не нужных женщин:
это те, кто посвятил свою жизнь партии. На картинках,
распространяемых по велению партии, высокие мускулистые белокурые
юноши и пышногрудые загорелые, полные жизненной силы и
беззаботности девы, а вокруг Уинстона лишь безобразные,
уродливые, низкорослые и темноволосые людишки. «Любопытно, как
размножился в министерствах жукоподобный тип: приземистые
коротконогие, очень рано полнеющие мужчины с суетливыми
движениями, толстыми непроницаемыми лицами и маленькими
глазами. Этот тип как-то особенно процветал под партийной властью».
Это было подмечено не одним Оруэллом. Солженицын в «Августе
четырнадцатого» написал великолепный пассаж о русском лице,
распространенном прежде: спокойном, широком, с окладистой
бородой и доброжелательными глазами, и сравнил его с новым
типом лица советского гражданина, преображенного угодничеством,
150
страхом, злобой1. В коммунистическом мире коммуниста узнают
по лицу. Человеческий облик претерпевает заметную мутацию.
В отношения между людьми закрались недоверие и неприязнь.
Дети злые. Во взгляде мальчугана Уинстон видит «расчетливую
жестокость, явное желание ударить или пнуть Уинстона, и он знал,
что скоро это будет ему по силам, осталось только чуть-чуть
подрасти». Но Уинстон и сам в детстве был жадным и свирепым,
словом, порядочным поросенком.
Выброшенные за борт истории люди становятся увечными. Их
память не поставляет им картин прошлого, все выцвело и
обесцветилось. Когда не за что ухватиться вокруг, очертания частной
жизни тоже размываются. Изменились названия. То, что прежде
звалось Англией, теперь зовется Взлетной полосой 1. Партийный
лозунг гласит: «Тот, кто контролирует прошлое, контролирует
будущее. Тот, кто контролирует настоящее, контролирует
прошлое». Прошлое поглощено настоящим, и, поскольку есть только
оно, его можно сравнить лишь с тем лженастоящим, которое
представляют в качестве прошлого. По прошествии двадцати лет уже
нельзя сказать: «Лучше ли жилось до революции?». Случайные
свидетели старого мира не способны сравнить одну эпоху с другой.
Они помнят множество бесполезных фактов, но то, что важно, —
вне их кругозора. Они подобны муравью, который видит мелкое и
не видит большого.
Недоступное прошлое, будущее, похожее на настоящее: ведь
это нелегко ощутить. Да позволят мне сделать здесь одно
замечание. В конце 1979 года я был в Польше. Когда приезжаешь в
Варшаву из СССР, польская столица кажется раем, царством изобилия
и свободы, едва отличным от Парижа. Но когда приезжаешь из
Парижа, Варшава почти неотличима от Москвы. Однако, говорил я
себе, чувство угнетенности и страха, которое наваливается на тебя
в Москве, можно отнести на счет неких обстоятельств: в Москве
нет или почти нет интеллектуальной жизни, как нет жизни духов-
«Август четырнадцатого», гл. 40: «...с тех пор сменился состав нашей
нации, сменились лица, и уже тех бород доверчивых, тех
дружелюбных глаз, тех неторопливых, несебялюбивых выражений уже никогда
не найдет объектив». Цит. по: А. И. Солженицын. Красное колесо.
Повествование в отмеренных сроках. Узел 1. Август четырнадцатого.
М., Военное издательство, 1993. С. 384—385.
151
ной, общественной, семейной. И всего этого вдоволь в Варшаве.
И все же общая для них глубинная тональность была той же.
Меня осенило, что это напрямую связано с понятием времени. Но не
с прошлым, как считает Оруэлл: прошлое — настоящее
более-менее присутствует в СССР. Подлинное прошлое живет в памяти
поляков и бдительно охраняется от любых посягательств. Речь идет
0 связи с будущим, точнее, с непосредственным, близким
будущим. В нормальном мире время приносит с собой и хорошее и
плохое. Приносит старость и дряхление, но и опыт, и
отдохновение. Надобно вообразить мир, в котором время приносит лишь
плохое: опустошение, усталость, а новое, неожиданное, доброе не
приходят никогда. Мир, в котором время является энтропией
чистой воды, повторением худшего, только в более мерзком варианте,
медленной, но неотвратимой деградацией. И потому работа, от
которой обычно ждешь поступления чего-то нового, свежего, в этом
мире изнуряюща, хотя работают немного. Этот мир стерилен,
бесполезен и зачастую смешон. Уинстону знакомы крайняя усталость,
сверхурочная работа, но все это ради подготовки к «двухминутке
ненависти» или переписывания архивных материалов в связи с
последними директивами Старшего Брата.
Еще одно увечье, наносимое человеку в этом мире, —
покалеченный язык. Это также связано с желанием отделить человека от
времени. Этот момент настолько важен и сам по себе и в
творчестве Оруэлла, что заслуживает специального исследования1. До
того, как написать «1984», Оруэлл много размышлял над судьбой
языка в современном мире, заполненном идеологией, и посвятил
этому исследование «Политики и английский язык» (1946). В
романе этой теме посвящена отдельная часть — приложение.
Оруэлл понял, какая связь существует между новоязом
(который сегодня повсеместно зовется казенным языком) и
политическим строем. Коллега Уинстона Сайн, корпящий над словарем
новояза, в приступе мистического энтузиазма вскрикивает:
«Революция завершится тогда, когда язык станет совершенным. Новояз —
это ангсоц, ангсоц — это новояз».
1 Такое исследование уже сделано Франсуазой Том в замечательной
докторской диссертации, которая готовится к выходу в свет под
названием: «Казенный язык».
152
Новояз — это, прежде всего особая интонация особая дикция.
Он существует прежде всего как некое звучание, а уж потом как
послание одного человека другому. Уинстон наблюдает за
бормотанием человека «без глаз», и, еще не понимая, о чем тот говорит,
уже знает, что это чистый ангсоц: говоривший выражает не то, что
заложено у него в мозгу, а просто издает звуки. Гортань его
производит нечто похожее на утиный кряк. Говорит не сам человек, а
будто бы заложенный в него механизм. Первым бунтарским
жестом Уинстона до того, как он начертал на белой странице своего
дневника первые слова, было прервать внутренний «монолог»,
подобно некоему паразиту, захвативший все его ментальное
пространство.
У новояза есть грамматика. Лексика подразделяется на три
категории. Словарь А включает в себя слова, необходимые в
повседневной жизни. Их гораздо меньше, чем в старом языке. Зато их
значение точнее, строже, все неясности и оттенки смысла
вычищены. Слова этой категории выражают лишь одно четкое понятие и
не имеют отклонений в смысловом отношении. Словарь В состоит
из слов, служащих для ангсоца. Слова этой категории наполнены
политическим смыслом, они служат для выражения энтузиазма.
Употреблять их — значит выражать свои верноподданнические
чувства по отношению к ангсоцу. Ни одно слово не является
идеологически нейтральным. Если существуют еще порой омонимы,
то синонимы изгнаны окончательно. Слова послушны неким
законам, получаются в результате прибавления суффиксов или
префиксов, а части речи (глагол, существительное, прилагательное...)
почти не изменяются. Чаще всего они слагаются (новояз, ангсоц,
двоемыслие, и т.д.) так, что теряют побочные нравственные
значения, связывавшие их со староязом и старым миром. Они все
похожи, а их употребление требует отрывистой и монотонной дикции.
Они позволяют члену партии высказать правильное суждение
«автоматически, как выпускает очередь пулемет». Вмешательство ума
при правильном пользовании словарем В не требуется: он
формируется непосредственно в гортани. Это и зоветсяречекряком.
Словарь С служит научным и техническим работникам. Необходимый
для функционирования и сохранения системы, он относится, как
черный рынок и удовольствия, к сфере компромиссов. И потому о
нем была проявлена некая забота. Различные научные и техничес-
153
кие словари разделены, каждый зарезервирован для тех, кто
специализируется в данной области. Слов, общих для всех областей и
отраслей науки и техники, нет. Самого слова «наука» не
существует. Ангсоц покрывает все его значения.
Все три словаря чрезвычайно бедны, но работа по их
дальнейшему обеднению не прекращается. «Сокращение словаря
рассматривалось как самоцель, и все слова, без которых можно обойтись,
подлежали изъятию».
Какова цель новояза! Она двойственна. С одной стороны, он
построен так, чтобы «точно, а зачастую и весьма тонко выразить
любое дозволенное значение, нужное члену партии». Это язык
власти, на котором она отдает приказы, и в то же время язык
послушания, ибо говорить на нем — подчиняться власти. С другой
стороны, и это его главная функция, он делает невозможными
любые иные течения мысли. Целые лексические пласты, группы
понятий были исключены из языка. И к ним нельзя вернуться ни с
помощью слов старого языка, забытых и запрещенных, ни с
помощью слов новояза, призванных уничтожать любую мысль, не
согласующуюся с линией партии. И хотя основной блок новояза
происходит от старояза, между ними непреодолимый барьер.
«Перевести текст со старояза на новояз было невозможно, если только
он не описывал какой-либо технический процесс или простейшее
бытовое действие или не был в оригинале идейно выдержанным
(выражаясь на новоязе — благомысленным). Практически это
означало, что ни одна книга, написанная до 1960 года, не может быть
переведена целиком. Дореволюционную литературу можно было
подвергнуть только идеологическому переводу, то есть с заменой
не только языка, но и смысла».
Эта несовместимость между двумя языками объясняется тем,
что старояз соотносится с реальным миром, а новояз — с
действительностью, навязанной идеологией. Поскольку этой
действительности не существует, новояз — совершенно фальшивый
язык, но доказать это невозможно. Не встречая препятствий в
действительности или отторжения у людей, новояз неудержимо
распространяется. Развитие его происходит по методу чистой
дедукции, и потому словарь его точен, беден и однозначен. В
пустоте, которую он заполняет, он производит много шума, тогда как
словарь его истощается и скудеет. Словарь старояза вычищен
154
властной рукой, а сохранившиеся элементы подлежат
скорейшему истреблению
Новояз, язык партии, призван обслуживать простые операции и
мысли и развивается аксиоматически. Язык обескровлен. Слова
лишены плоти. Меж ними нет сродства. Немыслима ни поэзия, ни
какая-либо маломальская метафора. Казенный язык — звучное
выражение безликими глотками не доступной познанию мысли.
Язык похож на утиный кряк, шумную тишину, лишенное смысла
бормотание.
Что же остается людям? Страх, ненависть, страдание, да и те
лишенные человеческого достоинства. Отсутствие глубины в
печали. Приземленное страдание. Кое-что все же осталось:
растительное существование, регулируемое голодом и желанием. Но
голод утоляется с помощью скверной пищи. А желание — предмет
гонения в рамках оголтелой кампании по искоренению секса. Цель
партии — лишить половой акт какого-либо удовольствия. И
врагом ее является не столько любовь, ставшая невозможной,
подобно любому другому виду высшей деятельности человека, сколько
эротика. Торговля секс-услугами рассматривается как нечто
отвратительное. «Партия стремилась убить половой инстинкт, а раз
убить нельзя, то хотя бы извратить и запачкать». Для пролов
имелись проститутки. Для членов партии — антиполовой союз и
тренинг во фригидности. Кэтрин, жена Уинстона, стоило только
прикоснуться к ней, вздрагивала и цепенела. Занимая незначительный
пост, Уинстон мог без особого риска посещать проституток, но
при условии, что не испытывал от этого удовольствия. Разврат
позволен, получение удовольствия — нет.
Возможно ли организовать жизнь в Океании из некоего
объединяющего все стороны центра? Повторим, чего там лишены люди:
красоты природы, сносного жилья, качественной еды в достатке,
дружбы, любви, личной жизни, вежливости, памяти, опыта
прошлых поколений, родного языка, привязанностей, удовольствий.
Там все делается для того, чтобы оторвать человека от земли и от
его естества. Если попытаться назвать это одним словом, то,
пожалуй, это радикальный спиритуализм, или радикальный идеализм,
согласно философской аксиоме О'Брайена. Ни то ни другое не
отвечает человеческим чаяниям: то, что уцелело в человеке, ищет
155
выхода, применения, воплощения. Даже в партии закрывают глаза
на стремление к удовольствию. Будет ли принуждением по
отношению к мысли Оруэлла, если, последовав за ним и продолжив его
размышления, назвать это непосредственной властью дьявола?
Обязательная для всех жителей Океании мистика и впрямь не
человеческой, а ангельской, то бишь дьявольской природы. И
потому-то новояз стремится к совершенству, моделируя себя на основе
операций чистой мысли, наиболее близкой к понятиям. Потому-то
изгнано все то, что доставляет удовольствие телу. Потому-то
потеряло свой смысл понятие личного интереса: партию не заботят ни
интересы подданных, ни свои собственные. Самой близкой к этой
мистике является мистика чистой любви. Но поскольку под
непосредственной властью дьявола все претерпевает полное
извращение, так же как язык превращается сперва в ложь, затем в абсурд,
а потом в кряканье, так же и чистая любовь оборачивается
мистикой чистой ненависти. И та и другая не стремятся к какой-либо
выгоде, не преследуют никаких интересов. Срывая маску с
толстовского князя — Антихриста, Соловьев прозрел то же самое.
То, что было предчувствием и умозрением у Соловьева, у
Оруэлла превращается в ужас и террор, поскольку он знает: где-то на
земле это уже начало воплощаться в жизнь.
Глава VII
Проклятие Уинстона
Благодаря молодой женщине Уинстон Смит, член внешней
партии, опустошенный морально и физически, в несколько недель
обретает любовь, ум, память, связь с природой, но все это лишь до
определенного момента. Знакомство с Джулией, которую он
считал холодной и несгибаемой, членом антиполового союза,
происходит вследствие внезапно вспыхнувшего запрещенного чувства
сострадания. Они встретились в коридоре, у нее была перевязана
рука, она упала. И хотя она враг, однако «в тот миг, когда она
упала на перевязанную руку, он сам как будто почувствовал боль».
Через несколько дней она сунула ему записку, в которой не
устоявшимся почерком было написано: «Я вас люблю». Но как и где
156
встретиться наедине, поговорить, прикоснуться друг к другу,
когда вся жизнь организована так, чтобы это было невозможно?
Джулия назначает ему свидание в отдаленном пригороде. Следует
идиллия на природе. Уинстон разглядывает цветы, деревья, птиц,
тело Джулии, он потрясен. Желание, толкающее их друг к другу,
преступно, они это знают и радуются. «А нынче не может быть ни
чистой любви, ни чистого вожделения. Нет чистых чувств, все
смешаны со страхом и ненавистью. Их любовные объятия были
боем, а завершение — победой. Это был удар по партии. Это был
политический акт».
Уинстон захвачен непосредственностью Джулии. Она радуется
каждому дню, не противится естественному влечению. Не
задумываясь, похищает во внутренней партии настоящие кофе и шоколад,
а главное — знает, где можно укрыться от всевидящего ока партии.
Она в большей степени презирает партию, чем ненавидит, а в еще
большей игнорирует ее и старается забыть о ее существовании.
«Книга» Голдстейна не вызывает в ней ни малейшего
любопытства. Дотрагиваясь до Джулии, Уинстон испытывает, каково
подлинное настоящее, а не то вечно лживое настоящее, в котором ему
приходится жить, каков каждый непосредственный миг бытия.
Обретя настоящее, он начинает прозревать значение прошлого —
подлинного прошлого. В комнате, которую им удалось снять в
пролетарском квартале у старьевщика (позже окажется, что он
является агентом полиции мысли), некоторые предметы напоминают об
исчезнувшем мире, как, например, стеклянное пресс-папье —
маленький осколок истории, который забыли сфальсифицировать,
послание столетней давности для того, кто умеет читать.
Ностальгию в душе Уинстона будит и старинная считалка, от которой в
памяти остались лишь четыре строчки:
Апельсинчики, как мед,
В колокол Сент-Клемент бьет.
И звонит Сент-Мартин:
Отдавай мне фартинг!
Вышедшие из употребления слова, исчезнувшие места. Эти
строчки ценны особой аурой, отсылающей к иным временам,
поэтичностью. Это противоядие от новояза. Но поскольку зло всегда
157
сильнее добра, именно антиквар-шпион учит его этой считалке, а
О'Брайен позже досказывает последние строчки:
И Олд-Бейли ох сердит:
Возвращай должок! — гудит.
Все верну с получки! — хнычет
Колокольный звон Шордитча.
Уинстон заново обретает ум: О'Брайен дал ему «Книгу», он
изучает ее, получая теоретическое подтверждение тому, что
смутно ощущал. У него появляется надежда, он готов к борьбе.
Надеется он на пролов, на будущий бунт бедняков. Под руководством
О'Брайена он вступает в тайное общество «Братство».
Теперь ему не так страшно жить. Он верит в свой разум:
«Свобода — это возможность сказать, что дважды два — четыре». Он
верует в свой внутренний мир, где хранит любовь. «Они не могут
в тебя влезть», — говорит ему Джулия. Они не могут сделать так,
чтобы он перестал любить Джулию. Появляется цель — не
остаться в конце концов в живых, а остаться человеком, и это кажется
возможным. В этот момент они и арестовывают их с Джулией.
После многих месяцев истязаний, после метафизического спора
с О'Брайеном, тот бросает Уинстону: «Вы полагаете, что вы
морально выше нас, лживых и жестоких? — Да, считаю, что я выше вас».
Это поворотная точка. До сих пор Уинстон капитулировал, но с
намерением оставить неприкосновенной свою человеческую суть,
какой бы мизерной она ни была. Он выставлял для них своего
двойника. О'Брайен берется за этот человеческий мизер
по-другому, иными методами. Его цель — убедить Уинстона, что он
заинтересованное лицо в великом люциферовом проекте и заставить
его по доброй воле принять в нем участие.
О'Брайен начинает с того, что напоминает Уинстону, под чем он
подписался, вступая в «Братство». Включает запись их разговора.
Уинстон обязался лгать, грабить, убивать, сжигать кислотой
детские лица и т.д. Нравственное превосходство Уинстона весьма
призрачно. Но главное для О'Брайена лишить узника последней капли
человечности, которую Уинстон пытается защитить и отстоять.
«Вы последний человек. Вы хранитель человеческого духа.
Вы должны увидеть себя в натуральную величину. Разденьтесь».
158
Уинстон созерцает себя в зеркале: «Из зеркала к нему шло что-то
согнутое, серого цвета, скелетообразное. Существо это пугало
даже не тем, что Уинстон признал в нем себя, а одним своим видом.
Он подошел ближе к зеркалу. Казалось, что он выставил лицо
вперед, — так он был согнут. Измученное лицо арестанта с
шишковатым лбом, лысый череп, загнутый нос и словно разбитые скулы,
дикий, настороженный взгляд. Щеки изрезаны морщинами, рот
запал». Описание его физического облика растягивается на три
страницы: тут и колени, что толще бедер, и грязь, и раны, и
выпадающие зубы. Ну прямо-таки узник Освенцима или Колымы. «Вы
гниете заживо, — говорит О'Брайен. — Видите, кто на вас
смотрит? Это — последний человек. Если вы человек — таково
человечество».
Уинстона били, ломали, он валялся в собственной рвоте,
канючил о пощаде. Предал всех, во всем сознался. «Как, по-вашему,
может ли человек дойти до большего падения, чем вы? — Я не
предал Джулию!» Хотя, скорее, предал: ведь он рассказал им все, что
о ней знал, в мельчайших подробностях описал их встречи, все,
что они говорили друг другу, их ужины с едой, купленной на
черном рынке, их невнятный заговор против партии. Но О'Брайен
понимает, что Уинстон имеет в виду, говоря, что не предал Джулию:
его чувства к ней остались прежними.
И перевоспитание начинается заново. Оно затянется на годы,
методы будут изменены. Уинстона больше не истязают. Он
упражняется в интеллектуальной капитуляции, постигает глубинный смысл
лозунгов: «Свобода — это рабство», «Дважды два — пять», «Бог —
это власть». Упражняется в самостопе, белочерном и двоемыслии и
вскоре становится виртуозом, хотя цель упражнений — тренировка
не ума, а глупости, а это столь же труднодостижимо.
Уинстон убежден, что искренне перевоспитался. Но вот во сне
он видит пейзаж, залитый солнцем, и, к своему ужасу, слышит
свой крик: «Джулия, моя любимая!» Все приходится начинать
заново. Он любит Джулию, ненавидит партию: ничего не помогло.
Они могут расстрелять его: умереть, ненавидя их, — вот свобода!
В дело опять вступает О'Брайен. Отмечает успехи Уинстона,
только в области чувств видит заминку. Слушаться Старшего
Брата недостаточно. Нужно его любить. «В комнату сто один», —
отдает он распоряжение.
159
Что это за комната? Никто не знает. Уинстон становится
свидетелем, как один узник вопит от ужаса, обещает выдать всех и вся,
перерезать глотку жене и детям, лишь бы не оказаться в этой
комнате О'Брайен бросает: мол, все знают, что там — «то, что хуже всего
на свете». У каждого человека свое представление о самом
страшном, и то, что хуже всего на свете, — разное для разных людей.
Это то, чего нельзя вынести, застарелый ужас перед чем-то,
залегший издавна в душу вместе с отвращением и непереносимым
физическим страданием. Для Уинстона это крысы. В последний
миг он понимает, что есть один-единственный путь к спасению —
поставить между собой и крысами другого человека. «Есть только
один человек, на которого он может перевалить свое наказание».
Он исступленно кричит: «Отдайте им Джулию! Не меня! Джулию!
Мне все равно, что вы с ней сделаете».
Далее происходит падение, что сродни падению ангела через
все мироздание: «Он проваливался сквозь пол, сквозь стены
здания, сквозь землю, сквозь океаны, сквозь атмосферу, в космос, в
междузвездные бездны — все дальше, прочь, прочь от крыс».
Уинстона выпустили, он сидит за столиком кафе, потягивая
отвратительное пойло — джин «Победа», отдающий гвоздикой с
сахарином. Рыгает. «Он располнел [...] черты лица у него огрубели,
нос и скулы сделались шершавыми и красными, даже лысая
голова приобрела яркий розовый оттенок». Однажды он встречает
Джулию. Она тоже переменилась, хотя и непонятно, в чем эта
перемена заключается. При одной мысли о том, что можно любить
друг друга, у него мурашки ползут по спине. Талия у нее стала
толще, отвердела. Тело ее напоминает ему труп, словно оно каменное,
а не человеческое. Из громкоговорителя доносятся последние
известия, наполняя затуманенный мозг Уинстона энтузиазмом. Он с
умилением смотрит на огромный портрет Старшего Брата. Борьба
окончена. Он любит Старшего Брата1.
Последнюю фразу можно воспринимать как гиперболу. Есть
метафизическое препятствие к тому, чтобы Уинстон полюбил Старшего Брата.
Видимо, это все же не любовь, которую может испытывать свободный
человек, а рефлексы, имитирующие любовь, но не являющиеся ею.
Поражение Уинстона оканчивается с его смертью или с его духовным
разрушением: это живой труп, как и Джулия. Тут предел триумфу зла.
Оруэллу остается перешагнуть и его.
160
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СОЛОВЬЕВ И ОРУЭЛЛ
Соловьева и Оруэлла ничто не роднит. Разные страны, разные
эпохи, разные идеи. Один — русский философ конца XIX века,
почти незнакомый миру, другой — прославленный на весь мир
английский писатель середины XX века. Один — теолог, другой
агностик. Единственная причина, по которой я объединил их под
одной обложкой, — это исключительно живое чувство, что обоих
волновала проблема зла, зла в истории, неизбежного зла.
Комментируя их книги, их взгляды на мир, я шел как был двумя путями,
казавшимися параллельными, то есть не пересекающимися.
И все же в диалоге Уинстона и О'Брайена четко
вырисовывается силуэт одного персонажа, который фигурировал и в «Трех
разговорах», где он был опознан и назван. Это дьявол. Тем не менее
этого недостаточно, чтобы перебросить между этими авторами
мостик. Дьявол повсеместно присутствует в литературе двух
последних веков, особенно в русской и английской литературах.
Дьявол и его разновидности известны всем или почти всем религиям.
Один из героев Достоевского заявляет, что многие из тех, кто
верит в беса, не веря в Бога. Но дьявол — не объект веры, хоть от
него никуда и не деться. Если он становится объектом веры, к нему
привязываешься. О'Брайен верит в дьявола и от его имени
обращает Уинстона. После этого Уинстон прозябает в неживом
состоянии, в полнейшем безразличии и к жизни, и к смерти: он в аду.
И все же один эпизод романа позволяет поставить этих авторов
рядом. Речь не идет об общности взглядов или веры: напротив,
Оруэлл и Соловьев рассказывают о противоположных вещах,
ведущих к противоположным результатам. Но их рассказы
построены по одной схеме и, противостоя друг другу, тем не менее
симметричны. Эпизод, который я имею в виду, - это по^едняя битва>
Г' „оttqv Министерства Любви. Если чи-
которую ведет Уинстон в подвалах минт, ^у
161
таешь внимательно, то тебе открывается: он построен на манер
страстей Господних.
Страсти Господни — это смертельная битва со злом, чей исход
важен для очень многих, и сосредоточение этой битвы на
личности одного человека, от победы или поражения которого зависит,
каким будет мир в течение долгого времени. Уинстон, этот
«последний человек», как называет его О'Брайен, — центральная
фигура этой битвы. Его поражение знаменует победу дьявола. Как
лапидарно заявляет О'Брайен — наш приказ: Ты есть. Если Уинстон
уступит, дьявол докажет свою созидательную силу, не меньшую,
чем у Бога. Будет положено начало антисотворению мира. Таким
образом, Уинстон занимает в романе Оруэлла положение сродни
положению Христа.
Вот отчего до тех пор, пока не будет разыграна вся партия,
изувеченное тело «последнего человека» представлено не толпе —
ведь он последний, — а самому себе в зеркале. Оруэлл пишет нам
в подробностях при самом ужасающем освещении, которое и не
снилось ни одному художнику, полотно «Ессе Homo»*.
Но как же слаб этот «последний человек»! Он заживо гниет. Он
не верит в Бога, на что ему указывает О'Брайен, не верит в
Христа, о котором он никогда не слыхал и чье имя ни разу не
упомянуто в романе1. Злой с детства, деградировавший от жизни в
Океании, участвующий в грязных партийных делах, некрасивый,
потрепанный, утомленный задолго до последнего выпавшего ему
испытания, — таков защитник человеческой природы. Он не
добродетелен. Теологи утверждают, что вера — излечение ума,
надежда — излечение памяти, милосердие — излечение воли. Но в Уин-
стоне ум в корне разрушен технологией двоемыслия и подавления
1 Оруэлл исходит из того, что строй Океании расправился с религией.
Ему не пришло в голову, что строй мог использовать ее, приспособив
под свои нужды. В то время, когда писался роман, именно к этой
политике в отношении религии склонялся, — правда не без колебаний, —
советский строй. Во время второй мировой войны это уже было
опробовано властями СССР, в 1917—1941 годах применявшими тактику
подавления религии. Со времени выхода романа новая тактика
получила развитие, что придает интуитивным догадкам Соловьева
актуальность и является еще одной причиной, почему можно говорить о нем и
об Оруэлле в одном контексте.
«Се человек!» (лат.) — слова Пилата о Христе, которого он после
допроса и истязания вывел перед толпой. — Ев. от Иоанна. XIX. 5.
162
истины. У надежды нет шансов возникнуть, поскольку
уничтожена память. Остается сострадание, иначе — воля к добру или, как
минимум, желание добра. Кажется, это невозможно искоренить в
нем. Уинстон испытал жалость к девушке с перевязанной рукой, и
этот порыв положил начало его духовному высвобождению.
Следуя ему, Уинстон почти сразу стал обретать и свое тело, и душу, и
внешний мир. Согласно древним поверьям, женщина —
посредница между человеком и Богом, способная управлять путями добра.
Но все против их чувства. Любовь разрушена давно, и начальный
порыв превращается в последнюю возможность.
Но как же Уинстону сохранить в себе человека? Только
доказав, что он способен на безграничное милосердие, на которое ни
один мужчина даже в расцвете физических сил не способен. Ему
назначена «комната сто один» с самым страшным испытанием.
Кто способен пережить это? Кто не завопит в последнюю минуту:
«Отдайте им Джулию! Не меня!» О'Брайен еще раз убедился в
своей правоте. Уинстон получил по заслугам. Каков Уинстон —
таково человечество. Испытание окончилось. Зло сильнее, нужно
служить ему. Дьявол выиграл процесс, зло оправдано.
Апокалипсис можно рассматривать как род обучения в
процессе решительного испытания, выпавшего человечеству под конец
истории. Это испытание состоит не в том, чтобы разгадать тайну,
завладеть чащей Грааля* или отыскать талисман. Оно не носит
характера посвящения в таинство. Оно — из области нравственной:
требуется различить добро и зло и сделать выбор. В этом смысле
«1984» является частью апокалиптической литературы, с тем же
правом, что и «Три разговора».
Сюжеты и конец произведений двух авторов различны. В «Трех
разговорах» антихрист правит с помощью убеждения, связывая по
рукам и ногам людскую волю. Почти никто не в силах устоять
перед ложью, но все же немало и тех, кто выдерживает и образует
христианскую церковь и синагогу. Спасение приходит от постоян-
Чаша Грааля, или Святой Грааль — чаша, якобы служившая Христу во
время Вечери и в которую Иосиф Аримафейский собрал кровь Христа,
пролившуюся, когда того ранил центурион. Поискам чаши посвящены
многие рыцарские романы: Кретьена де Труа, Робера де Борона и
Вольфрама фон Эхенбаха, вдохновившего Вагнера на создание «Пар-
сифаля».
163
но призываемого Бога, и этот всепобедительный, держащий свои
обещания Бог вмешивается в земные дела. В «1984» предложено
невероятное зрелище прямой власти дьявола. Дьяволу более ни к
чему маскироваться перед людьми. Он намерен сломить их.
Остается последний: Уинстон, самый слабый из всех.
Апокалипсис по Оруэллу соответствует протестантской
версии, суть которой в общих чертах в том, что человек бессилен
достичь спасения. Оруэлл испытал это на своей шкуре, затерявшись
однажды среди клошаров Лондона и Парижа, а затем,
отправившись сражаться в Испанию. Несмотря на свою верность
социалистическим идеям, он, как и Уинстон, понял, что от пролетариев
ждать нечего. Трудно найти более антипелагистское*
произведение, чем «1984», в котором человеческая натура предстает
окончательно испорченной. Это апокалипсис sola gratia**. Поскольку
милости не хватает, это апокалипсис от противного, теологически
неоспоримый, противоположный библейскому апокалипсису.
У русского мыслителя и английского писателя есть и общее:
инстинктивное презрение к спиритуализму, сбивающему людей с
пути, по которому они могут спокойно, разумно идти навстречу
добру. Соловьев и Оруэлл стремятся к реальному, которое
открывается лишь в отказе от возвышенного и при смиренном взгляде на
то, что человеку по силам. Накануне смерти оба восхищаются
простыми вещами, обычным, но настоящим миром, где возможны
удовольствия, дружба, работа, игра — миром, в котором Генерал,
политический деятель находят себе применение и где Уинстон
напевает себе под нос:
Апельсинчики, как мед...
Пелагит (360—422) — британский монах, еретик, чья доктрина
отрицала необходимость благодати. Был осужден Римом. — Прим. перев.
** Из милости (лат.).
164
ОБ АВТОРЕ
Ален Безансон родился в Париже в 1932 году. Окончил
Сорбонну и Политехническую школу. Известный французский ученый,
профессор Высшей Школы Общественных наук, член
Французской Академии. Человек энциклопедически образованный, он
отличается широчайшим кругом интересов. Вероятно, именно
поэтому трудно одним словом определить его профессию. Историк? Да.
Но и философ, и политолог, и советолог, и искусствовед... Но
никогда не дилетант. То, чем он интересуется в данное время, он изучает
досконально и в каждой области знания достигает высочайшего
профессионализма. Его книги посвящены истории общественного
сознания, социальной психологии, России XVIII—XX вв. В них
свободное движение мысли, стилистическое изящество и
оригинальность формулировок не мешают политической актуальности, и
потому его работы представляют интерес для самого широкого
круга читателей.
Издательство «МИК» выпустило в свет следующие
произведения Алена Безансона:
«Интеллектуальные истоки ленинизма»
«Советское настоящее и русское прошлое». Сборник статей
«Убиенный царевич: Русская культура и национальное
сознание: закон и его нарушение»
«Запретный образ: Интеллектуальная история иконоборчества»
«Бедствие века: Коммунизм, нацизм и уникальность катастрофы»
«Возможно ли включить Россию в мировое устройство?»
Сборник статей
165
ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение. Чувство зла в XX веке 5
Часть первая. СОЛОВЬЕВ, или ИЗВРАЩЕНИЕ ДОБРА
Глава I. В салоне 11
Глава И. Толстоевщина 21
Глава III. Терзания Соловьева 38
Глава IV. Защита природы: война 52
Глава V. Защита природы: политическое обоснование 56
Глава VI. Защита природы: религиозное самозванство 61
Глава VII. Извращение добра 67
Глава VIII. Важность истинной веры 76
Часть вторая. ОРУЭЛЛ, или ОПРАВДАНИЕ ЗЛА
Глава I. Эрик Блэр 82
Глава II. Литературный жанр 91
Глава III. Коммунизм 96
Глава IV. Социология Голдстейна 114
Глава V. Теология О'Брайена 140
Глава VI. Поражение природы 148
Глава VII. Проклятие Уинстона 156
Заключение. Соловьев и Оруэлл 161
166
Ален Безансон
ИЗВРАЩЕНИЕ ДОБРА:
Соловьев и Оруэлл
Перевод Наталии Кисловой (введение и первая часть)
и Татьяны Чугуновой (вторая часть и заключение)
Корректор Наталья Пузанова
Оформление обложки Дмитрия Манохина
Оригинал-макет подготовил Константин Федоров
Сдано в набор 6.09.2002. Подписано в печать 11.11.2002
Формат 60x90/16. Бумага офсетная. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 10,5. Тираж 3000 экз. Заказ № 103
Отпечатанно в «ЗАО Академический печатный дом»
127550, г. Москва, ул. Прянишникова, 2а
Издательство «МИК»
Москва, ул. Б. Переяславская, д. 15, кв. 52.
Изд. лиц. № 060412 от 14 января 1997 г.