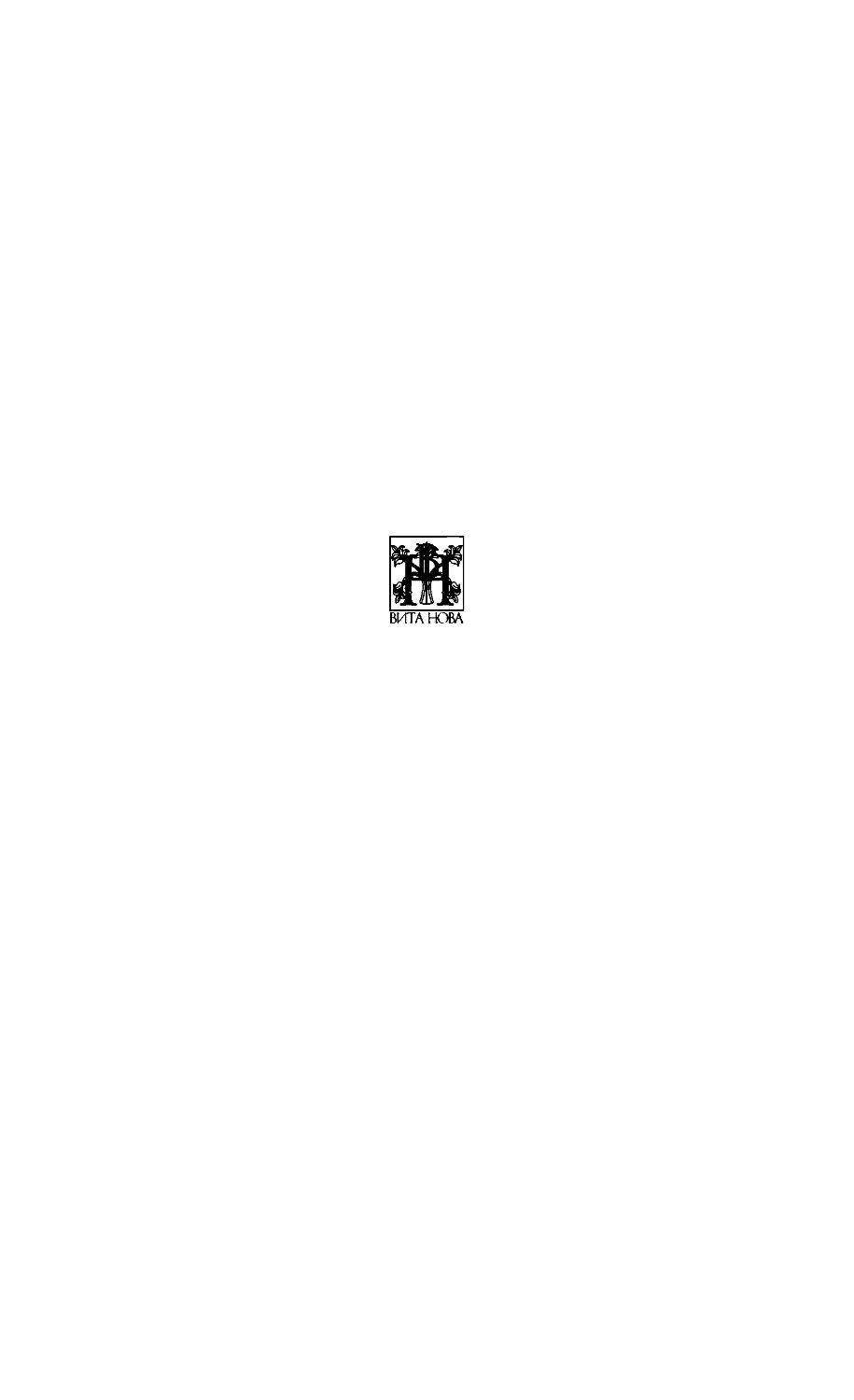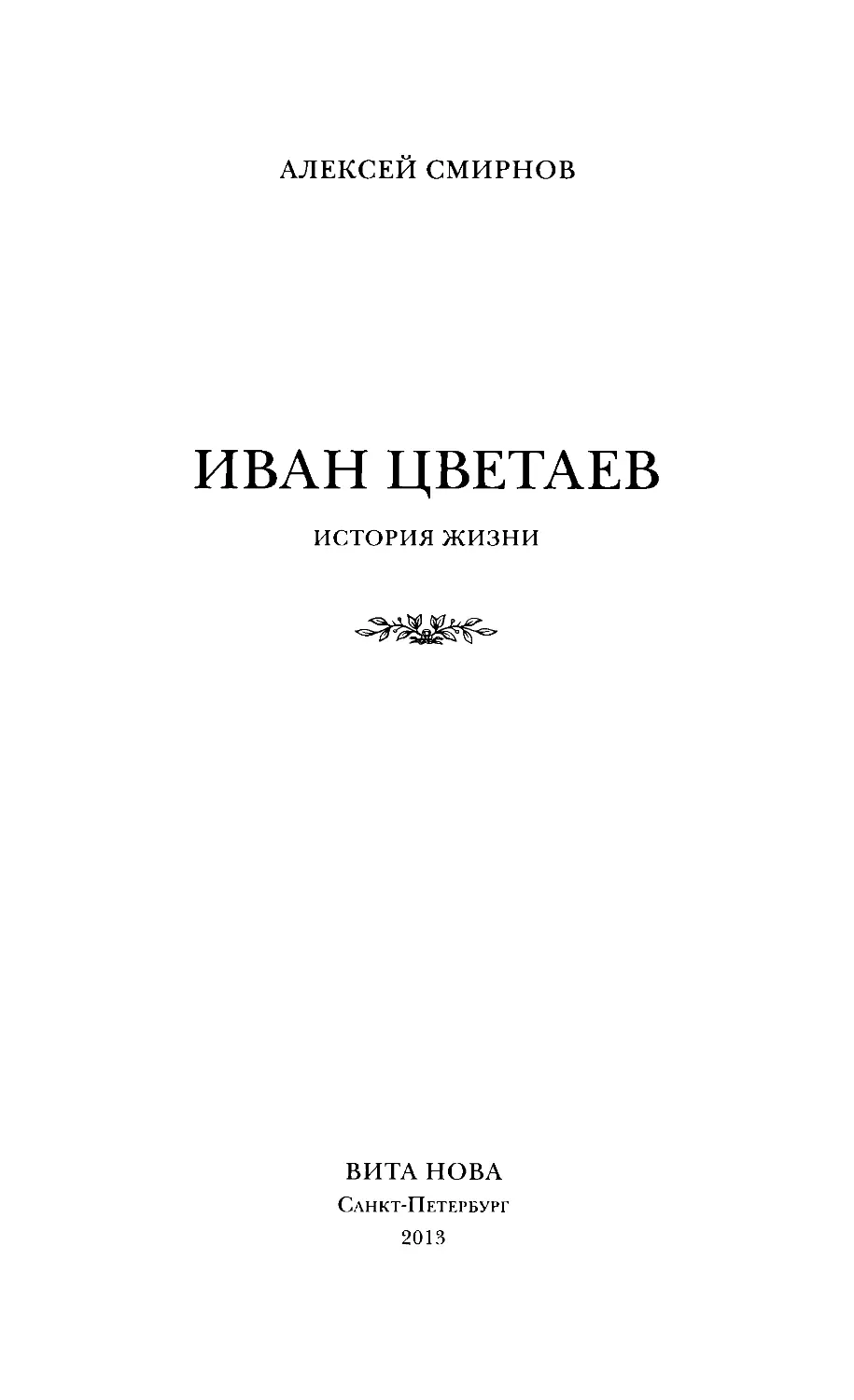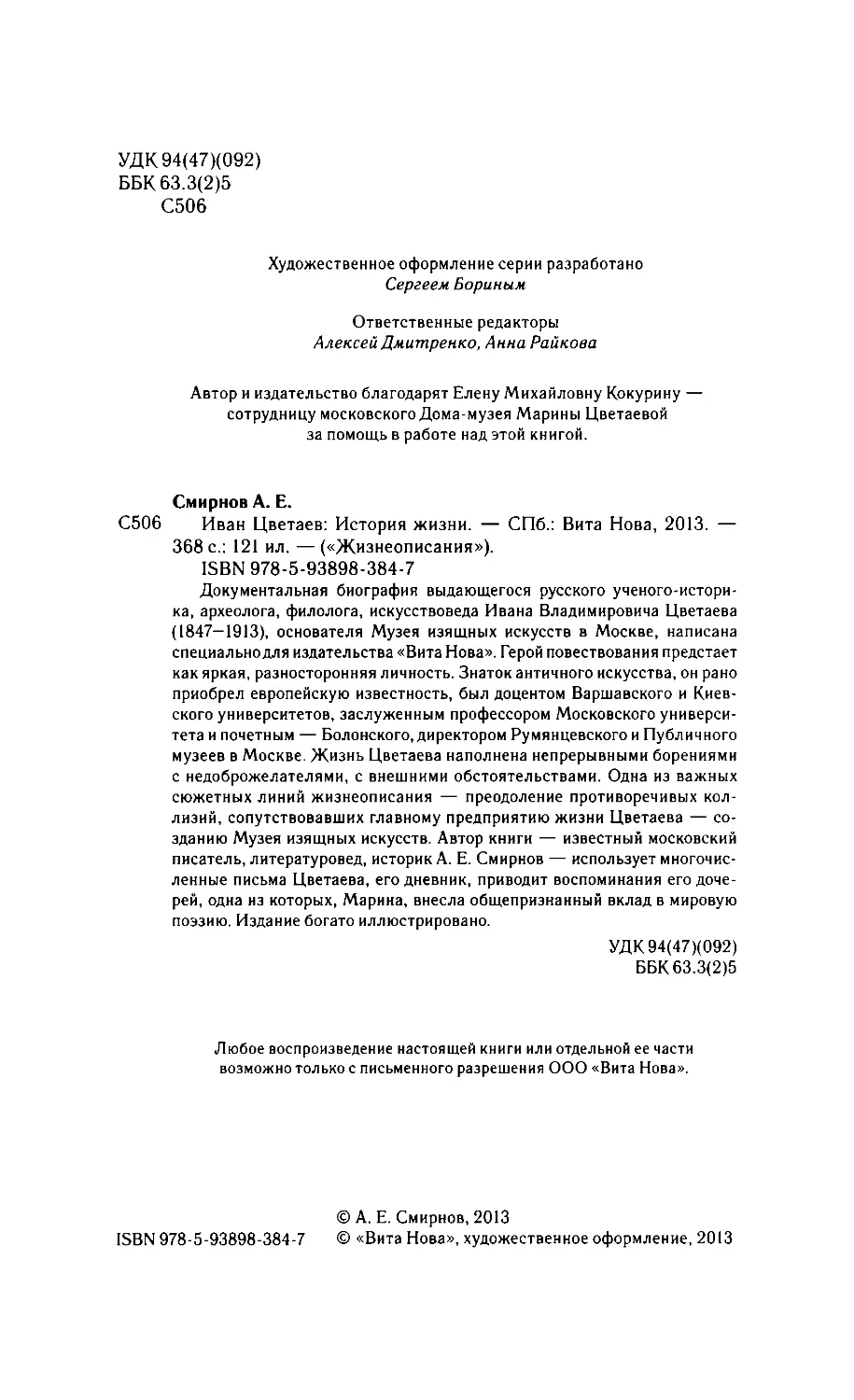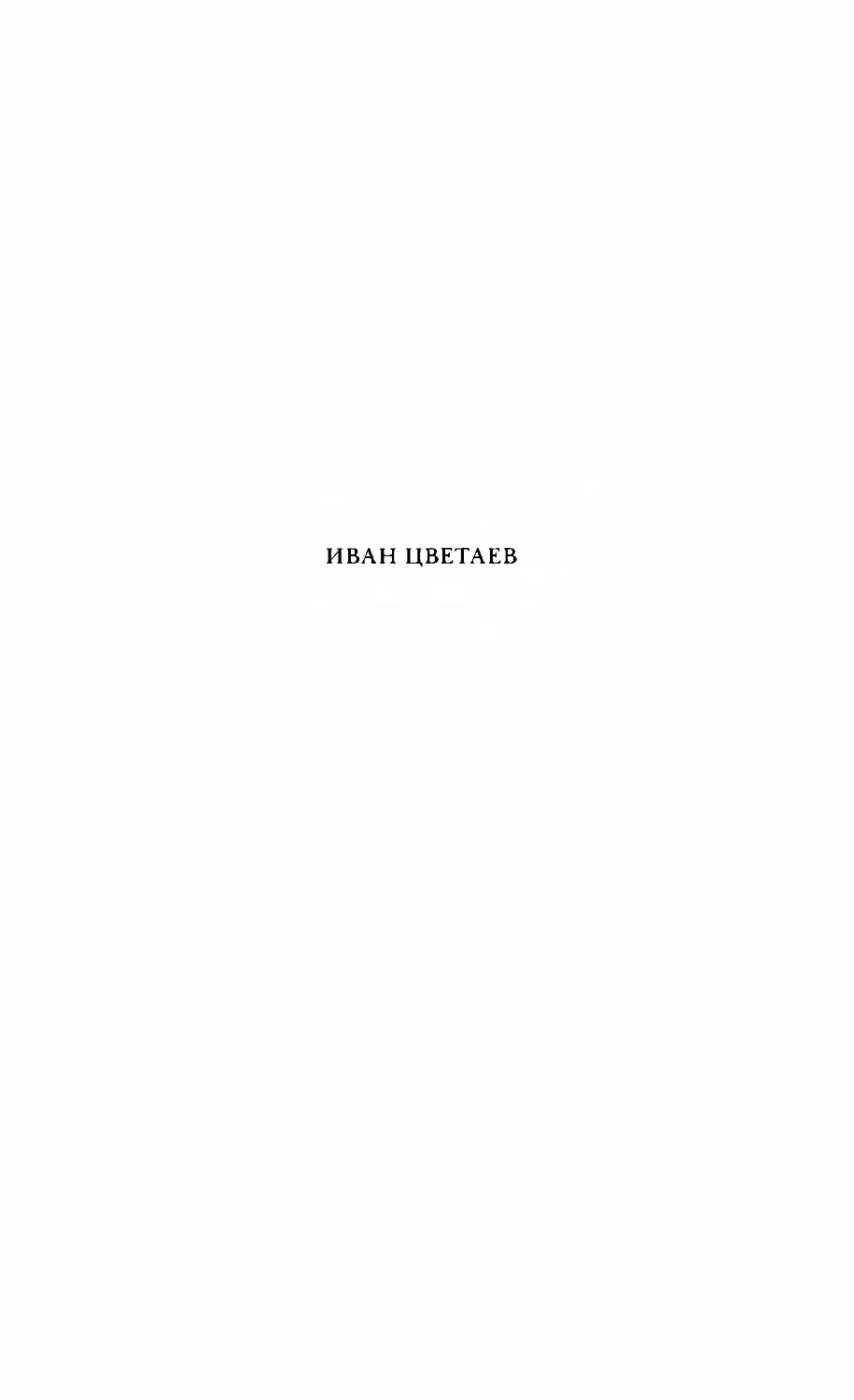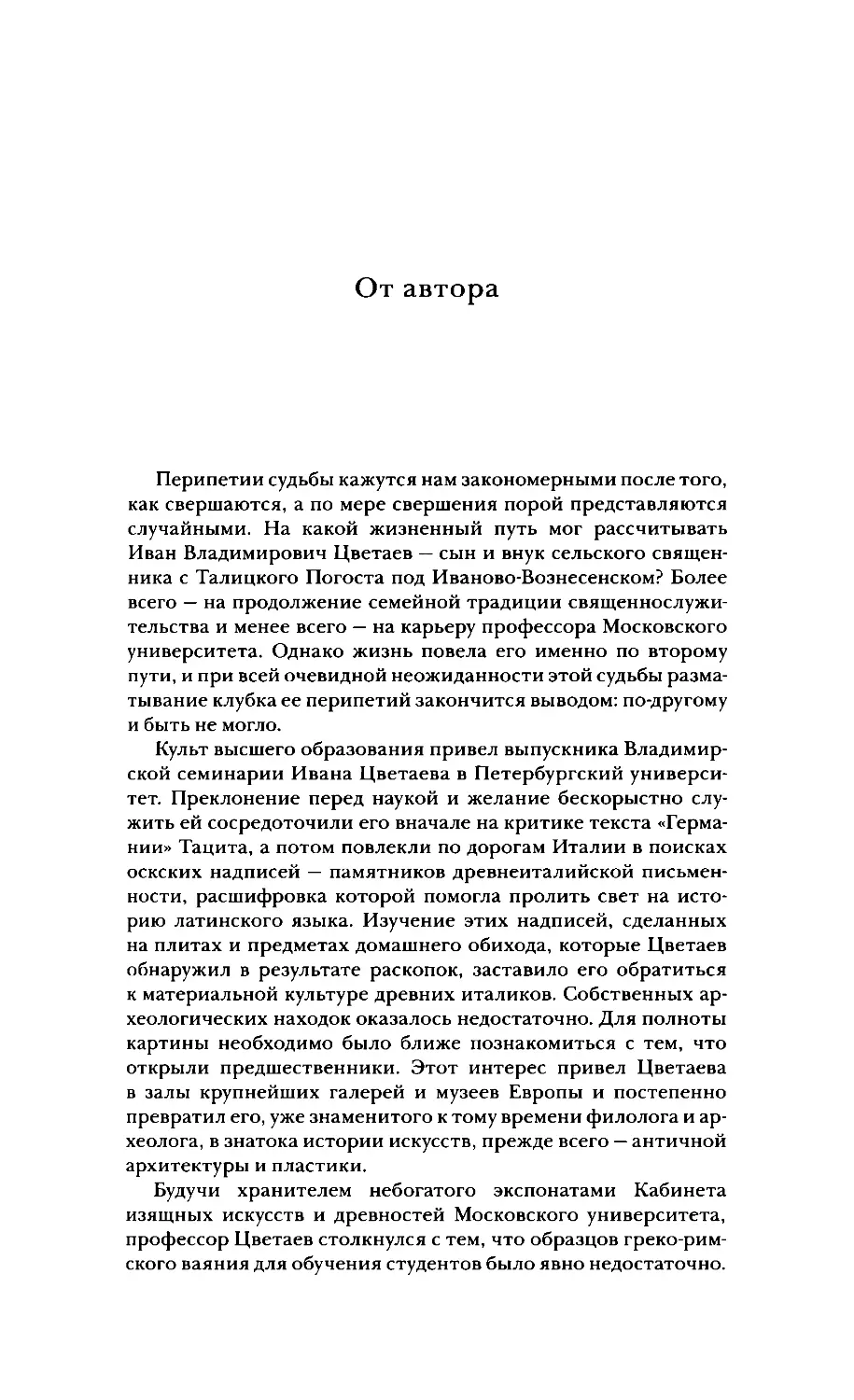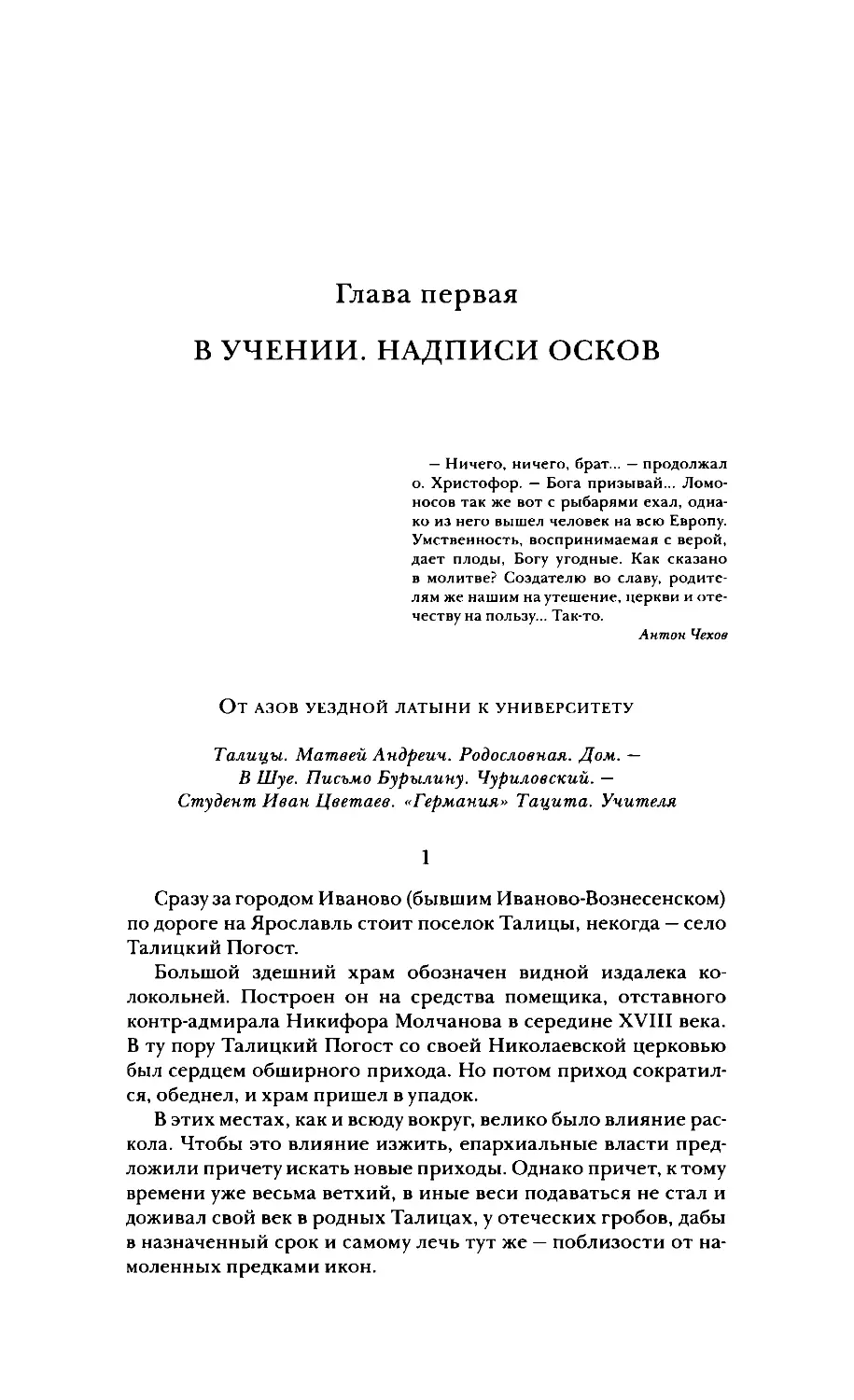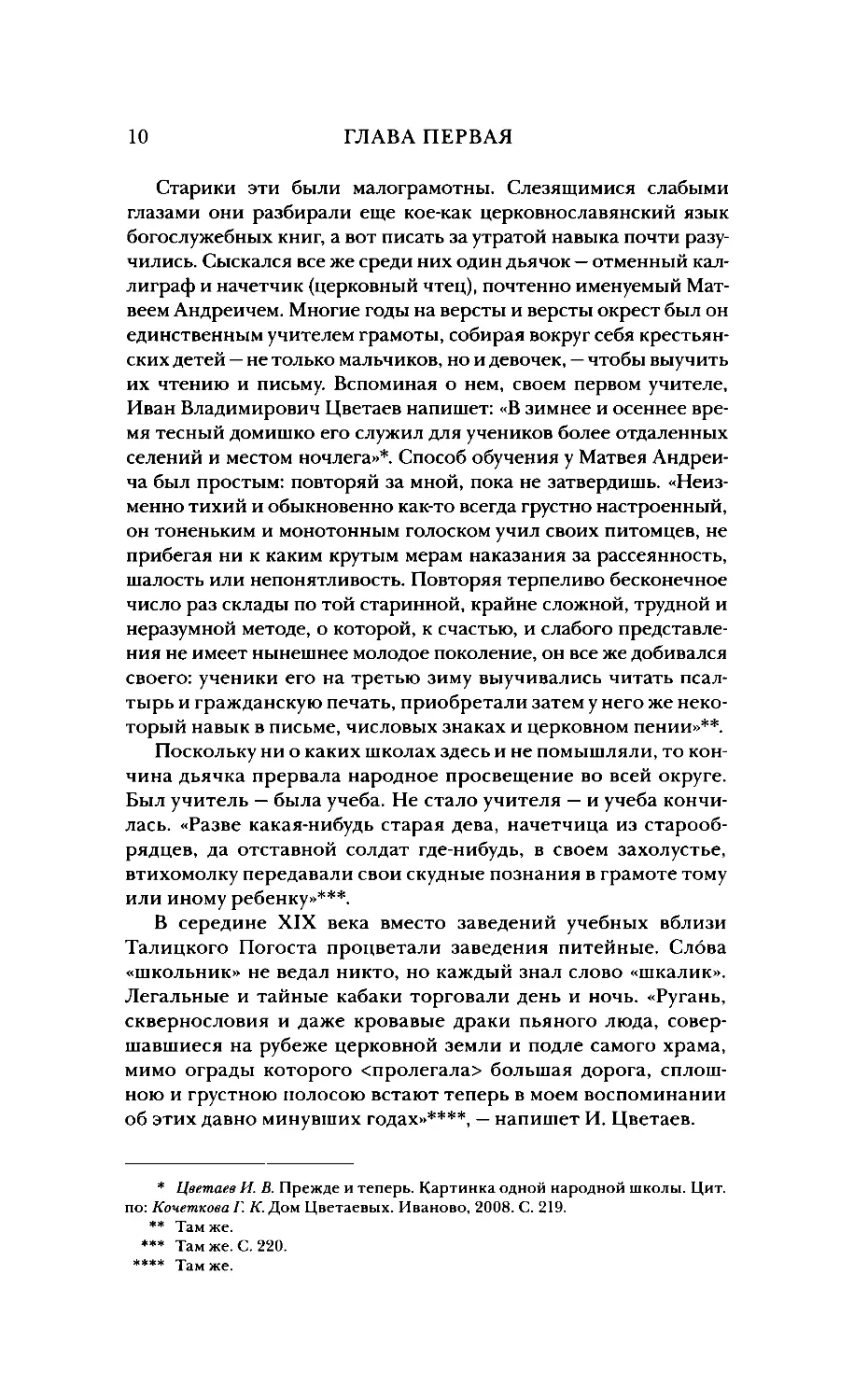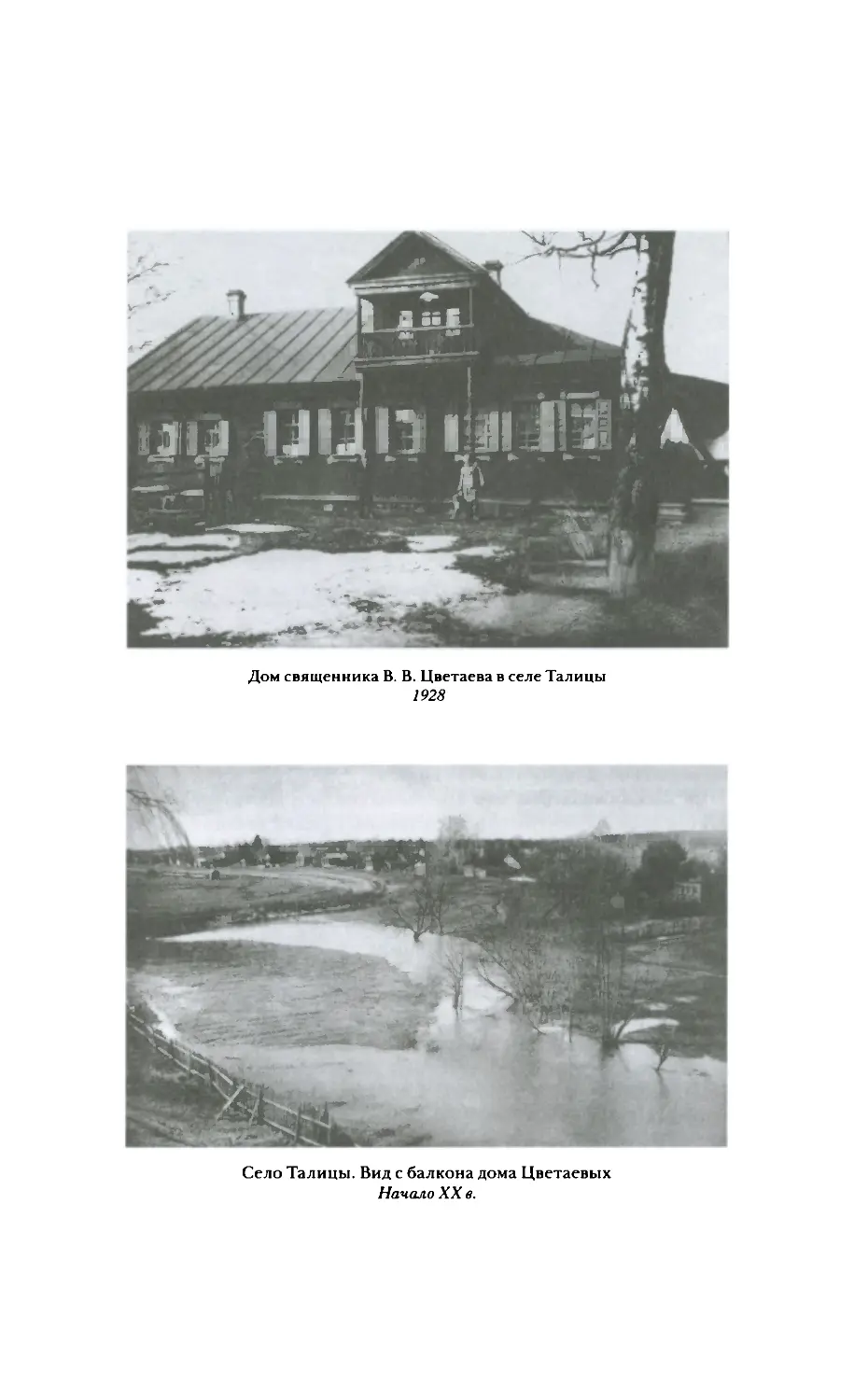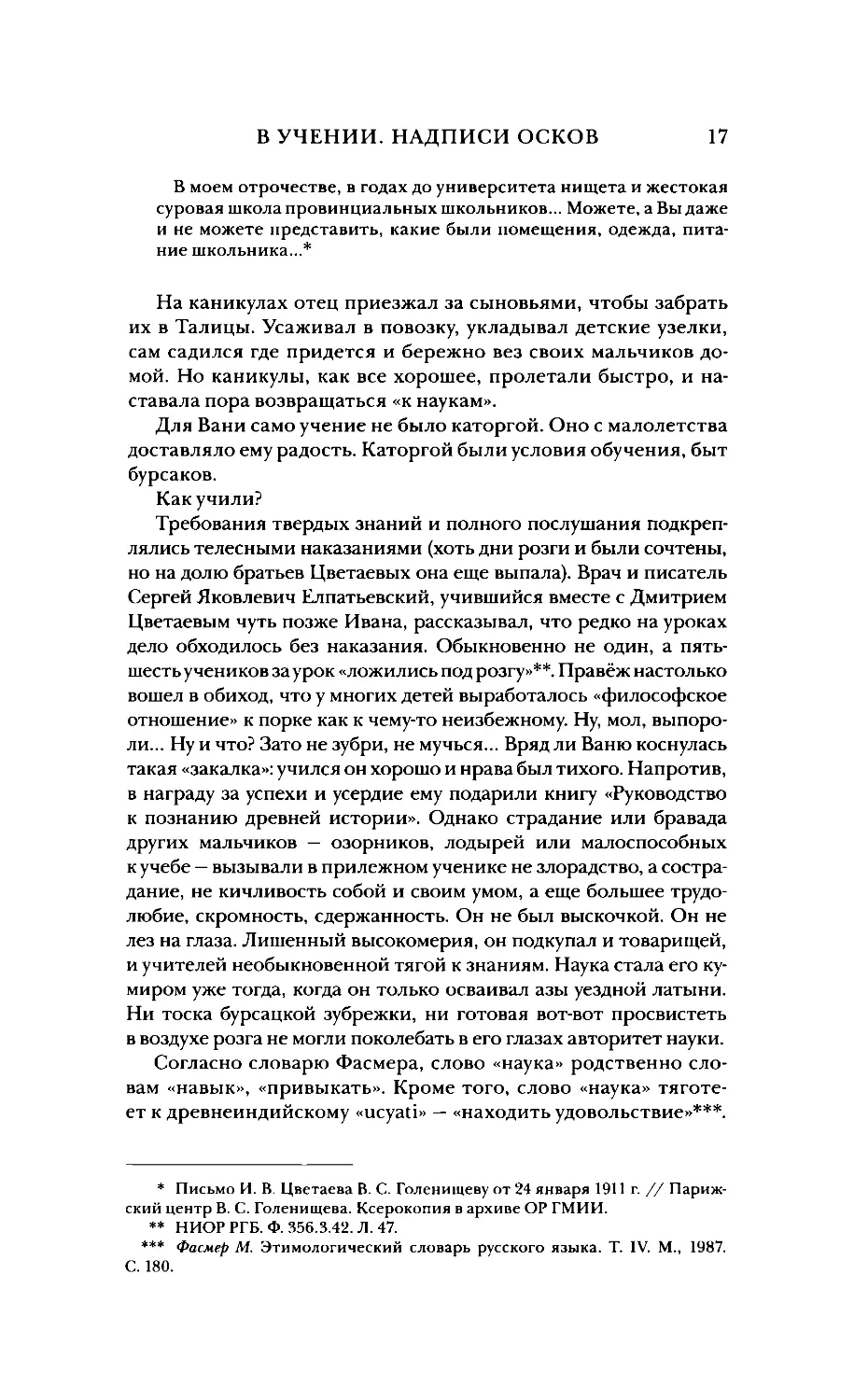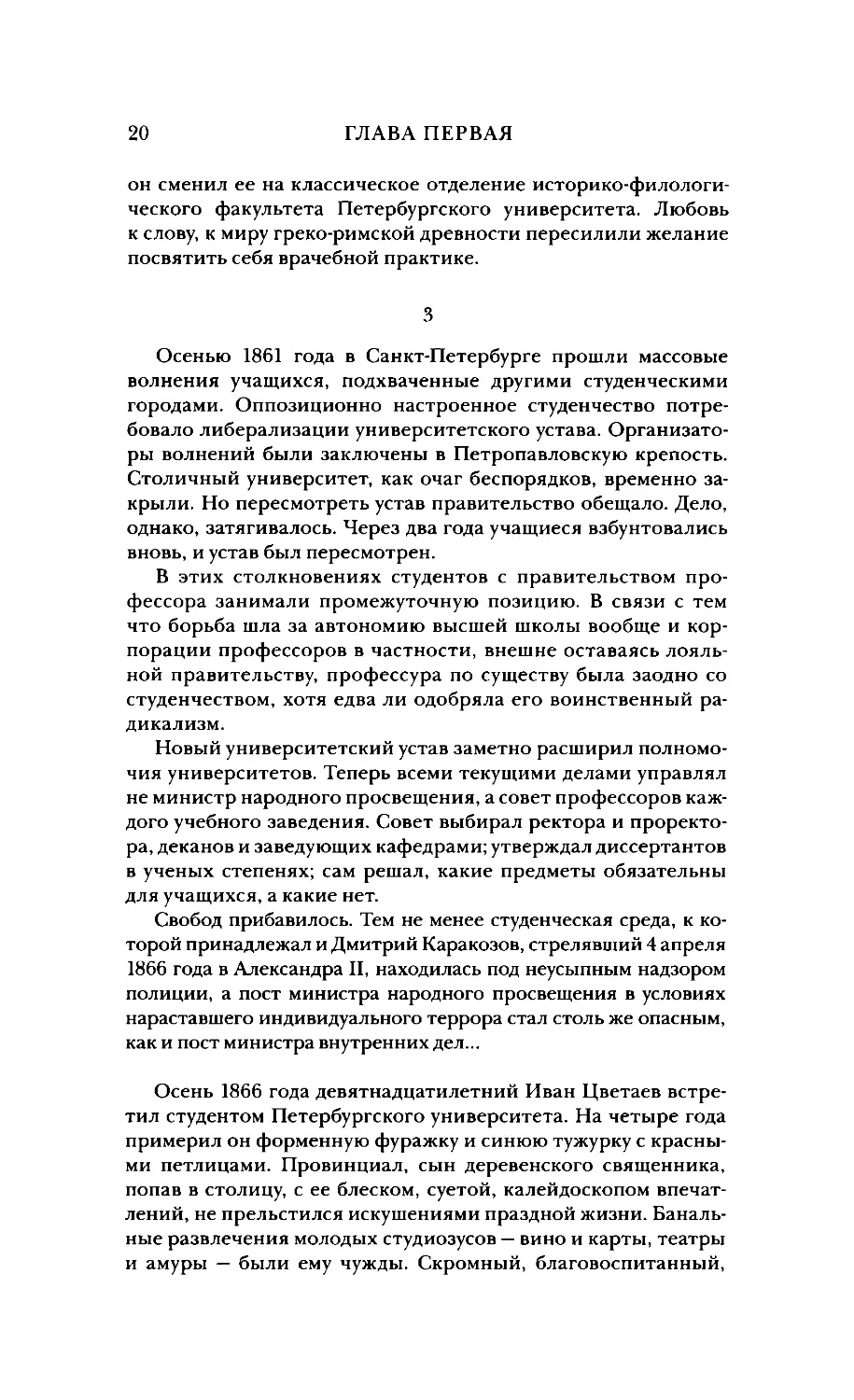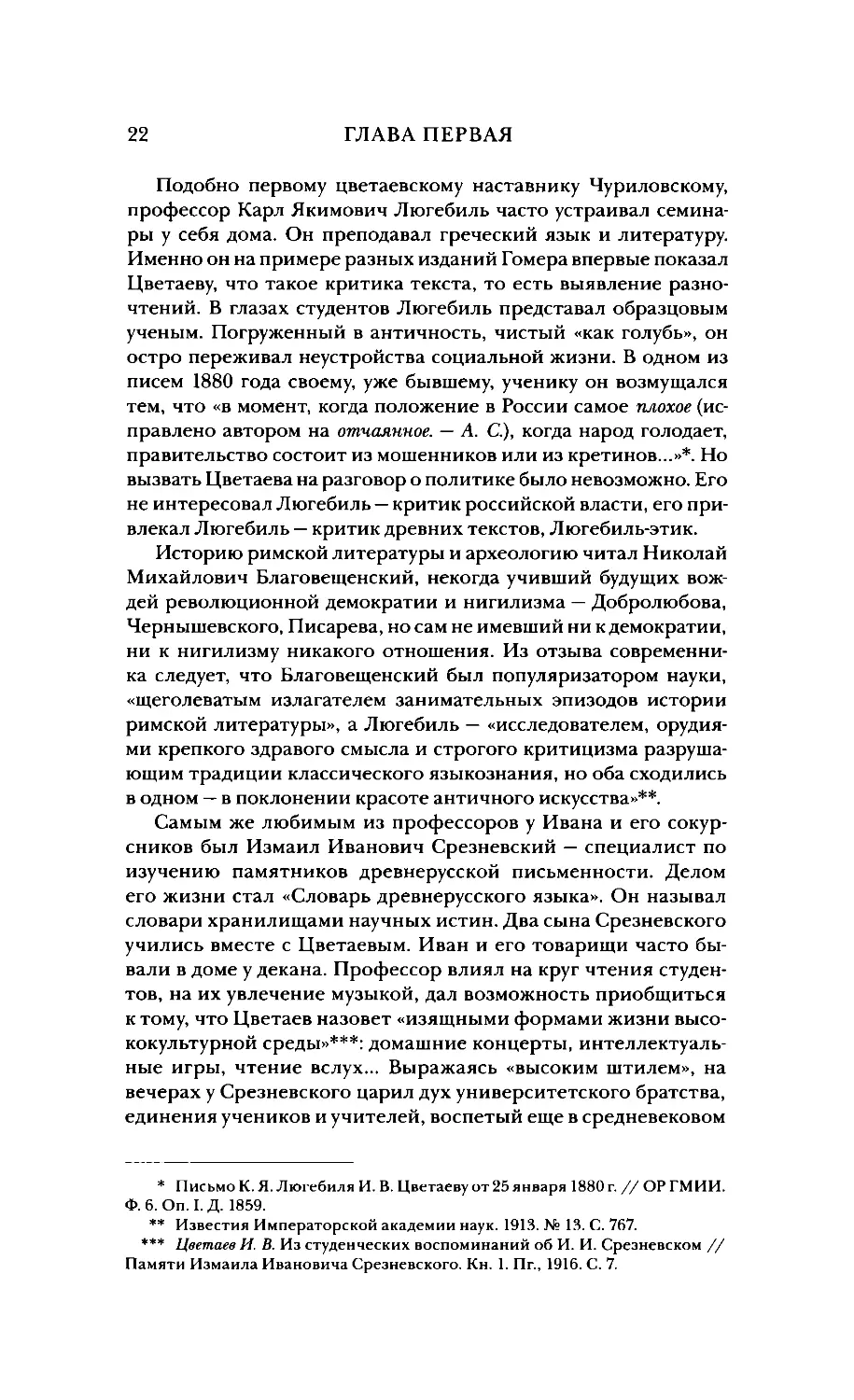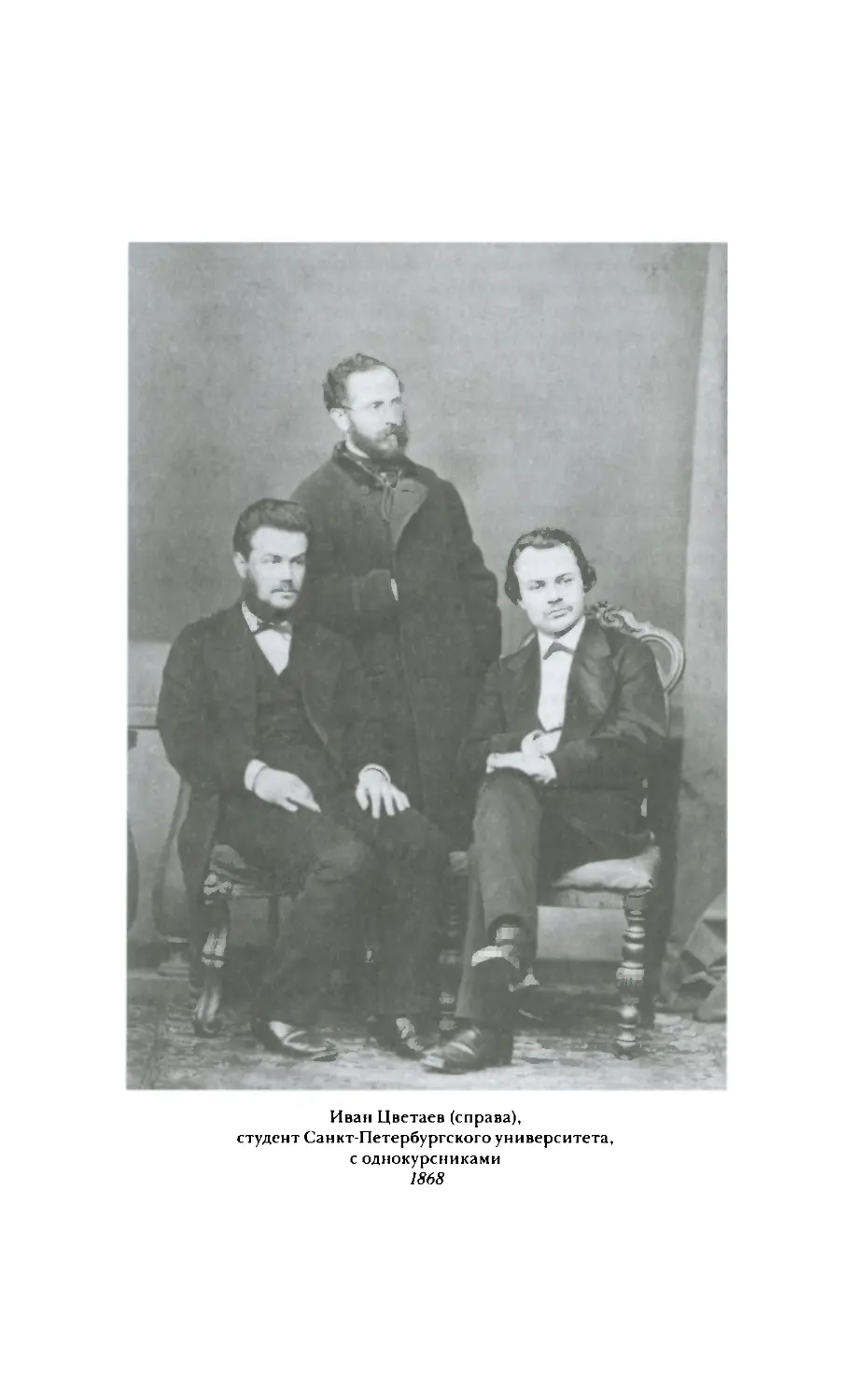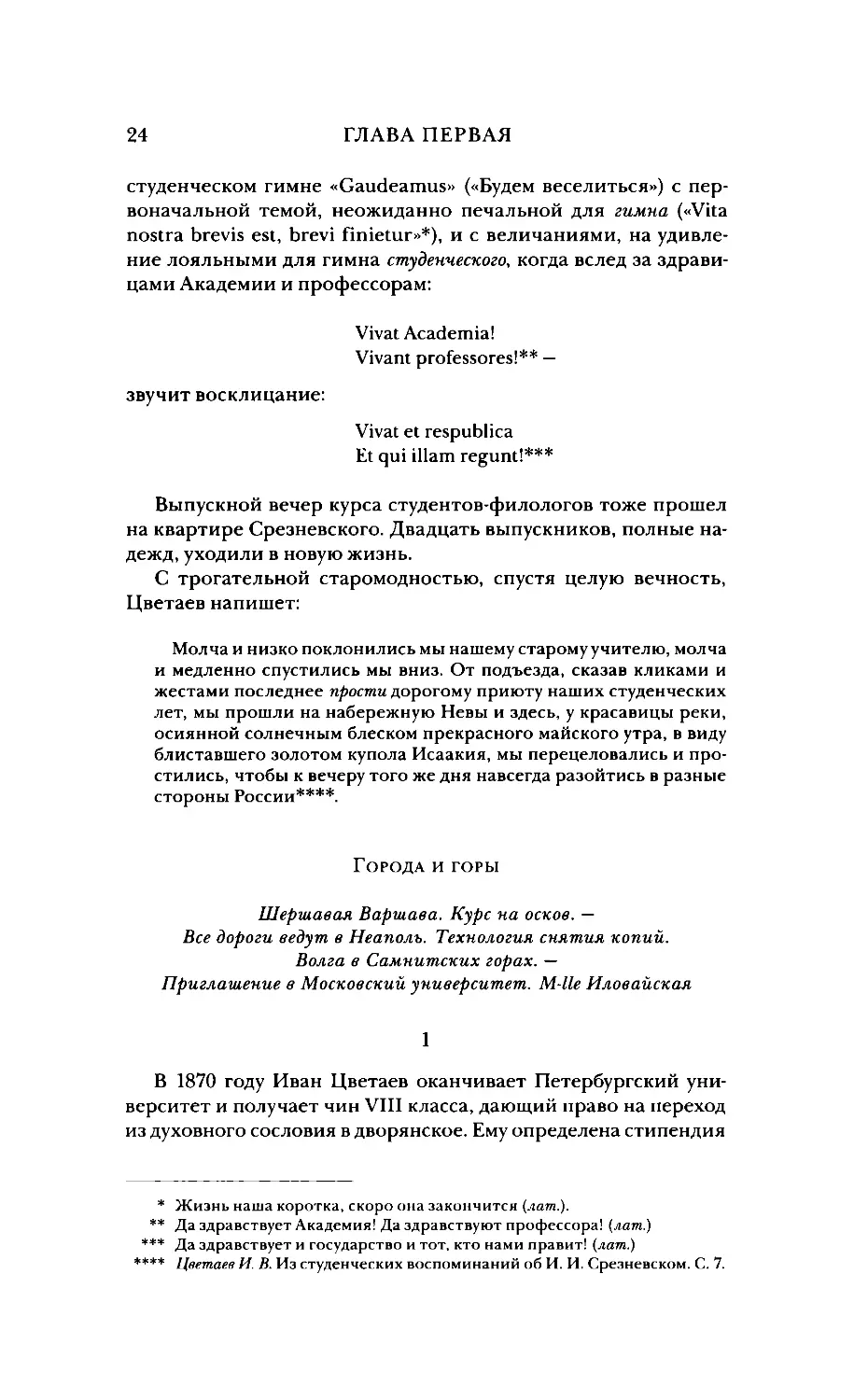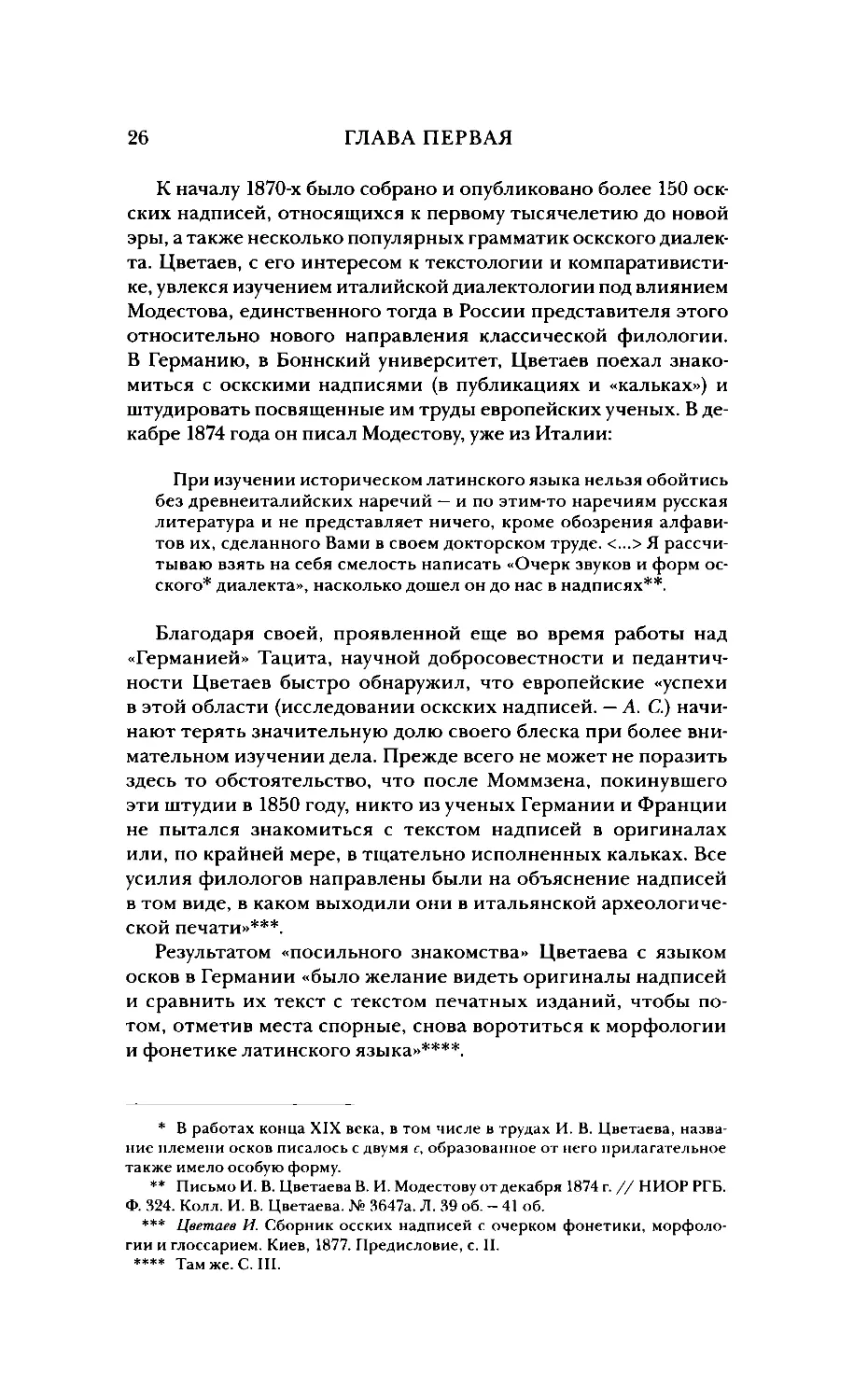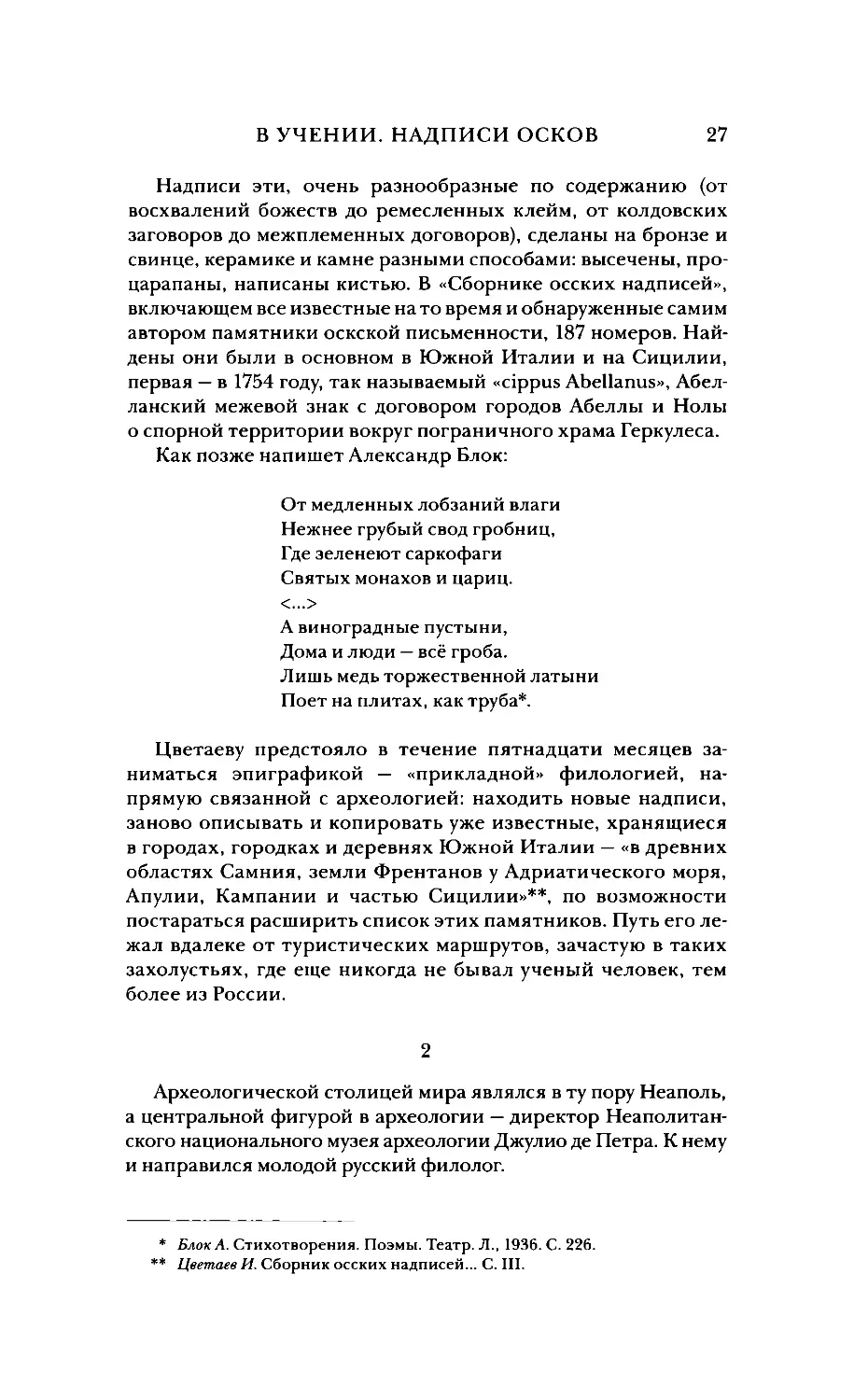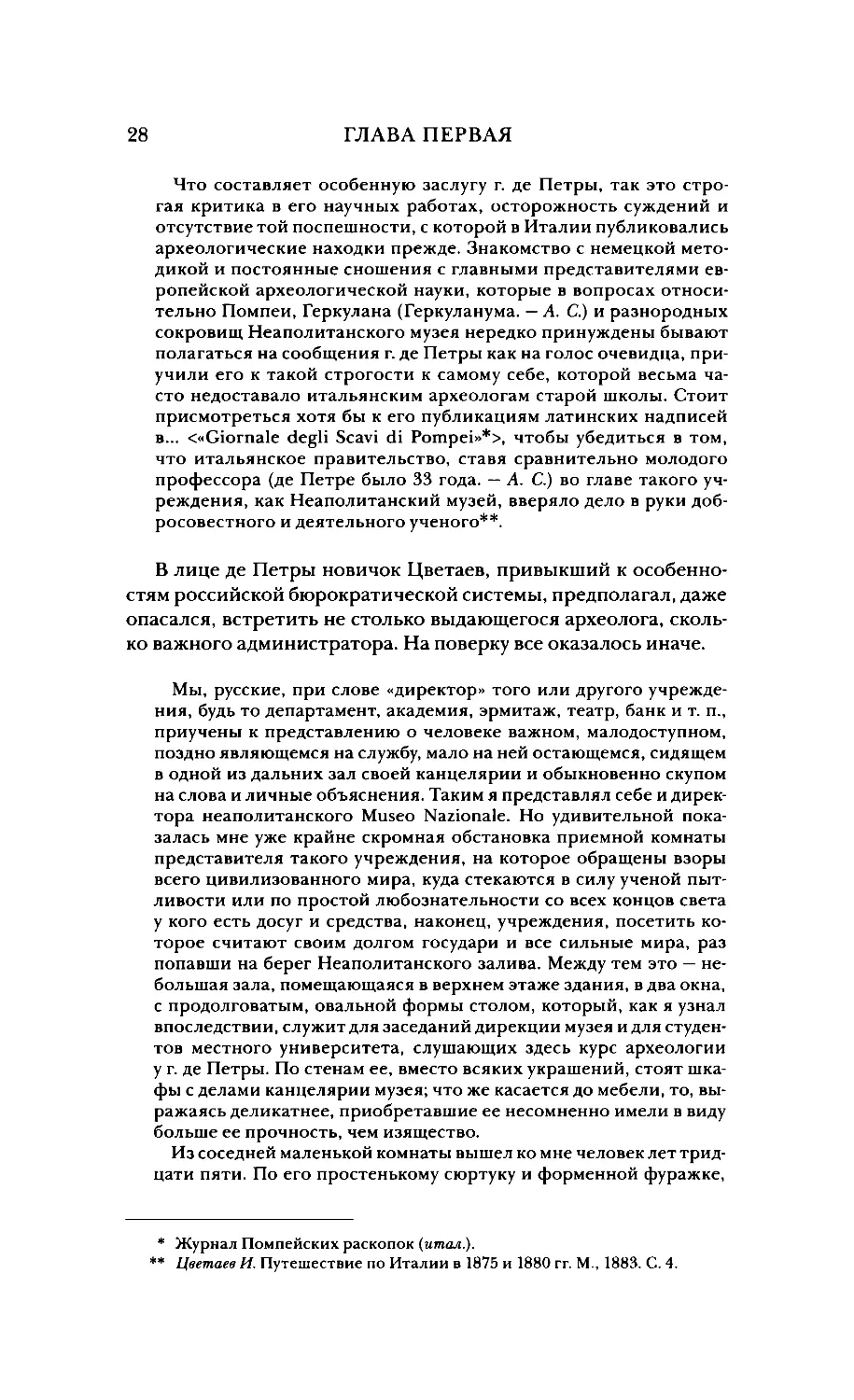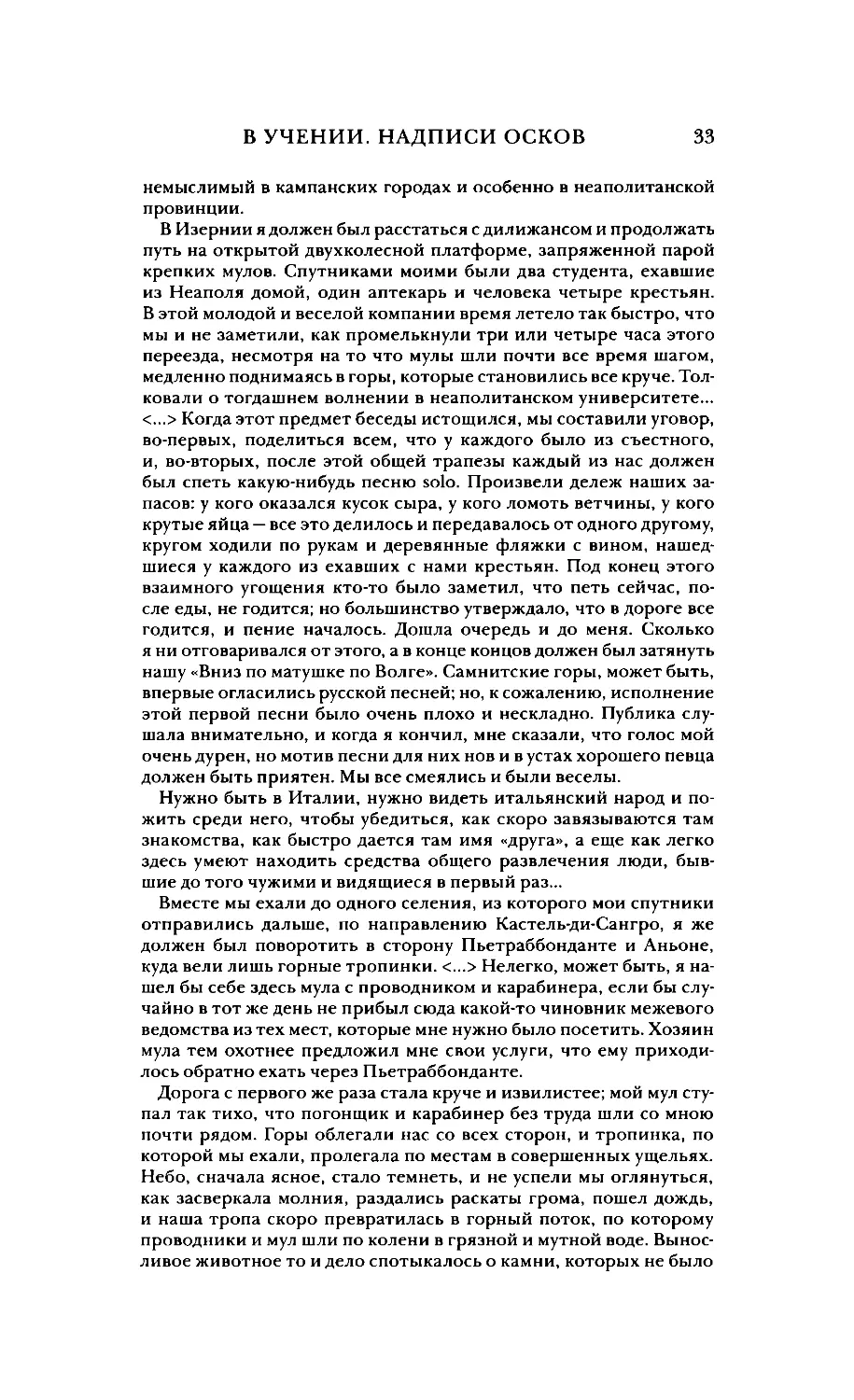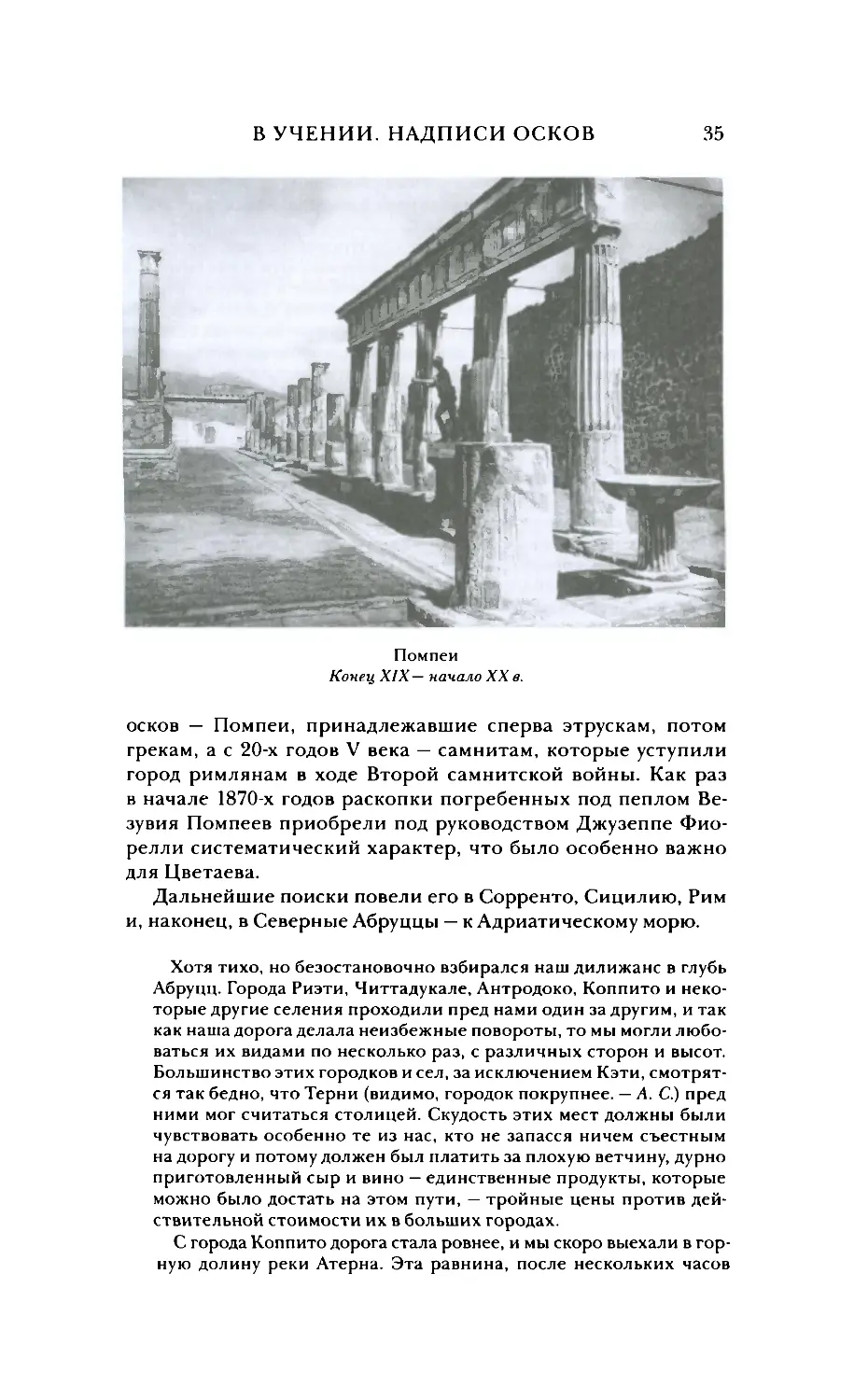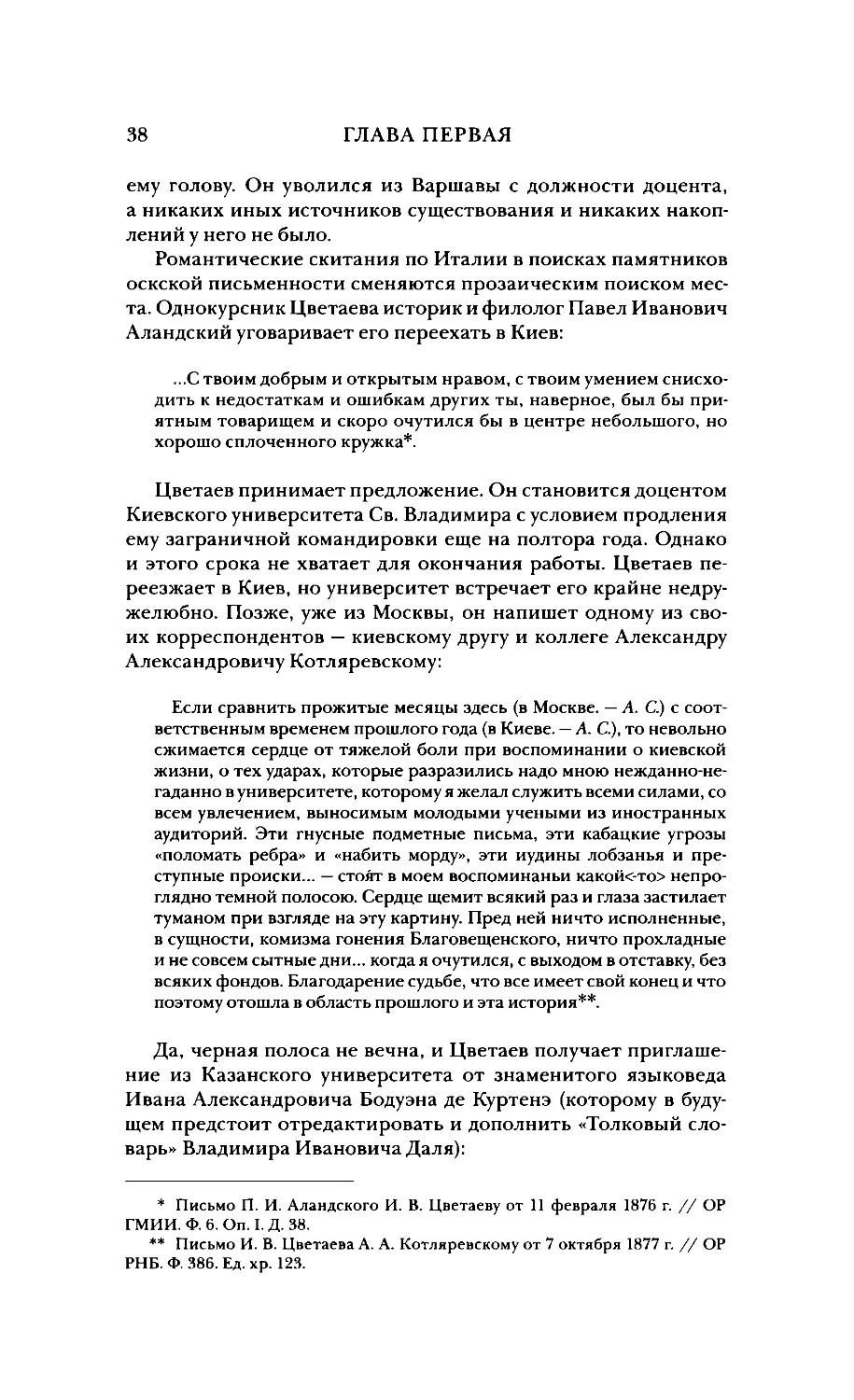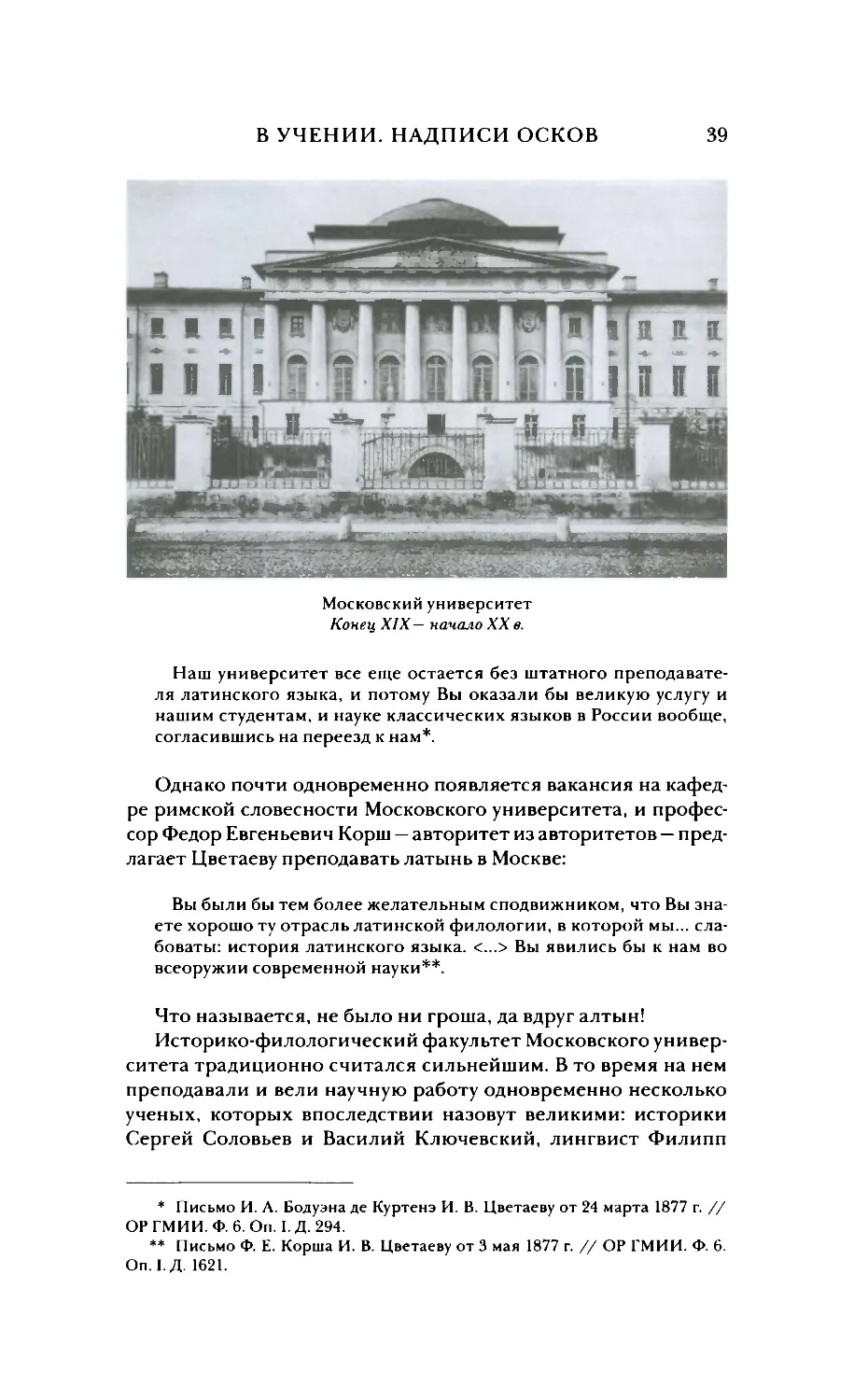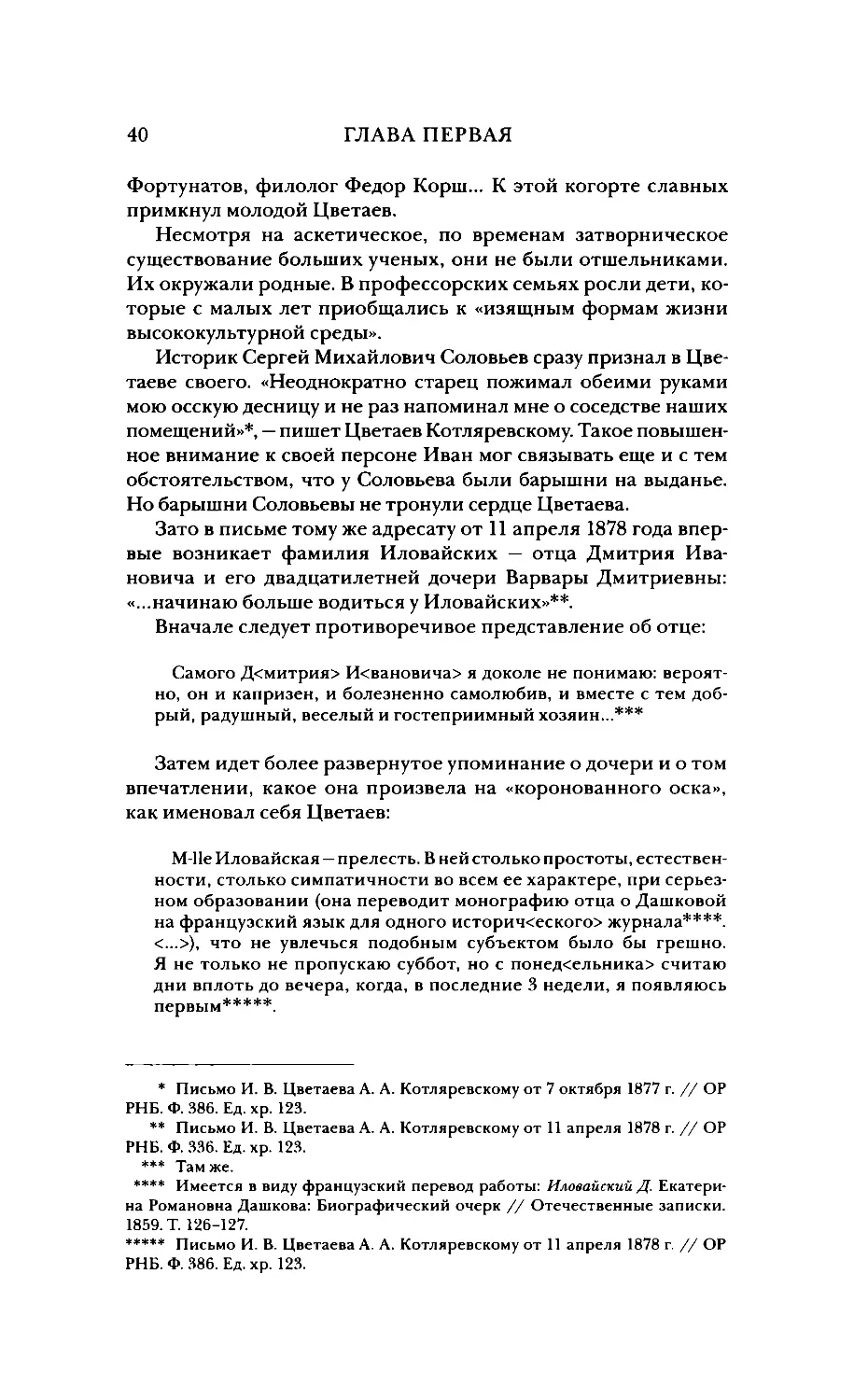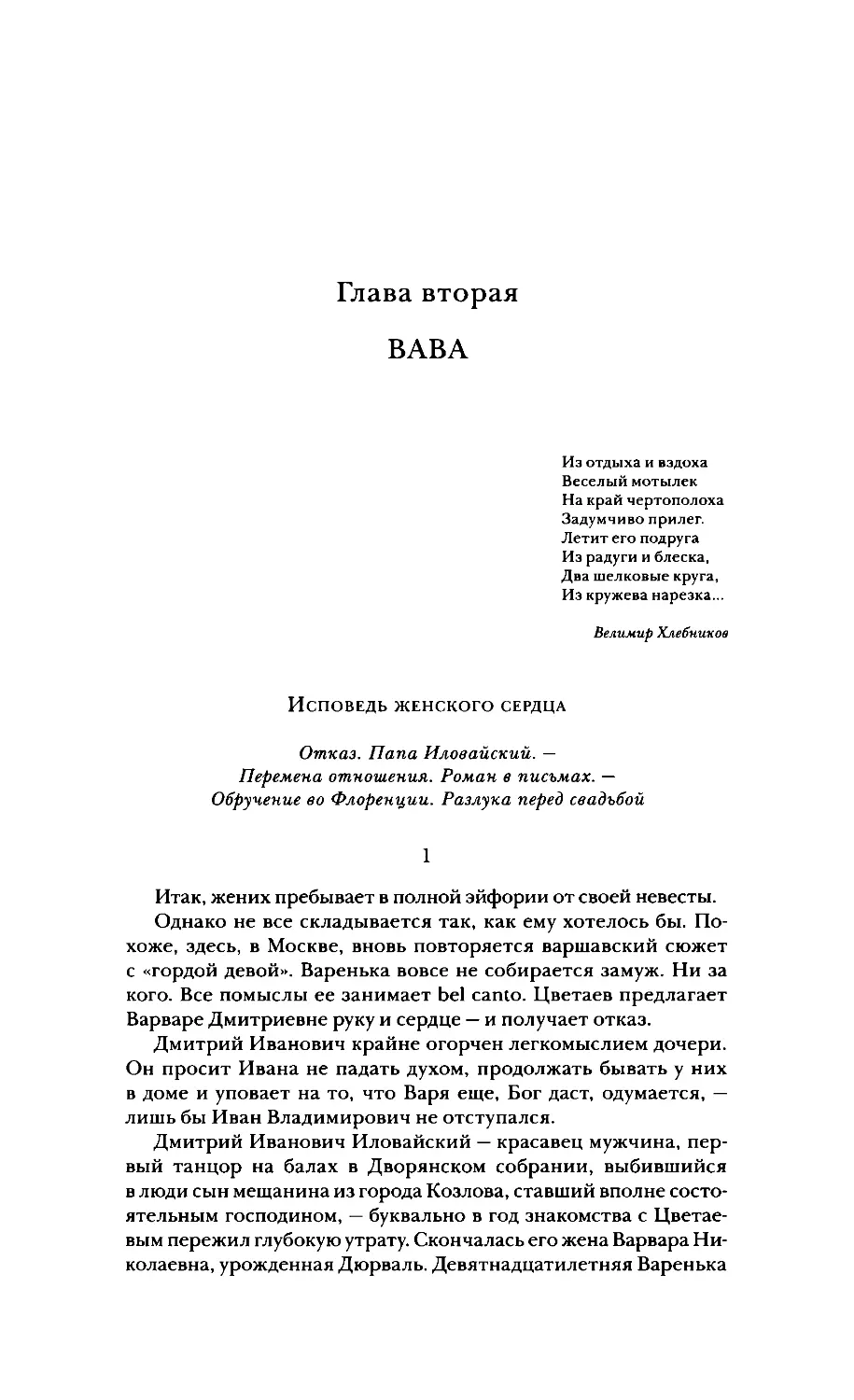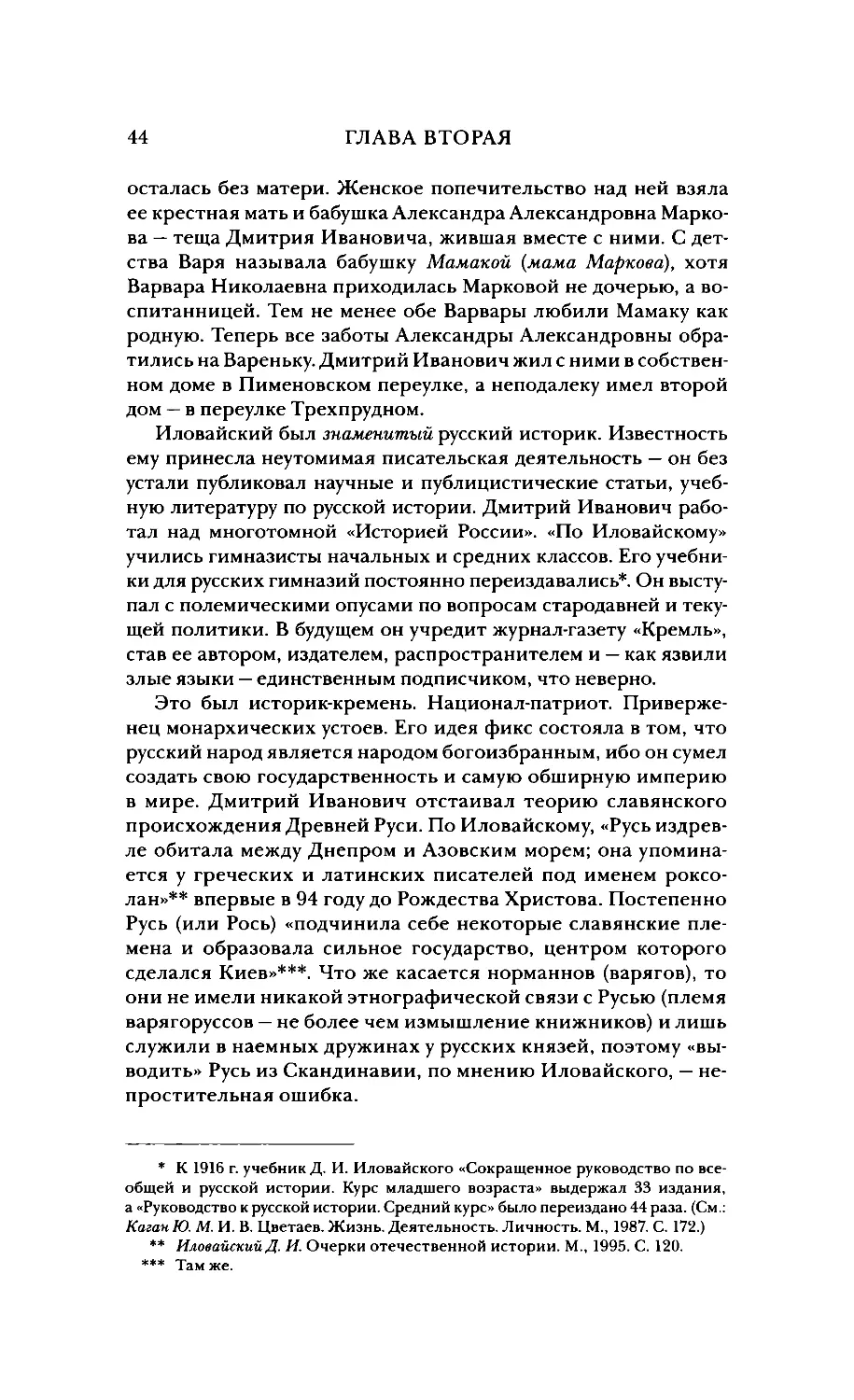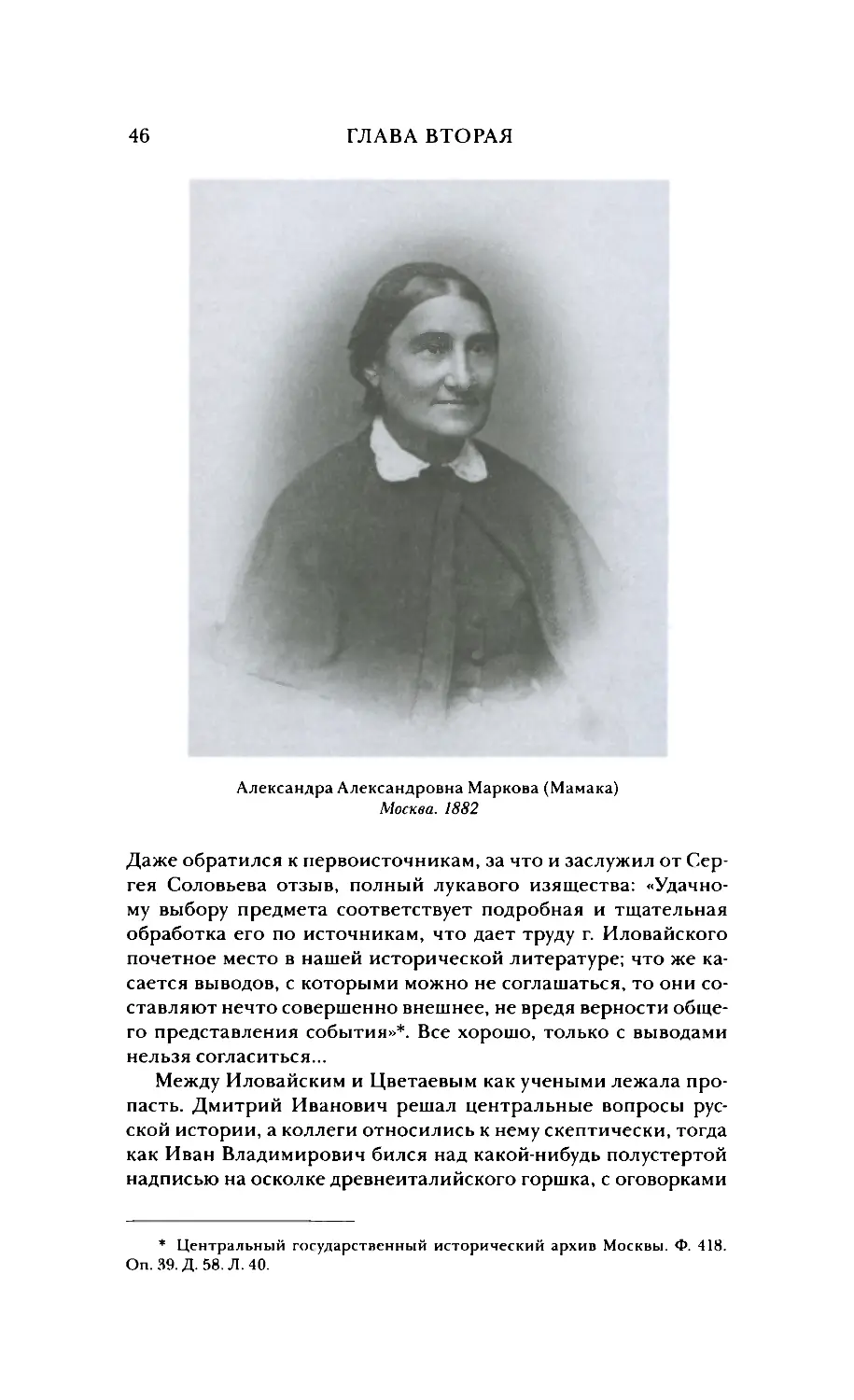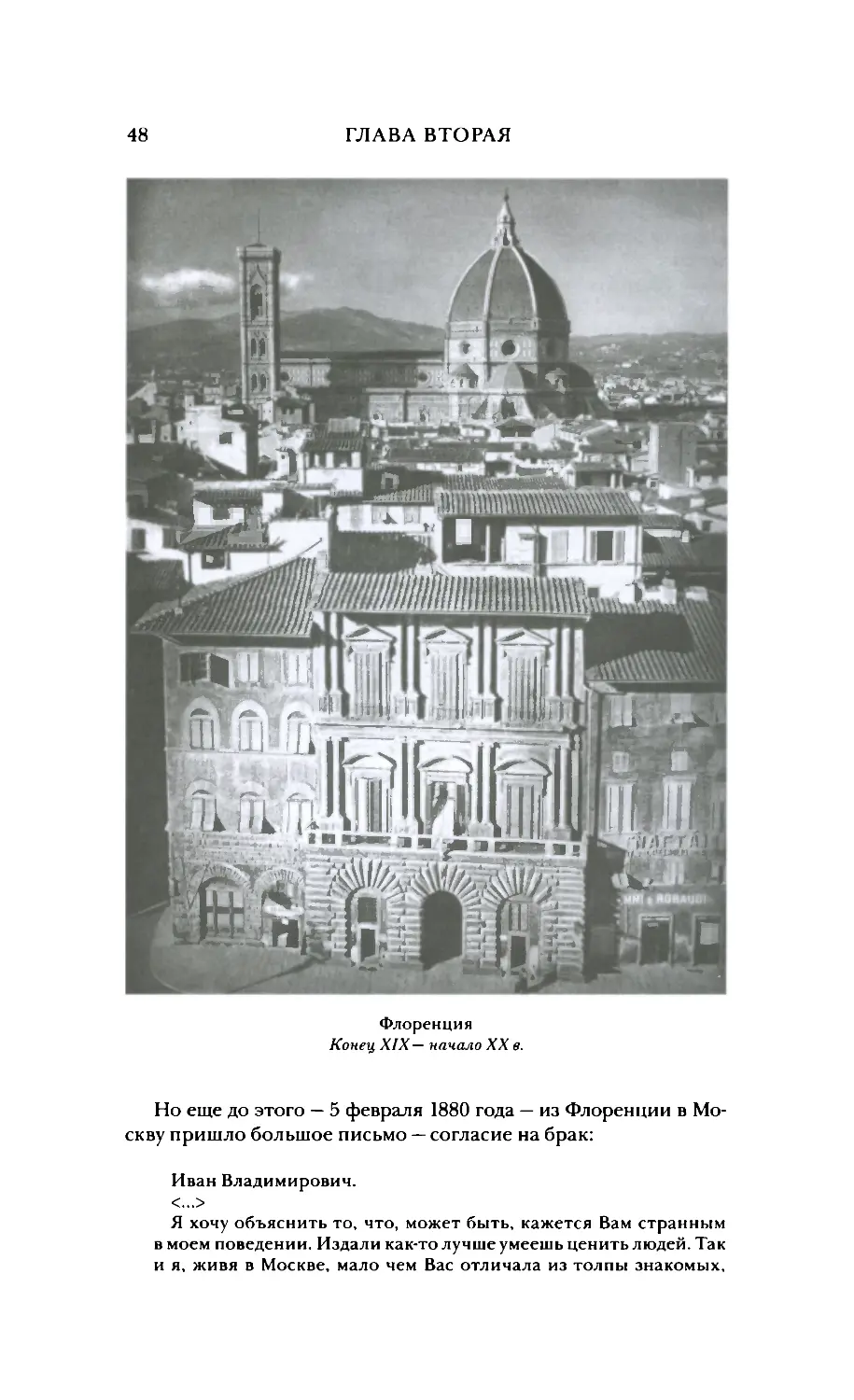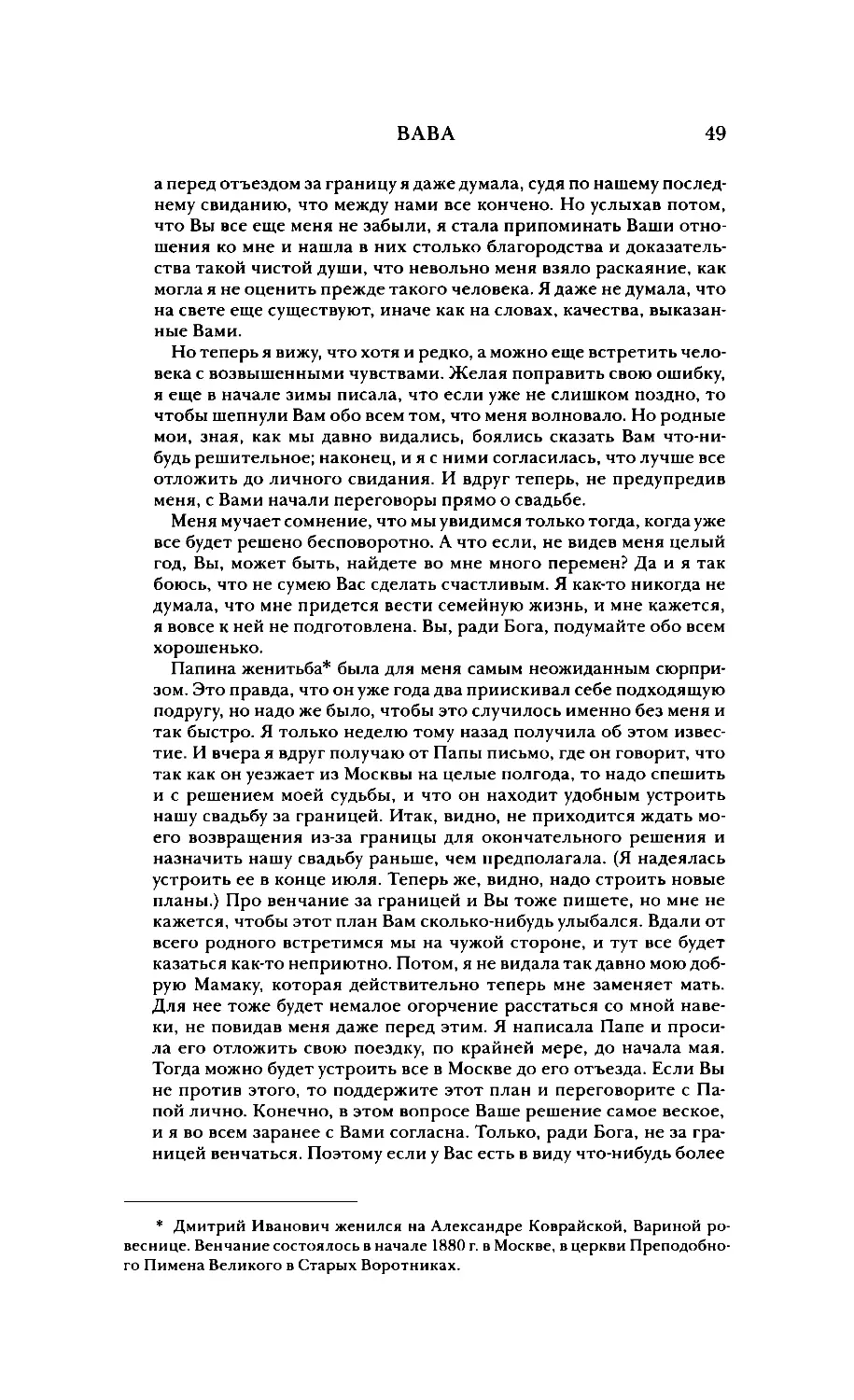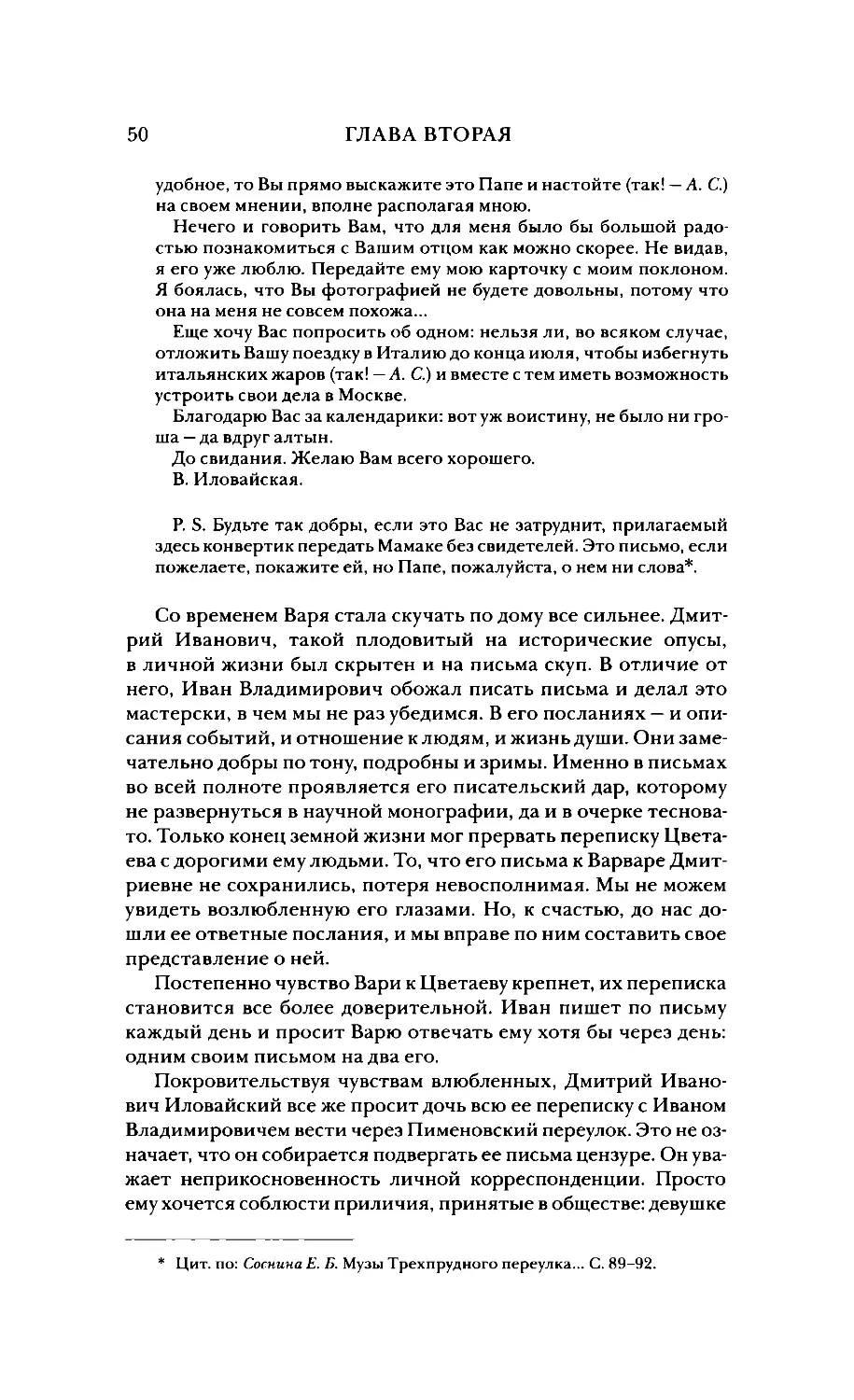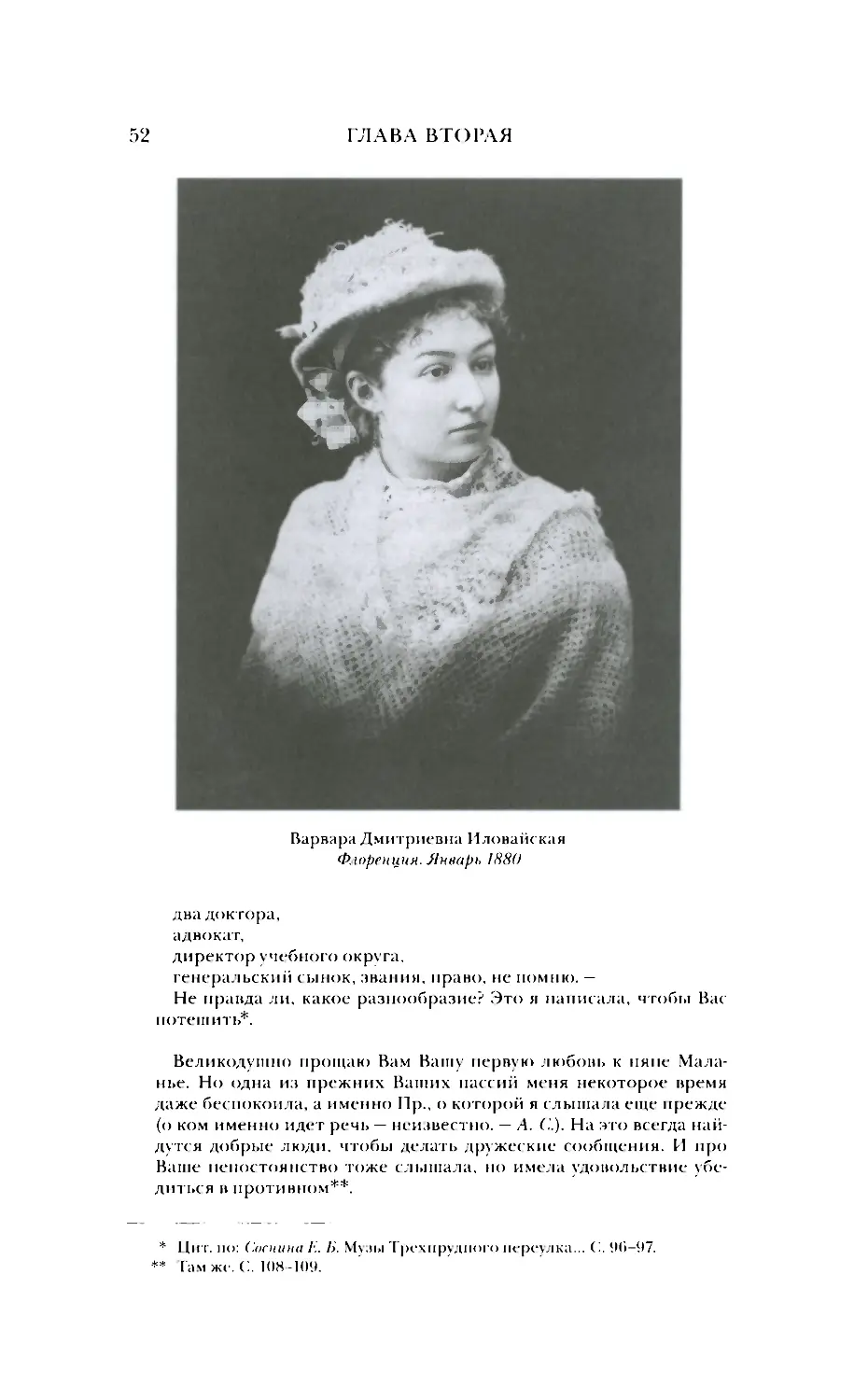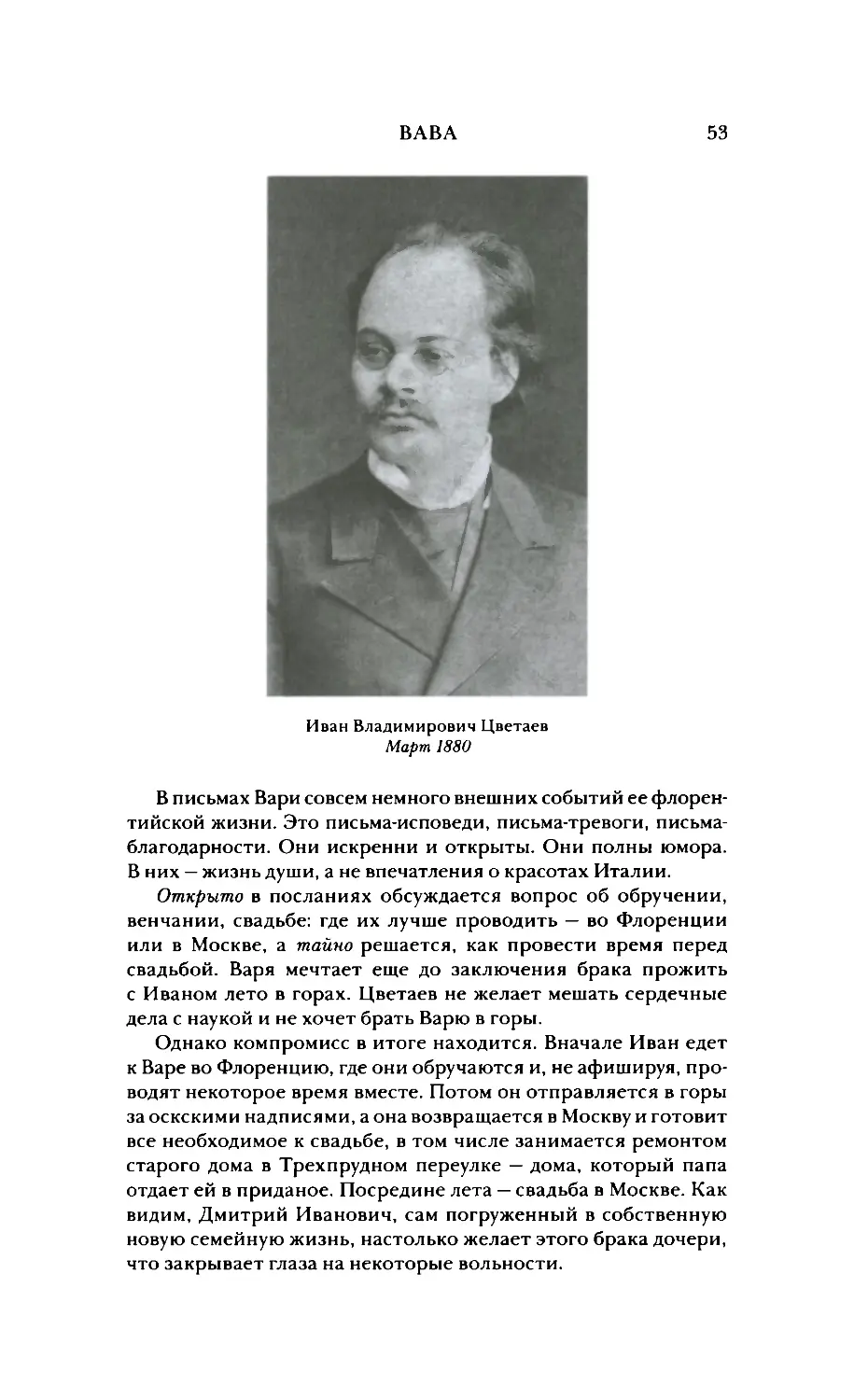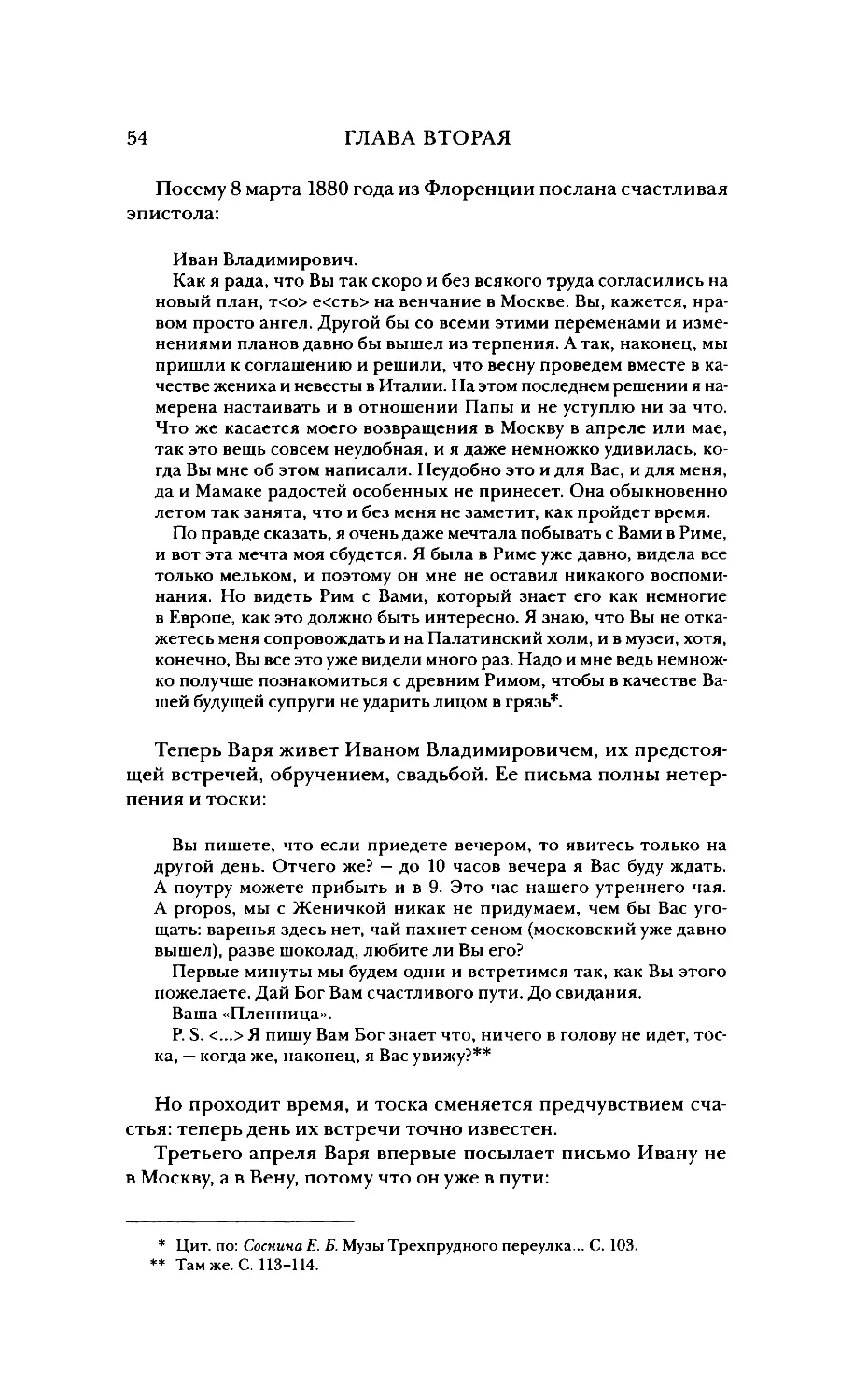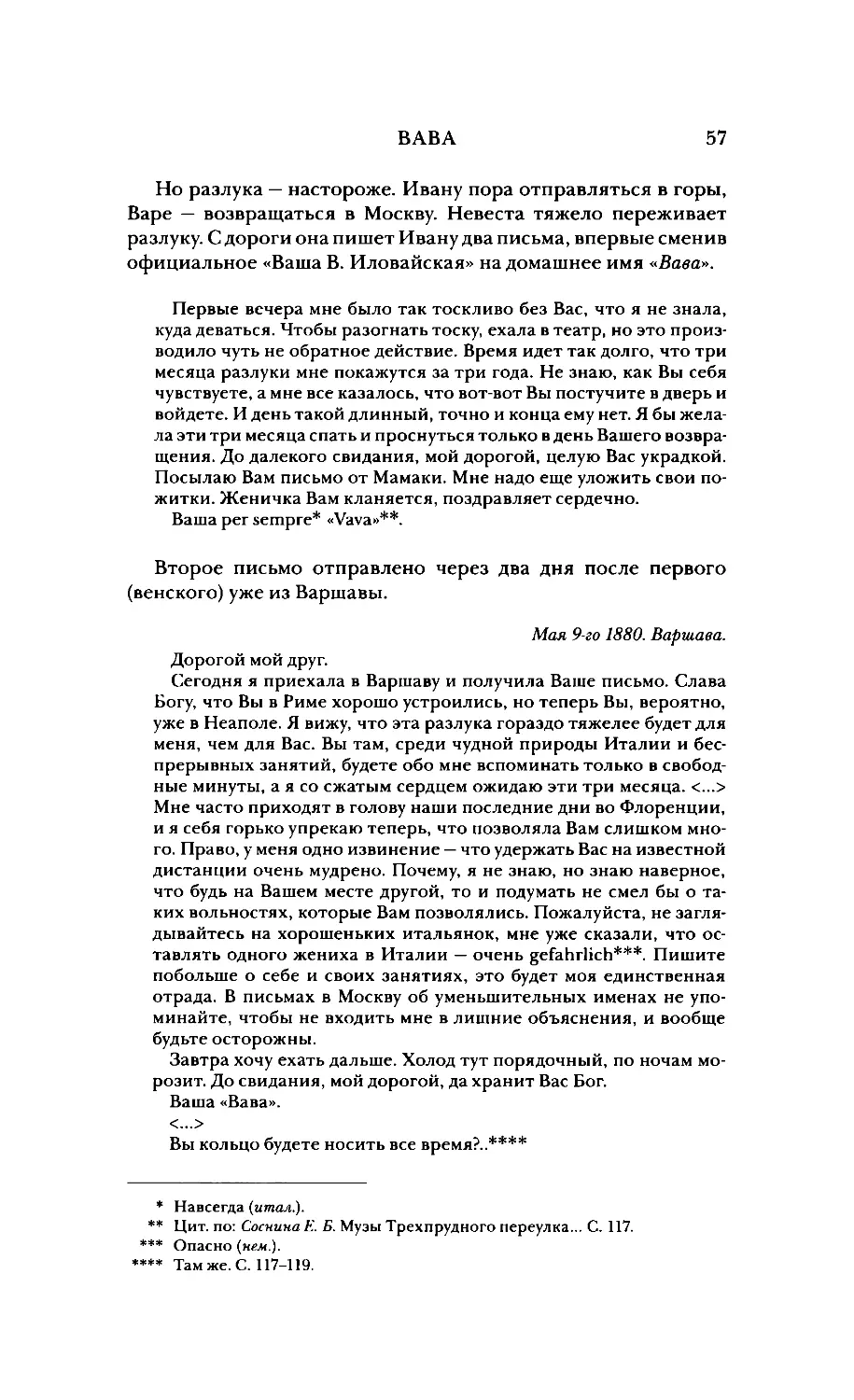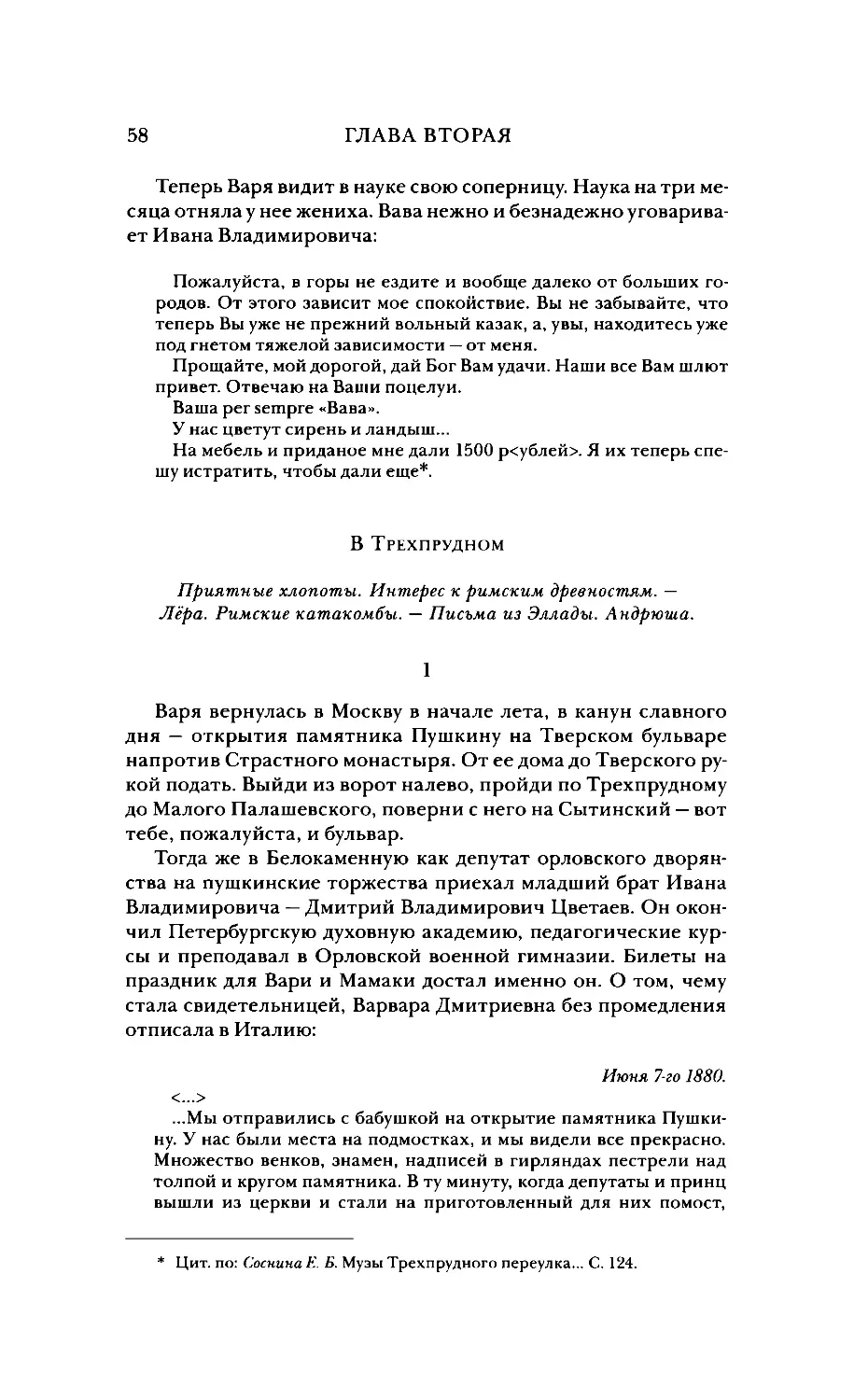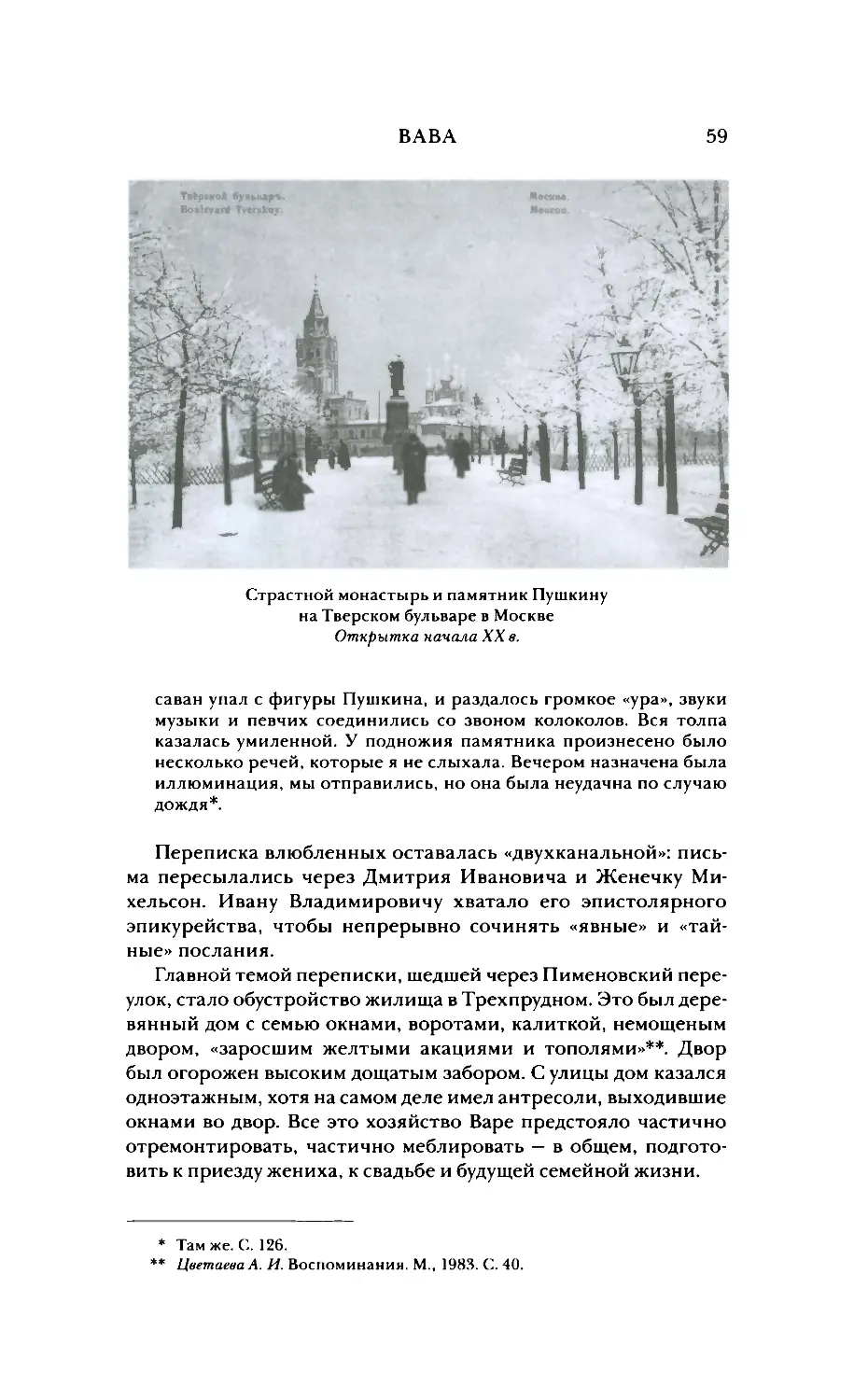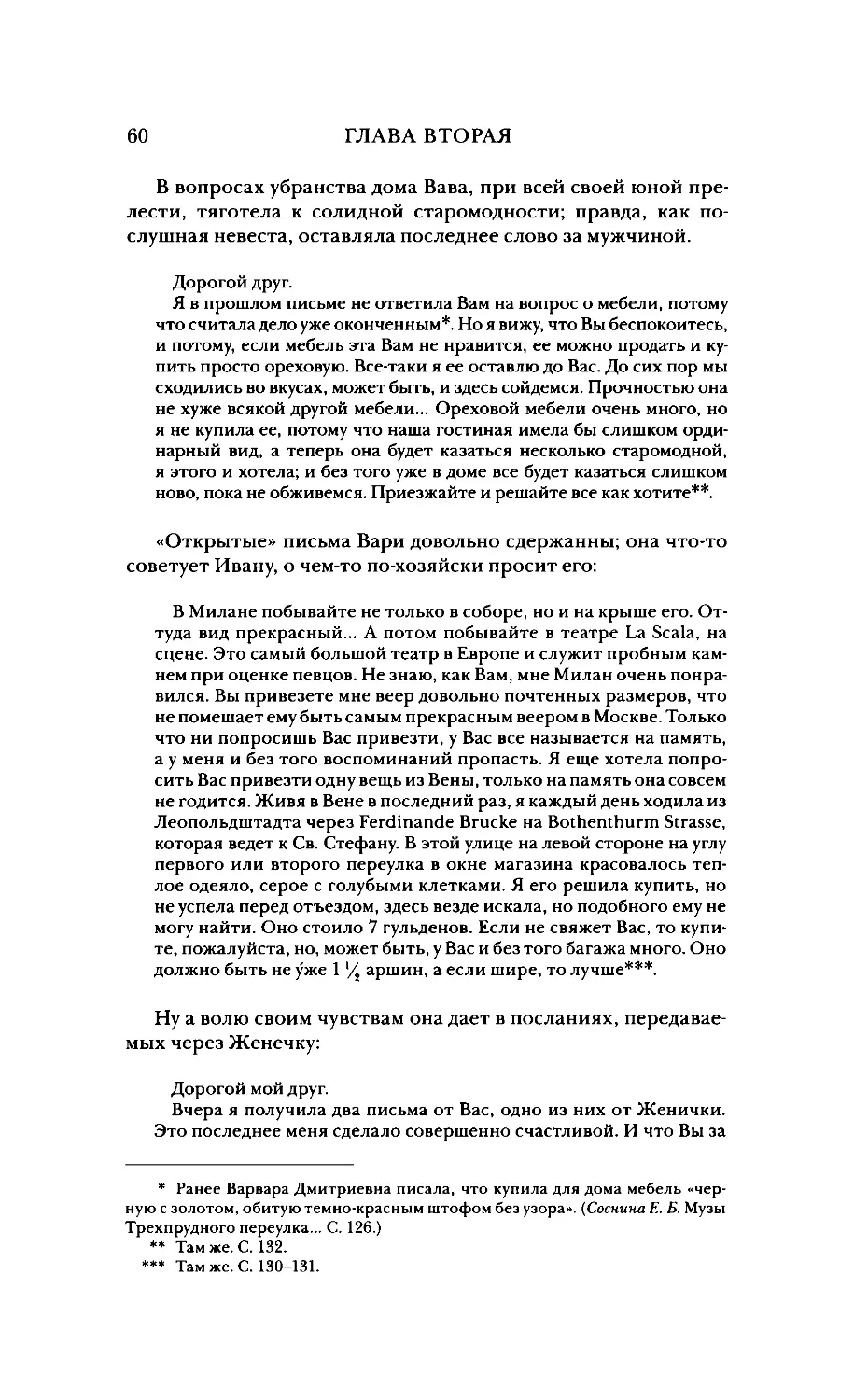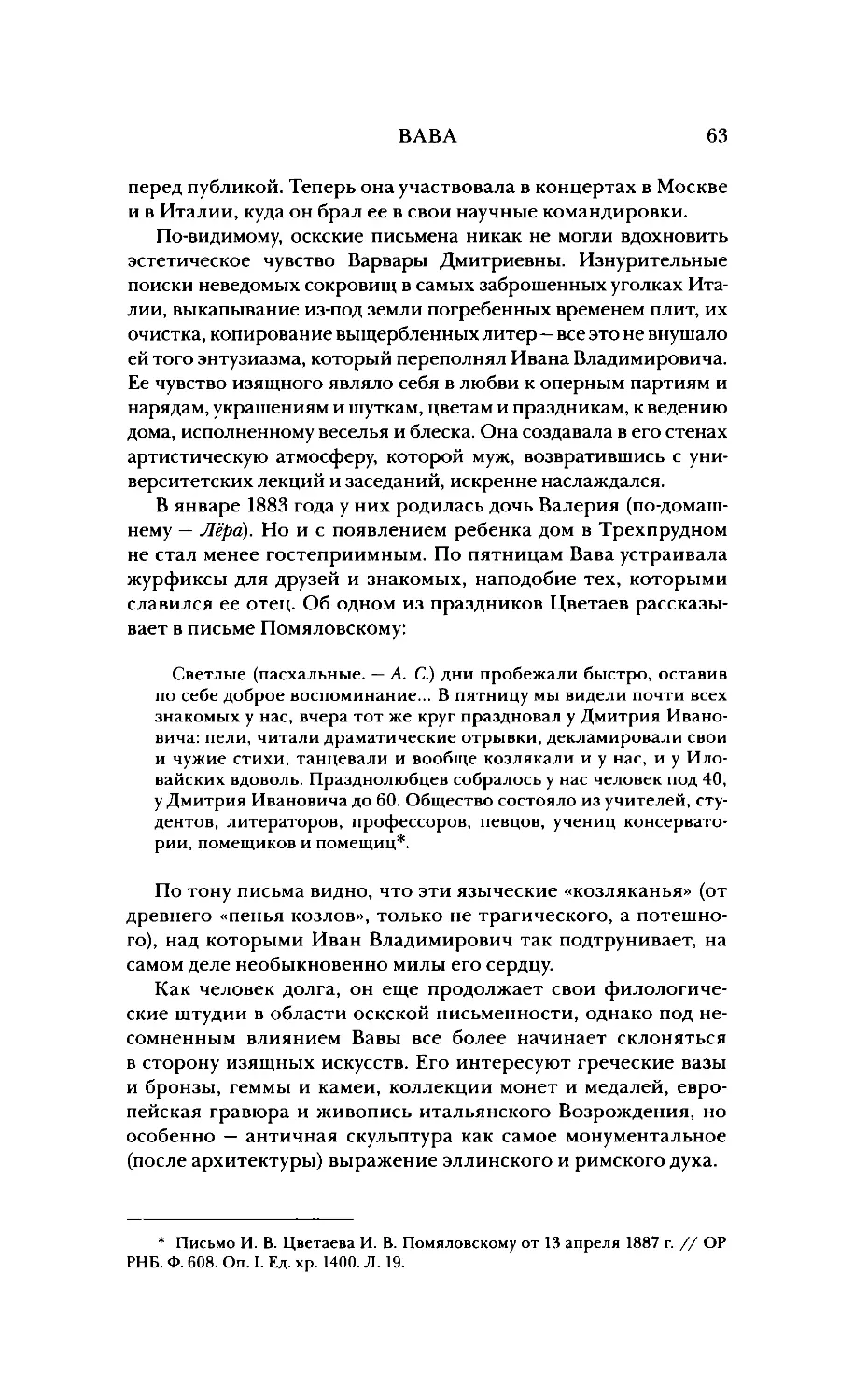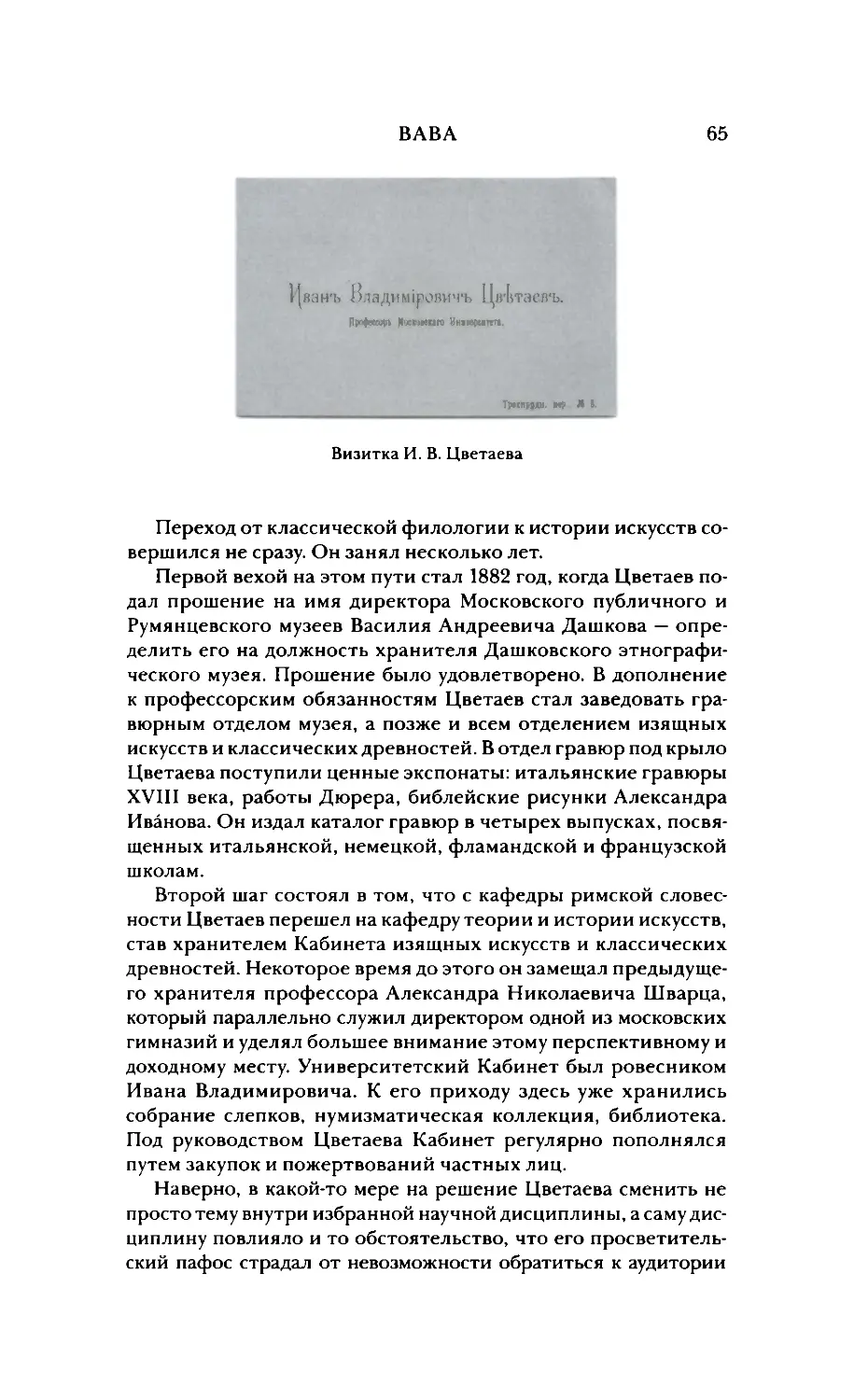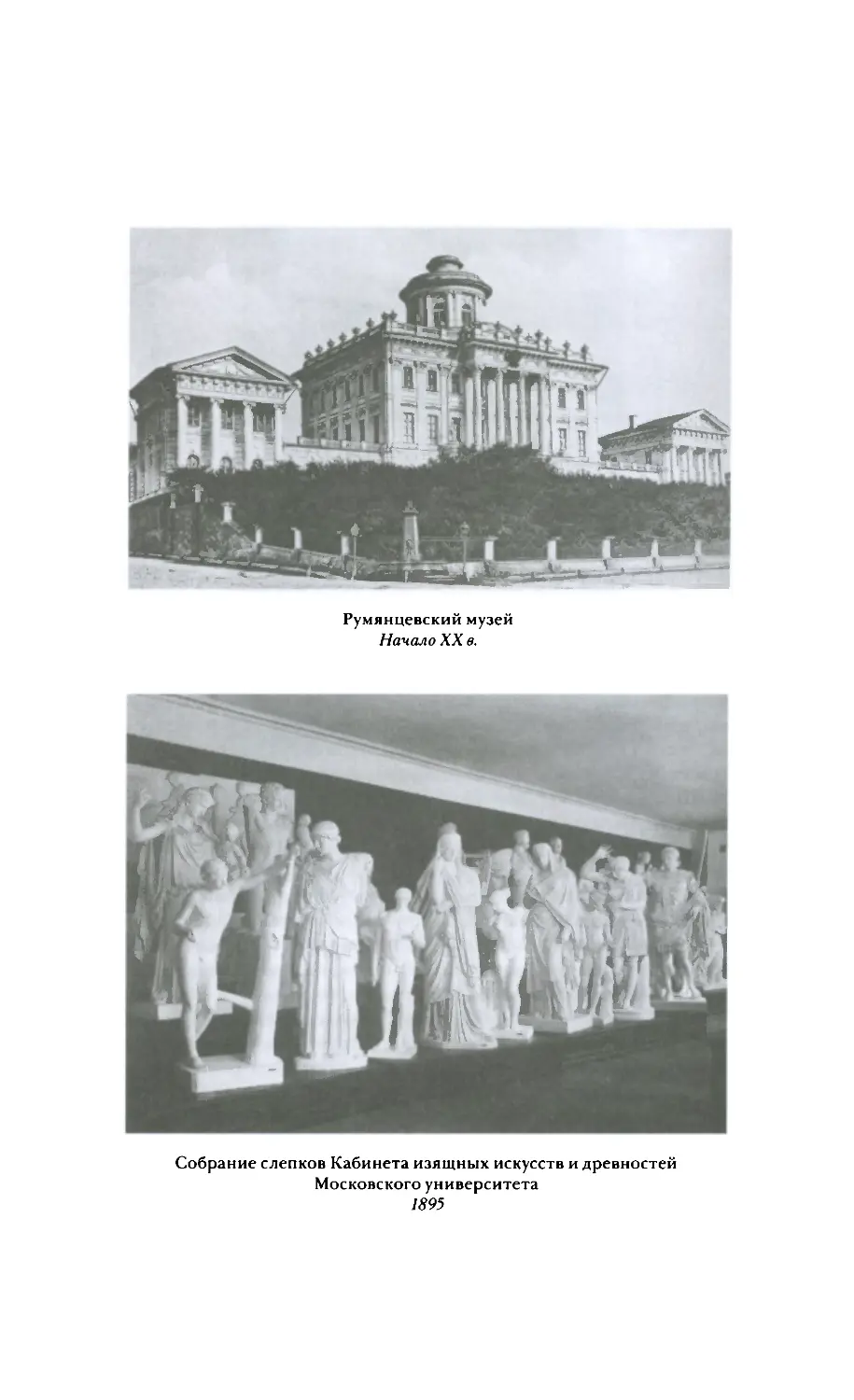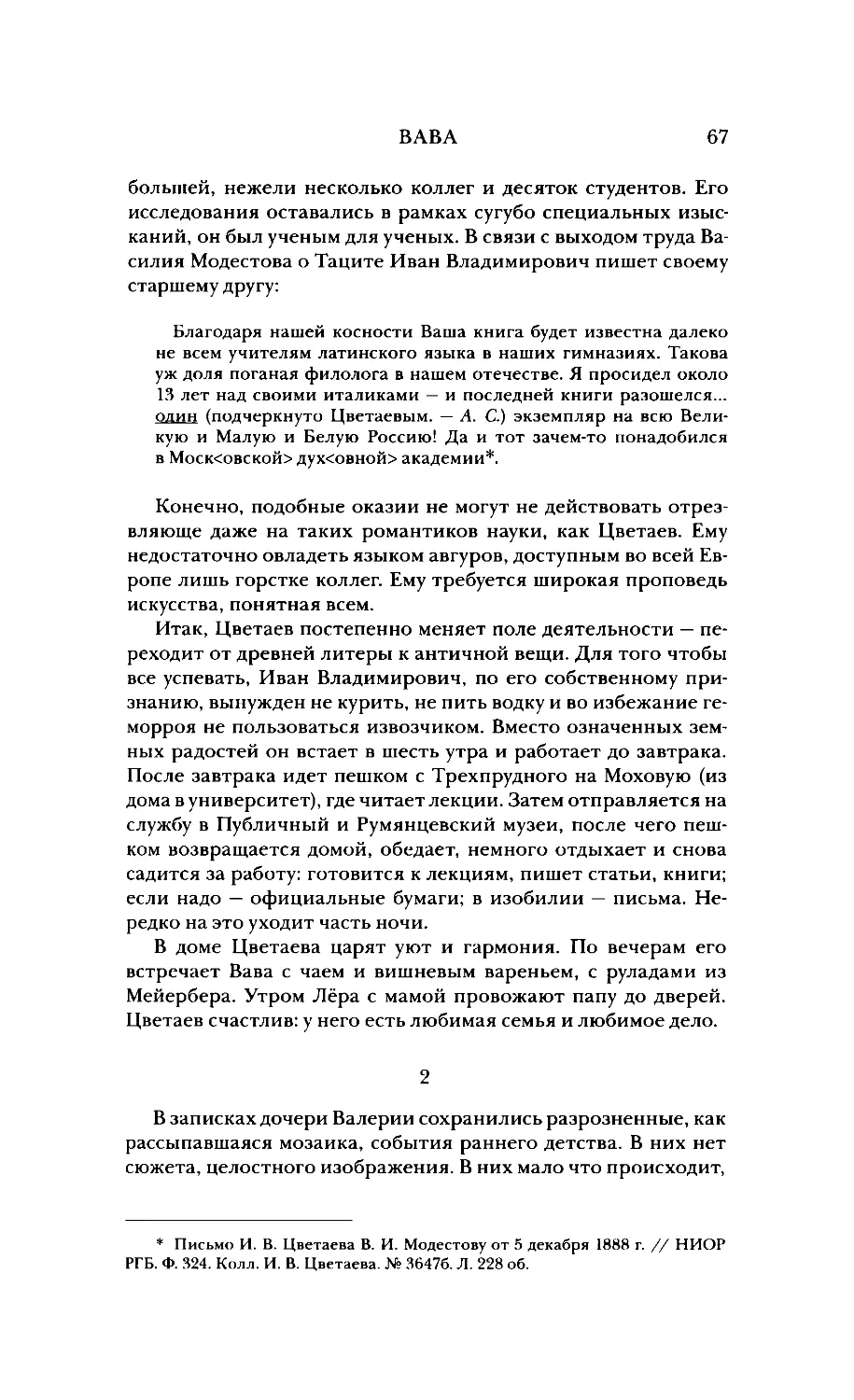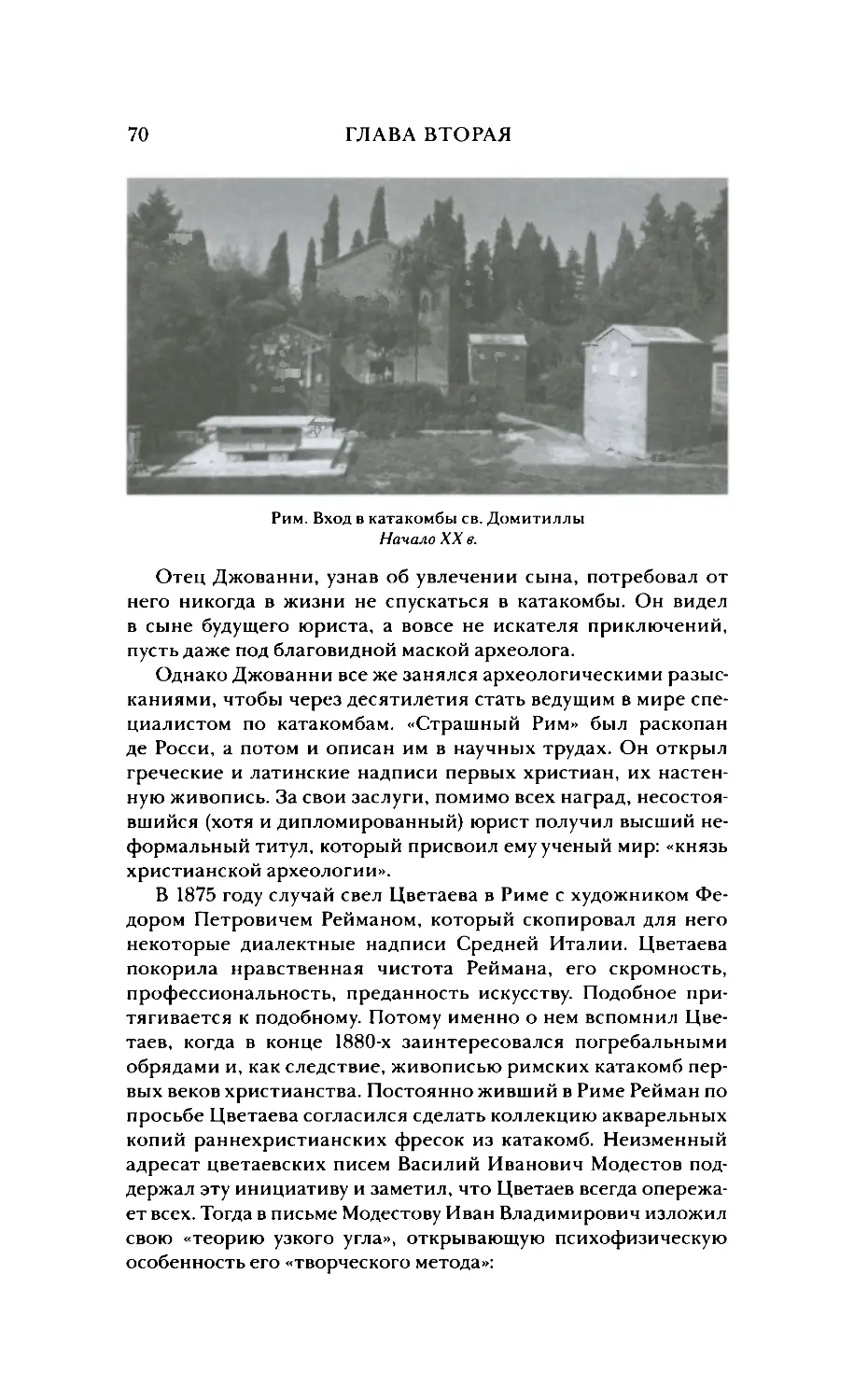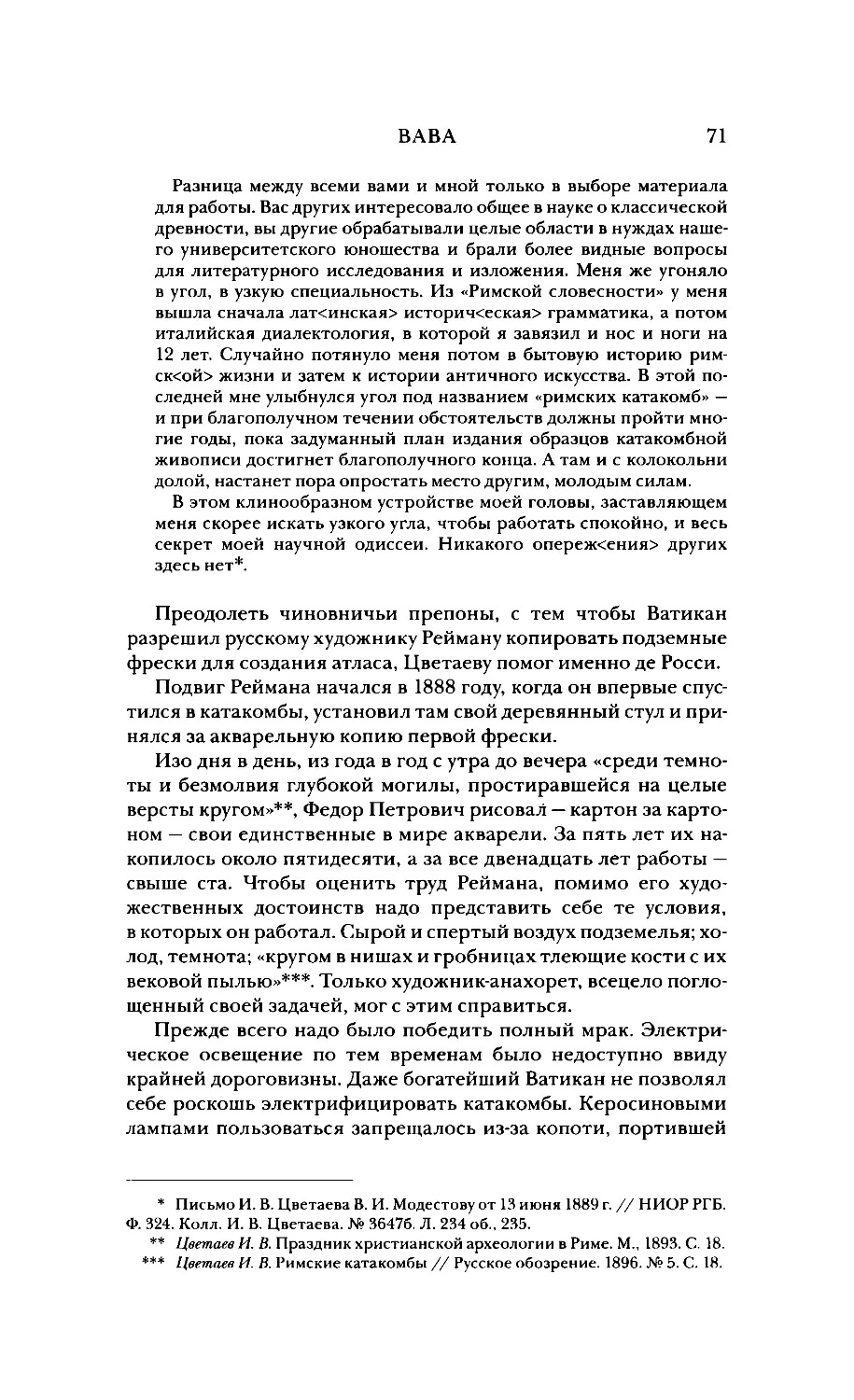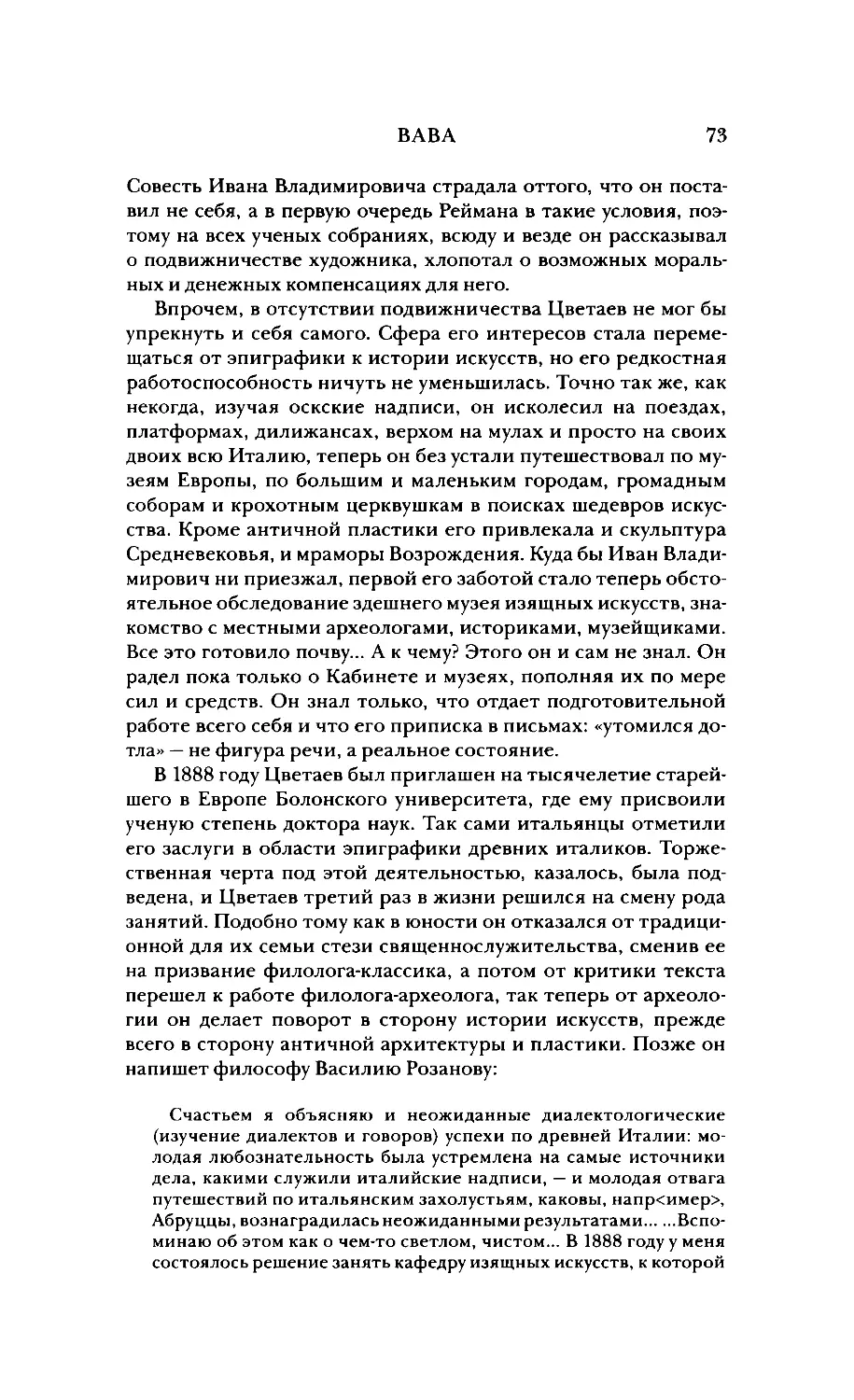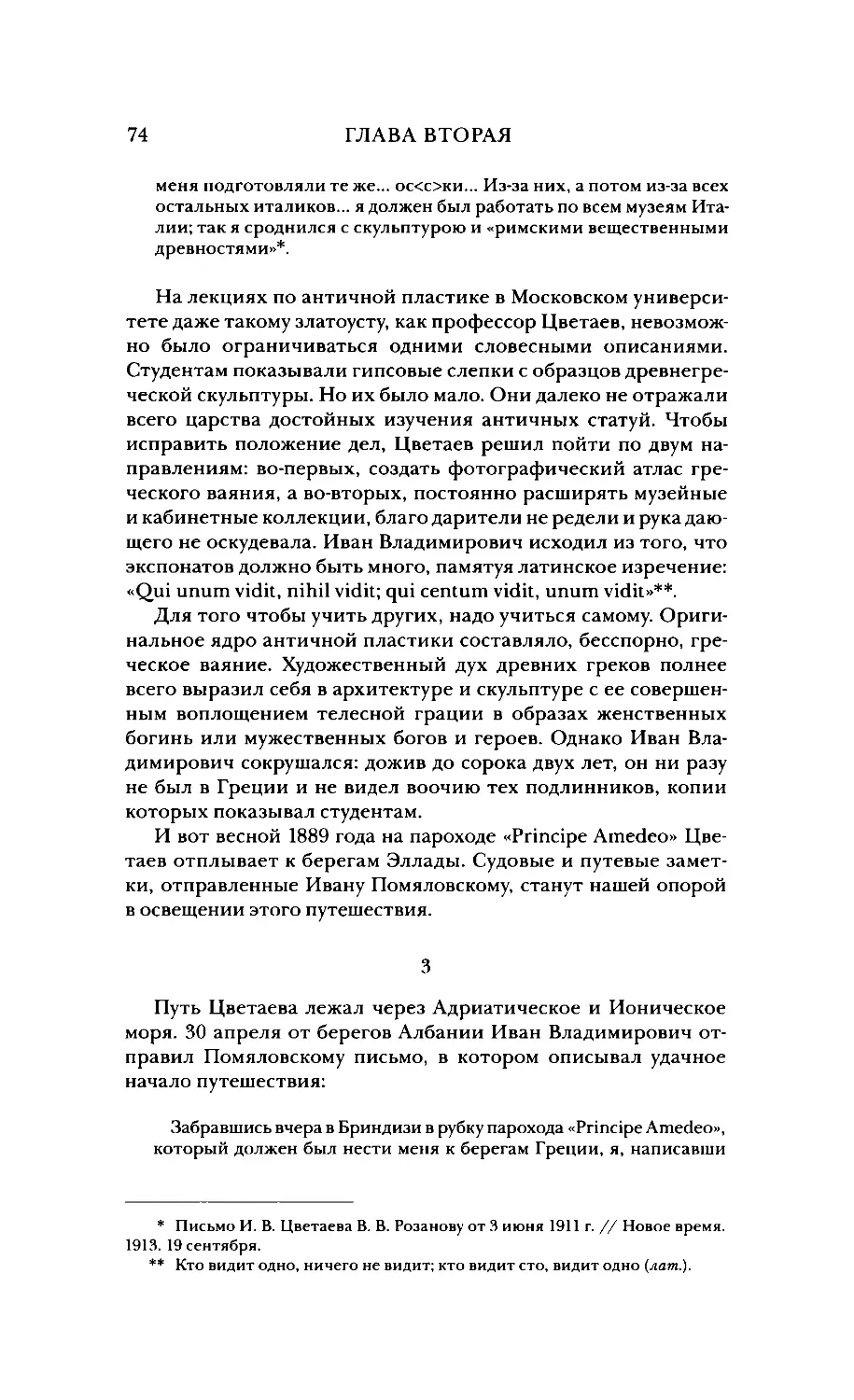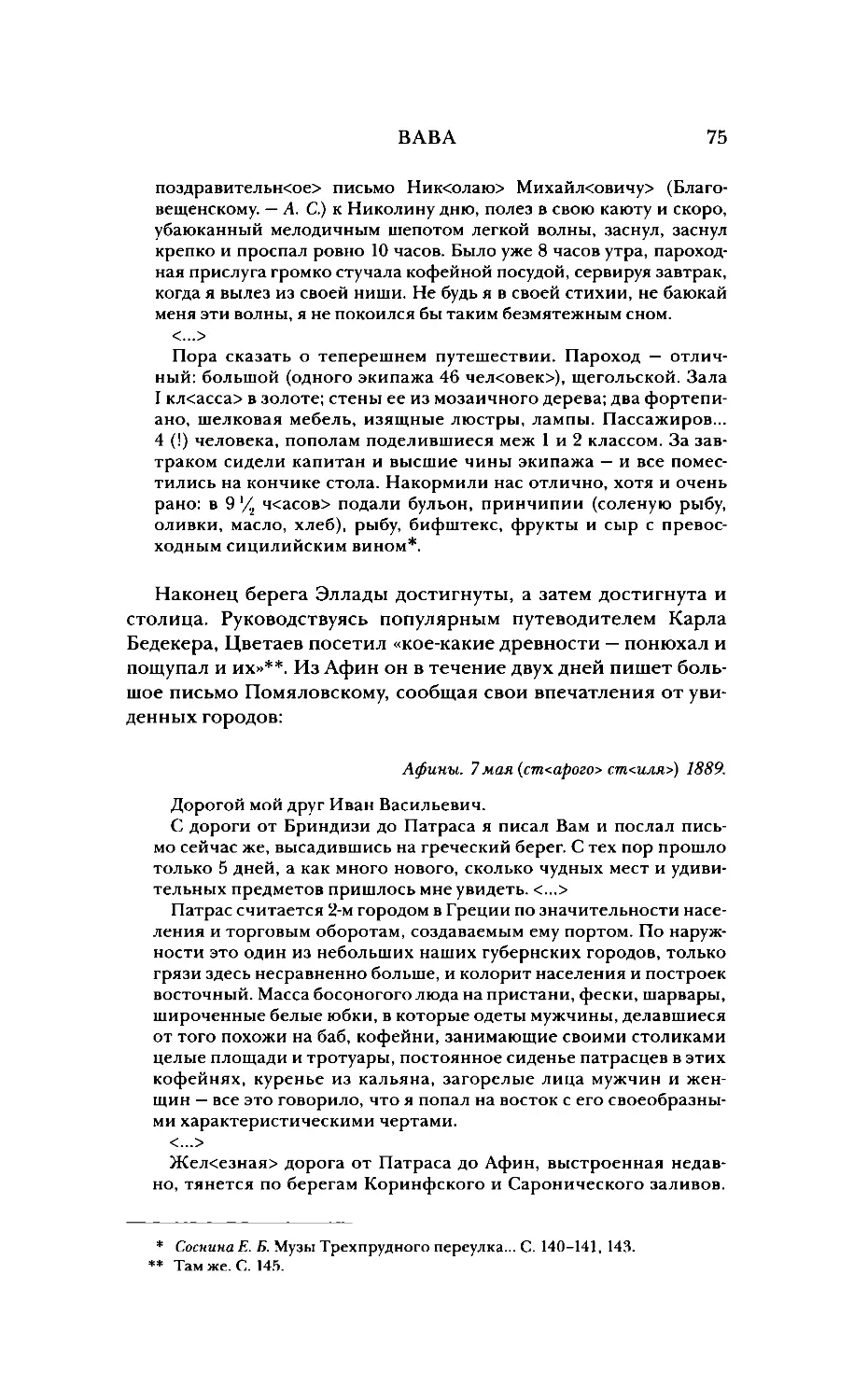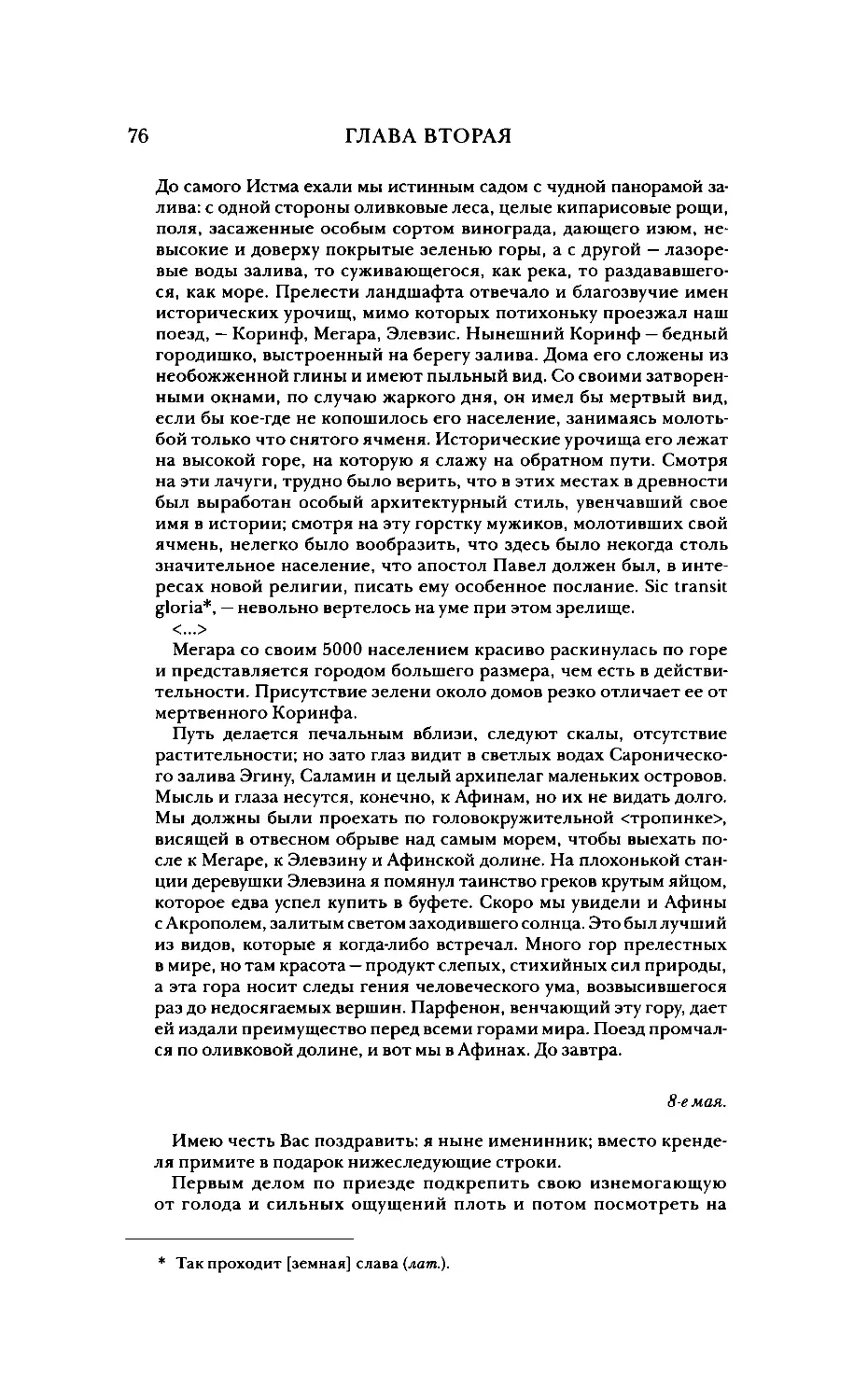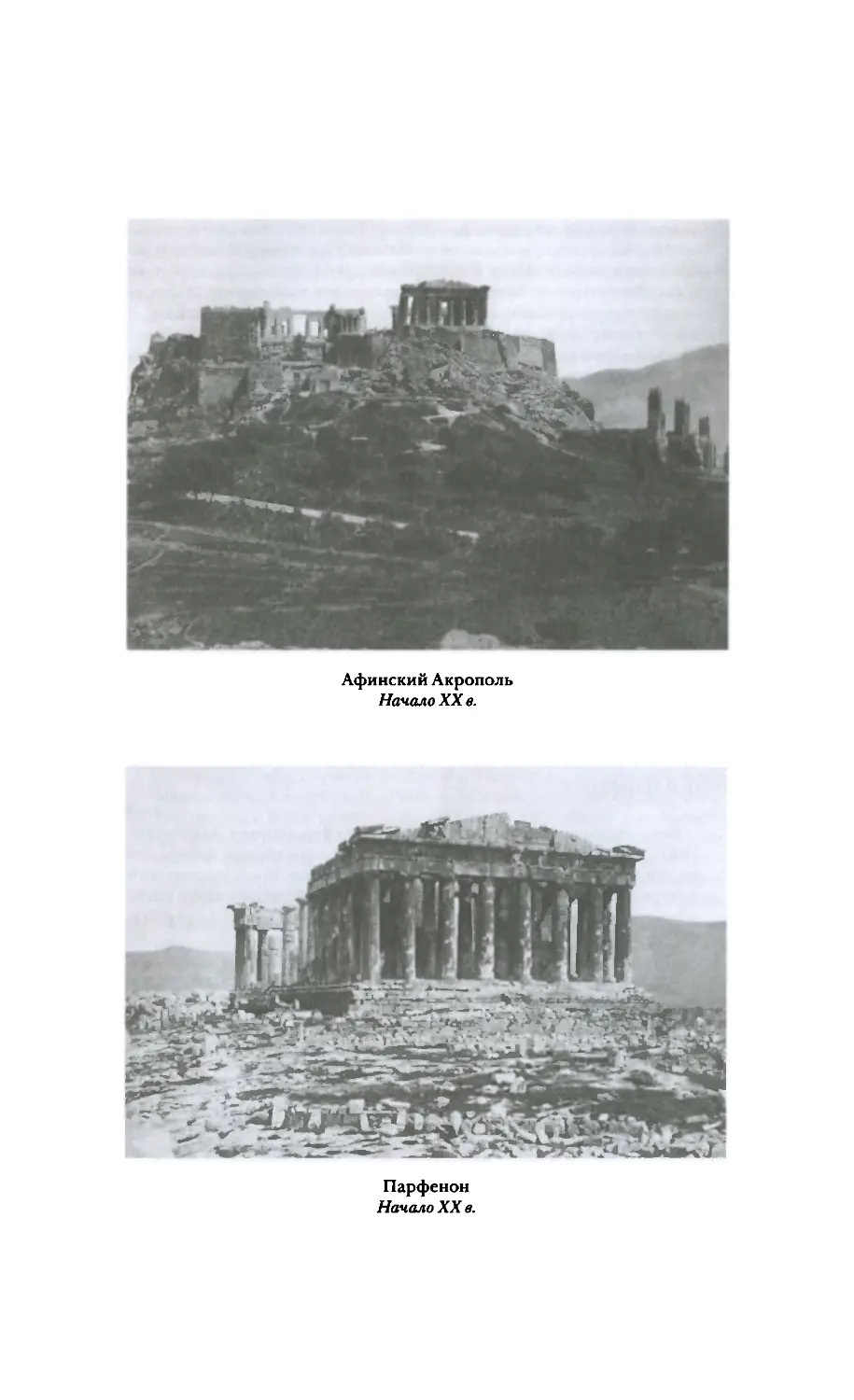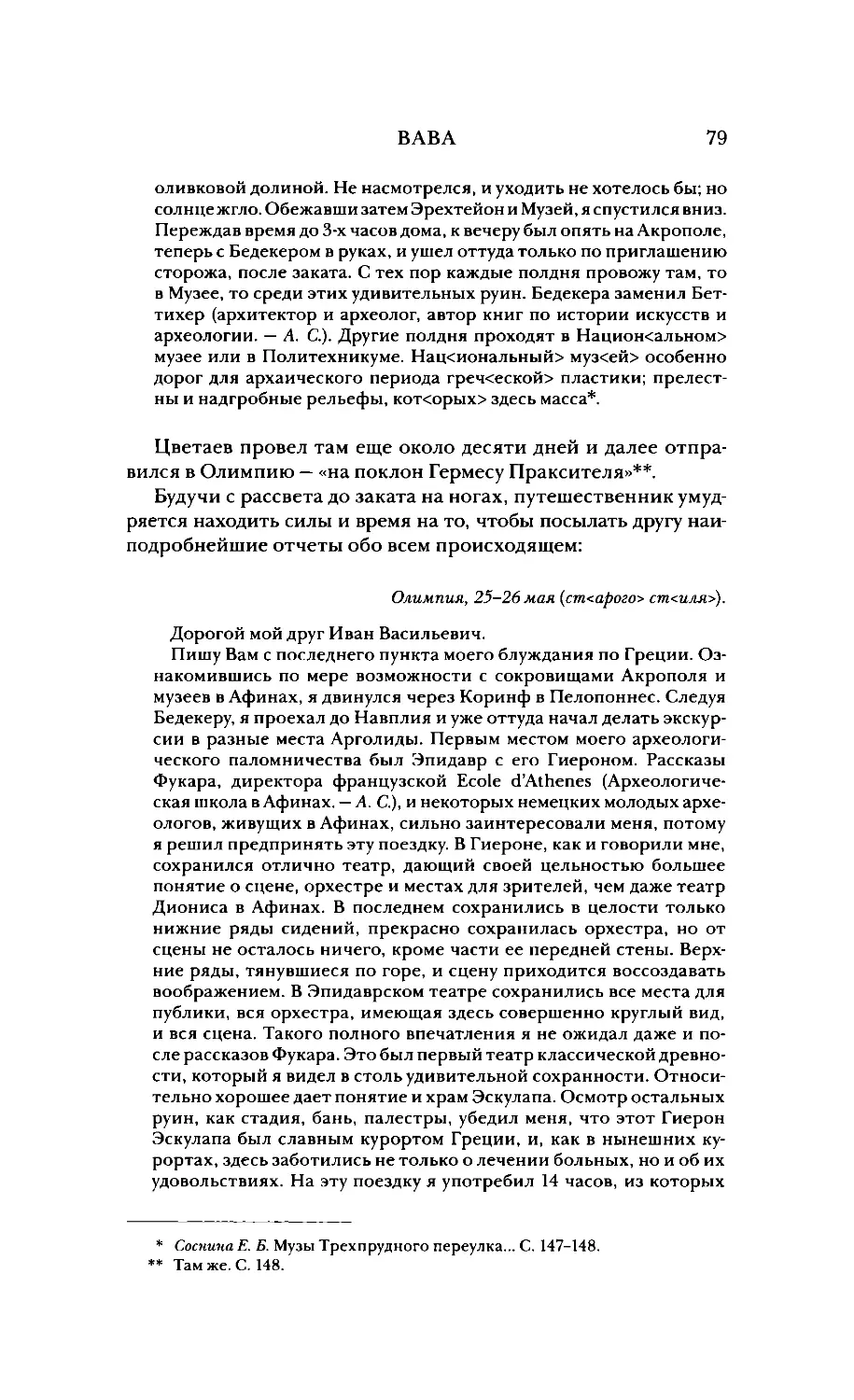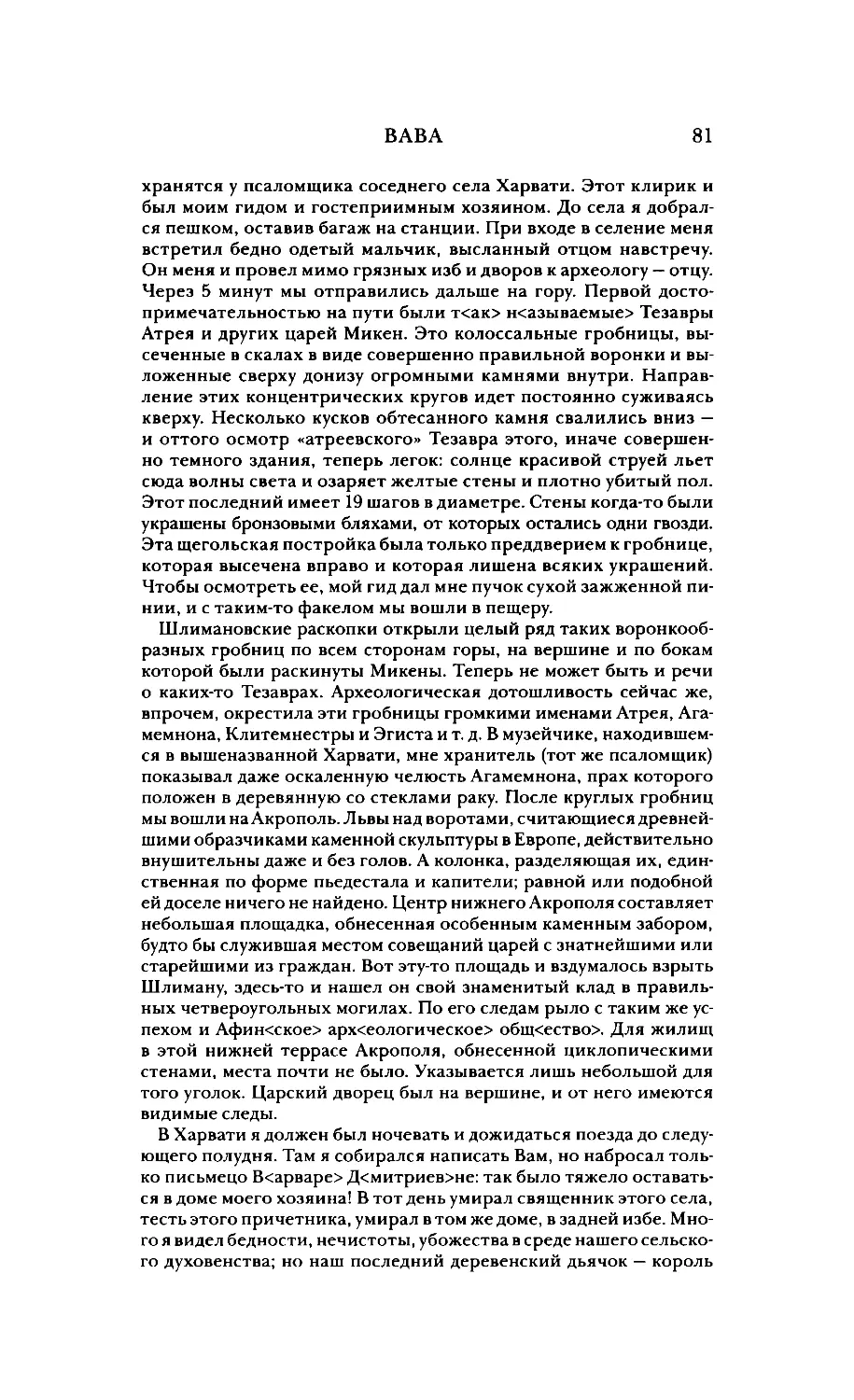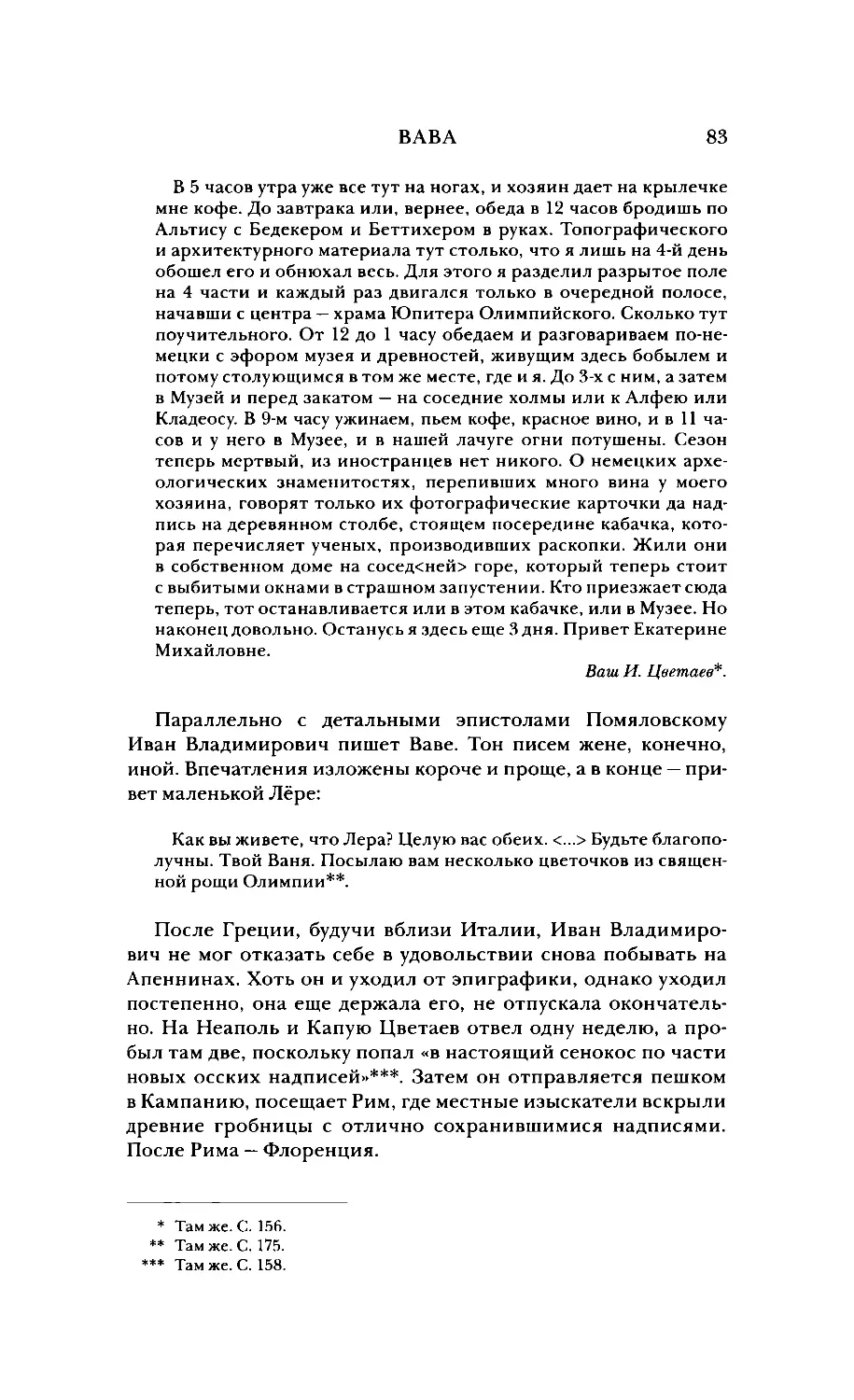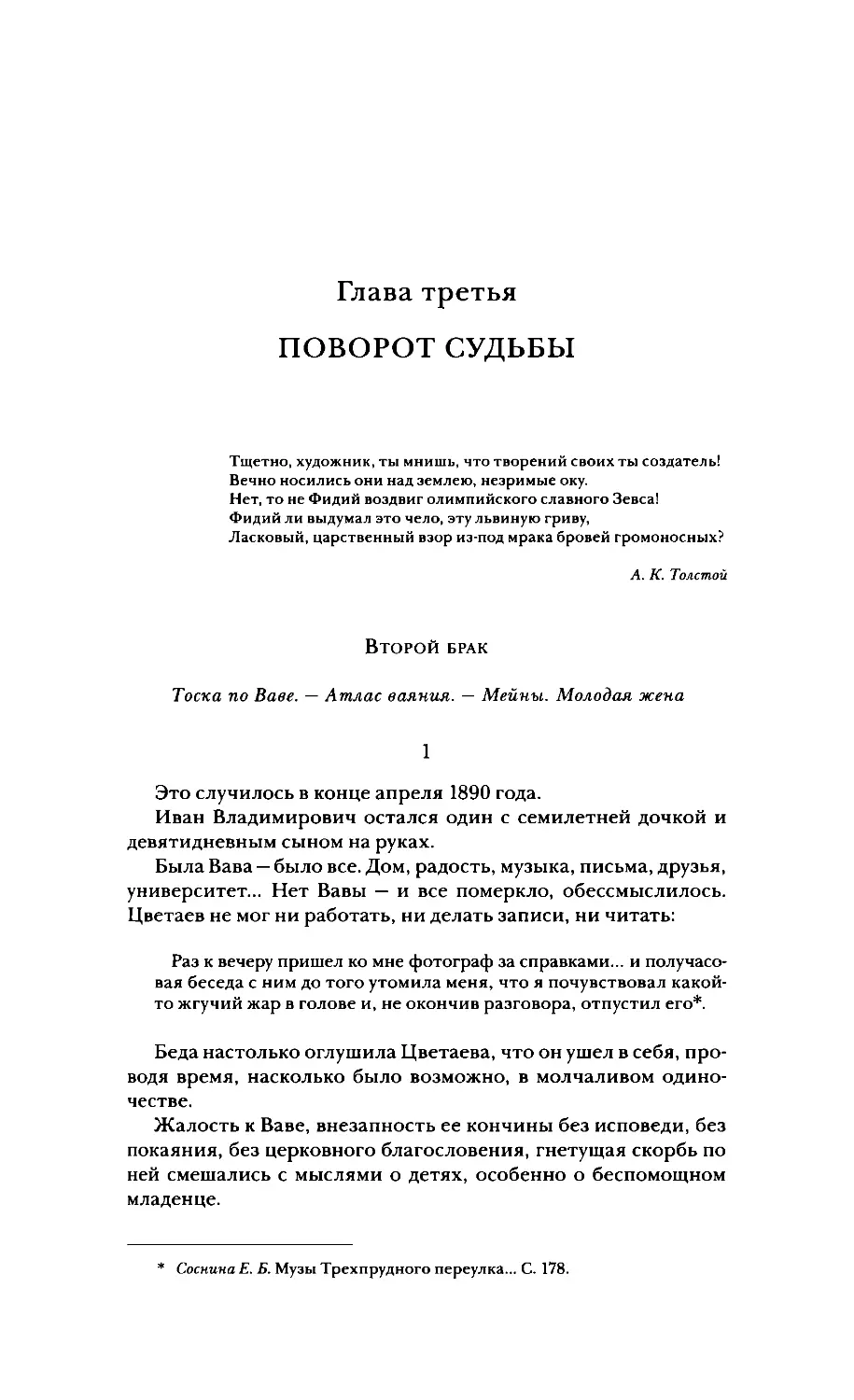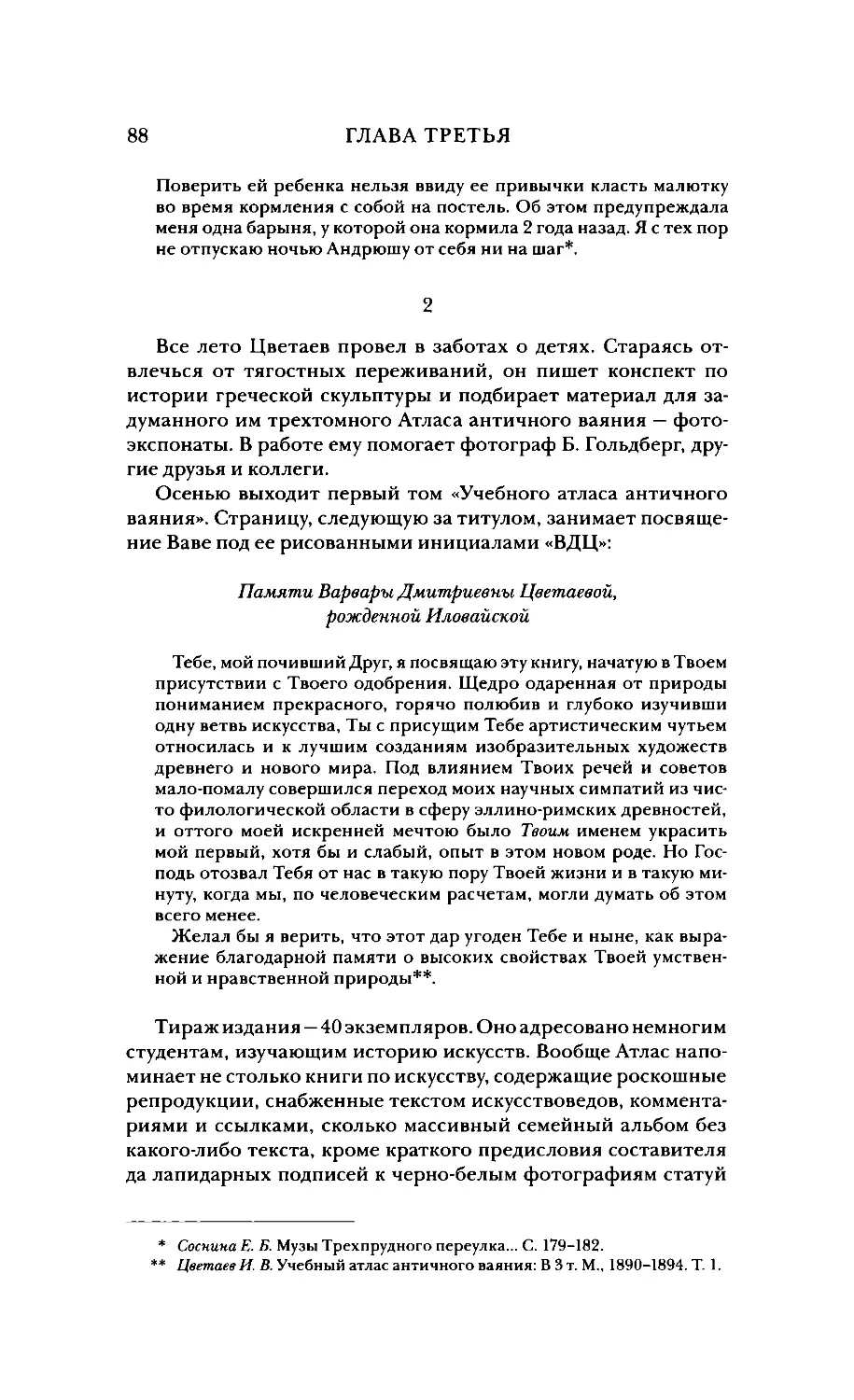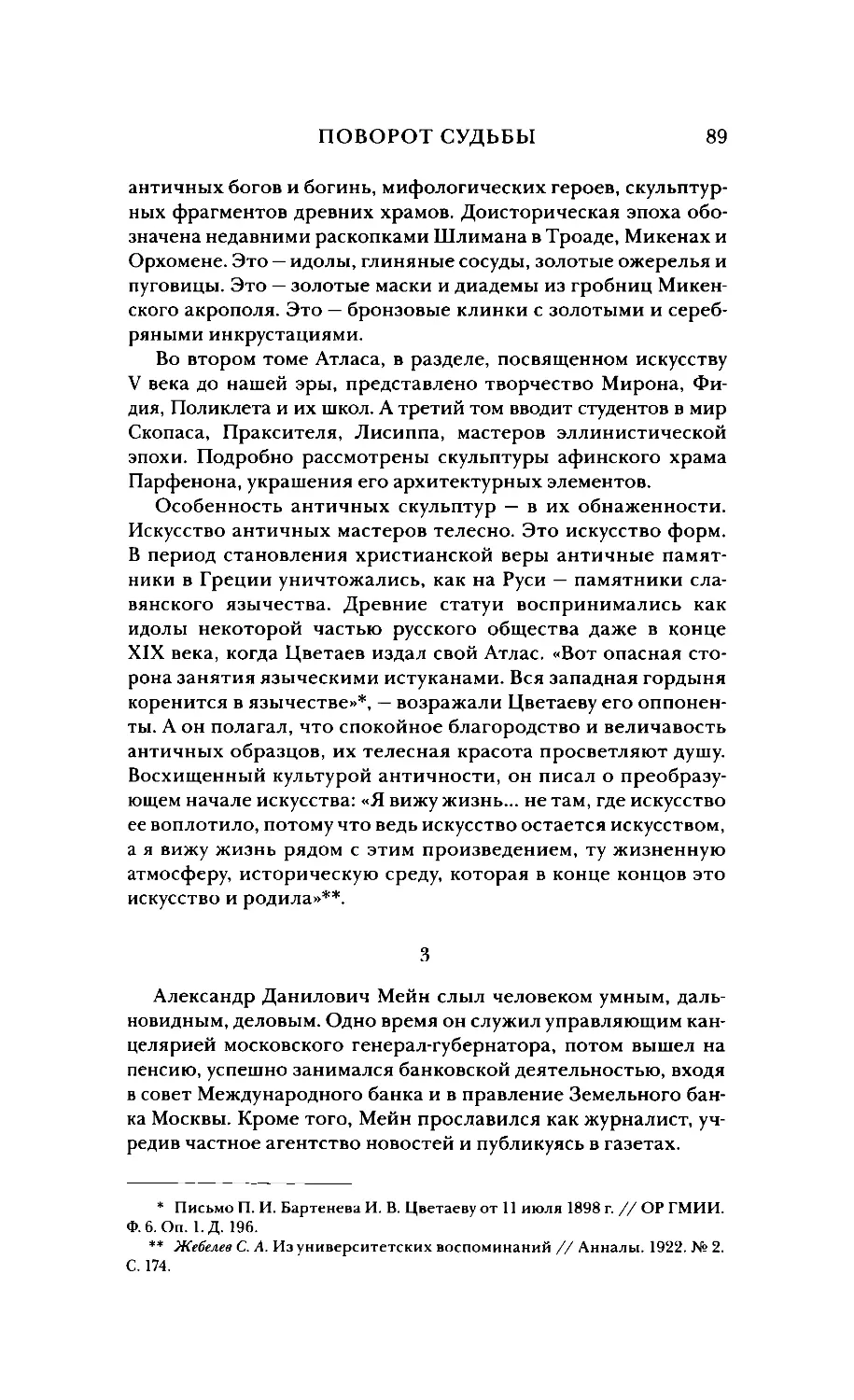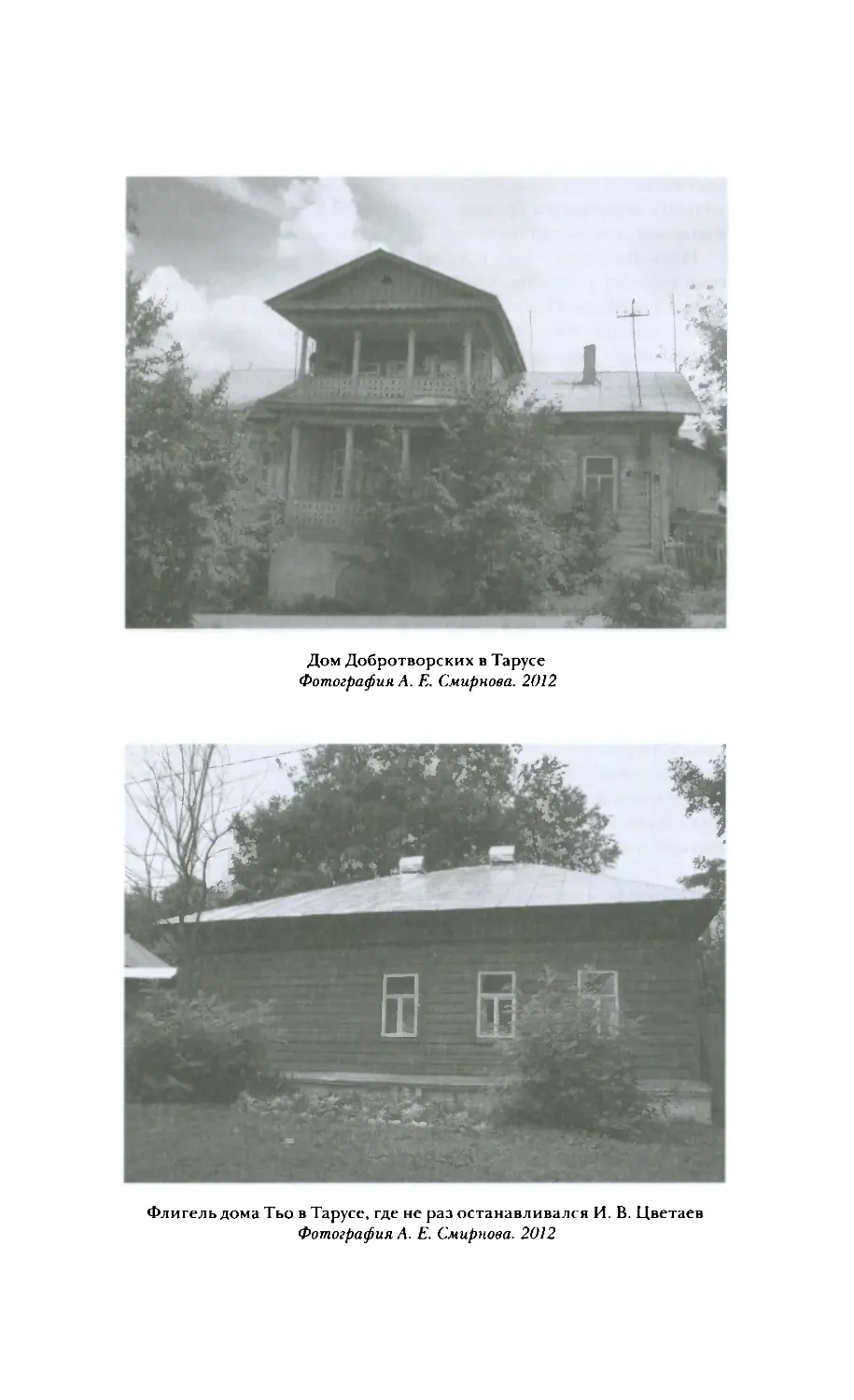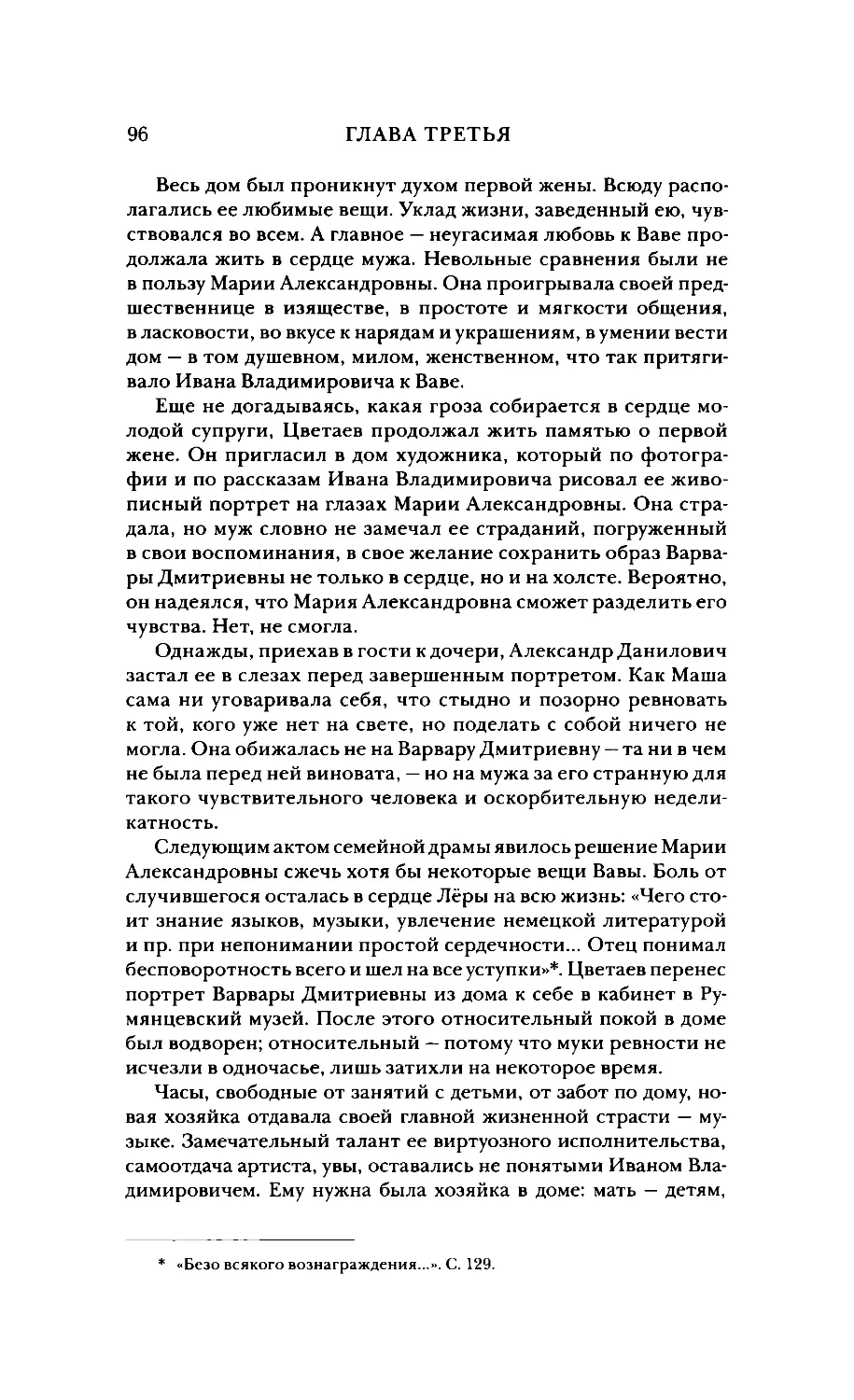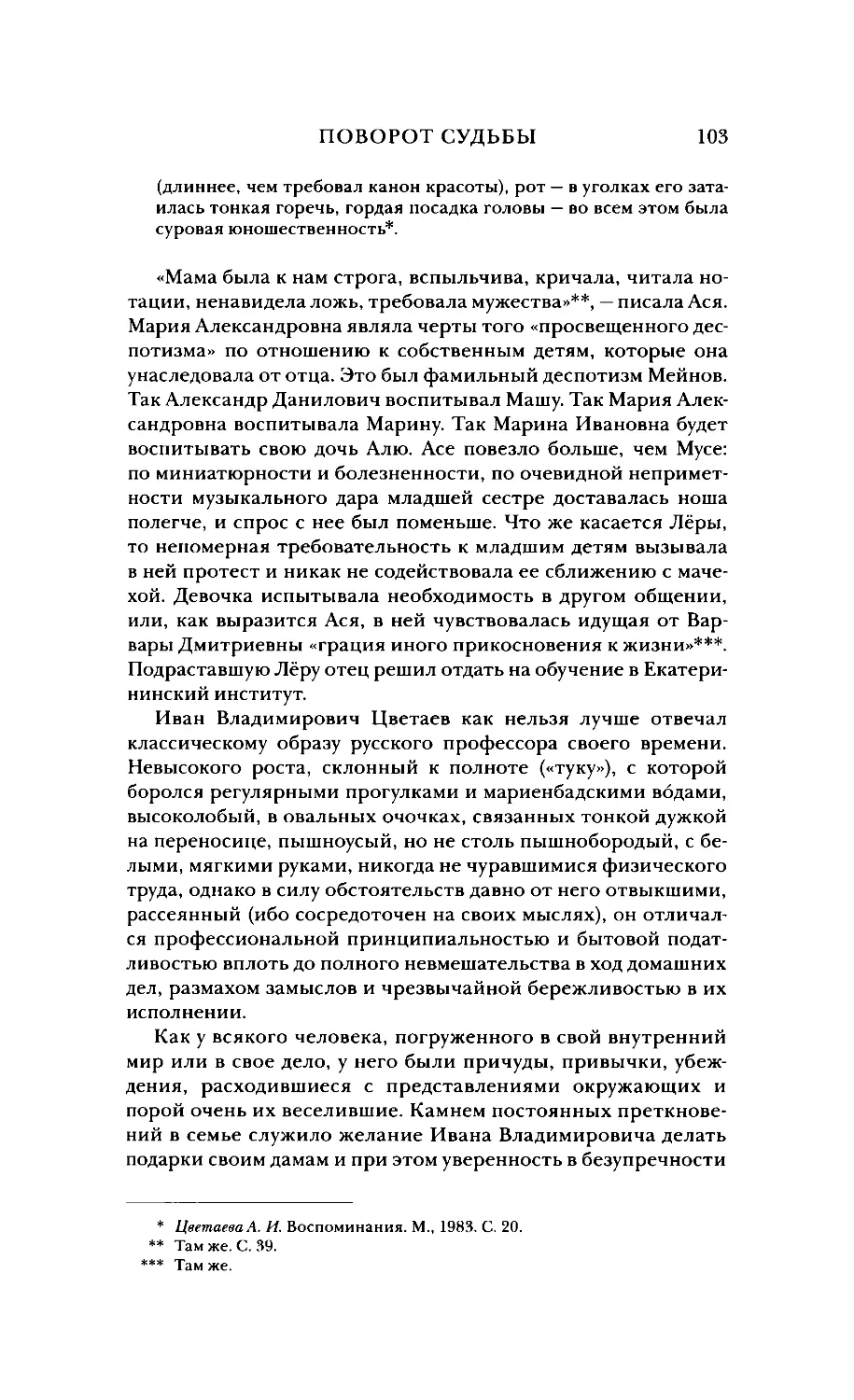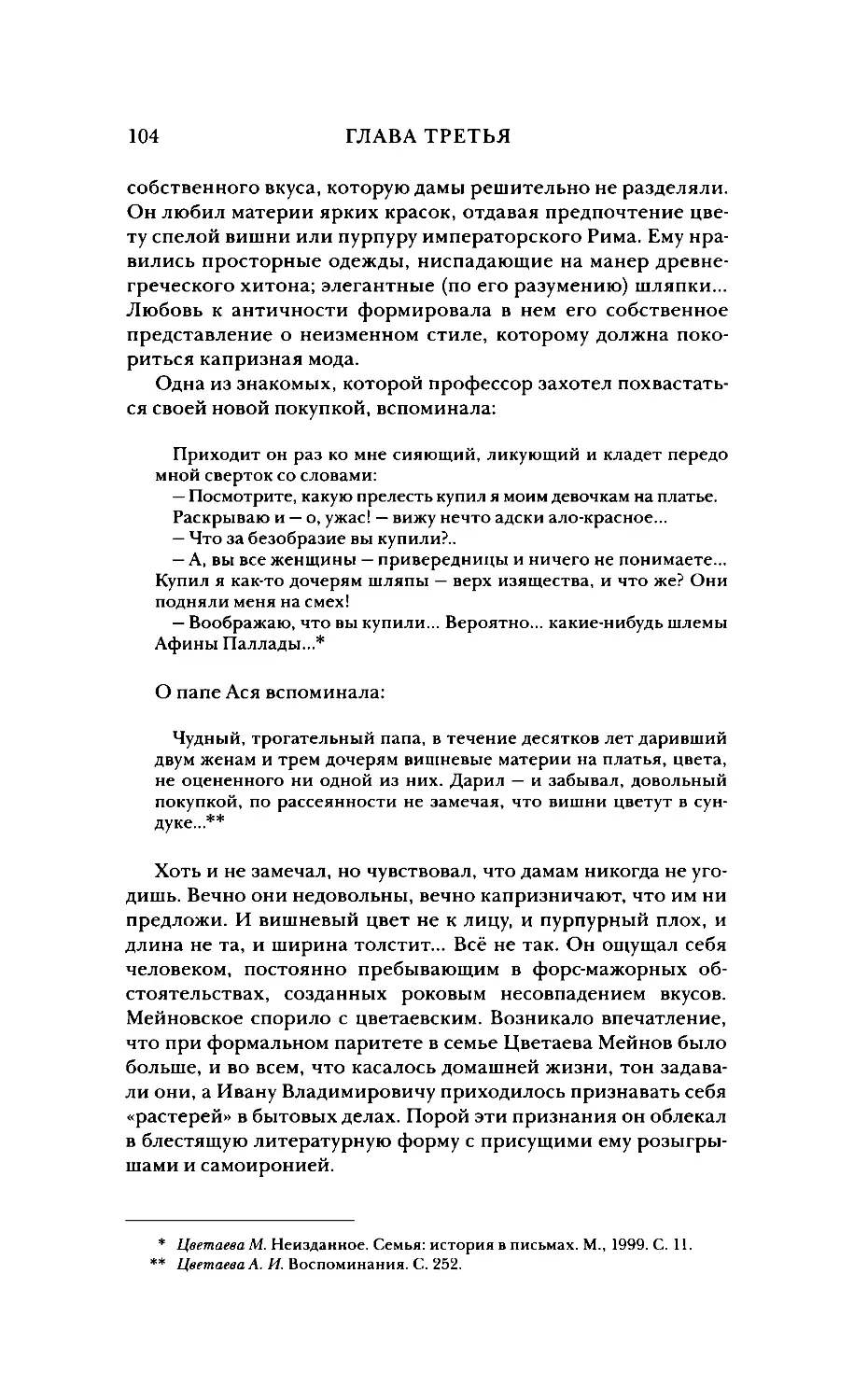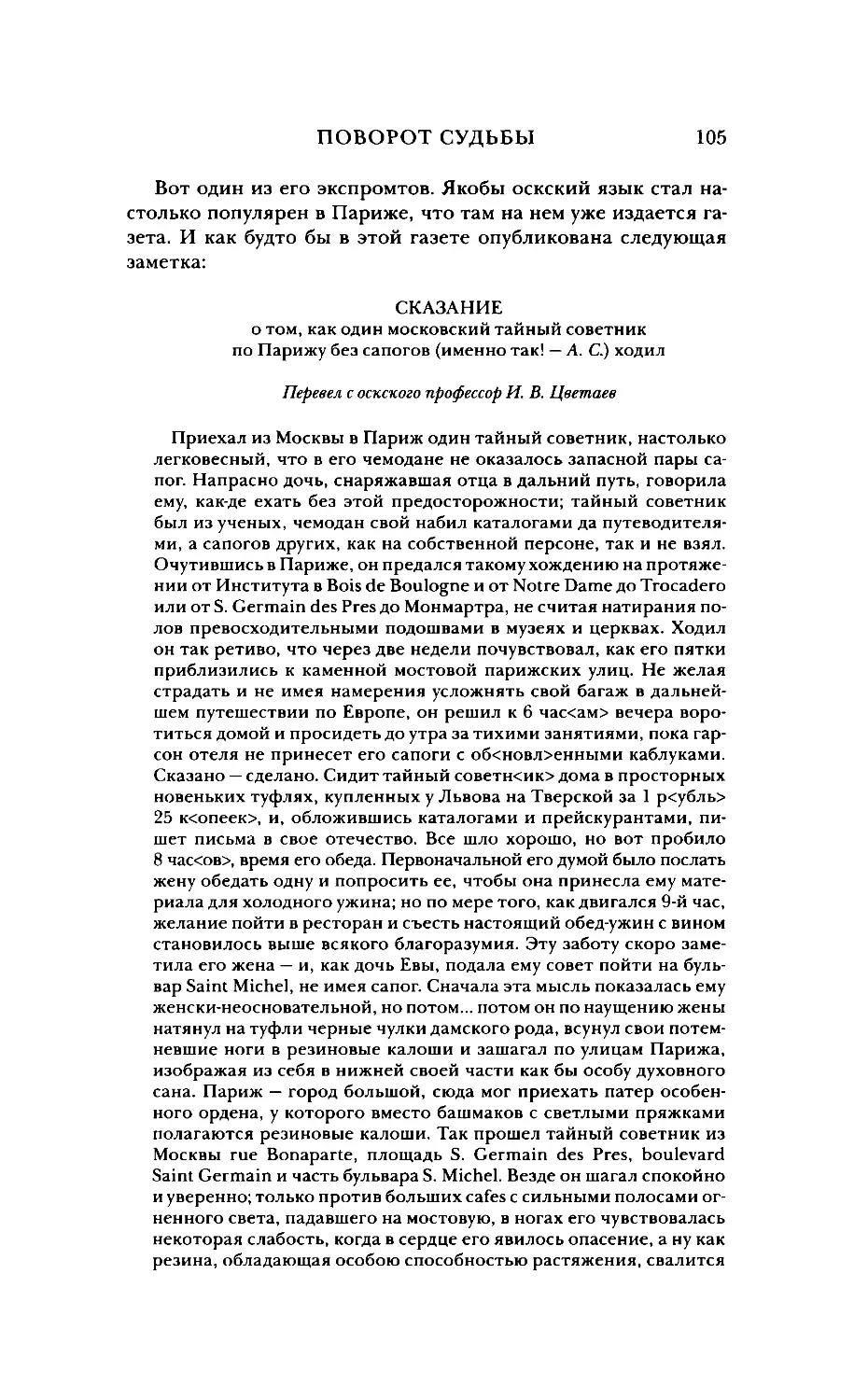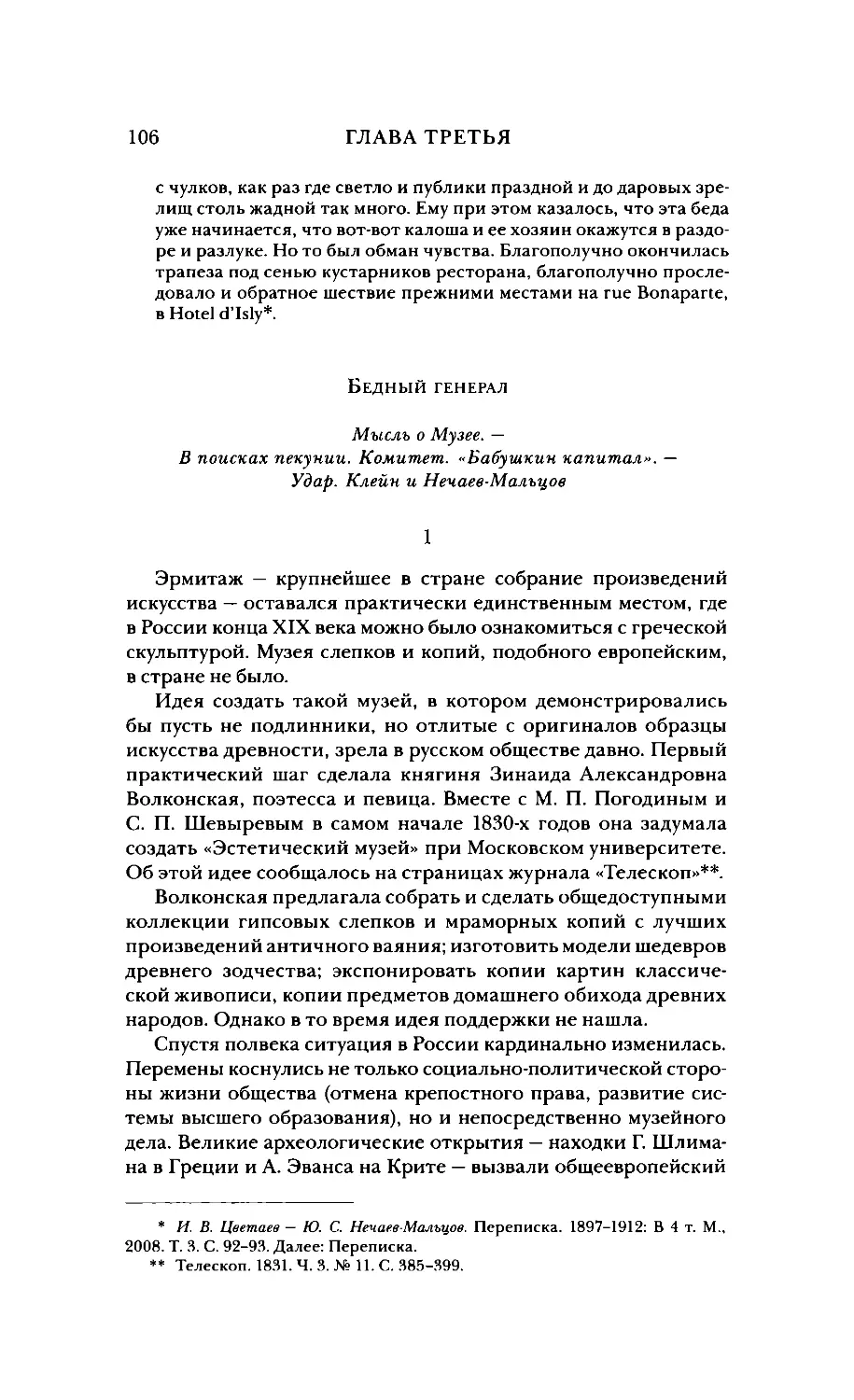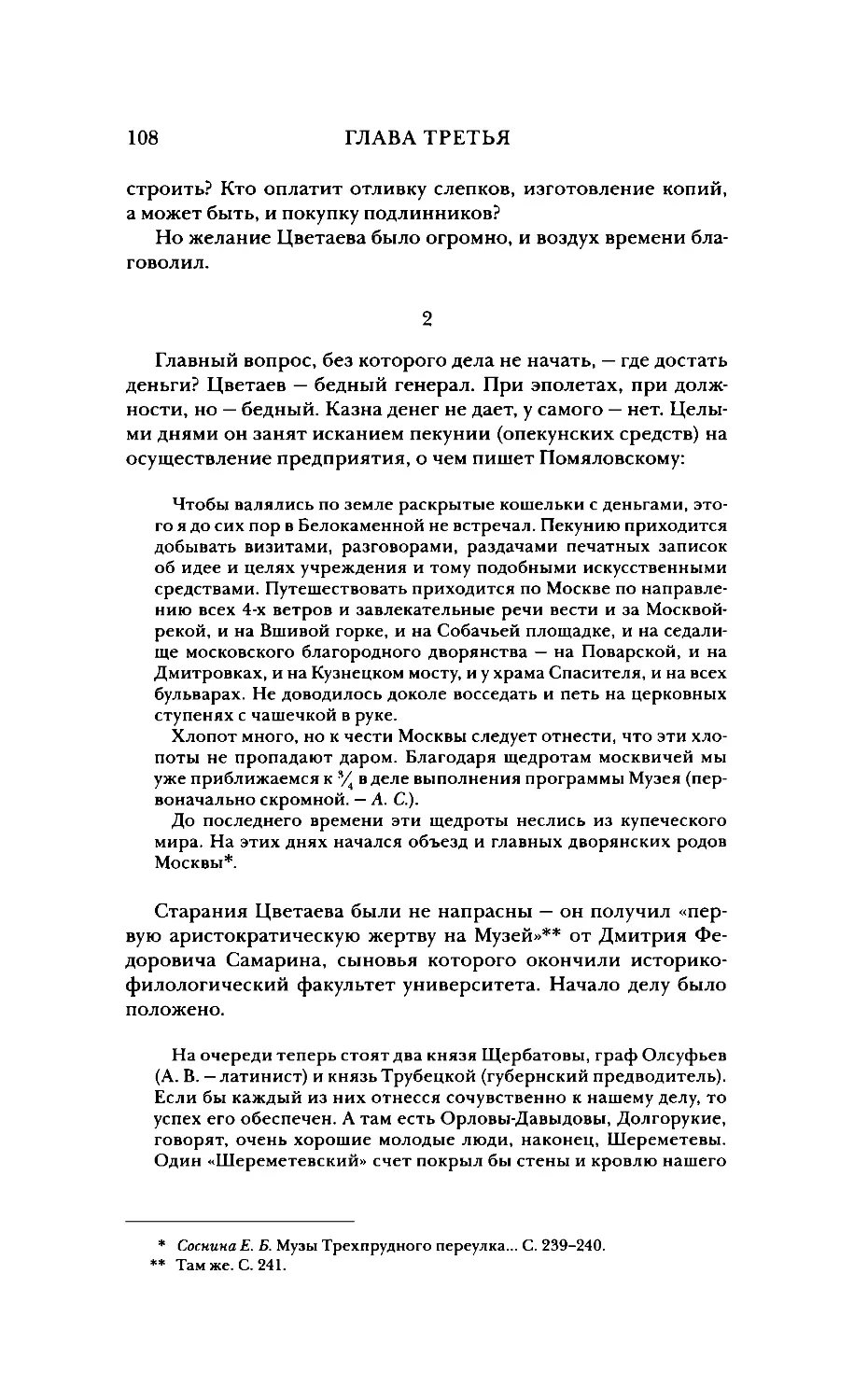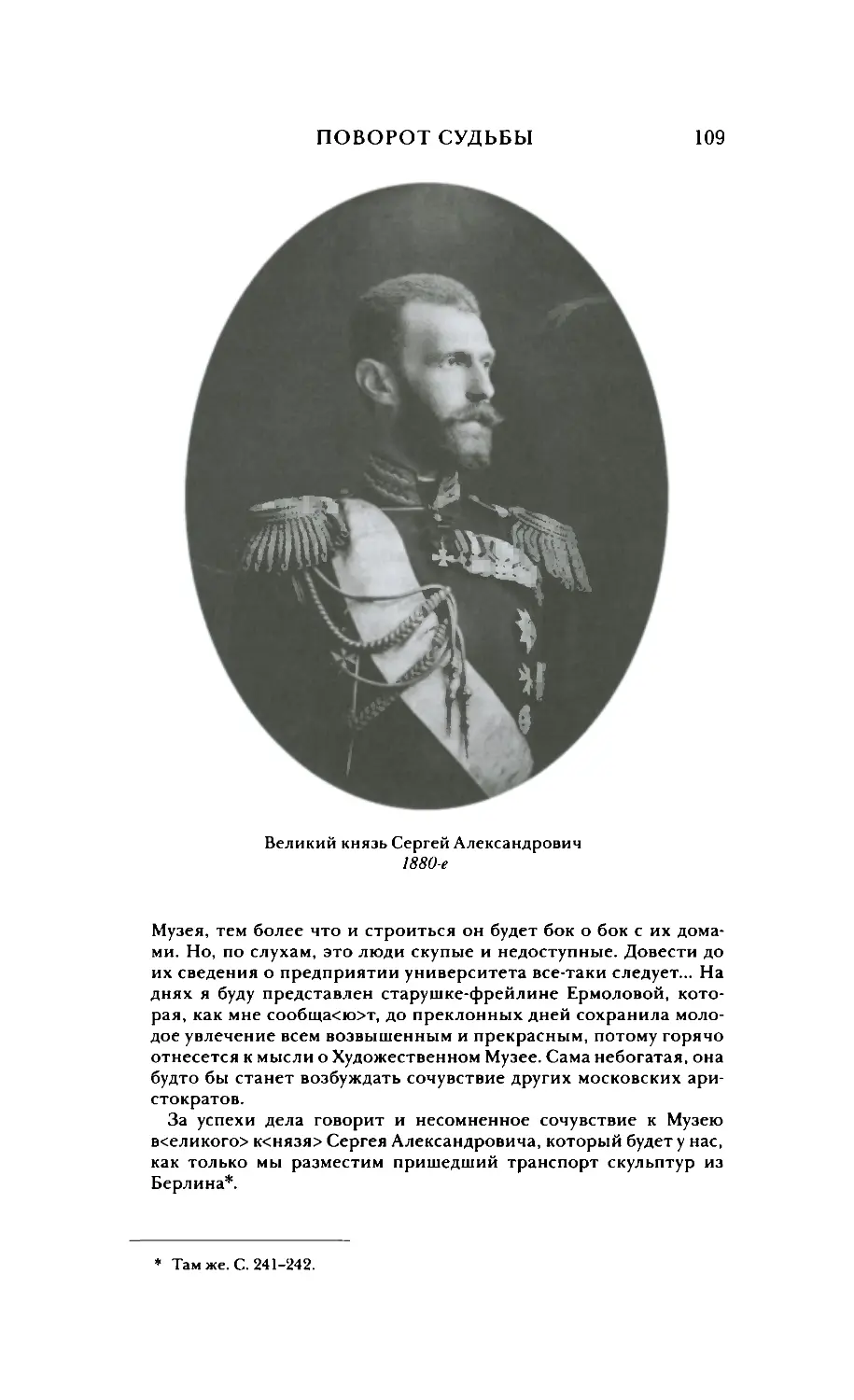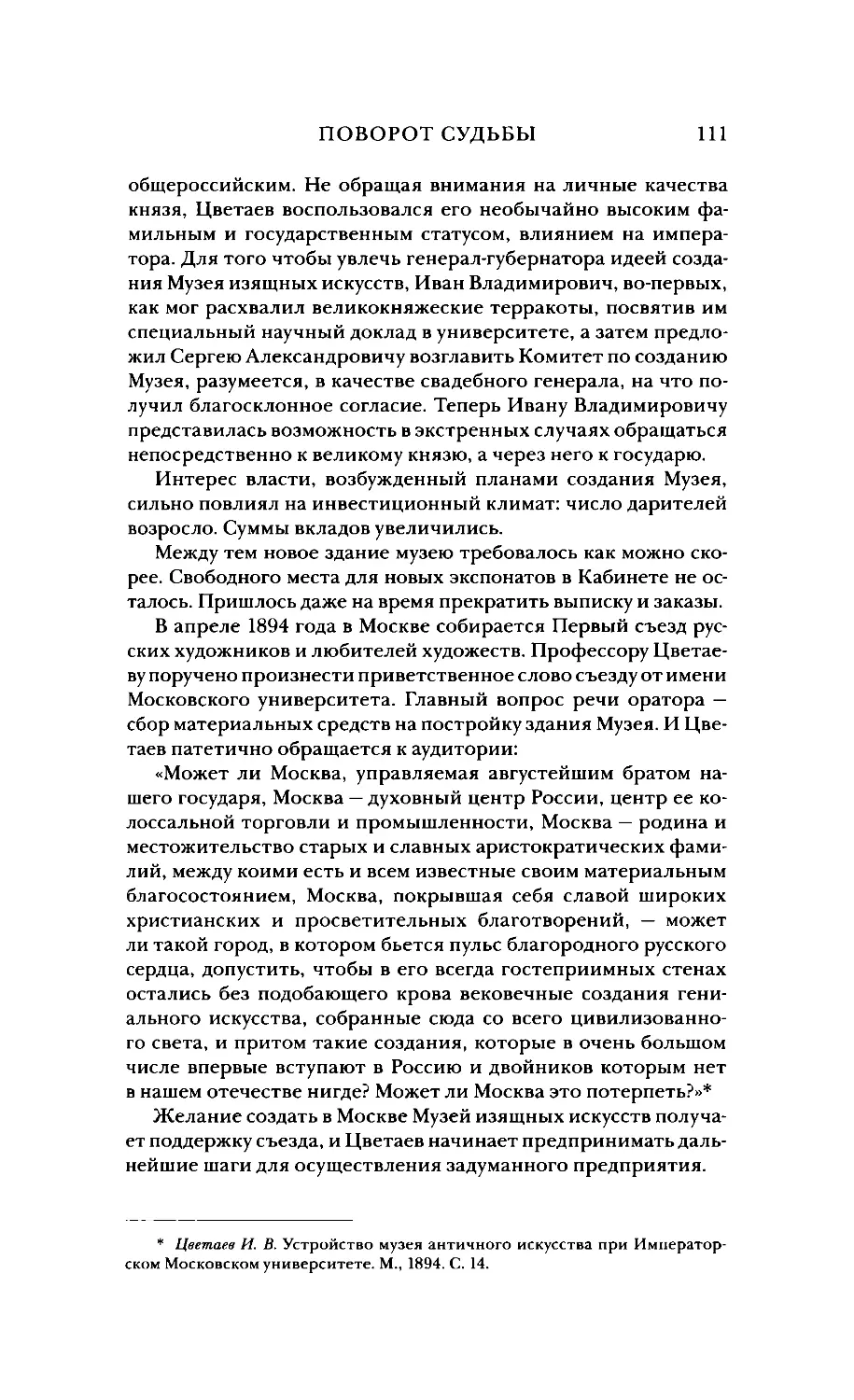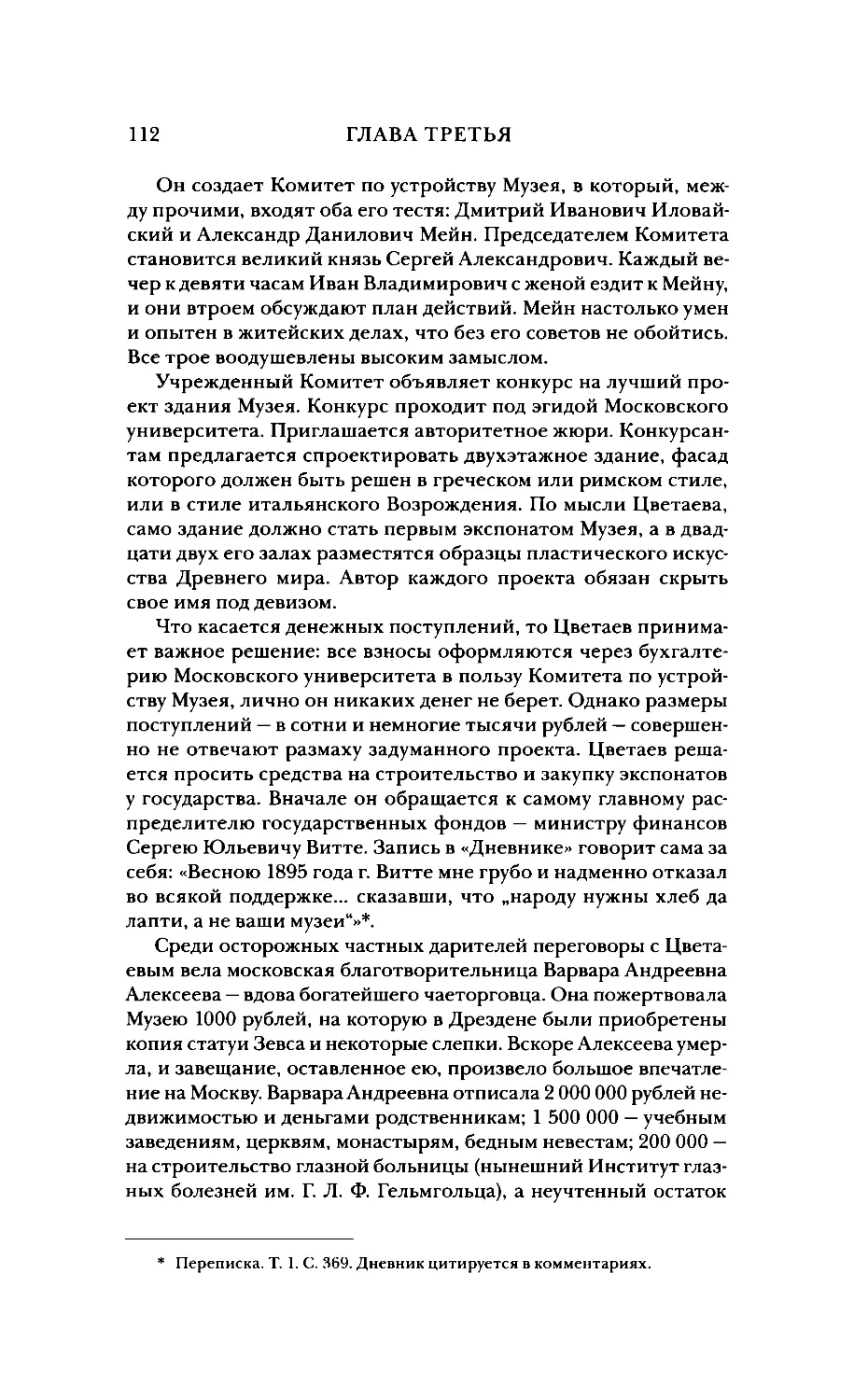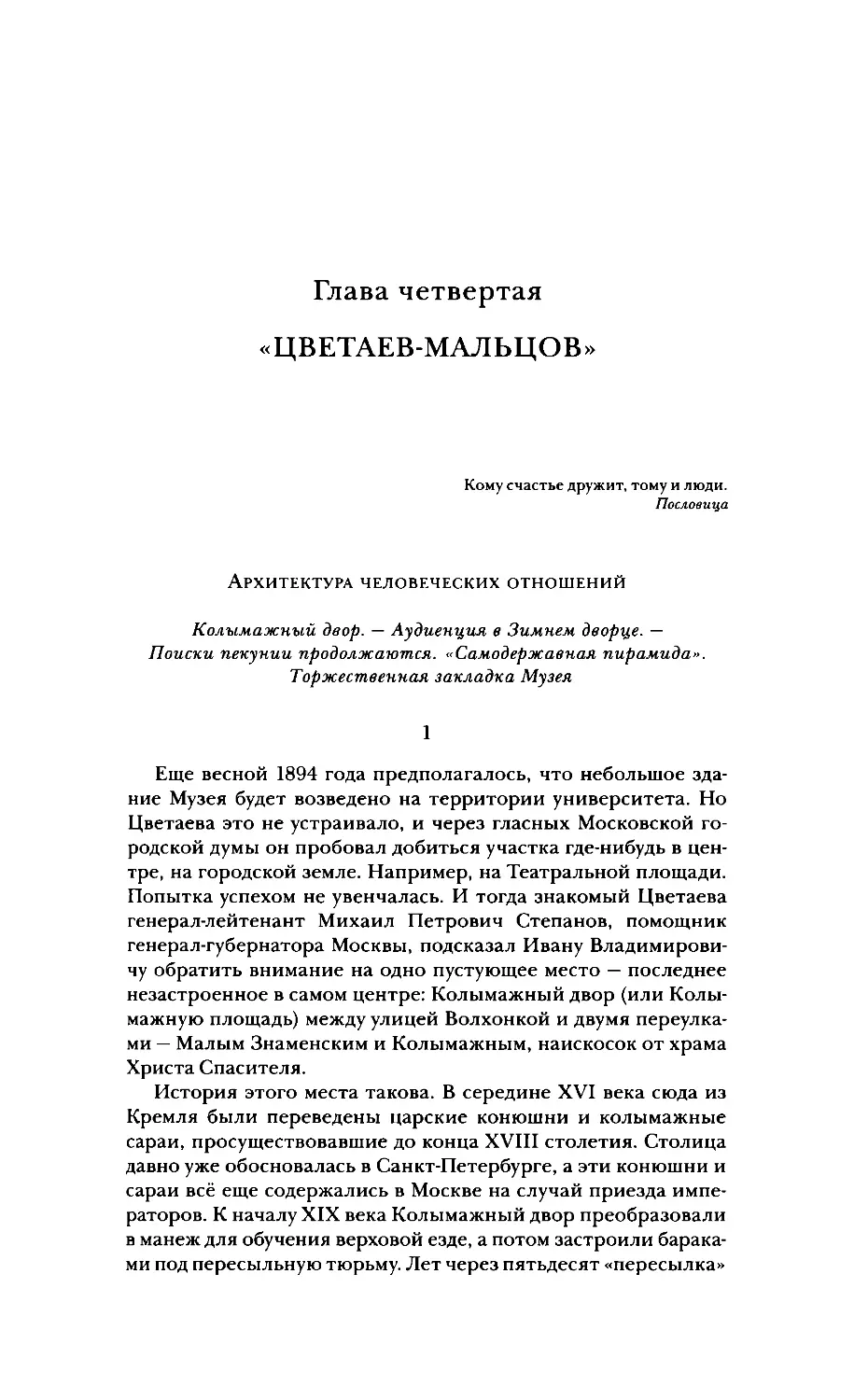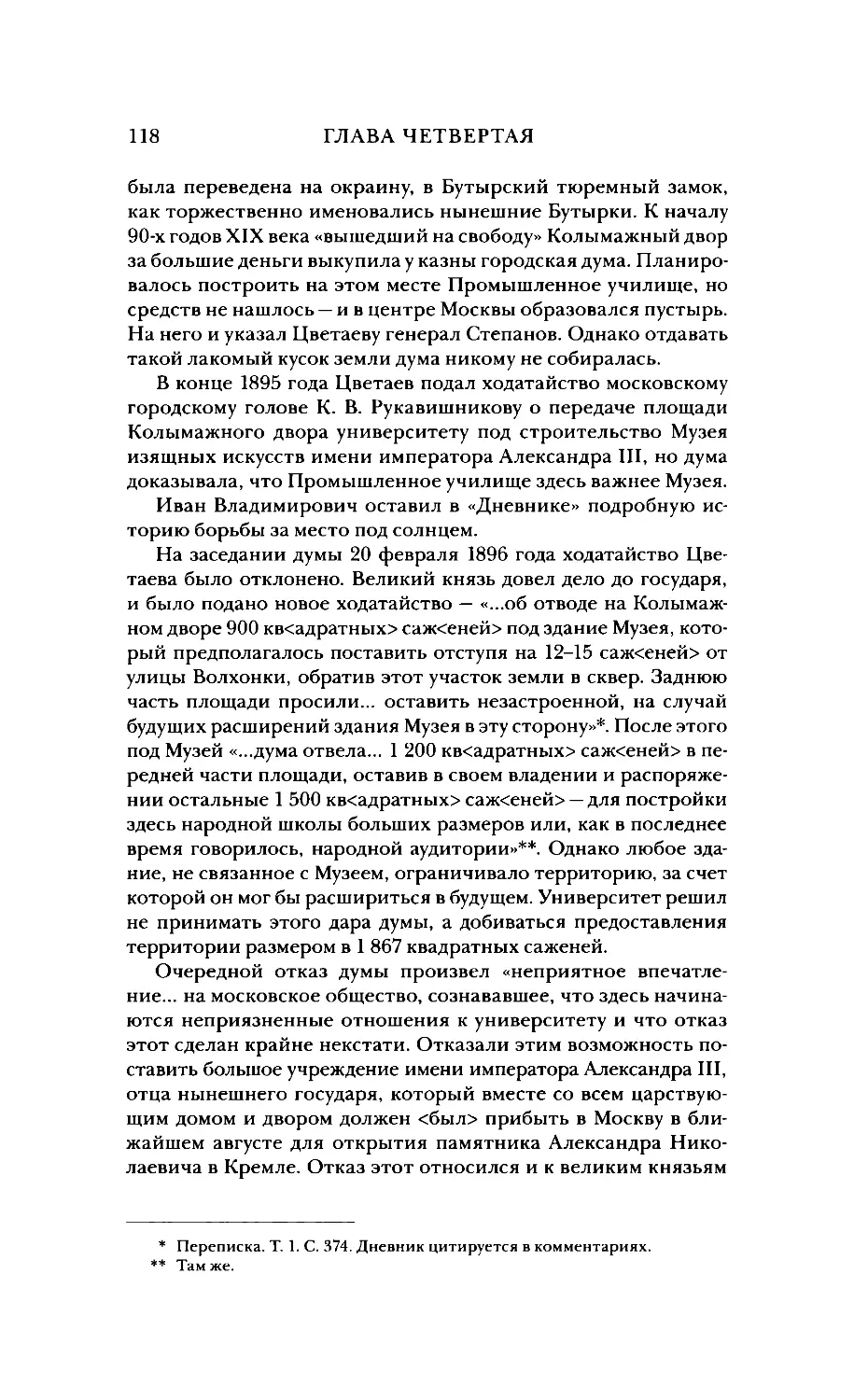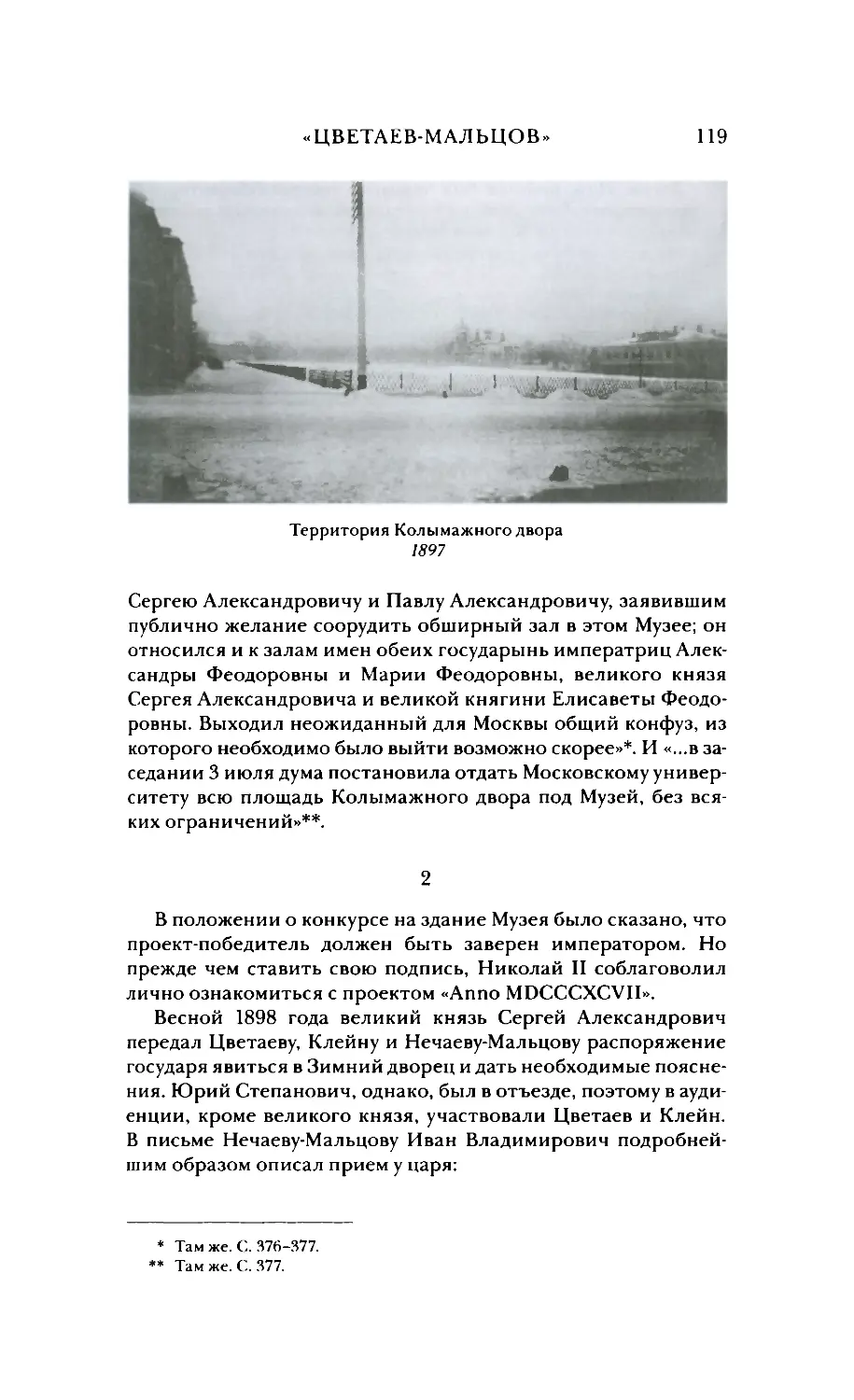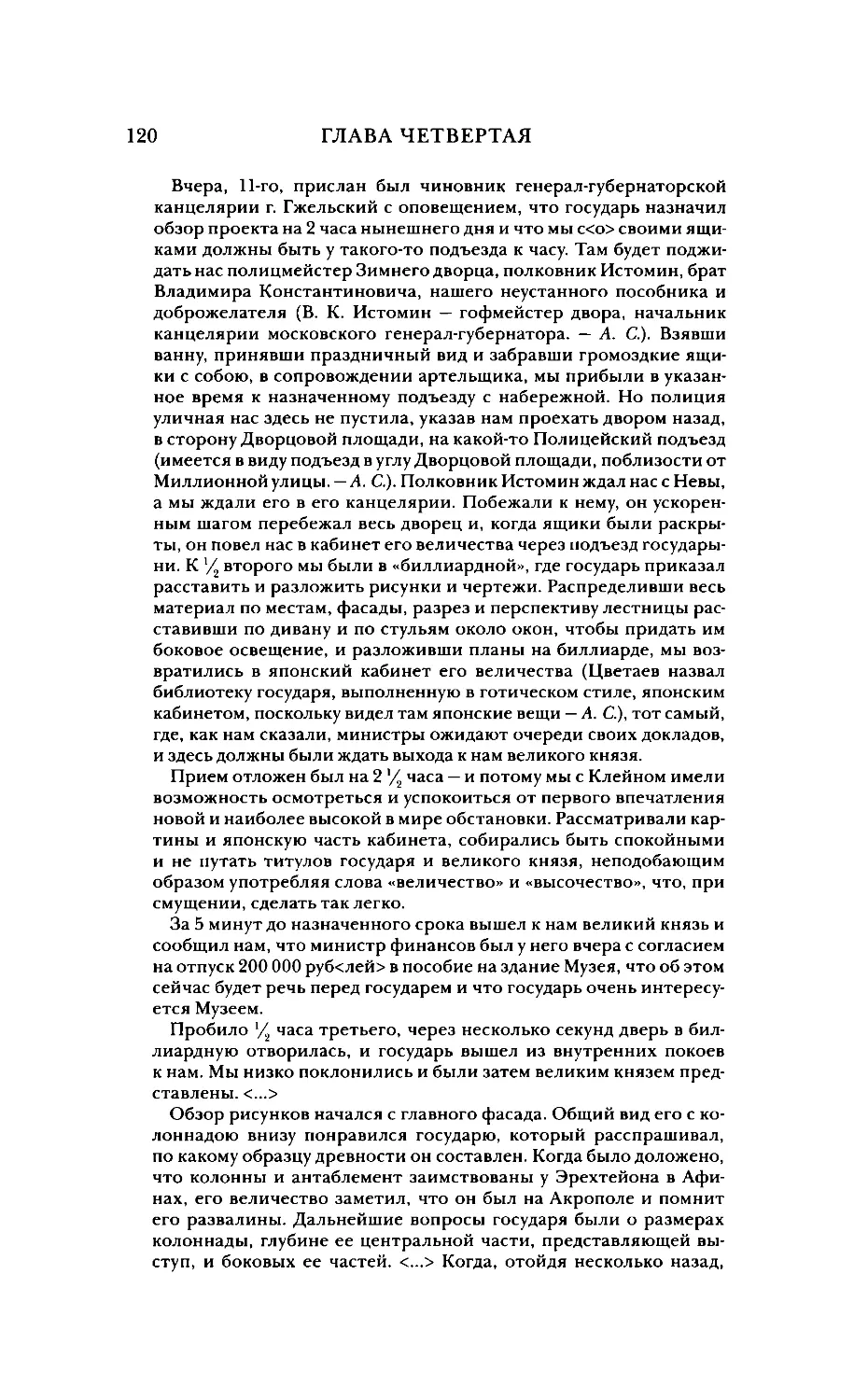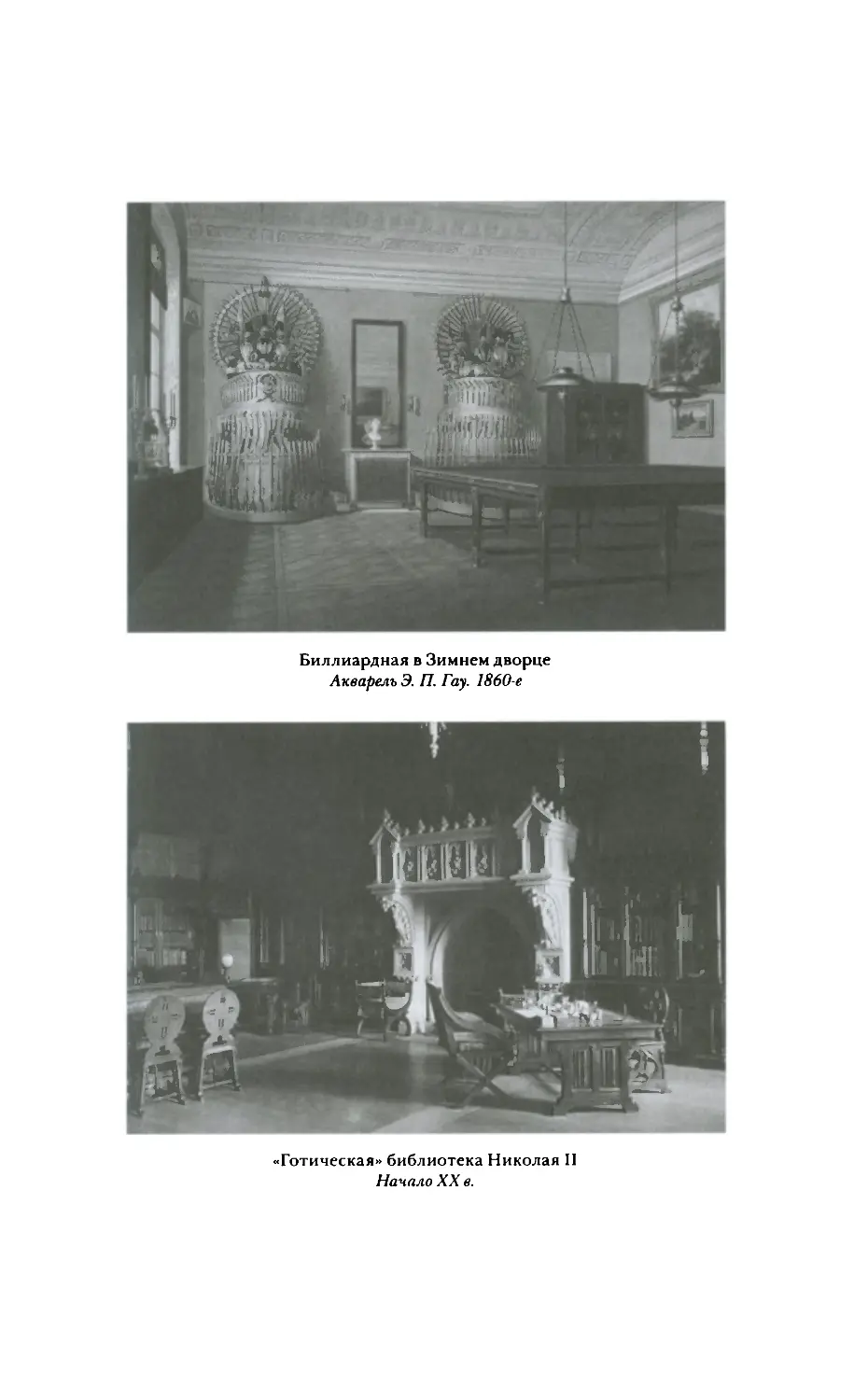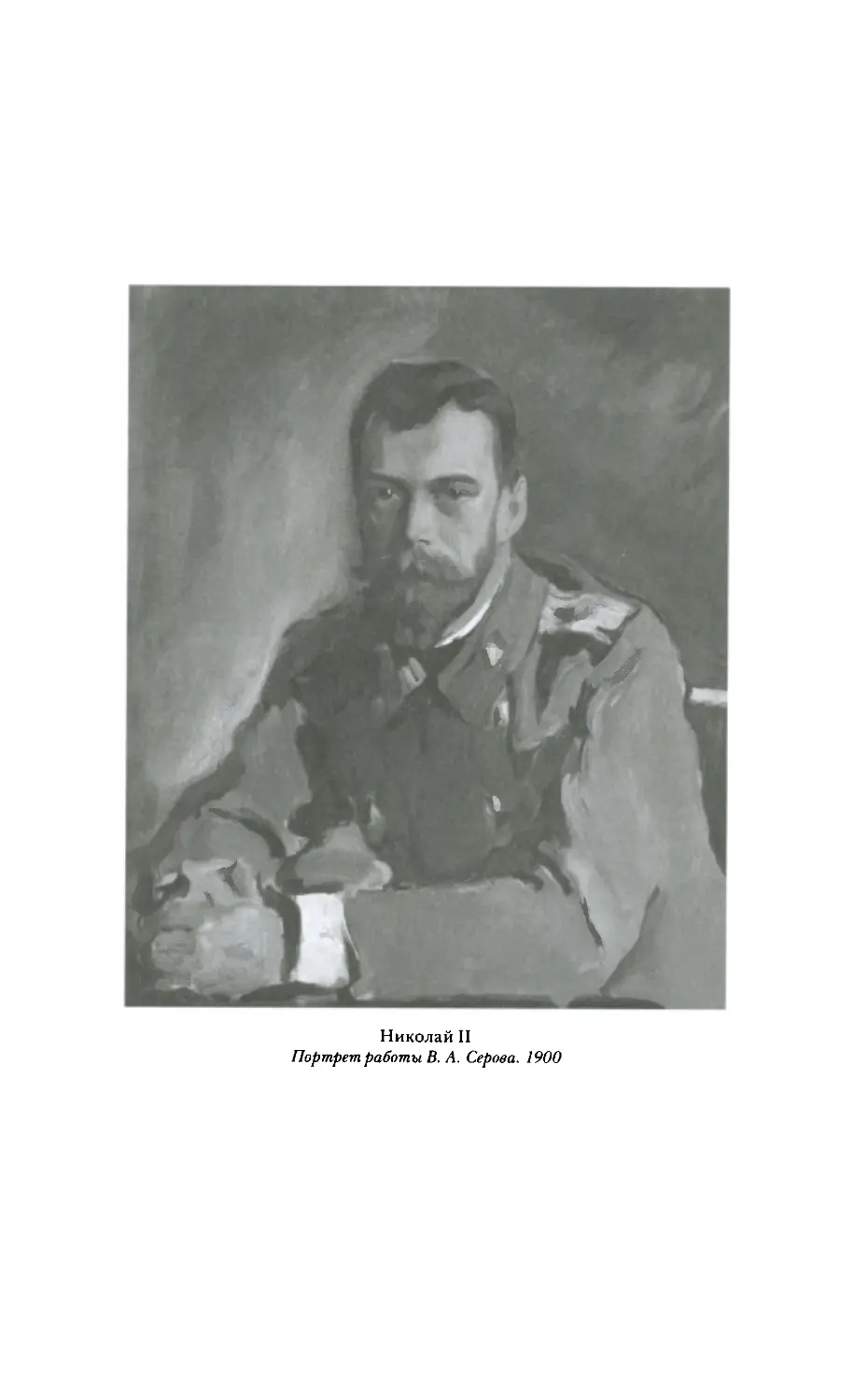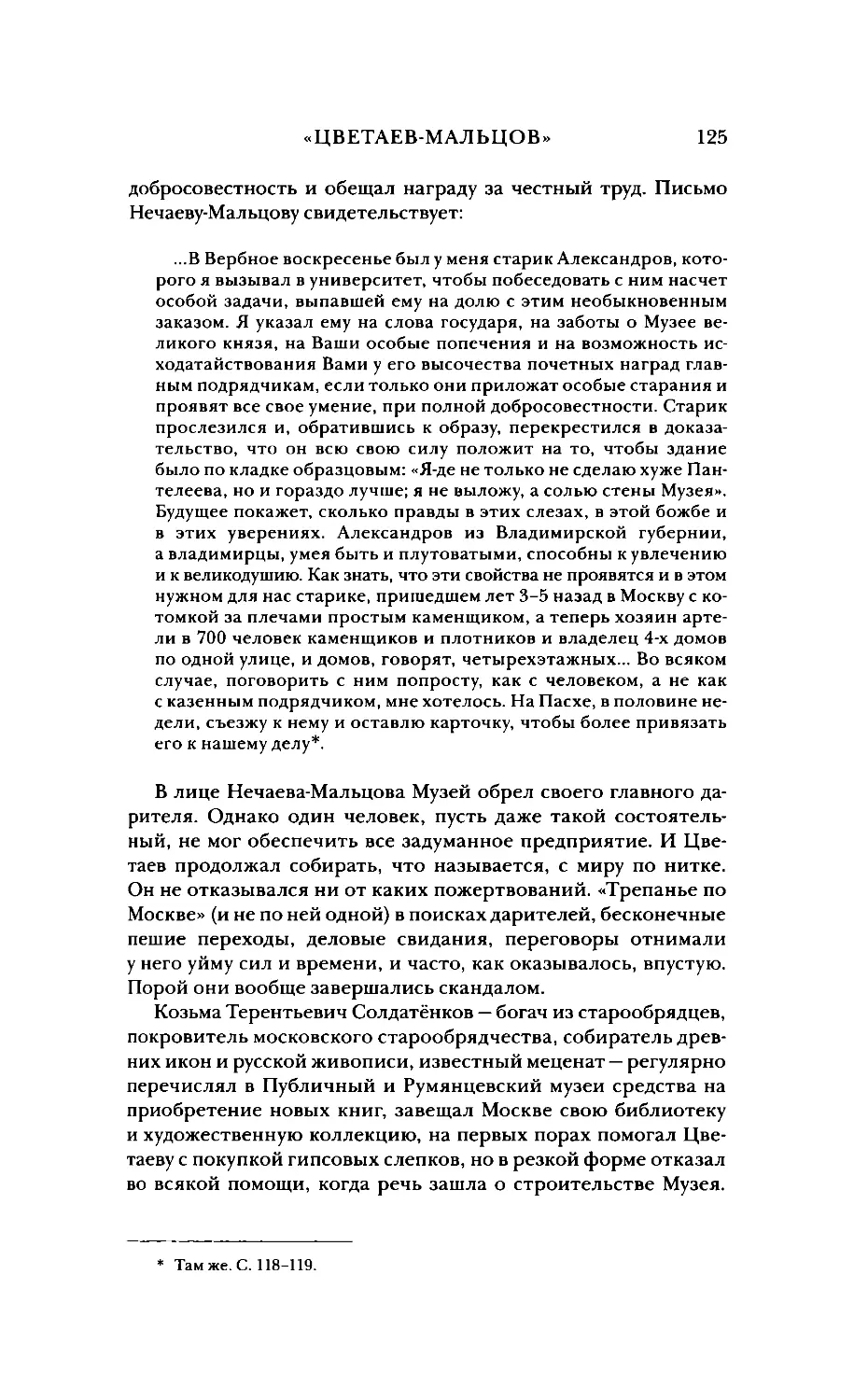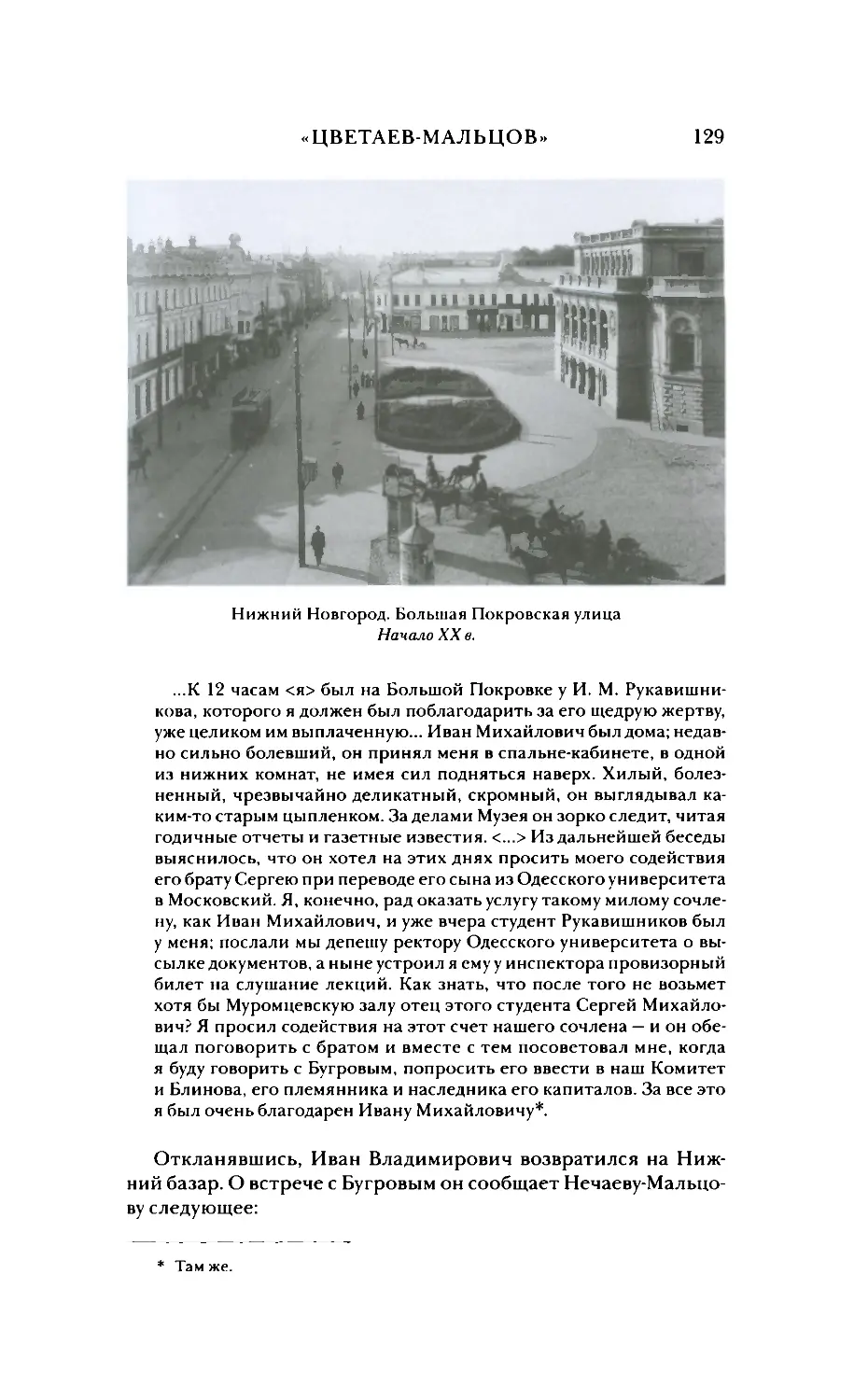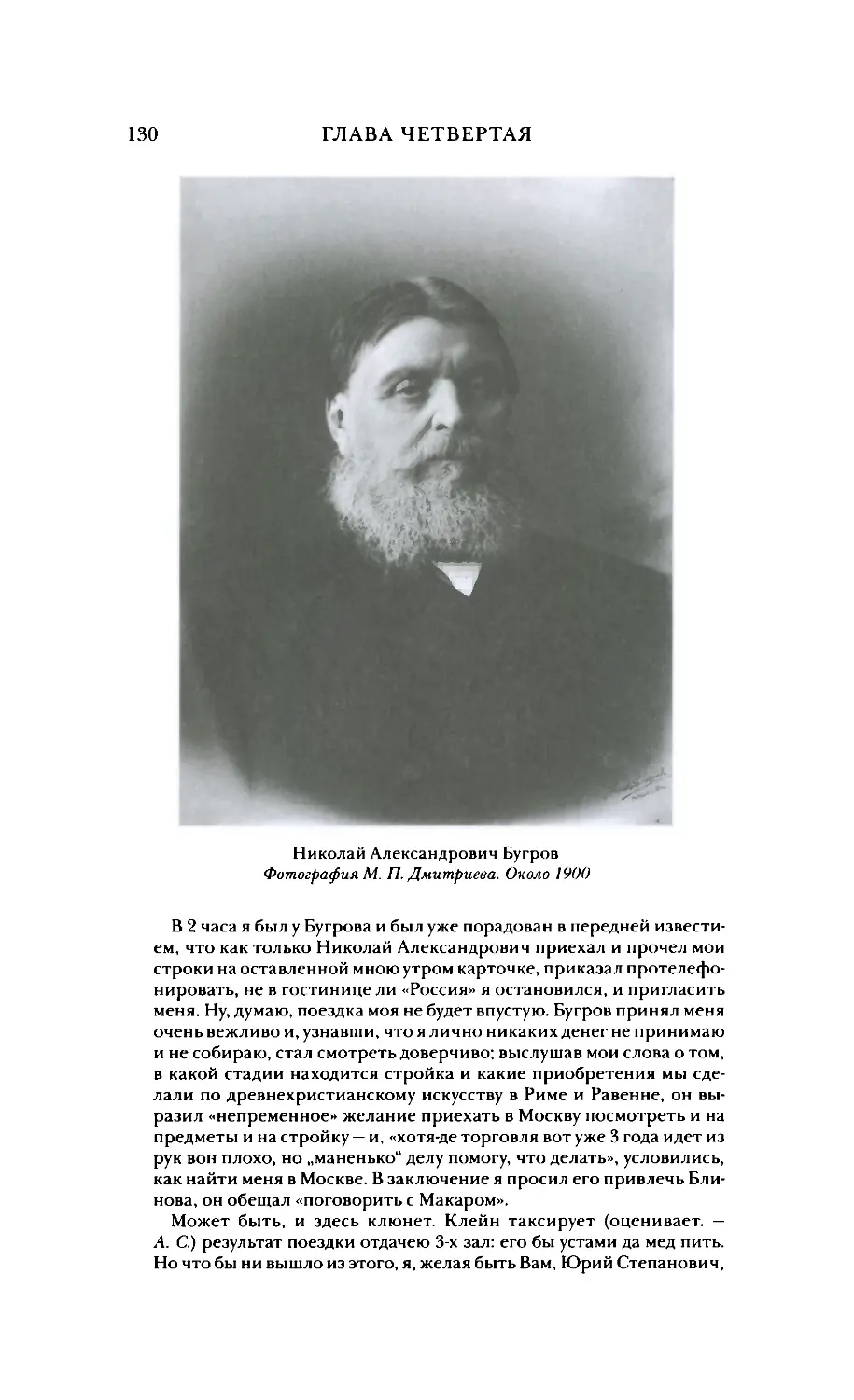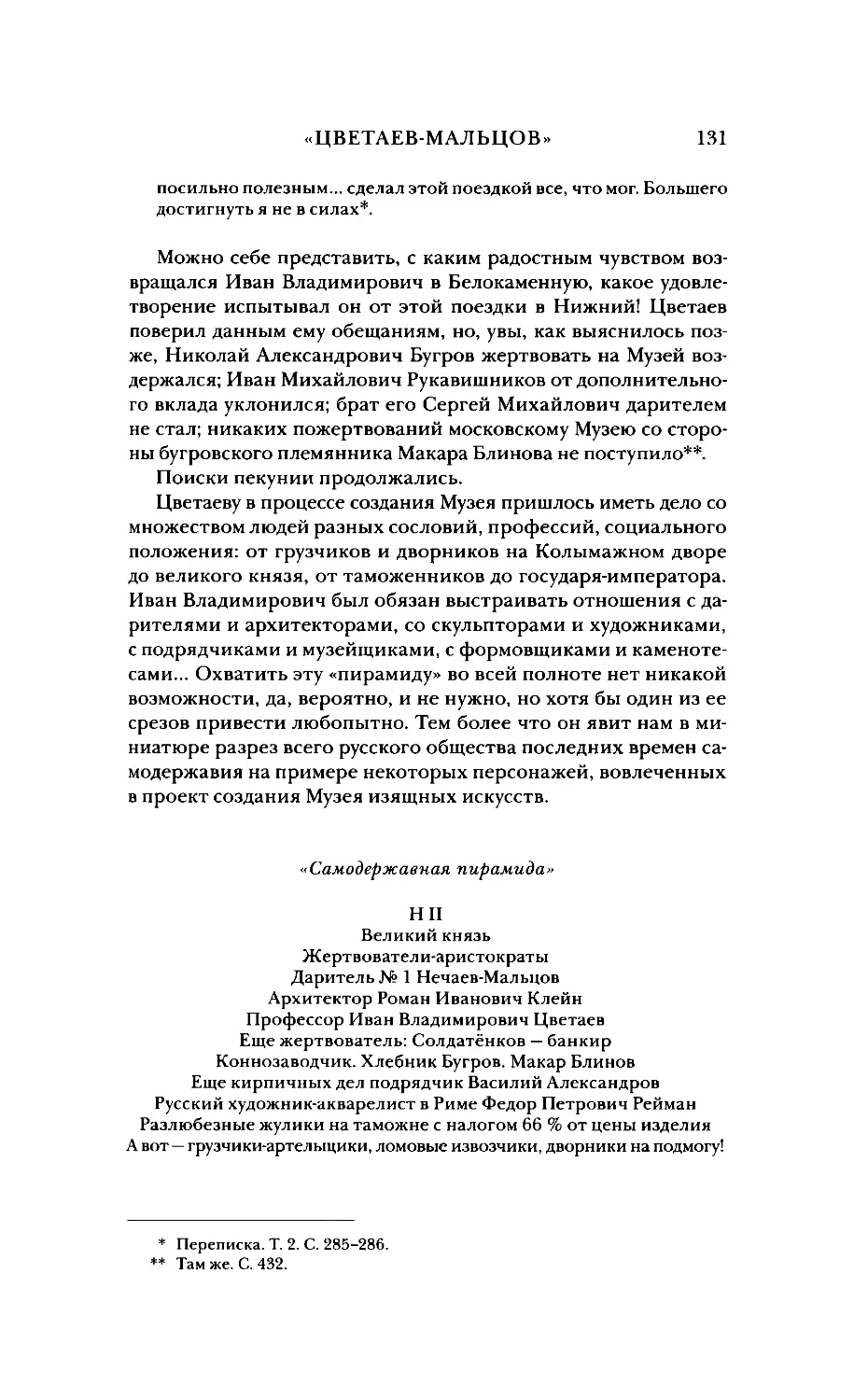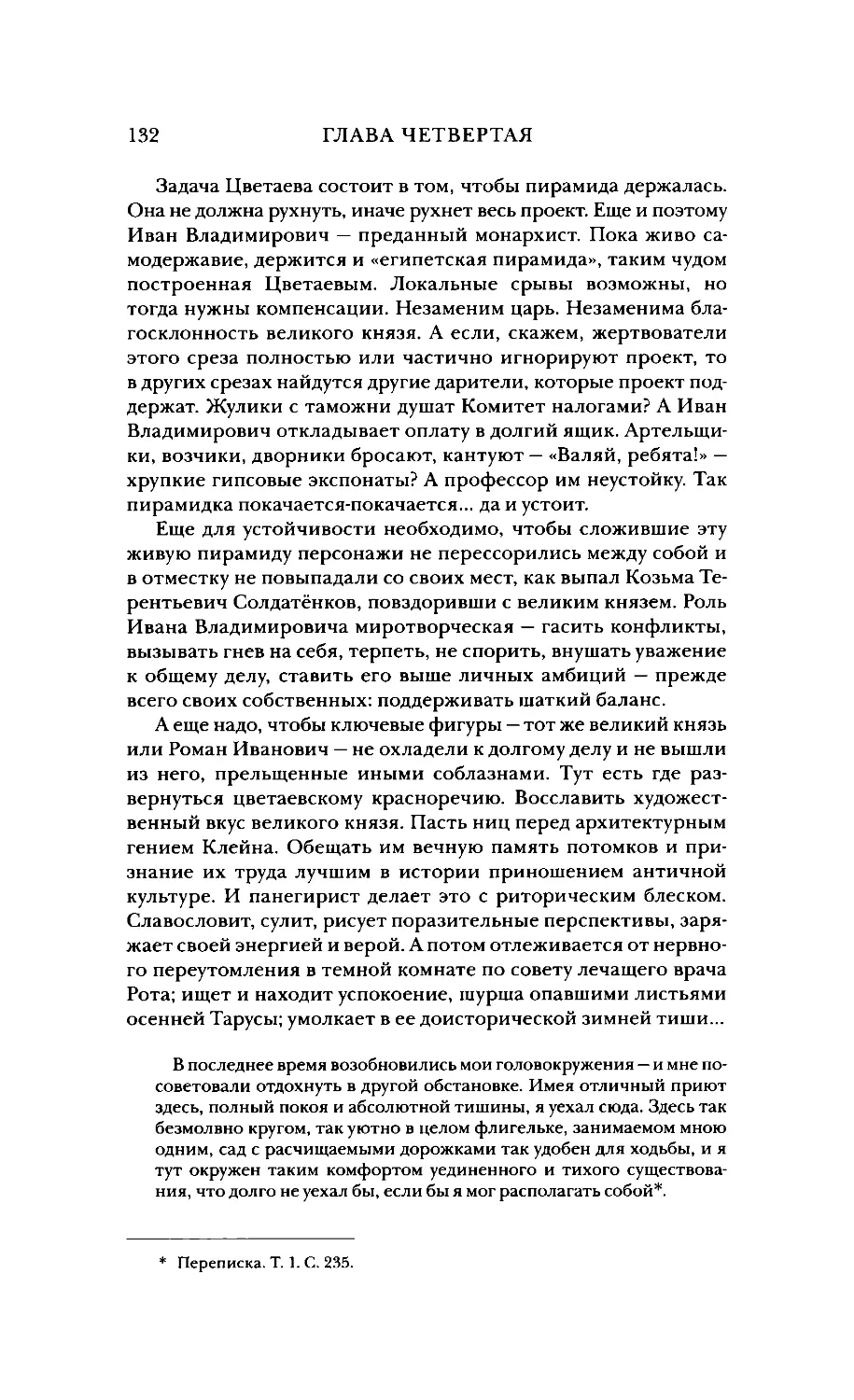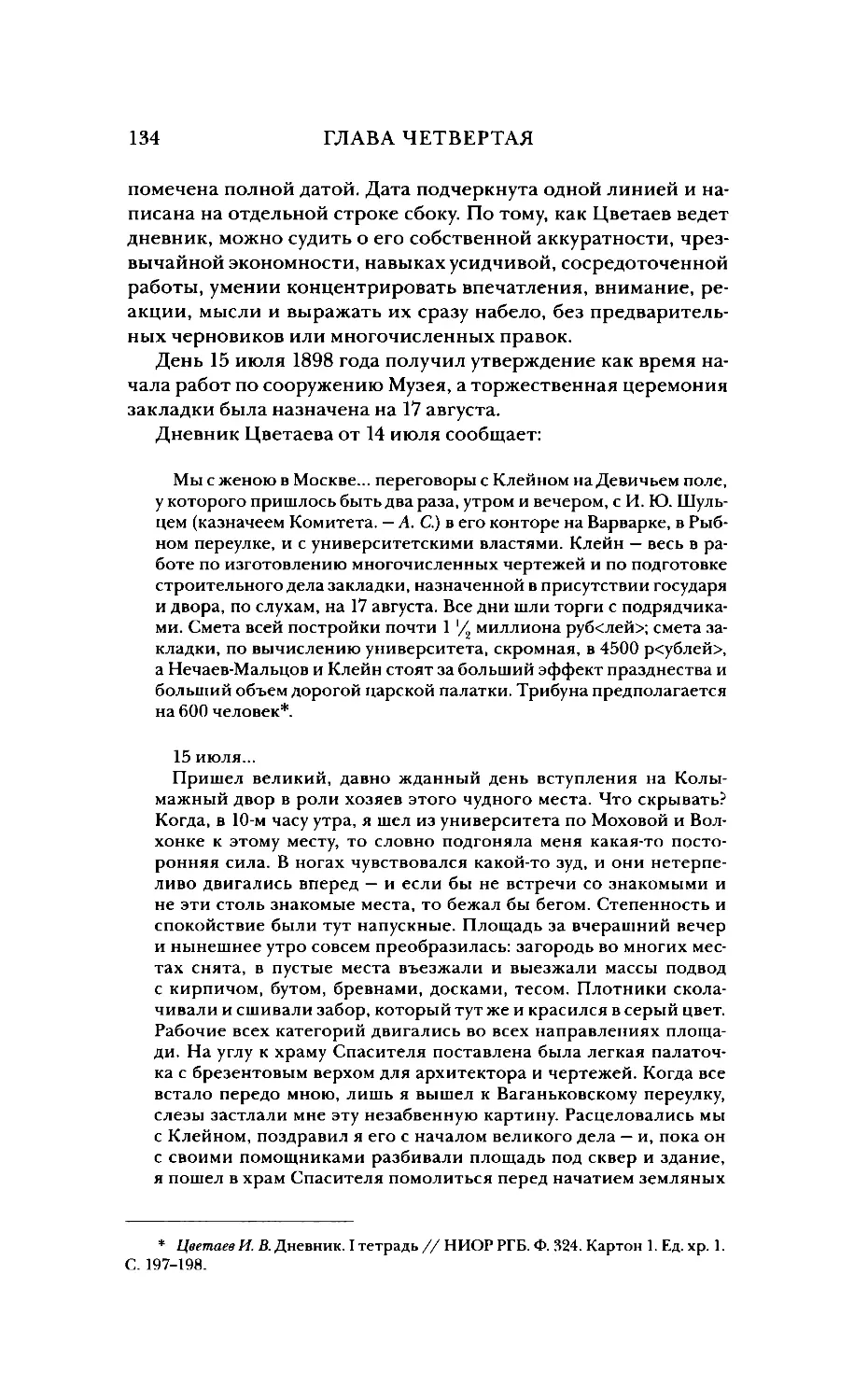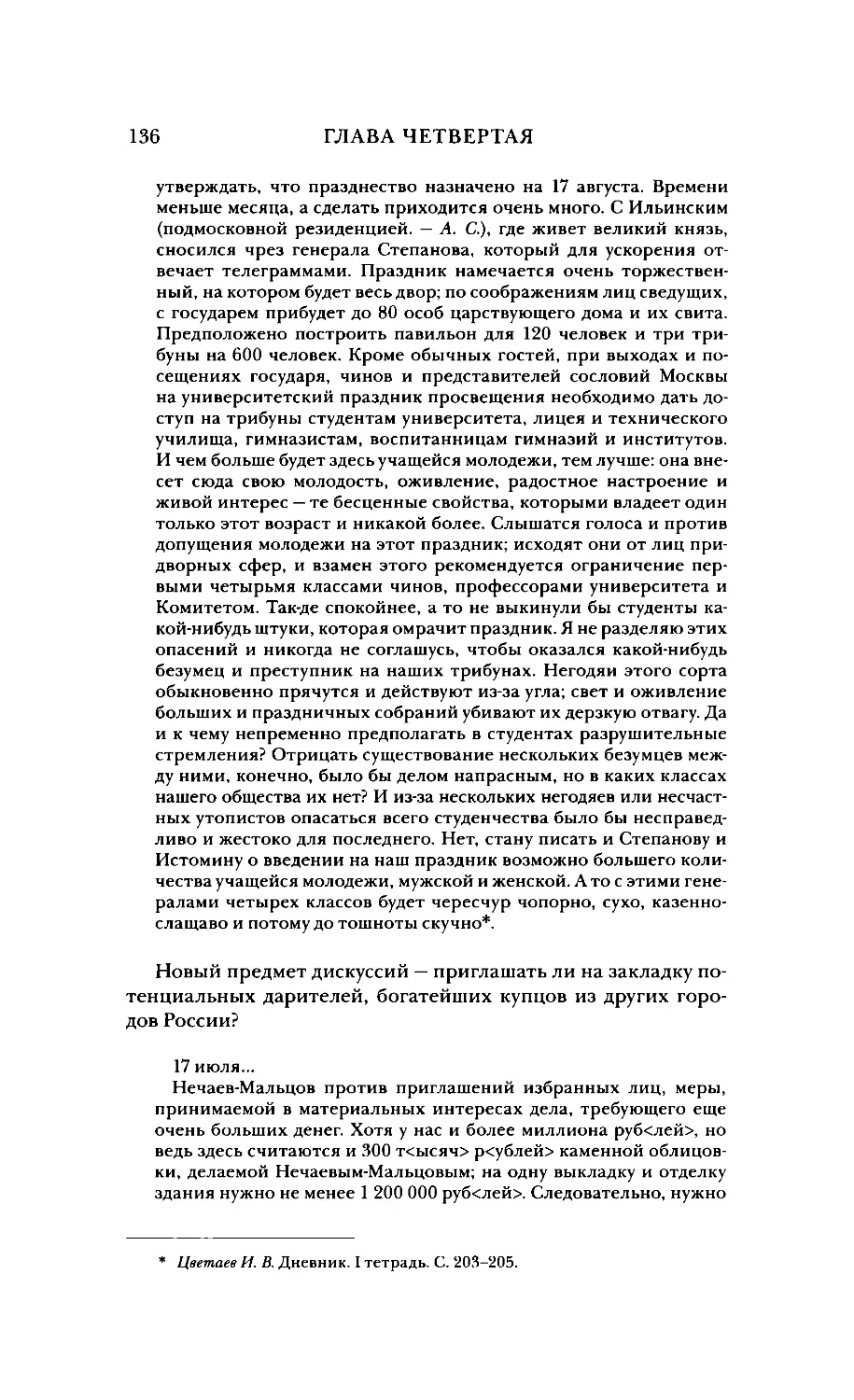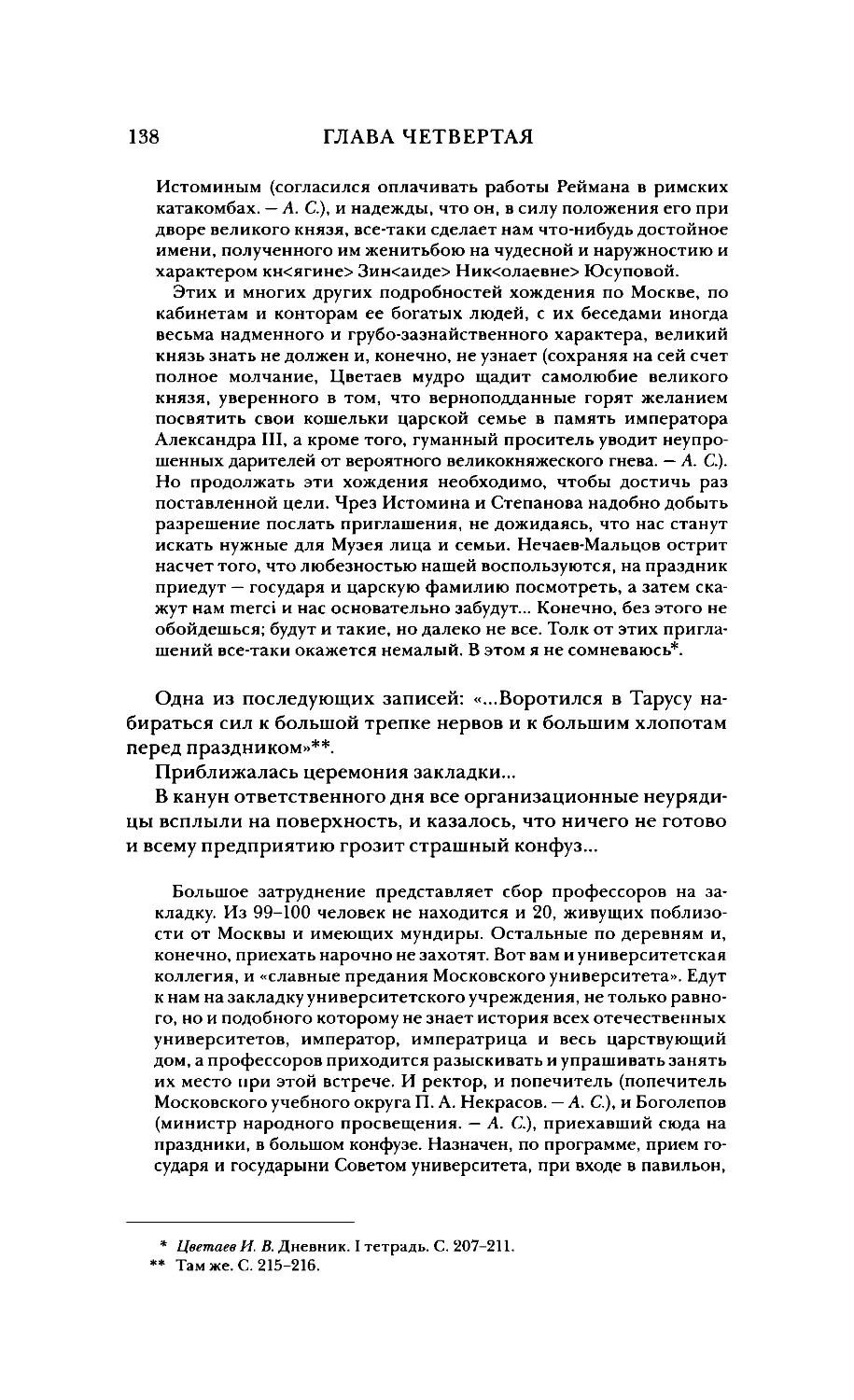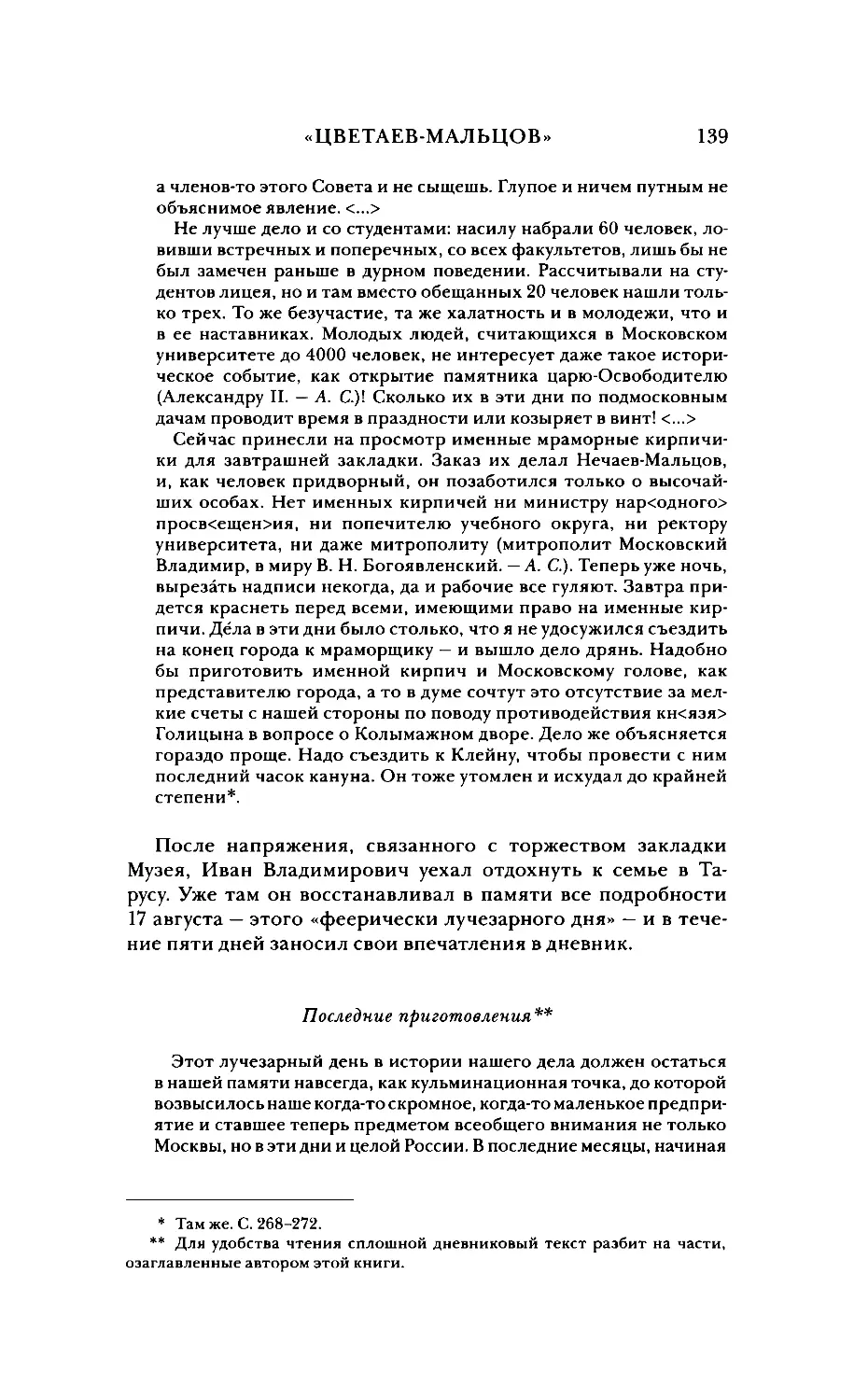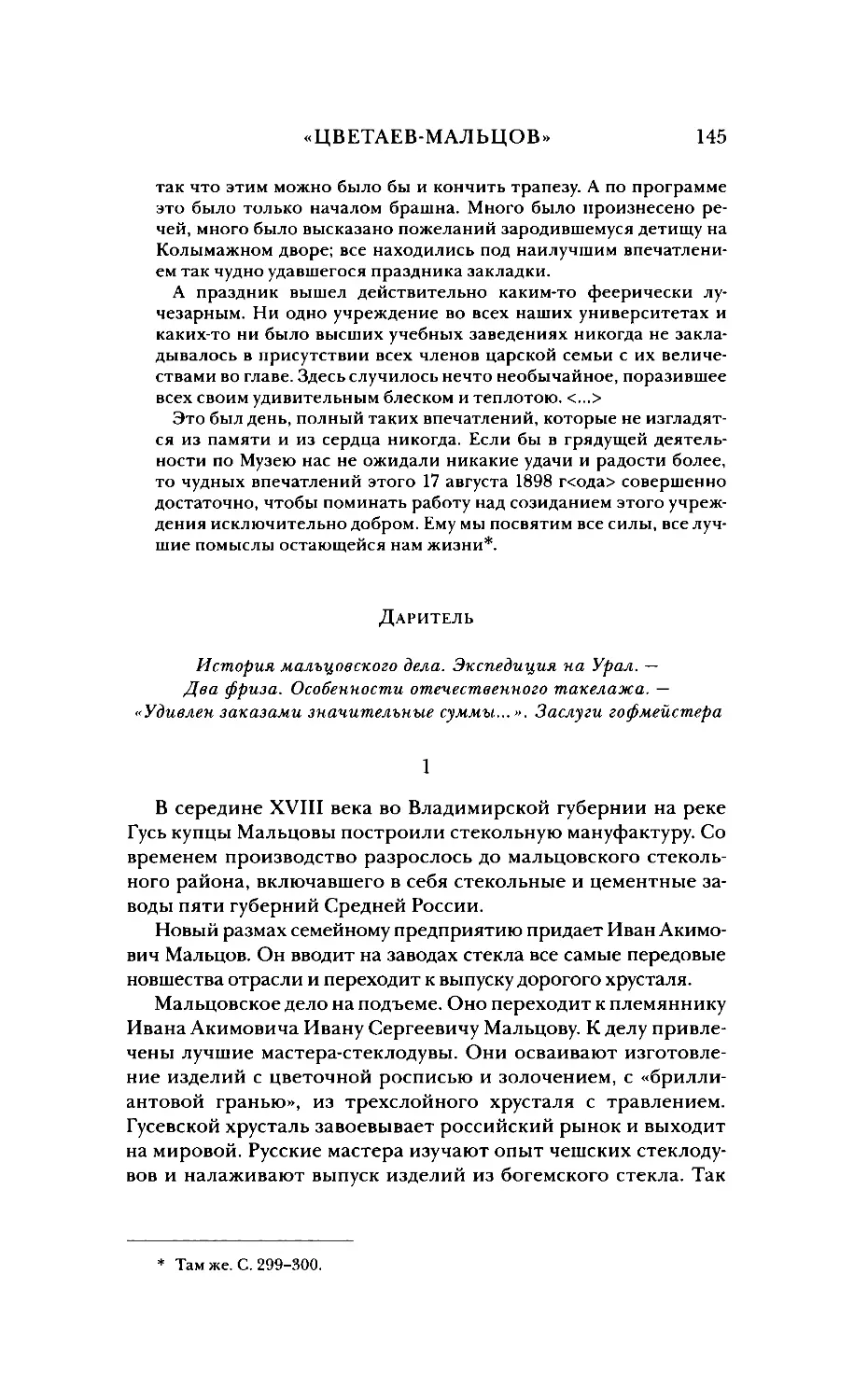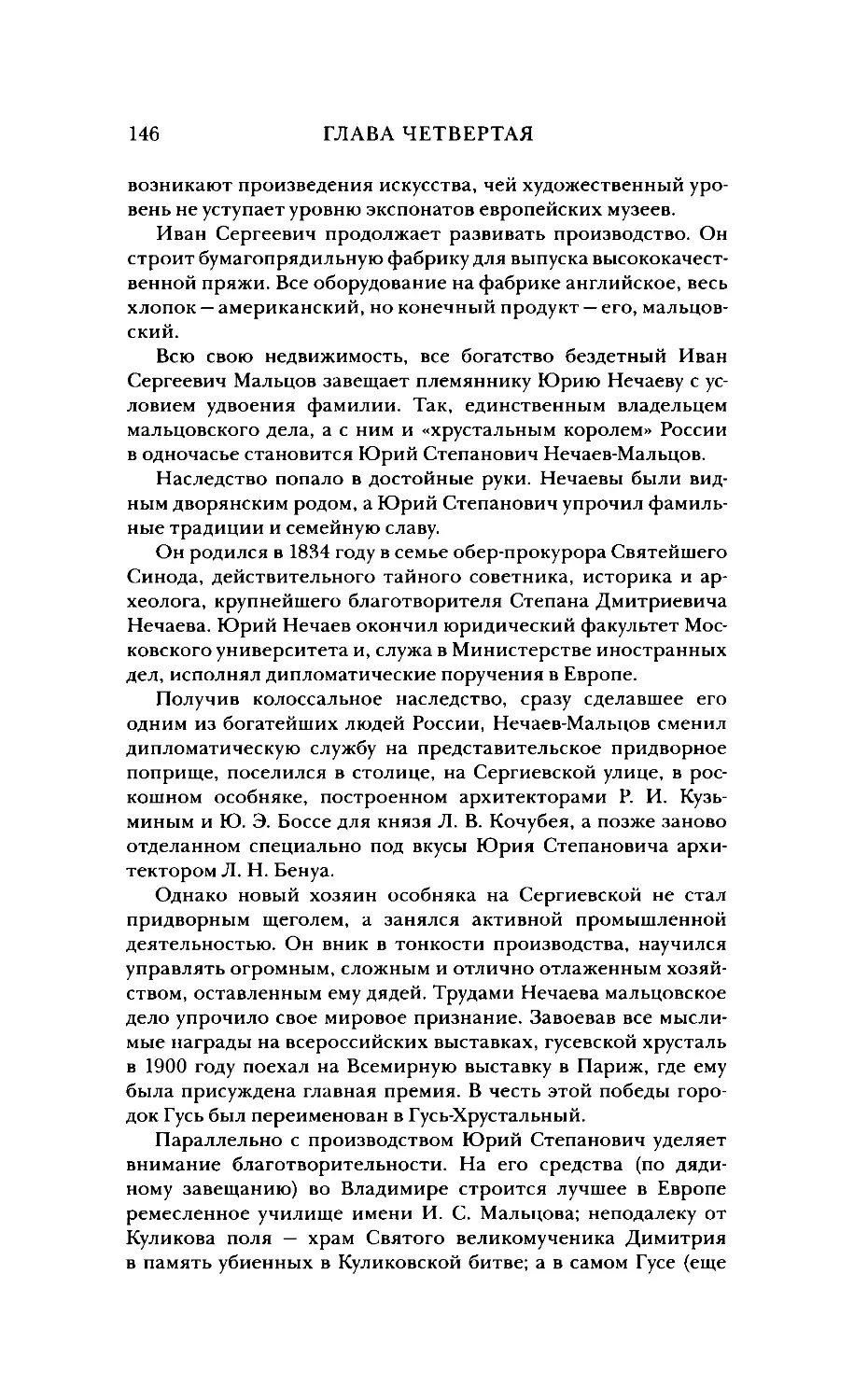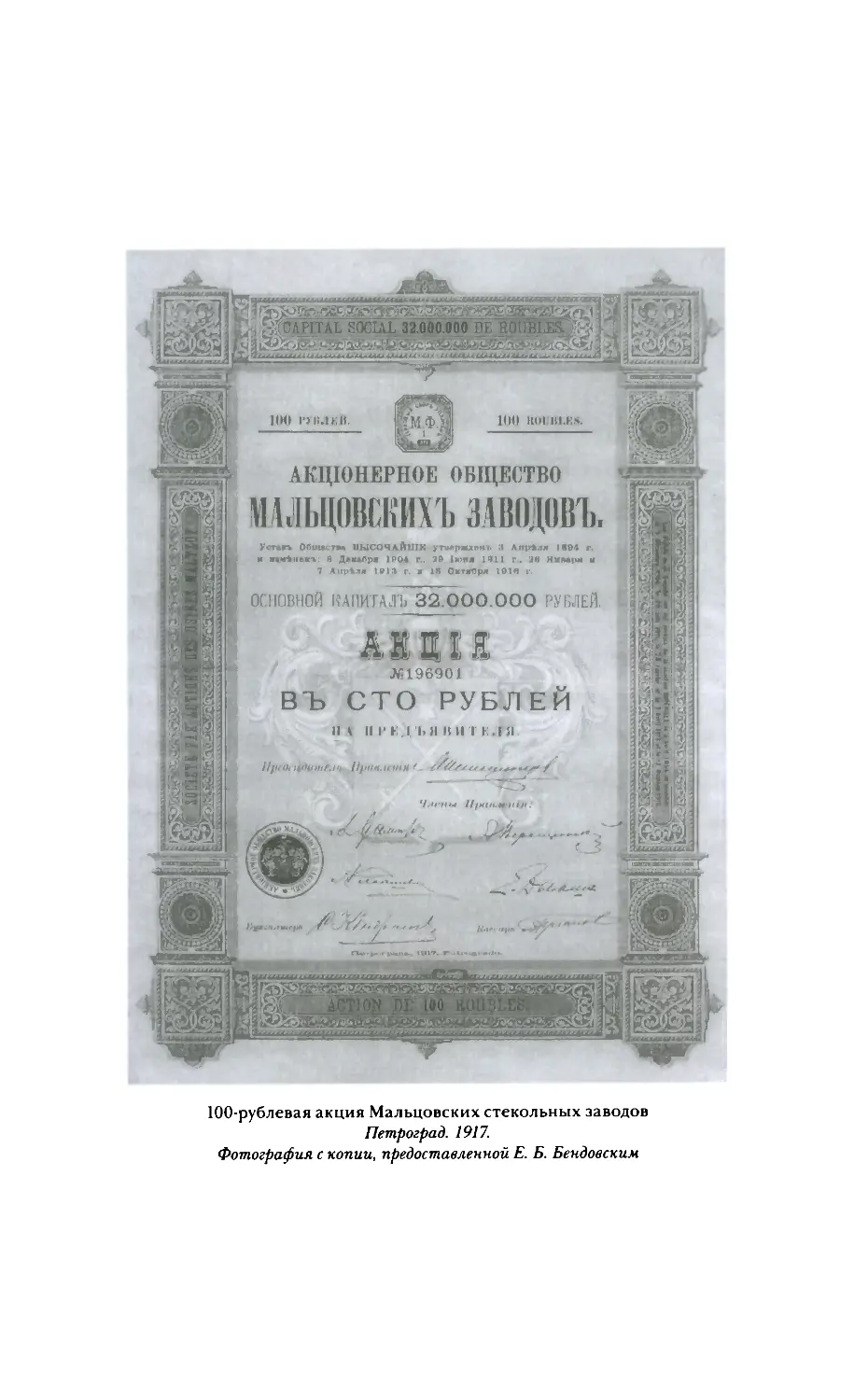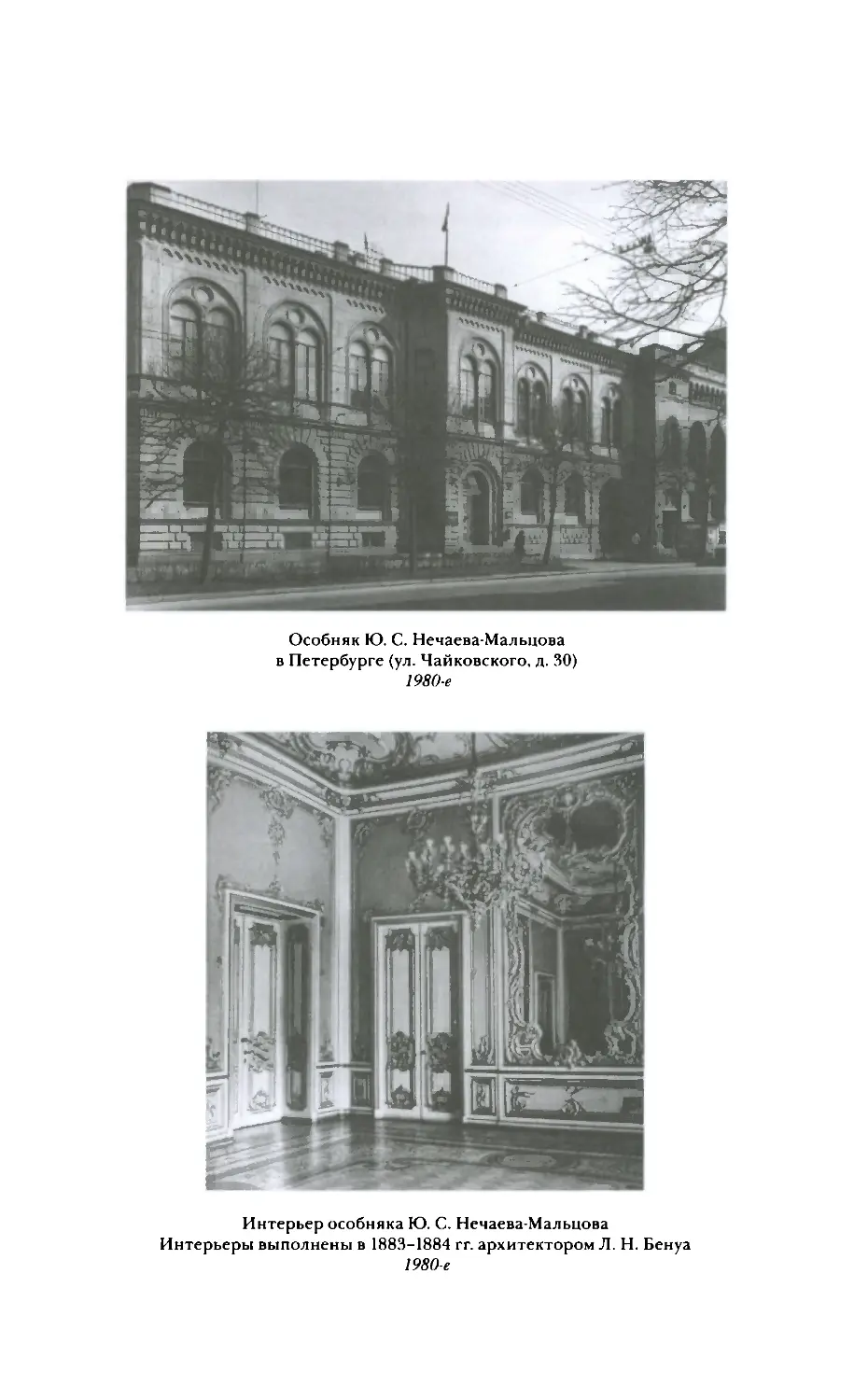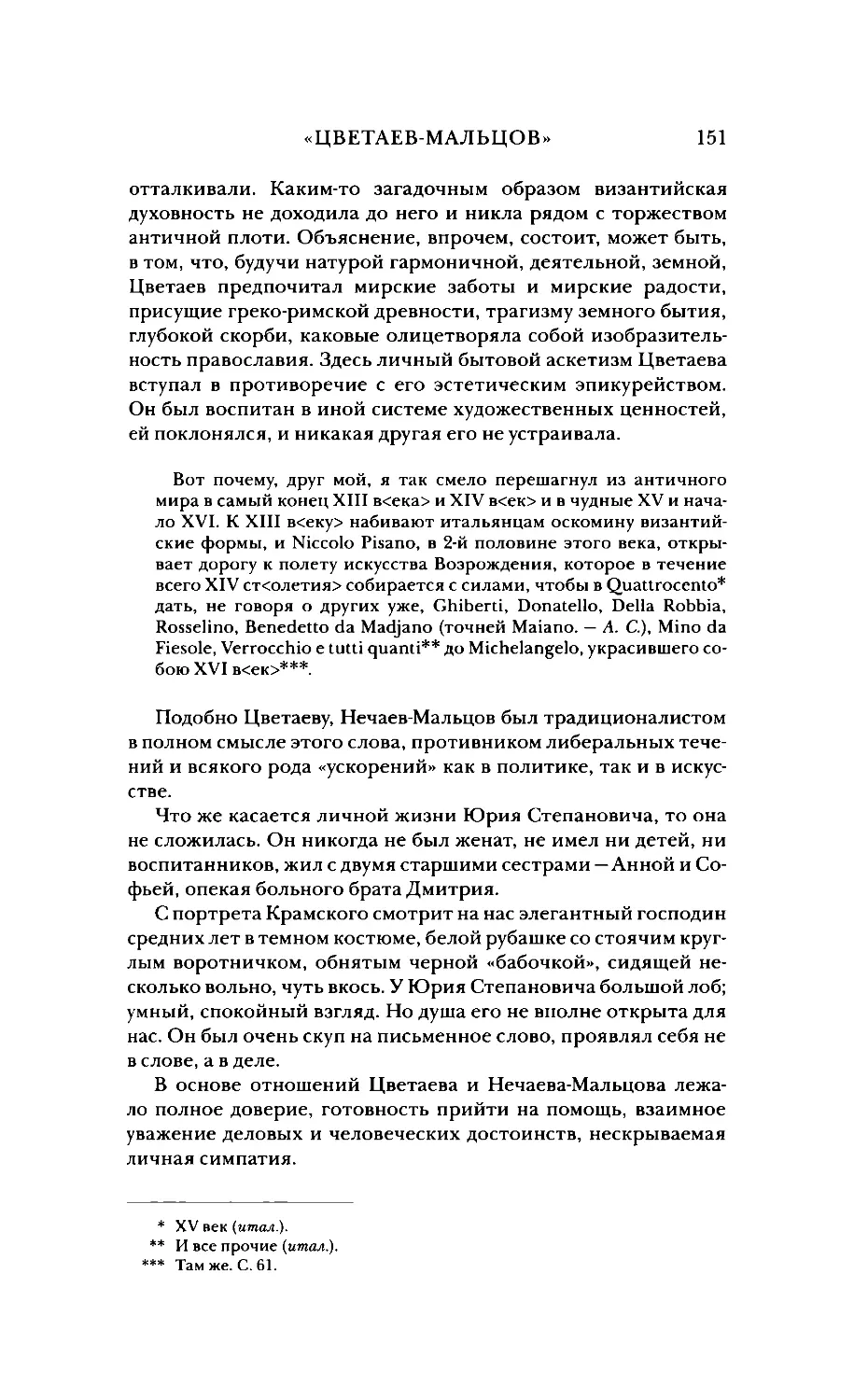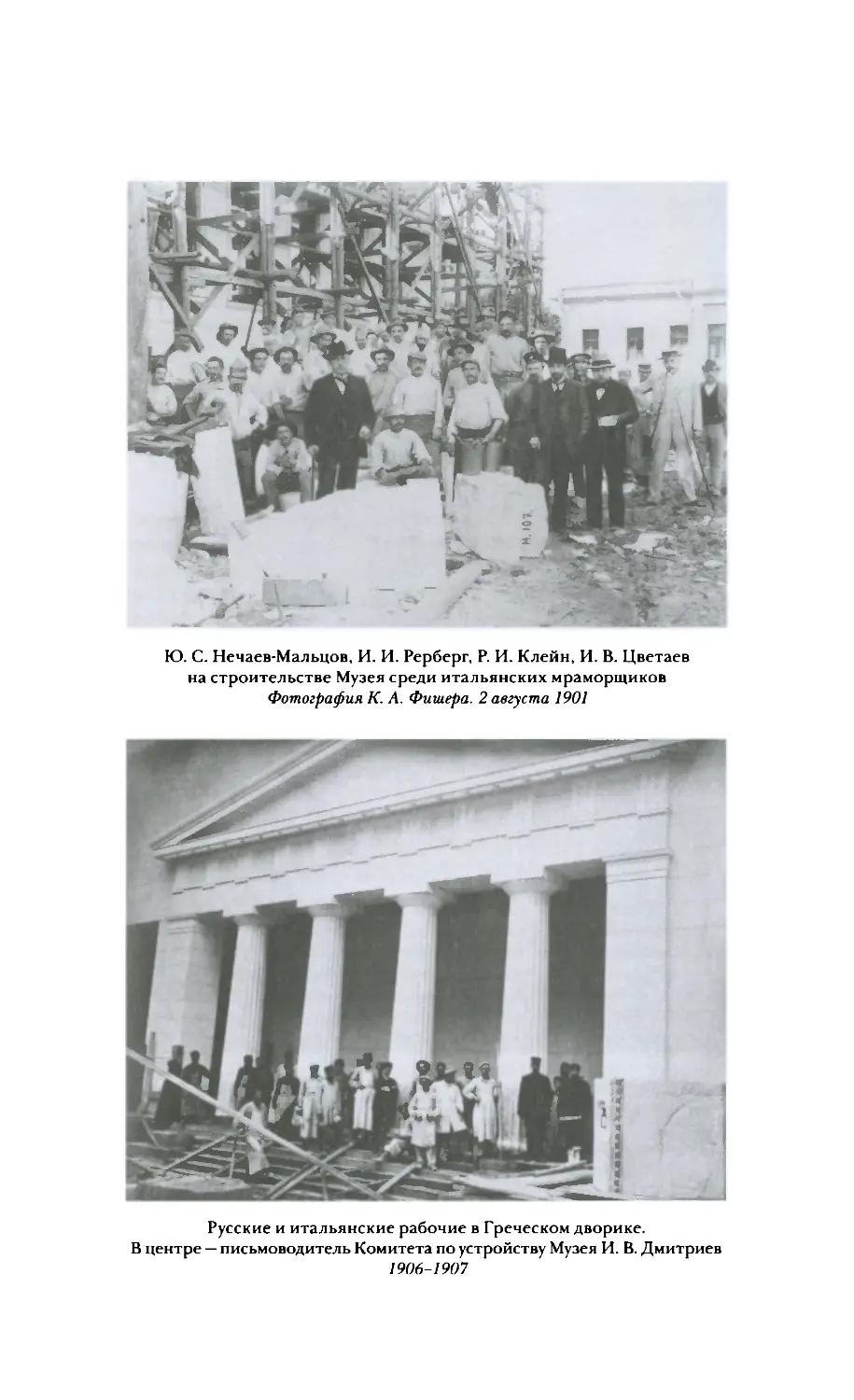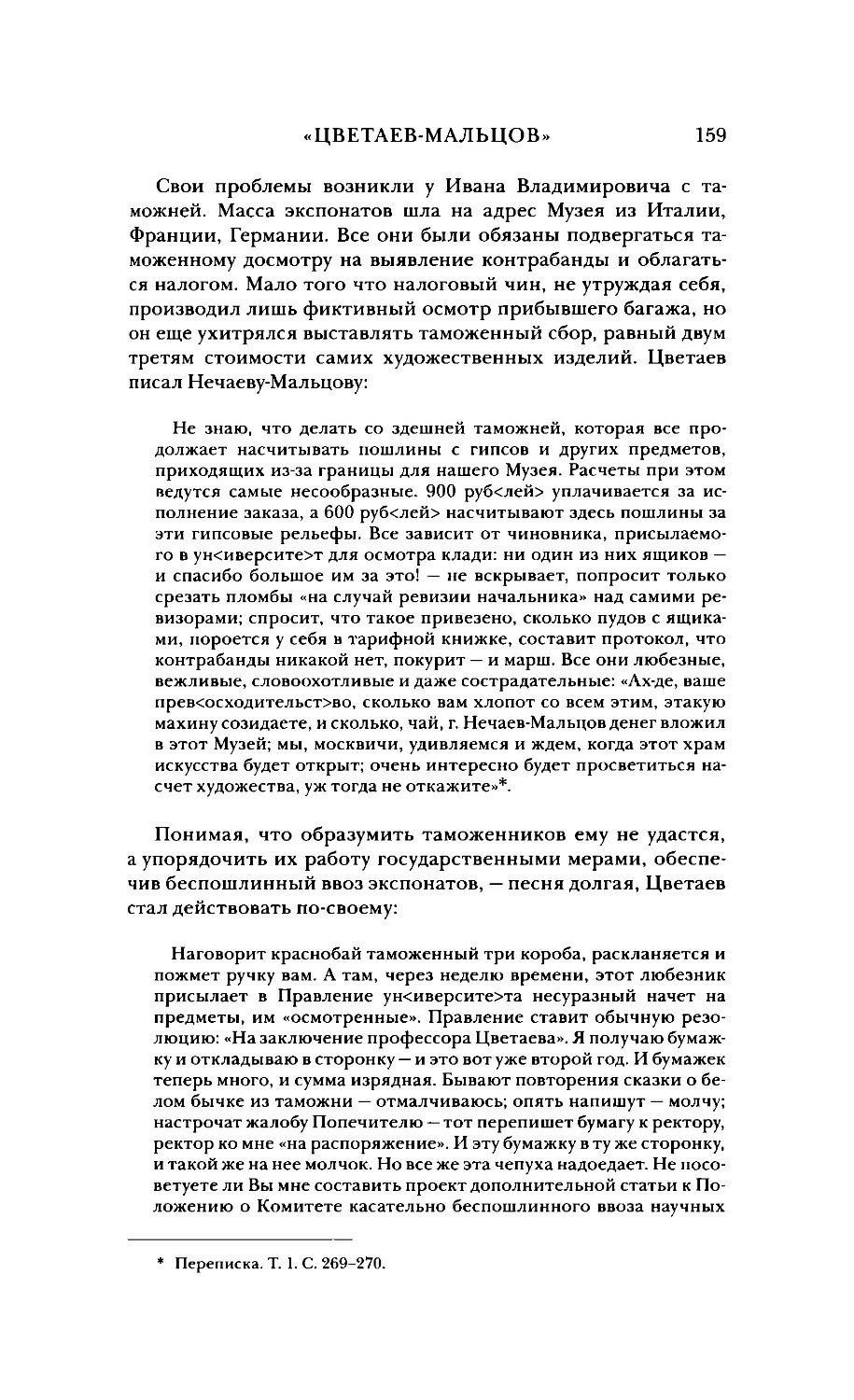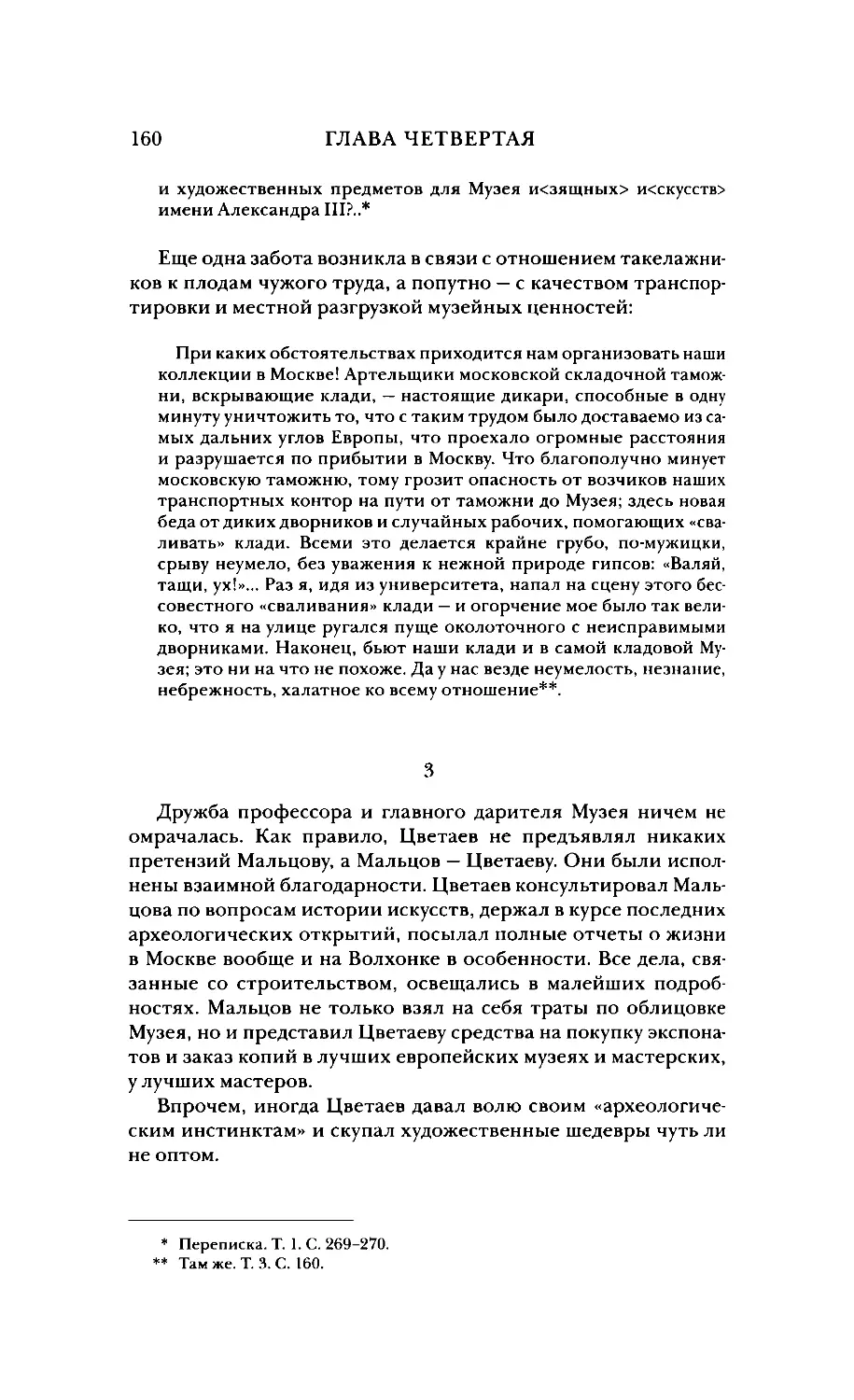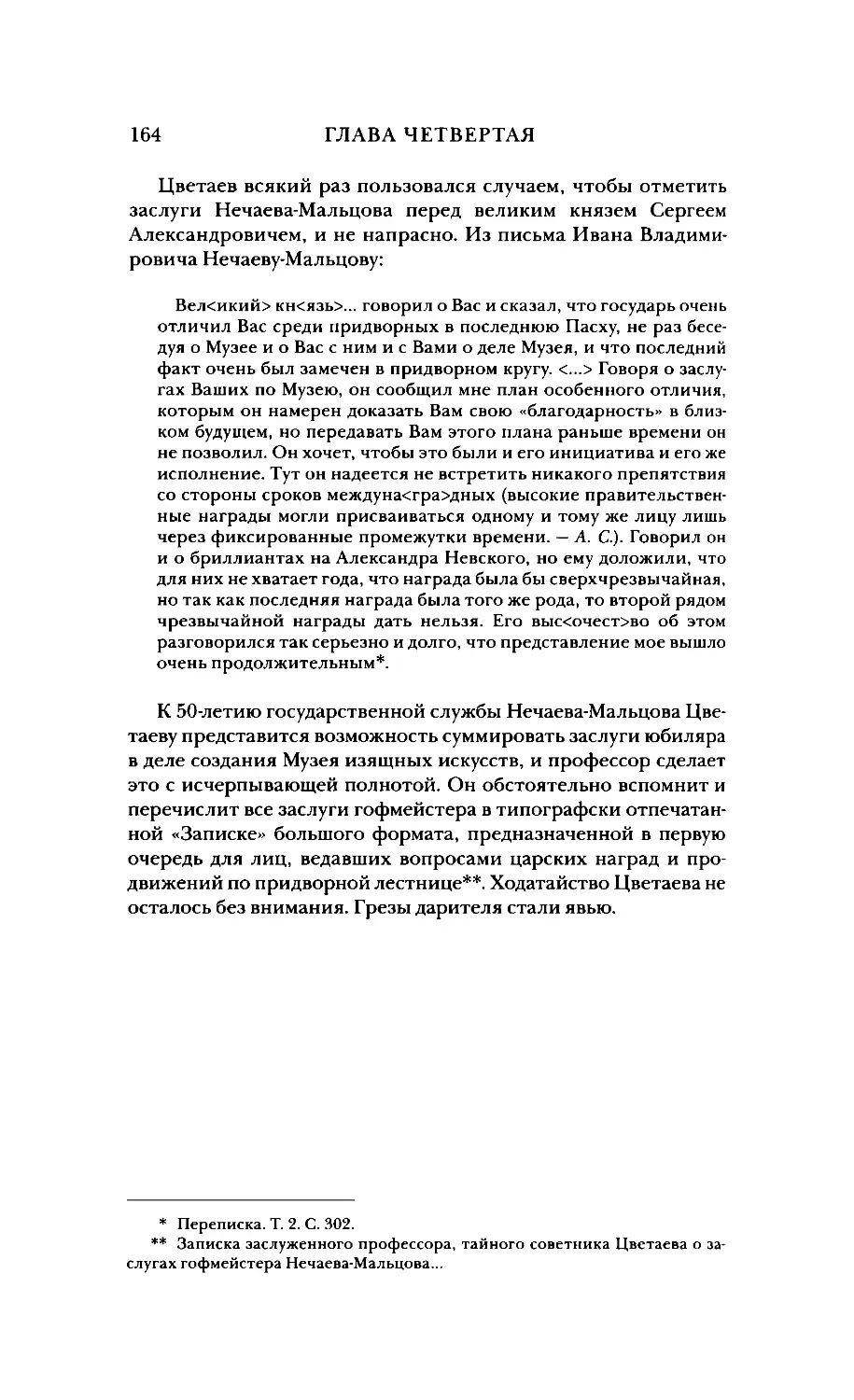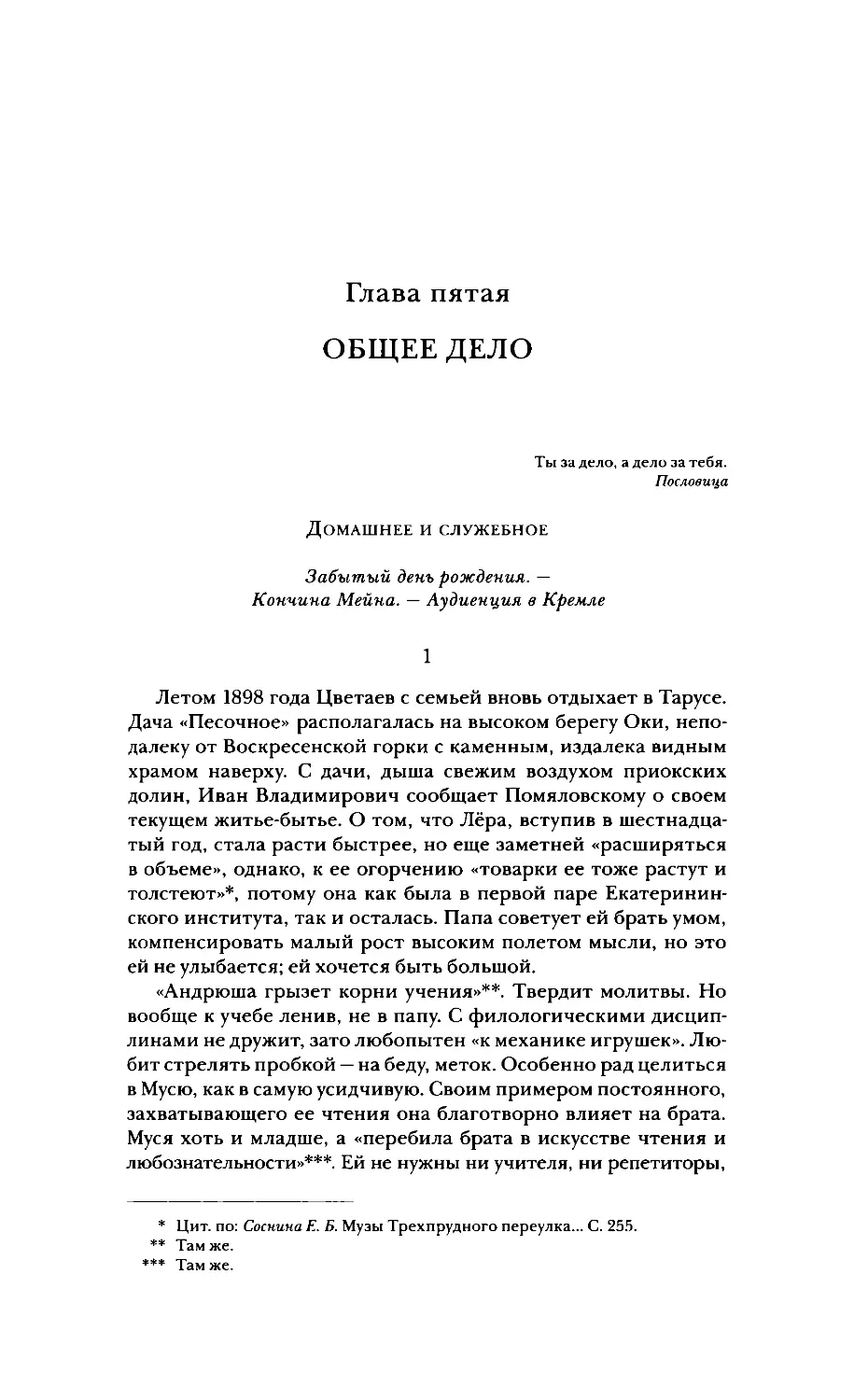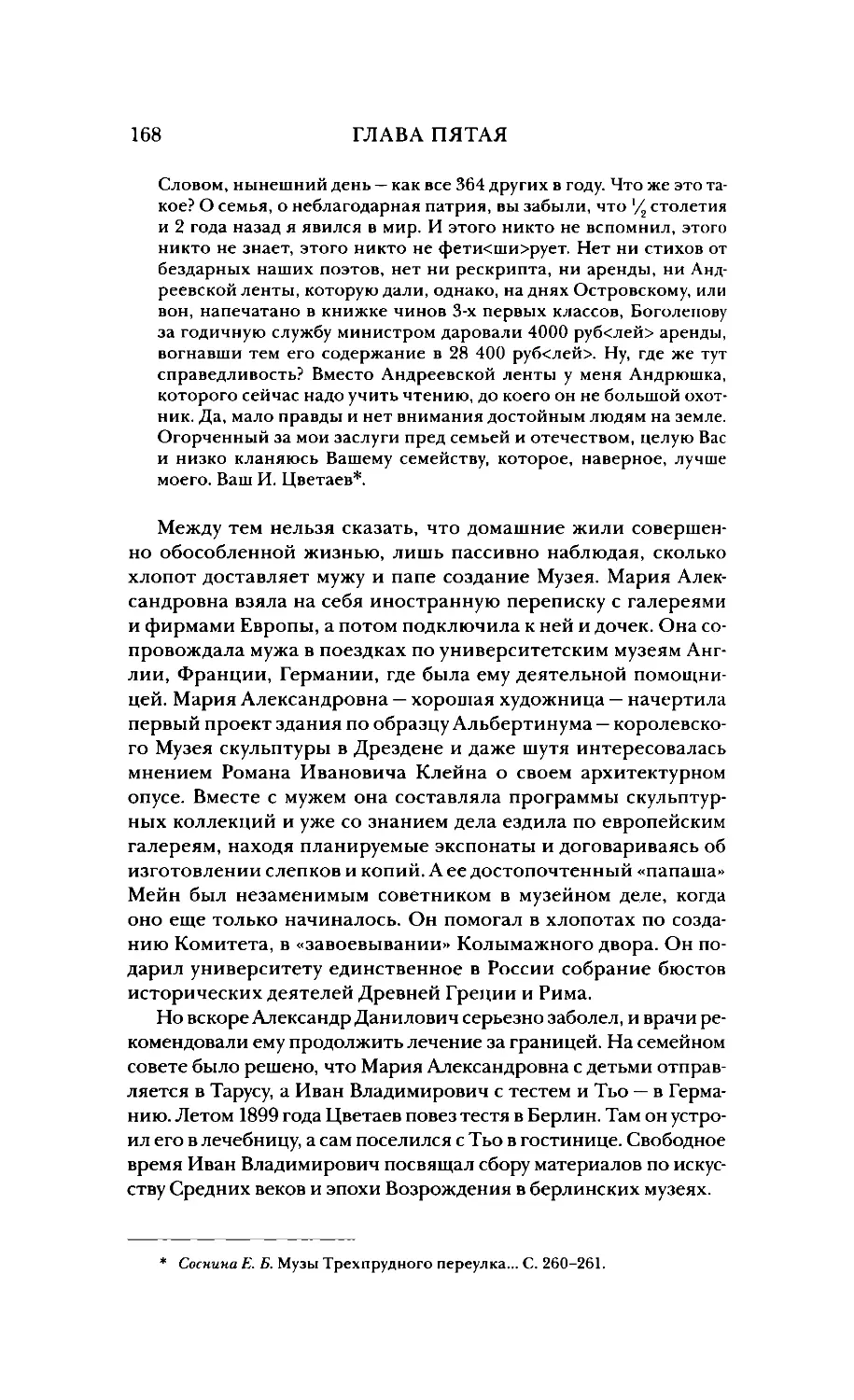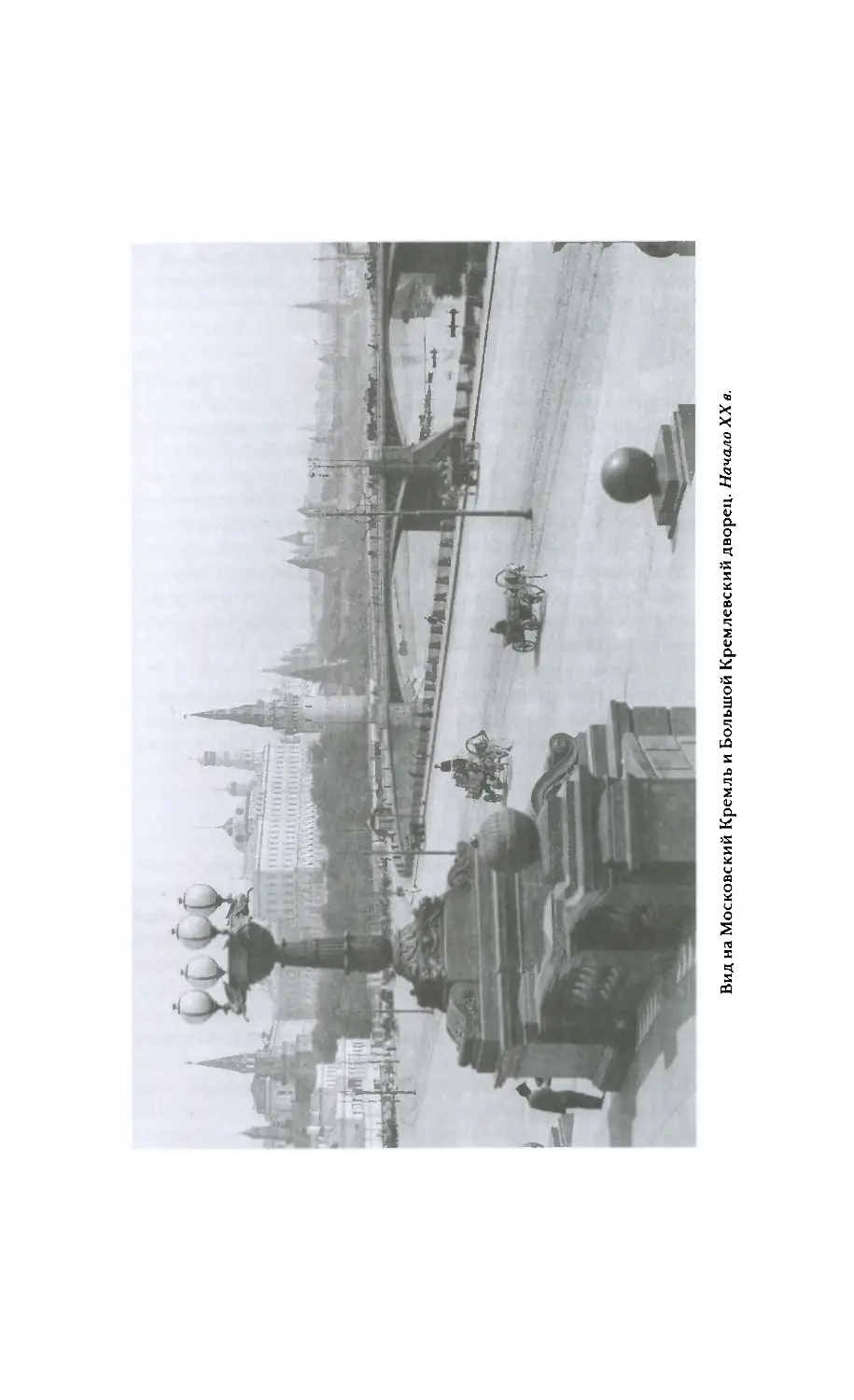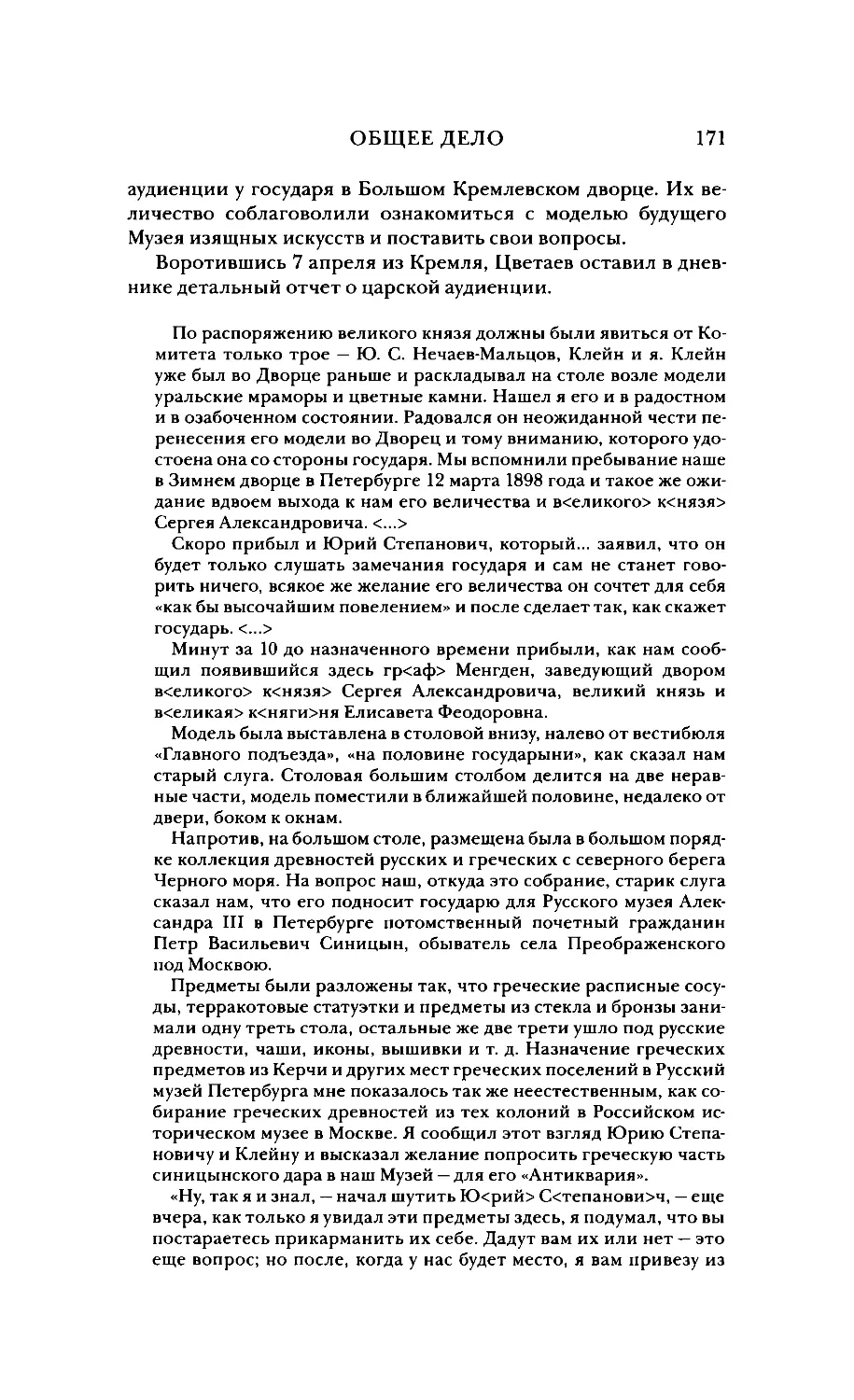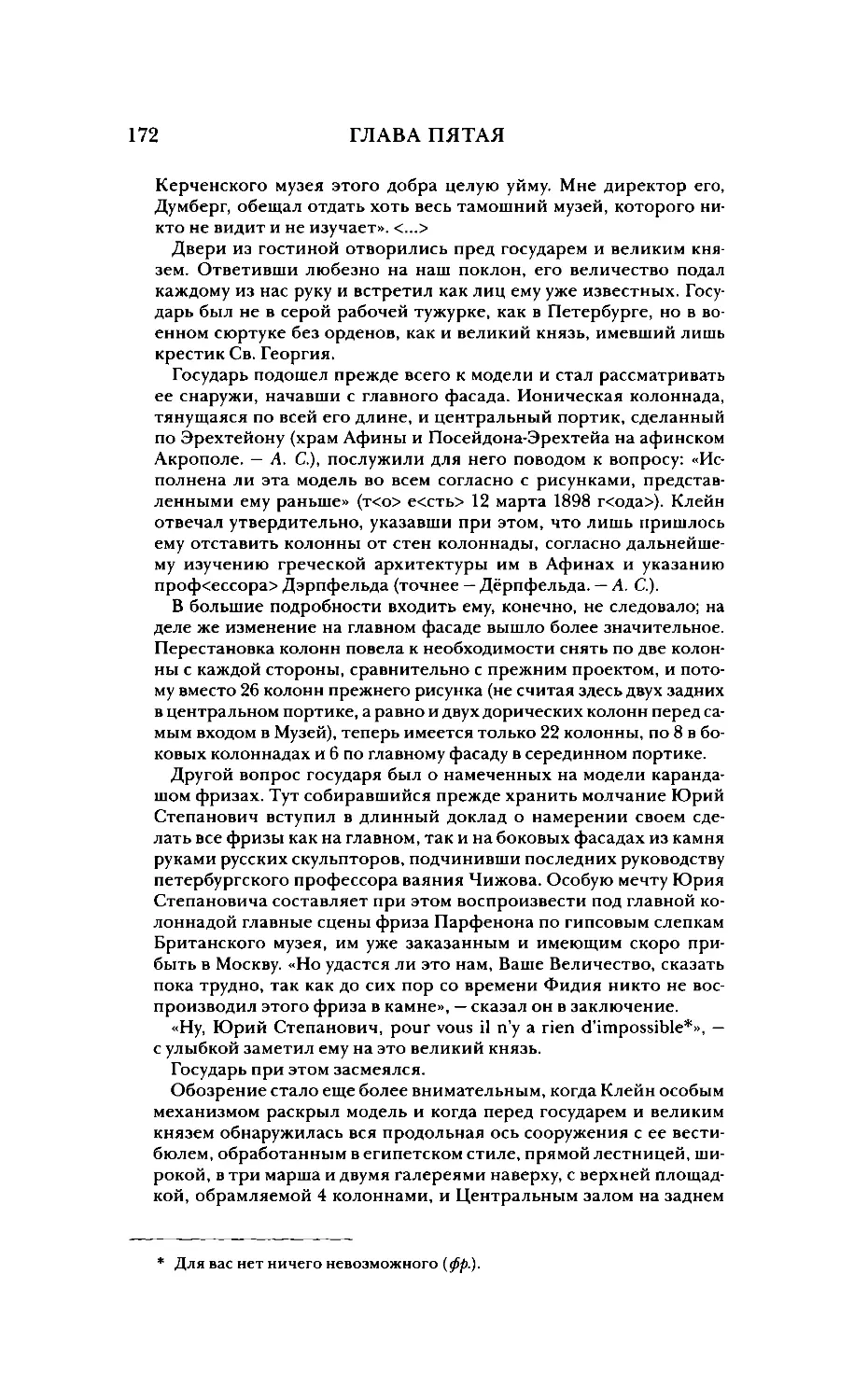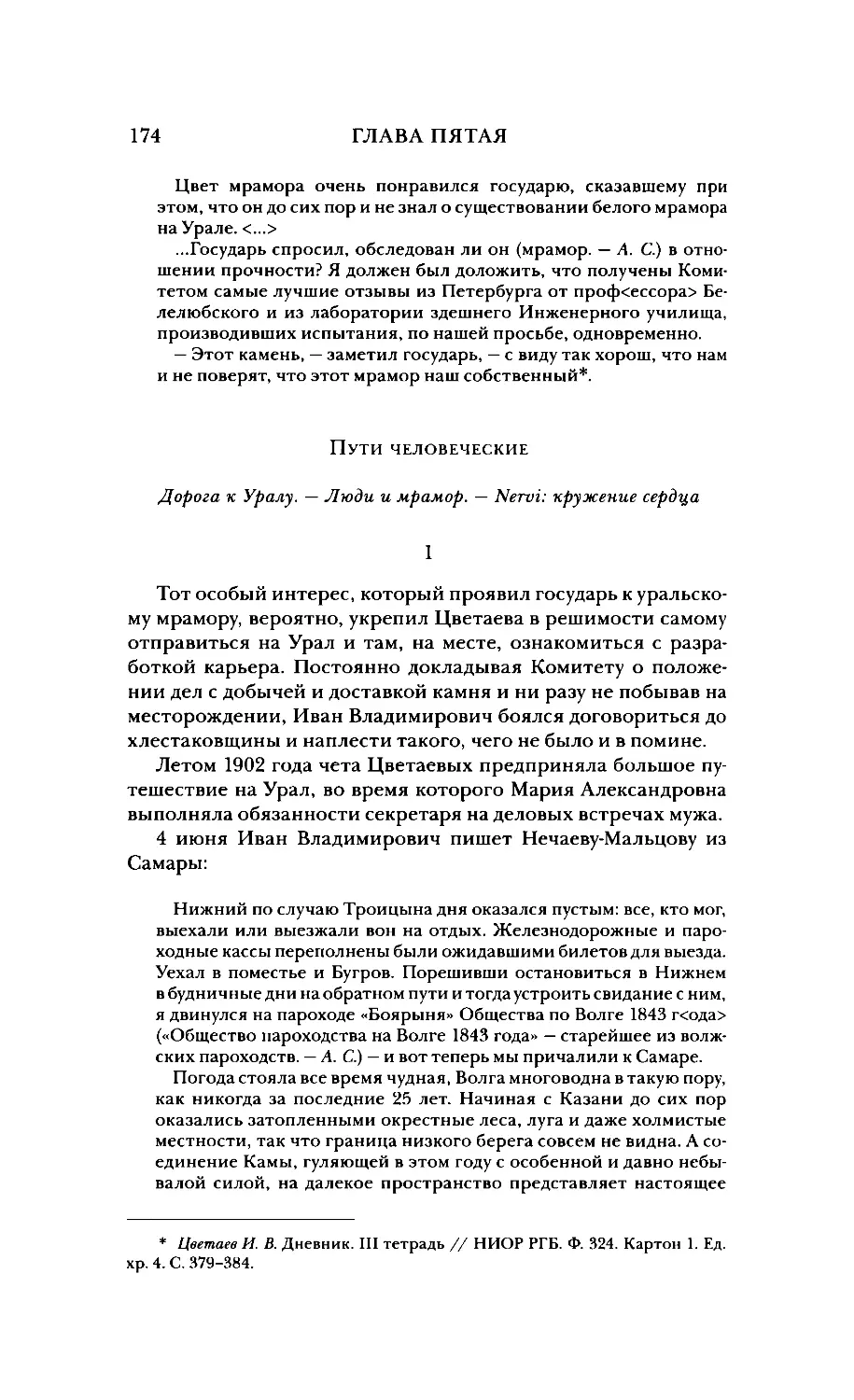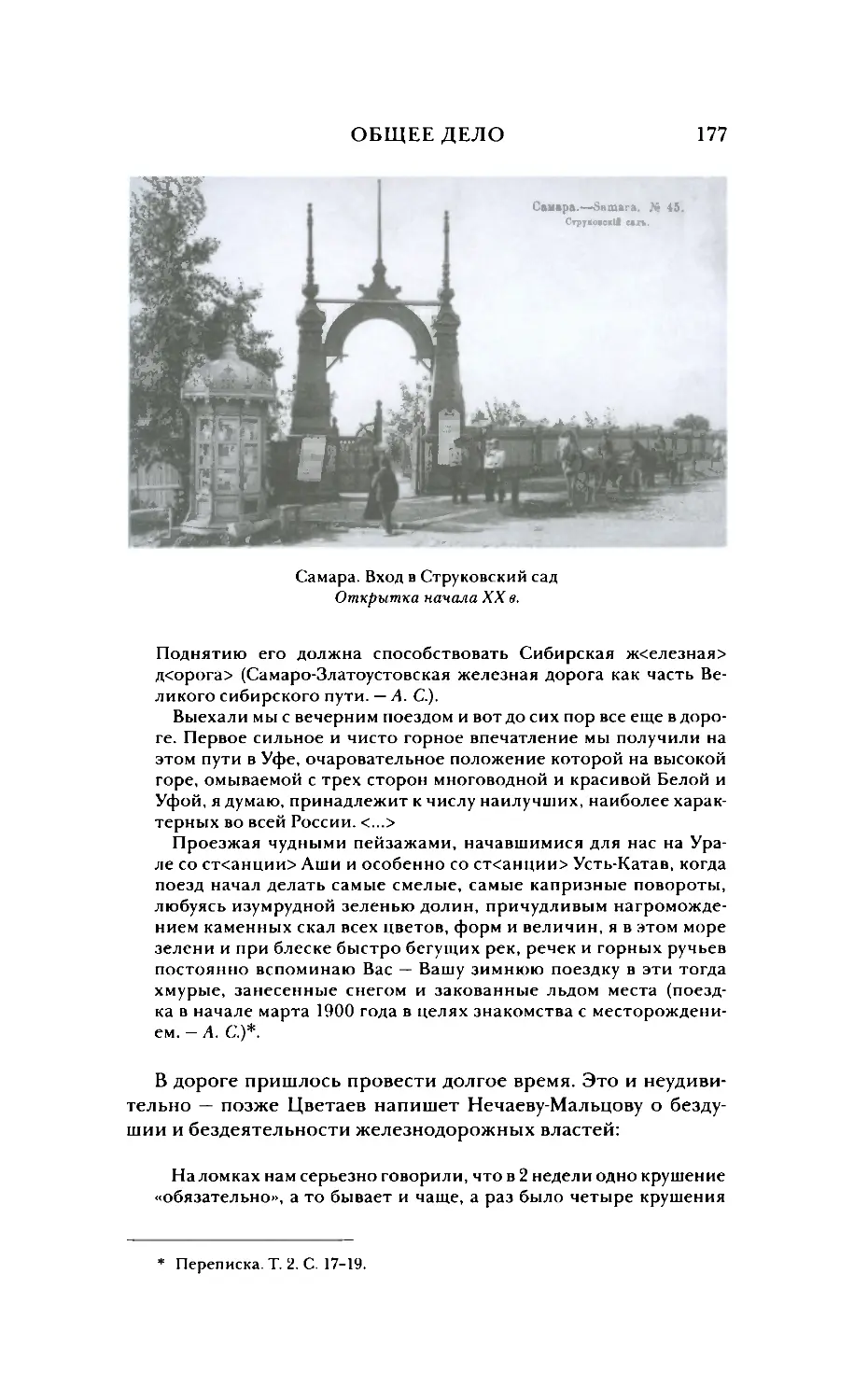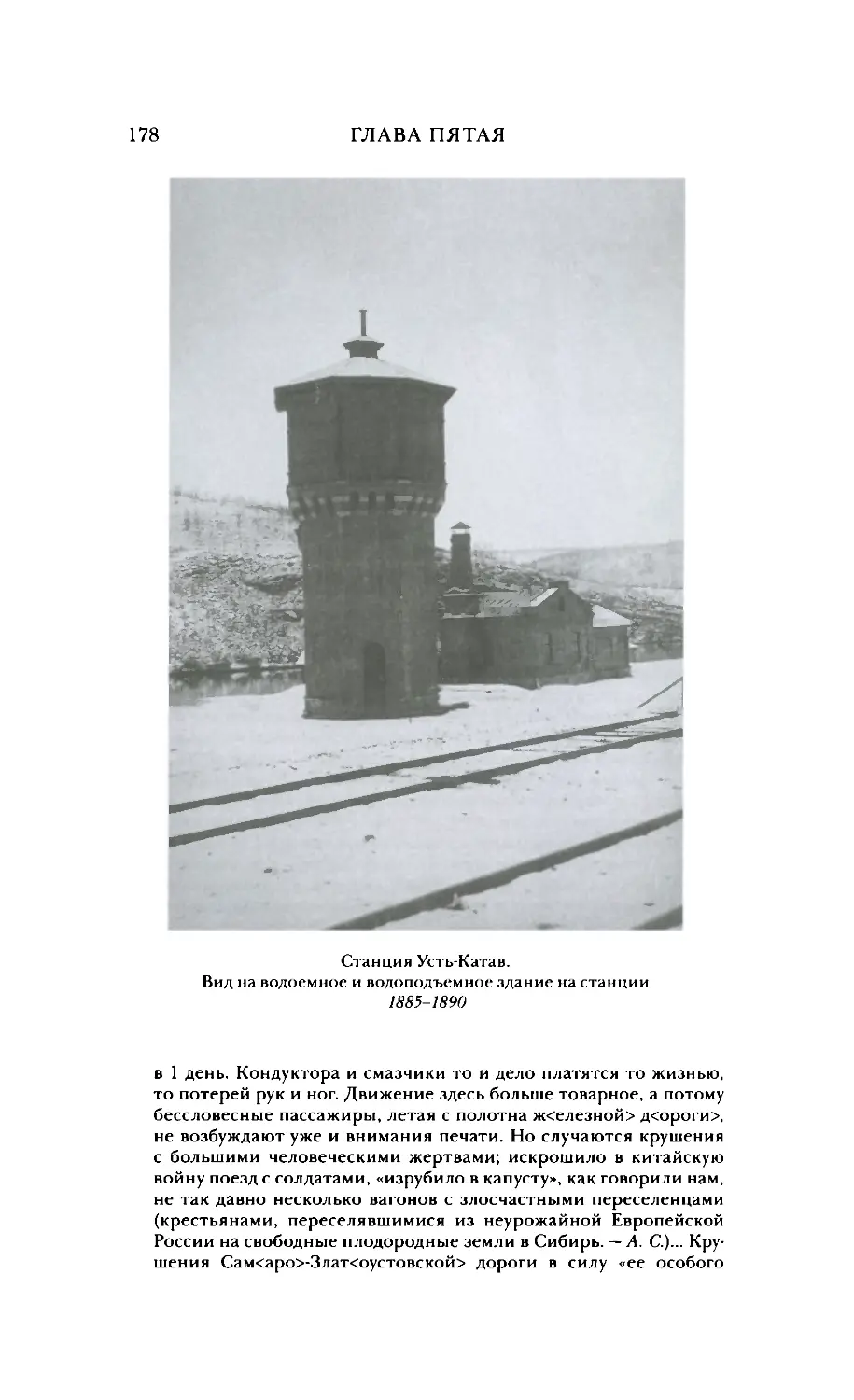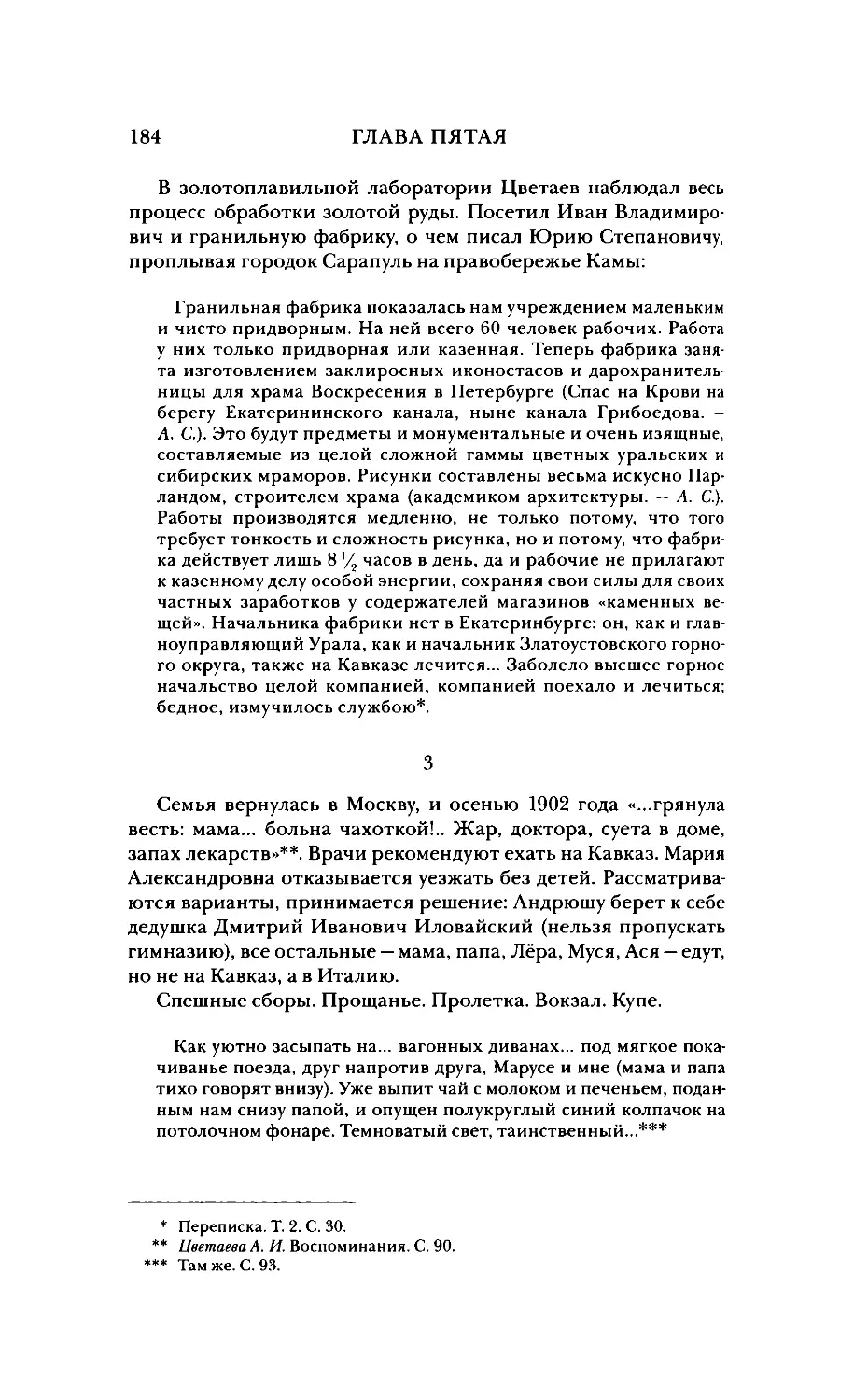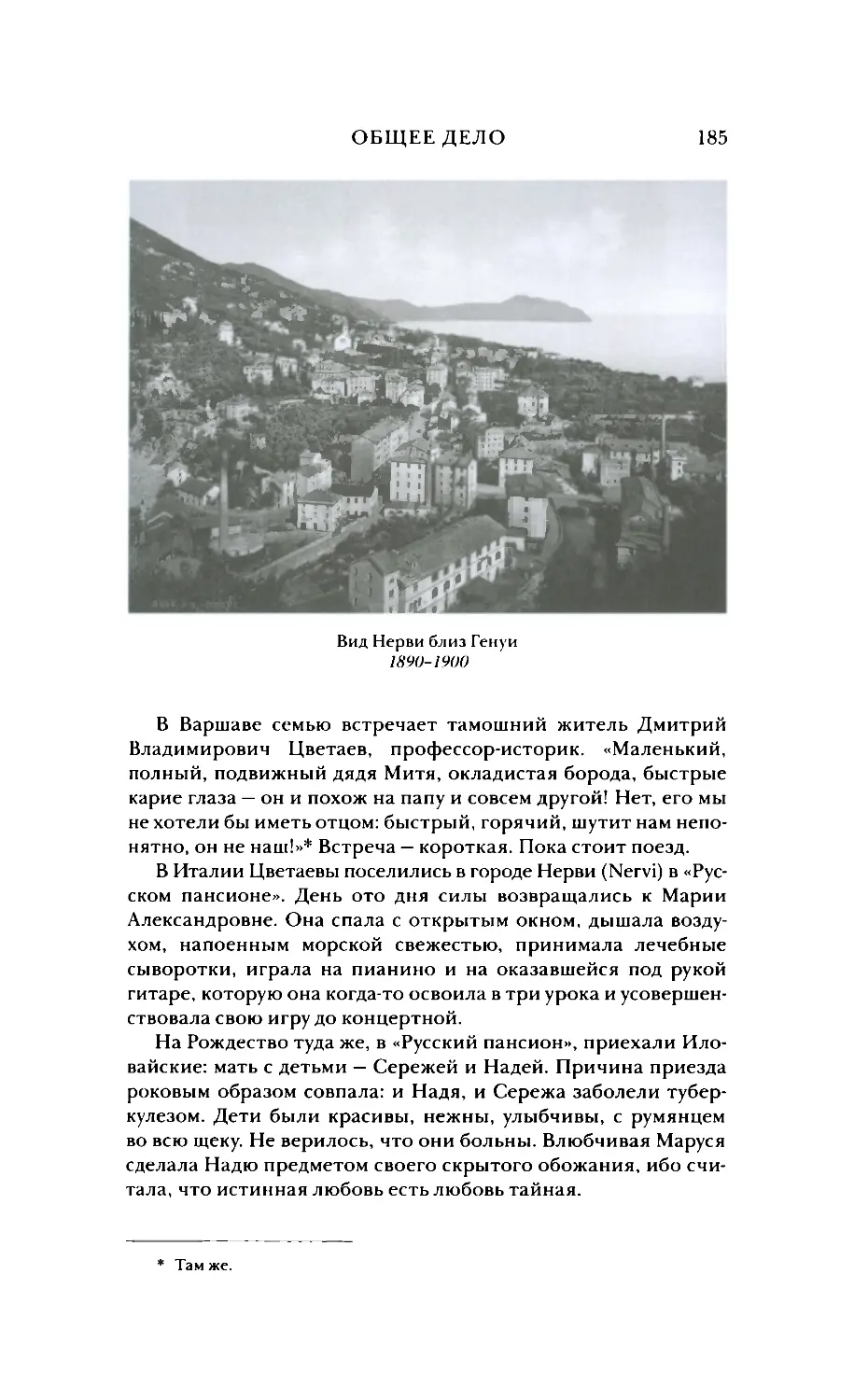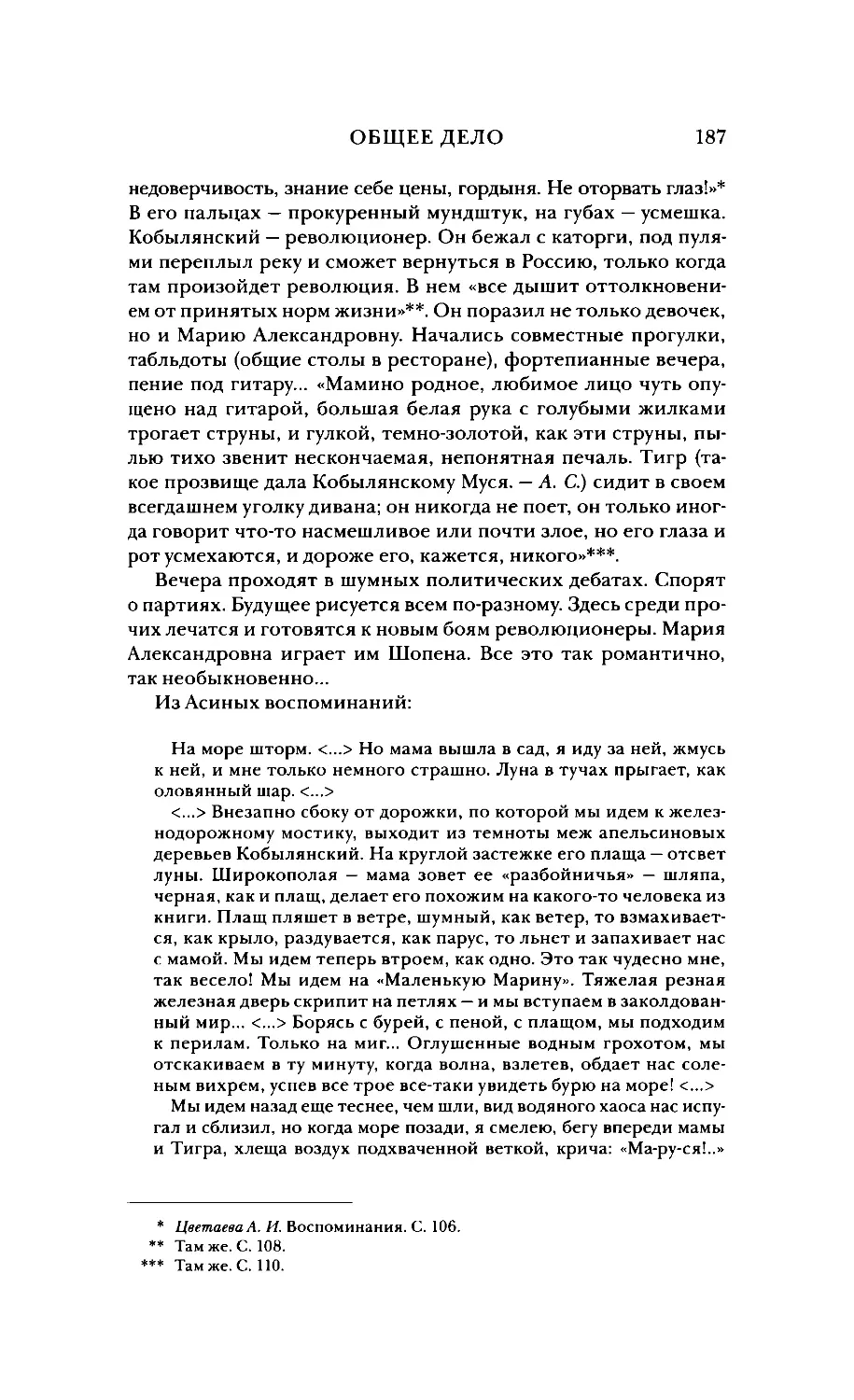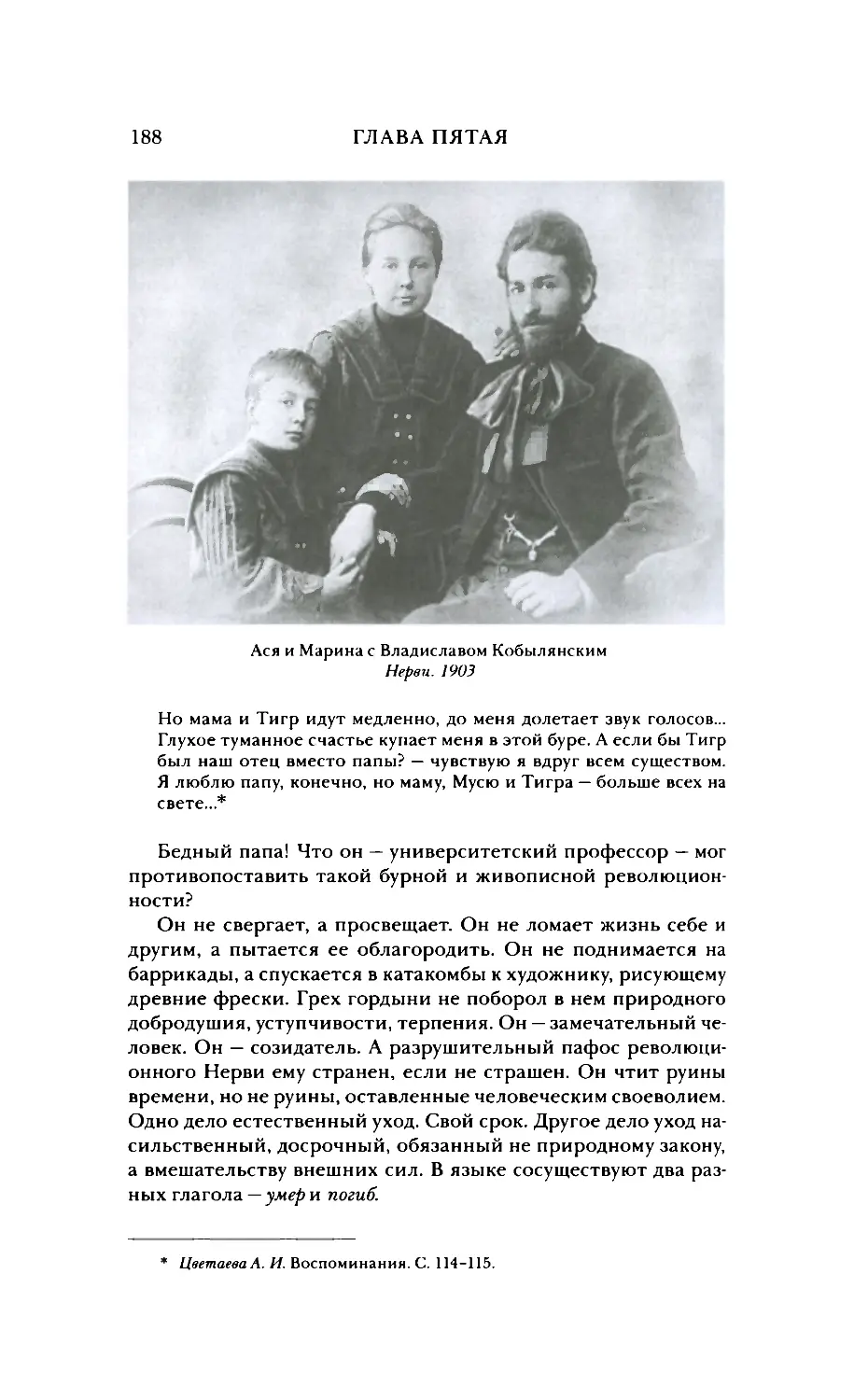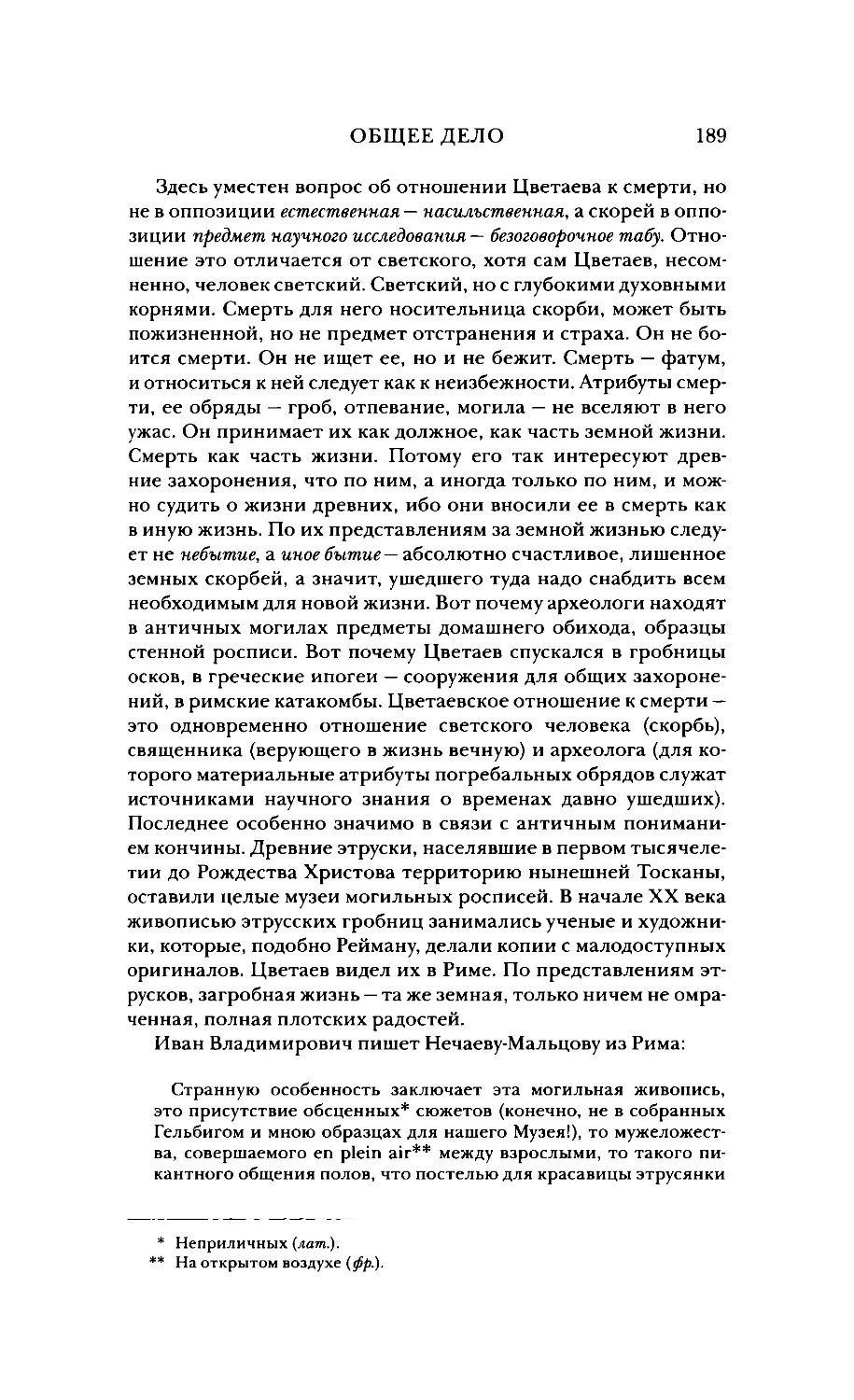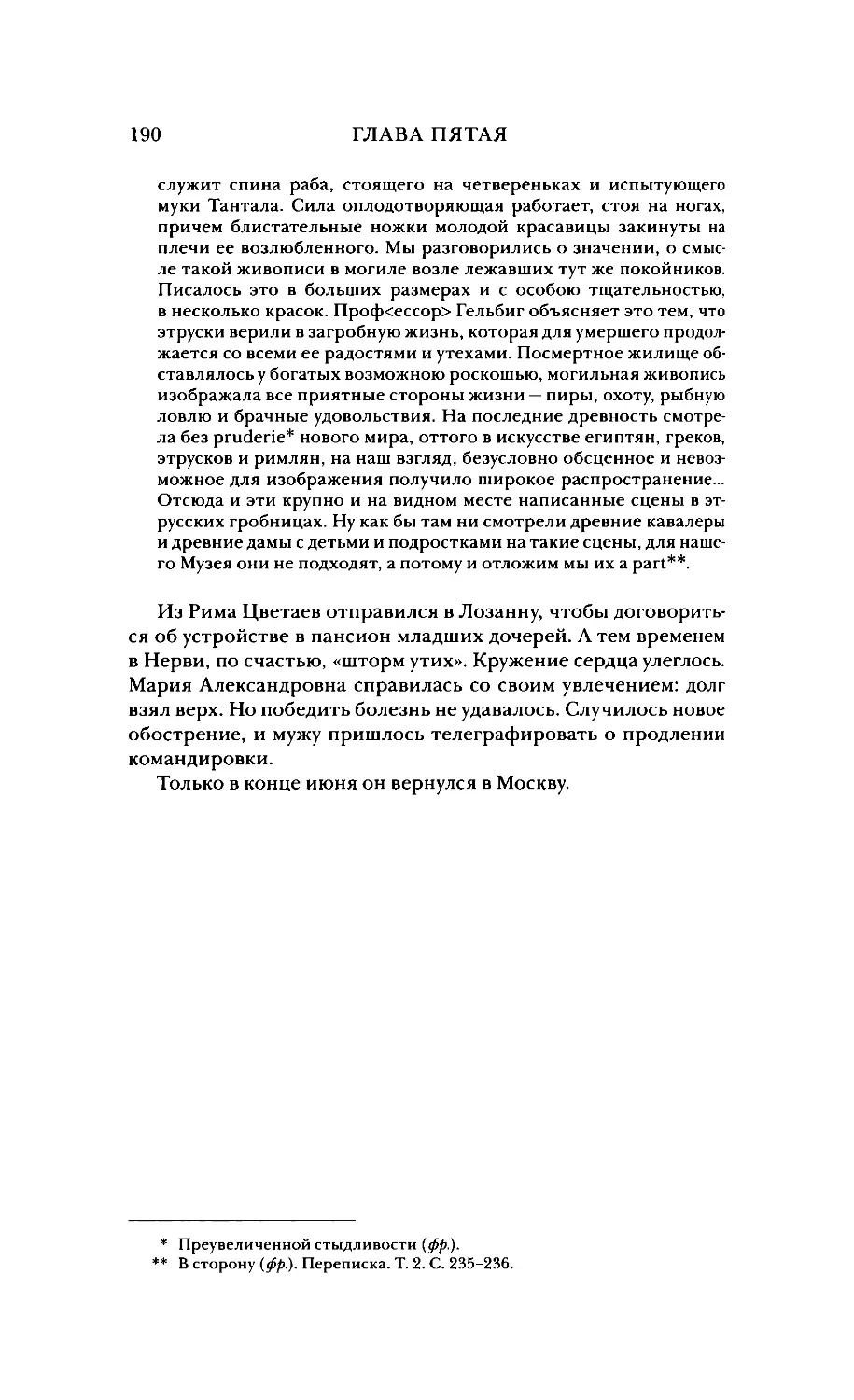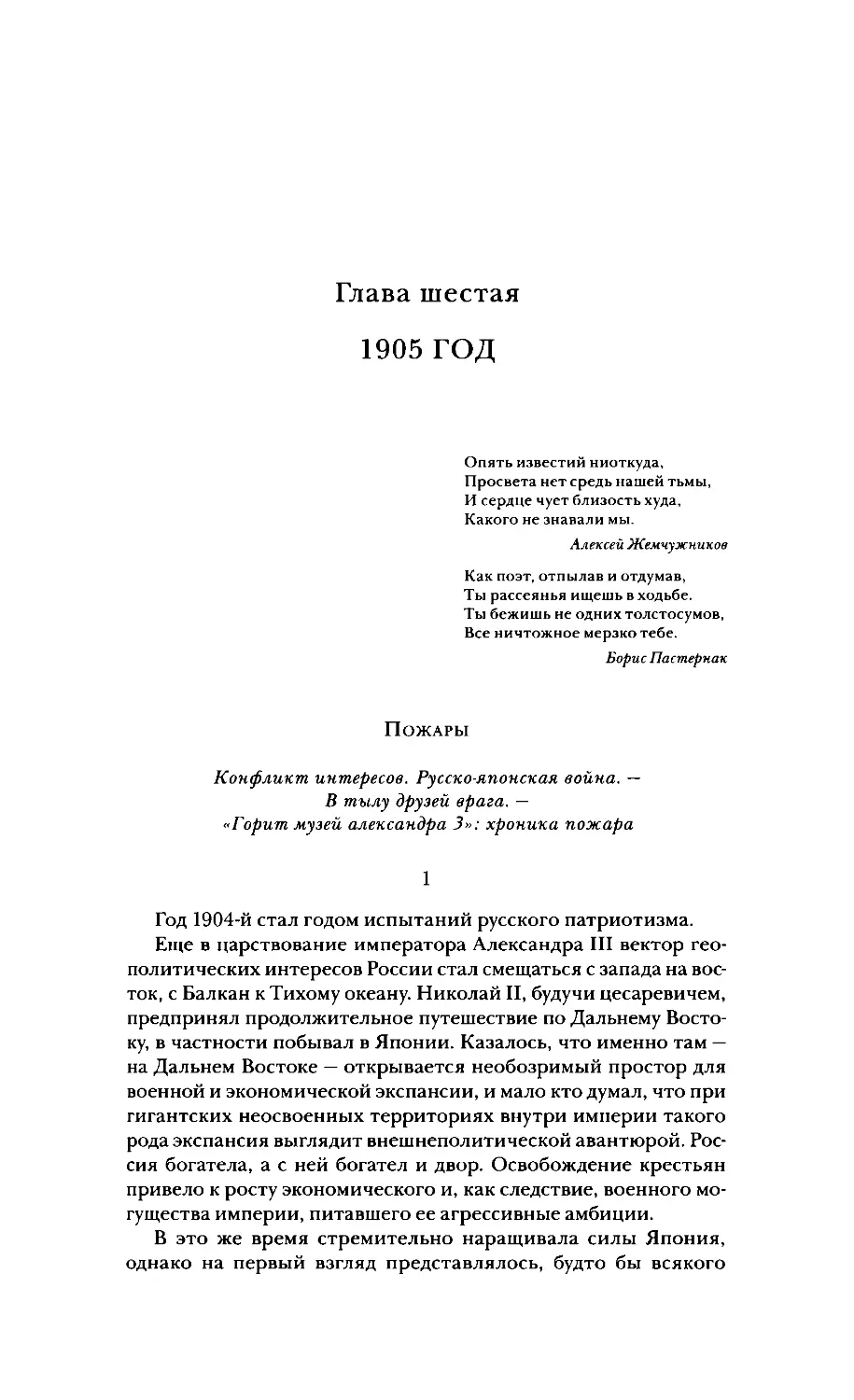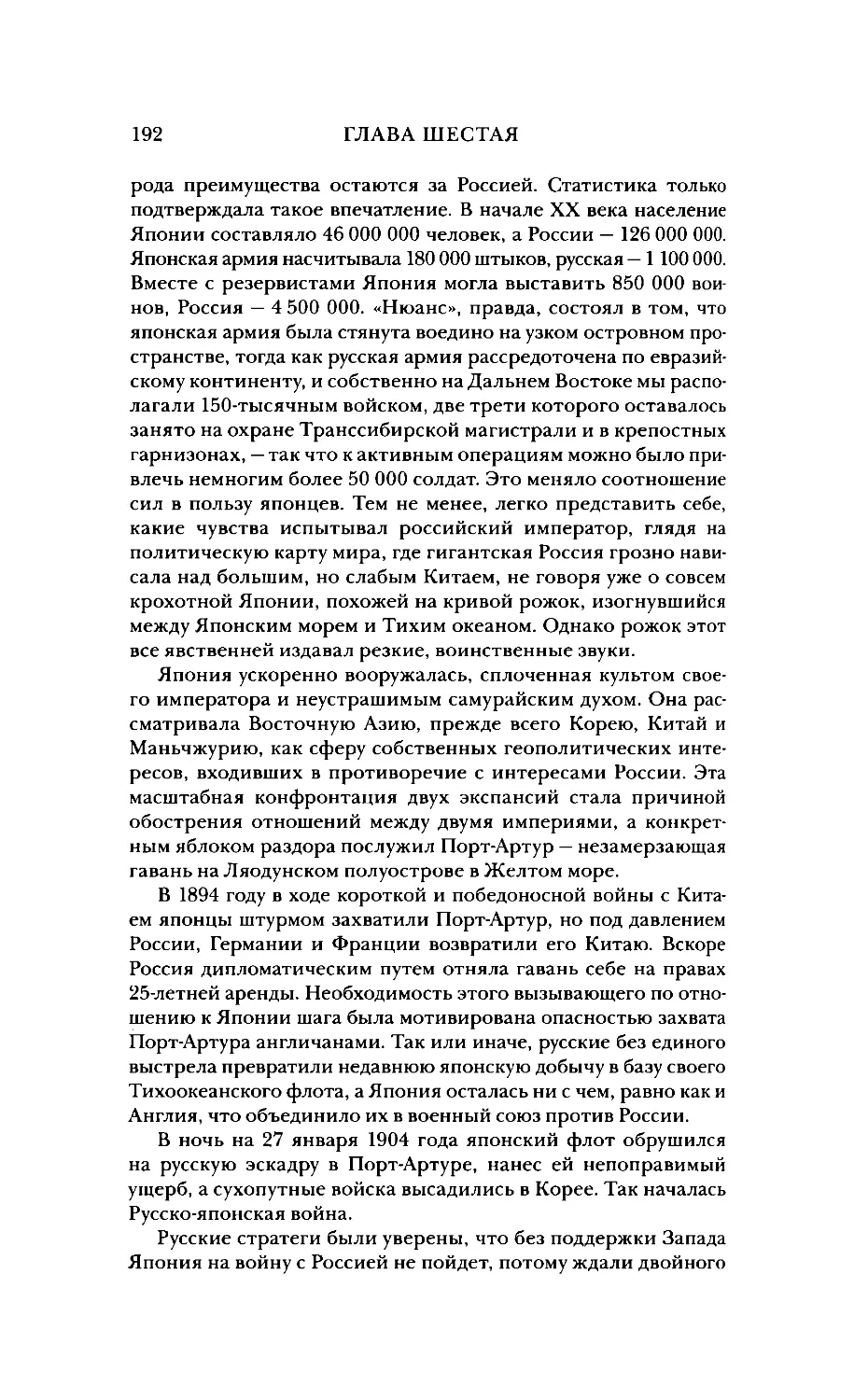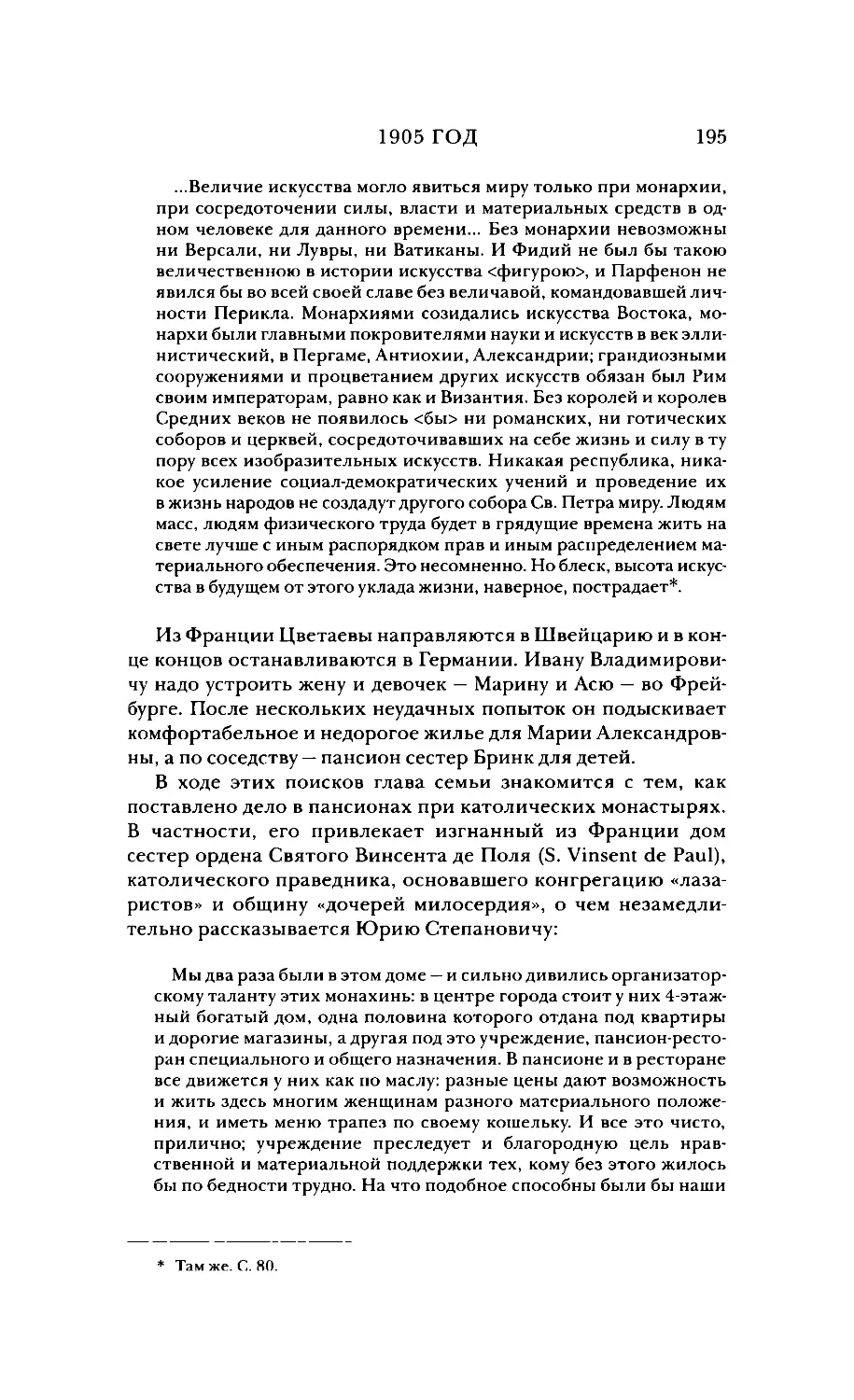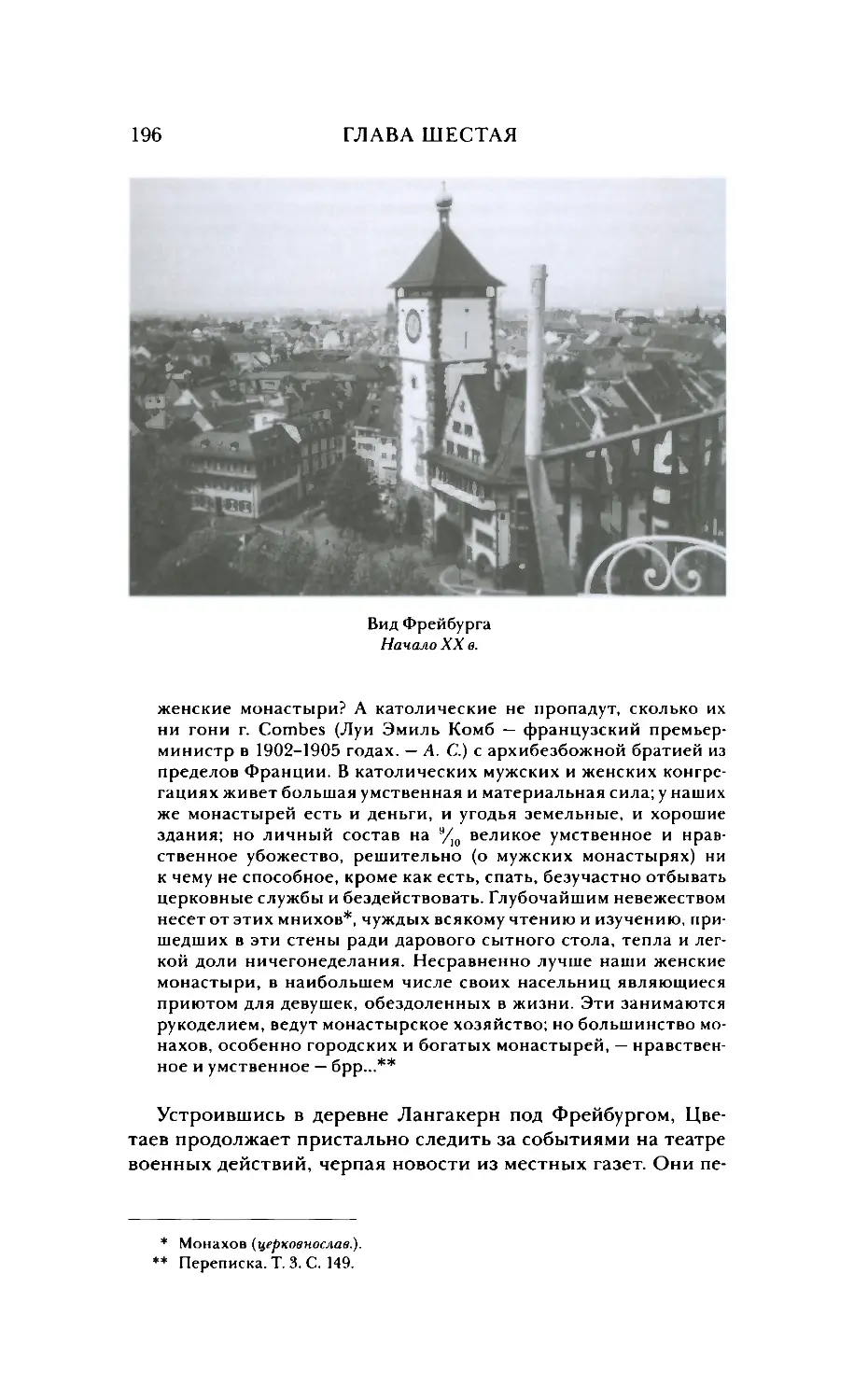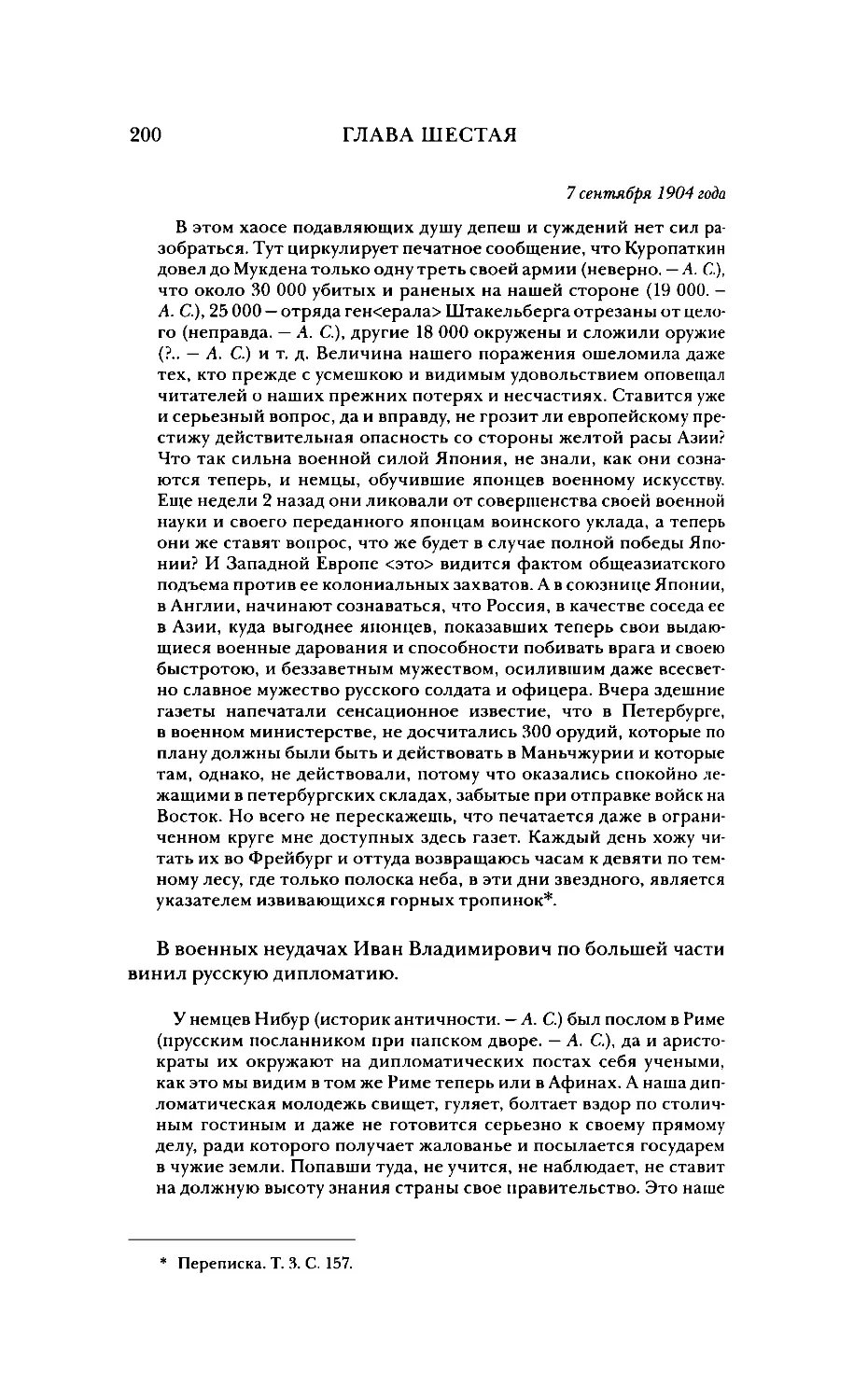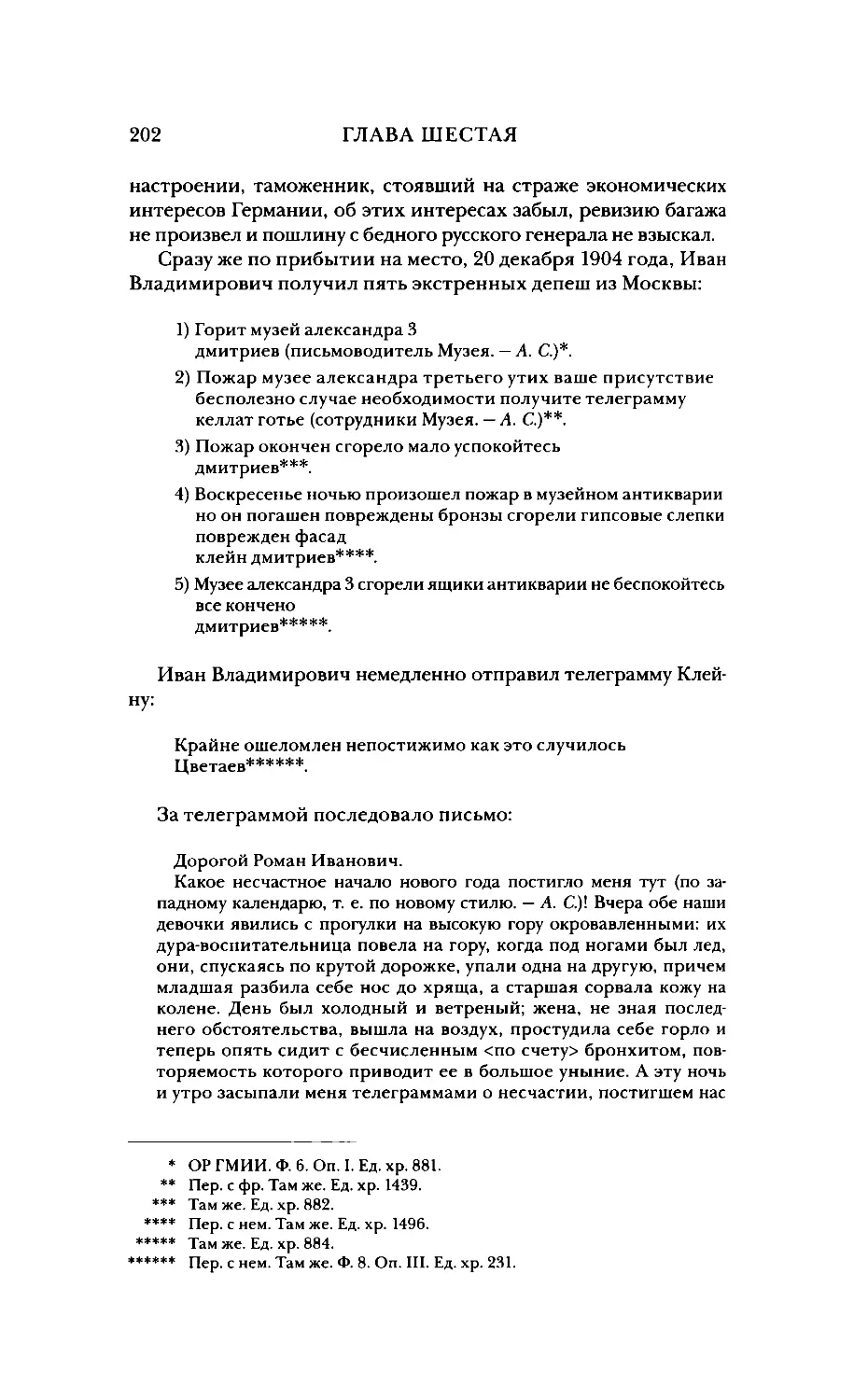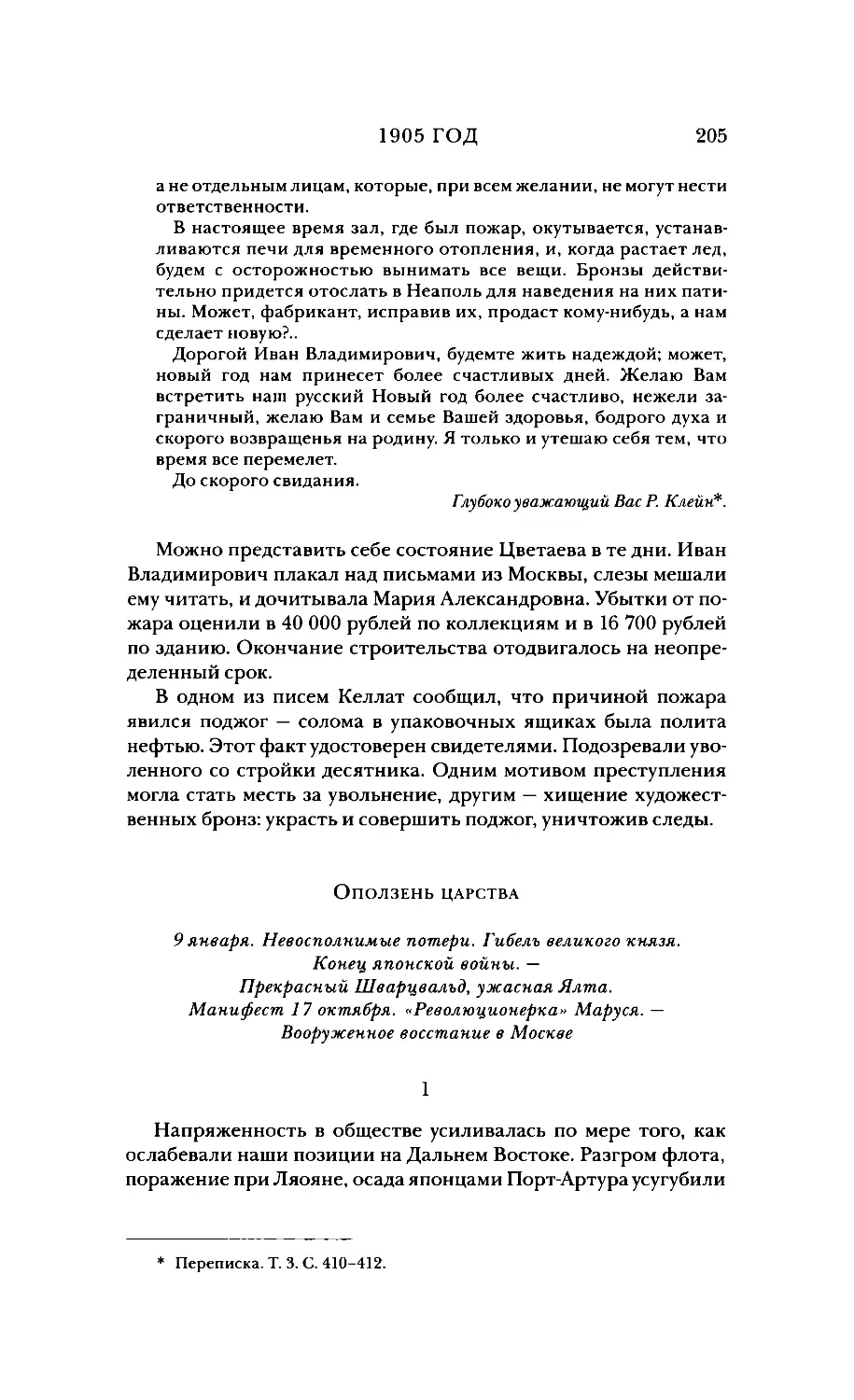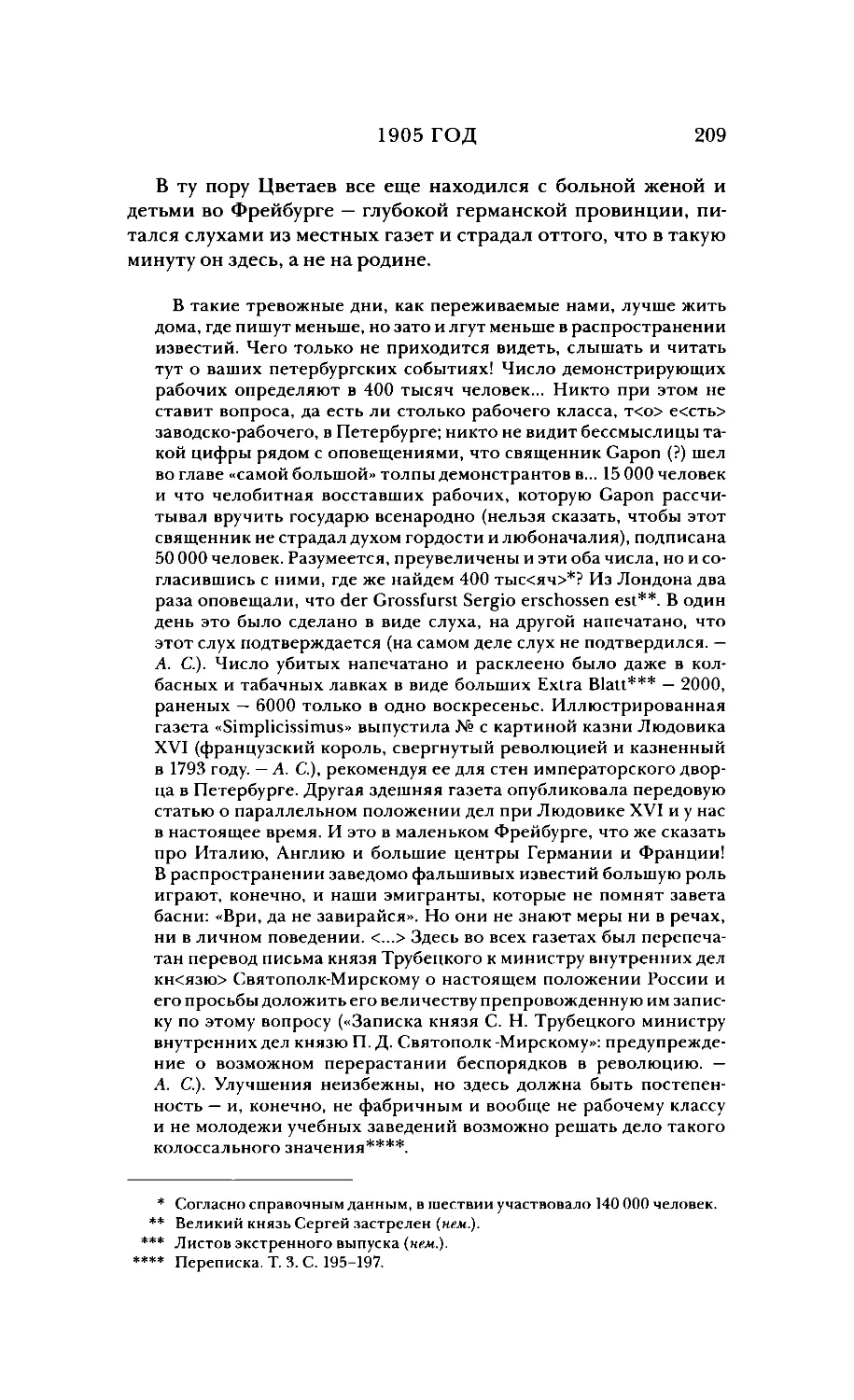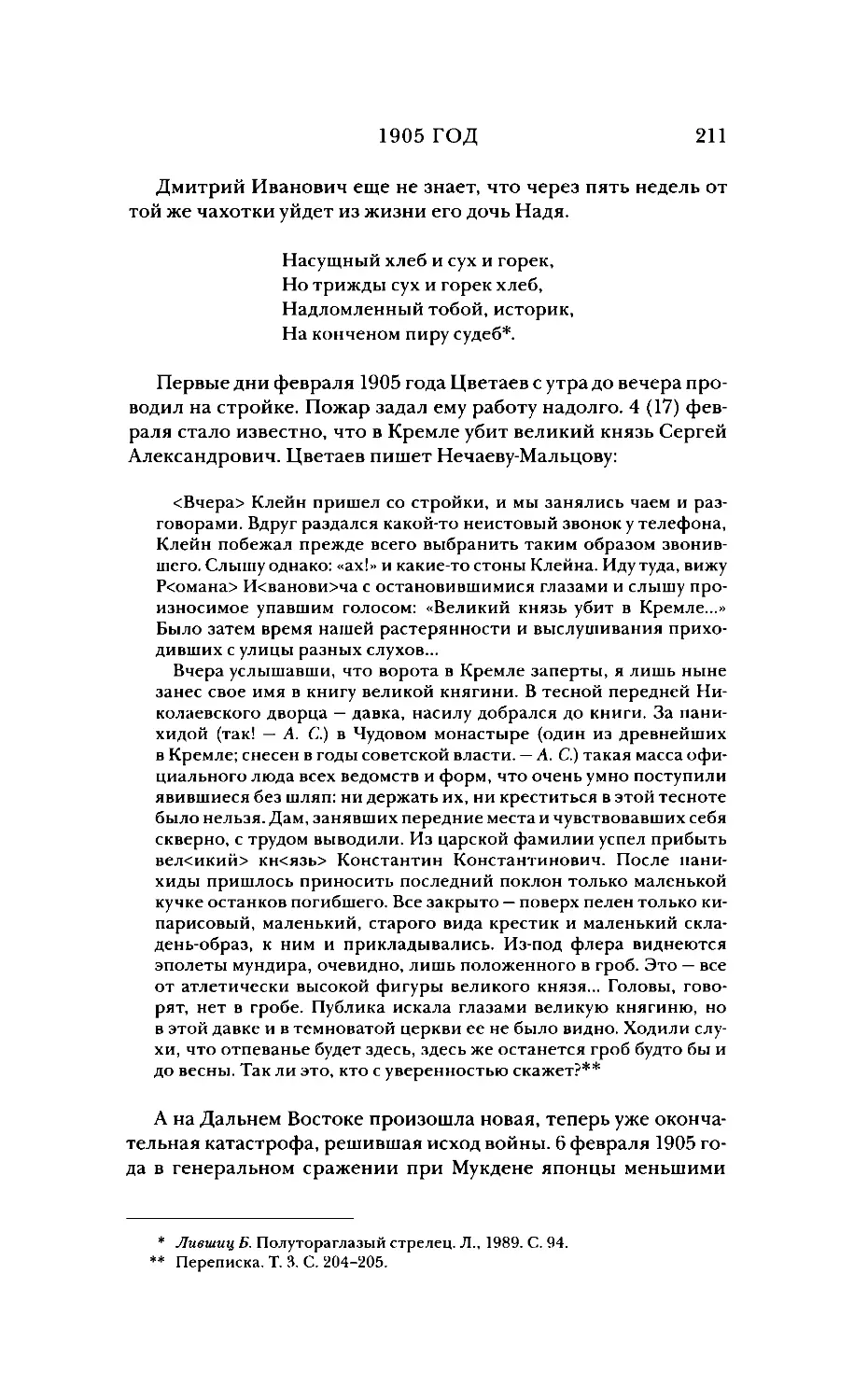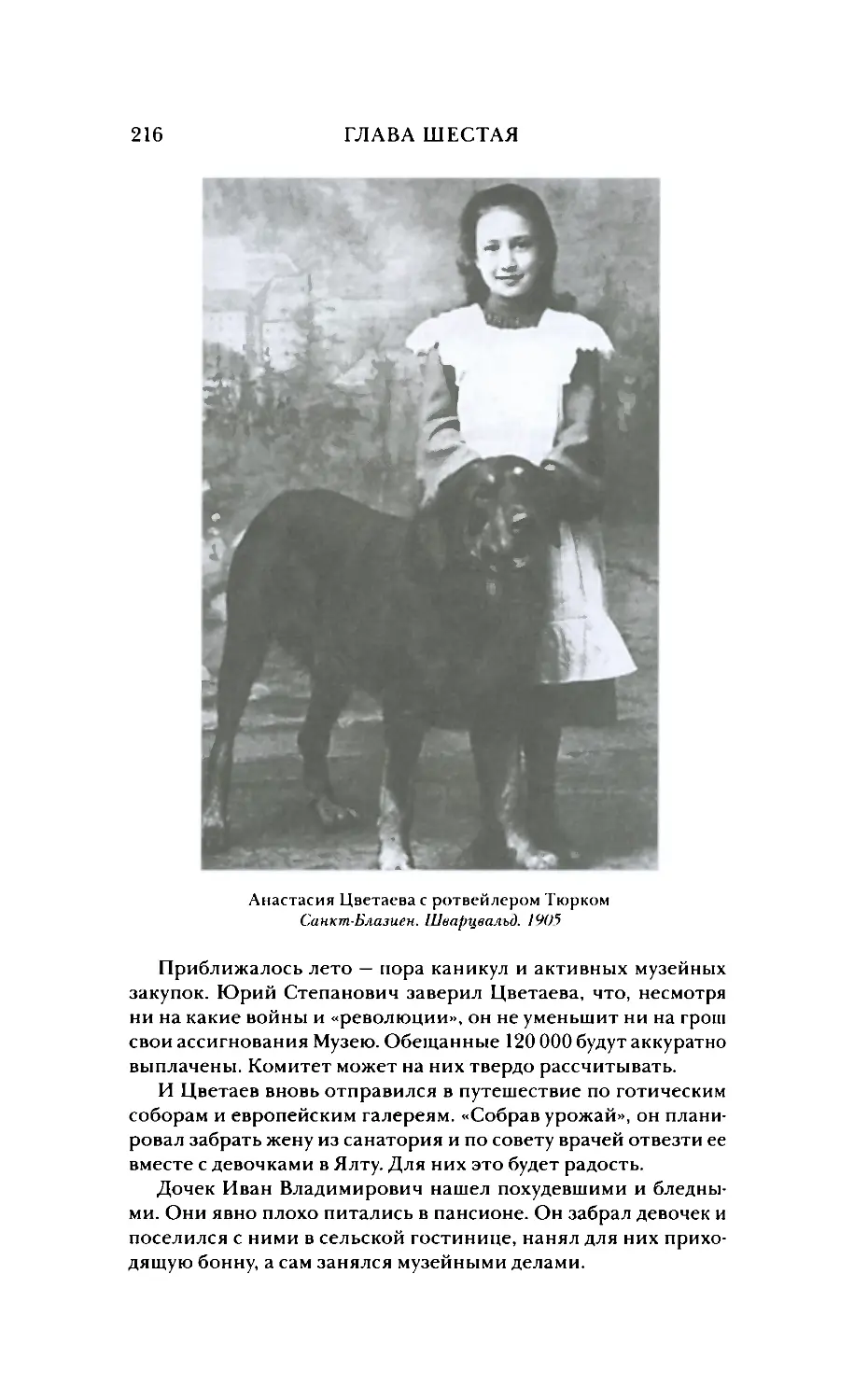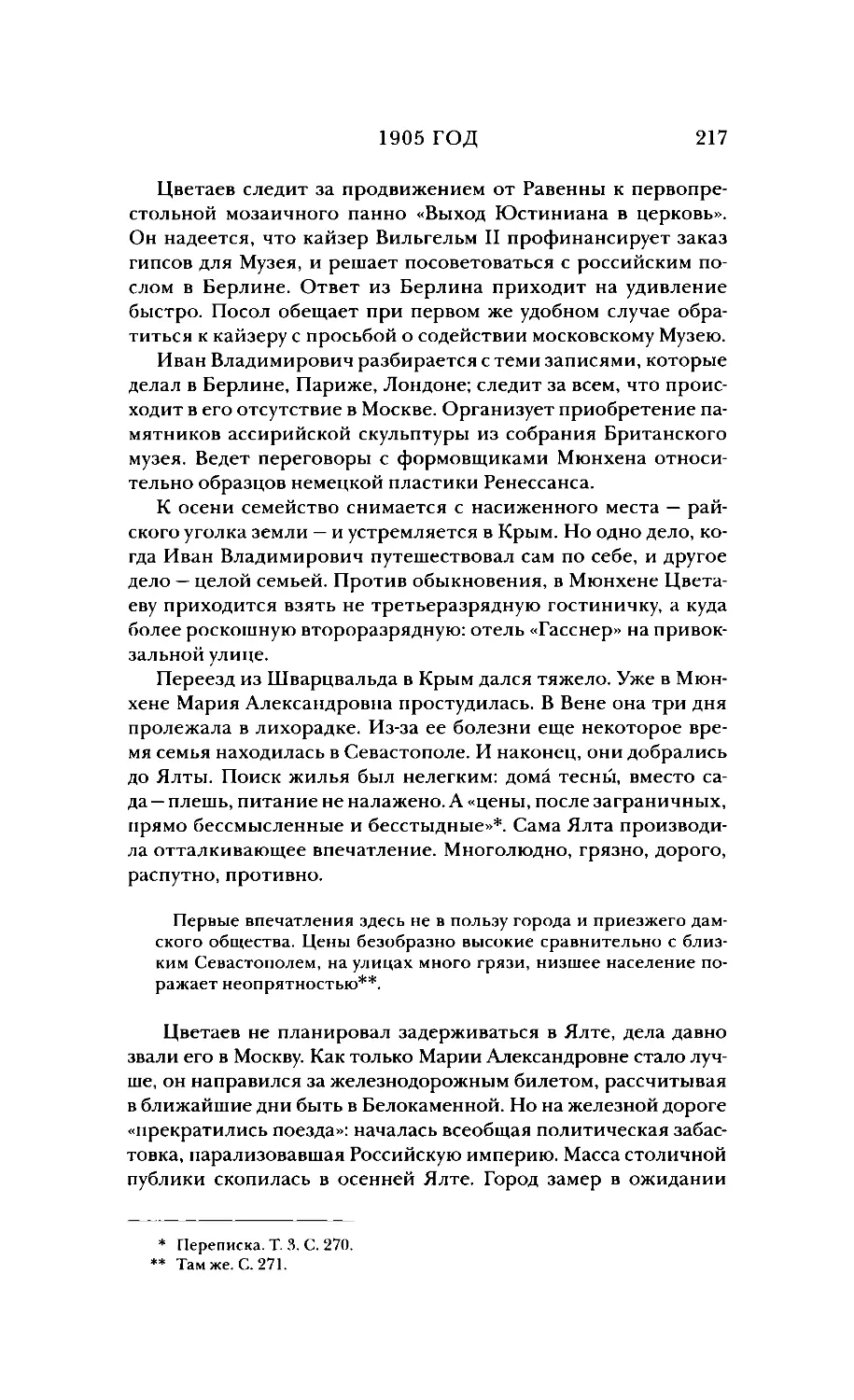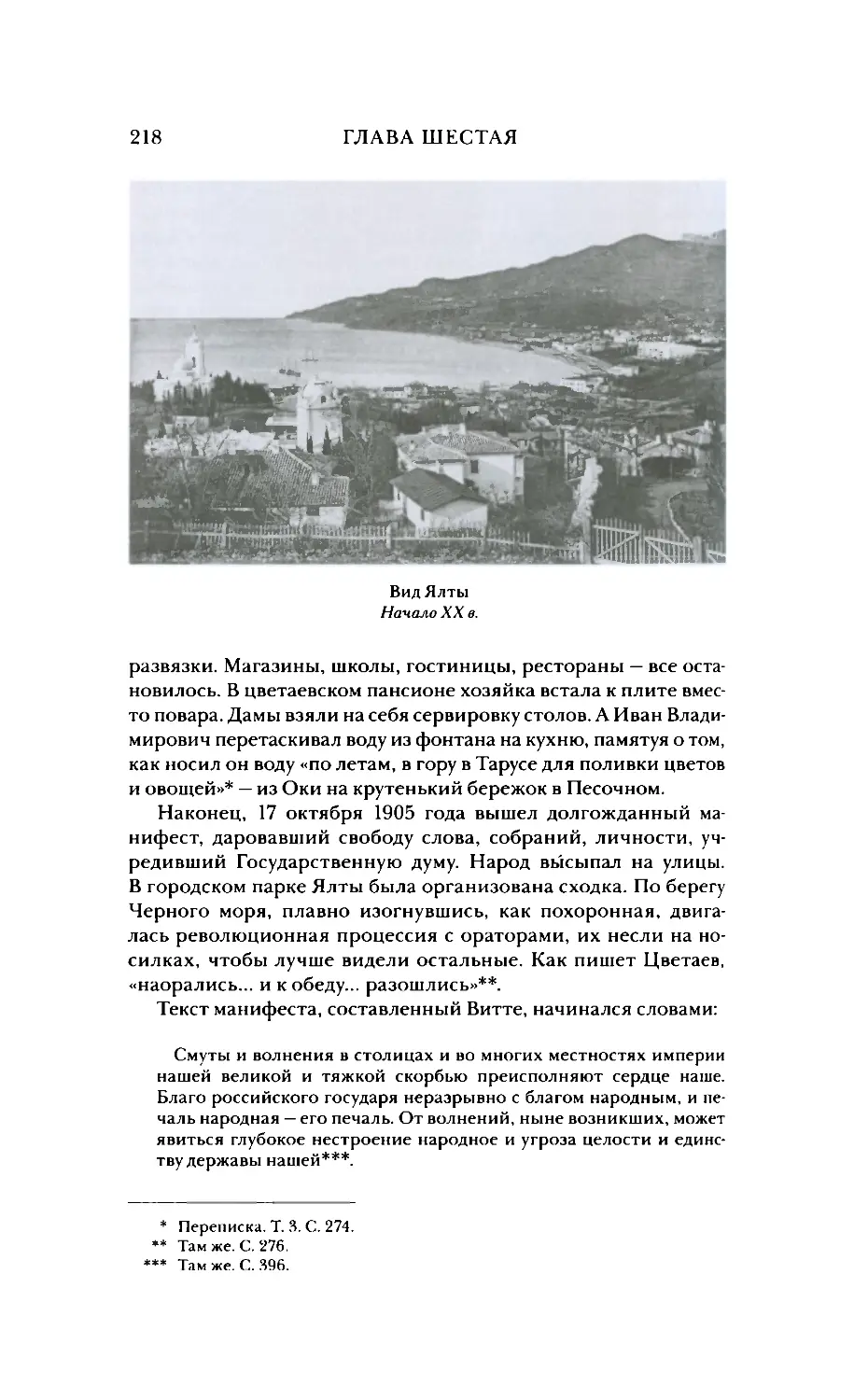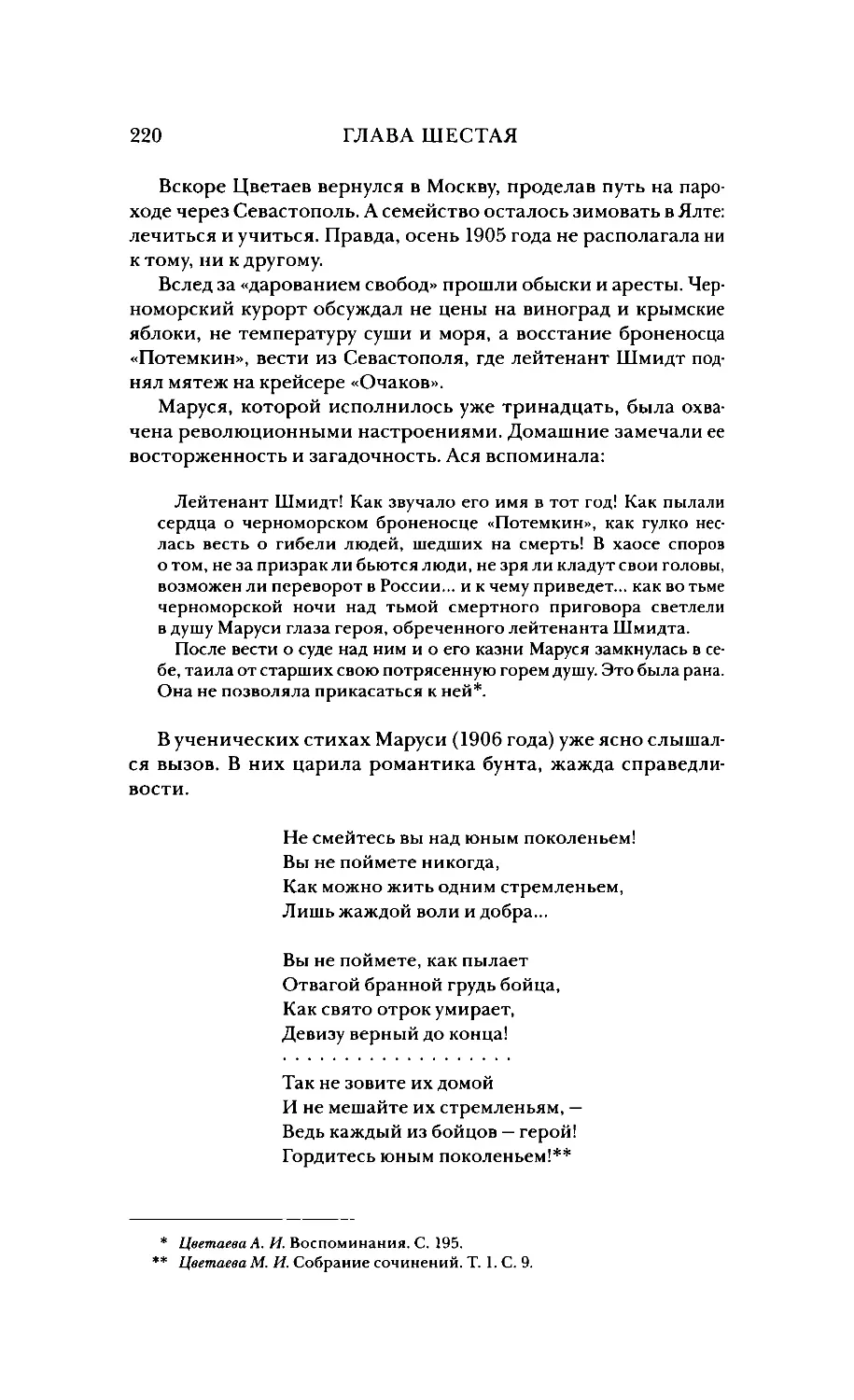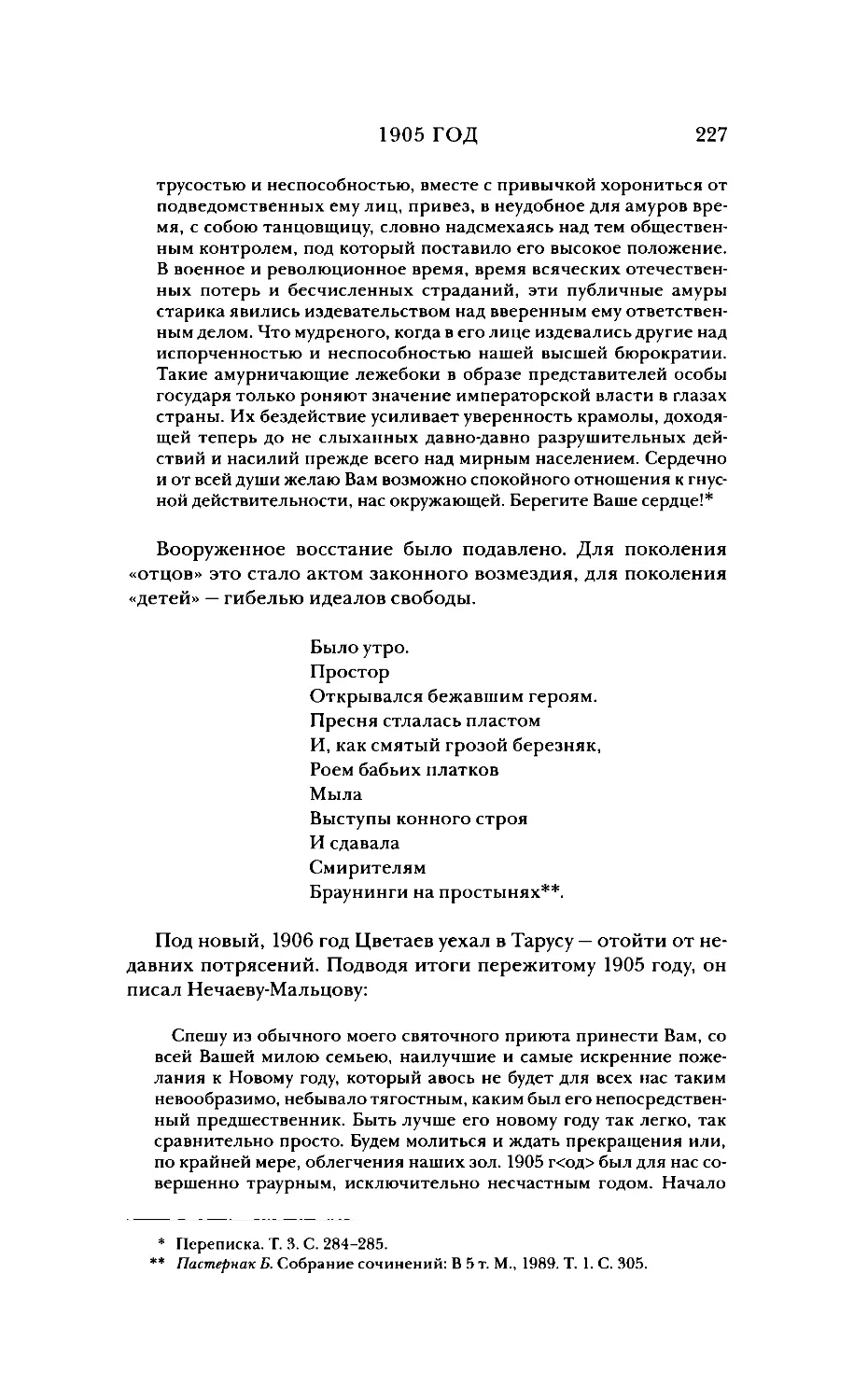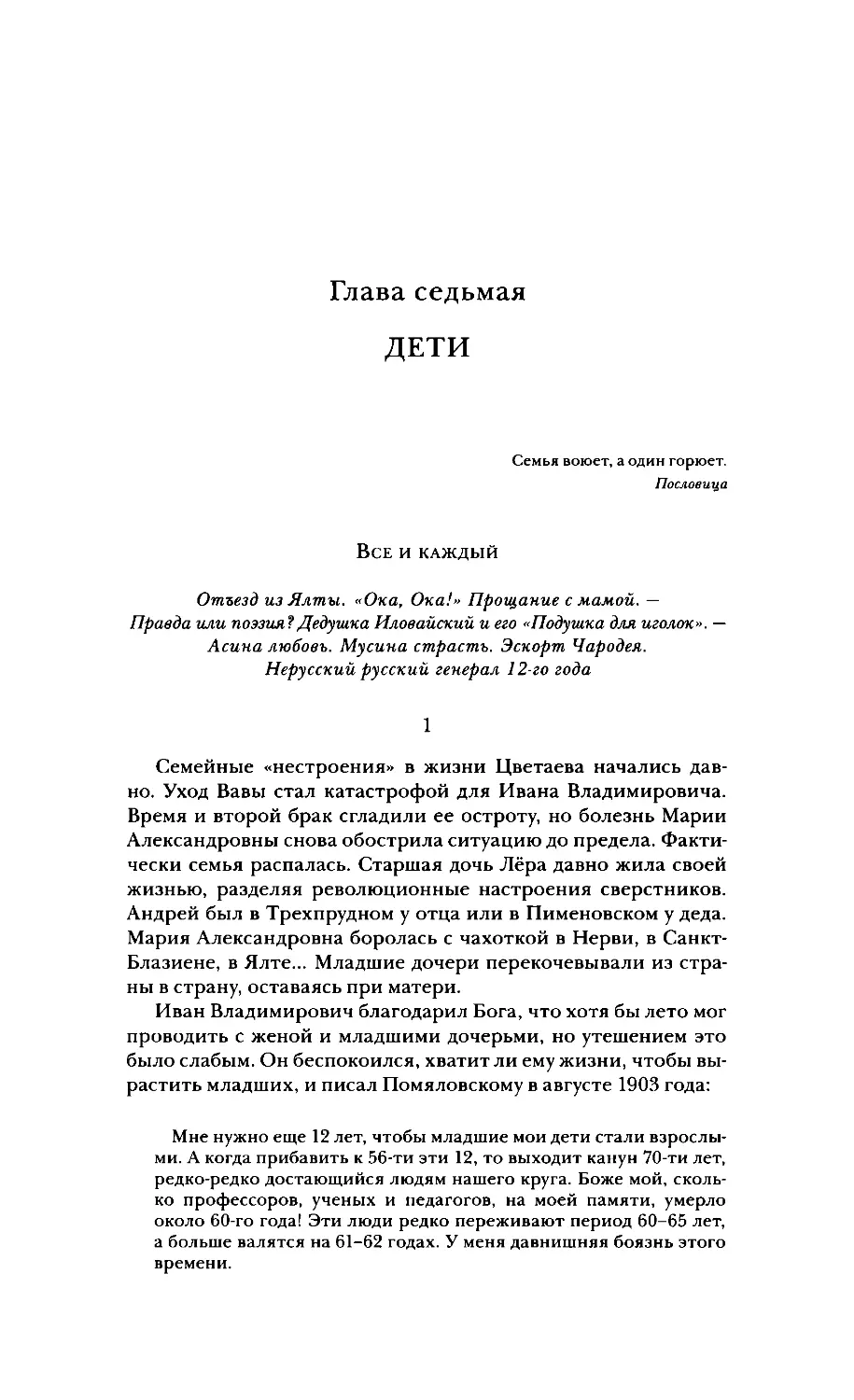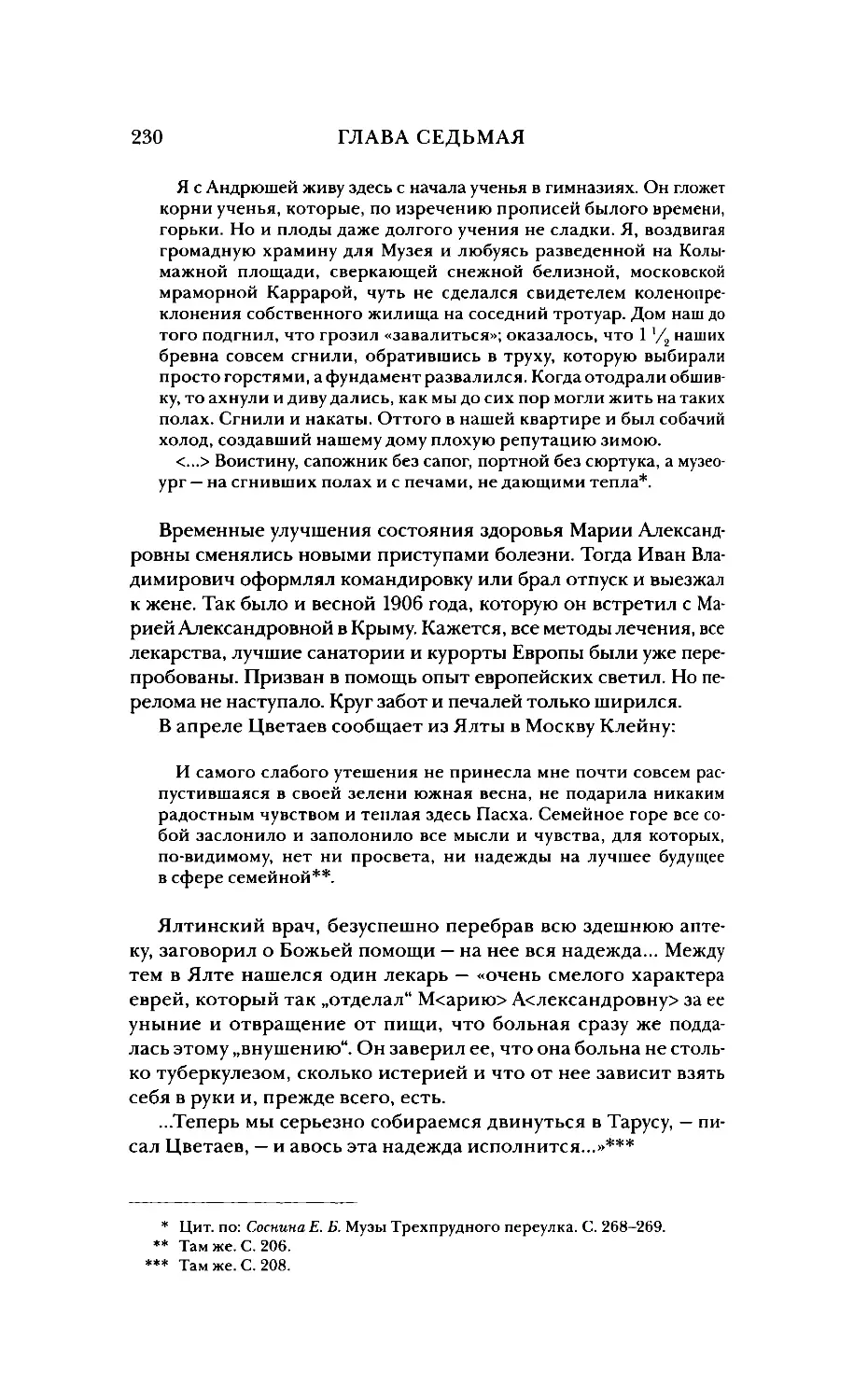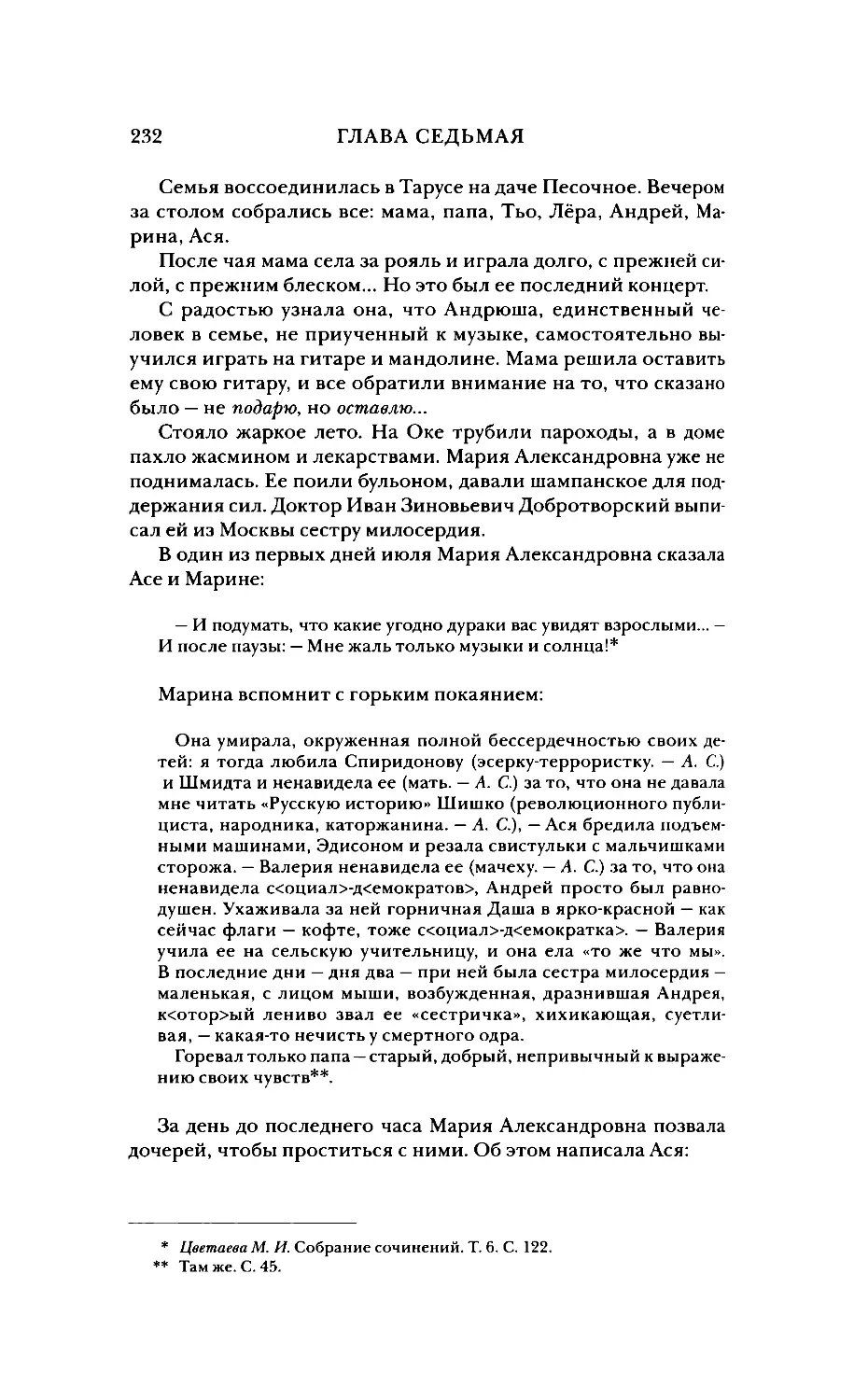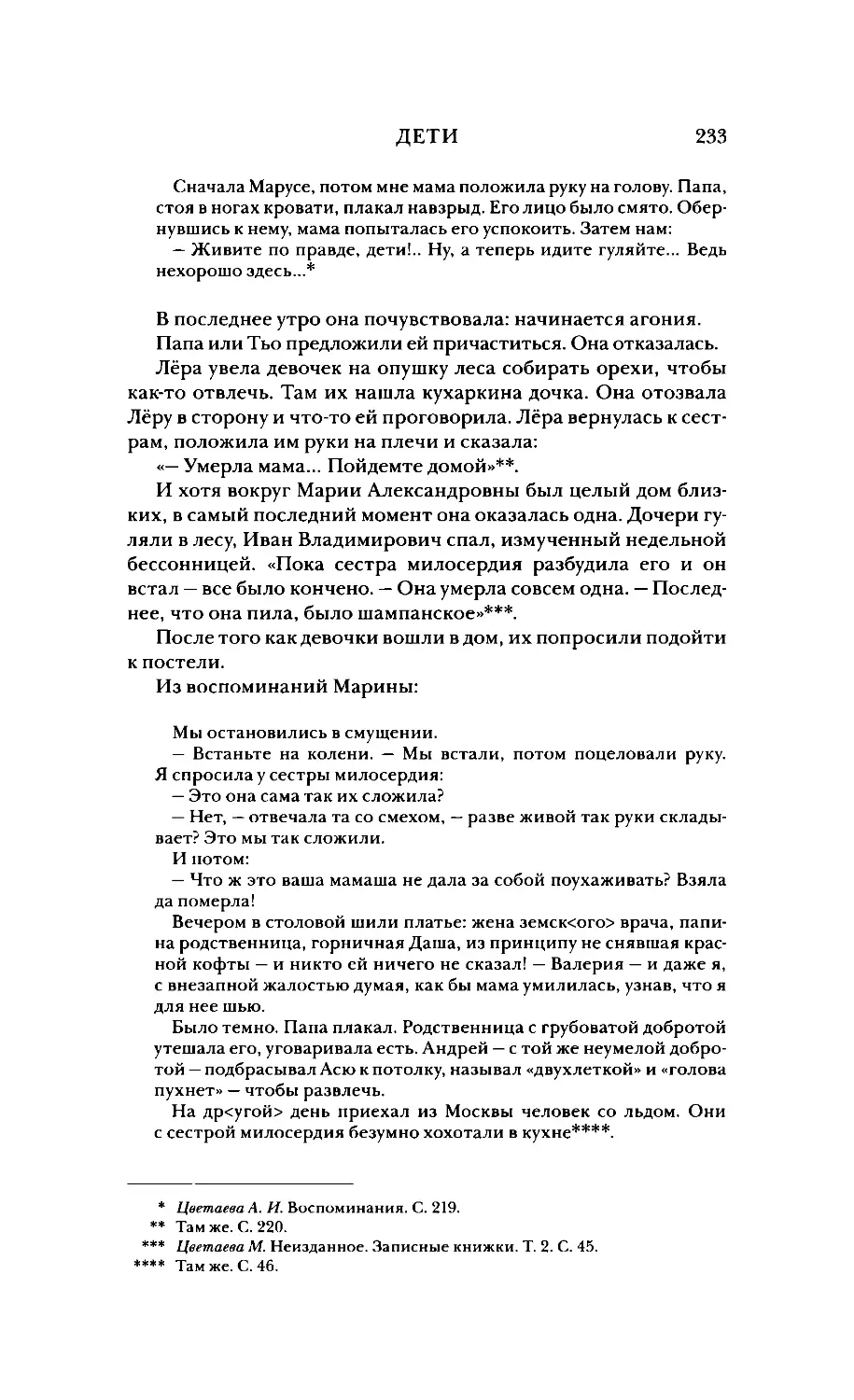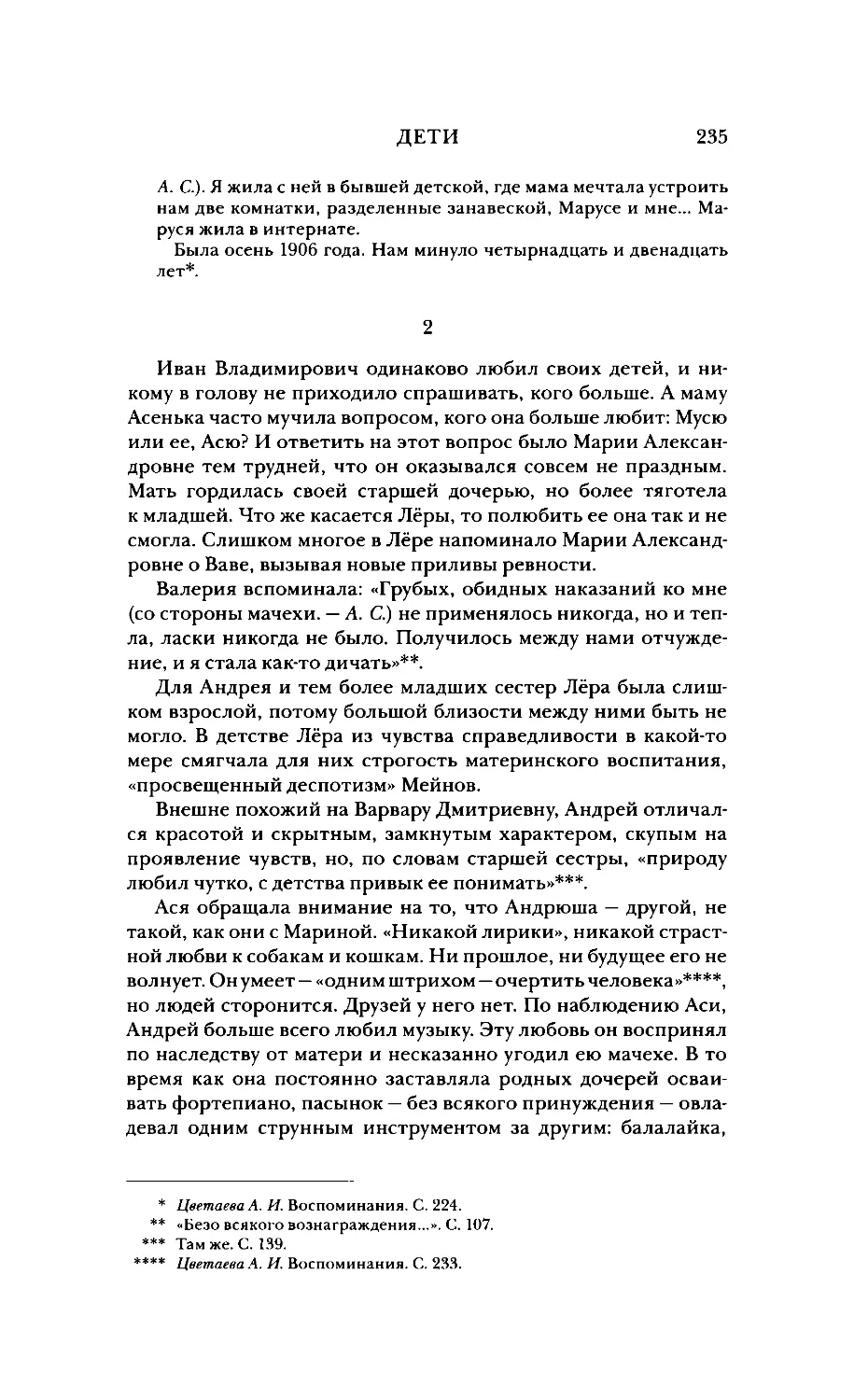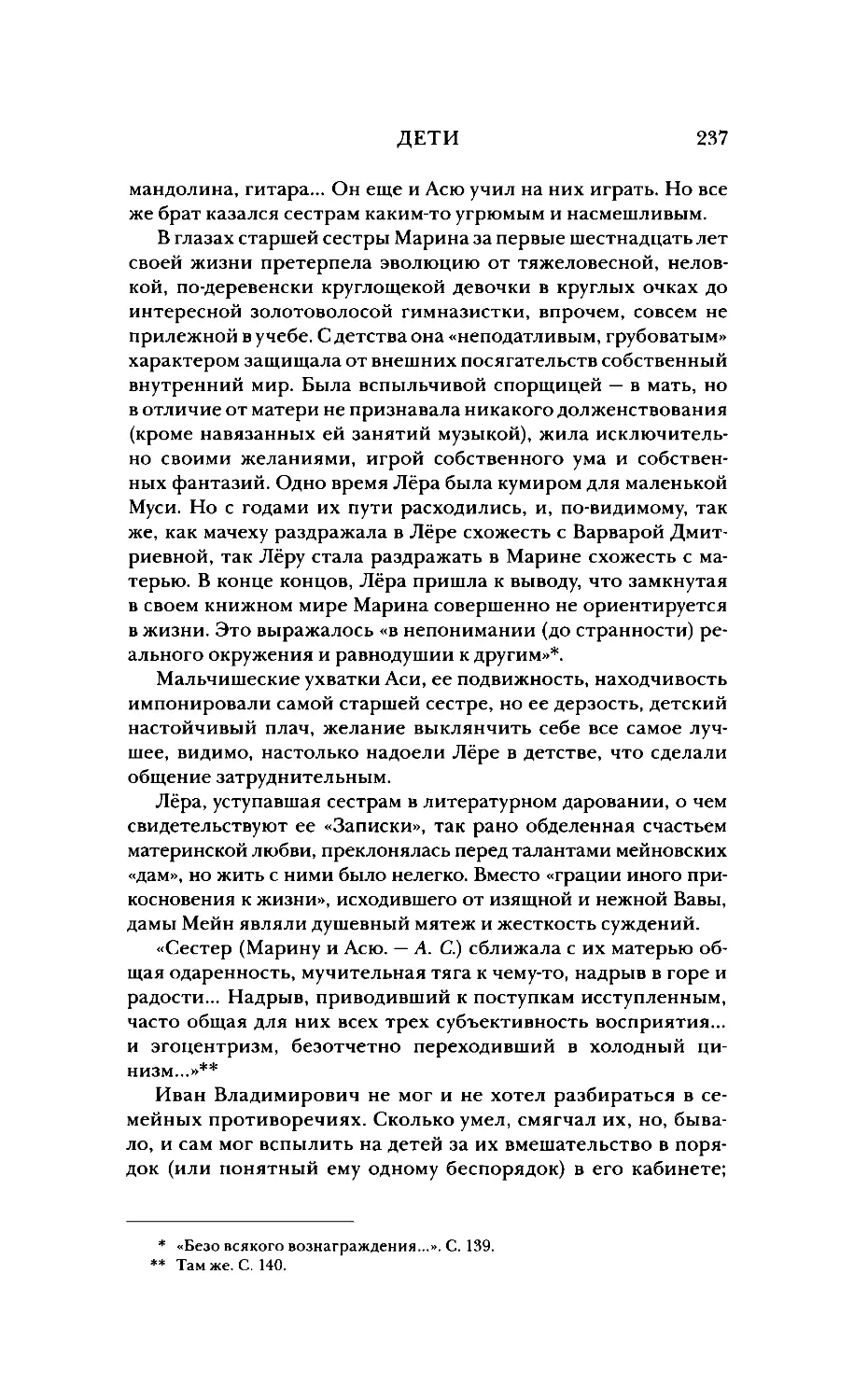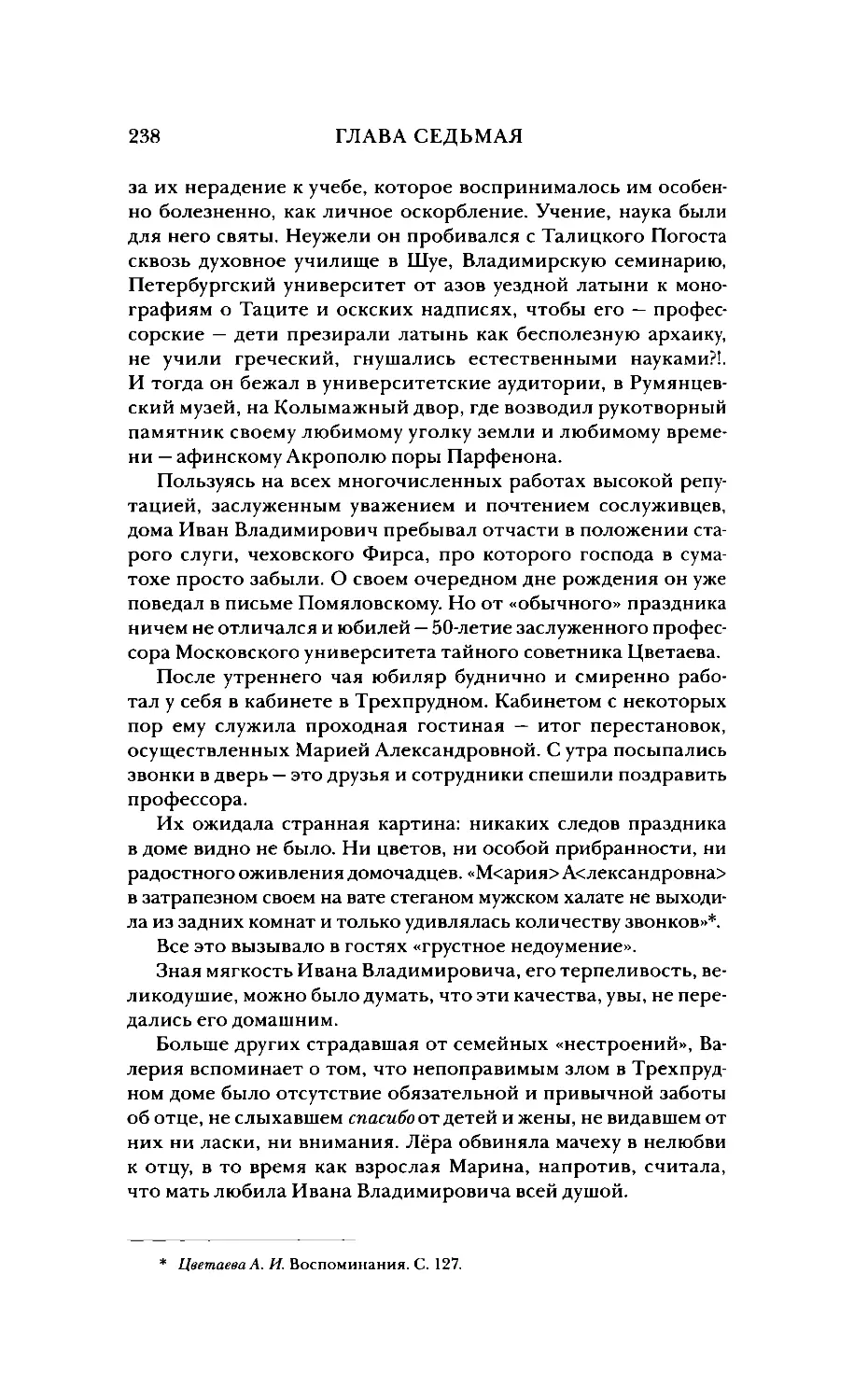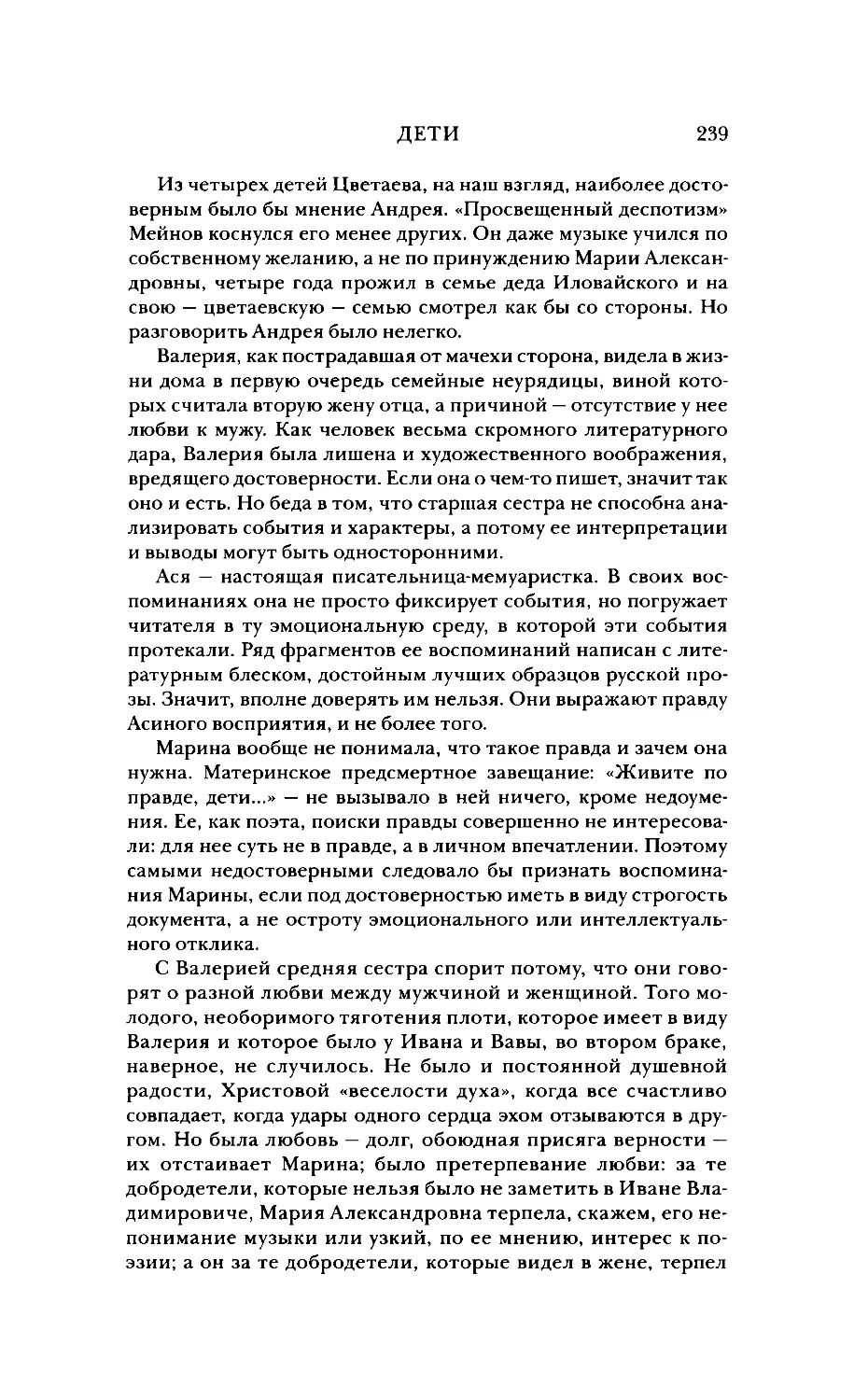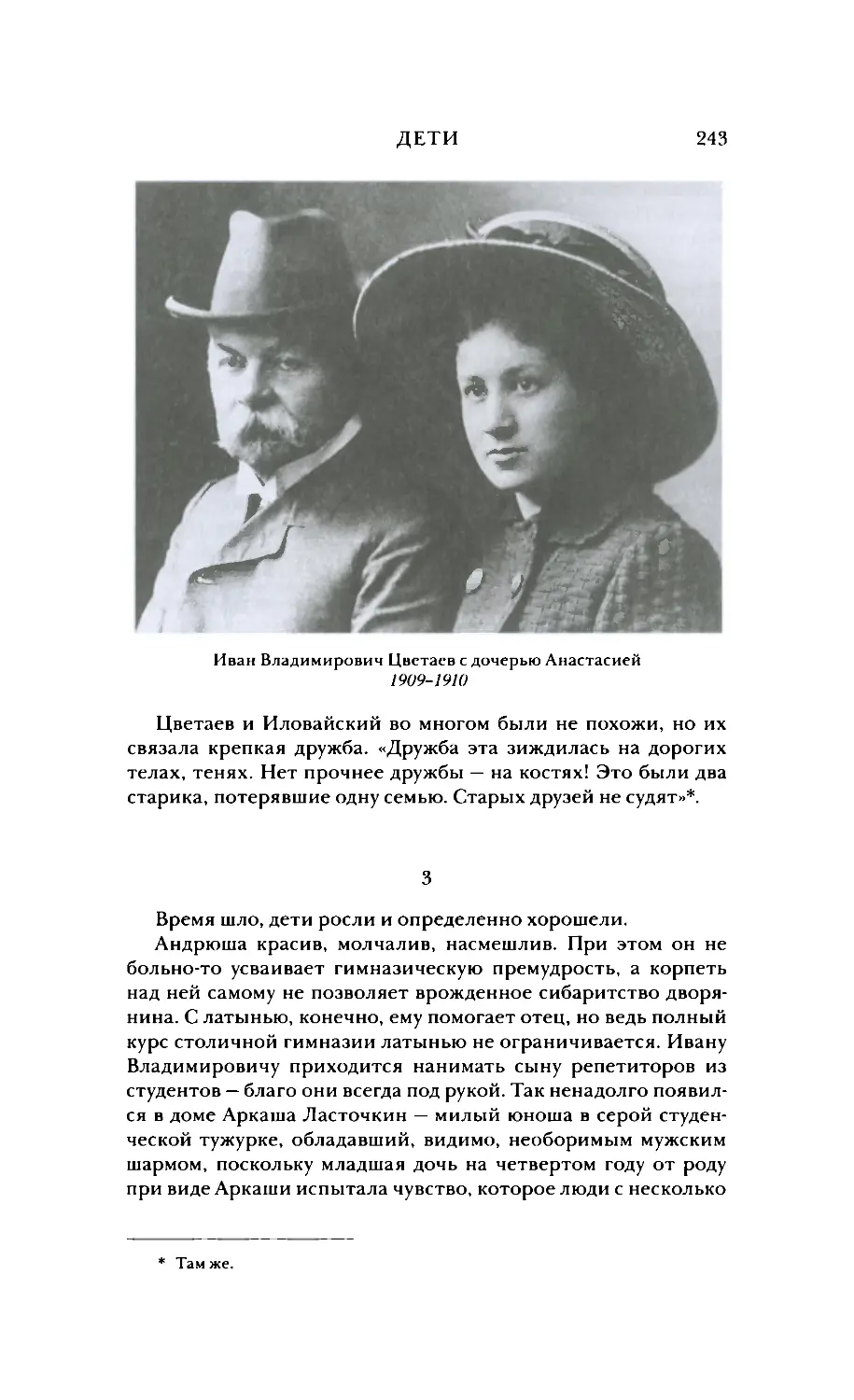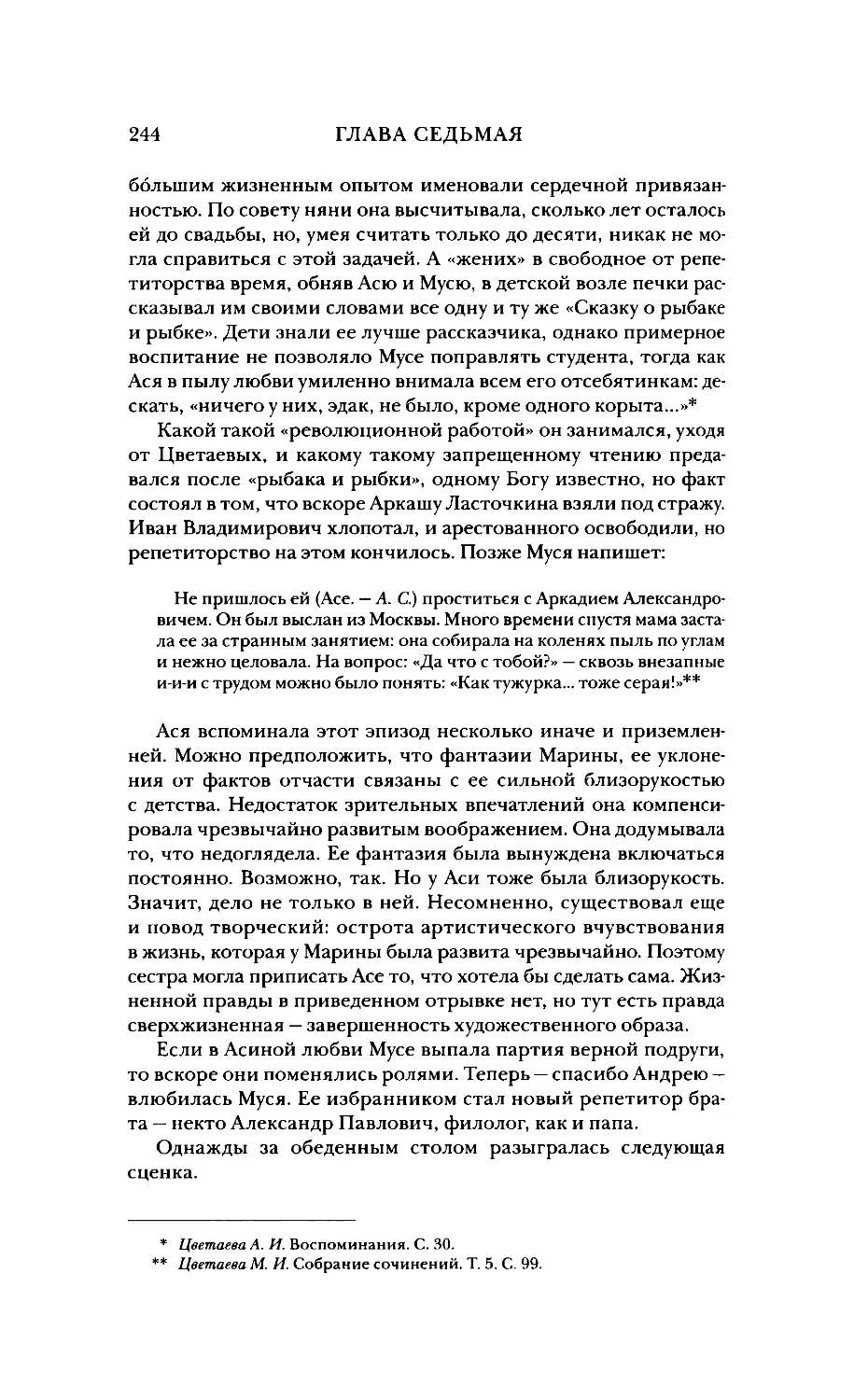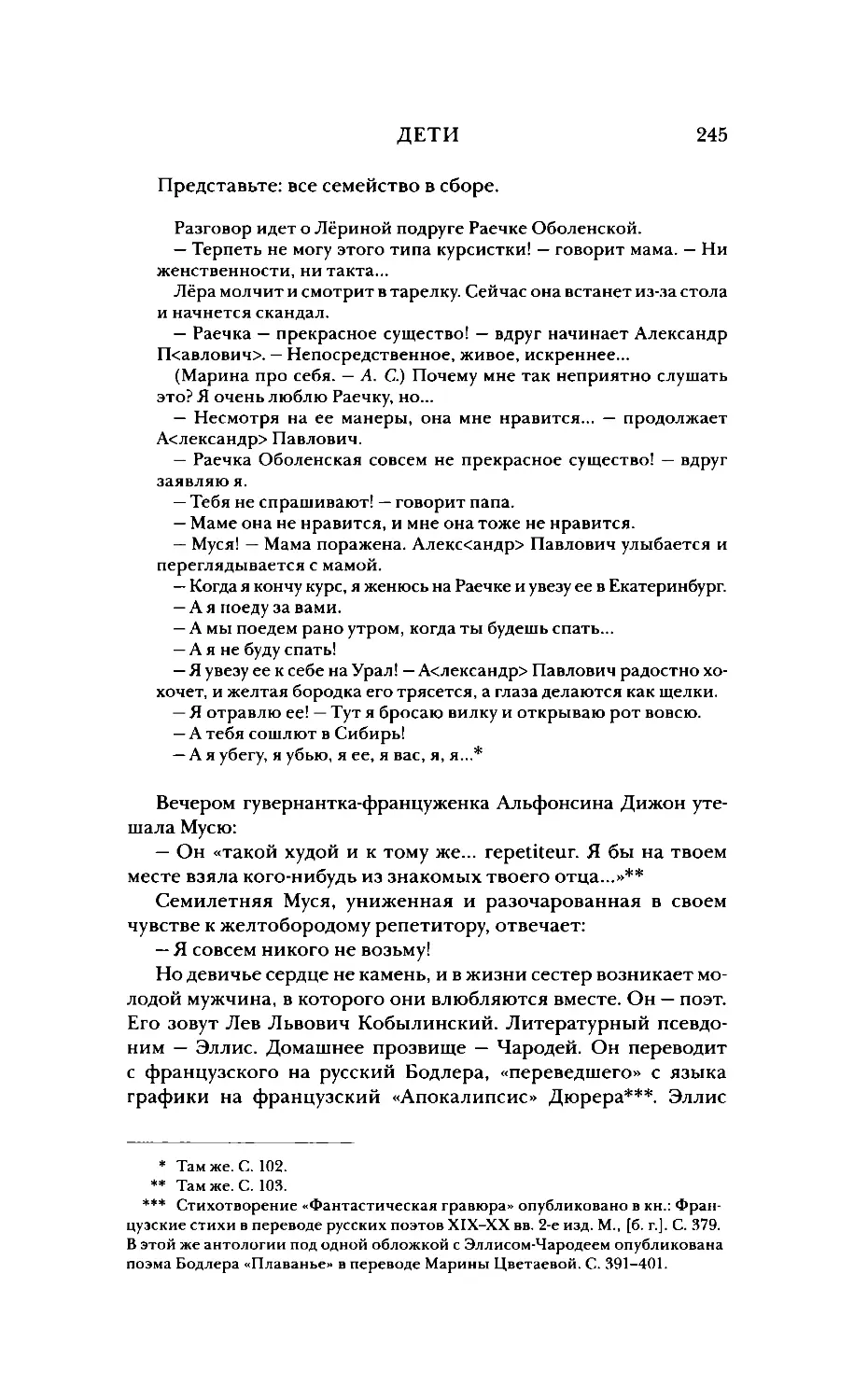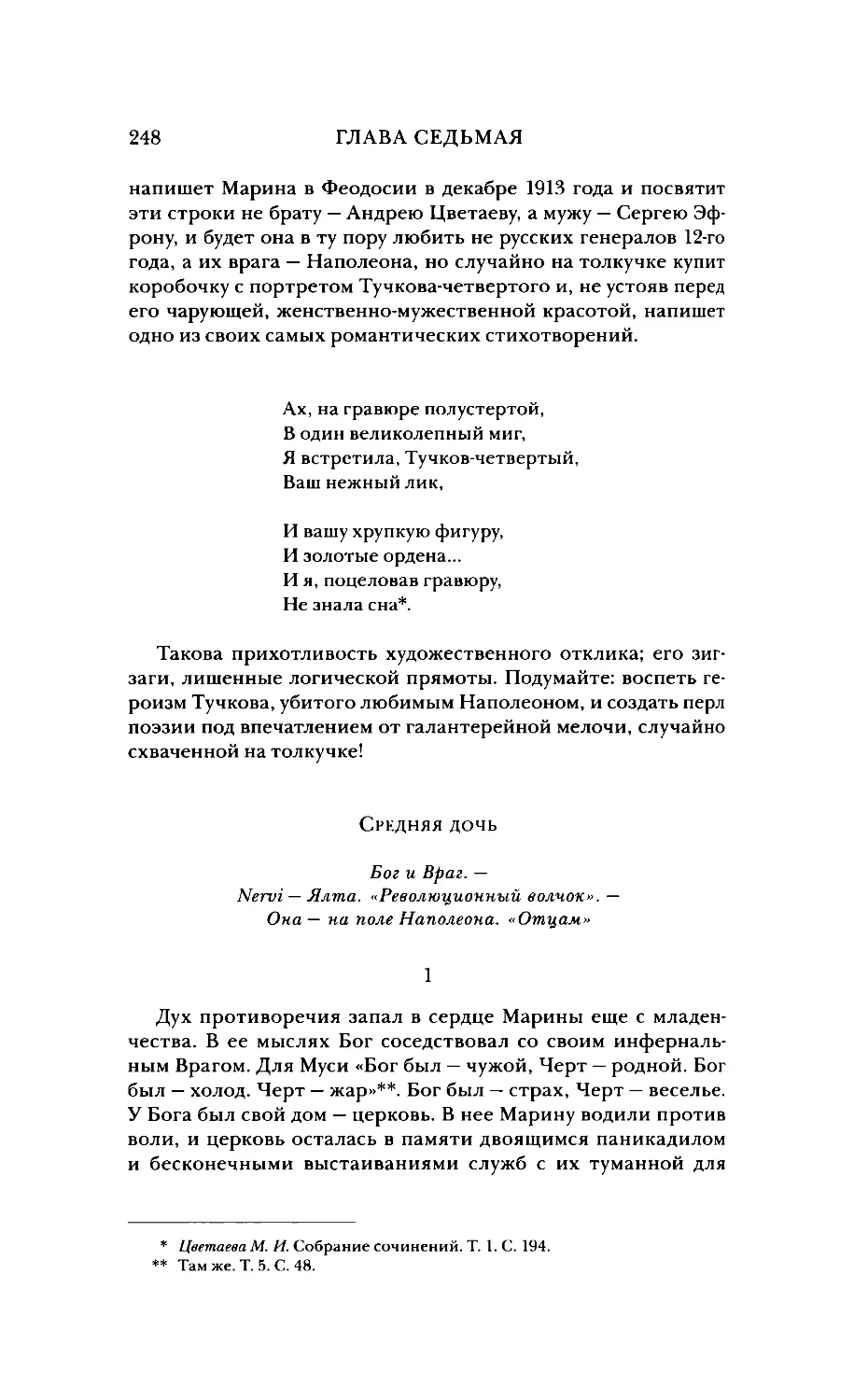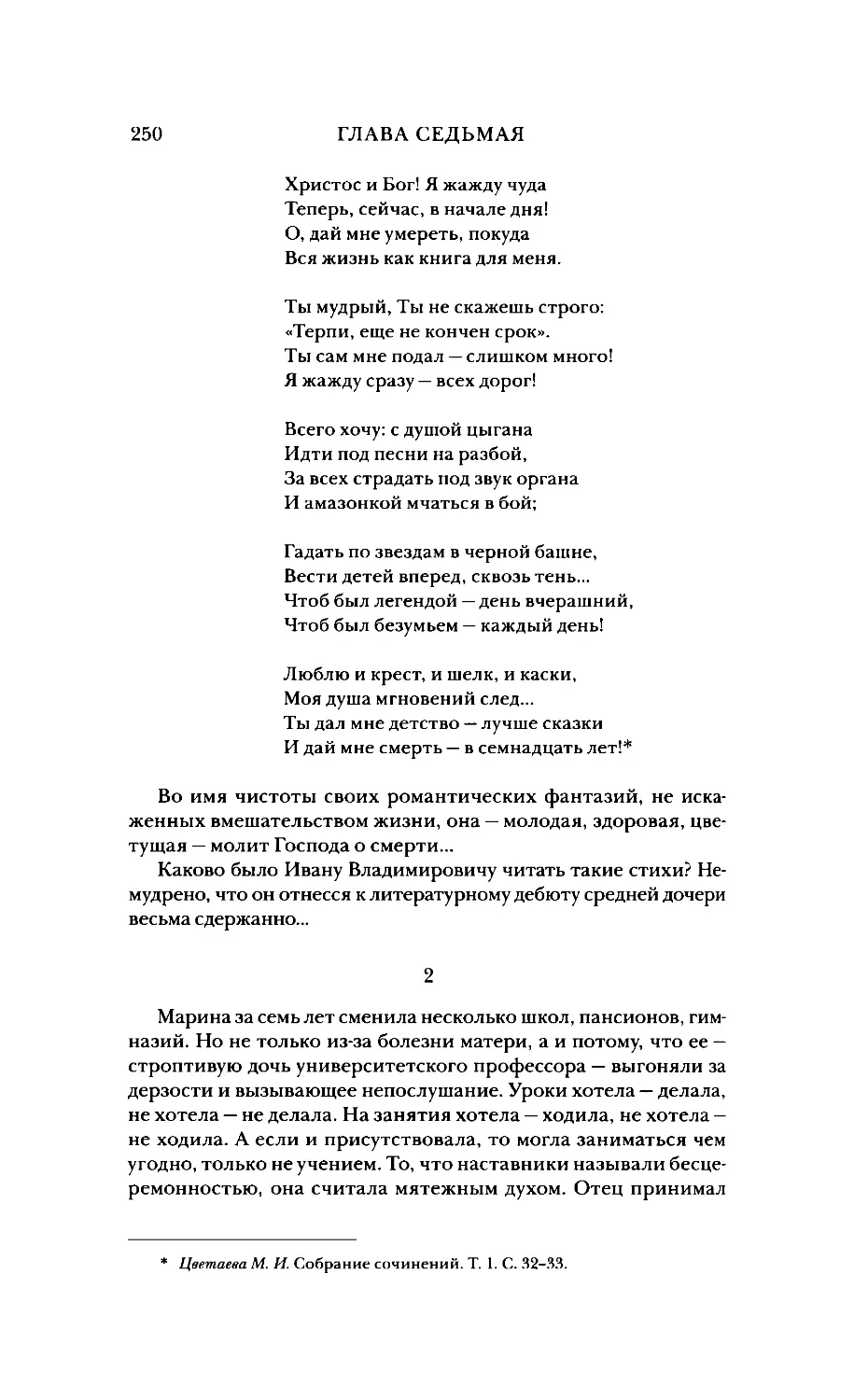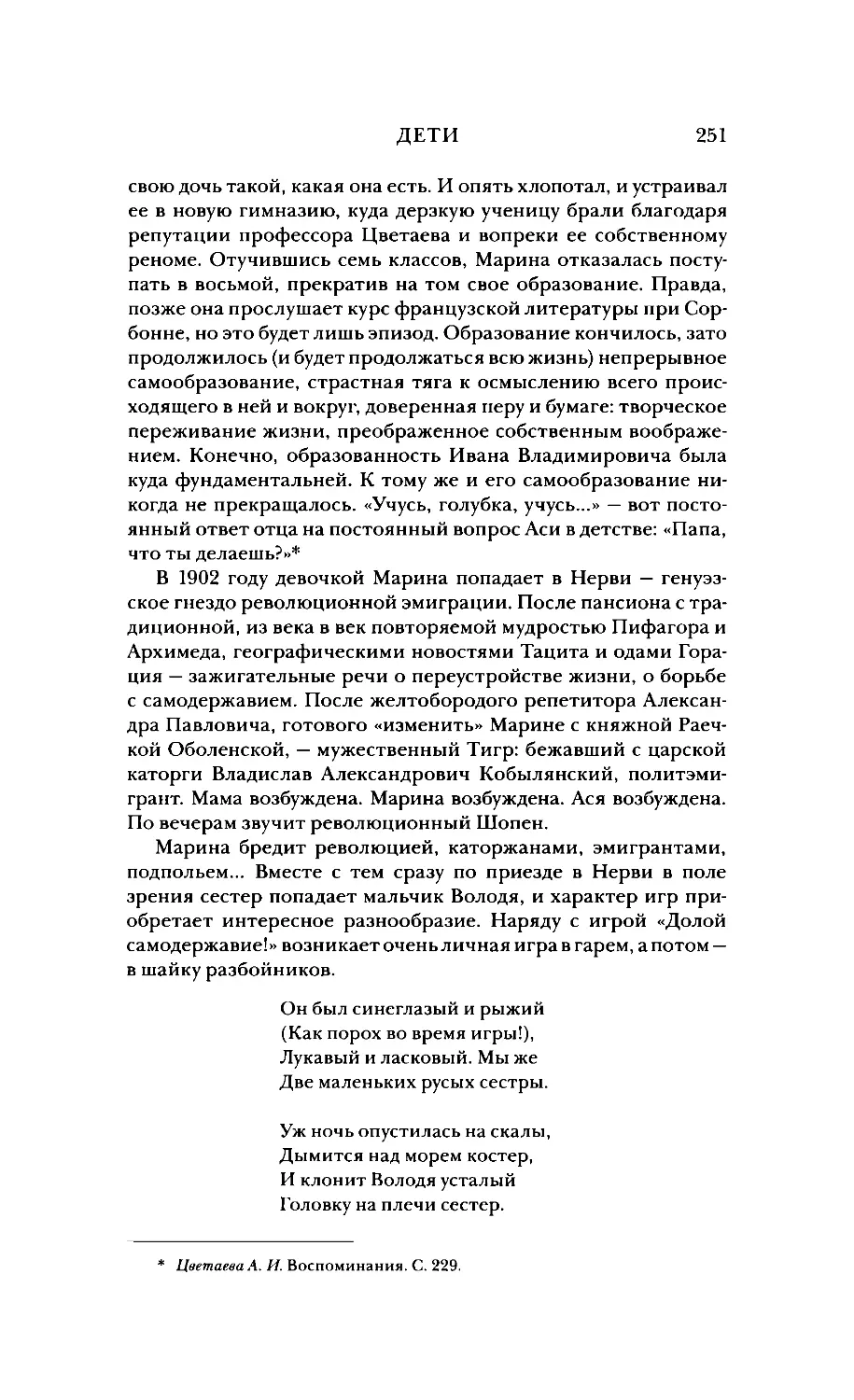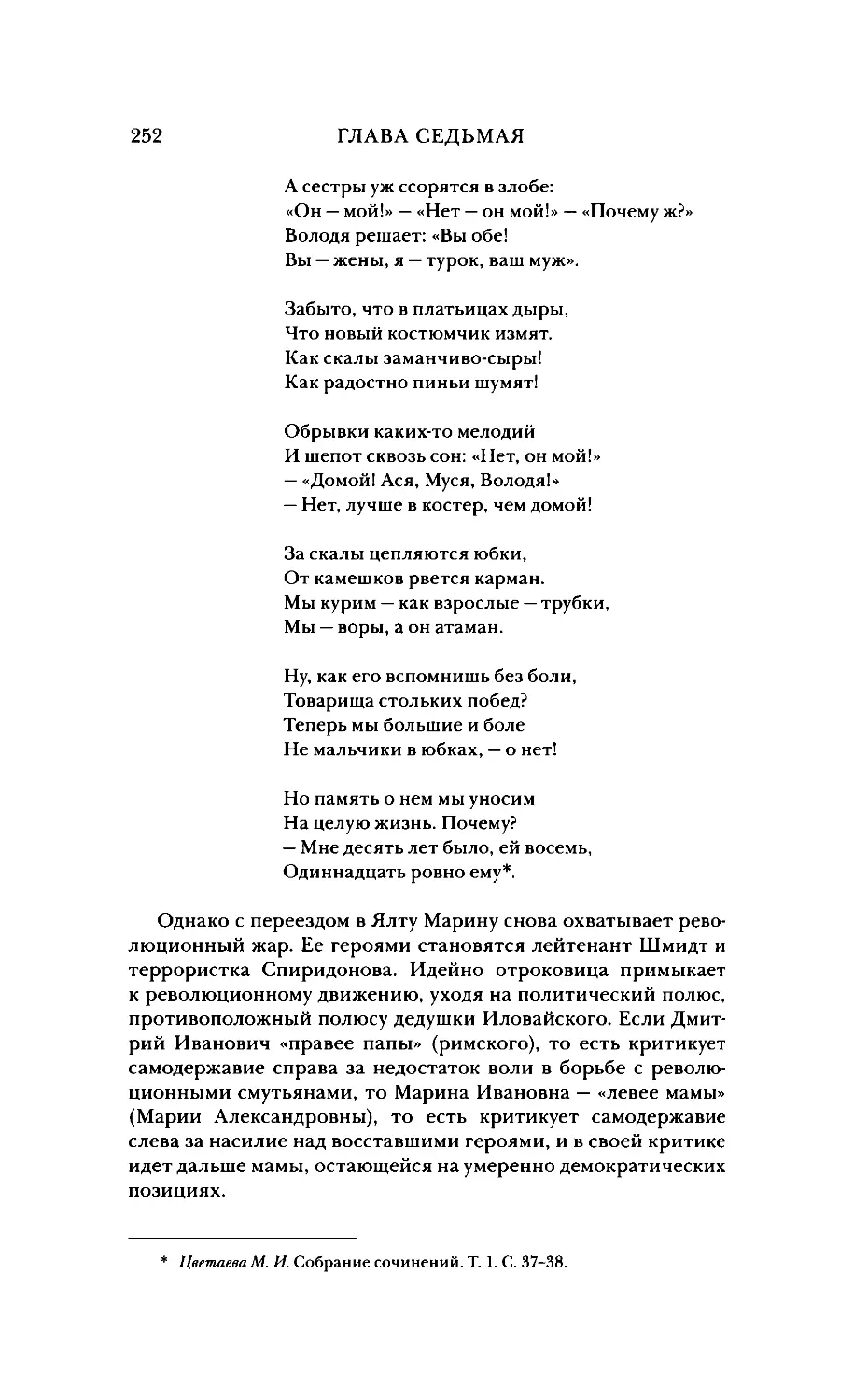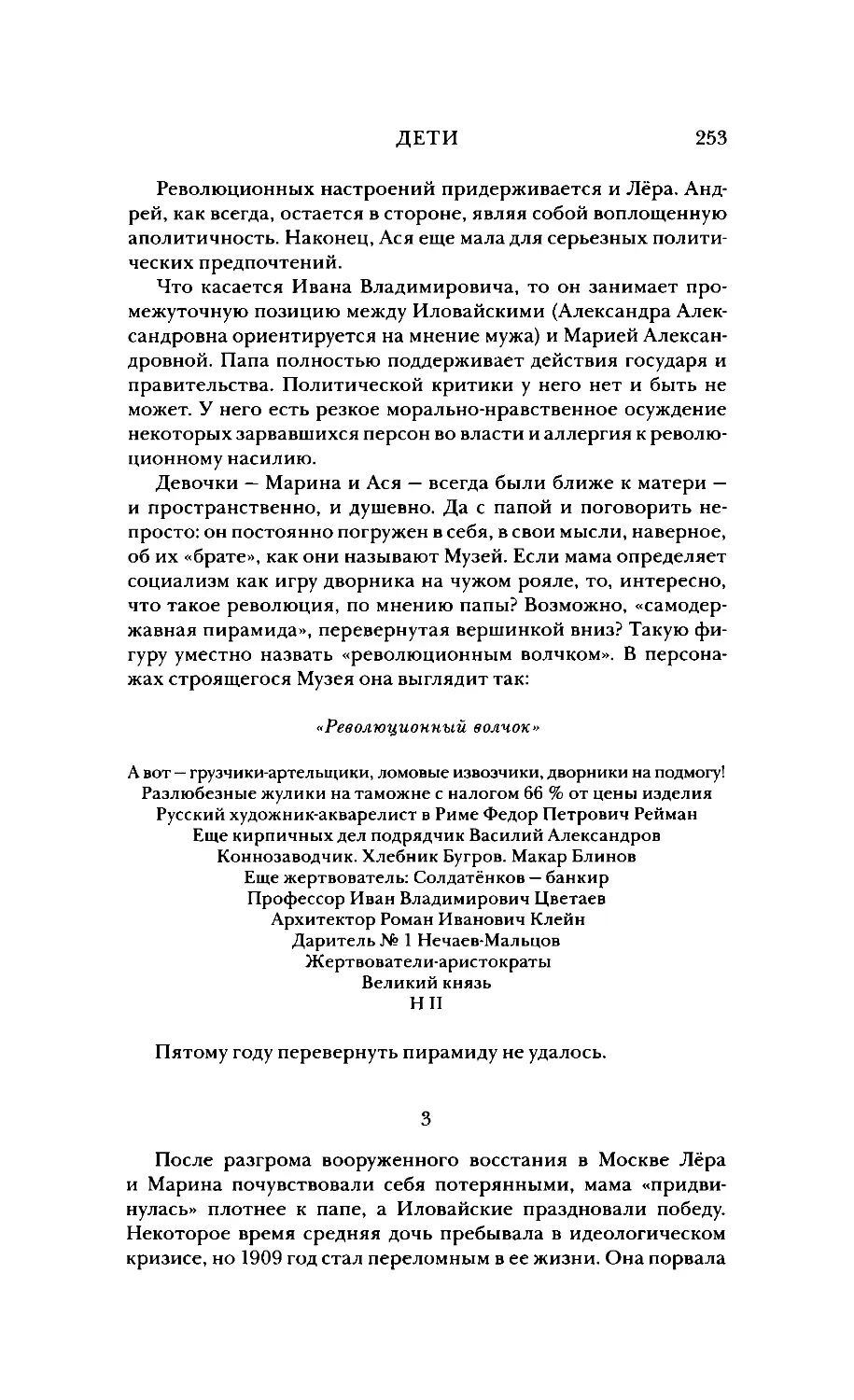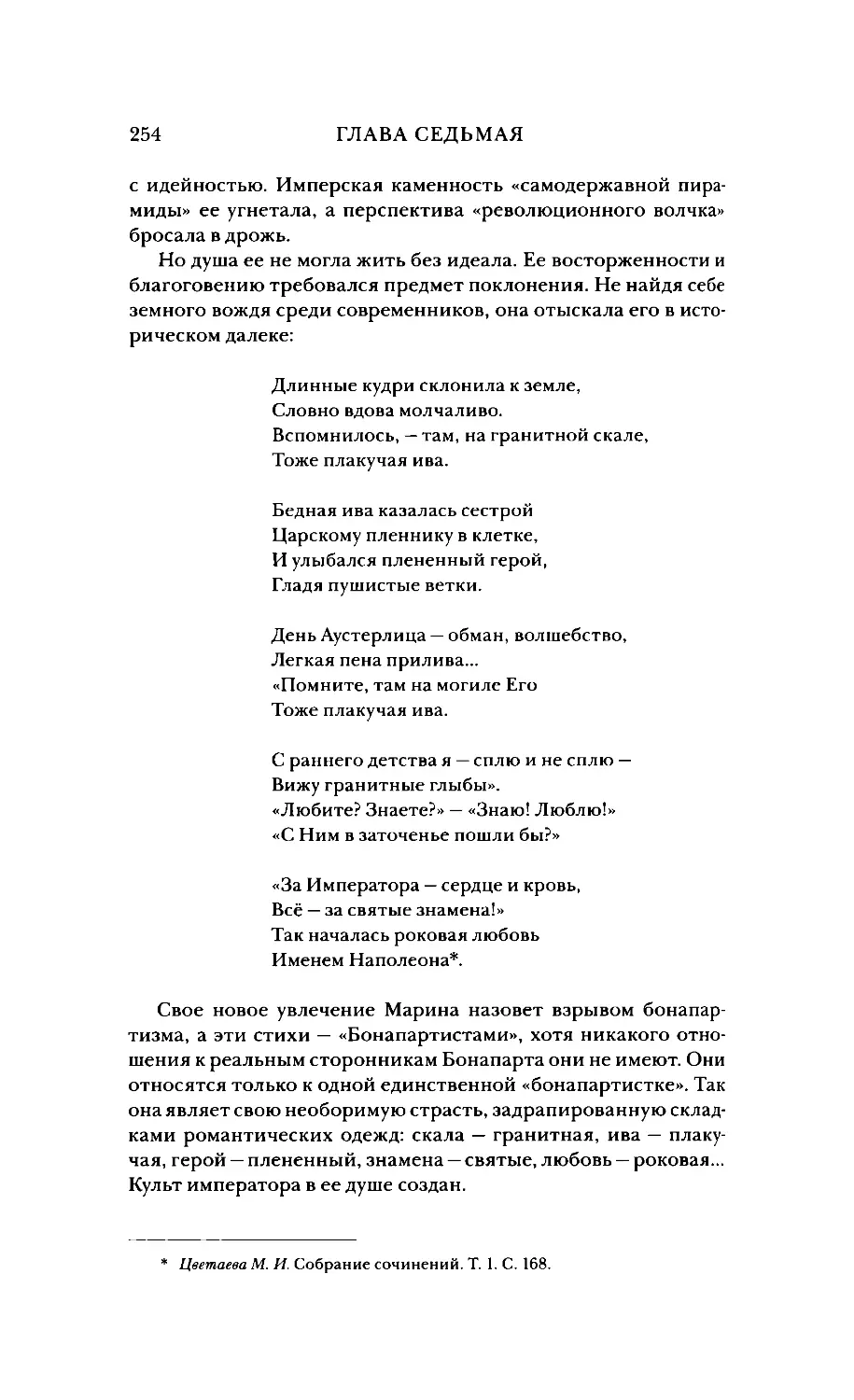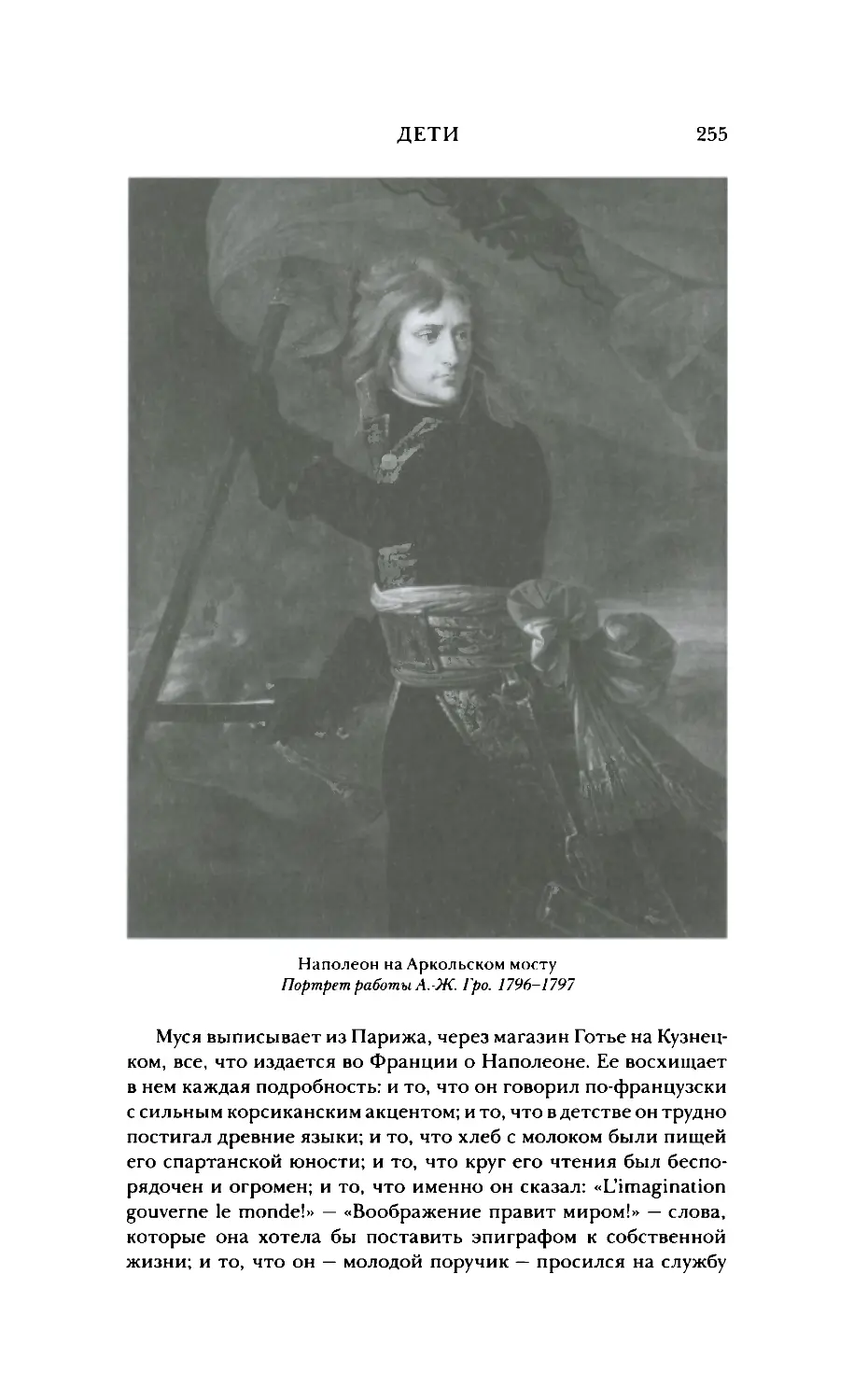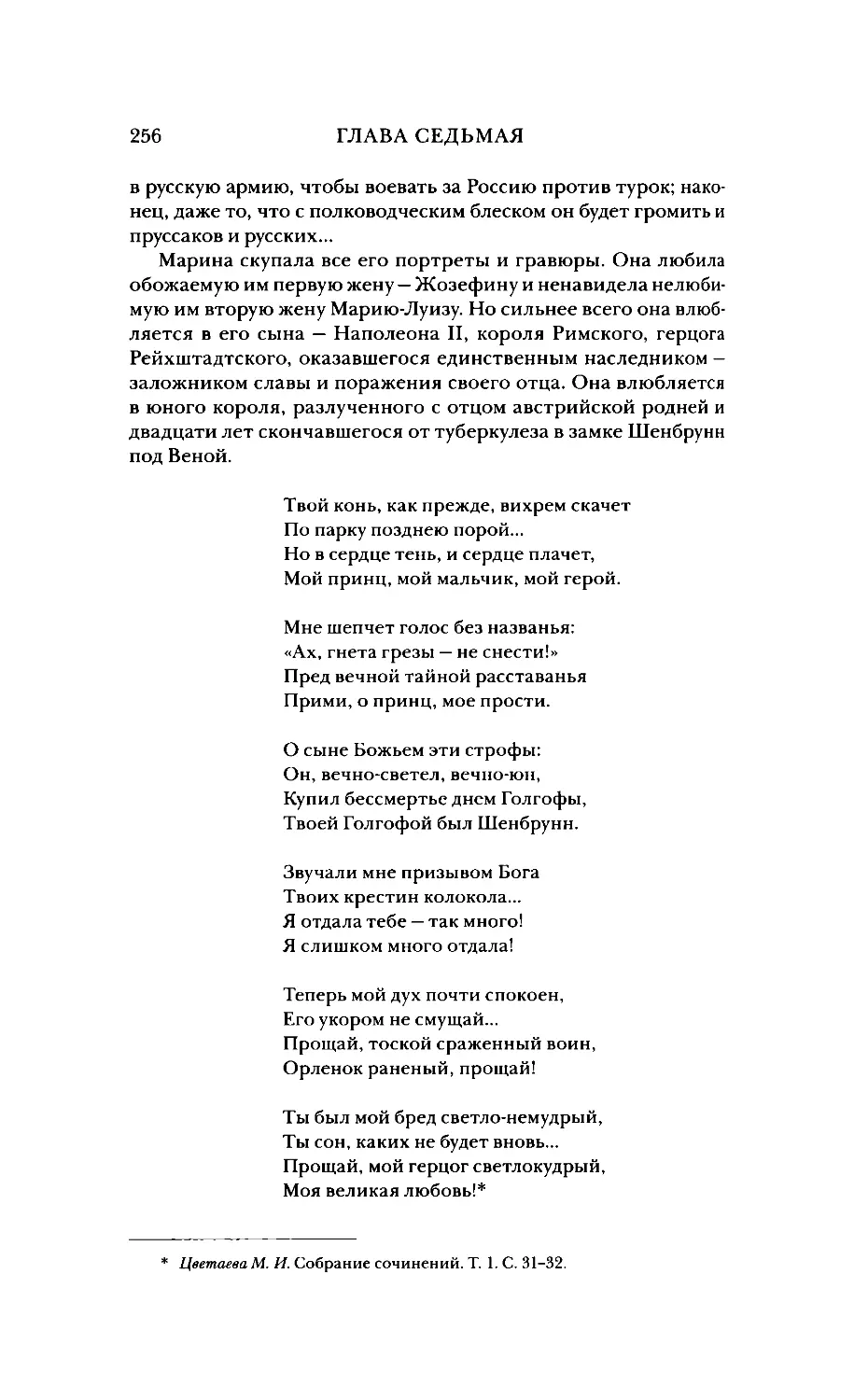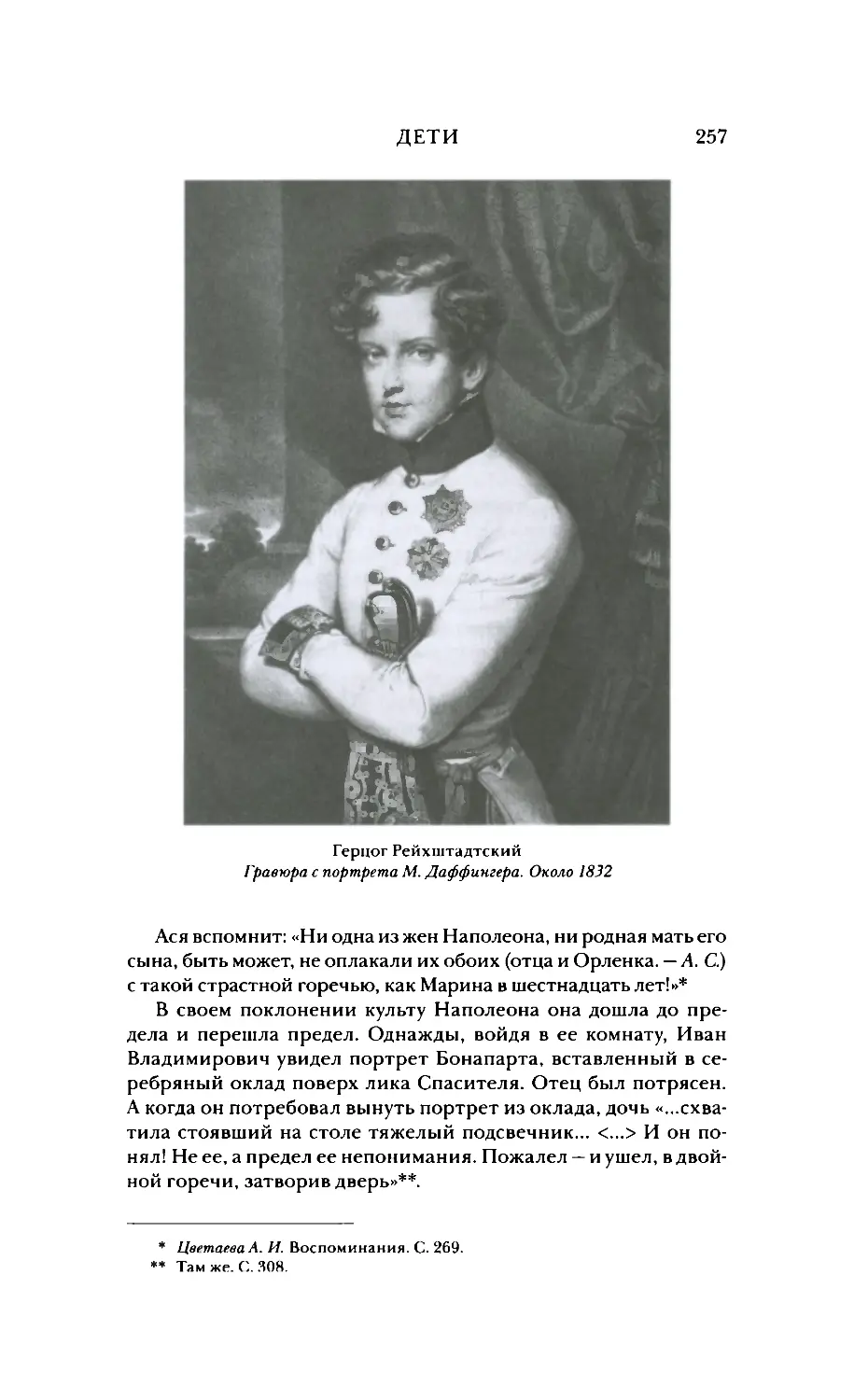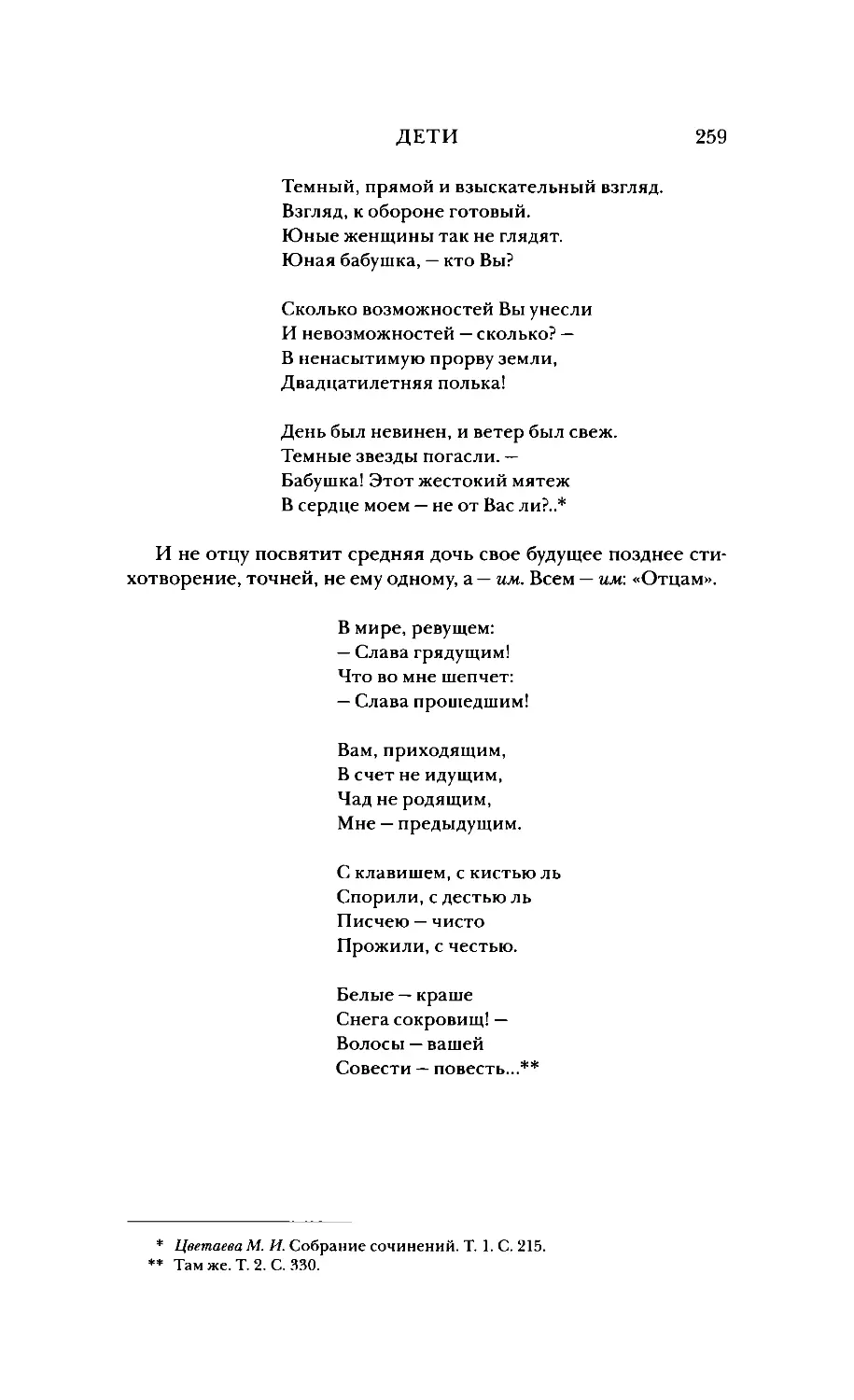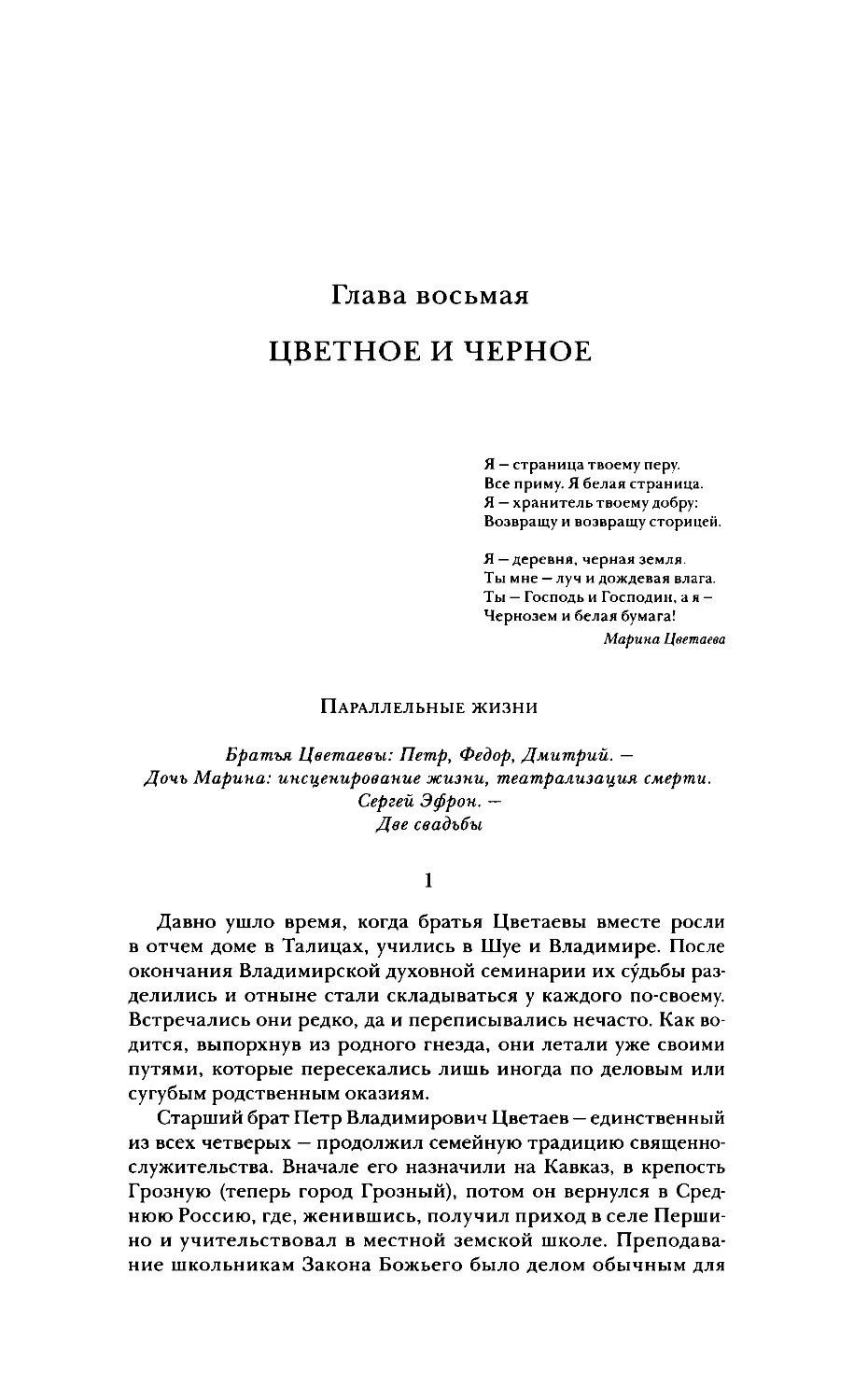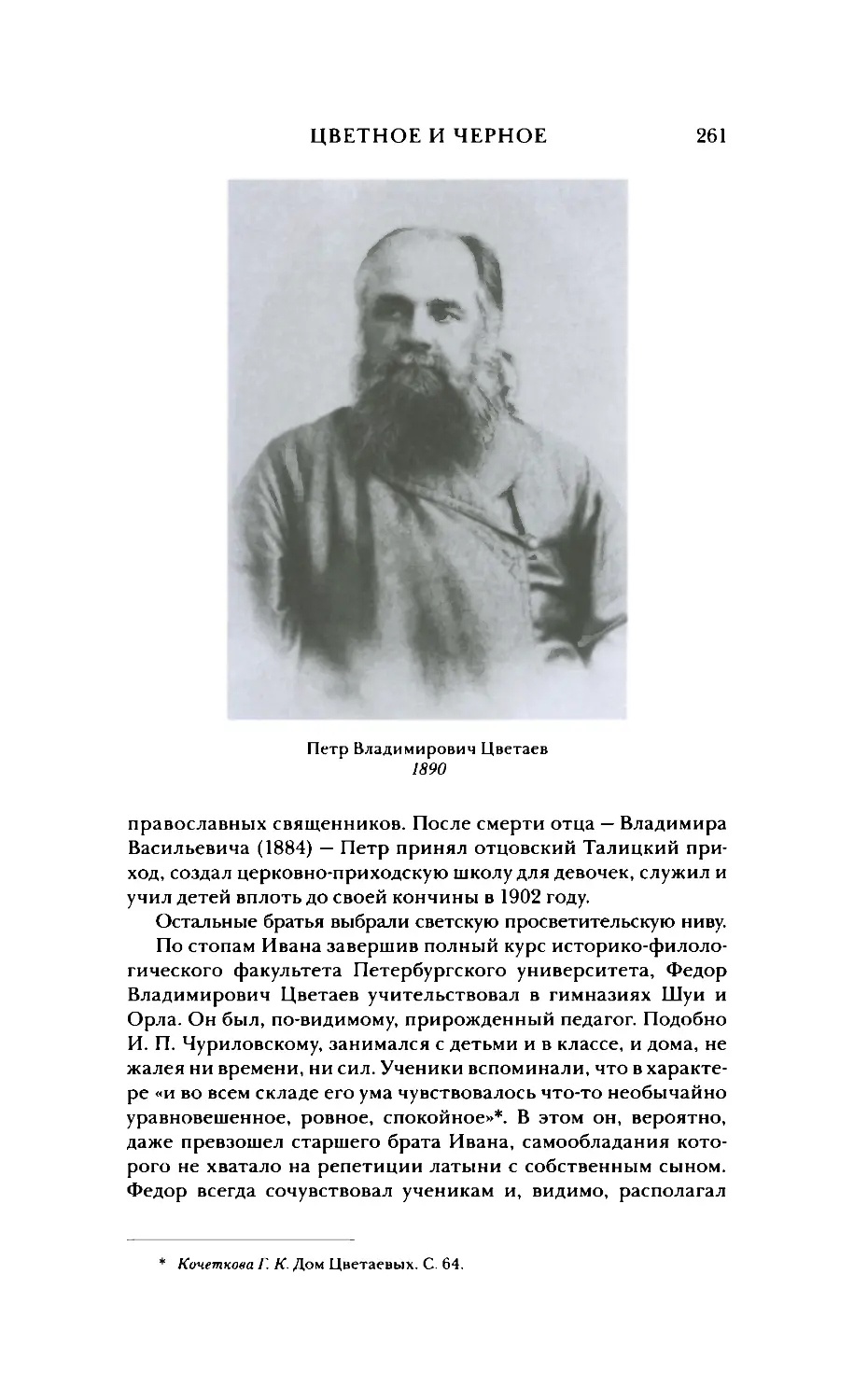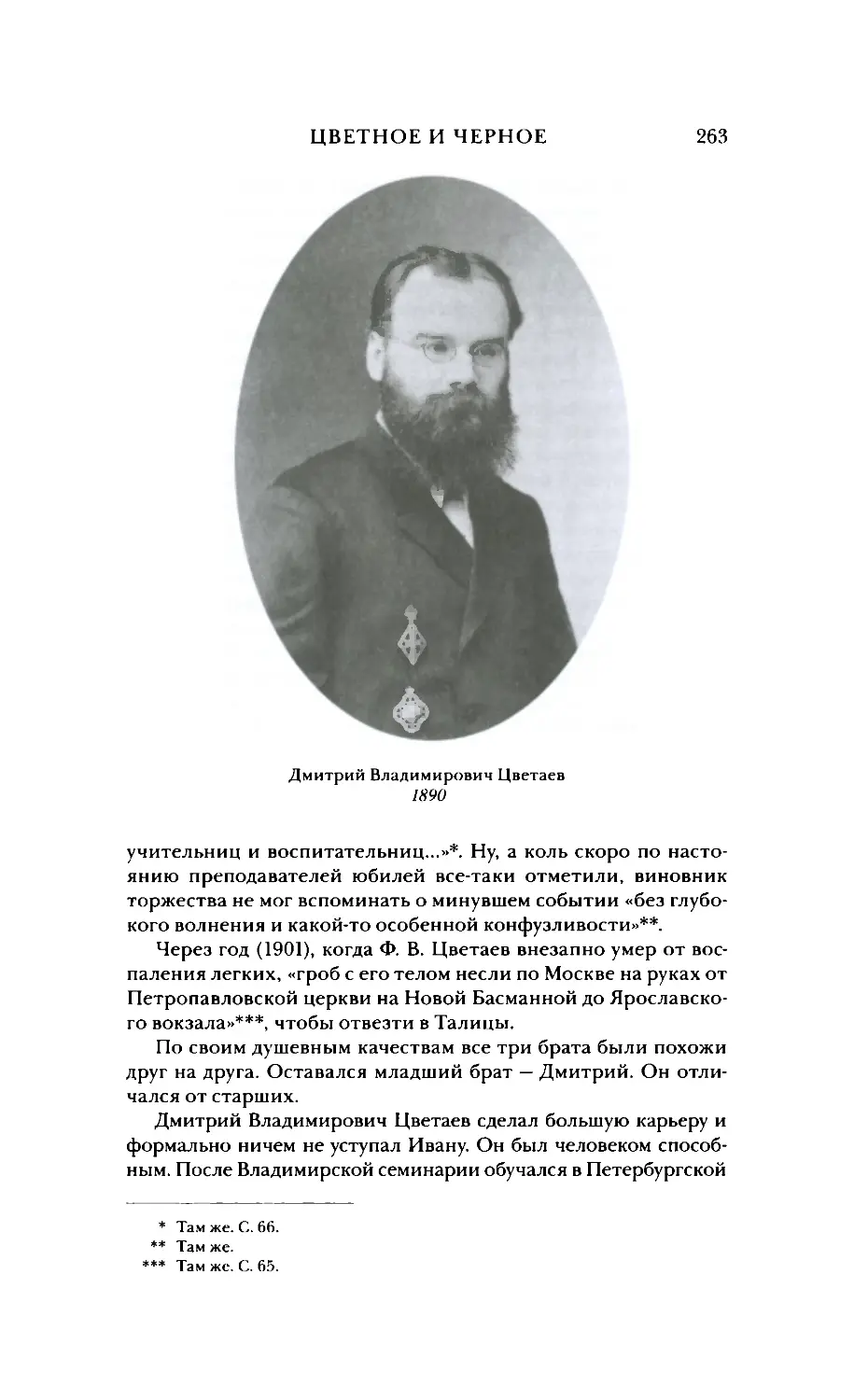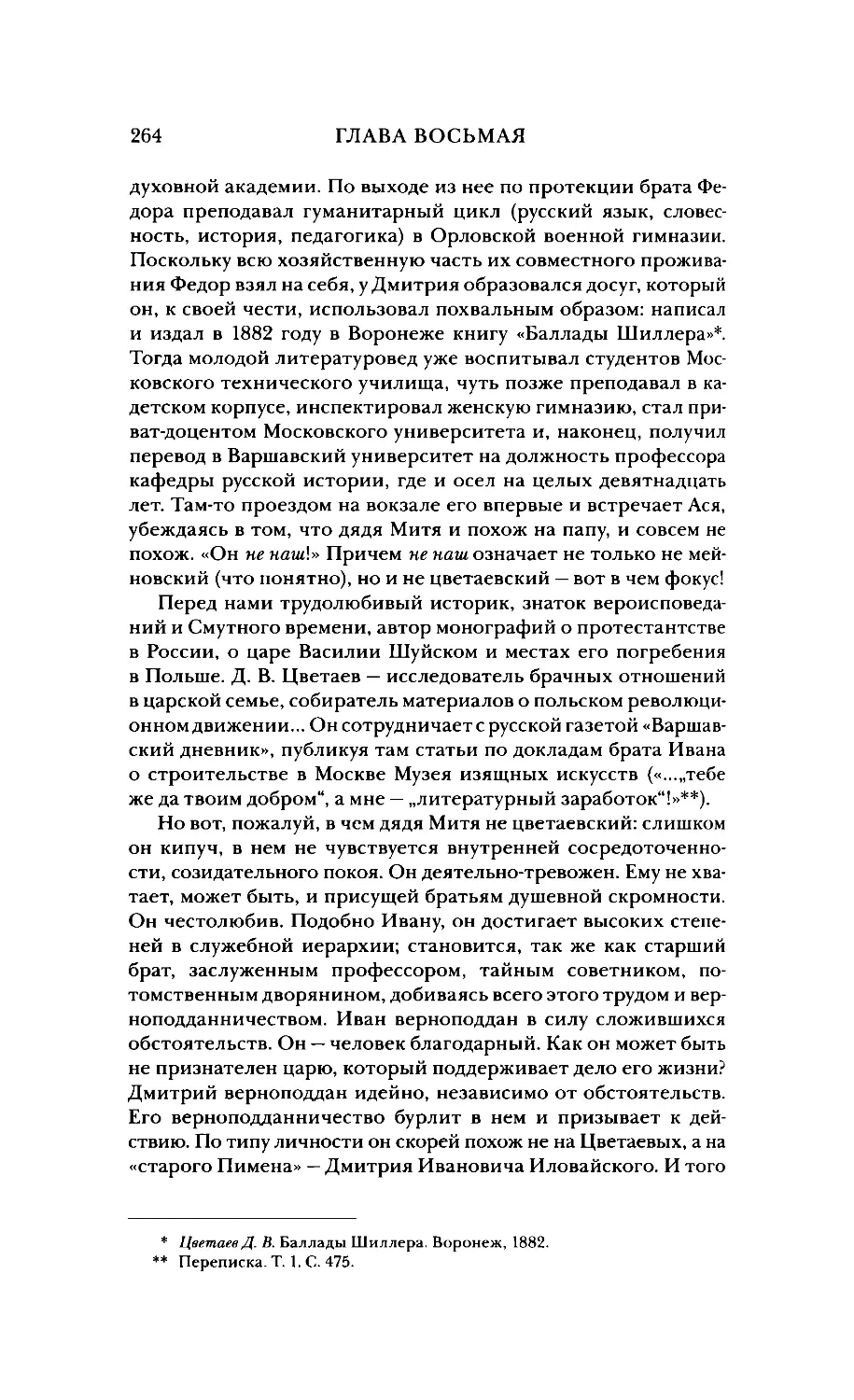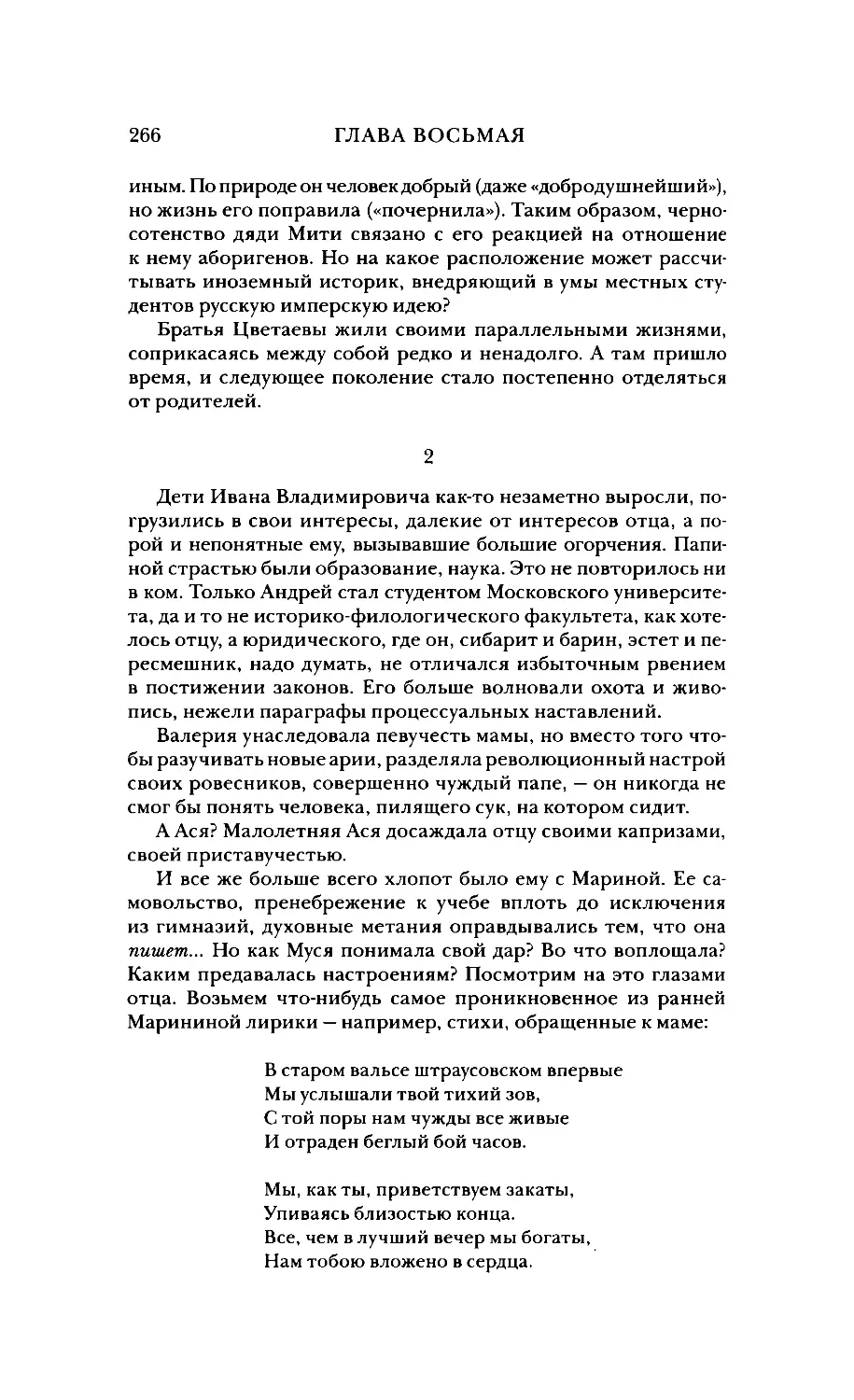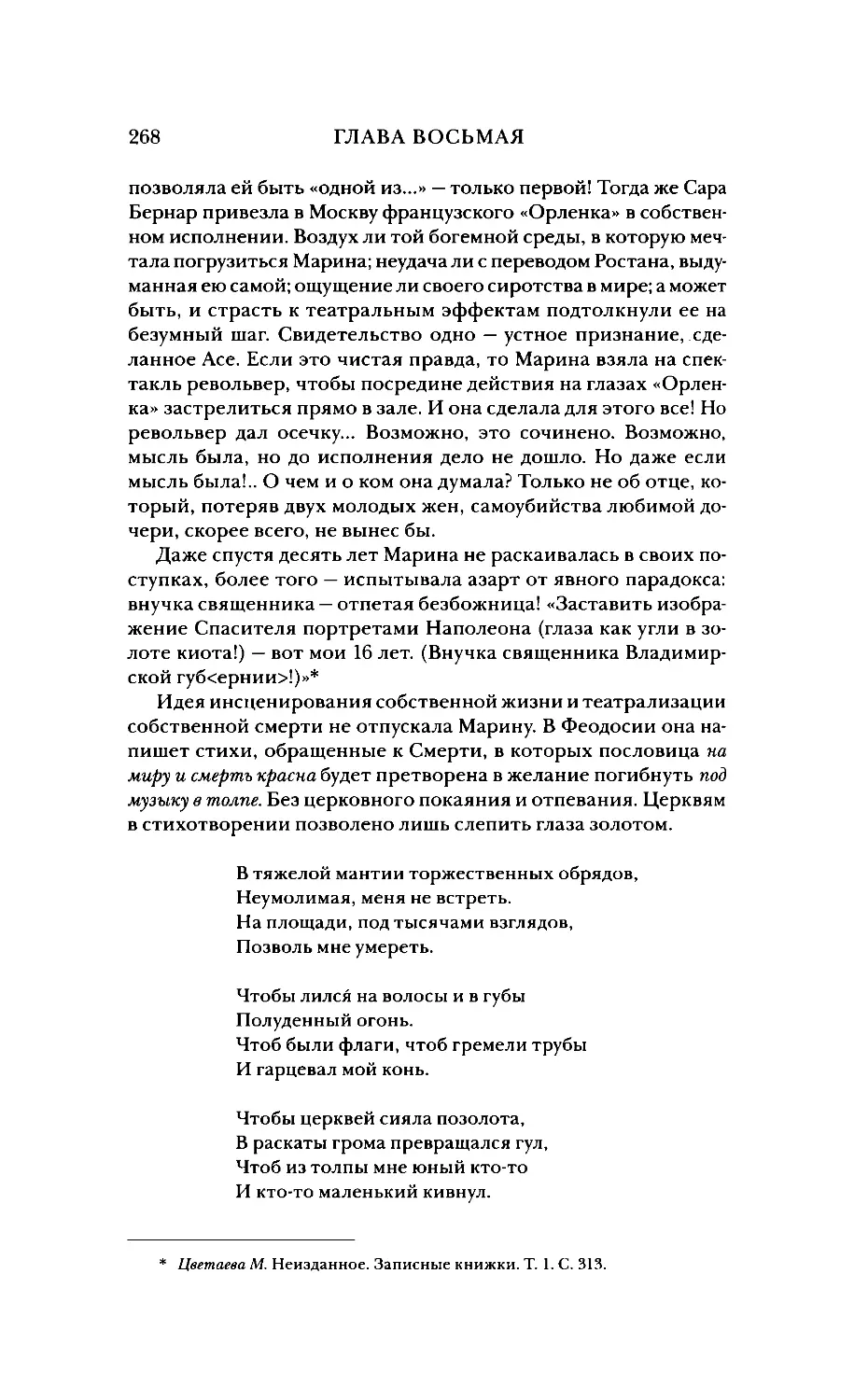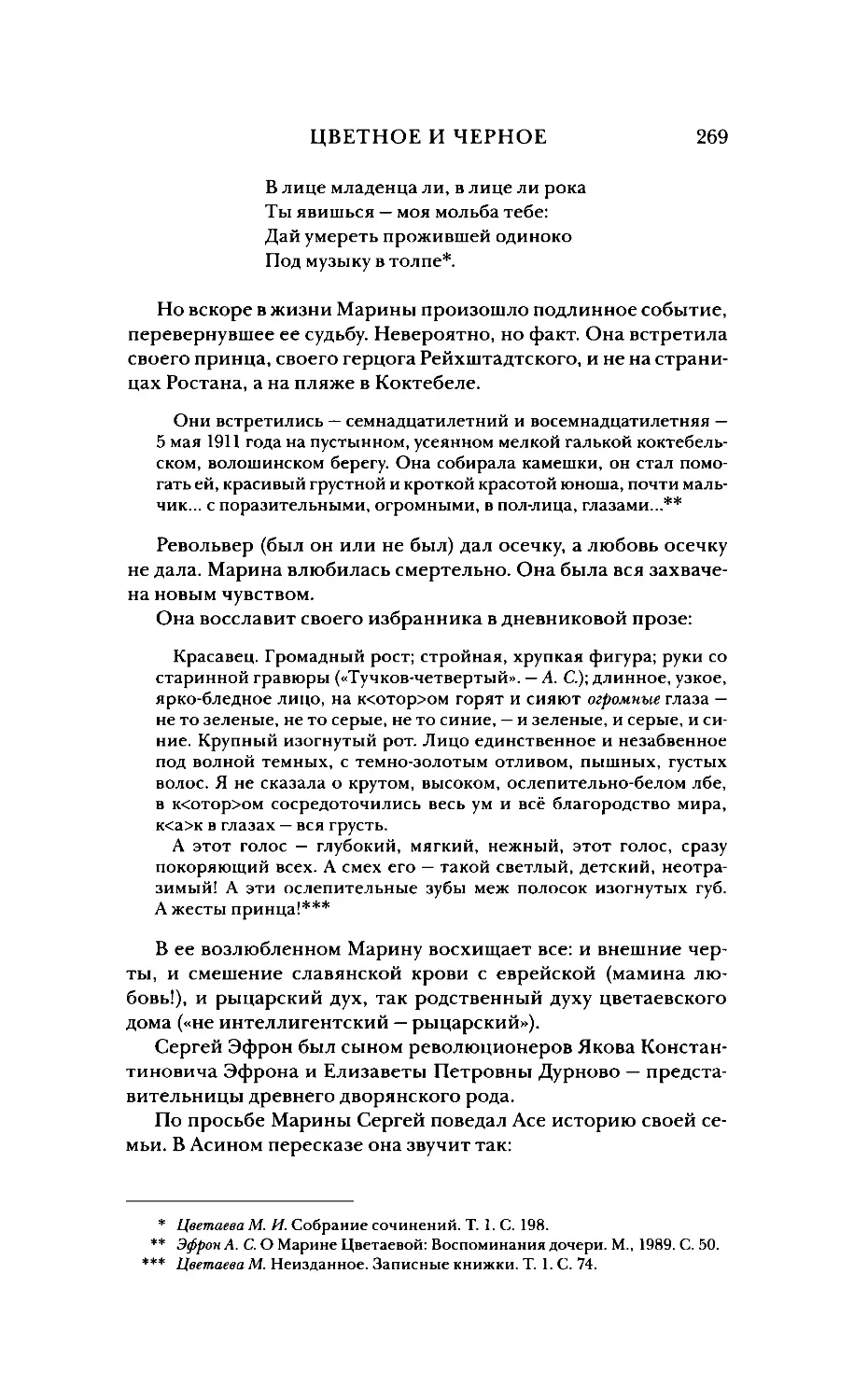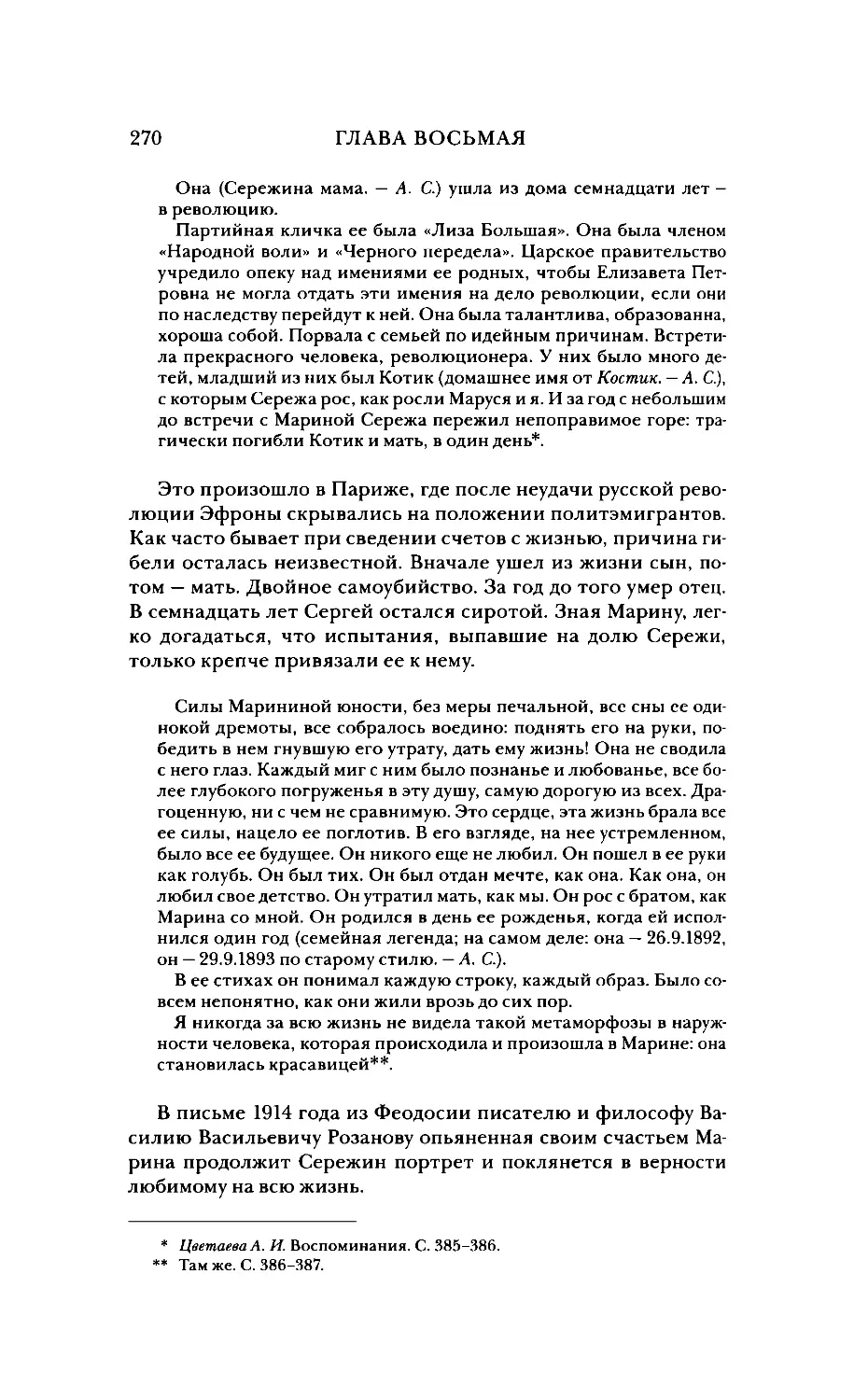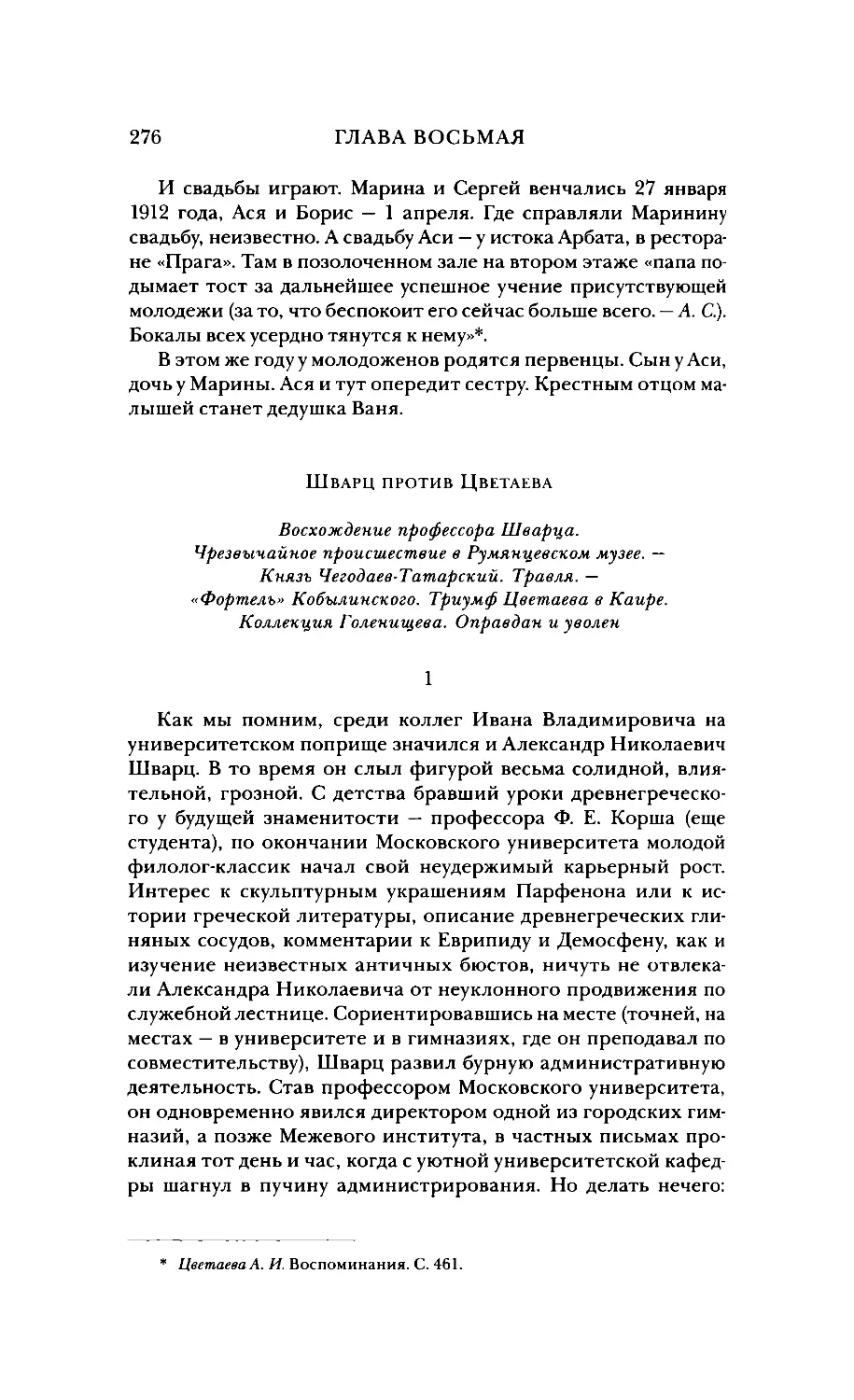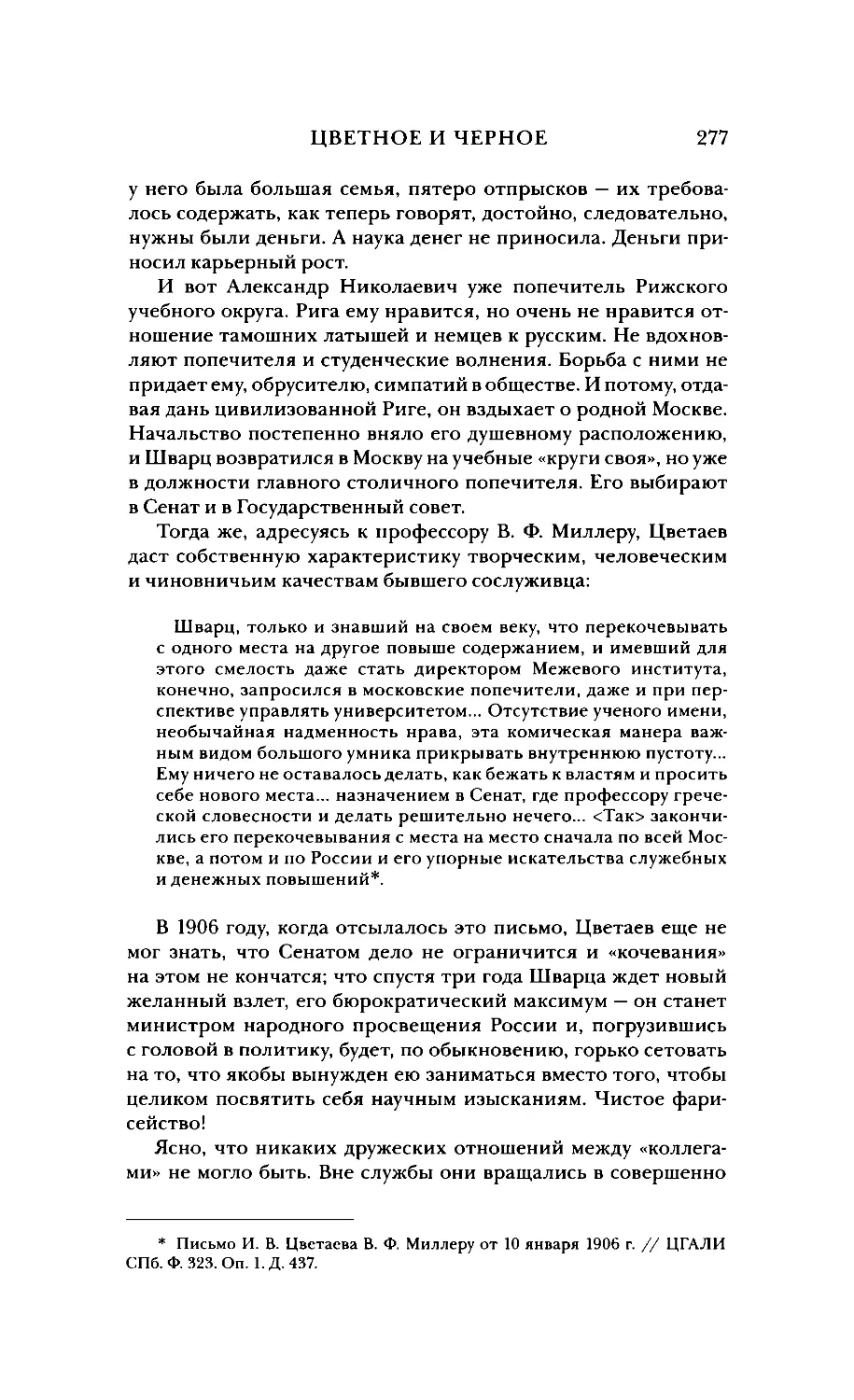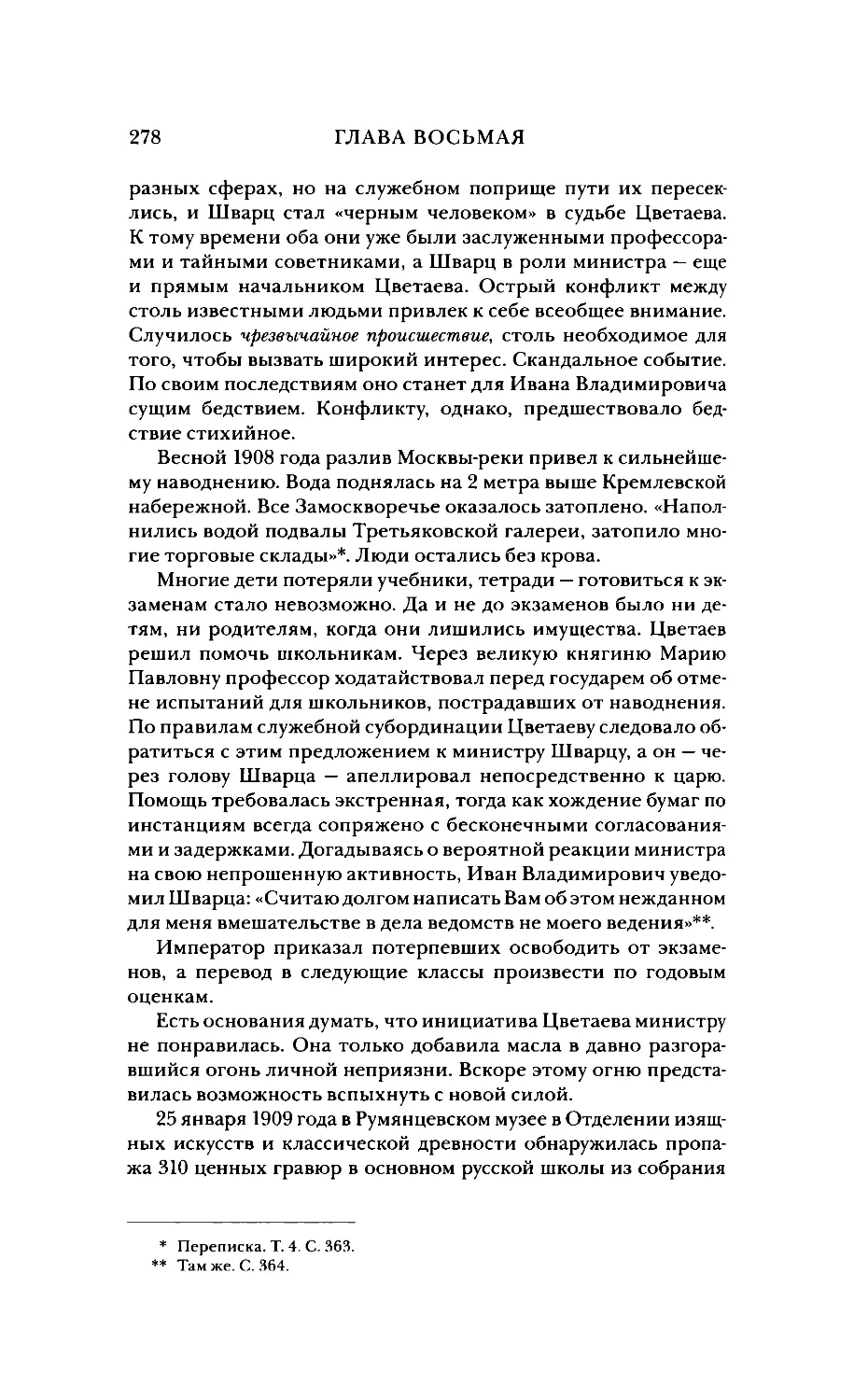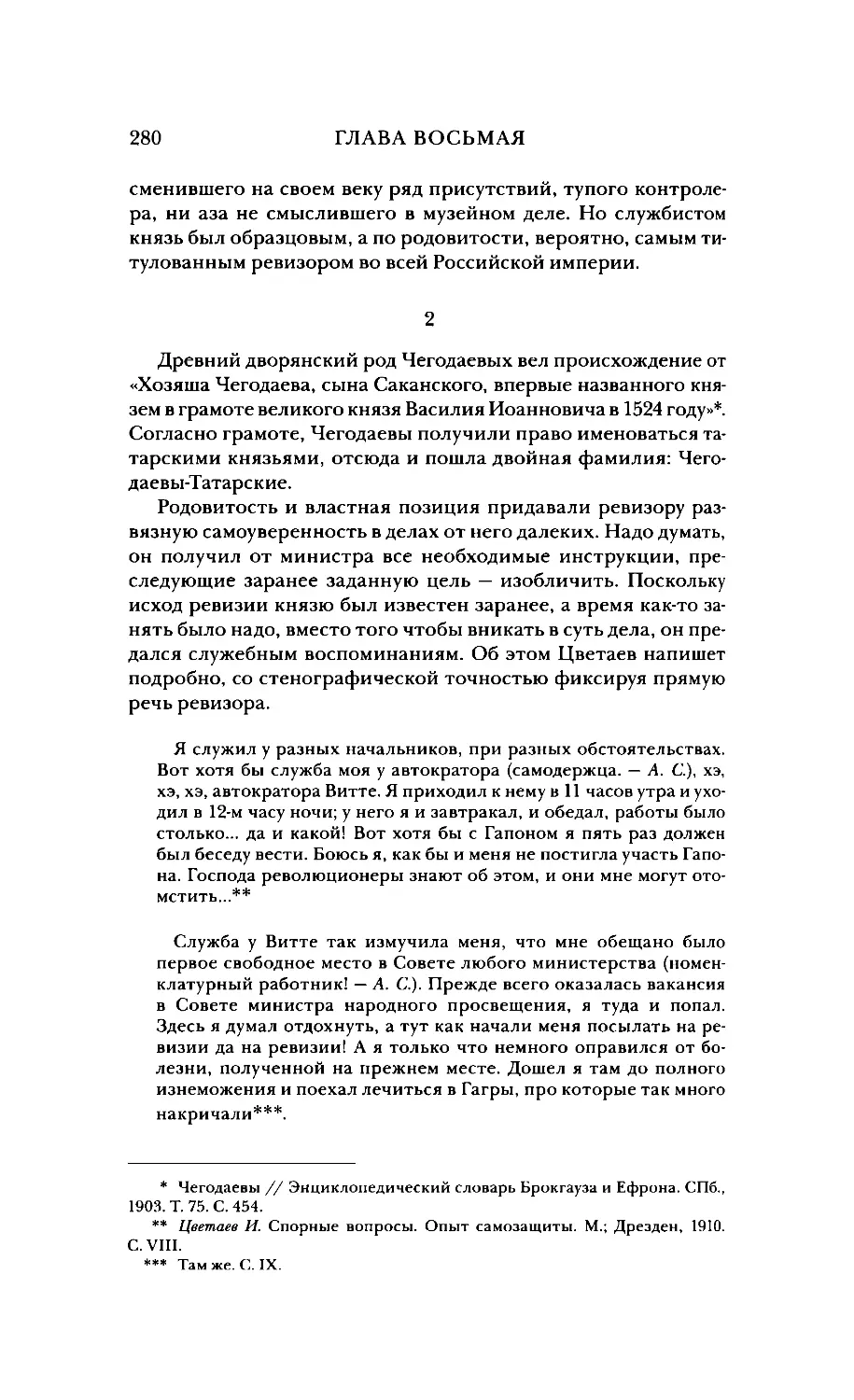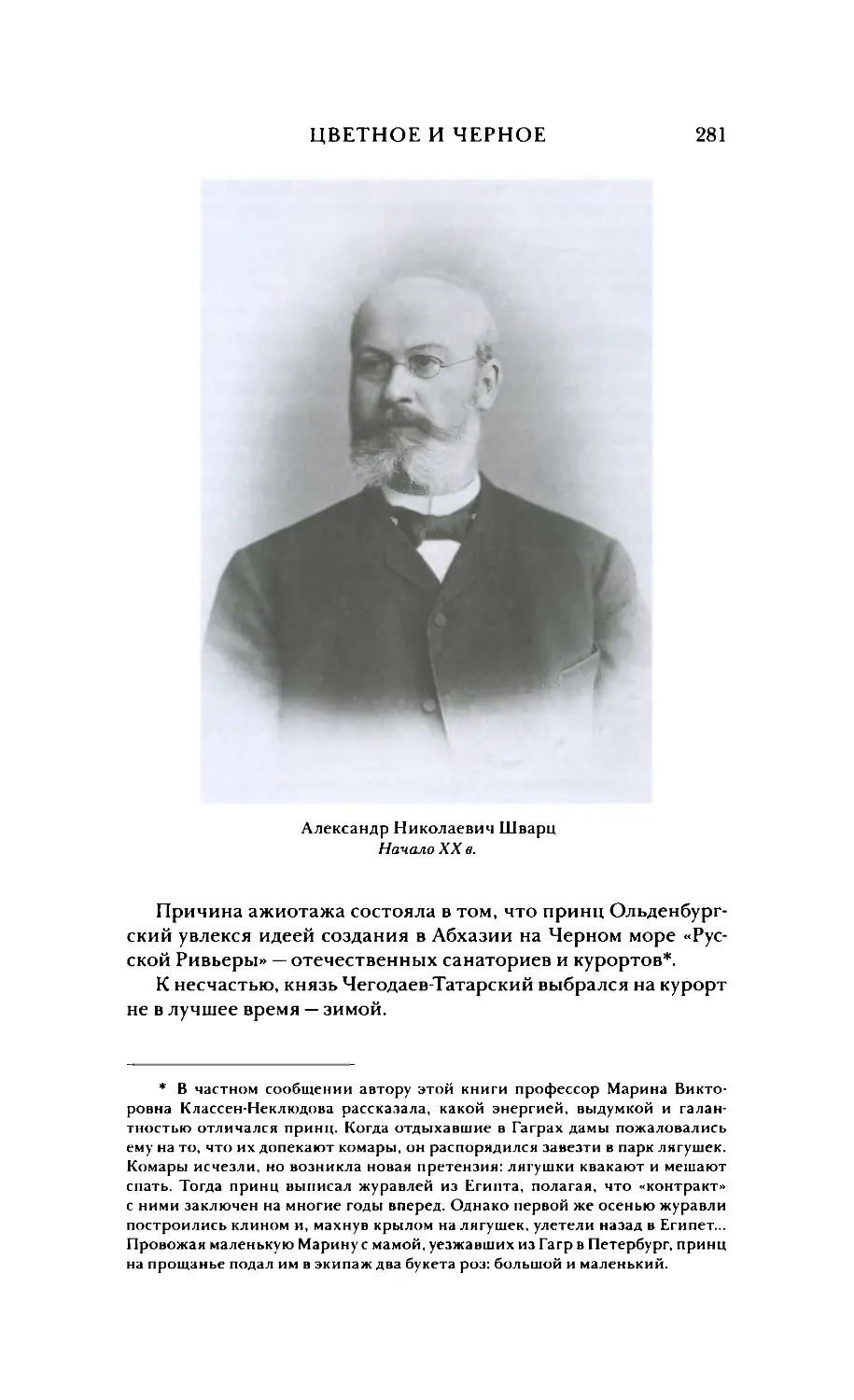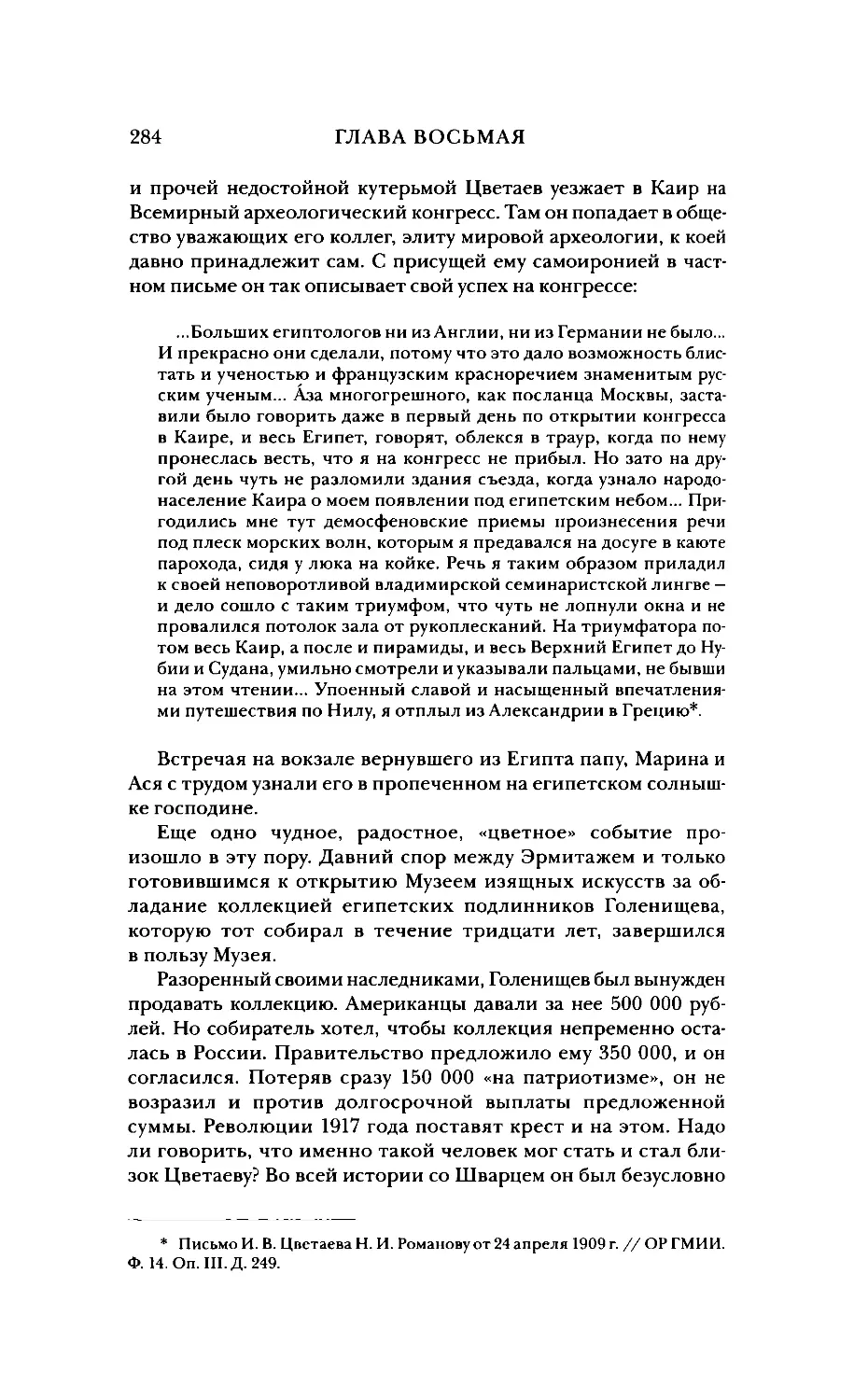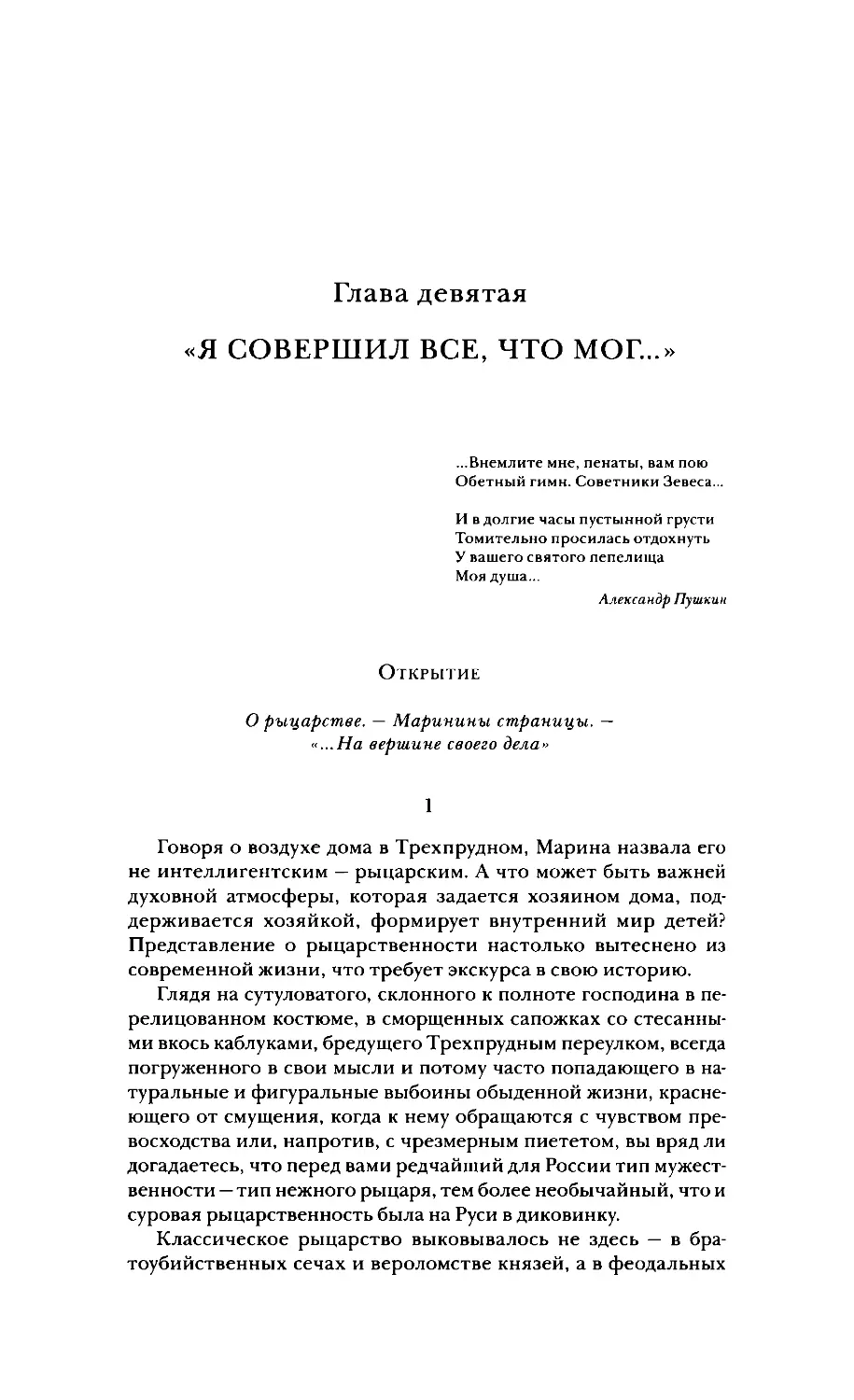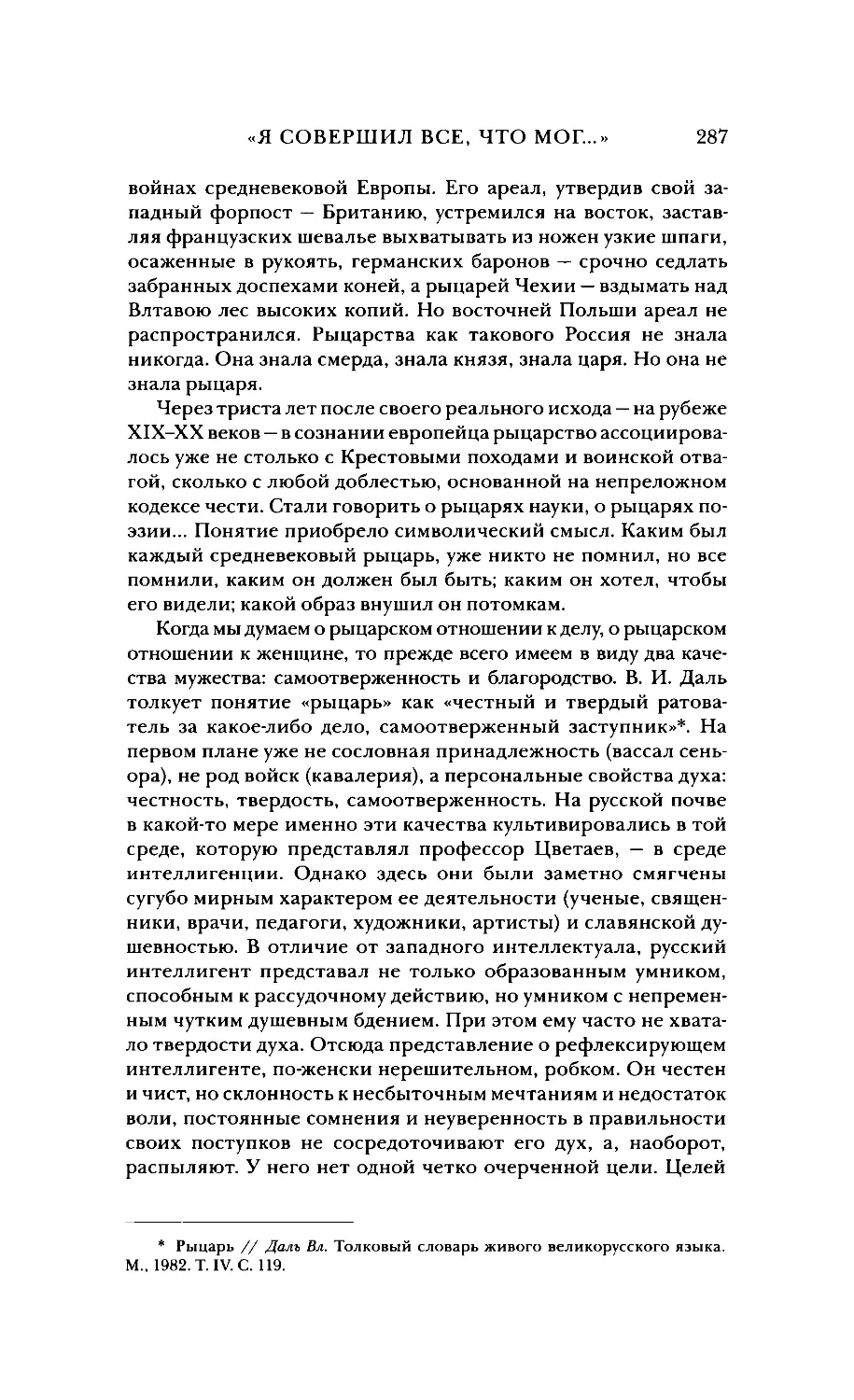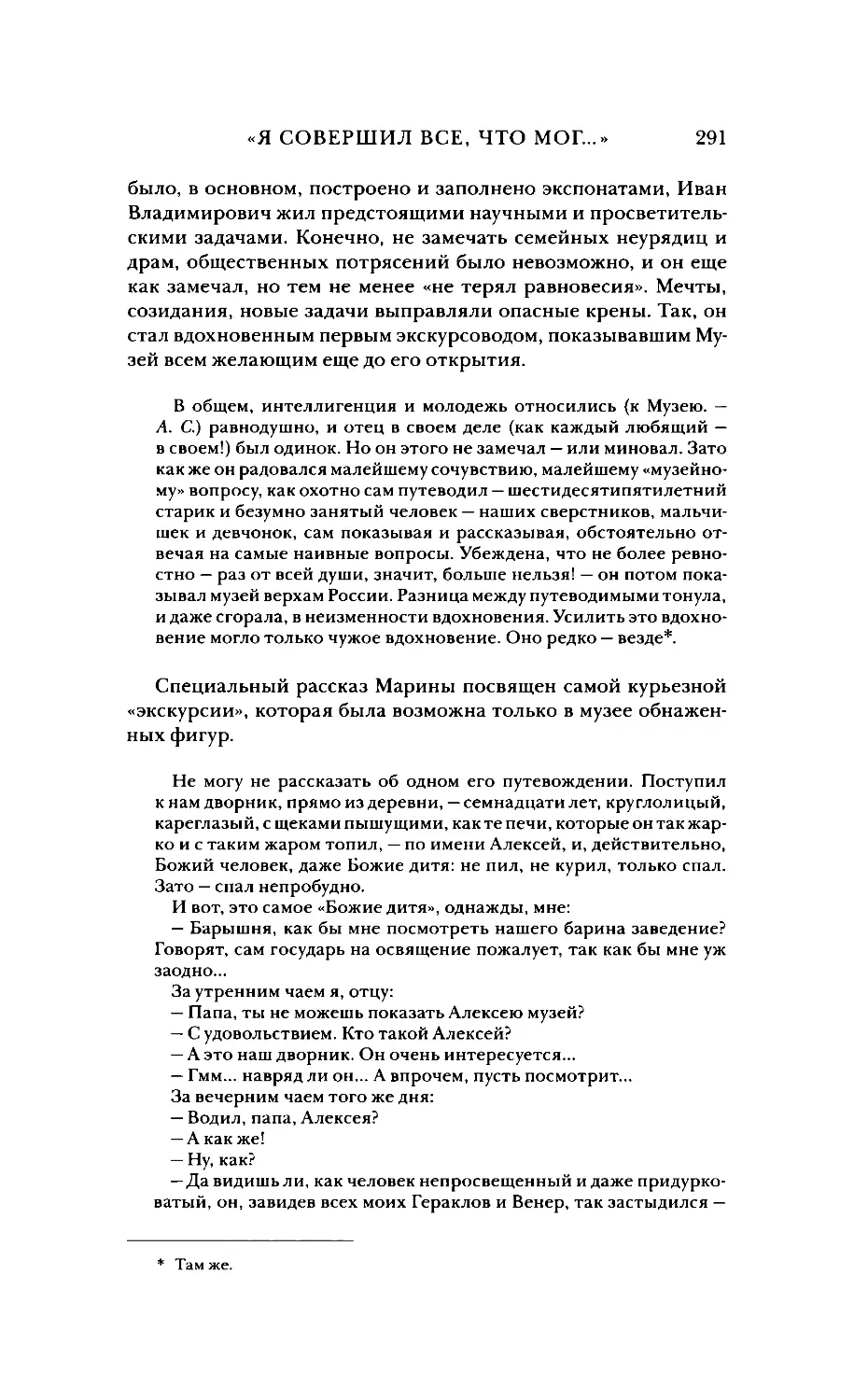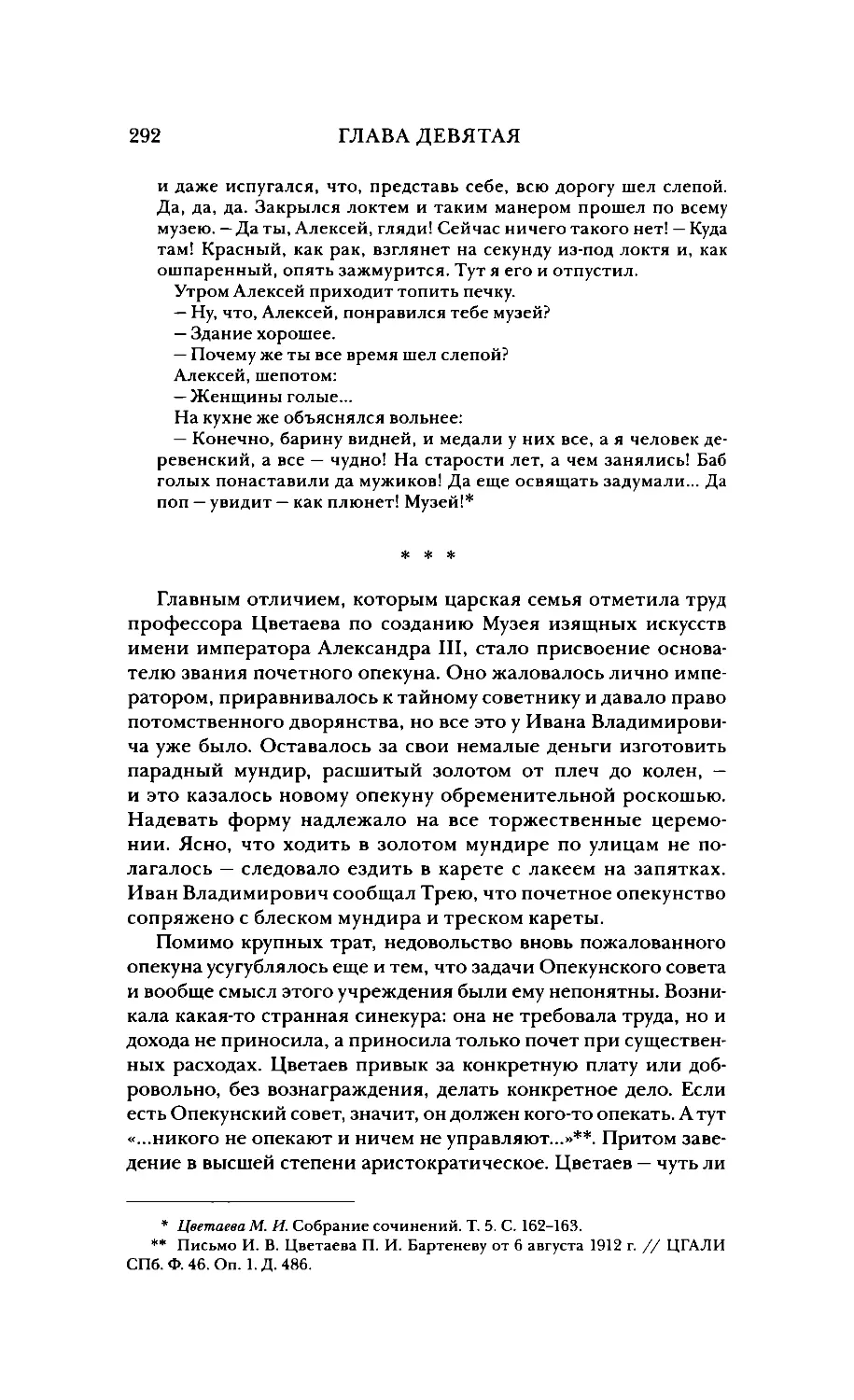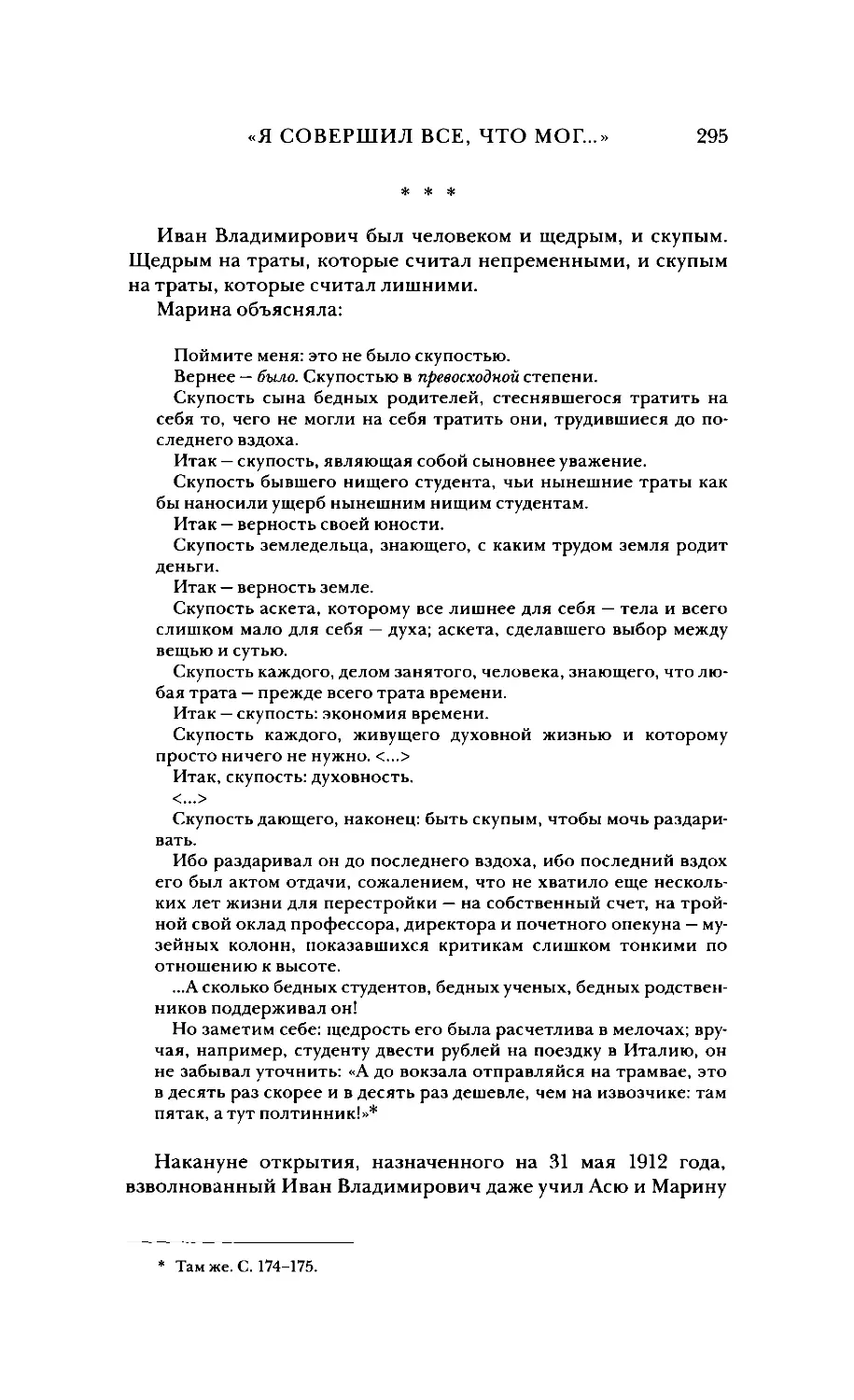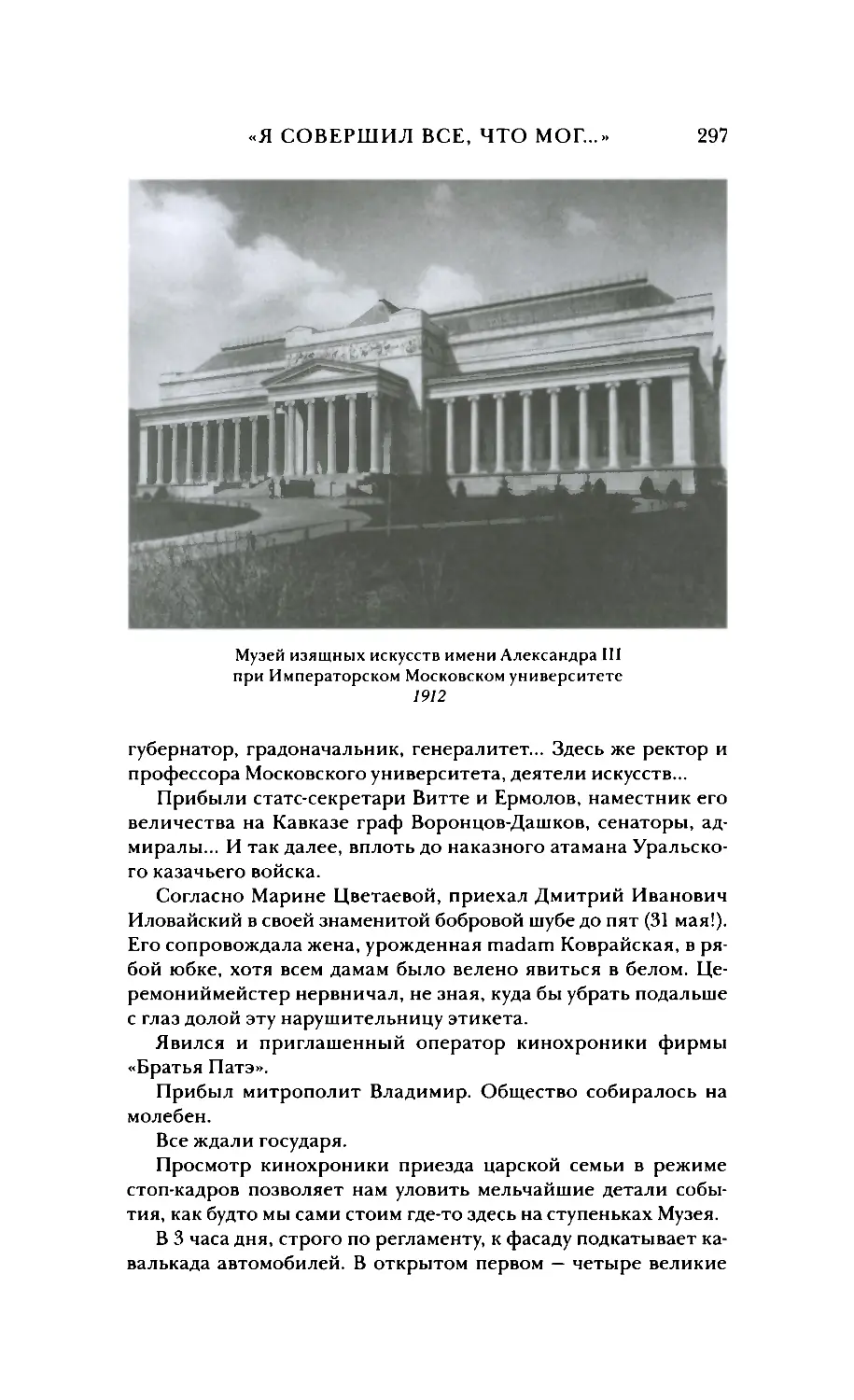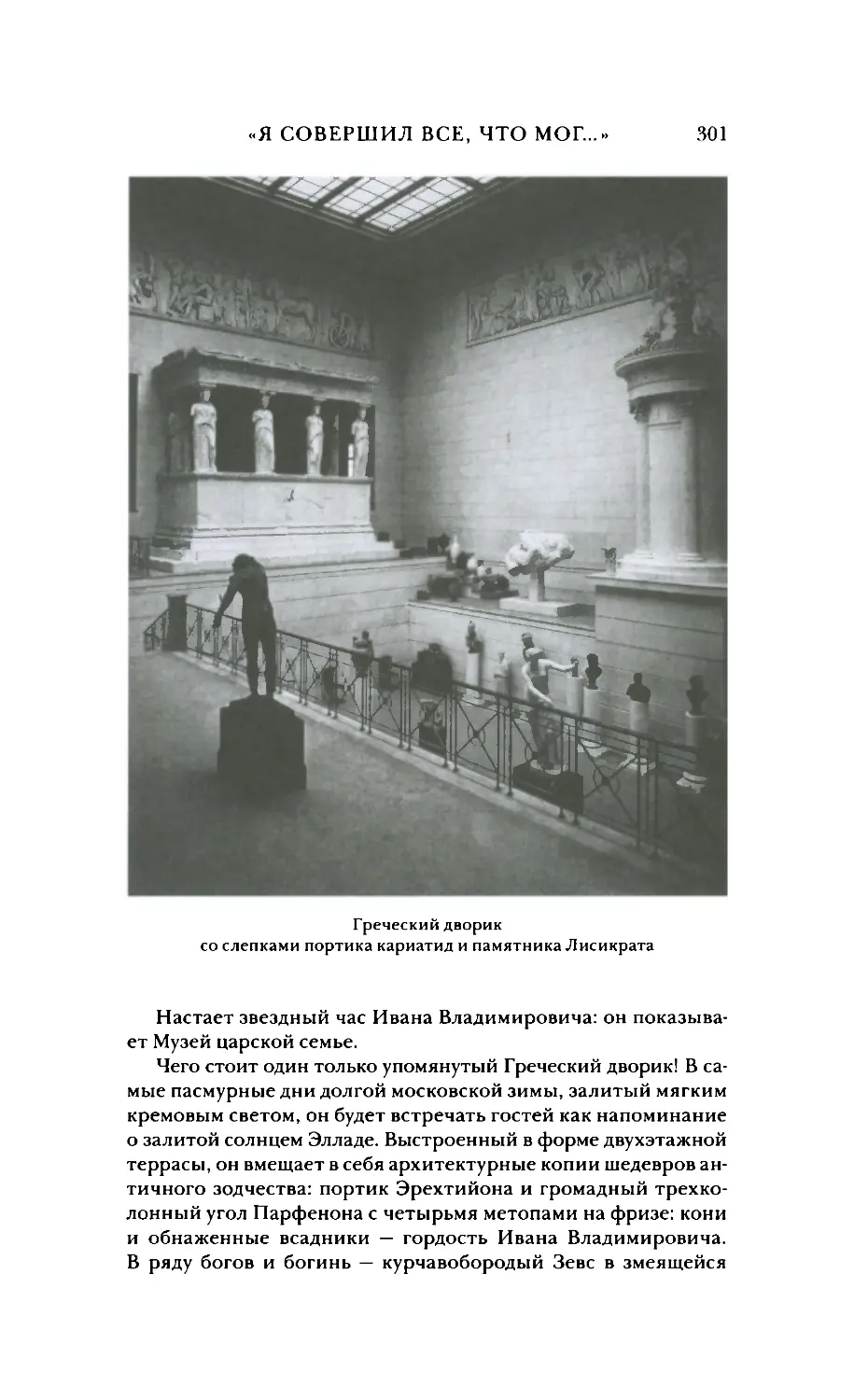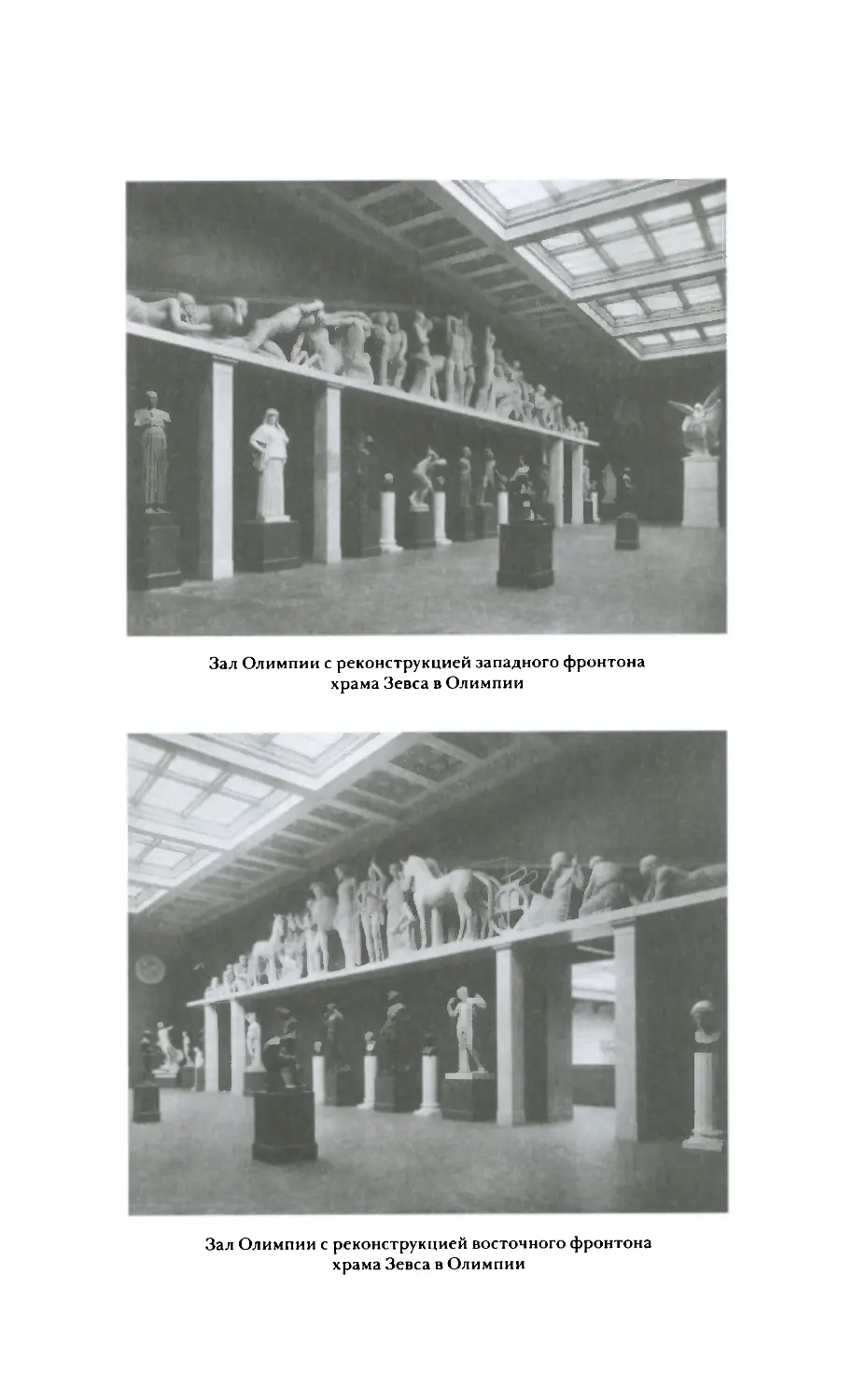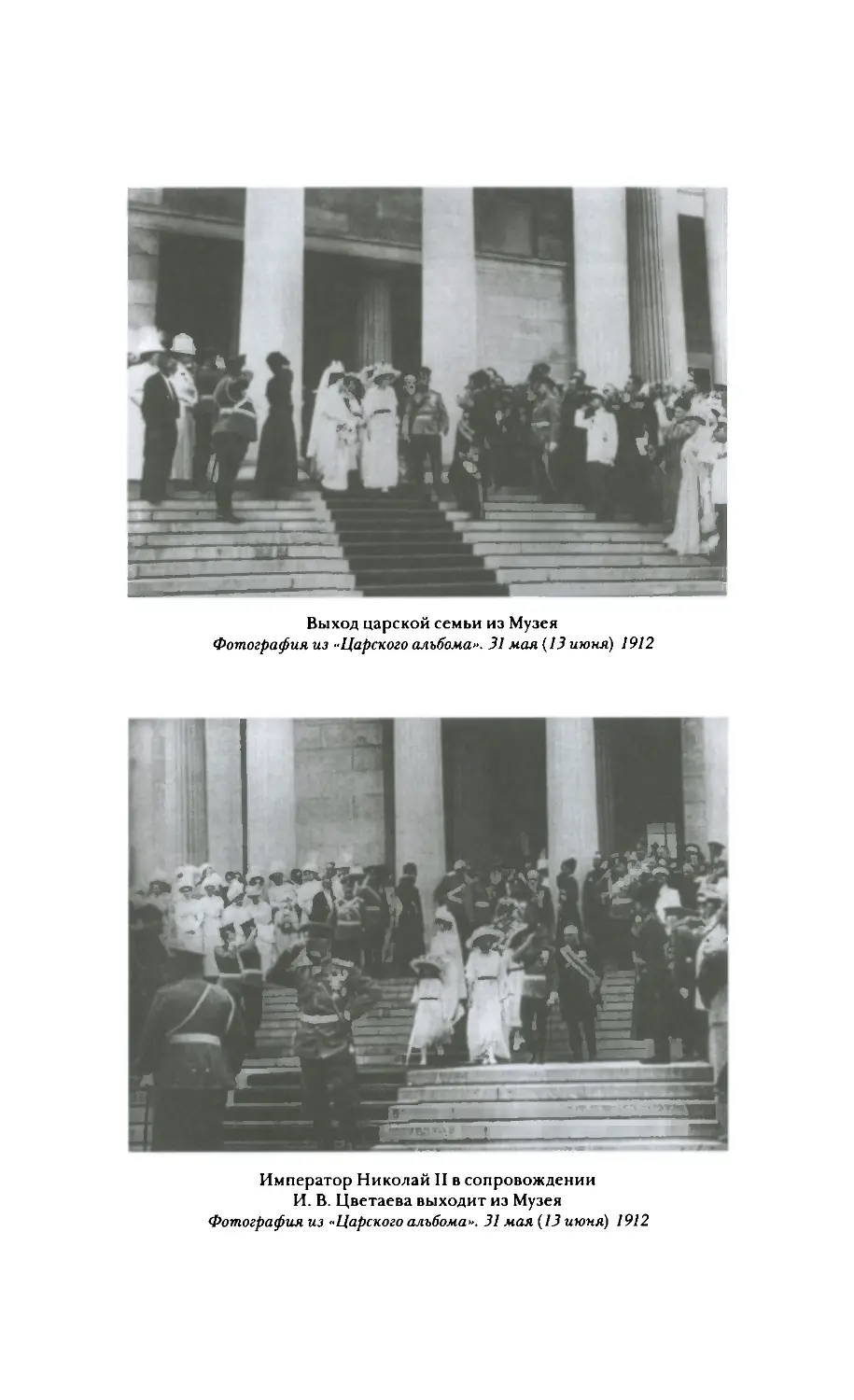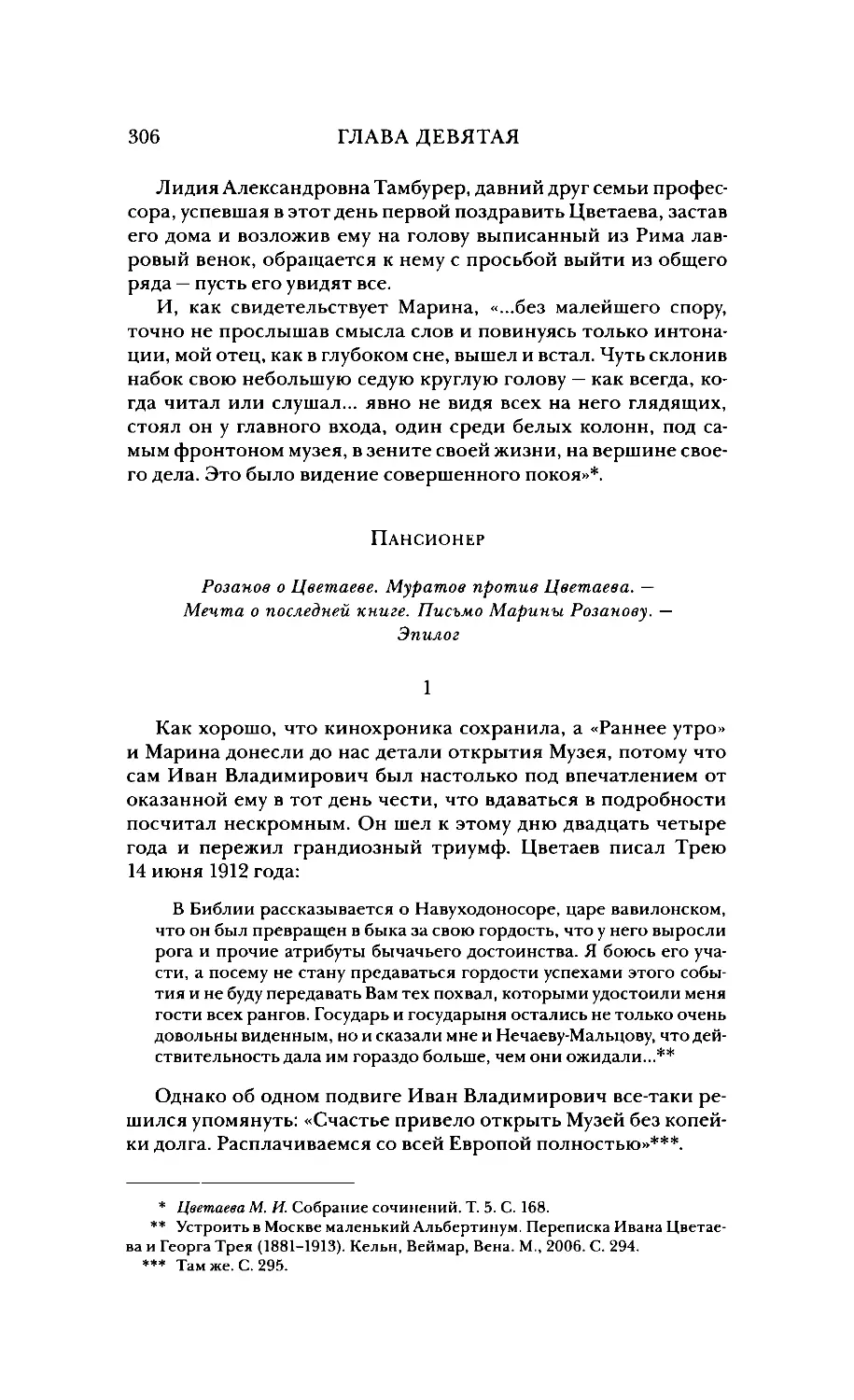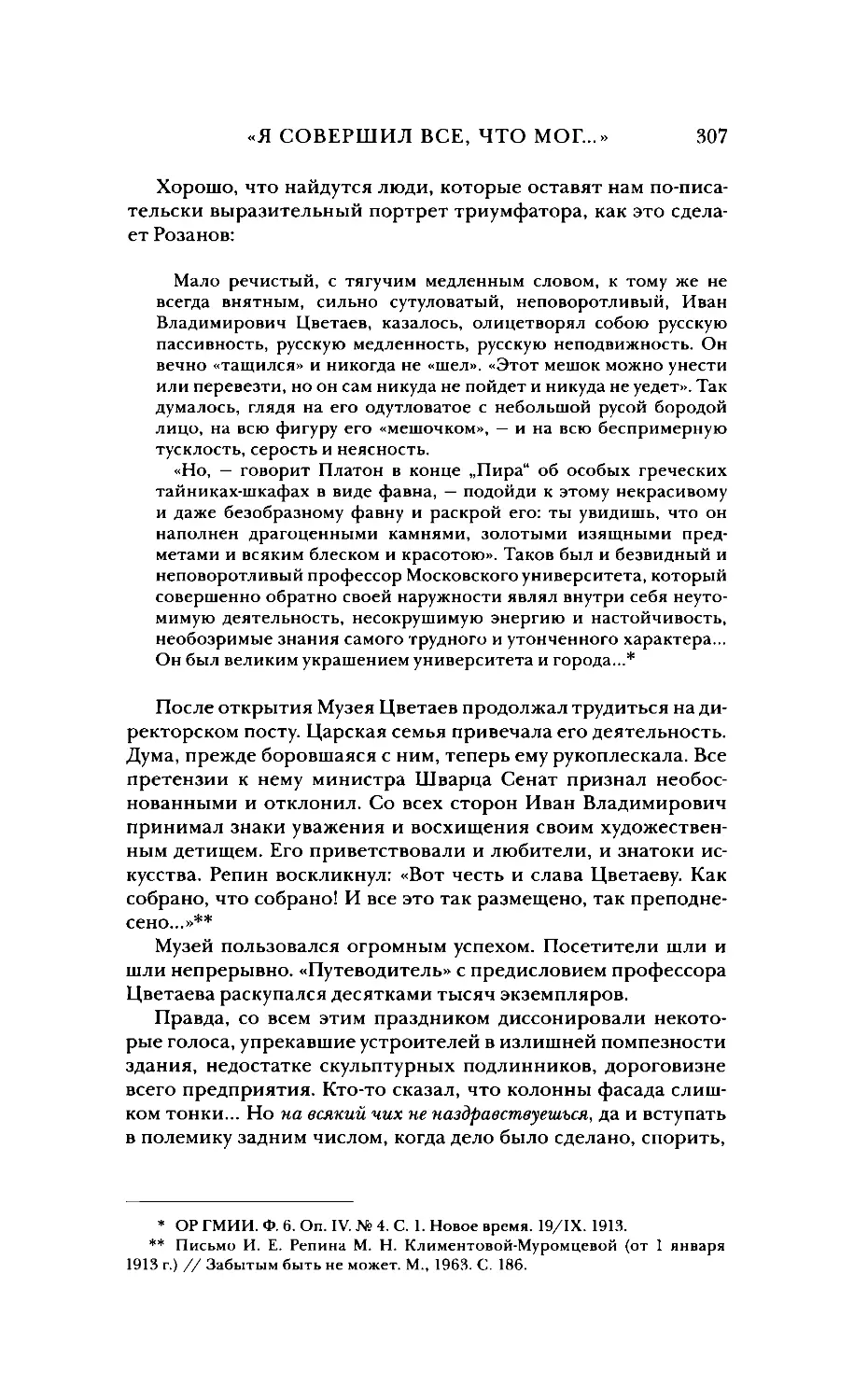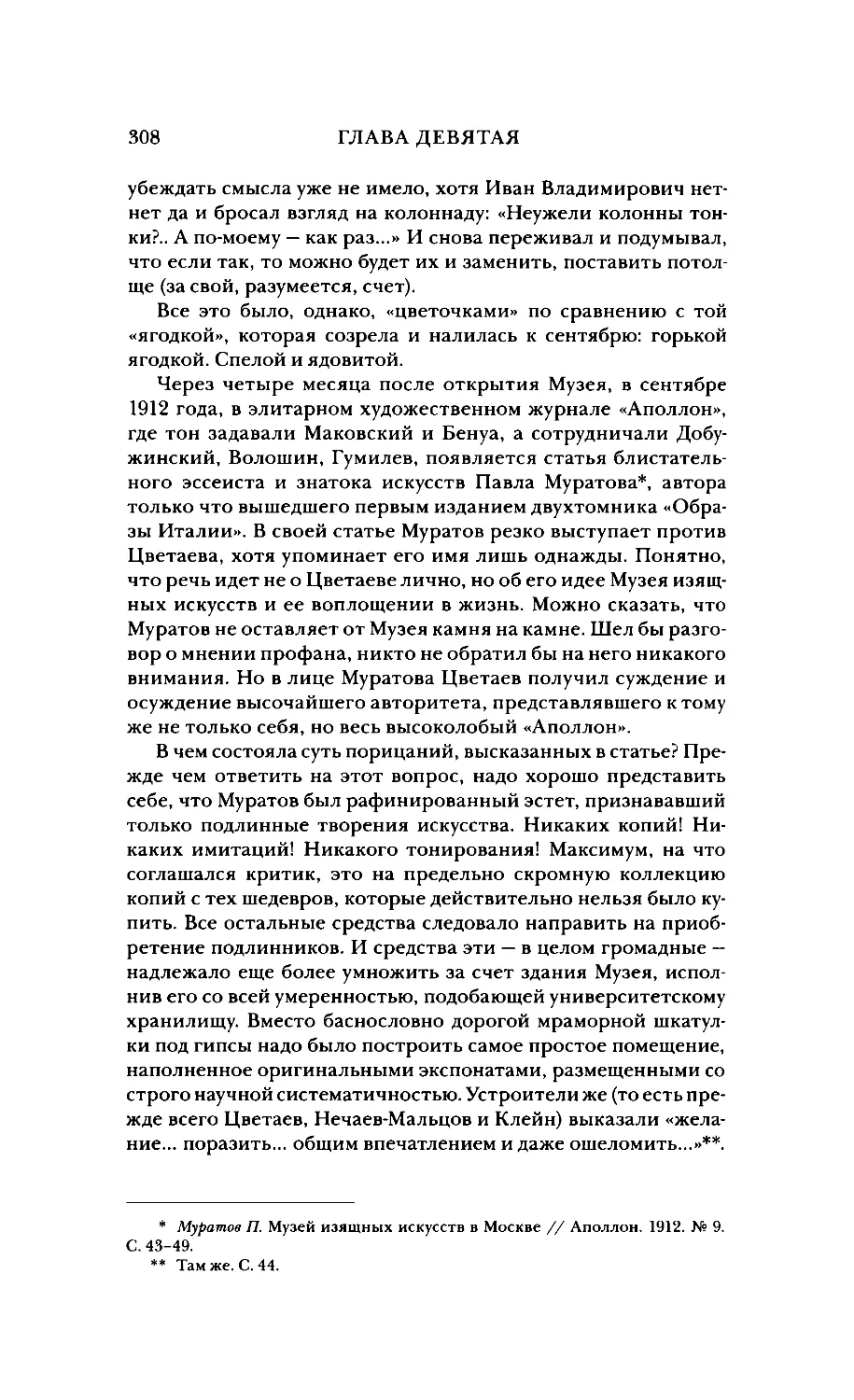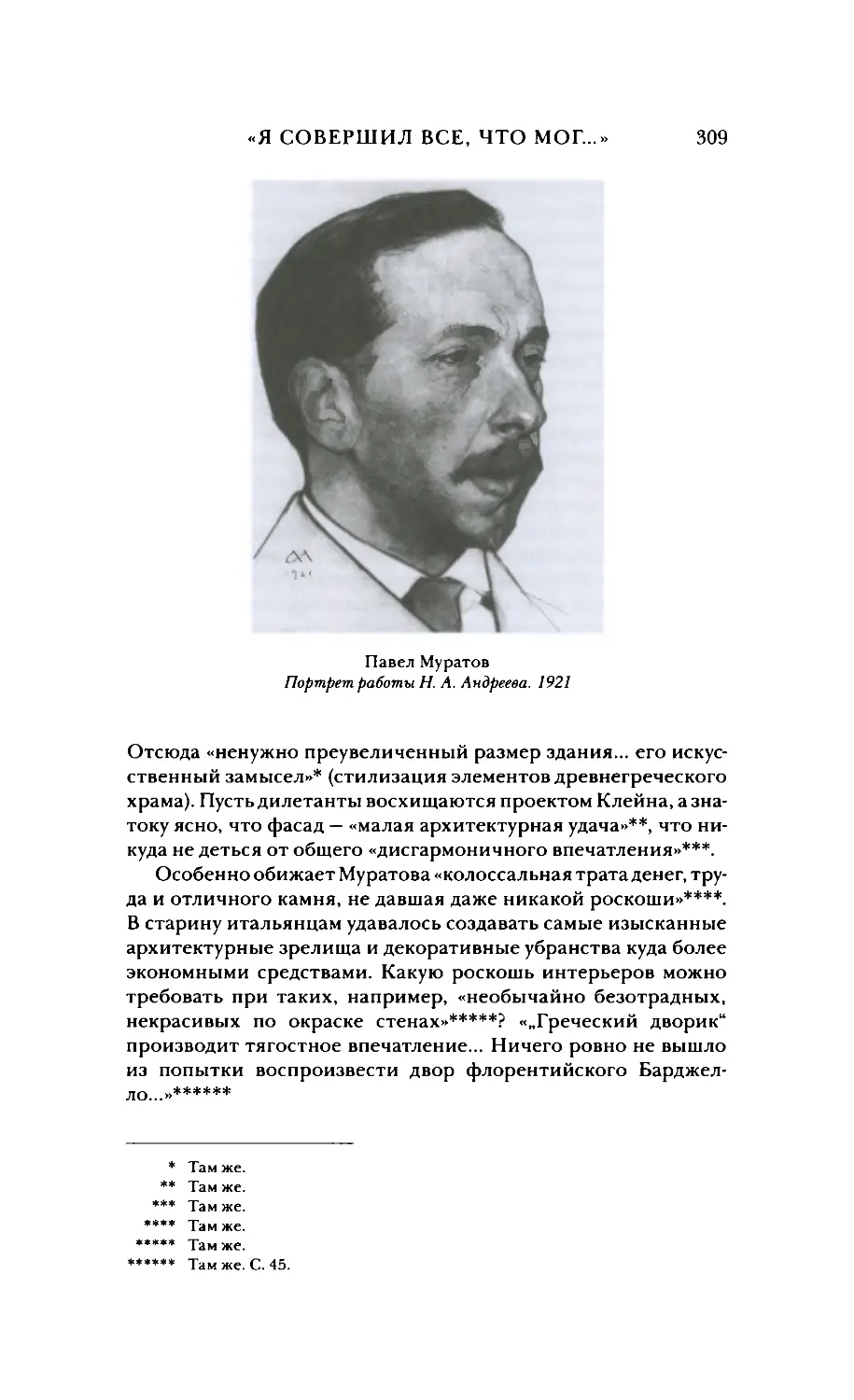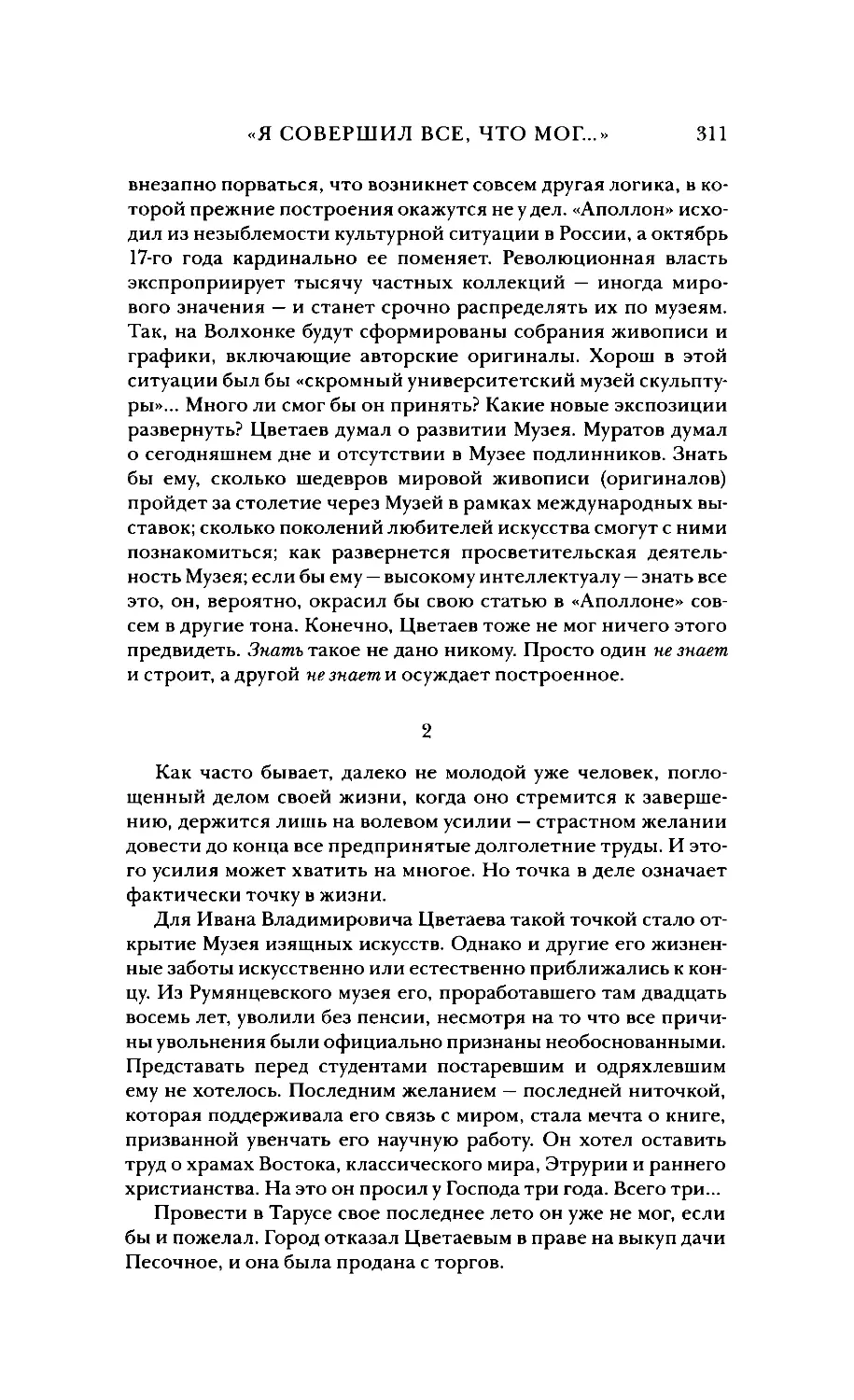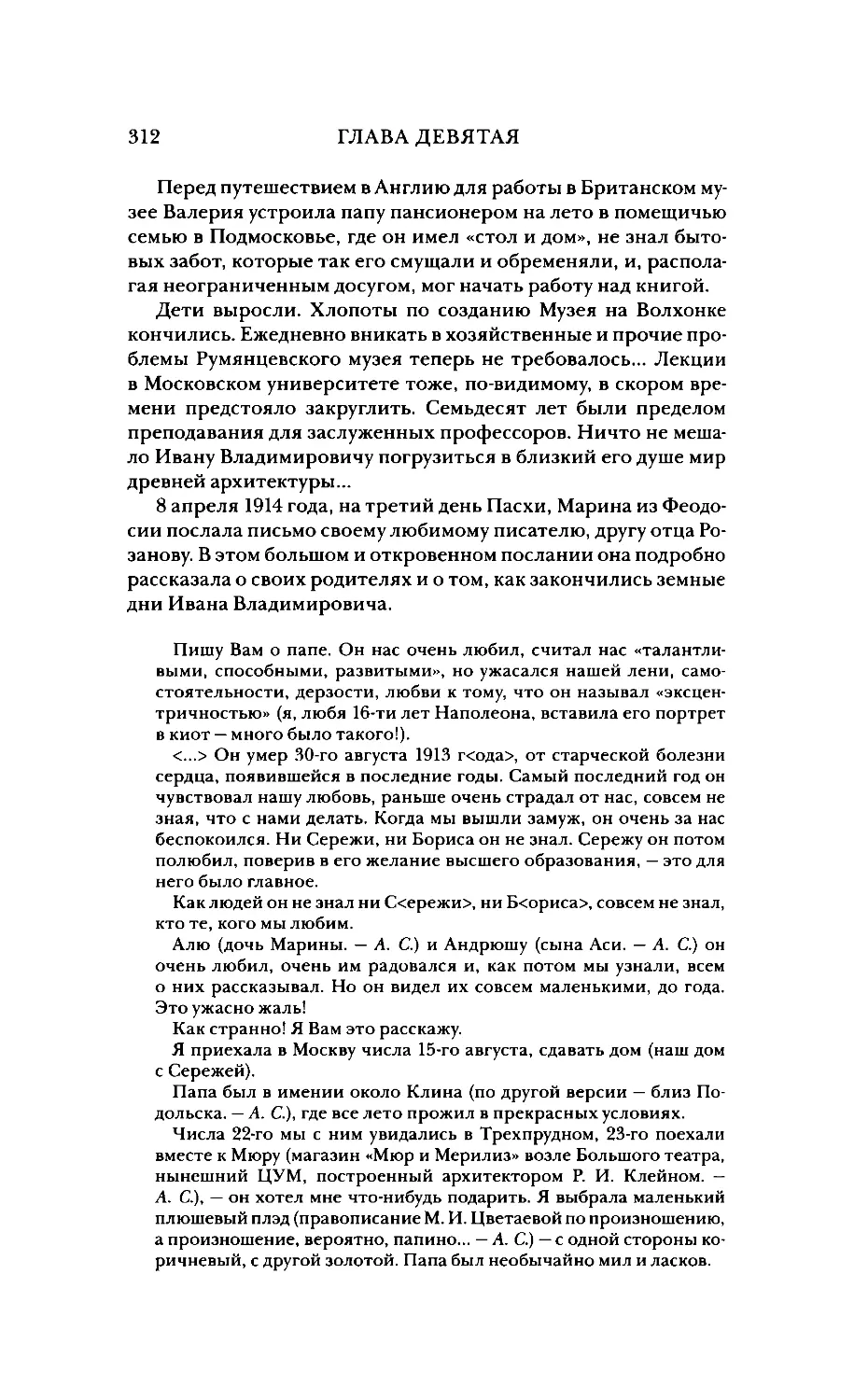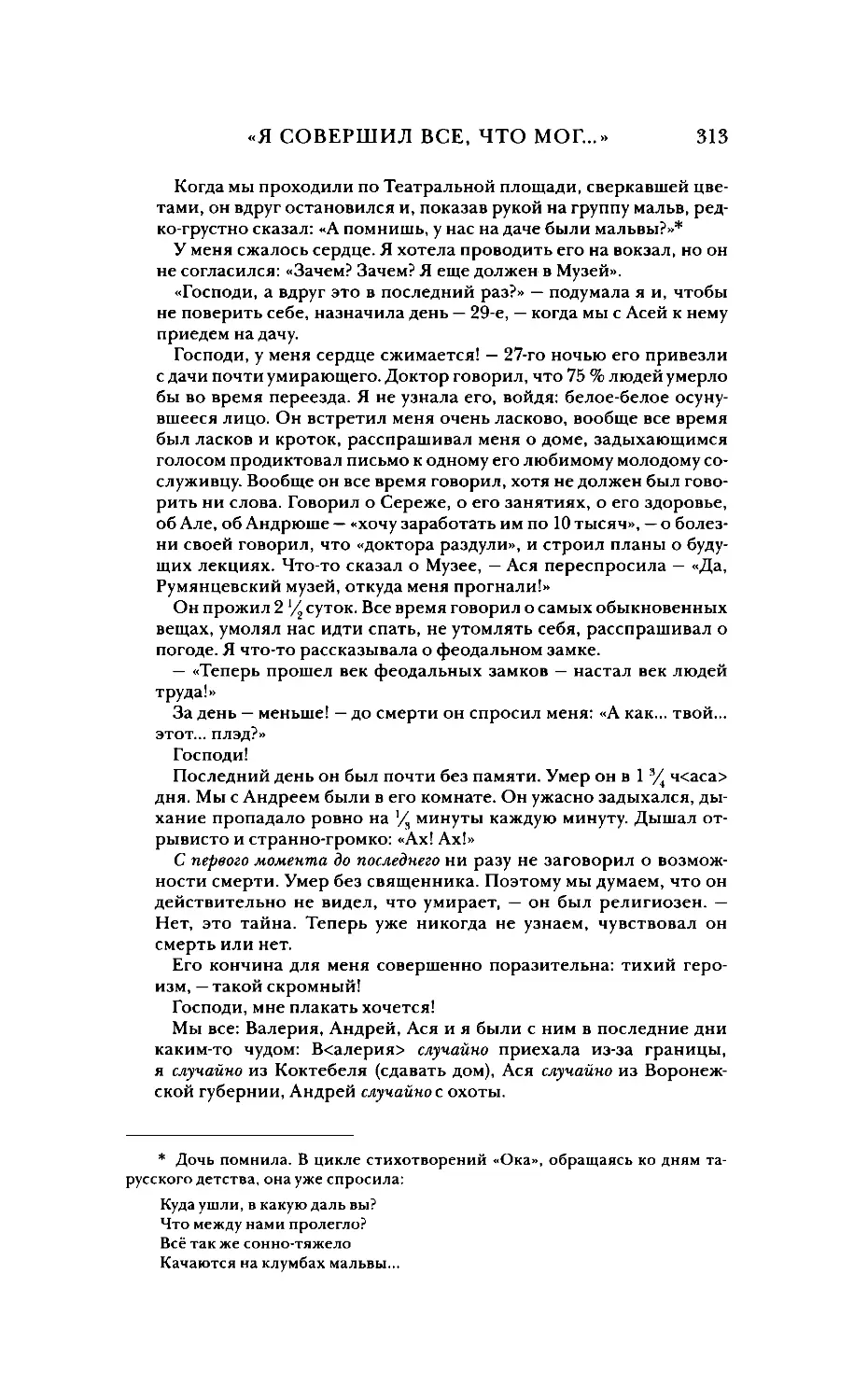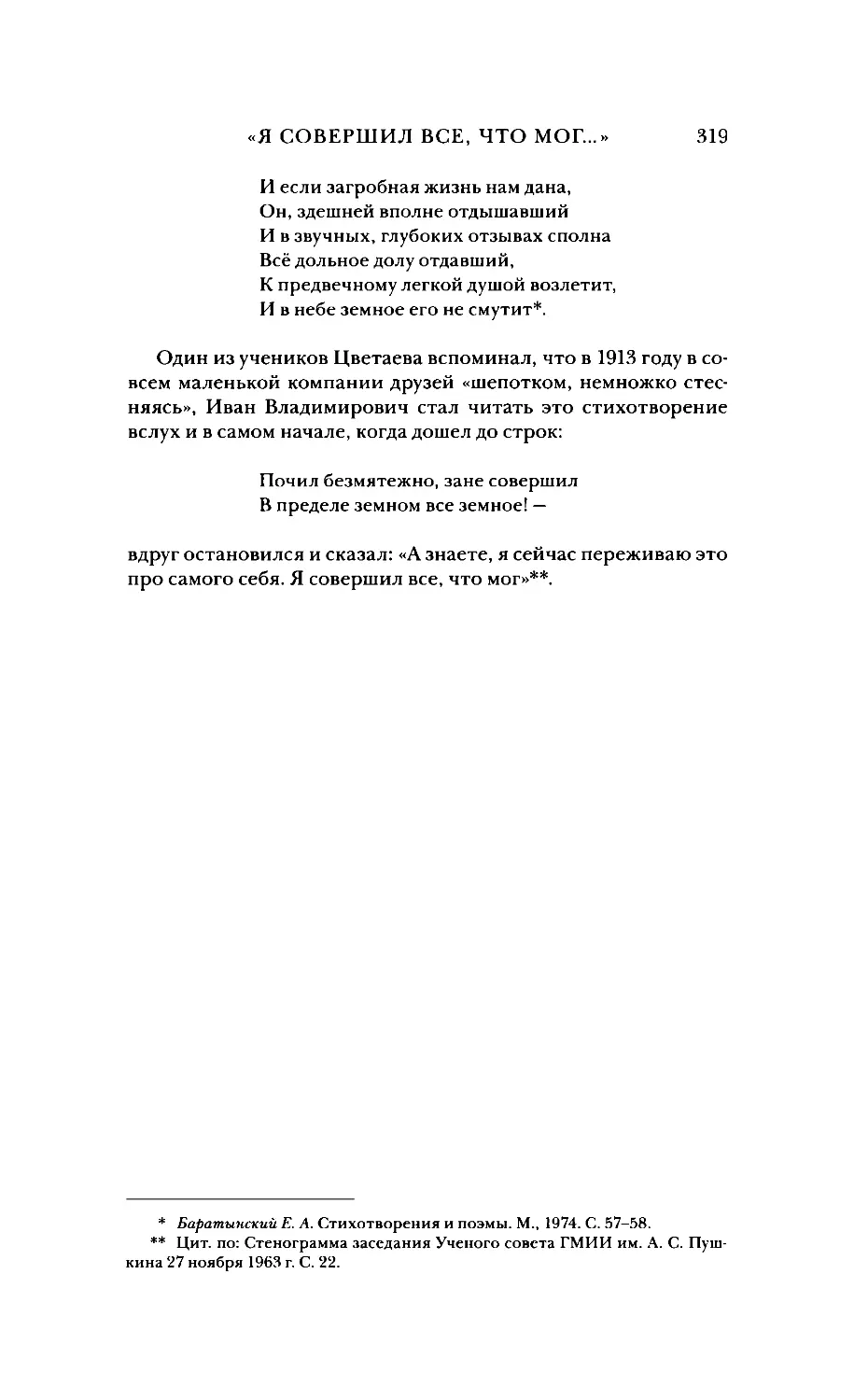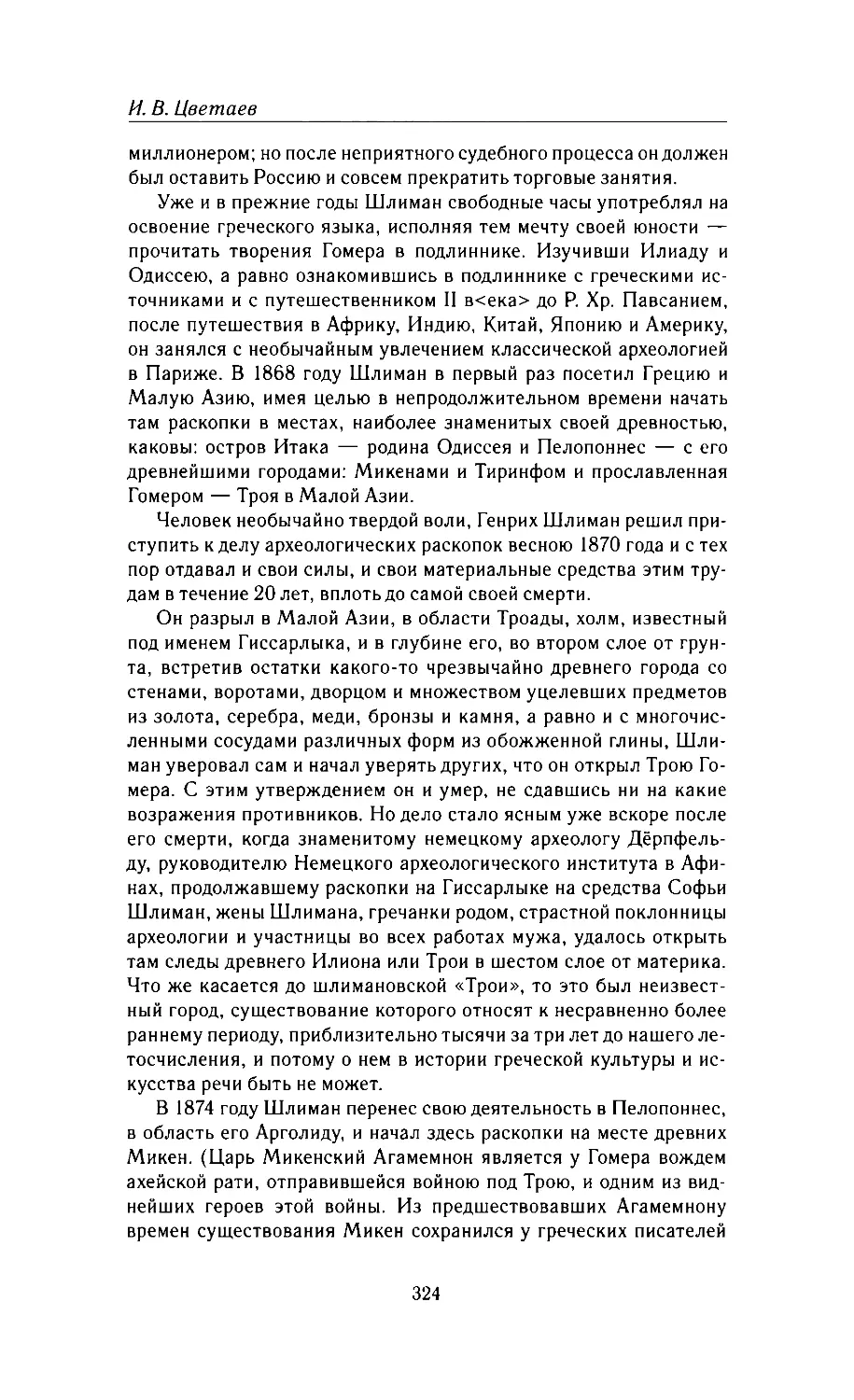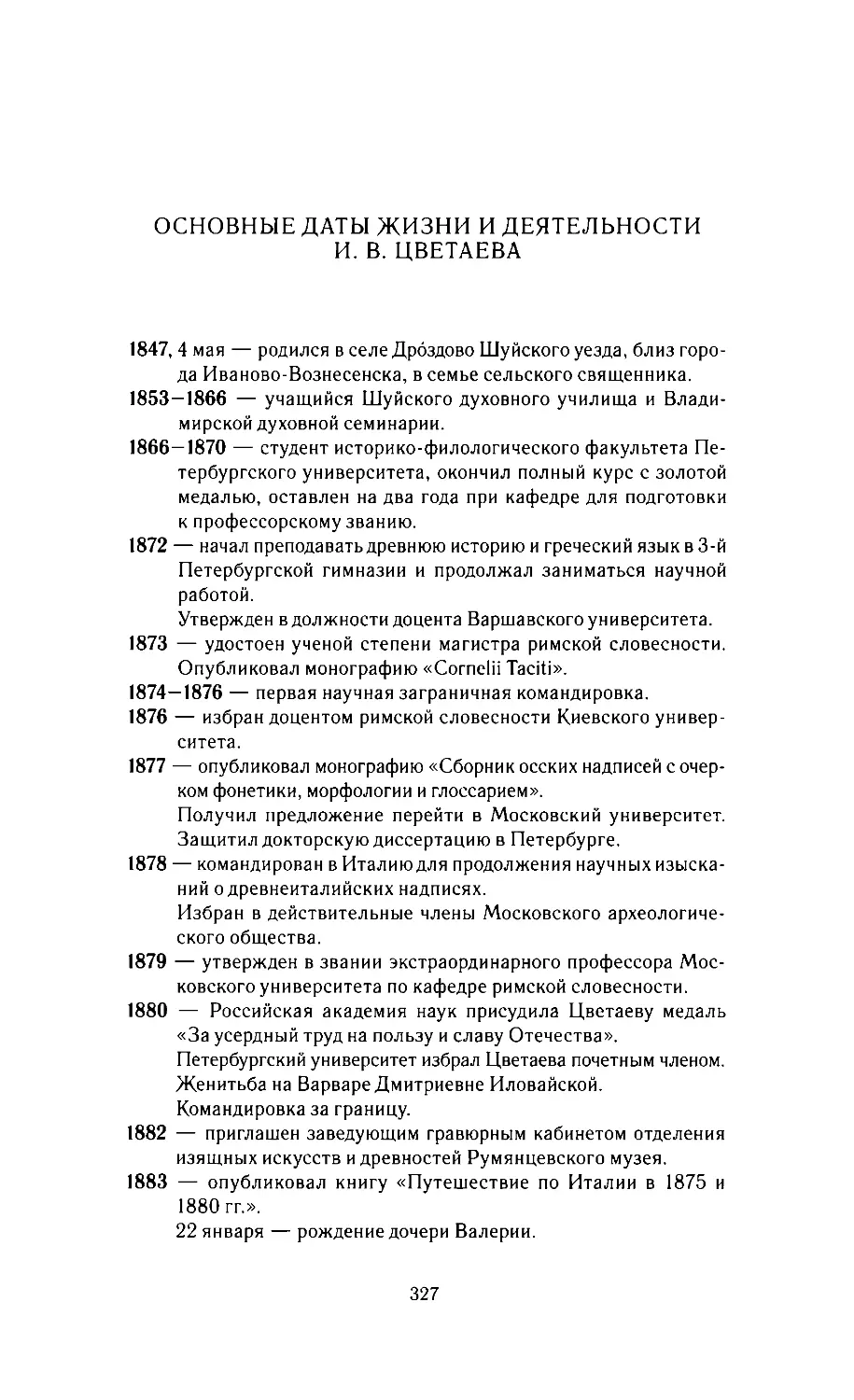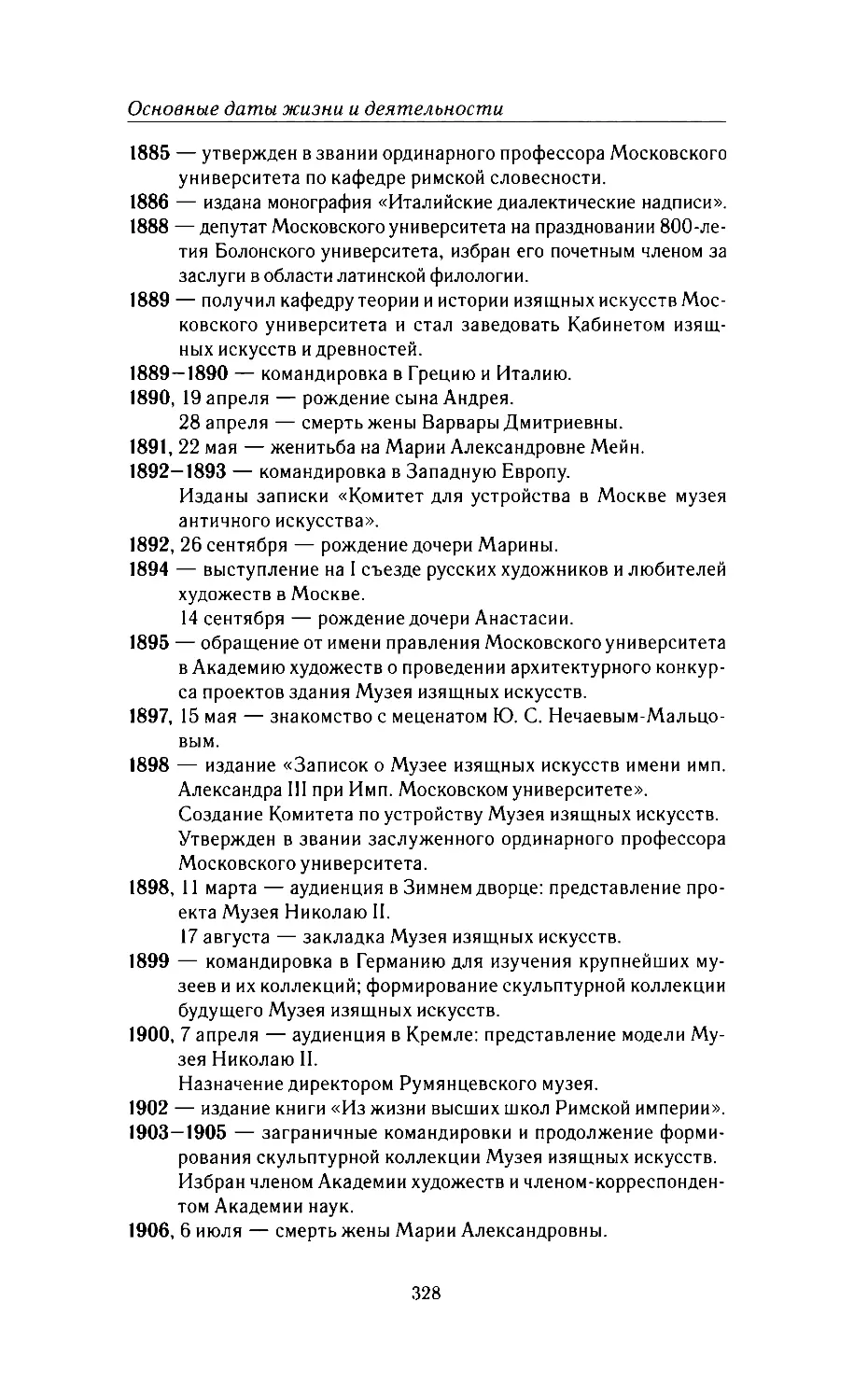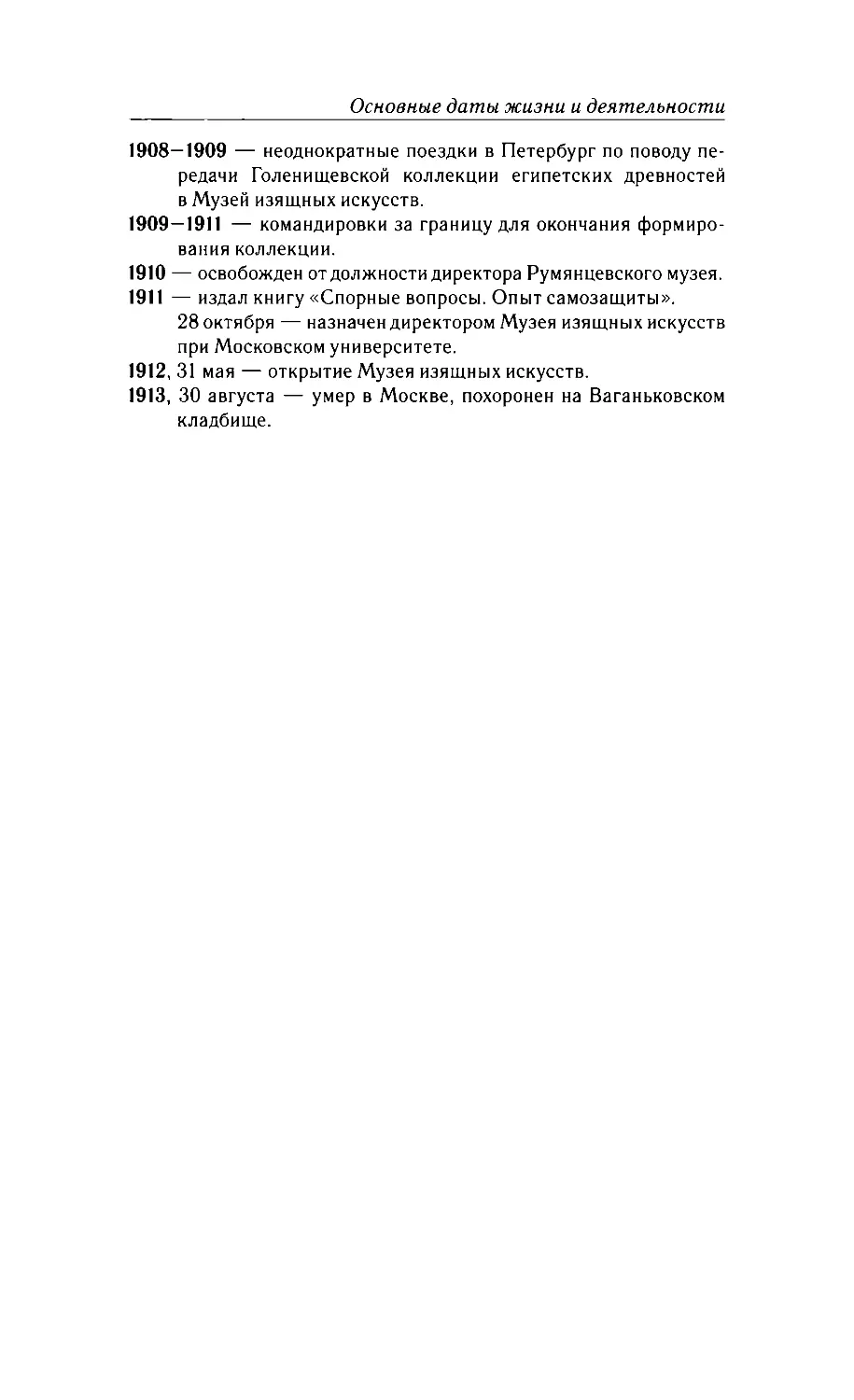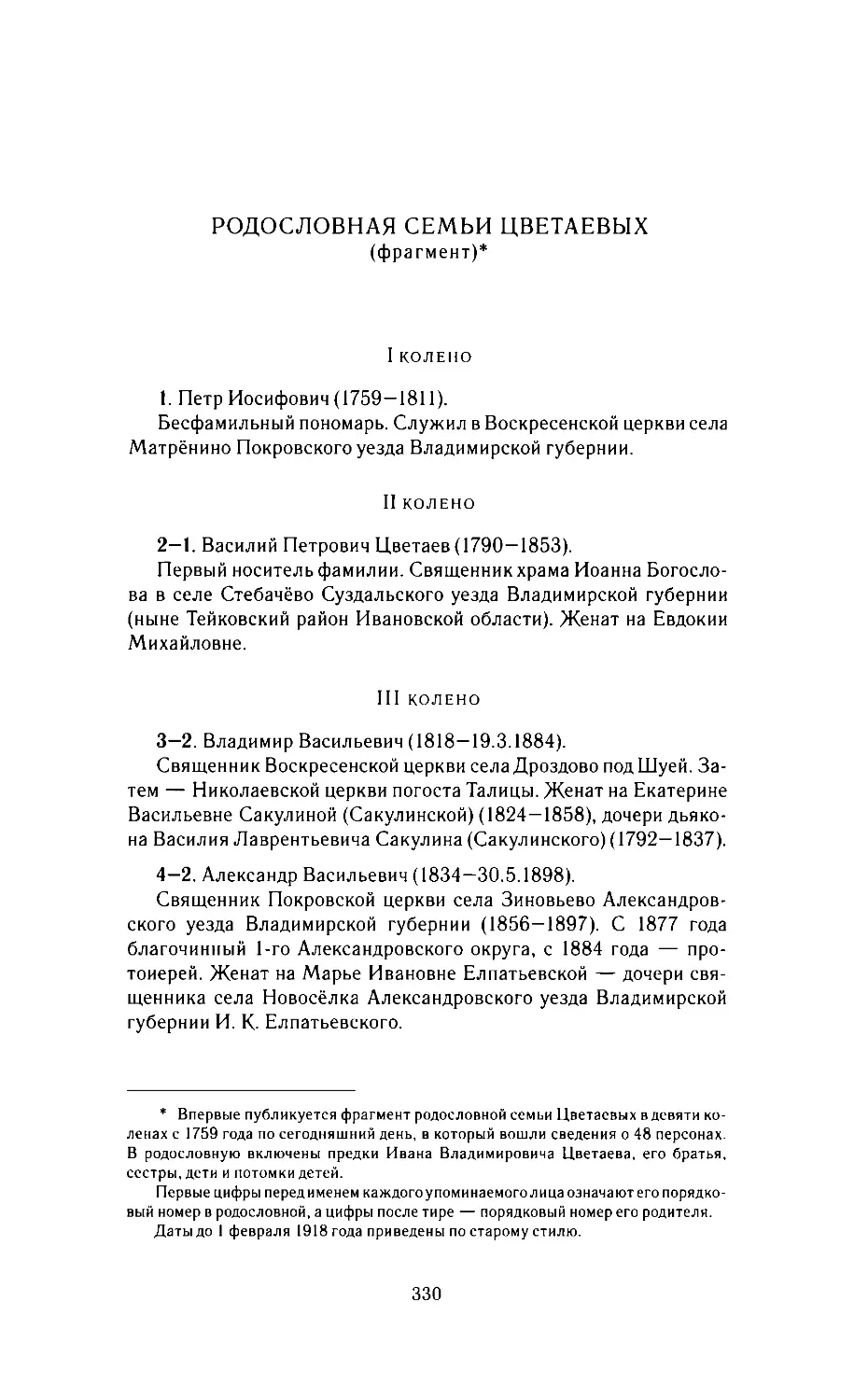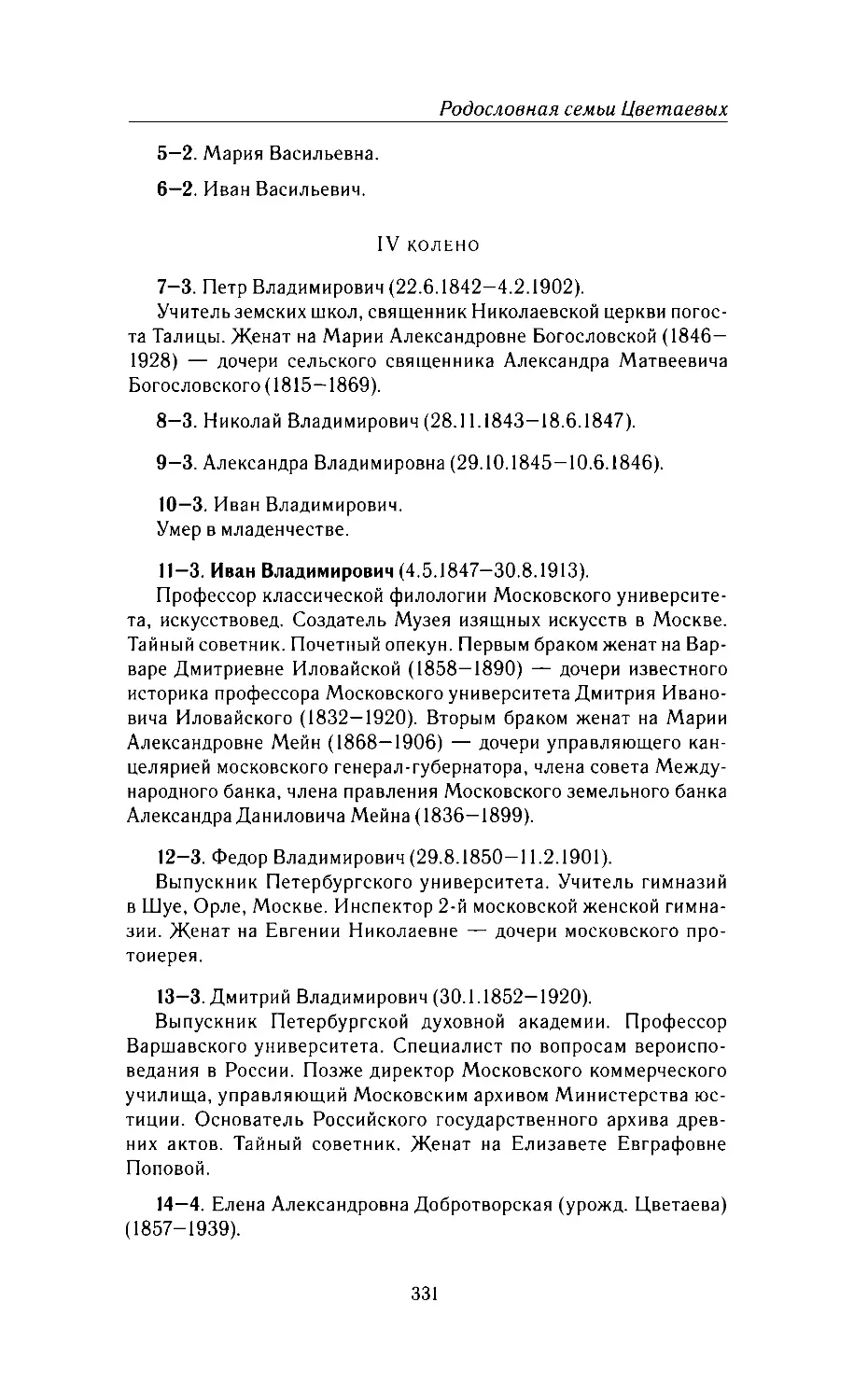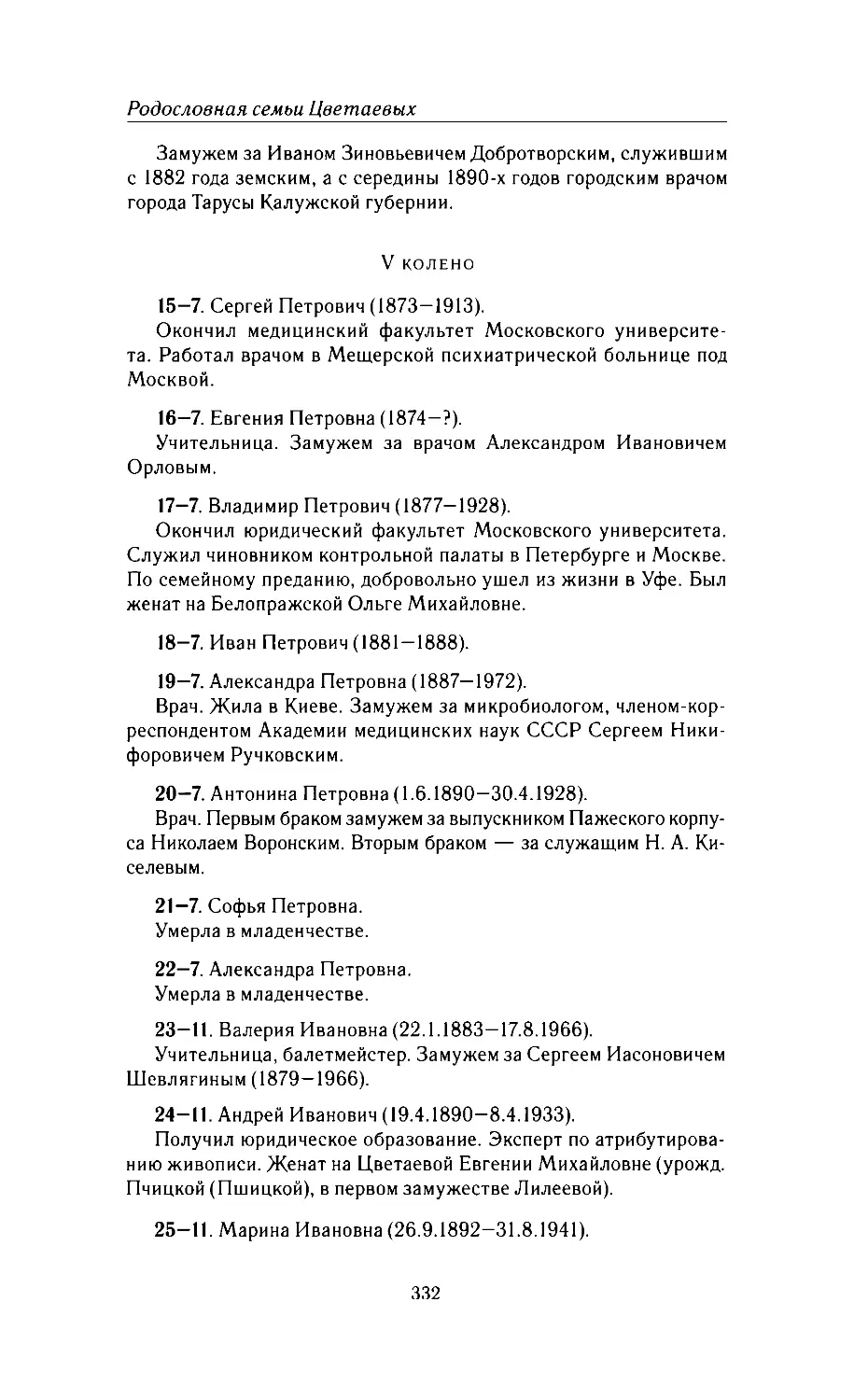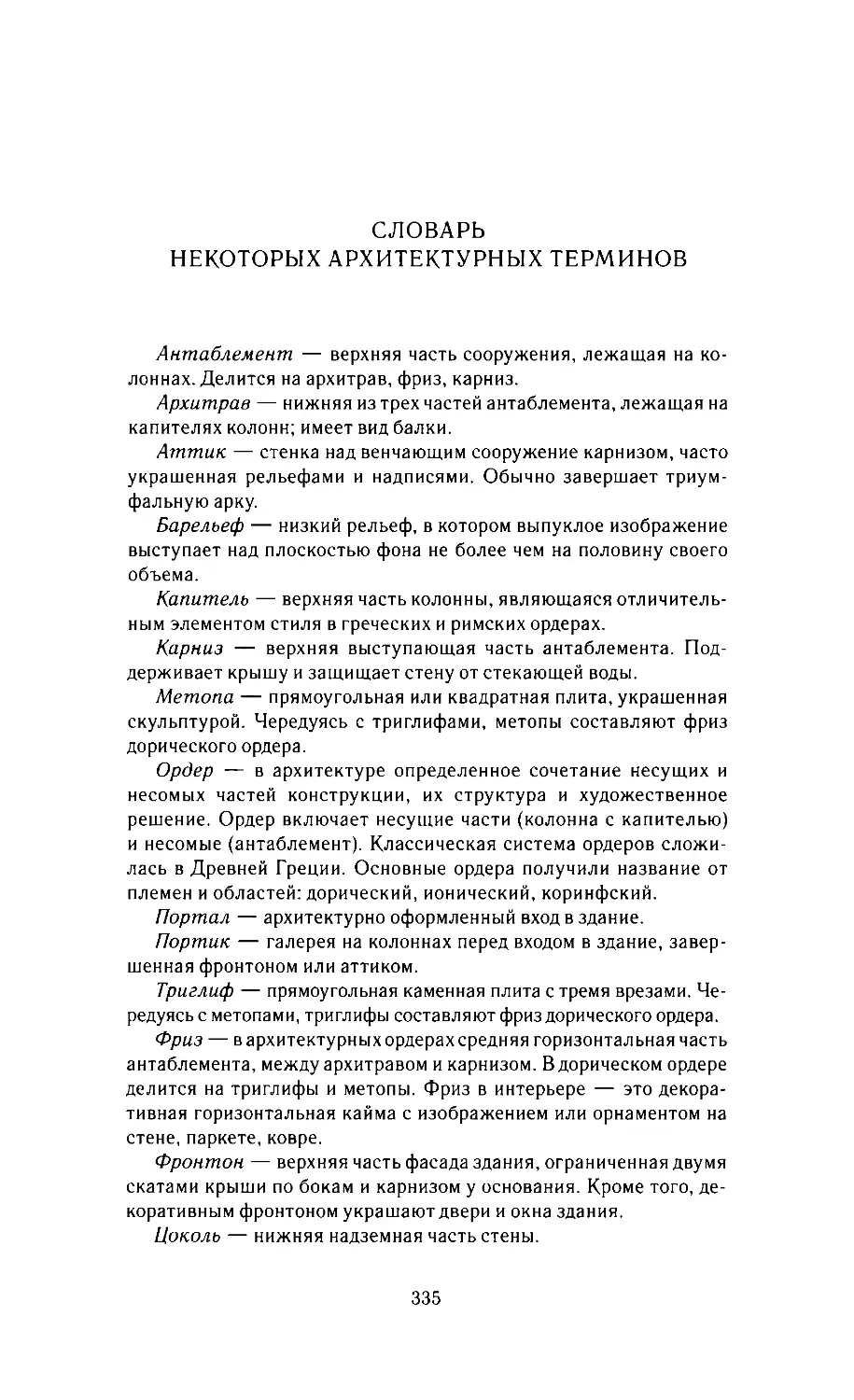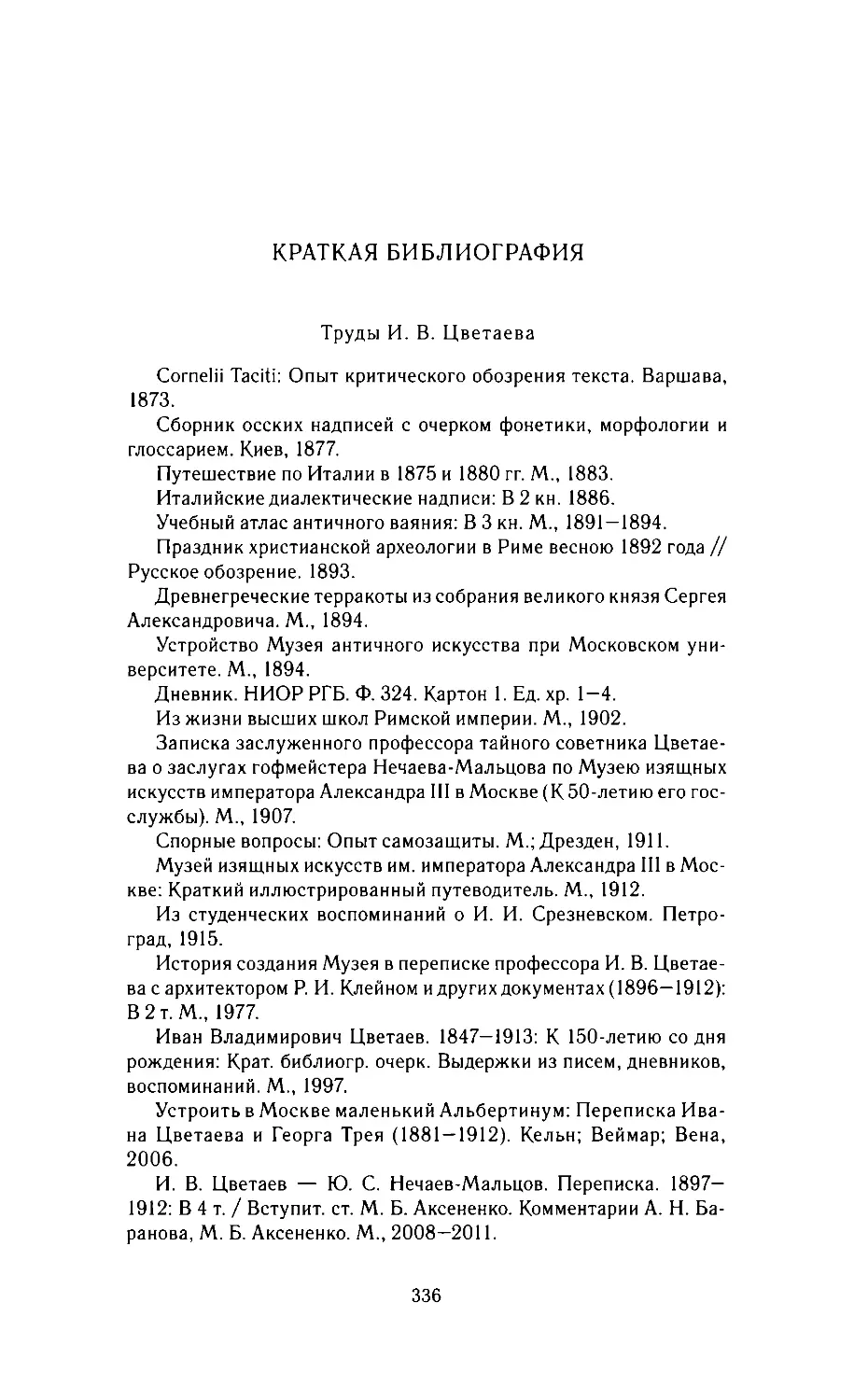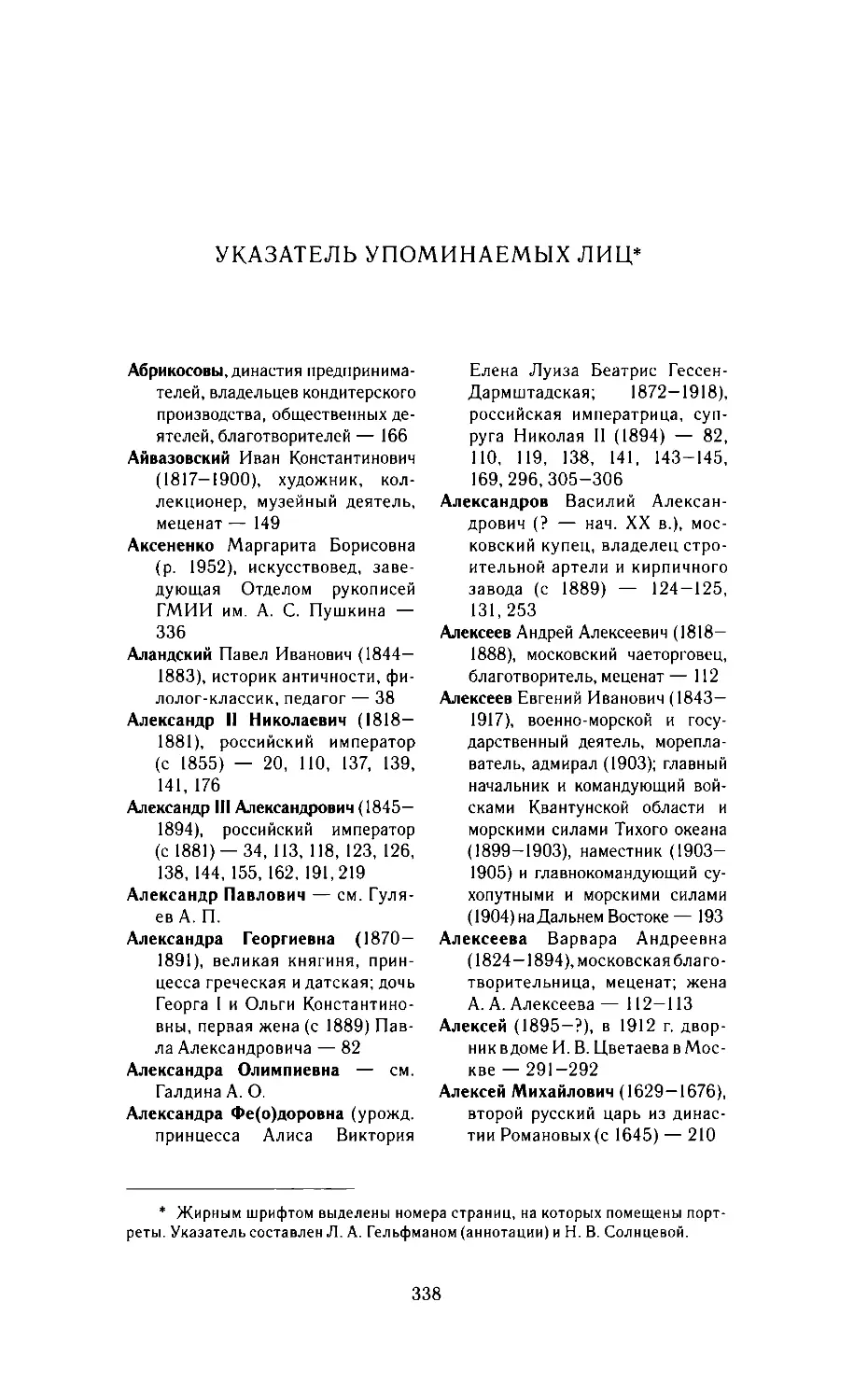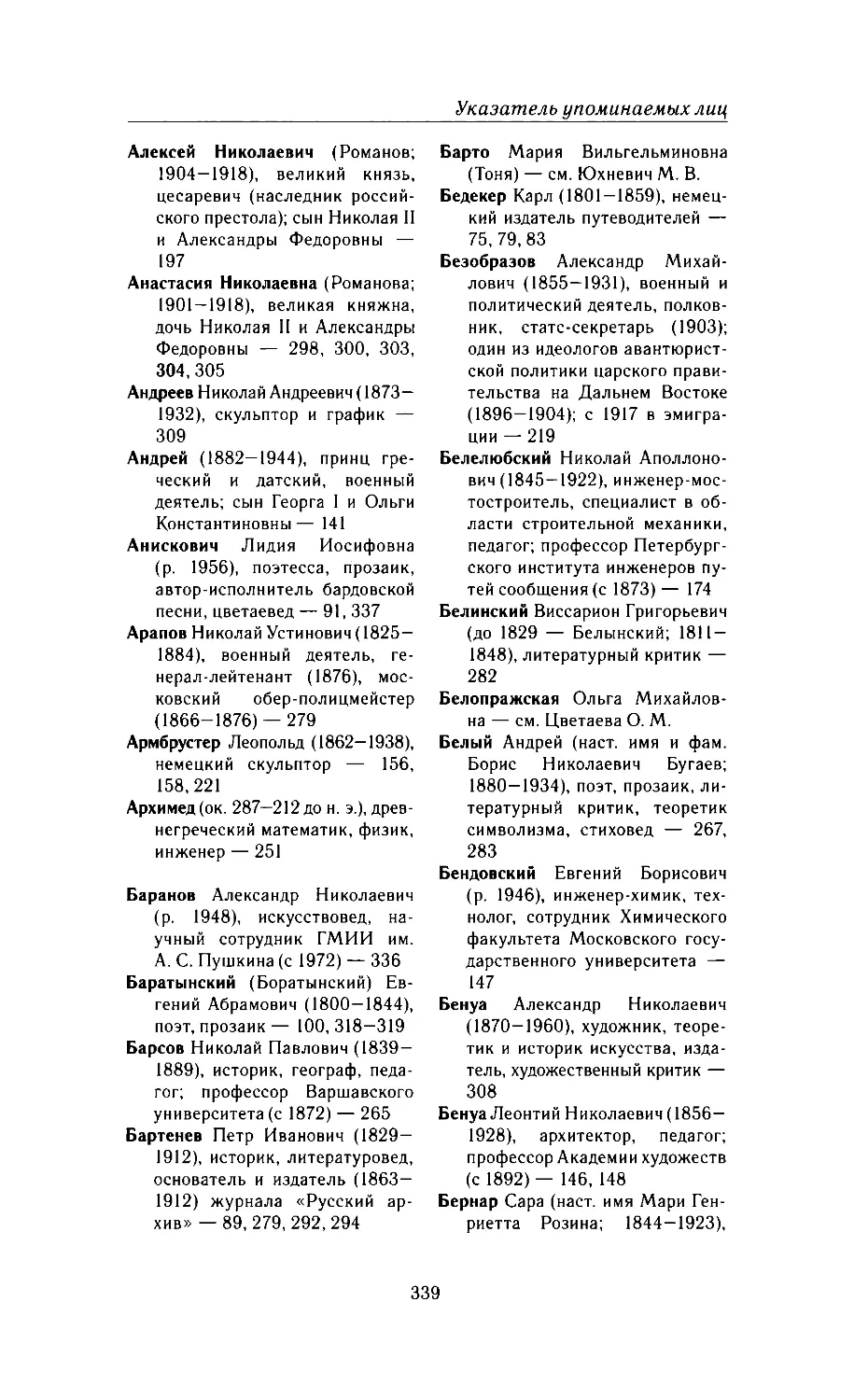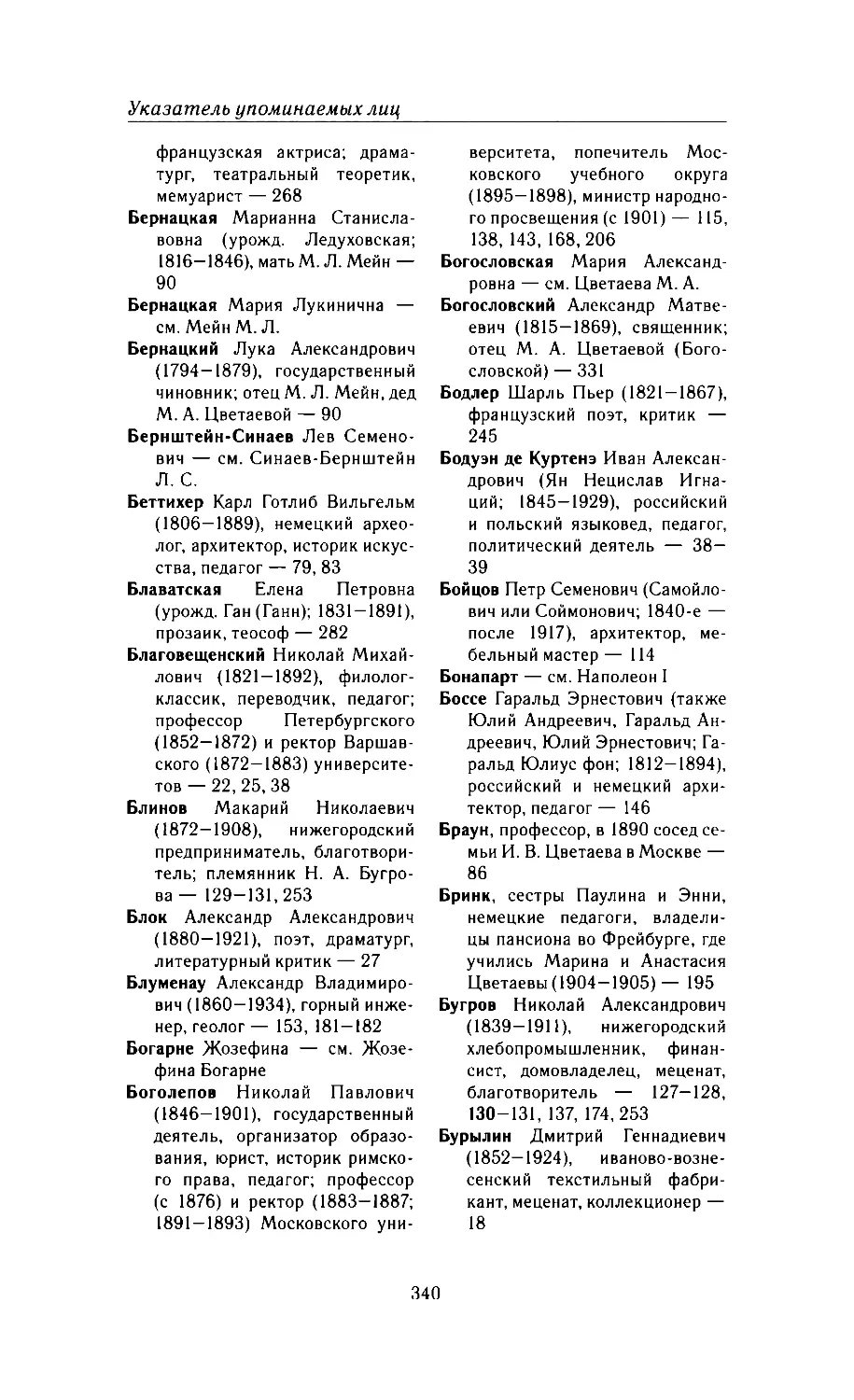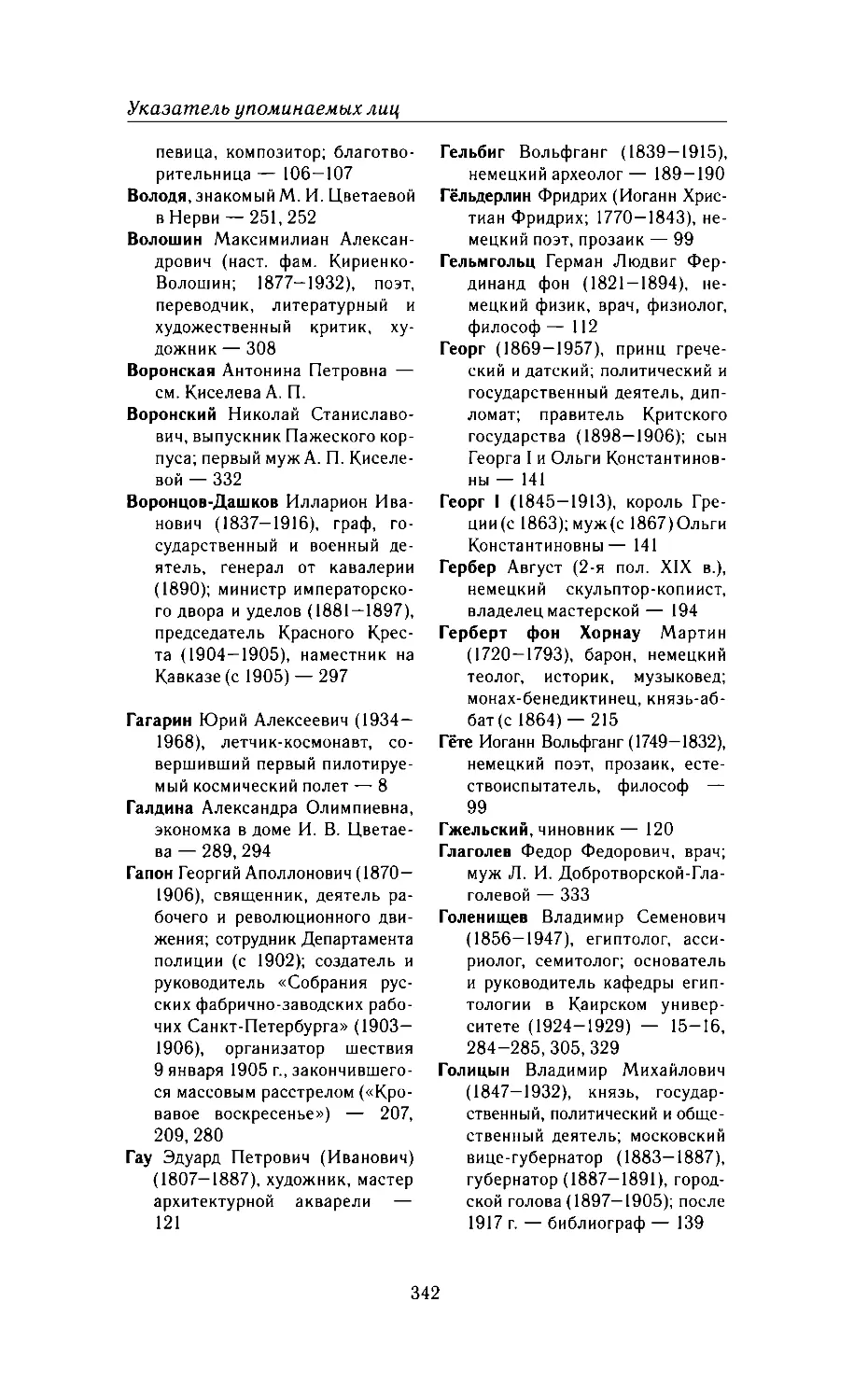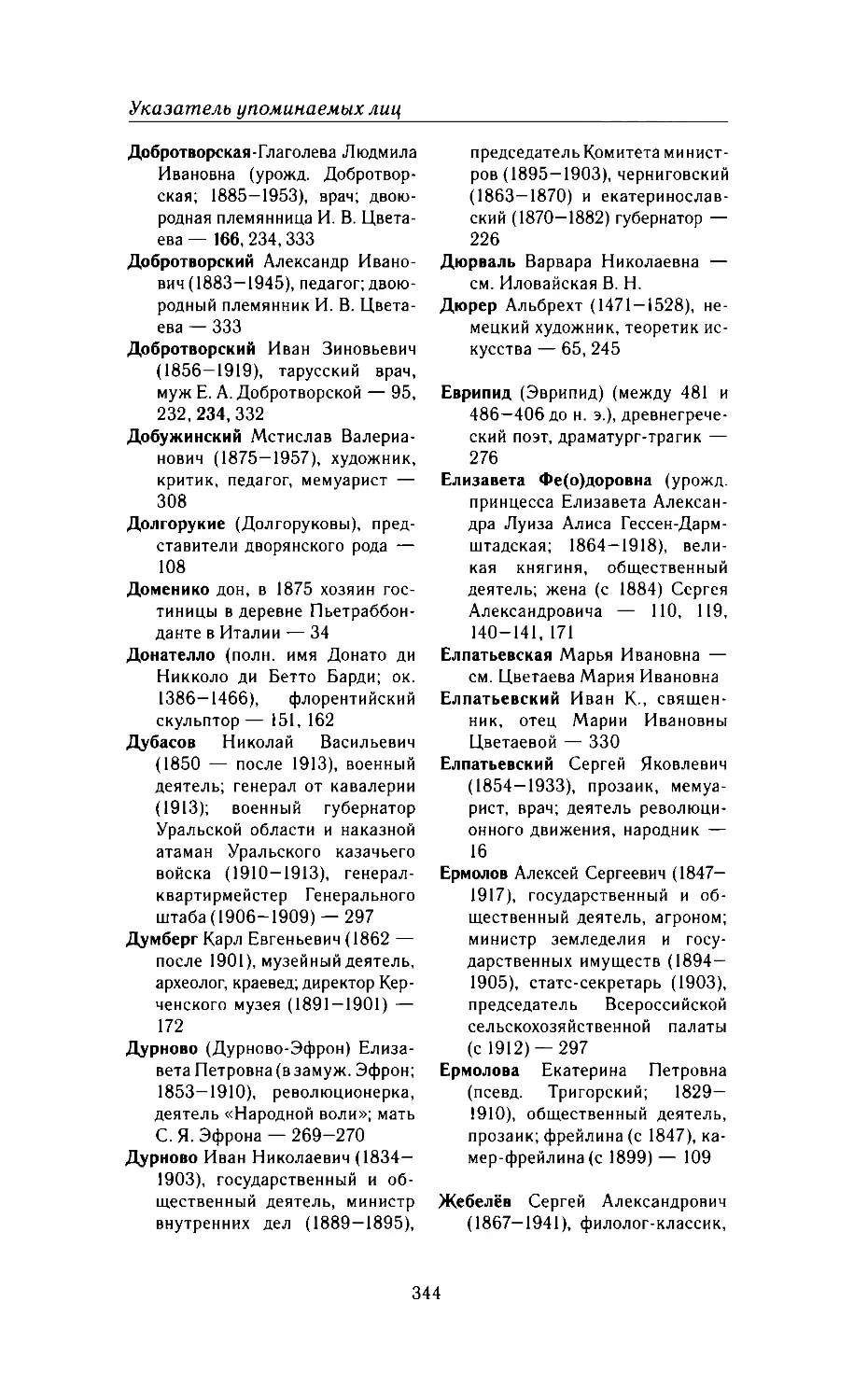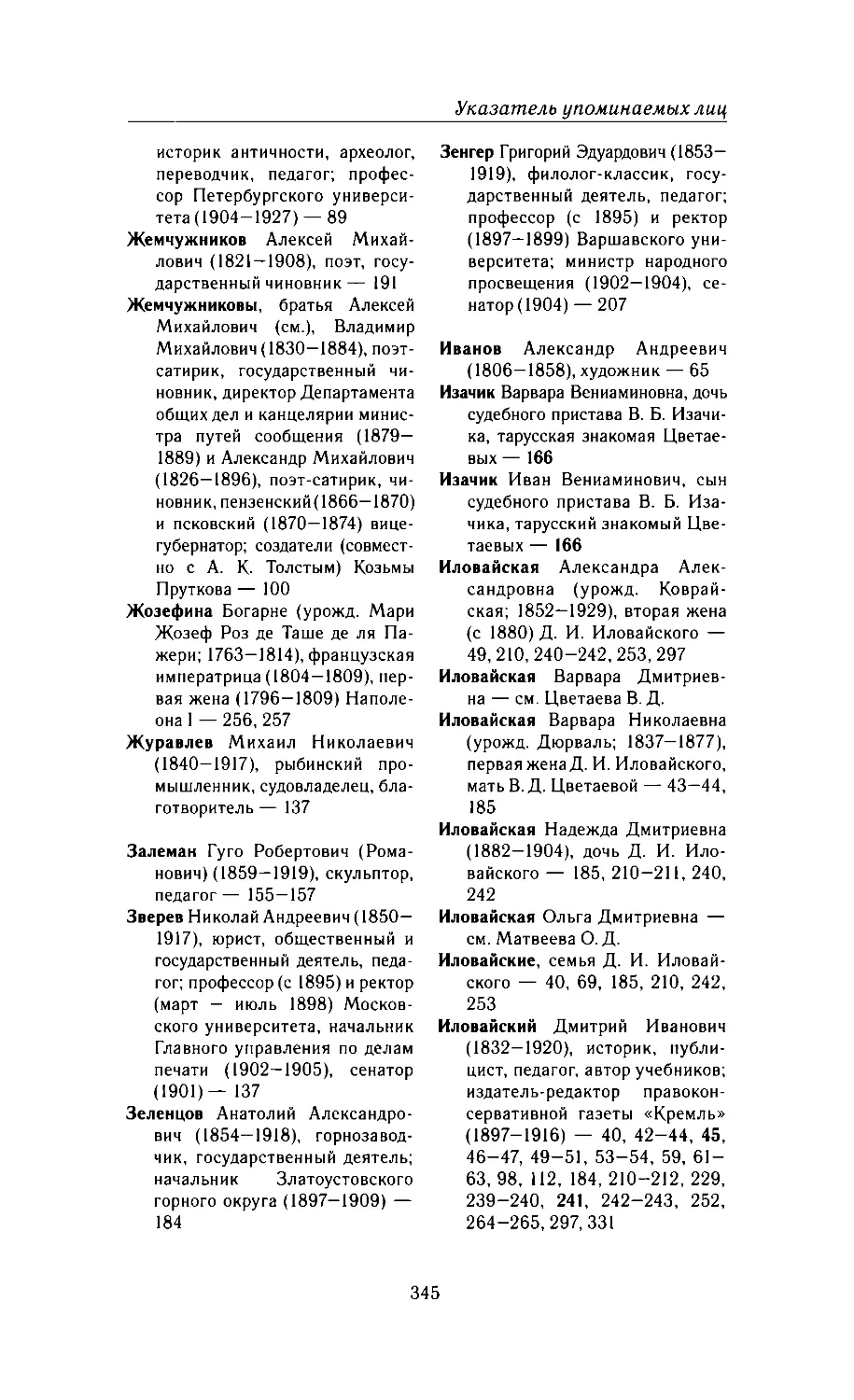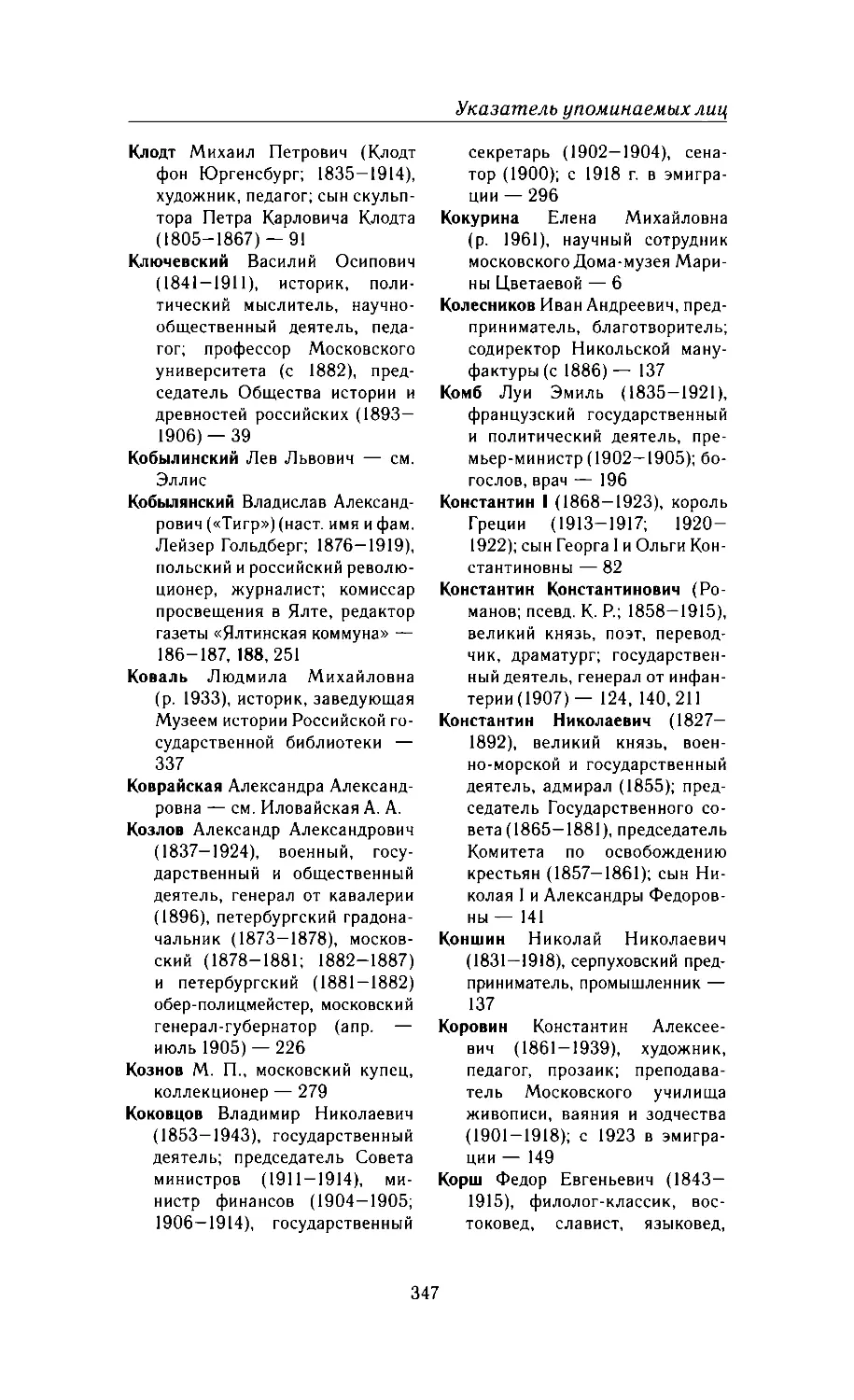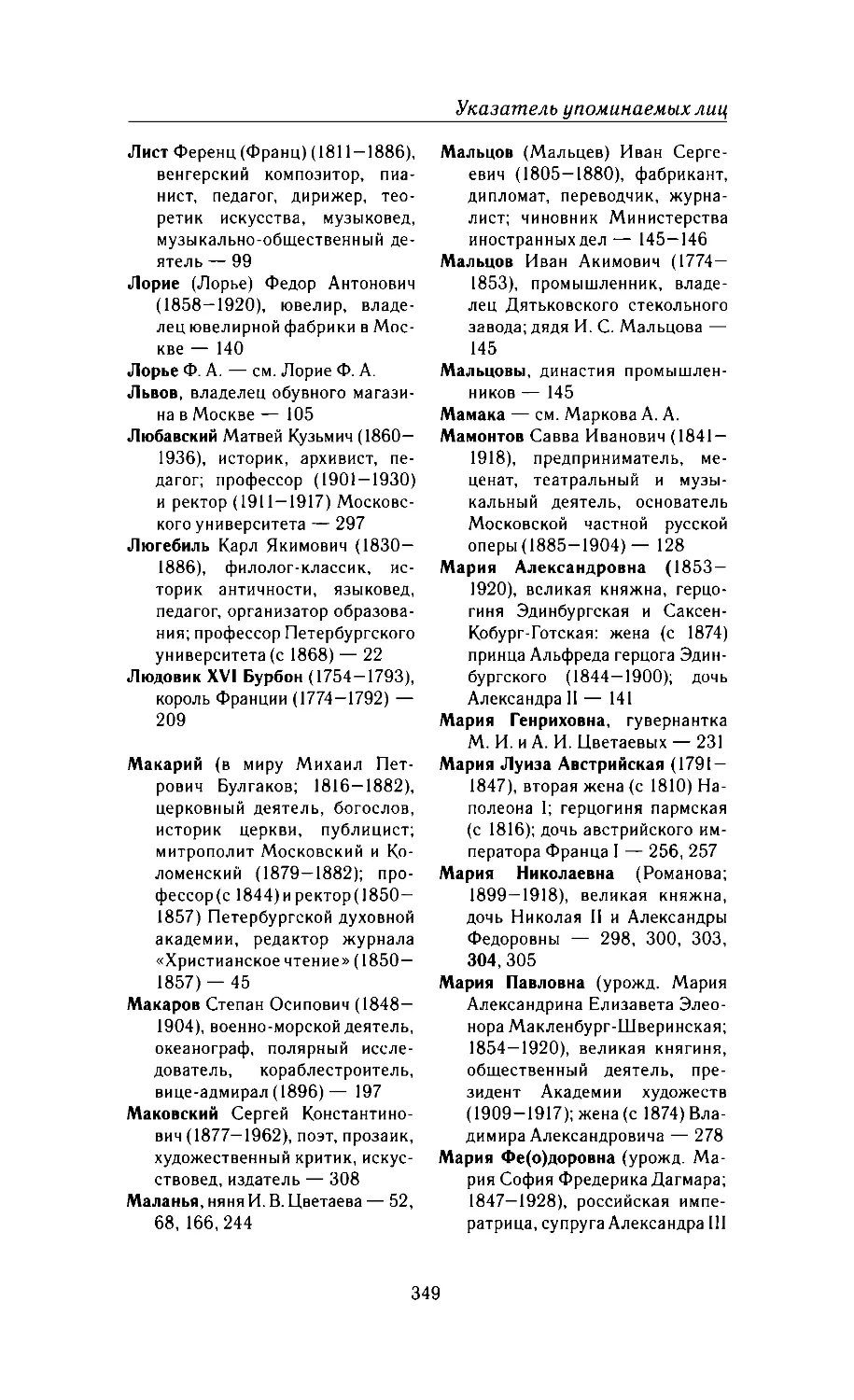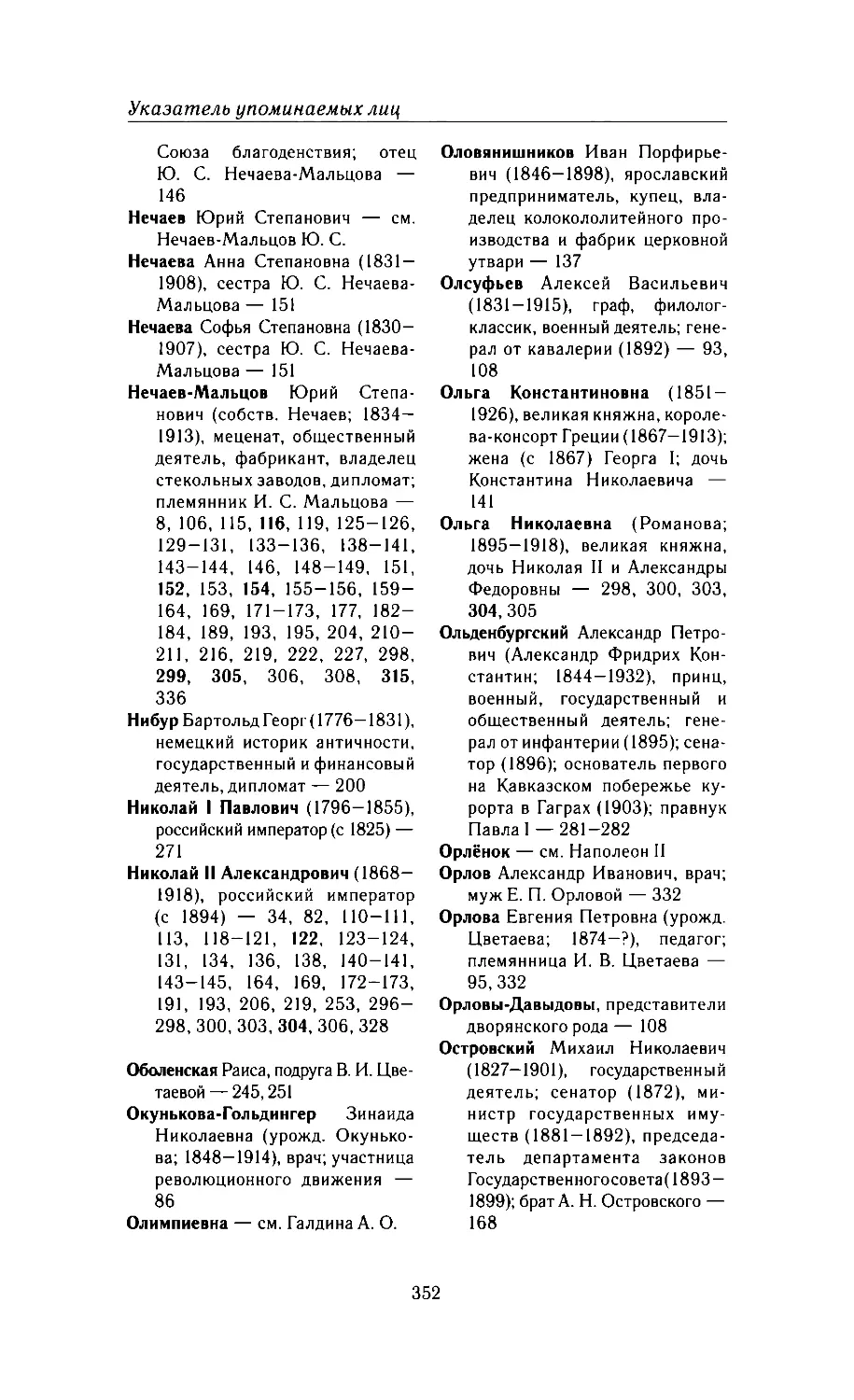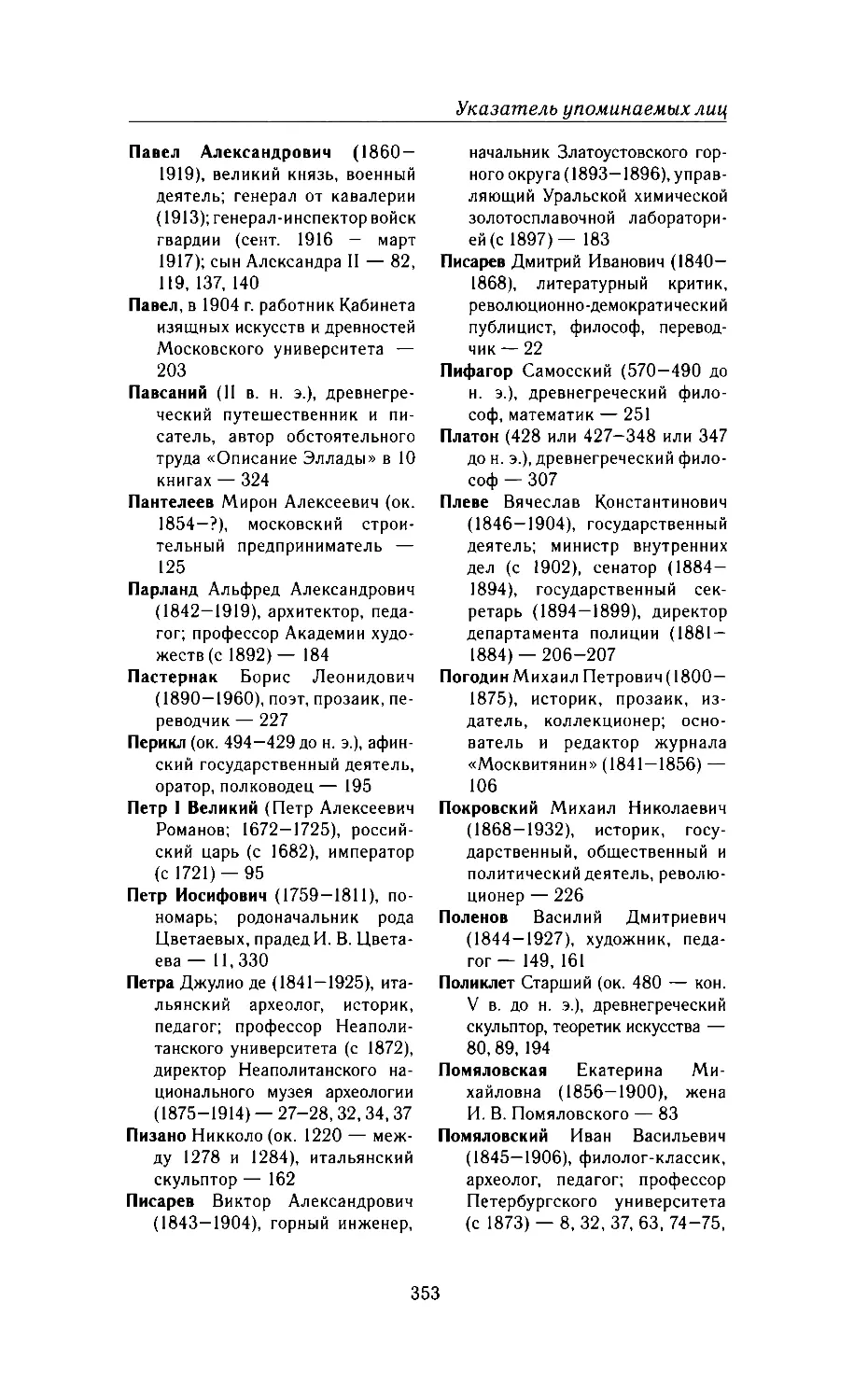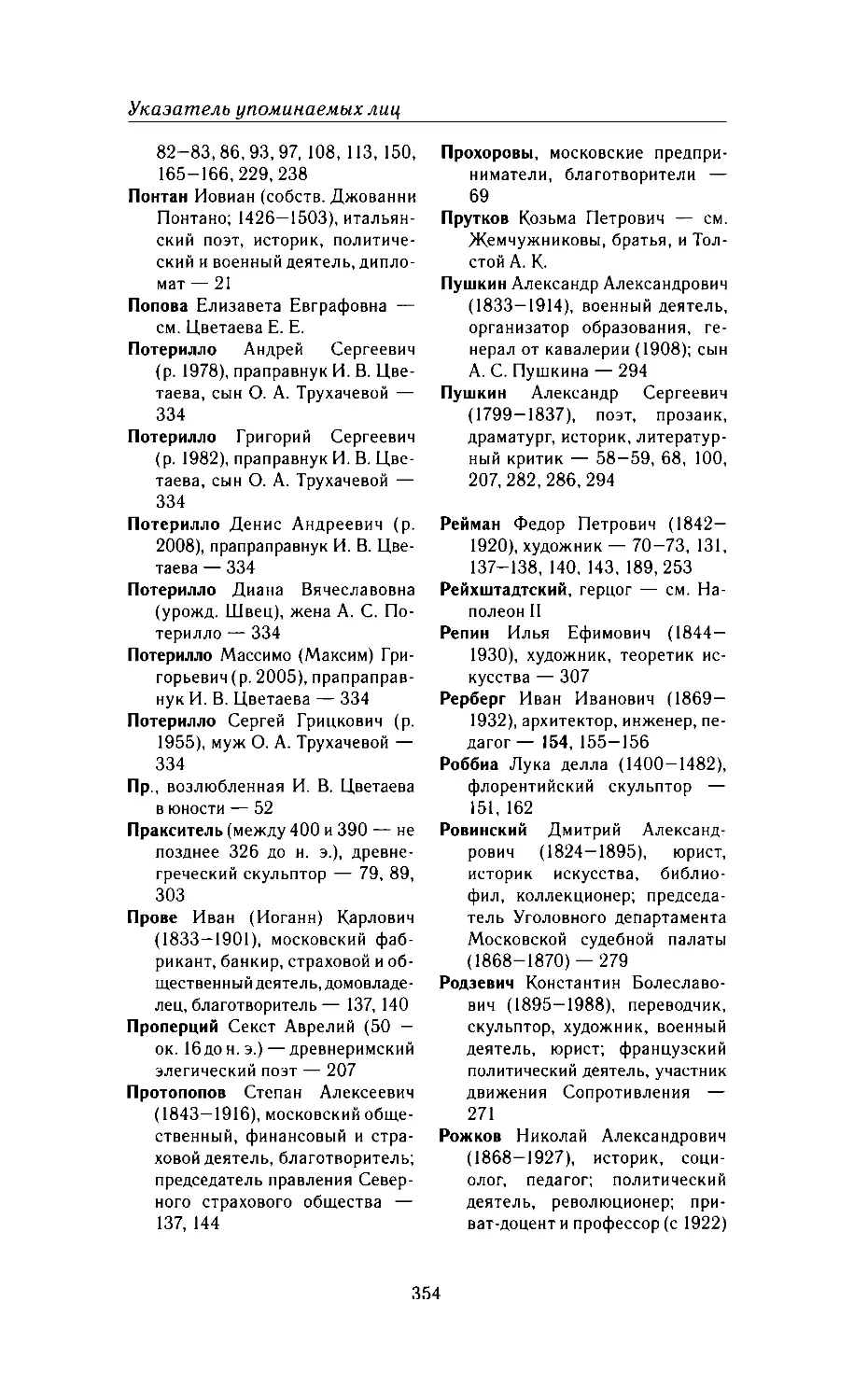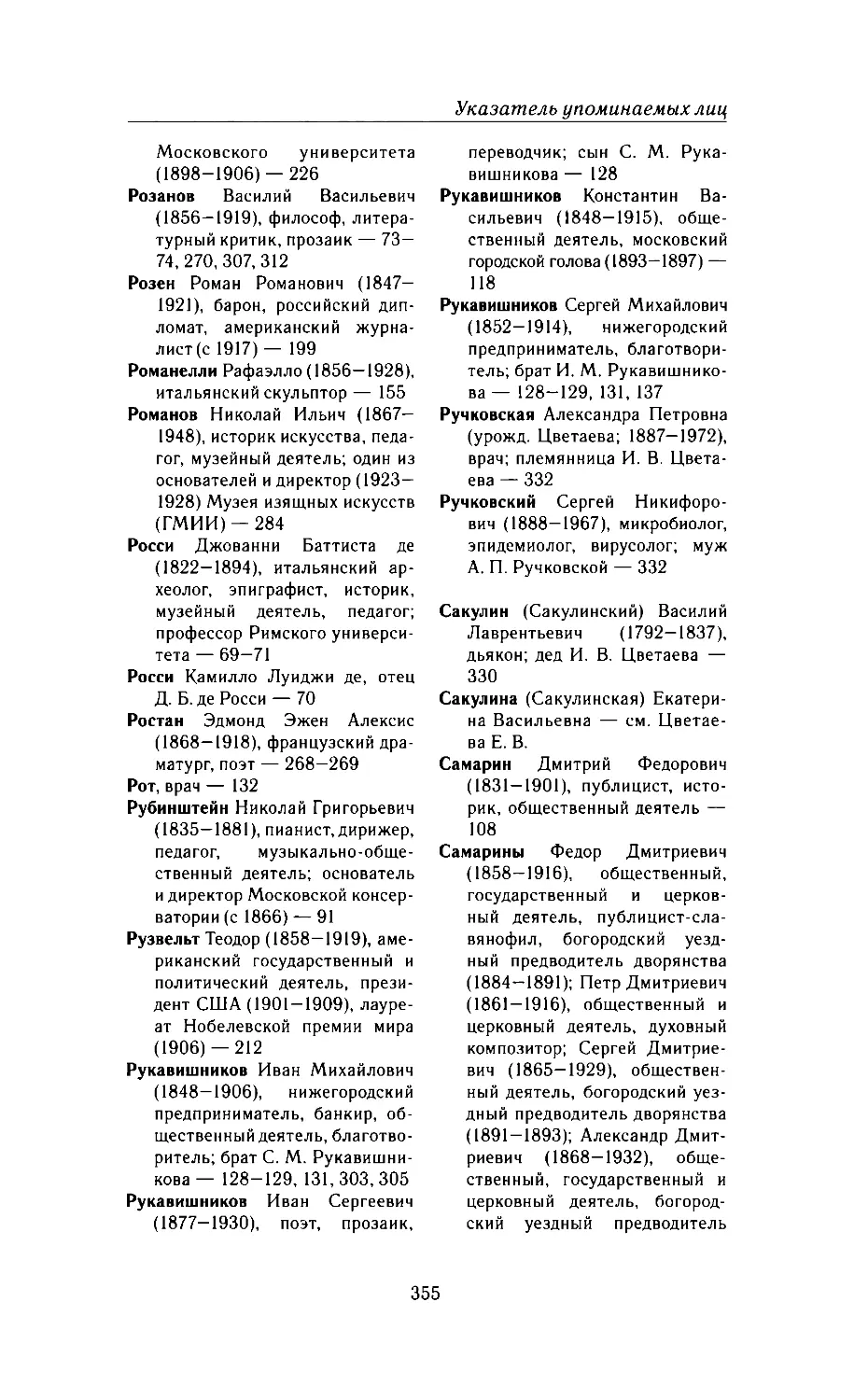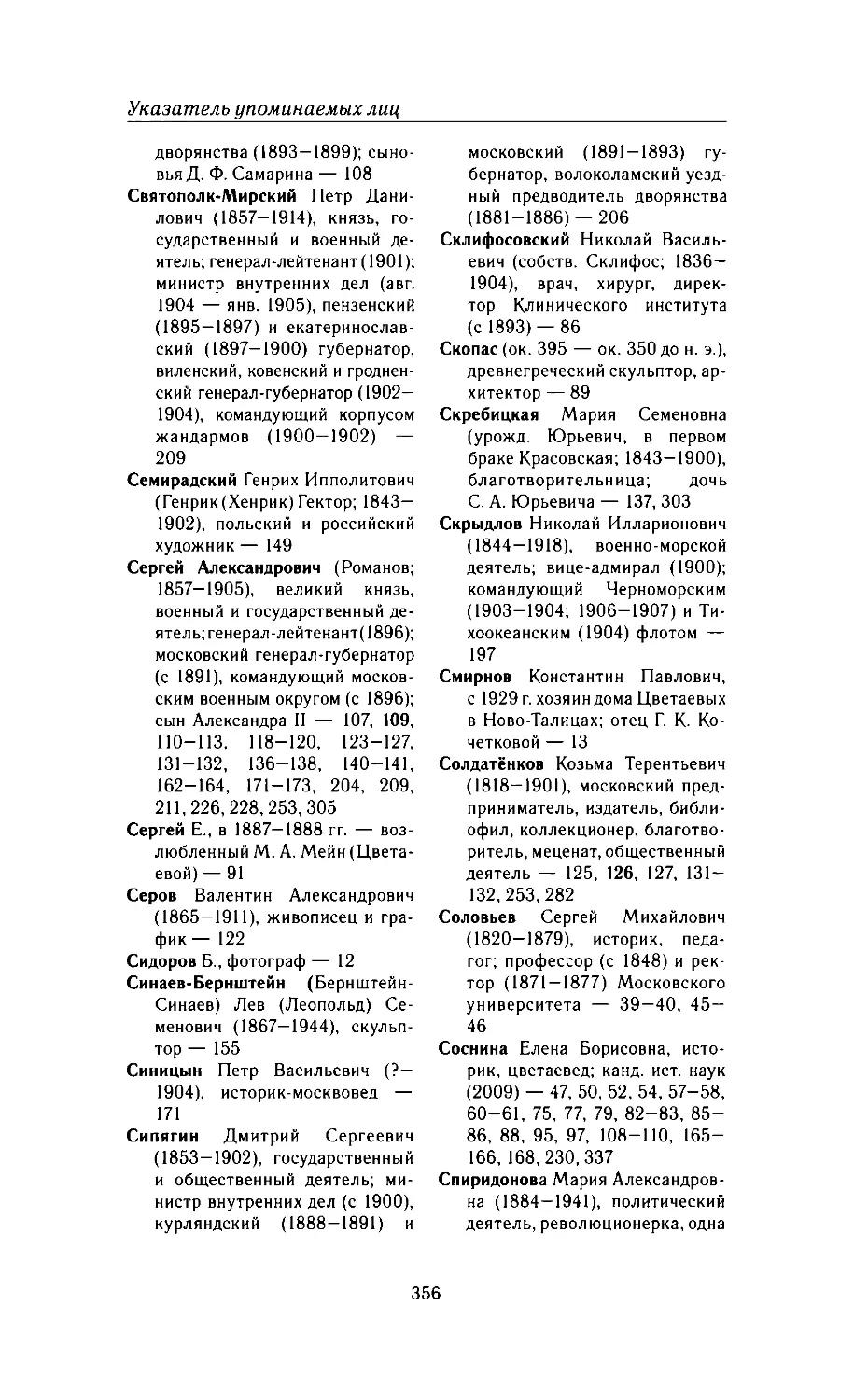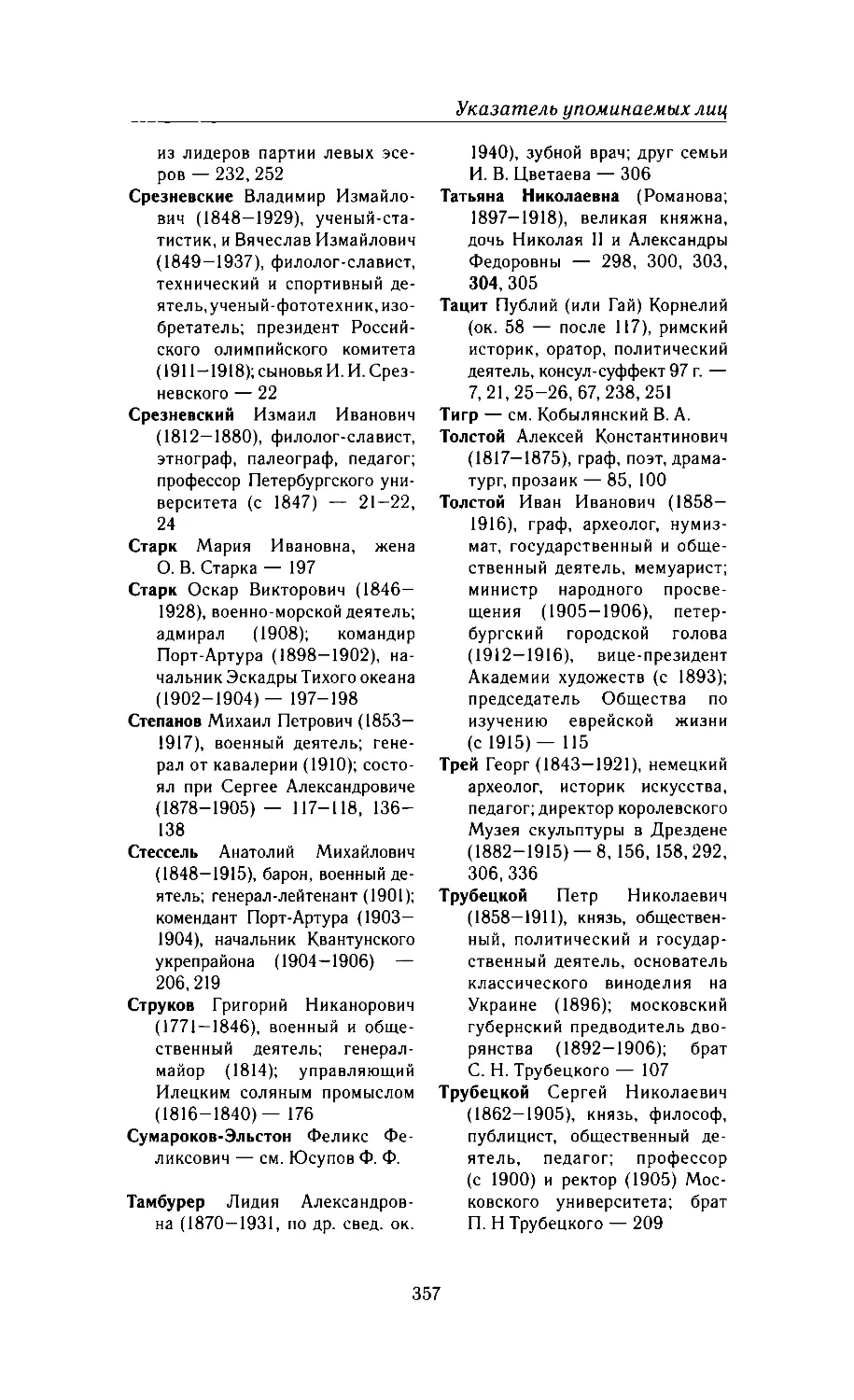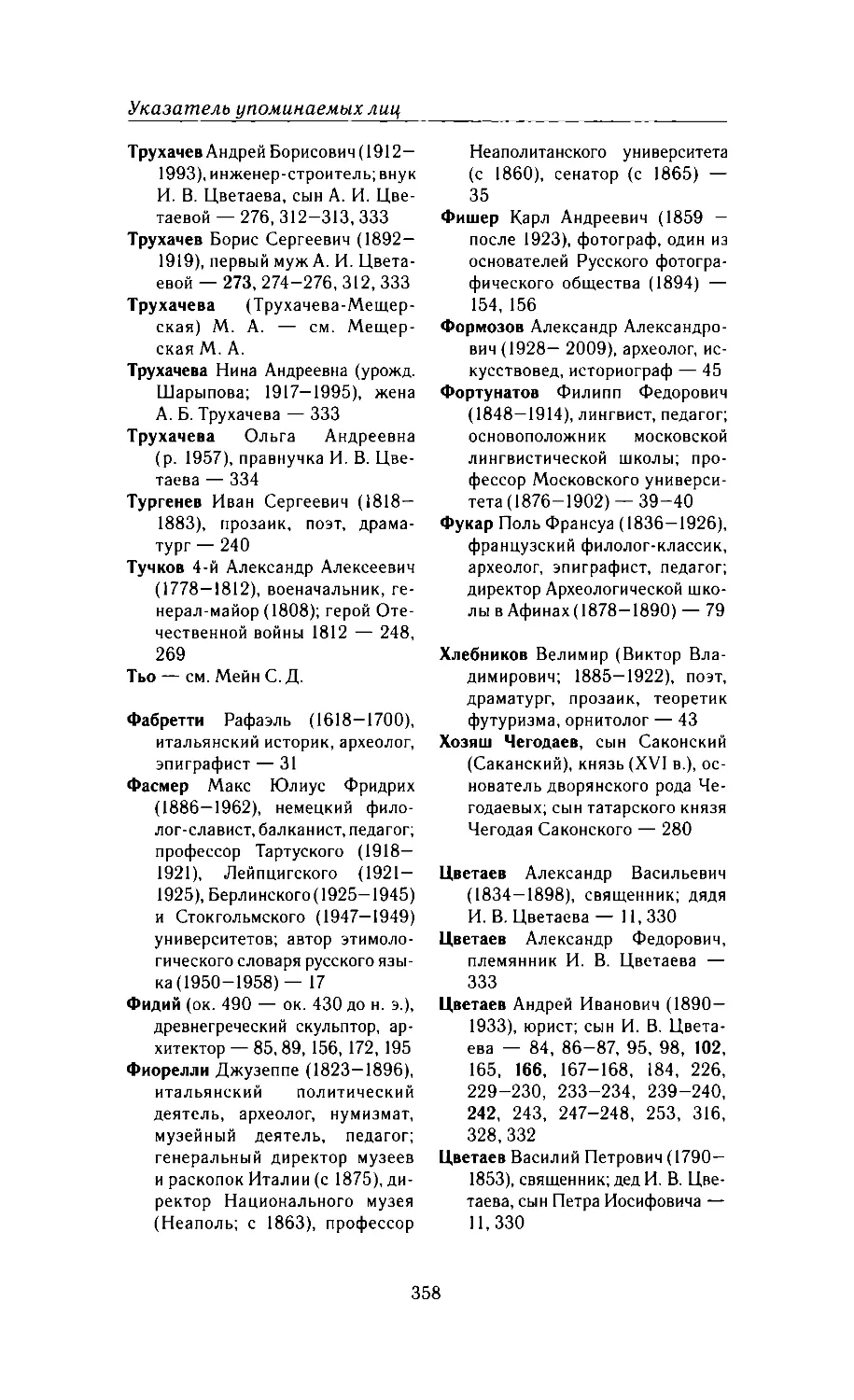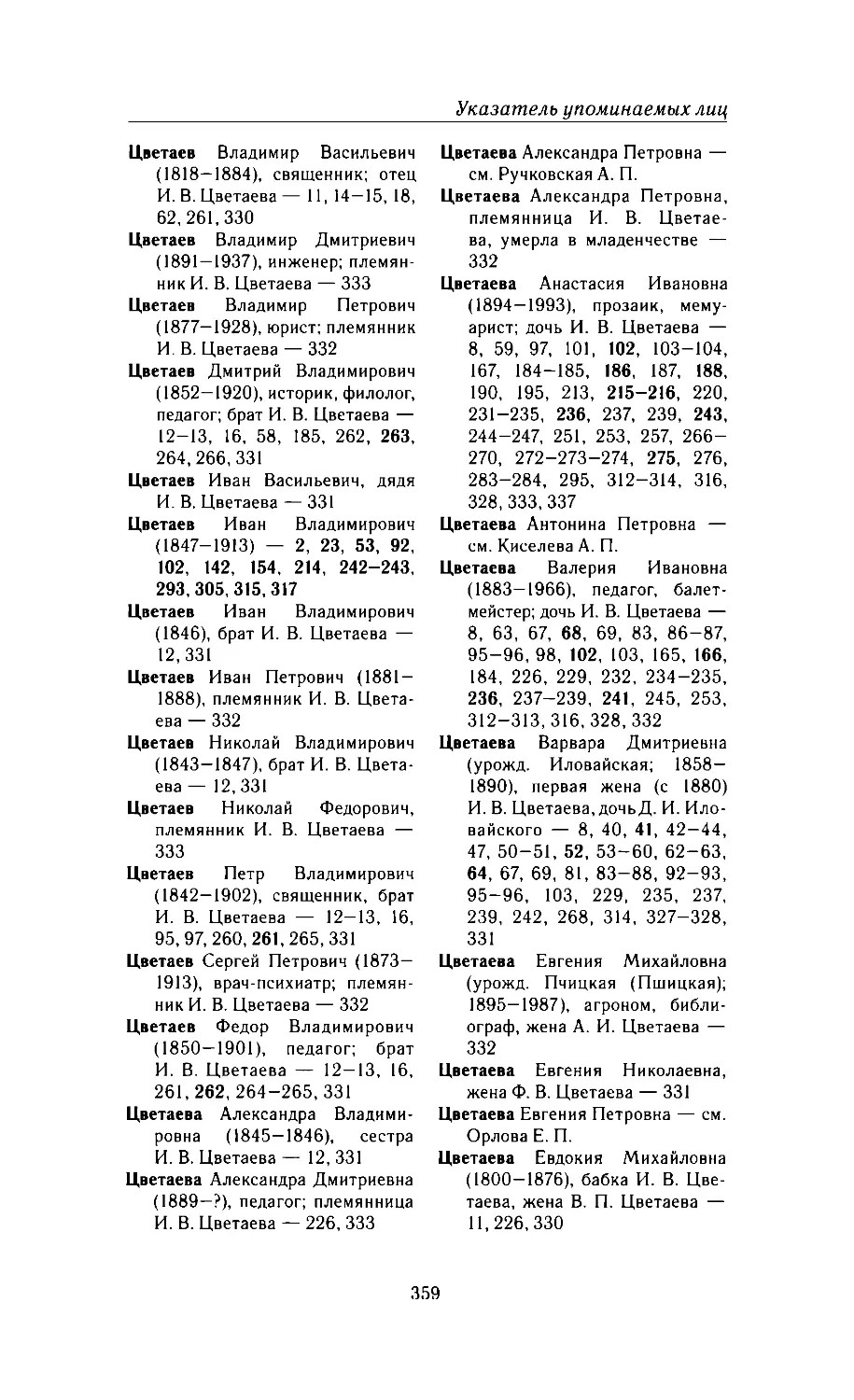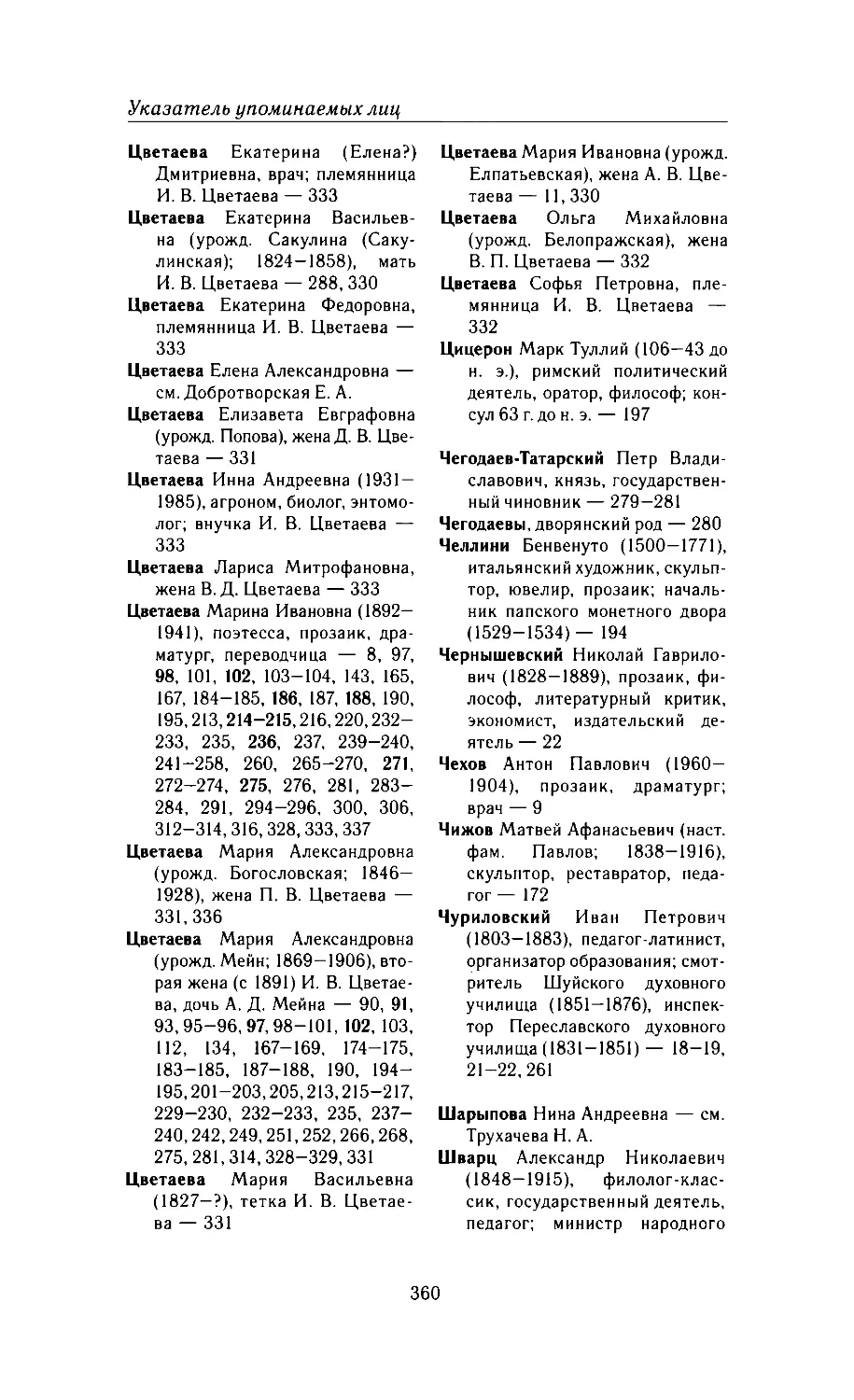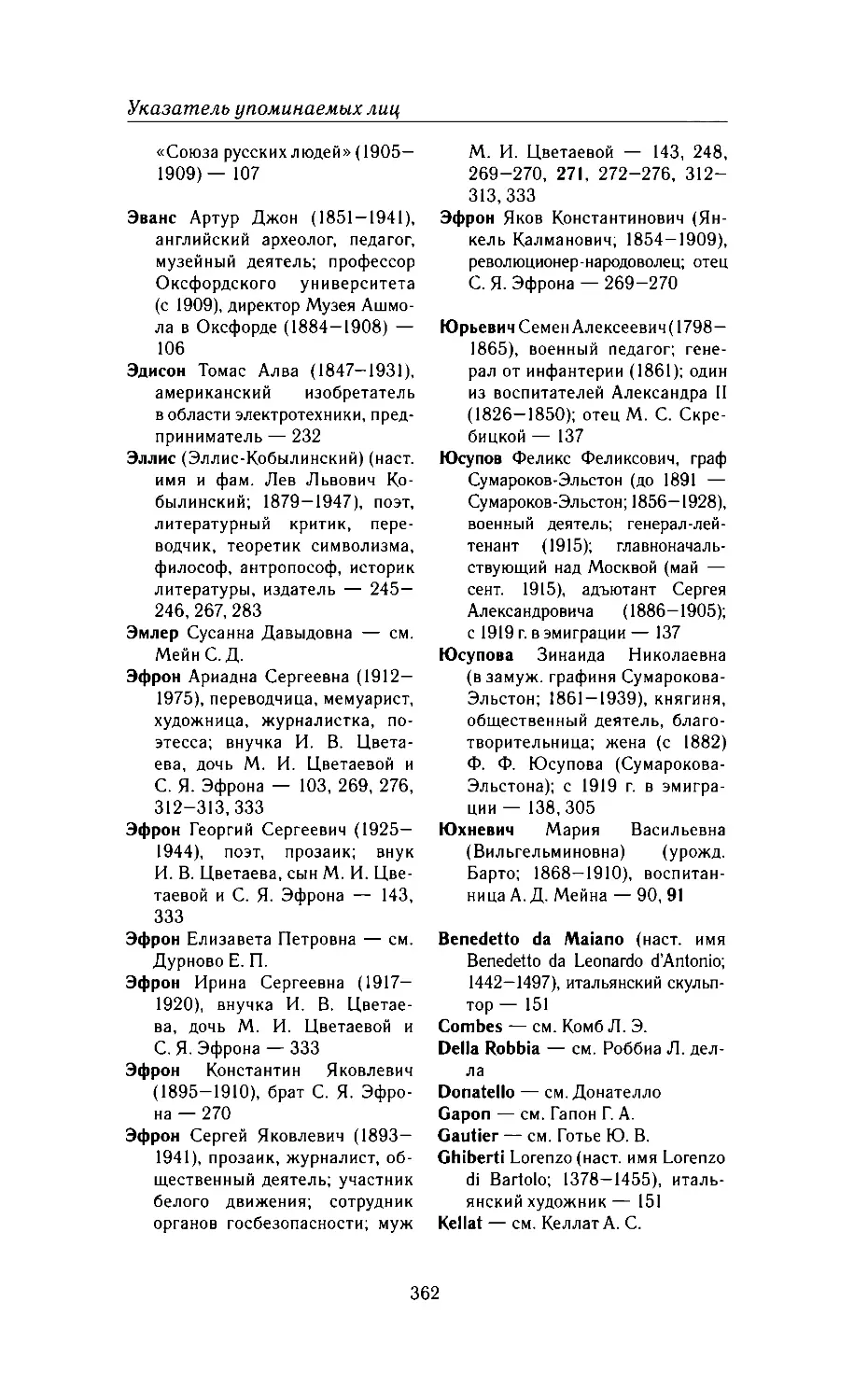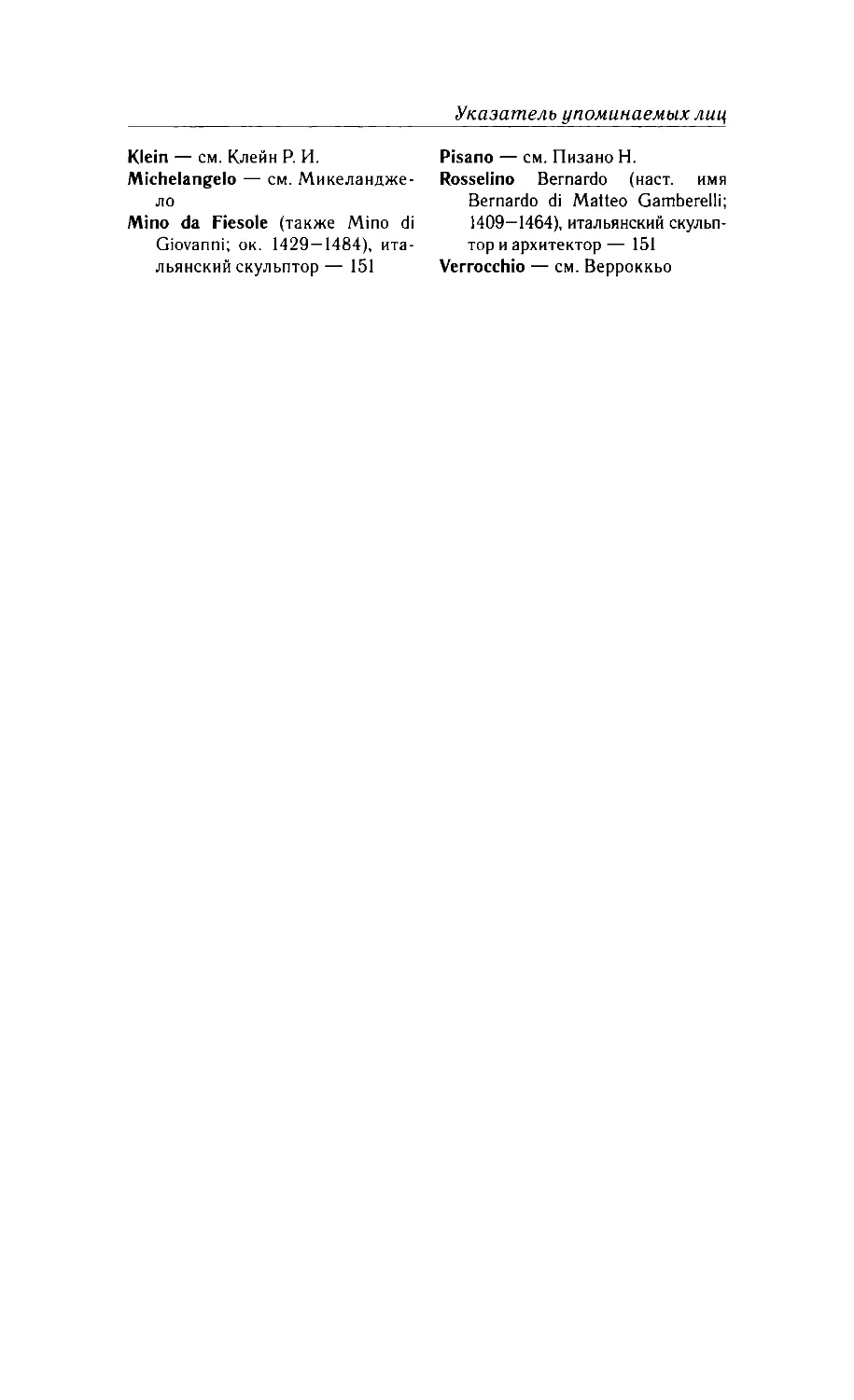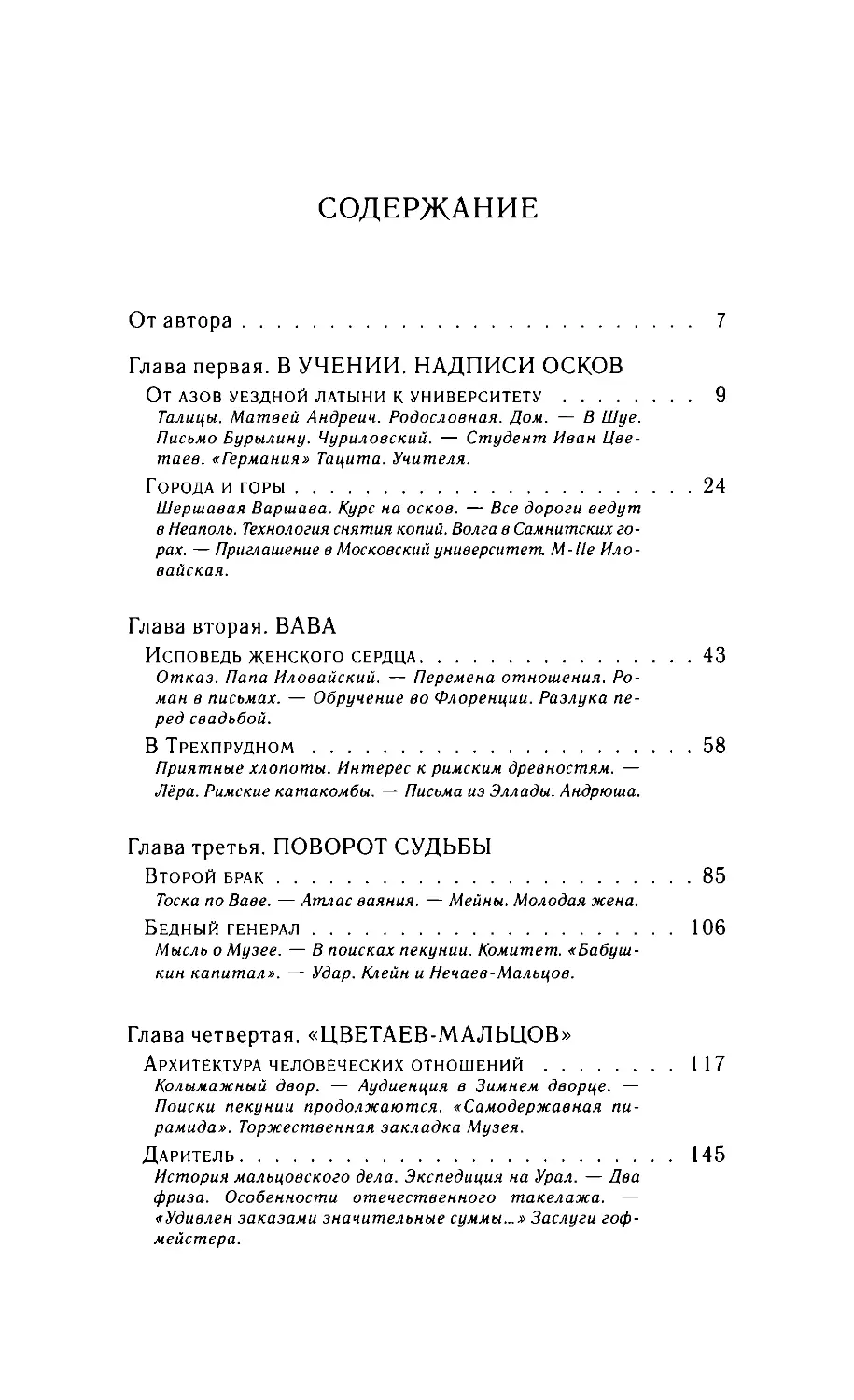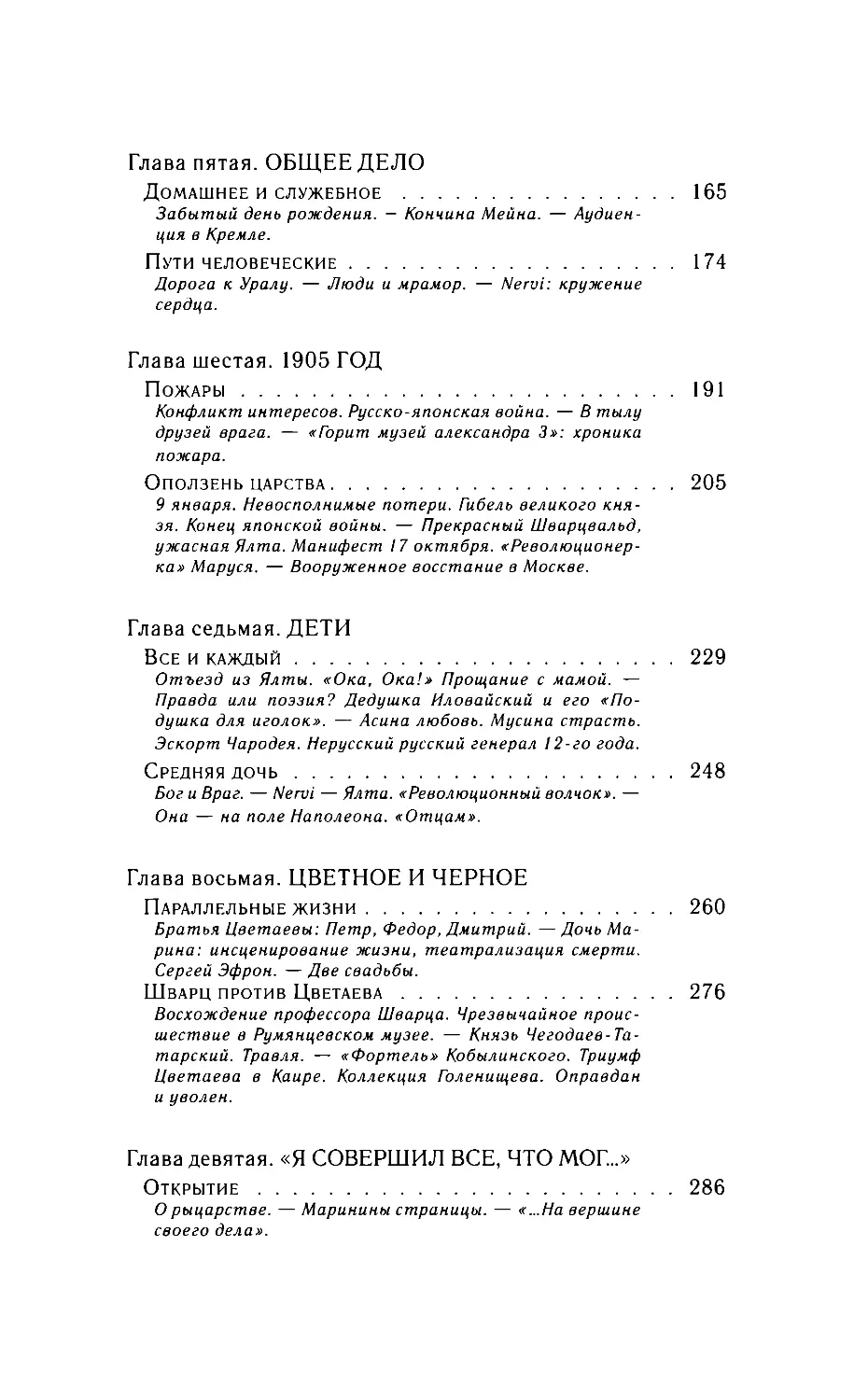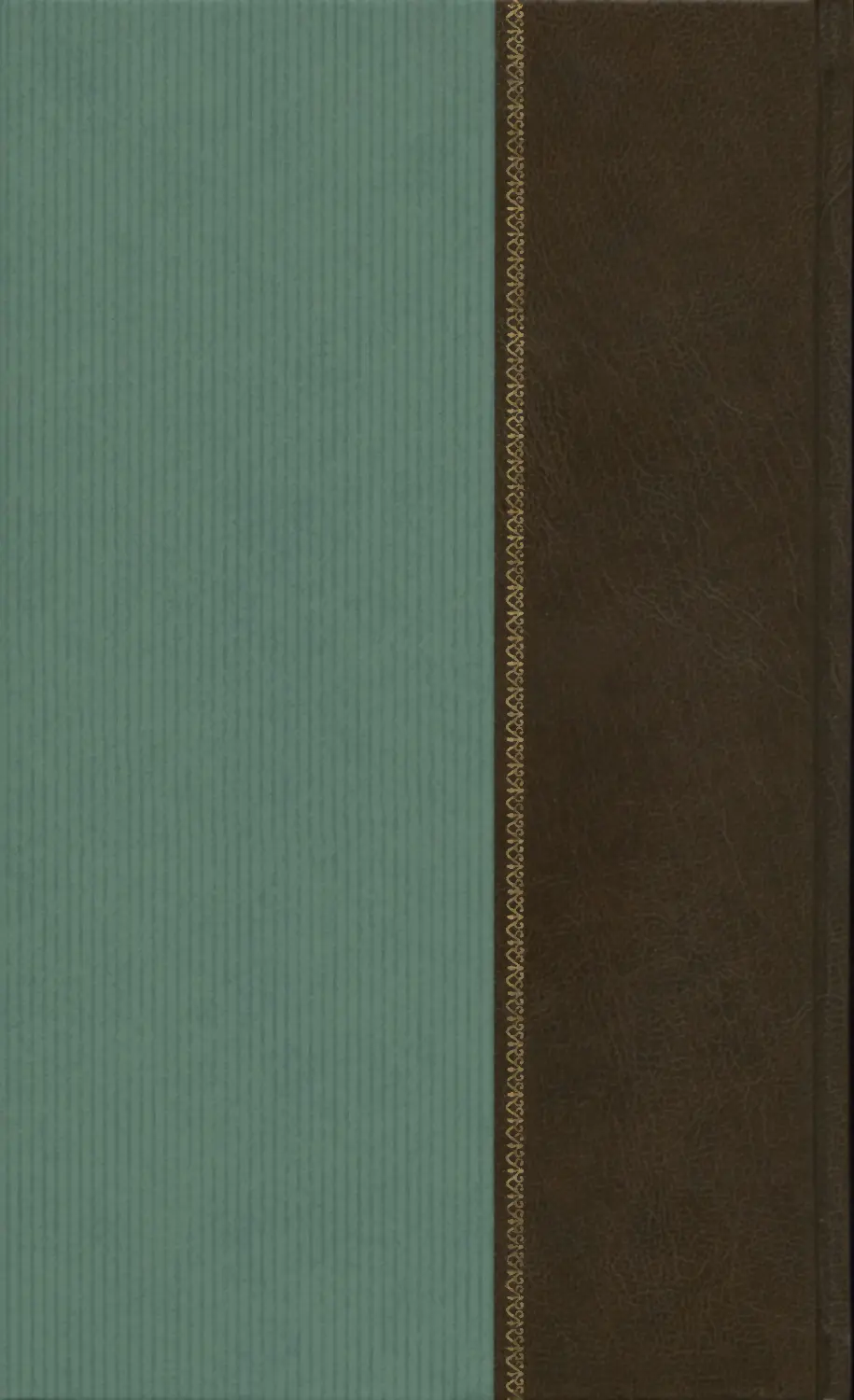Автор: Смирнов А.Е.
Теги: всеобщая история россия в конце xvii в – 1917 г история биографии
ISBN: 978-5-93898-384-7
Год: 2013
Текст
»
Алексей Смирнов *
2
Истерия жизни
ВИТА НОВА
Иван Владимирович Цветаев
Начало 1910-х
АЛЕКСЕЙ СМИРНОВ
ИВАН ЦВЕТАЕВ
ИСТОРИЯ жизни
ВИТА НОВА Санкт-Петербург 2013
УДК94(47)(092)
ББК 63.3(2)5
С506
Художественное оформление серии разработано Сергеем Бориным
Ответственные редакторы Алексей Дмитренко, Анна Райкова
Автор и издательство благодарят Елену Михайловну Кокурину — сотрудницу московского Дома-музея Марины Цветаевой за помощь в работе над этой книгой.
Смирнов А. Е.
С506 Иван Цветаев: История жизни. — СПб.: Вита Нова, 2013. — 368 с.: 121 ил. —(«Жизнеописания»).
ISBN 978-5-93898-384-7
Документальная биография выдающегося русского ученого-историка, археолога, филолога, искусствоведа Ивана Владимировича Цветаева (1847—1913), основателя Музея изящных искусств в Москве, написана специальнодля издательства «Вита Нова». Герой повествования предстает как яркая, разносторонняя личность. Знаток античного искусства, он рано приобрел европейскую известность, был доцентом Варшавского и Киевского университетов, заслуженным профессором Московского университета и почетным — Болонского, директором Румянцевского и Публичного музеев в Москве. Жизнь Цветаева наполнена непрерывными борениями с недоброжелателями, с внешними обстоятельствами. Одна из важных сюжетных линий жизнеописания — преодоление противоречивых коллизий, сопутствовавших главному предприятию жизни Цветаева — созданию Музея изящных искусств. Автор книги — известный московский писатель, литературовед, историк А. Е. Смирнов — использует многочисленные письма Цветаева, его дневник, приводит воспоминания его дочерей, одна из которых, Марина, внесла общепризнанный вклад в мировую поэзию. Издание богато иллюстрировано.
УДК94(47)(092)
ББК 63.3(2)5
Любое воспроизведение настоящей книги или отдельной ее части возможно только с письменного разрешения ООО «Вита Нова».
© А. Е. Смирнов, 2013
ISBN 978-5-93898-384-7 © «Вита Нова», художественное оформление, 2013
ИВАН ЦВЕТАЕВ
Елене Михайловне Кокуриной: чтобы радость умножить, ее надо разделить.
От автора
Перипетии судьбы кажутся нам закономерными после того, как свершаются, а по мере свершения порой представляются случайными. На какой жизненный путь мог рассчитывать Иван Владимирович Цветаев — сын и внук сельского священника с Талицкого Погоста под Иваново-Вознесенском? Более всего — на продолжение семейной традиции священнослужи-тельства и менее всего — на карьеру профессора Московского университета. Однако жизнь повела его именно по второму пути, и при всей очевидной неожиданности этой судьбы разматывание клубка ее перипетий закончится выводом: по-другому и быть не могло.
Культ высшего образования привел выпускника Владимирской семинарии Ивана Цветаева в Петербургский университет. Преклонение перед наукой и желание бескорыстно служить ей сосредоточили его вначале на критике текста «Германии» Тацита, а потом повлекли по дорогам Италии в поисках оскских надписей — памятников древнеиталийской письменности, расшифровка которой помогла пролить свет на историю латинского языка. Изучение этих надписей, сделанных на плитах и предметах домашнего обихода, которые Цветаев обнаружил в результате раскопок, заставило его обратиться к материальной культуре древних италиков. Собственных археологических находок оказалось недостаточно. Для полноты картины необходимо было ближе познакомиться с тем, что открыли предшественники. Этот интерес привел Цветаева в залы крупнейших галерей и музеев Европы и постепенно превратил его, уже знаменитого к тому времени филолога и археолога, в знатока истории искусств, прежде всего — античной архитектуры и пластики.
Будучи хранителем небогатого экспонатами Кабинета изящных искусств и древностей Московского университета, профессор Цветаев столкнулся с тем, что образцов греко-римского ваяния для обучения студентов было явно недостаточно.
Это заставило его задуматься о создании Музея изящных искусств*. Призыв Цветаева к практическому осуществлению подобной идеи был услышан, вызвал заметный отклик в обществе, привлек внимание царской семьи. Таким образом, появилась возможность развить первоначальный замысел университетского собрания копий и слепков в проект отдельного хранилища, чьи коллекции, по примеру европейских, включали бы в себя не только копии, но и подлинные произведения древнего искусства...
В 1961-м, гагаринском, году в альманахе «Тарусские страницы» я впервые прочитал стихи Марины Цветаевой**, открывшие для меня космос ее поэзии. Прошло немало времени, прежде чем я связал знаменитое теперь имя большого русского поэта с именем основателя Музея изящных искусств, славным именем, до сих пор известным в основном лишь филологам-классикам, археологам, искусствоведам. И по сей день эта связь для большинства любителей поэзии Цветаевой не является чем-то само собой разумеющимся. Попробуем же восстановить историческую справедливость и присоединить первую подробную историю жизни Ивана Цветаева к исследованной во многих деталях биографии его дочери.
Подспорьем в этом нам послужат дневник Цветаева и его богатейшее эпистолярное наследие, включающее многолетнюю переписку с архитектором Р. И. Клейном, историком и филологом В. И. Модестовым, археологом и этнографом А. А. Котлярев-ским, филологом и археологом И. В. Помяловским, меценатом Ю. С. Нечаевым-Мальцовым, немецким археологом и директором дрезденского Музея скульптуры Г. Треем. Воссоздать подробности частной жизни нашего героя нам помогут письма его первой жены В. Д. Иловайской, воспоминания дочерей: «Записки» Валерии, автобиографическая проза Марины, мемуары Анастасии.
Мы развернем перед читателем биографию сына XIX века, шагнувшего в век двадцатый в момент расцвета русской культуры, — одного из созидателей этого расцвета.
* Ныне Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина.
** Тарусские страницы. Калуга, 1961. С. 252-261.
Глава первая
В УЧЕНИИ. НАДПИСИ ОСКОВ
— Ничего, ничего, брат... — продолжал о. Христофор. — Бога призывай... Ломоносов так же вот с рыбарями ехал, однако из него вышел человек на всю Европу. Умственность, воспринимаемая с верой, дает плоды, Богу угодные. Как сказано в молитве? Создателю во славу, родителям же нашим на утешение, церкви и отечеству на пользу... Так-то.
Антон Чехов
От АЗОВ УЕЗДНОЙ ЛАТЫНИ К УНИВЕРСИТЕТУ
Талицы. Матвей Андреич. Родословная. Дом. —
В Шуе. Письмо Бурылину. Чуриловский. — Студент Иван Цветаев. «Германия» Тацита. Учителя
1
Сразу за городом Иваново (бывшим Иваново-Вознесенском) по дороге на Ярославль стоит поселок Талицы, некогда — село Талицкий Погост.
Большой здешний храм обозначен видной издалека колокольней. Построен он на средства помещика, отставного контр-адмирала Никифора Молчанова в середине XVIII века. В ту пору Талицкий Погост со своей Николаевской церковью был сердцем обширного прихода. Но потом приход сократился, обеднел, и храм пришел в упадок.
В этих местах, как и всюду вокруг, велико было влияние раскола. Чтобы это влияние изжить, епархиальные власти предложили причету искать новые приходы. Однако причет, к тому времени уже весьма ветхий, в иные веси подаваться не стал и доживал свой век в родных Талицах, у отеческих гробов, дабы в назначенный срок и самому лечь тут же — поблизости от намоленных предками икон.
Старики эти были малограмотны. Слезящимися слабыми глазами они разбирали еще кое-как церковнославянский язык богослужебных книг, а вот писать за утратой навыка почти разучились. Сыскался все же среди них один дьячок — отменный каллиграф и начетчик (церковный чтец), почтенно именуемый Матвеем Андреичем. Многие годы на версты и версты окрест был он единственным учителем грамоты, собирая вокруг себя крестьянских детей — не только мальчиков, но и девочек, — чтобы выучить их чтению и письму. Вспоминая о нем, своем первом учителе, Иван Владимирович Цветаев напишет: «В зимнее и осеннее время тесный домишко его служил для учеников более отдаленных селений и местом ночлега»*. Способ обучения у Матвея Андреича был простым: повторяй за мной, пока не затвердишь. «Неизменно тихий и обыкновенно как-то всегда грустно настроенный, он тоненьким и монотонным голоском учил своих питомцев, не прибегая ни к каким крутым мерам наказания за рассеянность, шалость или непонятливость. Повторяя терпеливо бесконечное число раз склады по той старинной, крайне сложной, трудной и неразумной методе, о которой, к счастью, и слабого представления не имеет нынешнее молодое поколение, он все же добивался своего: ученики его на третью зиму выучивались читать псалтырь и гражданскую печать, приобретали затем у него же некоторый навык в письме, числовых знаках и церковном пении»**.
Поскольку ни о каких школах здесь и не помышляли, то кончина дьячка прервала народное просвещение во всей округе. Был учитель — была учеба. Не стало учителя — и учеба кончилась. «Разве какая-нибудь старая дева, начетчица из старообрядцев, да отставной солдат где-нибудь, в своем захолустье, втихомолку передавали свои скудные познания в грамоте тому или иному ребенку»***.
В середине XIX века вместо заведений учебных вблизи Талицкого Погоста процветали заведения питейные. Слова «школьник» не ведал никто, но каждый знал слово «шкалик». Легальные и тайные кабаки торговали день и ночь. «Ругань, сквернословия и даже кровавые драки пьяного люда, совершавшиеся на рубеже церковной земли и подле самого храма, мимо ограды которого <пролегала> большая дорога, сплошною и грустною полосою встают теперь в моем воспоминании об этих давно минувших годах»****, — напишет И. Цветаев.
* Цветаев И. В. Прежде и теперь. Картинка одной народной школы. Цит. по: Кочеткова Г К. Дом Цветаевых. Иваново, 2008. С. 219.
** Там же.
*** Тамже. С. 220.
**** Там же.
Церковь Иоанна Богослова в селе Стебачево 2010
Свое происхождение род Цветаевых ведет от бесфамильного пономаря Петра Иосифовича. Известно о нем мало. Родился в 1759 году. Служил в Воскресенской церкви села Матренино Покровского уезда Владимирской губернии. Умер в году 1811-м.
Первым носителем фамилии Цветаев стал его сын Василий Петрович — священник храма Иоанна Богослова в селе Стебачево Суздальского уезда Владимирской губернии. Часто фамилии священников связывались с церковными праздниками: Рождественские, Преображенские, Успенские, Вознесенские... Давались фамилии и по душевным качествам: Боголюбовы, Добронравовы, Добросердовы... Фамилия Цветаев выделяется среди прочих. В ней слышится цветение русской весны и зимнее таяние. Она не столько церковно-торжественная, сколько природно-радостная. Она родственна не только храму, но и саду. Может быть, монастырскому с веселым цветником и приветливым садовником.
Женат отец Василий был на Евдокии Михайловне, родившей мужу трех сыновей и дочь. Дядя Ивана Цветаева, Александр Васильевич, служил священником Покровской церкви села Зиновьево Александровского уезда Владимирской губернии, продвигался по церковной иерархии: стал благочинным, потом протоиереем. Женился на Марье Ивановне Елпатьев-ской, дочери священника.
Старший сын Василия Петровича, Владимир Васильевич (отец Ивана), родился в 1818 году и был на шестнадцать лет старше брата. Он тоже не изменил семейной традиции: служил
Село Дроздово.
Дом священника, в котором жили Цветаевы в 1841-1852 гг. Фотография Б. Сидорова. 195()-1960е
в Воскресенской церкви села Дроздово под Шуей, а затем в Николаевской церкви погоста Талицы, куда переселился с женой Екатериной Васильевной и детьми. Всего в их семье родилось семеро детей, но трое рано умерли. Выжили четыре брата: Петр, Иван, Федор и Дмитрий.
Ваня, родившийся в Дроздове 4 мая 1847 года по старому стилю (или 17 мая по новому), приехал в Талицы шести лет от роду.
Семья обосновалась в крепком бревенчатом доме с мезонином. Он сохранился и поныне. Дом с хозяйственными пристройками длинно вытянут вдоль высокого берега речки Вергузы по соседству с храмом. Вергуза — узкая, петлистая. Противоположный берег — низкий. За ним — лес.
Новое жилище Цветаевых было весьма просторным. Кухню занимали русская печь, лавки вдоль стен, рукомойник с медным тазом на железной треноге. В столовой — дощатый стол, диван, изразцовая печь-лежанка. Лежанку украшал бело-голубой изразец: контур античной вазы, хорошо запомнившийся впечатлительному Ивану. Гостиную, заполненную мебелью из красного дерева, от веранды отделяла стеклянная дверь. Часть кабинета занимал письменный стол под зеленым сукном на фигурных ножках. В красных углах каждой комнаты перед иконами горели рубиновые лампадки. Время отмеряли ходики. Чай, как водится, пили из медного самовара. А в дворовых пристройках размещались коровник и курятник, конюшня и баня.
Вид на Николаевскую церковь в селе Талицы Начало XX в.
Вот обстановка, которая окружала Ваню в детстве. Она сохранилась только потому, что из уважения к бывшим хозяевам переселившаяся в 1929 году в опустевший дом Цветаевых семья Константина Павловича Смирнова оставила все, насколько возможно, в первозданном виде*.
Может показаться, что Цветаевы жили в достатке, но достаток этот был очень относительным. Приход небогат. Жена (дочь дьякона) — бесприданница. Доходы с треб и пожертвований невелики. А дети — мал мала меньше: Петя, Ваня, Федя, Митя. Родительские тревоги и заботы им неведомы. Веселясь, гомонят они по комнатам, выбегают на крыльцо и кубарем скатываются друг за дружкой по крутому откосу к реке...
В Талицах у отца Владимира не стало матушки — матери его сыновей. Она скончалась тридцати четырех лет. Но уныние — грех. Надо жить. А жизнь требует труда. Как ни тяжек удел черного монаха — затворника тесной кельи или удаленного скита, все же он ответствен лишь перед Богом. Жены у него нет. Детей нет. Тяготы и соблазны мирской жизни не нарушают покой его молитвенного созерцания, растворен-ности в Бытии. Другое дело — сельский батюшка-земледелец. Обремененный большим семейством, он постоянно пребывает еще и в гуще прихожан, среди людской круговерти с ее
Подробно об этом см.: Кочеткова Г. К. Дом Цветаевых.
Дом священника В. В. Цветаева в селе Талицы
1928
Село Талицы. Вид с балкона дома Цветаевых Начало XX в.
страстями и неустройством, недугами и жалобами. Его Бытие обрастает бытом. Служба не дает ему возможности прокормить семью. Надо выживать, изыскивая при этом средства на починку ветшающих стен и сводов, на поновление иконостаса. Плата за требы столь скудна, что без собственного хозяйства не выжить. А потому после литургии священника ждет сенокос; после молотьбы — церковная проповедь. Отец Владимир нанимает помощника, чтобы справляться с полевыми работами, а на молотьбу зовет в подмогу пономаря и его сына, чтобы потом у того же пономаря обмолачивать то же число овинов. Так по обычаю сельского причета и справлялись в поле: «толокой», артельно, а завершалась работа общим угощением. «Во исполнение Апостольского завещания возлюбим друг друга, да единомыслием в соединении душ и сердец прославим и исповедуем Триипостасного Бога, да возможем достойно нарицатися чадами Божией благодати, учениками и последователями Иисуса Христа»*.
2
Для детей сельского священника единственный способ выбиться в люди состоял в получении образования. Сыновья священнослужителей имели сословную привилегию при поступлении в духовные училища и семинарии. Предполагалось, что по окончании этих учебных заведений хотя бы часть учеников пойдет по стопам своих отцов. Впрочем, ни для кого не был закрыт и светский путь.
После того как дома дети освоили грамоту, отец Владимир отправил сыновей в ближайший уездный город Шую, в Шуйское духовное училище, где вкусившие домашней вольницы и ласковой родительской опеки братья попали в неволю казеннокоштной бурсы. Слава о несладком житье бурсаков гуляла по всей России: на Дону «бурсаком» даже назвали сухарь.
В первом классе Шуйского духовного училища было не двадцать ребят (как надо бы) и не сорок (как не надо бы), а семьдесят! Жили мальчики на кухнях у мещан и причетников. Часто по восемь-десять человек спали вповалку на полу. Питались так скудно, что чувство голода преследовало их постоянно. В конце жизни, вспоминая эти годы, Цветаев напишет своему другу, знаменитому египтологу Владимиру Семеновичу Голенищеву, с детства не знавшему нужды:
* О. Владимир Цветаев. Слово на день Иоанна Богослова // Российский государственный архив древних актов. Ф. 364. Д. 334.
Вид Шуи. Начало XX в.
В моем отрочестве, в годах до университета нищета и жестокая суровая школа провинциальных школьников... Можете, а Вы даже и не можете представить, какие были помещения, одежда, питание школьника...*
На каникулах отец приезжал за сыновьями, чтобы забрать их в Талицы. Усаживал в повозку, укладывал детские узелки, сам садился где придется и бережно вез своих мальчиков домой. Но каникулы, как все хорошее, пролетали быстро, и наставала пора возвращаться «к наукам».
Для Вани само учение не было каторгой. Оно с малолетства доставляло ему радость. Каторгой были условия обучения, быт бурсаков.
Как учили?
Требования твердых знаний и полного послушания подкреплялись телесными наказаниями (хоть дни розги и были сочтены, но на долю братьев Цветаевых она еще выпала). Врач и писатель Сергей Яковлевич Елпатьевский, учившийся вместе с Дмитрием Цветаевым чуть позже Ивана, рассказывал, что редко на уроках дело обходилось без наказания. Обыкновенно не один, а пять-шесть учеников за урок «ложились под розгу»**. Правёж настолько вошел в обиход, что у многих детей выработалось «философское отношение» к порке как к чему-то неизбежному. Ну, мол, выпороли... Ну и что? Зато не зубри, не мучься... Вряд ли Ваню коснулась такая «закалка»: учился он хорошо и нрава был тихого. Напротив, в награду за успехи и усердие ему подарили книгу «Руководство к познанию древней истории». Однако страдание или бравада других мальчиков — озорников, лодырей или малоспособных к учебе — вызывали в прилежном ученике не злорадство, а сострадание, не кичливость собой и своим умом, а еще большее трудолюбие, скромность, сдержанность. Он не был выскочкой. Он не лез на глаза. Лишенный высокомерия, он подкупал и товарищей, и учителей необыкновенной тягой к знаниям. Наука стала его кумиром уже тогда, когда он только осваивал азы уездной латыни. Ни тоска бурсацкой зубрежки, ни готовая вот-вот просвистеть в воздухе розга не могли поколебать в его глазах авторитет науки.
Согласно словарю Фасмера, слово «наука» родственно словам «навык», «привыкать». Кроме того, слово «наука» тяготеет к древнеиндийскому «ucyati» — «находить удовольствие»***.
* Письмо И. В. Цветаева В. С. Голенищеву от 24 января 1911 г. // Париж-ский центр В. С. Голенищева. Ксерокопия в архиве ОР ГМИИ.
** НИОРРГБ.Ф. 356.3.42. Л. 47.
*** Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Т. IV. М., 1987. С. 180.
Формирование у ребенка привычки, а вслед за ней любви к науке и возможности получать от нее удовольствие во многом зависит на первых порах от хорошего учителя.
Об этом Иван Владимирович напишет на склоне лет, откликнувшись на просьбу иваново-вознесенского «ситцевого короля» Дмитрия Геннадиевича Бурылина прислать автобиографию для издаваемой им «Истории города Иваново-Вознесенска». Цветаев пишет о себе в третьем лице.
Детские годы его... прошли в погосте Талицах, в семи верстах от Иваново-Вознесенска, куда почтенный о. Владимир Цветаев, пользовавшийся особым уважением целой округи, был переведен на службу. Первоначальной школой служило ему Шуйское духовное училище, в 50-х годах прошлого века находившееся под управлением Ив<ана> Петр<овича> Чуриловского, замечательно-доброго и разумного старца, педагога, в жизни не знавшего других интересов, кроме пользы своих учеников. Получая 300 руб<лей> в год содержания, И. П. Чуриловский отдавал ученикам не только все будни, но и воскресенья и праздники, когда он (разумеется, бесплатно) собирал к себе в единственную комнатку, служившую ему квартирой, лучших учеников для упражнений в переводах латинских авторов. И. П. Чуриловскому профессор И. В. Цветаев обязан любовью к латинской литературе и научным занятиям вообще*.
Иван Владимирович понимал, что дорогие ему строки об отце и самоотверженном учителе латыни могут не войти в краткую биографическую справку, как необязательные лирические отступления, поэтому к письму Д. Г. Бурылину он прибавляет постскриптум:
Р. S. Усерднейше прошу не исключать написанного мною об отце моем Владимире Васильевиче Цветаеве и о моем учителе И. П. Чуриловском: это были, воистину, редкостные, исключительные люди, каждый в своей жизненной доле**.
Своим самозабвением и бескорыстием смотритель духовного училища Иван Петрович Чуриловский, знаток древних языков, напоминал талицкого дьячка Матвея Андреича. Дополнительные бесплатные занятия латынью Чуриловский устраивал в те годы, когда реформа российского гимназического образования, вызванная страхом перед революционными событиями в Европе, резко сократила долю латыни и особенно древнегреческого, как предметов, способных зародить в учениках
* Кочеткова Г К. Дом Цветаевых. С. 241, 243.
** Там же. С. 241.
Здание Шуйского духовного училища Конец XIX— начало XX в.
дух республиканских свобод. Правительство повело борьбу с «архаичными» и опасными предметами, увеличивая за их счет число часов, отводимых на точные науки. Однако увлеченность Чуриловского латынью успела передаться Цветаеву, искавшему не столько актуальной пользы естественного знания, сколько глубины культурных корней.
Чуриловский прожил долгую жизнь, но старость его была печальной. После несправедливого увольнения с должности он заболел душевно и окончил свои дни в Боголюбовском монастыре на Нерли, тогда как его ученики показывали блестящее знание латинского языка на вступительных экзаменах в семинарию.
В Шуйском духовном училище и Владимирской семинарии Иван Цветаев получил знания, необходимые будущему священнику: он изучал Священное Писание, герменевтику (толкование текстов), историю Церкви, христианскую археологию, догматическое, нравственное и пастырское богословие, пасхалию (определение времени подвижных по срокам православных праздников), а также латынь, древнегреческий, древнееврейский, немецкий и французский языки. Однако путь церковного служения не привлекал его. В те годы семинаристы искали себя не только в священнослужительстве, но и в светских науках (медицине, математике, филологии, педагогике), в литературе. Иван выбирал между медициной и преподаванием. Поначалу выбор его пал на Медико-хирургическую академию в Петербурге, однако проучившись в ней совсем недолго,
он сменил ее на классическое отделение историко-филологического факультета Петербургского университета. Любовь к слову, к миру греко-римской древности пересилили желание посвятить себя врачебной практике.
3
Осенью 1861 года в Санкт-Петербурге прошли массовые волнения учащихся, подхваченные другими студенческими городами. Оппозиционно настроенное студенчество потребовало либерализации университетского устава. Организаторы волнений были заключены в Петропавловскую крепость. Столичный университет, как очаг беспорядков, временно закрыли. Но пересмотреть устав правительство обещало. Дело, однако, затягивалось. Через два года учащиеся взбунтовались вновь, и устав был пересмотрен.
В этих столкновениях студентов с правительством профессора занимали промежуточную позицию. В связи с тем что борьба шла за автономию высшей школы вообще и корпорации профессоров в частности, внешне оставаясь лояльной правительству, профессура по существу была заодно со студенчеством, хотя едва ли одобряла его воинственный радикализм.
Новый университетский устав заметно расширил полномочия университетов. Теперь всеми текущими делами управлял не министр народного просвещения, а совет профессоров каждого учебного заведения. Совет выбирал ректора и проректора, деканов и заведующих кафедрами; утверждал диссертантов в ученых степенях; сам решал, какие предметы обязательны для учащихся, а какие нет.
Свобод прибавилось. Тем не менее студенческая среда, к которой принадлежал и Дмитрий Каракозов, стрелявший 4 апреля 1866 года в Александра И, находилась под неусыпным надзором полиции, а пост министра народного просвещения в условиях нараставшего индивидуального террора стал столь же опасным, как и пост министра внутренних дел...
Осень 1866 года девятнадцатилетний Иван Цветаев встретил студентом Петербургского университета. На четыре года примерил он форменную фуражку и синюю тужурку с красными петлицами. Провинциал, сын деревенского священника, попав в столицу, с ее блеском, суетой, калейдоскопом впечатлений, не прельстился искушениями праздной жизни. Банальные развлечения молодых студиозусов — вино и карты, театры и амуры — были ему чужды. Скромный, благовоспитанный,
законопослушный, он чурался политики. Ранняя духовная зрелость уберегла его от участия в любых противоправных акциях. Он не станет ни крайним монархистом, ни истовым православным, но понятия «империя», «церковь» останутся для него неприкосновенными.
Огромное желание учиться подкреплялось в нем личной симпатией к декану историко-филологического факультета профессору Измаилу Ивановичу Срезневскому и благодарностью ему. Проблема платы за обучение оказалась для Цветаева неразрешимой: доходов отца на это не хватало. Тогда Иван подал прошение в деканат. Срезневский выхлопотал ему и нескольким таким же, как он, бедным студентам казенный кошт и денежное пособие.
Предметом особого внимания студента Цветаева становится римская словесность. Под влиянием профессора Василия Ивановича Модестова он начинает заниматься изучением личности и трудов историка Публия Корнелия Тацита, и прежде всего его сочинением «Германия» («О происхождении и местоположении германцев»), только что переведенным тогда на русский язык Модестовым.
Углубившись в тему, Цветаев обнаруживает многочисленные разночтения в известных рукописях «Германии». Его первая научная работа посвящена анализу этих разночтений и выбору наиболее предпочтительных вариантов. За эту работу он получает золотую медаль.
Спустя несколько лет студенческий труд выльется в магистерскую диссертацию «Критическое обозрение „Германии" Тацита», а завершающим аккордом станет книга Цветаева «Cornelii Taciti Germania. Опыт критического обозрения текста», изданная в 1873 году в Варшаве. Автор посвятит ее «г. смотрителю духовного училища в Шуе И. П. Чуриловскому».
Первые пятьдесят страниц книги занимают «Краткие замечания» — перечисление исследованных рукописей и их особенностей. Сто две страницы основного корпуса, мелко набранного в два столбца, содержат сравнительный анализ двадцати трех вариантов рукописей. Тот, кому доводилось детально сравнивать хотя бы несколько вариантов какого-либо текста, представляет объем работы, выполненной Цветаевым. Можно сказать, что Иван Цветаев вручную перебрал, как крупинки, каждую Тацитову точку, каждую запятую, уснастив свой анализ массой сравнений, ссылок, предположений. Отмечены недостоверные и предпочтительные версии параллельных фрагментов. В итоге из двадцати трех вариантов «Германии» были выбраны три самых точных: рукопись Понтана и две ватиканские рукописи.
Подобно первому цветаевскому наставнику Чуриловскому, профессор Карл Якимович Люгебиль часто устраивал семинары у себя дома. Он преподавал греческий язык и литературу. Именно он на примере разных изданий Гомера впервые показал Цветаеву, что такое критика текста, то есть выявление разночтений. В глазах студентов Люгебиль представал образцовым ученым. Погруженный в античность, чистый «как голубь», он остро переживал неустройства социальной жизни. В одном из писем 1880 года своему, уже бывшему, ученику он возмущался тем, что «в момент, когда положение в России самое плохое (исправлено автором на отчаянное. — А. С.), когда народ голодает, правительство состоит из мошенников или из кретинов...»*. Но вызвать Цветаева на разговор о политике было невозможно. Его не интересовал Люгебиль — критик российской власти, его привлекал Люгебиль — критик древних текстов, Люгебиль-этик.
Историю римской литературы и археологию читал Николай Михайлович Благовещенский, некогда учивший будущих вождей революционной демократии и нигилизма — Добролюбова, Чернышевского, Писарева, но сам не имевший ни к демократии, ни к нигилизму никакого отношения. Из отзыва современника следует, что Благовещенский был популяризатором науки, «щеголеватым излагателем занимательных эпизодов истории римской литературы», а Люгебиль — «исследователем, орудиями крепкого здравого смысла и строгого критицизма разрушающим традиции классического языкознания, но оба сходились в одном — в поклонении красоте античного искусства»**.
Самым же любимым из профессоров у Ивана и его сокурсников был Измаил Иванович Срезневский — специалист по изучению памятников древнерусской письменности. Делом его жизни стал «Словарь древнерусского языка». Он называл словари хранилищами научных истин. Два сына Срезневского учились вместе с Цветаевым. Иван и его товарищи часто бывали в доме у декана. Профессор влиял на круг чтения студентов, на их увлечение музыкой, дал возможность приобщиться к тому, что Цветаев назовет «изящными формами жизни высококультурной среды»***: домашние концерты, интеллектуальные игры, чтение вслух... Выражаясь «высоким штилем», на вечерах у Срезневского царил дух университетского братства, единения учеников и учителей, воспетый еще в средневековом
* Письмо К. Я. Люгебиля И. В. Цветаеву от 25 января 1880 г. // ОР ГМИИ. Ф. 6. Оп.Т.Д. 1859.
** Известия Императорской академии наук. 1913. № 13. С. 767.
*** цветаев И. В. Из студенческих воспоминаний об И. И. Срезневском // Памяти Измаила Ивановича Срезневского. Кн. 1. Пг., 1916. С. 7.
Иван Цветаев (справа), студент Санкт-Петербургского университета, с однокурсниками
1868
студенческом гимне «Gaudeamus» («Будем веселиться») с первоначальной темой, неожиданно печальной для гимна («Vita nostra brevis est, brevi finietur»*), и с величаниями, на удивление лояльными для гимна студенческого, когда вслед за здравицами Академии и профессорам:
Vivat Academia!
Vivant professores!** —
звучит восклицание:
Vivat et respublica Et qui illam regunt!***
Выпускной вечер курса студентов-филологов тоже прошел на квартире Срезневского. Двадцать выпускников, полные надежд, уходили в новую жизнь.
С трогательной старомодностью, спустя целую вечность, Цветаев напишет:
Молча и низко поклонились мы нашему старому учителю, молча и медленно спустились мы вниз. От подъезда, сказав кликами и жестами последнее прости дорогому приюту наших студенческих лет, мы прошли на набережную Невы и здесь, у красавицы реки, осиянной солнечным блеском прекрасного майского утра, в виду блиставшего золотом купола Исаакия, мы перецеловались и простились, чтобы к вечеру того же дня навсегда разойтись в разные стороны России****.
Города и горы
Шершавая Варшава. Курс на осков. —
Все дороги ведут в Неаполь. Технология снятия копий.
Волга в Самнитских горах. —
Приглашение в Московский университет. М-lle Иловайская
1
В 1870 году Иван Цветаев оканчивает Петербургский университет и получает чин VIII класса, дающий право на переход из духовного сословия в дворянское. Ему определена стипендия
* Жизнь наша коротка, скоро она закончится (лат.).
** Да здравствует Академия! Да здравствуют профессора! (лат.)
*** Да здравствует и государство и тот, кто нами правит! (лат.)
**** Цветаев И. В. Из студенческих воспоминаний об И. И. Срезневском. С. 7.
600 рублей в год, что впервые делает его материально независимым, а вскоре (в 1872 году) Ивана назначают доцентом на кафедру классической филологии историко-филологического факультета Императорского Варшавского университета.
Варшавский университет, закрытый после Польского восстания 1830 года, был вновь открыт 12 октября 1869 года, а в год назначения Цветаева место ректора занял его бывший учитель профессор римской словесности Николай Михайлович Благовещенский. Преподавательский состав срочно «укреплялся» педагогами из Санкт-Петербурга. Российское правительство как будто бы повысило статус польской главной школы, но, несмотря на то что костяк студентов составляли поляки и польские евреи, обучение было приказано вести на русском языке: преподаватели-поляки (профессора, доценты, лекторы) обязаны были в течение двух лет выучить русский язык.
1873 год по итогам кажется удачным для Цветаева. Магистерская диссертация защищена, книга о Таците увидела свет, но жизнь в Варшаве не складывается. Отношения с ректором Благовещенским оставляют желать лучшего. Первая любовь к некой «гордой деве» не приносит счастья. Иван задумывается о перемене места службы. Варшава оказывается для него слишком шершавой.
Возникает идея отправиться в заграничную научную командировку с целью подготовки к докторской диссертации. Маршрут командировки русского филолога-классика того времени был традиционным: Германия (теория) — Италия (практика). Однако Василий Иванович Модестов посоветовал Цветаеву уделить как можно больше времени именно Италии:
Я осмелюсь высказать Вам свое крепкое убеждение, что для нас, русских филологов, главной целью ученого путешествия должна быть Италия, что немецкую мудрость мы можем всегда получить из книг и что, если мы хотим встать на собственные ноги, нам, изучающим латинскую древность, следует изучать ее на месте, в Италии. <...>
Там памятники древней архитектуры, скульптуры и живописи, там почва, на которой жили древние, там потомки древних, люди, которые своим видом, языком и манерами раскроют нам многое в жизни древних, что мы из книг не узнаем*.
Основы академического изучения италийских диалектов, главным образом оскского, и их роли в истории латинского языка были заложены в 1830-1840-х годах в Германии.
* Письмо В. И. Модестова И. В. Цветаеву от 18 ноября 1874 г. // НИОР РГБ. Ф. 324. Колл. И. В. Цветаева. № 3647а. Л. 7 об., 8.
К началу 1870-х было собрано и опубликовано более 150 оскских надписей, относящихся к первому тысячелетию до новой эры, а также несколько популярных грамматик оскского диалекта. Цветаев, с его интересом к текстологии и компаративистике, увлекся изучением италийской диалектологии под влиянием Модестова, единственного тогда в России представителя этого относительно нового направления классической филологии. В Германию, в Боннский университет, Цветаев поехал знакомиться с оскскими надписями (в публикациях и «кальках») и штудировать посвященные им труды европейских ученых. В декабре 1874 года он писал Модестову, уже из Италии:
При изучении историческом латинского языка нельзя обойтись без древнеиталийских наречий — и по этим-то наречиям русская литература и не представляет ничего, кроме обозрения алфавитов их, сделанного Вами в своем докторском труде. <...> Я рассчитываю взять на себя смелость написать «Очерк звуков и форм ос-ского* диалекта», насколько дошел он до нас в надписях**.
Благодаря своей, проявленной еще во время работы над «Германией» Тацита, научной добросовестности и педантичности Цветаев быстро обнаружил, что европейские «успехи в этой области (исследовании оскских надписей. — А. С.) начинают терять значительную долю своего блеска при более внимательном изучении дела. Прежде всего не может не поразить здесь то обстоятельство, что после Моммзена, покинувшего эти штудии в 1850 году, никто из ученых Германии и Франции не пытался знакомиться с текстом надписей в оригиналах или, по крайней мере, в тщательно исполненных кальках. Все усилия филологов направлены были на объяснение надписей в том виде, в каком выходили они в итальянской археологической печати»***.
Результатом «посильного знакомства» Цветаева с языком осков в Германии «было желание видеть оригиналы надписей и сравнить их текст с текстом печатных изданий, чтобы потом, отметив места спорные, снова воротиться к морфологии и фонетике латинского языка»****.
* В работах конца XIX века, в том числе в трудах И. В. Цветаева, название племени осков писалось с двумя с, образованное от него прилагательное также имело особую форму.
** Письмо И. В. Цветаева В. И. Модестову от декабря 1874 г. // НИОР РГБ. Ф. 324. Колл. И. В. Цветаева. № 3647а. Л. 39 об. — 41 об.
*** Цветаев И. Сборник осских надписей с очерком фонетики, морфологии и глоссарием. Киев, 1877. Предисловие, с. II.
**** Тамже. С. III.
Надписи эти, очень разнообразные по содержанию (от восхвалений божеств до ремесленных клейм, от колдовских заговоров до межплеменных договоров), сделаны на бронзе и свинце, керамике и камне разными способами: высечены, процарапаны, написаны кистью. В «Сборнике осских надписей», включающем все известные на то время и обнаруженные самим автором памятники оскской письменности, 187 номеров. Найдены они были в основном в Южной Италии и на Сицилии, первая — в 1754 году, так называемый «cippus Abellanus», Абел-ланский межевой знак с договором городов Абеллы и Нолы о спорной территории вокруг пограничного храма Геркулеса.
Как позже напишет Александр Блок:
От медленных лобзаний влаги Нежнее грубый свод гробниц, Где зеленеют саркофаги Святых монахов и цариц.
А виноградные пустыни, Дома и люди — всё гроба. Лишь медь торжественной латыни Поет на плитах, как труба*.
Цветаеву предстояло в течение пятнадцати месяцев заниматься эпиграфикой — «прикладной» филологией, напрямую связанной с археологией: находить новые надписи, заново описывать и копировать уже известные, хранящиеся в городах, городках и деревнях Южной Италии — «в древних областях Самния, земли Френтанов у Адриатического моря, Апулии, Кампании и частью Сицилии»**, по возможности постараться расширить список этих памятников. Путь его лежал вдалеке от туристических маршрутов, зачастую в таких захолустьях, где еще никогда не бывал ученый человек, тем более из России.
2
Археологической столицей мира являлся в ту пору Неаполь, а центральной фигурой в археологии — директор Неаполитанского национального музея археологии Джулио де Петра. К нему и направился молодой русский филолог.
* Блок А. Стихотворения. Поэмы. Театр. Л., 1936. С. 226.
** Цветаев И. Сборник осских надписей... С. III.
Что составляет особенную заслугу г. де Петры, так это строгая критика в его научных работах, осторожность суждений и отсутствие той поспешности, с которой в Италии публиковались археологические находки прежде. Знакомство с немецкой методикой и постоянные сношения с главными представителями европейской археологической науки, которые в вопросах относительно Помпеи, Геркулана (Геркуланума. — А. С.) и разнородных сокровищ Неаполитанского музея нередко принуждены бывают полагаться на сообщения г. де Петры как на голос очевидца, приучили его к такой строгости к самому себе, которой весьма часто недоставало итальянским археологам старой школы. Стоит присмотреться хотя бы к его публикациям латинских надписей в... <«Giornale degli Scavi di Pompei»*>, чтобы убедиться в том, что итальянское правительство, ставя сравнительно молодого профессора (де Петре было 33 года. — А. С.) во главе такого учреждения, как Неаполитанский музей, вверяло дело в руки добросовестного и деятельного ученого**.
В лице де Петры новичок Цветаев, привыкший к особенностям российской бюрократической системы, предполагал, даже опасался, встретить не столько выдающегося археолога, сколько важного администратора. На поверку все оказалось иначе.
Мы, русские, при слове «директор» того или другого учреждения, будь то департамент, академия, эрмитаж, театр, банк и т. п., приучены к представлению о человеке важном, малодоступном, поздно являющемся на службу, мало на ней остающемся, сидящем в одной из дальних зал своей канцелярии и обыкновенно скупом на слова и личные объяснения. Таким я представлял себе и директора неаполитанского Museo Nazionale. Но удивительной показалась мне уже крайне скромная обстановка приемной комнаты представителя такого учреждения, на которое обращены взоры всего цивилизованного мира, куда стекаются в силу ученой пытливости или по простой любознательности со всех концов света у кого есть досуг и средства, наконец, учреждения, посетить которое считают своим долгом государи и все сильные мира, раз попавши на берег Неаполитанского залива. Между тем это — небольшая зала, помещающаяся в верхнем этаже здания, в два окна, с продолговатым, овальной формы столом, который, как я узнал впоследствии, служит для заседаний дирекции музея и для студентов местного университета, слушающих здесь курс археологии у г. де Петры. По стенам ее, вместо всяких украшений, стоят шкафы с делами канцелярии музея; что же касается до мебели, то, выражаясь деликатнее, приобретавшие ее несомненно имели в виду больше ее прочность, чем изящество.
Из соседней маленькой комнаты вышел ко мне человек лет тридцати пяти. По его простенькому сюртуку и форменной фуражке,
* Журнал Помпейских раскопок (итал.).
** Цветаев И. Путешествие по Италии в 1875 и 1880 гг. М., 1883. С. 4.
е f »с wVt г Л^ЛТ
&п п/ ‘ 7^3 т ve Ok д s ^^ФвдЯЗМ-кЛиушн <?Ь > N 7 г’>Л | . (Эл з j >.7_г_/’*’кг •Qkra Ty.i^k_®T^ ’’JlbR'flWvj fl • r ' г® ^Ц-чЯмнйд>к i
•ен'ят^*, ^яа.9й.э>н з^о "©Ч,и*^за’*ТКЬЭ’О4 3 з^/я r?*Hv( ч GO з >14 w 4 > 3d ля
‘вг MTi4|q К ^1 лХЯи 4?|9
3>ТЯт>4«Тзи7^Ид7«Л
l4irrt<JVA4^?a^ • н О т T.J я- т-* q V# 4 }-^ v т е я я.
4 9 И 3 Л R‘ltTМ АЗ а а Т«Л
Of гл Т г • (a t‘<« ?
GH’rtn ‘flfbOGS*.. 5
GrTflV v /<е
•виЛТг jGj T^, i^^i\
Бронзовая табличка с оскской надписью 300-100 г. до и. э.
Терракотовый межевый знак на границе священной области с изображением Афины и кабана и надписью на оскском языке 300-100г. дон. э.
какую носят все служащие в музее, можно было принять его за одного из второстепенных чиновников, за одного из хранителей музея. На деле это был сам директор*.
Быстро покончив с формальностями, коллеги углубились в трудности эпиграфической практики. Цветаев, как уже говорилось, собирался не просто транскрибировать надписи, но снять с них точные копии, факсимиле, что требовало участия в его предприятии разных специалистов.
Надписи оказались самого разнообразного свойства — и резанные на камне, и гравированные на меди, и деланные острием на свинце и стукке**, выведенные стилом на мягкой глине и писанные кистью и красной краской. Каждый из этих отделов требовал особых приспособлений, своих специальных технических приемов. С надписей, высеченных на камне, делаются обыкновенно бумажные слепки (calco, Abklatsch, estampage). Этот процесс заключается в следующем: камень вымывается водой, очищается щеткой от пыли, грязи и вообще от всякой посторонней примеси в углублениях или на рельефах букв. Когда эта предварительная работа кончена, накладывают на камень лист не клееной, мягкой бумаги и потом осторожно вбивают его мокрой губкой или щеткой в углубления букв. При осторожности этого процесса бумага плотно прилегает к камню и входит во всю глубину начертаний, причем главная забота снимающего должна быть направлена на то, чтобы до возможной степени резче обрамлялись контуры каждой буквы. С этой целью принято после губки и щетки, перед просыханием бумаги, проходить каждую букву еще раз большим пальцем. Бумага просыхает — и таким образом получается возможно точный снимок, точная копия надписи. Этот прием употреблялся в Италии уже в XVI ст<олетии> знаменитым эпиграфистом своего времени Рафаилом Фабретти и повсеместно практикуется в Западной Европе в настоящее время.
Способ этот, до известной степени, применяется и к надписям, вырезанным на металле, особенно если буквы средней величины, если неглубоко врезаны и письмо не слишком шероховато. В этом случае берут тонкую, вроде папиросной, бумагу, накладывают ее на смоченную водою металлическую поверхность и, осторожно расправив все ненужные складки листа, начинают рукой проходить букву за буквой, строку за строкою. Но так как тонкая бумага не может долго сохранять отпечатка во всей целости, то в виду самого памятника или даже на нем самом обводятся контуры каждой буквы карандашом, обводятся тихо и медленно и притом искусной рукою. Кроме этого с надписей, вырезанных на металле, снимается или гипсовый слепок, или слепок из желатина,
* Цветаев И. Путешествие по Италии в 1875 и 1880 гг. С. 5, 6.
** Стукко — искусственный мрамор, высший сорт штукатурки на основе гипса с добавлением мраморной пудры, мела, извести, алебастра и других компонентов.
или делается снимок на лист тонкого олова. Эти приемы требуют уже участия гипсовщика и специального уменья обходиться с материалом.
Когда надпись не резана, а нацарапана острием или гвоздем, то делают так называемое lucido, то есть пропись на восковую, прозрачную бумагу. Здесь весь секрет в верности глаза, в осторожности и опытности снимающей руки.
Надписи на металле, или слишком мелко вырезанные, или стершиеся от времени и потому не поддающиеся ни одному из вышеизложенных приемов, снимаются от руки. Последнее требует такого искусства, каким не владеет обыкновенный рисовальщик и которое бывает уделом специалистов особого рода. Но у них эта работа движется крайне медленно и берет много усилий глаза и рук*.
Иван Васильевич Помяловский в подробном обзоре «Сборника осских надписей» Цветаева отмечает разнообразие приемов копирования, использованных молодым автором, но при этом подчеркивает, что копированием памятников тем или иным, наиболее подходящим, способом дело не ограничивается. «Требуется еще чтение и воспроизведение памятника, обусловливаемые, кроме знания и ученой подготовки, значительной опытностью и умением. <...> Господин Цветаев обладает и знанием, и опытностью, при помощи которых в местах сомнительного чтения сумел избежать ошибок»**.
Поиски античных надписей повели Цветаева из Неаполя по дорогам Кампании. Заручившись рекомендательным письмом де Петры, он отправился в горную деревню Пьетраббон-данте в провинции Изерния — политический и религиозный центр оскского племени самнитов во II—I веках до нашей эры. Путь его лежал через древние самнитские городки: Беневенто, Васто, Изернию и Молисе. Рассказ об этой поездке настолько насыщен колоритом итальянской провинции и так много говорит о характере самого путешественника, что приведем его с возможной полнотой:
Недалеко мы были от Кампании, какие-нибудь пятнадцать часов пути отделяли нас хотя бы от Капуи и соседних селений, а между тем какой резкий контраст в характерах жителей этой Изернии, например S. Maria di Capua Vetere! Часов шесть оставался я в этом маленьком городе, успел обойти его кругом, осмотреть все его достопримечательности, идущие из древних времен, как несколько императорских статуй, остатки римских построек, камни с надписями, заложенными невежественною рукою в стены простых обыкновенных построек, и не встретил ни одного нищего — случай,
* Цветаев И. Путешествие по Италии... С. 7.
** Помяловский И. В. Осские надписи // Журнал Министерства народного просвещения. СПб., 1879. Ч. CCV. С. 158.
немыслимый в кампанских городах и особенно в неаполитанской провинции.
В Изернии я должен был расстаться с дилижансом и продолжать путь на открытой двухколесной платформе, запряженной парой крепких мулов. Спутниками моими были два студента, ехавшие из Неаполя домой, один аптекарь и человека четыре крестьян. В этой молодой и веселой компании время летело так быстро, что мы и не заметили, как промелькнули три или четыре часа этого переезда, несмотря на то что мулы шли почти все время шагом, медленно поднимаясь в горы, которые становились все круче. Толковали о тогдашнем волнении в неаполитанском университете... <...> Когда этот предмет беседы истощился, мы составили уговор, во-первых, поделиться всем, что у каждого было из съестного, и, во-вторых, после этой общей трапезы каждый из нас должен был спеть какую-нибудь песню solo. Произвели дележ наших запасов: у кого оказался кусок сыра, у кого ломоть ветчины, у кого крутые яйца — все это делилось и передавалось от одного другому, кругом ходили по рукам и деревянные фляжки с вином, нашедшиеся у каждого из ехавших с нами крестьян. Под конец этого взаимного угощения кто-то было заметил, что петь сейчас, после еды, не годится; но большинство утверждало, что в дороге все годится, и пение началось. Дошла очередь и до меня. Сколько я ни отговаривался от этого, а в конце концов должен был затянуть нашу «Вниз по матушке по Волге». Самнитские горы, может быть, впервые огласились русской песней; но, к сожалению, исполнение этой первой песни было очень плохо и нескладно. Публика слушала внимательно, и когда я кончил, мне сказали, что голос мой очень дурен, но мотив песни для них нов и в устах хорошего певца должен быть приятен. Мы все смеялись и были веселы.
Нужно быть в Италии, нужно видеть итальянский народ и пожить среди него, чтобы убедиться, как скоро завязываются там знакомства, как быстро дается там имя «друга», а еще как легко здесь умеют находить средства общего развлечения люди, бывшие до того чужими и видящиеся в первый раз...
Вместе мы ехали до одного селения, из которого мои спутники отправились дальше, по направлению Кастель-ди-Сангро, я же должен был поворотить в сторону Пьетраббонданте и Аньоне, куда вели лишь горные тропинки. <...> Нелегко, может быть, я нашел бы себе здесь мула с проводником и карабинера, если бы случайно в тот же день не прибыл сюда какой-то чиновник межевого ведомства из тех мест, которые мне нужно было посетить. Хозяин мула тем охотнее предложил мне свои услуги, что ему приходилось обратно ехать через Пьетраббонданте.
Дорога с первого же раза стала круче и извилистее; мой мул ступал так тихо, что погонщик и карабинер без труда шли со мною почти рядом. Горы облегали нас со всех сторон, и тропинка, по которой мы ехали, пролегала по местам в совершенных ущельях. Небо, сначала ясное, стало темнеть, и не успели мы оглянуться, как засверкала молния, раздались раскаты грома, пошел дождь, и наша тропа скоро превратилась в горный поток, по которому проводники и мул шли по колени в грязной и мутной воде. Выносливое животное то и дело спотыкалось о камни, которых не было
видно под водою. Дождь усиливался; наша дорога становилась все глубже и неопределеннее, так что погонщик с карабинером решили переждать непогоду в знакомой лесной избушке, которая была от нас невдалеке. Кое-как добрались мы до этого одиноко стоящего домика и попросили себе здесь приюта.
Как все деревенские дома, какие приходилось нам видеть в Италии, эта хижина состояла из большой комнаты со столами и скамьями по стенам и квадратным очагом посредине земляного пола. По случаю непогоды вся семья была в сборе; здесь же приютились куры, коза и два маленьких поросенка, по-видимому большие приятели детей, которые с шумом гонялись за ними. Мы были рады и этому обществу, потому что продолжать путь не было никакой возможности; к тому же необходимо было хотя <бы> немного обсушиться. Но едва развели по нашей просьбе огонь на очаге и выжали мое верхнее платье, как дождь начал стихать и показалось солнце. Чтобы засветло добраться до Пьетраббонданте, мы снова пустились в путь-дорогу, и за час до заката мы были, наконец, в этом селении.
Пьетраббонданте — бедная, хотя и большая горная деревня, которая в былое время, говорят, доставляла значительный контингент бандитов, ныне ведет тихую, трудовую, земледельческую жизнь. Здесь я мог приютиться в единственной для всего селения локанде*. Старик хозяин, которому я был рекомендован г. де Петрой, обласкал меня тем, что сейчас же посоветовал мне снять мокрое платье и, за неимением другого, надеть пока его собственное. На мне не было сухой нитки, и потому с благодарностью пришлось воспользоваться предложением любезного дона Доменико.
Едва я облекся в его ризы, которые оказались для меня и длинны и непомерно широки, как старушка хозяйка вошла в мою комнату с докладом, что меня приглашает к себе компания гостей, сидящих под окнами ее дома. Я отправился и увидел здесь общество из трех священников, офицера межевого корпуса и одного старика, который оказался «доктором хирургом». Все они сидели около столика и на свободе попивали вино и играли в карты. Мы познакомились и повели речь о России; началось обычное удивление обширности нашей земли, ее холоду, богатству ее хлебов и пр. А как мало знали почтенные пьетраббондантские патеры о России, явствует из того, что старейший между ними сказал мне, что он в молодости был в Неаполе и видел там «нынешнего» нашего императора Николая. Когда я заметил, что мой собеседник, вероятно, разумеет «отца нынешнего императора», то простодушный горец громко и в энергических фразах выразил удивление, как же это он до сих пор ничего не слыхал о смерти императора Николая. Так запаздывает политическая почта в этих уединенных селениях гористого Самния!**
Из «гористого Самния» Цветаев вернулся на побережье, в Неаполь, а оттуда направился в другой центр культуры
* Маленькая гостиница (итал.).
** Цветаев И. Путешествие по Италии... С. 34-37.
Помпеи
Конец XIX— начало XX в.
осков — Помпеи, принадлежавшие сперва этрускам, потом грекам, а с 20-х годов V века — самнитам, которые уступили город римлянам в ходе Второй самнитской войны. Как раз в начале 1870-х годов раскопки погребенных под пеплом Везувия Помпеев приобрели под руководством Джузеппе Фиорелли систематический характер, что было особенно важно для Цветаева.
Дальнейшие поиски повели его в Сорренто, Сицилию, Рим и, наконец, в Северные Абруццы — к Адриатическому морю.
Хотя тихо, но безостановочно взбирался наш дилижанс в глубь Абруцц. Города Риэти, Читтадукале, Антродоко, Коппито и некоторые другие селения проходили пред нами один за другим, и так как наша дорога делала неизбежные повороты, то мы могли любоваться их видами по несколько раз, с различных сторон и высот. Большинство этих городков и сел, за исключением Кэти, смотрятся так бедно, что Терни (видимо, городок покрупнее. — А. С.) пред ними мог считаться столицей. Скудость этих мест должны были чувствовать особенно те из нас, кто не запасся ничем съестным на дорогу и потому должен был платить за плохую ветчину, дурно приготовленный сыр и вино — единственные продукты, которые можно было достать на этом пути, — тройные цены против действительной стоимости их в больших городах.
С города Коппито дорога стала ровнее, и мы скоро выехали в горную долину реки Атерна. Эта равнина, после нескольких часов
езды, закончилась высоким холмом с большим городом на его вершине. То была ближайшая цель нашей поездки — Аквила, главный город провинции этого имени.
При виде всякого большого города Италии уже наперед ждешь, что вот снова охватит вас тот нескончаемый шум и гам, который возможен только в этой стране и нигде более в Европе — стране, где на улицах не просто говорят, а непременно кричат, не просто беседуют и толкуют о своих обыденных интересах, но как будто все горячо спорят и ссорятся до готовности вступить каждую минуту в рукопашный бой, где торговцы вместо печатных и всевозможными способами размалеванных реклам и объявлений пускают в ход свое крепкое горло и несказанной звучностью голосов привлекают внимание публики к своим товарам. Всего этого ожидали мы, приближаясь к широко и живописно расстилавшейся перед нами Аквиле.
Ничего подобного, однако, здесь не оказалось. Город, при своем значительном населении, необыкновенной тишиной сделал бы честь любой захолустной местности Германии. Мы не встретили ни этих надоедливых зазывал в свои лавки со стороны торгового люда, ни пронзительных выкрикиваний по поводу чудесных свойств тросточек, спичек, ваксы, вод, овощей и фруктов — ничего, что неизбежно для всякого другого города Италии и что там носится и гудит около вас с раннего утра и до глубокой ночи.
Аквила — город исключительно земледельческий и служит главным хлебным рынком провинции, вследствие чего в день нашего приезда, оказавшегося кануном недельного базара, вся площадь была выстлана циновками с разным зерном. Стояли первые числа июля, и потому изо всех окрестностей съезжались сюда торговать новым, только что снятым хлебом. Вокруг этих рогож и циновок толпились продавцы и покупатели и толковали о товаре тихо, без криков и спора, точно в каком-нибудь укромном уголке Баварии. Не похожа была Аквила на итальянский город и на другой, базарный день недели. За ночь навезли хлеба столько, что площадь и соседние центральные улицы представляли сплошную житницу: зерно лежало на возах, в кулях, рассыпано было по циновкам и рогожам. Около ходил и толпился народ, собравшийся сюда из соседних горных селений, — и опять тени сходства не было с обычным итальянским рынком: торговля шла совершенно тихо и спокойно. Покупали и продавали хлеб, косы, серпы, плуги, топоры, прялки и прочие орудия, необходимые в сельскохозяйственном быту.
Необыкновенной сдержанностью и приличием тона отличаются здесь и кофейни с простонародными остериями: ни пьяных, ни безобразного галдежа и ругательств, без чего не обходится, к нашему стыду, ни один русский провинциальный базар и без чего немыслимы наши мрачные и грязные трактиры, харчевни и питейные дома*.
Однако были среди надписей осков и такие, получение которых потребовало от Цветаева не выносливости палеографа-следопыта, а того, что так особенно привлекает молодого
Цветаев И. Путешествие по Италии... С. 163-165.
ученого и в силу своей ценности особенно трудно достижимо — признания и связей в научной среде. Об этих трудностях пишет Помяловский: «Осские памятники разбросаны почти по всей Европе, и требуется много труда и усилий для того, чтобы, во-первых, узнать их настоящее место нахождения, во-вторых, достать с них верные снимки. В последнем случае у издателя должно быть обширное знакомство, и притом с такими лицами, которые и по своему положению могли бы достать эти снимки, и по своей ученой авторитетности могли бы гарантировать их точность»*.
Статус ученых, приславших начинающему палеографу снимки с надписей, хранящихся в их научных центрах, — директоров Неаполитанского и Туринского музеев, руководителя помпейских раскопок, итальянских, немецких, британских академиков и профессоров — впечатляет и говорит о степени интереса, проявленного научной средой к новому коллеге и его достижениям.
В 1877 году в Петербурге Цветаев защитит докторскую диссертацию по теме «Осские надписи» (издана в виде атласа с таблицами «Сборник осских надписей с очерком фонетики, морфологии и глоссарием»). Через два года этот труд в переводе на латинский язык, сделанном самим Цветаевым, выйдет в Лейпциге и станет важным событием в среде европейских антиковедов. Получив в подарок это издание, Джулио де Петра напишет Цветаеву: «Ваш „Сборник..." — памятник, за который Вам должны быть благодарны все исследователи италийской античности»**.
3
Между тем командировка подходила к концу. Надо было возвращаться в Варшаву, а делать этого решительно не хотелось. Туда не тянуло ничто, а здесь — работа в разгаре, научные контакты налажены, человеческие отношения сложились. Успех!
В начале февраля 1876 года Цветаев подает прошение в Варшавский университет об отставке. Отставка принята. Желанная воля обретена. Но при этом командированный ученый с гарантированным, твердым жалованьем в одночасье превращается в «свободного художника».
Очень скоро Цветаев осознает всю плачевность своей независимости. Успех итальянской командировки вскружил
* Помяловский И. В. Осские надписи... С. 156.
** Письмо Дж. де Петры И. В. Цветаеву от 19 марта 1879 г. // ОР ГМИИ. Ф. 6. Оп. 1.Д. 2646.
ему голову. Он уволился из Варшавы с должности доцента, а никаких иных источников существования и никаких накоплений у него не было.
Романтические скитания по Италии в поисках памятников оскской письменности сменяются прозаическим поиском места. Однокурсник Цветаева историк и филолог Павел Иванович Аландский уговаривает его переехать в Киев:
...С твоим добрым и открытым нравом, с твоим умением снисходить к недостаткам и ошибкам других ты, наверное, был бы приятным товарищем и скоро очутился бы в центре небольшого, но хорошо сплоченного кружка*.
Цветаев принимает предложение. Он становится доцентом Киевского университета Св. Владимира с условием продления ему заграничной командировки еще на полтора года. Однако и этого срока не хватает для окончания работы. Цветаев переезжает в Киев, но университет встречает его крайне недружелюбно. Позже, уже из Москвы, он напишет одному из своих корреспондентов — киевскому другу и коллеге Александру Александровичу Котляревскому:
Если сравнить прожитые месяцы здесь (в Москве. — А. С.) с соответственным временем прошлого года (в Киеве. — А. С.), то невольно сжимается сердце от тяжелой боли при воспоминании о киевской жизни, о тех ударах, которые разразились надо мною нежданно-негаданно в университете, которому я желал служить всеми силами, со всем увлечением, выносимым молодыми учеными из иностранных аудиторий. Эти гнусные подметные письма, эти кабацкие угрозы «поломать ребра» и «набить морду», эти иудины лобзанья и преступные происки... — стоят в моем воспоминаньи какой<-то> непроглядно темной полосою. Сердце щемит всякий раз и глаза застилает туманом при взгляде на эту картину. Пред ней ничто исполненные, в сущности, комизма гонения Благовещенского, ничто прохладные и не совсем сытные дни... когда я очутился, с выходом в отставку, без всяких фондов. Благодарение судьбе, что все имеет свой конец и что поэтому отошла в область прошлого и эта история**.
Да, черная полоса не вечна, и Цветаев получает приглашение из Казанского университета от знаменитого языковеда Ивана Александровича Бодуэна де Куртенэ (которому в будущем предстоит отредактировать и дополнить «Толковый словарь» Владимира Ивановича Даля):
* Письмо П. И. Аландского И. В. Цветаеву от 11 февраля 1876 г. // ОР ГМИИ. Ф. 6. Оп. 1.Д. 38.
** Письмо И. В. Цветаева А. А. Котляревскому от 7 октября 1877 г. // ОР РНБ. Ф. 386. Ед. хр. 123.
Московский университет Конец XIX— начало XX в.
Наш университет все еще остается без штатного преподавателя латинского языка, и потому Вы оказали бы великую услугу и нашим студентам, и науке классических языков в России вообще, согласившись на переезд к нам*.
Однако почти одновременно появляется вакансия на кафедре римской словесности Московского университета, и профессор Федор Евгеньевич Корш — авторитет из авторитетов — предлагает Цветаеву преподавать латынь в Москве:
Вы были бы тем более желательным сподвижником, что Вы знаете хорошо ту отрасль латинской филологии, в которой мы... слабоваты: история латинского языка. <...> Вы явились бы к нам во всеоружии современной науки**.
Что называется, не было ни гроша, да вдруг алтын!
Историко-филологический факультет Московского университета традиционно считался сильнейшим. В то время на нем преподавали и вели научную работу одновременно несколько ученых, которых впоследствии назовут великими: историки Сергей Соловьев и Василий Ключевский, лингвист Филипп
* Письмо И. Л. Бодуэна де Куртенэ И. В. Цветаеву от 24 марта 1877 г. // ОН ГМИИ. Ф. 6. Он. I. Д. 294.
** Письмо Ф. Е. Корша И. В. Цветаеву от 3 мая 1877 г. // ОР ГМИИ. Ф. 6. Оп. 1.Д. 1621.
Фортунатов, филолог Федор Корш... К этой когорте славных примкнул молодой Цветаев.
Несмотря на аскетическое, по временам затворническое существование больших ученых, они не были отшельниками. Их окружали родные. В профессорских семьях росли дети, которые с малых лет приобщались к «изящным формам жизни высококультурной среды».
Историк Сергей Михайлович Соловьев сразу признал в Цветаеве своего. «Неоднократно старец пожимал обеими руками мою осскую десницу и не раз напоминал мне о соседстве наших помещений»*, — пишет Цветаев Котляревскому. Такое повышенное внимание к своей персоне Иван мог связывать еще и с тем обстоятельством, что у Соловьева были барышни на выданье. Но барышни Соловьевы не тронули сердце Цветаева.
Зато в письме тому же адресату от 11 апреля 1878 года впервые возникает фамилия Иловайских — отца Дмитрия Ивановича и его двадцатилетней дочери Варвары Дмитриевны: «...начинаю больше водиться у Иловайских»**.
Вначале следует противоречивое представление об отце:
Самого Д<митрия> И<вановича> я доколе не понимаю: вероятно, он и капризен, и болезненно самолюбив, и вместе с тем добрый, радушный, веселый и гостеприимный хозяин...***
Затем идет более развернутое упоминание о дочери и о том впечатлении, какое она произвела на «коронованного оска», как именовал себя Цветаев:
М-Пе Иловайская — прелесть. В ней столько простоты, естественности, столько симпатичности во всем ее характере, при серьезном образовании (она переводит монографию отца о Дашковой на французский язык для одного историч<еского> журнала****. <...>), что не увлечься подобным субъектом было бы грешно. Я не только не пропускаю суббот, но с понед<ельника> считаю дни вплоть до вечера, когда, в последние 3 недели, я появляюсь первым*****.
* Письмо И. В. Цветаева А. А. Котляревскому от 7 октября 1877 г. // ОР РНБ. Ф. 386. Ед. хр. 123.
** Письмо И. В. Цветаева А. А. Котляревскому от 11 апреля 1878 г. //ОР РНБ. Ф. 336. Ед. хр. 123.
*** Там же.
**** Имеется в виду французский перевод работы: Иловайский Д. Екатерина Романовна Дашкова: Биографический очерк // Отечественные записки. 1859. Т. 126-127.
***** Письмо И. В. Цветаева А. А. Котляревскому от 11 апреля 1878 г. // ОР РНБ. Ф. 386. Ед.хр. 123.
Варвара Дмитриевна Иловайская в малороссийском костюме Москва. Конец 1870-х
Из письма следует, что сердце Ивана Варя разбила в середине марта 1878 года. Именно с тех пор он не пропускал ни одного субботнего журфикса у Иловайских, являясь туда раньше всех.
Прервав рассказ, посвященный своей пассии, сообщением о том, что в ближайшее время он станет экстраординарным профессором (первое профессорское звание), Иван снова возвращается к самой животрепещущей теме:
Я ничего не сказал Вам... о наружности т-11е Иловайской. Это — высокая, стройная брюнетка*, с очень хорошим цветом лица.
* Изначально было написано «блондинка», но по размышлении зачеркнуто и переправлено на «брюнетка».
голосом сопрано, лучшим, чем мой. Она практикует его в консерватории, чего я не делал, к сожалению. А то бы смело мог я участвовать в папском хоре*.
Шутливый тон письма — лучшее свидетельство тому, что настроение у его автора превосходное: на дворе весна, он влюблен, он мечтает жениться, потенциальный тесть ему благоволит, впереди летние вакации — этого пока и достаточно для счастья. Что же до мнения самой Вареньки, то оно как будто бы и не так важно. Ее голос совещательный, а решают мужчины.
В мае лекции в университете заканчивались, и в новой эпистоле постоянному адресату-киевлянину Иван подводит итоги первого года московской жизни. Он сам напишет для нас эпилог, который послужит не столько завершением первой главы, сколько прологом ко второй:
Кончается вот уже учебный год, проведенный мною в Белокаменной, — и я искренно могу поблагодарить судьбу за то доброе, которое она послала мне на этом пространстве времени. Я жил спокойно, ни разу не пожалев о покинутых палестинах южной полосы России; жил совершенно вдали от канцелярско-университетско-общественной злобы дня. Разные пререкания и пикировки долетали до меня лишь только как отдаленное, почти совсем ослабнувшее эхо. И это при довольно рассеянной моей жизни — за эту зиму, при частых выездах из дому. Вошедши в новое общество, естественно, я должен был бывать на первых порах у многих, кого, вероятно, позднее придется видать только на официальном поле. Но если и при этом я жил вдали от дрязг, то еще менее будут доходить они до меня, когда я, что называется, остепенюсь и сделаюсь домоседом. А им стану непременно, как только найду себе товарища в Вареньке И<ловайск>ой. В минувшем письме я выразил Вам свой взгляд на ее отца — и теперь вижу, что я, будучи прав в общем, погрешил в оценке его отношений ко мне: они более дружелюбные, чем я мог предполагать. С этой стороны, так<им> обр<азом>, препятствий не будет. Что же касается до самой ragazza in questione**, то «это прелесть что такое». Весела, искренна, не жеманна, серьезна, когда нужно. И призываю дорогие мне тени оссков во свидетели, что ничего лучшего я не желал бы в жене, что такая девушка была бы лучшим даром судьбы. Hoc est in votis!***
* Письмо И. В. Цветаева А. А. Котляревскому от 11 апреля 1878 г. //ОР РНБ. Ф. 386. Ед. хр. 123.
** Девушка, о которой идет речь (итал.).
*** Вот предмет моих желаний! (лат.). Письмо И. В. Цветаева А. А. Котляревскому от 10 мая 1878 г. // ОР РНБ. Ф. 386. Ед. хр. 123.
Глава вторая
BABA
Из отдыха и вздоха Веселый мотылек На край чертополоха Задумчиво прилег. Летит его подруга Из радуги и блеска, Два шелковые круга, Из кружева нарезка...
Велимир Хлебников
Исповедь женского сердца
Отказ. Папа Иловайский. —
Перемена отношения. Роман в письмах. — Обручение во Флоренции. Разлука перед свадьбой
1
Итак, жених пребывает в полной эйфории от своей невесты.
Однако не все складывается так, как ему хотелось бы. Похоже, здесь, в Москве, вновь повторяется варшавский сюжет с «гордой девой». Варенька вовсе не собирается замуж. Ни за кого. Все помыслы ее занимает bel canto. Цветаев предлагает Варваре Дмитриевне руку и сердце — и получает отказ.
Дмитрий Иванович крайне огорчен легкомыслием дочери. Он просит Ивана не падать духом, продолжать бывать у них в доме и уповает на то, что Варя еще, Бог даст, одумается, — лишь бы Иван Владимирович не отступался.
Дмитрий Иванович Иловайский — красавец мужчина, первый танцор на балах в Дворянском собрании, выбившийся в люди сын мещанина из города Козлова, ставший вполне состоятельным господином, — буквально в год знакомства с Цветаевым пережил глубокую утрату. Скончалась его жена Варвара Николаевна, урожденная Дюрваль. Девятнадцатилетняя Варенька
осталась без матери. Женское попечительство над ней взяла ее крестная мать и бабушка Александра Александровна Маркова — теща Дмитрия Ивановича, жившая вместе с ними. С детства Варя называла бабушку Мамакой (мама Маркова), хотя Варвара Николаевна приходилась Марковой не дочерью, а воспитанницей. Тем не менее обе Варвары любили Мамаку как родную. Теперь все заботы Александры Александровны обратились на Вареньку. Дмитрий Иванович жил с ними в собственном доме в Пименовском переулке, а неподалеку имел второй дом — в переулке Трехпрудном.
Иловайский был знаменитый русский историк. Известность ему принесла неутомимая писательская деятельность — он без устали публиковал научные и публицистические статьи, учебную литературу по русской истории. Дмитрий Иванович работал над многотомной «Историей России». «По Иловайскому» учились гимназисты начальных и средних классов. Его учебники для русских гимназий постоянно переиздавались*. Он выступал с полемическими опусами по вопросам стародавней и текущей политики. В будущем он учредит журнал-газету «Кремль», став ее автором, издателем, распространителем и — как язвили злые языки — единственным подписчиком, что неверно.
Это был историк-кремень. Национал-патриот. Приверженец монархических устоев. Его идея фикс состояла в том, что русский народ является народом богоизбранным, ибо он сумел создать свою государственность и самую обширную империю в мире. Дмитрий Иванович отстаивал теорию славянского происхождения Древней Руси. По Иловайскому, «Русь издревле обитала между Днепром и Азовским морем; она упоминается у греческих и латинских писателей под именем роксолан»** впервые в 94 году до Рождества Христова. Постепенно Русь (или Рось) «подчинила себе некоторые славянские племена и образовала сильное государство, центром которого сделался Киев»***. Что же касается норманнов (варягов), то они не имели никакой этнографической связи с Русью (племя варягоруссов — не более чем измышление книжников) и лишь служили в наемных дружинах у русских князей, поэтому «выводить» Русь из Скандинавии, по мнению Иловайского, — непростительная ошибка.
* К 1916 г. учебник Д. И. Иловайского «Сокращенное руководство по всеобщей и русской истории. Курс младшего возраста» выдержал 33 издания, а «Руководство к русской истории. Средний курс» было переиздано 44 раза. (См.: Каган Ю. М. И. В. Цветаев. Жизнь. Деятельность. Личность. М., 1987. С. 172.)
** Иловайский Д. И. Очерки отечественной истории. М., 1995. С. 120.
*** Там же.
Дмитрий Иванович Иловайский
1878
Как к серьезному ученому-первооткрывателю коллеги к Дмитрию Ивановичу не относились. Для них он был скорее популяризатором науки, нежели оригинальным исследователем. Они упрекали Иловайского в том, что свою историю России он строит не на собственных открытиях, а на трудах Николая Карамзина, Сергея Соловьева и протоиерея Макария; что он всего лишь «ловкий компилятор, никогда не работавший по первоисточникам»*.
Докторскую диссертацию Дмитрий Иванович посвятил Гродненскому сейму 1793 года — последнему сейму Речи Посполитой. Там, смятые подкупом и прямым военным шантажом, депутаты признали Польшу протекторатом Российской империи. Идейный обруситель Иловайский изучил вопрос всесторонне.
Формозов А. А. Историк Москвы И. Е. Забелин. М., 1984. С. 187.
Александра Александровна Маркова (Мамака) Москва. 1882
Даже обратился к первоисточникам, за что и заслужил от Сергея Соловьева отзыв, полный лукавого изящества: «Удачному выбору предмета соответствует подробная и тщательная обработка его по источникам, что дает труду г. Иловайского почетное место в нашей исторической литературе; что же касается выводов, с которыми можно не соглашаться, то они составляют нечто совершенно внешнее, не вредя верности общего представления события»*. Все хорошо, только с выводами нельзя согласиться...
Между Иловайским и Цветаевым как учеными лежала пропасть. Дмитрий Иванович решал центральные вопросы русской истории, а коллеги относились к нему скептически, тогда как Иван Владимирович бился над какой-нибудь полустертой надписью на осколке древнеиталийского горшка, с оговорками
* Центральный государственный исторический архив Москвы. Ф. 418. Оп. 39. Д. 58. Л. 40.
давал ее перевод на пять-шесть европейских языков, и уже в тридцать лет пользовался признанием ученого мира. При этом Цветаев никогда не позволял себе выказывать какое-либо превосходство, всегда оставался доброжелателен и учтив. А Иловайский, почувствовав научную щепетильность и человеческую порядочность Цветаева, полюбил его искренне и первым посоветовал Вареньке обратить внимание на нового знакомца.
После размолвки с Цветаевым Варя уехала в Италию учить итальянский и совершенствовать вокал. Дмитрий Иванович согласился на эту поездку, хотя был против сценической карьеры дочери. Не дворянское это дело. А отвергнутый жених остался в Москве заниматься со студентами и возиться с оскскими надписями.
2
Во Флоренции Варя и ее подруга-компаньонка Женечка Михельсон поселяются на улице Монтебелло, что проходит параллельно реке Арно. Здесь, за тысячи верст от Москвы, сердце Вари смягчается. Артистическая жизнь предстает ей, видимо, в более реальном свете, а главное — она вдруг представляет себе Ивана Владимировича — скромного, застенчивого, совестливого — во всем благородстве его чистейшей души. Дата этого «преображения» точно известна: 6 октября 1879 года. Ее Варя раскрыла в одном из своих флорентийских писем Цветаеву (от 4 марта 1880 года):
Я считаю позволительным шутить только с теми, кто сам шутит, а на серьезное чувство отвечать шуткой у меня не хватает духа. За Вас же, да и вообще за кого бы то ни было, я не собиралась замуж выходить, и поэтому в отношении Вас я особенно была осторожна и всегда упрекала себя за невольно вырвавшееся ласковое слово или внимание. А помните то письмо на Рождество — я из-за него плакала и упрекала себя в том, что своим неосторожным поведением невольно причиняла Вам страдание.
Мало-помалу, когда понемногу разрушились мои воздушные замки насчет своей будущности, я пришла к убеждению, что и семейная жизнь при известных условиях может принести счастье, и, конечно, моя мысль невольно обратилась к Вам. И вот однажды вечером в Ливорно (6-го октября) я как-то больше обыкновенного разговорилась про Вас с моей преданной Женни, и результатом этого разговора было то, что я села к столу да и написала Мамаке озадачившее ее письмо, в котором просила поговорить с Вами обо мне и узнать, тот ли Вы, что и прежде, или разлука уже охладила Ваше сердце*.
* Цит. по: Соснина Е. Б. Музы Трехпрудного переулка: Неизвестное о семье Цветаевых в письмах, фотографиях, документах. М.; Иваново, 2005. С. 102.
Флоренция
Конец XIX— начало XX в.
Но еще до этого — 5 февраля 1880 года — из Флоренции в Москву пришло большое письмо — согласие на брак:
Иван Владимирович.
Я хочу объяснить то, что, может быть, кажется Вам странным в моем поведении. Издали как-то лучше умеешь ценить людей. Так и я, живя в Москве, мало чем Вас отличала из толпы знакомых.
а перед отъездом за границу я даже думала, судя по нашему последнему свиданию, что между нами все кончено. Но услыхав потом, что Вы все еще меня не забыли, я стала припоминать Ваши отношения ко мне и нашла в них столько благородства и доказательства такой чистой души, что невольно меня взяло раскаяние, как могла я не оценить прежде такого человека. Я даже не думала, что на свете еще существуют, иначе как на словах, качества, выказанные Вами.
Но теперь я вижу, что хотя и редко, а можно еще встретить человека с возвышенными чувствами. Желая поправить свою ошибку, я еще в начале зимы писала, что если уже не слишком поздно, то чтобы шепнули Вам обо всем том, что меня волновало. Но родные мои, зная, как мы давно видались, боялись сказать Вам что-нибудь решительное; наконец, и я с ними согласилась, что лучше все отложить до личного свидания. И вдруг теперь, не предупредив меня, с Вами начали переговоры прямо о свадьбе.
Меня мучает сомнение, что мы увидимся только тогда, когда уже все будет решено бесповоротно. А что если, не видев меня целый год, Вы, может быть, найдете во мне много перемен? Да и я так боюсь, что не сумею Вас сделать счастливым. Я как-то никогда не думала, что мне придется вести семейную жизнь, и мне кажется, я вовсе к ней не подготовлена. Вы, ради Бога, подумайте обо всем хорошенько.
Папина женитьба* была для меня самым неожиданным сюрпризом. Это правда, что он уже года два приискивал себе подходящую подругу, но надо же было, чтобы это случилось именно без меня и так быстро. Я только неделю тому назад получила об этом известие. И вчера я вдруг получаю от Папы письмо, где он говорит, что так как он уезжает из Москвы на целые полгода, то надо спешить и с решением моей судьбы, и что он находит удобным устроить нашу свадьбу за границей. Итак, видно, не приходится ждать моего возвращения из-за границы для окончательного решения и назначить нашу свадьбу раньше, чем предполагала. (Я надеялась устроить ее в конце июля. Теперь же, видно, надо строить новые планы.) Про венчание за границей и Вы тоже пишете, но мне не кажется, чтобы этот план Вам сколько-нибудь улыбался. Вдали от всего родного встретимся мы на чужой стороне, и тут все будет казаться как-то неприютно. Потом, я не видала так давно мою добрую Мамаку, которая действительно теперь мне заменяет мать. Для нее тоже будет немалое огорчение расстаться со мной навеки, не повидав меня даже перед этим. Я написала Папе и просила его отложить свою поездку, по крайней мере, до начала мая. Тогда можно будет устроить все в Москве до его отъезда. Если Вы не против этого, то поддержите этот план и переговорите с Папой лично. Конечно, в этом вопросе Ваше решение самое веское, и я во всем заранее с Вами согласна. Только, ради Бога, не за границей венчаться. Поэтому если у Вас есть в виду что-нибудь более
* Дмитрий Иванович женился на Александре Коврайской, Вариной ровеснице. Венчание состоялось в начале 1880 г. в Москве, в церкви Преподобного Пимена Великого в Старых Воротниках.
удобное, то Вы прямо выскажите это Папе и настойте (так! — А. С.) на своем мнении, вполне располагая мною.
Нечего и говорить Вам, что для меня было бы большой радостью познакомиться с Вашим отцом как можно скорее. Не видав, я его уже люблю. Передайте ему мою карточку с моим поклоном. Я боялась, что Вы фотографией не будете довольны, потому что она на меня не совсем похожа...
Еще хочу Вас попросить об одном: нельзя ли, во всяком случае, отложить Вашу поездку в Италию до конца июля, чтобы избегнуть итальянских жаров (так! — А. С.) и вместе с тем иметь возможность устроить свои дела в Москве.
Благодарю Вас за календарики: вот уж воистину, не было ни гроша — да вдруг алтын.
До свидания. Желаю Вам всего хорошего.
В. Иловайская.
Р. S. Будьте так добры, если это Вас не затруднит, прилагаемый здесь конвертик передать Мамаке без свидетелей. Это письмо, если пожелаете, покажите ей, но Папе, пожалуйста, о нем ни слова*.
Со временем Варя стала скучать по дому все сильнее. Дмитрий Иванович, такой плодовитый на исторические опусы, в личной жизни был скрытен и на письма скуп. В отличие от него, Иван Владимирович обожал писать письма и делал это мастерски, в чем мы не раз убедимся. В его посланиях — и описания событий, и отношение к людям, и жизнь души. Они замечательно добры по тону, подробны и зримы. Именно в письмах во всей полноте проявляется его писательский дар, которому не развернуться в научной монографии, да и в очерке тесновато. Только конец земной жизни мог прервать переписку Цветаева с дорогими ему людьми. То, что его письма к Варваре Дмитриевне не сохранились, потеря невосполнимая. Мы не можем увидеть возлюбленную его глазами. Но, к счастью, до нас дошли ее ответные послания, и мы вправе по ним составить свое представление о ней.
Постепенно чувство Вари к Цветаеву крепнет, их переписка становится все более доверительной. Иван пишет по письму каждый день и просит Варю отвечать ему хотя бы через день: одним своим письмом на два его.
Покровительствуя чувствам влюбленных, Дмитрий Иванович Иловайский все же просит дочь всю ее переписку с Иваном Владимировичем вести через Пименовский переулок. Это не означает, что он собирается подвергать ее письма цензуре. Он уважает неприкосновенность личной корреспонденции. Просто ему хочется соблюсти приличия, принятые в обществе: девушке
Цит. по: Соснина Е. Б. Музы Трехпрудного переулка... С. 89-92.
не стоит переписываться с женихом до свадьбы. Однако влюбленные обменивались письмами и напрямую. Эта проделка чуть было не вскрылась из-за опрометчивого поступка Цветаева: искренне восхитившись способностями Вари к итальянскому языку (на котором она написала очередное послание), он похвалил ее успехи в чьем-то присутствии. После невеста упрекнула жениха за эту вольность:
16 марта 1880. Флоренция.
Иван Владимирович.
Письмо Ваше меня очень расстроило. Что это за мысль была хвастаться посторонним лицам моими успехами в итальянском языке? Во-первых, я вовсе не желаю, чтобы кто-нибудь знал о нашей переписке, которую я завела без ведома моего отца, а во-вторых, я лучшего мнения была о Вашей скромности и никак не ожидала, что Вы сообщите Папе о нашей переписке именно когда я Вас просила в одном из прежних писем об этом не говорить ему ни слова. На каком языке было написано письмо — это совершенно все равно, и Вы подвергаете меня теперь большим неприятностям с отцом. Хорошо еще, если он думает, что это первое письмо, но беда, когда Мамака проговорится, и он узнает, что я уже и прежде Вам писала. Тогда на мою голову обрушится целая буря. Покуда я незамужем, естественно, что я вполне завишу от отца, и он имеет полное право быть мною недовольным, когда я поступаю против его желаний. Он хотел, чтобы переписка велась через него, а я ради Вас ослушалась и повела ее помимо Папы, и Вы же меня выдаете*.
Однако это происшествие не омрачило подготовку к свадьбе. Варины письма полны нежного чувства и легкости: она то боится потерять любимого («...положим, Вы приставите ко мне надежного сторожа и будете спокойны, что я не убегу, но ведь я-то буду совсем не спокойна — вдруг Вы от меня убежите...»**), то составляет шутливый перечень своих кавалеров и возлюбленных Ивана:
A propos*** не хочу остаться у Вас в долгу и поэтому для курьеза назову Вам не имена (все равно они Вам незнакомы), а звания моих претендентов, сообщивших мне свои намерения относительно меня непосредственно или через третье лицо. Вот те, кого помню, может, кого и забыла:
два полковника,
подполковник,
лейтенант,
офицер,
* Там же. С. 106.
** Там же. С. 95.
*** Кстати (фр.).
Варвара Дмитриевна Иловайская Флоренция. Январе 1880
два доктора,
адвокат,
директор учебного округа,
генеральский сынок, звания, право, не помню. —
Не правда ли. какое разнообразие? Это я написала, чтобы Вас потешить*.
Великодушно прощаю Вам Вашу первую любовь к няне Маланье. Но одна из прежних Ваших пассий меня некоторое время даже беспокоила, а именно Пр., о которой я слышала еще прежде (о ком именно идет речь — неизвестно. — Л. С.). На эго всегда найдутся добрые люди, чтобы делать дружеские сообщения. И про Ваше непостоянство гоже слышала, но имела удовольствие убедиться в прол ивном**.
Иван Владимирович Цветаев Март 1880
В письмах Вари совсем немного внешних событий ее флорентийской жизни. Это письма-исповеди, письма-тревоги, письма-благодарности. Они искренни и открыты. Они полны юмора. В них — жизнь души, а не впечатления о красотах Италии.
Открыто в посланиях обсуждается вопрос об обручении, венчании, свадьбе: где их лучше проводить — во Флоренции или в Москве, а тайно решается, как провести время перед свадьбой. Варя мечтает еще до заключения брака прожить с Иваном лето в горах. Цветаев не желает мешать сердечные дела с наукой и не хочет брать Варю в горы.
Однако компромисс в итоге находится. Вначале Иван едет к Варе во Флоренцию, где они обручаются и, не афишируя, проводят некоторое время вместе. Потом он отправляется в горы за оскскими надписями, а она возвращается в Москву и готовит все необходимое к свадьбе, в том числе занимается ремонтом старого дома в Трехпрудном переулке — дома, который папа отдает ей в приданое. Посредине лета — свадьба в Москве. Как видим, Дмитрий Иванович, сам погруженный в собственную новую семейную жизнь, настолько желает этого брака дочери, что закрывает глаза на некоторые вольности.
Посему 8 марта 1880 года из Флоренции послана счастливая эпистола:
Иван Владимирович.
Как я рада, что Вы так скоро и без всякого труда согласились на новый план, т<о> е<сть> на венчание в Москве. Вы, кажется, нравом просто ангел. Другой бы со всеми этими переменами и изменениями планов давно бы вышел из терпения. А так, наконец, мы пришли к соглашению и решили, что весну проведем вместе в качестве жениха и невесты в Италии. На этом последнем решении я намерена настаивать и в отношении Папы и не уступлю ни за что. Что же касается моего возвращения в Москву в апреле или мае, так это вещь совсем неудобная, и я даже немножко удивилась, когда Вы мне об этом написали. Неудобно это и для Вас, и для меня, да и Мамаке радостей особенных не принесет. Она обыкновенно летом так занята, что и без меня не заметит, как пройдет время.
По правде сказать, я очень даже мечтала побывать с Вами в Риме, и вот эта мечта моя сбудется. Я была в Риме уже давно, видела все только мельком, и поэтому он мне не оставил никакого воспоминания. Но видеть Рим с Вами, который знает его как немногие в Европе, как это должно быть интересно. Я знаю, что Вы не откажетесь меня сопровождать и на Палатинский холм, и в музеи, хотя, конечно, Вы все это уже видели много раз. Надо и мне ведь немножко получше познакомиться с древним Римом, чтобы в качестве Вашей будущей супруги не ударить лицом в грязь*.
Теперь Варя живет Иваном Владимировичем, их предстоящей встречей, обручением, свадьбой. Ее письма полны нетерпения и тоски:
Вы пишете, что если приедете вечером, то явитесь только на другой день. Отчего же? — до 10 часов вечера я Вас буду ждать. А поутру можете прибыть и в 9. Это час нашего утреннего чая. A propos, мы с Женичкой никак не придумаем, чем бы Вас угощать: варенья здесь нет, чай пахнет сеном (московский уже давно вышел), разве шоколад, любители Вы его?
Первые минуты мы будем одни и встретимся так, как Вы этого пожелаете. Дай Бог Вам счастливого пути. До свидания.
Ваша «Пленница».
Р. S. <...> Я пишу Вам Бог знает что, ничего в голову не идет, тоска, — когда же, наконец, я Вас увижу?**
Но проходит время, и тоска сменяется предчувствием счастья: теперь день их встречи точно известен.
Третьего апреля Варя впервые посылает письмо Ивану не в Москву, а в Вену, потому что он уже в пути:
* Цит. по: Соснина Е. Б. Музы Трехпрудного переулка... С. 103.
** Тамже. С. 113-114.
Флоренция. Понте Веккьо и Палаццо Всккьо Открытка начала XX в.
Через полторы недели я Вас, наконец, увижу. Что это была за длинная зима, я Вам и передать не могу— точно две зимы соединились в одну... Ну, да все это пустяки, а главное — то, что мы скоро увидимся. Ко мне скоро явится мой «посланник небесный», как Вы себя называете. Как войдете в Montebello, смотрите все наверх и остановитесь там, где будет балкон, а на балконе я. Тогда летите наверх, только осторожно, лестница у нас полутемная. Вы найдете меня одну.
Ваша «Люба»*.
3
В первые минуты свидания никто не тревожит их уединение. Деликатная компаньонка, сгорая от любопытства, томится в дальних комнатах. Возлюбленные встречаются так, как им хочется, точнее так, как хочется жениху, но их чувства и желания поразительно схожи. И только после слез, поцелуев, счастливых вздохов и восклицаний затворнице Жене разрешается войти и познакомиться с женихом, которого она уже хорошо знает по рассказам невесты. Prof. Zwetaieff прибыл во Флоренцию с научной целью, а Иван Цветаев — с целью сугубо личной. Его ждет обручение. А потом — три недели вольной весны в Италии с любимой невестой!
* Тамже. С. 115-116.
Будь эта книга романом, читателю довелось бы провести незабываемые дни в обществе Ивана и Вари.
По прихоти автора они отправились бы в предсвадебное путешествие в Венецию. Впервые очутившись на берегу Гранд-ка-нала, Варенька вдохнула бы сырой, насыщенный йодом воздух Адриатики, увидела бирюзовые слитки отливающей серебром воды, колышущейся между узорными стенами мавританских дворцов, омывающей мраморные статуи в нишах, кажется, доплескивающей до стрельчатых окон. В лакированной черной гондоле, выскользнувшей из-под синего чехла, под говорок вечерних мандолин она вплывала бы в узкие каналы, окаймленные ветхим камнем Средневековья, пересеченные поверху струнами вервий, на которых сушатся кружева семи столетий.
Она ступала бы на площадь Сан-Марко, украшенную белыми колоннами Прокураций, граненой стрелою Компанилы, цветным чудом великого собора.
Обильные воды прилива затопляли бы площадь, поднимая пешеходов на высокие мостки, а кругом, как шорох, шелестело бы тревожно:
— Aqua alta... Aqua alta...*
Утром — ясным венецианским утром — Иван Владимирович вез бы ее на вокзал, они садились бы в поезд и отправлялись в Равенну, где почиют в веках мозаики мавзолея Галлы Плаци-дии, где тускнеет угасшее золото и рдеют рубины, дарованные византийской казной сводам и стенам храма Сан-Витале.
А еще они поедут в Рим, и сбудется Варина мечта: жених поведет ее на форум, он покажет ей Рим античный, который знает так, как будто живет здесь со времен цезарей. Они задержатся в Вечном городе как можно дольше, ибо его очарование постигаешь не сразу, нужно время, чтобы чувство Италии наполнилось чувством Рима.
Оттуда Иван повез бы Варю на юг — в Неаполь, на Сицилию. Это его края. Здесь собирает он надписи осков. Он показал бы ей Везувий, а она не только сама побоялась бы даже приблизиться к его склонам, но просила бы Ивана Владимировича никогда не взбираться на эту страшную гору, которая так коварно покоится на фоне пронзительно-синих неаполитанских небес...
Однако свидетельств о том, как Иван и Варя провели свою весну в Италии, у нас нет. Влюбленные наконец воссоединились, и необходимость в переписке отпала. Известно только, что они были вместе. А из Флоренции, может быть, никуда и не уезжали.
* Высокая вода (итал.).
Но разлука — настороже. Ивану пора отправляться в горы, Варе — возвращаться в Москву. Невеста тяжело переживает разлуку. С дороги она пишет Ивану два письма, впервые сменив официальное «Ваша В. Иловайская» на домашнее имя «Вава».
Первые вечера мне было так тоскливо без Вас, что я не знала, куда деваться. Чтобы разогнать тоску, ехала в театр, но это производило чуть не обратное действие. Время идет так долго, что три месяца разлуки мне покажутся за три года. Не знаю, как Вы себя чувствуете, а мне все казалось, что вот-вот Вы постучите в дверь и войдете. И день такой длинный, точно и конца ему нет. Я бы желала эти три месяца спать и проснуться только в день Вашего возвращения. До далекого свидания, мой дорогой, целую Вас украдкой. Посылаю Вам письмо от Мамаки. Мне надо еще уложить свои пожитки. Женичка Вам кланяется, поздравляет сердечно.
Ваша per sempre* «Vava»**.
Второе письмо отправлено через два дня после первого (венского) уже из Варшавы.
Мая 9-го 1880. Варшава.
Дорогой мой друг.
Сегодня я приехала в Варшаву и получила Ваше письмо. Слава Богу, что Вы в Риме хорошо устроились, но теперь Вы, вероятно, уже в Неаполе. Я вижу, что эта разлука гораздо тяжелее будет для меня, чем для Вас. Вы там, среди чудной природы Италии и беспрерывных занятий, будете обо мне вспоминать только в свободные минуты, а я со сжатым сердцем ожидаю эти три месяца. <...> Мне часто приходят в голову наши последние дни во Флоренции, и я себя горько упрекаю теперь, что позволяла Вам слишком много. Право, у меня одно извинение — что удержать Вас на известной дистанции очень мудрено. Почему, я не знаю, но знаю наверное, что будь на Вашем месте другой, то и подумать не смел бы о таких вольностях, которые Вам позволялись. Пожалуйста, не заглядывайтесь на хорошеньких итальянок, мне уже сказали, что оставлять одного жениха в Италии — очень gefahrlich***. Пишите побольше о себе и своих занятиях, это будет моя единственная отрада. В письмах в Москву об уменьшительных именах не упоминайте, чтобы не входить мне в лишние объяснения, и вообще будьте осторожны.
Завтра хочу ехать дальше. Холод тут порядочный, по ночам морозит. До свидания, мой дорогой, да хранит Вас Бог.
Ваша «Вава».
Вы кольцо будете носить все время?..****
* Навсегда (итал.).
** Цит. по: Соснина Е. Б. Музы Трехпрудного переулка... С. 117.
*** Опасно (нем.).
**** Тамже. С. 117-119.
Теперь Варя видит в науке свою соперницу. Наука на три месяца отняла у нее жениха. Вава нежно и безнадежно уговаривает Ивана Владимировича:
Пожалуйста, в горы не ездите и вообще далеко от больших городов. От этого зависит мое спокойствие. Вы не забывайте, что теперь Вы уже не прежний вольный казак, а, увы, находитесь уже под гнетом тяжелой зависимости — от меня.
Прощайте, мой дорогой, дай Бог Вам удачи. Наши все Вам шлют привет. Отвечаю на Ваши поцелуи.
Ваша per sempre «Вава».
У нас цветут сирень и ландыш...
На мебель и приданое мне дали 1500 р<ублей>. Я их теперь спешу истратить, чтобы дали еще*.
В Трехпрудном
Приятные хлопоты. Интерес к римским древностям. — Лёра. Римские катакомбы. — Письма из Эллады. Андрюша.
1
Варя вернулась в Москву в начале лета, в канун славного дня — открытия памятника Пушкину на Тверском бульваре напротив Страстного монастыря. От ее дома до Тверского рукой подать. Выйди из ворот налево, пройди по Трехпрудному до Малого Палашевского, поверни с него на Сытинский — вот тебе, пожалуйста, и бульвар.
Тогда же в Белокаменную как депутат орловского дворянства на пушкинские торжества приехал младший брат Ивана Владимировича — Дмитрий Владимирович Цветаев. Он окончил Петербургскую духовную академию, педагогические курсы и преподавал в Орловской военной гимназии. Билеты на праздник для Вари и Мамаки достал именно он. О том, чему стала свидетельницей, Варвара Дмитриевна без промедления отписала в Италию:
Июня 7-го 1880.
...Мы отправились с бабушкой на открытие памятника Пушкину. У нас были места на подмостках, и мы видели все прекрасно. Множество венков, знамен, надписей в гирляндах пестрели над толпой и кругом памятника. В ту минуту, когда депутаты и принц вышли из церкви и стали на приготовленный для них помост,
Цит. по: Соснина Е. Б. Музы Трехпрудного переулка... С. 124.
Страстной монастырь и памятник Пушкину на Тверском бульваре в Москве Открытка начала XX в.
саван упал с фигуры Пушкина, и раздалось громкое «ура», звуки музыки и певчих соединились со звоном колоколов. Вся толпа казалась умиленной. У подножия памятника произнесено было несколько речей, которые я не слыхала. Вечером назначена была иллюминация, мы отправились, но она была неудачна по случаю дождя*.
Переписка влюбленных оставалась «двухканальной»: письма пересылались через Дмитрия Ивановича и Женечку Михельсон. Ивану Владимировичу хватало его эпистолярного эпикурейства, чтобы непрерывно сочинять «явные» и «тайные» послания.
Главной темой переписки, шедшей через Пименовский переулок, стало обустройство жилища в Трехпрудном. Это был деревянный дом с семью окнами, воротами, калиткой, немощеным двором, «заросшим желтыми акациями и тополями»**. Двор был огорожен высоким дощатым забором. С улицы дом казался одноэтажным, хотя на самом деле имел антресоли, выходившие окнами во двор. Все это хозяйство Варе предстояло частично отремонтировать, частично меблировать — в общем, подготовить к приезду жениха, к свадьбе и будущей семейной жизни.
* Там же. С. 126.
** Цветаева А. И. Воспоминания. М., 1983. С. 40.
В вопросах убранства дома Вава, при всей своей юной прелести, тяготела к солидной старомодности; правда, как послушная невеста, оставляла последнее слово за мужчиной.
Дорогой друг.
Я в прошлом письме не ответила Вам на вопрос о мебели, потому что считала дело уже оконченным*. Но я вижу, что Вы беспокоитесь, и потому, если мебель эта Вам не нравится, ее можно продать и купить просто ореховую. Все-таки я ее оставлю до Вас. До сих пор мы сходились во вкусах, может быть, и здесь сойдемся. Прочностью она не хуже всякой другой мебели... Ореховой мебели очень много, но я не купила ее, потому что наша гостиная имела бы слишком ординарный вид, а теперь она будет казаться несколько старомодной, я этого и хотела; и без того уже в доме все будет казаться слишком ново, пока не обживемся. Приезжайте и решайте все как хотите**.
«Открытые» письма Вари довольно сдержанны; она что-то советует Ивану, о чем-то по-хозяйски просит его:
В Милане побывайте не только в соборе, но и на крыше его. Оттуда вид прекрасный... А потом побывайте в театре La Scala, на сцене. Это самый большой театр в Европе и служит пробным камнем при оценке певцов. Не знаю, как Вам, мне Милан очень понравился. Вы привезете мне веер довольно почтенных размеров, что не помешает ему быть самым прекрасным веером в Москве. Только что ни попросишь Вас привезти, у Вас все называется на память, а у меня и без того воспоминаний пропасть. Я еще хотела попросить Вас привезти одну вещь из Вены, только на память она совсем не годится. Живя в Вене в последний раз, я каждый день ходила из Леопольдштадта через Ferdinande Brucke на Bothenthurm Strasse, которая ведет к Св. Стефану. В этой улице на левой стороне на углу первого или второго переулка в окне магазина красовалось теплое одеяло, серое с голубыми клетками. Я его решила купить, но не успела перед отъездом, здесь везде искала, но подобного ему не могу найти. Оно стоило 7 гульденов. Если не свяжет Вас, то купите, пожалуйста, но, может быть, у Вас и без того багажа много. Оно должно быть не уже 1 1/ аршин, а если шире, то лучше***.
Ну а волю своим чувствам она дает в посланиях, передаваемых через Женечку:
Дорогой мой друг.
Вчера я получила два письма от Вас, одно из них от Женички. Это последнее меня сделало совершенно счастливой. И что Вы за
* Ранее Варвара Дмитриевна писала, что купила для дома мебель «черную с золотом, обитую темно-красным штофом без узора». (Соснина Е. Б. Музы Трехпрудного переулка... С. 126.)
** Тамже. С. 132.
*** Тамже. С. 130-131.
Обеденный стол из московского дома Цветаевых в Трехпрудном переулке
Тарусский музей семьи Цветаевых. Фото А. Е. Смирнова. 2012
милый, право. Во-первых, оно меня обрадовало потому, что все наполнено чувством любви, а во-вторых, потому, что обещает мне скорое свидание. Мне бы хотелось, чтобы это письмо было бесконечно. Только Вы не ездите так быстро, а то приедете такой же измученный, как во Флоренцию. Я Вас жду не раньше 10-го. Два-три дня уж не большой срок, а без передышки ехать нельзя. И батюшка боится, что Вы слишком утомляете себя работой. Дорогой мой, милый! А что Вы мне подарите, я знаю — лучшую Вашу осскую надпись, только как Вы ухитрились найти в ней изящество, не могу постигнуть. Целую Вас, мой Ванёк.
Ваша «Вава».
Целоваться при Мамаке не советую. — Она и то все допытывала Женичку, целовались ли мы. Ах, если б она знала!*
Наконец в назначенный день, 23 июля 1880 года, в церкви Преподобного Пимена Великого в Старых Воротниках состоялось венчание профессора Московского университета Ивана Владимировича Цветаева и Варвары Дмитриевны Иловайской. Ему исполнилось тридцать три года, ей — двадцать два. Церковь располагалась по соседству с домом тестя Дмитрия
* Тамже. С. 133-134.
Церковь Преподобного Пимена в Старых Воротниках 1881
Ивановича (Пименовский переулок, 16), а молодые обосновались по адресу: Трехпрудный переулок, 8, в пятнадцати минутах неспешной ходьбы отсюда.
Медовый месяц новобрачные провели в Талицах у свекра — Владимира Васильевича Цветаева.
Замужество решительно изменило жизнь Вавы. Она освободилась от любящей, но строгой опеки отца, перейдя на попечение обожающего ее и куда более либерального и утонченного мужа. Заботы о нем и о доме составили ее женское счастье, а пение осталось творческим самовыражением. Если отец был категорически против ее вокальной карьеры и, повинуясь его воле, она отказалась от приглашения стать солисткой Большого театра, то Иван Владимирович уважал ее желание выступать
перед публикой. Теперь она участвовала в концертах в Москве и в Италии, куда он брал ее в свои научные командировки.
По-видимому, оскские письмена никак не могли вдохновить эстетическое чувство Варвары Дмитриевны. Изнурительные поиски неведомых сокровищ в самых заброшенных уголках Италии, выкапывание из-под земли погребенных временем плит, их очистка, копирование выщербленных литер — все это не внушало ей того энтузиазма, который переполнял Ивана Владимировича. Ее чувство изящного являло себя в любви к оперным партиям и нарядам, украшениям и шуткам, цветам и праздникам, к ведению дома, исполненному веселья и блеска. Она создавала в его стенах артистическую атмосферу, которой муж, возвратившись с университетских лекций и заседаний, искренне наслаждался.
В январе 1883 года у них родилась дочь Валерия (по-домашнему — Лёра). Но и с появлением ребенка дом в Трехпрудном не стал менее гостеприимным. По пятницам Вава устраивала журфиксы для друзей и знакомых, наподобие тех, которыми славился ее отец. Об одном из праздников Цветаев рассказывает в письме Помяловскому:
Светлые (пасхальные. — А. С.) дни пробежали быстро, оставив по себе доброе воспоминание... В пятницу мы видели почти всех знакомых у нас, вчера тот же круг праздновал у Дмитрия Ивановича: пели, читали драматические отрывки, декламировали свои и чужие стихи, танцевали и вообще козлякали и у нас, и у Иловайских вдоволь. Празднолюбцев собралось у нас человек под 40, у Дмитрия Ивановича до 60. Общество состояло из учителей, студентов, литераторов, профессоров, певцов, учениц консерватории, помещиков и помещиц*.
По тону письма видно, что эти языческие «козляканья» (от древнего «пенья козлов», только не трагического, а потешного), над которыми Иван Владимирович так подтрунивает, на самом деле необыкновенно милы его сердцу.
Как человек долга, он еще продолжает свои филологические штудии в области оскской письменности, однако под несомненным влиянием Вавы все более начинает склоняться в сторону изящных искусств. Его интересуют греческие вазы и бронзы, геммы и камеи, коллекции монет и медалей, европейская гравюра и живопись итальянского Возрождения, но особенно — античная скульптура как самое монументальное (после архитектуры) выражение эллинского и римского духа.
* Письмо И. В. Цветаева И. В. Помяловскому от 13 апреля 1887 г. //ОР РНБ. Ф. 608. On. I. Ед. хр. 1400. Л. 19.
Варвара Дмитриевна Цветаева в роли пажа из оперы Дж. Мейербера «Гугеноты» 1888
Как известно, «коронованный оск» разыскивал образцы италийских надписей не только в горах Абруццы или на пустынных побережьях Сицилии. В залах европейских музеев он вчитывался в тексты на постаментах скульптур, деталях утвари, каменных надгробиях. Естественно, с надписей взгляд невольно скользил выше — на все те памятники жизни, которые именовались римскими древностями. После эпиграфики это был отдых уму и глазу, обращение от языка к вещи, причем к вещи часто повседневной, к истории частной жизни. По своему душевному складу Иван Владимирович вряд ли был склонен видеть в потоке мировых событий прежде всего историю войн, смут, этнических катастроф. Ему, вероятно, было бы интересней знать, чем питался римский легионер в походе, а не кого он побеждал; какие украшения носили афинянки времен Академии; как хоронили древние италики своих мертвых. Таким людям, как Цветаев, история человека может быть ближе истории человечества.
Цяанъ Владшшрович'Ь Цв'ктасвъ.
Профлачи Цосюммго HHMiepcim.
Tpeinpoxu- нр , Л S.
Визитка И. В. Цветаева
Переход от классической филологии к истории искусств совершился не сразу. Он занял несколько лет.
Первой вехой на этом пути стал 1882 год, когда Цветаев подал прошение на имя директора Московского публичного и Румянцевского музеев Василия Андреевича Дашкова — определить его на должность хранителя Дашковского этнографического музея. Прошение было удовлетворено. В дополнение к профессорским обязанностям Цветаев стал заведовать гравюрным отделом музея, а позже и всем отделением изящных искусств и классических древностей. В отдел гравюр под крыло Цветаева поступили ценные экспонаты: итальянские гравюры XVIII века, работы Дюрера, библейские рисунки Александра Иванова. Он издал каталог гравюр в четырех выпусках, посвященных итальянской, немецкой, фламандской и французской школам.
Второй шаг состоял в том, что с кафедры римской словесности Цветаев перешел на кафедру теории и истории искусств, став хранителем Кабинета изящных искусств и классических древностей. Некоторое время до этого он замещал предыдущего хранителя профессора Александра Николаевича Шварца, который параллельно служил директором одной из московских гимназий и уделял большее внимание этому перспективному и доходному месту. Университетский Кабинет был ровесником Ивана Владимировича. К его приходу здесь уже хранились собрание слепков, нумизматическая коллекция, библиотека. Под руководством Цветаева Кабинет регулярно пополнялся путем закупок и пожертвований частных лиц.
Наверно, в какой-то мере на решение Цветаева сменить не просто тему внутри избранной научной дисциплины, а саму дисциплину повлияло и то обстоятельство, что его просветительский пафос страдал от невозможности обратиться к аудитории
Румянцевский музей Начало XX в.
Собрание слепков Кабинета изящных искусств и древностей Московского университета
1895
большей, нежели несколько коллег и десяток студентов. Его исследования оставались в рамках сугубо специальных изысканий, он был ученым для ученых. В связи с выходом труда Василия Модестова о Таците Иван Владимирович пишет своему старшему другу:
Благодаря нашей косности Ваша книга будет известна далеко не всем учителям латинского языка в наших гимназиях. Такова уж доля поганая филолога в нашем отечестве. Я просидел около 13 лет над своими италиками — и последней книги разошелся... один (подчеркнуто Цветаевым. — А. С.) экземпляр на всю Великую и Малую и Белую Россию! Да и тот зачем-то понадобился в Моск<овской> дух<овной> академии*.
Конечно, подобные оказии не могут не действовать отрезвляюще даже на таких романтиков науки, как Цветаев. Ему недостаточно овладеть языком авгуров, доступным во всей Европе лишь горстке коллег. Ему требуется широкая проповедь искусства, понятная всем.
Итак, Цветаев постепенно меняет поле деятельности — переходит от древней литеры к античной вещи. Для того чтобы все успевать, Иван Владимирович, по его собственному признанию, вынужден не курить, не пить водку и во избежание геморроя не пользоваться извозчиком. Вместо означенных земных радостей он встает в шесть утра и работает до завтрака. После завтрака идет пешком с Трехпрудного на Моховую (из дома в университет), где читает лекции. Затем отправляется на службу в Публичный и Румянцевский музеи, после чего пешком возвращается домой, обедает, немного отдыхает и снова садится за работу: готовится к лекциям, пишет статьи, книги; если надо — официальные бумаги; в изобилии — письма. Нередко на это уходит часть ночи.
В доме Цветаева царят уют и гармония. По вечерам его встречает Вава с чаем и вишневым вареньем, с руладами из Мейербера. Утром Лёра с мамой провожают папу до дверей. Цветаев счастлив: у него есть любимая семья и любимое дело.
2
В записках дочери Валерии сохранились разрозненные, как рассыпавшаяся мозаика, события раннего детства. В них нет сюжета, целостного изображения. В них мало что происходит,
* Письмо И. В. Цветаева В. И. Модестову от 5 декабря 1888 г. // НИОР РГБ. Ф. 324. Колл. И. В. Цветаева. № 36476. Л. 228 об.
Валерия Цветаева Тироль, Италия. 1888
а происходящее почти не осмысливается. Только остановленный момент. Состояние. Впечатление.
У памятника Пушкину на Тверском бульваре няня купила Лёре красный шар на длинной нитке. Вечером дома шар ползал по потолку, а за ночь выдохся, сморщился, обвис и закачался над самым столом.
Подняв шар ко рту, няня его надувает, глаза ее смеются. Шар расправляется, растет. Слежу за чудом, сердце замирает... Шар стал больше, еще лучше прежнего...
— Нянечка, дай, дай мне!
Вдруг оглушило, и... нет ничего. Шар лопнул*.
За окном хлопьями падает снег. Мы вдвоем с няней в ее комнате. Здесь тепло, светло, веселые обои в полоску, кисейные занавески на окнах. Топится печь. Няня гладит, а я сижу на низенькой скамейке и подрубаю лоскут — одеяло кукле**.
* «Безо всякого вознаграждения...». Иваново, 2005. С. 52.
** Там же. С. 51-52.
Жизнь в Москве не обходится без праздников. Кроме царских дней и православных торжеств, москвичи придумывают собственные, домашние досуги. Родственники и друзья любят ходить друг к другу в гости. По пятницам компания собирается у Цветаевых, по воскресеньям — у Иловайских. Эти празднества запомнились Лёре:
Я любила видеть приготовления к журфиксу: с утра снимались чехлы с кресел и диванов, все блестело чистотой, раздвигался большой стол, парадно сервированный, к вечеру был он полон угощений. Комнаты освещались особенно торжественно.
Вечером съезжались гости и повидаться, и о деле поговорить, и повеселиться. У нас всегда было много музыки, пения, бывали и танцы. В карты играть ни у нас, ни у Иловайских не было принято.
Дети в журфиксах участия не принимали, их уводили спать в обычное время, до съезда гостей.
Но у детей были свои веселья, и из них елка (у себя, и в гостях, и в школе), зимние каток и с гор катанье. И хоть редко, но «театр». Помню в Большом театре феерию «Волшебные пилюли» и балет «Конек-Горбунок». Но самый пышный детский праздник, на каком мне пришлось быть, это детский маскарад у Прохоровых.
Нам пришло приглашение на детский маскарад — все дети должны были явиться в «костюмах».
Мама любила возиться со мною, согласилась ехать и решила одеть меня маленькой маркизой. Помню светло-розовое легкое платье с пышными подборами, все вышитое пестрыми бабочками, светлые шелковые чулки, белые туфельки и настоящий белый с локонами парик маркизы; мать прикрепила к нему свою бриллиантовую брошь «звезду» и на щеку посадила мне черную «мушку»*.
Семейная жизнь Ивана Владимировича текла мирно: дочка подрастала, Вава вела хозяйство, репетировала новые оперные арии, рукодельничала. А он тем временем занимался со студентами, хлопотал о ремонте музейного хозяйства, о пополнении коллекций.
У него масса дел и одна хорошая новость: в 1892 году Цветаев приглашен в Рим на праздник христианской археологии. Праздник посвящен чествованию итальянского археолога Джованни Баттиста де Росси — знатока христианской эпиграфики.
Жизнь де Росси — пример воплощенной детской мечты. Мальчиком Джованни увлекся миром римских катакомб: древних надписей, скульптур, фресок. Мир этот был почти не изучен. Он еще ждал своего первооткрывателя.
* Там же. С. 66-68.
Рим. Вход в катакомбы св. Домитиллы Начало XX в.
Отец Джованни, узнав об увлечении сына, потребовал от него никогда в жизни не спускаться в катакомбы. Он видел в сыне будущего юриста, а вовсе не искателя приключений, пусть даже под благовидной маской археолога.
Однако Джованни все же занялся археологическими разысканиями, чтобы через десятилетия стать ведущим в мире специалистом по катакомбам. «Страшный Рим» был раскопан де Росси, а потом и описан им в научных трудах. Он открыл греческие и латинские надписи первых христиан, их настенную живопись. За свои заслуги, помимо всех наград, несостоя-вшийся (хотя и дипломированный) юрист получил высший неформальный титул, который присвоил ему ученый мир: «князь христианской археологии».
В 1875 году случай свел Цветаева в Риме с художником Федором Петровичем Рейманом, который скопировал для него некоторые диалектные надписи Средней Италии. Цветаева покорила нравственная чистота Реймана, его скромность, профессиональность, преданность искусству. Подобное притягивается к подобному. Потому именно о нем вспомнил Цветаев, когда в конце 1880-х заинтересовался погребальными обрядами и, как следствие, живописью римских катакомб первых веков христианства. Постоянно живший в Риме Рейман по просьбе Цветаева согласился сделать коллекцию акварельных копий раннехристианских фресок из катакомб. Неизменный адресат цветаевских писем Василий Иванович Модестов поддержал эту инициативу и заметил, что Цветаев всегда опережает всех. Тогда в письме Модестову Иван Владимирович изложил свою «теорию узкого угла», открывающую психофизическую особенность его «творческого метода»:
Разница между всеми вами и мной только в выборе материала для работы. Вас других интересовало общее в науке о классической древности, вы другие обрабатывали целые области в нуждах нашего университетского юношества и брали более видные вопросы для литературного исследования и изложения. Меня же угоняло в угол, в узкую специальность. Из «Римской словесности» у меня вышла сначала лат<инская> историч<еская> грамматика, а потом италийская диалектология, в которой я завязил и нос и ноги на 12 лет. Случайно потянуло меня потом в бытовую историю рим-ск<ой> жизни и затем к истории античного искусства. В этой последней мне улыбнулся угол под названием «римских катакомб» — и при благополучном течении обстоятельств должны пройти многие годы, пока задуманный план издания образцов катакомбной живописи достигнет благополучного конца. А там и с колокольни долой, настанет пора опростать место другим, молодым силам.
В этом клинообразном устройстве моей головы, заставляющем меня скорее искать узкого угла, чтобы работать спокойно, и весь секрет моей научной одиссеи. Никакого опереж<ения> других здесь нет*.
Преодолеть чиновничьи препоны, с тем чтобы Ватикан разрешил русскому художнику Рейману копировать подземные фрески для создания атласа, Цветаеву помог именно де Росси.
Подвиг Реймана начался в 1888 году, когда он впервые спустился в катакомбы, установил там свой деревянный стул и принялся за акварельную копию первой фрески.
Изо дня в день, из года в год с утра до вечера «среди темноты и безмолвия глубокой могилы, простиравшейся на целые версты кругом»**, Федор Петрович рисовал — картон за картоном — свои единственные в мире акварели. За пять лет их накопилось около пятидесяти, а за все двенадцать лет работы — свыше ста. Чтобы оценить труд Реймана, помимо его художественных достоинств надо представить себе те условия, в которых он работал. Сырой и спертый воздух подземелья; холод, темнота; «кругом в нишах и гробницах тлеющие кости с их вековой пылью»***. Только художник-анахорет, всецело поглощенный своей задачей, мог с этим справиться.
Прежде всего надо было победить полный мрак. Электрическое освещение по тем временам было недоступно ввиду крайней дороговизны. Даже богатейший Ватикан не позволял себе роскошь электрифицировать катакомбы. Керосиновыми лампами пользоваться запрещалось из-за копоти, портившей
* Письмо И. В. Цветаева В. И. Модестову от 13 июня 1889 г. // НИОР РГБ. Ф. 324. Колл. И. В. Цветаева. № 36476. Л. 234 об., 235.
** Цветаев И. В. Праздник христианской археологии в Риме. М., 1893. С. 18.
*** Цветаев И. В. Римские катакомбы // Русское обозрение. 1896. № 5. С. 18.
Вид капеллы Януария в римских катакомбах Претестата Роспись IVв. Акварельная копия Ф. П. Реймана. 1896
фрески. То же относилось и к большим пучкам свечей. Они искрили, коптили, пламя дрожало. Оставались штучные свечи, озарявшие фреску на стене и картон акварелиста. Из-за сырости, затхлости и холода каждые два часа художнику нужно было прерывать работу и подниматься на свежий воздух. В катакомбах даже стулья не выдерживали — сгнивали.
Кроме копирования фресок Цветаев организовал их фотографирование. Он понимал, что в катакомбы «фотографа могут загнать... только голод да нужда»*, но не представлял себе, насколько трудоемким окажется процесс фотографирования: поиски лучших ракурсов, оптимальных подсветок. За целый день фотографу-профессионалу удавалось снять две-три фрески.
Цветаев И. В. Римские катакомбы // Русское обозрение. 1896. № 5. С. 21.
Совесть Ивана Владимировича страдала оттого, что он поставил не себя, а в первую очередь Реймана в такие условия, поэтому на всех ученых собраниях, всюду и везде он рассказывал о подвижничестве художника, хлопотал о возможных моральных и денежных компенсациях для него.
Впрочем, в отсутствии подвижничества Цветаев не мог бы упрекнуть и себя самого. Сфера его интересов стала перемещаться от эпиграфики к истории искусств, но его редкостная работоспособность ничуть не уменьшилась. Точно так же, как некогда, изучая оскские надписи, он исколесил на поездах, платформах, дилижансах, верхом на мулах и просто на своих двоих всю Италию, теперь он без устали путешествовал по музеям Европы, по большим и маленьким городам, громадным соборам и крохотным церквушкам в поисках шедевров искусства. Кроме античной пластики его привлекала и скульптура Средневековья, и мраморы Возрождения. Куда бы Иван Владимирович ни приезжал, первой его заботой стало теперь обстоятельное обследование здешнего музея изящных искусств, знакомство с местными археологами, историками, музейщиками. Все это готовило почву... А к чему? Этого он и сам не знал. Он радел пока только о Кабинете и музеях, пополняя их по мере сил и средств. Он знал только, что отдает подготовительной работе всего себя и что его приписка в письмах: «утомился дотла» — не фигура речи, а реальное состояние.
В 1888 году Цветаев был приглашен на тысячелетие старейшего в Европе Болонского университета, где ему присвоили ученую степень доктора наук. Так сами итальянцы отметили его заслуги в области эпиграфики древних италиков. Торжественная черта под этой деятельностью, казалось, была подведена, и Цветаев третий раз в жизни решился на смену рода занятий. Подобно тому как в юности он отказался от традиционной для их семьи стези священнослужительства, сменив ее на призвание филолога-классика, а потом от критики текста перешел к работе филолога-археолога, так теперь от археологии он делает поворот в сторону истории искусств, прежде всего в сторону античной архитектуры и пластики. Позже он напишет философу Василию Розанову:
Счастьем я объясняю и неожиданные диалектологические (изучение диалектов и говоров) успехи по древней Италии: молодая любознательность была устремлена на самые источники дела, какими служили италийские надписи, — и молодая отвага путешествий по итальянским захолустьям, каковы, напр<имер>, Абруццы, вознаградилась неожиданными результатами Вспоминаю об этом как о чем-то светлом, чистом... В 1888 году у меня состоялось решение занять кафедру изящных искусств, к которой
меня подготовляли те же... ос<с>ки... Из-за них, а потом из-за всех остальных италиков... я должен был работать по всем музеям Италии; так я сроднился с скульптурою и «римскими вещественными древностями»*.
На лекциях по античной пластике в Московском университете даже такому златоусту, как профессор Цветаев, невозможно было ограничиваться одними словесными описаниями. Студентам показывали гипсовые слепки с образцов древнегреческой скульптуры. Но их было мало. Они далеко не отражали всего царства достойных изучения античных статуй. Чтобы исправить положение дел, Цветаев решил пойти по двум направлениям: во-первых, создать фотографический атлас греческого ваяния, а во-вторых, постоянно расширять музейные и кабинетные коллекции, благо дарители не редели и рука дающего не оскудевала. Иван Владимирович исходил из того, что экспонатов должно быть много, памятуя латинское изречение: «Qui unum vidit, nihil vidit; qui centum vidit, unum vidit»**.
Для того чтобы учить других, надо учиться самому. Оригинальное ядро античной пластики составляло, бесспорно, греческое ваяние. Художественный дух древних греков полнее всего выразил себя в архитектуре и скульптуре с ее совершенным воплощением телесной грации в образах женственных богинь или мужественных богов и героев. Однако Иван Владимирович сокрушался: дожив до сорока двух лет, он ни разу не был в Греции и не видел воочию тех подлинников, копии которых показывал студентам.
И вот весной 1889 года на пароходе «Principe Amedeo» Цветаев отплывает к берегам Эллады. Судовые и путевые заметки, отправленные Ивану Помяловскому, станут нашей опорой в освещении этого путешествия.
3
Путь Цветаева лежал через Адриатическое и Ионическое моря. 30 апреля от берегов Албании Иван Владимирович отправил Помяловскому письмо, в котором описывал удачное начало путешествия:
Забравшись вчера в Бриндизи в рубку парохода «Principe Amedeo», который должен был нести меня к берегам Греции, я, написавши
* Письмо И. В. Цветаева В. В. Розанову от 3 июня 1911 г. // Новое время. 1913. 19 сентября.
** Кто видит одно, ничего не видит; кто видит сто, видит одно (лат.).
поздравительн<ое> письмо Ник<олаю> Михайл<овичу> (Благовещенскому. — А. С.) к Николину дню, полез в свою каюту и скоро, убаюканный мелодичным шепотом легкой волны, заснул, заснул крепко и проспал ровно 10 часов. Было уже 8 часов утра, пароходная прислуга громко стучала кофейной посудой, сервируя завтрак, когда я вылез из своей ниши. Не будь я в своей стихии, не баюкай меня эти волны, я не покоился бы таким безмятежным сном.
Пора сказать о теперешнем путешествии. Пароход — отличный: большой (одного экипажа 46 чел<овек>), щегольской. Зала I кл<асса> в золоте; стены ее из мозаичного дерева; два фортепиано, шелковая мебель, изящные люстры, лампы. Пассажиров... 4 (!) человека, пополам поделившиеся меж 1 и 2 классом. За завтраком сидели капитан и высшие чины экипажа — и все поместились на кончике стола. Накормили нас отлично, хотя и очень рано: в 91/, ч<асов> подали бульон, принчипии (соленую рыбу, оливки, масло, хлеб), рыбу, бифштекс, фрукты и сыр с превосходным сицилийским вином*.
Наконец берега Эллады достигнуты, а затем достигнута и столица. Руководствуясь популярным путеводителем Карла Бедекера, Цветаев посетил «кое-какие древности — понюхал и пощупал и их»**. Из Афин он в течение двух дней пишет большое письмо Помяловскому, сообщая свои впечатления от увиденных городов:
Афины. 7 мая (ст<арого> ст<иля>) 1889.
Дорогой мой друг Иван Васильевич.
С дороги от Бриндизи до Патраса я писал Вам и послал письмо сейчас же, высадившись на греческий берег. С тех пор прошло только 5 дней, а как много нового, сколько чудных мест и удивительных предметов пришлось мне увидеть. <...>
Патрас считается 2-м городом в Греции по значительности населения и торговым оборотам, создаваемым ему портом. По наружности это один из небольших наших губернских городов, только грязи здесь несравненно больше, и колорит населения и построек восточный. Масса босоногого люда на пристани, фески, шарвары, широченные белые юбки, в которые одеты мужчины, делавшиеся от того похожи на баб, кофейни, занимающие своими столиками целые площади и тротуары, постоянное сиденье патрасцев в этих кофейнях, куренье из кальяна, загорелые лица мужчин и женщин — все это говорило, что я попал на восток с его своеобразными характеристическими чертами.
Жел<езная> дорога от Патраса до Афин, выстроенная недавно, тянется по берегам Коринфского и Саронического заливов.
* Соснина Е. Б. Музы Трехпрудного переулка... С. 140-141, 143.
** Там же. С. 145.
До самого Истма ехали мы истинным садом с чудной панорамой залива: с одной стороны оливковые леса, целые кипарисовые рощи, поля, засаженные особым сортом винограда, дающего изюм, невысокие и доверху покрытые зеленью горы, а с другой — лазоревые воды залива, то суживающегося, как река, то раздававшегося, как море. Прелести ландшафта отвечало и благозвучие имен исторических урочищ, мимо которых потихоньку проезжал наш поезд, — Коринф, Мегара, Элевзис. Нынешний Коринф — бедный городишко, выстроенный на берегу залива. Дома его сложены из необожженной глины и имеют пыльный вид. Со своими затворенными окнами, по случаю жаркого дня, он имел бы мертвый вид, если бы кое-где не копошилось его население, занимаясь молотьбой только что снятого ячменя. Исторические урочища его лежат на высокой горе, на которую я слажу на обратном пути. Смотря на эти лачуги, трудно было верить, что в этих местах в древности был выработан особый архитектурный стиль, увенчавший свое имя в истории; смотря на эту горстку мужиков, молотивших свой ячмень, нелегко было вообразить, что здесь было некогда столь значительное население, что апостол Павел должен был, в интересах новой религии, писать ему особенное послание. Sic transit gloria*, — невольно вертелось на уме при этом зрелище.
Мегара со своим 5000 населением красиво раскинулась по горе и представляется городом большего размера, чем есть в действительности. Присутствие зелени около домов резко отличает ее от мертвенного Коринфа.
Путь делается печальным вблизи, следуют скалы, отсутствие растительности; но зато глаз видит в светлых водах Саронического залива Эгину, Саламин и целый архипелаг маленьких островов. Мысль и глаза несутся, конечно, к Афинам, но их не видать долго. Мы должны были проехать по головокружительной <тропинке>, висящей в отвесном обрыве над самым морем, чтобы выехать после к Мегаре, к Элевзину и Афинской долине. На плохонькой станции деревушки Элевзина я помянул таинство греков крутым яйцом, которое едва успел купить в буфете. Скоро мы увидели и Афины с Акрополем, залитым светом заходившего солнца. Это был лучший из видов, которые я когда-либо встречал. Много гор прелестных в мире, но там красота — продукт слепых, стихийных сил природы, а эта гора носит следы гения человеческого ума, возвысившегося раз до недосягаемых вершин. Парфенон, венчающий эту гору, дает ей издали преимущество перед всеми горами мира. Поезд промчался по оливковой долине, и вот мы в Афинах. До завтра.
8-е мая.
Имею честь Вас поздравить: я ныне именинник; вместо кренделя примите в подарок нижеследующие строки.
Первым делом по приезде подкрепить свою изнемогающую от голода и сильных ощущений плоть и потом посмотреть на
* Так проходит [земная] слава (лат.).
ближайшую часть города в его вечерней обстановке. Рестораны гостиниц внизу, так же как и в Италии, и окна и двери их в эту пору открыты прямо на улицу, на тротуар. Кормят греки не то чтобы уж больно хорошо, но нельзя и особенно жаловаться, когда привыкаешь к выбору блюд. В приправах преобладают лук, шафран, бобы. Рассматривая бессмысленно греческое menu обеда, я между супами ткнул пальцем на одно названье, не зная его значения, — и мне принесли блюдо пилава с творогом. Гадость порядочная... Затем вместо рыбы получил я какого-то многоногого морского гада с черными, как смоль, внутренностями. Порезал я его вдоль и поперек, почистил это темное нутро — да уж больно стала противна такая операция: отослал и это снадобье назад, заменив его ягненком с луком. Дали вино, совершенно черное и прегорькое на вкус. Оказалось это — вино, пропитанное смолою, которая будто очень полезна для пищеварения, но для непривычного человека оказалась решительно противной. Так неудачно потрапезовавши на первый раз, пошел бродить по панели. Поселился я на главной улице и потому мог пройти ее в первый же вечер. После Италии здесь тихо и спокойно.
Хитроумные греки сидели в кофейнях и курили из кальянов или играли в нарты (так! — А. С.) и шашки. Столики выходили даже на самую дорогу, а в иных местах тротуары совсем были баррикадированы этой массой любителей кофейной жизни. Где оказывались <нрзб> победители, там не было ни одного места свободного. В лучших кафе играла инструментальная музыка, перед другими завывали шарманки мотивы французских опереток*.
Особое впечатление на путешественника произвели Акрополь и Парфенон:
Рано утром на другой день направил я свои стопы к Акрополю. Погода была отличная, и я с неописуемым восторгом взбирался на эти исторические высоты. Миновал Ареопаг, представляющий теперь совершенно пустую скалу, по которой бродили лишь козы, и очутился вскоре в воротах Beule, на западной части Акрополя.
Трудно описать тот восторг и то умиление, охватывающие при входе на это великое место: Парфенон вас подавляет величием красоты и в своих обломках. Тут немеет язык, и чувство какой-то внутренней беспомощности овладевает в первую минуту, когда проходишь колоннадой в колоссальную Celia (целла, внутреннее святилище античного храма. — А. С.). Что за царственное было это здание! Какой размах и зодчества и скульптуры! В первое время было не до деталей, не до частностей, а только ходил и ходил я и по Celia и по всей колоннаде, почтительно задирая голову вверх. И что за виды чудные из Парфенона по всем направлениям: на Гиммет и Пентиликон, на берега, острова и воды Саронического залива, на горы Арголиды, на весь город с его великолепной
Соснина Е. Б. Музы Трехпрудного переулка... С. 144-147.
Афинский Акрополь Начало XX в.
Парфенон Начало XX в.
оливковой долиной. Не насмотрелся, и уходить не хотелось бы; но солнце жгло. Обежавши затем Эрехтейон и Музей, я спустился вниз. Переждав время до 3-х часов дома, к вечеру был опять на Акрополе, теперь с Бедекером в руках, и ушел оттуда только по приглашению сторожа, после заката. С тех пор каждые полдня провожу там, то в Музее, то среди этих удивительных руин. Бедекера заменил Бет-тихер (архитектор и археолог, автор книг по истории искусств и археологии. — А. С.). Другие полдня проходят в Национ<альном> музее или в Политехникуме. Нац<иональный> муз<ей> особенно дорог для архаического периода греч<еской> пластики; прелестны и надгробные рельефы, кот<орых> здесь масса*.
Цветаев провел там еще около десяти дней и далее отправился в Олимпию — «на поклон Гермесу Праксителя»**.
Будучи с рассвета до заката на ногах, путешественник умудряется находить силы и время на то, чтобы посылать другу наиподробнейшие отчеты обо всем происходящем:
Олимпия, 25-26 мая (ст<арого> ст<иля>).
Дорогой мой друг Иван Васильевич.
Пишу Вам с последнего пункта моего блуждания по Греции. Ознакомившись по мере возможности с сокровищами Акрополя и музеев в Афинах, я двинулся через Коринф в Пелопоннес. Следуя Бедекеру, я проехал до Навплия и уже оттуда начал делать экскурсии в разные места Арголиды. Первым местом моего археологического паломничества был Эпидавр с его Гиероном. Рассказы Фукара, директора французской Ecole d’Athenes (Археологическая школа в Афинах. — А. С.), и некоторых немецких молодых археологов, живущих в Афинах, сильно заинтересовали меня, потому я решил предпринять эту поездку. В Гиероне, как и говорили мне, сохранился отлично театр, дающий своей цельностью большее понятие о сцене, орхестре и местах для зрителей, чем даже театр Диониса в Афинах. В последнем сохранились в целости только нижние ряды сидений, прекрасно сохранилась орхестра, но от сцены не осталось ничего, кроме части ее передней стены. Верхние ряды, тянувшиеся по горе, и сцену приходится воссоздавать воображением. В Эпидаврском театре сохранились все места для публики, вся орхестра, имеющая здесь совершенно круглый вид, и вся сцена. Такого полного впечатления я не ожидал даже и после рассказов Фукара. Это был первый театр классической древности, который я видел в столь удивительной сохранности. Относительно хорошее дает понятие и храм Эскулапа. Осмотр остальных руин, как стадия, бань, палестры, убедил меня, что этот Гиерон Эскулапа был славным курортом Греции, и, как в нынешних курортах, здесь заботились не только о лечении больных, но и об их удовольствиях. На эту поездку я употребил 14 часов, из которых
* Соснина Е. Б. Музы Трехпрудного переулка... С. 147-148.
** Там же. С. 148.
10 часов провел на муле. Выехавши в 6 1/г часов из Навплии, мы воротились уже в 9-м часу, когда совершенно стемнело. <...>
Далее в моем маршруте стояли в Арголиде: Тиринф, Аргос, Микены. Все это оказалось в двух больших шагах друг от друга. Аргос и Микены расположены на двух горах в столь близком расстоянии, что Диомед и Агамемнон могли посылать друг другу с вышек своих дворцов воздушные поцелуи. С любой из этих гор можно было видеть все три города, и Арголинский голубой залив, и Навплию. Начал я с недавно раскопанного Шлиманом Тиринфа, славного не золотом, на которое Шл<иман> такой счастливец, но удивительной сохранностью циклопических стен горы и других построек. Его колоссальные коридоры, его треугольные ворота и остатки огромного дворца с большим количеством комнат весьма характерны. Исходивши его и вокруг, и вдоль, и поперек... я следующим поездом двинулся в Аргос. От прежней его славы остались только отличные лошади. Извозчики выехали навстречу в четырехместных превосходных колясках, запряженных парой откормленных рысаков. Как нарочно, не нашлось ни одного приезжего, который бы понуждался в них. До города всего 5-7 минут, дорога отличная — приезжие пошли все пешком. За другими отправился и я. Город имеет вид большого нашего села. Дома почти все одноэтажные, тонут в зелени садов. На улицу все окна закрыты ставнями и открыты внутрь дворов или огородов. Там, где окна отворены, видно было, что и в этом городе, как в деревнях, стекло считается лишней прикрасой. Я видел оконные колоды, совершенно сгнившие, не знавшие стекол. Не много лучше окраин и центр города. Церковь одна; на улицах грязь и всяческие работы на виду у всех. Кухарь варит и жарит свои снадобья, портной стегает свои материи, слесарь, пряха, кузнец, бондарь — все работают в своих лавчонках с открытыми дверями, перекликаясь в этих тесных улицах один vis-a-vis с другим. Меня интересовал коммунальный музей, и потому я прямо отправился в димархию*. Грязная комнатушка, в которой сбиты древности без всякого порядка. Только что подороже собрано в особый шкаф. Здесь, между прочим, находится один барельеф, напоминающий собою «Копьеносца» Поликлета, главы Аргосской школы скульпторов. Мне захотелось снять фотографию. Фотограф оказался один на весь город. Насилу я нашел его мастерскую на окраине в каком-то огороде. Как нарочно, он уехал в Навплию, о чем он письменно и оповестил публику на городской площади. Об этом объявлении я узнал уже после. Но если сам город замечателен своей незначительностью, то его акрополь, Ларисса, поражает красотою открывающихся оттуда видов на всю Арголиду: на отдельные ее горы, на усеянные нивами долины и на море.
В Микенах я провел сутки. На месте столицы Агамемнона нет никакого человеческого жилища. Город совершенно мертвый, как Тиринф, и чтобы войти в него, нужно сначала отпереть желез<ную> решетку в знаменитых воротах со львами. Ключи
Муниципалитет (греч.).
хранятся у псаломщика соседнего села Харвати. Этот клирик и был моим гидом и гостеприимным хозяином. До села я добрался пешком, оставив багаж на станции. При входе в селение меня встретил бедно одетый мальчик, высланный отцом навстречу. Он меня и провел мимо грязных изб и дворов к археологу — отцу. Через 5 минут мы отправились дальше на гору. Первой достопримечательностью на пути были т<ак> н<азываемые> Тезавры Атрея и других царей Микен. Это колоссальные гробницы, высеченные в скалах в виде совершенно правильной воронки и выложенные сверху донизу огромными камнями внутри. Направление этих концентрических кругов идет постоянно суживаясь кверху. Несколько кусков обтесанного камня свалились вниз — и оттого осмотр «атреевского» Тезавра этого, иначе совершенно темного здания, теперь легок: солнце красивой струей льет сюда волны света и озаряет желтые стены и плотно убитый пол. Этот последний имеет 19 шагов в диаметре. Стены когда-то были украшены бронзовыми бляхами, от которых остались одни гвозди. Эта щегольская постройка была только преддверием к гробнице, которая высечена вправо и которая лишена всяких украшений. Чтобы осмотреть ее, мой гид дал мне пучок сухой зажженной пинии, и с таким-то факелом мы вошли в пещеру.
Шлимановские раскопки открыли целый ряд таких воронкообразных гробниц по всем сторонам горы, на вершине и по бокам которой были раскинуты Микены. Теперь не может быть и речи о каких-то Тезаврах. Археологическая дотошливость сейчас же, впрочем, окрестила эти гробницы громкими именами Атрея, Агамемнона, Клитемнестры и Эгиста и т. д. В музейчике, находившемся в вышеназванной Харвати, мне хранитель (тот же псаломщик) показывал даже оскаленную челюсть Агамемнона, прах которого положен в деревянную со стеклами раку. После круглых гробниц мы вошлина Акрополь. Львы над воротами, считающиеся древнейшими образчиками каменной скульптуры в Европе, действительно внушительны даже и без голов. А колонка, разделяющая их, единственная по форме пьедестала и капители; равной или подобной ей доселе ничего не найдено. Центр нижнего Акрополя составляет небольшая площадка, обнесенная особенным каменным забором, будто бы служившая местом совещаний царей с знатнейшими или старейшими из граждан. Вот эту-то площадь и вздумалось взрыть Шлиману, здесь-то и нашел он свой знаменитый клад в правильных четвероугольных могилах. По его следам рыло с таким же успехом и Афин<ское> арх<еологическое> общ<ество>. Для жилищ в этой нижней террасе Акрополя, обнесенной циклопическими стенами, места почти не было. Указывается лишь небольшой для того уголок. Царский дворец был на вершине, и от него имеются видимые следы.
В Харвати я должен был ночевать и дожидаться поезда до следующего полудня. Там я собирался написать Вам, но набросал только письмецо В<арваре> Д<митриев>не: так было тяжело оставаться в доме моего хозяина! В тот день умирал священник этого села, тесть этого причетника, умирал в том же доме, в задней избе. Много я видел бедности, нечистоты, убожества в среде нашего сельского духовенства; но наш последний деревенский дьячок — король
в сравнении с этой семьей священника, которую я здесь вынужден был видеть. Умирающий валялся на глиняном полу, прикрытый грязными лохмотьями. <...>
При виде такого зрелища и при предсмертном храпе больного хотелось уйти вон из квартиры. Другого помещения в деревушке найти было нельзя — и потому я опять отправился на микенскую гору бродить около руин и воротился домой вместе со стадом коз уже после заката.
Пока на другой день я добрался до ресторана в Коринфском вокзале, пришлось 1,5 суток питаться крутыми яйцами и овечьим сыром. Здесь я видел отъезжавшую в Петербург королевскую семью на свадьбу принцессы Александры Георгиевны и Павла Александровича. Остановка продолжалась минут 10, и я успел насмотреться на это молодое, красивое, симпатичное лицо. В Пат-расе я сел на пароход и отправился оттуда на остров Зантэ, потом в Катаколо. К полудню на другой день по ж<елезной> дороге прибыл в Пиргос, а отсюда пешком к закату пришел в Олимпию. Эти переходы с ж<елезной> д<ороги> на пароход и обратно, неизбежная война с лодочниками, запрашивающими сказочные цены и кончающими 1 или 0,5 франком, эта торопливость доставания билетов (в Патрасе я не успел взять билета на пароход и потому вынужден был сходить на берег в Зантэ, чтобы купить его в конторе Агентства) не скажу, чтобы не были утомительны. Но зато переход от Пиргоса до Олимпии был преисполнен прелести. Дорога тянулась меж невысокими холмами в долине, усаженной виноградом или усеянной нивами. Ландшафт какой-то мирный, ласкающий. День был не только отличный по погоде (хотя и очень жаркий), но и праздничный (день Константина и Елены в современной Греции справляется как национальный праздник ввиду того, что наследника престола зовут Константином); население деревень было все на улице и в нарядных пестрых костюмах. В каждой деревне я останавливался минут на 10 полюбоваться этой картиной. В них были сборища из других горных селений. И по дороге и в горах было сильное движение всадников с конями и мулами, покрытыми цветными попонами. Слышались песни, смех, громкие разговоры и перекликиванья в горах. В кабачках играла музыка, и молодежь танцевала. Все это было так не похоже на обычно угрюмый, унылый, молчаливый и исподлобья смотрящий тип греков, виденных мною дотоле. И теперь я убедился, что жители Эллады веселее и чистоплотнее других соотечественников*.
В Олимпии Цветаев провел около недели, занимаясь исследованием раскопок богатейшего храмового комплекса Альтиса. Он остановился в заезжем доме неподалеку от музея Олимпии и подробно описал Помяловскому свой распорядок дня:
В 5 часов утра уже все тут на ногах, и хозяин дает на крылечке мне кофе. До завтрака или, вернее, обеда в 12 часов бродишь по Альтису с Бедекером и Беттихером в руках. Топографического и архитектурного материала тут столько, что я лишь на 4-й день обошел его и обнюхал весь. Для этого я разделил разрытое поле на 4 части и каждый раз двигался только в очередной полосе, начавши с центра — храма Юпитера Олимпийского. Сколько тут поучительного. От 12 до 1 часу обедаем и разговариваем по-немецки с эфором музея и древностей, живущим здесь бобылем и потому столующимся в том же месте, где и я. До 3-х с ним, а затем в Музей и перед закатом — на соседние холмы или к Алфею или Кладеосу. В 9-м часу ужинаем, пьем кофе, красное вино, и в 11 часов и у него в Музее, и в нашей лачуге огни потушены. Сезон теперь мертвый, из иностранцев нет никого. О немецких археологических знаменитостях, перепивших много вина у моего хозяина, говорят только их фотографические карточки да надпись на деревянном столбе, стоящем посередине кабачка, которая перечисляет ученых, производивших раскопки. Жили они в собственном доме на сосед<ней> горе, который теперь стоит с выбитыми окнами в страшном запустении. Кто приезжает сюда теперь, тот останавливается или в этом кабачке, или в Музее. Но наконец довольно. Останусь я здесь еще 3 дня. Привет Екатерине Михайловне.
Ваш И. Цветаев*.
Параллельно с детальными эпистолами Помяловскому Иван Владимирович пишет Ваве. Тон писем жене, конечно, иной. Впечатления изложены короче и проще, а в конце — привет маленькой Лёре:
Как вы живете, что Лера? Целую вас обеих. <...> Будьте благополучны. Твой Ваня. Посылаю вам несколько цветочков из священной рощи Олимпии**.
После Греции, будучи вблизи Италии, Иван Владимирович не мог отказать себе в удовольствии снова побывать на Апеннинах. Хоть он и уходил от эпиграфики, однако уходил постепенно, она еще держала его, не отпускала окончательно. На Неаполь и Капую Цветаев отвел одну неделю, а пробыл там две, поскольку попал «в настоящий сенокос по части новых осских надписей»***. Затем он отправляется пешком в Кампанию, посещает Рим, где местные изыскатели вскрыли древние гробницы с отлично сохранившимися надписями. После Рима — Флоренция.
* Там же. С. 156.
** Там же. С. 175.
*** Там же. С. 158.
И наконец — в Москву. Домой. В Трехпрудный.
Спустя год после этого путешествия сбылась мечта Вавы: у них с Иваном родился un tout petit garson Andrusha*. Первые дни Варвара Дмитриевна была очень слаба. Потом силы стали возвращаться. Она занимала себя шитьем и вязанием для сына. Но на девятый день утром Вава, держа мальчика на руках, вдруг почувствовала себя дурно и скоропостижно скончалась на глазах у Ивана Владимировича.
* Совсем маленький мальчик Андрюша (фр.).
Глава третья
ПОВОРОТ СУДЬБЫ
Тщетно, художник, ты мнишь, что творений своих ты создатель! Вечно носились они над землею, незримые оку.
Нет, то не Фидий воздвиг олимпийского славного Зевса! Фидий ли выдумал это чело, эту львиную гриву, Ласковый, царственный взор из-под мрака бровей громоносных?
А. К. Толстой
Второй брак
Тоска по Ваве. — Атлас ваяния. — Мейны. Молодая жена
1
Это случилось в конце апреля 1890 года.
Иван Владимирович остался один с семилетней дочкой и девятидневным сыном на руках.
Была Вава — было все. Дом, радость, музыка, письма, друзья, университет... Нет Вавы — и все померкло, обессмыслилось. Цветаев не мог ни работать, ни делать записи, ни читать:
Раз к вечеру пришел ко мне фотограф за справками... и получасовая беседа с ним до того утомила меня, что я почувствовал какой-то жгучий жар в голове и, не окончив разговора, отпустил его*.
Беда настолько оглушила Цветаева, что он ушел в себя, проводя время, насколько было возможно, в молчаливом одиночестве.
Жалость к Ваве, внезапность ее кончины без исповеди, без покаяния, без церковного благословения, гнетущая скорбь по ней смешались с мыслями о детях, особенно о беспомощном младенце.
Прошло три недели, прежде чем он собрался с духом ответить на письма Помяловского — своего задушевного петербургского друга, ему первому рассказать, что приключилось и как.
Удар, поразивший нас, был тем сильнее, что никто, ни мы, ни сама Вава, не подозревали ничего подобного. Отнявшиеся ноги наполовину отошли, левая нога пришла в нормальное положение, стали возвращаться силы и правой. По мере приближения 9-го дня она оживала и все время бодрствования проводила в шитье и вязанье для Андрюши, появлению которого на свет она была особенно рада. Сына ей хотелось и в 1-й раз, о сыне мечтала она и весь этот год. Накануне установлен был день его крестин, вечером она послала меня к священнику и будущей матери-крестной. Встала, то есть проснулась она в обычное время, попросила чаю, сделала распоряжения насчет стола, поручила переменить ленточки для крестильной сорочки Андрюши, потребовала себе мальчика на руки, пестовала его и ласкала его. А потом через две-три минуты бегут ко мне наверх с криком, что барыне дурно. Я сбежал и вижу ее в сильнейшей дрожи и с мертвенно-бледным лицом. Она попросила меня разбинтовать ей грудь, сделала два-три глубоких вдыхания — и затем все кончилось. Я принял это за обморок, были приняты меры, сбежались соседние врачи, но все было напрасно. Явились Склифосовский и Окунькова и определили, что смерть последовала моментально, от закупорки головной артерии, что катастрофа свершилась в голове, в мозгу.
Леру пришлось отослать к соседу — проф<ессору> Брауну, в семействе которого она и прожила 10 дней, ничего не зная. Сказали, что маму увезли лечиться в Крым. Затем другие наши знакомые увезли ее в деревню, верст за 25 от Москвы, где она и остается в том же неведении. После 40-го дня с нею, малюткой, кормилицей, горничной, гувернанткой поеду в Ремезовку. Тамошняя обстановка мне знакома, а в новой пока еще не найдешься. — Писать больше не в силах*.
Сразу после переезда в Ремезовку, где он раньше бывал с женой, Цветаев пишет Помяловскому:
11 июня 1890 г. Ремезовка.
Дорогой мой друг Иван Васильевич.
Освободившись от массы разнообразных и доселе неведомых дел, слетевших на мою голову, и удалившись от мест подавляющих впечатлений, я вспоминаю Вас первым из живых моих друзей и Вам первому шлю о себе весточку из деревенской глуши.
Сюда прибыл я с Лерой, Андрюшей, гувернанткой, кормилицей и горничной третьего дня. Это был первый мой семейный переезд без Варвары Дмитриевны, который самым блистательным образом доказал справедливость эпитета «растеря», бывало ей мне
дававшегося нередко. Дома забыл я свои сапоги с калошами, часы, туфли, дорогой потерял картон с шляпой, летней фуражкой и большим мячом Леры. Позабыл купить две книжки французских сказок для Леры и добрую половину письменных принадлежностей, так что пишу теперь чужим пером.
А ведь столько было сборов и хлопот перед отъездом!
Несказанно много было и других дел за эти 40 дней: мыкался я по мировому институту, в Двор<янской> опеке, в Депутат<ском> Двор<янском> собрании, в банке и т. д. Везде копию с послужного списка, копию с документов, прошения, докладные, рапорты. Вскоре после похорон явился судеб<ный> пристав — описал имущество и отобрал документы. Опека, утвердив меня опекуном, предписала выручить документы и представить ей их «немедленно». Тут-то начались мои мытарства.
К вящему горю, выяснилось, что отсутствие духовного завещания обездолило Леру донельзя*. Из дома она получит какие-нибудь 1500 руб<лей> и до 2000 из оставшихся денег. Если умершие знают, что делается на земле в родном круге и если они рассуждают так же, как мы, грешные, то Вава должна грустить по этому поводу: так диаметрально противоположно это веление закона ее мечтам и желаниям!
Жестокость закона по отношению к дочерям заставляет меня вступить в права, о которых у меня и тени слабой помысла никогда не бывало доселе, т<о> е<сть> в права наследства. На это надоумили меня те же власти, указывая на это как на средство хотя сколько-нибудь способствовать уравнению Леры с неповинным Андрюшей.
До обеда это хождение по судам и канцеляриям и поездки в Алексеевский монастырь к вечеру наполнили все это время. Алексеевское кладбище — самое поэтичное в Москве. Вошедши в его тихую ограду и очутившись в этом мирном жилище вечных покойников, вы готовы забыть целый мир со всеми его тяжелыми сюрпризами.
Но обязательства не давали мне достаточного покоя и там; предаваться своей грусти и долго молиться на дорогой могиле я не мог, потому что к закату должен был возвращаться домой купать Андрюшу. Долг к почившей парализовался долгом к новому пришельцу в мир. Наше сиротство тем сиротливее, что у меня нет ни одной родной женщины, которая помогла бы нам в первых заботах и на первых шагах. Сначала продолжала ходить к нам акушерка, а потом научился купать сам.
Нечего говорить, мой милый друг, что за это время измотался я страшно и утомился крайне.
О книжных делах не пишу, потому что их нет: голова моя все еще не в порядке. Утомление не оставляет даже утром, тем более что по ночам мне приходится держать колясочку Андрюши подле себя и при каждом крике его звать из другой комнаты кормилицу.
* По закону наследования до 1912 г. наследство между сыновьями и дочерьми делилось так, чтобы сыновьям досталась большая часть.
Поверить ей ребенка нельзя ввиду ее привычки класть малютку во время кормления с собой на постель. Об этом предупреждала меня одна барыня, у которой она кормила 2 года назад. Я с тех пор не отпускаю ночью Андрюшу от себя ни на шаг*.
2
Все лето Цветаев провел в заботах о детях. Стараясь отвлечься от тягостных переживаний, он пишет конспект по истории греческой скульптуры и подбирает материал для задуманного им трехтомного Атласа античного ваяния — фотоэкспонаты. В работе ему помогает фотограф Б. Гольдберг, другие друзья и коллеги.
Осенью выходит первый том «Учебного атласа античного ваяния». Страницу, следующую за титулом, занимает посвящение Ваве под ее рисованными инициалами «ВДЦ»:
Памяти Варвары Дмитриевны Цветаевой, рожденной Иловайской
Тебе, мой почивший Друг, я посвящаю эту книгу, начатую в Твоем присутствии с Твоего одобрения. Щедро одаренная от природы пониманием прекрасного, горячо полюбив и глубоко изучивши одну ветвь искусства, Ты с присущим Тебе артистическим чутьем относилась и к лучшим созданиям изобразительных художеств древнего и нового мира. Под влиянием Твоих речей и советов мало-помалу совершился переход моих научных симпатий из чисто филологической области в сферу эллино-римских древностей, и оттого моей искренней мечтою было Твоим именем украсить мой первый, хотя бы и слабый, опыт в этом новом роде. Но Господь отозвал Тебя от нас в такую пору Твоей жизни и в такую минуту, когда мы, по человеческим расчетам, могли думать об этом всего менее.
Желал бы я верить, что этот дар угоден Тебе и ныне, как выражение благодарной памяти о высоких свойствах Твоей умственной и нравственной природы**.
Тираж издания — 40 экземпляров. Оно адресовано немногим студентам, изучающим историю искусств. Вообще Атлас напоминает не столько книги по искусству, содержащие роскошные репродукции, снабженные текстом искусствоведов, комментариями и ссылками, сколько массивный семейный альбом без какого-либо текста, кроме краткого предисловия составителя да лапидарных подписей к черно-белым фотографиям статуй
* Соснина Е. Б. Музы Трехпрудного переулка... С. 179-182.
** Цветаев И. В. Учебный атлас античного ваяния: В 3 т. М., 1890-1894. Т. 1.
античных богов и богинь, мифологических героев, скульптурных фрагментов древних храмов. Доисторическая эпоха обозначена недавними раскопками Шлимана в Троаде, Микенах и Орхомене. Это — идолы, глиняные сосуды, золотые ожерелья и пуговицы. Это — золотые маски и диадемы из гробниц Микенского акрополя. Это — бронзовые клинки с золотыми и серебряными инкрустациями.
Во втором томе Атласа, в разделе, посвященном искусству V века до нашей эры, представлено творчество Мирона, Фидия, Поликлета и их школ. А третий том вводит студентов в мир Скопаса, Праксителя, Лисиппа, мастеров эллинистической эпохи. Подробно рассмотрены скульптуры афинского храма Парфенона, украшения его архитектурных элементов.
Особенность античных скульптур — в их обнаженности. Искусство античных мастеров телесно. Это искусство форм. В период становления христианской веры античные памятники в Греции уничтожались, как на Руси — памятники славянского язычества. Древние статуи воспринимались как идолы некоторой частью русского общества даже в конце XIX века, когда Цветаев издал свой Атлас. «Вот опасная сторона занятия языческими истуканами. Вся западная гордыня коренится в язычестве»*, — возражали Цветаеву его оппоненты. А он полагал, что спокойное благородство и величавость античных образцов, их телесная красота просветляют душу. Восхищенный культурой античности, он писал о преобразующем начале искусства: «Я вижу жизнь... не там, где искусство ее воплотило, потому что ведь искусство остается искусством, а я вижу жизнь рядом с этим произведением, ту жизненную атмосферу, историческую среду, которая в конце концов это искусство и родила»**.
3
Александр Данилович Мейн слыл человеком умным, дальновидным, деловым. Одно время он служил управляющим канцелярией московского генерал-губернатора, потом вышел на пенсию, успешно занимался банковской деятельностью, входя в совет Международного банка и в правление Земельного банка Москвы. Кроме того, Мейн прославился как журналист, учредив частное агентство новостей и публикуясь в газетах.
* Письмо П. И. Бартенева И. В. Цветаеву от 11 июля 1898 г. // ОР ГМИИ. Ф.6. Оп. 1.Д. 196.
** Жебелев С. А. Из университетских воспоминаний // Анналы. 1922. № 2. С.174.
Сусанна Давыдовна и Александр Данилович Мейны Конец XIX— начало XX в.
Александр Данилович женился на польке Марии Бернацкой — дочери потомка шляхтича и графини Ледуховской. У Мейнов родилась дочь Маша. Через три недели после родов мать умерла.
Отец делал все, что позволило бы смягчить дочери ее сиротство. Он выписал ей бонну из Швейцарии — добропорядочную Сусанну Эмлер*, которую Маша называла Тьо (вероятно, от русского слова тётя, произносимого Сусанной Давыдовной со «швейцарским прононсом»: тьётя). Чтобы Маша не грустила в одиночестве без сестер и братьев, он взял в дом воспитанницу Марию Барто — Машину ровесницу, дочь бедных родителей, и относился к ней как ко второй дочке. Он предпочел дать девочкам не гимназическое, а домашнее
Впоследствии А. Д. Мейн женился на ней.
Мария Александровна Мейн (справа) и Мария Барто 1880-е
образование. Уроки фортепианной игры Маше преподавала ученица Николая Рубинштейна, а рисования — художник Михаил Клодт. В Большом зале консерватории отец абонировал Маше постоянное кресло. Музыка вошла в ее жизнь с детства и стала сильнейшей жизненной страстью.
В юности Маша пережила первую несчастную любовь к загадочному Сергею, который оказался несвободен. Страдания сильно изменили ее характер. Девушку, по ее собственным признаниям, преследовала «постоянная томительная грусть»*, «постоянная тайная тревога»**, «жуткая раздражительность»***.
* Цит. по: ЛнисковичЛ. Мария Александровна и Иван Владимирович Цветаевы: Жизнь на высокий лад. М., 2007. С. 21.
** Там же. С. 19.
*** Тамже. С. 21.
Иван Владимирович Цветаев 1890-е
Александр Данилович понял, что пришла пора устраивать судьбу дочери.
Они давно были знакомы с профессором Цветаевым, ходили с Машей по пятницам на журфиксы в Трехпрудный еще при жизни Вавы. Александр Данилович сочувствовал Цветаеву в его беде. Вероятно, относился к нему как к своему собрату по несчастью.
Иван Владимирович сильно тосковал. Опустевший без Вавы Трехпрудный, пошатнувшееся домашнее хозяйство, перекоры распустившейся без присмотра прислуги, а главное — не обихоженные вовремя дети, целыми днями остающиеся без родительского попечения, — все это заставляло Цветаева
задуматься о будущем. А будущее могло быть связано для него только с повторным браком, с введением в дом новой хозяйки в надежде, что она станет чужим детям не мачехой, но матерью.
Иван Владимирович был старше Маши ровно вдвое. Она годилась ему в дочери. Они принадлежали к разным поколениям. Для Маши Цветаев был пожилым вдовцом, влюбленным в свою ушедшую из жизни жену, еще не успевшим ее оплакать, отцом двоих маленьких детей, человеком небогатым, не героическим, более чем скромным в своих амбициях, к тому же лишенным музыкального слуха, а значит, не способным разделить с Машей ее страсть к музыке...
Иван любил Ваву, а Маша была совсем другой. Пожалуй, единственное, что сближало ее с Варей, — это музыкальность. Госпожа Цветаева (Иловайская) прекрасно пела, а госпожа Мейн — играла на фортепиано с мастерством виртуоза. Маша не блистала ни красотой, ни утонченностью, ни желанием и умением красиво одеваться, украшать жизнь изящными безделушками. Второй ее страстью после музыки была поэзия. В характере Маши присутствовали прямота и резкость, которых не замечалось в Ваве и которые диссонировали с мягкостью и обходительностью Ивана Владимировича.
Можно было бы удивиться тому, что Мейн-старший желал своей единственной двадцатидвухлетней дочери в мужья сорокачетырехлетнего вдовца с двумя сиротами. Но он чрезвычайно уважал Ивана Владимировича. А Маша страстно хотела перебороть печаль первой неудавшейся любви, жажду служения людям утолить заботами о муже и его детях. Надо было решаться, и обоюдное решение было принято.
Свадебная церемония проходит скромно. И жених и невеста — каждый — погружен в свое прошлое.
Из городка Тарусы Калужской губернии 4 июня 1891 года Цветаев пишет Помяловскому в Петербург:
22 мая, в 9 часов утра, в церкви Иоанна Предтечи в Кречетниках (на Новинском бульваре) происходило наше венчание с Марьей Александровною Мейн. С моей стороны собралось человек 12 профессоров, приват-доцентов и молодых учителей, с ее 5-6 ближайших подруг и знакомых. По случаю отхода поезда Курск<ой> ж<елезной> д<ороги> в 12 '/2 часов служба началась ровно в 9, кончена к 10. В П-м часу собрались участники выпить вина и чаю в дом Мейнов, а в у — 12-го мы выехали на вокзал. Напутствованные лучшими пожеланиями, одаренные конфектами и цветами, воспетые случайно ехавшим с нами в соседнем купе гр<афом> Олсуфьевым (филологом-классиком. — А. С.), который декламировал по этому случаю Катулла, мы после 5 часов езды (3 по ж<елезной> д<ороге> и 2 на лошадях) были уже в Тарусе, у моей двоюродной сестры (Елены Александровны Добротворской, урожденной Цветаевой. — А. С.), жены местного
Дом Добротворских в Тарусе Фотография А. Е. Смирнова. 2012
Флигель дома Тьо в Тарусе, где не раз останавливался И. В. Цветаев Фотография А. Е. Смирнова. 2012
врача (Ивана Зиновьевича Добротворского. — А. С.). Сестренку я знал, когда она была еще ребенком в доме брата моего отца, давал ей приют после, когда она отпрашивалась по праздникам из учительской семинарии, где она получала свое образование, был ее поверенным в делах ее любви к товарищу ее детства, сыну... священника, тогда (это было в 1879-80 году) оканчивавшему университетский курс. Памятуя те дни, она с мужем устроила теперь нам дачу в соседнем имении Бутурлиных, наняв его за 80 руб<лей> в лето, перекрасив весь домик и украсив его чем было возможно. Угостившись у нее колоссальным налимом, в 9 вечера к чаю мы были уже в новом жилище. Домочадцы и Андрюша были отвезены мною сюда за 4 дня; Лера гостила у Иловайских до 28, когда я привез ее к новой маме после экзаменов.
С появлением хозяйки настал конец тому хаосу, тем вечным неурядицам и злоключениям, которые свили себе гнездо в моем доме без Варвары Дмитриевны. Все пришло в должный порядок, все движется по дамскому камертону: вовремя накормлены, вымыты, уложены спать дети, вовремя производится чистка дома, вовремя тушатся свечи, вовремя встает и ложится прислуга; замолкли и вечные их перебранки и перекоры меж собою. Доколе, слава Вседержителю, все идет по-хорошему. В эту самую минуту, когда я царапаю Вам эти строки, жена учит Леру передобеденной молитве и затем они перейдут к английской грамоте. На первый год М<арье> А<лександровне> захотелось учить Леру самой, без гувернантки, чтобы ближе сойтись с ребенком. В подмогу ей живет с нами племянница (Евгения. — А. С.), дочь моего брата (Петра Владимировича. — А. С.). С последней Лера гуляет по здешним полям и лесам*.
Это были окрестности Тарусы — полудеревенского городка, упрятанного в глуши, вдали от железных дорог.
Цветаев оставил нам свой приокский пейзаж — первое впечатление от увиденного:
Местность здесь превосходная: Ока широка и живописна в своих многочисленных изгибах; лесов много, которые тянутся по горам и долам; сад у нас огромный и во многих частях представляет остатки давней старины с ее великолепием, какое только способны были придать своему родовому поместью Нарышкины и позднее Бутурлины; на далекое пространство видна из сада гигантская ель, в два обхвата толщины, посаженная якобы матерью Петра Великого, росшею здесь...**
После лета, проведенного в Тарусе, Цветаев с молодой женой и детьми — Лёрой и Андрюшей, переехал в Москву — в Трехпрудный переулок. Однако Иван Владимирович, по-видимому, и не подозревал, что Мария Александровна жгуче ревновала его к Ваве.
* Соснина Е. Б. Музы Трехпрудного переулка. С. 229-230.
** Там же. С. 230.
Весь дом был проникнут духом первой жены. Всюду располагались ее любимые вещи. Уклад жизни, заведенный ею, чувствовался во всем. А главное — неугасимая любовь к Ваве продолжала жить в сердце мужа. Невольные сравнения были не в пользу Марии Александровны. Она проигрывала своей предшественнице в изяществе, в простоте и мягкости общения, в ласковости, во вкусе к нарядам и украшениям, в умении вести дом — в том душевном, милом, женственном, что так притягивало Ивана Владимировича к Ваве.
Еще не догадываясь, какая гроза собирается в сердце молодой супруги, Цветаев продолжал жить памятью о первой жене. Он пригласил в дом художника, который по фотографии и по рассказам Ивана Владимировича рисовал ее живописный портрет на глазах Марии Александровны. Она страдала, но муж словно не замечал ее страданий, погруженный в свои воспоминания, в свое желание сохранить образ Варвары Дмитриевны не только в сердце, но и на холсте. Вероятно, он надеялся, что Мария Александровна сможет разделить его чувства. Нет, не смогла.
Однажды, приехав в гости к дочери, Александр Данилович застал ее в слезах перед завершенным портретом. Как Маша сама ни уговаривала себя, что стыдно и позорно ревновать к той, кого уже нет на свете, но поделать с собой ничего не могла. Она обижалась не на Варвару Дмитриевну — та ни в чем не была перед ней виновата, — но на мужа за его странную для такого чувствительного человека и оскорбительную неделикатность.
Следующим актом семейной драмы явилось решение Марии Александровны сжечь хотя бы некоторые вещи Вавы. Боль от случившегося осталась в сердце Лёры на всю жизнь: «Чего стоит знание языков, музыки, увлечение немецкой литературой и пр. при непонимании простой сердечности... Отец понимал бесповоротность всего и шел на все уступки»*. Цветаев перенес портрет Варвары Дмитриевны из дома к себе в кабинет в Румянцевский музей. После этого относительный покой в доме был водворен; относительный — потому что муки ревности не исчезли в одночасье, лишь затихли на некоторое время.
Часы, свободные от занятий с детьми, от забот по дому, новая хозяйка отдавала своей главной жизненной страсти — музыке. Замечательный талант ее виртуозного исполнительства, самоотдача артиста, увы, оставались не понятыми Иваном Владимировичем. Ему нужна была хозяйка в доме: мать — детям,
Безо всякого вознаграждения...». С. 129.
Мария Александровна Цветаева
1903
домоправительница — прислуге, а не концертирующая пианистка. Негласный компромисс свелся к тому, что Мария Александровна не концертировала, но играла постоянно, не пропуская ни одной самой себе назначенной репетиции.
Следующее лето 1892 года семья в расширенном составе — вместе с Александром Даниловичем — отдыхала вблизи станции Сходня Николаевской железной дороги. А в сентябре у Ивана Владимировича и Марии Александровны родилась дочь Марина, или, по-маминому, Муся.
Через год семья Цветаевых снова отправилась в Тарусу, а оттуда в Талицы — Ивану Владимировичу хотелось повидаться со старшим братом Петром, служившим на родине священником.
В сентябре 1894 года семейство Цветаевых ждало новое пополнение—родилась дочь Анастасия (по-домашнему Ася). Иван Владимирович писал Помяловскому:
Девица наша уродилась маленькая-маленькая... Сравнительно с Мариной она представляется какой-то половинкой...*
* Соснина Е. Б. Музы Трехпрудного переулка... С. 248-249.
Марина Цветаева
1893
Подрастали общие дети, и теперь всем в доме дирижировала Мария Александровна. Она с малых лет приучала детей к музыке. Валерия много пела, найдя себя в вокализах. Муся не отрывалась от рояля по четыре часа в день. Как вспоминала Марина Цветаева, мать «залила <детей>... музыкой... затопила»*. Даже Андрюшу она хотела приучить к фортепианной игре, но вмешался дедушка Иловайский: «Ивану Владимировичу в доме и так довольно музыки»**.
* Цветаева М. И. Собрание сочинений: В 7 т. М., 1994-1995. Т. 5. С. 20.
** Там же. С. 25.
Одним из любимых композиторов Марии Александровны был Шопен.
«Его гений раскрывается в чувстве, повелевающем ему петь; его мерою служит благородство; он проявляет себя окончательно настолько полным единством чувства и формы, что одно становится немыслимым без другого...»* — писал о Шопене Ференц Лист. В музыке Шопена постоянно ощущаются какие-то воздушные токи, подводные искры, подземные гулы. В ней — витание эльфов, пляски водяных, веселые молоточки гномов. Она — волнистый полет бабочек, сбившихся в одну пеструю ленту, то и дело меняющую направление полета. В ней — смех русалки, то кружащий над водоворотом, то увлекающий вглубь, в расчесанную быстриной гущу придонных трав... Эти музыкальные прихоти настолько эфемерны, хрупки, нежны, что начинает казаться, будто в природе нет ничего, что могло бы отвечать им, — она слишком для них груба! Кажется, что воображение Шопена откликается не на природу, а на фантазии древних о природе: на чудеса волшебных сказок, на заклятья лесных колдуний, на проказы домовых... Для передачи неустойчивости, чарующей переменчивости своих музыкальных грез он избрал особый темп их исполнения, который назвал tempo rubato — «темп уклончивый, прерывистый, размер гибкий, вместе и четкий и шаткий, колеблющийся... как верхушки деревьев, качаемых в разные стороны порывами сильного ветра»**. Трагедия польского восстания 1830 года навсегда обрекла Шопена на роль изгнанника, лишила родины, до предела обострила патриотическое чувство, вылилась в поступь рыцарски доблестных полонезов, в проклятье завоевателям, в оплакивание погибших; сделала его кумиром Европы.
Частица крови графов Ледуховских, гордость униженной польской шляхты не могла не откликнуться в Марии Александровне сочувствием побежденным, осуждением победителей. Протестующее начало, стремление отделить свое мнение от общего развилось в ней чрезвычайно. Ее несговорчивость проявлялась и в бытовых мелочах, и в гражданском несогласии. Этот дух противоречия всецело унаследует ее дочь Марина.
Помимо музыки страсть Марии Александровны составляла поэзия, в особенности немецкая. Гёте, Шиллер, Гёльдерлин... Иван Владимирович тоже чтил поэзию, однако без экзальтации и «локально»: он ориентировался на русских поэтов
* Лист Ф. Ф. Шопен. М„ 1956. С. 77.
** Там же. С. 180.
первого ряда. Знал наизусть Пушкина, Баратынского, Лермонтова, но разве этого достаточно? Разве поэзия сводится к нескольким именам и одной стране? А новые веяния?.. Марии Александровне справедливо казалось, что и к искусству в целом муж подходит не как художник, а как ученый. В пластике он ценит классическую красоту и изящество форм; в поэзии — удачно выраженную мысль, красноречивый риторический оборот; в музыке... Впрочем, как он может разбираться в музыке, когда у него нет никакого слуха?..
Любимым поэтом Марии Александровны был граф Алексей Константинович Толстой — грандиозная личность в истории русской словесности. Автор драматической трилогии; лирический поэт, исполненный мощного гражданского пафоса; остроумный и смелый сатирик; соавтор братьев Жемчужниковых в создании образа незабвенного Козьмы Пруткова; поборник «чистого искусства», противостоявший потоку прагматического стихотворства; литератор, деливший с Некрасовым лавры первого поэта России... Мария Александровна знала стихи Толстого наизусть, читала их детям. Особенно одно — «Против течения». Оно как нельзя лучше отвечало ее собственному мироощущению: не по течению, а против. Во что бы то ни стало.
Правда все та же! Средь мрака ненастного Верьте чудесной звезде вдохновения, Дружно гребите, во имя прекрасного, Против течения!*
Толстой, подобно Цветаеву, был верным монархистом, противником насильственных «понуканий» истории, врагом демократии, которую в русском варианте он видел только как власть невежественной и алчной черни. Для Толстого желание плыть против течения не выходило за рамки отстаивания своего творческого я, принадлежало оппозиции: «чистые лирики — гражданские поэты», заключалось в защите лирики перед лицом «борцов за народное дело», сводивших поэзию к утилитарным целям социального бунта. Лично для Толстого его позиция означала отказ от придворной карьеры («конечного») во имя свободного творчества («бесконечного»).
Едва ли Мария Александровна задумывалась о том, в чем именно граф идет против течения. Ее вдохновляла сама позиция не соглашаться с общепринятым, идти своей дорогой, не бояться новизны, а если возможно, то и создавать новое.
* Толстой А. К. Собрание сочинений в четырех томах. Т. 1.М., 1969. С. 186.
Серьезную новизну в искусство привносит тот, кто, не отвергая достижения старых школ, открывает возможности иного чувствования жизни.
В отличие от своей молодой жены (и тем более в отличие от средней дочери) Иван Владимирович не был настолько вдохновлен поэзией, чтобы жить ею, и паче того, чтобы испытывать в ней себя. Будучи уже взрослой, Марина Ивановна подчеркнет свою непохожесть на папу, поразительно скромного по части лирических излияний: «Мой отец за всю свою жизнь написал только один стих: „На берегу ручья / Сидели два друзья"»*.
Повзрослев, и Марина и Ася будут не раз обращаться в мыслях к своему детству, к маме. В «Записных книжках» Марина Ивановна оставит портрет матери, постоянно сопоставляя ее с собой и находя массу сходств.
Моя мать. Высокая худая сильная, темные волнистые волосы, прекрасный мужественный лоб, карие — средней величины — необычайно ясные — немножко жуткие — глаза — длинный с горбинкою нос — грустный, несколько брезгливый рот, стройный овал лица, легко загорающийся нежный румянец: мужественность очертания и женственность раскраски... — Покатые плечи, длинная свободная шея, — отсутствие «фигуры» — юношественность. Руки большие, очень белые, благородной, но мужественной формы — грустные и умные руки — несколько колец.
Ее любили мужчины — мальчишки! — и не терпели женщины («дамы»), К первым относилась матерински-насмешливо-нежно, ко вторым вызывающе. Слушала исповеди, понимала грехи, не греша (от хорошего воспитания!..).
Жила Музыкой, т<о> е<сть> Душой...
К своим детям была строга, в лицо ругала, втайне гордилась, воспитывала нелепо (и правильно — ибо нас с Асей!), требовала гениальности — никогда не забуду ее оскорбленных возгласов:
— Я семи лет уже галлюцинации Марса видела! Марс с кубком — на лестнице! — и кубок покатился с звоном! — Меня после этого учить перестали, а вы!..
— Мама, кто такое — Бонапарт?
— Тебе 6 лет, и ты не знаешь, кто такое Бонапарт! Моя дочь!
— Но откуда я могу знать? Мне же никто не говорил!
— Да это ведь в воздухе носится!**
Портрет матери, изображенный Мариной, близок к портрету, позже нарисованному Асей:
Черты ее (маминого. — А. С.) удлиненного лица не были так женственны и гармоничны, как у первой жены отца, — та была красавица, — но высокий лоб, блеск карих, умных глаз, нос с горбинкой
* Цветаева М. Неизданное. Записные книжки. М., 2000. Т. 1. С. 444.
** Там же. Т. 2. С. 42-43.
Иван Владимирович Цветаев, Валерия, Андрей, Анастасия, Марина, Мария Александровна Цветаева, неустановленное лицо На даче «Песочное» под Тарусой. 1901 (?)
(длиннее, чем требовал канон красоты), рот — в уголках его затаилась тонкая горечь, гордая посадка головы — во всем этом была суровая юношественность*.
«Мама была к нам строга, вспыльчива, кричала, читала нотации, ненавидела ложь, требовала мужества»**, — писала Ася. Мария Александровна являла черты того «просвещенного деспотизма» по отношению к собственным детям, которые она унаследовала от отца. Это был фамильный деспотизм Мейнов. Так Александр Данилович воспитывал Машу. Так Мария Александровна воспитывала Марину. Так Марина Ивановна будет воспитывать свою дочь Алю. Асе повезло больше, чем Мусе: по миниатюрности и болезненности, по очевидной неприметности музыкального дара младшей сестре доставалась ноша полегче, и спрос с нее был поменьше. Что же касается Лёры, то непомерная требовательность к младшим детям вызывала в ней протест и никак не содействовала ее сближению с мачехой. Девочка испытывала необходимость в другом общении, или, как выразится Ася, в ней чувствовалась идущая от Варвары Дмитриевны «грация иного прикосновения к жизни»***. Подраставшую Лёру отец решил отдать на обучение в Екатерининский институт.
Иван Владимирович Цветаев как нельзя лучше отвечал классическому образу русского профессора своего времени. Невысокого роста, склонный к полноте («туку»), с которой боролся регулярными прогулками и мариенбадскими водами, высоколобый, в овальных очочках, связанных тонкой дужкой на переносице, пышноусый, но не столь пышнобородый, с белыми, мягкими руками, никогда не чуравшимися физического труда, однако в силу обстоятельств давно от него отвыкшими, рассеянный (ибо сосредоточен на своих мыслях), он отличался профессиональной принципиальностью и бытовой податливостью вплоть до полного невмешательства в ход домашних дел, размахом замыслов и чрезвычайной бережливостью в их исполнении.
Как у всякого человека, погруженного в свой внутренний мир или в свое дело, у него были причуды, привычки, убеждения, расходившиеся с представлениями окружающих и порой очень их веселившие. Камнем постоянных преткновений в семье служило желание Ивана Владимировича делать подарки своим дамам и при этом уверенность в безупречности
* Цветаева А. И. Воспоминания. М., 1983. С. 20.
** Там же. С. 39.
*** Там же.
собственного вкуса, которую дамы решительно не разделяли. Он любил материи ярких красок, отдавая предпочтение цвету спелой вишни или пурпуру императорского Рима. Ему нравились просторные одежды, ниспадающие на манер древнегреческого хитона; элегантные (по его разумению) шляпки... Любовь к античности формировала в нем его собственное представление о неизменном стиле, которому должна покориться капризная мода.
Одна из знакомых, которой профессор захотел похвастаться своей новой покупкой, вспоминала:
Приходит он раз ко мне сияющий, ликующий и кладет передо мной сверток со словами:
— Посмотрите, какую прелесть купил я моим девочкам на платье. Раскрываю и — о, ужас! — вижу нечто адски ало-красное...
— Что за безобразие вы купили?..
— А, вы все женщины — привередницы и ничего не понимаете... Купил я как-то дочерям шляпы — верх изящества, и что же? Они подняли меня на смех!
— Воображаю, что вы купили... Вероятно... какие-нибудь шлемы Афины Паллады...*
О папе Ася вспоминала:
Чудный, трогательный папа, в течение десятков лет даривший двум женам и трем дочерям вишневые материи на платья, цвета, не оцененного ни одной из них. Дарил — и забывал, довольный покупкой, по рассеянности не замечая, что вишни цветут в сундуке...**
Хоть и не замечал, но чувствовал, что дамам никогда не угодишь. Вечно они недовольны, вечно капризничают, что им ни предложи. И вишневый цвет не к лицу, и пурпурный плох, и длина не та, и ширина толстит... Всё не так. Он ощущал себя человеком, постоянно пребывающим в форс-мажорных обстоятельствах, созданных роковым несовпадением вкусов. Мейновское спорило с цветаевским. Возникало впечатление, что при формальном паритете в семье Цветаева Мейнов было больше, и во всем, что касалось домашней жизни, тон задавали они, а Ивану Владимировичу приходилось признавать себя «растерей» в бытовых делах. Порой эти признания он облекал в блестящую литературную форму с присущими ему розыгрышами и самоиронией.
* Цветаева М. Неизданное. Семья: история в письмах. М., 1999. С. 11.
** Цветаева А. И. Воспоминания. С. 252.
Вот один из его экспромтов. Якобы оскский язык стал настолько популярен в Париже, что там на нем уже издается газета. И как будто бы в этой газете опубликована следующая заметка:
СКАЗАНИЕ о том, как один московский тайный советник по Парижу без сапогов (именно так! — А. С.) ходил
Перевел с оскского профессор И. В. Цветаев
Приехал из Москвы в Париж один тайный советник, настолько легковесный, что в его чемодане не оказалось запасной пары сапог. Напрасно дочь, снаряжавшая отца в дальний путь, говорила ему, как-де ехать без этой предосторожности; тайный советник был из ученых, чемодан свой набил каталогами да путеводителями, а сапогов других, как на собственной персоне, так и не взял. Очутившись в Париже, он предался такому хождению на протяжении от Института в Bois de Boulogne и от Notre Dame до Trocadero или от S. Germain des Pres до Монмартра, не считая натирания полов превосходительными подошвами в музеях и церквах. Ходил он так ретиво, что через две недели почувствовал, как его пятки приблизились к каменной мостовой парижских улиц. Не желая страдать и не имея намерения усложнять свой багаж в дальнейшем путешествии по Европе, он решил к 6 час<ам> вечера воротиться домой и просидеть до утра за тихими занятиями, пока гарсон отеля не принесет его сапоги с об<новл>енными каблуками. Сказано — сделано. Сидит тайный советн<ик> дома в просторных новеньких туфлях, купленных у Львова на Тверской за 1 р<убль> 25 к<опеек>, и, обложившись каталогами и прейскурантами, пишет письма в свое отечество. Все шло хорошо, но вот пробило 8 час<ов>, время его обеда. Первоначальной его думой было послать жену обедать одну и попросить ее, чтобы она принесла ему материала для холодного ужина; но по мере того, как двигался 9-й час, желание пойти в ресторан и съесть настоящий обед-ужин с вином становилось выше всякого благоразумия. Эту заботу скоро заметила его жена — и, как дочь Евы, подала ему совет пойти на бульвар Saint Michel, не имея сапог. Сначала эта мысль показалась ему женски-неосновательной, но потом... потом он по наущению жены натянул на туфли черные чулки дамского рода, всунул свои потемневшие ноги в резиновые калоши и зашагал по улицам Парижа, изображая из себя в нижней своей части как бы особу духовного сана. Париж — город большой, сюда мог приехать патер особенного ордена, у которого вместо башмаков с светлыми пряжками полагаются резиновые калоши. Так прошел тайный советник из Москвы rue Bonaparte, площадь S. Germain des Pres, boulevard Saint Germain и часть бульвара S. Michel. Везде он шагал спокойно и уверенно; только против больших cafes с сильными полосами огненного света, падавшего на мостовую, в ногах его чувствовалась некоторая слабость, когда в сердце его явилось опасение, а ну как резина, обладающая особою способностью растяжения, свалится
с чулков, как раз где светло и публики праздной и до даровых зрелищ столь жадной так много. Ему при этом казалось, что эта беда уже начинается, что вот-вот калоша и ее хозяин окажутся в раздоре и разлуке. Но то был обман чувства. Благополучно окончилась трапеза под сенью кустарников ресторана, благополучно проследовало и обратное шествие прежними местами на rue Bonaparte, в Hotel d’Isly*.
Бедный генерал
Мысль о Музее. —
В поисках пекунии. Комитет. «Бабушкин капитал». — Удар. Клейн и Нечаев-Малъцов
1
Эрмитаж — крупнейшее в стране собрание произведений искусства — оставался практически единственным местом, где в России конца XIX века можно было ознакомиться с греческой скульптурой. Музея слепков и копий, подобного европейским, в стране не было.
Идея создать такой музей, в котором демонстрировались бы пусть не подлинники, но отлитые с оригиналов образцы искусства древности, зрела в русском обществе давно. Первый практический шаг сделала княгиня Зинаида Александровна Волконская, поэтесса и певица. Вместе с М. П. Погодиным и С. П. Шевыревым в самом начале 1830-х годов она задумала создать «Эстетический музей» при Московском университете. Об этой идее сообщалось на страницах журнала «Телескоп»**.
Волконская предлагала собрать и сделать общедоступными коллекции гипсовых слепков и мраморных копий с лучших произведений античного ваяния; изготовить модели шедевров древнего зодчества; экспонировать копии картин классической живописи, копии предметов домашнего обихода древних народов. Однако в то время идея поддержки не нашла.
Спустя полвека ситуация в России кардинально изменилась. Перемены коснулись не только социально-политической стороны жизни общества (отмена крепостного права, развитие системы высшего образования), но и непосредственно музейного дела. Великие археологические открытия — находки Г. Шлимана в Греции и А. Эванса на Крите — вызвали общеевропейский
* И. В. Цветаев — Ю. С. Нечаев-Мальцев. Переписка. 1897-1912: В 4 т. М., 2008. Т. 3. С. 92-93. Далее: Переписка.
** Телескоп. 1831. Ч. 3. № 11. С. 385-399.
«музейный бум». Открывались музеи и галереи. Усовершенствовалась технология отливки гипсовых и бронзовых слепков. В разных странах возникали мастерские, что создавало здоровую конкуренцию и позволяло выбирать оптимального исполнителя исходя из баланса цены и качества отливки.
Россия же оказалась на обочине этого движения. Да, при Московском университете существовал Кабинет изящных искусств. Им заведовал профессор Цветаев, сменивший на этом посту профессора Шварца. Однако по состоянию на 1889 год экспозицию Кабинета отличала удручающая бедность. Собрание монет, немного греческих ваз, несколько десятков гипсовых слепков с памятников классической скульптуры — вот и вся недолга.
Цветаев к тому моменту стал заметной фигурой среди московской профессуры — известным знатоком античности; имел опыт музейной работы; активно пополнял фонды — так, что новые поступления было уже негде размещать; знал лучшие мастерские по отливке бронзовых и гипсовых слепков. У Цветаева сложились хорошие отношения с директорами крупнейших музеев Европы, ему удалось привлечь внимание генерал-губернатора Москвы, известного коллекционера великого князя Сергея Александровича к работе своего университетского Кабинета. Одним словом, он был способен как нельзя лучше воплотить в жизнь мечту 3. А. Волконской. Но назвать свое детище Цветаев решил не «Эстетическим музеем», а «Музеем изящных искусств». Этим он отдал дань традиции — влился в одноименную семью европейских университетских музеев и подчеркнул преемственность будущего Музея нынешнему Кабинету. Ему хотелось, чтобы Музей не ограничивался стенами университета, а сделался общедоступным центром просвещения.
Любопытно, что создание одного из крупнейших музеев мира возглавил человек, не обладавший ни административными, ни финансовыми ресурсами, ни архитектурным образованием, ни строительным опытом. Что позволило Цветаеву организовать на общее дело множество разнохарактерных, незнакомых друг с другом людей, воодушевить их одной целью, одним стремлением и сплотить на многие годы? Он оказался зодчим человеческих отношений — архитектором невидимых душевных взаимосвязей, партнерств, симпатий, дружб. Своей собственной преданностью делу, доходившей до самопожертвования, он подавал пример другим, а своей скромностью, деликатностью, юмором, душевной тонкостью создавал атмосферу доброжелательства и уверенности в успехе предприятия.
Дело, однако, представлялось чрезвычайно сложным. Вопросов накопилось множество, а ответов на них не было. Где возводить здание? Каким оно должно быть? На чьи средства
строить? Кто оплатит отливку слепков, изготовление копий, а может быть, и покупку подлинников?
Но желание Цветаева было огромно, и воздух времени благоволил.
2
Главный вопрос, без которого дела не начать, — где достать деньги? Цветаев — бедный генерал. При эполетах, при должности, но — бедный. Казна денег не дает, у самого — нет. Целыми днями он занят исканием пекунии (опекунских средств) на осуществление предприятия, о чем пишет Помяловскому:
Чтобы валялись по земле раскрытые кошельки с деньгами, этого я до сих пор в Белокаменной не встречал. Пекунию приходится добывать визитами, разговорами, раздачами печатных записок об идее и целях учреждения и тому подобными искусственными средствами. Путешествовать приходится по Москве по направлению всех 4-х ветров и завлекательные речи вести и за Москвой-рекой, и на Вшивой горке, и на Собачьей площадке, и на седалище московского благородного дворянства — на Поварской, и на Дмитровках, и на Кузнецком мосту, и у храма Спасителя, и на всех бульварах. Не доводилось доколе восседать и петь на церковных ступенях с чашечкой в руке.
Хлопот много, но к чести Москвы следует отнести, что эти хлопоты не пропадают даром. Благодаря щедротам москвичей мы уже приближаемся к % в деле выполнения программы Музея (первоначально скромной. — А. С.).
До последнего времени эти щедроты неслись из купеческого мира. На этих днях начался объезд и главных дворянских родов Москвы*.
Старания Цветаева были не напрасны — он получил «первую аристократическую жертву на Музей»** от Дмитрия Федоровича Самарина, сыновья которого окончили историко-филологический факультет университета. Начало делу было положено.
На очереди теперь стоят два князя Щербатовы, граф Олсуфьев (А. В. — латинист) и князь Трубецкой (губернский предводитель). Если бы каждый из них отнесся сочувственно к нашему делу, то успех его обеспечен. А там есть Орловы-Давыдовы, Долгорукие, говорят, очень хорошие молодые люди, наконец, Шереметевы. Один «Шереметевский» счет покрыл бы стены и кровлю нашего
* Соснина Е. Б. Музы Трехпрудного переулка... С. 239-240.
** Там же. С. 241.
Великий князь Сергей Александрович 1880-е
Музея, тем более что и строиться он будет бок о бок с их домами. Но, по слухам, это люди скупые и недоступные. Довести до их сведения о предприятии университета все-таки следует... На днях я буду представлен старушке-фрейлине Ермоловой, которая, как мне сообща<ю>т, до преклонных дней сохранила молодое увлечение всем возвышенным и прекрасным, потому горячо отнесется к мысли о Художественном Музее. Сама небогатая, она будто бы станет возбуждать сочувствие других московских аристократов.
За успехи дела говорит и несомненное сочувствие к Музею в<еликого> к<нязя> Сергея Александровича, который будет у нас, как только мы разместим пришедший транспорт скульптур из Берлина*.
* Там же. С. 241-242.
И князь действительно прибыл с визитом в университет*. Как отмечает Цветаев, Сергей Александрович «осматривал архаический период внимательно, каждый №. Любовался долго последними копиями катакомбной живописи, в заключение снялся фотографией в нашей художественной обстановке. Очень благодарил за удовольствие и обещал искать средств на постройку особого здания для Музея»**.
Генерал-губернатор Москвы, командующий войсками Московского военного округа, генерал-лейтенант великий князь Сергей Александрович — дядя императора Николая II — никогда не считался человеком легким, уступчивым, душевным. Скорее наоборот. Узколицый, тонкий, подтянутый, элегантный, с выправкой молодого офицера, а не генерала в возрасте, увешанный густыми эполетами, аксельбантами и звездами, Сергей Александрович отличался холодностью к людям. В своем служении на благо России, под которым он подразумевал благо царской семьи, он был жестким сторонником самодержавия, непримиримым борцом с «революционной заразой». Сын императора Александра II, Сергей Александрович находился в двойном родстве с нынешним государем: и как его дядя, и как муж Елизаветы Федоровны, урожденной принцессы Гессен-Дармштадтской, старшей сестры Александры Федоровны — супруги Николая II. Дядя и племянник, таким образом, оказались еще и свояками. Император прислушивался к мнению великого князя и принимал его у себя в Зимнем по первой же просьбе.
Цветаева с великим князем познакомил второй тесть — Александр Данилович Мейн, прежде служивший в аппарате генерал-губернатора. Оказалось, что великий князь увлекался античным искусством и владел коллекцией терракотовых ваз. Мнение профессора Цветаева о своем собрании было ему небезынтересно. Так завязались отношения Ивана Владимировича с высшей властью, что позволило ему кардинально изменить масштаб проекта: вместо сугубо университетского сделать его
* Вот как описал Цветаев подготовку должностных лиц к приему высокого гостя: «Забегали экзекутор и его команда. Натащили драгоценных ковров в переднюю Музея (здесь, вероятно, имеется в виду университетский Кабинет изящных искусств. — А. С.), натерли воском полы в залах, вылизали языками стекла, за каждой соринкой гонялись с двумя метлами и каждую пылинку из-женяли вон двумя опахалами. К назначенному часу выкинули над входом 2 парадных флага, при убогом „подъезде" занял место университетский швейцар с булавою и в шляпе-треуголке, в челе администрации встал управ<ляющий> окр<угом>... Мы приумылись и подвесили повыше наши низкие кавалерии [у ректора всего-навсего Станиславчик] (орден Св. Станислава — низший среди высших. — А. С.)». См.: Соснина Е. Б. Музы Трехпрудного переулка... С. 247-248.
** Тамже. С. 248.
общероссийским. Не обращая внимания на личные качества князя, Цветаев воспользовался его необычайно высоким фамильным и государственным статусом, влиянием на императора. Для того чтобы увлечь генерал-губернатора идеей создания Музея изящных искусств, Иван Владимирович, во-первых, как мог расхвалил великокняжеские терракоты, посвятив им специальный научный доклад в университете, а затем предложил Сергею Александровичу возглавить Комитет по созданию Музея, разумеется, в качестве свадебного генерала, на что получил благосклонное согласие. Теперь Ивану Владимировичу представилась возможность в экстренных случаях обращаться непосредственно к великому князю, а через него к государю.
Интерес власти, возбужденный планами создания Музея, сильно повлиял на инвестиционный климат: число дарителей возросло. Суммы вкладов увеличились.
Между тем новое здание музею требовалось как можно скорее. Свободного места для новых экспонатов в Кабинете не осталось. Пришлось даже на время прекратить выписку и заказы.
В апреле 1894 года в Москве собирается Первый съезд русских художников и любителей художеств. Профессору Цветаеву поручено произнести приветственное слово съезду от имени Московского университета. Главный вопрос речи оратора — сбор материальных средств на постройку здания Музея. И Цветаев патетично обращается к аудитории:
«Может ли Москва, управляемая августейшим братом нашего государя, Москва — духовный центр России, центр ее колоссальной торговли и промышленности, Москва — родина и местожительство старых и славных аристократических фамилий, между коими есть и всем известные своим материальным благосостоянием, Москва, покрывшая себя славой широких христианских и просветительных благотворений, — может ли такой город, в котором бьется пульс благородного русского сердца, допустить, чтобы в его всегда гостеприимных стенах остались без подобающего крова вековечные создания гениального искусства, собранные сюда со всего цивилизованного света, и притом такие создания, которые в очень большом числе впервые вступают в Россию и двойников которым нет в нашем отечестве нигде? Может ли Москва это потерпеть?»*
Желание создать в Москве Музей изящных искусств получает поддержку съезда, и Цветаев начинает предпринимать дальнейшие шаги для осуществления задуманного предприятия.
* Цветаев И. В. Устройство музея античного искусства при Императорском Московском университете. М., 1894. С. 14.
Он создает Комитет по устройству Музея, в который, между прочими, входят оба его тестя: Дмитрий Иванович Иловайский и Александр Данилович Мейн. Председателем Комитета становится великий князь Сергей Александрович. Каждый вечер к девяти часам Иван Владимирович с женой ездит к Мейну, и они втроем обсуждают план действий. Мейн настолько умен и опытен в житейских делах, что без его советов не обойтись. Все трое воодушевлены высоким замыслом.
Учрежденный Комитет объявляет конкурс на лучший проект здания Музея. Конкурс проходит под эгидой Московского университета. Приглашается авторитетное жюри. Конкурсантам предлагается спроектировать двухэтажное здание, фасад которого должен быть решен в греческом или римском стиле, или в стиле итальянского Возрождения. По мысли Цветаева, само здание должно стать первым экспонатом Музея, а в двадцати двух его залах разместятся образцы пластического искусства Древнего мира. Автор каждого проекта обязан скрыть свое имя под девизом.
Что касается денежных поступлений, то Цветаев принимает важное решение: все взносы оформляются через бухгалтерию Московского университета в пользу Комитета по устройству Музея, лично он никаких денег не берет. Однако размеры поступлений — в сотни и немногие тысячи рублей — совершенно не отвечают размаху задуманного проекта. Цветаев решается просить средства на строительство и закупку экспонатов у государства. Вначале он обращается к самому главному распределителю государственных фондов — министру финансов Сергею Юльевичу Витте. Запись в «Дневнике» говорит сама за себя: «Весною 1895 года г. Витте мне грубо и надменно отказал во всякой поддержке... сказавши, что „народу нужны хлеб да лапти, а не ваши музеи11»*.
Среди осторожных частных дарителей переговоры с Цветаевым вела московская благотворительница Варвара Андреевна Алексеева — вдова богатейшего чаеторговца. Она пожертвовала Музею 1000 рублей, на которую в Дрездене были приобретены копия статуи Зевса и некоторые слепки. Вскоре Алексеева умерла, и завещание, оставленное ею, произвело большое впечатление на Москву. Варвара Андреевна отписала 2 000 000 рублей недвижимостью и деньгами родственникам; 1 500 000 — учебным заведениям, церквям, монастырям, бедным невестам; 200 000 — на строительство глазной больницы (нынешний Институт глазных болезней им. Г. Л. Ф. Гельмгольца), а неучтенный остаток
Переписка. Т. 1. С. 369. Дневник цитируется в комментариях.
повелела истратить на просветительские цели. Ее душеприказчики — управляющий банком Михаил Степанович Нагаткин и инженер Константин Алексеевич Казначеев — на основании устного распоряжения Алексеевой передали из ее капитала на нужды Музея 150 000 рублей. Условие столь щедрого дара состояло только в том, чтобы будущий Музей был назван в честь императора Александра III — отца нынешнего государя Николая II и брата великого князя Сергея Александровича. «Бабушкин капитал» составил основу финансирования на том этапе.
3
Помимо чтения лекций в университете и бесконечных визитов в поисках пекунии для предполагаемого Музея, кроме докладов на различных заседаниях, комиссиях, симпозиумах и съездах Цветаев вел Румянцевский музей и его огромную библиотеку — предшественницу нынешней Российской государственной. Директор музея и библиотеки Василий Андреевич Дашков — человек почтенный, больной и в летах — практически передоверил Цветаеву свое директорство. После кончины Дашкова Цветаев, по общему мнению, должен был возглавить Румянцевский музей и юридически. Этого, однако, не случилось. Директором стал гофмейстер двора Михаил Алексеевич Веневитинов — прекрасный библиофил и библиограф, но не музейщик.
Напряжение последних лет, волнения за будущий Музей, переживания, вызванные назначением Веневитинова, губительно сказались на здоровье Ивана Владимировича. С ним случился инсульт, или, как тогда говорили, апоплексический удар.
В послании Помяловскому А. Д. Мейн писал:
Нервное потрясение вызвано, прежде всего, тяжелым ударом, который пришлось вынести после усиленных, непрестанных, долговременных трудов по Румянцевскому музею. Этот удар пал на человека, энергия которого была уже до крайности напряжена в течение ряда лет благородными и бескорыстными трудами по созданию будущего Публичного музея скульптуры, в осуществление которого он вложил всю свою душу, видя в нем задачу своей жизни. Тяжкий, физически изнуряющий, подчас нравственно угнетавший силы труд по сбору пожертвований, цифра которых в течение двух лет превысила 200 тысяч рублей, постоянная борьба с препятствиями, постоянное напряжение энергии, ибо все лежало на нем одном, толчки то тут, то там, в дорогом деле, и на этой почве разом разбитые надежды. Натура не выдержала ряда этих одновременных натисков. Сам он, впрочем, никому и ни на что не жаловался*.
* Письмо А. Д. Мейна И. В. Помяловскому от 6 марта 1896 г. // ОР РНБ. Ф. 608. On. 1. Ед. хр. 997. Л. 2, 3.
Иван Владимирович постепенно выздоравливал после удара, а жюри тем временем подводило итоги конкурса на лучший проект Музея изящных искусств. Победителями были признаны две работы: «Мысль» архитектора Петра Бойцова и «Аппо MDCCCXCVII» («Лето 1897-е») архитектора Романа Клейна. Университет, как заказчик, отдал предпочтение Клейну, поручил ему окончательно доработать проект и возглавить строительство.
К тому времени Роман Иванович Клейн, выпускник Академии художеств, уже построил для университета корпус медицинского института в Хамовниках. Он был талантлив, интеллигентен, трудолюбив и обязателен. Победа в конкурсе тем более упрочила его авторитет.
Дивных пропорций белокаменное здание с фасадом в греческом стиле, с красивой колоннадой чрезвычайно понравилось Цветаеву еще в чертежах, а Клейн внимательно прислушивался к мнению и советам знатока античного искусства.
Цветаев и Клейн нашли общий язык.
До второго часа за полночь засиделся я вчера в мастерской Р. И. Клейна, рассуждая и мечтая о плане Музея. Удивительно симпатичный и умиротворяющий это характер: идешь побраниться с ним, укорить его, указать ему на тот и этот недочет, а взглянешь на эту умную улыбку, встретишь этот смеющийся и всегда себе на уме взгляд, услышишь этот нервный, взволнованный и какой-то женски-капризный голос — и воинственного настроения у тебя как и не бывало*.
Профессор, как старший друг, бывало, возвращал архитекторские фантазии в рамки реальной жизни. Так, на предложение Клейна водрузить на здание Музея каменных кентавров Иван Владимирович откровенно отвечает:
Кентавров наверху нам, в виду близости храма Спасителя, как мифологических пьяниц и больших развратников, поставить, вероятно, не позволят... Не долой ли их оттуда?**
Цветаев будет регулярно держать Клейна в курсе всех новостей, связанных с проектом. Он сообщит, что опять «ездил на ловлю жертвователей»***; что его высочество дал отличный
* Переписка. Т. 1. С. 107-108.
** История создания музея в переписке профессора И. В. Цветаева с архитектором Р. И. Клейном и других документах (1896-1912): В 2 т. М., 1977. Т. 1. С. 16.
*** Там же. С. 55.
Роман Иванович Клейн
1893
отзыв о клейновском проекте; что необходимо «раздавать залы для выстройки и оборудования»* и т. п.
Большая тревога Цветаева состояла в том, что Клейн был архитектором известным, модным. Он постоянно получал выгодные предложения, а это искушало и отвлекало его от работ по Музею. Но упрочив свое материальное положение, став совладельцем дома напротив Благородного собрания и владельцем дома в Олсуфьевском переулке, Клейн обещал Цветаеву работать с большим выбором, то есть сосредоточивать силы на главном.
15 мая 1897 года состоялась знаменательная встреча: профессор Цветаев познакомился с Юрием Степановичем Нечаевым-Мальцовым — владельцем стекольных заводов, несметным богачом, известным благотворителем. На него, как на возможного мецената, Цветаеву указал вице-президент Академии художеств граф Иван Иванович Толстой, а представил Ивана Владимировича заводчику Николай Павлович Боголепов — попечитель
Юрий Степанович Нечаев-Мальцов Начало 1900-х
Московского учебного округа, будущий министр народного просвещения. Постоянно Нечаев-Мальцов жил в своем особняке на Сергиевской улице (теперешней улице Чайковского) в Санкт-Петербурге, а в Москве бывал наездами, неизменно останавливаясь в «Славянском базаре» — гостинице на Никольской улице, где снимал апартаменты. Там и в доме Цветаева в Трехпрудном состоялись их первые встречи и договоренности. В открытке Клейну Цветаев сообщает, что Юрий Степанович отнесся к делу с полнейшим участием, что он одобряет греческий фасад с порталом, каменную облицовку и каменные колонны.
Итак, проект был создан, начальные средства найдены. Оставалось выбрать место под строительство.
Глава четвертая
«ЦВЕТАЕВ-МАЛЬЦОВ»
Кому счастье дружит, тому и люди.
Пословица
Архитектура человеческих отношений
Колымажный двор. — Аудиенция в Зимнем дворце. — Поиски пекунии продолжаются. «Самодержавная пирамида».
Торжественная закладка Музея
1
Еще весной 1894 года предполагалось, что небольшое здание Музея будет возведено на территории университета. Но Цветаева это не устраивало, и через гласных Московской городской думы он пробовал добиться участка где-нибудь в центре, на городской земле. Например, на Театральной площади. Попытка успехом не увенчалась. И тогда знакомый Цветаева генерал-лейтенант Михаил Петрович Степанов, помощник генерал-губернатора Москвы, подсказал Ивану Владимировичу обратить внимание на одно пустующее место — последнее незастроенное в самом центре: Колымажный двор (или Колы-мажную площадь) между улицей Волхонкой и двумя переулками — Малым Знаменским и Колымажным, наискосок от храма Христа Спасителя.
История этого места такова. В середине XVI века сюда из Кремля были переведены царские конюшни и колымажные сараи, просуществовавшие до конца XVIII столетия. Столица давно уже обосновалась в Санкт-Петербурге, а эти конюшни и сараи всё еще содержались в Москве на случай приезда императоров. К началу XIX века Колымажный двор преобразовали в манеж для обучения верховой езде, а потом застроили бараками под пересыльную тюрьму. Лет через пятьдесят «пересылка»
была переведена на окраину, в Бутырский тюремный замок, как торжественно именовались нынешние Бутырки. К началу 90-х годов XIX века «вышедший на свободу» Колымажный двор за большие деньги выкупила у казны городская дума. Планировалось построить на этом месте Промышленное училище, но средств не нашлось — и в центре Москвы образовался пустырь. На него и указал Цветаеву генерал Степанов. Однако отдавать такой лакомый кусок земли дума никому не собиралась.
В конце 1895 года Цветаев подал ходатайство московскому городскому голове К. В. Рукавишникову о передаче площади Колымажного двора университету под строительство Музея изящных искусств имени императора Александра III, но дума доказывала, что Промышленное училище здесь важнее Музея.
Иван Владимирович оставил в «Дневнике» подробную историю борьбы за место под солнцем.
На заседании думы 20 февраля 1896 года ходатайство Цветаева было отклонено. Великий князь довел дело до государя, и было подано новое ходатайство — «...об отводе на Колымаж-ном дворе 900 кв<адратных> саж<еней> под здание Музея, который предполагалось поставить отступя на 12-15 саж<еней> от улицы Волхонки, обратив этот участок земли в сквер. Заднюю часть площади просили... оставить незастроенной, на случай будущих расширений здания Музея в эту сторону»*. После этого под Музей «...дума отвела... 1 200 кв<адратных> саж<еней> в передней части площади, оставив в своем владении и распоряжении остальные 1 500 кв<адратных> саж<еней> — для постройки здесь народной школы больших размеров или, как в последнее время говорилось, народной аудитории»**. Однако любое здание, не связанное с Музеем, ограничивало территорию, за счет которой он мог бы расшириться в будущем. Университет решил не принимать этого дара думы, а добиваться предоставления территории размером в 1 867 квадратных саженей.
Очередной отказ думы произвел «неприятное впечатление... на московское общество, сознававшее, что здесь начинаются неприязненные отношения к университету и что отказ этот сделан крайне некстати. Отказали этим возможность поставить большое учреждение имени императора Александра III, отца нынешнего государя, который вместе со всем царствующим домом и двором должен <был> прибыть в Москву в ближайшем августе для открытия памятника Александра Николаевича в Кремле. Отказ этот относился и к великим князьям
* Переписка. Т. 1. С. 374. Дневник цитируется в комментариях.
** Там же.
Территория Колымажного двора 1897
Сергею Александровичу и Павлу Александровичу, заявившим публично желание соорудить обширный зал в этом Музее; он относился и к залам имен обеих государынь императриц Александры Феодоровны и Марии Феодоровны, великого князя Сергея Александровича и великой княгини Елисаветы Феодоровны. Выходил неожиданный для Москвы общий конфуз, из которого необходимо было выйти возможно скорее»*. И «...в заседании 3 июля дума постановила отдать Московскому университету всю площадь Колымажного двора под Музей, без всяких ограничений»**.
2
В положении о конкурсе на здание Музея было сказано, что проект-победитель должен быть заверен императором. Но прежде чем ставить свою подпись, Николай II соблаговолил лично ознакомиться с проектом «Anno MDCCCXCVII».
Весной 1898 года великий князь Сергей Александрович передал Цветаеву, Клейну и Нечаеву-Мальцову распоряжение государя явиться в Зимний дворец и дать необходимые пояснения. Юрий Степанович, однако, был в отъезде, поэтому в аудиенции, кроме великого князя, участвовали Цветаев и Клейн. В письме Нечаеву-Мальцову Иван Владимирович подробнейшим образом описал прием у царя:
* Там же. С. 376-377.
** Там же. С.. .377.
Вчера, 11-го, прислан был чиновник генерал-губернаторской канцелярии г. Гжельский с оповещением, что государь назначил обзор проекта на 2 часа нынешнего дня и что мы с<о> своими ящиками должны быть у такого-то подъезда к часу. Там будет поджидать нас полицмейстер Зимнего дворца, полковник Истомин, брат Владимира Константиновича, нашего неустанного пособника и доброжелателя (В. К. Истомин — гофмейстер двора, начальник канцелярии московского генерал-губернатора. — А. С.). Взявши ванну, принявши праздничный вид и забравши громоздкие ящики с собою, в сопровождении артельщика, мы прибыли в указанное время к назначенному подъезду с набережной. Но полиция уличная нас здесь не пустила, указав нам проехать двором назад, в сторону Дворцовой площади, на какой-то Полицейский подъезд (имеется в виду подъезд в углу Дворцовой площади, поблизости от Миллионной улицы. — Л. С.). Полковник Истомин ждал нас с Невы, а мы ждали его в его канцелярии. Побежали к нему, он ускоренным шагом перебежал весь дворец и, когда ящики были раскрыты, он повел нас в кабинет его величества через подъезд государыни. К второго мы были в «биллиардной», где государь приказал расставить и разложить рисунки и чертежи. Распределивши весь материал по местам, фасады, разрез и перспективу лестницы расставивши по дивану и по стульям около окон, чтобы придать им боковое освещение, и разложивши планы на биллиарде, мы возвратились в японский кабинет его величества (Цветаев назвал библиотеку государя, выполненную в готическом стиле, японским кабинетом, поскольку видел там японские вещи — А. С.), тот самый, где, как нам сказали, министры ожидают очереди своих докладов, и здесь должны были ждать выхода к нам великого князя.
Прием отложен был на 2 '/2 часа — и потому мы с Клейном имели возможность осмотреться и успокоиться от первого впечатления новой и наиболее высокой в мире обстановки. Рассматривали картины и японскую часть кабинета, собирались быть спокойными и не путать титулов государя и великого князя, неподобающим образом употребляя слова «величество» и «высочество», что, при смущении, сделать так легко.
За 5 минут до назначенного срока вышел к нам великий князь и сообщил нам, что министр финансов был у него вчера с согласием на отпуск 200 000 руб<лей> в пособие на здание Музея, что об этом сейчас будет речь перед государем и что государь очень интересуется Музеем.
Пробило ’/2 часа третьего, через несколько секунд дверь в биллиардную отворилась, и государь вышел из внутренних покоев к нам. Мы низко поклонились и были затем великим князем представлены. <...>
Обзор рисунков начался с главного фасада. Общий вид его с колоннадою внизу понравился государю, который расспрашивал, по какому образцу древности он составлен. Когда было доложено, что колонны и антаблемент заимствованы у Эрехтейона в Афинах, его величество заметил, что он был на Акрополе и помнит его развалины. Дальнейшие вопросы государя были о размерах колоннады, глубине ее центральной части, представляющей выступ, и боковых ее частей. <...> Когда, отойдя несколько назад,
Биллиардная в Зимнем дворце Акварель Э. П. Гау. 1860-е
-Готическая» библиотека Николая II Начало XX в.
Николай II
Портрет работы В. А. Серова. 1900
Фасад Музея изящных искусств Проект Р. И. Клейна
государь еще раз взглянул на фасад и похвалил его, настала очередь бокового фасада. Здесь прежде всего остановил внимание императора вопрос о верхнем освещении 2-го этажа. Государь спросил нас, видели ли мы новый Музей Александра III в Петербурге (ныне Русский музей. — А. С.), где устроено такое освещение через потолки в двух больших залах. Второй его величества вопрос был о том, до какого пункта на боковых сторонах Музея будет каменная облицовка. Великий князь, согласно прежним указаниям Клейна, обозначил тот выступ, который даст возможность ограничиться передней частью в облицовке боковых стен, оставивши заднюю часть их лишь оштукатуренной.
От боковых фасадов государь перешел к разрезу здания и остановился как на лестнице, очень понравившейся ему в проекте, так и на большом центральном зале, к которому ведет эта лестница. В последние дни, как передал мне В. К. Истомин, у великого князя возникла мысль назначить этот зал, — не имеющий доколе специального характера и пока называвшийся нами salle d’honneur*, где должна стоять статуя императора Александра III, имя которого будет присвоено Музею, — под статуи и бюсты из мрамора и бронзы славнейших деятелей русской науки, литературы и искусств. Это может <быть> как бы пантеон русской славы в области высшей культуры. Здесь же вкруг статуи императора Александра Александровича будут поставлены бюсты главных благотворителей Музея, на память потомству. Эта мысль встретила сочувствие и одобрение государя, посоветовавшего разработать ее подробно, а самый список лиц, удостаиваемых этой высокой чести (такое соединение портретных изображений в мраморе и бронзе будет только одно в России), составлять не торопясь и осмотрительно. <...>
Осмотревши большие чертежи, его величество пожелал, чтобы представлены были и подробно объяснены планы всех внутренних помещений здания. <...> Сначала подробно был пройден 1-й этаж, причем император интересовался каждым залом, каждым кабинетом, расспрашивая о их назначениях и коллекциях. <...>
Парадный зал (фр.).
Окончив рассмотрение планов, император поставил вопрос о коллекциях Музея. Я должен был доложить по чертежам планов, какие части или уже совершенно заполнены, или значительно богаты. <...>
Последний вопрос императора был о суммах, какие находятся в нашем распоряжении на постройку Музея. Когда я назвал сумму в 200 000 руб<лей>, великий князь сказал: «Теперь уже можно считать, что мы имеем 400 000 руб<лей>; министр финансов согласен на отпуск в 200 000 на пособие Музею». Продолжая речь его высочества, я доложил императору, что эта сумма со стороны казны получает в глазах наших тем большее значение, так как этим выражается санкция высшей власти наших стремлений, после этой милости никто уже не скажет, что Музей — только наша мечта, утопия, химера. Государь снова повторил свое сочувствие нашей задаче и затем, приняв от меня Записку о Музее, напечатанную к этому случаю и имеющую в извлечении появиться в «Новом времени» на этих днях (я уже держал ее корректуру). Он поздравил Клейна с художественным успехом и пожелал нам счастливого продолжения и окончания дела. <...>
Когда государь удалился, великий князь поздравил нас с большим успехом, указав, как много внимания оказал нашему делу его величество. После этого мы возвратились в японский кабинет, прислуга взяла наши рисунки, и мы прежним путем вышли из дворца. <...> Нам затем пришлось быть в канцелярии М<инистерст>ва двора, где между прочим объяснили нам, что это был «доклад» по специальному делу, а не обыкновенная аудиенция, потому государь и принимал в апартаментах кабинета, в простенькой серой тужурке, своем рабочем костюме. М<инистерст>во двора сообщило телеграмму в Русское телеграфное агентство, которое и оповестило Москву нынешний день. <...>
Присутствие его величества на закладке здания в конце августа теперь уже не может подлежать никакому сомнению. А это событие много поднимет значение всего предприятия в глазах Москвы и целой России. Отпуская меня, Владимир Константинович передал мне, что великий князь и после приема вспоминал Вас, сожалея о Вашем отсутствии в данный момент. По мнению его высочества, Вам, по возвращении в Петербург, необходимо будет представиться государю в звании товарища председателя нашего Комитета (то есть заместителя великого князя Сергея Александровича. — А. С.)*.
3
Подряд на кирпичную кладку фундамента и стен получил Василий Александров — бывший крестьянин, ставший хозяином артели во много сотен мастеров и московским домовладельцем. Напутствуя Александрова, Иван Владимирович уповал на его
добросовестность и обещал награду за честный труд. Письмо Нечаеву-Мальцову свидетельствует:
...В Вербное воскресенье был у меня старик Александров, которого я вызывал в университет, чтобы побеседовать с ним насчет особой задачи, выпавшей ему на долю с этим необыкновенным заказом. Я указал ему на слова государя, на заботы о Музее великого князя, на Ваши особые попечения и на возможность исходатайствования Вами у его высочества почетных наград главным подрядчикам, если только они приложат особые старания и проявят все свое умение, при полной добросовестности. Старик прослезился и, обратившись к образу, перекрестился в доказательство, что он всю свою силу положит на то, чтобы здание было по кладке образцовым: «Я-де не только не сделаю хуже Пантелеева, но и гораздо лучше; я не выложу, а солью стены Музея». Будущее покажет, сколько правды в этих слезах, в этой божбе и в этих уверениях. Александров из Владимирской губернии, а владимирцы, умея быть и плутоватыми, способны к увлечению и к великодушию. Как знать, что эти свойства не проявятся и в этом нужном для нас старике, пришедшем лет 3-5 назад в Москву с котомкой за плечами простым каменщиком, а теперь хозяин артели в 700 человек каменщиков и плотников и владелец 4-х домов по одной улице, и домов, говорят, четырехэтажных... Во всяком случае, поговорить с ним попросту, как с человеком, а не как с казенным подрядчиком, мне хотелось. На Пасхе, в половине недели, съезжу к нему и оставлю карточку, чтобы более привязать его к нашему делу*.
В лице Нечаева-Мальцова Музей обрел своего главного дарителя. Однако один человек, пусть даже такой состоятельный, не мог обеспечить все задуманное предприятие. И Цветаев продолжал собирать, что называется, с миру по нитке. Он не отказывался ни от каких пожертвований. «Трепанье по Москве» (и не по ней одной) в поисках дарителей, бесконечные пешие переходы, деловые свидания, переговоры отнимали у него уйму сил и времени, и часто, как оказывалось, впустую. Порой они вообще завершались скандалом.
Козьма Терентьевич Солдатёнков — богач из старообрядцев, покровитель московского старообрядчества, собиратель древних икон и русской живописи, известный меценат — регулярно перечислял в Публичный и Румянцевский музеи средства на приобретение новых книг, завещал Москве свою библиотеку и художественную коллекцию, на первых порах помогал Цветаеву с покупкой гипсовых слепков, но в резкой форме отказал во всякой помощи, когда речь зашла о строительстве Музея.
Козьма Терентьевич Солдатенков
Начало XX в.
И дело тут было в великом князе. Солдатёнков, состоявший членом совета Училища живописи, ваяния и зодчества, в свое время был возмущен теми переменами, которые произвел великий князь, став председателем совета. Кроме того, Козьма Терентьевич возражал против того, чтобы Музею было присвоено имя Александра III, не проявившего расположения к старообрядцам.
Об этих неприятностях Иван Владимирович сообщал Неча-еву-Мальцову:
...Солдатенков... полагал, что он все знает и все может. Нелепы были его суждения и грубы его были со мною речи, но что делать? Приходилось терпеть, так как он дарил на первых порах дела мюнхенские гипсы — эгинские фронтоны, Ирину Кефисодота, Афродиту, Тенейского Аполлона и др., стоимостью на 2500 руб<лей>. За эти деньги он после и покуражился надо мною, когда я попросил его перед учреждением Комитета помочь на постройку здания. Сводя счеты с вел<иким> кн<язем> из-за Училища живописи, он просто «осатанел», и только я знаю, каких неприличных слов он мне наговорил. Решившись служить идее во что бы то ни стало и не признавать за оскорбление неучтивости, с которыми стану встречаться на пути к цели, я или отмалчивался, или старался тихо дать ему знать, что прошу я у него средств не для себя*.
Подобный оборот дело могло принять и в случае с поездкой Цветаева к нижегородским меценатам.
Жил в Нижнем Новгороде великий мукомол и поставщик хлеба на всю Россию, царский тезка Николай Александрович Бугров. Средства имел несчитанные. Но никаких подходов к нему у Цветаева не было. Чтобы улещить купца, Иван Владимирович согласился лично отвезти ему диплом, подписанный великим князем: об избрании Бугрова членом Комитета по созданию Музея.
Профессор, к тому времени приобретший изрядный опыт общения с меценатами, понимал, что в обмен на музейные пожертвования дарителям нужно предоставить особые вознаграждения. Именно поэтому вложившиеся в дело меценаты получали право голоса на заседаниях Комитета, приглашения на торжественные царские церемонии, почетные дипломы за подписями высочайших особ, повышения в званиях и ордена.
В ту пору Комитет (в лице Цветаева) развивал идею «именных зал». Она состояла в том, что конкретная персона берет на себя финансовые обязательства по созданию одного из залов Музея. Имя зал имеет свое (Египетский, Пергамский, Римский...), но в нем увековечивается имя дарителя, ассигновавшего требуемую сумму. Тонкость расчета состояла в том, что мало кто способен делать тайные пожертвования или давать деньги отвлеченно на усмотрение Комитета. А вот субсидировать оговоренную покупку экспонатов или строительную трату с увековечиванием своего имени охотники найдутся. Цветаев мечтал о том, что Бугров возьмет на себя один из залов.
Собираясь посетить Бугрова, Цветаев опасался нарваться на скандал. Кто его знает, этого миллионщика... Бугров был
человеком настроения: мог выделить крупную сумму, а мог и ничего не дать, сославшись на неурожай.
Помимо Бугрова в Нижнем жил член Комитета, известный на всю Россию промышленник, банкир и благотворитель, один из главных оптовиков-перекупщиков Нижегородской ярмарки Иван Михайлович Рукавишников. Он уже подарил Музею около 100 000 рублей на Олимпийский и Пергамский залы. Что такое, однако, были 100 000 для Рукавишникова? Потому Иван Владимирович очень надеялся на новые вложения.
Отправившись в Нижний Новгород, Цветаев решил встретиться в один день с обоими. С вокзала нежданный гость на трамвае подкатил к Нижнему базару, где в собственном доме жил Бугров. Дело было в воскресенье 7 сентября, а на понедельник приходился праздник Рождества Пресвятой Богородицы, почитаемый нижегородскими старообрядцами более, нежели московской профессурой. Вот почему Иван Владимирович и опасался не застать хозяина дома:
Я очень боялся не застать его, по случаю двух праздничных дней, в городе, так и случилось, его в Нижнем не оказалось, но судьба ко мне была милостива, так как он, поехавши с директором департамента Министерства внутренних дел Штюрмером в какую-то старообрядческую деревню для ознакомления последнего с выстроенной им богадельней, обещал возвратиться к 2 часам*.
Не теряя времени московский гость отправился к Рукавишникову.
В то время Иван Михайлович переживал крупные неприятности, связанные с одной неудачной финансовой комбинацией. Он и его брат Сергей Михайлович, коннозаводчик, решили вложить значительную сумму в недвижимость. Третьим братья взяли в долю Савву Ивановича Мамонтова, наняли маклера московской биржи И. Ю. Шульца — компания собралась солидная — и откупили у казны город Бердичев. Вскоре, однако, Савва Иванович был обвинен в растрате денег Ярославской железной дороги, его бердичевский пай оказался под арестом. Рукавишниковы пошли по делу как свидетели, и хотя суд Мамонтова оправдал, он за время судебного разбирательства успел разориться. Владельцы Бердичева Рукавишниковы несли убытки и корили себя за то, что удумали такое неудачное вложение капитала.
Но встреча Цветаева с Иваном Михайловичем, казалось, прошла успешно.
Нижний Новгород. Большая Покровская улица Начало XX в.
...К 12 часам <я> был на Большой Покровке у И. М. Рукавишникова, которого я должен был поблагодарить за его щедрую жертву, уже целиком им выплаченную... Иван Михайлович был дома; недавно сильно болевший, он принял меня в спальне-кабинете, в одной из нижних комнат, не имея сил подняться наверх. Хилый, болезненный, чрезвычайно деликатный, скромный, он выглядывал каким-то старым цыпленком. За делами Музея он зорко следит, читая годичные отчеты и газетные известия. <...> Из дальнейшей беседы выяснилось, что он хотел на этих днях просить моего содействия его брату Сергею при переводе его сына из Одесского университета в Московский. Я, конечно, рад оказать услугу такому милому сочлену, как Иван Михайлович, и уже вчера студент Рукавишников был у меня; послали мы депешу ректору Одесского университета о высылке документов, а ныне устроил я ему у инспектора провизорный билет на слушание лекций. Как знать, что после того не возьмет хотя бы Муромцевскую залу отец этого студента Сергей Михайлович? Я просил содействия на этот счет нашего сочлена — и он обещал поговорить с братом и вместе с тем посоветовал мне, когда я буду говорить с Бугровым, попросить его ввести в наш Комитет и Блинова, его племянника и наследника его капиталов. За все это я был очень благодарен Ивану Михайловичу*.
Откланявшись, Иван Владимирович возвратился на Нижний базар. О встрече с Бугровым он сообщает Нечаеву-Мальцову следующее:
* Там же.
Николай Александрович Бугров Фотография М. П. Дмитриева. Около 1900
В 2 часа я был у Бугрова и был уже порадован в передней известием, что как только Николай Александрович приехал и прочел мои строки на оставленной мною утром карточке, приказал протелефонировать, не в гостинице ли «Россия» я остановился, и пригласить меня. Ну, думаю, поездка моя не будет впустую. Бугров принял меня очень вежливо и, узнавши, что я лично никаких денег не принимаю и не собираю, стал смотреть доверчиво; выслушав мои слова о том, в какой стадии находится стройка и какие приобретения мы сделали по древнехристианскому искусству в Риме и Равенне, он выразил «непременное» желание приехать в Москву посмотреть и на предметы и на стройку — и, «хотя-де торговля вот уже 3 года идет из рук вон плохо, но „маненько“ делу помогу, что делать», условились, как найти меня в Москве. В заключение я просил его привлечь Блинова, он обещал «поговорить с Макаром».
Может быть, и здесь клюнет. Клейн таксирует (оценивает. — А. С.) результат поездки отдачею 3-х зал: его бы устами да мед пить. Но что бы ни вышло из этого, я, желая быть Вам, Юрий Степанович,
посильно полезным... сделал этой поездкой все, что мог. Большего достигнуть я не в силах*.
Можно себе представить, с каким радостным чувством возвращался Иван Владимирович в Белокаменную, какое удовлетворение испытывал он от этой поездки в Нижний! Цветаев поверил данным ему обещаниям, но, увы, как выяснилось позже, Николай Александрович Бугров жертвовать на Музей воздержался; Иван Михайлович Рукавишников от дополнительного вклада уклонился; брат его Сергей Михайлович дарителем не стал; никаких пожертвований московскому Музею со стороны бугровского племянника Макара Блинова не поступило**.
Поиски пекунии продолжались.
Цветаеву в процессе создания Музея пришлось иметь дело со множеством людей разных сословий, профессий, социального положения: от грузчиков и дворников на Колымажном дворе до великого князя, от таможенников до государя-императора. Иван Владимирович был обязан выстраивать отношения с дарителями и архитекторами, со скульпторами и художниками, с подрядчиками и музейщиками, с формовщиками и каменотесами... Охватить эту «пирамиду» во всей полноте нет никакой возможности, да, вероятно, и не нужно, но хотя бы один из ее срезов привести любопытно. Тем более что он явит нам в миниатюре разрез всего русского общества последних времен самодержавия на примере некоторых персонажей, вовлеченных в проект создания Музея изящных искусств.
«Самодержавная пирамида»
НИ
Великий князь Жертвователи-аристократы Даритель № 1 Нечаев-Мальцов Архитектор Роман Иванович Клейн Профессор Иван Владимирович Цветаев Еще жертвователь: Солдатёнков — банкир Коннозаводчик. Хлебник Бугров. Макар Блинов Еще кирпичных дел подрядчик Василий Александров
Русский художник-акварелист в Риме Федор Петрович Рейман Разлюбезные жулики на таможне с налогом 66 % от цены изделия А вот — грузчики-артельщики, ломовые извозчики, дворники на подмогу!
* Переписка. Т. 2. С. 285-286.
** Там же. С. 432.
Задача Цветаева состоит в том, чтобы пирамида держалась. Она не должна рухнуть, иначе рухнет весь проект. Еще и поэтому Иван Владимирович — преданный монархист. Пока живо самодержавие, держится и «египетская пирамида», таким чудом построенная Цветаевым. Локальные срывы возможны, но тогда нужны компенсации. Незаменим царь. Незаменима благосклонность великого князя. А если, скажем, жертвователи этого среза полностью или частично игнорируют проект, то в других срезах найдутся другие дарители, которые проект поддержат. Жулики с таможни душат Комитет налогами? А Иван Владимирович откладывает оплату в долгий ящик. Артельщики, возчики, дворники бросают, кантуют — «Валяй, ребята!» — хрупкие гипсовые экспонаты? А профессор им неустойку. Так пирамидка покачается-покачается... да и устоит.
Еще для устойчивости необходимо, чтобы сложившие эту живую пирамиду персонажи не перессорились между собой и в отместку не повыпадали со своих мест, как выпал Козьма Терентьевич Солдатёнков, повздоривши с великим князем. Роль Ивана Владимировича миротворческая — гасить конфликты, вызывать гнев на себя, терпеть, не спорить, внушать уважение к общему делу, ставить его выше личных амбиций — прежде всего своих собственных: поддерживать шаткий баланс.
А еще надо, чтобы ключевые фигуры — тот же великий князь или Роман Иванович — не охладели к долгому делу и не вышли из него, прельщенные иными соблазнами. Тут есть где развернуться цветаевскому красноречию. Восславить художественный вкус великого князя. Пасть ниц перед архитектурным гением Клейна. Обещать им вечную память потомков и признание их труда лучшим в истории приношением античной культуре. И панегирист делает это с риторическим блеском. Славословит, сулит, рисует поразительные перспективы, заряжает своей энергией и верой. А потом отлеживается от нервного переутомления в темной комнате по совету лечащего врача Рота; ищет и находит успокоение, шурша опавшими листьями осенней Тарусы; умолкает в ее доисторической зимней тиши...
В последнее время возобновились мои головокружения — и мне посоветовали отдохнуть в другой обстановке. Имея отличный приют здесь, полный покоя и абсолютной тишины, я уехал сюда. Здесь так безмолвно кругом, так уютно в целом флигельке, занимаемом мною одним, сад с расчищаемыми дорожками так удобен для ходьбы, и я тут окружен таким комфортом уединенного и тихого существования, что долго не уехал бы, если бы я мог располагать собой*.
Но располагать собой Иван Владимирович не мог. Дела требовали его постоянного присутствия. Это Юрий Степанович наезжал в Москву по мере надобности, а для Ивана Владимировича надобность пребывания в Москве не пропадала никогда. Зато именно этой пространственной разъединенности корреспондента и получателя, счастливой диспозиции Москва — Петербург обязаны мы возможностью следить за развитием событий, располагая сведениями из первых рук.
Юрий Степанович Нечаев-Мальцов стал тем адресатом, в письмах Цветаева к которому деловое и личное тесно переплетается, слагаясь в некую единую сагу, посвященную созданию Музея.
Цветаев и Нечаев-Мальцов оказались так похожи по своим вкусам, оценкам, пристрастиям, нравственному облику, любви к искусству, так подошли друг другу, что молва соединила их двойной фамилией: «Цветаев-Мальцов». В глазах людей они стали неразрывны, словно это не два человека, но один, и в этом одном нашли себя златоуст и молчальник.
Можно ли сказать, что их переписка (то есть большие частые письма Цветаева и коротенькие редкие телеграммы Мальцева) изначально не предполагала прочтения третьими лицами? Начав ее, Иван Владимирович надеялся, что история создания Музея, записанная им по горячим следам событий, станет достоянием будущих поколений, и если его письма и пишутся с какой-то «оглядкой», то это «оглядка» не на современников, а на потомков.
Прежде чем вступить в переписку с Нечаевым-Мальцо-вым, — и некоторое время параллельно с ней, — Иван Владимирович вел дневник. Поначалу именно в дневнике он намеревался день за днем фиксировать историю строительства Музея.
Дневник — самый интимный литературный жанр. Он интимней письма, поскольку не предполагает даже одного адресата. Дневник пишется для себя: для памяти; для того, чтобы глубже осмысливать происходящее.
«Дневник» Ивана Владимировича Цветаева — толстая линованная тетрадь в твердом переплете, прошитая для прочности металлическими скрепками. Число страниц — 289. Поля с обеих сторон не отчеркнуты, а слегка перегнуты. Таких тетрадей три.
Творец автографа использует бумажное пространство крайне экономно. Записи делаются на каждой линейке. Абзацы редки. Любой разворот смотрится как сплошной текст. Почерк округлый, с почти каллиграфическим чередованием волосных и жирных линий. Исправления есть, но их мало. Десятки страниц не содержат ни малейших помарок. Каждая новая запись
помечена полной датой. Дата подчеркнута одной линией и написана на отдельной строке сбоку. По тому, как Цветаев ведет дневник, можно судить о его собственной аккуратности, чрезвычайной экономности, навыках усидчивой, сосредоточенной работы, умении концентрировать впечатления, внимание, реакции, мысли и выражать их сразу набело, без предварительных черновиков или многочисленных правок.
День 15 июля 1898 года получил утверждение как время начала работ по сооружению Музея, а торжественная церемония закладки была назначена на 17 августа.
Дневник Цветаева от 14 июля сообщает:
Мы с женою в Москве... переговоры с Клейном на Девичьем поле, у которого пришлось быть два раза, утром и вечером, с И. Ю. Шульцем (казначеем Комитета. — А. С.) в его конторе на Варварке, в Рыбном переулке, и с университетскими властями. Клейн — весь в работе по изготовлению многочисленных чертежей и по подготовке строительного дела закладки, назначенной в присутствии государя и двора, по слухам, на 17 августа. Все дни шли торги с подрядчиками. Смета всей постройки почти 1 '/ миллиона руб<лей>; смета закладки, по вычислению университета, скромная, в 4500 р<ублей>, а Нечаев-Мальцов и Клейн стоят за больший эффект празднества и больший объем дорогой царской палатки. Трибуна предполагается на 600 человек*.
15 июля...
Пришел великий, давно жданный день вступления на Колымажный двор в роли хозяев этого чудного места. Что скрывать? Когда, в 10-м часу утра, я шел из университета по Моховой и Волхонке к этому месту, то словно подгоняла меня какая-то посторонняя сила. В ногах чувствовался какой-то зуд, и они нетерпеливо двигались вперед — и если бы не встречи со знакомыми и не эти столь знакомые места, то бежал бы бегом. Степенность и спокойствие были тут напускные. Площадь за вчерашний вечер и нынешнее утро совсем преобразилась: загородь во многих местах снята, в пустые места въезжали и выезжали массы подвод с кирпичом, бутом, бревнами, досками, тесом. Плотники сколачивали и сшивали забор, который тут же и красился в серый цвет. Рабочие всех категорий двигались во всех направлениях площади. На углу к храму Спасителя поставлена была легкая палаточ-ка с брезентовым верхом для архитектора и чертежей. Когда все встало передо мною, лишь я вышел к Ваганьковскому переулку, слезы застлали мне эту незабвенную картину. Расцеловались мы с Клейном, поздравил я его с началом великого дела — и, пока он с своими помощниками разбивали площадь под сквер и здание, я пошел в храм Спасителя помолиться перед начатием земляных
* Цветаев И. В. Дневник. I тетрадь // НИОР РГБ. Ф. 324. Картон 1.Ед. хр. 1. С.197-198.
работ, перед этим водружением первых заступов в землю. Никогда мне не казался радостнее, краше, величественнее этот чудный храм, как в эти минуты, которые начинали столь лестное и давно желанное соседство Университета и Музея с этим дивным памятником народной славы.
Когда настало время определять линию главного фасада здания, устроили мы с Клейном последнее совещание, где проводить ее и, следовательно, до какого пункта продолжать Музей на заднем плане площадки. В Тарусе я мечтал о возможности отодвинуть главный фасад на 20 саж<еней> от Волхонки, но на практике это оказалось совершенно невозможным, так как тогда бы правым углом здания пришлось бы далеко врезаться в улицу, в силу того что задняя межа площади идет по наклонной линии с з<апада> на в<осток>. Рассудили мы на месте, вычертивши на земле часть заднего фасада, не выдвигать углы здания вплоть до тротуара, оставив здесь хотя крошечную ленточку промежуточного пространства. На правом углу его пришелся всего один аршин. Это очень мало, но это лучше, чем ничего. И эту каемочку можно после огородить от обычного у нас загрязнения задних сторон казенных зданий бесцеремонным народом. Размеряли портик и боковые колоннады фасада, повсюду натянули бечеву, понаставили скамеек с нарезками пунктов измерения. Дело затянулось надолго. Но к пяти часам все подготовительные работы по разбивке кончились. Выступили по линии фасада копачи с заступами. Говор и крики, раздававшиеся весь день на площади, стихли, замолк и весь день командовавший Клейн, и, обыкновенно живой, веселый, смешливый, легко возбуждающийся, вспыльчивый, он притих и со словами: «Ну, ребята!» — снял шляпу и склонился перед храмом Спасителя. За ним обнажили головы все рабочие, принялись креститься и молиться со словами: «Помоги, Господи!» — и потом все дружно, разом опустили свои заступы в землю. Прибыла на этот момент и супруга Клейна помолиться перед началом большого дела мужа, которое отныне займет его на целые пять лет (как тогда казалось. — А. С.) и выше которого, по своему характеру и значению, ему уже не иметь в жизни.
Душевные настроения у великорусского рабочего меняются быстро: через пять минут землекопы уже весело болтали меж собой и подговаривались к получению от архитектора «на чай» для начала дела. И этот «на чай» они получили обильный*.
Работа закипела в двух направлениях: рытье котлована под фундамент и организация торжества по случаю закладки Музея. Неожиданные дебаты разгорелись в связи с приглашением или не приглашением на закладку студентов. Высказывались опасения: «как бы чего не вышло»...
16 ИЮЛЯ...
Подготовительные работы по организации закладки в полном ходу. Приехавший из Петербурга Нечаев-Мальцов продолжает
утверждать, что празднество назначено на 17 августа. Времени меньше месяца, а сделать приходится очень много. С Ильинским (подмосковной резиденцией. — А. С.), где живет великий князь, сносился чрез генерала Степанова, который для ускорения отвечает телеграммами. Праздник намечается очень торжественный, на котором будет весь двор; по соображениям лиц сведущих, с государем прибудет до 80 особ царствующего дома и их свита. Предположено построить павильон для 120 человек и три трибуны на 600 человек. Кроме обычных гостей, при выходах и посещениях государя, чинов и представителей сословий Москвы на университетский праздник просвещения необходимо дать доступ на трибуны студентам университета, лицея и технического училища, гимназистам, воспитанницам гимназий и институтов. И чем больше будет здесь учащейся молодежи, тем лучше: она внесет сюда свою молодость, оживление, радостное настроение и живой интерес — те бесценные свойства, которыми владеет один только этот возраст и никакой более. Слышатся голоса и против допущения молодежи на этот праздник; исходят они от лиц придворных сфер, и взамен этого рекомендуется ограничение первыми четырьмя классами чинов, профессорами университета и Комитетом. Так-де спокойнее, а то не выкинули бы студенты какой-нибудь штуки, которая омрачит праздник. Я не разделяю этих опасений и никогда не соглашусь, чтобы оказался какой-нибудь безумец и преступник на наших трибунах. Негодяи этого сорта обыкновенно прячутся и действуют из-за угла; свет и оживление больших и праздничных собраний убивают их дерзкую отвагу. Да и к чему непременно предполагать в студентах разрушительные стремления? Отрицать существование нескольких безумцев между ними, конечно, было бы делом напрасным, но в каких классах нашего общества их нет? И из-за нескольких негодяев или несчастных утопистов опасаться всего студенчества было бы несправедливо и жестоко для последнего. Нет, стану писать и Степанову и Истомину о введении на наш праздник возможно большего количества учащейся молодежи, мужской и женской. А то с этими генералами четырех классов будет чересчур чопорно, сухо, казеннослащаво и потому до тошноты скучно*.
Новый предмет дискуссий — приглашать ли на закладку потенциальных дарителей, богатейших купцов из других городов России?
17 июля...
Нечаев-Мальцов против приглашений избранных лиц, меры, принимаемой в материальных интересах дела, требующего еще очень больших денег. Хотя у нас и более миллиона руб<лей>, но ведь здесь считаются и 300 т<ысяч> р<ублей> каменной облицовки, делаемой Нечаевым-Мальцовым; на одну выкладку и отделку здания нужно не менее 1 200 000 руб<лей>. Следовательно, нужно
Цветаев И. В. Дневник. I тетрадь. С. 203-205.
наработать еще около 500 т<ысяч> р<ублей>, задача крайне трудная, если упустить этот случай привлечения симпатий к нашему делу в богатом классе Москвы и городов московского района. Шульц, Клейн, Зверев и я того мнения, что необходимо разослать приглашения таким капиталистам, как Журавлеву в Рыбинске, Бугрову и Рукавишникову в Нижнем Новгороде, Оловянишнико-ву в Ярославле, Коншину в Серпухове, не говоря о 25-30 богатых коммерсантах Москвы. Раз учреждение создается не на счет государственного сундука, как это обыкновенно делается в Петербурге сильными там государственными людьми, нам нельзя упускать случая быть любезными в отношении тех, кто служит и может служить нашему делу своими средствами. А забудем мы или намеренно не вспомним мы их на этом, единственном по своему исключительному характеру празднике, нам будет закрыт всякий доступ к этому кругу, очень хорошо знающему свою денежную цену. Писал об этом Степанову, надобно написать и Истомину, прежде чем состоялось решение великого князя на этот счет. Держать его высочеству здесь исключительно высокую ноту и желать, чтобы жертвователи сами подходили к Музею и Комитету, совершенно естественно в его положении, но у людей, стоящих лицом к лицу к задуманному предприятию, исключительно им занятых, отношение к делу, по необходимости, иное. Нам, двоим-троим, по опыту известно, каких трудов, переписки, личных сношений, сколь частых и горячих бесед стоили жертвы, о которых теперь так много и восторженно говорят и пишут. Охотников подходить со своими деньгами к чужой идее, к чужому делу на свете бывает очень мало. Исключительно сами, без чьей-либо просьбы... имеющей форму и тон даже отдаленного намека, подошли к устройству зал только великие князья Сергей и Павел Александровичи (генерал-адъютант, почетный член Комитета по устройству Музея. — А. С.), неожиданно объявившие мне 30 апреля об избрании ими зала «Парфенон»; без моей или чьей-либо иной просьбы назначил 100 т<ысяч> руб<лей> в неприкосновенный капитал Музея Ник<олай> Сем<енович> Мосолов, мой давнишний приятель (академик, художник-гравер. — А. С.); по одному письму откликнулись мне целыми залами М. С. Скребицкая (дочь генерал-адъютанта С. А. Юрьевича, воспитателя Александра II. — А. С.), Л. М. Муромцев (гофмейстер двора. — А. С.), с одного слова дал залу М. А. Морозов (совладелец Тверской мануфактуры, коллекционер живописи. — А. С.), сами, после первого личного знакомства со мною, дали свои залы И. А. Колесников (содиректор Никольской мануфактуры, казначей Комитета. — А. С.), И. К. Прове (коммерсант, член-учредитель Комитета. — А. С.), С. А. Протопопов (московский городской голова, тоже член-учредитель Комитета. — А. С.). Остальные же залы явились плодом больших хлопот. Заставляют себя просить не одни люди купеческого сословия...Нелепо надменную теле-
грамму прислал мне кн<язь> Фел<икс> Фел<иксович> Юсупов, граф Сумароков-Эльстон (адъютант московского генерал-губернатора, член-учредитель Комитета. — А. С.), на просьбу мою о залах. И ему, распоряжающемуся колоссальным состоянием Юсуповского рода, следовало бы показать зубы за этот неподобающий тон, но его спасли в данном случае помощь, выпрошенная у него Рейману
Истоминым (согласился оплачивать работы Реймана в римских катакомбах. — А. С.), и надежды, что он, в силу положения его при дворе великого князя, все-таки сделает нам что-нибудь достойное имени, полученного им женитьбою на чудесной и наружностию и характером кн<ягине> Зин<аиде> Ник<олаевне> Юсуповой.
Этих и многих других подробностей хождения по Москве, по кабинетам и конторам ее богатых людей, с их беседами иногда весьма надменного и грубо-зазнайственного характера, великий князь знать не должен и, конечно, не узнает (сохраняя на сей счет полное молчание, Цветаев мудро щадит самолюбие великого князя, уверенного в том, что верноподданные горят желанием посвятить свои кошельки царской семье в память императора Александра III, а кроме того, гуманный проситель уводит неупро-шенных дарителей от вероятного великокняжеского гнева. — А. С.). Но продолжать эти хождения необходимо, чтобы достичь раз поставленной цели. Чрез Истомина и Степанова надобно добыть разрешение послать приглашения, не дожидаясь, что нас станут искать нужные для Музея лица и семьи. Нечаев-Мальцов острит насчет того, что любезностью нашей воспользуются, на праздник приедут — государя и царскую фамилию посмотреть, а затем скажут нам merci и нас основательно забудут... Конечно, без этого не обойдешься; будут и такие, но далеко не все. Толк от этих приглашений все-таки окажется немалый. В этом я не сомневаюсь*.
Одна из последующих записей: «...Воротился в Тарусу набираться сил к большой трепке нервов и к большим хлопотам перед праздником»**.
Приближалась церемония закладки...
В канун ответственного дня все организационные неурядицы всплыли на поверхность, и казалось, что ничего не готово и всему предприятию грозит страшный конфуз...
Большое затруднение представляет сбор профессоров на закладку. Из 99-100 человек не находится и 20, живущих поблизости от Москвы и имеющих мундиры. Остальные по деревням и, конечно, приехать нарочно не захотят. Вот вам и университетская коллегия, и «славные предания Московского университета». Едут к нам на закладку университетского учреждения, не только равного, но и подобного которому не знает история всех отечественных университетов, император, императрица и весь царствующий дом, а профессоров приходится разыскивать и упрашивать занять их место при этой встрече. И ректор, и попечитель (попечитель Московского учебного округа П. А. Некрасов. — А. С.), и Боголепов (министр народного просвещения. — А. С.), приехавший сюда на праздники, в большом конфузе. Назначен, по программе, прием государя и государыни Советом университета, при входе в павильон,
* Цветаев И. В. Дневник. I тетрадь. С. 207-211.
** Там же. С. 215-216.
а членов-то этого Совета и не сыщешь. Глупое и ничем путным не объяснимое явление. <...>
Не лучше дело и со студентами: насилу набрали 60 человек, ловивши встречных и поперечных, со всех факультетов, лишь бы не был замечен раньше в дурном поведении. Рассчитывали на студентов лицея, но и там вместо обещанных 20 человек нашли только трех. То же безучастие, та же халатность и в молодежи, что и в ее наставниках. Молодых людей, считающихся в Московском университете до 4000 человек, не интересует даже такое историческое событие, как открытие памятника царю-Освободителю (Александру II. — А. С.)! Сколько их в эти дни по подмосковным дачам проводит время в праздности или козыряет в винт! <...>
Сейчас принесли на просмотр именные мраморные кирпичики для завтрашней закладки. Заказ их делал Нечаев-Мальцов, и, как человек придворный, он позаботился только о высочайших особах. Нет именных кирпичей ни министру нар<одного> просв<ещен>ия, ни попечителю учебного округа, ни ректору университета, ни даже митрополиту (митрополит Московский Владимир, в миру В. Н. Богоявленский. — А. С.). Теперь уже ночь, вырезать надписи некогда, да и рабочие все гуляют. Завтра придется краснеть перед всеми, имеющими право на именные кирпичи. Дела в эти дни было столько, что я не удосужился съездить на конец города к мраморщику — и вышло дело дрянь. Надобно бы приготовить именной кирпич и Московскому голове, как представителю города, а то в думе сочтут это отсутствие за мелкие счеты с нашей стороны по поводу противодействия кн<язя> Голицына в вопросе о Колымажном дворе. Дело же объясняется гораздо проще. Надо съездить к Клейну, чтобы провести с ним последний часок кануна. Он тоже утомлен и исхудал до крайней степени*.
После напряжения, связанного с торжеством закладки Музея, Иван Владимирович уехал отдохнуть к семье в Тарусу. Уже там он восстанавливал в памяти все подробности 17 августа — этого «феерически лучезарного дня» — и в течение пяти дней заносил свои впечатления в дневник.
Последние приготовления**
Этот лучезарный день в истории нашего дела должен остаться в нашей памяти навсегда, как кульминационная точка, до которой возвысилось наше когда-то скромное, когда-то маленькое предприятие и ставшее теперь предметом всеобщего внимания не только Москвы, но в эти дни и целой России. В последние месяцы, начиная
* Там же. С. 268-272.
** Для удобства чтения сплошной дневниковый текст разбит на части, озаглавленные автором этой книги.
с 12 марта, дня обозрения проекта Музея государем, творилось с этим делом что-то баснословное, что-то воистину сказочное. Когда император спросил меня в тот день о материальных средствах, я преувеличил на 50 т<ысяч> р<ублей>, сказавши, что мы имеем 200 т<ысяч> р<ублей>: к алексеевским 150 т<ысячам> р<ублей> я мысленно прибавил остальное, основываясь на сообщении Клейна, что И. К. Проведает, после переговоров с ним, Клейном, о Комитете, 50 т<ысяч> р<ублей>. И затем смело доложил государю о проекте раздачи именных зал жертвователям, стоимости их, вследствие чего у нас должна будет образоваться сумма в 650 т<ысяч> р<ублей> только по одной этой статье. Как случилось, что ни государь, ни великий князь Сергей Александрович не охладили своею критикой этого фантастического расчета, я не знаю. Только этот смелый проект встретил и благосклонное внимание, и видимое сочувствие.
С тех пор все дары Музею приняли исключительно этот путь, и теперь мы подходим к концу раздачи зал. Такой совершенно новый оборот дела высоко поднял значение и Комитета, и Музея, интересовал после государя и привел нас к этому празднику, о котором не мечтал никто из нас и в грезах. <...>
Было 7 часов утра, приезд государя и царствующей фамилии назначен на 3 часа пополудни. Утром должны были сойтись в павильоне на Колымажном дворе Нечаев-Мальцов, Клейн и я; для установки цветов и растений — часть Юрия Степановича, для покрытия пола красным сукном — часть Клейна, и для развески образцов катакомбных рисунков Реймана по стенам павильона — это предстояло мне. <...> В 8 часов работало уже бюро Комитета в университете над раздачею билетов запоздавшим адресатам и значков членам Комитета, принесенных только поздно вчера вечером. Посланные от наших сочленов приходили за ними три последние дня, но ювелир Лорье все обманывал наши ожидания. Оттого в восемь часов утра уже шли быстрые раздачи этих украшений; с значками должны были прибыть на праздник даже великий князь Сергей Александрович с великой княгиней Елизаветой Федоровной; их должны были надеть уже на самой закладке почетные члены Комитета — великие князья Владимир (генерал от инфантерии, президент Академии художеств. — А. С.) и Павел Александровичи и Константин Константинович (генерал от инфантерии и президент Академии наук; поэт, публиковавшийся под инициалами К. Р. — Константин Романов. — А. С.).
Как ни поздно мы расстались с Клейном вчера, он уже с шести часов был с подрядчиком и рабочими в павильоне. В девятом часу я встретил работы там в полном ходу. Нечаев-Мальцов, забыв свой 62-й год, сновал по площади, командуя расстановкою декоративных растений по дороге, ведущей к павильону, и в самой палатке. Павильон, убранный разноцветными тканями, с мачтами и красивыми стягами с гербами государственным и дома Романовых, производил импозантное впечатление и своими очень большими размерами, и изящной архитектурой. По общим отзывам, этот павильон был лучшим из всех, построенных на нынешнее посещение Москвы государем в разных местах. Имя Клейна, его вкус и энергия прославлялись повсюду, до придворных сфер
включительно. Нахлопотавшись вдоволь, мы расстались, чтобы переодеться и явиться снова в 12-м часу, перед вступлением гостей на площадь*.
Торжественная церемония
Три часа прошло в сборах публики до приезда великих князей, их семейств и до прибытия царя с царицей, а как в этих встречах, разговорах, приготовлениях к приему высоких гостей незаметно пролетело время! Быстро сменялись лица, впечатления, беседы, рукопожатия, поздравления, новые знакомства. Павильон наполнился членами Государственного совета, сенаторами, высшими придворными чинами, министрами, членами Комитета, профессорами, лицами свиты государя и великого князя Сергея Александровича с Елизаветой Федоровной и дамами высшего круга. Втискались сюда же какими-то путями и корреспонденты газет, больших и малых, московских, петербургских и заграничных. <...>
Университетский праздник наш посетили все, бывшие в Москве, принцы и принцессы, королева греческая с наследным принцем и младшим сыном Ольга Константиновна (дочь великого князя Константина Николаевича, супруга короля Греции Георга I, с сыновьями Георгом и Андреем. — А. С.), дочь Александра II великая герцогиня Кобург-Готская Мария Александровна. Великие князья с супругами были все, за исключением престарелого в<еликого> к<нязя> Михаила Николаевича (генерал-фельдмар-шала, председателя Государственного совета. — А. С.). Не стану описывать прибытия государя с государыней, сопровождавшегося восторженным «ура!» народа, которым залиты были все прилегавшие улицы. Государь был в наилучшем настроении, милостиво выслушал небольшое приветствие, сказанное попечителем Некрасовым, принял депутацию профессоров, приносивших благодарность его величеству за необыкновенные щедроты его в отношении Московского университета, а затем, поздоровавшись с великими князьями и министрами, он стал на молитву. Молебен с водосвятием совершал митрополит Владимир перед иконами Иверской Божией Матери, Спаса Нерукотворенного и св. мученицы Татианы, патронессы Московского университета, образ которой впервые в истории Московского университета для этой цели был вынесен из университетской церкви.
По освящении воды приступлено было, с благословения митрополита и по прочтении им закладочной записи на медной доске... Царь и царица положили первые камни и монеты в особо приготовленный ящик из твердого камня. За ними последовала длинная вереница высочайших особ, клавших деньги и камни, каждый в свой черед. Так как это должно было занять не менее '/ часа, то государь, подписывая акт закладки, написанный на пергаменте и после замурованный в толстом и герметически закупоренном стеклянном цилиндре в тот же столб, где скрылся каменный ящик с царскими кирпичами и монетами, вступил в беседу с Ю. С. Нечаевым-Мальцовым. <...>
Цветаев И. В. Дневник. I тетрадь. С. 273-277.
Перед церемонией закладки здания Музея: слева — И. В. Цветаев, далее — Р. И. Клейн; в центре — участок стены, в котором будет замурована закладная грамота. 17 августа 1898
Пока император разговаривал с нами, великие князья и великие княгини клали свои именные камни, собравшись вокруг закладочного места. <...>
Нечаев-Мальцов между тем доложил их величествам, что нами выставлены катакомбные рисунки Реймана. Государь, припомнив мой доклад о них 12 марта, пожелал их осмотреть и предложил мне дать объяснения. <...>
От катакомбных рисунков государыня перешла к выставленным картонам фасадов Музея. Главный фасад привлек особое внимание ее величества; остановившись перед ним, она сказала нам:
— Comme c’est beau!* — и затем, обратившись к Боголепову, спросила по-французски, сколько времени будет строиться Музей.
— Около пяти лет, — отвечал он. <...>
Этот вопрос о продолжительности постройки заинтересовал и государя, которому я должен был доложить, что пятилетний срок избирается нами и ради обширности сооружения, и потому, что Юрий Степанович дарит нам каменную облицовку фасадов, которые потребуют особо медленной работы. Нечаев-Мальцов к этому прибавил, что он намерен отправить геологов на Урал для исследования одной горы, заключающей в себе различные породы яшмы, и что он желал бы облечь Музей в яшму. Император с улыбкой слушал эту речь... <...>
Закладыванье именных камней высочайшими особами приходило к концу; в этот момент Клейн подошел к государю и попросил его осчастливить присутствием поднятие креста на стройку.
Тем временем <мы> подошли к углу павильона, откуда можно было видеть церемонию поднятия креста. Зная, какое важное значение будет...**
На этом запись обрывается, и остается только догадываться: что же «будет»?.. А причина обрыва текста чисто техническая. Кончилась первая тетрадь, и вторую Иван Владимирович начинает с продолжения усеченной фразы***:
* Как это красиво! (фр.)
** Цветаев И. В. Дневник. I тетрадь. С. 277-288.
*** Интересно, что такой своеобразный перенос текста из тетради в тетрадь унаследовал от деда его внук Георгий Эфрон (Мур) — сын Сергея Эфрона и Марины Цветаевой, едва ли знакомый с дедушкиным дневником. Мур переносил из закончившейся тетради в новую даже не половину предложения, а всего один слог!
«Дневник № 2.
29/ III-40.
...Если продлят (возможность Марине и Муру жить в Доме отдыха в Голицыне. — А. С.), то мы останемся здесь до мая, а потом придется переев-» Так на полуслове (за неимением места) обрывается Дневник № 2, а продолжение в следующей тетради:
«Дневник № 3.
29/III-40
жать (дважды курсив мой. — А. С.) в другую комнату в Голицыне...» (Эфрон Г Дневники: В 2 т. М„ 2004. Т. 1. С. 31-32).
иметь во мнении рабочих факт присутствия при этом государя, Клейн в последние дни очень много хлопотал о том, чтобы этот момент прошел особенно удачно. Для этой цели производились им неоднократно репетиции с людьми и лошадьми, которые должны были поднимать нижний конец мачты.
— А ну как заартачатся лошади? — говорили ему при этом. — Или что случится с блоком и веревками в самую важную минуту?
Нечаев-Мальцов советовал исключить эту часть из программы совсем, во избежание какой-либо неудачи. Клейн, однако, продолжал налаживать и лошадей, и рабочих, и инструменты. Крест он сделал большой, изящной работы, блок особенно надежный, лошадей вымуштровал, чтобы они не боялись толпы.
И все прошло очень хорошо. <...>
Веселый и благосклонный, на виду всех подав руку Клейну и мне, государь сказал в заключение:
— Ну, я буду наведываться и следить через председателя Комитета за ходом ваших работ. Ждите нас на открытие Музея.
— При этой надежде наша работа нам будет легка, Ваше величество, — отвечал я. <...>
Сказав эти слова, государь с царицею отбыли с закладки, при общем почтении трибун и при громких кликах народа, залившего Волхонку и соседние переулки. За государевой коляской последовал разъезд высочайших особ и их многочисленной свиты. Публика трибун повставала со своих мест и устремилась к павильону, на двор, за ограду площади, хлынул народ с улицы и заполнил всю переднюю часть, до самого павильона. Начались общий беспорядок, толкотня и обрывание цветов, которыми был украшен павильон.
А между тем молебствие не было еще окончено, церковная часть праздника должна была продолжиться. По окончании церемонии положения камней высочайшими гостями и митрополитом все сочли церковную службу оконченной; в общеприподнятом настроении никто не заметил, что еще не было ни молитвы с коленопреклонением, ни ектений с многолетием, ни провозглашения «вечной памяти» императору Александру III, имя которого будет вовеки носить Музей, ни обычного отпуска с целованием креста.
Новый и очень молодой митрополит Владимир, недавно прибывший в Москву из провинции и никогда не бывший на архиерейской кафедре в столицах, по робости или по незнанию чрезвычайных порядков как-то стушевался, предоставив публике павильона двигаться за государем. <...> ...И никто из нас не заметил этой большой неловкости в эту напряженную и необычайную минуту*.
Финальный аккорд
Праздник наш закончился обедом, данным членам Комитета Ст<епаном> Ал<ексеевичем> Протопоповым в ресторане «Эрмитаж». Протопопов — большой хлебосол и мастер подбирать характер блюд и напитков. Закусок одних он выставил огромный стол,
* Цветаев И. В. Дневник. II тетрадь // НИОР РГБ. Ф. 324. Картон 1. Ед. хр. 3.
С. 290-295.
так что этим можно было бы и кончить трапезу. А по программе это было только началом брашна. Много было произнесено речей, много было высказано пожеланий зародившемуся детищу на Колымажном дворе; все находились под наилучшим впечатлением так чудно удавшегося праздника закладки.
А праздник вышел действительно каким-то феерически лучезарным. Ни одно учреждение во всех наших университетах и каких-то ни было высших учебных заведениях никогда не закладывалось в присутствии всех членов царской семьи с их величествами во главе. Здесь случилось нечто необычайное, поразившее всех своим удивительным блеском и теплотою. <...>
Это был день, полный таких впечатлений, которые не изгладятся из памяти и из сердца никогда. Если бы в грядущей деятельности по Музею нас не ожидали никакие удачи и радости более, то чудных впечатлений этого 17 августа 1898 г<ода> совершенно достаточно, чтобы поминать работу над созиданием этого учреждения исключительно добром. Ему мы посвятим все силы, все лучшие помыслы остающейся нам жизни*.
Даритель
История малъцовского дела. Экспедиция на Урал. — Два фриза. Особенности отечественного такелажа. —
«Удивлен заказами значительные суммы...». Заслуги гофмейстера
1
В середине XVIII века во Владимирской губернии на реке Гусь купцы Мальцевы построили стекольную мануфактуру. Со временем производство разрослось до мальцовского стекольного района, включавшего в себя стекольные и цементные заводы пяти губерний Средней России.
Новый размах семейному предприятию придает Иван Акимович Мальцов. Он вводит на заводах стекла все самые передовые новшества отрасли и переходит к выпуску дорогого хрусталя.
Мальцовское дело на подъеме. Оно переходит к племяннику Ивана Акимовича Ивану Сергеевичу Мальцеву. К делу привлечены лучшие мастера-стеклодувы. Они осваивают изготовление изделий с цветочной росписью и золочением, с «бриллиантовой гранью», из трехслойного хрусталя с травлением. Гусевской хрусталь завоевывает российский рынок и выходит на мировой. Русские мастера изучают опыт чешских стеклодувов и налаживают выпуск изделий из богемского стекла. Так
* Там же. С. 299-300.
возникают произведения искусства, чей художественный уровень не уступает уровню экспонатов европейских музеев.
Иван Сергеевич продолжает развивать производство. Он строит бумагопрядильную фабрику для выпуска высококачественной пряжи. Все оборудование на фабрике английское, весь хлопок — американский, но конечный продукт — его, мальцов-ский.
Всю свою недвижимость, все богатство бездетный Иван Сергеевич Мальцов завещает племяннику Юрию Нечаеву с условием удвоения фамилии. Так, единственным владельцем мальцовского дела, а с ним и «хрустальным королем» России в одночасье становится Юрий Степанович Нечаев-Мальцов.
Наследство попало в достойные руки. Нечаевы были видным дворянским родом, а Юрий Степанович упрочил фамильные традиции и семейную славу.
Он родился в 1834 году в семье обер-прокурора Святейшего Синода, действительного тайного советника, историка и археолога, крупнейшего благотворителя Степана Дмитриевича Нечаева. Юрий Нечаев окончил юридический факультет Московского университета и, служа в Министерстве иностранных дел, исполнял дипломатические поручения в Европе.
Получив колоссальное наследство, сразу сделавшее его одним из богатейших людей России, Нечаев-Мальцов сменил дипломатическую службу на представительское придворное поприще, поселился в столице, на Сергиевской улице, в роскошном особняке, построенном архитекторами Р. И. Кузьминым и Ю. Э. Боссе для князя Л. В. Кочубея, а позже заново отделанном специально под вкусы Юрия Степановича архитектором Л. Н. Бенуа.
Однако новый хозяин особняка на Сергиевской не стал придворным щеголем, а занялся активной промышленной деятельностью. Он вник в тонкости производства, научился управлять огромным, сложным и отлично отлаженным хозяйством, оставленным ему дядей. Трудами Нечаева мальцовское дело упрочило свое мировое признание. Завоевав все мыслимые награды на всероссийских выставках, гусевской хрусталь в 1900 году поехал на Всемирную выставку в Париж, где ему была присуждена главная премия. В честь этой победы городок Гусь был переименован в Гусь-Хрустальный.
Параллельно с производством Юрий Степанович уделяет внимание благотворительности. На его средства (по дядиному завещанию) во Владимире строится лучшее в Европе ремесленное училище имени И. С. Мальцева; неподалеку от Куликова поля — храм Святого великомученика Димитрия в память убиенных в Куликовской битве; а в самом Гусе (еще
100-рублевая акция Мальцовских стекольных заводов Петроград. 1917.
Фотография с копии, предоставленной Е. Б. Бендовским
Особняк Ю. С. Нечаева-Мальцова в Петербурге (ул. Чайковского, д. 30) 1980-е
Интерьер особняка Ю. С. Нечаева-Мальцова Интерьеры выполнены в 1883-1884 гг. архитектором Л. Н. Бенуа 1980-е
не Хрустальном) — храм Святого Георгия. Все здания отличает богатое декоративное убранство. Это не просто «постройки», а произведения архитектуры.
К моменту знакомства с Цветаевым Юрий Степанович был, что называется, в силе и славе. Подвижен, любознателен, легок на подъем, обожал путешествовать. По своим «хрустальным делам» ему приходилось часто бывать в Гусе, ездить по Владимирской губернии. Привыкший к теплу и комфорту, он плохо переносил русскую зиму и на это время отправлялся в теплые страны — в Африку или на юг Европы, куда его влекла жажда художественных и жизненных впечатлений. Там он посещал лучшие, самые знаменитые музеи. Интерес к искусству, классический вкус и неограниченные материальные возможности позволяли «хрустальному королю» не только любоваться шедеврами архитектуры, скульптуры, живописи, но и покупать понравившиеся произведения. Специальных коллекций он не собирал, однако со знанием дела окружал себя работами старых мастеров и близких ему современников. Цветаев отмечает, что дом Нечаева-Мальцова был оформлен роскошно и со вкусом:
Богатство и блеск обстановки дома трудно себе и представить. Тут каждый стул, каждая рама, каждая канделябра, каждая люстра — предмет искусства. И ковры, и шелковые обои тканы на заказ по особым рисункам то в Москве, то в Лионе, картины старых западноевропейских мастеров, на лестнице — мраморная группа Кановы, представляющая группу Антиноя и гения смерти, известную под именем группы Ildefonso и находящуюся ныне в Мадриде. Плафоны в гостиной и зале писаны Семирадским, есть целый кабинет, расписанный сплошь Айвазовским по размерам стен. Зимний сад полон тропических растений колоссальных размеров, фонтан бьет до высокой, очень высокой кровли, из множества гротов шумят ручьи, стекающие из искусственных скал. Это, особенно при электрическом освещении, что-то волшебное, феерическое, поразительное даже после стольких путешествий по Западной Европе. Но, к чести Нечаева-Мальцова, должно быть сказано, что все в его доме приведено в гармонию художественным чутьем, вкусом и знанием*.
Нечаев-Мальцов любил «популярную классику» либо то, что с большой вероятностью должно было ею стать. Он предпочитал художников-реалистов. В его поле зрения — Семирадский, Айвазовский, Куинджи, Васнецов, Поленов... А вот поленов-ских учеников — Коровина и Головина — Юрий Степанович не признавал, считая их «декадентами», и поддерживать не спешил.
* Переписка. Т. 1. С. 400. Дневник И. В. Цветаева цитируется в комментариях.
Он оставался поклонником египетской, ассирийской и греко-римской древности. Его увлекали славянская мифология и классический пейзаж. Он исповедовал общее с Цветаевым эстетическое credo, которое Иван Владимирович выразил в одном из писем Помяловскому:
Я... решил... заняться скульптурою... итальянского Возрождения и частью Германскою скульптурою Средних веков. От последней, как и от искусства Византийской эпохи, грешный человек, меня воротит; не могу я в ней, кроме архитектуры, найти ни красы, ни радости. В отношении эстетическом ведь это формы ужасные, в сравнении с тем, что представляли скульптура и живопись в древности и в век Возрождения. Перейти от антиков к Возрождению — это естественно как нельзя более, но после истинных красот получить вкус и познать увлечение в византийской живописи, мозаике и скульптуре — это, раздерите меня Вы на части, выше моих сил и выше моего понимания. Для этого необходимо или не знать античных образцов, или отречься от того, чему поклонялся, и, главнее главного, надо познать и проникнуться течением религиозных идей, которые создали это, для меня ужасное с формальной точки зрения, ужасное, отталкивающее искусство. Здесь необходимы глубокая вера в единственную правоту этого направления, некогда руководившая его творцами, и ненависть ко всему, что прекрасного, божественно-прекрасного создало язычество греков, конечно проклятое для аскета-византийца и восточника. А коли этого нет в душе, то как поймешь и как станешь увлекаться этим искажением красоты и правильности форм?*
Приведенный фрагмент письма свидетельствует о том, что Цветаев, как и его меценат, далеко не всеяден в искусстве, напротив, он весьма избирателен. Показательно его невосприятие искусства Византии — скульптуры, мозаики, живописи, а значит, и церковной иконописи. Сын и внук православных священников, выпускник духовной семинарии не воспринимал иконы... Видимо, их религиозной значимости, их святости, их исцеляющей силы ему было мало. Он искал и не находил в них удовлетворения своему чувству прекрасного, своему врожденному жизнелюбию. Они были для него эстетически чуждыми. Византийское искусство он рассматривал не как иное по сравнению с античным, а как ужасное по сравнению с прекрасным. Будучи человеком православным, преклоняясь перед богатством и проникновенностью Божественной литургии, Иван Владимирович не признавал эстетических форм, питавших изобразительную сторону православия. Они его
* Семья Цветаевых в истории и культуре России. XV Международная научно-практическая конференция: Сб. докладов. М., 2008. С. 60-61.
отталкивали. Каким-то загадочным образом византийская духовность не доходила до него и никла рядом с торжеством античной плоти. Объяснение, впрочем, состоит, может быть, в том, что, будучи натурой гармоничной, деятельной, земной, Цветаев предпочитал мирские заботы и мирские радости, присущие греко-римской древности, трагизму земного бытия, глубокой скорби, каковые олицетворяла собой изобразительность православия. Здесь личный бытовой аскетизм Цветаева вступал в противоречие с его эстетическим эпикурейством. Он был воспитан в иной системе художественных ценностей, ей поклонялся, и никакая другая его не устраивала.
Вот почему, друг мой, я так смело перешагнул из античного мира в самый конец XIII в<ека> и XIV в<ек> и в чудные XV и начало XVI. К XIII в<еку> набивают итальянцам оскомину византийские формы, и Niccolo Pisano, в 2-й половине этого века, открывает дорогу к полету искусства Возрождения, которое в течение всего XIV ст<олетия> собирается с силами, чтобы в Quattrocento* дать, не говоря о других уже, Ghiberti, Donatello, Della Robbia, Rosselino, Benedetto da Madjano (точней Maiano. — A. C.), Mino da Fiesole, Verrocchio e tutti quanti** до Michelangelo, украсившего собою XVI в<ек>***.
Подобно Цветаеву, Нечаев-Мальцов был традиционалистом в полном смысле этого слова, противником либеральных течений и всякого рода «ускорений» как в политике, так и в искусстве.
Что же касается личной жизни Юрия Степановича, то она не сложилась. Он никогда не был женат, не имел ни детей, ни воспитанников, жил с двумя старшими сестрами — Анной и Софьей, опекая больного брата Дмитрия.
С портрета Крамского смотрит на нас элегантный господин средних лет в темном костюме, белой рубашке со стоячим круглым воротничком, обнятым черной «бабочкой», сидящей несколько вольно, чуть вкось. У Юрия Степановича большой лоб; умный, спокойный взгляд. Но душа его не вполне открыта для нас. Он был очень скуп на письменное слово, проявлял себя не в слове, а в деле.
В основе отношений Цветаева и Нечаева-Мальцова лежало полное доверие, готовность прийти на помощь, взаимное уважение деловых и человеческих достоинств, нескрываемая личная симпатия.
* XV век (итал.).
** И все прочие (итал.).
*** Там же. С. 61.
Юрий Степанович Нечаев-Мальцов Портрет работы И. Н. Крамского. 1885
Главным сюрпризом года 1900-го Цветаеву от дарителя стало решение облицевать Музей мрамором не только снаружи, но и внутри. Камень для храма Христа Спасителя добывали в свое время в коломенских каменоломнях под Москвой. Это было удобно в силу минимальных транспортных издержек. Однако для Музея подходящего коломенского камня не нашлось. И тогда меценат решил добывать его на Урале.
Юрий Степанович добился разрешения произвести выломку белого мрамора в Уфимской губернии, близ города Златоуста, «в казенной закрытой даче». Нечаев-Мальцов получил в аренду от казны Шишимскую гору, поросшую густым лесом, и право на ее разработку в случае обнаружения запасов мрамора необходимого качества и объема. Добившись разрешения, гофмейстер организовал экспедицию на Урал и, не дожидаясь благоприятной летней поры, отправился в путь зимой. Его сопровождали горные инженеры, архитекторы во главе с Клейном, проводники. В горе были обнаружены несметные массивы белого мрамора. Для удобства транспортировки от месторождения к Самаро-Златоустовской железной дороге по горам проложили
Златоуст, выломка в горе Косотур Открытка. 1900-е
железнодорожную ветку и начали разработку горы. В течение шести лет на выломке ежедневно работало до трехсот рабочих из местных башкир под призором русских горных инженеров. Командовал каменоломней инженер Блуменау, сотрудник строительной фирмы Листа в Москве — главного подрядчика по отделке здания Музея. Всего было добыто более миллиона пудов мрамора. Камень отправляли в Москву железнодорожными составами. Все расходы взял на себя Нечаев-Мальцов.
Но мало было добыть и привезти с Урала камень для облицовки. Его следовало еще обработать. По такому случаю из Италии были выписаны мастера-мраморщики. Итальянцы оказались скорыми на облицовку: работа пошла стремительно. Переимчивые русские умельцы обучились у итальянцев обрабатывать мрамор, а потом и гранит, поскольку цокольный этаж, полы колоннады, крыльцо и ограда готовились из серого финского гранита.
Для отделочных работ внутри Музея пригласили итальянских и немецких лепщиков и штукатуров, быстрых, аккуратных и умелых. Русские ученики научились и у них многому, стали работать не хуже учителей, «которые, к нашему стыду и горю, только бессильны были отучить их (аборигенов. — А. С.) от медленности в работе и от гибельного времяпровождения по воскресеньям и понедельникам, по многочисленным у нас праздникам и попразднествам»*.
Цветаев был глубоко благодарен Юрию Степановичу за его участие в деле, о чем писал в поздравительном новогоднем письме:
* Записка заслуженного профессора, тайного советника Цветаева о заслугах гофмейстера Нечаева-Мальцова по Музею изящных искусств императора Александра III в Москве. К 50-летию его государственной службы. М., 1907. С. 6-7.
Ю. С. Нечаев-Мальцов, И. И. Рерберг, Р. И. Клейн, И. В. Цветаев на строительстве Музея среди итальянских мраморщиков Фотография К. А. Фишера. 2 августа 1901
Русские и итальянские рабочие в Греческом дворике.
В центре — письмоводитель Комитета по устройству Музея И. В. Дмитриев 1906-1907
...Минувший год (1900-й. — А. С.) мы можем помянуть все же большим добром, несмотря на неоднократные разочарования в каменных наших планах и ожиданиях. Неисполнение обязательств со стороны Липгарта и Быховского (подрядчиков. — А. С.) дало возможность нам, другим, с удивлением быть свидетелями, как твердость Вашей воли и глубокая Ваша любовь к раз принятой на себя задаче побеждали неожиданно созданные преграды. И Клейн, и я дивились, как Вы, скрывая понятное огорчение неудачей с коломенским камнем, воскресить который Вы хотели для Москвы, и не теряя времени в бесплодных, хотя и столь естественных жалобах, тотчас же из Коломенского уезда устремили Вы внимание на далекий и мало кому ведомый Урал, решивши там искать камня. Эта широта взгляда на дело, это принципиальное, намеренное, сознательное непризнаванье препятствий, здесь Вами проявленные, для Клейна, Рерберга (помощник архитектора. — А. С.) и меня были предметом стольких бесед и самого искреннего удивления. Не предались Вы сетованию, когда нужно было в зимнее еще время отправиться на Урал и там в меховой одежде и валенках, с помощью веревок и провожатых, взбираться на снежные высоты, идя целиком (по снежной целине. — А. С.). <...>
Год минувший — время торжества Вашего над препятствиями и вместе с тем время колоссального успеха Музея, которому Вы открыли блистательную перспективу чудного мраморного убранства внутри*.
2
Вскоре Нечаев-Мальцов выразил желание украсить главный портик Музея и колоннаду портика фризами, исполненными в древнегреческом стиле.
Даритель предложил Комитету три проекта фриза главного портика.
Римский ваятель Рафаэлло Романелли представил сюжет венчания музами императора Александра III. Живший в Париже скульптор Лев Синаев-Бернштейн изобразил Аполлона, окруженного музами и раздающего венки славы великим художникам. Академик Гуго Залеман из Санкт-Петербурга избрал в качестве сюжета Олимпийские игры в Древней Греции.
Мнение Комитета было единодушным. Романелли и Синаев-Бернштейн в своих решениях вышли за рамки античности, тогда как Залеман мастерски воссоздал сугубо классический сюжет и потому стал автором фриза. Цветаев следующим образом подытожил решение Комитета: «Исходя из соображения, что гимнастические упражнения греков были одним из главных
Переписка. Т. 1. С. 232-233.
факторов, возведших пластическое искусство в Элладе до высшего совершенства, и что на Олимпийских играх греческая гимнастика находила себе лучшее выражение, Комитет признал сюжет, представленный Залеманом, подходящим для фасада Музея, главное содержание которого составят произведения скульптурного искусства»*. По гипсам Залемана фриз был вырублен его учеником Иосифом Мармоне в Одессе из доставленного туда каррарского мрамора.
Остался фриз внутри наружной колоннады. По мысли Клейна, он в сокращенном виде должен был воспроизводить 160-метровый скульптурный фриз Парфенона, опоясывавший весь храм и созданный под эгидой Фидия. Все сохранившиеся плиты Парфенона — и целые, и поврежденные — были в начале XIX века вывезены из Греции в Англию и поступили в Британский музей. Древний фриз изображал Панафинейское (все-афинское) шествие в честь богини Афины. Клейн предполагал купить у Британского музея гипсовые слепки, защитить их слоем тонировки и протянуть лентой под потолком внешней колоннады. С этим не согласился Нечаев-Мальцов: «Ну, нет... гипс потрескается от мороза и полетит на пол галереи, где и растопчет его публика: вот вам и конец фриза. Нет, надо сделать его из камня, поручивши руководство этим делом хорошему скульптору. Кого бы пригласить для этого?»**
Цветаев обратился за советом к своему другу — основателю музея Альбертинум в Дрездене, директору скульптурного собрания Дрезденских королевских музеев Георгу Трею, человеку, восемь лет проработавшему в Санкт-Петербурге, в Императорском Эрмитаже. Радевший о московском Музее, Трей сам вызвался наметить «избранное» из Фидиева фриза, а мраморный труд поручил лучшему скульптору Германии профессору Леопольду Армбрустеру. Тот вырубил фриз из белого тирольского мрамора. Все расходы, связанные с выполнением этих работ, взял на себя Нечаев-Мальцов.
Строительство Музея так вдохновляло Цветаева, что он просто любовался работой итальянских каменотесов и русских гранильщиков на Колымажном дворе. По его инициативе 2 августа 1901 года фотограф К. А. Фишер запечатлел всю компанию — Нечаева-Мальцова, Клейна, Рерберга и самого Цветаева — среди итальянцев на месте строительства.
Но радость постоянно чередовалась с огорчениями, досадой, большими и малыми помехами.
* Переписка. Т. 1. С. 497-498.
** Там же. С. 388.
Аттик Музея с фризом работы Г. Р. Залемана
2005
Фрагмент фриза аттика 1970-е
Фрагменты фриза в колоннаде Музея Скульптор Л. Армбрустер, по эскизам Г. Трея и М. Кюнерта. 1902-1905
Свои проблемы возникли у Ивана Владимировича с таможней. Масса экспонатов шла на адрес Музея из Италии, Франции, Германии. Все они были обязаны подвергаться таможенному досмотру на выявление контрабанды и облагаться налогом. Мало того что налоговый чин, не утруждая себя, производил лишь фиктивный осмотр прибывшего багажа, но он еще ухитрялся выставлять таможенный сбор, равный двум третям стоимости самих художественных изделий. Цветаев писал Нечаеву-Мальцову:
Не знаю, что делать со здешней таможней, которая все продолжает насчитывать пошлины с гипсов и других предметов, приходящих из-за границы для нашего Музея. Расчеты при этом ведутся самые несообразные. 900 руб<лей> уплачивается за исполнение заказа, а 600 руб<лей> насчитывают здесь пошлины за эти гипсовые рельефы. Все зависит от чиновника, присылаемого в ун<иверсите>т для осмотра клади: ни один из них ящиков — и спасибо большое им за это! — не вскрывает, попросит только срезать пломбы «на случай ревизии начальника» над самими ревизорами; спросит, что такое привезено, сколько пудов с ящиками, пороется у себя в тарифной книжке, составит протокол, что контрабанды никакой нет, покурит — и марш. Все они любезные, вежливые, словоохотливые и даже сострадательные: «Ax-де, ваше прев<осходительст>во, сколько вам хлопот со всем этим, этакую махину созидаете, и сколько, чай, г. Нечаев-Мальцов денег вложил в этот Музей; мы, москвичи, удивляемся и ждем, когда этот храм искусства будет открыт; очень интересно будет просветиться насчет художества, уж тогда не откажите»*.
Понимая, что образумить таможенников ему не удастся, а упорядочить их работу государственными мерами, обеспечив беспошлинный ввоз экспонатов, — песня долгая, Цветаев стал действовать по-своему:
Наговорит краснобай таможенный три короба, раскланяется и пожмет ручку вам. А там, через неделю времени, этот любезник присылает в Правление ун<иверсите>та несуразный начет на предметы, им «осмотренные». Правление ставит обычную резолюцию: «На заключение профессора Цветаева». Я получаю бумажку и откладываю в сторонку — и это вот уже второй год. И бумажек теперь много, и сумма изрядная. Бывают повторения сказки о белом бычке из таможни — отмалчиваюсь; опять напишут — молчу; настрочат жалобу Попечителю — тот перепишет бумагу к ректору, ректор ко мне «на распоряжение». И эту бумажку в ту же сторонку, и такой же на нее молчок. Но все же эта чепуха надоедает. Не посоветуете ли Вы мне составить проект дополнительной статьи к Положению о Комитете касательно беспошлинного ввоза научных
Переписка. Т. 1. С. 269-270.
и художественных предметов для Музея и<зящных> и<скусств> имени Александра III?..*
Еще одна забота возникла в связи с отношением такелажников к плодам чужого труда, а попутно — с качеством транспортировки и местной разгрузкой музейных ценностей:
При каких обстоятельствах приходится нам организовать наши коллекции в Москве! Артельщики московской складочной таможни, вскрывающие клади, — настоящие дикари, способные в одну минуту уничтожить то, что с таким трудом было доставаемо из самых дальних углов Европы, что проехало огромные расстояния и разрушается по прибытии в Москву. Что благополучно минует московскую таможню, тому грозит опасность от возчиков наших транспортных контор на пути от таможни до Музея; здесь новая беда от диких дворников и случайных рабочих, помогающих «сваливать» клади. Всеми это делается крайне грубо, по-мужицки, срыву неумело, без уважения к нежной природе гипсов: «Валяй, тащи, ух!»... Раз я, идя из университета, напал на сцену этого бессовестного «сваливания» клади — и огорчение мое было так велико, что я на улице ругался пуще околоточного с неисправимыми дворниками. Наконец, бьют наши клади и в самой кладовой Музея; это ни на что не похоже. Да у нас везде неумелость, незнание, небрежность, халатное ко всему отношение**.
3
Дружба профессора и главного дарителя Музея ничем не омрачалась. Как правило, Цветаев не предъявлял никаких претензий Мальцеву, а Мальцов — Цветаеву. Они были исполнены взаимной благодарности. Цветаев консультировал Мальцева по вопросам истории искусств, держал в курсе последних археологических открытий, посылал полные отчеты о жизни в Москве вообще и на Волхонке в особенности. Все дела, связанные со строительством, освещались в малейших подробностях. Мальцов не только взял на себя траты по облицовке Музея, но и представил Цветаеву средства на покупку экспонатов и заказ копий в лучших европейских музеях и мастерских, у лучших мастеров.
Впрочем, иногда Цветаев давал волю своим «археологическим инстинктам» и скупал художественные шедевры чуть ли не оптом.
* Переписка. Т. 1. С. 269-270.
** Там же. Т. 3. С. 160.
В феврале 1903 года для пополнения музейных коллекций Иван Владимирович отправился в поездку по городам Италии: он собирался посетить Флоренцию, Сиену, Рим, Неаполь. В письме доброму знакомому и соседу по Тарусе художнику Василию Дмитриевичу Поленову Цветаев описал, как он приобретал экспонаты, понадеявшись на щедрость Нечаева-Мальцова:
В своих путешествиях я осматриваю все, входящее в мою программу; коли намечаю что к приобретению, не решаю с первого раза, а возвращаюсь завтра и послезавтра — и если впечатление усиливается или не ослабевает, тогда заношу этот предмет в свой синодик и тем же вечером отписываю Юрию Степановичу, прося его разрешения сделать заказ слепка. Но писать он ленив, и так как леность — большой порок, а пороки должны быть или исправляемы или наказуемы, то, не получивши ответа и принимая молчание за знак приятного согласия, я уже спокойно заказываю, приобретаю и в Москву отсылаю. Милостив Аллах, милостив Ю<рий> С<тепанови>ч — всё в свой черед будет оплачено без хлопот университетского профессора, с которого взятки гладки*.
Однако вскоре, 18 апреля 1903 года, Цветаев получил телеграмму от мецената:
Etone des commandes sommes considerables prie attendre comman-des votre retour et reunion comite.
Netschaiew Maltzofj**.
Тщательно обдумав ответ, Иван Владимирович пишет Нечаеву-Мальцову 25 апреля:
Телеграмма Ваша получена мною в момент выезда из Рима, когда производилась укладка корзин и чемоданов. Своевременно я, по этой причине, не мог на нее Вам ответить. Тон ее дал мне знать, что в заказах я не должен отныне идти далее сделанного мною и что на этот раз моих заграничных исканий я достиг в расходовании на приобретение той «значительной суммы», о которой Вы телеграфировали Его Высочеству в ответ на его вопрос о количестве материальных средств, какие я мог бы иметь в виду в предстоявших мне заказах и покупках.
Отсутствие точно назначенного мне предела меня сильно смущало с первой же недели моих материальных переговоров с учреждениями и исполнителями заказов. Сумма назначена Вами
* Тамже.Т. 2. С. 420-421.
** Удивлен заказами значительные суммы прошу подождать заказами Вашего возвращения и заседания Комитета. Нечаев-Мальцов (фр.). (Там же. С. 260.)
«значительная»; но как я мог определить это назначение в циф-р<ах>? Мне в Москве представлялось достаточным иметь на итальянские приобретения сумму до 60 000 фр<анков>, я по этим соображениям тогда и писал Вам о 57 000 фр<анков>; но Вам угодно было найти эту сумму неподходящей для ответа вел<икому> князю. Я, таким образом, уехал для предстоящего мне большого дела без определенного денежного назначения. Что мне оставалось делать при таких обстоятельствах?
Имея в виду важность нашего предприятия, на которое тратится столько времени, сил и материальных средств, я должен был выбирать памятники скульптуры первостепенного значения, те памятники, без которых с таким блеском возводимое здание Музея и открывать в присутствии их величеств было бы невозможно. Римского зала нельзя открывать без первостепенных изваяний Ватикана и Латерана и Капитолия; зал Возрождения нельзя передать в общее пользование без произведений Никколо Пизано, Донателло, делла Роббиа, Верроккио (точней Верроккьо. — А. С.), Микеланджело и других мастеров, слава которых облетела весь мир, и т. д. <...>
Il Museo di Alessandro III in Mosca* известен в главных центрах Италии гораздо более, чем я мог предполагать, а мои прежние изучения, хотя и в другой области, перезнакомили меня в свое время с широким кругом ученых и музейских администраторов. Эти условия ставили меня теперь в непосредственные сношения с представителями власти и главами учреждений. Принимая меня как серьезного исполнителя данных мне поручений и полномочий, они оставляли свои другие дела, и каждый служил нам чем мог. И так как выбор предметов возбуждал непосредственно вопрос об исполнении копий, то начальство учреждений вызывало своих комиссионеров и отдавало их в мое распоряжение. Таким образом, в каждом городе и в каждом учреждении независимо от меня машина была приводима в движение почти с момента моего появления.
<...> Ограничиться лишь собиранием сведений о стоимости предметов, приобретение которых откладывалось бы на неопределенное время, при моих обстоятельствах не было возможности. Мою миссию никто, ни власти, ни исполнители заказов, дорожа каждый своим временем и покоем, тогда не считал бы серьезной, и мне должного содействия не оказали бы, поставивши меня на одну доску с любопытствующими туристами...**
Интересно, что при всем уважении к чужим средствам, умноженным неустанными трудами, Цветаев и не думает ограничивать намеченные планы по приобретению экспонатов. Свои позиции он не сдает, а защищает, доказывая их правоту.
Однако подобные случаи в истории сотрудничества Цветаева и Нечаева-Мальцова редки. Иван Владимирович старался не тревожить патрона по мелочам, но из уважения сообщал
* Музей Александра III в Москве {итал.).
** Переписка. Т. 2. С. 261-263.
ему обо всем интересном и важном, что происходило в археологическом мире. Например, в одном из писем Мальцеву в августе 1905 года из Санкт-Блазиена Цветаев подробно описывает необычайную археологическую находку, сделанную в городе Гильдесгейме:
В провинции Ганновер, в городе Гильдесгейме, солдаты местного гарнизона, устанавливая на купленном им поле «цель» для учебной стрельбы, в 1868 г<оду> 17 октября (н<ового> ст<иля>) напали на серебряный клад с древнеримскими надписями, состоящий главным образом из предметов столовой утвари — блюд, кубков, подносов, кастрюль, солонок, тарелок, черпальных ложек большого калибра, большого сосуда для смешивания вина с водой (т<ак> наз<ываемый> Krater), канделябра, треножников и пр. — всего 30 предметов, из них более крупные по размерам достигают 90, 72, 45, 39, 37, 30 сантиметров, не считая меньших. <...> Дивный клад превзошел собою все предметы столового обихода римлян, которыми до того времени располагала наука в разных музеях*.
Местный гарнизон переслал эту находку по начальству, а оно подарило клад королю Пруссии Вильгельму, будущему германскому императору Вильгельму I. С найденных предметов отливали копии для европейских музеев. Стоимость античного столового серебра оценили в 22 000 марок, а стоимость копий — примерно в десять раз дешевле.
Цветаев не просит Нечаева-Мальцова оплатить копии — такие деньги найдутся и без участия главного дарителя. Вклад его огромен, и вклад этот требует поощрения. Но чем наградить персону, у которой есть всё? Каким образом можно отличить такого человека, как Нечаев-Мальцов, за его труды и вложения во имя общего блага? Он уже является гофмейстером двора и кавалером многих орденов. И все же Иван Владимирович знает о тайных грезах дарителя. Как ни хорош гофмейстерский чин, но обер-гофмейстерский еще лучше. Этот чин приравнен не к тайному, а к действительному тайному советнику; не к генерал-лейтенанту, а к «полному генералу» — командующему рода войск: кавалерией, инфантерией, артиллерией. Это — венец придворной карьеры русского дворянина. Получив обер-гоф-мейстерство, Юрий Степанович косвенно станет обладателем более высокого чина, чем великий князь. Как ни прекрасен орден Александра Невского, но, усыпанный царскими бриллиантами и врученный самим государем в присутствии всего высочайшего двора, — он еще прекрасней, еще желанней...
* Там же. Т. 3. С. 260-262.
Цветаев всякий раз пользовался случаем, чтобы отметить заслуги Нечаева-Мальцова перед великим князем Сергеем Александровичем, и не напрасно. Из письма Ивана Владимировича Нечаеву-Мальцову:
Вел<икий> кн<язь>... говорил о Вас и сказал, что государь очень отличил Вас среди придворных в последнюю Пасху, не раз беседуя о Музее и о Вас с ним и с Вами о деле Музея, и что последний факт очень был замечен в придворном кругу. <...> Говоря о заслугах Ваших по Музею, он сообщил мне план особенного отличия, которым он намерен доказать Вам свою «благодарность» в близком будущем, но передавать Вам этого плана раньше времени он не позволил. Он хочет, чтобы это были и его инициатива и его же исполнение. Тут он надеется не встретить никакого препятствия со стороны сроков междуна<гра>дных (высокие правительственные награды могли присваиваться одному и тому же лицу лишь через фиксированные промежутки времени. — А. С.). Говорил он и о бриллиантах на Александра Невского, но ему доложили, что для них не хватает года, что награда была бы сверхчрезвычайная, но так как последняя награда была того же рода, то второй рядом чрезвычайной награды дать нельзя. Его выс<очест>во об этом разговорился так серьезно и долго, что представление мое вышло очень продолжительным*.
К 50-летию государственной службы Нечаева-Мальцова Цветаеву представится возможность суммировать заслуги юбиляра в деле создания Музея изящных искусств, и профессор сделает это с исчерпывающей полнотой. Он обстоятельно вспомнит и перечислит все заслуги гофмейстера в типографски отпечатанной «Записке» большого формата, предназначенной в первую очередь для лиц, ведавших вопросами царских наград и продвижений по придворной лестнице**. Ходатайство Цветаева не осталось без внимания. Грезы дарителя стали явью.
* Переписка. Т. 2. С. 302.
** Записка заслуженного профессора, тайного советника Цветаева о заслугах гофмейстера Нечаева-Мальцова...
Глава пятая
ОБЩЕЕ ДЕЛО
Ты за дело, а дело за тебя.
Пословица
Домашнее и служебное
Забытый день рождения. — Кончина Мейна. — Аудиенция в Кремле
1
Летом 1898 года Цветаев с семьей вновь отдыхает в Тарусе. Дача «Песочное» располагалась на высоком берегу Оки, неподалеку от Воскресенской горки с каменным, издалека видным храмом наверху. С дачи, дыша свежим воздухом приокских долин, Иван Владимирович сообщает Помяловскому о своем текущем житье-бытье. О том, что Лёра, вступив в шестнадцатый год, стала расти быстрее, но еще заметней «расширяться в объеме», однако, к ее огорчению «товарки ее тоже растут и толстеют»*, потому она как была в первой паре Екатерининского института, так и осталась. Папа советует ей брать умом, компенсировать малый рост высоким полетом мысли, но это ей не улыбается; ей хочется быть большой.
«Андрюша грызет корни учения»**. Твердит молитвы. Но вообще к учебе ленив, не в папу. С филологическими дисциплинами не дружит, зато любопытен «к механике игрушек». Любит стрелять пробкой — на беду, меток. Особенно рад целиться в Мусю, как в самую усидчивую. Своим примером постоянного, захватывающего ее чтения она благотворно влияет на брата. Муся хоть и младше, а «перебила брата в искусстве чтения и любознательности»***. Ей не нужны ни учителя, ни репетиторы,
* Цит. по: Соснина Е. Б. Музы Трехпрудного переулка... С. 255.
** Там же.
*** Там же.
После домашнего спектакля.
Сидят (слева направо): Л. Добротворская, И. Изачик, А. Цветаев. Стоят (слева направо): В. Изачик, Н. Добротворская, В. Цветаева 1902
ни мамин догляд, ни папины увещевания. «...Она, словно колокольчик, прозванивает вслух свои книжечки»*, читая их Асиной няне, в грамоте не преуспевшей, наук не признающей и из всех творений человеческого гения уважающей только стишки, придуманные кондитерами Абрикосовыми для шоколадных фантиков.
Мама «занята обмундированием детворы, укорачивая и удлиняя их одежки»**.
Осенью в чудесный солнечный день семейство, с наслаждением проследовав караваном «чрез леса» Тульской губернии и по горам Калужанин, возвращается в Москву.
В письмах Помяловскому Цветаев порой жалуется на отчуждение в семье; на то, что он по временам как бы выпадает из поля зрения жены и детей. Даже в свой день рождения. И тогда пишется чудный, по-чеховски грустный, с легким покровом юмора рассказ, облеченный в форму обыкновенного письма:
* Соснина Е. Б. Музы Трехпрудного переулка... С. 255.
** Там же. С. 256.
Дорогой мой друг Иван Васильевич.
Раннее утро. День солнечный, на небе ни облачка, в воздухе тепло и соседних с моим окном тополей благоуханье, а в высях слышится птиц легкокрылых щебетанье. Та природа, которую мы почему-то величаем бездушной, как бы чувствует важность переживаемого ею момента. Не то, к прискорбию, в людях, меня окружающих. Спит жена, спят дети, спит даже прислуга, спит немка, глупая, ничего не подозревая и ничего не соображая. Один дворник бодрствует, да и то вынуждаемый к тому не тем глубоким почтением к быстро протекающему моменту, но рабьим страхом перед околоточным, выгоняющим дворницкую породу на чистку улиц ранней порой.
Не видя пробужденья мне близких, выхожу один я на дорогу, т<о> е<сть> за ворота — и что же встречает меня здесь? Полное безлюдье, только дворники лениво подбирают сор да городовой дремлет на своем посту. Прошелся я по фасаду дома, он и усом не моргнул; и он тоже, по-видимому, ничего не знает и ничего не подозревает. Странно.
Подождал, походил по двору, обозревал молодые топольки, и почтительно и радостно мне кивавшие своими зелеными листочками. Такие милые. Слышу — отворяется калитка, это явился, думаю, либо кто-нибудь с поздравлением, либо курьер с пакетом от правительства, либо телеграфист с кучей поздравительных депеш... Посмотрю с любопытством, но не выдавая его.
Э, совсем не то: глупая молочница прошла мимо меня с своим кувшином и даже не отвесила мне более низкого, более почтительного и более радостного поклона, чем она это делает обыкновенно.
Поднялась вся прислуга, и на лицах у ней ничего особенного — ни особого почтения, ни особого счастья, ничего приподнятого, праздничного, радостного. Экое хамье!
Спустилась сверху немка, проговорила свое монотонное, без всякой сердечной эмоции сказанное, вечное, давно мне наскучившее Guten Morgen, Excellenz*, — и больше ничего, пошла варить себе кофей и кипятить молоко детям. Те поднимаются наверху и обычно галдят. Андрюшка грубит няньке, не желая мыть шею и полоскать другие части своего подвижного и быстро грязнящегося тела; кричат Марина и Настасья, вечно что-то между собою разделяя, причем последняя норовит получить себе всегда львиную долю, но бывает за это бита своей старшей полновесной сестрицей.
Пойду еще погуляю по двору и загляну в наш переулок: не идет ли кто, не скачет ли курьер, покрытый пылью и потом и еле дух переводящий. Пойду, только надо сделать это не теряя достоинства.
Ничуть не бывало. Жизнь бьет там полным ключом, люди ходят, ездят, но, странно, каждый по своим делам. Сейчас подали мне «Москов<ские> ведомости», не напечатан ли рескрипт там? Ничего подобного. На первой странице красуется объявление от какой-то макаронной фабрики. Очень нужно. А вон жена что-то гневно выкрикивает мое имя. Это тянут к ответу, что-нибудь наделал не так.
Доброе утро, ваше превосходительство (нем.).
Словом, нынешний день — как все 364 других в году. Что же это такое? О семья, о неблагодарная патрия, вы забыли, что '/ столетия и 2 года назад я явился в мир. И этого никто не вспомнил, этого никто не знает, этого никто не фети<ши>рует. Нет ни стихов от бездарных наших поэтов, нет ни рескрипта, ни аренды, ни Андреевской ленты, которую дали, однако, на днях Островскому, или вон, напечатано в книжке чинов 3-х первых классов, Боголепову за годичную службу министром даровали 4000 руб<лей> аренды, вогнавши тем его содержание в 28 400 руб<лей>. Ну, где же тут справедливость? Вместо Андреевской ленты у меня Андрюшка, которого сейчас надо учить чтению, до коего он не большой охотник. Да, мало правды и нет внимания достойным людям на земле. Огорченный за мои заслуги пред семьей и отечеством, целую Вас и низко кланяюсь Вашему семейству, которое, наверное, лучше моего. Ваш И. Цветаев*.
Между тем нельзя сказать, что домашние жили совершенно обособленной жизнью, лишь пассивно наблюдая, сколько хлопот доставляет мужу и папе создание Музея. Мария Александровна взяла на себя иностранную переписку с галереями и фирмами Европы, а потом подключила к ней и дочек. Она сопровождала мужа в поездках по университетским музеям Англии, Франции, Германии, где была ему деятельной помощницей. Мария Александровна — хорошая художница — начертила первый проект здания по образцу Альбертинума — королевского Музея скульптуры в Дрездене и даже шутя интересовалась мнением Романа Ивановича Клейна о своем архитектурном опусе. Вместе с мужем она составляла программы скульптурных коллекций и уже со знанием дела ездила по европейским галереям, находя планируемые экспонаты и договариваясь об изготовлении слепков и копий. А ее достопочтенный «папаша» Мейн был незаменимым советником в музейном деле, когда оно еще только начиналось. Он помогал в хлопотах по созданию Комитета, в «завоевывании» Колымажного двора. Он подарил университету единственное в России собрание бюстов исторических деятелей Древней Греции и Рима.
Но вскоре Александр Данилович серьезно заболел, и врачи рекомендовали ему продолжить лечение за границей. На семейном совете было решено, что Мария Александровна с детьми отправляется в Тарусу, а Иван Владимирович с тестем и Тьо — в Германию. Летом 1899 года Цветаев повез тестя в Берлин. Там он устроил его в лечебницу, а сам поселился с Тьо в гостинице. Свободное время Иван Владимирович посвящал сбору материалов по искусству Средних веков и эпохи Возрождения в берлинских музеях.
Но поездка в Германию не отсрочила развязку, а ускорила ее. Перед отъездом в Берлин Мейн признался зятю, что хотел бы остаться в Москве, но дочь замучила его своими требованиями ехать. Он согласился, «чтобы отвязаться от протестов, просьб и приставаний...»*. Мейн сидел на строжайшей диете, терял силы и таял на глазах. Специалист-онколог диагностировал рак желудка, признал положение больного безнадежным и советовал незамедлительно возвращаться в Москву. Однако перед отъездом Цветаев решил проконсультироваться с Эрнстом Лейденом, который прославился санаторным лечением туберкулезных больных. Лейден внимательно осмотрел больного, переговорил со специалистом и пришел к выводу, что диагноз слишком категоричен и преждевременен. Он назначил Мейну новую диету — прямо противоположную предыдущей. Вместо «ни грамма молока» — литр в день. Вместо «ни капли вина» — бутылка лучшей мадеры. После такой счастливой перемены меню больной повеселел и приободрился. Доктор, воодушевленный успехом, прибавил к козьему молоку кобылье, к мадере — желе, какао, ликеры и распорядился увезти пациента на два месяца в русскую деревню, лечить по предписанному, а если питание пойдет впрок, то осенью он, доктор Лейден, снова ждет их у себя.
Но питание впрок не пошло.
По приезде в Берлин Александр Данилович еще ходил своими ногами, а домой его внесли на руках. Он угас «так тихо, что мы, сидевшие вокруг него, не могли уловить последнего вздоха...»** — вспоминал Цветаев.
2
Апрель 1900 года царская семья проводила в Москве.
Шел Великий пост, и на Страстной неделе их величества с их высочествами говели в московских храмах. Петербург был столицей самодержавия, а столицей православия оставалась Москва. Приезду сюда царской семьи, ее участию в богослужениях вместе со всем народом придавалось исключительное значение. Появление императора в окружении семьи и в сопровождении свиты считалось знаком особо торжественным, а прием в Кремле в Светлую ночь депутатов разных сословий называли высочайшим выходом. Получить приглашение на этот прием было высокой честью, но профессор Цветаев, Клейн и Нечаев-Мальцов удостоились чести еще более высокой —
* Семья Цветаевых в истории и культуре России. С. 63.
** Там же.
Вид на Московский Кремль и Большой Кремлевский дворец. Начало XX в.
аудиенции у государя в Большом Кремлевском дворце. Их величество соблаговолили ознакомиться с моделью будущего Музея изящных искусств и поставить свои вопросы.
Воротившись 7 апреля из Кремля, Цветаев оставил в дневнике детальный отчет о царской аудиенции.
По распоряжению великого князя должны были явиться от Комитета только трое — Ю. С. Нечаев-Мальцов, Клейн и я. Клейн уже был во Дворце раньше и раскладывал на столе возле модели уральские мраморы и цветные камни. Нашел я его и в радостном и в озабоченном состоянии. Радовался он неожиданной чести перенесения его модели во Дворец и тому вниманию, которого удостоена она со стороны государя. Мы вспомнили пребывание наше в Зимнем дворце в Петербурге 12 марта 1898 года и такое же ожидание вдвоем выхода к нам его величества и в<еликого> к<нязя> Сергея Александровича. <...>
Скоро прибыл и Юрий Степанович, который... заявил, что он будет только слушать замечания государя и сам не станет говорить ничего, всякое же желание его величества он сочтет для себя «как бы высочайшим повелением» и после сделает так, как скажет государь. <...>
Минут за 10 до назначенного времени прибыли, как нам сообщил появившийся здесь гр<аф> Менгден, заведующий двором в<еликого> к<нязя> Сергея Александровича, великий князь и в<еликая> к<няги>ня Елисавета Феодоровна.
Модель была выставлена в столовой внизу, налево от вестибюля «Главного подъезда», «на половине государыни», как сказал нам старый слуга. Столовая большим столбом делится на две неравные части, модель поместили в ближайшей половине, недалеко от двери, боком к окнам.
Напротив, на большом столе, размещена была в большом порядке коллекция древностей русских и греческих с северного берега Черного моря. На вопрос наш, откуда это собрание, старик слуга сказал нам, что его подносит государю для Русского музея Александра III в Петербурге потомственный почетный гражданин Петр Васильевич Синицын, обыватель села Преображенского под Москвою.
Предметы были разложены так, что греческие расписные сосуды, терракотовые статуэтки и предметы из стекла и бронзы занимали одну треть стола, остальные же две трети ушло под русские древности, чаши, иконы, вышивки и т. д. Назначение греческих предметов из Керчи и других мест греческих поселений в Русский музей Петербурга мне показалось так же неестественным, как собирание греческих древностей из тех колоний в Российском историческом музее в Москве. Я сообщил этот взгляд Юрию Степановичу и Клейну и высказал желание попросить греческую часть синицынского дара в наш Музей — для его «Антиквария».
«Ну, так я и знал, — начал шутить Ю<рий> С<тепанови>ч, — еще вчера, как только я увидал эти предметы здесь, я подумал, что вы постараетесь прикарманить их себе. Дадут вам их или нет — это еще вопрос; но после, когда у нас будет место, я вам привезу из
Керченского музея этого добра целую уйму. Мне директор его, Думберг, обещал отдать хоть весь тамошний музей, которого никто не видит и не изучает». <...>
Двери из гостиной отворились пред государем и великим князем. Ответивши любезно на наш поклон, его величество подал каждому из нас руку и встретил как лиц ему уже известных. Государь был не в серой рабочей тужурке, как в Петербурге, но в военном сюртуке без орденов, как и великий князь, имевший лишь крестик Св. Георгия.
Государь подошел прежде всего к модели и стал рассматривать ее снаружи, начавши с главного фасада. Ионическая колоннада, тянущаяся по всей его длине, и центральный портик, сделанный по Эрехтейону (храм Афины и Посейдона-Эрехтейа на афинском Акрополе. — А. С.), послужили для него поводом к вопросу: «Исполнена ли эта модель во всем согласно с рисунками, представленными ему раньше» (т<о> е<сть> 12 марта 1898 г<ода>). Клейн отвечал утвердительно, указавши при этом, что лишь пришлось ему отставить колонны от стен колоннады, согласно дальнейшему изучению греческой архитектуры им в Афинах и указанию проф<ессора> Дэрпфельда (точнее — Дёрпфельда. — А. С.).
В большие подробности входить ему, конечно, не следовало; на деле же изменение на главном фасаде вышло более значительное. Перестановка колонн повела к необходимости снять по две колонны с каждой стороны, сравнительно с прежним проектом, и потому вместо 26 колонн прежнего рисунка (не считая здесь двух задних в центральном портике, а равно и двух дорических колонн перед самым входом в Музей), теперь имеется только 22 колонны, по 8 в боковых колоннадах и 6 по главному фасаду в серединном портике.
Другой вопрос государя был о намеченных на модели карандашом фризах. Тут собиравшийся прежде хранить молчание Юрий Степанович вступил в длинный доклад о намерении своем сделать все фризы как на главном, так и на боковых фасадах из камня руками русских скульпторов, подчинивши последних руководству петербургского профессора ваяния Чижова. Особую мечту Юрия Степановича составляет при этом воспроизвести под главной колоннадой главные сцены фриза Парфенона по гипсовым слепкам Британского музея, им уже заказанным и имеющим скоро прибыть в Москву. «Но удастся ли это нам, Ваше Величество, сказать пока трудно, так как до сих пор со времени Фидия никто не воспроизводил этого фриза в камне», — сказал он в заключение.
«Ну, Юрий Степанович, pour vous il n’y a rien d’impossible*», — с улыбкой заметил ему на это великий князь.
Государь при этом засмеялся.
Обозрение стало еще более внимательным, когда Клейн особым механизмом раскрыл модель и когда перед государем и великим князем обнаружилась вся продольная ось сооружения с ее вестибюлем, обработанным в египетском стиле, прямой лестницей, широкой, в три марша и двумя галереями наверху, с верхней площадкой, обрамляемой 4 колоннами, и Центральным залом на заднем
Для вас нет ничего невозможного (фр ).
плане. Масса колонн в вестибюле, по лестнице и в этой «Палате русской славы», видимо, произвели сильное впечатление на его величество. «Это — хорошо», — воскликнул он в первый же момент.
Убранство этой части здания начал объяснять Юрий Степанович, доложивши прежде всего, что его намерение — поставить во 2-м этаже все колонны цветные, из уральских мраморов, и если окажется возможным, то и монолиты, «с бронзовыми капителями и базами», — вставил от себя тут Клейн.
Государь внимательно слушал, пристально смотря то на раскрытую модель, то прямо в лицо Ю<рию> Ст<епанови>чу.
Когда дошла очередь до Центрального зала, я доложил, что это — то самое помещение для мраморных статуй, бюстов и рельефов выдающихся русских деятелей в науке, литературе и искусствах, которое в первоначальном проекте имело вид небольшой сравнительно, круглой залы, и что оно разрослось в самый большой зал Музея по мере выяснения вопроса о его назначении. Примерные статуи, бюсты и рельефы, которые Клейн разбросал в живописной картине на поданном его величеству большом «разрезе» Музея, очень заинтересовали государя.
Вопрос о том, что «Палата славы русской науки, литературы и искусств» в нашем Музее будет устроена, таким образом, предрешен*. Тут же великим князем доложено, что этот зал он находит желательным обработать в классическом греческом стиле, на что государь отозвался сочувственно, ввиду указания великого князя, что основной стиль Музея греческий. <...>
Модель закрывалась и раскрывалась по желанию государя. Его величество заинтересовался крышами Музея, спросивши, чем будет покрыта галерея и центральный портик. Ю<рий> Ст<епанови>ч ответил, что имеется в виду сделать для этого медную черепицу или перекрыть медными листами. Другой вопрос государя был о световых фонарях второго этажа; система стеклянного покрытия всех зал обратила его особенное внимание.
Осматривая фасады боковые и задний (для последнего государь с трудом пробрался между стеною и моделью), он увидел большое распирание цоколя по направлению от задней стороны площади к Волхонке и спросил по этому поводу объяснений Клейна, который доложил, что разница в заднем и переднем цоколях... обусловливается уклоном площади с северной, задней, стороны на юг.
Когда здание снаружи и изнутри было осмотрено, государь пожелал видеть образцы мраморов, привезенные Ю<рием> Степановичем с Урала и разложенные на столе рядом с моделью.
Здесь раньше всего представлена была глыбка белого мрамора, обработанная по разным сторонам своей поверхности различным образом, мелкою ковкою, полировкою, крупной ковкою, резьбою, проведением желобков или каннелюры и пр. Этот кусок своей белизною и разновидностью обделки до такой степени заинтересовал его величество, что он взял было его в руки, желая повертывать его в разные стороны. Но тяжесть камня оказалась очень большая.
Цвет мрамора очень понравился государю, сказавшему при этом, что он до сих пор и не знал о существовании белого мрамора на Урале. <...>
...Государь спросил, обследован ли он (мрамор. — А. С.) в отношении прочности? Я должен был доложить, что получены Комитетом самые лучшие отзывы из Петербурга от проф<ессора> Бе-лелюбского и из лаборатории здешнего Инженерного училища, производивших испытания, по нашей просьбе, одновременно.
— Этот камень, — заметил государь, — с виду так хорош, что нам и не поверят, что этот мрамор наш собственный*.
Пути человеческие
Дорога к Уралу. — Люди и мрамор. — Nervi: кружение сердца
1
Тот особый интерес, который проявил государь к уральскому мрамору, вероятно, укрепил Цветаева в решимости самому отправиться на Урал и там, на месте, ознакомиться с разработкой карьера. Постоянно докладывая Комитету о положении дел с добычей и доставкой камня и ни разу не побывав на месторождении, Иван Владимирович боялся договориться до хлестаковщины и наплести такого, чего не было и в помине.
Летом 1902 года чета Цветаевых предприняла большое путешествие на Урал, во время которого Мария Александровна выполняла обязанности секретаря на деловых встречах мужа.
4 июня Иван Владимирович пишет Нечаеву-Мальцову из Самары:
Нижний по случаю Троицына дня оказался пустым: все, кто мог, выехали или выезжали вон на отдых. Железнодорожные и пароходные кассы переполнены были ожидавшими билетов для выезда. Уехал в поместье и Бугров. Порешивши остановиться в Нижнем в будничные дни на обратном пути и тогда устроить свидание с ним, я двинулся на пароходе «Боярыня» Общества по Волге 1843 г<ода> («Общество пароходства на Волге 1843 года» — старейшее из волжских пароходств. — А. С.) — и вот теперь мы причалили к Самаре.
Погода стояла все время чудная, Волга многоводна в такую пору, как никогда за последние 25 лет. Начиная с Казани до сих пор оказались затопленными окрестные леса, луга и даже холмистые местности, так что граница низкого берега совсем не видна. А соединение Камы, гуляющей в этом году с особенной и давно небывалой силой, на далекое пространство представляет настоящее
* Цветаев И. В. Дневник. III тетрадь // НИОР РГБ. Ф. 324. Картон 1. Ед. хр. 4. С. 379-384.
Самара. Вид на Волгу Открытка начала XX в.
море. Обилие воды дает возможность пароходам делать рейсы скорее расписания, и потому наша «Боярыня» приплывала везде раньше часа (раньше назначенного по расписанию срока. — А. С.). Публики немного, и она очень спокойного характера*.
Письмо со станции Бердяуш в 33 километрах от Златоуста продолжает начатое повествование:
Вот уже завтра исполнится неделя с тех пор, как мы выехали из Москвы, а до мраморных ломок мы все еще не добрались. Сначала причиной этой медлительности была жена, которой захотелось в Самаре посмотреть на гигантский мост под Сызранью (мост Александра II, на то время длиннейший в Европе: 13 пролетов по 111 метров каждый. — А. С.), а теперь держит нас в нескольких верстах от цели нашего путешествия железнодорожная катастрофа, посадившая наш поезд на ст<анции> Вязовой (в 90 километрах к западу от Златоуста. — А. С.) на 10 часов, вместо 15 минут, и потом здесь (в Бердяуше. — А. С.) — на неопределенное время.
Плавание до Сызрани и обратно до Самары отняло у нас более суток, но зато наделило нас неожиданными впечатлениями. Сызрань оказалась большим торговым городом, но неопрятности и беспорядочности сказочной. Улицы грязны и пыльны невообразимо; на большой торговой площади, имеющей вид целого ноля, деревянные жалкие лавчонки, да и около собора, в центре, стоят такие дома и такие торговые лавки, что диву даешься, как полиция не закроет эти опасные развалины и настоящие костры для
Самара.
Открытка начала XX в.
каждую минуту возможного пожара. Город миллионных торговых оборотов являет собою образец купецко-мещанского неряшества и умственной скудости. <...>
Разочаровала нас обоих и Самара, в которой мы провели целый день, но совершенно в обратном смысле. В Самаре мы были в 96 году, но тогда она показалась нам только пыльным и, кроме 2-3 улиц, немощеным городом. Ее массивный, заложенный Александром II собор отделен был от города целой песчаной и пыльной Сахарой. И как неузнаваемо изменился этот город в эти 6 лет! Главные улицы залиты и продолжают заливаться асфальтом, повсюду идет самая кипучая домостроительная деятельность — и один дом красивее и стильнее другого. Зеркальных окон по главным улицам целые сплошные реки. Повсюду оживление, улицы полны живо снующим населением, магазинов всякого рода многое множество. По оживлению на улицах и деятельности магазинов, в виду этого электрического освещения и быстро бегающих конок, этого крайнего напряжения нагрузки и выгрузки на пристанях пароходов и уменья устроить этот прямо необыкновенный, чарующий городской сад (Струковский сад; по имени владельца генерала Г. Струкова. — А. С.) по скату горы, не веришь, что это наш губернский город, а не заграничный, оживленный торговый пункт. Тогда как столько губернских городов не имеют своего печатного органа, кроме несчастных губернских ведомостей, здесь 3 газеты, и все красивой наружности и интересного содержания. Здесь несколько книжных лавок и магазинов. Один из них занимается издательством. Блеск архитектуры и это бросающееся в глаза оживление населения, при массе немецких вывесок на домах, магазинах и конторах, подают основание думать, что немецкий элемент, прочно из недалеких отсюда колоний здесь утвердившийся, служит значительным объяснением иностранного вида этого города.
Самара. Вход в Струковский сад Открытка начала XX в.
Поднятию его должна способствовать Сибирская ж<елезная> д<орога> (Самаро-Златоустовская железная дорога как часть Великого сибирского пути. — А. С.).
Выехали мы с вечерним поездом и вот до сих пор все еще в дороге. Первое сильное и чисто горное впечатление мы получили на этом пути в Уфе, очаровательное положение которой на высокой горе, омываемой с трех сторон многоводной и красивой Белой и Уфой, я думаю, принадлежит к числу наилучших, наиболее характерных во всей России. <...>
Проезжая чудными пейзажами, начавшимися для нас на Урале со ст<анции> Аши и особенно со ст<анции> Усть-Катав, когда поезд начал делать самые смелые, самые капризные повороты, любуясь изумрудной зеленью долин, причудливым нагромождением каменных скал всех цветов, форм и величин, я в этом море зелени и при блеске быстро бегущих рек, речек и горных ручьев постоянно вспоминаю Вас — Вашу зимнюю поездку в эти тогда хмурые, занесенные снегом и закованные льдом места (поездка в начале марта 1900 года в целях знакомства с месторождением. - А. С.)*.
В дороге пришлось провести долгое время. Это и неудивительно — позже Цветаев напишет Нечаеву-Мальцову о бездушии и бездеятельности железнодорожных властей:
На ломках нам серьезно говорили, что в 2 недели одно крушение «обязательно», а то бывает и чаще, а раз было четыре крушения
Станция Усть-Катав.
Вид на водоемное и водоподъемное здание на станции 1885-1890
в 1 день. Кондуктора и смазчики то и дело платятся то жизнью, то потерей рук и ног. Движение здесь больше товарное, а потому бессловесные пассажиры, летая с полотна ж<елезной> д<ороги>, не возбуждают уже и внимания печати. Но случаются крушения с большими человеческими жертвами; искрошило в китайскую войну поезд с солдатами, «изрубило в капусту», как говорили нам, не так давно несколько вагонов с злосчастными переселенцами (крестьянами, переселявшимися из неурожайной Европейской России на свободные плодородные земли в Сибирь. — А. С.)... Крушения Сам<аро>-3лат<оустовской> дороги в силу «ее особого
Крушение на Самаро-Златоустовской железной дороге Начало XX в.
профиля» считаются таким обычным явлением, что начальник ее г. Каменский с циническим спокойствием сидит на месте, не утруждая себя даже выездом на места катастрофы*.
2
Следующее письмо послано уже из села Медведково. Путешественники достигли своей цели — мраморного карьера в Шишимской горе. Цветаев наконец увидел все своими глазами и смог воочию убедиться не только в количестве и качестве «белых, как сахар», камней, но и разобраться в деталях спора между двумя музейными подрядчиками: бывшим — Быховским и нынешним — Листом.
Поначалу подряд на добычу мрамора для Музея получил Наум Николаевич Быховский — мировой судья из Златоуста, расторопный местный предприниматель. При утверждении его кандидатуры на эту важнейшую и щедро оплачиваемую должность сыграло роль то обстоятельство, что он был именно местный, то есть, как думалось, априори знающий горное дело, проявлял большую активность и сулил если не золотые горы, то по крайней мере мраморные.
Цветаевы на мраморных ломках на Урале Лето 1902
В свое время Комитет не догадался обратиться в горный департамент за помощью квалифицированных инженеров, испытал неудачу с коломенским камнем и не знал, что делать. Тут как на грех и подвернулся Быховский. «Как юрист говорить он мастер, наобещал нам всем с три короба — и дело попало в его, в сущности бессильные и ничтожные, руки. Cosi si fa nel mondo!»* — восклицал Иван Владимирович.
Быховский производил ломки безграмотно, самым варварским способом — дробил большие глыбы и тем портил все дело, поскольку большие глыбы — редкость, в горе и так хватало камня, порченного природой: с трещинами и сухими жилами. Присланные Быховским несколько пробных вагонов мрамора оказались набиты никуда не годным материалом. Пришлось расторгнуть с ним контракт и перезаключить его с московской фирмой Георгия Адольфовича Листа — на добычу, поставку и отделку мрамором и другими ценными породами камней всего здания Музея.
Между тем Саратовская судебная палата возбудила дело против мирового судьи из Златоуста, обвинив его в халатном отношении к службе: в течение нескольких лет он не рассматривал почти никаких дел и «забывал оформить даже те немногие приговоры, которые вынес»**. Разбирательство показало, что такая запущенность судопроизводства связана с баснословно дорогим подрядом, взятым им на себя, из-за чего он «больше жил в каменоломнях, чем в Златоусте»***. Получив строгий выговор по суду, Наум Николаевич вовсе оставил службу и сосредоточил все свои силы и средства на борьбе с Листом, чем успешно тормозил возведение здания на Волхонке. Цветаев получил возможность убедиться, какими методами эта борьба велась.
Карьер Листа имеет теперь импозантный вид и по ширине и по глубине разрытого места. Глубина ломки мрамора достигла 7 '/г сажень (около 16 метров. — А. С.), отбросы мелких и белых, как сахар, осколков образуют кругом настоящие холмы. Ломки ведутся в двух местах, так назыв<аемом> Большом карьере, откуда получается главный материал, и Малом карьере, давшем немного, но отличных камней. Последний находится возле полотна листовской узкоколейной желез<ной> дорожки и открыт позднее. Общее впечатление таково, что чем глубже проникает Блуменау (главный инженер каменоломни. — А. С.) в своих работах, тем камень лучше своим видом — белее, однороднее и больше размерами. В настоящее время выступило наружу несколько огромных глыб, которые,
* «Вот что творится на свете!» (итал.) Переписка. Т. 2. С. 24.
** Там же. Т. 1. С. 506.
*** Тамже. С. 306.
если только нет в них пока невидных изъянов, должны дать значительное количество барабанов для полуколонн боковых фасадов. К извлечению и разбивке их порохом приступят на следующей же неделе (ныне — суббота).
Ломки Быховского находятся в двух шагах. Снято земли у него большее количество, чем у Листа, но зато мрамор почти не тронут. Рабочие его копались, пока выемка земли была легка, а так как сбыта <для> верхних слоев камня, желтого и бурого цвета и рыхлого по своему составу, не находилось, то работы прекращались. Взявши 600 руб<лей> задатку у Кутырина (предпринимателя. — А. С.) в Москве, хвастунишка Быховский распустил тут слух, что им принят большой заказ, нанял рабочих, выломал верхнего камня 4, кажется, вагона и послал в Москву. Но Кутырин присланную дрянь не принял — и фанфаронада кончилась только тем, что Быховский остался должен рабочим. Сейчас он взял где-то подряд на ступени и подбирает себе рабочих из пьяниц и людей потерянных околотка, оштрафованных и прогнанных Блуменау. Эти соседи составляют истинное мучение для нашего карьера. Они крадут инструменты, уносят канаты или перерезают их, делая их негодными к употреблению. Мародерство этой сволочи принудило Блуменау собирать все движимое имущество на ломках на ночь в сарай и запирать его. Беда, дескать, в том, что, находясь в 2 шагах и работая обок, эти обозленные люди стараются всячески вредить успешности нашего дела. Неизбежные столкновения влекут за собой судебные процессы, в которых приказная строка (крючкотвор. — А. С.) Быховский сам является адвокатом своих «обижаемых» рабочих...
Мне приходится слушать рассказы лишь одной стороны, и потому безошибочное суждение составить мне невозможно. Но основное мое впечатление — то, что виноват во всех этих гибельных для наших интересов дрязгах сам Лист. Сыр-бор загорелся только из-за несчастной ямы, разрытой Быховским в лучшем месте. За уступку ее он сначала заломил было несуразную цифру — 4 т<ысячи> руб<лей>, но потом сполз уже до 1500 руб<лей>. Лист же, начавши с 500 руб<лей>, поднялся до 1000 р<ублей>. Затем личные отношения их испортились, они и заочно, и в лицо стали поносить друг друга чуть <не> непечатными словами — и в накладе остал<ся> Лист, потерявший много денег на разрытие другого места, которое не дало ни ему, ни нам ничего, кроме — ему убытка, а нам — досады и огорчения потерей времени. После Л ист завладел несчастной ямой Быховского уже силой, по смыслу контракта; Быховский бросился в суд, но там дело проиграл. И с тех пор он старается делать Блуменау мелкие, но постоянные укоры, деморализуя рабочих Листа своей адвокатской поддержкой на суде и принимая наиболее негодных из них к себе на службу. По существу, вся эта распря — дело мелкое, которого в свое время можно было избежать несколькими сотнями рублей. Мы бы тогда, наверное, поднимались на всех фасадах уже к крыше. А теперь сомнения в том, что боковые стены мы выложим доверху в настоящий строительный сезон, получают такую же силу, как вопрос прошлого года о перекрытиях окон, тянущийся до сего дня*.
* Письмо к Нечаеву-Мальцову. См.: Переписка. Т. 2. С. 19-21.
Здание Музея в ходе строительства.
Боковые корпуса отделываются мрамором, колоннада и стена переднего фасада еще отсутствуют Лето 1902 (?)
Поскольку Цветаев отправился с женой на Урал в свой отпуск, то посчитал возможным посвятить часть времени осмотру уральских городов и природных ландшафтов. В Екатеринбурге его привлекла золотоплавильная лаборатория, куда свозилось золото со всех Уральских гор. Случай свел его с директором лаборатории инженером Писаревым, у которого Цветаев поинтересовался мнением о добыче мрамора:
...Я спросил, насколько глубоко исследованы местонахождения мраморов на Урале вообще и в Златоустовском округе в частности, и на это получил честный, откровенный, но неутешительный ответ. Систематических и глубоких разведок мраморных залежей наше милое горное ведомство не произвело до сих пор, никаких <не только> точных, но и приблизительных сведений у него касательно цельности и величины камней и глыб не существует; нет даже и карты в Златоусте, по которой можно было бы видеть, где, какого цвета, качества, приблизительного количества и объема мрамор находится. На мое удивление, что мраморный вопрос доселе не обследован, Писарев сказал: «Правительство в белом мраморе до сих пор не нуждалось, никуда его в значительном количестве не требовало; заказы бывали на цветные породы, да и то в исключительных случаях; на серьезные разведки денег не отпускается, а этим объясняется все»*.
В золотоплавильной лаборатории Цветаев наблюдал весь процесс обработки золотой руды. Посетил Иван Владимирович и гранильную фабрику, о чем писал Юрию Степановичу, проплывая городок Сарапуль на правобережье Камы:
Гранильная фабрика показалась нам учреждением маленьким и чисто придворным. На ней всего 60 человек рабочих. Работа у них только придворная или казенная. Теперь фабрика занята изготовлением заклиросных иконостасов и дарохранительницы для храма Воскресения в Петербурге (Спас на Крови на берегу Екатерининского канала, ныне канала Грибоедова. -А. С.). Это будут предметы и монументальные и очень изящные, составляемые из целой сложной гаммы цветных уральских и сибирских мраморов. Рисунки составлены весьма искусно Пар-ландом, строителем храма (академиком архитектуры. — А. С.). Работы производятся медленно, не только потому, что того требует тонкость и сложность рисунка, но и потому, что фабрика действует лишь 8 ’/(, часов в день, да и рабочие не прилагают к казенному делу особой энергии, сохраняя свои силы для своих частных заработков у содержателей магазинов «каменных вещей». Начальника фабрики нет в Екатеринбурге: он, как и главноуправляющий Урала, как и начальник Златоустовского горного округа, также на Кавказе лечится... Заболело высшее горное начальство целой компанией, компанией поехало и лечиться; бедное, измучилось службою*.
3
Семья вернулась в Москву, и осенью 1902 года «...грянула весть: мама... больна чахоткой!.. Жар, доктора, суета в доме, запах лекарств»**. Врачи рекомендуют ехать на Кавказ. Мария Александровна отказывается уезжать без детей. Рассматриваются варианты, принимается решение: Андрюшу берет к себе дедушка Дмитрий Иванович Иловайский (нельзя пропускать гимназию), все остальные — мама, папа, Лёра, Муся, Ася — едут, но не на Кавказ, а в Италию.
Спешные сборы. Прощанье. Пролетка. Вокзал. Купе.
Как уютно засыпать на... вагонных диванах... под мягкое покачиванье поезда, друг напротив друга, Марусе и мне (мама и папа тихо говорят внизу). Уже выпит чай с молоком и печеньем, поданным нам снизу папой, и опущен полукруглый синий колпачок на потолочном фонаре. Темноватый свет, таинственный...***
* Переписка. Т. 2. С. 30.
** Цветаева А. И. Воспоминания. С. 90.
*** Там же. С. 93.
Вид Нерви близ Генуи 1890-1900
В Варшаве семью встречает тамошний житель Дмитрий Владимирович Цветаев, профессор-историк. «Маленький, полный, подвижный дядя Митя, окладистая борода, быстрые карие глаза — он и похож на папу и совсем другой! Нет, его мы не хотели бы иметь отцом: быстрый, горячий, шутит нам непонятно, он не наш!»* Встреча — короткая. Пока стоит поезд.
В Италии Цветаевы поселились в городе Нерви (Nervi) в «Русском пансионе». День ото дня силы возвращались к Марии Александровне. Она спала с открытым окном, дышала воздухом, напоенным морской свежестью, принимала лечебные сыворотки, играла на пианино и на оказавшейся под рукой гитаре, которую она когда-то освоила в три урока и усовершенствовала свою игру до концертной.
На Рождество туда же, в «Русский пансион», приехали Иловайские: мать с детьми — Сережей и Надей. Причина приезда роковым образом совпала: и Надя, и Сережа заболели туберкулезом. Дети были красивы, нежны, улыбчивы, с румянцем во всю щеку. Не верилось, что они больны. Влюбчивая Маруся сделала Надю предметом своего скрытого обожания, ибо считала, что истинная любовь есть любовь тайная.
Ася и Марина (в первом ряду слева и во втором ряду справа) с друзьями Нерви. 1903
Как только здоровье жены стало поправляться, Иван Владимирович, скучавший в Нерви от вынужденного безделья, отправился в странствие по городам Тосканы, но не слишком удаляясь от пансиона, чтобы иметь возможность вернуться при первой необходимости. Пиза, Лукка, Пистойа, Прато, Флоренция стали этапами его маршрута. И снова пошла работа, полная самоотдачи. Музеи. Храмы. Галереи. Часовни...
Почувствовав переутомление (во время очередной «прогулки» у Цветаева онемели рука и нога), Иван Владимирович решает умерить юношеский пыл и впредь изучать только скульптуру.
А тем временем в «Русском пансионе» появляется новый постоялец— Владислав Александрович Кобылянский. Вспоминая его, Ася напишет: «Его увидав, мы просто им заболели... Ум,
недоверчивость, знание себе цены, гордыня. Не оторвать глаз!»* В его пальцах — прокуренный мундштук, на губах — усмешка. Кобылянский — революционер. Он бежал с каторги, под пулями переплыл реку и сможет вернуться в Россию, только когда там произойдет революция. В нем «все дышит оттолкновени-ем от принятых норм жизни»**. Он поразил не только девочек, но и Марию Александровну. Начались совместные прогулки, табльдоты (общие столы в ресторане), фортепианные вечера, пение под гитару... «Мамино родное, любимое лицо чуть опущено над гитарой, большая белая рука с голубыми жилками трогает струны, и гулкой, темно-золотой, как эти струны, пылью тихо звенит нескончаемая, непонятная печаль. Тигр (такое прозвище дала Кобылянскому Муся. — А. С.) сидит в своем всегдашнем уголку дивана; он никогда не поет, он только иногда говорит что-то насмешливое или почти злое, но его глаза и рот усмехаются, и дороже его, кажется, никого»***.
Вечера проходят в шумных политических дебатах. Спорят о партиях. Будущее рисуется всем по-разному. Здесь среди прочих лечатся и готовятся к новым боям революционеры. Мария Александровна играет им Шопена. Все это так романтично, так необыкновенно...
Из Асиных воспоминаний:
На море шторм. <...> Но мама вышла в сад, я иду за ней, жмусь к ней, и мне только немного страшно. Луна в тучах прыгает, как оловянный шар. <...>
<...> Внезапно сбоку от дорожки, по которой мы идем к железнодорожному мостику, выходит из темноты меж апельсиновых деревьев Кобылянский. На круглой застежке его плаща — отсвет луны. Широкополая — мама зовет ее «разбойничья» — шляпа, черная, как и плащ, делает его похожим на какого-то человека из книги. Плащ пляшет в ветре, шумный, как ветер, то взмахивает-ся, как крыло, раздувается, как парус, то льнет и запахивает нас с мамой. Мы идем теперь втроем, как одно. Это так чудесно мне, так весело! Мы идем на «Маленькую Марину». Тяжелая резная железная дверь скрипит на петлях — и мы вступаем в заколдованный мир... <...> Борясь с бурей, с пеной, с плащом, мы подходим к перилам. Только на миг... Оглушенные водным грохотом, мы отскакиваем в ту минуту, когда волна, взлетев, обдает нас соленым вихрем, успев все трое все-таки увидеть бурю на море! <...>
Мы идем назад еще теснее, чем шли, вид водяного хаоса нас испугал и сблизил, но когда море позади, я смелею, бегу впереди мамы и Тигра, хлеща воздух подхваченной веткой, крича: «Ма-ру-ся!..»
* Цветаева А. И. Воспоминания. С. 106.
** Там же. С. 108.
*** Там же. С. ПО.
Ася и Марина с Владиславом Кобылянским Нерви. 1903
Но мама и Тигр идут медленно, до меня долетает звук голосов... Глухое туманное счастье купает меня в этой буре. А если бы Тигр был наш отец вместо папы? — чувствую я вдруг всем существом. Я люблю папу, конечно, но маму, Мусю и Тигра — больше всех на свете...*
Бедный папа! Что он — университетский профессор — мог противопоставить такой бурной и живописной революционности?
Он не свергает, а просвещает. Он не ломает жизнь себе и другим, а пытается ее облагородить. Он не поднимается на баррикады, а спускается в катакомбы к художнику, рисующему древние фрески. Грех гордыни не поборол в нем природного добродушия, уступчивости, терпения. Он — замечательный человек. Он — созидатель. А разрушительный пафос революционного Нерви ему странен, если не страшен. Он чтит руины времени, но не руины, оставленные человеческим своеволием. Одно дело естественный уход. Свой срок. Другое дело уход насильственный, досрочный, обязанный не природному закону, а вмешательству внешних сил. В языке сосуществуют два разных глагола — умер и погиб.
Цветаева А. И. Воспоминания. С. 114-115.
Здесь уместен вопрос об отношении Цветаева к смерти, но не в оппозиции естественная — насильственная, а скорей в оппозиции предмет научного исследования — безоговорочное табу. Отношение это отличается от светского, хотя сам Цветаев, несомненно, человек светский. Светский, но с глубокими духовными корнями. Смерть для него носительница скорби, может быть пожизненной, но не предмет отстранения и страха. Он не боится смерти. Он не ищет ее, но и не бежит. Смерть — фатум, и относиться к ней следует как к неизбежности. Атрибуты смерти, ее обряды — гроб, отпевание, могила — не вселяют в него ужас. Он принимает их как должное, как часть земной жизни. Смерть как часть жизни. Потому его так интересуют древние захоронения, что по ним, а иногда только по ним, и можно судить о жизни древних, ибо они вносили ее в смерть как в иную жизнь. По их представлениям за земной жизнью следует не небытие, а иное бытие — абсолютно счастливое, лишенное земных скорбей, а значит, ушедшего туда надо снабдить всем необходимым для новой жизни. Вот почему археологи находят в античных могилах предметы домашнего обихода, образцы стенной росписи. Вот почему Цветаев спускался в гробницы осков, в греческие ипогеи — сооружения для общих захоронений, в римские катакомбы. Цветаевское отношение к смерти — это одновременно отношение светского человека (скорбь), священника (верующего в жизнь вечную) и археолога (для которого материальные атрибуты погребальных обрядов служат источниками научного знания о временах давно ушедших). Последнее особенно значимо в связи с античным пониманием кончины. Древние этруски, населявшие в первом тысячелетии до Рождества Христова территорию нынешней Тосканы, оставили целые музеи могильных росписей. В начале XX века живописью этрусских гробниц занимались ученые и художники, которые, подобно Рейману, делали копии с малодоступных оригиналов. Цветаев видел их в Риме. По представлениям этрусков, загробная жизнь — та же земная, только ничем не омраченная, полная плотских радостей.
Иван Владимирович пишет Нечаеву-Мальцову из Рима:
Странную особенность заключает эта могильная живопись, это присутствие обсценных* сюжетов (конечно, не в собранных Гельбигом и мною образцах для нашего Музея!), то мужеложест-ва, совершаемого en plein air** между взрослыми, то такого пикантного общения полов, что постелью для красавицы этрусянки
* Неприличных (лат.).
** На открытом воздухе (фр.).
служит спина раба, стоящего на четвереньках и испытующего муки Тантала. Сила оплодотворяющая работает, стоя на ногах, причем блистательные ножки молодой красавицы закинуты на плечи ее возлюбленного. Мы разговорились о значении, о смысле такой живописи в могиле возле лежавших тут же покойников. Писалось это в больших размерах и с особою тщательностью, в несколько красок. Проф<ессор> Гельбиг объясняет это тем, что этруски верили в загробную жизнь, которая для умершего продолжается со всеми ее радостями и утехами. Посмертное жилище обставлялось у богатых возможною роскошью, могильная живопись изображала все приятные стороны жизни — пиры, охоту, рыбную ловлю и брачные удовольствия. На последние древность смотрела без pruderie* нового мира, оттого в искусстве египтян, греков, этрусков и римлян, на наш взгляд, безусловно обсценное и невозможное для изображения получило широкое распространение... Отсюда и эти крупно и на видном месте написанные сцены в этрусских гробницах. Ну как бы там ни смотрели древние кавалеры и древние дамы с детьми и подростками на такие сцены, для нашего Музея они не подходят, а потому и отложим мы их a part**.
Из Рима Цветаев отправился в Лозанну, чтобы договориться об устройстве в пансион младших дочерей. А тем временем в Нерви, по счастью, «шторм утих». Кружение сердца улеглось. Мария Александровна справилась со своим увлечением: долг взял верх. Но победить болезнь не удавалось. Случилось новое обострение, и мужу пришлось телеграфировать о продлении командировки.
Только в конце июня он вернулся в Москву.
* Преувеличенной стыдливости {фр.).
** В сторону {фр.). Переписка. Т. 2. С. 235-236.
Глава шестая
1905 ГОД
Опять известий ниоткуда, Просвета нет средь нашей тьмы, И сердце чует близость худа. Какого не знавали мы.
Алексей Жемчужников
Как поэт, отпылав и отдумав, Ты рассеянья ищешь в ходьбе. Ты бежишь не одних толстосумов, Все ничтожное мерзко тебе.
Борис Пастернак
Пожары
Конфликт интересов. Русско-японская война. — В тылу друзей врага. —
«Горит музей александра 3»: хроника пожара
1
Год 1904-й стал годом испытаний русского патриотизма.
Еще в царствование императора Александра III вектор геополитических интересов России стал смещаться с запада на восток, с Балкан к Тихому океану. Николай II, будучи цесаревичем, предпринял продолжительное путешествие по Дальнему Востоку, в частности побывал в Японии. Казалось, что именно там — на Дальнем Востоке — открывается необозримый простор для военной и экономической экспансии, и мало кто думал, что при гигантских неосвоенных территориях внутри империи такого рода экспансия выглядит внешнеполитической авантюрой. Россия богатела, а с ней богател и двор. Освобождение крестьян привело к росту экономического и, как следствие, военного могущества империи, питавшего ее агрессивные амбиции.
В это же время стремительно наращивала силы Япония, однако на первый взгляд представлялось, будто бы всякого
рода преимущества остаются за Россией. Статистика только подтверждала такое впечатление. В начале XX века население Японии составляло 46 000 000 человек, а России — 126 000 000. Японская армия насчитывала 180 000 штыков, русская — 1 100 000. Вместе с резервистами Япония могла выставить 850 000 воинов, Россия — 4 500 ООО. «Нюанс», правда, состоял в том, что японская армия была стянута воедино на узком островном пространстве, тогда как русская армия рассредоточена по евразийскому континенту, и собственно на Дальнем Востоке мы располагали 150-тысячным войском, две трети которого оставалось занято на охране Транссибирской магистрали и в крепостных гарнизонах, — так что к активным операциям можно было привлечь немногим более 50 000 солдат. Это меняло соотношение сил в пользу японцев. Тем не менее, легко представить себе, какие чувства испытывал российский император, глядя на политическую карту мира, где гигантская Россия грозно нависала над большим, но слабым Китаем, не говоря уже о совсем крохотной Японии, похожей на кривой рожок, изогнувшийся между Японским морем и Тихим океаном. Однако рожок этот все явственней издавал резкие, воинственные звуки.
Япония ускоренно вооружалась, сплоченная культом своего императора и неустрашимым самурайским духом. Она рассматривала Восточную Азию, прежде всего Корею, Китай и Маньчжурию, как сферу собственных геополитических интересов, входивших в противоречие с интересами России. Эта масштабная конфронтация двух экспансий стала причиной обострения отношений между двумя империями, а конкретным яблоком раздора послужил Порт-Артур — незамерзающая гавань на Ляодунском полуострове в Желтом море.
В 1894 году в ходе короткой и победоносной войны с Китаем японцы штурмом захватили Порт-Артур, но под давлением России, Германии и Франции возвратили его Китаю. Вскоре Россия дипломатическим путем отняла гавань себе на правах 25-летней аренды. Необходимость этого вызывающего по отношению к Японии шага была мотивирована опасностью захвата Порт-Артура англичанами. Так или иначе, русские без единого выстрела превратили недавнюю японскую добычу в базу своего Тихоокеанского флота, а Япония осталась ни с чем, равно как и Англия, что объединило их в военный союз против России.
В ночь на 27 января 1904 года японский флот обрушился на русскую эскадру в Порт-Артуре, нанес ей непоправимый ущерб, а сухопутные войска высадились в Корее. Так началась Русско-японская война.
Русские стратеги были уверены, что без поддержки Запада Япония на войну с Россией не пойдет, потому ждали двойного
удара: и с востока и с запада, а он последовал только с востока. Но — сокрушительный.
Главнокомандующим сухопутными войсками был назначен генерал от инфантерии Алексей Николаевич Куропаткин, морскими — адмирал Евгений Иванович Алексеев. Куропаткин придерживался оборонительной тактики ведения войны с заманиванием противника в предварительно расставленные ловушки, тогда как Алексеев настаивал на наступательной линии. Николай II принял на себя роль главного арбитра, но выбирать из двух противоположных мнений оказалось совсем нелегко. К тому же принятие решений за 12 000 километров от линии фронта требовало времени, тогда как оперативная обстановка постоянно менялась, и далеко не в пользу России.
2
Цветаев остро переживал наши военные неудачи на Дальнем Востоке, тем более считая своим долгом прикладывать все усилия на собственном «фронте» — в деле создания Музея. Из Москвы он писал Нечаеву-Мальцову в Петербург:
В дни наших военных несчастий и колоссальных потерь народного благосостояния, в дни горя и ожесточенной по Москве (да и по Москве ли одной?) критики действий наших министров с Витте во главе, несколько лет назад создавших вопрос на Дальнем Востоке и увлекших молодого государя в китайско-японскую распрю и на захват, хотя бы и дипломатическим оружием, Порт-Артура, добытого себе японцами кровью, и на постройку железной дороги по китайской территории, дороги, которую потом пришлось оберегать военной силой; в дни общих нападок на нашу дипломатию, которая не изучает, чрез своих агентов различных наименований, совершаемого в чужих странах, а обыкновенно бездельничает, ведя там светскую жизнь в высшем обществе, — в эти дни уныния, разочарований и зловещего подъема подпольной пропаганды, разбрасывающей повсюду листки с хулою на правительство, будемте продолжать стойко наше дело мира, которым и живет всякая страна как естественной, нормальной стихией. Мы, деятели мира и его благословений, должны в это время общих тревог, горя и опасений усугубить свои силы на поддержку каждый своей маленькой части. Было бы печально, если бы под грохот далеких орудий и мы бессмысленно сложили руки, ожидая, что-то будет... Что бы ни предстояло людям военным и нашей дипломатии, мы не должны ни на шаг отступать от нашего прямого, постоянного, повседневного дела. Только тогда Россия не пострадает вконец, если всякого рода мирный пахарь не оставит своего плуга и не отдастся бездействию в военные дни*.
Чтобы подтвердить озвученный принцип делом, Цветаев вместе с женой предпринимает новую поездку по Западной Европе в поисках экспонатов для будущего Музея. Он посещает церкви и соборы, музеи и галереи; знакомится с музейщиками, художниками, клириками; обивает пороги государственных учреждений; выхлопатывает право на изготовление копий мировых шедевров искусства для России. Мария Александровна, сколько может, сопровождает мужа повсюду, но избыток впечатлений и физическое утомление дают себя знать.
В Кёльне в ателье известного мастера Августа Гербера Иван Владимирович заказывает четыре статуи Наумбургского собора, «Богоматерь с младенцем» Микеланджело, группу «Персей и Медуза» Челлини...
В Париже он задумывает купить для Музея угол Парфенона в натуральную величину и после значительных усилий снижает стоимость гигантского экспоната в два с половиной раза...
Из греко-римской скульптуры неутомимый собиратель намечает к приобретению Марса, Палладу Веллетри, Венеру Арльскую, Викторию Самофракийскую, Диану Версальскую, Силена с маленьким Дионисом, Борцов флорентийского музея...
Из ассирийских древностей его интересует крылатый лев Нимруда, но особенно четыре крылатых быка, которых могли бы отлить для московского музея «луврские власти».
Амьенский собор, не пострадавший в революцию 1793 года, Цветаев собирается представить «решительными перлами».
С воодушевлением сообщает он постоянному адресату, что «из Шартра у нас будут: 1) тимпан главного портала с изображением „Христа во Славе“; 2) один столб с изображением двух святых... 3) статуя св<ятого> Модеста... 4) два апокалипсические старца...»*. И так далее и тому подобное.
Мария Александровна считает, что если бы мужу можно было остаться в Париже на полгода, то все равно он не видал бы ничего, кроме своих статуй. Такова, по ее мнению, удивительная «узость и односторонность ученых людей». Иван Владимирович слушает, соглашается и продолжает свои нескончаемые блуждания по Лувру. Ему бы еще очень хотелось получить одного архаического «Аполлона», Диадумена Поликлета и атлета, «по-видимому, Лисипповской школы»...
В Версале в час, когда русская монархическая идея терпит крах на Тихом океане, Цветаев произносит вдохновенный монолог «Искусство и монархия»:
...Величие искусства могло явиться миру только при монархии, при сосредоточении силы, власти и материальных средств в одном человеке для данного времени... Без монархии невозможны ни Версали, ни Лувры, ни Ватиканы. И Фидий не был бы такою величественною в истории искусства <фигурою>, и Парфенон не явился бы во всей своей славе без величавой, командовавшей личности Перикла. Монархиями созидались искусства Востока, монархи были главными покровителями науки и искусств в век эллинистический, в Пергаме, Антиохии, Александрии; грандиозными сооружениями и процветанием других искусств обязан был Рим своим императорам, равно как и Византия. Без королей и королев Средних веков не появилось <бы> ни романских, ни готических соборов и церквей, сосредоточивавших на себе жизнь и силу в ту пору всех изобразительных искусств. Никакая республика, никакое усиление социал-демократических учений и проведение их в жизнь народов не создадут другого собора Св. Петра миру. Людям масс, людям физического труда будет в грядущие времена жить на свете лучше с иным распорядком прав и иным распределением материального обеспечения. Это несомненно. Но блеск, высота искусства в будущем от этого уклада жизни, наверное, пострадает*.
Из Франции Цветаевы направляются в Швейцарию и в конце концов останавливаются в Германии. Ивану Владимировичу надо устроить жену и девочек — Марину и Асю — во Фрейбурге. После нескольких неудачных попыток он подыскивает комфортабельное и недорогое жилье для Марии Александровны, а по соседству — пансион сестер Бринк для детей.
В ходе этих поисков глава семьи знакомится с тем, как поставлено дело в пансионах при католических монастырях. В частности, его привлекает изгнанный из Франции дом сестер ордена Святого Винсента де Поля (S. Vinsent de Paul), католического праведника, основавшего конгрегацию «лаза-ристов» и общину «дочерей милосердия», о чем незамедлительно рассказывается Юрию Степановичу:
Мы два раза были в этом доме — и сильно дивились организаторскому таланту этих монахинь: в центре города стоит у них 4-этажный богатый дом, одна половина которого отдана под квартиры и дорогие магазины, а другая под это учреждение, пансион-ресторан специального и общего назначения. В пансионе и в ресторане все движется у них как по маслу: разные цены дают возможность и жить здесь многим женщинам разного материального положения, и иметь меню трапез по своему кошельку. И все это чисто, прилично; учреждение преследует и благородную цель нравственной и материальной поддержки тех, кому без этого жилось бы по бедности трудно. На что подобное способны были бы наши
Вид Фрейбурга Начало XX в.
женские монастыри? А католические не пропадут, сколько их ни гони г. Combes (Луи Эмиль Комб — французский премьер-министр в 1902-1905 годах. — А. С.) с архибезбожной братией из пределов Франции. В католических мужских и женских конгрегациях живет большая умственная и материальная сила; у наших же монастырей есть и деньги, и угодья земельные, и хорошие здания; но личный состав на 9/^0 великое умственное и нравственное убожество, решительно (о мужских монастырях) ни к чему не способное, кроме как есть, спать, безучастно отбывать церковные службы и бездействовать. Глубочайшим невежеством несет от этих мнихов*, чуждых всякому чтению и изучению, пришедших в эти стены ради дарового сытного стола, тепла и легкой доли ничегонеделания. Несравненно лучше наши женские монастыри, в наибольшем числе своих насельниц являющиеся приютом для девушек, обездоленных в жизни. Эти занимаются рукоделием, ведут монастырское хозяйство; но большинство монахов, особенно городских и богатых монастырей, — нравственное и умственное — брр...**
Устроившись в деревне Лангакерн под Фрейбургом, Цветаев продолжает пристально следить за событиями на театре военных действий, черпая новости из местных газет. Они пе
* Монахов (церковнослав.).
** Переписка. Т. 3. С. 149.
реполнены сообщениями с полей и морей сражений. Военный пожар неудержимо разгорается.
Вот несколько писем постоянному адресату.
18 августа 1904 года
Боже, какое тяжелое испытание перед рождением цесаревича (наследник престола цесаревич Алексей Николаевич родился 30 июля 1904 года. — А. С.) доставили нам горестные потери 10-го числа (10 августа, то есть 28 июля по старому стилю. — А. С.) на Востоке! Попытка нашего флота уйти от действия японского огня с кораблей и сухопутных батарей — от Порт-Артура во Владивосток, к Скрыдлову (Н. И. Скрыдлов — адмирал, командующий Тихоокеанским флотом после катастрофической для России гибели вице-адмирала С. О. Макарова. — А. С.), кончились его почти полным рассеянием: одни корабли должны были искать приюта в нейтральных немецких и китайских гаванях, где их обезоружили и сделали непригодными на время войны, «Цесаревич» (флагманский броненосец. — А. С.) лежит в чужой гавани израненный, адмирал Виттгёф (точнее — Витгефт, командующий 1-й Тихоокеанской эскадрой. — А. С.) поплатился жизнью, рассеченный гранатой на мелкие куски, некоторые суда воротились в Порт-Артур; но какая участь их ждет теперь? Их, бедных, или покрошат, или они в последний час взорвут себя сами. До сих пор не видно, достигли ли какие-либо суда Владивостока. Там также потеряли мы «Рюрика» (русский крейсер; после пятичасового боя под угрозой плена был взорван командой, подобно «Варягу». — А. С.). Какой длинный ряд наших поражений и пока ни одного крупного победоносного деяния, которое бы подняло дух наших бедных солдат и остальной России! Все же думается, что оная пора, счастливая для нас, наступит; но как дорого дадутся теперешними нашими несчастиями эти будущие успехи. Да и какие будущие триумфы возвратят нам стольких убитых и раненых, и что вознаградит нас за страшные потери материального свойства? Чувствуют ли свою вину те из наших пустопорожних «дипломатов», которые в эти годы систематического, зрело обдуманного и с колоссальным напряжением воли и государственных средств проведенного японцами приготовления к войне с Россией и только Россией, были в Японии и Китае нашими представителями и такого в глаза бьющего явления не заметили или не имели мужества, со всею силою долга верноподданных, делать частые донесения государю? Это они должны были исполнить даже в обход своего министра, если бы он того не пожелал. А они вместо того только чаи распивали да в любезностях рассыпались перед женами и дочерьми высших сановников, которые готовили нам гибель, оттачивая против нас мечи и отливая ядра в таком изобилии. И не только наши японские представители, но и бывшие в Китае должны были знать о таком колоссальном движении. Или японцы были так хитры, а мы, русские, в Токио, Порт-Артуре и Владивостоке так слепы и беспечны? Что мы были беспечны, об этом красноречивее Цицерона говорит факт развеселого именинного пирога у знаменитой с тех пор Марии Ивановны, супруги тогдашнего главы
Порт-Артура — в день первого нападения японцев (русский вице-адмирал О. В. Старк давал в крепости бал по случаю именин своей супруги Марии Ивановны. — А. С.). Наши несчастия и потери так велики, что противный тон немецких газет, до этого бедствия злорадный, заметно стих. А английский «Standart», получаемый нашей гостиницей после одной английской семьи, как бы сочувствует тому, что по цензурным нашим условиям Россия не узнает всей величины нашего поражения и наших потерь*.
4 сентября 1904 года
Как тяжело быть в эти горестные для нас дни за границей! Газеты наполнены удручающими известиями о поражении армии Куропаткина (русская армия потерпела поражение при Ляояне в конце августа 1904 года. — А. С.), и чем более этих подробностей, тем становится тяжелее и обиднее. Сначала читались лишь победные восторги из Токио, хотелось тогда верить в напрасную похвальбу и преувеличения азиатской фантазии. Но ныне я должен был пойти во Фрейбург; здесь, в лесу, не сиделось, хотел узнать из больших газет подтверждений или исправлений вчерашних токийских депеш. И, увы, специальные немецкие корреспонденты изображают наше поражение в таких красках, что в нем уже не может быть никакого сомнения. Куропаткин должен был бросить Ляоян не по стратегическим соображениям, а потому, что оставаться и отстоять свои укрепленные позиции не было для нас никаких возможностей. Удаление было будто бы спешное, беспорядочное в такой мере, что не могли захватить с собой всех орудий и боевого материала, — и японцы нашими же гранатами разгромили-де железнодорожную станцию и воинский поезд, не успевший уехать. Корреспондент «Munchener Nachrichter» пишет, что нашей армии предстоит или быть окруженной, так как на дороге к Мукдену будто бы стоит уже другая японская армия, и этот путь считается отрезанным, или укрыться на нейтральную китайскую территорию, где армия должна быть разоружена и... выбыть на все время войны из строя. Это какой-то тяжелый кошмар, а не действительность; это факт, едва ли когда-либо бывалый в военной истории России. Ведь у Куропаткина, считают здешние газеты, 205 000 человек. Если предположить даже 20 000 потери в этой ужасной битве, то неужели 185 000 солдат, стянутых в целые полгода с таким неимоверным напряжением сил, придется теперь бездействовать? Все новые и новые недоумения и загадки, разъяснить которые могут лишь официальные донесения с театра войны в Петербурге. Без этого здешние данные прямо странны. Все их читают, все верят, все судят. Как невыносимо тяжело быть тут теперь; если не знают твоей национальности, приходится наслушаться таких оскорбительных суждений о нас, нашем беспечном характере и о наших порядках, что становится обидно за невозможность рассеять эти слухи и эту низкую оценку; а если встретишься со знакомыми или
Погребение русских солдат рядом с Порт-Артуром 1904
знающими, что ты русский, то видишь, как щадят тебя расспросами и разговорами о событиях, теперь занимающих весь мир; видишь, как военный сюжет дебатов и бесед моментально прерывается при твоем появлении. Сейчас в газетах перепечатывается перевод статьи одной китайской газеты на тему: «Warum wird Russland geschlagen?»* Автор, во многом сравнивая нашу армию и наши внутренние настроения со своими перед японско-китайской войной и в течение ее, между прочим винит Алексеева в легкомыслии и хвастовстве донесений о Японии и японцах, и нашего бывш<его> посланника в Японии Розена (Роман Романович Розен — российский посланник и полномочный министр в Токио, после поражения в Русско-японской войне назначенный на ту же должность в Вашингтоне. — А. С.), просмотревшего поразительный факт спешного и всестороннего приготовления японцев к войне и вовремя не давшего известий куда надо»**.
* «Почему русские разбиты?» (нем.)
** Там же. С. 154-155.
В этом хаосе подавляющих душу депеш и суждений нет сил разобраться. Тут циркулирует печатное сообщение, что Куропаткин довел до Мукдена только одну треть своей армии (неверно. — А. С.), что около 30 000 убитых и раненых на нашей стороне (19 000. -А. С.), 25 000 — отряда ген<ерала> Штакельберга отрезаны от целого (неправда. — А. С.), другие 18 000 окружены и сложили оружие (?.. — А. С.) и т. д. Величина нашего поражения ошеломила даже тех, кто прежде с усмешкою и видимым удовольствием оповещал читателей о наших прежних потерях и несчастиях. Ставится уже и серьезный вопрос, да и вправду, не грозит ли европейскому престижу действительная опасность со стороны желтой расы Азии? Что так сильна военной силой Япония, не знали, как они сознаются теперь, и немцы, обучившие японцев военному искусству. Еще недели 2 назад они ликовали от совершенства своей военной науки и своего переданного японцам воинского уклада, а теперь они же ставят вопрос, что же будет в случае полной победы Японии? И Западной Европе <это> видится фактом общеазиатского подъема против ее колониальных захватов. А в союзнице Японии, в Англии, начинают сознаваться, что Россия, в качестве соседа ее в Азии, куда выгоднее японцев, показавших теперь свои выдающиеся военные дарования и способности побивать врага и своею быстротою, и беззаветным мужеством, осилившим даже всесветно славное мужество русского солдата и офицера. Вчера здешние газеты напечатали сенсационное известие, что в Петербурге, в военном министерстве, не досчитались 300 орудий, которые по плану должны были быть и действовать в Маньчжурии и которые там, однако, не действовали, потому что оказались спокойно лежащими в петербургских складах, забытые при отправке войск на Восток. Но всего не перескажешь, что печатается даже в ограниченном круге мне доступных здесь газет. Каждый день хожу читать их во Фрейбург и оттуда возвращаюсь часам к девяти по темному лесу, где только полоска неба, в эти дни звездного, является указателем извивающихся горных тропинок*.
В военных неудачах Иван Владимирович по большей части винил русскую дипломатию.
У немцев Нибур (историк античности. — А. С.) был послом в Риме (прусским посланником при папском дворе. — А. С.), да и аристократы их окружают на дипломатических постах себя учеными, как это мы видим в том же Риме теперь или в Афинах. А наша дипломатическая молодежь свищет, гуляет, болтает вздор по столичным гостиным и даже не готовится серьезно к своему прямому делу, ради которого получает жалованье и посылается государем в чужие земли. Попавши туда, не учится, не наблюдает, не ставит на должную высоту знания страны свое правительство. Это наше
Осада Порт-Артура
1904
истинное несчастие, что люди, все достоинство которых заключается в безукоризненном французском языке, после не имеют ни сведений, ни мужества решиться оповещать государя о том, что может грозить, в свой час, нашему народу и государству. Эти пустозвоны являются виновниками больших бедствий нашей страны*.
3
Осенью Иван Владимирович приступил к занятиям в Московском университете, но снова сильно заболела Мария Александровна, и во второй половине декабря в канун католического Рождества ему пришлось внеурочно выехать в Германию, во Фрейбург. Он вез семье икру, черный хлеб, абрикосовый мармелад, карамели и радовался тому, что, будучи в предпраздничном, питейном
настроении, таможенник, стоявший на страже экономических интересов Германии, об этих интересах забыл, ревизию багажа не произвел и пошлину с бедного русского генерала не взыскал.
Сразу же по прибытии на место, 20 декабря 1904 года, Иван Владимирович получил пять экстренных депеш из Москвы:
1) Горит музей александра 3
Дмитриев (письмоводитель Музея. — А. С.)*.
2) Пожар музее александра третьего утих ваше присутствие бесполезно случае необходимости получите телеграмму келлат готье (сотрудники Музея. — А. С.)**.
3) Пожар окончен сгорело мало успокойтесь Дмитриев***.
4) Воскресенье ночью произошел пожар в музейном антикварии но он погашен повреждены бронзы сгорели гипсовые слепки поврежден фасад клейн Дмитриев****.
5) Музее александра 3 сгорели ящики антикварии не беспокойтесь все кончено
Дмитриев*****.
Иван Владимирович немедленно отправил телеграмму Клейну:
Крайне ошеломлен непостижимо как это случилось Цветаев******.
За телеграммой последовало письмо:
Дорогой Роман Иванович.
Какое несчастное начало нового года постигло меня тут (по западному календарю, т. е. по новому стилю. — А. С.)! Вчера обе наши девочки явились с прогулки на высокую гору окровавленными: их дура-воспитательница повела на гору, когда под ногами был лед, они, спускаясь по крутой дорожке, упали одна на другую, причем младшая разбила себе нос до хряща, а старшая сорвала кожу на колене. День был холодный и ветреный; жена, не зная последнего обстоятельства, вышла на воздух, простудила себе горло и теперь опять сидит с бесчисленным <по счету> бронхитом, повторяемость которого приводит ее в большое уныние. А эту ночь и утро засыпали меня телеграммами о несчастии, постигшем нас
* ОРГМИИ.Ф. 6. Оп.1. Ед.хр.881.
** Пер. с фр. Там же. Ед. хр. 1439.
*** Там же. Ед. хр. 882.
**** Пер. с нем. Там же. Ед. хр. 1496.
***** там же Хр gg^
****** р[ер. с нем. там же. ф. 8. On. III. Ед. хр. 231.
в Музее. Пять депеш лежит передо мною, из них три с советами не волноваться и не двигаться в обратный путь. Дмитриев, желая утешить, во 2-й телеграмме извещает: «Пожар потушен. Сгорело мало». Только из Вашей депеши я узнал, в каком пункте здания случилась непоправимая беда. Но эта же телеграмма поставила для меня вопрос: каким образом случился пожар вдали от обитаемой части Музея, в зале, запертом со всех сторон, изолированном? Как мог случиться пожар с воскресенья на понедельник, когда в передней половине здания не должно было быть ни одного рабочего? Еще ночью, когда в 1-й телеграмме Дмитриева я прочел: «Горит в Музее Александра III», у меня блеснула мысль о поджоге со стороны рассчитанных дворников или кого-нибудь из недовольных рабочих. В последующих телеграммах о причине не было и слабого намека, так что до первых писем я буду оставаться без ответа на этот жгучий вопрос. Откуда пришло это нежданное несчастие? Другое соображение у меня: не производилось ли каких перестановок в этом зале вчера, в воскресный день, и не позволил ли себе какой рабочий курить и тем заронил искру в ящик с соломой?
Первый вопрос жены был: «А застраховано ли было ваше художественное имущество?» И потом: «Дежурят ли дворники при входах ночью и стоят ли сторожа при кладовых?» Что мог я сказать на это, кроме — нет, нет и нет?
Нынешнюю осень и зиму не раз меня посещало опасение возможности пожара, поджога из мести; но дальше этого я не пошел — и вот теперь наказан потерей всех гипсов Антиквария и порчею всех, там находившихся, геркулано-помпейских бронз. Какие гипсы погибли, определится только впоследствии, путем проверки уцелевших. А бронзы придется отослать в Неаполь для наведения на них патины сообразно оригиналам. Здесь, т<о> е<сть> у нас, сделать этого нельзя. Бедные бронзы, мы с Вами их, в сообщенной им красе, и не видали. Они, судя по данному им неаполитанскими профессорами-экспертами отзыву, представляли собою верх совершенства художественной имитации.
Чему научит нас это несчастие? 1) Необходимо устроить ночное дежурство перед кладовыми; для этого у нас есть ничего не делающие служители Кабинета, Павел и Василий; 2) необходимо застраховать гипсы и Кабинет. Насчет сторожа сделайте распоряжение немедленно, как найдете лучше.
Нет сил продолжать. Обнимаю Вас.
Ваш И. Цветаев*.
28 декабря Роман Иванович отослал во Фрейбург подробное письмо обо всем произошедшем:
В ночь с воскресенья на понедельник, то есть с 19-го на 20-е декабря, в 12 ’/£ часов ночи, мне сообщили, что леса музея горят. Немедленно я отправился на постройку, и по мере приближения моего становились виднее клубы дыма, и, наконец, подъехав
* Там же. Ед. хр. 235.
к постройке, я увидел языки пламени из окон залы Антиквария. Войдя надвор, я встретил пожарную команду, которая только что принималась за дело и, конечно, стала делать то, что именно не нужно — поливать нагревшийся фасад. Я остановил эту работу, но было уже поздно, так как наличники окон успели уже получить трещины. Затем отправился в самое помещение Антиквария, куда еще можно было проникнуть, но с трудом, так как воздух был пропитан дымом и паром. Попытался я попасть в этот зал другим путем — через Библиотеку, и тут я ужаснулся, видя в углу, выходящем на Волхонку и Антипьевский переулок, где находилась бронза, сплошной столб огня. Тут у меня мелькнуло опасение, что потолочные балки, увеличившись в длину от сильного огня, разопрут стены и окончательно разорят фасад, но, к счастью, мое предположение не оправдалось.
<...> Через час... общий пожар был потушен, но в ящиках упаковка продолжала тлеть, и пожарные, не церемонясь, пробивали ломами насквозь ящики и таким образом громили все содержимое. Вы легко можете себе представить, что испытывали люди, заинтересованные в сохранении вещей, не имея возможности помешать этому вандализму. Меня отчаяние охватывало до слез.
После пожара получилась следующая картина: снаружи обгорели наличники и мраморные перемычки окон, закоптились в некоторых местах мраморные стены, как под колоннадой, так и на боковом фасаде; исковеркано и поломано 14 железных рам.
Внутри попорчена вся штукатурка зала Антиквария и Библиотеки; сгорели все гипсы и попорчена бронза. На сводах стояла вода вершков на 8. Конечно, при 27 градусах мороза все обратилось в общую ледяную массу, так что все уцелевшие предметы находятся под ледяной корой...
Во время пожара несколько раз справлялись по телефону о положении дел из Нескучного сада (резиденция великого князя Сергея Александровича. — А. С.), утром я поехал с докладом к его высочеству, который ужасно огорчен был нашим несчастьем. Хладнокровнее всех, как мне показалось, отнесся к случившемуся Юрий Степанович, который в данное время был в Москве; он успокаивал меня, говоря, что убытки небольшие и ограничатся суммой не более 25 000 рублей, но мне думается, что они значительнее.
На другой день на месте пожара был судебный следователь, была сделана опись помещения, причем выяснилось, что помещения до пожара все были заперты и ключи находились в конторе. Очевидно, что это был поджог с целью прикрыть кражу или случайный поджог во время кражи.
25-го декабря, в день Рождества, был сделан осмотр сыскной полицией, которой я по совету следователя передал розыски злоумышленника...
В настоящее время я занят организацией охраны остального имущества, и, по-видимому, придется принять следующие меры: во-первых — застраховать, если общество примет страховку имущества в незастрахованном помещении, а помещение страховать нельзя без оплаты очень больших налогов в Городскую управу; во-вторых, отдать охранение имущества ответственной артели,
а не отдельным лицам, которые, при всем желании, не могут нести ответственности.
В настоящее время зал, где был пожар, окутывается, устанавливаются печи для временного отопления, и, когда растает лед, будем с осторожностью вынимать все вещи. Бронзы действительно придется отослать в Неаполь для наведения на них патины. Может, фабрикант, исправив их, продаст кому-нибудь, а нам сделает новую?..
Дорогой Иван Владимирович, будемте жить надеждой; может, новый год нам принесет более счастливых дней. Желаю Вам встретить наш русский Новый год более счастливо, нежели заграничный, желаю Вам и семье Вашей здоровья, бодрого духа и скорого возвращенья на родину. Я только и утешаю себя тем, что время все перемелет.
До скорого свидания.
Глубоко уважающий Вас Р. Клейн*.
Можно представить себе состояние Цветаева в те дни. Иван Владимирович плакал над письмами из Москвы, слезы мешали ему читать, и дочитывала Мария Александровна. Убытки от пожара оценили в 40 000 рублей по коллекциям и в 16 700 рублей по зданию. Окончание строительства отодвигалось на неопределенный срок.
В одном из писем Келлат сообщил, что причиной пожара явился поджог — солома в упаковочных ящиках была полита нефтью. Этот факт удостоверен свидетелями. Подозревали уволенного со стройки десятника. Одним мотивом преступления могла стать месть за увольнение, другим — хищение художественных бронз: украсть и совершить поджог, уничтожив следы.
Оползень царства
9 января. Невосполнимые потери. Гибель великого князя.
Конец японской войны. —
Прекрасный Шварцвальд, ужасная Ялта.
Манифест 1 7 октября. «Революционерка» Маруся. — Вооруженное восстание в Москве
1
Напряженность в обществе усиливалась по мере того, как ослабевали наши позиции на Дальнем Востоке. Разгром флота, поражение при Ляояне, осада японцами Порт-Артура усугубили
внутреннюю депрессию и создали почву для роста агрессивных настроений. 2 января 1905 года после пяти месяцев обороны Порт-Артур был сдан его комендантом генералом А. М. Стес-селем.
А 6 января случился инцидент в Петербурге. Когда государь вместе с митрополитом вошел в беседку на Неве для освящения воды, а из Петропавловской крепости напротив начали, салютуя, стрелять орудия, один снаряд по недосмотру прислуги оказался боевым и чудом не снес беседку... Никто не пострадал. Но все вздрогнули и перекрестились.
Между тем пламя протестов от мобильного студенчества, которое еще с конца 1890-х бунтовало, требуя либерализации университетского устава, давно уже перекинулось на стабильный рабочий класс. Характер и темп происходивших в стране перемен мало кого устраивал. Коренным образом ситуация не менялась.
В фокус общественного внимания попали два министерства — внутренних дел и народного просвещения: реформы, связанные с их деятельностью, и собственно судьбы реформаторов. Вместо Дмитрия Сергеевича Сипягина, павшего в апреле 1902 года жертвой террористического центра партии соци-ал-революционеров (эсеров), на пост министра внутренних дел был назначен Вячеслав Константинович Плеве, но и его постигла та же участь. Студенчество своими волнениями, будоражившими общество, создавало благоприятный фон для террористов, подпитывало их ряды. После убийства министра просвещения Николая Павловича Боголепова император принял решение назначить на рискованный гражданский пост военного. Его выбор остановился на бывшем военном министре генерал-адъютанте Петре Семеновиче Ванновском, возглавлявшем правительственную комиссию по выяснению причин студенческих беспорядков. Государь потребовал от Банковского «коренного пересмотра и исправления» всего строя русских учебных заведений, то есть поставил перед ним неразрешимую задачу, с которой тот справиться не смог, как не смог бы никто другой на его месте. В результате старец был смещен и вместо того, чтобы с почетом уйти на заслуженный отдых после стольких лет, отданных государевой службе, оказался в положении разжалованного министра. Иван Владимирович очень ему сочувствовал и сразу после отставки преподнес диплом почетного члена Румянцевского музея. А трагикомедия с перестановками реформаторов продолжалась. Мало того, что кардинального способа исправить ситуацию (то есть остановить волну революционного насилия) не знал никто, но порой и реформы предлагались удивительные, а реформаторы
выбирались из тех людей, которые были противниками именно этих преобразований! Вакансию Ванновского занял Григорий Эдуардович Зенгер — доктор римской словесности, текстолог Горация и Проперция, попечитель Варшавского учебного округа. Он был влюблен в античность. Латынь и греческий оставались для него самыми главными языками на свете. Он переводил с итальянского на латынь Данте!.. Это равносильно тому, что мы стали бы переводить с русского на древнерусский Пушкина. Григорий же Эдуардович не убоялся переводить на латынь и Пушкина. Ирония судьбы состояла в том, что именно Зенгеру император поручил реформу русских гимназий с требованием исключить из программы греческий язык и до минимума сократить латинский, дабы за счет «архаичных предметов» высвободить время для точных наук.
Правительство понимало, что новую вспышку недовольства, как пожар, легче предупредить, чем погасить. Министр внутренних дел В. К. Плеве создал рабочие организации под полицейским надзором, предполагая таким образом «накрыть революцию колпаком». Мирная демонстрация рабочих 9 января должна была помочь «сдержать» развитие революционной ситуации. Демонстрацию возглавил православный священник Георгий Гапон — пастырь арестантов пересыльной тюрьмы, ставленник Плеве, к тому времени уже убиенного. Демонстрация направилась на Дворцовую площадь с петицией царю. В петиции содержалось неприемлемое для самодержавия требование созыва Учредительного собрания и коренной политической реформы. Никакого «регулируемого» протеста не получилось. Получилась мирная форма выражения жестких требований.
Вот как описывает события того дня их очевидец С. Ю. Витте:
Утром 9 января, как только я встал, я увидел, что на улице по Каменноостровскому проспекту шла большая толпа рабочих с хоругвями, образами и флагами; между ними много женщин и детей, а кроме того, много из любопытных.
Как только эта толпа или, вернее, процессия прошла, я поднялся к себе на балкон, с которого виден Троицкий мост, куда рабочие направлялись.
Не успел я подняться на балкон, как услышал выстрел, и мимо меня пролетело несколько пуль, а затем последовал систематический ряд выстрелов. Не прошло и десяти минут, как значительная толпа народа хлынула обратно по Каменноостровскому проспекту, причем многие несли раненых и убитых, взрослых и детей... Эта... катастрофа произвела смуту не только в обществе, но и в рядах правительства*.
Участники демонстрации 9 января 1905 года у Александровского сада
Цепь пехотинцев задерживает движение шествия к Зимнему дворцу на Невском проспекте 9января 1905
В ту пору Цветаев все еще находился с больной женой и детьми во Фрейбурге — глубокой германской провинции, питался слухами из местных газет и страдал оттого, что в такую минуту он здесь, а не на родине.
В такие тревожные дни, как переживаемые нами, лучше жить дома, где пишут меньше, но зато и лгут меньше в распространении известий. Чего только не приходится видеть, слышать и читать тут о ваших петербургских событиях! Число демонстрирующих рабочих определяют в 400 тысяч человек... Никто при этом не ставит вопроса, да есть ли столько рабочего класса, т<о> е<сть> заводско-рабочего, в Петербурге; никто не видит бессмыслицы такой цифры рядом с оповещениями, что священник Gapon (?) шел во главе «самой большой» толпы демонстрантов в... 15 000 человек и что челобитная восставших рабочих, которую Gapon рассчитывал вручить государю всенародно (нельзя сказать, чтобы этот священник не страдал духом гордости и любоначалия), подписана 50 000 человек. Разумеется, преувеличены и эти оба числа, но и согласившись с ними, где же найдем 400 тыс<яч>*? Из Лондона два раза оповещали, что der Grossfurst Sergio erschossen est**. В один день это было сделано в виде слуха, на другой напечатано, что этот слух подтверждается (на самом деле слух не подтвердился. — А. С.). Число убитых напечатано и расклеено было даже в колбасных и табачных лавках в виде больших Extra Blatt*** — 2000, раненых — 6000 только в одно воскресенье. Иллюстрированная газета «Simplicissimus» выпустила № с картиной казни Людовика XVI (французский король, свергнутый революцией и казненный в 1793 году. — А. С.), рекомендуя ее для стен императорского дворца в Петербурге. Другая здешняя газета опубликовала передовую статью о параллельном положении дел при Людовике XVI и у нас в настоящее время. И это в маленьком Фрейбурге, что же сказать про Италию, Англию и большие центры Германии и Франции! В распространении заведомо фальшивых известий большую роль играют, конечно, и наши эмигранты, которые не помнят завета басни: «Ври, да не завирайся». Но они не знают меры ни в речах, ни в личном поведении. <...> Здесь во всех газетах был перепечатан перевод письма князя Трубецкого к министру внутренних дел кн<язю> Святополк-Мирскому о настоящем положении России и его просьбы доложить его величеству препровожденную им записку по этому вопросу («Записка князя С. Н. Трубецкого министру внутренних дел князю П. Д. Святополк -Мирскому»: предупреждение о возможном перерастании беспорядков в революцию. — А. С.). Улучшения неизбежны, но здесь должна быть постепенность — и, конечно, не фабричным и вообще не рабочему классу и не молодежи учебных заведений возможно решать дело такого колоссального значения****.
* Согласно справочным данным, в шествии участвовало 140 000 человек.
** Великий князь Сергей застрелен (нем.).
*** Листов экстренного выпуска (нем.).
**** Переписка. Т. 3. С. 195-197.
В январе Цветаев возвращается в Москву и присоединяется к работам по устранению последствий пожара. Он выясняет, что погибло 175 ящиков с гипсами, и утешает себя тем, что число статуй меньше числа ящиков: одна на два-три. В течение двух лет погорелец рассчитывает восполнить потери.
Но есть потери невосполнимые. 31 января 1905 года Иван Владимирович пишет Нечаеву-Мальцову:
Умер единственный сын у Д. И. Иловайского (Сережа. — А. С.), студент нашего университета, отличный во всех отношениях юноша 23 лет, сраженный чахоткой. Трогательно было видеть отца, переступающего на днях 73-й год, с полотенцем на плече, в слезах несущим сына по кладбищу к могиле вместе со студентами, товарищами умершего по гимназии и университету, у каждого свое горе, свой крест в жизни. Иловайскому, сыну бедного мещанина из Козлова, дано было случаем поступить в рязанскую гимназию; там заметили большие дарования мальчика, приняли его на казенный счет; на казенный счет поместили его и в университет. Впоследствии — учитель рязанской гимназии, профессор Московского университета, писатель, педагог, составляющий себе имя на всю Россию, заставляющий учиться по своим учебникам несколько поколений, теперь «отцов» и «детей», — удалившись со службы в молодые годы, он всю жизнь проводит частным человеком, существуя только своим трудом. Обладатель порядочного именья и 2 домов в Москве (в одном живу я с его внуками), он считается зажиточным человеком. Это обеспеченье и хорошее имя в педагогии и исторической науке составляют плюсы его жизни. Но рядом и тяжелые минуты: 12 лет безнадежной болезни его жены, смерть 2 сыновей, смерть жены, смерть дочери на 32-м году и сейчас смерть сына от второго брака. Остались две младшие дочери-невесты. Столько в жизни смертей близких и столько похорон. Но и удивительна сила воли этого человека. После погребения я зашел к нему: начали беседовать — и первой заботой его было: «поналечь теперь на работу», а то-де в последние две недели за болезнью сына он не мог заниматься как следует. Собирается писать примечание к оканчиваемому печатанием тому «Истории России», заключающему в себе царствование Алексея Михайловича...
Это удивительный способ хранить глубокое горе. Другой захныкал бы, замалодушничал, по русской склонности начал бы топить тоску другим совсем способом. Про покойного московского профессора Кудрявцева я читал, что он, неожиданно потерявши горячо любимую жену во Флоренции, в первые же 40 дней писал повесть с таким грустным сюжетом и в этом искал себе утешения, при необычайной чистоте и незлобивости сердца. Иловайский, как публицист, — большой воитель, злостный и решительный; это — другой характер, ищущий исхода своему горю в научном труде. И я уверен, что он завтра же, на другой день погребения сына, с утра сядет за свои рукописи и проработает до сумерек, и только тогда сходит пешком на кладбище*.
Дмитрий Иванович еще не знает, что через пять недель от той же чахотки уйдет из жизни его дочь Надя.
Насущный хлеб и сух и горек. Но трижды сух и горек хлеб, Надломленный тобой, историк, На конченом пиру судеб*.
Первые дни февраля 1905 года Цветаев с утра до вечера проводил на стройке. Пожар задал ему работу надолго. 4 (17) февраля стало известно, что в Кремле убит великий князь Сергей Александрович. Цветаев пишет Нечаеву-Мальцову:
<Вчера> Клейн пришел со стройки, и мы занялись чаем и разговорами. Вдруг раздался какой-то неистовый звонок у телефона, Клейн побежал прежде всего выбранить таким образом звонившего. Слышу однако: «ах!» и какие-то стоны Клейна. Иду туда, вижу Р<омана> И<ванови>ча с остановившимися глазами и слышу произносимое упавшим голосом: «Великий князь убит в Кремле...» Было затем время нашей растерянности и выслушивания приходивших с улицы разных слухов...
Вчера услышавши, что ворота в Кремле заперты, я лишь ныне занес свое имя в книгу великой княгини. В тесной передней Николаевского дворца — давка, насилу добрался до книги. За панихидой (так! — А. С.) в Чудовом монастыре (один из древнейших в Кремле: снесен в годы советской власти. — А. С.) такая масса официального люда всех ведомств и форм, что очень умно поступили явившиеся без шляп: ни держать их, ни креститься в этой тесноте было нельзя. Дам, занявших передние места и чувствовавших себя скверно, с трудом выводили. Из царской фамилии успел прибыть вел<икий> кн<язь> Константин Константинович. После панихиды пришлось приносить последний поклон только маленькой кучке останков погибшего. Все закрыто — поверх пелен только кипарисовый, маленький, старого вида крестик и маленький складень-образ, к ним и прикладывались. Из-под флера виднеются эполеты мундира, очевидно, лишь положенного в гроб. Это — все от атлетически высокой фигуры великого князя... Головы, говорят, нет в гробе. Публика искала глазами великую княгиню, но в этой давке и в темноватой церкви ее не было видно. Ходили слухи, что отпеванье будет здесь, здесь же останется гроб будто бы и до весны. Так ли это, кто с уверенностью скажет?**
А на Дальнем Востоке произошла новая, теперь уже окончательная катастрофа, решившая исход войны, б февраля 1905 года в генеральном сражении при Мукдене японцы меньшими
* Лившиц Б. Полутораглазый стрелец. Л., 1989. С. 94.
** Переписка. Т. 3. С. 204-205.
силами и с меньшими потерями заставили русскую армию отступить. А в конце мая на море японский флот в трагическом для России Цусимском сражении уничтожил русскую эскадру, которая была переброшена на Тихий океан с Балтики.
Продолжать войну стало бессмысленно. Япония добилась полного господства на море и достигла своих целей на суше. Вместе с тем она была экономически истощена, ее людские ресурсы исчерпаны. Россия проиграла все, что могла, но сохраняла экономический потенциал и возможность новой мобилизации. В этой обстановке японцы предложили мир.
После поражения оставалось лишь анализировать произошедшее и искать причины катастрофы. Как историк и представитель старшего поколения, Д. И. Иловайский тоже размышлял над этим и пришел к следующим выводам.
Во-первых, он назвал главную, по его мнению, причину неудач России в войне с Японией: непонимание сановными тузами связи между государственной обороной и развитием отечественной техники. По Иловайскому, Министерство финансов поощряет производство ситцев и сахарной свеклы, но не заботится о строительстве кораблей и вообще машин, кото-рые-де дешевле покупать за границей.
Второе. Промышленные страны насытили свои внутренние рынки, поэтому для развития им необходимо расширение рынков сбыта, то есть экономическая экспансия, в том числе захват чужих территорий. А Россия — страна патриархальная, аграрная. Ей свой внутренний рынок еще насыщать и насыщать. Поэтому мы должны хлопотать не о покорении чужих рынков (и чужих территорий), а о завоевании собственного необъятного внутреннего рынка, на котором хозяйничают иностранцы, особенно немцы. Зачем нам насыщать нашими товарами Китай прежде, чем мы насытим ими самих себя? Да и под силу ли нам затоварить Китай? А тогда во имя чего воевать с Японией?..
Третье. Нельзя быть такими доверчивыми во внешней политике. Почему мы позволили англичанам, немцам, французам втравить нас в войну с японцами? Запад подталкивал русских к войне, а теперь поддерживает самураев и финансирует забастовщиков внутри России.
Инструктируя Витте перед поездкой на переговоры в Портсмут, царь поручал ему подписать мир с японцами, но при этом не уступать им ни пяди русской земли и не соглашаться выплачивать ни копейки контрибуций. С «пядями» ничего не вышло, поскольку к началу переговоров Южный Сахалин уже был захвачен, а в вопросе о контрибуции русским помог президент Соединенных Штатов Рузвельт. Он настоял на том,
Санаторий в Санкт-Блазисне
Открытка. Пометки рукой И В. Цветаева. 1905
чтобы японская сторона аннулировала свои претензии, дабы не создавать исторического прецедента, в связи с тем, что за всю свою историю Россия не платила контрибуций никому. И мир был заключен.
Но снять внутреннее напряжение в стране Портсмутский договор уже не мог. Война кончилась, однако военный год продолжался, служа подпором нарастающей революции.
2
Иван Владимирович был человеком небогатым и крайне непритязательным. Он благодарил Бога за то, что худо-бедно способен содержать «три дома»: собственный в Трехпрудном, обеспечивать санаторное лечение Марии Александровне в Шварцвальде, обучение и пансион Мусе и Асе возле матери.
Санаторий, в котором лечилась Мария Александровна, располагался в городке Санкт-Блазиен, считавшемся по красоте природы и по целительности воздуха жемчужиной Южного Шварцвальда. Сюда из Бадена приезжали на отдых семейство великого герцога и придворная знать. Здесь по плотно утрамбованным и размеченным указателями дорожкам гуляли дедушки с внуками, школьники, а по окончании летнего семестра наезжали и студенты, чьи «академические ватаги» оглашали окрестные леса восторженным стоном своих «неблагочестивых шествий».
Иван Владимирович Цветаев с дочерью Мариной Санкт-Блазиен. Шварцвальд. 1905
Где бы ни оказывался собиратель музейных ценностей, его любознательность не дремала ни минуты. Цветаев был, по-ви-димому, врожденным краеведом, а краеведение — душа истории. Оно предоставляет большой науке право изучать судьбы мировых империй, исторических личностей, целых народов, а себе оставляет конкретную жизнь обыкновенных людей на своей земле, в своем краю, эволюцию именно этого края. Попав
Анастасия и Марина Цветаевы
Санкт-Блазиен. Шварцвальд. 1905
в Санкт-Блазиен, Иван Владимирович заинтересовался тем, когда возник городок, откуда в нем столько прекрасных зданий, кому поставлен памятник перед монастырем? И не успокоился, пока не получил ответы.
Санкт-Блазиен вырос в середине XVIII столетия вокруг бенедиктинского монастыря IX века. Богатствами земельных угодий и ученостью насельников здешние бенедиктинцы не уступали французским, а их настоятели носили титул князей Австрии.
Что касается зданий, то они поначалу сооружались под оружейный завод баденского правительства. Потом здесь размещалась хлопчатобумажная прядильня.
Теперь вокруг нет ни одного монаха. А памятник ученому аббату XVIII века Мартинусу Герберту фон Хорнау за его заслуги перед Господом и братией лишь свидетельствует «о непрочности всего человеческого и всякой людской славы»*. Ни оружейников, ни прядильщиц, ни монахов. Один монумент еще держится под напором времени, но и его слава не вечна.
Несмотря на все красоты Шварцвальда, Мария Александровна тосковала в своей курортной неволе и хотела домой. Девочки слали отцу слезные письма о том, как за минувшие три года им надоела заграница, и как они мечтают вернуться в Россию. Надо было что-то решать.
Переписка. Т. 3. С. 248.
Анастасия Цветаева с ротвейлером Тюрком Санкт Блазиен. Шварцвальд. 1W5
Приближалось лето — пора каникул и активных музейных закупок. Юрий Степанович заверил Цветаева, что, несмотря ни на какие войны и «революции», он не уменьшит ни на грош свои ассигнования Музею. Обещанные 120 000 будут аккуратно выплачены. Комитет может на них твердо рассчитывать.
И Цветаев вновь отправился в путешествие по готическим соборам и европейским галереям. «Собрав урожай», он планировал забрать жену из санатория и по совету врачей отвезти ее вместе с девочками в Ялту. Для них это будет радость.
Дочек Иван Владимирович нашел похудевшими и бледными. Они явно плохо питались в пансионе. Он забрал девочек и поселился с ними в сельской гостинице, нанял для них приходящую бонну, а сам занялся музейными делами.
Цветаев следит за продвижением от Равенны к первопрестольной мозаичного панно «Выход Юстиниана в церковь». Он надеется, что кайзер Вильгельм II профинансирует заказ гипсов для Музея, и решает посоветоваться с российским послом в Берлине. Ответ из Берлина приходит на удивление быстро. Посол обещает при первом же удобном случае обратиться к кайзеру с просьбой о содействии московскому Музею.
Иван Владимирович разбирается с теми записями, которые делал в Берлине, Париже, Лондоне; следит за всем, что происходит в его отсутствие в Москве. Организует приобретение памятников ассирийской скульптуры из собрания Британского музея. Ведет переговоры с формовщиками Мюнхена относительно образцов немецкой пластики Ренессанса.
К осени семейство снимается с насиженного места — райского уголка земли — и устремляется в Крым. Но одно дело, когда Иван Владимирович путешествовал сам по себе, и другое дело — целой семьей. Против обыкновения, в Мюнхене Цветаеву приходится взять не третьеразрядную гостиничку, а куда более роскошную второразрядную: отель «Гасснер» на привокзальной улице.
Переезд из Шварцвальда в Крым дался тяжело. Уже в Мюнхене Мария Александровна простудилась. В Вене она три дня пролежала в лихорадке. Из-за ее болезни еще некоторое время семья находилась в Севастополе. И наконец, они добрались до Ялты. Поиск жилья был нелегким: дома тесны, вместо сада — плешь, питание не налажено. А «цены, после заграничных, прямо бессмысленные и бесстыдные»*. Сама Ялта производила отталкивающее впечатление. Многолюдно, грязно, дорого, распутно, противно.
Первые впечатления здесь не в пользу города и приезжего дамского общества. Цены безобразно высокие сравнительно с близким Севастополем, на улицах много грязи, низшее население поражает неопрятностью**.
Цветаев не планировал задерживаться в Ялте, дела давно звали его в Москву. Как только Марии Александровне стало лучше, он направился за железнодорожным билетом, рассчитывая в ближайшие дни быть в Белокаменной. Но на железной дороге «прекратились поезда»: началась всеобщая политическая забастовка, парализовавшая Российскую империю. Масса столичной публики скопилась в осенней Ялте. Город замер в ожидании
* Переписка. Т. 3. С. 270.
** Тамже. С. 271.
Вид Ялты
Начало XX в.
развязки. Магазины, школы, гостиницы, рестораны — все остановилось. В цветаевском пансионе хозяйка встала к плите вместо повара. Дамы взяли на себя сервировку столов. А Иван Владимирович перетаскивал воду из фонтана на кухню, памятуя о том, как носил он воду «по летам, в гору в Тарусе для поливки цветов и овощей»* — из Оки на крутенький бережок в Песочном.
Наконец, 17 октября 1905 года вышел долгожданный манифест, даровавший свободу слова, собраний, личности, учредивший Государственную думу. Народ высыпал на улицы. В городском парке Ялты была организована сходка. По берегу Черного моря, плавно изогнувшись, как похоронная, двигалась революционная процессия с ораторами, их несли на носилках, чтобы лучше видели остальные. Как пишет Цветаев, «наорались... и к обеду... разошлись»**.
Текст манифеста, составленный Витте, начинался словами:
Смуты и волнения в столицах и во многих местностях империи нашей великой и тяжкой скорбью преисполняют сердце наше. Благо российского государя неразрывно с благом народным, и печаль народная — его печаль. От волнений, ныне возникших, может явиться глубокое нестроение народное и угроза целости и единству державы нашей***.
* Переписка. Т. 3. С. 274.
** Там же. С. 276.
*** Тамже. С. 396.
Конечно, государь не по своей охоте ограничил самодержавие конституцией, но все-таки он сделал это, избегая новой крови. Цветаеву казалось, что манифест может стать путем к примирению и обновлению всего уклада народной жизни. В письме из Ялты от 19 октября он дает волю своей гражданской страсти:
Николай II отказался открыто перед всем светом от принципа (самодержавия. — А. С.), в котором он был воспитан и торжество которого он видел в царствование его отца, оставившего России большие запасы золота и не только внутренний и внешний мир, но и сильный престиж нам в международных отношениях. Но времена изменились, отсутствие твердой политики и проходимцы вроде Безобразова и К" втянули Россию в целый ряд авантюр, не оправдываемых с моральной стороны, — и нас напрасно <нами> пренебрегаемый «япошка» сам ударил по лицу, мы не сумели даже дать ему за это сдачи, а в неравной борьбе потеряли города, территории, флот, все запасы золота, вошли в долги и нажили страшные внутренние нестроения и те «неслыханные» и по манифесту смуты, которые не позволяют доселе двинуться с места и нам с Вами (адресат письма — Нечаев-Мальцов. — А. С.) и которые грозили голодом самой Москве от прекращения подвоза съестных припасов. Еще Витте несколько дней назад железнодорожникам указывал на возможность употребить со стороны правительства «военную силу» для подавления смуты и открыто перед ними называл неприемлемой законодательную Государственную думу. А манифест дал то, что казалось невозможным даже смелому Витте! (Видимо, Цветаев еще не знал, что именно Витте составил манифест. — А. С.) Желая избечь кровопролития и вывести страну из невозможного положения, государь не подождал и 4 дней, чтобы этот величайший в истории акт связать с днем восшествия на престол, а соединил его с 17 октября, делающимся отныне на веки веков историческим днем. Что принесет этот манифест России? Многого, по возрасту, уже не увидит ни Ваше, ни мое, на десяток лет младшее Вашего, поколение. Но этот поступательный шаг, очевидно, был уже неизбежен. Прежняя форма государственности, очевидно, изветшала и отжила свой век. Недаром нас позорно побили на войне не одни враги, но и свои интенданты, свои деятели по отделу благотворительности, свои управители во флоте и свои бездарности во главе сухопутных корпусов и дивизий, свои генералы Штакельберги, поехавшие на войну с коровами, чтобы и там пить привычное молоко... и свои дутые герои Стессели, сдавшие крепость врагу, но оставившие себе колоссальный личный багаж... Но глубоко жаль, что этот манифест не явился 1 января 1905 г<ода> — раньше всех тех зол, которые с тех пор мы пережили. Тогда бы не говорили любители «красного» знамени: «Мы вырвали России конституцию»*.
Вскоре Цветаев вернулся в Москву, проделав путь на пароходе через Севастополь. А семейство осталось зимовать в Ялте: лечиться и учиться. Правда, осень 1905 года не располагала ни к тому, ни к другому.
Вслед за «дарованием свобод» прошли обыски и аресты. Черноморский курорт обсуждал не цены на виноград и крымские яблоки, не температуру суши и моря, а восстание броненосца «Потемкин», вести из Севастополя, где лейтенант Шмидт поднял мятеж на крейсере «Очаков».
Маруся, которой исполнилось уже тринадцать, была охвачена революционными настроениями. Домашние замечали ее восторженность и загадочность. Ася вспоминала:
Лейтенант Шмидт! Как звучало его имя в тот год! Как пылали сердца о черноморском броненосце «Потемкин», как гулко неслась весть о гибели людей, шедших на смерть! В хаосе споров о том, не за призрак ли бьются люди, не зря ли кладут свои головы, возможен ли переворот в России... и к чему приведет... как во тьме черноморской ночи над тьмой смертного приговора светлели в душу Маруси глаза героя, обреченного лейтенанта Шмидта.
После вести о суде над ним и о его казни Маруся замкнулась в себе, таила от старших свою потрясенную горем душу. Это была рана. Она не позволяла прикасаться к ней*.
В ученических стихах Маруси (1906 года) уже ясно слышался вызов. В них царила романтика бунта, жажда справедливости.
Не смейтесь вы над юным поколеньем!
Вы не поймете никогда,
Как можно жить одним стремленьем, Лишь жаждой воли и добра...
Вы не поймете, как пылает
Отвагой бранной грудь бойца, Как свято отрок умирает, Девизу верный до конца!
Так не зовите их домой
И не мешайте их стремленьям, — Ведь каждый из бойцов — герой! Гордитесь юным поколеньем!**
* Цветаева А. И. Воспоминания. С. 195.
** Цветаева М. И. Собрание сочинений. Т. 1. С. 9.
Центральная лестница Музея: начало облицовки боковых стен Ноябрь 1905
3
По возвращении в Москву Иван Владимирович занялся музейными делами.
Он продолжает хлопотать о вознаграждении Армбрустеру, чей мраморный фриз для Музея знатоки считают чистой поэзией. Он радуется продвижению работ на парадной лестнице, которая растет по ступеньке в день, а богатством материалов и «сочетаний цветов мраморов» обещает быть единственной в России.
К 15 ноября закончена облицовка мрамором фасадов, все помещения перекрыты железными стропилами. Колоннада главного фасада увенчалась медной черепицей. В окнах поставили железные переплеты и временные стекла. Внутри уложили мраморные ступени трех маршей парадной лестницы. Оштукатурили двадцать зал. В одиннадцати выложили мозаичные полы...
Остатки баррикад на одной из улиц Москва. 1905
А Москву охватило вооруженное восстание.
11 декабря оказался самым тревожным днем. С небольшим промежутком Иван Владимирович послал Юрию Степановичу в «Славянский базар» два письма о событиях, свидетелем и жертвой которых стал он сам.
Мне очень больно, что в эти тяжкие дни я лишен возможности навещать Вас, больное сердце которого должно страдать, ввиду столь грозных событий, еще сильнее, еще мучительнее. В музей являюсь я первым на службу и последним оставляю его. Чины потеряли спокойствие, предаются многие унынию и прямой трусости. Просят о закрытии учреждения в ожидании, что придут повстанцы-рабочие и силой заставят закрыть музей. Без прямого повода и насилия я сделать этого не могу; наше учреждение не торговое и не промышленное, рабочих у нас нет, а служители на положении домашней прислуги. К тому же и читальный зал в эти дни полон занимающейся публикой. Даже вчера, в эту страшную для Москвы субботу, когда то и дело носились залпы больших орудий, когда в окнах музея дрожали <стекла>, работы в читальном зале продолжались непрерывно до 3 часов, — и я сам был свидетелем того, как носили из библиотеки массу книг в отделение читальной. Это углубление в науку и литературу в часы канонады было тем поразительнее, что чиновники выказывали трусость.
Почтамт прислал предложение получить через уполномоченного большую корреспонденцию и тюки с книгами, накопившиеся в течение несколько (так! — А. С.) недель забастовки почты. И что же? Какие перекоры пошли между библиотекарями о том, кому ехать на Мясницкую! Один сознается, что у него болит желудок,
Остатки баррикад на одной из улиц Москва. 1905
другой уклоняется под предлогом старости, третий говорит, что не его черед, о четвертом доказывают, что у него всегда болит живот. Высказали было мнение, что не послать ли на почту одного служителя, который-де и привезет все на извозчике или двух. Мне показалось такое укрывательство чинов за спину служителей прямо противным, и потому я предложил послать лицо по старшинству службы. Когда форменно отказались двое, остановились на третьем. Он отсутствовал в прежнем обсуждении и, явившись, согласился ехать в ближайший присутственный день безо всякого колебания. Но зато и минуты не медлили письмоводители канцелярии; те, бедняки, получающие по 25 руб<лей> в месяц, решили этот вопрос в одну минуту. И живут-то они от музея далеко.
Вчера, в 4-м часу, возвращение домой для меня было затруднительно. Извозчик долго колесил по разным переулкам, пока не добрались до Трехпрудного, уже попавшего в боевой район. Пока действуют повстанцы: убит драгун-разведчик, лошадь его пронеслась мимо наших окон. В соседних переулках, Мамоновском и Палашевском, говорят, убиты или ранены два другие драгуна. Ворота нам приказано держать на запоре (штрафы от 500 до 3000 руб<лей>). Утром я выхожу рано, пока просторно на улице; но завтра возвращение будет затруднительно. В соседних переулках с нашим уже баррикада. Придется, может быть, ночевать в музее. Я бы, может быть, пробрался к Вам пешком пораньше утром, около 9 час<ов>, потому что в 10 я должен быть в музее. Да хранит Вас Господь, хранит Ваше сердце!*
Баррикады на Малой Бронной, Арбате и Лесной улице в Москве Фотографии из журнала -Нива» (1905. 31 декабря. №52)
Оценив серьезность положения, Иван Владимирович на обороте счетов за экспонаты пометил, у кого спросить деньги, и впервые добавил, при каких обстоятельствах: «На случай моей смерти»*.
Далее последовало продолжение предыдущего послания:
События нынешнего дня развиваются с необычайной быстротой. Прошел один час после того, как я окончил письмо к Вам, — и вот мой дом подвергся нападению не только черни, но и хорошо одетых молодых женщин и девиц. Громят ворота и разрушают надворные постройки, вырывая отовсюду доски для баррикады, устраиваемой прямо против нашего флигеля. Ворота были заперты, начали их бить и ломать. Во избежание худшего пришлось отпереть. Сейчас ворота уже поперек переулка, и из нашего двора сделана улица. Входит всякий, кто хочет. В разгроме всех ворот по Трехпрудному участвует не одна чернь. Вон сейчас у меня вырывают доски, которыми обшиты сторожка и кухня. Теперь 1 <час> пополудни. Переулок перерезан несколькими баррикадами. Все фонари и фонарные столбы уничтожены. Бьет фонари чернь, наш фонарь разбил на глазах у меня ничего не стоящий парень, скверно одетый, нахального вида. Не могу отослать детей в Р<умянцевский> музей, где бы они могли найти приют на эту ночь. Боимся пожара, так как в нашем переулке и по соседству строения все деревянные. Чтобы не раздражать толпы, работающей над устройством заграждений, нахождением нашим в передних комнатах, мы перешли в задние, выходящее на двор. Не знаю, оставаться или уходить, пока можно, бросив всё на произвол судьбы — книги, мебель. Платья немного, богатств денежных 17 руб<лей>, которые легко укладываются в одном кармане. Мне хочется остаться одному, детей же услать, пока или, вернее, если не поздно. Говорят, что загражденья возводятся во всех соседних переулках. Заграждения построены, в устроенное у меня пошла даже собачья конура — и ту унесли, собрали и унесли мостки, лежавшие на нашем низком и сыром дворе. После оживления настала прямо мертвая тишина, строители (сейчас дворник сказал мне, что хорошо одетая женщина, участвовавшая в разрушенье наших ворот, — публичная девка, живущая в соседнем, Козицком, переулке: вот какие союзники у гг. социалистов, создавших движение московских рабочих!) умчались, а публика, услышавши стрельбу на Малой Бронной, попряталась по домам. Нет, ныне нам не выйти из дома. О выезде, об извозчике нечего и думать. Говорят, целая сеть заграждений по всем улицам и переулкам нашего района**.
На следующий день Иван Владимирович продолжает:
* Переписка. Т. 3. С. 400.
** Там же. С. 283-284.
Ночь прошла без сна, забылся только от 2 до 4 часов. Огни не по-тушались в доме, во флигеле и в сторожке до рассвета. Дворник, жильцы флигеля то и дело расхаживали по двору. На улице ни одного фонаря. К утру мчавшиеся на извозчике какие-то люди разломали вместе с извозчиком наше заграждение и уехали дальше: должно быть, вестники революционной партии. В 8 часов, оставивши всё, мы помолились и вышли из дома. Пришлось до Спиридоновки пробираться через массу «баррикад»; возле каждой оставлен узенький проход. Мятежников за ними нет; это не батареи, а только заграждения путей для войска. По дороге мы разделились, я с дочерью (Дёрой. — А. С.) пошли в Р<умянцевский> м<узей>, сын и племянница — на Собачью площадку к нашей родственнице старушке, вдове священника. С 9 мы в Р<умянцевском> м<узее> и устроились здесь до лучших времен. Музей пришлось закрыть; ни чины из дальних мест города приходить не в состоянии, ни публика в такие дни не решается являться сюда. Соседнее здание Казенной палаты оберегается военной силой, по Моховой и 2 минут не проходит без того, чтобы не наехали патрули, не двигались туда и сюда солдаты. Это — главный коммуникационный путь между Манежем и Хамовническими казармами. Масса тут бегает и сыщиков той и другой стороны. Один из наших чинов был в Главном штабе, где он служил до сих пор, — и там ему сказали, что замечена на Моховой какая-то, но враждебного характера сигнализация с крыши одного высокого дома. Я сейчас же воспретил чинам, живущим в музее, восхождение на бельведер и обязал смотрителя взять ключ от него к себе. Долго ли до греха; с чинами и их семьями заберутся и знакомые, направление которых никому неизвестно. В наше революционное время не то что за знакомых, за собственных детей, при развращающем влиянии некоторых учителей и литературы, ручаться нельзя. Даже их внутренний мир сокрыт от родителей. Идеи поднятия угнетенных судьбою рабочих и всех низших классов населения, идеи социализма так заманчивы для юных умов и сердец, что наивная молодежь, воображающая, что она впервые придумала облагодетельствование этими мечтаниями всех угнетаемых нуждою, думает провести в жизнь эти утопии. А люди злой воли и широких аппетитов пользуются этой маниловщиной юных реформаторов для своих честолюбивых целей. И такого рода господа сидят на учительских местах в средних учебных заведениях. Коноводы социализма и революционного движения, печатающие в газете «Борьба» (большевистской. — А. С.) свои возмутительные прокламации или манифесты стачечников, — один, некто Рожков, приват-доцент Университета и преподаватель Коммерческой академии, и Покровский, магистрант русской истории, развраща<ющий> своим влиянием девиц одного из здешних женских институтов, и власти терпят этих совратителей доверчивого юношества. Какое смутное время! Но вместе и какое безголовье московских администраторов, следовавших за смертью великого князя Сергея Александровича! Козлов был необыкновенно плох и как обер-полицеймейстер, а на генерал-губернаторском посту (московском. — А. С.) он стал прямо беспомощен и комичен, так что стало непонятным, зачем дали ему высокое звание генерал-адъютанта. Дурново (министр внутренних дел. — А. С.), вместе с ленью,
трусостью и неспособностью, вместе с привычкой хорониться от подведомственных ему лиц, привез, в неудобное для амуров время, с собою танцовщицу, словно надсмехаясь над тем общественным контролем, под который поставило его высокое положение. В военное и революционное время, время всяческих отечественных потерь и бесчисленных страданий, эти публичные амуры старика явились издевательством над вверенным ему ответственным делом. Что мудреного, когда в его лице издевались другие над испорченностью и неспособностью нашей высшей бюрократии. Такие амурничающие лежебоки в образе представителей особы государя только роняют значение императорской власти в глазах страны. Их бездействие усиливает уверенность крамолы, доходящей теперь до не слыханных давно-давно разрушительных действий и насилий прежде всего над мирным населением. Сердечно и от всей души желаю Вам возможно спокойного отношения к гнусной действительности, нас окружающей. Берегите Ваше сердце!*
Вооруженное восстание было подавлено. Для поколения «отцов» это стало актом законного возмездия, для поколения «детей» — гибелью идеалов свободы.
Было утро.
Простор
Открывался бежавшим героям.
Пресня стлалась пластом И, как смятый грозой березняк, Роем бабьих платков
Мыла
Выступы конного строя
И сдавала
Смирителям
Браунинги на простынях**.
Под новый, 1906 год Цветаев уехал в Тарусу — отойти от недавних потрясений. Подводя итоги пережитому 1905 году, он писал Нечаеву-Мальцову:
Спешу из обычного моего святочного приюта принести Вам, со всей Вашей милою семьею, наилучшие и самые искренние пожелания к Новому году, который авось не будет для всех нас таким невообразимо, небывало тягостным, каким был его непосредственный предшественник. Быть лучше его новому году так легко, так сравнительно просто. Будем молиться и ждать прекращения или, по крайней мере, облегчения наших зол. 1905 г<од> был для нас совершенно траурным, исключительно несчастным годом. Начало
* Переписка. Т. 3. С. 284-285.
** Пастернак Б. Собрание сочинений: В 5 т. М., 1989. Т. 1. С. 305.
его по западному календарю и канун его по нашему принесли нам бессмысленный пожар Музея, унесший 15-летними исканиями и поклонами добрым людям добытые художественные коллекции, цена коих исчислена в 40 т<ысяч> руб<лей> и за которые придется нести ответ перед университетом. Март внезапно лишил нас навсегда великого князя, симпатиям и авторитету которого Музей обязан очень большой долей своих успехов. Похищенный злым роком был для нас таким нравственным центром, к которому мы — люди, ближе к делу стоящие, — всегда сходились и тяготели во всех случаях и моментах более важного значения. И едва ли может быть сомнение в том, что и он сам смотрел на вздымавшийся в столь изящных формах и в столь монументальном камне Музей как на лучший памятник своего управления Москвою. Замкнутый и не обладавший даром плавной речи, с каким жаром он выражал, по моем возвращении из-за границы, свой восторг всем виденным на постройке. Он утверждал, что этот Музей будет, по изяществу форм и по массе дорогих материалов, одним из первых в свете среди однородных учреждений, т<о> е<сть> музеев скульптуры в слепках. И грядущие судьбы этого дела, если бы великий князь был с нами, были бы так или иначе обеспечены. В течение всех 12 месяцев 1905 год непрерывно терзал наши нервы всё только тяжелыми сюрпризами, когда кончилась одна роковая для спокойствия России война и началась другая: этой же братоубийственной резни со всеми злодеяниями и конца пока не видно. Господи, какое ужасное время ниспослано нам! Этот напор всех несчастий и зол сломил Ваше здоровье. Видя Вас болеющим в первый раз, я с горем в сердце замечал, как Вы постепенно худели, как теряли Вы присущую Вам обычную бодрость, как бессонницы и печальные думы и чувства подтачивали Вашу энергию. Но, благодарение Богу, крепкая природа взяла верх над гнетущими впечатлениями: в последние две недели дело пошло на весьма значительное улучшение. Разница между худшими днями болезни и временем Вашего отправления в Петербург была уже колоссальна. Пребывание в родной обстановке, я хочу надеяться, продолжает оказывать на Вас свое благодетельное влияние. Пошли Вам Господь полное исцеление! В январе мне придется быть в Петербурге, явлюсь к Вам*.
Переписка. Т. 3. С. 286-287.
Глава седьмая
ДЕТИ
Семья воюет, а один горюет.
Пословица
Все и каждый
Отъезд из Ялты. «Ока, Ока!» Прощание с мамой. — Правда или поэзия? Дедушка Иловайский и его «Подушка для иголок». —
Асина любовь. Мусина страсть. Эскорт Чародея.
Нерусский русский генерал 12-го года
1
Семейные «нестроения» в жизни Цветаева начались давно. Уход Вавы стал катастрофой для Ивана Владимировича. Время и второй брак сгладили ее остроту, но болезнь Марии Александровны снова обострила ситуацию до предела. Фактически семья распалась. Старшая дочь Лёра давно жила своей жизнью, разделяя революционные настроения сверстников. Андрей был в Трехпрудном у отца или в Пименовском у деда. Мария Александровна боролась с чахоткой в Нерви, в Санкт-Блазиене, в Ялте... Младшие дочери перекочевывали из страны в страну, оставаясь при матери.
Иван Владимирович благодарил Бога, что хотя бы лето мог проводить с женой и младшими дочерьми, но утешением это было слабым. Он беспокоился, хватит ли ему жизни, чтобы вырастить младших, и писал Помяловскому в августе 1903 года:
Мне нужно еще 12 лет, чтобы младшие мои дети стали взрослыми. А когда прибавить к 56-ти эти 12, то выходит канун 70-ти лет, редко-редко достающийся людям нашего круга. Боже мой, сколько профессоров, ученых и педагогов, на моей памяти, умерло около 60-го года! Эти люди редко переживают период 60-65 лет, а больше валятся на 61-62 годах. У меня давнишняя боязнь этого времени.
Я с Андрюшей живу здесь с начала ученья в гимназиях. Он гложет корни ученья, которые, по изречению прописей былого времени, горьки. Но и плоды даже долгого учения не сладки. Я, воздвигая громадную храмину для Музея и любуясь разведенной на Колы-мажной площади, сверкающей снежной белизной, московской мраморной Каррарой, чуть не сделался свидетелем коленопреклонения собственного жилища на соседний тротуар. Дом наш до того подгнил, что грозил «завалиться»; оказалось, что 1 '/2 наших бревна совсем сгнили, обратившись в труху, которую выбирали просто горстями, а фундамент развалился. Когда отодрали обшивку, то ахнули и диву дались, как мы до сих пор могли жить на таких полах. Сгнили и накаты. Оттого в нашей квартире и был собачий холод, создавший нашему дому плохую репутацию зимою.
<...> Воистину, сапожник без сапог, портной без сюртука, а музео-ург — на сгнивших полах и с печами, не дающими тепла*.
Временные улучшения состояния здоровья Марии Александровны сменялись новыми приступами болезни. Тогда Иван Владимирович оформлял командировку или брал отпуск и выезжал к жене. Так было и весной 1906 года, которую он встретил с Марией Александровной в Крыму. Кажется, все методы лечения, все лекарства, лучшие санатории и курорты Европы были уже перепробованы. Призван в помощь опыт европейских светил. Но перелома не наступало. Круг забот и печалей только ширился.
В апреле Цветаев сообщает из Ялты в Москву Клейну:
И самого слабого утешения не принесла мне почти совсем распустившаяся в своей зелени южная весна, не подарила никаким радостным чувством и теплая здесь Пасха. Семейное горе все собой заслонило и заполонило все мысли и чувства, для которых, по-видимому, нет ни просвета, ни надежды на лучшее будущее в сфере семейной**.
Ялтинский врач, безуспешно перебрав всю здешнюю аптеку, заговорил о Божьей помощи — на нее вся надежда... Между тем в Ялте нашелся один лекарь — «очень смелого характера еврей, который так „отделал" М<арию> А<лександровну> за ее уныние и отвращение от пищи, что больная сразу же поддалась этому „внушению". Он заверил ее, что она больна не столько туберкулезом, сколько истерией и что от нее зависит взять себя в руки и, прежде всего, есть.
...Теперь мы серьезно собираемся двинуться в Тарусу, — писал Цветаев, — и авось эта надежда исполнится...»***
* Цит. по: Соснина Е. Б. Музы Трехпрудного переулка. С. 268-269.
** Там же. С. 206.
*** Там же. С. 208.
И она — исполнилась.
Ася напишет:
Я не помню городов, мимо которых мы ехали в двух- или трехдневном пути, — помню одно, как мы подъезжали на лошадях к Тарусе!.. <Мама> улыбается нам какой-то восхищенной улыбкой. На ее бледном, усталом от трудного ей пути лице карие глаза блестят неописуемым блеском. Кончен долгий путь ожиданий, надежд... Призраки этих лет, мест, встреч кончаются об этот жаркий июньский час, об эту бегущую, шелестящую зелень, рощи орешников, о песчаные овраги, ветви дубов, о серебряный трепет осин... Те же деревни. Точно не было этих лет! Так же пылит большак, перерезанный кудрявым узором теневых веток, так же бегут с лаем собаки, так же, застясь рукой, смотрят вслед бабы, загорелые, как земля, и желтоголовые ребятишки, спугнутые лошадьми, бегут прочь. Мы глотаем это всей жадностью глаз и сердца, узнающего, тянущегося к вновь увиденному своему, и глядим на маму, в которой отражается наш восторг. Мы не верим, что это мы! Мы так ехали столько лет назад, в то последнее русское лето с Киской (Марией Генриховной — русской немкой, гувернанткой. — А. С.), когда еще здорова была мама, когда еще ничего не было, что пришло потом...
Привал... Нам несут молока, — те же рыжие крынки! Черный теплый хлеб разламывается, как лепешка. Пахнет дымом, жильем. Присмиревшие собаки, отогнанные, ушли, ворча; широким шатром лежит на дороге тень от дома, слившаяся с тенью березы.
И вот уже и это — сон, и снова дребезжат бубенцы, возвещая полям, что мы едем, — и уже близятся очертания другой деревни.
Прудок, утки, купы деревьев, крутой спуск дороги, осыпающаяся колея, скрежет наклонившихся колес — минутный страх — вынесло! Снова рысцой бегут лошади... Бубенцы, поля, бубенцы...
— Едем, едем! — заливчато звенели они, все ближе к заветным местам, и дух захватывало от краешка далекого поворота, за которым откроется — вот сейчас, вот сейчас — знакомый ландшафт! Тетя, глядя на нас, плакала. Глаза впивались. Голос пресекался. Ноги рвались бежать, перегнать коренника, пристяжную, сердце билось, как птица, где-то под горлом... Мама улыбается. В ее улыбке и жалобное и удалое. Колеса тяжело въезжают в светлый речной песок. Потянулись речные кусты, повеяло сыростью. Горы кончились. Она с нами, невидимая еще, но уже все полнящая, и когда мы уже нацело забыли леса и холмы, предали их и безраздельно предались ей — когда от внезапной прохлады, от водного ветра, рвущего за уши, волосы, шляпы с голов, лицо опьяненно плывет, ей навстречу — тогда, всегда вдруг (о, чудное слово!), как ни жди, как ни дыши, как ни нюхай, — вдруг взблескивало вдали узкой, узчайшей полоской, непомерным меж землей и воздухом блеском, и он начинал расплескиваться — и там, за кустами, и там... и дикими от упоения голосами мы закричали: „Ока, Ока!“»*
Цветаева А. И. Воспоминания. С. 210-211.
Семья воссоединилась в Тарусе на даче Песочное. Вечером за столом собрались все: мама, папа, Тьо, Лёра, Андрей, Марина, Ася.
После чая мама села за рояль и играла долго, с прежней силой, с прежним блеском... Но это был ее последний концерт.
С радостью узнала она, что Андрюша, единственный человек в семье, не приученный к музыке, самостоятельно выучился играть на гитаре и мандолине. Мама решила оставить ему свою гитару, и все обратили внимание на то, что сказано было — не подарю, но оставлю...
Стояло жаркое лето. На Оке трубили пароходы, а в доме пахло жасмином и лекарствами. Мария Александровна уже не поднималась. Ее поили бульоном, давали шампанское для поддержания сил. Доктор Иван Зиновьевич Добротворский выписал ей из Москвы сестру милосердия.
В один из первых дней июля Мария Александровна сказала Асе и Марине:
— И подумать, что какие угодно дураки вас увидят взрослыми... — И после паузы: — Мне жаль только музыки и солнца!*
Марина вспомнит с горьким покаянием:
Она умирала, окруженная полной бессердечностью своих детей: я тогда любила Спиридонову (эсерку-террористку. — А. С.) и Шмидта и ненавидела ее (мать. — А. С.) за то, что она не давала мне читать «Русскую историю» Шишко (революционного публициста, народника, каторжанина. — А. С.), — Ася бредила подъемными машинами, Эдисоном и резала свистульки с мальчишками сторожа. — Валерия ненавидела ее (мачеху. — А. С.) за то, что она ненавидела с<оциал>-д<емократов>, Андрей просто был равнодушен. Ухаживала за ней горничная Даша в ярко-красной — как сейчас флаги — кофте, тоже с<оциал>-д<емократка>. — Валерия учила ее на сельскую учительницу, и она ела «то же что мы». В последние дни — дня два — при ней была сестра милосердия — маленькая, с лицом мыши, возбужденная, дразнившая Андрея, к<отор>ый лениво звал ее «сестричка», хихикающая, суетливая, — какая-то нечисть у смертного одра.
Горевал только папа — старый, добрый, непривычный к выражению своих чувств**.
За день до последнего часа Мария Александровна позвала дочерей, чтобы проститься с ними. Об этом написала Ася:
* Цветаева М. И. Собрание сочинений. Т. 6. С. 122.
** Там же. С. 45.
Сначала Марусе, потом мне мама положила руку на голову. Папа, стоя в ногах кровати, плакал навзрыд. Его лицо было смято. Обернувшись к нему, мама попыталась его успокоить. Затем нам:
— Живите по правде, дети!.. Ну, а теперь идите гуляйте... Ведь нехорошо здесь...*
В последнее утро она почувствовала: начинается агония. Папа или Тьо предложили ей причаститься. Она отказалась.
Лёра увела девочек на опушку леса собирать орехи, чтобы как-то отвлечь. Там их нашла кухаркина дочка. Она отозвала Лёру в сторону и что-то ей проговорила. Лёра вернулась к сестрам, положила им руки на плечи и сказала:
«— Умерла мама... Пойдемте домой»**.
И хотя вокруг Марии Александровны был целый дом близких, в самый последний момент она оказалась одна. Дочери гуляли в лесу, Иван Владимирович спал, измученный недельной бессонницей. «Пока сестра милосердия разбудила его и он встал — все было кончено. — Она умерла совсем одна. — Последнее, что она пила, было шампанское»***.
После того как девочки вошли в дом, их попросили подойти к постели.
Из воспоминаний Марины:
Мы остановились в смущении.
— Встаньте на колени. — Мы встали, потом поцеловали руку.
Я спросила у сестры милосердия:
— Это она сама так их сложила?
— Нет, — отвечала та со смехом, — разве живой так руки складывает? Это мы так сложили.
И потом:
— Что ж это ваша мамаша не дала за собой поухаживать? Взяла да померла!
Вечером в столовой шили платье: жена земск<ого> врача, папина родственница, горничная Даша, из принципу не снявшая красной кофты — и никто ей ничего не сказал! — Валерия — и даже я, с внезапной жалостью думая, как бы мама умилилась, узнав, что я для нее шью.
Было темно. Папа плакал. Родственница с грубоватой добротой утешала его, уговаривала есть. Андрей — с той же неумелой добротой — подбрасывал Асю к потолку, называл «двухлеткой» и «голова пухнет» — чтобы развлечь.
На др<угой> день приехал из Москвы человек со льдом. Они с сестрой милосердия безумно хохотали в кухне****.
* Цветаева А. И. Воспоминания. С. 219.
** Тамже. С. 220.
*** Цветаева М. Неизданное. Записные книжки. Т. 2. С. 45.
**** Там же. С. 46.
Иван Зиновьевич Добротворский
Начало XX в.
После похорон в Москве на Ваганькове Иван Владимирович увез Асю в Тарусу. Они жили на даче, постоянно бывая у Добротворских — те их опекали. Иногда Ася в гостях садилась за желтое фортепиано, которое называла роялем без хвоста.
Однажды мы — папа и я — были у Добротворских. Обедали. Вдруг папа стал как-то странно клониться вбок над тарелкой — сидя падать. Мгновенно бросились к нему Иван Зиновьевич и Елена Александровна, поддержали, но он падал, и они, подхватив его под руки, полуповели-полупонесли в кабинет дяди Вани (Ивана Зиновьевича) — маленькую комнатку за залой, где был письменный стол, диван и книги. На этот диван они уложили папу. С ним случился удар.
Добротворские взяли меня к себе. Сколько я прожила у них — я не знаю. Папа болел, дядя Ваня (как теперь и я звала Ивана Зиновьевича) лечил его, выжидая возможность перевезти в Москву. Так полтора или два месяца спустя папиных рыданий у постели мамы его здоровье рухнуло. Ни переезда нашего в Москву, ни первых дней в московском доме — не помню. Папу положили в клинику. В доме жили Лёра, Андрюша и Люда (дочка Добротворских. —
А. С.). Я жила с ней в бывшей детской, где мама мечтала устроить нам две комнатки, разделенные занавеской, Марусе и мне... Маруся жила в интернате.
Была осень 1906 года. Нам минуло четырнадцать и двенадцать лет*.
2
Иван Владимирович одинаково любил своих детей, и никому в голову не приходило спрашивать, кого больше. А маму Асенька часто мучила вопросом, кого она больше любит: Мусю или ее, Асю? И ответить на этот вопрос было Марии Александровне тем трудней, что он оказывался совсем не праздным. Мать гордилась своей старшей дочерью, но более тяготела к младшей. Что же касается Лёры, то полюбить ее она так и не смогла. Слишком многое в Лёре напоминало Марии Александровне о Ваве, вызывая новые приливы ревности.
Валерия вспоминала: «Грубых, обидных наказаний ко мне (со стороны мачехи. — А. С.) не применялось никогда, но и тепла, ласки никогда не было. Получилось между нами отчуждение, и я стала как-то дичать»**.
Для Андрея и тем более младших сестер Лёра была слишком взрослой, потому большой близости между ними быть не могло. В детстве Лёра из чувства справедливости в какой-то мере смягчала для них строгость материнского воспитания, «просвещенный деспотизм» Мейнов.
Внешне похожий на Варвару Дмитриевну, Андрей отличался красотой и скрытным, замкнутым характером, скупым на проявление чувств, но, по словам старшей сестры, «природу любил чутко, с детства привык ее понимать»***.
Ася обращала внимание на то, что Андрюша — другой, не такой, как они с Мариной. «Никакой лирики», никакой страстной любви к собакам и кошкам. Ни прошлое, ни будущее его не волнует. Он умеет — «одним штрихом —очертить человека»****, но людей сторонится. Друзей у него нет. По наблюдению Аси, Андрей больше всего любил музыку. Эту любовь он воспринял по наследству от матери и несказанно угодил ею мачехе. В то время как она постоянно заставляла родных дочерей осваивать фортепиано, пасынок — без всякого принуждения — овладевал одним струнным инструментом за другим: балалайка,
* Цветаева А. И. Воспоминания. С. 224.
** «Безо всякого вознаграждения...». С. 107.
*** Там же. С. 139.
**** Цветаева А. И. Воспоминания. С. 23.3.
Валерия, Ася и Марина с коньками-«снегурками» 1901-1902 (?)
мандолина, гитара... Он еще и Асю учил на них играть. Но все же брат казался сестрам каким-то угрюмым и насмешливым.
В глазах старшей сестры Марина за первые шестнадцать лет своей жизни претерпела эволюцию от тяжеловесной, неловкой, по-деревенски круглощекой девочки в круглых очках до интересной золотоволосой гимназистки, впрочем, совсем не прилежной в учебе. С детства она «неподатливым, грубоватым» характером защищала от внешних посягательств собственный внутренний мир. Была вспыльчивой спорщицей — в мать, но в отличие от матери не признавала никакого долженствования (кроме навязанных ей занятий музыкой), жила исключительно своими желаниями, игрой собственного ума и собственных фантазий. Одно время Лёра была кумиром для маленькой Муси. Но с годами их пути расходились, и, по-видимому, так же, как мачеху раздражала в Лёре схожесть с Варварой Дмитриевной, так Лёру стала раздражать в Марине схожесть с матерью. В конце концов, Лёра пришла к выводу, что замкнутая в своем книжном мире Марина совершенно не ориентируется в жизни. Это выражалось «в непонимании (до странности) реального окружения и равнодушии к другим»*.
Мальчишеские ухватки Аси, ее подвижность, находчивость импонировали самой старшей сестре, но ее дерзость, детский настойчивый плач, желание выклянчить себе все самое лучшее, видимо, настолько надоели Лёре в детстве, что сделали общение затруднительным.
Лёра, уступавшая сестрам в литературном даровании, о чем свидетельствуют ее «Записки», так рано обделенная счастьем материнской любви, преклонялась перед талантами мейновских «дам», но жить с ними было нелегко. Вместо «грации иного прикосновения к жизни», исходившего от изящной и нежной Вавы, дамы Мейн являли душевный мятеж и жесткость суждений.
«Сестер (Марину и Асю. — А. С.) сближала с их матерью общая одаренность, мучительная тяга к чему-то, надрыв в горе и радости... Надрыв, приводивший к поступкам исступленным, часто общая для них всех трех субъективность восприятия... и эгоцентризм, безотчетно переходивший в холодный цинизм...»**
Иван Владимирович не мог и не хотел разбираться в семейных противоречиях. Сколько умел, смягчал их, но, бывало, и сам мог вспылить на детей за их вмешательство в порядок (или понятный ему одному беспорядок) в его кабинете;
* «Безо всякого вознаграждения...». С. 139.
** Там же. С. 140.
за их нерадение к учебе, которое воспринималось им особенно болезненно, как личное оскорбление. Учение, наука были для него святы. Неужели он пробивался с Талицкого Погоста сквозь духовное училище в Шуе, Владимирскую семинарию, Петербургский университет от азов уездной латыни к монографиям о Таците и оскских надписях, чтобы его — профессорские — дети презирали латынь как бесполезную архаику, не учили греческий, гнушались естественными науками?!. И тогда он бежал в университетские аудитории, в Румянцевский музей, на Колымажный двор, где возводил рукотворный памятник своему любимому уголку земли и любимому времени — афинскому Акрополю поры Парфенона.
Пользуясь на всех многочисленных работах высокой репутацией, заслуженным уважением и почтением сослуживцев, дома Иван Владимирович пребывал отчасти в положении старого слуги, чеховского Фирса, про которого господа в суматохе просто забыли. О своем очередном дне рождения он уже поведал в письме Помяловскому. Но от «обычного» праздника ничем не отличался и юбилей — 50-летие заслуженного профессора Московского университета тайного советника Цветаева.
После утреннего чая юбиляр буднично и смиренно работал у себя в кабинете в Трехпрудном. Кабинетом с некоторых пор ему служила проходная гостиная — итог перестановок, осуществленных Марией Александровной. С утра посыпались звонки в дверь — это друзья и сотрудники спешили поздравить профессора.
Их ожидала странная картина: никаких следов праздника в доме видно не было. Ни цветов, ни особой прибранности, ни радостного оживления домочадцев. «М<ария> А<лександровна> в затрапезном своем на вате стеганом мужском халате не выходила из задних комнат и только удивлялась количеству звонков»*.
Все это вызывало в гостях «грустное недоумение».
Зная мягкость Ивана Владимировича, его терпеливость, великодушие, можно было думать, что эти качества, увы, не передались его домашним.
Больше других страдавшая от семейных «нестроений», Валерия вспоминает о том, что непоправимым злом в Трехпрудном доме было отсутствие обязательной и привычной заботы об отце, не слыхавшем спасибо от детей и жены, не видавшем от них ни ласки, ни внимания. Лёра обвиняла мачеху в нелюбви к отцу, в то время как взрослая Марина, напротив, считала, что мать любила Ивана Владимировича всей душой.
Цветаева А. И. Воспоминания. С. 127.
Из четырех детей Цветаева, на наш взгляд, наиболее достоверным было бы мнение Андрея. «Просвещенный деспотизм» Мейнов коснулся его менее других. Он даже музыке учился по собственному желанию, а не по принуждению Марии Александровны, четыре года прожил в семье деда Иловайского и на свою — цветаевскую — семью смотрел как бы со стороны. Но разговорить Андрея было нелегко.
Валерия, как пострадавшая от мачехи сторона, видела в жизни дома в первую очередь семейные неурядицы, виной которых считала вторую жену отца, а причиной — отсутствие у нее любви к мужу. Как человек весьма скромного литературного дара, Валерия была лишена и художественного воображения, вредящего достоверности. Если она о чем-то пишет, значит так оно и есть. Но беда в том, что старшая сестра не способна анализировать события и характеры, а потому ее интерпретации и выводы могут быть односторонними.
Ася — настоящая писательница-мемуаристка. В своих воспоминаниях она не просто фиксирует события, но погружает читателя в ту эмоциональную среду, в которой эти события протекали. Ряд фрагментов ее воспоминаний написан с литературным блеском, достойным лучших образцов русской прозы. Значит, вполне доверять им нельзя. Они выражают правду Асиного восприятия, и не более того.
Марина вообще не понимала, что такое правда и зачем она нужна. Материнское предсмертное завещание: «Живите по правде, дети...» — не вызывало в ней ничего, кроме недоумения. Ее, как поэта, поиски правды совершенно не интересовали: для нее суть не в правде, а в личном впечатлении. Поэтому самыми недостоверными следовало бы признать воспоминания Марины, если под достоверностью иметь в виду строгость документа, а не остроту эмоционального или интеллектуального отклика.
С Валерией средняя сестра спорит потому, что они говорят о разной любви между мужчиной и женщиной. Того молодого, необоримого тяготения плоти, которое имеет в виду Валерия и которое было у Ивана и Вавы, во втором браке, наверное, не случилось. Не было и постоянной душевной радости, Христовой «веселости духа», когда все счастливо совпадает, когда удары одного сердца эхом отзываются в другом. Но была любовь — долг, обоюдная присяга верности — их отстаивает Марина; было претерпевание любви: за те добродетели, которые нельзя было не заметить в Иване Владимировиче, Мария Александровна терпела, скажем, его непонимание музыки или узкий, по ее мнению, интерес к поэзии; а он за те добродетели, которые видел в жене, терпел
обуревавшие ее страсти. Неприятие обывательской жизни, ограниченной рамками физического и душевного комфорта, вначале находило себя в отвлеченном протесте, в абстрактном желании плыть «против течения», но постепенно Мария Александровна влилась в «общее дело» — в создание музея языческих и христианских шедевров, и ее чувство к мужу обрело новое качество любви-сотворчества. Наконец, его забота о ней и о детях не могла не вызвать любви-благодарности человеку, для которого семья была высшей ценностью наряду с гражданским служением.
На всех детей Цветаева, без сомнения, сильно влиял дедушка Иловайский. Марина запомнила внешний облик деда:
Это был красавец старик. Хорошего роста, широкоплечий, в девяносто лет прямей ствола, прямоносый, с косым пробором и кудрями Тургенева и его же прекрасным лбом, из-под которого — ледяные большие проницательные глаза, только на живое глядевшие оловянно*.
Но главным знатоком жизни дедушкиной семьи был брат Андрей.
— Странный у деда дом, — рассказывал Андрей, — топят снизу и всегда ночью, босиком — ступить невозможно, танцуешь, как в аду! (У Цветаевых было ровно наоборот: вверху жарко, а внизу от гнилых полов тянуло холодом. — А. С.) А сам дед спит на чердаке, в самый мороз с открытой форткой, — и Надю с Сережей заставлял, может быть, оттого они и умерли. И ничего не ест, за целый деньтри черносливины и две миски толокна. И всю ночь не спит — и ей (жене. — А. С.) не дает — либо пишет, либо ходит, как раз над моей головой, — все взад и вперед, взад и вперед. Перестал — значит, пишет. Я в гимназию — он спать, прихожу завтракать — уж опять пишет. И чего это он все пишет? Доведу, говорит, до последних дней. До каких это последних, когда сегодня, например, уж, кажется, последний? а завтра — опять последний!.. Так ведь нико-гда-не-кончить можно... А — здоров!!! До сих пор верхом ездит, а как в рог трубит — уши лопаются! Сам не спит, а других укладывает. Пока еще Надя с Сережей живы были, придет молодежь, гадают или играют во что-нибудь — ровно в десять часов, в самый бой, на пороге — дед в халате. Подойдет и дунет на свечу, потом на другую, так на все подряд, пока не останется одна. Эту — оставит. И уйдет, ни слова не сказав. Значит, гостям домой пора. Ну, а гости пошумят, пошумят в передней калошами, чтоб знал, что ушли, а когда уйдет к себе на чердак — опять возвращаются, и уж тогда пир горой, только потихонечку...**
* Цветаева М. И. Собрание сочинений. Т. 5. С. 110.
** Там же. С. 108-109.
Валерия Цветаева с дедом Дмитрием Ивановичем Иловайским Начало XX в.
В своем доме Дмитрий Иванович не был деспотом и массу происходившего у него под носом просто не замечал. Тиран-шей была его жена Александра Александровна. Ее портрет Марина тоже оставит потомкам:
Лицо у нее злое, нос с какими-то защипнутыми ноздрями и такой же, сквозь защипнутые ноздри, голос. А «родинки» — родинки просто пятна, точно шоколад ела и над губой не вытерла. Ходит она всегда в «курицыном», то есть в черную с белым, коричневую с белым, серую с белым, мелкую клеточку, от которой, если долго смотреть, в глазах рябит, а смотреть приходится долго, тупя глаза под ее — обратным его (деда. — А. С.) голубому невидящему — всевидящим черным глазом в ее же рябой подол. Вся стянутая, подтянутая, как взрослые говорят: «tiree a quatre epingles»*, и все время
«Натянутая на четырех булавках» (фр.).
Иван Владимирович Цветаев с сыном Андреем
1909
«пускает шпильки», которые, в соединении с «quatre epingles», превращают ее для нас в какую-то подушку для иголок*.
Мария Александровна не любила ходить в гости к Иловайским из-за Александры Александровны, которую Марина назвала еще и «огорчительницей колодца». Но с Дмитрием Ивановичем у Марининой мамы сложились самые почтительные отношения. Все решало, по-видимому, их взаимное уважение к труду. Она не могла не видеть в нем великого труженика, повторявшего подвиг древних летописцев. Он, любя Ивана Владимировича, не мог не видеть в его второй жене преданнейшую и толковейшую помощницу во всех делах.
Когда не стало Марии Александровны, дедушка Иловайский горевал вместе с Иваном Владимировичем.
Иловайский похоронил молодую жену, двух мальчиков — сыновей от первого брака, любимую дочь Ваву, а потом двух детей от второго брака — Надю и Сережу. Но его скорби хватило на то, чтобы оплакать Марию Александровну, а «оловянности» взора — на то, чтобы разглядеть в ней «не только близкого человека, но и большого человека»**.
* Цветаева М. И. Собрание сочинений. Т. 5. С. 107.
** Тамже. С. 120.
Иван Владимирович Цветаев с дочерью Анастасией 1909-1910
Цветаев и Иловайский во многом были не похожи, но их связала крепкая дружба. «Дружба эта зиждилась на дорогих телах, тенях. Нет прочнее дружбы — на костях! Это были два старика, потерявшие одну семью. Старых друзей не судят»*.
3
Время шло, дети росли и определенно хорошели.
Андрюша красив, молчалив, насмешлив. При этом он не больно-то усваивает гимназическую премудрость, а корпеть над ней самому не позволяет врожденное сибаритство дворянина. С латынью, конечно, ему помогает отец, но ведь полный курс столичной гимназии латынью не ограничивается. Ивану Владимировичу приходится нанимать сыну репетиторов из студентов — благо они всегда под рукой. Так ненадолго появился в доме Аркаша Ласточкин — милый юноша в серой студенческой тужурке, обладавший, видимо, необоримым мужским шармом, поскольку младшая дочь на четвертом году от роду при виде Аркаши испытала чувство, которое люди с несколько
* Там же.
большим жизненным опытом именовали сердечной привязанностью. По совету няни она высчитывала, сколько лет осталось ей до свадьбы, но, умея считать только до десяти, никак не могла справиться с этой задачей. А «жених» в свободное от репетиторства время, обняв Асю и Мусю, в детской возле печки рассказывал им своими словами все одну и ту же «Сказку о рыбаке и рыбке». Дети знали ее лучше рассказчика, однако примерное воспитание не позволяло Мусе поправлять студента, тогда как Ася в пылу любви умиленно внимала всем его отсебятинкам: дескать, «ничего у них, эдак, не было, кроме одного корыта...»*
Какой такой «революционной работой» он занимался, уходя от Цветаевых, и какому такому запрещенному чтению предавался после «рыбака и рыбки», одному Богу известно, но факт состоял в том, что вскоре Аркашу Ласточкина взяли под стражу. Иван Владимирович хлопотал, и арестованного освободили, но репетиторство на этом кончилось. Позже Муся напишет:
Не пришлось ей (Асе. — А. С.) проститься с Аркадием Александровичем. Он был выслан из Москвы. Много времени спустя мама застала ее за странным занятием: она собирала на коленях пыль по углам и нежно целовала. На вопрос: «Да что с тобой?» — сквозь внезапные и-и-и с трудом можно было понять: «Как тужурка... тоже серая!»**
Ася вспоминала этот эпизод несколько иначе и приземлен-ней. Можно предположить, что фантазии Марины, ее уклонения от фактов отчасти связаны с ее сильной близорукостью с детства. Недостаток зрительных впечатлений она компенсировала чрезвычайно развитым воображением. Она додумывала то, что недоглядела. Ее фантазия была вынуждена включаться постоянно. Возможно, так. Но у Аси тоже была близорукость. Значит, дело не только в ней. Несомненно, существовал еще и повод творческий: острота артистического вчувствования в жизнь, которая у Марины была развита чрезвычайно. Поэтому сестра могла приписать Асе то, что хотела бы сделать сама. Жизненной правды в приведенном отрывке нет, но тут есть правда сверхжизненная — завершенность художественного образа.
Если в Асиной любви Мусе выпала партия верной подруги, то вскоре они поменялись ролями. Теперь — спасибо Андрею — влюбилась Муся. Ее избранником стал новый репетитор брата — некто Александр Павлович, филолог, как и папа.
Однажды за обеденным столом разыгралась следующая сценка.
* Цветаева А. И. Воспоминания. С. 30.
** Цветаева М. И. Собрание сочинений. Т. 5. С. 99.
Представьте: все семейство в сборе.
Разговор идет о Лёриной подруге Раечке Оболенской.
— Терпеть не могу этого типа курсистки! — говорит мама. — Ни женственности, ни такта...
Лёра молчит и смотрит в тарелку. Сейчас она встанет из-за стола и начнется скандал.
— Раечка — прекрасное существо! — вдруг начинает Александр П<авлович>. — Непосредственное, живое, искреннее...
(Марина про себя. — А. С.) Почему мне так неприятно слушать это? Я очень люблю Раечку, но...
— Несмотря на ее манеры, она мне нравится... — продолжает А<лександр> Павлович.
— Раечка Оболенская совсем не прекрасное существо! — вдруг заявляю я.
— Тебя не спрашивают! — говорит папа.
— Маме она не нравится, и мне она тоже не нравится.
— Муся! — Мама поражена. Алекс<андр> Павлович улыбается и переглядывается с мамой.
— Когда я кончу курс, я женюсь на Раечке и увезу ее в Екатеринбург.
— А я поеду за вами.
— А мы поедем рано утром, когда ты будешь спать...
— А я не буду спать!
— Я увезу ее к себе на Урал! — А<лександр> Павлович радостно хохочет, и желтая бородка его трясется, а глаза делаются как щелки.
— Я отравлю ее! — Тут я бросаю вилку и открываю рот вовсю.
— А тебя сошлют в Сибирь!
— А я убегу, я убью, я ее, я вас, я, я...*
Вечером гувернантка-француженка Альфонсина Дижон утешала Мусю:
— Он «такой худой и к тому же... repetiteur. Я бы на твоем месте взяла кого-нибудь из знакомых твоего отца...»**
Семилетняя Муся, униженная и разочарованная в своем чувстве к желтобородому репетитору, отвечает:
— Я совсем никого не возьму!
Но девичье сердце не камень, и в жизни сестер возникает молодой мужчина, в которого они влюбляются вместе. Он — поэт. Его зовут Лев Львович Кобылинский. Литературный псевдоним — Эллис. Домашнее прозвище — Чародей. Он переводит с французского на русский Бодлера, «переведшего» с языка графики на французский «Апокалипсис» Дюрера***. Эллис
* Там же. С. 102.
** Там же. С. 103.
*** Стихотворение «Фантастическая гравюра» опубликовано в кн.: Французские стихи в переводе русских поэтов XIX-XX вв. 2-е изд. М., [б. г.]. С. 379. В этой же антологии под одной обложкой с Эллисом-Чародеем опубликована поэма Бодлера «Плаванье» в переводе Марины Цветаевой. С. 391-401.
Лев Львович Кобылинский
1905
поражает девочек не только поэтическим талантом, но и артистичностью перевоплощений. Именно о нем Марина напишет свою первую поэму, посвященную Асе, — «Чародей».
По закону романтического «бреда» и в силу собственной мистической природы Чародей воплощается у нее то в рыцаря Розы и Грааля:
О, как вас перескажешь ныне — Четырнадцать — шестнадцать лет! Идем, наш рыцарь посредине, Наш свой — поэт.
Крутое острие бородки, Как злое острие клинка, Точеный нос и очерк четкий Воротничка.
Уса, взлетевшего высоко, Надменное полукольцо... — И всё заглядываем сбоку Ему в лицо*.
А то он вселяется в наполеоновского солдата или в самого Бонапарта:
Он Тот, в чьих белых пальцах сжаты Сердца и судьбы, сжат весь мир. На нем зеленый и помятый
Простой мундир.
Он Тот, кто у кремлевских башен Стоял во весь свой малый рост, В чьи вольные цвета окрашен Аркольский мост**.
Но не только репетиторы и поэты вдохновляют сестер. Теперь и брат, студент-юрист Андрей Цветаев, вызывает в них искреннее восхищение: «...мы с Мариной любовались им — так он был хорош в сине-зеленой (электрик) студенческой форме с золотыми пуговицами, — стройный, тонкий, узколицый, с каштановыми волнистыми прядями волос. Он напоминал молодого генерала 12-го года (любимый образ обеих сестер. — А. С.). В нем была гармоническая смесь женственного начала (сходство с матерью) с мужественным, мужским началом...»*** И, не замечая образной противоречивости, Ася видит в брате — «русском генерале»: «...вкось, быстрый, осуждающий бросок взгляда — темно-золотого, нерусского, напоминающего Италию...»****. В глазах романтичных сестер Андрей представал генералом Отечественной войны со взором итальянского полководца.
О, как — мне кажется — могли вы Рукою, полною перстней, И кудри дев ласкать — и гривы Своих коней...***** —
* Цветаева М. И. Собрание сочинений. Т. 3. С. 10.
** Там же. С. 11.
*** Цветаева А. И. Воспоминания. С. 303.
**** Там же.
***** Цветаева М. И. Собрание сочинений. Т. 1. С. 194.
напишет Марина в Феодосии в декабре 1913 года и посвятит эти строки не брату — Андрею Цветаеву, а мужу — Сергею Эфрону, и будет она в ту пору любить не русских генералов 12-го года, а их врага — Наполеона, но случайно на толкучке купит коробочку с портретом Тучкова-четвертого и, не устояв перед его чарующей, женственно-мужественной красотой, напишет одно из своих самых романтических стихотворений.
Ах, на гравюре полустертой, В один великолепный миг, Я встретила, Тучков-четвертый, Ваш нежный лик,
И вашу хрупкую фигуру, И золотые ордена...
И я, поцеловав гравюру, Не знала сна*.
Такова прихотливость художественного отклика; его зигзаги, лишенные логической прямоты. Подумайте: воспеть героизм Тучкова, убитого любимым Наполеоном, и создать перл поэзии под впечатлением от галантерейной мелочи, случайно схваченной на толкучке!
Средняя дочь
Бог и Враг. —
Nervi — Ялта. «Революционный волчок». — Она — на поле Наполеона. «Отцам»
1
Дух противоречия запал в сердце Марины еще с младенчества. В ее мыслях Бог соседствовал со своим инфернальным Врагом. Для Муси «Бог был — чужой, Черт — родной. Бог был — холод. Черт — жар»**. Бог был — страх, Черт — веселье. У Бога был свой дом — церковь. В нее Марину водили против воли, и церковь осталась в памяти двоящимся паникадилом и бесконечными выстаиваниями служб с их туманной для
* Цветаева М. И. Собрание сочинений. Т. 1. С. 194.
** Там же. Т. 5. С. 48.
ребенка символикой и древнеславянской невнятицей возглашений. У Черта дома не было, но он везде чувствовал себя как дома. Он хихикал, щипал, щекотал, он толкал под локоток, заставляя ронять, разбивать, проливать. Марина словно бессознательно тянулась к нему и однажды во время болезни попросила мать купить ей не книжку, как обычно, а игрушку — черта в бутылке.
Что касается священника, то в Маринином воображении он недалеко ушел от колдуна. Внучка церковнослужителя воспринимала православных пастырей чисто язычески.
«Священники мне в детстве всегда казались колдунами. Ходят и поют. Ходят и махают. Ходят и колдуют. Охаживают. Окуривают...»*
Уж если для нее священники — колдуны, то не колдунья ли она сама — язычница, настоянная на приокских травах, вспоенная луговыми отварами летней Тарусы? А Таруса — это ее райский сад, и из всех его видений самое райское — сенокос с хлыстовками. Хлыстовки Кирилловны жили между дачей Песочное и Тарусой. Они Мусю любили и как-то пригласили к себе все семейство. Мария Александровна не терпела семейных выходов, она не признавала «вообще ничего — скопом»**. Иван Владимирович настоял, и детей взяли на сенокос.
В памяти Марины до конца жизни сохранится это ровное небо над заливными Приокскими лугами и мелькающие вокруг белые платки Кирилловен. «Я была — их. С ними гребла и растрясала, среди них, движущихся, отлеживалась. С ними ныряла и вновь возникала... С ними ходила на ключ, с ними разводила костер, с ними пила чай из огромной цветной чашки, как они, отгрызая сахар...»*** И как итог этого райского дня, доставшегося ей однажды в детстве, желание: «Я бы хотела лежать на тарусском хлыстовском кладбище, под кустом бузины, в одной из тех могил с серебряным голубем, где растет самая красная и крупная в наших местах земляника»****.
На сенокосе Марина нашла то, что не могла найти прежде, и то, что часто теряла потом: она нашла себя. Здесь она обрела свою цельность — цельность колдуньи, возвращенной в собственный мир.
И едва достигнув семнадцатилетия, в той же Тарусе Марина, как будто преодолев свое язычество, обращается к самому Христу. Но послушайте, о чем она Его молит, чего она хочет:
* Там же. С. 47.
** Там же.
*** Там же. С. 96.
**** Там же. С. 97.
Христос и Бог! Я жажду чуда Теперь, сейчас, в начале дня! О, дай мне умереть, покуда Вся жизнь как книга для меня.
Ты мудрый, Ты не скажешь строго: «Терпи, еще не кончен срок».
Ты сам мне подал — слишком много!
Я жажду сразу — всех дорог!
Всего хочу: с душой цыгана Идти под песни на разбой, За всех страдать под звук органа И амазонкой мчаться в бой;
Гадать по звездам в черной башне, Вести детей вперед, сквозь тень... Чтоб был легендой — день вчерашний, Чтоб был безумьем — каждый день!
Люблю и крест, и шелк, и каски, Моя душа мгновений след...
Ты дал мне детство — лучше сказки И дай мне смерть — в семнадцать лет!*
Во имя чистоты своих романтических фантазий, не искаженных вмешательством жизни, она — молодая, здоровая, цветущая — молит Господа о смерти...
Каково было Ивану Владимировичу читать такие стихи? Немудрено, что он отнесся к литературному дебюту средней дочери весьма сдержанно...
2
Марина за семь лет сменила несколько школ, пансионов, гимназий. Но не только из-за болезни матери, а и потому, что ее — строптивую дочь университетского профессора — выгоняли за дерзости и вызывающее непослушание. Уроки хотела — делала, не хотела — не делала. На занятия хотела — ходила, не хотела — не ходила. А если и присутствовала, то могла заниматься чем угодно, только неучением. То, что наставники называли бесцеремонностью, она считала мятежным духом. Отец принимал
свою дочь такой, какая она есть. И опять хлопотал, и устраивал ее в новую гимназию, куда дерзкую ученицу брали благодаря репутации профессора Цветаева и вопреки ее собственному реноме. Отучившись семь классов, Марина отказалась поступать в восьмой, прекратив на том свое образование. Правда, позже она прослушает курс французской литературы при Сорбонне, но это будет лишь эпизод. Образование кончилось, зато продолжилось (и будет продолжаться всю жизнь) непрерывное самообразование, страстная тяга к осмыслению всего происходящего в ней и вокруг, доверенная перу и бумаге: творческое переживание жизни, преображенное собственным воображением. Конечно, образованность Ивана Владимировича была куда фундаментальней. К тому же и его самообразование никогда не прекращалось. «Учусь, голубка, учусь...» — вот постоянный ответ отца на постоянный вопрос Аси в детстве: «Папа, что ты делаешь?»*
В 1902 году девочкой Марина попадает в Нерви — генуэзское гнездо революционной эмиграции. После пансиона с традиционной, из века в век повторяемой мудростью Пифагора и Архимеда, географическими новостями Тацита и одами Горация — зажигательные речи о переустройстве жизни, о борьбе с самодержавием. После желтобородого репетитора Александра Павловича, готового «изменить» Марине с княжной Раечкой Оболенской, — мужественный Тигр: бежавший с царской каторги Владислав Александрович Кобылянский, политэмигрант. Мама возбуждена. Марина возбуждена. Ася возбуждена. По вечерам звучит революционный Шопен.
Марина бредит революцией, каторжанами, эмигрантами, подпольем... Вместе с тем сразу по приезде в Нерви в поле зрения сестер попадает мальчик Володя, и характер игр приобретает интересное разнообразие. Наряду с игрой «Долой самодержавие!» возникает очень личная играв гарем, а потом — в шайку разбойников.
Он был синеглазый и рыжий (Как порох во время игры!), Лукавый и ласковый. Мы же Две маленьких русых сестры.
Уж ночь опустилась на скалы, Дымится над морем костер, И клонит Володя усталый Головку на плечи сестер.
А сестры уж ссорятся в злобе:
«Он — мой!» — «Нет — он мой!» — «Почему ж?» Володя решает: «Вы обе!
Вы — жены, я — турок, ваш муж».
Забыто, что в платьицах дыры, Что новый костюмчик измят. Как скалы заманчиво-сыры! Как радостно пиньи шумят!
Обрывки каких-то мелодий И шепот сквозь сон: «Нет, он мой!» — «Домой! Ася, Муся, Володя!» — Нет, лучше в костер, чем домой!
За скалы цепляются юбки, От камешков рвется карман. Мы курим — как взрослые — трубки, Мы — воры, а он атаман.
Ну, как его вспомнишь без боли, Товарища стольких побед?
Теперь мы большие и боле Не мальчики в юбках, — о нет!
Но память о нем мы уносим На целую жизнь. Почему?
— Мне десять лет было, ей восемь, Одиннадцать ровно ему*.
Однако с переездом в Ялту Марину снова охватывает революционный жар. Ее героями становятся лейтенант Шмидт и террористка Спиридонова. Идейно отроковица примыкает к революционному движению, уходя на политический полюс, противоположный полюсу дедушки Иловайского. Если Дмитрий Иванович «правее папы» (римского), то есть критикует самодержавие справа за недостаток воли в борьбе с революционными смутьянами, то Марина Ивановна — «левее мамы» (Марии Александровны), то есть критикует самодержавие слева за насилие над восставшими героями, и в своей критике идет дальше мамы, остающейся на умеренно демократических позициях.
Революционных настроений придерживается и Лёра. Андрей, как всегда, остается в стороне, являя собой воплощенную аполитичность. Наконец, Ася еще мала для серьезных политических предпочтений.
Что касается Ивана Владимировича, то он занимает промежуточную позицию между Иловайскими (Александра Александровна ориентируется на мнение мужа) и Марией Александровной. Папа полностью поддерживает действия государя и правительства. Политической критики у него нет и быть не может. У него есть резкое морально-нравственное осуждение некоторых зарвавшихся персон во власти и аллергия к революционному насилию.
Девочки — Марина и Ася — всегда были ближе к матери — и пространственно, и душевно. Да с папой и поговорить непросто: он постоянно погружен в себя, в свои мысли, наверное, об их «брате», как они называют Музей. Если мама определяет социализм как игру дворника на чужом рояле, то, интересно, что такое революция, по мнению папы? Возможно, «самодержавная пирамида», перевернутая вершинкой вниз? Такую фигуру уместно назвать «революционным волчком». В персонажах строящегося Музея она выглядит так:
«Революционный волчок»
А вот — грузчики-артельщики, ломовые извозчики, дворники на подмогу! Разлюбезные жулики на таможне с налогом 66 % от цены изделия Русский художник-акварелист в Риме Федор Петрович Рейман Еще кирпичных дел подрядчик Василий Александров Коннозаводчик. Хлебник Бугров. Макар Блинов Еще жертвователь: Солдатёнков — банкир Профессор Иван Владимирович Цветаев Архитектор Роман Иванович Клейн Даритель № 1 Нечаев-Мальцов Жертвователи-аристократы Великий князь
НИ
Пятому году перевернуть пирамиду не удалось.
3
После разгрома вооруженного восстания в Москве Лёра и Марина почувствовали себя потерянными, мама «придвинулась» плотнее к папе, а Иловайские праздновали победу. Некоторое время средняя дочь пребывала в идеологическом кризисе, но 1909 год стал переломным в ее жизни. Она порвала
с идейностью. Имперская каменность «самодержавной пирамиды» ее угнетала, а перспектива «революционного волчка» бросала в дрожь.
Но душа ее не могла жить без идеала. Ее восторженности и благоговению требовался предмет поклонения. Не найдя себе земного вождя среди современников, она отыскала его в историческом далеке:
Длинные кудри склонила к земле, Словно вдова молчаливо.
Вспомнилось, — там, на гранитной скале, Тоже плакучая ива.
Бедная ива казалась сестрой Царскому пленнику в клетке, И улыбался плененный герой, Гладя пушистые ветки.
День Аустерлица — обман, волшебство, Легкая пена прилива...
«Помните, там на могиле Его
Тоже плакучая ива.
С раннего детства я — сплю и не сплю — Вижу гранитные глыбы».
«Любите? Знаете?» — «Знаю! Люблю!» «С Ним в заточенье пошли бы?»
«За Императора — сердце и кровь, Всё — за святые знамена!» Так началась роковая любовь Именем Наполеона*.
Свое новое увлечение Марина назовет взрывом бонапартизма, а эти стихи — «Бонапартистами», хотя никакого отношения к реальным сторонникам Бонапарта они не имеют. Они относятся только к одной единственной «бонапартистке». Так она являет свою необоримую страсть, задрапированную складками романтических одежд: скала — гранитная, ива — плакучая, герой — плененный, знамена — святые, любовь — роковая... Культ императора в ее душе создан.
Наполеон на Аркольском мосту Портрет работы Л.-Ж. Гро. 1196-1191
Муся выписывает из Парижа, через магазин Готье на Кузнецком, все, что издается во Франции о Наполеоне. Ее восхищает в нем каждая подробность: и то, что он говорил по-французски с сильным корсиканским акцентом; и то, что в детстве он трудно постигал древние языки; и то, что хлеб с молоком были пищей его спартанской юности; и то, что круг его чтения был беспорядочен и огромен; и то, что именно он сказал: «L’imagination gouverne le monde!» — «Воображение правит миром!» — слова, которые она хотела бы поставить эпиграфом к собственной жизни; и то, что он — молодой поручик — просился на службу
в русскую армию, чтобы воевать за Россию против турок; наконец, даже то, что с полководческим блеском он будет громить и пруссаков и русских...
Марина скупала все его портреты и гравюры. Она любила обожаемую им первую жену — Жозефину и ненавидела нелюбимую им вторую жену Марию-Луизу. Но сильнее всего она влюбляется в его сына — Наполеона II, короля Римского, герцога Рейхштадтского, оказавшегося единственным наследником -заложником славы и поражения своего отца. Она влюбляется в юного короля, разлученного с отцом австрийской родней и двадцати лет скончавшегося от туберкулеза в замке Шенбрунн под Веной.
Твой конь, как прежде, вихрем скачет
По парку позднею порой...
Но в сердце тень, и сердце плачет, Мой принц, мой мальчик, мой герой.
Мне шепчет голос без названья:
«Ах, гнета грезы — не снести!» Пред вечной тайной расставанья Прими, о принц, мое прости.
О сыне Божьем эти строфы: Он, вечно-светел, вечно-юн, Купил бессмертье днем Голгофы, Твоей Голгофой был Шенбрунн.
Звучали мне призывом Бога
Твоих крестин колокола... Я отдала тебе — так много! Я слишком много отдала!
Теперь мой дух почти спокоен, Его укором не смущай...
Прощай, тоской сраженный воин, Орленок раненый, прощай!
Ты был мой бред светло-немудрый, Ты сон, каких не будет вновь...
Прощай, мой герцог светлокудрый, Моя великая любовь!*
Герцог Рейхштадтский
Гравюра с портрета М. Даффингера. Около 1832
Ася вспомнит: «Ни одна из жен Наполеона, ни родная мать его сына, быть может, не оплакали их обоих (отца и Орленка. — А. С.) с такой страстной горечью, как Марина в шестнадцать лет!»*
В своем поклонении культу Наполеона она дошла до предела и перешла предел. Однажды, войдя в ее комнату, Иван Владимирович увидел портрет Бонапарта, вставленный в серебряный оклад поверх лика Спасителя. Отец был потрясен. А когда он потребовал вынуть портрет из оклада, дочь «...схватила стоявший на столе тяжелый подсвечник... <...> И он понял! Не ее, а предел ее непонимания. Пожалел — и ушел, в двойной горечи, затворив дверь»**.
* Цветаева А. И. Воспоминания. С. 269.
** Там же. С. ЗОН.
Религиозность Ивана Владимировича никогда не была показной, напротив, она оставалась затаенной и прорывалась разве что в такие острые моменты. Вместе с тем присущее ему религиозное чувство находило и деятельные проявления. Рядом с Румянцевским музеем (можно сказать «дверь в дверь») по Староваганьковскому переулку, 14, строение 6, располагался и располагается ныне храм Святителя Николая в Старом Вагань-кове — памятник архитектуры XVI века, древнейший из всех московских храмов, построенных вне Кремля. Начиная с середины XIX века обитель в Старом Ваганькове стала домовой церковью Румянцевского музея, а в 1905-м не самом спокойном году директор музея профессор Цветаев предложил создать из постоянных прихожан Попечительный совет. Задача совета состояла в изыскании средств на церковные нужды.
Между тем средняя дочь радетеля Никольского храма продолжала предаваться наполеономании. Поглощенность судьбой повелителя мира у Марины «была так глубока, что она просто не жила своей жизнью»*. Глядя на парадный портрет Бонапарта в полном императорском облачении, с черными метками по белоснежной горностаевой накидке, с золотыми листьями триумфального венка, обрамлявшего громадный лоб, она погружалась в совершенно другой мир — мир, в котором не находилось места незаметному, мягкому, благочестивому, деликатному Ивану Владимировичу, не знавшему ни парадов, ни салютов, ни сражений, ни Аркольских мостов... Он — хороший, он — добрый, он — замечательный, а больше сказать о нем как будто и нечего. О таких людях говорить труднее всего. Здесь кажущаяся обыденность подрезает крылья вдохновению. Фантазии не на чем разыграться. Наверное, поэтому Марина в стихах обращалась не к папе, слишком хорошо известному ей во всех подробностях своей будничной жизни, а к совершенно незнакомой польской бабушке:
Продолговатый и твердый овал, Черного платья раструбы... Юная бабушка! Кто целовал Ваши надменные губы?
Руки, которые в залах дворца Вальсы Шопена играли...
По сторонам ледяного лица — Локоны в виде спирали.
Темный, прямой и взыскательный взгляд.
Взгляд, к обороне готовый.
Юные женщины так не глядят.
Юная бабушка, — кто Вы?
Сколько возможностей Вы унесли И невозможностей — сколько? — В ненасытимую прорву земли, Двадцатилетняя полька!
День был невинен, и ветер был свеж.
Темные звезды погасли. — Бабушка! Этот жестокий мятеж В сердце моем — не от Вас ли?..*
И не отцу посвятит средняя дочь свое будущее позднее стихотворение, точней, не ему одному, а — им. Всем — им: «Отцам».
В мире, ревущем: — Слава грядущим! Что во мне шепчет: — Слава прошедшим!
Вам, приходящим, В счет не идущим, Чад не родящим, Мне — предыдущим.
С клавишем, с кистью ль Спорили, с дестью ль Писчею — чисто Прожили, с честью.
Белые — краше Снега сокровищ! — Волосы — вашей Совести — повесть...**
* Цветаева М. И. Собрание сочинений. Т. 1. С. 215.
** Там же. Т. 2. С. 330.
Глава восьмая
ЦВЕТНОЕ И ЧЕРНОЕ
Я — страница твоему перу.
Все приму. Я белая страница.
Я — хранитель твоему добру: Возвращу и возвращу сторицей.
Я — деревня, черная земля.
Ты мне — луч и дождевая влага.
Ты — Господь и Господин, а я -Чернозем и белая бумага!
Марина Цветаева
Параллельные жизни
Братья Цветаевы: Петр, Федор, Дмитрий. —
Дочь Марина: инсценирование жизни, театрализация смерти.
Сергей Эфрон. — Две свадьбы
1
Давно ушло время, когда братья Цветаевы вместе росли в отчем доме в Талицах, учились в Шуе и Владимире. После окончания Владимирской духовной семинарии их судьбы разделились и отныне стали складываться у каждого по-своему. Встречались они редко, да и переписывались нечасто. Как водится, выпорхнув из родного гнезда, они летали уже своими путями, которые пересекались лишь иногда по деловым или сугубым родственным оказиям.
Старший брат Петр Владимирович Цветаев — единственный из всех четверых — продолжил семейную традицию священно-служительства. Вначале его назначили на Кавказ, в крепость Грозную (теперь город Грозный), потом он вернулся в Среднюю Россию, где, женившись, получил приход в селе Перши-но и учительствовал в местной земской школе. Преподавание школьникам Закона Божьего было делом обычным для
Петр Владимирович Цветаев
1890
православных священников. После смерти отца — Владимира Васильевича (1884) — Петр принял отцовский Талицкий приход, создал церковно-приходскую школу для девочек, служил и учил детей вплоть до своей кончины в 1902 году.
Остальные братья выбрали светскую просветительскую ниву.
По стопам Ивана завершив полный курс историко-филологического факультета Петербургского университета, Федор Владимирович Цветаев учительствовал в гимназиях Шуи и Орла. Он был, по-видимому, прирожденный педагог. Подобно И. П. Чуриловскому, занимался с детьми и в классе, и дома, не жалея ни времени, ни сил. Ученики вспоминали, что в характере «и во всем складе его ума чувствовалось что-то необычайно уравновешенное, ровное, спокойное»*. В этом он, вероятно, даже превзошел старшего брата Ивана, самообладания которого не хватало на репетиции латыни с собственным сыном. Федор всегда сочувствовал ученикам и, видимо, располагал
* Кочеткова Г. К. Дом Цветаевых. С. 64.
Федор Владимирович Цветаев 1888
их к себе, а значит, и к занятиям, поскольку трудно полюбить предмет, не проникнувшись доверием к учителю.
Федор любил учеников. «Он вообще любил людей и думал о других больше, чем о себе. Поэтому к нему всегда тянулись»*. В Орле он жил с младшим братом Дмитрием и полностью его опекал, причем свою заботу о брате он «оправдывал» тем, что тот тяжело переболел. Но болезнь прошла, а забота осталась. Трудно представить, чтобы скромнейший Федор Владимирович хлопотал о себе. По стечению обстоятельств на него обратил внимание московский ревизор, и Цветаев был переведен в Москву. Он стал инспектором 2-й женской гимназии. Когда пришла пора, как и брат Иван, Федор отказался от своего чествования (50 лет со дня рождения, 25 — преподавания), ибо «его глубоко беспокоила мысль, не чествуют ли его... только как начальника... и не введет ли это в тягостные расходы бедных
Кочеткова Г. К. Дом Цветаевых. С. 65.
Дмитрий Владимирович Цветаев
1890
учительниц и воспитательниц...»*. Ну, а коль скоро по настоянию преподавателей юбилей все-таки отметили, виновник торжества не мог вспоминать о минувшем событии «без глубокого волнения и какой-то особенной конфузливости»**.
Через год (1901), когда Ф. В. Цветаев внезапно умер от воспаления легких, «гроб с его телом несли по Москве на руках от Петропавловской церкви на Новой Басманной до Ярославского вокзала»***, чтобы отвезти в Талицы.
По своим душевным качествам все три брата были похожи друг на друга. Оставался младший брат — Дмитрий. Он отличался от старших.
Дмитрий Владимирович Цветаев сделал большую карьеру и формально ничем не уступал Ивану. Он был человеком способным. После Владимирской семинарии обучался в Петербургской
* Тамже. С. 66.
** Там же.
*** Там же. С. 65.
духовной академии. По выходе из нее по протекции брата Федора преподавал гуманитарный цикл (русский язык, словесность, история, педагогика) в Орловской военной гимназии. Поскольку всю хозяйственную часть их совместного проживания Федор взял на себя, у Дмитрия образовался досуг, который он, к своей чести, использовал похвальным образом: написал и издал в 1882 году в Воронеже книгу «Баллады Шиллера»*. Тогда молодой литературовед уже воспитывал студентов Московского технического училища, чуть позже преподавал в кадетском корпусе, инспектировал женскую гимназию, стал приват-доцентом Московского университета и, наконец, получил перевод в Варшавский университет на должность профессора кафедры русской истории, где и осел на целых девятнадцать лет. Там-то проездом на вокзале его впервые и встречает Ася, убеждаясь в том, что дядя Митя и похож на папу, и совсем не похож. «Он не наш\» Причем не наш означает не только не мей-новский (что понятно), но и не цветаевский — вот в чем фокус!
Перед нами трудолюбивый историк, знаток вероисповеданий и Смутного времени, автор монографий о протестантстве в России, о царе Василии Шуйском и местах его погребения в Польше. Д. В. Цветаев — исследователь брачных отношений в царской семье, собиратель материалов о польском революционном движении... Он сотрудничает с русской газетой «Варшавский дневник», публикуя там статьи по докладам брата Ивана о строительстве в Москве Музея изящных искусств («...„тебе же да твоим добром", а мне — „литературный заработок"!»**).
Но вот, пожалуй, в чем дядя Митя не цветаевский: слишком он кипуч, в нем не чувствуется внутренней сосредоточенности, созидательного покоя. Он деятельно-тревожен. Ему не хватает, может быть, и присущей братьям душевной скромности. Он честолюбив. Подобно Ивану, он достигает высоких степеней в служебной иерархии; становится, так же как старший брат, заслуженным профессором, тайным советником, потомственным дворянином, добиваясь всего этого трудом и вер-ноподданничеством. Иван верноподдан в силу сложившихся обстоятельств. Он — человек благодарный. Как он может быть не признателен царю, который поддерживает дело его жизни? Дмитрий верноподдан идейно, независимо от обстоятельств. Его верноподданничество бурлит в нем и призывает к действию. По типу личности он скорей похож не на Цветаевых, а на «старого Пимена» — Дмитрия Ивановича Иловайского. И того
* Цветаев Д. В. Баллады Шиллера. Воронеж, 1882.
** Переписка. Т. 1. С. 475.
и другого объединяют интерес и подозрительность к Польше, оба — русофилы и обрусители, правые монархисты. Ввиду революционных событий правительство перестало «либеральничать» со студентами и закрыло университеты. Варшавский — надолго. Вообще говоря, Дмитрий Владимирович не мог не одобрить эту меру, но коль скоро она ударила и по профессуре, то он остался без места, к чему совсем не был готов. Вольные хлеба («толокно с черносливом») историка вроде Иловайского его никак не устраивали. Они требовали постоянного, напряженного труда без помощников, заместителей и секретарей. Но Дмитрий Владимирович привык руководить и давно усвоил навыки обеспеченной жизни, честно «отслуживая» свою обеспеченность верностью престолу, поэтому без работы он не остался. Из Варшавы Цветаев-младший переехал прямо на Остоженку в качестве директора Московского коммерческого училища. Студентов революционной Москвы он призывал к выдержке и упорству в учебе. Эти призывы вполне мог бы разделить и брат Иван. Разница, однако, состояла в том, что Иван Владимирович не придавал выдержке или упорству национального оттенка, а Дмитрий Владимирович в контексте своих взглядов подразумевал русскую выдержку и русское упорство.
В автобиографической прозе «Пленный дух» племянница дяди Мити Марина дала ему такую характеристику: «...добродушнейший мой дядя Митя, заслуженный профессор, автор капитального труда о скучнейшем из царей — Василии Шуйском и директор Коммерческого училища на Остоженке, воспитанниками которого за малый рост, огромную черную бороду, прыть и черносотенство был прозван Черномор»*. В одном из писем 1936 года из Chateau d’Arcine племянница раскопает корни «черноморских» убеждений дяди: «...ни один польский студент ни копейки не дал на похороны русского... профессора Барсова (?) и... мой дядя шел за гробом Барсова, а студенты обоим грозили кулаками — мой дядя после Варшавы был один из самых видных черносотенцев Москвы — Союз русского народа — очень добрый человек — иначе как жид не говорил. У него я, девочкой, встречала весь цвет черной сотни»**. Дядя Петя (священник) не мог быть черносотенцем, и дядя Федя (учитель) не мог. Папа, хоть и вращался в кругу монархистов, но всякий радикализм не терпел. А дядя Митя — черносотенец. Почему?
По версии Марины, он прожил девятнадцать лет в Варшаве, испытал на себе ненависть поляков и «после Варшавы» не мог быть
* Цветаева М. И. Собрание сочинений. Т. 4. С. 222.
** Там же. Т. 7. С. 614.
иным. По природе он человек добрый (даже «добродушнейший»), но жизнь его поправила («почернила»). Таким образом, черносотенство дяди Мити связано с его реакцией на отношение к нему аборигенов. Но на какое расположение может рассчитывать иноземный историк, внедряющий в умы местных студентов русскую имперскую идею?
Братья Цветаевы жили своими параллельными жизнями, соприкасаясь между собой редко и ненадолго. А там пришло время, и следующее поколение стало постепенно отделяться от родителей.
2
Дети Ивана Владимировича как-то незаметно выросли, погрузились в свои интересы, далекие от интересов отца, а порой и непонятные ему, вызывавшие большие огорчения. Папиной страстью были образование, наука. Это не повторилось ни в ком. Только Андрей стал студентом Московского университета, да и то не историко-филологического факультета, как хотелось отцу, а юридического, где он, сибарит и барин, эстет и пересмешник, надо думать, не отличался избыточным рвением в постижении законов. Его больше волновали охота и живопись, нежели параграфы процессуальных наставлений.
Валерия унаследовала певучесть мамы, но вместо того чтобы разучивать новые арии, разделяла революционный настрой своих ровесников, совершенно чуждый папе, — он никогда не смог бы понять человека, пилящего сук, на котором сидит.
А Ася? Малолетняя Ася досаждала отцу своими капризами, своей приставучестью.
И все же больше всего хлопот было ему с Мариной. Ее самовольство, пренебрежение к учебе вплоть до исключения из гимназий, духовные метания оправдывались тем, что она пишет... Но как Муся понимала свой дар? Во что воплощала? Каким предавалась настроениям? Посмотрим на это глазами отца. Возьмем что-нибудь самое проникновенное из ранней Марининой лирики — например, стихи, обращенные к маме:
В старом вальсе штраусовском впервые Мы услышали твой тихий зов, С той поры нам чужды все живые И отраден беглый бой часов.
Мы, как ты, приветствуем закаты, Упиваясь близостью конца.
Все, чем в лучший вечер мы богаты, Нам тобою вложено в сердца.
К детским снам клонясь неутомимо, (Без тебя лишь месяц в них глядел!) Ты вела своих малюток мимо Горькой жизни помыслов и дел.
С ранних лет нам близок кто печален, Скучен смех и чужд домашний кров... Наш корабль не в добрый миг отчален И плывет по воле всех ветров!
Все бледней лазурный остров — детство, Мы одни на палубе стоим.
Видно, грусть оставила в наследство Ты, о мама, девочкам своим!*
Загруженный будничными заботами, далекий от поэзии, Иван Владимирович не мог не почувствовать теплоты и лиричности этих строк, но вместе с тем и какой-то горькой обреченности. Почему «нам чужды все живые»? Неужели «жизнь» только «горька»? Откуда эта прескученность смехом, радостью? И уж совсем обидное: «С ранних лет нам... чужд домашний кров...» Чужд Трехпрудный? Чужд отчий дом?!.
Все это Иван Владимирович мог считать неприемлемым «декадансом», влиянием Эллиса и подобных ему «господ поэтов». Об этом скажет Андрей Белый: «...они (дочери Цветаева. — А. С.) называли себя анархистками; в представлении профессора, Эллис питал их тенденции: ни в грош не ставить папашу»**.
Ясно, что два первых поэтических сборника дочери не вдохновили отца. Отсюда и Маринина надпись на экземпляре «Волшебного фонаря»: «Милому папе, хотя он и забраковал эту книгу»***.
После возмутительной выходки с портретом Наполеона средняя дочь, по словам Аси, готовила акцию, которую «милый папа» мог бы и не пережить. Год, запершись у себя в комнате, Марина переводила «кованым стихом» с французского пьесу Ростана «Орленок» — о своем кумире герцоге Рейхштадтском — Наполеоне II, а когда узнала, что профессиональный перевод уже существует, поддавшись максимализму юности, уничтожила работу, не понимая, что подлинник — один, а переводов может быть столько, сколько переводчиков. Нет, ее гордость не
* Цветаева М. И. Собрание сочинений. Т. 1. С. 9-10.
** Андрей Белый. Между двух революций. М., 1990. С. 369.
*** Каган Ю. М. И. В. Цветаев. Жизнь. Деятельность. Личность. М., 1987.
С. 157.
позволяла ей быть «одной из...» — только первой! Тогда же Сара Бернар привезла в Москву французского «Орленка» в собственном исполнении. Воздух ли той богемной среды, в которую мечтала погрузиться Марина; неудача ли с переводом Ростана, выдуманная ею самой; ощущение ли своего сиротства в мире; а может быть, и страсть к театральным эффектам подтолкнули ее на безумный шаг. Свидетельство одно — устное признание, сделанное Асе. Если это чистая правда, то Марина взяла на спектакль револьвер, чтобы посредине действия на глазах «Орленка» застрелиться прямо в зале. И она сделала для этого все! Но револьвер дал осечку... Возможно, это сочинено. Возможно, мысль была, но до исполнения дело не дошло. Но даже если мысль была!.. О чем и о ком она думала? Только не об отце, который, потеряв двух молодых жен, самоубийства любимой дочери, скорее всего, не вынес бы.
Даже спустя десять лет Марина не раскаивалась в своих поступках, более того — испытывала азарт от явного парадокса: внучка священника — отпетая безбожница! «Заставить изображение Спасителя портретами Наполеона (глаза как угли в золоте киота!) — вот мои 16 лет. (Внучка священника Владимирской губ<ернии>!)»*
Идея инсценирования собственной жизни и театрализации собственной смерти не отпускала Марину. В Феодосии она напишет стихи, обращенные к Смерти, в которых пословица на миру и смерть красна будет претворена в желание погибнуть под музыку в толпе. Без церковного покаяния и отпевания. Церквям в стихотворении позволено лишь слепить глаза золотом.
В тяжелой мантии торжественных обрядов, Неумолимая, меня не встреть.
На площади, под тысячами взглядов, Позволь мне умереть.
Чтобы лился на волосы и в губы Полуденный огонь.
Чтоб были флаги, чтоб гремели трубы И гарцевал мой конь.
Чтобы церквей сияла позолота, В раскаты грома превращался гул, Чтоб из толпы мне юный кто-то И кто-то маленький кивнул.
В лице младенца ли, в лице ли рока Ты явишься — моя мольба тебе:
Дай умереть прожившей одиноко Под музыку в толпе*.
Но вскоре в жизни Марины произошло подлинное событие, перевернувшее ее судьбу. Невероятно, но факт. Она встретила своего принца, своего герцога Рейхштадтского, и не на страницах Ростана, а на пляже в Коктебеле.
Они встретились — семнадцатилетний и восемнадцатилетняя — 5 мая 1911 года на пустынном, усеянном мелкой галькой коктебельском, волошинском берегу. Она собирала камешки, он стал помогать ей, красивый грустной и кроткой красотой юноша, почти мальчик... с поразительными, огромными, в пол-лица, глазами...**
Револьвер (был он или не был) дал осечку, а любовь осечку не дала. Марина влюбилась смертельно. Она была вся захвачена новым чувством.
Она восславит своего избранника в дневниковой прозе:
Красавец. Громадный рост; стройная, хрупкая фигура; руки со старинной гравюры («Тучков-четвертый». — А. С.); длинное, узкое, ярко-бледное лицо, на к<отор>ом горят и сияют огромные глаза — не то зеленые, не то серые, не то синие, — и зеленые, и серые, и синие. Крупный изогнутый рот. Лицо единственное и незабвенное под волной темных, с темно-золотым отливом, пышных, густых волос. Я не сказала о крутом, высоком, ослепительно-белом лбе, в к<отор>ом сосредоточились весь ум и всё благородство мира, к<а>к в глазах — вся грусть.
А этот голос — глубокий, мягкий, нежный, этот голос, сразу покоряющий всех. А смех его — такой светлый, детский, неотразимый! А эти ослепительные зубы меж полосок изогнутых губ. А жесты принца!***
В ее возлюбленном Марину восхищает все: и внешние черты, и смешение славянской крови с еврейской (мамина любовь!), и рыцарский дух, так родственный духу цветаевского дома («не интеллигентский — рыцарский»).
Сергей Эфрон был сыном революционеров Якова Константиновича Эфрона и Елизаветы Петровны Дурново — представительницы древнего дворянского рода.
По просьбе Марины Сергей поведал Асе историю своей семьи. В Асином пересказе она звучит так:
* Цветаева М. И. Собрание сочинений. Т. 1. С. 198.
** Эфрон А. С. О Марине Цветаевой: Воспоминания дочери. М., 1989. С. 50.
*** Цветаева М. Неизданное. Записные книжки. Т. 1. С. 74.
Она (Сережина мама. — А. С.) ушла из дома семнадцати лет -в революцию.
Партийная кличка ее была «Лиза Большая». Она была членом «Народной воли» и «Черного передела». Царское правительство учредило опеку над имениями ее родных, чтобы Елизавета Петровна не могла отдать эти имения на дело революции, если они по наследству перейдут к ней. Она была талантлива, образованна, хороша собой. Порвала с семьей по идейным причинам. Встретила прекрасного человека, революционера. У них было много детей, младший из них был Котик (домашнее имя от Костик. — А. С.), с которым Сережа рос, как росли Маруся и я. И за год с небольшим до встречи с Мариной Сережа пережил непоправимое горе: трагически погибли Котик и мать, в один день*.
Это произошло в Париже, где после неудачи русской революции Эфроны скрывались на положении политэмигрантов. Как часто бывает при сведении счетов с жизнью, причина гибели осталась неизвестной. Вначале ушел из жизни сын, потом — мать. Двойное самоубийство. За год до того умер отец. В семнадцать лет Сергей остался сиротой. Зная Марину, легко догадаться, что испытания, выпавшие на долю Сережи, только крепче привязали ее к нему.
Силы Марининой юности, без меры печальной, все сны ее одинокой дремоты, все собралось воедино: поднять его на руки, победить в нем гнувшую его утрату, дать ему жизнь! Она не сводила с него глаз. Каждый миг с ним было познанье и любованье, все более глубокого погруженья в эту душу, самую дорогую из всех. Драгоценную, ни с чем не сравнимую. Это сердце, эта жизнь брала все ее силы, нацело ее поглотив. В его взгляде, на нее устремленном, было все ее будущее. Он никого еще не любил. Он пошел в ее руки как голубь. Он был тих. Он был отдан мечте, как она. Как она, он любил свое детство. Он утратил мать, как мы. Он рос с братом, как Марина со мной. Он родился в день ее рожденья, когда ей исполнился один год (семейная легенда; на самом деле: она — 26.9.1892, он — 29.9.1893 по старому стилю. — А. С.).
В ее стихах он понимал каждую строку, каждый образ. Было совсем непонятно, как они жили врозь до сих пор.
Я никогда за всю жизнь не видела такой метаморфозы в наружности человека, которая происходила и произошла в Марине: она становилась красавицей**.
В письме 1914 года из Феодосии писателю и философу Василию Васильевичу Розанову опьяненная своим счастьем Марина продолжит Сережин портрет и поклянется в верности любимому на всю жизнь.
Сергей Эфрон и Марина Цветаева Москва. Ноябрь 1911
...Моему мужу 20 лет. Он необычайно и благородно красив, он прекрасен внешне и внутренне. Прадед его с отцовской стороны был раввином, дед с материнской — великолепным гвардейцем Николая I.
В Сереже соединены — блестяще соединены — две крови: еврейская и русская. Он блестяще одарен, умен, благороден. Душой, манерами, лицом — весь в мать. А мать его была красавицей и героиней.
Сережу я люблю бесконечно и навеки. <...>
Мы никогда не расстаемся. Наша встреча — чудо... Он мой самый родной на всю жизнь. Я никогда не могла бы любить кого-нибудь другого...*
Этой клятвы ей хватит едва на полгода. В будущем она не раз подвергнет испытаниям свою преданность мужу. В Праге в декабре 1923 года она доведет его до отчаяния. Воспользовавшись его недельным отъездом, она заведет роман с его другом. Эта история вообще не была бы достойной упоминания,
Цветаева М. И. Собрание сочинений. Т. 6. С. 120-121.
если бы итогом ее не стала «Поэма Конца» — одна из вершин мировой лирики XX века. Страсть, которая обуяла Марину, всколыхнула самые глубины ее подсознания, выплеснув из них то, что таилось и ждало своего часа.
Марина прекрасно понимала, что Сережа по отношению к ней — верх великодушия, что никто не сможет ей его заменить, и потому всякий раз возвращалась к нему.
Сережа прекрасно понимал, что живет с гением; что в жизни этого гения важно ценою безумств достигать волшебства. Муж никогда не служил только тенью Марины. Он видел ее со всей ее простотой и гордыней, эгоистичностью и альтруизмом, нежностью и ледяной бронею, которой она оковывала свой непомерный дар (жар).
«М<арина> — человек страстей... Отдаваться с головой своему урагану для нее стало необходимостью, воздухом ее жизни»*.
То, что было для нее полетом фантазии, Сергей называл самообманом.
«Всегда все строится на самообмане. Человек выдумывается — и ураган начался»**.
Здесь ключевое слово — самообман. Без самообмана поэт остается в тисках реального, а ему необходим идеальный герой (героиня), потому что без идеала нет лирики. Таким идеалом может стать и давно почивший император, и его воображенный по гравюрам юный наследник, и приятель мужа — бывший белый офицер.
Слишком одаренной и своевольной дочерью наградила Ивана Владимировича судьба. Сладить с этим мятущимся духом он не мог. В Сереже его смущали юный возраст и неоконченная гимназия, но располагали — любовь к Марине, воспитанность, обаяние. К тому же Сергей твердо обещал закончить гимназию экстерном и поступить в Московский университет на дорогой сердцу тестя историко-филологический факультет, что и будет исполнено.
3
Во всем стремившаяся перегнать сестру, Ася опередила ее и в сердечных делах. Пока старшая проводила время с книжками, младшая знакомилась с мальчиками на катке. Каток был свой, «придворный» — Патриаршие пруды, с духовым оркестром. Там прежде, чем Марина с Сережей, Ася
* Цветаева М. Неизданное: Семья. История в письмах. С. 306.
** Там же.
Борис Трухачев
1911
повстречалась с молодым человеком, представившимся ей, дважды грассируя:
— Бо/>ис Трухачев!
Их связал лед Патриаршего катка, по которому они мчались, взявшись за руки («Ни с чем не сравнимое упоение»*). И Ася, подобно сестре, была способна восхищаться всем в своем избраннике. Ее умиляют или преисполняют радостной гордостью его логопедические трудности: непроизносимый звук «л» («вне уогики», «на уодке»**) — «аристократическая» картавость,
* Цветаева А. И. Воспоминания. С. 368.
** Там же. С. 369.
от которой, по ее мнению, веет знатью «Войны и мира». Ее веселит его мальчишеское шутовство. Пленяет талант беседы, артистичное перевоплощение из стиля в стиль («то — древнерусская витиеватость, то — галантность французов XVIII века, то — сугубо ученый слог»*). Он насмешлив и лиричен. Он — ребенок и старик, живущий на свете не первую сотню лет.
Пришла весна, и Ася вслед за Мариной уехала в Коктебель.
Мы стояли — Марина и я — под шатром южных звезд, в дыханье дрока, в трепете масличных ветвей, и ее слова, как волны о черный берег, луной или фосфором под водой бились о мое одинокое без нее сердце:
— Он чудный, Сережа... Ты поймешь. Мы вечером будем у меня, — приходи!**
Вскоре в Коктебель приехал Борис. Две пары встретились в Крыму. Кончалась неразлучная жизнь сестер — их общие увлечения, соперничества, раздоры; их чтение стихов в унисон... Теперь они поедут из Крыма врозь — каждая со своей судьбой. На разных поездах.
Стоишь у двери с саквояжем, Какая грусть в лице твоем! Пока не поздно, хочешь, скажем В последний раз стихи вдвоем!
Пусть повторяет общий голос Доныне общие слова, Но сердце на два раскололось. И общий путь — на разных два.
Пора. Завязаны картонки, В ремни давно затянут плед, Храни, Господь, твой голос звонкий И мудрый ум в шестнадцать лет!
Когда над лесом и над полем Все небеса замрут в звездах, Две неразлучных к разным долям Помчатся в разных поездах***.
* Цветаева А. И. Воспоминания. С. 369.
** Тамже. С. 382.
*** Тамже. С. 403.
Анастасия и Марина Цветаевы 1911
Из Феодосии Марина и Сергей уехали в уфимские степи, Ася и Борис — в Финляндию. Осенью 1911 года пары вернулись в Москву. Ася вспоминала: «Марина была к слову „свадьба" не менее равнодушна, чем я. Мы понимали, что это надо обществу, папе. Для него это, конечно, надо было сделать. В таинство брака нас никто не учил верить. Материально же мы в мужьях не нуждались, были обеспечены матерью»*.
В преддверии отцовского благословения старшая Марина чувствовала себя спокойно, младшая Ася — нет. Она представляла реакцию папы на двух недоучившихся гимназистов. Папа был огорчен. Но плыть против течения— не его девиз, да и не по силам ему обратить вспять четырех молодых пловцов.
* Тамже. С. 411.
И свадьбы играют. Марина и Сергей венчались 27 января 1912 года, Ася и Борис — 1 апреля. Где справляли Маринину свадьбу, неизвестно. А свадьбу Аси — у истока Арбата, в ресторане «Прага». Там в позолоченном зале на втором этаже «папа подымает тост за дальнейшее успешное учение присутствующей молодежи (за то, что беспокоит его сейчас больше всего. — А. С.). Бокалы всех усердно тянутся к нему»*.
В этом же году у молодоженов родятся первенцы. Сын у Аси, дочь у Марины. Ася и тут опередит сестру. Крестным отцом малышей станет дедушка Ваня.
Шварц против Цветаева
Восхождение профессора Шварца.
Чрезвычайное происшествие в Румянцевском музее. — Князь Чегодаев-Татарский. Травля. —
«Фортель» Кобылинского. Триумф Цветаева в Каире. Коллекция Голенищева. Оправдан и уволен
1
Как мы помним, среди коллег Ивана Владимировича на университетском поприще значился и Александр Николаевич Шварц. В то время он слыл фигурой весьма солидной, влиятельной, грозной. С детства бравший уроки древнегреческого у будущей знаменитости — профессора Ф. Е. Корша (еще студента), по окончании Московского университета молодой филолог-классик начал свой неудержимый карьерный рост. Интерес к скульптурным украшениям Парфенона или к истории греческой литературы, описание древнегреческих глиняных сосудов, комментарии к Еврипиду и Демосфену, как и изучение неизвестных античных бюстов, ничуть не отвлекали Александра Николаевича от неуклонного продвижения по служебной лестнице. Сориентировавшись на месте (точней, на местах — в университете и в гимназиях, где он преподавал по совместительству), Шварц развил бурную административную деятельность. Став профессором Московского университета, он одновременно явился директором одной из городских гимназий, а позже Межевого института, в частных письмах проклиная тот день и час, когда с уютной университетской кафедры шагнул в пучину администрирования. Но делать нечего:
Цветаева А. И. Воспоминания. С. 461.
у него была большая семья, пятеро отпрысков — их требовалось содержать, как теперь говорят, достойно, следовательно, нужны были деньги. А наука денег не приносила. Деньги приносил карьерный рост.
И вот Александр Николаевич уже попечитель Рижского учебного округа. Рига ему нравится, но очень не нравится отношение тамошних латышей и немцев к русским. Не вдохновляют попечителя и студенческие волнения. Борьба с ними не придает ему, обрусителю, симпатий в обществе. И потому, отдавая дань цивилизованной Риге, он вздыхает о родной Москве. Начальство постепенно вняло его душевному расположению, и Шварц возвратился в Москву на учебные «круги своя», но уже в должности главного столичного попечителя. Его выбирают в Сенат и в Государственный совет.
Тогда же, адресуясь к профессору В. Ф. Миллеру, Цветаев даст собственную характеристику творческим, человеческим и чиновничьим качествам бывшего сослуживца:
Шварц, только и знавший на своем веку, что перекочевывать с одного места на другое повыше содержанием, и имевший для этого смелость даже стать директором Межевого института, конечно, запросился в московские попечители, даже и при перспективе управлять университетом... Отсутствие ученого имени, необычайная надменность нрава, эта комическая манера важным видом большого умника прикрывать внутреннюю пустоту... Ему ничего не оставалось делать, как бежать к властям и просить себе нового места... назначением в Сенат, где профессору греческой словесности и делать решительно нечего... <Так> закончились его перекочевывания с места на место сначала по всей Москве, а потом и по России и его упорные искательства служебных и денежных повышений*.
В 1906 году, когда отсылалось это письмо, Цветаев еще не мог знать, что Сенатом дело не ограничится и «кочевания» на этом не кончатся; что спустя три года Шварца ждет новый желанный взлет, его бюрократический максимум — он станет министром народного просвещения России и, погрузившись с головой в политику, будет, по обыкновению, горько сетовать на то, что якобы вынужден ею заниматься вместо того, чтобы целиком посвятить себя научным изысканиям. Чистое фарисейство!
Ясно, что никаких дружеских отношений между «коллегами» не могло быть. Вне службы они вращались в совершенно
* Письмо И. В. Цветаева В. Ф. Миллеру от 10 января 1906 г. // ЦГАЛИ СПб. Ф. 323. Оп. 1.Д. 437.
разных сферах, но на служебном поприще пути их пересеклись, и Шварц стал «черным человеком» в судьбе Цветаева. К тому времени оба они уже были заслуженными профессорами и тайными советниками, а Шварц в роли министра — еще и прямым начальником Цветаева. Острый конфликт между столь известными людьми привлек к себе всеобщее внимание. Случилось чрезвычайное происшествие, столь необходимое для того, чтобы вызвать широкий интерес. Скандальное событие. По своим последствиям оно станет для Ивана Владимировича сущим бедствием. Конфликту, однако, предшествовало бедствие стихийное.
Весной 1908 года разлив Москвы-реки привел к сильнейшему наводнению. Вода поднялась на 2 метра выше Кремлевской набережной. Все Замоскворечье оказалось затоплено. «Наполнились водой подвалы Третьяковской галереи, затопило многие торговые склады»*. Люди остались без крова.
Многие дети потеряли учебники, тетради — готовиться к экзаменам стало невозможно. Да и не до экзаменов было ни детям, ни родителям, когда они лишились имущества. Цветаев решил помочь школьникам. Через великую княгиню Марию Павловну профессор ходатайствовал перед государем об отмене испытаний для школьников, пострадавших от наводнения. По правилам служебной субординации Цветаеву следовало обратиться с этим предложением к министру Шварцу, а он — через голову Шварца — апеллировал непосредственно к царю. Помощь требовалась экстренная, тогда как хождение бумаг по инстанциям всегда сопряжено с бесконечными согласованиями и задержками. Догадываясь о вероятной реакции министра на свою непрошенную активность, Иван Владимирович уведомил Шварца: «Считаю долгом написать Вам об этом нежданном для меня вмешательстве в дела ведомств не моего ведения»**.
Император приказал потерпевших освободить от экзаменов, а перевод в следующие классы произвести по годовым оценкам.
Есть основания думать, что инициатива Цветаева министру не понравилась. Она только добавила масла в давно разгоравшийся огонь личной неприязни. Вскоре этому огню представилась возможность вспыхнуть с новой силой.
25 января 1909 года в Румянцевском музее в Отделении изящных искусств и классической древности обнаружилась пропажа 310 ценных гравюр в основном русской школы из собрания
* Переписка. Т. 4. С. 363.
** Там же. С. 364.
Ровинского, а также ряда работ английских мастеров. Скоро разрозненные листы краденого появились в московских букинистических магазинах. Директор Музея профессор Цветаев немедленно оповестил о случившемся министра просвещения профессора Шварца. Иван Владимирович лично опознал вора. Им оказался почетный потомственный гражданин М. П. Кознов — постоянный посетитель Музея. Кознов принадлежал к известной купеческой семье, был принят в лучших домах аристократической и коммерческой Москвы. Отец оставил ему немалое наследство. Сын слыл образованным любителем искусства, он коллекционировал книги, картины, гравюры — все это сделало его своим человеком в Румянцевском музее. Он пользовался доверием хранителя отделения. В письме историку П. И. Бартеневу Цветаев рассказал и о причине совершенного преступления:
Обокрал Музей промотавшийся купец Кознов, просадивший большое состояние на танцовщицу, отбивая ее у бывшего московского обер-полицмейстера ген<ерала> Арапова. Молодого купца-савраса увлекла честолюбивая мечта одержать победу над стариком-генералом на поле блуда. Это так похоже на московского купчика-голубчика*.
221 лист был возвращен в Музей.
Однако ни быстрота разоблачения вора, ни возврат двух третей краденого не помешали Шварцу начать уголовное преследование Цветаева, обвинив его в халатности, многочисленных недостатках по ведению музейного хозяйства, в недопустимом совмещении нескольких должностей и служебном абсентизме (отсутствии на рабочем месте).
Цветаев руководил Музеем двадцать восемь лет, а Шварц не был в нем ни разу. Его знание недостатков, необходимости ремонтов, расширения помещений и прочего объяснялось просто: Цветаев регулярно сам сообщал обо всех изъянах министру, испрашивая денег на их устранение и столь же исправно ничего не получая. А совмещение директором и сотрудниками нескольких должностей было связано с тем, что на низкую музейную зарплату они не имели возможности содержать свои семьи.
Видимо, для того чтобы освежить неблагоприятное впечатление о Румянцевском музее вообще и об его директоре в особенности, «министр-законник» соблаговолил учинить строгую ревизию проштрафившемуся учреждению, а в качестве ревизора направил резвого служаку князя Чегодаева-Татарского,
* Письмо И. В. Цветаева П. И. Бартеневу от 6 октября 1910 г. // ЦГАЛИ СПб. Ф. 46. On. 1. Д. 486. Л. 51.
сменившего на своем веку ряд присутствий, тупого контролера, ни аза не смыслившего в музейном деле. Но службистом князь был образцовым, а по родовитости, вероятно, самым титулованным ревизором во всей Российской империи.
2
Древний дворянский род Чегодаевых вел происхождение от «Хозяша Чегодаева, сына Саканского, впервые названного князем в грамоте великого князя Василия Иоанновича в 1524 году»*. Согласно грамоте, Чегодаевы получили право именоваться татарскими князьями, отсюда и пошла двойная фамилия: Чего-даевы-Татарские.
Родовитость и властная позиция придавали ревизору развязную самоуверенность в делах от него далеких. Надо думать, он получил от министра все необходимые инструкции, преследующие заранее заданную цель — изобличить. Поскольку исход ревизии князю был известен заранее, а время как-то занять было надо, вместо того чтобы вникать в суть дела, он предался служебным воспоминаниям. Об этом Цветаев напишет подробно, со стенографической точностью фиксируя прямую речь ревизора.
Я служил у разных начальников, при разных обстоятельствах. Вот хотя бы служба моя у автократора (самодержца. — А. С.), хэ, хэ, хэ, автократора Витте. Я приходил к нему в 11 часов утра и уходил в 12-м часу ночи; у него я и завтракал, и обедал, работы было столько... да и какой! Вот хотя бы с Гапоном я пять раз должен был беседу вести. Боюсь я, как бы и меня не постигла участь Гапо-на. Господа революционеры знают об этом, и они мне могут отомстить...**
Служба у Витте так измучила меня, что мне обещано было первое свободное место в Совете любого министерства (номенклатурный работник! — А. С.). Прежде всего оказалась вакансия в Совете министра народного просвещения, я туда и попал. Здесь я думал отдохнуть, а тут как начали меня посылать на ревизии да на ревизии! А я только что немного оправился от болезни, полученной на прежнем месте. Дошел я там до полного изнеможения и поехал лечиться в Гагры, про которые так много накричали***.
* Чегодаевы // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. СПб., 1903. Т. 75. С. 454.
** Цветаев И. Спорные вопросы. Опыт самозащиты. М.; Дрезден, 1910. С. VIII.
*** Там же. С. IX.
Александр Николаевич Шварц
Начало XX в.
Причина ажиотажа состояла в том, что принц Ольденбургский увлекся идеей создания в Абхазии на Черном море «Русской Ривьеры» — отечественных санаториев и курортов*.
К несчастью, князь Чегодаев-Татарский выбрался на курорт не в лучшее время — зимой.
* В частном сообщении автору этой книги профессор Марина Викторовна Классен-Неклюдова рассказала, какой энергией, выдумкой и галантностью отличался принц. Когда отдыхавшие в Гаграх дамы пожаловались ему на то, что их допекают комары, он распорядился завезти в парк лягушек. Комары исчезли, но возникла новая претензия: лягушки квакают и мешают спать. Тогда принц выписал журавлей из Египта, полагая, что «контракт» с ними заключен на многие годы вперед. Однако первой же осенью журавли построились клином и, махнув крылом на лягушек, улетели назад в Египет... Провожая маленькую Марину с мамой, уезжавших из Гагр в Петербург, принц на прощанье подал им в экипаж два букета роз: большой и маленький.
Не могу теперь вспомнить об этом лечении. Бедный принц, его обманули: выбрали место самое неудобное, — ветер зимою там дует так, что нет сил терпеть...
Я не вынес этого курорта и уехал из Гагр в ужаснейшую стужу, так что пароход наш весь обледенел. Я уехал в Рим, там и поправился*.
Со стороны все это кажется карикатурным, курьезным, забавным. Но Ивану Владимировичу было не до шуток. Министр Шварц потребовал от Цветаева в течение трех дней сложить полномочия директора Румянцевского музея, а хранителя Отделения изящных искусств и классической древности отдать под суд.
И тут добрейший, исполнительнейший Иван Владимирович взбунтовался. Вместо того чтобы безропотно выполнить волю министра, он отправляет жалобу в Сенат, оставаясь директором музея.
Завязался новый тур борьбы.
Шварц насылает на музей одну ревизию за другой, меняя контролеров. Цветаев защищается, отводя все обвинения в свой адрес, оперируя цифрами отчетов, напоминая о тех бесценных собраниях, которыми он пополнил Румянцевский музей за двадцать восемь лет своего безупречного служения: библиотека К. Т. Солдатёнкова (8000 томов и 15 000 журналов); библиотека Е. П. Блаватской; рукописи В. Г. Белинского; письма, адресованные А. С. Пушкину; рукописи В. И. Даля... В Музей поступают обязательные экземпляры всех книг, издающихся в России.
Но министра это не убеждает. Шварц настраивает против Цветаева прессу. С горечью Иван Владимирович пишет Клейну:
Я как-то совершенно неожиданно сделался предметом злобы, клевет и всяческого преследования со стороны лиц невысокой нравственной пробы, начиная от голодного газетного репортера и до министра Шварца, дружелюбно протянувшего первому свою властную десницу... Вы ни на минуту не сомневались в отсутствии моих действительных вин, кроме недостатка мужества, чтобы вышвырнуть на улицу нравственных пошляков из казенной квартиры Румянцевского музея**.
* Цветаев И. Спорные вопросы. Опыт самозащиты. С. IX.
** Письмо И. В. Цветаева Р. И. Клейну от 19 декабря 1909 года // История создания музея в переписке профессора И. В. Цветаева с архитектором Р. И. Клейном... С. 280.
3
5 августа 1909 года газета «Русские ведомости» сообщит: «На днях в читальном зале Румянцевского и Публичного музеев обнаружено злоупотребление с книгами одного из постоянных посетителей библиотеки, некоего литератора Л. Коб<ылин>ского, писавшего в декадентских журналах под псевдонимом „Эллис“. Этот посетитель из выдаваемых ему книг для чтения вырезывал страницы текстов и брал себе. Проделка была замечена одним из служителей...»*
Эллис (Лев Кобылинский) действительно вырезал из двух библиотечных книг понадобившиеся ему страницы и попался на третьей книге. Его друг Андрей Белый оправдывал этот поступок тем, что Эллис перепутал библиотечные издания со своими собственными. (А зачем было вырезать из собственных?..) Позже Ася назовет поступок Чародея безобразным анархизмом, но тогда они с сестрой — особенно Марина — полностью встали на защиту Эллиса, отвернувшись от отца. Когда прошел слух, что виновника будут судить, Марина прислала оскандалившемуся Чародею письмо, содержание которого Эллис пересказал Андрею Белому:
Вчера вдруг получаю письмо из Парижа от старшей дочери Цветаева, Маруси, моей большой поклонницы. Она все узнала от Аси, которая, кажется, не понимает серьезности дела. Маруся мне пишет, что она, веря в меня и не требуя никаких доказательств, считает своей обязанностью сделать все, чтобы меня спасти: «Если с вами что-нибудь сделают, я застрелюсь!» — пишет она... «Вас не смеют судить, и если бы вы раскрали '/2 музея, то все равно они не смеют вас судить!..» Она пишет, что немедленно едет в Россию и «пойдет на все»... Быть может, это детская, смешная греза, но меня это тронуло до невыразимости**.
Цветаев был поражен неуважением к книге со стороны поэта, друга дома, приятеля его детей. К счастью, Иван Владимирович так и не узнал о том «векселе», который его дочь выдала Кобылинскому на раскрадывание половины музея.
Эллис предоставил новые экземпляры испорченных книг, но судебного позора не избежал, при этом Музей преследовал лишь общественный интерес: он привлек внимание к недопустимости подобного обращения с книгой.
В разгар унизительной чехарды с кражами, ревизиями, вырезанием страниц, разоблачениями, служебным преследованием
* Цветаева М. И. Собрание сочинений. Т. 6. С. 35.
** Андрей Белый. Между двух революций. С. 536-537.
и прочей недостойной кутерьмой Цветаев уезжает в Каир на Всемирный археологический конгресс. Там он попадает в общество уважающих его коллег, элиту мировой археологии, к коей давно принадлежит сам. С присущей ему самоиронией в частном письме он так описывает свой успех на конгрессе:
...Больших египтологов ни из Англии, ни из Германии не было... И прекрасно они сделали, потому что это дало возможность блистать и ученостью и французским красноречием знаменитым русским ученым... Аза многогрешного, как посланца Москвы, заставили было говорить даже в первый день по открытии конгресса в Каире, и весь Египет, говорят, облекся в траур, когда по нему пронеслась весть, что я на конгресс не прибыл. Но зато на другой день чуть не разломили здания съезда, когда узнало народонаселение Каира о моем появлении под египетским небом... Пригодились мне тут демосфеновские приемы произнесения речи под плеск морских волн, которым я предавался на досуге в каюте парохода, сидя у люка на койке. Речь я таким образом приладил к своей неповоротливой владимирской семинаристской лингве — и дело сошло с таким триумфом, что чуть не лопнули окна и не провалился потолок зала от рукоплесканий. На триумфатора потом весь Каир, а после и пирамиды, и весь Верхний Египет до Нубии и Судана, умильно смотрели и указывали пальцами, не бывши на этом чтении... Упоенный славой и насыщенный впечатлениями путешествия по Нилу, я отплыл из Александрии в Грецию*.
Встречая на вокзале вернувшего из Египта папу, Марина и Ася с трудом узнали его в пропеченном на египетском солнышке господине.
Еще одно чудное, радостное, «цветное» событие произошло в эту пору. Давний спор между Эрмитажем и только готовившимся к открытию Музеем изящных искусств за обладание коллекцией египетских подлинников Голенищева, которую тот собирал в течение тридцати лет, завершился в пользу Музея.
Разоренный своими наследниками, Голенищев был вынужден продавать коллекцию. Американцы давали за нее 500 000 рублей. Но собиратель хотел, чтобы коллекция непременно осталась в России. Правительство предложило ему 350 000, и он согласился. Потеряв сразу 150 ООО «на патриотизме», он не возразил и против долгосрочной выплаты предложенной суммы. Революции 1917 года поставят крест и на этом. Надо ли говорить, что именно такой человек мог стать и стал близок Цветаеву? Во всей истории со Шварцем он был безусловно
* Письмо И. В. Цветаева Н. И. Романову от 24 апреля 1909 г. // ОР ГМИИ. Ф. 14. On. III. Д. 249.
на стороне Ивана Владимировича, и, когда тот издал свою «Самозащиту»*, чтобы доказать вздорность обвинений Шварца, Голенищев обратился к автору со словами:
Великолепно Вы поступили, что Вашу блестящую самозащиту облекли в форму книги и сделали ее доступной Вашим современникам: такие гнусности, которыми замарало себя министерство Шварца по отношению к Вам, не могли быть пройдены молчанием; искоренить подобные факты может лишь одна гласность**.
Борьба длилась два с половиной года. В мае 1911-го Сенат признал претензии министра Шварца к профессору Цветаеву необоснованными и прекратил дело.
Однако Шварц успел нанести последний удар. Он уволил Цветаева без пенсии с должности директора Румянцевского музея.
Лишение пенсии означало для Ивана Владимировича материальную катастрофу. У него оставался единственный источник существования — жалованье за чтение лекций. Правда, жизнь давно приучила его довольствоваться малым: ездить 3-м классом железной дороги, селиться в дешевых гостиницах... При этом Цветаев имел дело с громадными суммами, тратил немыслимые деньги. Но тратил их на Музей, на общее дело. Все денежные расчеты велись только через университет, все дарения оформлялись там же. За все годы строительства Музея к рукам его создателя не прилипло ни полушки. Он занимался Музеем безвозмездно. Он не получал жалованья, в командировки за экспонатами ездил на свои средства, а при покупках всемерно экономил деньги дарителей.
Голенищев поддержал Цветаева в его тяжелую минуту. Более того, цветаевскому Музею досталась коллекция древних подлинников, собранных знаменитым египтологом. Свою благодарность ему и солидарность с ним Иван Владимирович выразит в словах о том, что наука «дает силы становиться выше обстоятельств», а потому «sursum corda! — выше голову!»***.
* Цветаев И. Спорные вопросы. Опыт самозащиты.
** Письмо В. С. Голенищева И. В. Цветаеву от ноября 1911 г. // ОР ГМИИ. Ф.б.Оп. 1.Д. 571.
*** Письмо И. В. Цветаева В. С. Голенищеву от 24 января 1911 г. // Парижский центр В. С. Голенищева. Ксерокопия в архиве ОР ГМИИ.
Глава девятая
«Я СОВЕРШИЛ ВСЕ, ЧТО МОГ...»
...Внемлите мне, пенаты, вам пою Обетный гимн. Советники Зевеса...
И в долгие часы пустынной грусти Томительно просилась отдохнуть У вашего святого пепелища Моя душа...
Александр Пушкин
Открытие
О рыцарстве. — Маринины страницы. — «...На вершине своего дела»
1
Говоря о воздухе дома в Трехпрудном, Марина назвала его не интеллигентским — рыцарским. А что может быть важней духовной атмосферы, которая задается хозяином дома, поддерживается хозяйкой, формирует внутренний мир детей? Представление о рыцарственности настолько вытеснено из современной жизни, что требует экскурса в свою историю.
Глядя на сутуловатого, склонного к полноте господина в перелицованном костюме, в сморщенных сапожках со стесанными вкось каблуками, бредущего Трехпрудным переулком, всегда погруженного в свои мысли и потому часто попадающего в натуральные и фигуральные выбоины обыденной жизни, краснеющего от смущения, когда к нему обращаются с чувством превосходства или, напротив, с чрезмерным пиететом, вы вряд ли догадаетесь, что перед вами редчайший для России тип мужественности —тип нежного рыцаря, тем более необычайный, что и суровая рыцарственность была на Руси в диковинку.
Классическое рыцарство выковывалось не здесь — в братоубийственных сечах и вероломстве князей, а в феодальных
войнах средневековой Европы. Его ареал, утвердив свой западный форпост — Британию, устремился на восток, заставляя французских шевалье выхватывать из ножен узкие шпаги, осаженные в рукоять, германских баронов — срочно седлать забранных доспехами коней, а рыцарей Чехии — вздымать над Влтавою лес высоких копий. Но восточней Польши ареал не распространился. Рыцарства как такового Россия не знала никогда. Она знала смерда, знала князя, знала царя. Но она не знала рыцаря.
Через триста лет после своего реального исхода — на рубеже XIX-XX веков — в сознании европейца рыцарство ассоциировалось уже не столько с Крестовыми походами и воинской отвагой, сколько с любой доблестью, основанной на непреложном кодексе чести. Стали говорить о рыцарях науки, о рыцарях поэзии... Понятие приобрело символический смысл. Каким был каждый средневековый рыцарь, уже никто не помнил, но все помнили, каким он должен был быть; каким он хотел, чтобы его видели; какой образ внушил он потомкам.
Когда мы думаем о рыцарском отношении к делу, о рыцарском отношении к женщине, то прежде всего имеем в виду два качества мужества: самоотверженность и благородство. В. И. Даль толкует понятие «рыцарь» как «честный и твердый ратова-тель за какое-либо дело, самоотверженный заступник»*. На первом плане уже не сословная принадлежность (вассал сеньора), не род войск (кавалерия), а персональные свойства духа: честность, твердость, самоотверженность. На русской почве в какой-то мере именно эти качества культивировались в той среде, которую представлял профессор Цветаев, — в среде интеллигенции. Однако здесь они были заметно смягчены сугубо мирным характером ее деятельности (ученые, священники, врачи, педагоги, художники, артисты) и славянской душевностью. В отличие от западного интеллектуала, русский интеллигент представал не только образованным умником, способным к рассудочному действию, но умником с непременным чутким душевным бдением. При этом ему часто не хватало твердости духа. Отсюда представление о рефлексирующем интеллигенте, по-женски нерешительном, робком. Он честен и чист, но склонность к несбыточным мечтаниям и недостаток воли, постоянные сомнения и неуверенность в правильности своих поступков не сосредоточивают его дух, а, наоборот, распыляют. У него нет одной четко очерченной цели. Целей
* Рыцарь // Далъ Вл. Толковый словарь живого великорусского языка. М.. 1982. Т. IV. С. 119.
всегда много, и они конкурируют до тех пор, пока не начинают расплываться, размываться... Здесь избыточная мягкость, как и чрезмерная «креативность», свидетельствует о внутренней слабости. Душевная тонкость не находит волевой поддержки. Нежность не поддерживается твердостью. Получивший женское воспитание барчук, с малолетства избалованный вниманием мамушек и нянюшек, так и несет в себе всю жизнь это размягчающее женское начало, странное в мужчине и далекое от того идеала мужества, который выработало средневековое рыцарство.
Внешниеобстоятельствацветаевскойсудьбы, однако, нерас-полагали к излишней изнеженности. Рано лишившись матери, Иван Владимирович прошел через бедное детство и юность, через суровый бурсацкий правеж, через мутное мелководье постоянной нужды, прежде чем выбрался на большую воду -стал почетным профессором Болонского и заслуженным профессором Московского университетов. Но все эти испытания не огрубили его душу, а преисполнили состраданием и вместе с соприродной Цветаеву страстью к науке, к познанию, вместе с творческой самоотдачей выковали его дух. Он не обладал, пожалуй, ни одной из семи записных добродетелей образцового средневекового рыцаря. Вместо верховой езды изредка пользовался извозчиком, предпочитая роль пешехода. Вместо фехтования разве что манипулировал указкой на лекциях в университете. Копьем не владел. Плавал только в Оке возле берега. На охоту не ходил. В шашки не играл. Сочинению и распеванию собственных стихов, посвященных даме сердца, не предавался, хотя петь любил, но за отсутствием слуха вынужден был сдерживать свои вокальные порывы. И вместе с тем Цветаев был рыцарем по самой сути этого понятия — человеком, способным к самоотверженности и благородству, твердым ратователем за общее дело, мужественным заступником. Его славянская природа внесла свою нежность в западную суровость, привитую ему образованием, в свою очередь придавшую Ивану Владимировичу внутреннюю силу самодисциплиной, обязательностью, чрезвычайной работоспособностью, точностью этических оценок. Он был мягким в общении, в быту и твердым в принципах. Конечно, не только он создавал Музей, но и Музей создавал его: такое число препятствий пришлось превозмочь основателю, что дух его закалился в этом непрерывном преодолении. Дух закалился, а сердце надорвалось... Конечно, и его гениальная дочь своим отчеством, фамилией, сохраненной ею после замужества как литературный псевдоним, напоминала миру об отце. И если когда-то ее узнавали по нему, то потом его стали узнавать по ней.
Между тем гениальность и рыцарство — разные воплощения духа, и одно не сводимо к другому. Гениальность есть попадание в цель, которую не видит никто. Сверхчувствительность внутри своего призвания. Рыцарство — желание бескорыстно положить душу за други своя, за общее дело. Одно не может заменить другого. Заменить — нет, но упрочить — да. Так, рыцарственность отца придала мужества дочери; помимо ранящей нежности наделила ее поэзию недоступной для женщины мужской мощью, позволила создать свой рубленый, метафорически насыщенный стиль, исполненный пронзительного пафоса, стиль-боец с прерывистым дыханием битвы.
«Был бы щит, начертала бы: ,,Ne daigne“»*.
«Девиз, мною найденный и которым счастлива и горда больше, чем всеми стихами вместе, Ne daigne — чего? Да ничего, что снижает (страха, выгоды, личной боли, житейских соображений — и сбережений)»** — ничего, что унижает дух.
2
Теперь, когда на страницах жизнеописания труд отца завершается, когда открытие Музея уже не за горами, вспомним вместе со средней дочерью некоторые эпизоды из последней части пройденного отцом пути.
Года за два до открытия музея (то есть в году 1910-м. — А. С.) отцу предложили переехать на казенную директорскую квартиру, только что отстроенную.
— Подумайте, Иван Владимирович, — соблазняла наша старая экономка Олимпиевна (у профессора истории античного искусства и экономка — дочь Олимпия! — А. С.), — просторная, покойная, все комнаты в ряд, кухня тут же — и через двор носить не нужно, электричество — и ламп наливать не нужно, и ванна — и в баню ходить не нужно — все под рукой... А этот — сдать...
— Сдать, сдать! — с неожиданным раздражением отозвался отец. — Я всю жизнь провел на высокой ноте! — И, уже самому себе, отъединенно: — В этом доме родились все мои дети... Сам тополя сажал... — И совсем уже тихо, почти неслышно, а для экономки и вовсе непонятно: — Я на это дело положил четырнадцать лет жизни... Зачем мне электричество?! А квартиру отдать семейным служащим, как раз четыре квартирки выйдут, отличные... Две комнаты и по кухонке... — Так и было сделано***.
* Не снисхожу (фр.). Цветаева М. И. Собрание сочинений. Т. 4. М., 1994. С. 624.
** Цветаева М. Неизданное. Сводные тетради. М., 1997. С. 338-339.
*** Цветаева М. И. Собрание сочинений. Т. 5. С. 161.
* * *
Строительство здания подходило к концу. Настала пора позаботиться о газоне в скверике перед фасадом. Лучшие газонокосилки производили в Англии и Германии. До Англии Цветаев не доехал, а в Германии покупку сделал. Заплатить деньги за газонокосилку ему было не жалко, а переплачивать столько же таможне — ужасно жалко. Таможенные поборы он звал грабительскими, таможенников — жуликами (недаром именно на таможне сколачивал первоначальный капитал Чичиков), а потому обмануть воровское заведение покупатель считал небольшим грехом.
В эту же весну отец из Германии привез от себя музею — очередной подарок: машинку для стрижки газона.
— А таможне не платил, ни-ни. Упаковал ее в ящичек, сверху заложил книжками и поставил в ноги.
— А это что у вас здесь?
— Это? Греческие книжки. — Ну, видят — профессор, человек пожилой, одет скромно, врать не будет. Что такому и возить, как не греческие книжки. Не парфюмерию же. Так и провез без пошлины. Помилуйте! Да на пошлину вторую такую стрижку купить можно. (Никогда не забуду, как он на самосеяном газоне перед музеем — первый — ревниво, почтительно, старательно и неумело ее пробовал.)*
* * *
Как человек правильный и простодушный, Иван Владимирович полагал, что Музей, который он строит, навсегда останется музеем, что бы ни случилось. Однако не все соотечественники разделяли это мнение.
Отношение к строящемуся музею было разное. Помню известного московского педагога Вахтерова, в 1909 году говорившего мне, тогда — гимназистке:
— Зачем музей? Сейчас нужны лаборатории, а не музеи, родильные дома, а не музеи, городские школы, а не музеи. Ничего! Пусть строят! Придет революция, и мы, вместо всех этих статуй, поставим койки. И парты. А что строят — ничего. Стены нам пригодятся**.
* * *
Но Цветаев умел пропускать мимо ушей плохое и долго радоваться хорошему, в частности своим планам. Вначале он жил мечтой о Музее, потом его созиданием, а теперь, когда здание
* Цветаева М. И. Собрание сочинений. Т. 5. С. 161.
** Там же. С. 162.
было, в основном, построено и заполнено экспонатами, Иван Владимирович жил предстоящими научными и просветительскими задачами. Конечно, не замечать семейных неурядиц и драм, общественных потрясений было невозможно, и он еще как замечал, но тем не менее «не терял равновесия». Мечты, созидания, новые задачи выправляли опасные крены. Так, он стал вдохновенным первым экскурсоводом, показывавшим Музей всем желающим еще до его открытия.
В общем, интеллигенция и молодежь относились (к Музею. — А. С.) равнодушно, и отец в своем деле (как каждый любящий — в своем!) был одинок. Но он этого не замечал — или миновал. Зато как же он радовался малейшему сочувствию, малейшему «музейному» вопросу, как охотно сам путеводил — шестидесятипятилетний старик и безумно занятый человек — наших сверстников, мальчишек и девчонок, сам показывая и рассказывая, обстоятельно отвечая на самые наивные вопросы. Убеждена, что не более ревностно — раз от всей души, значит, больше нельзя! — он потом показывал музей верхам России. Разница между путеводимыми тонула, и даже сгорала, в неизменности вдохновения. Усилить это вдохновение могло только чужое вдохновение. Оно редко — везде*.
Специальный рассказ Марины посвящен самой курьезной «экскурсии», которая была возможна только в музее обнаженных фигур.
Не могу не рассказать об одном его путевождении. Поступил к нам дворник, прямо из деревни, — семнадцати лет, круглолицый, кареглазый, с щеками пышущими, как те печи, которые он так жарко и с таким жаром топил, — по имени Алексей, и, действительно, Божий человек, даже Божие дитя: не пил, не курил, только спал. Зато — спал непробудно.
И вот, это самое «Божие дитя», однажды, мне:
— Барышня, как бы мне посмотреть нашего барина заведение? Говорят, сам государь на освящение пожалует, так как бы мне уж заодно...
За утренним чаем я, отцу:
— Папа, ты не можешь показать Алексею музей?
— С удовольствием. Кто такой Алексей?
— А это наш дворник. Он очень интересуется...
— Гмм... навряд ли он... А впрочем, пусть посмотрит...
За вечерним чаем того же дня:
— Водил, папа, Алексея?
— А как же!
— Ну, как?
— Да видишь ли, как человек непросвещенный и даже придурковатый, он, завидев всех моих Гераклов и Венер, так застыдился —
и даже испугался, что, представь себе, всю дорогу шел слепой. Да, да, да. Закрылся локтем и таким манером прошел по всему музею. — Да ты, Алексей, гляди! Сейчас ничего такого нет! — Куда там! Красный, как рак, взглянет на секунду из-под локтя и, как ошпаренный, опять зажмурится. Тут я его и отпустил.
Утром Алексей приходит топить печку.
— Ну, что, Алексей, понравился тебе музей?
— Здание хорошее.
— Почему же ты все время шел слепой?
Алексей, шепотом:
— Женщины голые...
На кухне же объяснялся вольнее:
— Конечно, барину видней, и медали у них все, а я человек деревенский, а все — чудно! На старости лет, а чем занялись! Баб голых понаставили да мужиков! Да еще освящать задумали... Да поп — увидит — как плюнет! Музей!*
* * *
Главным отличием, которым царская семья отметила труд профессора Цветаева по созданию Музея изящных искусств имени императора Александра III, стало присвоение основателю звания почетного опекуна. Оно жаловалось лично императором, приравнивалось к тайному советнику и давало право потомственного дворянства, но все это у Ивана Владимировича уже было. Оставалось за свои немалые деньги изготовить парадный мундир, расшитый золотом от плеч до колен, — и это казалось новому опекуну обременительной роскошью. Надевать форму надлежало на все торжественные церемонии. Ясно, что ходить в золотом мундире по улицам не полагалось — следовало ездить в карете с лакеем на запятках. Иван Владимирович сообщал Трею, что почетное опекунство сопряжено с блеском мундира и треском кареты.
Помимо крупных трат, недовольство вновь пожалованного опекуна усугублялось еще и тем, что задачи Опекунского совета и вообще смысл этого учреждения были ему непонятны. Возникала какая-то странная синекура: она не требовала труда, но и дохода не приносила, а приносила только почет при существенных расходах. Цветаев привык за конкретную плату или добровольно, без вознаграждения, делать конкретное дело. Если есть Опекунский совет, значит, он должен кого-то опекать. А тут «...никого не опекают и ничем не управляют...»**. Притом заведение в высшей степени аристократическое. Цветаев — чуть ли
* Цветаева М. И. Собрание сочинений. Т. 5. С. 162-163.
** Письмо И. В. Цветаева П. И. Бартеневу от 6 августа 1912 г. // ЦГАЛИ СПб. Ф. 46. On. 1. Д. 486.
Иван Владимирович Цветаев в мундире почетного опекуна Московского присутствия Опекунского совета Ведомства императрицы Марии 1913
не единственная нетитулованная персона, всё князья да графы. Председатель — Александр Александрович Пушкин, сын Александра Сергеевича. Одним словом, почета много, а работы нет. В письме П. И. Бартеневу опекун пишет: «Незнакомый с новым для меня учреждением, я не понимаю смысла в ношении этого титула без активной службы. Если никакого дела не дают, если не полагается по этой должности никакого денежного оклада, то какое значение имеет этот титул?..»* Жалко тратить деньги на бутафорский мундир, стыдно на старости лет так ослепительно наряжаться и выезжать в карете. Но делать нечего: по этикету опекун обязан был являться на торжественные церемонии в мундире, а его дочери, как и все дамы, согласно предписанию, — например, в белых платьях.
Дома начались разговоры о пошиве мундира.
— Шить настоящим золотом, — говорил отец сокрушенно, — и подумать страшно, во что это золото обойдется...
— Ничего, папа, не поделаешь! Дали опекуна —давай мундир!
— Я не против мундира, но есть мундир и мундир... Зачем мне, старому человеку, золото?
— Папа, но это форма!
— Знаю, знаю, но когда подумаешь, что на этот мундир такого же, как я когда-то, босоногого, — в Рим отправить можно... Семьсот целковых! (И уже с улыбкой:) — Да весь опекун того не стоит!
Мундир, конечно, был сшит. Был в нашем зале впервые надет и обозрен. Чудесный, древесный, весь в каких-то цветочках.
— Папа, не огорчайся! Ведь это же для музея!
(С доброй улыбкой, но все же со вздохом:)
— Вот, разве уж, для музея!
Сшили отцу мундир, стали шить дочерям платья («дамы в белых городских, закрытых»). Нечего говорить, что отец за материей отправился сам, — в какой-то свой магазин, «к одному моему знакомцу, с которым я уже тридцать лет торгуюсь...» — «Материю нужно, прежде всего, прочную, — музей открывается раз, а белое платье всегда пригодится, а фасоном советую шить самым простым, две прямые полы, например, и схватить лентой, а сзади пустим клин». (В спасительность клина во всех дамских туалетах отец верил свято.) Шила нам наша вечная Олимпиевна, по призванию домашняя портниха. Нечего говорить, что отец на всех примерках присутствовал.
— Только не обтягивайте, Александра Олимпиевна, не обтягивайте! Материи за глаза, а Марина и так худая, — уж не знаю, с чего, — чтоб не вышло, как кость. Припустите, припустите!
Олимпиевна же, во всем с отцом соглашаясь, под машинный шумок, шила по-своему, то есть по-нашему. Самое трогательное, что, когда отец увидел нас в готовом, то есть, по существу, для него неузнаваемом, он, гордясь и восхищаясь, свой покрой и клин узнал!**
* Письмо И. В. Цветаева П. И. Бартеневу от 6 августа 1912 г.
** Цветаева М. И. Собрание сочинений. Т. 5. С. 163.
* * *
Иван Владимирович был человеком и щедрым, и скупым. Щедрым на траты, которые считал непременными, и скупым на траты, которые считал лишними.
Марина объясняла:
Поймите меня: это не было скупостью.
Вернее — было. Скупостью в превосходной степени.
Скупость сына бедных родителей, стеснявшегося тратить на себя то, чего не могли на себя тратить они, трудившиеся до последнего вздоха.
Итак — скупость, являющая собой сыновнее уважение.
Скупость бывшего нищего студента, чьи нынешние траты как бы наносили ущерб нынешним нищим студентам.
Итак — верность своей юности.
Скупость земледельца, знающего, с каким трудом земля родит деньги.
Итак — верность земле.
Скупость аскета, которому все лишнее для себя — тела и всего слишком мало для себя — духа; аскета, сделавшего выбор между вещью и сутью.
Скупость каждого, делом занятого, человека, знающего, что любая трата — прежде всего трата времени.
Итак — скупость: экономия времени.
Скупость каждого, живущего духовной жизнью и которому просто ничего не нужно. <...>
Итак, скупость: духовность.
Скупость дающего, наконец: быть скупым, чтобы мочь раздаривать.
Ибо раздаривал он до последнего вздоха, ибо последний вздох его был актом отдачи, сожалением, что не хватило еще нескольких лет жизни для перестройки — на собственный счет, на тройной свой оклад профессора, директора и почетного опекуна — музейных колонн, показавшихся критикам слишком тонкими по отношению к высоте.
...А сколько бедных студентов, бедных ученых, бедных родственников поддерживал он!
Но заметим себе: щедрость его была расчетлива в мелочах; вручая, например, студенту двести рублей на поездку в Италию, он не забывал уточнить: «А до вокзала отправляйся на трамвае, это в десять раз скорее и в десять раз дешевле, чем на извозчике: там пятак, а тут полтинник!»*
Накануне открытия, назначенного на 31 мая 1912 года, взволнованный Иван Владимирович даже учил Асю и Марину
искусству реверанса, чтобы они смогли достойно приветствовать императора.
Наконец все приготовления закончены. Платья отглажены. Реверанс разучен.
Осталось открыть Музей.
3
В автобиографической прозе Марина Цветаева уделила специальное внимание кануну и самому дню открытия.
За день до открытия музея, рано утром, за отцом... спешно приехал курьер.
— Что такое?
— Не могу знать, только просили поскорее и во всем обычном...
Отец сразу отправился. Вернулся довольно скоро.
— Зачем вызывали?
— А показать молодой государыне (Александре Федоровне, жене императора. — А. С.) музей.
— Одной?
— Да. Она, бедняжка, страдает нервами, не выносит скопления людей, вот и решила посмотреть заранее.
— Как же это было?
— Слуга вез кресло на колесах, я шел рядом.
— Она что-нибудь спрашивала?
— Нет, ничего. Так и проехались молча по всем залам.
— И даже не сказала, что понравилось?
— Нет. Она, должно быть, бедняжка, совсем больная: лихорадочные щеки, взгляд отсутствующий... Я сначала, было, называл залы, а потом и перестал: вижу — не до меня. Ни разу не взглянула, ни направо, ни налево, так и проглядела в одну точку. Но под конец все-таки сказала:
— Благодарю вас, профессор...
Бедная женщина! Бедная женщина!*
И вот великий день настал.
Задолго до назначенного часа вся семья Цветаевых уже была в Музее. Сквер перед зданием обрамляли шеренги лицеистов.
Начали прибывать приглашенные на открытие.
Камер-фрейлины и фрейлины императрицы Александры Федоровны (жены Николая II) и вдовствующей императрицы Марии Федоровны (матери Николая II), фрейлины великих княгинь; собирался высокородный букет статс-дам...
Представлены Совет министров во главе с премьером Коковцовым, Государственный совети Государственная дума... На месте
Цветаева М. И. Собрание сочинений. Т. 5. С. 164.
Музей изящных искусств имени Александра III при Императорском Московском университете 1912
губернатор, градоначальник, генералитет... Здесь же ректор и профессора Московского университета, деятели искусств...
Прибыли статс-секретари Витте и Ермолов, наместник его величества на Кавказе граф Воронцов-Дашков, сенаторы, адмиралы... И так далее, вплоть до наказного атамана Уральского казачьего войска.
Согласно Марине Цветаевой, приехал Дмитрий Иванович Иловайский в своей знаменитой бобровой шубе до пят (31 мая!). Его сопровождала жена, урожденная madam Коврайская, в рябой юбке, хотя всем дамам было велено явиться в белом. Церемониймейстер нервничал, не зная, куда бы убрать подальше с глаз долой эту нарушительницу этикета.
Явился и приглашенный оператор кинохроники фирмы «Братья Патэ».
Прибыл митрополит Владимир. Общество собиралось на молебен.
Все ждали государя.
Просмотр кинохроники приезда царской семьи в режиме стоп-кадров позволяет нам уловить мельчайшие детали события, как будто мы сами стоим где-то здесь на ступеньках Музея.
В 3 часа дня, строго по регламенту, к фасаду подкатывает кавалькада автомобилей. В открытом первом — четыре великие
княжны. Навстречу им по ковровой дорожке устремляются главные виновники торжества. В центре — Иван Владимирович Цветаев с лентой через плечо. Справа от него — Юрий Степанович Нечаев-Мальцов в мундире обер-гофмейстера высочайшего двора. Слева — Роман Иванович Клейн в светском костюме.
Три княжны разом поднимаются в остановившемся экипаже, сбрасывая тонкие верхние кофточки и оставаясь в белых летних платьях с узкими поясками на талиях и в широкополых шляпах, убранных цветами. Сверху все вместе сестры напоминают даже не букет, а целую клумбу, необыкновенно живую, нарядную и подвижную. Ольге Николаевне шестнадцать лет. Татьяне Николаевне — четырнадцать (позавчера у нее был день рождения). Марии Николаевне — двенадцать. Последней со ступеньки спрыгивает замешкавшаяся Анастасия Николаевна десяти лет. Она еще такая маленькая, что ее с трудом видно среди гостей. Настя вертится на одном месте посредине ковровой дорожки, поправляет распущенные волосы, чешет коленку.
В следующем закрытом автомобиле подъезжает император с императрицей-матерью. Первой выходит Мария Федоровна в длинном белом платье. Цветаев, Нечаев-Мальцов и Клейн подходят к ней.
Два генерала свиты берут под козырек, а еще два, тоже взявши под козырек, бегут через дорожку, чтобы успеть встать в строй.
Императрица протягивает руку для целования Юрию Степановичу. Тот с почтительной поспешностью целует. Ивану Владимировичу — тот целует с почтительной неторопливостью. Роману Ивановичу... При этом мужчины склоняются почти в пояс. Силуэт Ивана Владимировича, целующего руку даме, пожалуй, самый импозантный. Плавная, как нарисованная по лекалу, линия: затылок — шея — спина в наипочтительнейшем поклоне.
Между тем один из опоздавших генералов свиты судорожно стягивает с руки тугую белую перчатку. Перчатка капризничает, сниматься не хочет. Успел! Сорвал левой рукой, подхватил с головы фуражку и на мгновение припал к пальцам вдовствующей императрицы.
Государь в военной форме (короткий облегающий мундир, заправленные в сапоги галифе, длинная сабля) обменивается рукопожатием с Нечаевым-Мальцовым. Протягивает руку Цветаеву и пожимает с чувством. Чуть позже приветствует архитектора. Тут же обращается к одному из военных, при этом Роман Иванович немедленно отходит в сторону, чтобы нечаянно не услышать разговор, к нему не относящийся.
Николай — ладный, подтянутый, — словно по какому-то наитию, здоровается за руку с двумя генералами свиты, вставшими
Юрий Степанович Нечаев-Мальцов в мундире обер-гофмейстера высочайшего двора Около 1912
в строй заблаговременно, и не здоровается с их опоздавшими товарищами, причем того, который и перчатку не снял вовремя, царь, кажется, нарочито обходит стороной.
Вся процессия, украшенная императрицей и подвижным цветником ее внучек — великих княжон, вливается в музейные «врата».
Атам, за «вратами», — Марина, и мы передаем слово ей. Как раз в этот момент мимо нее проходит государь.
Бодрым ровным скорым шагом, с добрым радостным выражением больших голубых глаз, вот-вот готовых рассмеяться, и вдруг — взгляд — прямо на меня, в мои. В эту секунду я эти глаза увидела: не просто голубые, а совершенно прозрачные, чистые, льдистые, совершенно детские.
Глубокий piongeon* дам, живое и плавное опускание волны. За государем — ни наследника, ни государыни нет —
Сонм белых девочек... Раз... две... четыре...
Сонм белых девочек? Да нет — в эфире Сонм белых бабочек? Прелестный сонм Великих маленьких княжон...
Идут непринужденно и так же быстро, как отец, кивая и улыбаясь направо и налево... Младшие с распущенными волосами, у одной над высокими бровками золотая челка. Все в одинаковых, больших, с изогнутыми полями, мелкодонных белых шляпах, тоже бабочек! вот-вот готовы улететь...**
После молебна государь подошел к Цветаеву. В пересказе дочери со слов отца между ним и императором состоялся следующий диалог:
— А скажите, профессор, что за красивая зала, где мы слушали молебен, такая светлая, просторная?
— Греческий дворик***, Ваше Величество.
— А почему он, собственно, греческий, когда все здесь греческое? <...> Марья! Настасья! Идите сюда и слушайте, что говорит профессор!
— Помилуйте, Ваше Величество, разве таким козам может быть интересно, что говорит старый профессор?..****
* Ныряющий поклон (фр.).
** Цветаева М. И. Собрание сочинений. Т. 5. С. 168.
*** В номере газеты «Раннее утро» (Раннее утро. 1.VI.1912 // ОР ГМИИ. Ф. 5. On. XIII. Ед. хр. 16. С. 3), вышедшем на следующий день, сказано, что молебен прошел в Белом зале. Возможно, корреспондент и М. Цветаева, не вполне уверенно ориентируясь в многочисленных залах и двориках Музея, говорили об одном и том же.
**** Там же. С. 169.
Греческий дворик со слепками портика кариатид и памятника Л исикрата
Настает звездный час Ивана Владимировича: он показывает Музей царской семье.
Чего стоит один только упомянутый Греческий дворик! В самые пасмурные дни долгой московской зимы, залитый мягким кремовым светом, он будет встречать гостей как напоминание о залитой солнцем Элладе. Выстроенный в форме двухэтажной террасы, он вмещает в себя архитектурные копии шедевров античного зодчества: портик Эрехтийона и громадный трехколонный угол Парфенона с четырьмя метопами на фризе: кони и обнаженные всадники — гордость Ивана Владимировича. В ряду богов и богинь — курчавобородый Зевс в змеящейся
Зал Олимпии с реконструкцией западного фронтона храма Зевса в Олимпии
Зал Олимпии с реконструкцией восточного фронтона храма Зевса в Олимпии
Парадная лестница и ее колоннада
складками тоге. Внизу — прильнувшие друг к другу торсы, не пощаженные жестоким Хроносом, а под потолком — метопы, посвященные укрощению человеком коня.
Вначале Иван Владимирович ведет Николая и великих княжон в зал Олимпии имени Ее Императорского Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны (дар И. М. Рукавишникова), в тот зал, где на одном из фронтонов греки бьются с кентаврами на свадебном пиру за своих жен.
А дальше залы, один другого краше, чередуются в бесконечной анфиладе. «Зал Праксителя» — дарительница М. С. Скребицкая.
Выход царской семьи из Музея Фотография из -Царского альбома». 31 мая (13 июня) 1912
Император Николай II в сопровождении И. В. Цветаева выходит из Музея Фотография из «Царского альбома». 31 мая (13 июня) 1912
Ю. С. Нечаев-Мальцов и И. В. Цветаев на ступенях Музея в момент отъезда царской семьи
Фотография из «Царского альбома». 31 мая (13 июня) 1912
«Зал Афродиты Милосской и Лаокоона» — даритель М. И. Морозов посвятил его памяти великого князя Сергея Александровича. «Пергамский зал» имени Ее Императорского Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны — средства на него выделил тот же нижегородский купец И. М. Рукавишников. «Римский зал» — дар княгини 3. Н. Юсуповой, она же графиня Сумарокова...
Завершается осмотр в «Египетском зале» имени обер-гоф-мейстера высочайшего двора Ю. С. Нечаева-Мальцова. Здесь представлен музейный перл — коллекция древнеегипетских подлинников Голенищева. Выборка из 6 000 экспонатов (по версии газетчиков — из 60 000). Клинописные таблички и печати, скульптура и керамика Средиземноморья, древнееврейские и арабские рукописи-
Но протокол требует уважения, и в 16.45 осмотр завершен. Царская семья выходит из Музея.
Теперь в открытый автомобиль садится все семейство. Бабушка и Папа на переднем сиденье, «цветник» — за ними.
Цветаев провожает почетных гостей, стоя в общем ряду на ступеньках.
Юрий Степанович надевает треуголку обер-гофмейстера, похожую на пышный петушиный гребень, — знак того, что парад завершен.
Лидия Александровна Тамбурер, давний друг семьи профессора, успевшая в этот день первой поздравить Цветаева, застав его дома и возложив ему на голову выписанный из Рима лавровый венок, обращается к нему с просьбой выйти из общего ряда — пусть его увидят все.
И, как свидетельствует Марина, «...без малейшего спору, точно не прослышав смысла слов и повинуясь только интонации, мой отец, как в глубоком сне, вышел и встал. Чуть склонив набок свою небольшую седую круглую голову — как всегда, когда читал или слушал... явно не видя всех на него глядящих, стоял он у главного входа, один среди белых колонн, под самым фронтоном музея, в зените своей жизни, на вершине своего дела. Это было видение совершенного покоя»*.
Пансионер
Розанов о Цветаеве. Муратов против Цветаева. — Мечта о последней книге. Письмо Марины Розанову. — Эпилог
1
Как хорошо, что кинохроника сохранила, а «Раннее утро» и Марина донесли до нас детали открытия Музея, потому что сам Иван Владимирович был настолько под впечатлением от оказанной ему в тот день чести, что вдаваться в подробности посчитал нескромным. Он шел к этому дню двадцать четыре года и пережил грандиозный триумф. Цветаев писал Трею 14 июня 1912 года:
В Библии рассказывается о Навуходоносоре, царе вавилонском, что он был превращен в быка за свою гордость, что у него выросли рога и прочие атрибуты бычачьего достоинства. Я боюсь его участи, а посему не стану предаваться гордости успехами этого события и не буду передавать Вам тех похвал, которыми удостоили меня гости всех рангов. Государь и государыня остались не только очень довольны виденным, но и сказали мне и Нечаеву-Мальцову, что действительность дала им гораздо больше, чем они ожидали...**
Однако об одном подвиге Иван Владимирович все-таки решился упомянуть: «Счастье привело открыть Музей без копейки долга. Расплачиваемся со всей Европой полностью»***.
* Цветаева М. И. Собрание сочинений. Т. 5. С. 168.
** Устроить в Москве маленький Альбертинум. Переписка Ивана Цветаева и Георга Трея (1881-1913). Кельн, Веймар, Вена. М., 2006. С. 294.
*** Там же. С. 295.
Хорошо, что найдутся люди, которые оставят нам по-писательски выразительный портрет триумфатора, как это сделает Розанов:
Мало речистый, с тягучим медленным словом, к тому же не всегда внятным, сильно сутуловатый, неповоротливый, Иван Владимирович Цветаев, казалось, олицетворял собою русскую пассивность, русскую медленность, русскую неподвижность. Он вечно «тащился» и никогда не «шел». «Этот мешок можно унести или перевезти, но он сам никуда не пойдет и никуда не уедет». Так думалось, глядя на его одутловатое с небольшой русой бородой лицо, на всю фигуру его «мешочком», — и на всю беспримерную тусклость, серость и неясность.
«Но, — говорит Платон в конце „Пира" об особых греческих тайниках-шкафах в виде фавна, — подойди к этому некрасивому и даже безобразному фавну и раскрой его: ты увидишь, что он наполнен драгоценными камнями, золотыми изящными предметами и всяким блеском и красотою». Таков был и безвидный и неповоротливый профессор Московского университета, который совершенно обратно своей наружности являл внутри себя неутомимую деятельность, несокрушимую энергию и настойчивость, необозримые знания самого трудного и утонченного характера... Он был великим украшением университета и города...*
После открытия Музея Цветаев продолжал трудиться на директорском посту. Царская семья привечала его деятельность. Дума, прежде боровшаяся с ним, теперь ему рукоплескала. Все претензии к нему министра Шварца Сенат признал необоснованными и отклонил. Со всех сторон Иван Владимирович принимал знаки уважения и восхищения своим художественным детищем. Его приветствовали и любители, и знатоки искусства. Репин воскликнул: «Вот честь и слава Цветаеву. Как собрано, что собрано! И все это так размещено, так преподнесено...»**
Музей пользовался огромным успехом. Посетители шли и шли непрерывно. «Путеводитель» с предисловием профессора Цветаева раскупался десятками тысяч экземпляров.
Правда, со всем этим праздником диссонировали некоторые голоса, упрекавшие устроителей в излишней помпезности здания, недостатке скульптурных подлинников, дороговизне всего предприятия. Кто-то сказал, что колонны фасада слишком тонки... Но на всякий чих не наздравствуешься, да и вступать в полемику задним числом, когда дело было сделано, спорить,
* ОР ГМИИ. Ф. 6. On. IV. № 4. С. 1. Новое время. 19/IX. 1913.
** Письмо И. Е. Репина М. Н. Климентовой-Муромцевой (от 1 января 1913 г.) // Забытым быть не может. М., 1963. С. 186.
убеждать смысла уже не имело, хотя Иван Владимирович нет-нет да и бросал взгляд на колоннаду: «Неужели колонны тонки?.. А по-моему — как раз...» И снова переживал и подумывал, что если так, то можно будет их и заменить, поставить потолще (за свой, разумеется, счет).
Все это было, однако, «цветочками» по сравнению с той «ягодкой», которая созрела и налилась к сентябрю: горькой ягодкой. Спелой и ядовитой.
Через четыре месяца после открытия Музея, в сентябре 1912 года, в элитарном художественном журнале «Аполлон», где тон задавали Маковский и Бенуа, а сотрудничали Добу-жинский, Волошин, Гумилев, появляется статья блистательного эссеиста и знатока искусств Павла Муратова*, автора только что вышедшего первым изданием двухтомника «Образы Италии». В своей статье Муратов резко выступает против Цветаева, хотя упоминает его имя лишь однажды. Понятно, что речь идет не о Цветаеве лично, но об его идее Музея изящных искусств и ее воплощении в жизнь. Можно сказать, что Муратов не оставляет от Музея камня на камне. Шел бы разговор о мнении профана, никто не обратил бы на него никакого внимания. Но в лице Муратова Цветаев получил суждение и осуждение высочайшего авторитета, представлявшего к тому же не только себя, но весь высоколобый «Аполлон».
В чем состояла суть порицаний, высказанных в статье? Прежде чем ответить на этот вопрос, надо хорошо представить себе, что Муратов был рафинированный эстет, признававший только подлинные творения искусства. Никаких копий! Никаких имитаций! Никакого тонирования! Максимум, на что соглашался критик, это на предельно скромную коллекцию копий с тех шедевров, которые действительно нельзя было купить. Все остальные средства следовало направить на приобретение подлинников. И средства эти — в целом громадные — надлежало еще более умножить за счет здания Музея, исполнив его со всей умеренностью, подобающей университетскому хранилищу. Вместо баснословно дорогой мраморной шкатулки под гипсы надо было построить самое простое помещение, наполненное оригинальными экспонатами, размещенными со строго научной систематичностью. Устроители же (то есть прежде всего Цветаев, Нечаев-Мальцов и Клейн) выказали «желание... поразить... общим впечатлением и даже ошеломить...»**.
* Муратов П. Музей изящных искусств в Москве // Аполлон. 1912. № 9. С. 43-49.
** Там же. С. 44.
Павел Муратов
Портрет работы Н. А. Андреева. 1921
Отсюда «ненужно преувеличенный размер здания... его искусственный замысел»* (стилизация элементов древнегреческого храма). Пусть дилетанты восхищаются проектом Клейна, а знатоку ясно, что фасад — «малая архитектурная удача»**, что никуда не деться от общего «дисгармоничного впечатления»***.
Особенно обижает Муратова «колоссальная трата денег, труда и отличного камня, не давшая даже никакой роскоши»****. В старину итальянцам удавалось создавать самые изысканные архитектурные зрелища и декоративные убранства куда более экономными средствами. Какую роскошь интерьеров можно требовать при таких, например, «необычайно безотрадных, некрасивых по окраске стенах»*****? «„Греческий дворик" производит тягостное впечатление... Ничего ровно не вышло из попытки воспроизвести двор флорентийского Барджел-JJQ »* * * * * *
* Там же.
** Там же.
*** Там же.
*♦** Там же.
***** Там же.
****** Там же. С. 45.
На этом фоне почти незаметно проходит легкий комплимент в адрес Цветаева, связанный с правильной системностью в подборе античных скульптур. Что касается других разделов Музея, то в них критик усматривает лишь «хаотическое накопление предметов»*. Во всем какая-то «бессвязность».
Его удивляет «нелепость попытки скопировать архитектуру»**. Не без юмора он пишет о том, что тысячелетиями люди смотрели на Парфенон, как и подобает, снизу вверх, а теперь по воле устроителей «Греческого дворика», засунувших угол храма в «яму», смотрят на него сверху вниз. До такой «точки зрения» на Парфенон еще никто не додумался.
Особое недоумение порицатель выражает по поводу цветаевской лексики: его шокирует «...странный язык, каким написано маленькое предисловьице к „Путеводителю по Музею", подписанное, однако, именем директора, профессора Цветаева»***. Здесь надо иметь в виду, что сам Муратов — утонченный стилист. С этой стороны его статья написана безукоризненно, не говоря уже об «Образах Италии», наполненных чистой поэзией. Для него цветаевские обороты речи типа «произведения искусств греческого и римского производства»**** должны выглядеть неловко, неуклюже и лексически и по звучанию. Но не все определяется тонкостью слога. Цветаев прежде всего организатор дела. И на этом поле Муратов соперничать с ним не может. Критик пытается взять реванш в оценке сделанного.
Итог статьи сводится к следующему: Музей изящных искусств в Москве есть пустая трата денег, времени и сил. Вместо бессвязного набора слепков во дворце нужен был толковый и скромный университетский музей подлинников.
Иван Владимирович тоже не против Музея подлинников. Он — за! Но такой музей был бы настолько дорог, что создать его не по карману даже императорам. Кроме того, не все владельцы хотят расставаться со своими коллекциями. Разумеется, можно сэкономить на здании и ограничиться масштабом университетского хранилища. Но кому оно тогда послужит? Студентам, а вовсе не всем желающим приобщиться к сокровищам античной пластики.
У самых высоких интеллектуалов есть своя ахиллесова пята. Они рассуждают в рамках логики нынешнего дня, в неком неизменном континууме, но обстоятельства жизни могут настолько измениться, устоявшаяся логическая цепочка так
* Муратов П. Музей изящных искусств в Москве. С. 46.
** Там же. С. 45.
*** Тамже. С. 48.
**** Там же.
внезапно порваться, что возникнет совсем другая логика, в которой прежние построения окажутся не у дел. «Аполлон» исходил из незыблемости культурной ситуации в России, а октябрь 17-го года кардинально ее поменяет. Революционная власть экспроприирует тысячу частных коллекций — иногда мирового значения — и станет срочно распределять их по музеям. Так, на Волхонке будут сформированы собрания живописи и графики, включающие авторские оригиналы. Хорош в этой ситуации был бы «скромный университетский музей скульптуры»... Много ли смог бы он принять? Какие новые экспозиции развернуть? Цветаев думал о развитии Музея. Муратов думал о сегодняшнем дне и отсутствии в Музее подлинников. Знать бы ему, сколько шедевров мировой живописи (оригиналов) пройдет за столетие через Музей в рамках международных выставок; сколько поколений любителей искусства смогут с ними познакомиться; как развернется просветительская деятельность Музея; если бы ему — высокому интеллектуалу — знать все это, он, вероятно, окрасил бы свою статью в «Аполлоне» совсем в другие тона. Конечно, Цветаев тоже не мог ничего этого предвидеть. Знать такое не дано никому. Просто один не знает и строит, а другой не знает и осуждает построенное.
2
Как часто бывает, далеко не молодой уже человек, поглощенный делом своей жизни, когда оно стремится к завершению, держится лишь на волевом усилии — страстном желании довести до конца все предпринятые долголетние труды. И этого усилия может хватить на многое. Но точка в деле означает фактически точку в жизни.
Для Ивана Владимировича Цветаева такой точкой стало открытие Музея изящных искусств. Однако и другие его жизненные заботы искусственно или естественно приближались к концу. Из Румянцевского музея его, проработавшего там двадцать восемь лет, уволили без пенсии, несмотря на то что все причины увольнения были официально признаны необоснованными. Представать перед студентами постаревшим и одряхлевшим ему не хотелось. Последним желанием — последней ниточкой, которая поддерживала его связь с миром, стала мечта о книге, призванной увенчать его научную работу. Он хотел оставить труд о храмах Востока, классического мира, Этрурии и раннего христианства. На это он просил у Господа три года. Всего три...
Провести в Тарусе свое последнее лето он уже не мог, если бы и пожелал. Город отказал Цветаевым в праве на выкуп дачи Песочное, и она была продана с торгов.
Перед путешествием в Англию для работы в Британском музее Валерия устроила папу пансионером на лето в помещичью семью в Подмосковье, где он имел «стол и дом», не знал бытовых забот, которые так его смущали и обременяли, и, располагая неограниченным досугом, мог начать работу над книгой.
Дети выросли. Хлопоты по созданию Музея на Волхонке кончились. Ежедневно вникать в хозяйственные и прочие проблемы Румянцевского музея теперь не требовалось... Лекции в Московском университете тоже, по-видимому, в скором времени предстояло закруглить. Семьдесят лет были пределом преподавания для заслуженных профессоров. Ничто не мешало Ивану Владимировичу погрузиться в близкий его душе мир древней архитектуры...
8 апреля 1914 года, на третий день Пасхи, Марина из Феодосии послала письмо своему любимому писателю, другу отца Розанову. В этом большом и откровенном послании она подробно рассказала о своих родителях и о том, как закончились земные дни Ивана Владимировича.
Пишу Вам о папе. Он нас очень любил, считал нас «талантливыми, способными, развитыми», но ужасался нашей лени, самостоятельности, дерзости, любви к тому, что он называл «эксцентричностью» (я, любя 16-ти лет Наполеона, вставила его портрет в киот — много было такого!).
<...> Он умер 30-го августа 1913 г<ода>, от старческой болезни сердца, появившейся в последние годы. Самый последний год он чувствовал нашу любовь, раньше очень страдал от нас, совсем не зная, что с нами делать. Когда мы вышли замуж, он очень за нас беспокоился. Ни Сережи, ни Бориса он не знал. Сережу он потом полюбил, поверив в его желание высшего образования, — это для него было главное.
Как людей он не знал ни С<ережи>, ни Б<ориса>, совсем не знал, кто те, кого мы любим.
Алю (дочь Марины. — А. С.) и Андрюшу (сына Аси. — А. С.) он очень любил, очень им радовался и, как потом мы узнали, всем о них рассказывал. Но он видел их совсем маленькими, до года. Это ужасно жаль!
Как странно! Я Вам это расскажу.
Я приехала в Москву числа 15-го августа, сдавать дом (наш дом с Сережей).
Папа был в имении около Клина (по другой версии — близ Подольска. — А. С.), где все лето прожил в прекрасных условиях.
Числа 22-го мы с ним увидались в Трехпрудном, 23-го поехали вместе к Мюру (магазин «Мюр и Мерилиз» возле Большого театра, нынешний ЦУМ, построенный архитектором Р. И. Клейном. — А. С.), — он хотел мне что-нибудь подарить. Я выбрала маленький плюшевый плэд (правописание М. И. Цветаевой по произношению, а произношение, вероятно, папино... — А. С.) — с одной стороны коричневый, с другой золотой. Папа был необычайно мил и ласков.
Когда мы проходили по Театральной площади, сверкавшей цветами, он вдруг остановился и, показав рукой на группу мальв, редко-грустно сказал: «А помнишь, у нас на даче были мальвы?»*
У меня сжалось сердце. Я хотела проводить его на вокзал, но он не согласился: «Зачем? Зачем? Я еще должен в Музей».
«Господи, а вдруг это в последний раз?» — подумала я и, чтобы не поверить себе, назначила день — 29-е, — когда мы с Асей к нему приедем на дачу.
Господи, у меня сердце сжимается! — 27-го ночью его привезли с дачи почти умирающего. Доктор говорил, что 75 % людей умерло бы во время переезда. Я не узнала его, войдя: белое-белое осунувшееся лицо. Он встретил меня очень ласково, вообще все время был ласков и кроток, расспрашивал меня о доме, задыхающимся голосом продиктовал письмо к одному его любимому молодому сослуживцу. Вообще он все время говорил, хотя не должен был говорить ни слова. Говорил о Сереже, о его занятиях, о его здоровье, об Але, об Андрюше — «хочу заработать им по 10 тысяч», — о болезни своей говорил, что «доктора раздули», и строил планы о будущих лекциях. Что-то сказал о Музее, — Ася переспросила — «Да, Румянцевский музей, откуда меня прогнали!»
Он прожил 2 */£ суток. Все время говорил о самых обыкновенных вещах, умолял нас идти спать, не утомлять себя, расспрашивал о погоде. Я что-то рассказывала о феодальном замке.
— «Теперь прошел век феодальных замков — настал век людей труда!»
За день — меньше! — до смерти он спросил меня: «А как... твой... этот... плэд?»
Господи!
Последний день он был почти без памяти. Умер он в 1 ’/4 ч<аса> дня. Мы с Андреем были в его комнате. Он ужасно задыхался, дыхание пропадало ровно на 'Д минуты каждую минуту. Дышал отрывисто и странно-громко: «Ах! Ах!»
С первого момента до последнего ни разу не заговорил о возможности смерти. Умер без священника. Поэтому мы думаем, что он действительно не видел, что умирает, — он был религиозен. — Нет, это тайна. Теперь уже никогда не узнаем, чувствовал он смерть или нет.
Его кончина для меня совершенно поразительна: тихий героизм, — такой скромный!
Господи, мне плакать хочется!
Мы все: Валерия, Андрей, Ася и я были с ним в последние дни каким-то чудом: В<алерия> случайно приехала из-за границы, я случайно из Коктебеля (сдавать дом), Ася случайно из Воронежской губернии, Андрей случайное охоты.
* Дочь помнила. В цикле стихотворений «Ока», обращаясь ко дням тарусского детства, она уже спросила:
Куда ушли, в какую даль вы?
Что между нами пролегло?
Всё так же сонно-тяжело
Качаются на клумбах мальвы...
У папы в гробу было прекрасное светлое лицо.
За несколько дней до его болезни разбились: 1) стеклянный шкаф 2) его фонарь, всегда — уже 30 лет! — висевший у него в кабинете 3) две лампы 4) стакан. Это был какой-то непрерывный звон и грохот стекла.
Я все еще, не веря, утешала себя, что это «к счастью»...*
3
В конце жизни, подводя итоги двум своим служениям — семейному и гражданскому, — Иван Владимирович признался, что семейная жизнь ему не удалась, а служение родине удалось. Первое связывают с ранним уходом Варвары Дмитриевны и Марии Александровны. Вначале Иван Владимирович лишился любимой, потом — друга и помощника. После смерти Марии Александровны, так мучительно ревновавшей мужа к памяти Вавы, он вернул портрет Варвары Дмитриевны из своего кабинета в Румянцевском музее домой в Трехпрудный и заказал посмертный портрет Марии Александровны. В конце концов дома оказалось два портрета: молодой, цветущей Вавы и Марии Александровны в гробу. Этот контраст не мог не ранить детей. Известно, что Марина и Ася очень переживали из-за такого решения отца. Для детей оно вылилось в ежедневное, угнетающее напоминание. Дело, возможно, в том, что для пожилых людей того поколения, к которому принадлежал Цветаев, посмертные маски, портреты, фотографии были привычны. Их тогда можно было видеть в старых семейных альбомах. Кроме того, не забудем, что Цветаев был археологом, что общение с загробным миром — миром надписей, склепов, гробниц — оставалось предметом его профессионального внимания и, по-видимому, выработало в нем иное отношение к мертвой природе: она вызывала не отторжение, но смирение; не испуг, но интерес к материальным свидетельствам ушедшей жизни. А его религиозность, неотделимая от веры в жизнь вечную, позволяла ему воспринимать угасшую плоть только как покинутый дом бессмертной души. Вава и Мария Александровна по-разному отзывались в его сердце, однако в памяти его они были равноправны. Начиная со своего второго венчания и до конца дней он носил два обручальных кольца.
Неудачу семейной жизни, как ее воспринимал Иван Владимирович, вряд ли можно связывать лишь с ранним уходом самых близких ему женщин. Семья — это еще и дети, а они, подрастая без матерей, приносили папе немало огорчений. Он
И. В. Цветаев и Ю. С. Нечаев-Мальцов у входа в музей
1912
не видел в них себя, своего продолжения. Они были во многом другими, и это «другое» не всегда его радовало. Исповедуя культуру как производную от религиозного понятия культ, он не мог разделить революционные страсти Валерии (а какое-то время и Маруси, пока она сама к ним не остыла). Для людей его круга революция, будучи разрушительным началом, противополагалась культуре как началу созидающему; революция демократична, она опирается на идею равноправия и количества, тогда как культура аристократична, она опирается на идею избранности и качества. Начав с обучения латыни у сельского дьячка, Цветаев закончил свой путь всемирно известным ученым. Его пригласили в Опекунский совет, где он, «дворянин от колокольни», вошел в сонм самых знатных фамилий России. Он сам выпестовал свою избранность трудом и талантом, несовместимыми с революционным демаршем. Весь строй его души был не усредненно-демократическим, а возвышенно-благородным, рыцарским. Его демократизм проявлялся в простоте общения с людьми. А что же дети? Андрей поражал отца ленью, равнодушием к учебе. Марина и Ася — недопустимым своеволием. Где это видано, чтобы профессорскую дочку выгоняли из гимназии? А что это за мужья, которые еще и гимназий не окончили? Наверно, Иван Владимирович чувствовал и свою вину. Он слишком много времени проводил вне дома, слишком отдавал себя работе, да и в те часы, когда бывал с детьми, часто погружался в собственные мысли об университете, о новой статье, докладе или отчете; о Музее; о предстоящей командировке, так что порой, присутствуя, отсутствовал, и дети уже знали, что папа в этих случаях отвечает машинально — лишь бы что-то ответить, не прерывая ход своих мыслей.
Верно, лишь загадочные пенаты, отеческие хранители домашнего очага, мраморные отражения великих богов само-фракийских мистерий, вывезенные Энеем из Трои и спустя тысячелетия взявшие под покровительство семью тайного советника Цветаева, знали, что дети еще воздадут должное своему необыкновенному отцу. Что «ген» искусствознания пробудится в Андрее. Что Валерия и Ася оставят воспоминания о московском и тарусском детстве. Что Марина посвятит папе вдохновенные страницы биографической прозы и вырастет в одного из самых больших поэтов века — да какого века! Можно ли считать неудачной семейную жизнь того, кто родил гения? Ему ли жаловаться?.. Но жаловался-то он в 1913 году, когда ни собственное будущее, ни посмертная слава детей были ему неведомы; когда домашний очаг в Тарусе погас, а в Трехпрудном уже догорал... Зато теперь нам, живущим в мире, который пошел не по пути культуры («того, что во мне»), а по пути
Памятник Ивану Цветаеву в Тарусе Фотография В. К. Оржос. 2012
цивилизации («того, что вне меня»), личность Ивана Владимировича Цветаева, его служение долгу и дому предстает в полный рост наряду с теми, для кого путь культуры всегда оставался единственно возможным и кто сохранял верность ему, несмотря ни на какие перипетии мировой судьбы.
Человек мира классической древности, обладатель духовных сокровищ египетских царств, античности, Возрождения любил, не мог не любить все то, что в Новом времени хотя бы отчасти им наследовало. Так, он выделял поэзию Баратынского, особенно его стихотворение «На смерть Гёте».
Предстала, и старец великий смежил Орлиные очи в покое;
Почил безмятежно, зане совершил
В пределе земном все земное!
Над дивной могилой не плачь, не жалей, Что гения череп — наследье червей.
Погас! но ничто не оставлено им
Под солнцем живых без привета; На все отозвался он сердцем своим, Что просит у сердца ответа;
Крылатою мыслью он мир облетел, В одном беспредельном нашел ей предел.
Все дух в нем питало: труды мудрецов, Искусств вдохновенных созданья, Преданья, заветы минувших веков, Цветущих времен упованья;
Мечтою по воле проникнуть он мог И в нищую хату, и в царский чертог.
С природой одною он жизнью дышал: Ручья разумел лепетанье, И говор древесных листов понимал, И чувствовал трав прозябанье;
Была ему звездная книга ясна, И с ним говорила морская волна.
Изведан, испытан им весь человек!
И ежели жизнью земною
Творец ограничил летучий наш век И нас за могильной доскою, За миром явлений, не ждет ничего, — Творца оправдает могила его.
И если загробная жизнь нам дана, Он, здешней вполне отдышавший И в звучных, глубоких отзывах сполна Всё дольное долу отдавший, К предвечному легкой душой возлетит, И в небе земное его не смутит*.
Один из учеников Цветаева вспоминал, что в 1913 году в совсем маленькой компании друзей «шепотком, немножко стесняясь», Иван Владимирович стал читать это стихотворение вслух и в самом начале, когда дошел до строк:
Почил безмятежно, зане совершил В пределе земном все земное! —
вдруг остановился и сказал: «А знаете, я сейчас переживаю это про самого себя. Я совершил все, что мог»**.
* Баратынский Е. А. Стихотворения и поэмы. М., 1974. С. 57-58.
** Цит. по: Стенограмма заседания Ученого совета ГМИИ им. А. С. Пушкина 27 ноября 1963 г. С. 22.
ПРИЛОЖЕНИЕ
ГЕНРИХ ШЛИМАН И МИКЕНСКАЯ ЭПОХА*
В настоящее время нельзя начинать историю древнейшего периода Греции, не вспомнив имени человека, который необычайной энергией и необыкновенным своим счастьем так много способствовал разъяснению отдаленнейших времен греческой культуры.
Имя его — Генрих Шлиман (Heinrich Schliemann). Сын сельского священника, родившись в 1822 году на севере Германии, он, вследствие бедности отца, в детские годы смог научиться немножко «по латыни» и, пройдя реальную школу маленького провинциального города, в 14 лет должен был поступить мальчиком в мелочную лавку, чтобы продавать там селедку, масло, картофельную водку, молоко, соль, кофе, сахар, сальные свечи, выметать магазин и т. д. Но и в этой печальной обстановке жажда к знанию, в особенности мечта научиться греческому языку и новым языкам — не оставляют его. На 20-м году он отправляется в Америку искать счастья, но кораблекрушение приводит его на берег Голландии и в Амстердам, где он случайно получает потом место разносчика в одном большом торговом доме. Здесь Шлиман выучивается необычайно быстро целому ряду языков: английскому, французскому, голландскому, испанскому, итальянскому, португальскому и, наконец, русскому, не имея при этом для последнего языка никакого учителя для проверки, кроме одного бедного еврея, совсем не знавшего ни единого русского слова, но взявшегося за несколько копеек вдень выслушивать по несколько часов русское чтение и русские разговоры Шлимана 24-х лет он переселяется в Петербург агентом своего амстердамского хозяина, и с этого времени начинается его необычайное счастье в экономическом отношении. Через год (в 1847 году) Шлиман основывает здесь самостоятельную торговлю, через пять лет он заводит отделение своего торгового дома и в Москве. Крымская война, когда он был поставщиком серы, свинца, селитры и других материалов на наше войско, его чрезвычайно обогатила. Торговля индиго, хлопчатой бумагой и чаем продолжала в такой мере обогащать его, что к началу 60-х годов Шлиман стал
* Вступительная лекция профессора И. В. Цветаева к его курсу истории греческого искусства. Воспроизводится по изданию: История греческого искусства: Конспект лекций проф. Цветаева. М., 1902. С. 3—11.
миллионером; но после неприятного судебного процесса он должен был оставить Россию и совсем прекратить торговые занятия.
Уже и в прежние годы Шлиман свободные часы употреблял на освоение греческого языка, исполняя тем мечту своей юности — прочитать творения Гомера в подлиннике. Изучивши Илиаду и Одиссею, а равно ознакомившись в подлиннике с греческими источниками и с путешественником И в<ека> до Р. Хр. Павсанием, после путешествия в Африку, Индию, Китай, Японию и Америку, он занялся с необычайным увлечением классической археологией в Париже. В 1868 году Шлиман в первый раз посетил Грецию и Малую Азию, имея целью в непродолжительном времени начать там раскопки в местах, наиболее знаменитых своей древностью, каковы: остров Итака — родина Одиссея и Пелопоннес — с его древнейшими городами: Микенами и Тиринфом и прославленная Гомером — Троя в Малой Азии.
Человек необычайно твердой воли, Генрих Шлиман решил приступить к делу археологических раскопок весною 1870 года и с тех пор отдавал и свои силы, и свои материальные средства этим трудам в течение 20 лет, вплоть до самой своей смерти.
Он разрыл в Малой Азии, в области Троады, холм, известный под именем Гиссарлыка, и в глубине его, во втором слое от грунта, встретив остатки какого-то чрезвычайно древнего города со стенами, воротами, дворцом и множеством уцелевших предметов из золота, серебра, меди, бронзы и камня, а равно и с многочисленными сосудами различных форм из обожженной глины, Шлиман уверовал сам и начал уверять других, что он открыл Трою Гомера. С этим утверждением он и умер, не сдавшись ни на какие возражения противников. Но дело стало ясным уже вскоре после его смерти, когда знаменитому немецкому археологу Дёрпфель-ду, руководителю Немецкого археологического института в Афинах, продолжавшему раскопки на Гиссарлыке на средства Софьи Шлиман, жены Шлимана, гречанки родом, страстной поклонницы археологии и участницы во всех работах мужа, удалось открыть там следы древнего Илиона или Трои в шестом слое от материка. Что же касается до шлимановской «Трои», то это был неизвестный город, существование которого относят к несравненно более раннему периоду, приблизительно тысячи за три лет до нашего летосчисления, и потому о нем в истории греческой культуры и искусства речи быть не может.
В 1874 году Шлиман перенес свою деятельность в Пелопоннес, в область его Арголиду, и начал здесь раскопки на месте древних Микен. (Царь Микенский Агамемнон является у Гомера вождем ахейской рати, отправившейся войною под Трою, и одним из виднейших героев этой войны. Из предшествовавших Агамемнону времен существования Микен сохранился у греческих писателей
целый ряд мифических преданий об отце Агамемнона и Менелая, царя Спартанского, Атрее, дяде его Фиесте и др.)
Громадные развалины акрополя или кремля этого города были издавна известны всем посещавшим южную Грецию. Стены его, сложенные из очень больших и разнородных по форме камней, были видны всякому на высокой горе. Каменные ворота с изображениями двух больших львиц, стоящих друг против друга и разделенных колонною... вели внутрь акрополя, но никто раньше Шлимана не захотел разобрать камни, свалившиеся со стен к подножию этих ворот, чтобы проникнуть за стены акрополя, представлявшего там огромные каменные груды, поросшие ползучими растениями и опасные своими змеями. Шлиман первый повел своих рабочих на это давно заброшенное место, начал расчистку хаотически лежавших здесь камней и мусора и открыл в особой круглой каменной ограде, в глубине почвы царские гробницы древнейших времен с остатками трупов похороненных здесь микенских царей и их семейств. Эти могилы доставили ему такое необычайное множество золотых вещей, которое сразу поразило весь мир. Здесь были найдены золотые диадемы, золотые маски с лежавших там покойников, много золотых сосудов различных форм, золотые браслеты, кольца, золотые панцири, золотые перевязи для мечей, серебряная голова быка с вызолоченными рогами, золотые пуговицы и золотые бляхи... и звезды, которыми были усеяны одежды похороненных, золотые ожерелья, бронзовые с золотою и серебряною отделкою кинжалы и многие другие предметы, которые здесь трудно и перечислить. Такого колоссального золотого клада раньше Шлимана никогда и никто не находил...
Кроме этих могил, четырехугольных по форме, Шлиман открыл в нижнем городе существование куполообразных надгробных сооружений. До него было известно лишь одно такое сооружение в Микенах: это так называемая и издавна знаменитая своим особенным устройством Сокровищница царя Атрея; после же его открытий стало несомненно, что в Микенах существует целый ряд таких каменных и куполообразных гробниц, не встречающихся в исторические времена Греции...
Третьим местом, которое прославило Шлимана как замечательно счастливого археолога-искателя, был соседний с Микенами и столь же древний город — Тиринф.
Расположенный на холме, среди Арголидской равнины, он своими стенами, сложенными из огромных камней, был также виден всеми, но только Шлиману суждено было разобраться в этом каменном хаосе, расчистить его мусор, открыть ворота, ходы и коридоры в стенах и найти среди существовавшего здесь в мифические времена замечательного и доселе в памятниках археологии бывшего неизвестным царского дворца, весьма ясного по своему плану, с разделением его на мужскую и женскую половины, с его пышными
воротами или пропилеями, внутренними дворами, колоннами, портиками, жертвенником, очагами, колодцами и разными хозяйственными принадлежностями, как, напр<имер>, баней и проч. Этот дворец во многом напоминает описание царских жилищу Гомера...
Найдены здесь также следы настенной живописи и замечательные по изяществу архитектурные украшения из алебастра.
Шлиман производил также раскопки и в других местах: на о. Итаке, в Беотии — на месте древнего города Орхомена, и даже пробовал своего счастья в Египте.
Продолжая дальнейшие исследования на Гиссарлыке, он собирался начать раскопки на острове Крите, прославленном в мифологии царем Миносом, существованием там лабиринта и деятельностью мифического художника Дедала; но неожиданная смерть в 1890 г<оду> в Неаполе положила конец и без того необыкновенно плодотворной археологической деятельности этого замечательного человека. Мысль его о раскопках на острове Крите в наше время осуществляется англичанами и итальянцами, делающими там изумительные открытия из мифических времен этого острова.
Из открытий Шлимана наибольшее значение имеют сделанные им в Микенах и Тиринфе. Куполообразные могильные сооружения особой кладки, золотые и глиняные сосуды с небывалыми доселе в науке формами и украшениями, множество предметов царского быта, найденные в первом городе, и ясные следы царского дворца во втором послужили поводом к дальнейшим раскопкам и изысканиям других ученых. Эти раскопки и наследования убедили, что куполообразные могильные сооружения не составляли принадлежности только Микен, а были распространены и в других местах Греции — Пелопоннесе, в Аттике, в Беотии, в Фессалии и что однородные предметы быта, также не повторяющиеся после в греческой истории, найдены, кроме восточного побережья греческого материка, на островах Эгейского моря, в Малой Азии и даже в Нижнем Египте. Была, следовательно, эпоха, когда одинаковая культура распространена была по всему восточному бассейну Средиземного моря. Эту эпоху принято условно называть Микенскою эпохой не потому, чтобы Микены были исходной точкой или центром этой особенной культуры, но единственно ввиду того, что Микены, разрытые Шлиманом, дали наибольшее количество предметов этого особого периода и образцы наиболее характерные.
Расцвет микенской культуры и искусства ученые относят ко второй половине 2-го тысячелетия до Р<ождества> Хр<истова>, именно к XVI—XII столетиям; окончание же Микенской эпохи ставят в связь с победоносным переселением дорян в Пелопоннес, относимому к 1104 г<оду>. Но, конечно, эта культура не могла погаснуть вдруг, как бы ни был жесток и груб характер нового населения; многое было, напротив, дорянами унаследовано от прежних времен и прежних обитателей Пелопоннеса.
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И. В. ЦВЕТАЕВА
1847, 4 мая — родился в селе Дроздово Шуйского уезда, близ города Иваново-Вознесенска, в семье сельского священника.
1853-1866 — учащийся Шуйского духовного училища и Владимирской духовной семинарии.
1866—1870 — студент историко-филологического факультета Петербургского университета, окончил полный курс с золотой медалью, оставлен на два года при кафедре для подготовки к профессорскому званию.
1872 — начал преподавать древнюю историю и греческий язык в 3-й Петербургской гимназии и продолжал заниматься научной работой.
Утвержден в должности доцента Варшавского университета.
1873 — удостоен ученой степени магистра римской словесности. Опубликовал монографию «СогпеШ Taciti».
1874—1876 — первая научная заграничная командировка.
1876 — избран доцентом римской словесности Киевского университета.
1877 — опубликовал монографию «Сборник осских надписей с очерком фонетики, морфологии и глоссарием».
Получил предложение перейти в Московский университет. Защитил докторскую диссертацию в Петербурге.
1878 — командирован в Италиюдля продолжения научных изысканий о древнеиталийских надписях.
Избран в действительные члены Московского археологического общества.
1879 — утвержден в звании экстраординарного профессора Московского университета по кафедре римской словесности.
1880 — Российская академия наук присудила Цветаеву медаль «За усердный трудна пользу и славу Отечества». Петербургский университет избрал Цветаева почетным членом. Женитьба на Варваре Дмитриевне Иловайской. Командировка за границу.
1882 — приглашен заведующим гравюрным кабинетом отделения изящных искусств и древностей Румянцевского музея.
1883 — опубликовал книгу «Путешествие по Италии в 1875 и 1880 гг.».
22 января — рождение дочери Валерии.
1885 — утвержден в звании ординарного профессора Московского университета по кафедре римской словесности.
1886 — издана монография «Италийские диалектические надписи».
1888 — депутат Московского университета на праздновании 800-ле-тия Болонского университета, избран его почетным членом за заслуги в области латинской филологии.
1889 — получил кафедру теории и истории изящных искусств Московского университета и стал заведовать Кабинетом изящных искусств и древностей.
1889—1890 — командировка в Грецию и Италию.
1890, 19 апреля — рождение сына Андрея.
28 апреля — смерть жены Варвары Дмитриевны.
1891, 22 мая — женитьба на Марии Александровне Мейн. 1892-1893 — командировка в Западную Европу.
Изданы записки «Комитет для устройства в Москве музея античного искусства».
1892, 26 сентября — рождение дочери Марины.
1894 — выступление на I съезде русских художников и любителей художеств в Москве.
14 сентября — рождение дочери Анастасии.
1895 — обращение от имени правления Московского университета в Академию художеств о проведении архитектурного конкурса проектов здания Музея изящных искусств.
1897, 15 мая — знакомство с меценатом Ю. С. Нечаевым-Мальцо-вым.
1898 — издание «Записок о Музее изящных искусств имени имп. Александра III при Имп. Московском университете». Создание Комитета по устройству Музея изящных искусств. Утвержден в звании заслуженного ординарного профессора Московского университета.
1898, 11 марта — аудиенция в Зимнем дворце: представление проекта Музея Николаю II.
17 августа — закладка Музея изящных искусств.
1899 — командировка в Германию для изучения крупнейших музеев и их коллекций; формирование скульптурной коллекции будущего Музея изящных искусств.
1900, 7 апреля — аудиенция в Кремле: представление модели Музея Николаю II.
Назначение директором Румянцевского музея.
1902 — издание книги «Из жизни высших школ Римской империи». 1903—1905 — заграничные командировки и продолжение формирования скульптурной коллекции Музея изящных искусств. Избран членом Академии художеств и членом-корреспондентом Академии наук.
1906,6 июля — смерть жены Марии Александровны.
1908—1909 — неоднократные поездки в Петербург по поводу передачи Голенищевской коллекции египетских древностей в Музей изящных искусств.
1909—1911 — командировки за границу для окончания формирования коллекции.
1910 — освобожден от должности директора Румянцевского музея.
1911 — издал книгу «Спорные вопросы. Опыт самозащиты».
28 октября — назначен директором Музея изящных искусств при Московском университете.
1912, 31 мая — открытие Музея изящных искусств.
1913, 30 августа — умер в Москве, похоронен на Ваганьковском кладбище.
РОДОСЛОВНАЯ СЕМЬИ ЦВЕТАЕВЫХ
(фрагмент)*
I КОЛЕНО
1. Петр Иосифович (1759—1811).
Бесфамильный пономарь. Служил в Воскресенской церкви села Матрёнино Покровского уезда Владимирской губернии.
II КОЛЕНО
2—1. Василий Петрович Цветаев (1790-1853).
Первый носитель фамилии. Священник храма Иоанна Богослова в селе Стебачёво Суздальского уезда Владимирской губернии (ныне Тейковский район Ивановской области). Женат на Евдокии Михайловне.
III КОЛЕНО
3—2. Владимир Васильевич (1818—19.3.1884).
Священник Воскресенской церкви села Дроздово под Шуей. Затем — Николаевской церкви погоста Талицы. Женат на Екатерине Васильевне Сакулиной (Сакулинской) (1824—1858), дочери дьякона Василия Лаврентьевича Сакулина (Сакулинского) (1792—1837).
4—2. Александр Васильевич (1834—30.5.1898).
Священник Покровской церкви села Зиновьево Александровского уезда Владимирской губернии (1856-1897). С 1877 года благочинный 1-го Александровского округа, с 1884 года — протоиерей. Женат на Марье Ивановне Елпатьевской — дочери священника села Новосёлка Александровского уезда Владимирской губернии И. К. Елпатьевского.
* Впервые публикуется фрагмент родословной семьи Цветаевых в девяти коленах с 1759 года по сегодняшний день, в который вошли сведения о 48 персонах. В родословную включены предки Ивана Владимировича Цветаева, его братья, сестры, дети и потомки детей.
Первые цифры перед именем каждого упоминаемого лица означают его порядковый номер в родословной, а цифры после тире — порядковый номер его родителя.
Даты до 1 февраля 1918 года приведены по старому стилю.
5-2. Мария Васильевна.
6—2. Иван Васильевич.
IV КОЛЕНО
7—3. Петр Владимирович (22.6.1842—4.2.1902).
Учитель земских школ, священник Николаевской церкви погоста Талицы. Женат на Марии Александровне Богословской (1846— 1928) — дочери сельского священника Александра Матвеевича Богословского (1815—1869).
8—3. Николай Владимирович (28.11.1843-18.6.1847).
9—3. Александра Владимировна (29.10.1845-10.6.1846).
10-3. Иван Владимирович.
Умер в младенчестве.
11—3. Иван Владимирович (4.5.1847—30.8.1913).
Профессор классической филологии Московского университета, искусствовед. Создатель Музея изящных искусств в Москве. Тайный советник. Почетный опекун. Первым браком женат на Варваре Дмитриевне Иловайской (1858—1890) — дочери известного историка профессора Московского университета Дмитрия Ивановича Иловайского (1832—1920). Вторым браком женат на Марии Александровне Мейн (1868—1906) — дочери управляющего канцелярией московского генерал-губернатора, члена совета Международного банка, члена правления Московского земельного банка Александра Даниловича Мейна (1836—1899).
12—3. Федор Владимирович (29.8.1850—11.2.1901).
Выпускник Петербургского университета. Учитель гимназий в Шуе, Орле, Москве. Инспектор 2-й московской женской гимназии. Женат на Евгении Николаевне — дочери московского протоиерея.
13—3. Дмитрий Владимирович (30.1.1852—1920).
Выпускник Петербургской духовной академии. Профессор Варшавского университета. Специалист по вопросам вероисповедания в России. Позже директор Московского коммерческого училища, управляющий Московским архивом Министерства юстиции. Основатель Российского государственного архива древних актов. Тайный советник. Женат на Елизавете Евграфовне Поповой.
14—4. Елена Александровна Добротворская (урожд. Цветаева) (1857-1939).
Замужем за Иваном ЗиновьевичемДобротворским, служившим с 1882 года земским, а с середины 1890-х годов городским врачом города Тарусы Калужской губернии.
V КОЛЕНО
15—7. Сергей Петрович (1873—1913).
Окончил медицинский факультет Московского университета. Работал врачом в Мещерской психиатрической больнице под Москвой.
16—7. Евгения Петровна (1874-?).
Учительница. Замужем за врачом Александром Ивановичем Орловым.
17—7. Владимир Петрович (1877—1928).
Окончил юридический факультет Московского университета. Служил чиновником контрольной палаты в Петербурге и Москве. По семейному преданию, добровольно ушел из жизни в Уфе. Был женат на Белопражской Ольге Михайловне.
18-7. Иван Петрович (1881 —1888).
19—7. Александра Петровна (1887—1972).
Врач. Жила в Киеве. Замужем за микробиологом, членом-корреспондентом Академии медицинских наук СССР Сергеем Никифоровичем Ручковским.
20—7. Антонина Петровна (1.6.1890—30.4.1928).
Врач. Первым браком замужем за выпускником Пажеского корпуса Николаем Воронским. Вторым браком — за служащим Н. А. Киселевым.
21—7. Софья Петровна.
Умерла в младенчестве.
22—7. Александра Петровна.
Умерла в младенчестве.
23—11. Валерия Ивановна (22.1.1883—17.8.1966).
Учительница, балетмейстер. Замужем за Сергеем Иасоновичем Шевлягиным (1879—1966).
24—11. Андрей Иванович (19.4.1890-8.4.1933).
Получил юридическое образование. Эксперт по атрибутированию живописи. Женат на Цветаевой Евгении Михайловне (урожд. Пчицкой (Пшицкой), в первом замужестве Лилеевой).
25—11. Марина Ивановна (26.9.1892-31.8.1941).
Поэтесса. Замужем за Сергеем Яковлевичем Эфроном (1893— 1941). Согласно официальной версии, покончила жизнь самоубийством в эвакуации в Елабуге.
26—11. Анастасия Ивановна (14.9.1894—5.9.1993).
Писательница. Первым браком замужем за Борисом Сергеевичем Трухачевым (1892—1919). Вторым (гражданским) браком замужем за Маврикием Александровичем Минцем (1886—1917).
27—12. Екатерина Федоровна.
28—12. Николай Федорович.
29—12. Александр Федорович.
30—13. Екатерина (Елена?) Дмитриевна.
Врач.
31—13. Александра Дмитриевна (1889—?).
Учительница.
32—13. Владимир Дмитриевич (1891 — 1937).
Выпускник Института инженеров путей сообщения. Профессор МИСИ им. В. В. Куйбышева. Женат на Ларисе Митрофановне.
33-14. Добротворская Надежда Ивановна (1882—1943).
Врач.
34—14. Добротворский Александр Иванович (1883—1945).
Преподаватель.
35-14. Добротворская-Глаголева Людмила Ивановна (1885— 1953).
Врач. Замужем за Федором Федоровичем Глаголевым.
VI КОЛЕНО
36—24. Инна Андреевна (1931 — 1985).
Биолог, энтомолог.
37—25. Ариадна Сергеевна Эфрон (5.9.1912—26.7.1975).
Мемуаристка, переводчица.
38—25. Ирина Сергеевна Эфрон (13.4.1917—15.2.1920).
39—25. Георгий Сергеевич Эфрон (1.2.1925—7.7.1944).
Погиб на фронте.
40—26. Андрей Борисович Трухачев (9.8.1912—1.1993).
Инженер-строитель. Женат на Шарыповой Нине Андреевне (1917-1995).
41—26. Алексей Маврикиевич Минц(1916—1917).
VII КОЛЕНО
42-40. Маргарита Андреевна Трухачева-Мещерская (р. 1947).
43—40. Ольга Андреевна Трухачева (р. 1957).
Замужем за Сергеем Грицковичем Потерилло(р. 1955)
VIII КОЛЕНО
44—42. Ольга Ростиславовна Мещерская (р. 1976).
45—43. Андрей Сергеевич Потерилло (р. 1978).
Женат на Диане Вячеславовне Швец.
46—43. Григорий Сергеевич Потерилло (р. 1982).
IX КОЛЕНО
47—45. Денис Андреевич Потерилло (р. 7.10.2008).
48—46. Массимо (Максим) Григорьевич Потерилло (р. 23.9.2005).
СЛОВАРЬ
НЕКОТОРЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ТЕРМИНОВ
Антаблемент — верхняя часть сооружения, лежащая на колоннах. Делится на архитрав, фриз, карниз.
Архитрав — нижняя из трех частей антаблемента, лежащая на капителях колонн; имеет вид балки.
Аттик — стенка над венчающим сооружение карнизом, часто украшенная рельефами и надписями. Обычно завершает триумфальную арку.
Барельеф — низкий рельеф, в котором выпуклое изображение выступает над плоскостью фона не более чем на половину своего объема.
Капитель — верхняя часть колонны, являющаяся отличительным элементом стиля в греческих и римских ордерах.
Карниз — верхняя выступающая часть антаблемента. Поддерживает крышу и защищает стену от стекающей воды.
Метопа — прямоугольная или квадратная плита, украшенная скульптурой. Чередуясь с триглифами, метопы составляют фриз дорического ордера.
Ордер — в архитектуре определенное сочетание несущих и несомых частей конструкции, их структура и художественное решение. Ордер включает несущие части (колонна с капителью) и несомые (антаблемент). Классическая система ордеров сложилась в Древней Греции. Основные ордера получили название от племен и областей: дорический, ионический, коринфский.
Портал — архитектурно оформленный вход в здание.
Портик — галерея на колоннах перед входом в здание, завершенная фронтоном или аттиком.
Триглиф — прямоугольная каменная плита с тремя врезами. Чередуясь с метопами, триглифы составляют фриз дорического ордера.
Фриз — в архитектурных ордерах средняя горизонтальная часть антаблемента, между архитравом и карнизом. В дорическом ордере делится на триглифы и метопы. Фриз в интерьере — это декоративная горизонтальная кайма с изображением или орнаментом на стене, паркете, ковре.
Фронтон — верхняя часть фасада здания, ограниченная двумя скатами крыши по бокам и карнизом у основания. Кроме того, декоративным фронтоном украшают двери и окна здания.
Цоколь — нижняя надземная часть стены.
КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
Труды И. В. Цветаева
Cornelii Taciti: Опыт критического обозрения текста. Варшава, 1873.
Сборник осских надписей с очерком фонетики, морфологии и глоссарием. Киев, 1877.
Путешествие по Италии в 1875 и 1880 гг. М., 1883.
Италийские диалектические надписи: В 2 кн. 1886.
Учебный атлас античного ваяния: В 3 кн. М., 1891—1894.
Праздник христианской археологии в Риме весною 1892 года // Русское обозрение. 1893.
Древнегреческие терракоты из собрания великого князя Сергея Александровича. М., 1894.
Устройство Музея античного искусства при Московском университете. М., 1894.
Дневник. НИОР РГБ. Ф. 324. Картон 1. Ед. хр. 1—4.
Из жизни высших школ Римской империи. М., 1902.
Записка заслуженного профессора тайного советника Цветаева о заслугах гофмейстера Нечаева-Мальцова по Музею изящных искусств императора Александра III в Москве (К 50-летию его гос-службы). М., 1907.
Спорные вопросы: Опыт самозащиты. М.; Дрезден, 1911.
Музей изящных искусств им. императора Александра Ill в Москве: Краткий иллюстрированный путеводитель. М., 1912.
Из студенческих воспоминаний о И. И. Срезневском. Петроград, 1915.
История создания Музея в переписке профессора И. В. Цветаева с архитектором Р. И. Клейном и других документах (1896—1912): В2т.М., 1977.
Иван Владимирович Цветаев. 1847—1913: К 150-летию со дня рождения: Крат, библиогр. очерк. Выдержки из писем, дневников, воспоминаний. М., 1997.
Устроить в Москве маленький Альбертинум: Переписка Ивана Цветаева и Георга Трея (1881 — 1912). Кельн; Веймар; Вена, 2006.
И. В. Цветаев — Ю. С. Нечаев-Мальцов. Переписка. 1897— 1912: В 4 т. / Вступит, ст. М. Б. Аксененко. Комментарии А. Н. Баранова, М. Б. Аксененко. М., 2008—2011.
О нем
Анискович Л. И. Край бузины и край рябины (Цветаевы в Тарусе). М„ 2004.
Анискович Л. И. Мария Александровна и Иван Владимирович Цветаевы. Жизнь на высокий лад. М., 2007.
«Безо всякого вознаграждения...» Иваново, 2005.
Каган Ю. М. И. В. Цветаев. Жизнь, деятельность, личность. М., 1987.
Коваль Л. М. И. В. Цветаев — директор музеев, Московского публичного и Румянцевского. М., 2012.
Кочеткова Г. К Дом Цветаевых. Иваново, 2008.
Соснина Е. Б. Итальянские версты Ивана Цветаева: Биографический очерк. Иваново, 2001.
Соснина Е. Б. Музы Трехпрудного переулка. М., 2005.
Цветаева А. И. Воспоминания. М., 1983.
Цветаева М. И. Собрание сочинений: В 7 т. М., 1994.
Шварц А. Н. Мои отношения к г. Цветаеву. ОР РГБ. Шв. 3.5. Л. И.
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
ГМИИ — Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина
НИОР — Научно-исследовательский отдел рукописей
ОР — Отдел рукописей
РГБ — Российская государственная библиотека
РНБ — Российская национальная библиотека
ЦГАЛИ СПб — Центральный государственный архив литературы и искусства Санкт-Петербурга
УКАЗАТЕЛЬ УПОМИНАЕМЫХ ЛИЦ*
Абрикосовы, династия предпринимателей, владельцев кондитерского производства, общественных деятелей, благотворителей — 166
Айвазовский Иван Константинович (1817—1900), художник, коллекционер, музейный деятель, меценат — 149
Аксененко Маргарита Борисовна (р. 1952), искусствовед, заведующая Отделом рукописей ГМИИ им. А. С. Пушкина — 336
Аландский Павел Иванович (1844— 1883), историк античности, филолог-классик, педагог — 38
Александр II Николаевич (1818— 1881), российский император (с 1855) — 20, 110, 137, 139, 141, 176
Александр III Александрович (1845— 1894), российский император (с 1881) — 34, 113, 118, 123, 126, 138, 144, 155, 162, 191,219
Александр Павлович — см. Гуляев А. П.
Александра Георгиевна (1870— 1891), великая княгиня, принцесса греческая и датская; дочь Георга I и Ольги Константиновны, первая жена (с 1889) Павла Александровича — 82
Александра Олимпиевна — см.
Галдина А. О.
Александра Фе(о)доровна (урожд. принцесса Алиса Виктория
Елена Луиза Беатрис Гессен-Дармштадская; 1872—1918), российская императрица, супруга Николая II (1894) — 82, ПО, 119, 138, 141, 143-145, 169,296,305-306
Александров Василий Александрович (? — нач. XX в.), московский купец, владелец строительной артели и кирпичного завода (с 1889) — 124 — 125, 131, 253
Алексеев Андрей Алексеевич (1818— 1888), московский чаеторговец, благотворитель, меценат — 112
Алексеев Евгений Иванович (1843— 1917), военно-морской и государственный деятель, мореплаватель, адмирал (1903); главный начальник и командующий войсками Квантунской области и морскими силами Тихого океана (1899—1903), наместник (1903— 1905) и главнокомандующий сухопутными и морскими силами (1904)на Дальнем Востоке— 193
Алексеева Варвара Андреевна (1824—1894), московская благотворительница, меценат; жена А. А. Алексеева— 112—113
Алексей (1895—?), в 1912 г. дворник в доме И. В. Цветаева в Москве — 291—292
Алексей Михайлович (1629—1676), второй русский царь из династии Романовых (с 1645) — 210
* Жирным шрифтом выделены номера страниц, на которых помещены портреты. Указатель составлен Л. А. Гельфманом (аннотации) и Н. В. Солнцевой.
Алексей Николаевич (Романов; 1904—1918), великий князь, цесаревич (наследник российского престола); сын Николая II и Александры Федоровны — 197
Анастасия Николаевна (Романова; 1901 — 1918), великая княжна, дочь Николая II и Александры Федоровны — 298, 300, 303, 304, 305
Андреев Николай Андреевич (1873— 1932), скульптор и график — 309
Андрей (1882—1944), принц греческий и датский, военный деятель; сын Георга I и Ольги Константиновны— 141
Анискович Лидия Иосифовна (р. 1956), поэтесса, прозаик, автор-исполнитель бардовской песни, цветаевед — 91, 337
Арапов Николай Устинович (1825— 1884), военный деятель, генерал-лейтенант (1876), московский обер-полицмейстер (1866-1876) — 279
Армбрустер Леопольд (1862—1938), немецкий скульптор — 156, 158,221
Архимед (ок. 287—212 до н. э.), древнегреческий математик, физик, инженер — 251
Баранов Александр Николаевич (р. 1948), искусствовед, научный сотрудник ГМИИ им. А. С. Пушкина (с 1972) — 336
Баратынский (Боратынский) Евгений Абрамович (1800—1844), поэт, прозаик — 100, 318—319
Барсов Николай Павлович(1839— 1889), историк, географ, педагог; профессор Варшавского университета (с 1872) — 265
Бартенев Петр Иванович (1829— 1912), историк, литературовед, основатель и издатель (1863— 1912) журнала «Русский архив» — 89, 279, 292, 294
Барто Мария Вильгельминовна (Тоня) — см. Юхневич М. В.
Бедекер Карл (1801 — 1859), немецкий издатель путеводителей — 75, 79, 83
Безобразов Александр Михайлович (1855—1931), военный и политический деятель, полковник, статс-секретарь (1903); один из идеологов авантюристской политики царского правительства на Дальнем Востоке (1896—1904); с 1917 в эмиграции — 219
Белелюбский Николай Аполлонович (1845—1922), инженер-мостостроитель, специалист в области строительной механики, педагог; профессор Петербургского института инженеров путей сообщения (с 1873) — 174
Белинский Виссарион Григорьевич (до 1829 — Белынский; 1811 — 1848), литературный критик — 282
Белопражская Ольга Михайловна — см. Цветаева О. М.
Белый Андрей (наст, имя и фам. Борис Николаевич Бугаев; 1880—1934), поэт, прозаик, литературный критик, теоретик символизма, стиховед — 267, 283
Бендовский Евгений Борисович (р. 1946), инженер-химик, технолог, сотрудник Химического факультета Московского государственного университета — 147
Бенуа Александр Николаевич (1870-1960), художник, теоретик и историк искусства, издатель, художественный критик — 308
Бенуа Леонтий Николаевич (1856— 1928), архитектор, педагог; профессор Академии художеств (с 1892) — 146, 148
Бернар Сара (наст, имя Мари Генриетта Розина; 1844—1923),
французская актриса; драматург, театральный теоретик, мемуарист — 268
Бернацкая Марианна Станиславовна (урожд. Ледуховская; 1816—1846), мать М. Л. Мейн — 90
Бернацкая Мария Лукинична — см. Мейн М. Л.
Бернацкий Лука Александрович (1794-1879), государственный чиновник; отец М. Л. Мейн, дед М. А. Цветаевой — 90
Бернштейн-Синаев Лев Семенович — см. Синаев-Бернштейн Л. С.
Беттихер Карл Готлиб Вильгельм (1806—1889), немецкий археолог, архитектор, историк искусства, педагог — 79, 83
Блаватская Елена Петровна (урожд. Ган (Ганн); 1831 — 1891), прозаик, теософ — 282
Благовещенский Николай Михайлович (1821 — 1892), филолог-классик, переводчик, педагог; профессор Петербургского (1852—1872) и ректор Варшавского (1872—1883) университетов — 22, 25, 38
Блинов Макарий Николаевич (1872—1908), нижегородский предприниматель, благотворитель; племянник Н. А. Бугрова — 129-131,253
Блок Александр Александрович (1880—1921), поэт, драматург, литературный критик — 27
Блуменау Александр Владимирович (1860—1934), горный инженер, геолог — 153, 181 — 182
Богарне Жозефина — см. Жозефина Богарне
Боголепов Николай Павлович (1846—1901), государственный деятель, организатор образования, юрист, историк римского права, педагог; профессор (с 1876) и ректор (1883—1887;
1891 — 1893) Московского уни
верситета, попечитель Московского учебного округа (1895—1898), министр народного просвещения (с 1901) — 115, 138, 143, 168,206
Богословская Мария Александровна — см. Цветаева М. А.
Богословский Александр Матвеевич (1815—1869), священник; отец М. А. Цветаевой (Богословской) — 331
Бодлер Шарль Пьер (1821 — 1867), французский поэт, критик — 245
Бодуэн де Куртенэ Иван Александрович (Ян Нецислав Игна-ций; 1845—1929), российский и польский языковед, педагог, политический деятель — 38— 39
Бойцов Петр Семенович (Самойлович или Соймонович; 1840-е — после 1917), архитектор, мебельный мастер — 114
Бонапарт — см. Наполеон I
Боссе Гаральд Эрнестович (также Юлий Андреевич, Гаральд Андреевич, Юлий Эрнестович; Гаральд Юлиус фон; 1812—1894), российский и немецкий архитектор, педагог — 146
Браун, профессор, в 1890 сосед семьи И. В. Цветаева в Москве — 86
Бринк, сестры Паулина и Энни, немецкие педагоги, владелицы пансиона во Фрейбурге, где учились Марина и Анастасия Цветаевы (1904—1905)— 195
Бугров Николай Александрович (1839—1911), нижегородский хлебопромышленник, финансист, домовладелец, меценат, благотворитель — 127—128, 130-131, 137, 174,253
Бурылин Дмитрий Геннадиевич (1852—1924), иваново-возне-сенский текстильный фабрикант, меценат, коллекционер — 18
Бутурлины, владельцы имения под Тарусой — 95
Быховский Наум Николаевич, златоустовский мировой судья, горный предприниматель — 155, 179, 181-182
Вава — см. Цветаева В. Д.
Ванновский Петр Семенович (1822—1904), военный и государственный деятель; генерал от инфантерии (1883); военный министр (1881 — 1897), министр народного просвещения (1901 — 1902) —206-207
Василий III Иоаннович (Иванович) (1479—1533), великий князь владимирский и московский (с 1505) — 280
Василий, в 1904 г. работник Кабинета изящных искусств и древностей Московского университета — 203
Василий Иванович Шуйский (1553—1612), князь, боярин и воевода, впоследствии царь (1606—1610), сын боярина кн. И. П. Шуйского — 264—265
Васнецов Виктор Михайлович (1848—1926), художник, архитектор — 149
Вахтеров Василий Порфирьевич (1853—1924), педагог, организатор образования, методист — 290
Веневитинов Михаил Алексеевич (1844—1901), археограф, историк-краевед, генеалог, библиофил, библиограф; государственный чиновник, гофмейстер двора (1889), воронежский губернский предводитель дворянства (1888—1896), директор Румянцевского музея (с 1896) — 113
Верроккьо Андреа дель (наст, имя Андреа ди Микеле Чони; 1435 или 1436—1488), итальянский скульптор, художник, ювелир — 151, 162
Вильгельм I Фридрих Людвиг (1797-1888), германский император (с 1871), король Пруссии (с 1861)— 163
Вильгельм II (1859—1941), германский император (1888—1918) — 217
Винсент (Викентий) де Поль, св. (1581 — 1660), деятель католической церкви, капеллан; основатель конгрегаций лазари-стов и дочерей милосердия — 195
Витгефт Вильгельм Карлович (1847—1904), военно-морской деятель, теоретик; контр-адмирал (1903); командующий 1-й Тихоокеанской эскадрой (1904) — 197
Витте Сергей Юльевич (1849— 1915), государственный и политический деятель, министр финансов (1892—1903), председатель Комитета министров (1903—1906); мемуарист— 112, 124, 193, 207, 212, 218-219, 280, 297
Владимир Александрович (1847— 1909), великий князь, военный, государственный и общественный деятель, генерал от инфантерии (1880), сенатор (1868); президент Академии художеств (с 1876); сын Александра II — 140
Владимир (в миру Василий Никифорович Богоявленский; 1848— 1918), церковный деятель, митрополит Киевский и Галицкий (1915-1918), Санкт-Петербургский и Ладожский (1912—1915), Московский и Коломенский (1898—1912), экзарх Грузии (1892-1898) — 139, 141, 144, 297
Волконская Зинаида Александровна (урожд. княжна Белосель-ская-Белозерская; 1789—1862), княгиня, хозяйка литературного салона, прозаик, поэтесса,
певица, композитор; благотворительница — 106—107
Володя, знакомый М. И. Цветаевой в Нерви — 251, 252
Волошин Максимилиан Александрович (наст. фам. Кириенко-Волошин; 1877—1932), поэт, переводчик, литературный и художественный критик, художник — 308
Воронская Антонина Петровна — см. Киселева А. П.
Воронский Николай Станиславович, выпускник Пажеского корпуса; первый муж А. П. Киселевой — 332
Воронцов-Дашков Илларион Иванович (1837—1916), граф, государственный и военный деятель, генерал от кавалерии (1890); министр императорского двора и уделов (1881 — 1897), председатель Красного Креста (1904—1905), наместник на Кавказе (с 1905) — 297
Гагарин Юрий Алексеевич (1934— 1968), летчик-космонавт, совершивший первый пилотируемый космический полет — 8
Галдина Александра Олимпиевна, экономка в доме И. В. Цветаева — 289, 294
Гапон Георгий Аполлонович (1870— 1906), священник, деятель рабочего и революционного движения; сотрудник Департамента полиции (с 1902); создатель и руководитель «Собрания русских фабрично-заводских рабочих Санкт-Петербурга» (1903— 1906), организатор шествия 9 января 1905 г., закончившегося массовым расстрелом («Кровавое воскресенье») — 207, 209, 280
Гау Эдуард Петрович (Иванович) (1807—1887), художник, мастер архитектурной акварели — 121
Гельбиг Вольфганг (1839—1915), немецкий археолог— 189-190
Гёльдерлин Фридрих (Иоганн Христиан Фридрих; 1770—1843), немецкий поэт, прозаик — 99
Гельмгольц Герман Людвиг Фердинанд фон (1821 — 1894), немецкий физик, врач, физиолог, философ — 112
Георг (1869—1957), принц греческий и датский; политический и государственный деятель, дипломат; правитель Критского государства (1898—1906); сын Георга I и Ольги Константиновны — 141
Георг I (1845—1913), король Греции^ 1863); муж(с 1867)Ольги Константиновны— 141
Гербер Август (2-я пол. XIX в.), немецкий скульптор-копиист, владелец мастерской — 194
Герберт фон Хорнау Мартин (1720—1793), барон, немецкий теолог, историк, музыковед; монах-бенедиктинец, князь-аббат (с 1864) — 215
Гёте Иоганн Вольфганг (1749—1832), немецкий поэт, прозаик, естествоиспытатель, философ — 99
Гжельский, чиновник— 120
Глаголев Федор Федорович, врач; муж Л. И. Добротворской-Гла-голевой — 333
Голенищев Владимир Семенович (1856—1947), египтолог, ассириолог, семитолог; основатель и руководитель кафедры египтологии в Каирском университете (1924—1929) — 15—16, 284-285,305, 329
Голицын Владимир Михайлович (1847—1932), князь, государственный, политический и общественный деятель; московский вице-губернатор (1883—1887), губернатор (1887—1891), городской голова (1897—1905); после 1917 г. — библиограф — 139
Головин Александр Яковлевич (1863—1930), художник, дизайнер интерьеров и мебели — 149
Гольдберг Б., московский фотограф, знакомый И. В. Цветаева — 88
Гомер, легендарный древнегреческий поэт — 22, 324, 326
Гораций (Квинт Гораций Флакк; 65—8 до н.э.), римский поэт — 207, 251
Готье (Готье-Дюфайе) Юрий Владимирович (1873—1943), музейный деятель, историк, археолог, педагог; профессор Московского университета (с 1915); сотрудник Румянцевского музея — 202
Готье-Дюфайе Владимир Гаврилович (1843—1896), последний из семьи Готье-Дюфайе владелец книжного магазина в Москве на Кузнецком мосту — 255
Гро Антуан-Жан (1771 — 1835), французский художник-академист — 255
Гуляев Александр Павлович, репетитор А. И. Цветаева, филолог — 244—245, 251
Гумилев Николай Степанович (1886—1921), поэт, прозаик, драматург, литературный критик — 308
Даль Владимир Иванович (1801— 1872), прозаик, лексикограф, этнограф — 38, 282, 287
Данте Алигьери (Дуранте дельи Альгьери; 1265—1321), итальянский поэт, философ, политический деятель — 207
Даффингер Майкл Мориц (1790— 1849), австрийский миниатюрист и скульптор — 257
Даша, горничная Цветаевых в Тарусе — 86, 232-233
Дашков Василий Андреевич (1819— 1896), этнограф, музейный деятель, меценат, коллекционер;
директор Московского публичного и Румянцевского музеев (с 1868) — 65, ИЗ
Дашкова Екатерина Романовна (урожд. Воронцова; 1743— 1810), княгиня, политический, литературный и научный деятель, директор Петербургской академии наук(1783—1796); мемуарист — 40
Делла Роббиа Лука — см. Роббиа Л. делла
Демосфен (ок. 384—322 до н. э.), древнегреческий оратор, политический деятель — 276
Дёрпфельд Вильгельм (1853— 1940), немецкий археолог, архитектор, педагог — 172, 324
Джунковский Владимир Федорович (1865—1938), государственный и военный деятель, генерал-лейтенант (1917); адъютант Сергея Александровича (1891 — 1905), московский губернатор (1908—1913), командир Отдельного корпуса жандармов (1913—1915) — 297
Дижон Альфонсина, гувернантка М. И. и А. И. Цветаевых — 86, 245
Дмитриев Иван Владимирович, письмоводитель Румянцевского музея (1899—1911) — 154, 202-203
Дмитриев Максим Петрович (1858—1948), фотограф— 130
Добролюбов Николай Александрович (1836—1861), литературный критик, революционно-демократический публицист, поэт — 22
Добротворская Елена Александров-на(урожд. Цветаева; 1857—1939), двоюродная сестра И. В. Цветаева — 93,233-234,331
Добротворская Надежда Ивановна (1882—1943), врач; двоюродная племянница И. В. Цветаева — 166, 333
Добротворская-Глаголева Людмила
Ивановна (урожд. Добротвор-ская; 1885—1953), врач; двоюродная племянница И. В. Цветаева — 166, 234,333
Добротворский Александр Иванович (1883—1945), педагог; двоюродный племянник И. В. Цветаева — 333
Добротворский Иван Зиновьевич (1856—1919), тарусский врач, муж Е. А. Добротворской — 95, 232, 234, 332
Добужинский Мстислав Валерианович (1875—1957), художник, критик, педагог, мемуарист — 308
Долгорукие (Долгоруковы), представители дворянского рода — 108
Доменико дон, в 1875 хозяин гостиницы в деревне Пьетраббон-данте в Италии — 34
Донателло (полн. имя Донато ди Никколо ди Бетто Барди; ок. 1386—1466), флорентийский скульптор — 151, 162
Дубасов Николай Васильевич (1850 — после 1913), военный деятель; генерал от кавалерии (1913); военный губернатор Уральской области и наказной атаман Уральского казачьего войска (1910—1913), генерал-квартирмейстер Генерального штаба (1906—1909) — 297
Думберг Карл Евгеньевич (1862 — после 1901), музейный деятель, археолог, краевед; директор Керченского музея (1891 — 1901) — 172
Дурново (Дурново-Эфрон) Елизавета Петровна (в замуж. Эфрон; 1853—1910), революционерка, деятель «Народной воли»; мать С. Я. Эфрона — 269—270
Дурново Иван Николаевич(1834— 1903), государственный и общественный деятель, министр внутренних дел (1889—1895),
председатель Комитета министров (1895—1903), черниговский (1863—1870) и екатеринослав-ский (1870—1882) губернатор — 226
Дюрваль Варвара Николаевна — см. Иловайская В. Н.
Дюрер Альбрехт (1471-1528), немецкий художник, теоретик искусства — 65, 245
Еврипид (Эврипид) (между 481 и 486—406 до н. э.), древнегреческий поэт, драматург-трагик — 276
Елизавета Фе(о)доровна (урожд. принцесса Елизавета Александра Луиза Алиса Гессен-Дарм-штадская; 1864—1918), великая княгиня, общественный деятель; жена (с 1884) Сергея Александровича — ПО, 119, 140-141, 171
Елпатьевская Марья Ивановна — см. Цветаева Мария Ивановна
Елпатьевский Иван К., священник, отец Марии Ивановны Цветаевой — 330
Елпатьевский Сергей Яковлевич (1854—1933), прозаик, мемуарист, врач; деятель революционного движения, народник — 16
Ермолов Алексей Сергеевич (1847— 1917), государственный и общественный деятель, агроном; министр земледелия и государственных имуществ (1894— 1905), статс-секретарь (1903), председатель Всероссийской сельскохозяйственной палаты (с 1912) —297
Ермолова Екатерина Петровна (псевд. Тригорский; 1829— 1910), общественный деятель, прозаик; фрейлина (с 1847), камер-фрейлина (с 1899) — 109
Жебелёв Сергей Александрович (1867—1941), филолог-классик,
историк античности, археолог, переводчик, педагог; профессор Петербургского университета (1904-1927) — 89
Жемчужников Алексей Михайлович (1821 — 1908), поэт, государственный чиновник— 191
Жемчужниковы, братья Алексей Михайлович (см.), Владимир Михайлович (1830—1884), поэт-сатирик, государственный чиновник, директор Департамента общих дел и канцелярии министра путей сообщения (1879— 1889) и Александр Михайлович (1826—1896), поэт-сатирик, чиновник, пензенский(1866—1870) и псковский (1870—1874) вице-губернатор; создатели (совместно с А. К. Толстым) Козьмы Пруткова — 100
Жозефина Богарне (урожд. Мари Жозеф Роз де Таше де ля Па-жери; 1763—1814), французская императрица (1804—1809), первая жена (1796—1809) Наполеона I — 256, 257
Журавлев Михаил Николаевич (1840—1917), рыбинский промышленник, судовладелец, благотворитель — 137
Залеман Гуго Робертович (Романович) (1859—1919), скульптор, педагог— 155—157
Зверев Николай Андреевич (1850— 1917), юрист, общественный и государственный деятель, педагог; профессор (с 1895) и ректор (март — июль 1898) Московского университета, начальник Главного управления по делам печати (1902—1905), сенатор (1901)— 137
Зеленцов Анатолий Александрович (1854—1918), горнозаводчик, государственный деятель; начальник Златоустовского горного округа (1897—1909) — 184
Зенгер Григорий Эдуардович (1853— 1919), филолог-классик, государственный деятель, педагог; профессор (с 1895) и ректор (1897—1899) Варшавского университета; министр народного просвещения (1902—1904), сенатор (1904) — 207
Иванов Александр Андреевич (1806—1858), художник — 65
Изачик Варвара Вениаминовна, дочь судебного пристава В. Б. Изачи-ка, тарусская знакомая Цветаевых — 166
Изачик Иван Вениаминович, сын судебного пристава В. Б. Иза-чика, тарусский знакомый Цветаевых — 166
Иловайская Александра Александровна (урожд. Коврай-ская; 1852—1929), вторая жена (с 1880) Д. И. Иловайского — 49,210, 240-242,253,297
Иловайская Варвара Дмитриевна — см. Цветаева В. Д.
Иловайская Варвара Николаевна (урожд. Дюрваль; 1837—1877), первая жена Д. И. Иловайского, мать В. Д. Цветаевой — 43—44, 185
Иловайская Надежда Дмитриевна (1882—1904), дочь Д. И. Иловайского — 185, 210—211, 240, 242
Иловайская Ольга Дмитриевна — см. Матвеева О. Д.
Иловайские, семья Д. И. Иловайского — 40, 69, 185, 210, 242, 253
Иловайский Дмитрий Иванович (1832-1920), историк, публицист, педагог, автор учебников; издатель-редактор правоконсервативной газеты «Кремль» (1897-1916) — 40, 42-44, 45, 46-47, 49-51, 53-54, 59, 61-63, 98, 112, 184, 210-212, 229, 239-240, 241, 242-243, 252, 264-265, 297, 331
Иловайский Иван Михайлович (? — после 1864), отецД. И. Иловайского — 43, 210
Иловайский Сергей Дмитриевич (1884—1904), сын Д. И. Иловайского — 185,210,240, 242
Истомин Владимир Константинович (1848—1914), государственный чиновник, издатель, журналист, поэт; гофмейстер двора (с 1893), начальник канцелярии московского генерал-губернатора (1878-1883; 1887-1904), редактор-издатель журнала «Детский отдых» (1883—1887); брат К. К. Истомина — 120, 123, 136-138
Истомин Константин Константинович (1853 — после 1916), военный деятель, генерал-лейтенант (1914), полицмейстер Зимнего дворца (1898—1904); брат В. К. Истомина — 120
К . Р. — см. Константин Константинович
Каган Юдифь Матвеевна (1924— 2000), филолог, переводчица, историк, педагог-латинист; автор книги «И. В. Цветаев: Жизнь, деятельность, личность» (1987) — 44, 267, 337
Казначеев Константин Алексеевич (ок. 1862—1906), инженер-механик, политический и общественный деятель, издатель; редактор «Ремесленной газеты» (с 1885) и журнала «Технический сборник и вестник промышленности» (с 1890)— 113
Каменский, служащий Самаро-Златоустовской железной дороги — 179
Канова Антонио (1757—1822), итальянский скульптор — 149
Каракозов Дмитрий Владимирович (1840—1866), революционер-террорист, совершивший 4 апреля 1866 г. покушение на Александра II — 20
Карамзин Николай Михайлович (1766—1826), прозаик, поэт, историк, литературный деятель — 45
Катулл Гай Валерий (ок. 87 — ок. 54 до и. э.), римский поэт — 93
Кезельман Ольга Дмитриевна— см. Матвеева О. Д.
Келлат Алексей Самойлович (1865— 1927), письмоводитель, смотритель и казначей Румянцевского музея (1891 — 1910) — 202,205
Кефисодот Старший (440—370 гг. до н. э.), древнегреческий скульптор; создатель аллегорической статуи Эйрены (русск. Ирина, богиня мира) с младенцем Плу-тосом (богом богатства) на руках, изваянной по заказу афинян после заключения мира со Спартой в 374 г. до и. э. — 127
Кирилловны, жительницы хлыстовского скита в Тарусе — 249
Киселев Николай Андреевич, второй муж А. П. Киселевой — 332
Киселева Антонина Петровна (урожд. Цветаева, в первом браке Воронская; 1890—1928), врач; племянница И. В. Цветаева — 332
Классен-Неклюдова Марина Викторовна (урожд. Классен; 1904/05—1995), химик-кристаллограф — 281
Клейн Роман Иванович (Роберт Юлиус; 1858—1924), архитектор, реставратор, педагог — 8, 114, 115,116,119-120, 123-124, 130-132, 134-135, 137, 139— 140, 142-144, 152, 154-156, 168-169, 171, 173, 202-203, 205, 211, 230, 253, 282, 298, 308-309,312,336
Клейн, супруга Р. И. Клейна — 135
Климентова-Муромцева Марья
Николаевна (урожд. Климентова; 1857-1946), оперная певица, педагог; солистка Большого театра (1880—1889) — 307
Клодт Михаил Петрович (Клодт фон Юргенсбург; 1835—1914), художник, педагог; сын скульптора Петра Карловича Клодта (1805-1867) — 91
Ключевский Василий Осипович (1841—1911), историк, политический мыслитель, научнообщественный деятель, педагог; профессор Московского университета (с 1882), председатель Общества истории и древностей российских (1893— 1906) — 39
Кобылинский Лев Львович — см.
Эллис
Кобылянский Владислав Александрович («Тигр») (наст, имя и фам. Лейзер Гольдберг; 1876—1919), польский и российский революционер, журналист; комиссар просвещения в Ялте, редактор газеты «Ялтинская коммуна» — 186-187, 188,251
Коваль Людмила Михайловна (р. 1933), историк, заведующая Музеем истории Российской государственной библиотеки — 337
Коврайская Александра Александровна — см. Иловайская А. А.
Козлов Александр Александрович (1837—1924), военный, государственный и общественный деятель, генерал от кавалерии (1896), петербургский градоначальник (1873—1878), московский (1878-1881; 1882-1887) и петербургский (1881 — 1882) обер-полицмейстер, московский генерал-губернатор (апр. — июль 1905) — 226
Кознов М. П., московский купец, коллекционер — 279
Коковцов Владимир Николаевич (1853—1943), государственный деятель; председатель Совета министров (1911 — 1914), министр финансов (1904—1905; 1906—1914), государственный
секретарь (1902—1904), сенатор (1900); с 1918 г. в эмиграции — 296
Кокурина Елена Михайловна (р. 1961), научный сотрудник московского Дома-музея Марины Цветаевой — 6
Колесников Иван Андреевич, предприниматель, благотворитель; содиректор Никольской мануфактуры (с 1886) — 137
Комб Луи Эмиль (1835—1921), французский государственный и политический деятель, премьер-министр (1902—1905); богослов, врач — 196
Константин I (1868—1923), король Греции (1913-1917; 1920—
1922); сын Георга I и Ольги Константиновны — 82
Константин Константинович (Романов; псевд. К. Р.; 1858—1915), великий князь, поэт, переводчик, драматург; государственный деятель, генерал от инфан-терии (1907) — 124, 140,211
Константин Николаевич (1827— 1892), великий князь, военно-морской и государственный деятель, адмирал (1855); председатель Государственного совета (1865—1881), председатель Комитета по освобождению крестьян (1857—1861); сын Николая I и Александры Федоровны — 141
Коншин Николай Николаевич (1831—1918), серпуховский предприниматель, промышленник — 137
Коровин Константин Алексеевич (1861 — 1939), художник, педагог, прозаик; преподаватель Московского училища живописи, ваяния и зодчества (1901 — 1918); с 1923 в эмиграции — 149
Корш Федор Евгеньевич (1843— 1915), филолог-классик, востоковед, славист, языковед,
переводчик, педагог; профессор Московского университета (1877-1905) — 39-40, 276
Котляревский Александр Александрович (1837—1881), историк-славист, археолог, этнограф, педагог; профессор Дерптского (1868—1872)и Киевского(с 1875) университетов — 8, 38,40, 42
Кочеткова Галина Константиновна (урожд. Смирнова; 1914—2009), краевед, музейный деятель; основатель Дома-музея семьи Цветаевых в Ново-Талицах; дочь К. П. Смирнова — 10, 13, 18,261-262,337
Кочубей Лев Викторович (в крещении Терентий; 1810—1890), князь, военный и общественный деятель, государственный чиновник; полковник (1837); полтавский губернский предводитель дворянства (1853— 1859), основатель и президент (1865—1878) Полтавского сельскохозяйственного общества — 146
Крамской Иван Николаевич (1837— 1887), художник, критик, теоретик искусства, общественный деятель, педагог— 151 — 152
Кудрявцев Петр Николаевич (псевд. А. Нестроев; 1816—1858), историк, прозаик, педагог; профессор Московского университета (с 1847) — 210
Кудрявцева Варвара Арсеньевна (урожд. Нелидова; 1826—1857), жена П. Н. Кудрявцева — 210
Кузьмин Роман Иванович (1811 — 1867), архитектор — 146
Куинджи Архип Иванович (1841, по др. свед. 1842—1910), художник, педагог, благотворитель — 149
Куропаткин Алексей Николаевич (1848—1925), военачальник, военный историк, географ; генерал от инфантерии (1901); военный министр (1898—1904),
главнокомандующий русской армией на Дальнем Востоке (13 окт. 1904 — 3 марта 1905), туркестанский генерал-губернатор (июль 1916 — февр. 1917)— 193, 198,200
Кутырин Михаил Дмитриевич (1855—1923), скульптор, строительный предприниматель — 182
Кюнерт Макс, художник, инспектор королевского Музея скульптуры в Дрездене — 158
Ласточкин Аркадий Александрович, репетитор А. И. Цветаева, революционер — 243—244
Ледуховская Мария Лукинична — см. Бернацкая М. Л.
Ледуховские, польский графский род — 99
Лейден Эрнст Виктор (1832—1910), немецкий врач-терапевт, педагог; профессор Кенигсбергского (1856—1872), Страсбургского (1872—1876) и Берлинского (с 1876) университетов — 169
Лёра — см. Цветаева В. И.
Лермонтов Михаил Юрьевич (1814—1841), поэт, прозаик, драматург — 100
Лившиц Бенедикт Константинович (до крещения Наумович; 1887— 1938), поэт, переводчик, мемуарист — 211
Липгарт Эмиль Александрович (1838—1907), московский фабрикант — 155
Лисикрат, афинский хороначаль-ник, в честь которого в 334 году до н. э. был воздвигнут памятник, сохранившийся до настоящего времени — 301
Лисипп (ок. 390 — ок. 300 до н. э.), древнегреческий скульптор — 89, 194
Лист Георгий (Густав) Адольфович (?—1909), горнопромышленник — 153, 179, 181-182
Лист Ференц (Франц) (1811 — 1886), венгерский композитор, пианист, педагог, дирижер, теоретик искусства, музыковед, музыкально-общественный деятель — 99
Лорие (Лорье) Федор Антонович (1858—1920), ювелир, владелец ювелирной фабрики в Москве — 140
Лорье Ф. А. — см. Лорие Ф. А.
Львов, владелец обувного магазина в Москве — 105
Любавский Матвей Кузьмич (1860— 1936), историк, архивист, педагог; профессор (1901 — 1930) и ректор (1911 — 1917) Московского университета — 297
Люгебиль Карл Якимович (1830— 1886), филолог-классик, историк античности, языковед, педагог, организатор образования; профессор Петербургского университета (с 1868) — 22
Людовик XVI Бурбон (1754—1793), король Франции (1774—1792) — 209
Макарий (в миру Михаил Петрович Булгаков; 1816—1882), церковный деятель, богослов, историк церкви, публицист; митрополит Московский и Коломенский (1879—1882); профессор^ 1844)и ректор(1850— 1857) Петербургской духовной академии, редактор журнала «Христианское чтение» (1850— 1857) — 45
Макаров Степан Осипович (1848— 1904), военно-морской деятель, океанограф, полярный исследователь, кораблестроитель, вице-адмирал (1896)— 197
Маковский Сергей Константинович (1877—1962), поэт, прозаик, художественный критик, искусствовед, издатель — 308
Маланья, няня И. В. Цветаева — 52, 68, 166,244
Мальцов (Мальцев) Иван Сергеевич (1805—1880), фабрикант, дипломат, переводчик, журналист; чиновник Министерства иностранных дел — 145—146
Мальцов Иван Акимович (1774— 1853), промышленник, владелец Дятьковского стекольного завода; дядя И. С. Мальцова — 145
Мальцевы, династия промышленников — 145
Мамака — см. Маркова А. А.
Мамонтов Савва Иванович(1841— 1918), предприниматель, меценат, театральный и музыкальный деятель, основатель Московской частной русской оперы (1885—1904)— 128
Мария Александровна (1853— 1920), великая княжна, герцогиня Эдинбургская и Саксен-Кобург-Готская: жена (с 1874) принца Альфреда герцога Эдинбургского (1844—1900); дочь Александра II — 141
Мария Генриховна, гувернантка
М. И. и А. И. Цветаевых — 231
Мария Луиза Австрийская (1791 — 1847), вторая жена (с 1810) Наполеона I; герцогиня пармская (с 1816); дочь австрийского императора Франца I — 256, 257
Мария Николаевна (Романова; 1899—1918), великая княжна, дочь Николая II и Александры Федоровны — 298, 300, 303, 304, 305
Мария Павловна (урожд. Мария Александрина Елизавета Элеонора Макленбург-Шверинская; 1854—1920), великая княгиня, общественный деятель, президент Академии художеств (1909-1917); жена (с 1874) Владимира Александровича — 278
Мария Фе(о)доровна (урожд. Мария София Фредерика Дагмара; 1847—1928), российская императрица, супруга Александра III
(с 1866) — 119, 296, 298, 300, 303, 304, 305
Маркова Александра Александровна («Мамака») (1814—1891), приемная мать В. Н. Иловайской — 44, 46, 47, 49—51, 54, 57-58,61
Мармоне (Мормоне, Мормонэ) Иосиф Иванович (1875 — после 1925), одесский скульптор, педагог; с 1919 г. жил в Италии — 156
Матвеева Ольга Дмитриевна (урожд. Иловайская, в первом браке Кезельман; 1883-1958), дочьД. И. Иловайского — 210
Матвей Андреевич (Андреич), дьячок, каллиграф, церковный чтец; первый учитель И. В. Цветаева — 10, 18
Мейербер (Мейербеер) Джакомо (при рожд. Якоб Либман Беер; 1791 — 1864), немецкий, итальянский (1816—1824) и французский (с 1827) композитор, пианист, дирижер — 64, 67
Мейн Александр Данилович (1848— 1899), финансовый деятель, журналист; отец М. А. Цветаевой — 89, 90, 92-93, 96-97, НО, 112-113, 168-169,331
Мейн Мария Александровна — см. Цветаева М. А.
Мейн Мария Лукинична (урожд. Бернацкая; 1841—1868), первая жена А. Д. Мейна, мать М. А. Цветаевой — 90
Мейн Сусанна Давыдовна («Тьо»; урожд. Эмлер; ок. 1843—1919), воспитательница М. А. Цветаевой, вторая жена А. Д. Мейна — 90, 94, 168,232-233
Мейны, семья А. Д. Мейна — 235
Менгден Георгий Георгиевич (1861 — 1917), граф, военный и административный деятель; генерал-лейтенант (1816); заведующий двором Сергея Александровича (1898—1905) и Елизаветы Федоровны (1905—1908)— 171
Мещерская (Мещерская-Трухачева) Маргарита Андреевна (урожд. Трухачева; р. 1947), переводчица; правнучка И. В. Цветаева; живет в США — 334
Мещерская Ольга Ростиславовна (р. 1976), праправнучка И. В. Цветаева; живет в США — 334
Микеланджело Буонарроти (Ми-келаньоло ди Лодовико ди Ли-онардо ди Буонаррото Симо-ни; 1475—1564), итальянский скульптор, художник, архитектор, инженер, поэт — 151, 162, 194
Миллер Всеволод Федорович (1848 — 1913), языковед, археолог, этнограф, педагог, научнообщественный деятель; профессор Московского университета (с 1884), директор Лазаревского института восточных языков (1897—1911); президент Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии (1889-1891) — 277
Минц Алексей Маврикиевич (1916— 1917), внук И. В. Цветаева, сын А. И. Цветаевой — 334
Минц Маврикий Александрович (1886—1917), инженер-химик; второй муж А. И. Цветаевой — 333
Мирон (сер. V в. до н. э.), греческий скульптор — 89
Михаил Николаевич (1832-1909), великий князь, военный и государственный деятель; генерал-фельдмаршал (1878); гене-рал-фельдцейхмейстер (с 1852), наместник Кавказа и командующий Кавказской армией (1862— 1865; 1877—1878) и войсками Кавказского военного округа (1865—1881), председатель Государственного совета (1881 — 1905); сын Николая 1 — 141
Ми хельсон Евгения, подруга В. Д. Цветаевой — 47, 54—55, 57, 59-60
Модестов Василий Иванович (1839— 1907), историк античности, филолог-классик, археолог, публицист, переводчик, педагог; профессор Киевского (1869— 1878), Петербургского (1886— 1889) и Новороссийского (1889—1893) университетов — 8,21,25-26,67, 70-71
Молчанов Никифор Иванович (ок. 1700—1764), военно-морской деятель; контр-адмирал (1762); капитан Архангельского порта (1759-1762) —9
Моммзен Теодор (1817—1903), немецкий историк античности, филолог-классик, юрист; лауреат Нобелевской премии (1902) — 26
Морозов Михаил Абрамович (1870— 1903), предприниматель, коллекционер, меценат, общественный деятель; совладелец Тверской мануфактуры (с 1895) — 137, 305
Мосолов Николай Семенович (1846—1914), гравер-офортист — 137
Муратов Павел Павлович (1881 — 1950), прозаик, искусствовед, переводчик, историк, общественный деятель, политический журналист, издатель — 308,309,310-311
Муромцев Леонид Матвеевич (1825—1899), общественный деятель; гофмейстер двора, рязанский губернский предводитель дворянства (с 1878)— 137
Навуходоносор II (Набу-кудур-ри-уцур) (ок. 634—562 до н. э.), вавилонский царь (605-562 до н. э.) — 306
Нагаткин Михаил Степанович (? — до 1910), финансовый деятель; в 1895 г. главный директор Волжско-Камского банка — 113
Наполеон I Бонапарт (1769—1821), французский император(1804—
1815), полководец — 101, 247— 248, 255-258, 267-268
Наполеон II («Орленок») (полн. имя Наполеон Жозеф Франсуа Шарль Бонапарт; также Франц, герцог Рейхштадтский (с 1817); 1811 — 1832), сын Наполеона I и Марии Луизы Австрийской — 255,256,257, 267,312
Нарышкины, представители дворянского рода, владельцы имения под Тарусой — 95
Наталья Кирилловна Нарышкина (1651 — 1694), русская царица (с 1671), вторая жена царя Алексея Михайловича; мать Петра I — 95
Некрасов Николай Алексеевич (1821 — 1877/78), поэт, прозаик, журналист, издатель; редактор журналов «Современник» (1847—1866) и «Отечественные записки» (с 1868; совм. с М. Е. Салтыковым-Щедриным)— 100
Некрасов Павел Алексеевич (1853— 1924), математик, философ, педагог, организатор образования, общественный деятель; профессор (с 1886) и ректор (1893—1898) Московского университета, вице-президент (с 1891) и президент (1903— 1905) Московского математического общества, попечитель Московского учебного округа (1897-1905) — 138, 141
Нечаев Дмитрий Степанович (1829 — после 1899), меценат, благотворитель; брат Ю. С. Нечаева-Мальцова — 151
Нечаев Степан Дмитриевич (1792— 1860), государственный и общественный деятель, организатор образования, поэт, историк, археолог, благотворитель; сенатор (1836), обер-прокурор Синода (1833—1836), директор училищ Тульской губернии (1817—1823); декабрист, член
Союза благоденствия; отец Ю. С. Нечаева-Мальцова — 146
Нечаев Юрий Степанович — см. Нечаев-Мальцов Ю. С.
Нечаева Анна Степановна (1831 — 1908), сестра Ю. С. Нечаева-Мальцова — 151
Нечаева Софья Степановна (1830-1907), сестра Ю. С. Нечаева-Мальцова — 151
Нечаев-Мальцов Юрий Степанович (собств. Нечаев; 1834— 1913), меценат, общественный деятель, фабрикант, владелец стекольных заводов, дипломат; племянник И. С. Мальцева — 8, 106, 115, 116, 119, 125-126, 129-131, 133-136, 138-141, 143-144, 146, 148-149, 151, 152, 153, 154, 155-156, 159-
164, 169, 171-173, 177, 182—
184, 189, 193, 195, 204, 210—
211, 216, 219, 222, 227, 298,
299, 305, 306, 308, 315, 336
Нибур БартольдГеорг(1776—1831), немецкий историк античности, государственный и финансовый деятель, дипломат — 200
Николай I Павлович (1796—1855), российский император (с 1825) — 271
Николай II Александрович (1868— 1918), российский император (с 1894) — 34, 82, 110-111, 113, 118-121, 122, 123-124, 131, 134, 136, 138, 140-141, 143-145, 164, 169, 172-173, 191, 193, 206, 219, 253, 296-298,300,303,304,306,328
Оболенская Раиса, подруга В. И. Цветаевой — 245,251
Окунькова-Гольдингер Зинаида Николаевна (урожд. Окунько-ва; 1848—1914), врач; участница революционного движения — 86
Олимпиевна — см. Галдина А. О.
Оловянишников Иван Порфирье-вич (1846—1898), ярославский предприниматель, купец, владелец колокололитейного производства и фабрик церковной утвари — 137
Олсуфьев Алексей Васильевич (1831-1915), граф, филолог-классик, военный деятель; генерал от кавалерии (1892) — 93, 108
Ольга Константиновна (1851-1926), великая княжна, королева-консорт Греции (1867—1913); жена (с 1867) Георга I; дочь Константина Николаевича — 141
Ольга Николаевна (Романова; 1895—1918), великая княжна, дочь Николая II и Александры Федоровны — 298, 300, 303, 304, 305
Ольденбургский Александр Петрович (Александр Фридрих Константин; 1844—1932), принц, военный, государственный и общественный деятель; генерал от инфантерии (1895); сенатор (1896); основатель первого на Кавказском побережье курорта в Гаграх (1903); правнук Павла I — 281—282
Орлёнок — см. Наполеон II
Орлов Александр Иванович, врач; муж Е. П. Орловой — 332
Орлова Евгения Петровна (урожд. Цветаева; 1874—?), педагог; племянница И. В. Цветаева — 95, 332
Орловы-Давыдовы, представители дворянского рода — 108
Островский Михаил Николаевич (1827—1901), государственный деятель; сенатор (1872), министр государственных иму-ществ (1881 — 1892), председатель департамента законов Государственногосовета(1893 — 1899); брат А. Н. Островского — 168
Павел Александрович (1860 — 1919), великий князь, военный деятель; генерал от кавалерии (1913); генерал-инспектор войск гвардии (сент. 1916 — март 1917); сын Александра II — 82, 119, 137, 140
Павел, в 1904 г. работник Кабинета изящных искусств и древностей Московского университета — 203
Павсаний (II в. н. э.), древнегреческий путешественник и писатель, автор обстоятельного труда «Описание Эллады» в 10 книгах — 324
Пантелеев Мирон Алексеевич (ок. 1854—?), московский строительный предприниматель — 125
Парланд Альфред Александрович (1842—1919), архитектор, педагог; профессор Академии художеств (с 1892) — 184
Пастернак Борис Леонидович (1890—1960), поэт, прозаик, переводчик — 227
Перикл (ок. 494—429 до н. э.), афинский государственный деятель, оратор, полководец — 195
Петр 1 Великий (Петр Алексеевич Романов; 1672—1725), российский царь (с 1682), император (с 1721) —95
Петр Иосифович (1759—1811), пономарь; родоначальник рода Цветаевых, прадед И. В. Цветаева — 11, 330
Петра Джулио де (1841—1925), итальянский археолог, историк, педагог; профессор Неаполитанского университета (с 1872), директор Неаполитанского национального музея археологии (1875-1914) — 27-28, 32, 34,37
Пизано Никколо (ок. 1220 — между 1278 и 1284), итальянский скульптор — 162
Писарев Виктор Александрович (1843—1904), горный инженер,
начальник Златоустовского горного округа (1893—1896), управляющий Уральской химической золотосплавочной лабораторией (с 1897)— 183
Писарев Дмитрий Иванович (1840— 1868), литературный критик, революционно-демократический публицист, философ, переводчик — 22
Пифагор Самосский (570—490 до н. э.), древнегреческий философ, математик — 251
Платон (428 или 427—348 или 347 до н. э.), древнегреческий философ — 307
Плеве Вячеслав Константинович (1846—1904), государственный деятель; министр внутренних дел (с 1902), сенатор (1884— 1894), государственный секретарь (1894—1899), директор департамента полиции (1881 — 1884) — 206-207
Погодин Михаил Петрович (1800— 1875), историк, прозаик, издатель, коллекционер; основатель и редактор журнала «Москвитянин» (1841—1856) — 106
Покровский Михаил Николаевич (1868-1932), историк, государственный, общественный и политический деятель, революционер — 226
Поленов Василий Дмитриевич (1844—1927), художник, педагог — 149, 161
Поликлет Старший (ок. 480 — кон. V в. до н. э.), древнегреческий скульптор, теоретик искусства — 80,89, 194
Помяловская Екатерина Михайловна (1856—1900), жена И. В. Помяловского — 83
Помяловский Иван Васильевич (1845—1906), филолог-классик, археолог, педагог; профессор Петербургского университета (с 1873) — 8, 32, 37, 63, 74 -75,
82-83,86,93,97, 108, ИЗ, 150, 165-166,229, 238
Понтан Иовиан (собств. Джованни Понтано; 1426—1503), итальянский поэт, историк, политический и военный деятель, дипломат — 21
Попова Елизавета Евграфовна — см. Цветаева Е. Е.
Потерилло Андрей Сергеевич (р. 1978), праправнук И. В. Цветаева, сын О. А. Трухачевой — 334
Потерилло Григорий Сергеевич (р. 1982), праправнук И. В. Цветаева, сын О. А. Трухачевой — 334
Потерилло Денис Андреевич (р. 2008), прапраправнук И. В. Цветаева — 334
Потерилло Диана Вячеславовна (урожд. Швец), жена А. С. Потерилло — 334
Потерилло Массимо (Максим) Григорьевич (р. 2005), прапраправнук И. В. Цветаева — 334
Потерилло Сергей Грицкович (р. 1955), муж О. А. Трухачевой — 334
Пр., возлюбленная И. В. Цветаева в юности — 52
Пракситель (между 400 и 390 — не позднее 326 до н. э.), древнегреческий скульптор — 79, 89, 303
Прове Иван (Иоганн) Карлович (1833—1901), московский фабрикант, банкир, страховой и общественный деятель, домовладелец, благотворитель— 137, 140
Проперций Секст Аврелий (50 — ок. 16 до н. э.) — древнеримский элегический поэт — 207
Протопопов Степан Алексеевич (1843—1916), московский общественный, финансовый и страховой деятель, благотворитель; председатель правления Северного страхового общества — 137, 144
Прохоровы, московские предприниматели, благотворители — 69
Прутков Козьма Петрович — см. Жемчужниковы, братья, и Толстой А. К.
Пушкин Александр Александрович (1833—1914), военный деятель, организатор образования, генерал от кавалерии (1908); сын А. С. Пушкина — 294
Пушкин Александр Сергеевич (1799—1837), поэт, прозаик, драматург, историк, литературный критик — 58—59, 68, 100, 207, 282, 286, 294
Рейман Федор Петрович (1842— 1920), художник — 70-73, 131, 137-138, 140, 143, 189,253
Рейхштадтский, герцог — см. Наполеон 11
Репин Илья Ефимович (1844— 1930), художник, теоретик искусства — 307
Рерберг Иван Иванович (1869— 1932), архитектор, инженер, педагог— 154, 155—156
Роббиа Лука делла (1400-1482), флорентийский скульптор — 151, 162
Ровинский Дмитрий Александрович (1824—1895), юрист, историк искусства, библиофил, коллекционер; председатель Уголовного департамента Московской судебной палаты (1868-1870) — 279
Родзевич Константин Болеславович (1895—1988), переводчик, скульптор, художник, военный деятель, юрист; французский политический деятель, участник движения Сопротивления — 271
Рожков Николай Александрович (1868—1927), историк, социолог, педагог; политический деятель, революционер; приват-доцент и профессор (с 1922)
Московского университета (1898-1906) — 226
Розанов Василий Васильевич (1856—1919), философ, литературный критик, прозаик — УЗ-74, 270, 307,312
Розен Роман Романович (1847— 1921), барон, российский дипломат, американский журналист (с 1917) — 199
Романелли Рафаэлло (1856—1928), итальянский скульптор— 155
Романов Николай Ильич (1867— 1948), историк искусства, педагог, музейный деятель; один из основателей и директор (1923— 1928) Музея изящных искусств (ГМИИ) —284
Росси Джованни Баттиста де (1822—1894), итальянский археолог, эпиграфист, историк, музейный деятель, педагог; профессор Римского университета — 69—71
Росси Камилло Луиджи де, отец Д. Б. де Росси — 70
Ростан Эдмонд Эжен Алексис (1868—1918), французский драматург, поэт — 268—269
Рот, врач — 132
Рубинштейн Николай Григорьевич (1835—1881), пианист, дирижер, педагог, музыкально-общественный деятель; основатель и директор Московской консерватории (с 1866) — 91
Рузвельт Теодор (1858—1919), американский государственный и политический деятель, президент США (1901 — 1909), лауреат Нобелевской премии мира (1906) — 212
Рукавишников Иван Михайлович (1848—1906), нижегородский предприниматель, банкир, общественный деятель, благотворитель; брат С. М. Рукавишникова — 128-129, 131, 303, 305
Рукавишников Иван Сергеевич (1877—1930), поэт, прозаик,
переводчик; сын С. М. Рукавишникова — 128
Рукавишников Константин Васильевич (1848—1915), общественный деятель, московский городской голова (1893—1897) — 118
Рукавишников Сергей Михайлович (1852—1914), нижегородский предприниматель, благотворитель; брат И. М. Рукавишникова — 128-129, 131, 137
Ручковская Александра Петровна (урожд. Цветаева; 1887—1972), врач; племянница И. В. Цветаева — 332
Ручковский Сергей Никифорович (1888—1967), микробиолог, эпидемиолог, вирусолог; муж А. П. Ручковской — 332
Сакулин (Сакулинский) Василий Лаврентьевич (1792—1837), дьякон; дед И. В. Цветаева — 330
Сакулина (Сакулинская) Екатерина Васильевна — см. Цветаева Е. В.
Самарин Дмитрий Федорович (1831 — 1901), публицист, историк, общественный деятель — 108
Самарины Федор Дмитриевич (1858—1916), общественный, государственный и церковный деятель, публицист-славянофил, богородский уездный предводитель дворянства (1884—1891); Петр Дмитриевич (1861 — 1916), общественный и церковный деятель, духовный композитор; Сергей Дмитриевич (1865—1929), общественный деятель, богородский уездный предводитель дворянства (1891 — 1893); Александр Дмитриевич (1868-1932), общественный, государственный и церковный деятель, богородский уездный предводитель
дворянства (1893—1899); сыновья Д. Ф. Самарина — 108
Святополк-Мирский Петр Данилович (1857—1914), князь, государственный и военный деятель; генерал-лейтенант(1901); министр внутренних дел (авг. 1904 — янв. 1905), пензенский (1895—1897) и екатеринослав-ский (1897—1900) губернатор, виленский, ковенский и гродненский генерал-губернатор (1902— 1904), командующий корпусом жандармов (1900—1902) — 209
Семирадский Генрих Ипполитович (Генрик(Хенрик) Гектор; 1843— 1902), польский и российский художник — 149
Сергей Александрович (Романов; 1857—1905), великий князь, военный и государственный деятель; генерал-лейтенант( 1896); московский генерал-губернатор (с 1891), командующий московским военным округом (с 1896); сын Александра II — 107, 109, 110-113, 118-120, 123-127, 131-132, 136-138, 140-141, 162-164, 171-173, 204, 209, 211,226,228,253,305
Сергей Е., в 1887—1888 гг. — возлюбленный М. А. Мейн (Цветаевой) — 91
Серов Валентин Александрович (1865—1911), живописец и график — 122
Сидоров Б., фотограф — 12
Синаев-Бернштейн (Бернштейн-Синаев) Лев (Леопольд) Семенович (1867—1944), скульптор — 155
Синицын Петр Васильевич (?— 1904), историк-москвовед — 171
Сипягин Дмитрий Сергеевич (1853—1902), государственный и общественный деятель; министр внутренних дел (с 1900), курляндский (1888—1891) и
московский (1891 — 1893) губернатор, волоколамский уездный предводитель дворянства (1881-1886) — 206
Склифосовский Николай Васильевич (собств. Склифос; 1836— 1904), врач, хирург, директор Клинического института (с 1893) — 86
Скопас (ок. 395 — ок. 350 до н. э.), древнегреческий скульптор, архитектор — 89
Скребицкая Мария Семеновна (урожд. Юрьевич, в первом браке Красовская; 1843—1900), благотворительница; дочь С. А. Юрьевича — 137, 303
Скрыдлов Николай Илларионович (1844-1918), военно-морской деятель; вице-адмирал (1900); командующий Черноморским (1903-1904; 1906-1907) и Тихоокеанским (1904) флотом — 197
Смирнов Константин Павлович, с 1929 г. хозяин дома Цветаевых в Ново-Талицах; отец Г. К. Кочетковой — 13
Солдатенков Козьма Терентьевич (1818—1901), московский предприниматель, издатель, библиофил, коллекционер, благотворитель, меценат, общественный деятель — 125, 126, 127, 131 — 132, 253, 282
Соловьев Сергей Михайлович (1820—1879), историк, педагог; профессор (с 1848) и ректор (1871 — 1877) Московского университета — 39—40, 45— 46
Соснина Елена Борисовна, историк, цветаевед; канд. ист. наук (2009) — 47, 50, 52, 54, 57-58, 60-61, 75, 77, 79, 82-83, 85-86, 88, 95, 97, 108-110, 165— 166, 168,230,337
Спиридонова Мария Александровна (1884—1941), политический деятель, революционерка, одна
из лидеров партии левых эсеров — 232, 252
Срезневские Владимир Измайло-вич (1848—1929), ученый-статистик, и Вячеслав Измайлович (1849—1937), филолог-славист, технический и спортивный деятель, ученый-фототехник, изобретатель; президент Российского олимпийского комитета (1911 — 1918); сыновья И. И. Срезневского — 22
Срезневский Измаил Иванович (1812—1880), филолог-славист, этнограф, палеограф, педагог; профессор Петербургского университета (с 1847) — 21—22, 24
Старк Мария Ивановна, жена О. В. Старка — 197
Старк Оскар Викторович (1846— 1928), военно-морской деятель; адмирал (1908); командир Порт-Артура (1898—1902), начальник Эскадры Тихого океана (1902-1904)— 197-198
Степанов Михаил Петрович (1853— 1917), военный деятель; генерал от кавалерии (1910); состоял при Сергее Александровиче (1878-1905) — 117-118, 136— 138
Стессель Анатолий Михайлович (1848—1915), барон, военный деятель; генерал-лейтенант (1901); комендант Порт-Артура (1903— 1904), начальник Квантунского укрепрайона (1904—1906) — 206,219
Струков Григорий Никанорович (1771 — 1846), военный и общественный деятель; генерал-майор (1814); управляющий Илецким соляным промыслом (1816-1840)— 176
Сумароков-Эльстон Феликс Феликсович — см. Юсупов Ф. Ф.
Тамбурер Лидия Александровна (1870—1931, по др. свед. ок.
1940), зубной врач; друг семьи И. В. Цветаева — 306
Татьяна Николаевна (Романова; 1897—1918), великая княжна, дочь Николая II и Александры Федоровны — 298, 300, 303, 304, 305
Тацит Публий (или Гай) Корнелий (ок. 58 — после 117), римский историк, оратор, политический деятель, консул-суффект97 г. — 7,21,25-26, 67, 238,251
Тигр — см. Кобылянский В. А.
Толстой Алексей Константинович (1817—1875), граф, поэт, драматург, прозаик — 85, 100
Толстой Иван Иванович (1858— 1916), граф, археолог, нумизмат, государственный и общественный деятель, мемуарист; министр народного просвещения (1905—1906), петербургский городской голова (1912—1916), вице-президент Академии художеств (с 1893); председатель Общества по изучению еврейской жизни (с 1915)— 115
Трей Георг (1843—1921), немецкий археолог, историк искусства, педагог; директор королевского Музея скульптуры в Дрездене (1882-1915) —8, 156, 158,292, 306, 336
Трубецкой Петр Николаевич (1858—1911), князь, общественный, политический и государственный деятель, основатель классического виноделия на Украине (1896); московский губернский предводитель дворянства (1892—1906); брат С. Н. Трубецкого — 107
Трубецкой Сергей Николаевич (1862—1905), князь, философ, публицист, общественный деятель, педагог; профессор (с 1900) и ректор (1905) Московского университета; брат П. Н Трубецкого — 209
Трухачев Андрей Борисович(1912— 1993), инженер-строитель; внук И. В. Цветаева, сын А. И. Цветаевой — 276, 312—313, 333
Трухачев Борис Сергеевич (1892— 1919), первый муж А. И. Цветаевой — 273, 274 -276, 312, 333
Трухачева (Трухачева-Мещер-ская) М. А. — см. Мещерская М. А.
Трухачева Нина Андреевна (урожд. Шарыпова; 1917—1995), жена А. Б. Трухачева — 333
Трухачева Ольга Андреевна (р. 1957), правнучка И. В. Цветаева — 334
Тургенев Иван Сергеевич (1818— 1883), прозаик, поэт, драматург — 240
Тучков 4-й Александр Алексеевич (1778—1812), военачальник, генерал-майор (1808); герой Отечественной войны 1812 — 248, 269
Тьо — см. Мейн С. Д.
Фабретти Рафаэль (1618—1700), итальянский историк, археолог, эпиграфист — 31
Фасмер Макс Юлиус Фридрих (1886—1962), немецкий филолог-славист, балканист, педагог; профессор Тартуского (1918— 1921), Лейпцигского (1921 — 1925), Берлинского (1925—1945) и Стокгольмского (1947—1949) университетов; автор этимологического словаря русского языка (1950-1958) — 17
Фидий (ок. 490 — ок. 430 до и. э.), древнегреческий скульптор, архитектор — 85,89, 156, 172, 195
Фиорелли Джузеппе (1823—1896), итальянский политический деятель, археолог, нумизмат, музейный деятель, педагог; генеральный директор музеев и раскопок Италии (с 1875), директор Национального музея (Неаполь; с 1863), профессор
Неаполитанского университета (с 1860), сенатор (с 1865) — 35
Фишер Карл Андреевич (1859 — после 1923), фотограф, один из основателей Русского фотографического общества (1894) — 154, 156
Формозов Александр Александрович (1928— 2009), археолог, искусствовед, историограф — 45
Фортунатов Филипп Федорович (1848—1914), лингвист, педагог; основоположник московской лингвистической школы; профессор Московского университета (1876-1902)—39-40
Фукар Поль Франсуа (1836—1926), французский филолог-классик, археолог, эпиграфист, педагог; директор Археологической школы в Афинах (1878—1890) — 79
Хлебников Велимир (Виктор Владимирович; 1885—1922), поэт, драматург, прозаик, теоретик футуризма, орнитолог — 43
Хозяш Чегодаев, сын Саконский (Саканский), князь (XVI в.), основатель дворянского рода Че-годаевых; сын татарского князя Чегодая Саконского — 280
Цветаев Александр Васильевич (1834—1898), священник; дядя И. В. Цветаева — 11,330
Цветаев Александр Федорович, племянник И. В. Цветаева — 333
Цветаев Андрей Иванович (1890— 1933), юрист; сын И. В. Цветаева — 84, 86-87, 95, 98, 102, 165, 166, 167-168, 184, 226, 229-230, 233-234, 239-240, 242, 243, 247-248, 253, 316, 328,332
Цветаев Василий Петрович (1790— 1853), священник; дед И. В. Цветаева, сын Петра Иосифовича — 11,330
Цветаев Владимир Васильевич (1818—1884), священник; отец И. В. Цветаева — 11, 14—15, 18, 62,261,330
Цветаев Владимир Дмитриевич (1891—1937), инженер; племянник И. В. Цветаева — 333
Цветаев Владимир Петрович (1877—1928), юрист; племянник И. В. Цветаева — 332
Цветаев Дмитрий Владимирович (1852—1920), историк, филолог, педагог; брат И. В. Цветаева — 12-13, 16, 58, 185, 262, 263, 264,266,331
Цветаев Иван Васильевич, дядя И. В. Цветаева — 331
Цветаев Иван Владимирович (1847-1913) — 2, 23, 53, 92, 102, 142, 154, 214, 242-243, 293, 305, 315, 317
Цветаев Иван Владимирович (1846), брат И. В. Цветаева — 12,331
Цветаев Иван Петрович (1881 — 1888), племянник И. В. Цветаева — 332
Цветаев Николай Владимирович (1843-1847), брат И. В. Цветаева — 12, 331
Цветаев Николай Федорович, племянник И. В. Цветаева — 333
Цветаев Петр Владимирович (1842—1902), священник, брат И. В. Цветаева — 12-13, 16, 95, 97,260, 261,265,331
Цветаев Сергей Петрович (1873— 1913), врач-психиатр; племянник И. В. Цветаева — 332
Цветаев Федор Владимирович (1850—1901), педагог; брат И. В. Цветаева — 12—13, 16, 261, 262, 264-265, 331
Цветаева Александра Владимировна (1845-1846), сестра И. В. Цветаева — 12, 331
Цветаева Александра Дмитриевна (1889—?), педагог; племянница И. В. Цветаева — 226, 333
Цветаева Александра Петровна — см. РучковскаяА. П.
Цветаева Александра Петровна, племянница И. В. Цветаева, умерла в младенчестве — 332
Цветаева Анастасия Ивановна (1894—1993), прозаик, мемуарист; дочь И. В. Цветаева — 8, 59, 97, 101, 102, 103-104, 167, 184-185, 186, 187, 188, 190, 195, 213, 215-216, 220, 231-235, 236, 237, 239, 243, 244-247, 251, 253, 257, 266-270, 272-273 -274, 275, 276, 283-284, 295, 312-314, 316, 328, 333, 337
Цветаева Антонина Петровна — см. Киселева А. П.
Цветаева Валерия Ивановна (1883—1966), педагог, балетмейстер; дочь И. В. Цветаева — 8, 63, 67, 68, 69, 83, 86-87, 95-96, 98, 102, 103, 165, 166, 184, 226, 229, 232, 234-235, 236, 237-239, 241, 245, 253, 312-313,316, 328, 332
Цветаева Варвара Дмитриевна (урожд. Иловайская; 1858— 1890), первая жена (с 1880) И. В. Цветаева, дочьД. И. Иловайского — 8, 40, 41, 42—44, 47, 50-51, 52, 53-60, 62-63, 64, 67, 69, 81, 83-88, 92-93, 95-96, 103, 229, 235, 237, 239, 242, 268, 314, 327-328, 331
Цветаева Евгения Михайловна (урожд. Пчицкая (Пшицкая); 1895—1987), агроном, библиограф, жена А. И. Цветаева — 332
Цветаева Евгения Николаевна, жена Ф. В. Цветаева — 331
Цветаева Евгения Петровна — см. Орлова Е. П.
Цветаева Евдокия Михайловна (1800-1876), бабка И. В. Цветаева, жена В. П. Цветаева — 11,226,330
Цветаева Екатерина (Елена?) Дмитриевна, врач; племянница И. В. Цветаева — 333
Цветаева Екатерина Васильевна (урожд. Сакулина (Саку-линская); 1824—1858), мать И. В. Цветаева — 288, 330
Цветаева Екатерина Федоровна, племянница И. В. Цветаева — 333
Цветаева Елена Александровна — см. Добротворская Е. А.
Цветаева Елизавета Евграфовна (урожд. Попова), жена Д. В. Цветаева — 331
Цветаева Инна Андреевна (1931 — 1985), агроном, биолог, энтомолог; внучка И. В. Цветаева — 333
Цветаева Лариса Митрофановна, жена В. Д. Цветаева — 333
Цветаева Марина Ивановна (1892— 1941), поэтесса, прозаик, драматург, переводчица — 8, 97, 98, 101, 102, 103-104, 143, 165, 167, 184-185, 186, 187, 188, 190, 195,213,214-215,216,220,232-233, 235, 236, 237, 239-240, 241-258, 260, 265-270, 271, 272-274 , 275, 276 , 281, 283-284, 291, 294-296, 300, 306, 312-314,316, 328, 333, 337
Цветаева Мария Александровна (урожд. Богословская; 1846— 1928), жена П. В. Цветаева — 331,336
Цветаева Мария Александровна (урожд. Мейн; 1869—1906), вторая жена (с 1891) И. В. Цветаева, дочь А. Д. Мейна — 90, 91, 93, 95-96, 97, 98-101, 102, 103, 112, 134, 167-169, 174-175, 183-185, 187-188, 190, 194— 195,201-203,205,213,215-217, 229-230, 232-233, 235, 237-240,242,249,251,252,266,268, 275,281,314,328-329, 331
Цветаева Мария Васильевна (1827—?), тетка И. В. Цветаева — 331
Цветаева Мария Ивановна (урожд. Елпатьевская), жена А. В. Цветаева — 11,330
Цветаева Ольга Михайловна (урожд. Белопражская), жена В. П. Цветаева — 332
Цветаева Софья Петровна, племянница И. В. Цветаева — 332
Цицерон Марк Туллий (106—43 до н. э.), римский политический деятель, оратор, философ; консул 63 г. до н. э. — 197
Чегодаев-Татарский Петр Владиславович, князь, государственный чиновник — 279—281
Чегодаевы, дворянский род — 280 Челлини Бенвенуто (1500—1771), итальянский художник, скульптор, ювелир, прозаик; начальник папского монетного двора (1529-1534) — 194
Чернышевский Николай Гаврилович (1828—1889), прозаик, философ, литературный критик, экономист, издательский деятель — 22
Чехов Антон Павлович (1960— 1904), прозаик, драматург; врач — 9
Чижов Матвей Афанасьевич (наст, фам. Павлов; 1838—1916), скульптор, реставратор, педагог — 172
Чуриловский Иван Петрович (1803—1883), педагог-латинист, организатор образования; смотритель Шуйского духовного училища (1851 — 1876), инспектор Переславского духовного училища (1831 —1851)— 18—19, 21-22,261
Шарыпова Нина Андреевна — см. Трухачева Н. А.
Шварц Александр Николаевич (1848—1915), филолог-классик, государственный деятель, педагог; министр народного
просвещения (1908—1910), сенатор (1906), попечитель Рижского (1900—1902), Варшавского (1902—1905) и Московского (1905—1906) учебных округов; профессор Московского университета (1884—1900) — 65, 107, 276-279, 281, 282, 284-285, 307, 337
Шведов Федор Никифорович (1840—1905), физик, педагог; профессор (с 1870) и ректор (1896—1903) Новороссийского (Одесского) университета — 129
Швец Диана Вячеславовна — см. ПотериллоД. В.
Шевлягин Сергей Иасонович (1879—1966), преподаватель латыни; муж В. И. Цветаевой — 332
Шевырев Степан Петрович (1806— 1864), историк литературы, критик, поэт, переводчик, издатель, педагог; профессор Московского университета (с 1837) — 106
Шереметевы, представители дворянского рода, в частности Сергей Дмитриевич Шереметев (1844—1918), граф, государственный и общественный деятель, археолог, историк, генеалог — 108
Шиллер Фридрих (Иоганн Кристоф Фридрих фон; 1759—1805), немецкий поэт, драматург, теоретик искусства, историк, философ — 99, 264
Шишко Леонид Эммануилович (1852—1910), революционер, народник, публицист, историк, переводчик — 232
Шлиман Генрих (Иоганн Людвиг Генрих Юлиус, в России — Андрей Аристович; 1822—1890), немецкий и российский (1846— 1864) предприниматель, археолог-любитель — 80—81, 89, 106,323-325
Шлиман София (урожд. Энгастро-мену; 1852—1932), популяризатор наследия Г. Шлимана; его вторая жена (с 1870) — 324
Шмидт Петр Петрович (1867— 1906), морской офицер, лейтенант; один из руководителей Севастопольского восстания 1905 года — 220, 232, 252
Шопен Фридерик Франсуа (Фран-цишек) (1810—1849), польский и французский (с 1831) композитор, пианист, педагог — 99, 187,258
Штакельберг Георгий Карлович (1851 — 1913), барон, военачальник; генерал от кавалерии (1907); командующий 1-м Сибирским корпусом и Южным отрядом Маньчжурской армии (1904—1905) — 200, 219
Штюрмер Борис Владимирович (1848-1917), государственный деятель; председатель Совета министров, министр внутренних и иностранных дел (1916— 1917), директор Департамента общих дел министерства внутренних дел (1902—1904), новгородский (1894—1896) и ярославский (1896—1902) губернатор — 128
Шуйский Василий Иванович — см. Василий Шуйский
Шульц Иван Юльевич, маклер московской биржи; родственник И. К. Прове — 128, 134, 137
Щербатовы, князья Николай Сергеевич (1853—1929), научнообщественный и музейный деятель, археолог-любитель; один из создателей Исторического музея; Александр Григорьевич (1850—1915), общественный деятель, экономист, агроном, публицист, президент Общества сельского хозяйства (1892—1905), председатель
«Союза русских людей» (1905— 1909)— 107
Эванс Артур Джон (1851 — 1941), английский археолог, педагог, музейный деятель; профессор Оксфордского университета (с 1909), директор Музея Ашмо-ла в Оксфорде (1884—1908) — 106
Эдисон Томас Алва (1847—1931), американский изобретатель в области электротехники, предприниматель — 232
Эллис (Эллис-Кобылинский) (наст, имя и фам. Лев Львович Ко-былинский; 1879—1947), поэт, литературный критик, переводчик, теоретик символизма, философ, антропософ, историк литературы, издатель — 245— 246, 267, 283
Эмлер Сусанна Давыдовна — см. Мейн С. Д.
Эфрон Ариадна Сергеевна (1912— 1975), переводчица, мемуарист, художница, журналистка, поэтесса; внучка И. В. Цветаева, дочь М. И. Цветаевой и С. Я. Эфрона — 103, 269, 276, 312-313,333
Эфрон Георгий Сергеевич (1925— 1944), поэт, прозаик; внук И. В. Цветаева, сын М. И. Цветаевой и С. Я. Эфрона — 143, 333
Эфрон Елизавета Петровна — см. Дурново Е. П.
Эфрон Ирина Сергеевна (1917— 1920), внучка И. В. Цветаева, дочь М. И. Цветаевой и С. Я. Эфрона — 333
Эфрон Константин Яковлевич (1895—1910), брат С. Я. Эфрона — 270
Эфрон Сергей Яковлевич (1893— 1941), прозаик, журналист, общественный деятель; участник белого движения; сотрудник органов госбезопасности; муж
М. И. Цветаевой — 143, 248, 269-270, 271, 272-276, 312— 313,333
Эфрон Яков Константинович (Ян-кель Калманович; 1854-1909), революционер-народоволец; отец С. Я. Эфрона — 269—270
Юрьевич Семен Алексеевич (1798— 1865), военный педагог; генерал от инфантерии (1861); один из воспитателей Александра II (1826—1850); отец М. С. Скре-бицкой — 137
Юсупов Феликс Феликсович, граф Сумароков-Эльстон (до 1891 — Сумароков-Эльстон; 1856—1928), военный деятель; генерал-лейтенант (1915); главноначальствующий над Москвой (май — сент. 1915), адъютант Сергея Александровича (1886-1905); с 1919 г. в эмиграции — 137
Юсупова Зинаида Николаевна (в замуж, графиня Сумарокова-Эльстон; 1861 — 1939), княгиня, общественный деятель, благотворительница; жена (с 1882) Ф. Ф. Юсупова (Сумарокова-Эльстона); с 1919 г. в эмиграции — 138, 305
Юхневич Мария Васильевна (Вильгельминовна) (урожд. Барто; 1868—1910), воспитанница А. Д. Мейна — 90, 91
Benedetto da Maiano (наст, имя Benedetto da Leonardo d’Antonio; 1442—1497), итальянский скульптор — 151
Combes — см. Комб Л. Э.
Della Robbia — см. Роббиа Л. делла
Donatello — см. Донателло
Gapon — см. Гапон Г. А.
Gautier — см. Готье Ю. В.
Ghiberti Lorenzo (наст, имя Lorenzo di Bartolo; 1378—1455), итальянский художник— 151
Kellat — см. Келлат А. С.
Klein — см. Клейн Р. И.
Michelangelo — см. Микеланджело
Mino da Fiesole (также Mino di Giovanni; ок. 1429—1484), итальянский скульптор— 151
Pisano — см. Пизано Н.
Rosselino Bernardo (наст, имя Bernardo di Matteo Gamberelli; 1409—1464), итальянский скульптор и архитектор — 151
Verrocchio — см. Верроккьо
Алексей Евгеньевич СМИРНОВ — поэт, писатель, историк литературы, переводчик. Родился в Москве в 1946 году. Окончил Московский химико-технологический институт имени Д. И. Менделеева. С момента окончания института и по настоящее время работает в Институте кристаллографии имени А. В. Шубникова Российской академии наук. Специалист в области прочности и пластичности кристаллов, автор многих научных работ.
Является автором поэтических книг «Спросит вечер» (М., 1987), «Дашти Марго» (М., 1991), «Время, полу-время, времена» (М., 1999), «Кораблик» (М., 2007), «Зимняя канавка» (М., 2012), сборника литературных пародий «Щёлковский сатирикон» (М., 1998).
Известен как детский писатель и литературовед. Его перу принадлежат книги «Сорок слов из простокваши» (М., 1992), «Прогулки со словами» (М., 1994; переиздание: М., 1996; книга стала победителем Всероссийского конкурса «Обновление гуманитарного образования в России»), «Дар Владимира Даля» (М., 2005; второе издание: М., 2007; третье издание: М., 2010; лучшая книга для детей и юношества на Всероссийском книжном конкурсе «Алые паруса», 2006), «Имя Родины» (М., 2008); сборник эссе «Дыхание речи» (М., 2006; лучшая книга лучшей серии на Всероссийском книжном конкурсе «Алые паруса», 2006).
В 2010 и 2011 годах Смирновым был осуществлен «Прутковский проект», включивший ряд книг, связанных с именем Козьмы Пруткова: «Козьма Прутков: Жизнеописание» (СПб., 2010) (по версии «Независимой газеты» это жизнеописание вошло в число 25 лучших книг года), «Прутковиада. Новые досуги» (СПб., 2010), «Козьма Прутков» (М., 2011), «Сочинения Козьмы Пруткова» (Статья и примеч. А. Е. Смирнова; ил. А. Н. Аземши. СПб., 2011).
Известен также как переводчик молдавского эпоса «Андриеш» (Кишинев, 1987), индийской поэзии (М., 1990), «Слова о полку Игореве» (М., 2007), сербской поэзии (М., 2012).
Алексей Смирнов — академик Российской академии естественных наук, член Международного союза кристаллографов, Международного союза журналистов и Союза писателей Москвы. Лауреат литературной премии имени А. П. Чехова. Награжден медалью Преподобного Сергия Радонежского, Пушкинской медалью, Серебряной медалью Бунина.
СОДЕРЖАНИЕ
От автора.............................................. 7
Глава первая. В УЧЕНИИ. НАДПИСИ ОСКОВ
От АЗОВ УЕЗДНОЙ ЛАТЫНИ К УНИВЕРСИТЕТУ................ 9
Талицы. Матвей Андреич. Родословная. Дом. — В Шуе.
Письмо Бурылину. Чуриловский. — Студент Иван Цветаев. «Германия» Тацита. Учителя.
Города и горы........................................24
Шершавая Варшава. Курс на осков. — Все дороги ведут в Неаполь. Технология снятия копий. Волга в Самнитских горах. — Приглашение в Московский университет. М-lle Иловайская.
Глава вторая. ВАВА
Исповедь женского сердца.............................43
Отказ. Папа Иловайский. — Перемена отношения. Роман в письмах. — Обручение во Флоренции. Разлука перед свадьбой.
В Трехпрудном........................................58
Приятные хлопоты. Интерес к римским древностям. — Лёра. Римские катакомбы. — Письма из Эллады. Андрюша.
Глава третья. ПОВОРОТ СУДЬБЫ Второй брак.................................................85
Тоска по Ваве. — Атлас ваяния. — Мейны. Молодая жена.
Бедный генерал.........................................106
Мысль о Музее. — В поисках пекунии. Комитет. «Бабушкин капитал». — Удар. Клейн и Нечаев-Мальцов.
Глава четвертая. «ЦВЕТАЕВ-МАЛЬЦОВ»
Архитектура человеческих отношений........117
Колымажный двор. — Аудиенция в Зимнем дворце. — Поиски пекунии продолжаются. «Самодержавная пирамида». Торжественная закладка Музея.
Даритель..................................145
История мальцовского дела. Экспедиция на Урал. — Два фриза. Особенности отечественного такелажа. — «Удивлен заказами значительные суммы...» Заслуги гофмейстера.
Глава пятая. ОБЩЕЕ ДЕЛО Домашнее и служебное...............................165
Забытый день рождения. - Кончина Мейна. — Аудиенция в Кремле.
Пути человеческие................................174
Дорога к Уралу. — Люди и мрамор. — Nervi: кружение сердца.
Глава шестая. 1905 ГОД
Пожары.............................................191
Конфликт интересов. Русско-японская война. — В тылу друзей врага. — «Горит музей александра 3»: хроника пожара.
Оползень царства.................................205
9 января. Невосполнимые потери. Гибель великого князя. Конец японской войны. — Прекрасный Шварцвальд, ужасная Ялта. Манифест 17 октября. «Революционерка» Маруся. — Вооруженное восстание в Москве.
Глава седьмая. ДЕТИ
Все и каждый.......................................229
Отъезд из Ялты. «Ока, Ока!» Прощание с мамой. — Правда или поэзия? Дедушка Иловайский и его «Подушка для иголок». — Асина любовь. Мусина страсть.
Эскорт Чародея. Нерусский русский генерал 12-го года.
Средняя дочь.......................................248
Бог и Враг. — Nervi — Ялта. «Революционный волчок». — Она — на поле Наполеона. «Отцам».
Глава восьмая. ЦВЕТНОЕ И ЧЕРНОЕ
Параллельные жизни.................................260
Братья Цветаевы: Петр, Федор, Дмитрий. — Дочь Марина: инсценирование жизни, театрализация смерти. Сергей Эфрон. — Две свадьбы.
Шварц против Цветаева..............................276
Восхождение профессора Шварца. Чрезвычайное происшествие в Румянцевском музее. — Князь Чегодаев-Та-тарский. Травля. — «Фортель» Кобылинского. Триумф Цветаева в Каире. Коллекция Голенищева. Оправдан и уволен.
Глава девятая. «Я СОВЕРШИЛ ВСЕ, ЧТО МОГ...»
Открытие...........................................286
О рыцарстве. — Маринины страницы. — «...На вершине своего дела».
Пансионер........................................306
Розанов о Цветаеве. Муратов против Цветаева. — Мечта о последней книге. Письмо Марины Розанову. — Эпилог.
ПРИЛОЖЕНИЕ
И. В. Цветаев. Генрих Шлиман и Микенская эпоха......323
Основные даты жизни и деятельности И. В. Цветаева .... 327
Родословная семьи Цветаевых (фрагмент)...............330
Словарь некоторых архитектурных терминов.............335
Краткая библиография.................................336
Указатель упоминаемых лиц............................338
Об авторе этой книги.................................364
Алексей Смирнов
ИВАН ЦВЕТАЕВ
История жизни
Над книгой работали:
Алексей Андреев, Роберт Беспалов, Сергей Борин,
Алла Борина, Игорь Булатовский, Нонна Васильева, Людмила Глобус, Наталья Дельгядо, Сергей Дымшаков, Екатерина Жирнова, Вадим Зартайский, Алексей Захаренков, Илья Захаренков, Марина Захаренкова, Юрий Зимин, Лев Коннов, Дмитрий Краснов, Андрей Лурье, Наталия Малькова, Наталья Мартынова, Любовь Осокина, Сергей Плаксин, Елена Савельева, Ирина Стома, Сергей Ширяев
Редактор-верстальщик Наталия Введенская
Корректоры
Маргарита Ахметова, Наталья Солнцева
Подписано в печать 22.05.2013.
Формат 60х 100/16. Усл. печ. л. 25,56. Тираж 1000.
Гарнитура Baskerville. Печать офсетная. Бумага офсетная. Переплетные материалы: Baladec, Balacron special.
Отпечатано Bookwell OY, Finland, Porvoo.
ООО «Вита Нова»
198097, Санкт-Петербург, Огородный пер., д. 23 Тел./факс: (812) 747-26-35, (812) 785-28-71 (редакция), (495) 774-55-95, (495) 434-14-90 (представительство в Москве) Электронная почта: spb@vitanova.ru Сайт издательства: www.vitanova.ru
Оформить подписку на книги издательства «Вита Нова» можно по телефонам (812) 747-26-35, тел.: (812) 747-26-41, по электронной почте spb@vitanova.ru или через раздел «Подписка» на сайте www.vitanova.ru
Наши книги можно приобрести в интернет-магазинах: www.ozon.ru,www.bookl.ru,www.books.ru www.dom-knigi.ru (Москва) www.petropol.com (США и Канада) www.sputnik2000.com (Германия) www.gifti.com.ua (Украина)