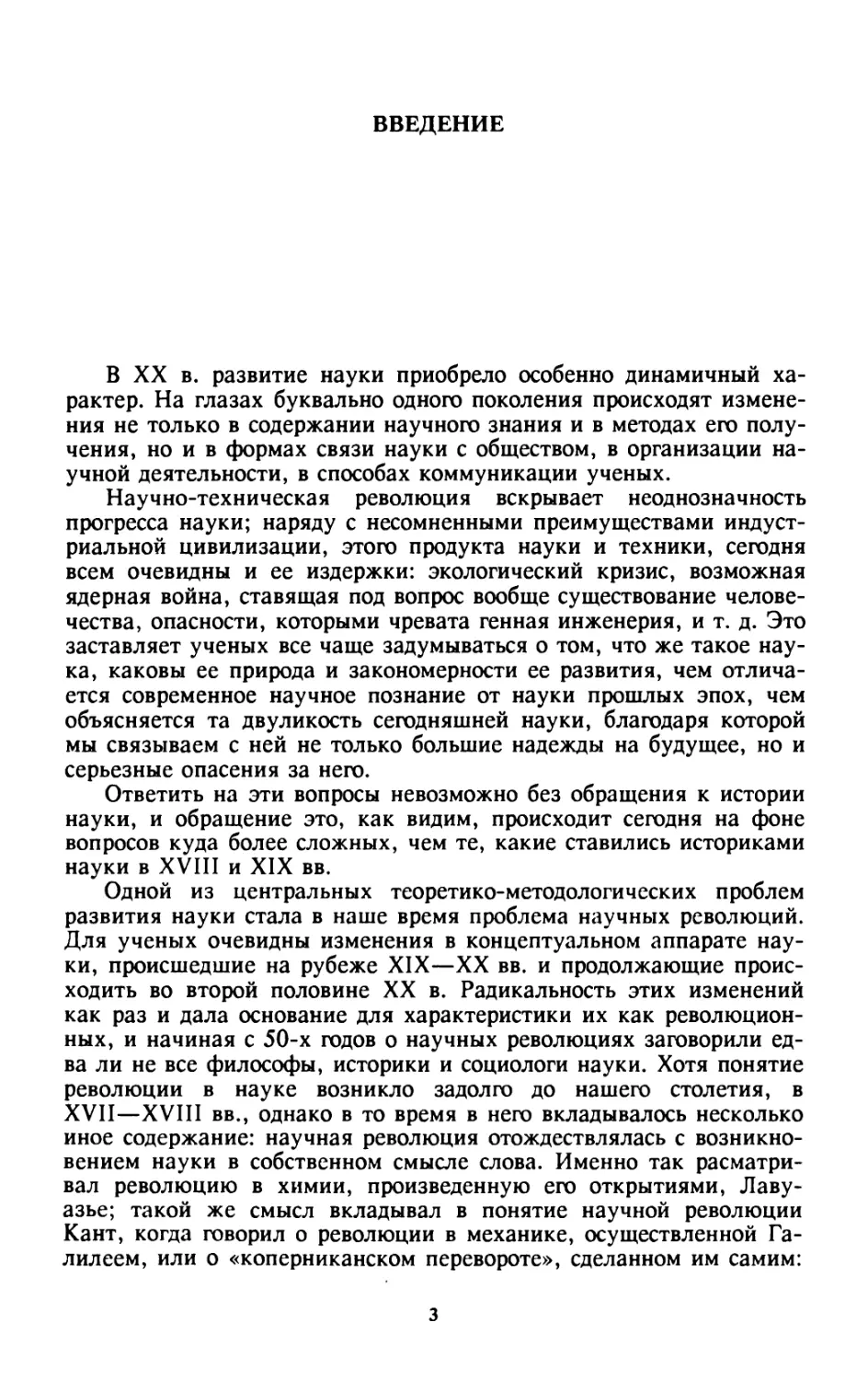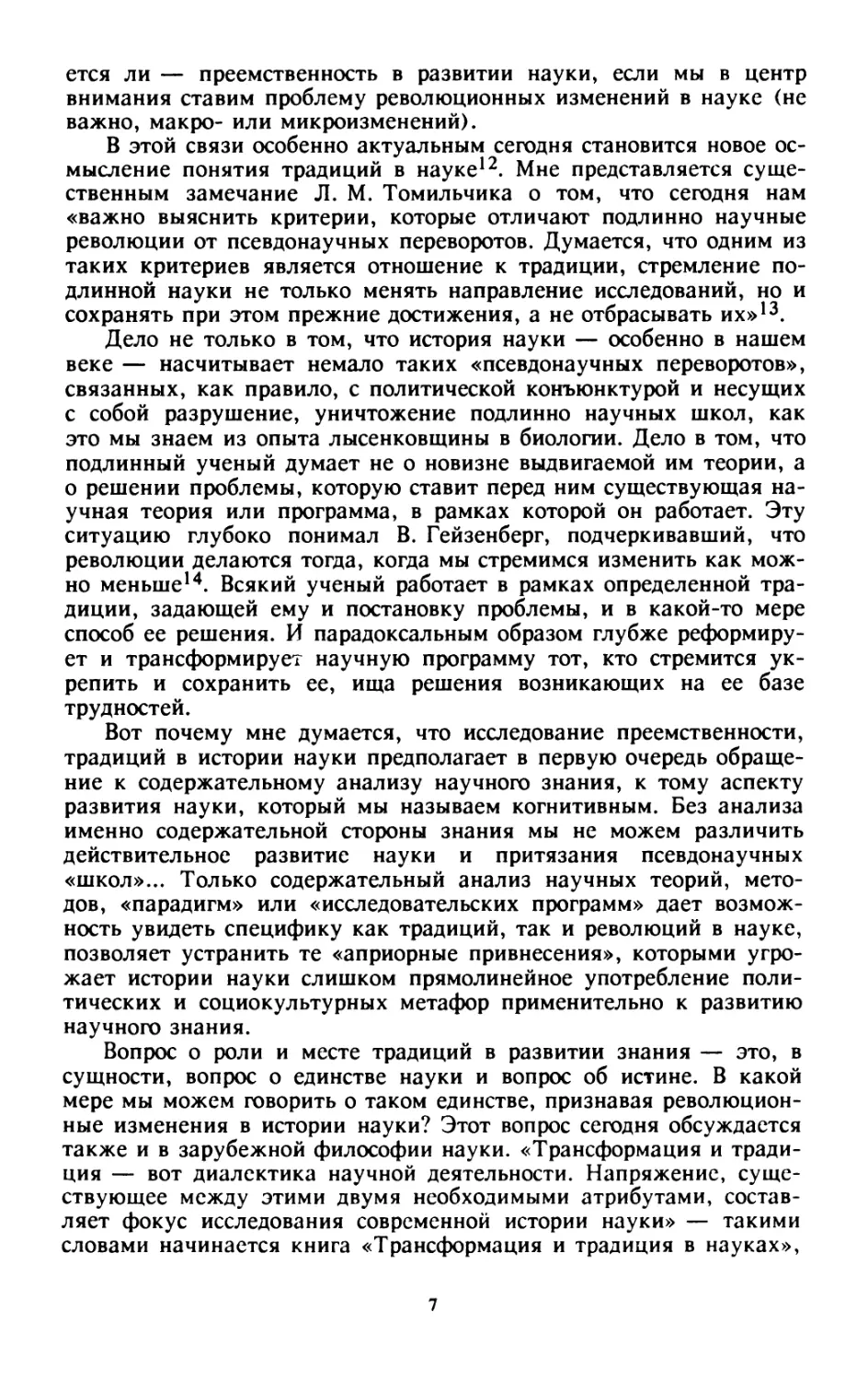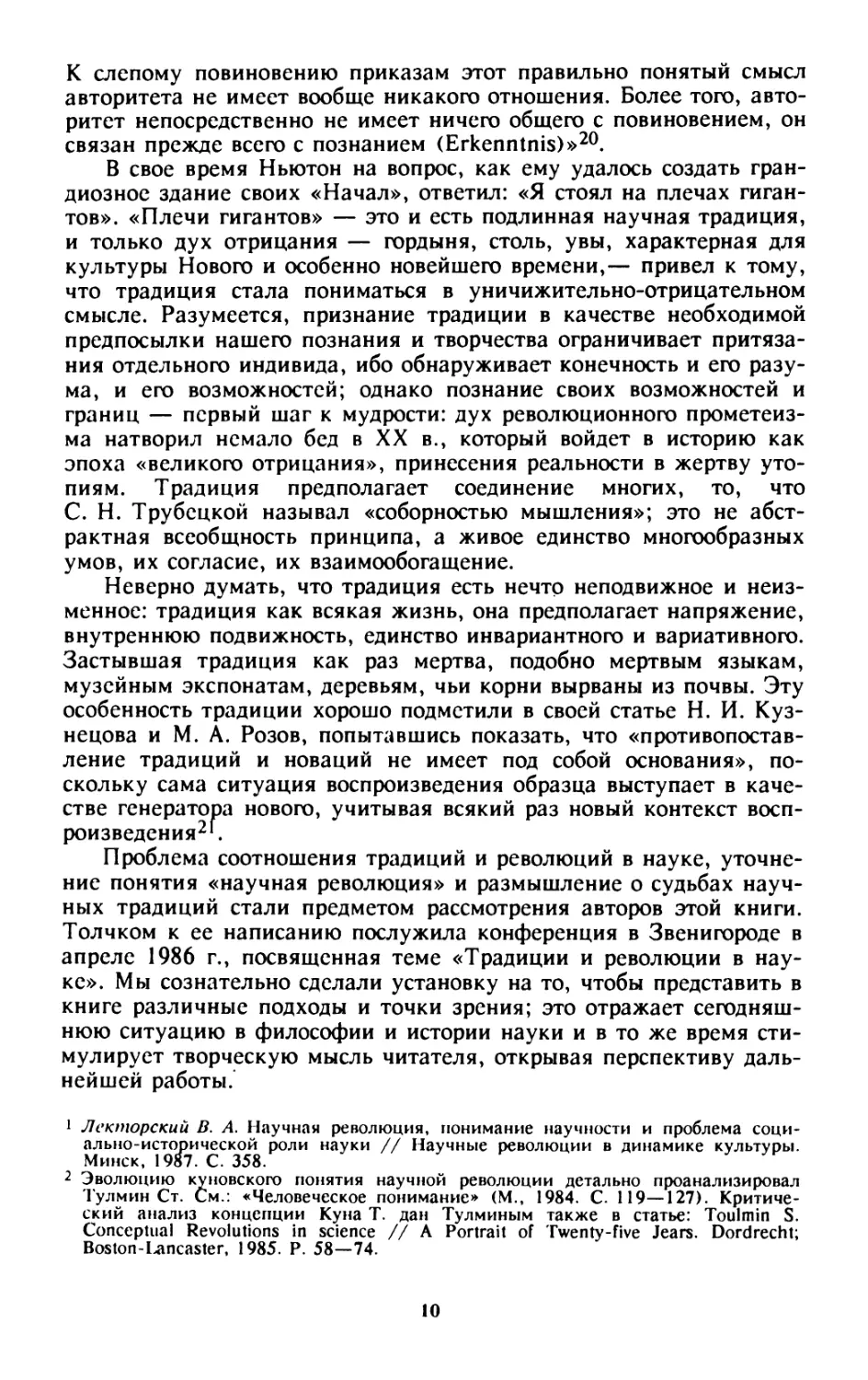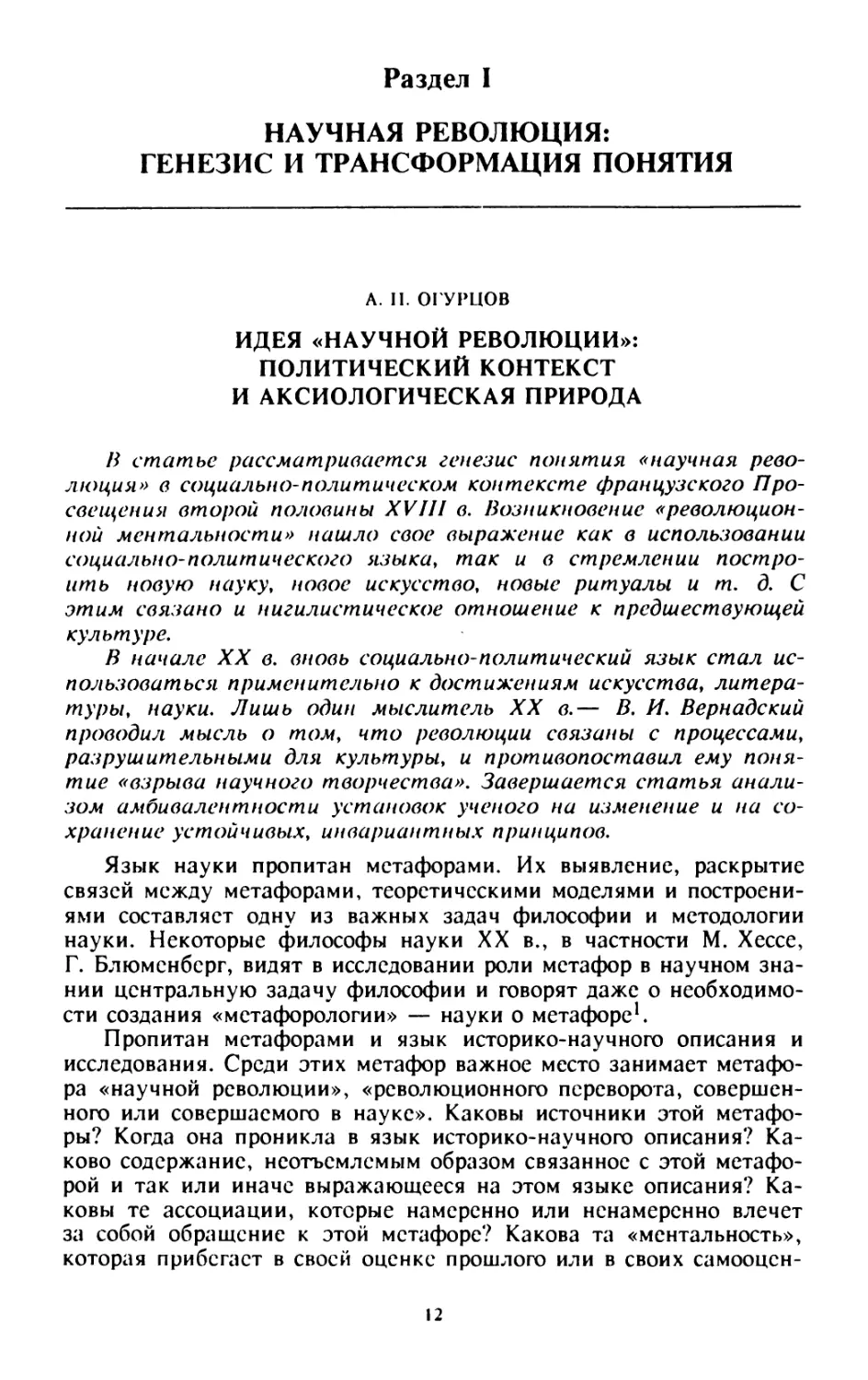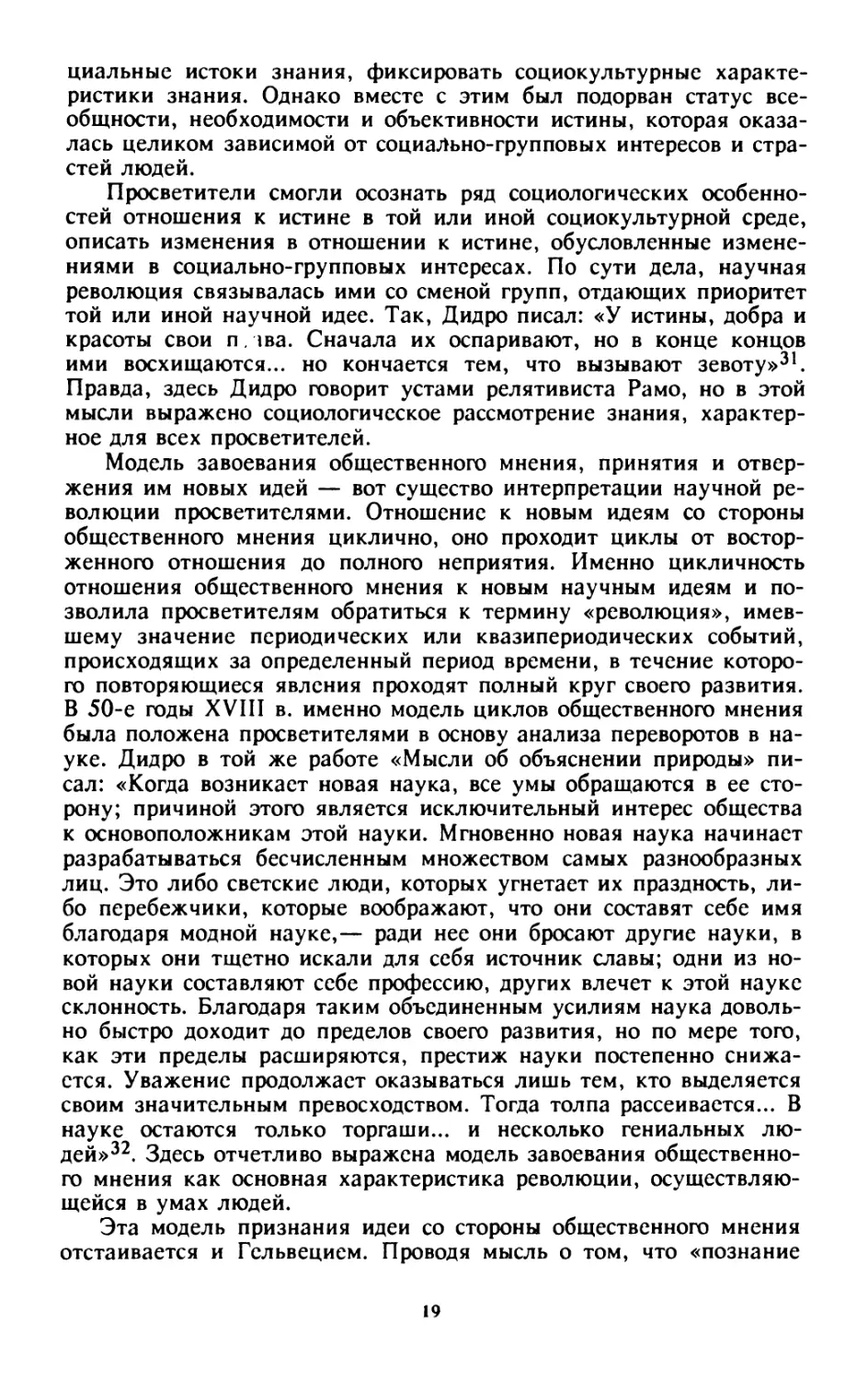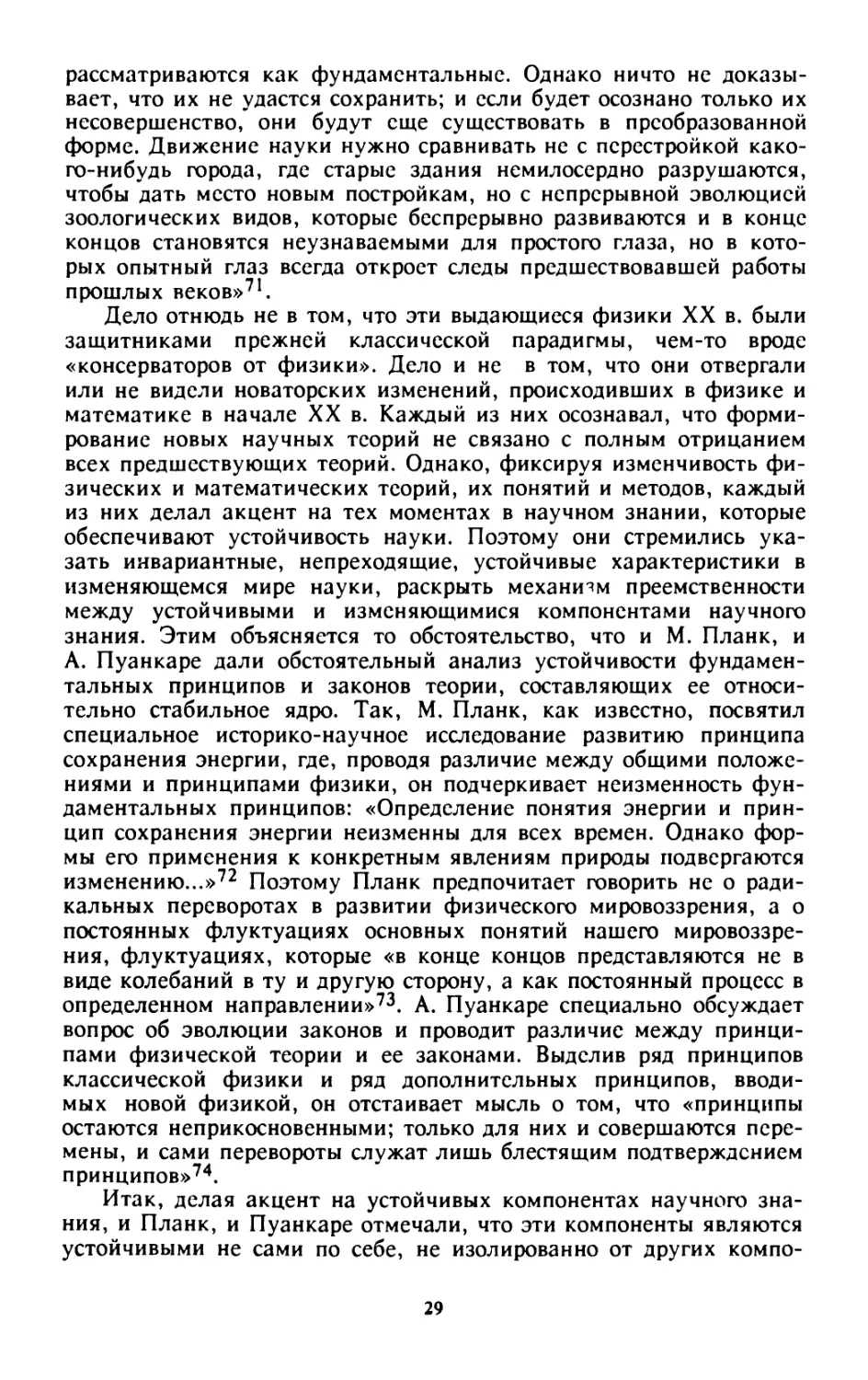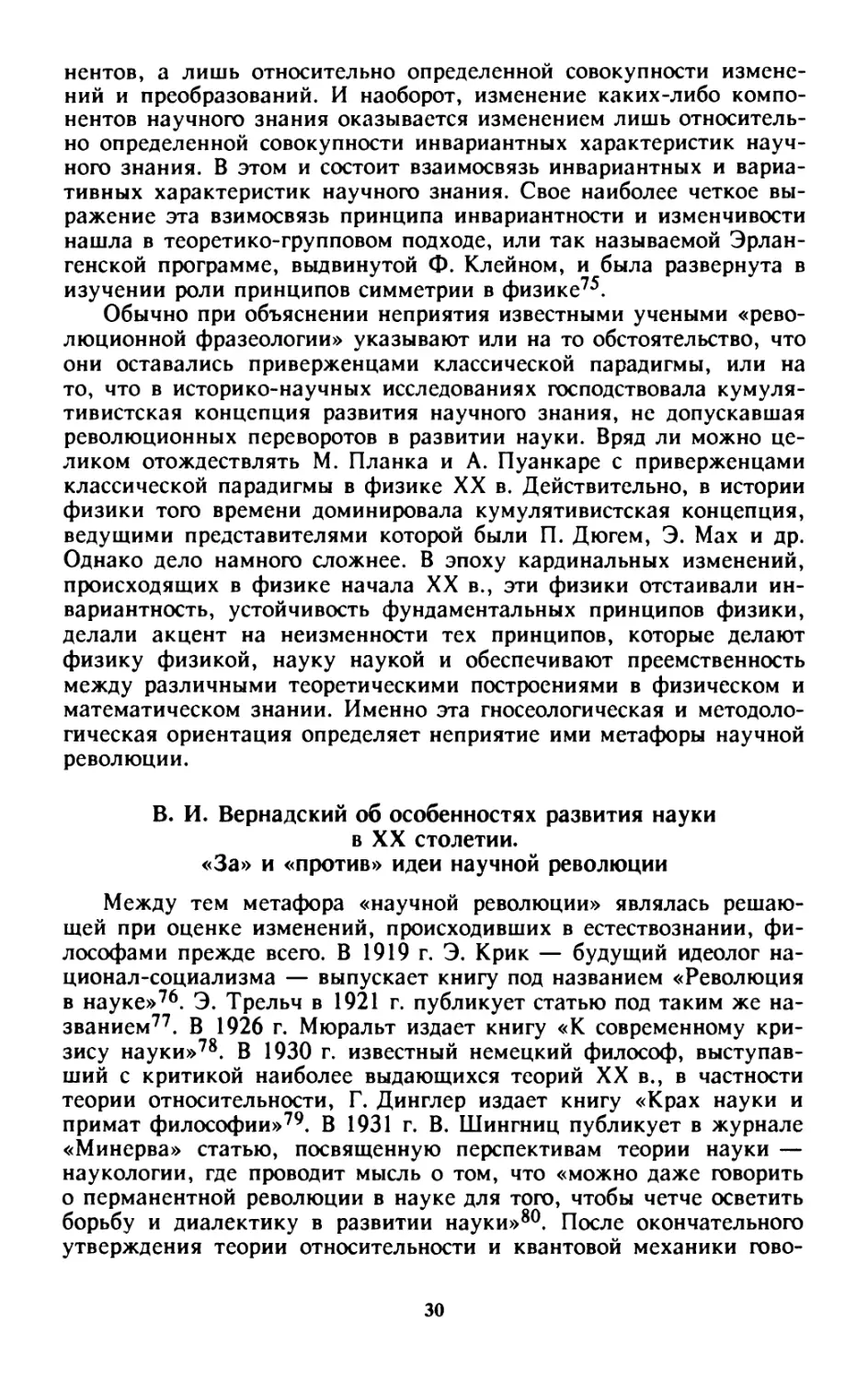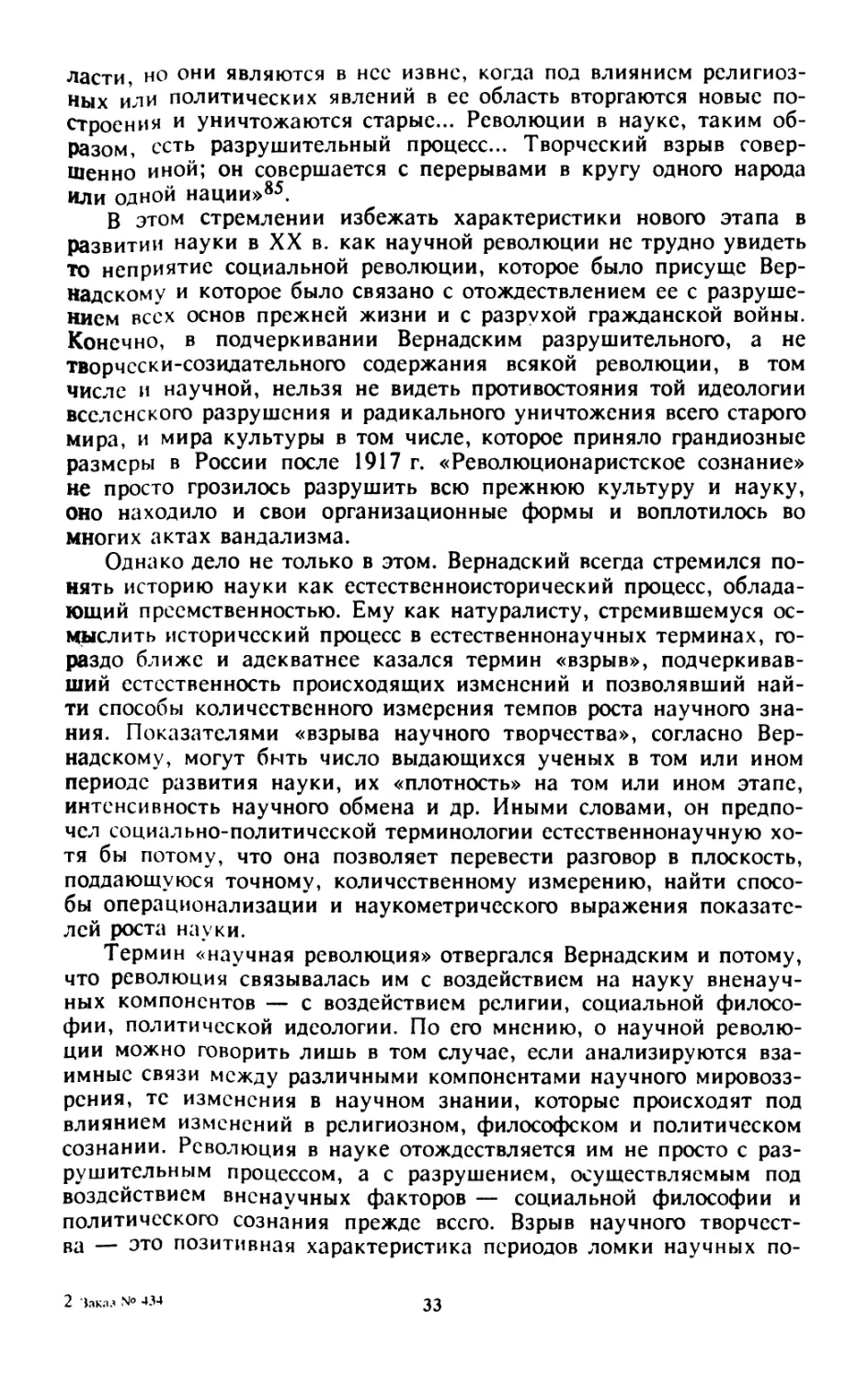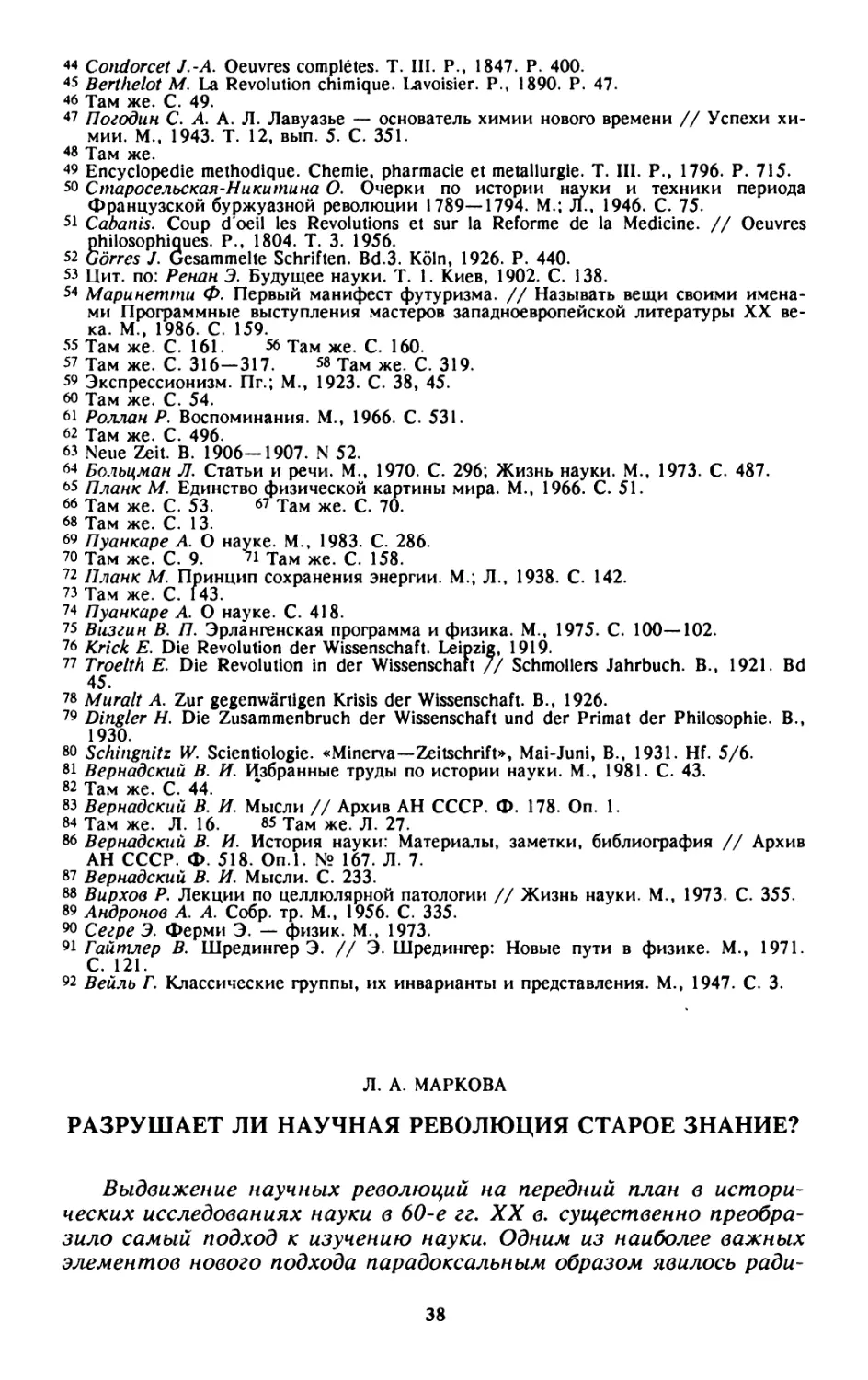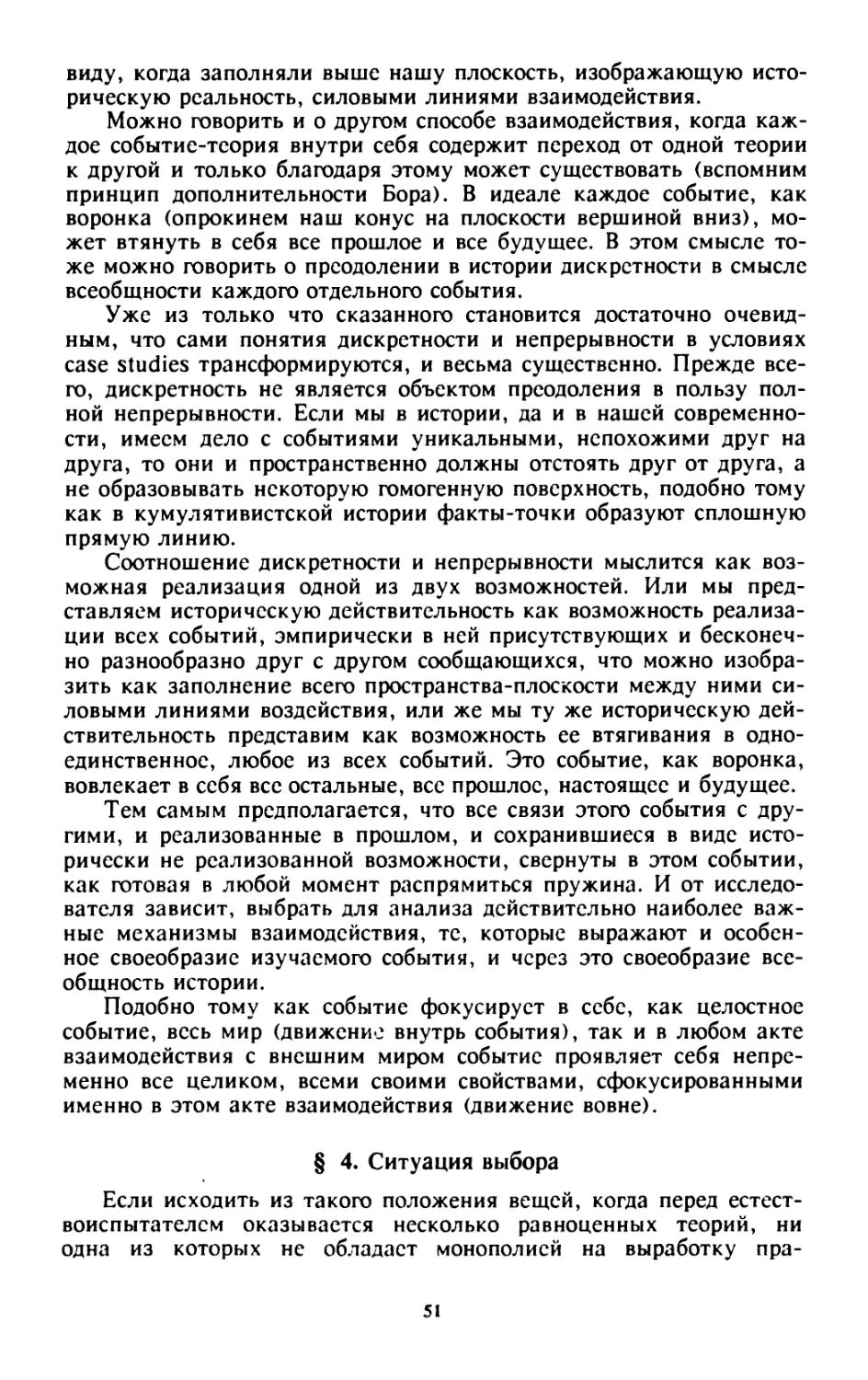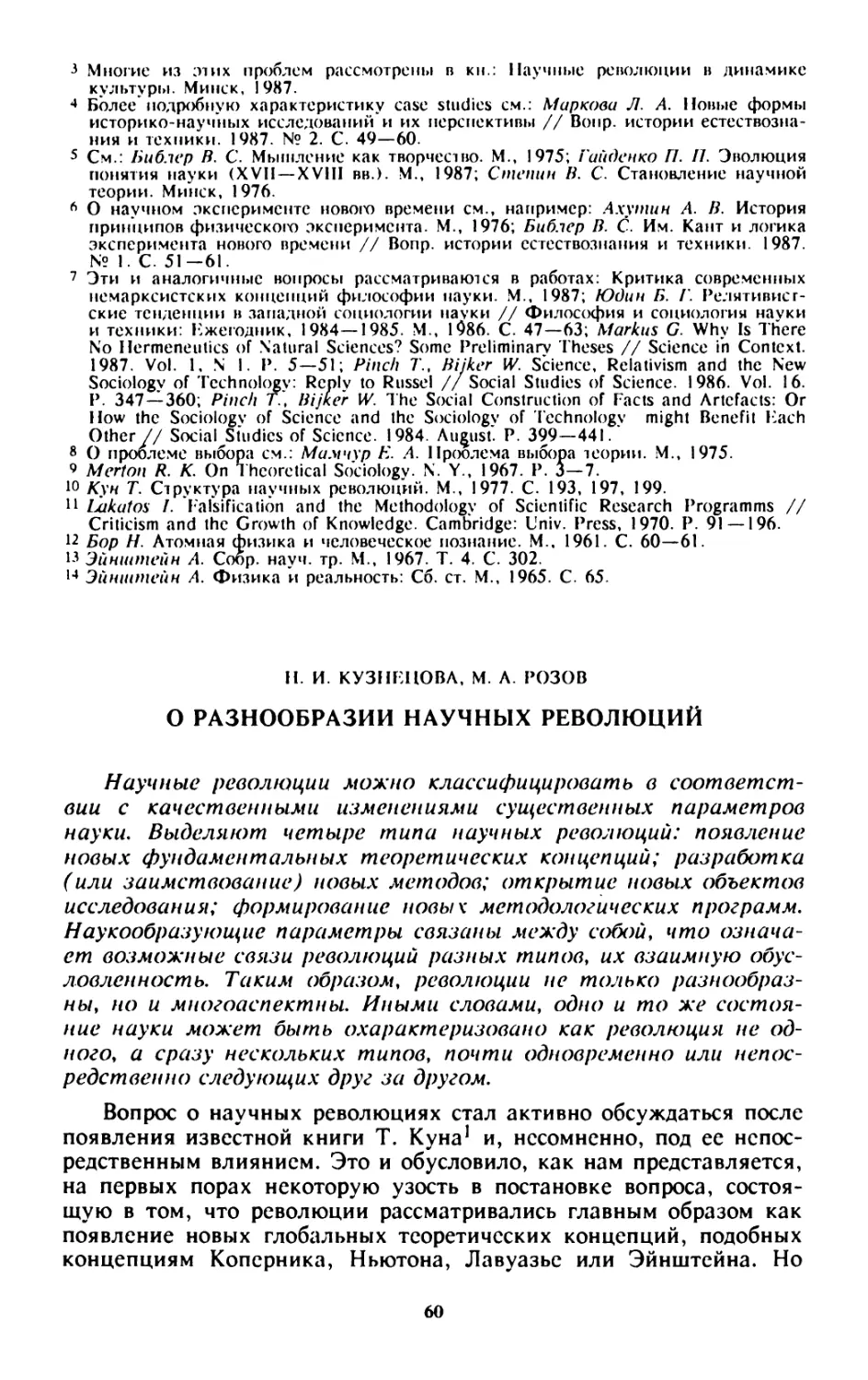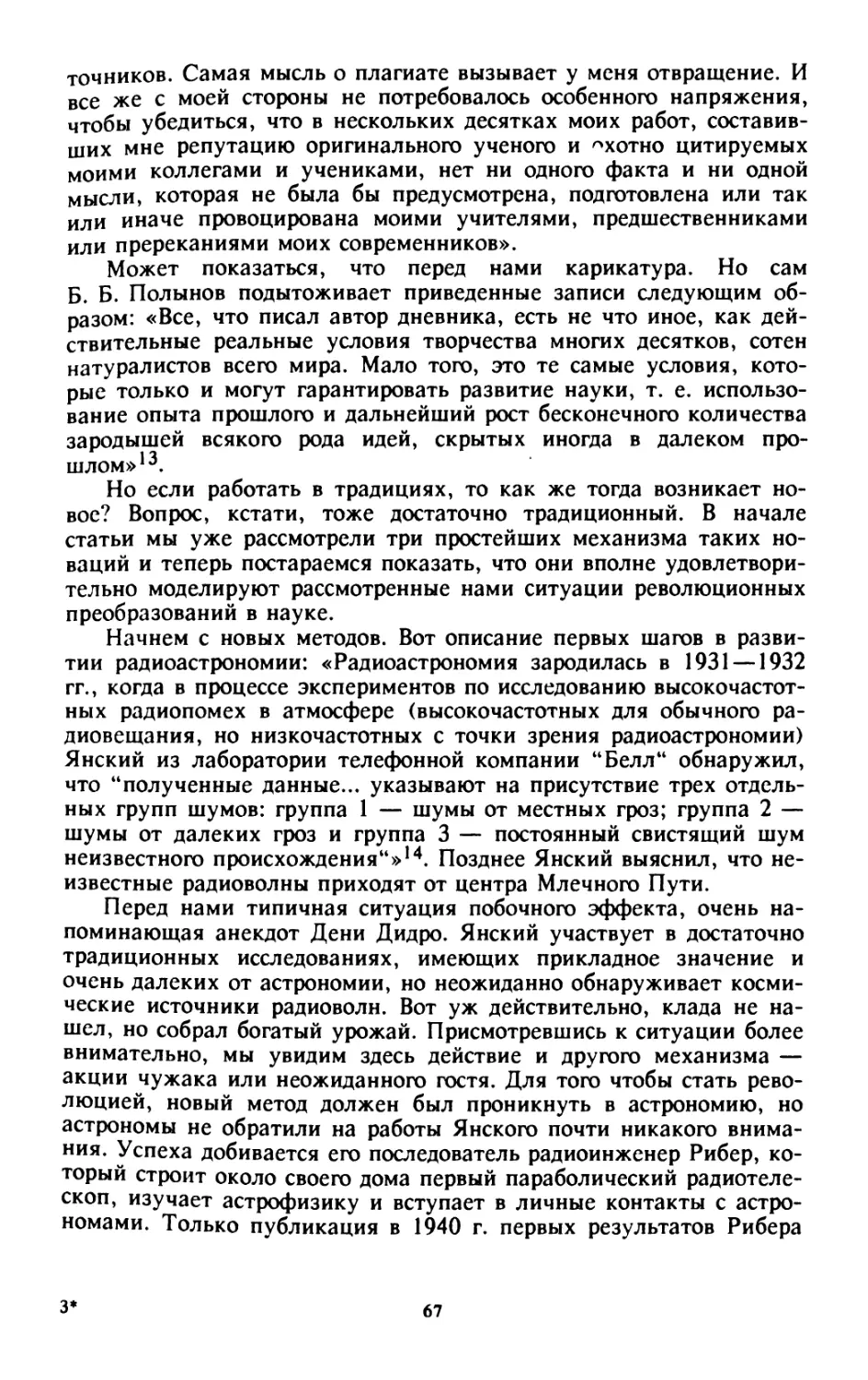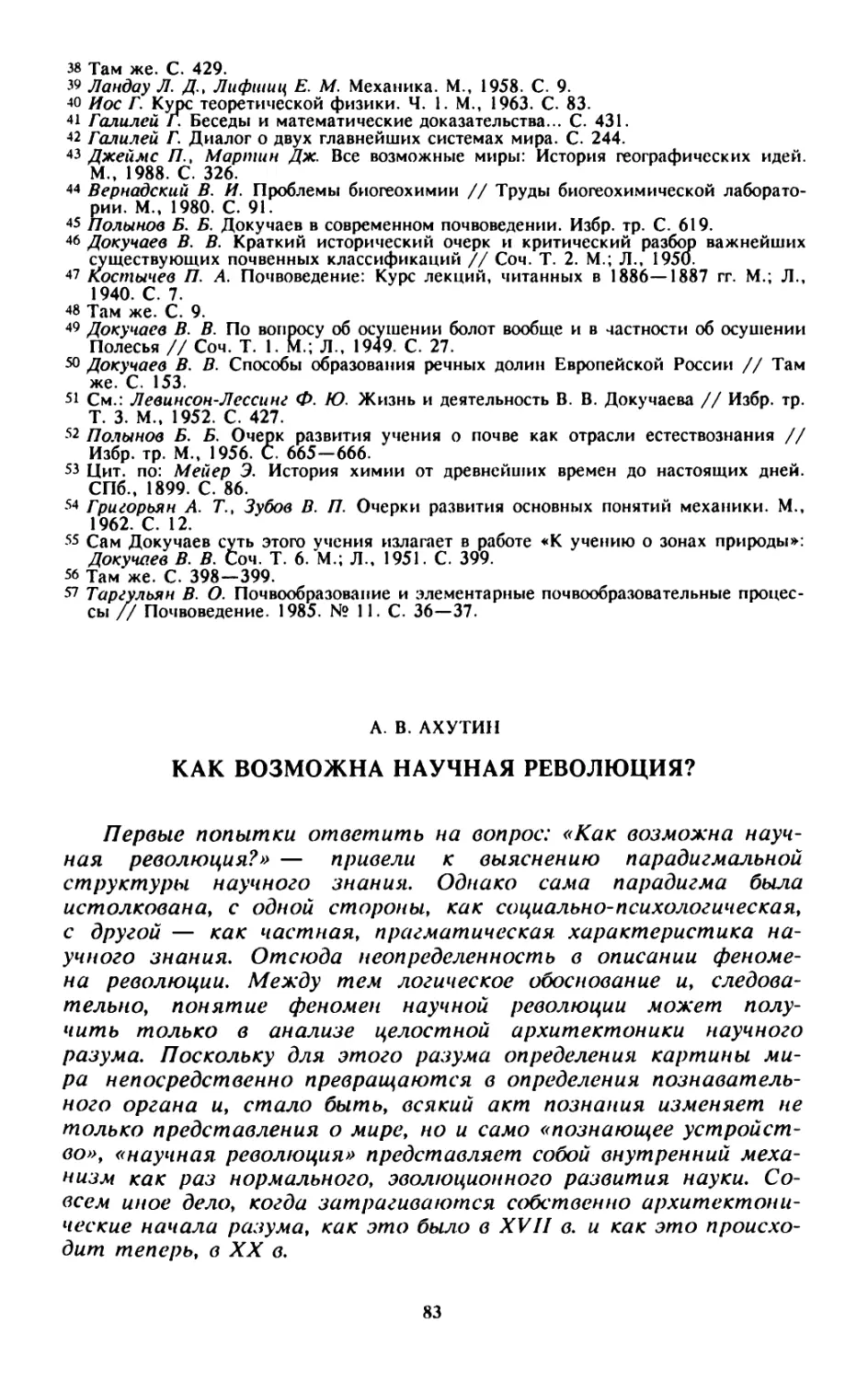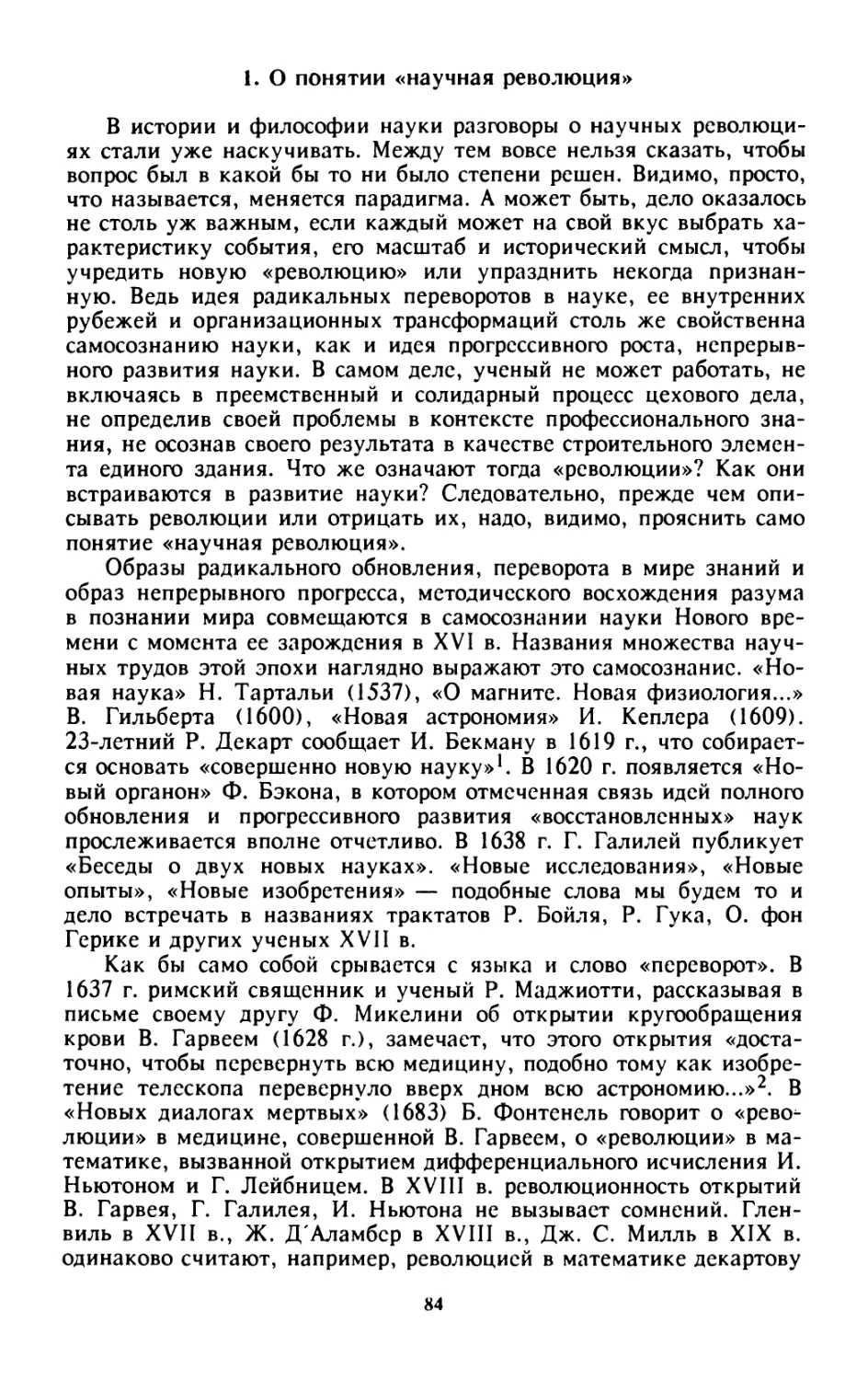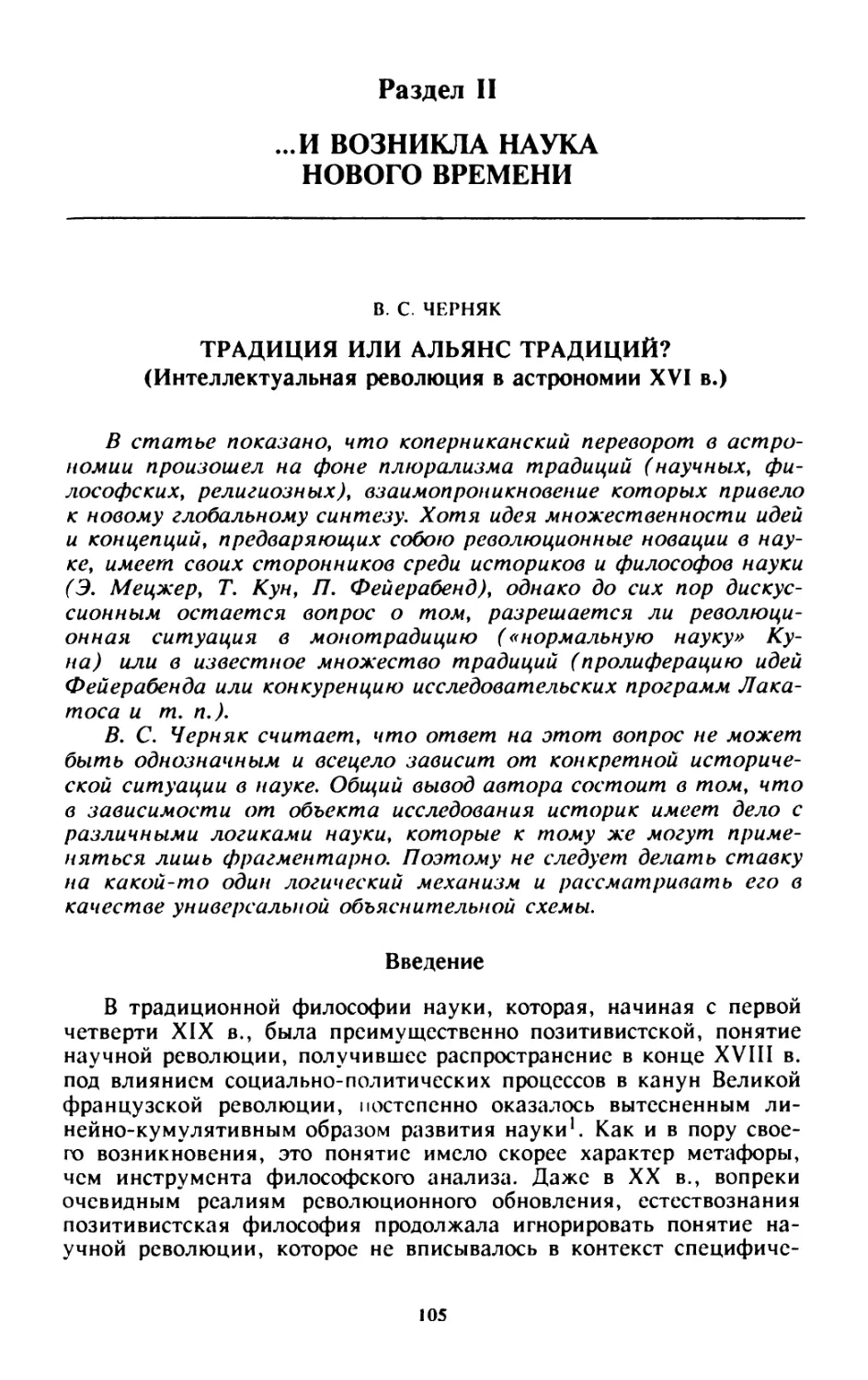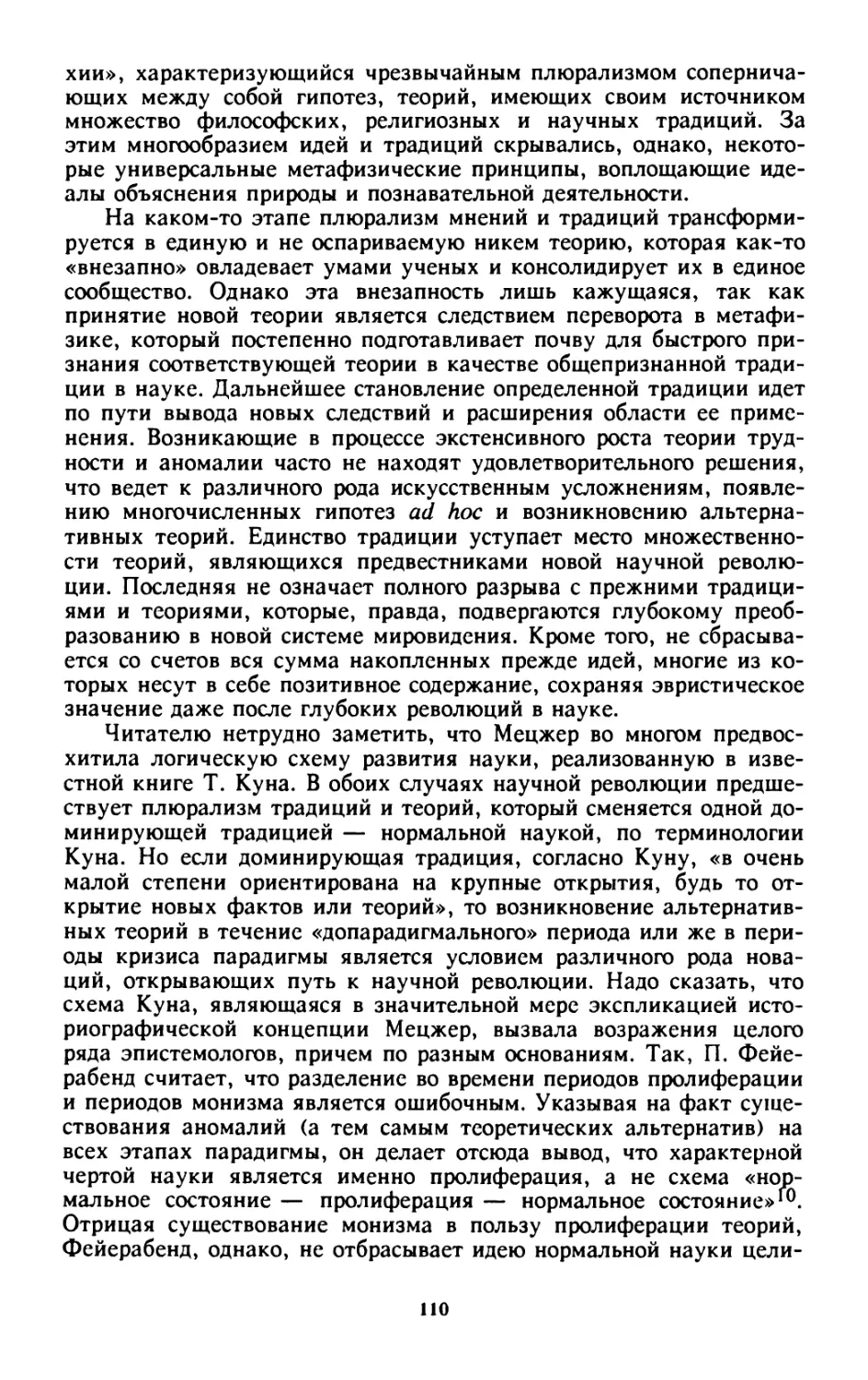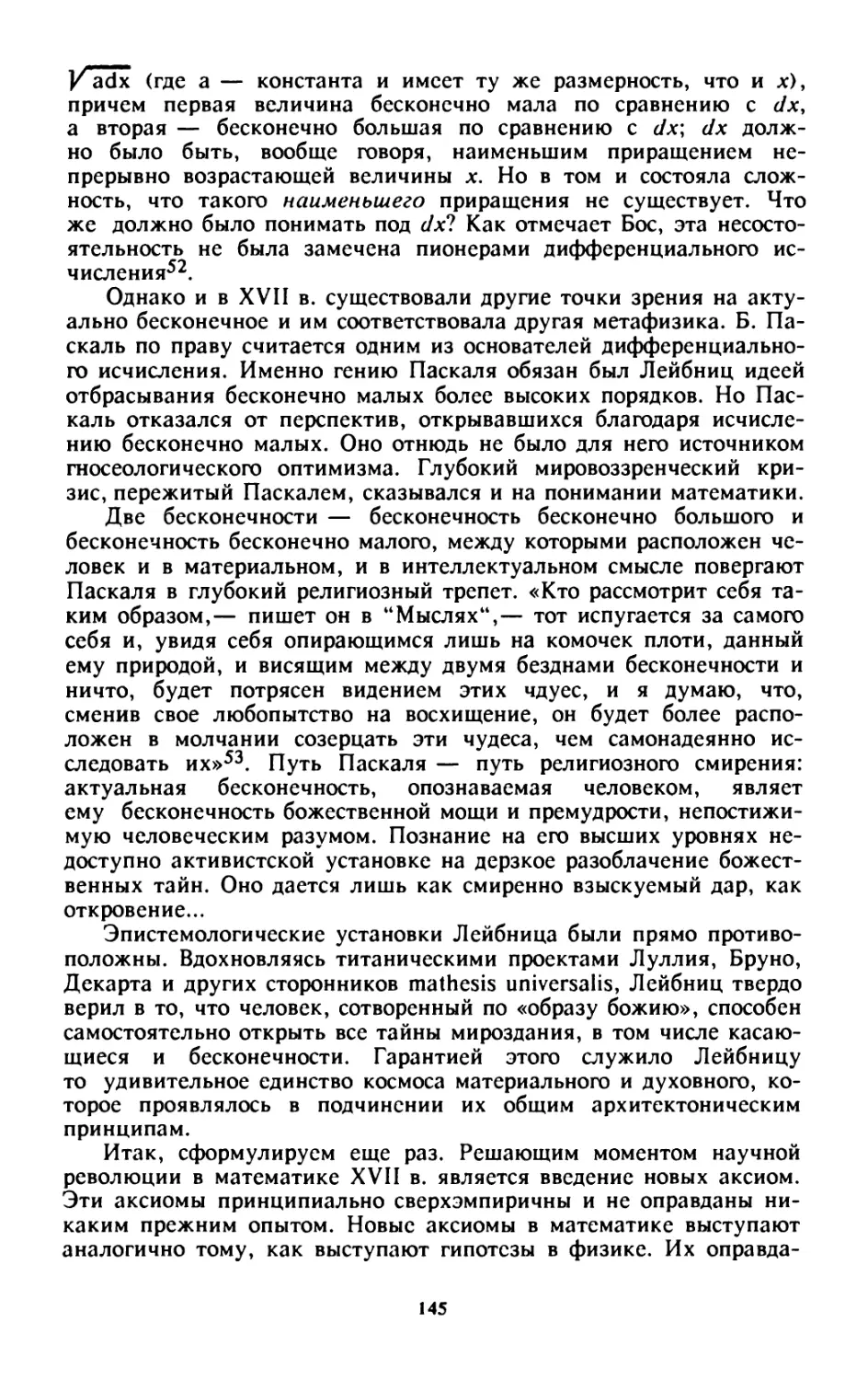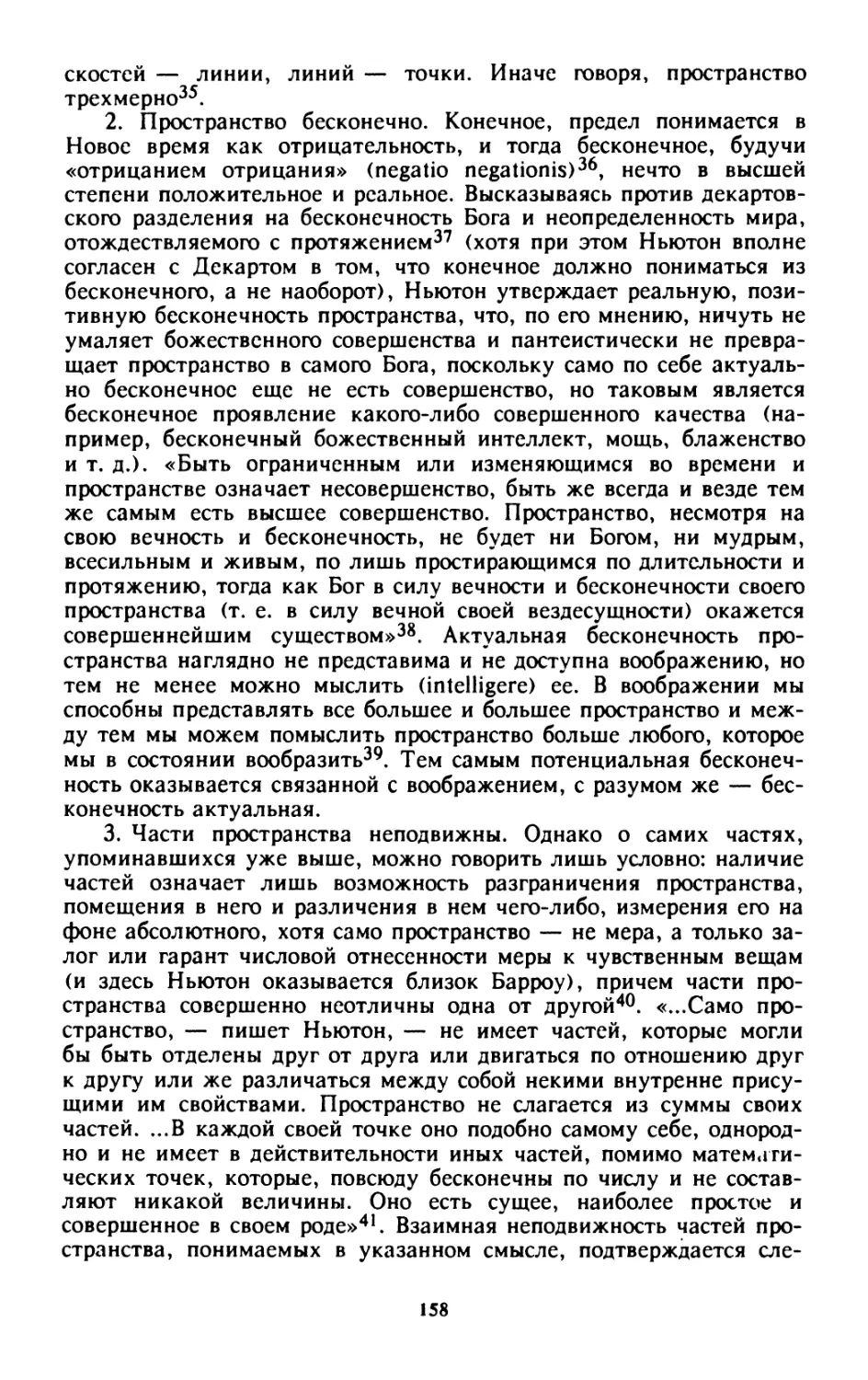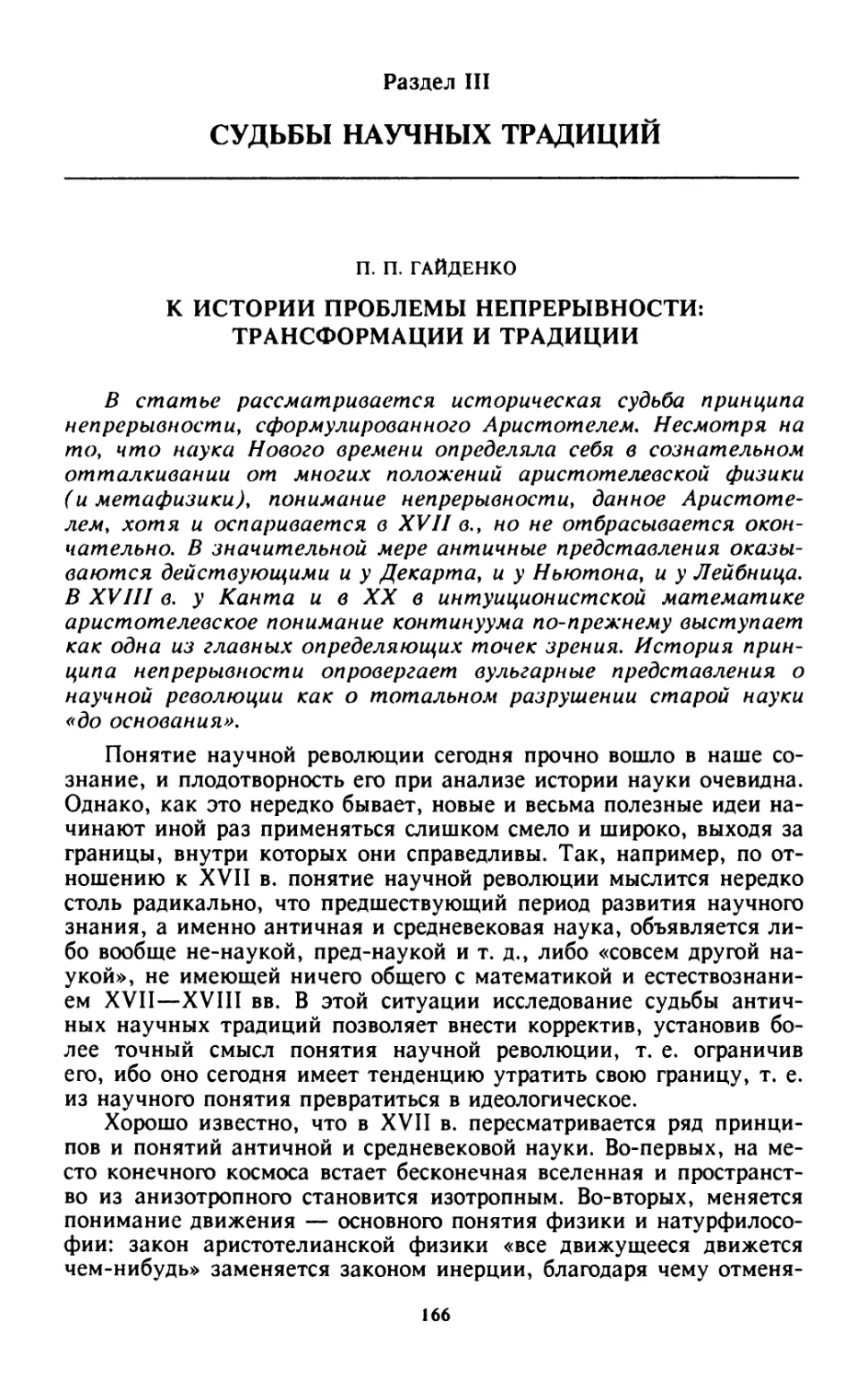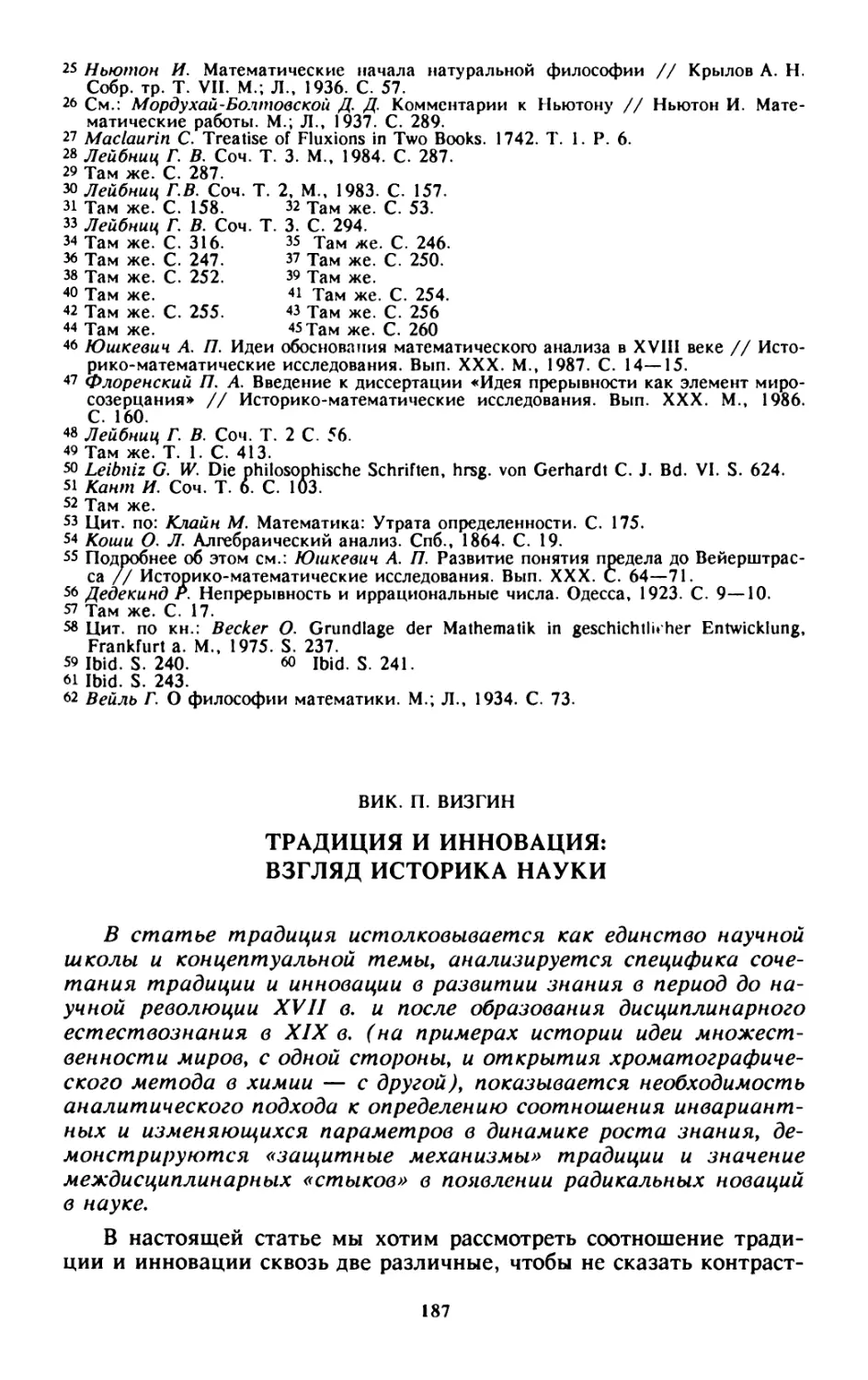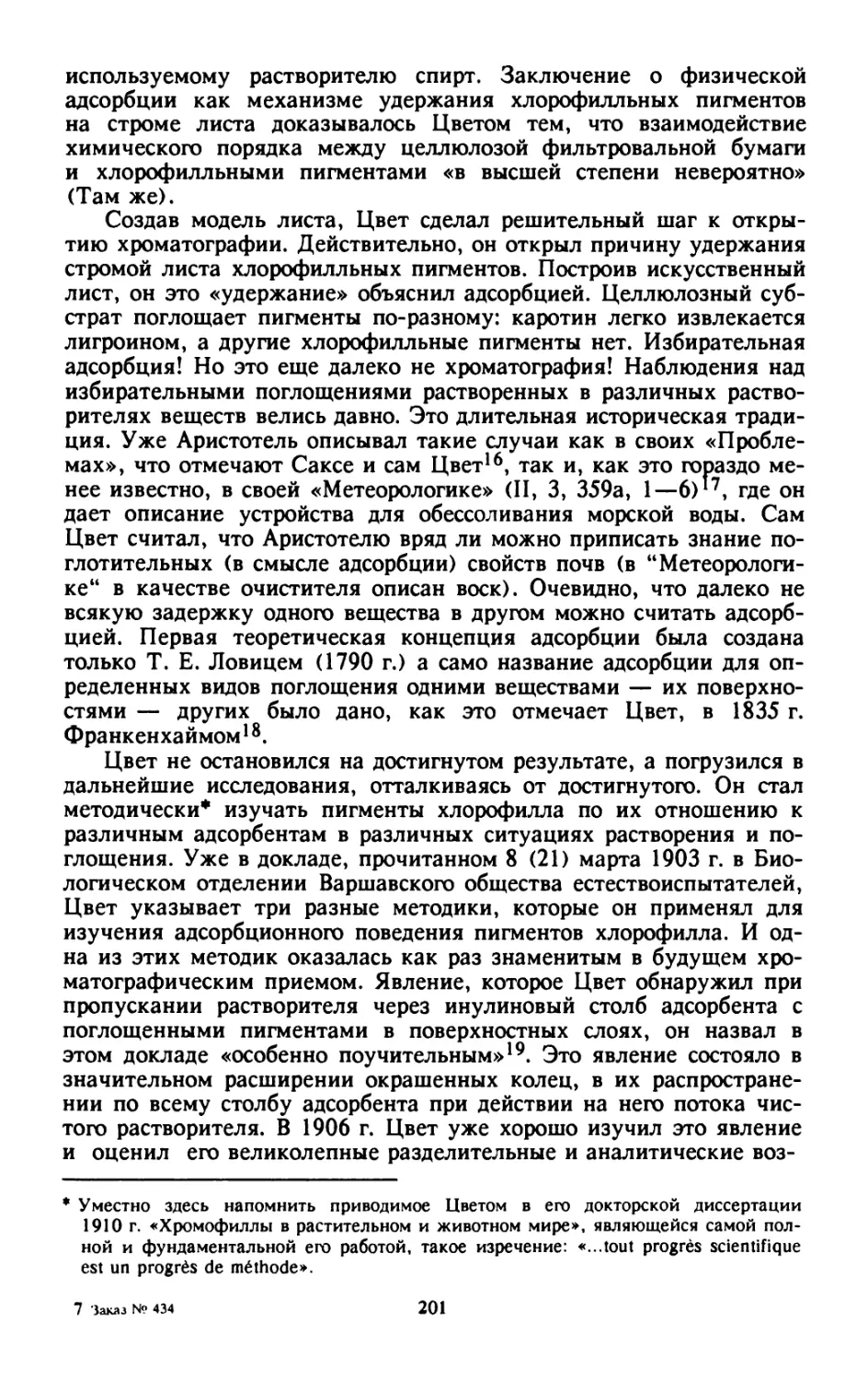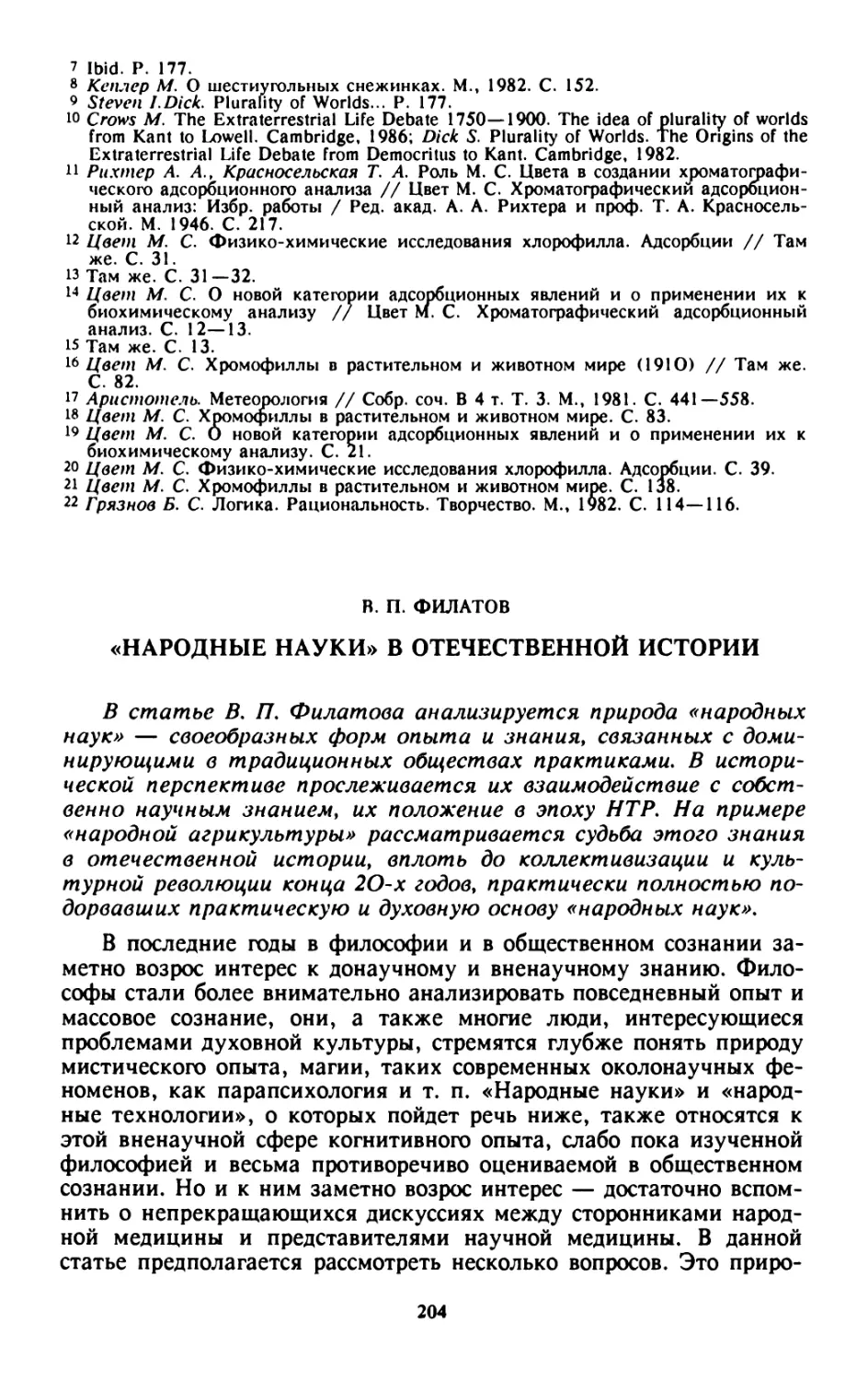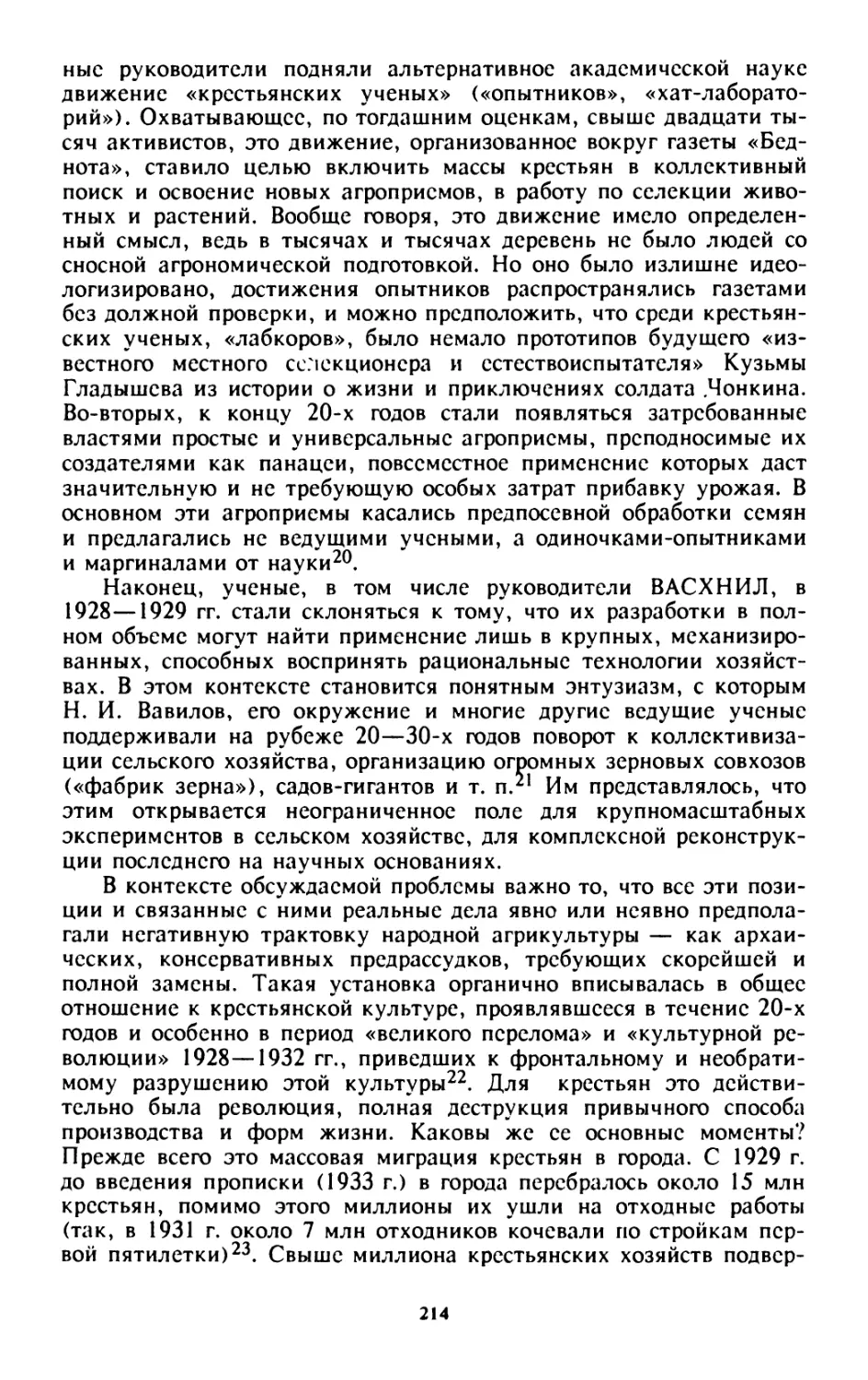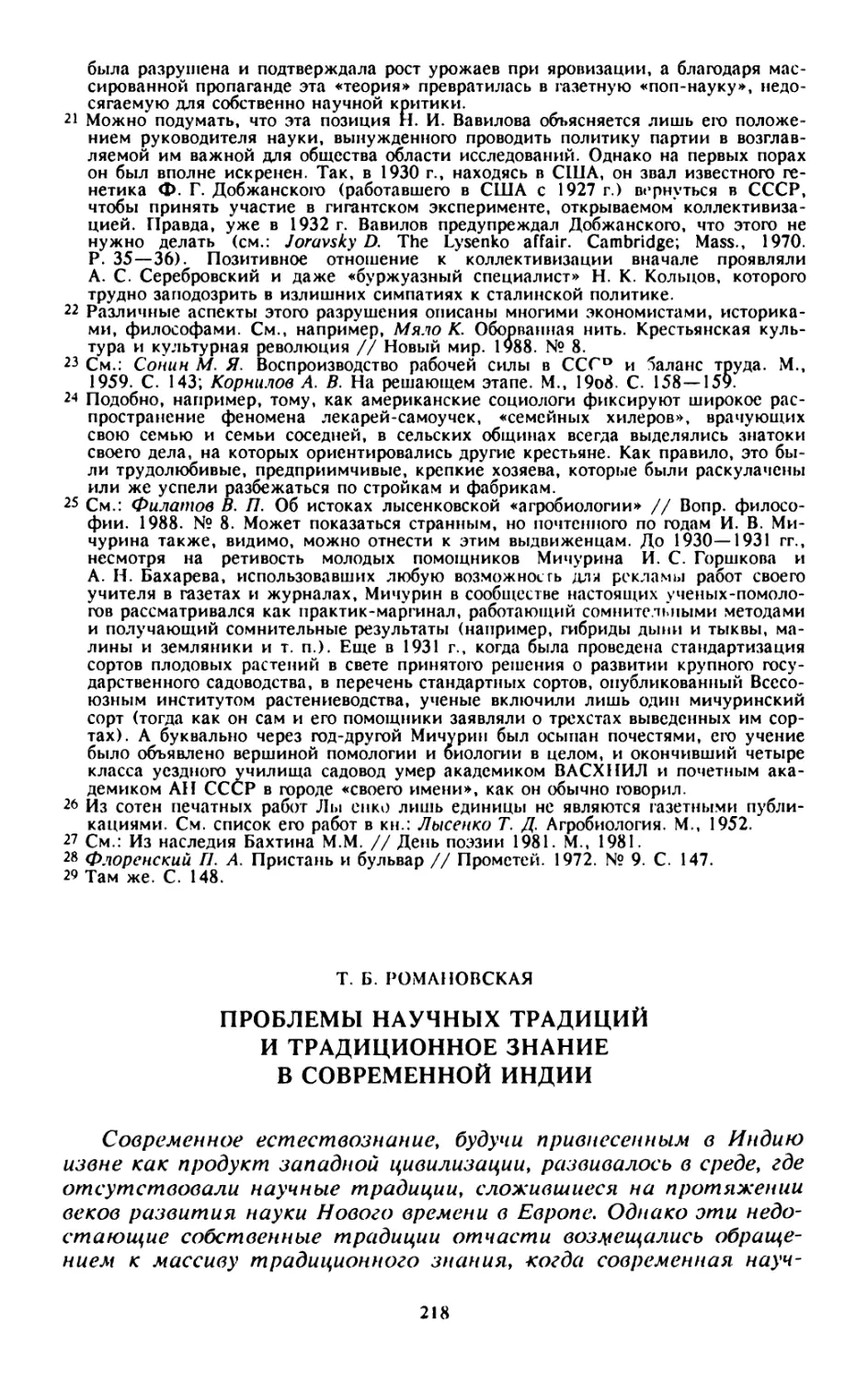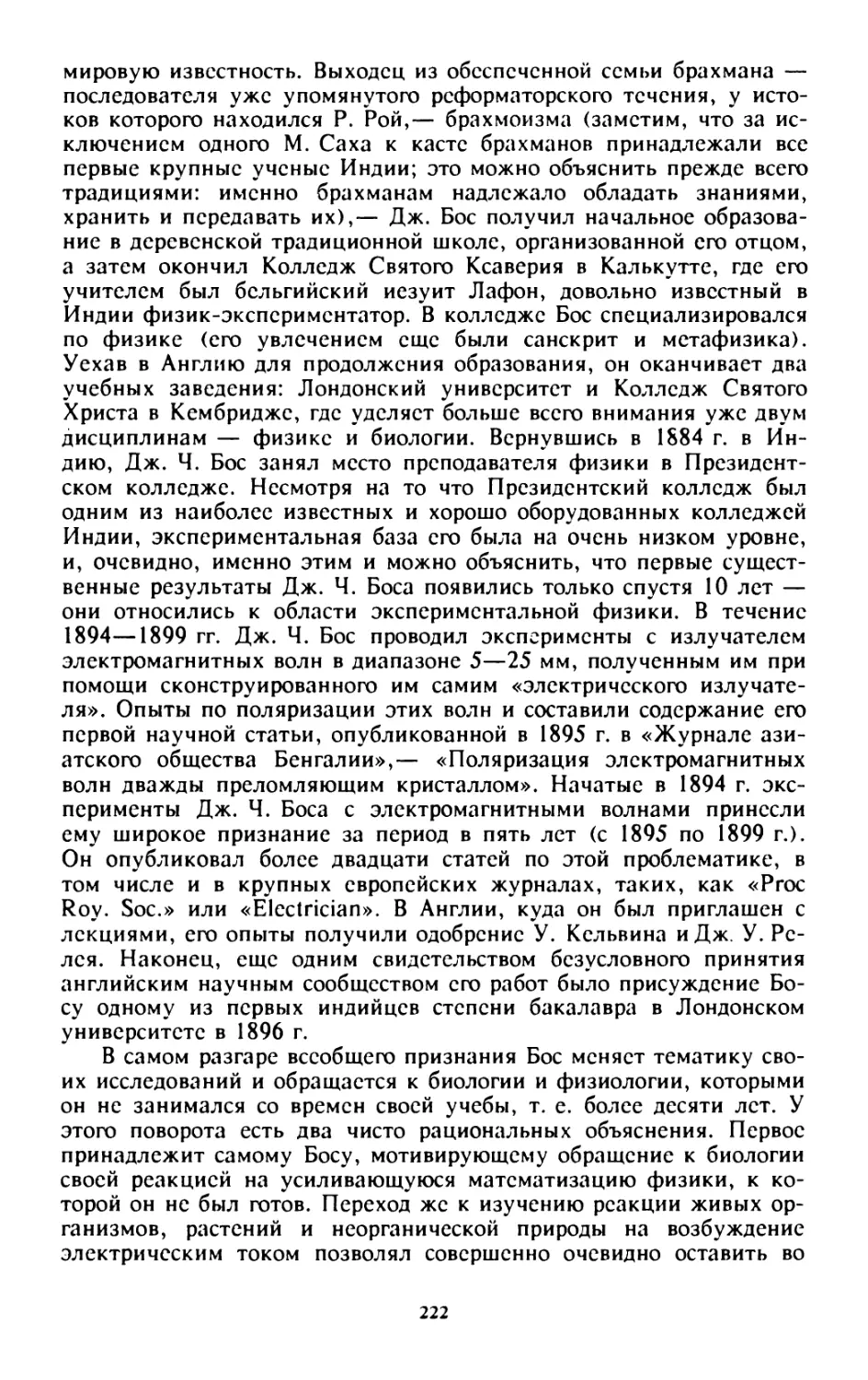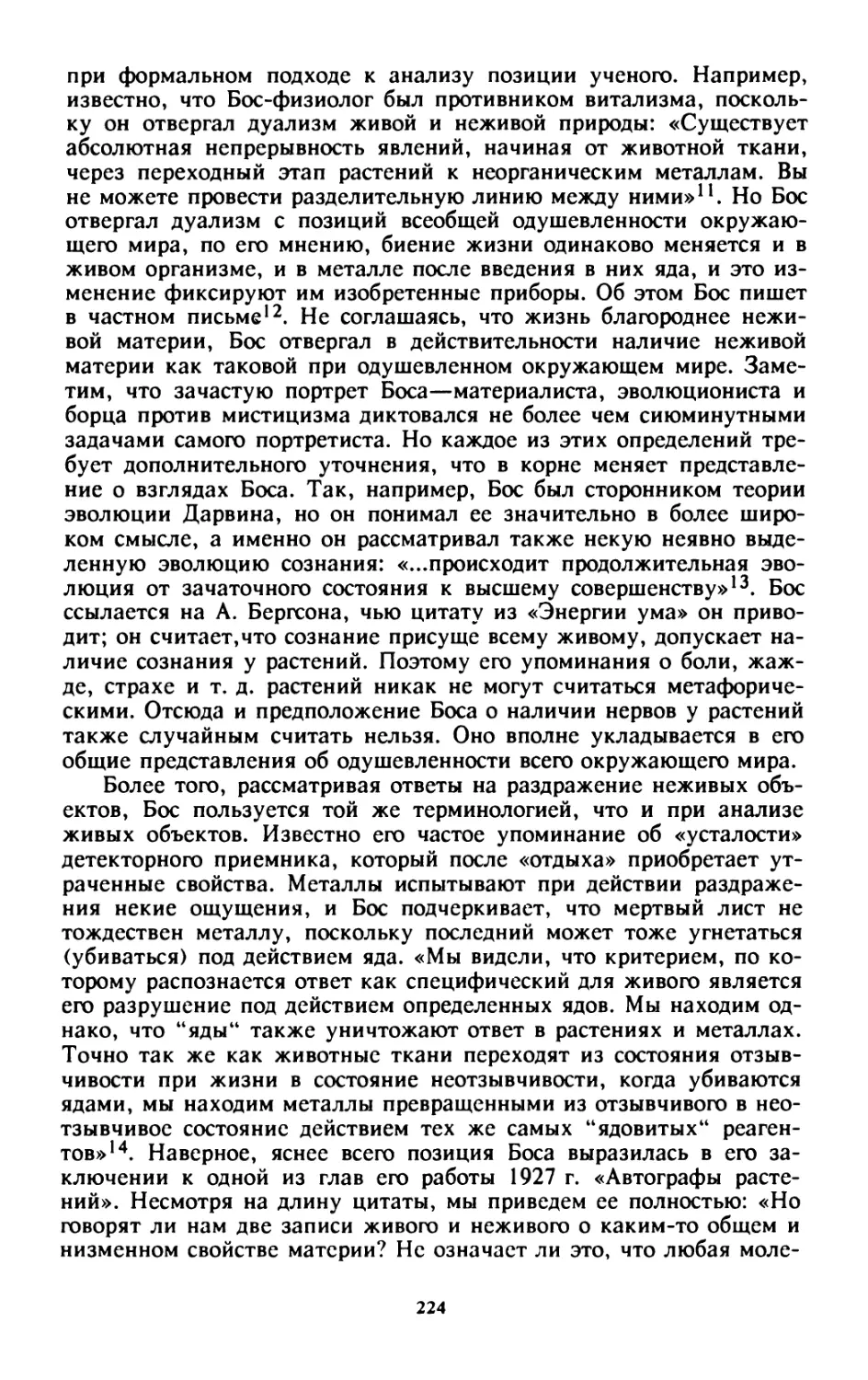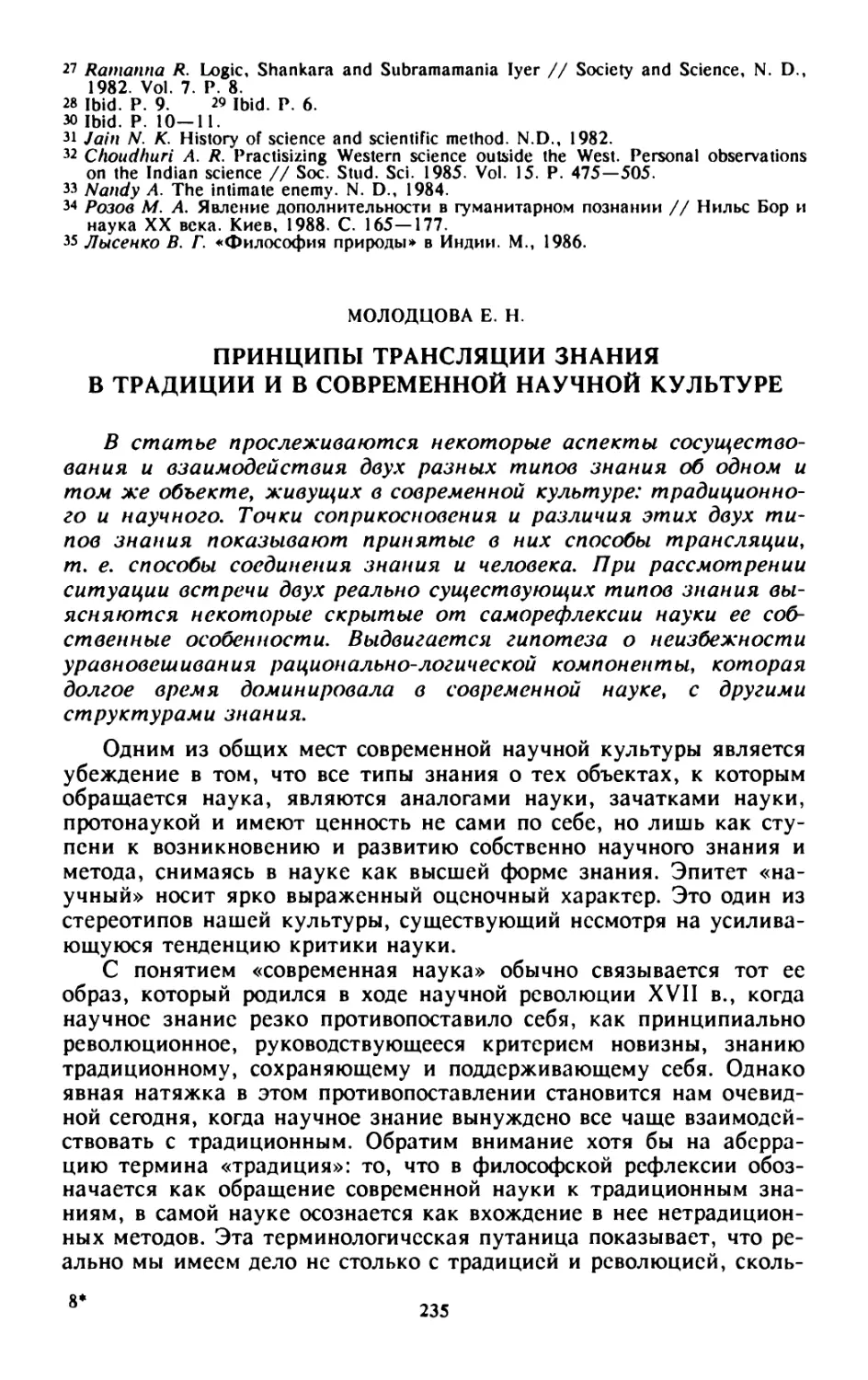Текст
АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ
ТРАДИЦИИ
РЕВОЛЮЦИИ
ИСТОРИИ
НАУКИ
ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА» МОСКВА 1991
ББК 72.3
Т65
Ответственный редактор:
доктор философских наук П. П. ГАЙДЕНКО
Рецензенты:
доктор философских наук Е. А. МАМЧУР,
кандидат философских наук Б. И. ПРУЖИНИН
Редактор издательства Л. Ф. ПИРОЖКОВА
Традиции и революции в истории науки. М.: Наука. 1991.
Тб5 264 с.
ISBN 5—02—008130—2
Книга «Традиции и революции в истории науки» посвящена актуальной
теме анализа переломных эпох в развитии науки.
В историко-философской и историко-научной литературе 60-х годов под¬
черкивалась обычно важность осознания разрыва, скачка в развитии научных
идей. Исследования же последних двух десятилетий все более и более сосре¬
дотачивались на выявлении непрерывных, устойчивых моментов в этих пере¬
ходах, обуславливающих взаимосвязь различных теорий, своеобразную транс¬
историческую целостность познавательной деятельности человека. В данной
книге впервые в отечественной философской литературе предпринято систе¬
матическое рассмотрение проблемы соотношения традиционного и новатор¬
ского в истории науки. Проблема исследуется как в общефилософском кон¬
тексте, так и на многочисленных примерах из истории науки.
Для научных работников, аспирантов.
Д * ~jffl 194—91 1 полугодие ББК 72.3
042(02) — 91
ISBN 5—02—008130—2
© Издательство «Наука». 1991
ВВЕДЕНИЕ
В XX в. развитие науки приобрело особенно динамичный ха¬
рактер. На глазах буквально одного поколения происходят измене¬
ния не только в содержании научного знания и в методах его полу¬
чения, но и в формах связи науки с обществом, в организации на¬
учной деятельности, в способах коммуникации ученых.
Научно-техническая революция вскрывает неоднозначность
прогресса науки; наряду с несомненными преимуществами индуст¬
риальной цивилизации, этого продукта науки и техники, сегодня
всем очевидны и ее издержки: экологический кризис, возможная
ядерная война, ставящая под вопрос вообще существование челове¬
чества, опасности, которыми чревата генная инженерия, и т. д. Это
заставляет ученых все чаще задумываться о том, что же такое нау¬
ка, каковы ее природа и закономерности ее развития, чем отлича¬
ется современное научное познание от науки прошлых эпох, чем
объясняется та двуликость сегодняшней науки, благодаря которой
мы связываем с ней не только большие надежды на будущее, но и
серьезные опасения за него.
Ответить на эти вопросы невозможно без обращения к истории
науки, и обращение это, как видим, происходит сегодня на фоне
вопросов куда более сложных, чем те, какие ставились историками
науки в XVIII и XIX вв.
Одной из центральных теоретико-методологических проблем
развития науки стала в наше время проблема научных революций.
Для ученых очевидны изменения в концептуальном аппарате нау¬
ки, происшедшие на рубеже XIX—XX вв. и продолжающие проис¬
ходить во второй половине XX в. Радикальность этих изменений
как раз и дала основание для характеристики их как революцион¬
ных, и начиная с 50-х годов о научных революциях заговорили ед¬
ва ли не все философы, историки и социологи науки. Хотя понятие
революции в науке возникло задолго до нашего столетия, в
XVII—XVIII вв., однако в то время в него вкладывалось несколько
иное содержание: научная революция отождествлялась с возникно¬
вением науки в собственном смысле слова. Именно так расматри-
вал революцию в химии, произведенную его открытиями, Лаву¬
азье; такой же смысл вкладывал в понятие научной революции
Кант, когда говорил о революции в механике, осуществленной Га¬
лилеем, или о «коперниканском перевороте», сделанном им самим:
з
в Копернике Кант видел создателя научной астрономии, в Гали¬
лее — основателя строгой науки о природе, а в критическом, или
трансцендентальном идеализме — подлинно научную философию.
В нашем веке понятие научной революции претерпело сущест¬
венную трансформацию. Широкому обсуждению этого понятия со¬
действовала книга Т. Куна «Структура научных революций» (пер¬
вое издание ее появилось в 1962 г.), где научные революции рас¬
сматриваются как необходимая форма разрешения кризисов в нау¬
ке, наступающих с известной регулярностью, примерно раз в 200
лет, и требующих пересмотра всего концептуального аппарата нау¬
ки. Как справедливо замечает в этой связи В. А. Лекторский, «на
современном этапе происходит определенная релятивизация самого
понятия науки... Релятивизм в понимании науки — концепция
Т. Куна. Но та позиция, которую он занимал 20 лет назад, мало
кем поддерживается сейчас даже в западной литературе по филосо¬
фии и истории науки...»1. Более того, у самого Куна под влиянием
критики понятие революции в науке несколько раз уточнялось и
сегодня выглядит иначе, чем четверть века назад2. Однако при
всех уточнениях и корректировках этого понятия Т. Кун не может
полностью освободиться от аналогии между научной и политиче¬
ской революциями, которая сыграла ключевую роль при создании
его концепции. А именно эта аналогия лежала в основе той «пол¬
ной идентификации интеллектуальных, а тем более логических
проблем с социоисторическими»3, за которую справедливо крити¬
ковали его многие историки и философы науки. Какую роль играет
у Куна эта аналогия, легко видеть из текста его книги. «Политиче¬
ские революции,— пишет он,— начинаются с роста сознания... что
существующие институты перестали адекватно реагировать на про¬
блемы, поставленные средой, которую они же отчасти создали. На¬
учные революции во многом точно так же начинаются с возраста¬
ния сознания... что существующая парадигма перестала адекватно
функционировать при исследовании того аспекта природы, к кото¬
рому сама эта парадигма раньше проложила путь. И в полити¬
ческом, и в научном развитии осознание нарушения функции,
которое может привести к кризису, составляет предпосылку ре¬
волюции»4.
Аналогия, проводимая Куном, носит далеко не внешний харак¬
тер. Не случайно многие исследователи отмечали социологический
смысл куновского определения не только «научного сообщества»,
но в значительной мере и «парадигмы», почему и смена парадигм
мыслится Куном по аналогии с «переключением гештальта», а
умение убеждать оказывается при этом едва ли не главным средст¬
вом, содействующим такому переключению. Тут тоже очевидно
сходство с социальными революциями. «Политические револю¬
ции,— пишет американский ученый,— направлены на изменение
политических институтов способами, которые эти институты сами
по себе запрещают... Первоначально именно кризис ослабляет роль
политических институтов, так же... как он ослабляет роль парадиг¬
мы... Общество разделяется на враждующие лагери или партии; од¬
4
на партия пытается отстоять старые социальные институты, другие
пытаются установить некоторые новые. Когда такая поляризация
произошла, политический выход из создавшегося положения ока¬
зывается невозможным. Поскольку различные лагеря... нс призна¬
ют никакой надынституциональной структуры для примирения
разногласий, приведших к революции, то вступающие в революци¬
онный конфликт партии должны в конце концов обратиться к сред¬
ствам массового убеждения, часто включая и силу>А
Оставим на совести автора причисление силы к средствам
убеждения. Обратим внимание на другой момент. Применительно
к политическим революциям представляется справедливым его ут¬
верждение, что противоборствующие лагери не признают вы¬
сшей — «надынституциональной» — инстанции для примирения
разногласий, почему нередко и наступает самый страшный и де¬
структивный этап революции — гражданская война. Но можно ли
и здесь усмотреть параллель с развитием науки? Оказывается, да.
И эта параллель у Куна как раз и выполняет ключевую роль при
характеристике научных революций. «Подобно выбору между кон¬
курирующими политическими институтами, выбор между конкури¬
рующими парадигмами оказывается выбором между несовместимы¬
ми моделями жизни сообщества... Как в политических революциях,
так и в выборе парадигмы нет инстанции более высокой, чем со¬
гласие соответствующего сообщества. Чтобы раскрыть, как проис¬
ходят научные революции, мы поэтому будем рассматривать не
только влияние природы и логики, но также эффективность техни¬
ки убеждения в соответствующей группе, которую образует сооб¬
щество ученых»6.
Техника убеждения, т. е. попросту агитация и пропаганда, у
Томаса Куна не случайно приравнена к силе. Описывая революци¬
онную ситуацию в обществе, он верно говорит, что, где кончается
право,— а закон и есть надынституциональная структура в обще¬
стве,— там начинается насилие. А поскольку, с его точки зрения,
в научном сообществе тоже нет инстанции, так сказать, «надпар¬
тийной», надгрупповой — а такую роль, надо думать, могла бы иг¬
рать лишь истина7,— то и здесь сила в виде техники убеждения
призвана ее заменить. Кто умеет лучше убеждать, тот и получит
согласие научного сообщества. Собственно рациональные аргумен¬
ты, опирающиеся на суть дела, играют в этом случае, по Куну, не¬
значительную роль.
Как видим, аналогия с политической революцией служит в
этой концепции своего рода эвристикой при разработке понятия
«революции в науке». Последнюю американский ученый определя¬
ет как «смену понятийной сетки, через которую ученые рассматри¬
вали мир»8.
Концепция научной революции Т. Куна не случайно формиро¬
валась на фоне нарастающей «левой волны» на Западе, а ее наи¬
большая популярность пришлась как раз на 60—70-е годы, когда
господствующим оказалось сознание, что социальные проблемы
разрешаются главным образом через «революционный конфликт»:
5
концепция Куна — независимо от того, насколько это сознает ее
автор,— несет на себе печать тех представлений о высокой миссии
революций в обществе, которые характерны именно для XX в. И
нельзя не согласиться с Бернардом Коэном, что «употребление сло¬
ва “ революция “ в контексте науки всегда отражало существующие
в данную эпоху теории политической и социальной револю¬
ции, при этом принимался во внимание также и опыт реальных ре¬
волюций»9.
Однако социально-политическая схема вскоре обнаружила свою
неадекватность применительно к ситуации, имеющей место в раз¬
витии науки. Критики Куна обращали внимание на то, что изме¬
нения, происходящие в науке, никогда не совершаются «вдруг»,
так что метафора «переключения гештальта» здесь не подходит.
Так, научная революция XVII в. протекала на протяжении более
чем полутора столетий, и только в том случае, если мы будем
сравнивать «Начала» Ньютона с «Физикой» Аристотеля, мы можем
говорить о полном перевороте в мышлении, о радикальной смене
парадигмы; но ведь между этими крайними точками лежит громад¬
ный массив менее радикальных изменений, внесенных в аристоте-
лианскую физику и натурфилософию учеными XIII, XIV, XV, XVI
и XVII вв.10 Полемику вокруг понятия научной революции на про¬
тяжении 60-х годов подытожил Ст. Тулмин: «Действительно, было
ли когда-либо изменение в науке столь революционным, как дока¬
зывал Кун? Если бы его определения применялись строго, можно
ли вообще было найти подлинные примеры «научных револю¬
ций»?.. Конечно, с течением времени постепенные изменения в на¬
учной теории, аккумулируясь, могут в совокупности привести к ре¬
зультатам столь глубоким, что ретроспективно их следует описы¬
вать как революционные, так что не нужно делать вывод, что в от¬
сутствие резких, четких «революций» все изменения в науке, сле¬
довательно, были «нормальными» (в специальном смысле термина
Куна). Однако как можно было получить такие революционные ре¬
зультаты, если их не произвели «революции»? Такой вывод поста¬
вил Куна перед трудным выбором. Ибо в этом случае он должен
полностью отказаться от своего объяснения подлинных научных ре¬
волюций или модифицировать его по частям, с тем чтобы первона¬
чальное резкое разграничение между «нормальным» и «революци¬
онным» изменением постепенно стиралось»11.
И в самом деле, если всякое сколько-нибудь важное открытие в
науке характеризуется как революция (пусть и с уточнением —
«микро»), а история науки есть последовательность таких откры¬
тий, то само понятие революции в его прежнем значении теряет
смысл: ибо чем перманентная революция отличается от непрерыв¬
ного процесса развития науки, если мы не будем останавливаться
на словах, а сосредоточимся на понятии? Разве что только ценно¬
стным предпочтением, оказываемым в этом случае термину «рево¬
люция» перед термином «эволюция» или «реформа».
И не случайно в последний период исследователи науки все ос¬
трее ставят вопрос о том, каким образом сохраняется — и сохраня¬
6
ется ли — преемственность в развитии науки, если мы в центр
внимания ставим проблему революционных изменений в науке (не
важно, макро- или микроизменений).
В этой связи особенно актуальным сегодня становится новое ос¬
мысление понятия традиций в науке12. Мне представляется суще¬
ственным замечание Л. М. Томильчика о том, что сегодня нам
«важно выяснить критерии, которые отличают подлинно научные
революции от псевдонаучных переворотов. Думается, что одним из
таких критериев является отношение к традиции, стремление по¬
длинной науки не только менять направление исследований, но и
сохранять при этом прежние достижения, а не отбрасывать их»13.
Дело не только в том, что история науки — особенно в нашем
веке — насчитывает немало таких «псевдонаучных переворотов»,
связанных, как правило, с политической конъюнктурой и несущих
с собой разрушение, уничтожение подлинно научных школ, как
это мы знаем из опыта лысенковщины в биологии. Дело в том, что
подлинный ученый думает не о новизне выдвигаемой им теории, а
о решении проблемы, которую ставит перед ним существующая на¬
учная теория или программа, в рамках которой он работает. Эту
ситуацию глубоко понимал В. Гейзенберг, подчеркивавший, что
революции делаются тогда, когда мы стремимся изменить как мож¬
но меньше14. Всякий ученый работает в рамках определенной тра¬
диции, задающей ему и постановку проблемы, и в какой-то мере
способ ее решения. И парадоксальным образом глубже реформиру¬
ет и трансформирует научную программу тот, кто стремится ук¬
репить и сохранить ее, ища решения возникающих на ее базе
трудностей.
Вот почему мне думается, что исследование преемственности,
традиций в истории науки предполагает в первую очередь обраще¬
ние к содержательному анализу научного знания, к тому аспекту
развития науки, который мы называем когнитивным. Без анализа
именно содержательной стороны знания мы не можем различить
действительное развитие науки и притязания псевдонаучных
«школ»... Только содержательный анализ научных теорий, мето¬
дов, «парадигм» или «исследовательских программ» дает возмож¬
ность увидеть специфику как традиций, так и революций в науке,
позволяет устранить те «априорные привнесения», которыми угро¬
жает истории науки слишком прямолинейное употребление поли¬
тических и социокультурных метафор применительно к развитию
научного знания.
Вопрос о роли и месте традиций в развитии знания — это, в
сущности, вопрос о единстве науки и вопрос об истине. В какой
мере мы можем говорить о таком единстве, признавая революцион¬
ные изменения в истории науки? Этот вопрос сегодня обсуждается
также и в зарубежной философии науки. «Трансформация и тради¬
ция — вот диалектика научной деятельности. Напряжение, суще¬
ствующее между этими двумя необходимыми атрибутами, состав¬
ляет фокус исследования современной истории науки» — такими
словами начинается книга «Трансформация и традиция в науках»,
7
посвященная юбилею Б. Коэна15. Проблему традиций рассматрива¬
ют и отечественные философы науки, связывая ее — что вполне
понятно — с проблемой традиции в культуре.
Но и у нас, и за рубежом при обсуждении этой темы возника¬
ют характерные трудности. Вот, например, постановка проблемы
традиций в культуре и науке, предложенная А. И. Зеленковым.
«Традиция,— говорит он,— это не просто элемент социокультур¬
ного наследия, передающийся от поколения к поколению, а специ¬
фический механизм воспроизводства норм и ценностей. Именно
поэтому традиция воплощает в себе репродуктивное начало, реали¬
зует адаптивную функцию и является своеобразным гомеостатиче¬
ским механизмом в процессе развития социальных систем»16. Тра¬
диция в культуре, таким образом, рассматривается как механизм
воспроизведения тех оснований, на которых зиждется культура,—
норм и ценностей, благодаря чему она выполняет стабилизирую¬
щую функцию в обществе. Что же касается традиции исследова¬
тельской, являющейся одним из регулятивов в научном познании,
то ее А. И. Зеленков определяет как «нормативно-эвристическую
функцию, предполагающую непрерывное продуцирование нового
знания и отрицание сложившихся стереотипов мышления»17. Для
исследовательской традиции «характерен прежде всего дух нова¬
торства и перманентного научного прогресса, связанного с крити¬
кой и отрицанием наличного знания»^8.
Конечно же, спору нет: критический дух для науки традицио-
нен. Но сравним между собой эти два определения традиции.
Культурная традиция есть сохранение и воспроизведение наличных
ценностей, научная же традиция — критика и отрицание налично¬
го знания. Видимо, такая полная несовместимость двух вариантов
одного и того же понятия — «традиции» — могла возникнуть у ав¬
тора оттого, что при определении этого понятия в первом и втором
случае он исходил из разных оснований. В первом случае он опре¬
деляет традицию формально, во втором содержательно. Но причи¬
на такого несовпадения оснований, я думаю, кроется в том самом
стереотипе мышления, в критике и отрицании которого А. И. Зе¬
ленков видит специфику науки. И состоит этот стереотип в убеж¬
дении, что традиция в науке есть нечто косное, инертное, что за¬
служивает только отрицания, а потому наука должна отвергать су¬
ществующую традицию как чуждый и враждебный ей элемент. И в
самом деле, традиция всегда так или иначе связана с признанием
некоторого авторитета, наука же, по определению, восходящему к
эпохе Просвещения, есть отрицание всяких авторитетов. И потому
современный исследователь, обращаясь к теме традиций в науке,
чувствует себя вынужденным вложить в это понятие смысл, прямо
противоположный тому, какой он вложил в понятие традиции при¬
менительно к культуре в целом, и прийти к заключению, что тра¬
диция в науке состоит в отрицании наличного знания.
Таков результат «революционной ментальности», сложившейся
в философии науки последнего периода. Получается, что культур¬
ная традиция — это традиция, а научная традиция — это револю¬
8
ция, понятая как акт отрицания — «до основанья, а затем». Види¬
мо, нам необходимо пересмотреть упрощенное представление о
традиции и авторитете, снять ту дихотомию «авторитет или ра¬
зум», которую мы унаследовали от Просвещения. Философия Но¬
вого времени, начиная с Декарта, стремилась к беспредпосылочно-
му мышлению и отвергала любые «предпосылки» как предрассу¬
док, а стало быть, ложь. В своем отвержении традиции просветите¬
ли в значительной мере были наследниками протестантской крити¬
ки предания, предполагавшей опору на личное, никем и ничем не
опосредованное общение с Богом и подготовившей ту апелляцию к
автономному разуму, на которой стояли XVII и XVIII века. Не по¬
ра ли нам сегодня избавиться от просветительского предрассудка,
благодаря которому традиция и авторитет выступают как главный
источник порабощения личности, лишающий ее свободы? Не пора
ли вернуть право гражданства традиции как в сфере культуры —
где, впрочем, она не была лишена его так радикально,— так и в
науке? Спросим себя вместе с Г.-Г. Гадамером: «Неужели действи¬
тельно пребывать внутри традиции, исторического предания озна¬
чает в первую очередь быть жертвой предрассудков и быть ограни¬
ченным в своей свободе?»19.
Свобода только в том случае противостоит всякому авторитету
и исторической традиции, если либо человек мыслится равным Бо¬
гу (как, например, у раннего Фихте, да и то не без оговорок) и со¬
ответственно его разум полагается бесконечным, либо же свобода
отождествляется с индивидуальным произволом — по принципу: я
так думаю не потому, что это истинно, а это истинно потому, что
так думаю (хочу) я.
В действительности же авторитет вовсе не антипод разума; по¬
длинный авторитет всегда основан на добровольном признании то¬
го, что данное лицо — будет ли это государственный деятель, ху¬
дожник, врач или ученый — превосходит в своем деле большинст¬
во других, обладает выдающимся умом, редкими способностями,
глубокими познаниями. Такое признание вовсе не означает отказа
от собственного разума, хотя, несомненно, предполагает в человеке
умение трезво оценить самого себя: не случайно же во всех обла¬
стях человеческой деятельности мы встречаем тип вечного ниспро¬
вергателя всех авторитетов. Однако людям этого типа редко выпа¬
дает на долю создать нечто равноценное тому, что они подвергают
отрицанию. Здесь я полностью присоединяюсь к суждению Гадаме-
ра, посвятившего немало своих работ осмыслению понятия тради¬
ции. «Авторитет личности,— пишет он,— имеет своим последним
основанием вовсе не акт подчинения и отречения от разума, но акт
признания и осознания,— осознания того, что эта личность превос¬
ходит нас умом и остротою суждения, а значит, ее суждения важ¬
нее наших, т. е. обладают большим достоинством, чем наши собст¬
венные. С этим связано и то, что никто не приобретает авторитета
просто так, что его нужно завоевывать и добиваться. Авторитет по¬
коится на признании и, значит, на некоем действии самого разума,
который, сознавая свои границы, считает других более сведущими.
9
К слепому повиновению приказам этот правильно понятый смысл
авторитета не имеет вообще никакого отношения. Более того, авто¬
ритет непосредственно не имеет ничего общего с повиновением, он
связан прежде всего с познанием (Erkenntnis)»20.
В свое время Ньютон на вопрос, как ему удалось создать гран¬
диозное здание своих «Начал», ответил: «Я стоял на плечах гиган¬
тов». «Плечи гигантов» — это и есть подлинная научная традиция,
и только дух отрицания — гордыня, столь, увы, характерная для
культуры Нового и особенно новейшего времени,— привел к тому,
что традиция стала пониматься в уничижительно-отрицательном
смысле. Разумеется, признание традиции в качестве необходимой
предпосылки нашего познания и творчества ограничивает притяза¬
ния отдельного индивида, ибо обнаруживает конечность и его разу¬
ма, и его возможностей; однако познание своих возможностей и
границ — первый шаг к мудрости: дух революционного прометеиз-
ма натворил немало бед в XX в., который войдет в историю как
эпоха «великого отрицания», принесения реальности в жертву уто¬
пиям. Традиция предполагает соединение многих, то, что
С. Н. Трубецкой называл «соборностью мышления»; это не абст¬
рактная всеобщность принципа, а живое единство многообразных
умов, их согласие, их взаимообогащение.
Неверно думать, что традиция есть нечто неподвижное и неиз¬
менное: традиция как всякая жизнь, она предполагает напряжение,
внутреннюю подвижность, единство инвариантного и вариативного.
Застывшая традиция как раз мертва, подобно мертвым языкам,
музейным экспонатам, деревьям, чьи корни вырваны из почвы. Эту
особенность традиции хорошо подметили в своей статье Н. И. Куз¬
нецова и М. А. Розов, попытавшись показать, что «противопостав¬
ление традиций и новаций не имеет под собой основания», по¬
скольку сама ситуация воспроизведения образца выступает в каче¬
стве генератора нового, учитывая всякий раз новый контекст восп¬
роизведения1 2*.
Проблема соотношения традиций и революций в науке, уточне¬
ние понятия «научная революция» и размышление о судьбах науч¬
ных традиций стали предметом рассмотрения авторов этой книги.
Толчком к ее написанию послужила конференция в Звенигороде в
апреле 1986 г., посвященная теме «Традиции и революции в нау¬
ке». Мы сознательно сделали установку на то, чтобы представить в
книге различные подходы и точки зрения; это отражает сегодняш¬
нюю ситуацию в философии и истории науки и в то же время сти¬
мулирует творческую мысль читателя, открывая перспективу даль¬
нейшей работы.
1 Лекторский В. А. Научная революция, понимание научности и проблема соци¬
ально-исторической роли науки // Научные революции в динамике культуры.
Минск, 1987. С. 358.
2 Эволюцию куновского понятия научной революции детально проанализировал
Тулмин Ст. См.: «Человеческое понимание» (М., 1984. С. 119—127). Критиче¬
ский анализ концепции Куна Т. дан Тулминым также в статье: Toulmin S.
Conceptual Revolutions in science // A Portrait of Twenty-five Jears. Dordrecht;
Boston-Lancaster, 1985. P. 58—74.
10
3 Тулмин Cm. Человеческое понимание. С. 127. Приведем контекст этого высказы¬
вания Тулмина: «Одно дело — восстановить связи, которыми раньше пренебрега¬
ли,— связи между концептуальными изменениями и их социоисторическими
контекстами; и совсем другое дело — полностью идентифицировать интеллекту¬
альные и тем более логические проблемы с социоисторическими».
4 Кун Т. Структура научных революций. М., 1975. С. 123.
5 Там же. С. 124—125. бфам же. С. 125-126.
7 Кун сам подчеркивает, что его постановка вопроса не предполагает обращения к
понятию истины; это понятие и в самом деле впервые появляется у него в конце
книги и никакой концептуальной нагрузки не несет (см.: Кун Т. Структура науч¬
ных революций. С. 214).
8 Там же. С. 135.
9 Cohen Bernard. Revolution in science. Cambridge (Massachusets); L., 1985. P. X.
10 Как справедливо отмечает В. С. Степин, «понятие научной революции до тех пор
будет трудно сделать работающим и полноценным, пока мы не поймем, что новое
видение реальности и новые нормативные структуры исследования могут склады¬
ваться поэтапно, когда каждый исследователь, внося определенные изменения в
тот или иной блок оснований научного поиска, перестраивает их как бы частично
и при этом не обязательно адекватно осознает и правильно оценивает последствия
сделанного. Исследователь может считать, что он не ломает традицию, а лишь
развивает ее» (Степин В. С. Научные революции как «точки» бифуркации в
развитии знания // Научные революции в динамике культуры. Минск, 1987.
С. 63—64).
11 Тулмин Cm. Человеческое понимание. С. 124. Нельзя не согласиться здесь с
А. П. Огурцовым, когда он отмечает: «...развернувшаяся вокруг этой книги дис¬
куссия (имеется в. виду куновская “Структура научных революций44. — Я. Г.)
привела к размыванию содержания понятия научной революции, к введению —
без каких-либо ясных критериев — “микрореволюций44, к выдвижению идей о
перманентной революции в развитии науки..» (Материалы «Круглого стола»
«Сущность и социокультурные предпосылки революций в естественных и техни¬
ческих науках» // Вопр. философии. № 8. 1985. С. 73).
12 Drake S. Galileo Studies: Personality, Tradition and Revolution. Michigan, 1970; King
M. D. Reason, tradition and progressivenes of science, in: History ana Theory. 1971.
Vol. 10. P. 30—32.
13 Вопр. философии. 1985. № 8. C. 88.
14 Подробнее об этом см. статью А. В. Ахутина, с. 84—108 настоящего издания.
15 Transformation and Tradition in the Sciences: Essays in Honor of I. Bernard Cohen /
Ed. by E. Mendelsohn. Cambridge: Cambridge Univ. press, 1984. P. 1.
16 Вопр. философии. 1985. № 8. С. 79.
17 Там же. С. 80. 18Там же.
19 Гадамер Г.-Г. Истина и метод. М., 1988. С. 329.
20 Там же. С. 332.
21 См. с. 60—84 настоящего издания.
Раздел I
НАУЧНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ:
ГЕНЕЗИС И ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОНЯТИЯ
А. II. ОГУРЦОВ
ИДЕЯ «НАУЧНОЙ РЕВОЛЮЦИИ»:
ПОЛИТИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ
И АКСИОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИРОДА
В статье рассматривается генезис понятия «научная рево¬
люция» в социально-политическом контексте французского Про¬
свещения второй половины XVIII в. Возникновение «революцион¬
ной ментальности» нашло свое выражение как в использовании
социально-политического языка, так и в стремлении постро¬
ить новую науку, новое искусство, новые ритуалы и т. д. С
этим связано и нигилистическое отношение к предшествующей
культуре.
В начале XX в. вновь социально-политический язык стал ис¬
пользоваться применительно к достижениям искусства, литера¬
туры, науки. Лишь один мыслитель XX в.— В. И. Вернадский
проводил мысль о том, что революции связаны с процессами,
разрушительными для культуры, и противопоставил ему поня¬
тие «взрыва научного творчества». Завершается статья анали¬
зом амбивалентности установок ученого на изменение и на со¬
хранение устойчивых, инвариантных принципов.
Язык науки пропитан метафорами. Их выявление, раскрытие
связей между метафорами, теоретическими моделями и построени¬
ями составляет одну из важных задач философии и методологии
науки. Некоторые философы науки XX в., в частности М. Хессе,
Г. Блюменбсрг, видят в исследовании роли метафор в научном зна¬
нии центральную задачу философии и говорят даже о необходимо¬
сти создания «метафорологии» — науки о метафоре1.
Пропитан метафорами и язык историко-научного описания и
исследования. Среди этих метафор важное место занимает метафо¬
ра «научной революции», «революционного переворота, совершен¬
ного или совершаемого в науке». Каковы источники этой метафо¬
ры? Когда она проникла в язык историко-научного описания? Ка¬
ково содержание, неотъемлемым образом связанное с этой метафо¬
рой и так или иначе выражающееся на этом языке описания? Ка¬
ковы те ассоциации, которые намеренно или ненамеренно влечет
за собой обращение к этой метафоре? Какова та «ментальность»,
которая прибегает в своей оценке прошлого или в своих самооцен¬
12
ках к такому метафорическому языку? Вот те вопросы, которые
возникают при философском исследовании языка историко-науч¬
ных работ и на которые мы попытаемся ответить в этой статье*.
В античной и эллинской мысли ведущей была идея вечного воз¬
вращения, вечного круговорота. Поэтому и изменения рассматри¬
вались как циклические изменения. Изменения в государственном
устройстве также мыслились по образу и подобию вечного круго¬
вращения небесного свода. Идея цикличности изменений присуща
Платону. Полибий говорит о круговороте государственных форм,
который обусловлен их неустойчивостью. Цицерон в диалоге «О
государстве» принял и популяризировал концепцию циклических
изменений государственных форм. Он подчеркивал: «...изумитель¬
ны бывают круги и как бы круговороты перемен и чередований со¬
бытий в государстве»2. В другом месте он называет основой «госу¬
дарственной мудрости» особенность «видеть пути и повороты в
делах государства», распознавать «тот круг, естественное дви¬
жение и оборот, которого вам следует научиться узнавать с самого
начала»3.
Вместе с тем в античной мысли формировалась и другая ли¬
ния — линия изучения различных форм государственных перево¬
ротов, их причин и характера, связанных с ним разрушений и т. д.
Начало этой линии положил Аристотель, который в пятой книге
«Политики» большое внимание уделил анализу этих проблем5.
Собственно термин «революция» для обозначения государствен¬
ного переворота, изменений в правительстве, в социально-полити¬
ческом устройстве стал употребляться в эпоху Возрождения. Не¬
прерывная политическая борьба за власть, смена одних правителей
другими, войны одних династических партий с другими — вот та
реальность, в которой жили мыслители Возрождения,}Так, для Ма¬
киавелли сама возможность переворота в государственном устрой¬
стве является свидетельством свободы человека. В противовес идее
божественного предопределения он пытается указать взаимосвязь
фатума и свободы воли человека, необходимости и свободы. В за¬
ключительной XXVI главе «Князя» он, подчеркивая, что «бог не
хочет совершить все, чтобы не лишать нас свободной воли и части¬
цы славы, выпадающей на нашу долю», замечает, что «после
стольких переворотов и войн всегда кажется, что иссякла боевая
доблесть Италии. Это происходит от того, что ее старые учрежде¬
ния не годились и не было никого, кто сумел бы даровать ей но¬
вые»6. В этом же смысле употребляет слово «революция» и Гвич¬
чардини, характеризуя перемену правления во Флоренции и отме¬
чая, что она «заставляет тебя вечно терзаться страхом новых изме¬
нений»7.
■Английская революция XVII в., завершившаяся реставрацией
Стюартов, возродила интерес к идее цикличности государственно¬
политических изменений. Противоборство идеологии вигов и тори,
* Громадным подспорьем в этой работе мне послужило фундаментальное исследова¬
ние И. Б. Коэна, хотя наши позиции различны4.
13
формирование радикально-уравнительных течений — от левелле¬
ров до диггеристов, победа «славной революции» 1688 г. и идеоло¬
гии компромисса — все это, конечно, нашло свое отражение в ин¬
терпретации термина «революция», в семантических сдвигах, кото¬
рые сопровождали политическую терминологию,/Так, политиче¬
ский консерватизм Д. Свифта нашел свое отражение в его издева¬
тельстве над «великим переворотом» в одежде, который им описы¬
вается в острогротескной «Сказке о бочке»8. Идея цикличности по¬
литических изменений отчетливо выражена Д. Локком*. Болинб-
рок, будучи ведущим идеологом тори, отмечал, что XVI век изоби¬
лует великими событиями и неожиданными переворотами, и особо
выделял «славную революцию», называя ее «великой переменой в
характере собственности и власти»9. Д. Пристли в лекциях по
истории и общей политике сопоставлял революции, осуществ¬
ленные в Англии, Франции и Америке10. В середине XVIII в.
термин «революция» стал употребляться для описания не толь¬
ко политических изменений, но и радикальных изменений в сис¬
теме образования и знания. Так, С. Джонсон говорит о Буало как
о человеке, который осуществил революцию в разных областях
знания. К. Маклорен в работе, посвященной открытиям И. Ньюто¬
на, проводит мысль о том, что в истории учености и образования
за последние годы имели место многообразные изменения11. Имен¬
но к середине XVIII в. происходит расширение смысла термина
«революция» и он стал широко употребляться при оценке научных
инноваций.
К середине XVIII в. в общественном сознании Франции проис¬
ходят существенные сдвиги — все сословия заговорили о револю¬
ции. Для одних она была знаменем, для других — пугалом. Но не¬
сомненно, что начиная с 1751 г. революция стала символом обще¬
ственных настроений всех сословий, все ощущали необходимость
изменения политического порядка во Франции, революция была
самым обычным предметом разговора между мыслящими людьми.
Министр иностранных дел при Людовике XV Р.-Л. В. Аржансон
писал в своем дневнике в 1753 г.: «Все умы обращены к недоволь¬
ству и неповиновению. Все идет к великой революции и в религии
и в правлении. Это будет не то, что грубая реформа, смешанная из
суеверий и свободы, пришедшая к нам в XVI в. Так как образо¬
вание нашей нации и нашего века теперь иное, то пойдут до
конца»13. В мае 1757 г. он оставляет следующую запись в днев¬
нике: «Только и говорят что о необходимости близкой револю¬
ции, вследствие дурного состояния внутреннего управления...
Но переход к новому устройству путем революции трудное и не¬
приятное дело, ибо может произойти лишь через мятеж»14. И чуть
позднее: «Все сословия недовольны... Бунт может перейти в возму¬
* «Люди не так легко отказываются от старых форм, как это могут предположить...
Эта медлительность народа и его нежелание отказываться от старых порядков
привели к тому, что после многих революций, происходивших в этом королевстве
в наш век и в прошлые века... вновь к нам вернулась наша старая законодатель¬
ная система — король, палата лордов и палата общин...*12.
14
щение, а возмущение стать полной революцией... Пусть не гово¬
рят, что нет более людей исполнить такие значительные перемены.
Пожар охватил бы всю нацию...»15
Слова «революция», «новое», «новизна» стали наиболее модны¬
ми в предреволюционной Франции. Вольтер говорит о переворотах,
которые происходят как в области мнений, так и в империях16.
Этот культ революции неразрывно связан с культом новизны, со
всеобщим пристрастием к новизне, в которой Вольтер видит «бла¬
годеяние природы»17. Руссо, полагая, что «каждый переворот в со¬
ставе кабинета министров производит переворот в Государстве»18,
проводит мысль о том, что «и в истории Государств бывают бурные
времена, когда перевороты действуют на народы так же, как неко¬
торые кризисы на индивидуумов»19. Сравнивая перевороты с бо¬
лезнями человека, он отмечает, что из болезни социальной орга¬
низм выходит с новыми силами, освобождаясь из рук смерти. Ре¬
спублика, по его мнению, предпочтительнее монархии хотя бы по¬
тому, что в последней отсутствует непрерывная преемственность,
непрерывная связь между различными формами правления. Вместе
с тем Руссо распространяет термин «революция» и на духовную де¬
ятельность человека. Так, он замечает, что искусство добывания и
обработки металлов и земледелие произвели «огромный переворот»
в человеческой жизни и в общественных отношениях — возникло
неравенство, появилась собственность, вместе с урожаем выросли
рабство и нищета20. Тюрго говорит о переворотах в мнениях, нау¬
ках, искусствах, особо подчеркивая значение Декарта, который, по
его оценке, «задумал и совершил переворот в философии»21. Кон¬
дильяк же видел в философии Ф. Бэкона переворот, совершенный
в научном методе22.
Итак, уже в середине XVIII в. на волне всеобщего ожидания
революции, кардинальных политических изменений во Франции
возникает социально-психологическая атмосфера, позволяющая го¬
ворить не только о государственной революции, но и о революции
в искусствах и науках.
Кардинально изменились и нравы в предреволюционной Фран¬
ции. «Все для наслаждения; но наслаждснп" ИЗЯЩНОГО; свобод™?™?
от всего грубого и бурного,— таков девиз французского общества
старого порядка. Вихрь легкомыслия, ни на чем серьезно це оста¬
навливающегося, скептически смотрящего на все, но исполненного
тончайшей игры образованного ума и остроумия, ищущего сказать
что-нибудь еще не сказанное и неожиданное, кружил все умы.
Жизнь шла как пир, как ужин в веселом изящно-вольном обще¬
стве, без мысли о том, как и какими средствами изготовлен этот
пир, кто будет за него платить»23.
Многие историки предреволюционной французской культуры
говорят о «революции чувственности» в предгрозовые годы и нахо¬
дят ее не только в смене классицизма рококо и сентиментализмом,
не только в возникновении нового художественного стиля, в кото¬
ром вместо помпезности и геометрической правильности линий до¬
минируют каприз, прихоть, асимметрия и который пронизывает
15
все формы культурного творчества — от архитектуры до модной
одежды, но и в «революции» в отношениях между полами.
К середине XVIII в. возникла не только «революционная идео¬
логия», не только «новая чувственность», но и новая, «революци¬
онная ментальность». Историческая школа «Анналов» сделала сво¬
им предметом изучение «ментальности» на разных этапах истории
французского общества, т. е. различные типы отношений человека
к семье, детям, любви, сексуальности, смерти. В работе, специаль¬
но посвященной «революционной ментальности», представитель
школы «Анналов» М. Вовель24 показывает, как складываются наи¬
более характерные черты «революционной ментальности» — страх,
насилие и разрушение. Из культа и романтизации народа, из мис¬
тики безграничного единства и братства с самого начала револю¬
ции выглядывает постоянный страх, выраженный в мифе о загово¬
ре аристократов, в непрерывном поиске «врагов народа» и предате¬
лей, в терроре, который представляет собой уже организованный,
управляемый, контролируемый страх, сознательно внушаемый не
только врагам свободы, но и всем гражданам. Одной из важных
черт «революционной ментальности» Вовель считает установку на
разрушение, на тотальное уничтожение прошлого. Такого рода ни¬
гилистическая установка выражается и в подчеркивании «поворот-
ности» переживаемого момента, и в радикальности и мгновенности
разрушения старого, и в необратимости и непобедимости револю¬
ции. Новое сознание воплощается и в героизации участников рево¬
люции, в создании новых праздников и новой религии, в стремле¬
нии сформировать новое летоисчисление, новые ритуалы, новую
символику и т. д.25
Идея научной революции
в историографии Просвещения
Философская и историческая мысль просветителей была насы¬
щена социологическими и политическими метафорами и идеями.
Если можно говорить о социальной философии Просвещения, то
просветители делали акцент именно на социальной философии.
Знание стало рассматриваться в социальном и, более того, в поли¬
тическом контексте: в нем стали усматривать идеологическое ору¬
жие социально-политических групп, непримиримо альтернативных
и существующих в непрерывной борьбе друг с другом; знание ока¬
залось сведено к идеологии и трактовалось как выражение группо¬
вых интересов; альтернативная идеология, а точнее, знание, пред¬
ставленное иной группой, отождествлялось с предрассудками, пред¬
убеждениями и неадекватным знанием, от которых необходимо от¬
казаться во имя прогресса науки. Можно даже сказать, что просве¬
тители развернули одну из первых концепций социологии знания,
обратив внимание и на идеологический статус знания, функциони¬
рующего в социально-политической борьбе, и на реально существу¬
ющую связь между формами знания и социальными группами, и
на включенность различных форм знания в противоборство соци¬
16
альных групп и институтов. Именно в эпоху Просвещения роди¬
лась социология литературы и социология искусства. В эту же эпо¬
ху родилась и социология знания, в том числе и социология науч¬
ного знания. Причем необходимо отметить, что социология еще не
выработала свой собственный концептуальный аппарат — для это¬
го потребовалось более двух столетий, она заимствовала его из по¬
литической идеологии своего времени. Не будет преувеличением
сказать, что социология просветителей была политической соц¬
иологией, т. е. социологией, не просто использующей политический
язык своего времени, а укорененной в политическом мышлении, в
политическом способе объяснения, политических моделях и кон¬
цепциях.
Одним из свидетельств укорененности гносеологии просветите¬
лей в социально-политическом мышлении может служить исполь¬
зование идеи революции не только в политическом контексте, но и
для характеристики радикальных сдвигов в духовной культуре, в
том числе и в науке. Такое расширение семантики слова, ранее
применявшегося почти исключительно в политическом смысле,
обусловлено, конечно, тем, что интеллектуалы Франции и Герма¬
нии были непосредственно включены в социальные, политические
и идеологические конфликты своего времени, были непосредствен¬
ными участниками политической и идеологической борьбы. Само
собой разумеется, что политизация их мышления не могла пройти
бесследно, не могла не сказаться на их интерпретации научного
мышления. Понятие «научная революция» и концепция научной
революции, развернутая просветителями Франции и Германии, бы¬
ли одной из тех проекций, которые обязаны своим возникновением
социолого-политическому способу исследования как социальной,
так и культурной жизни.
/ Использование идеи научной революции в гносеологии w исто¬
риографии Просвещения оказалось тесно связанным с идеей науч¬
ного прогресса. Идея прогресса была наиболее фундаментальной в
социальной философии и гносеологии Просвещения. Объединение
этой идеи с идеей научной революции, осуществленное в историо¬
графии Просвещения, означало, что сам прогресс здесь не интерп¬
ретируется сугубо кумулятивистски. В качестве одного из своих
моментов прогресс, в том числе и прогресс научного знания, вклю¬
чал и революционные сдвиги в научном знании. Конечно, создание
такого рода усложненных гносеологических моделей развития зна¬
ния потребовало определенного времени. На первых порах научная
революция связывалась с уже прошедшими сдвигами в научном
знании и использовалась для ретроспективной оценки происшед¬
ших изменений в науке^ Так, защитник картезианской физики
Б. Фонтенель называл исчисление бесконечно малых революцией в
математике, подчеркивая выдающуюся роль И. Ньютона в разви¬
тии математики. А. Клеро связывал с «Математическими начала¬
ми натуральной философии» Ньютона революцию в механике.
Иными словами, на первом этапе термин «научная революция» ис¬
пользовался прежде всего для оценки выдающихся открытий и кон¬
17
цепций прошлого, и особенно тех, которые были связаны с именем
Ньютона.
На следующем этапе этот термин использовался уже для оцен¬
ки выдающихся открытий и теорий, созданных современниками.
Тем самым идея научной революции оказывается одновременно и
способом самооценки, поскольку ученый, использующий эту тер¬
минологию, принадлежит к научному сообществу, принимающему
новую, революционную концепцию, способом отождествления себя
с определенным научным сообществом, осуществляющим переворот
в основаниях науки. Само собой разумеется, в революционных
сдвигах, фиксируемых в развитии знания, обращается внимание
или на разрушительную, или на преобразующую силу этих изме¬
нений. В акценте на тот или иной характер кардинальных измене¬
ний в развитии науки нельзя не видеть отражения определенных
социально-политических позиции) и установок — от умеренно-кон¬
сервативных до безоглядно революционных. Так, Тюрго уподобля¬
ет революции пожарам, после которых остаются бесформенные
стволы, лишенные ветвей и листьев, без цветов и убранства. По
его словам, революции прерывают прогресс, в том числе и науч¬
ный26. Даламбер в своем предисловии к «Энциклопедии», написан¬
ном в 1751 г., связывает революцию с разрушением старого в нау¬
ке. Но уже Дидро в статье «Мысли об объяснении природы», напи¬
санной в 1753 г., писал: «Мы приблизились ко времени великой ре¬
волюции в науках»27. Правда, и у него сохраняется мысль о том,
что «прогресс в науках так часто задерживается вследствие перево¬
ротов; целые века исследований тратятся на то, чтобы восстановить
знание прошлых веков»28. В том же 1753 г. Г. Венель публикует в
третьем томе «Энциклопедии» статью «Химия», где говорит о гря¬
дущей революции в химии и характеризует ряд научных открытий
в химии прошлого как революционные (например, концепцию Па-
рацельса и др.).
«Очевидно,— писал Венель,— что революция, которая дала бы
химии достойное ее положение... могла бы быть осуществлена
лишь химиком искусным, преисполненным усердия и отваги, кото¬
рый, очутившись в удачной ситуации и умело воспользовавшись
счастливыми обстоятельствами, смог бы привлечь к себе внимание
других ученых поначалу блеском своих обещаний, потом реши¬
тельностью и убедительностью своих суждений, а затем и силой
своих аргументов, с самого начала разрушая существующие пред¬
рассудки»-29. Как мы видим, используемая здесь терминология для
описания будущей научной революции заимствована из политиче¬
ской жизни и связывает революцию в химии с завоеванием внима¬
ния научного сообщества, с разрушением предрассудков и с опре¬
деленными психологическими характеристиками научного лидера
(отвагой, решительностью, блеском обещаний и пр.).
Просветители приходят к утверждению зависимости истинного
знания от интересов людей. Так, Гольбах полагает, что «люди со¬
мневались бы в достоверности эвклидовых “ Начал“, если бы этого
требовали их интересы»30. Такой подход позволил им осознать со¬
18
циальные истоки знания, фиксировать социокультурные характе¬
ристики знания. Однако вместе с этим был подорван статус все¬
общности, необходимости и объективности истины, которая оказа¬
лась целиком зависимой от социально-групповых интересов и стра¬
стей людей.
Просветители смогли осознать ряд социологических особенно¬
стей отношения к истине в той или иной социокультурной среде,
описать изменения в отношении к истине, обусловленные измене¬
ниями в социально-групповых интересах. По сути дела, научная
революция связывалась ими со сменой групп, отдающих приоритет
той или иной научной идее. Так, Дидро писал: «У истины, добра и
красоты свои п ша. Сначала их оспаривают, но в конце концов
ими восхищаются... но кончается тем, что вызывают зевоту»31.
Правда, здесь Дидро говорит устами релятивиста Рамо, но в этой
мысли выражено социологическое рассмотрение знания, характер¬
ное для всех просветителей.
Модель завоевания общественного мнения, принятия и отвер¬
жения им новых идей — вот существо интерпретации научной ре¬
волюции просветителями. Отношение к новым идеям со стороны
общественного мнения циклично, оно проходит циклы от востор¬
женного отношения до полного неприятия. Именно цикличность
отношения общественного мнения к новым научным идеям и по¬
зволила просветителям обратиться к термину «революция», имев¬
шему значение периодических или квазипериодических событий,
происходящих за определенный период времени, в течение которо¬
го повторяющиеся явления проходят полный круг своего развития.
В 50-е годы XVIII в. именно модель циклов общественного мнения
была положена просветителями в основу анализа переворотов в на¬
уке. Дидро в той же работе «Мысли об объяснении природы» пи¬
сал: «Когда возникает новая наука, все умы обращаются в ее сто¬
рону; причиной этого является исключительный интерес общества
к основоположникам этой науки. Мгновенно новая наука начинает
разрабатываться бесчисленным множеством самых разнообразных
лиц. Это либо светские люди, которых угнетает их праздность, ли¬
бо перебежчики, которые воображают, что они составят себе имя
благодаря модной науке,— ради нее они бросают другие науки, в
которых они тщетно искали для себя источник славы; одни из но¬
вой науки составляют себе профессию, других влечет к этой науке
склонность. Благодаря таким объединенным усилиям наука доволь¬
но быстро доходит до пределов своего развития, но по мере того,
как эти пределы расширяются, престиж науки постепенно снижа¬
ется. Уважение продолжает оказываться лишь тем, кто выделяется
своим значительным превосходством. Тогда толпа рассеивается... В
науке остаются только торгаши... и несколько гениальных лю¬
дей»32. Здесь отчетливо выражена модель завоевания общественно¬
го мнения как основная характеристика революции, осуществляю¬
щейся в умах людей.
Эта модель признания идеи со стороны общественного мнения
отстаивается и Гельвецием. Проводя мысль о том, что «познание
19
истины всегда полезно», что «единственной силой, движущей нас,
является интерес»33, он обращает внимание на ряд циклов в соци¬
альном признании той или иной идеи. На первом этапе ученый,
выдвинувший идею, сталкивается с непониманием и неприязнью.
По словам Гельвеция, «кто говорит истину, несомненно, обрекает
себя на преследование». «Истина,— подчеркивает он,— как пока¬
зывает опыт, медленно завоевывает признание»34. В качестве при¬
меров, иллюстрирующих медленность признания истины со сторо¬
ны научного сообщества, он приводит историю признания теории
кровообращения Гарвея медицинским сообществом Парижского
университета через 50 лет после ее создания. На социологическом
языке Гельвеций описывает процесс признания научных идей и
распространения научных истин: «Новая истина ...всегда идет враз¬
рез с какими-нибудь общепринятыми обычаями или взглядами;
вначале у нее немало сторонников, ее называют парадоксальной,
считают заблуждением и отвергают, не выслушав се... Каким же
образом новый взгляд достигает всеобщего признания? Если выда¬
ющиеся умы убедились в истине его, то они опубликовывают его, и
эта истина, провозглашенная ими, становится с каждым днем более
известной, признается под конец всеми, но лишь долгое время спу¬
стя после своего открытия»35.
Революции в общественном мнении Гельвеций противопостав¬
ляет реформы в науках, которые он связывает со сменой поколе¬
ний. Выделив в составе каждого поколения четыре группы людей
различного возраста, в том числе людей зрелого возраста, многие
из которых уже предчувствовали и одобрили предлагаемые рефор¬
мы, и стариков, для которых всякая перемена взглядов и привычек
действительно невыносима, Гельвеций подчеркивает, что реформа
в нравах и науках не принимается старшим поколением с укоре¬
нившимися привычками и взглядами. Рассматривая социальные ас¬
пекты распространения научных идей, Гельвеций непосредственно
прибегает к социально-политической терминологии, к языку, кото¬
рым описывалась политическая борьба различных групп. Так, гово¬
ря о периоде гонений на истину, он замечает, что даже в эти пери¬
оды «у истины всегда остаются скрытые сторонники. Это, так ска¬
зать, своего рода заговорщики, всегда готовые при случае высту¬
пить за нее»36. Признание научной идеи он связывает с наличием
власти у той или иной группы ученых, а реформу науки — с изме¬
нением тех групп, которые стоят у кормила власти.
Эта же модель циклов в восприятии научных идей, в смене
возрастных когорт и социальных групп, отдающих приоритет той
или иной научной теории, лежит в основе анализа Даламбером
развития физики во Франции, осуществленном им во введении к
«Энциклопедии». Исходная мысль Даламбера может показаться
парадоксальной: «...великие люди... совершили переворот в науках
не при своей жизни»37. Однако если вспомнить о том, что у него,
как и у всех просветителей, речь идет о восприятии научной тео¬
рии, а не о реальном содержании научных открытий и теорий, то
эта мысль станет понятной. Говоря о противоборстве картезианской
20
и ньютонианской физик, он отмечает, что во Франции долгое вре¬
мя господствовала картезианская физика, что «нет еще тридцати
лет, как во Франции начали отказываться от картезианства»38.
Цикличность распространения научных идей и теорий связыва¬
ется Даламбером со сменой поколений, вступающих в науку. Цикл
начинается с непризнания современниками новой научной теории
и завершается формированием научного направления после смерти
его создателя: «...светлые личности, стоящие часто на слишком не¬
досягаемой для своего века высоте, почти всегда работают непроиз¬
водительно для своей эпохи, только следущие поколения призваны
собирать плоды их знаний»39. Переворот в науках Даламбер связы¬
вает не столько с новой научной идеей и теорией, сколько с обес¬
печением ее поддержки новым поколением ученых. Для молодого
поколения ученых, не являющихся приверженцами устаревшей те¬
ории и не входящих в секту ее последователей, «все одинаково но¬
во, они заинтересованы только в хорошем выборе»40, в осуществле¬
нии обоснованного выбора между научными теориями. С этого и
начинается революция в науке.
В предреволюционные годы, а именно в 70—80-е годы, термин
«революционный переворот в науке» использовался в большей сте¬
пени применительно к открытиям прошлого. Так, Ж. Байи в своей
истории древней и новой астрономии, вышедшей в начале 80-го¬
дов, называл революционным усовершенствование астрономиче¬
ских инструментов, приведшее к открытиям новых явлений. Прав¬
да, для него наиболее важной была идея непрерывного прогресса
астрономии. «Идеи постепенно накапливаются, порождают друг
друга, одна производит другую»41. В третьем томе «Истории совре¬
менной астрономии», вышедшем в Париже в 1782 г., Байи подчер¬
кивает : «...астрономия медленно-медленно развивается, непрерыв¬
но приближаясь к природе подобно тому, как ассимптотические
линии все более и более приближаются к кривой, но никогда не
коснутся ее»42. Надо заметить, что Байи был далек от какой-либо
революционной политической идеологии, не принял якобинской ре¬
волюции, за что и был гильотинирован 12 ноября 1793 г.
Еще одним примером может служить Ж. Кондорсе. В своих ра¬
ботах 80-х годов он достаточно широко использовал термин «науч¬
ная революция». Так, в частности, он оценивал значение работ
Галлера для анатомии, исследований Даламбсра для развития фи¬
зико-математических наук, трудов Л. Эйлера для развития матема¬
тики. Активный участник революционных событий во Франции,
вынужденный скрываться после того, как Конвент 8 июля 1793 г.
издал декрет о его аресте, и покончить с собой в тюрьме 29 марта
1794 г., Кондорсе оставляет известный «Эскиз исторической карти¬
ны прогресса человеческого разума» где вся история человеческого
разума подразделяется на десять периодов, или эпох. Тем самым
развитие человеческого разума мыслится им отнюдь не кумуляти-
вистски; он обращает внимание на неравномерность прогресса ра¬
зума и на разрывы постепенности, представленные в переходе от
одного периода к другому. Сциентистский оптимизм Кондорсе, его
21
уверенность не просто в совершенствовании научных методов и в
росте богатства научных результатов, но и в прогрессе приложения
наук к социальной жизни особо чувствуются в его анализе совре¬
менного ему состояния наук и будущего человечества. По его мне¬
нию, формирование точного, аналитического метода, перестройка
всех наук на базе аналитического и математического методов, гря¬
дущая революция в химии приведут к социальному, моральному и
материальному благосостоянию человечества. Он писал: «Мы при¬
ближаемся к великой революции в приложении физических и хи¬
мических наук к потребностям и к счастью людей»43. Идея науч¬
ной революции дополняется здесь идеей революции в приложении
различных наук к материальной и социальной жизни человечества.
Именно с применением научных результатов в общественной жиз¬
ни Кондорсе связывает победу человеческого разума и утверждение
такого общественного состояния, «когда солнце будет освещать
землю, населенную только свободными людьми, не признающими
другого господина кроме своего разума»44. Иными словами,
Кондорсе построил оптимистически-сциентистскую утопию, где
разуму приписывалась решающая, детерминирующая роль в соз¬
дании нового социального строя, новой промышленности, но¬
вой нравственности, новой системы образования, в утвержде¬
нии идеалов братства, равенства и свободы. В историографиче¬
ском и философско-историческом этюде Кондорсе революцион¬
ная терминология используется для описания и оценки науч¬
ных результатов ученых прошлого и современности, в частно¬
сти открытий Даламбера, для характеристики приложения науки
в будущем.
Иной аспект в использовании терминологии «научной револю¬
ции» связан с именем Лавуазье, который, отдавая отчет о характе¬
ре осуществляемой им систематизации химии и химических ве¬
ществ, называл предложенную им теорию революцией в химии.
Можно сказать, что для Лавуазье и его ближайших учеников ис¬
пользование этой терминологии было способом самооценки, фор¬
мой идентификации себя как школы в противовес существовавшим
школам, фиксации научной значимости предложенного преобразо¬
вания. Конечно, нас не может не поражать то обстоятельство, что
способ самооценки и идентификации Лавуазье и его ближайших
сотрудников (Бертолле, де Морво, Фуркруа) как научной группы,
противостоящей по своим идеям предшествующей науке и всем су¬
ществовавшим научным группам, совпал с объективным содержа¬
нием открытия, действительно совершившего революционный пере¬
ворот в развитии химии. Однако хотелось бы заметить, что Лаву¬
азье использует эту терминологию, еще не начав своих исследова¬
ний. Уже 20 февраля 1773 г., набрасывая в своем дневнике про¬
грамму экспериментальных работ, которая формулируется им сле¬
дующим образом: «...связать все, что известно о воздухе... с други¬
ми приобретенными знаниями и создать теорию», он замечает:
«Важность проблемы заставляет меня заново взяться за всю эту
работу, которая, как мне кажется, должна вызвать революцию в
22
физике и химии»45. В работах своих предшественников Лавуазье
видит «разрозненные части большой цепи», причем «некоторые
цепи уже соединили, но остается еще проделать огромное коли¬
чество систематических опытов, чтобы сформировать нечто непре¬
рывное»46.
2 февраля 1790 г. Лавуазье пишет В. Франклину, характеризуя
положение химии после выхода «Начального курса химии» (1789):
«Мне кажется, что химия, представленная в этом виде, гораздо
проще, чем старая химия, и молодые люди, головы которых не за¬
няты еще никакой системой, с большой жадностью схватывают эту
новую доктрину. Но им она кажется простою, между тем как ста¬
рые химики ее отвергают и испытывают даже больше трудностей
при восприятии этой новой доктрины, чем все те, кто вообще не
изучал химии. Французские ученые разделены в этот момент меж¬
ду старой и новой доктринами. На моей стороне г. де Морво, г.
Бертолле, г. де Фуркруа, г. Де ла Плас, г. Монж и вообще физики
в Академии. Ученые Лондона и Англии также незаметно покидают
доктрину Шталя, но немецкие химики прочно держатся за нее. Вот
такова революция, которая совершилась в химии». И далее Лаву¬
азье продолжает: «Я буду считать эту революцию далеко продви¬
нувшейся и даже вполне законченной, если и Вы присоединитесь к
нам. А теперь, когда Вы осведомлены о ситуации в химии, можно
рассказать Вам и о нашей политической революции. Мы считаем,
что она свершилась необратимо. Все еще существует аристократи¬
ческая партия, несомненно, слабейшая, все усилия которой тщет¬
ны. Демократическая партия гораздо многочисленнее и на ее сто¬
роне большая часть профессоров, философов и всех образованных
людей»47.
Обращает на себя внимание параллель между научной и поли¬
тической революциями. За нею, очевидно, достаточно четкое осоз¬
нание того, что противоборство различных групп в науке и полити¬
ке приводит к смене авторитетов и власти, что утверждение одной
«партии» и в науке, и в политике связано с ростом числа ее сто¬
ронников. Причем революцию в химии Лавуазье связывает прежде
всего с принятием новой теории молодым поколением, новыми
группами ученых. Эта же мысль выражена им в письме к
Ж. А. Шапталю (1756—1832): «Только пожилые люди, которые
уже не имеют мужества переучиваться или не могут заставить свое
воображение подчиниться новому порядку вещей, придерживаются
учения о флогистоне. Вся молодежь приняла новую теорию, и из
этого я заключаю, что революция в химии завершена»48.
Ученик Лавуазье Фуркруа пишет в 1795 г. статью «Химия» для
методической энциклопедии, которая представляет собой скорее
очерк по истории химии. В ней он говорит о процессе преобразова¬
ний, которые претерпела химия, «начиная с 1751 г. и далее через
1766 и 1772 гг. вплоть до 1788 г., когда ее пути более или менее
определились; ныне химия стала совершенно новой наукой, абсо¬
лютно непохожей на то, чем она была до этой славной револю¬
ции»49.
23
Пристли, оставшийся приверженцем теории флогистона, при¬
знал в 1796 г., что «предпочтение, оказанное тому, что называют
новой системой химии, над доктриной Шталя... произвело одну из
тех революций, каких мало в истории наук, если вообще можно
найти подобную ей»50. Итак, и сам Лавуазье, и его ученики ис¬
пользовали социально-политическую терминологию при анализе
тех преобразований, которые произошли в химии. Борьбу различ¬
ных концепций в химии они связывали с различными возрастными
когортами ученых, с различными группами ученых, разделяющих¬
ся даже по странам. Завершение научной революции — с победой
одной из теорий и с признанием ее более широкой группой, прежде
всего научной молодежью. Сам Лавуазье был далек от якобинской
идеологии. Он, правда, признал революцию и принял самое актив¬
ное участие в осуществлении тех социальных заказов, которые вы¬
двинуло перед Академией наук революционное правительство, в
частности в подготовке реформы мер и весов, в создании военно¬
оборонных мануфактур, выпускавших порох, и др.
Ужасы террора, репрессии в отношении ученых, контрнаучные
настроения, широко распространенные во Франции этого времени,
постепенно привели к отрезвлению ученых, к осознанию ими того,
что революции не самые продуктивные периоды в истории мысли,
что разрушение, неразрывно связанное с революционными катак¬
лизмами, губительно для жизни науки, для прогресса человеческо¬
го разума. Революциям начинают противопоставляться реформы. В
политических установках ученых возобладают ориентации на за¬
конность, стабильность и реформы. Этот поворот в сознании уче¬
ных чувствуется, например, в анализе Кабанисом истории медици¬
ны. В книге «Взгляд на революции и на реформу в медицине», на¬
писанной в 1795 г., но вышедшей в 1804 г., он рассматривает раз¬
витие медицины как последовательность революций, сменяющихся
периодами реформ. В революционные периоды, согласно Кабанису,
в медицине создаются системы, которые охватывают и обобщают
все известные факты и претендуют на исключительное обладание
истиной. Однако в отличие от предшествующих мыслителей он
считает наиболее плодотворными периодами в развитии медицины
не революционные, а реформационные периоды*1.
В сознании ученых начала XIX в. все более и более утвержда¬
ется иная ценностная ориентация, а именно стремление укоренить
науку и философию в традициях прошлого, возвратить знание к
его истокам, которые усматривались в мифах и религиозном опыте
прошлого. Эта ценностная периориентация нашла свое выражение
в различных ретроидсологиях, и в частности в романтической фи¬
лософии, стремившейся возродить религиозно-мифологические ис¬
токи рационального знания, вывести философию и науку из тради¬
ционного знания. Так, один из немецких романтиков — Й. Геррес
писал: «...Вся европейская культура покоится на греческой, а гре¬
ческая — на азиатско-мифической. Как поначалу боги достались
грекам оттуда, так впоследствии великие картины мира... И точно
так же, как вся европейская история покоится на азиатской, так и
24
духовное развитие во всех своих формах искусства и науки, да и
сама жизнь восходят к азиатскому мифу и могут быть полностью
поняты только на основании его»52*. Эти же идеи отстаиваются
как немецкими (Ф. Шлегель, Новалис, Л. Тик), так и французски¬
ми романтиками (Ф. Р. Шатобриан, Ж. де Мсстр). Тяготение к
традициям христианской мысли, подчеркивание единства рацио¬
нального знания и религии, одухотворение природы — вот те но¬
вые установки, которые принесло с собой романтическое мировозз¬
рение. Оно с самого начала противостояло духу «революционариз-
ма» и просвещения. В противовес просветителям, использовавшим
социально-политический язык при анализе прогресса человеческого
разума, романтики обращались скорее у языку теологии при ос¬
мыслении изъянов рационалистического знания. Подчеркивая необ¬
ходимость синтеза религии и знания, они делали акцент на теоло¬
го-религиозных традициях европейской культуры и усматривали
основную задачу нового периода в истории европейской культуры в
возвращении к религиозным ее истокам. Само собой разумеется,
что подобные мировоззренческие ориентации полностью исключали
социально-политическую и социологическую терминологию при
изучении движения культуры и ее различных форм.
Идея культурной и научной революции
в начале XX в.
начале XX в. ситуация повторилась. Социально-политиче¬
ским язык в оценке значимости культурных достижений вновь стал
модным и даже решающим. Метафора «революция» стала исполь¬
зоваться применительно к достижениям искусства, литературы, на¬
уки. Возникает новая революционная ментальность, которая исхо¬
дит из необходимости полного обновления мира, разрушения всей
прошлой культуры и создания принципиально новой культуры?
Наиболее четко эта революционная ментальность выразилась в ма¬
нифестах новых художественных и литературных направлений.
Так, Ф. Т. Маринетти в «Первом манифесте футуризма», написан¬
ном в 1909 г., провозглашал: «Давайте-ка саданем хорошенько по
вратам жизни, пусть повылетают напрочь все крючки и засовы!
Вперед! Вот уже над землей занимается новая заря!.. Да здравству¬
ет война — только она может очистить мир. Да здравствует воору¬
жение, любовь к Родине, разрушительная сила анархизма, высокие
идеалы уничтожения всего и вся!»54 По замыслу Маринетти футу¬
ризм «перевернет и спалит весь мир»55, расчистит Италию от му¬
* В религии видит животворное начало культуры и Ж. де Местр. Описывая науку,
он противопоставляет ей религию: «Ее (науки.— Лет.) руки нагружены всевоз¬
можными книгами и инструментами, она бледна от труда и бессонных ночей: вся
покрытая чернильными пятнами, она, запыхавшись, идет по дороге истины, на¬
клонив к земле свой лоб, испещренный алгебраическими формулами». Ей он про¬
тивопоставляет способ мысли «свободной и уединенной восточной науки, которая
скорее летает, чем ходит, имея вид чего-то воздушного и сверхъестественно¬
го...»53.
25
зейного хлама: «Тащите огня к библиотечным полкам! Направьте
воду из каналов в музейные склепы и затопите их!.. Хватайте кир¬
ки и лопаты! Крушите древние города!»56
В манифесте дадаистов, написанном X. Баллем в 1916 г., гово¬
рится: «Дада — новое направление в искусстве... Дада — револю¬
ция и отсутствие начала»5'. В дадаистском манифесте 1918 г. заяв¬
лено: «Дадаизм не противостоит жизни эстетически, но рвет на ча¬
сти все понятия этики, культуры и внутренней жизни, являющиеся
лишь одеждой для слабых мышц»58. Один из последователей экс¬
прессионизма М. Мартерштейг, обращая внимание на общую поли¬
тизацию искусства и литературы в Германии начала XX в., писал:
«Должен возникнуть новый спасительный дух, должен родиться из
нашей концентрированной, чистейшей и напряженнейшей воли...
нет сомнения: наша “новейшая4* Германия стоит под знаком рево¬
люции, в ряду ее борцов. Это назначение было ей предопределено
судьбой с ее первых шагов. Теперь она вместе с нами в первой
фазе успеха революционизирования мира»59. Другой последова¬
тель и исследователь экспрессионизма Ф. М. Гюбнер характери¬
зовал экспрессионизм как мироощущение, которое присуще че¬
ловеку теперь, когда «мир превращен в развалины, для созда¬
ния новой эры, новой культуры, нового благополучия»60. Да¬
же названия журналов экпрессионистов показательны — «Ак-
цион»( «Действие», 1911), «Штурм» («Буря», 1910), «Новый
пафос» (1913—1914), «Революция» (1913). Вокруг них группи¬
руются наиболее радикальные, революционно настроенные
слои литературной и художественной молодежи. Чувство гряду¬
щего кризиса и обновления, настроения глобальной переделки
мира, охватившие различные слои интеллектуальной Европы,
ощущение границы, рубежа, начала, пробуждающиеся надеж¬
ды, экспансию всесокрушающего насилия, с предельной заост¬
ренностью выраженной в манифестах поэтов, писателей и ху¬
дожников, политизацию мышления даже тех художников, кото¬
рые пытались находиться вне политики («Размышления аполи¬
тичного» — так называется одна из критических работ Т. Ман¬
на), предчувствие эпохальных переломов, вторгающихся в жизнь
каждого человека,— все эти эсхатологические настроения, экзаль¬
тированные упования на будущее и болезненное ожидание гряду¬
щих перемен передал в своих воспоминаниях Р. Роллан: «Небо бы¬
ло пустым, бог умер, и умер, не оставив наследника... Наступила
ночь... Нигде ни огонька, чтобы согреться... Понемногу мой иску¬
шенный взгляд научился лучше распознавать опасности. Мне каза¬
лось, что весь Запад — пороховая бочка, что внутренний враг и
внешний враг ведут подкоп под цивилизацию, а над Европой реют
черные крылья разрушения: война и Революция»61. Это писал че¬
ловек, который уже задумал и начал осуществлять замысел цикла
драм о Французской буржуазной революции. Он сам позднее при¬
знавал, что «жгучее соприкосновение с живой политикой и рево¬
люционными страстями, пробудившимися на стыке двух веков,
явилось для меня непосредственным толчком к непомерно широко¬
26
му замыслу — замыслу театральной эпопеи на темы Французской
революции»62.
/Революционные страсти, пробудившиеся на рубеже веков и в
начале нового, XX в., выразились в новом языке, в его новых ме¬
тафорах и новых смыслах. Даже язык науки политизировался.
Чувство краха старой науки и предчувствие новой лихорадочной
эпохи охватило и ученых. Новые открытия стали оцениваться ими
как научная революция, как революционный переворот в физиче¬
ских представлениях о структуре материи, о пространстве и време¬
ни, о взаимоотношении различных сил и форм движения. Очевид¬
но, одним из первых применил термин «научная революция» для
характеристики новейших открытий в естествознании венгерский
марксист Йозеф Динер-Дэнеж, опубликовавший в социал-демокра¬
тическом органе «Новое время»63 статью под названием «Марксизм
и новейшая революция в естествознании». ? На нее ссылается
В. И. Ленин в «Материализме и эмпириокритицизме» при анализе
революции в естествознании.
Сами же ученые-физики были более осторожны в использова¬
нии этой терминологии при осмыслении достижений физики и ма¬
тематики начала XX в. Они отнюдь не отрицали существования
радикальных сдвигов и переворотов в развитии физики и матема¬
тики. Так, Л. Больцман в своем докладе «Развитие методов теоре¬
тической физики» (1899), представив картину развития теоретиче¬
ской физики, писал: «Но как все с тех пор изменилось! Воистину,
если я оглядываюсь назад на все эти изменения и перевороты, я
кажусь себе стариком по отношению к язлениям, происшедшим на
научном поприще. Я даже хотел бы сказать, что я остался единст¬
венным из тех, кто еще всей душой воспринимал старое, по край¬
ней мере единственным из тех, кто, насколько он еще на это спо¬
собен, за это берется. Задачей своей жизни я считаю путем воз¬
можно ясной, логически систематизированной разработки резуль¬
татов старой классической теории, насколько это в моих силах,
способствовать тому, чтобы то многое хорошее и всегда пригодное,
что, по моему убеждению, еще в ней содержится и не должно быть
когда-либо открыто вторично, что отнюдь не было бы первым слу¬
чаем подобного рода в науке. Поэтому я представляю себя вам в
качестве реакционера, отсталого, который в противоположность но¬
ваторам мечтает о старом, классическом; однако я полагаю, что я
не узко ограничен, что я не слеп к преимуществам нового»64. Ко¬
нечно, Больцман оставался приверженцем классической физики и
этим объясняется его осторожное отношение к новациям в теорети¬
ческой физике. М. Планк — один из создателей новой, некласси¬
ческой физики,— рассматривая отношение новейшей физики к ме¬
ханистическому мировоззрению, писал в 1910 г., что в развитии
физики произошли «неожиданные перемены... Прежде всего этот
переворот зависит от грандиозных успехов экспериментальной тех¬
ники... Ни один физический закон не обеспечен теперь от сомне¬
ний, всякая физическая истина считается доступной оспариванию.
Дело имеет иногда такой вид, как будто в теоретической физике
27
снова наступила пора первозданного хаоса»65. В том перевороте,
который охватил теоретическую физику с начала XX в. и который
является предметом анализа М. Планка, он усматривает прежде
всего разрушительную сторону: «Движение это (движение теорети¬
ческой физики.— Лет.) носит такой радикальный, такой разруши¬
тельный характер, что влияние его распространилось далеко за
пределы физики, в соседние области химии и астрономии и даже в
область теории познания. Научные споры, которые возникают в
связи с ним, можно сравнить только с теми, которые велись в свое
время по поводу коперниканского мировоззрения. Попытаюсь изло¬
жить,, что привело к этой революции, и как, вероятно, можно бу¬
дет преодолеть вызванный ею кризис»66. Дело отнюдь нс в том,
что Планк не видит нового теоретического содержания, связанного
с выдвижением принципа относительности или квантования энер¬
гии. Он нс приемлет те физические теории, которые являются иск¬
лючительно разрушающими и разлагающими. Для него ценность
теории относительности заключается в том, что она «воздвигает
вместо старого здания, ставшего слишком тесным, новое, более об¬
ширное и прочное, которое сохраняет в себе все сокровища старо¬
го... и в то же время оставляет определенное место для новых ожи¬
даемых сокровищ»67.
Хотя Планк был далек от социологии, он высказал одно соц¬
иологическое наблюдение относительно характера признания истин
научным сообществом: «Обычно новые научные истины побеждают
не так, что их противников убеждают и они признают свою непра¬
воту, а большей частью так, что противники эти постепенно выми¬
рают, а подрастающее поколение усваивает истину сразу»68. Это
наблюдение связано с осмыслением Планком развития термодина¬
мики. Но оно относится и к другим физическим теориям, в частно¬
сти к тем затруднениям, с которыми, по мнению Планка, столкну¬
лась теория относительности.
Планк обращает внимание на то, что идеи теории относитель¬
ности казались обыденному мышлению странными и неприемлемы¬
ми, что даже среди физиков, исходивших из критерия наглядности
при оценке теории, принцип относительности не встретил должного
понимания, что необходимо дать иную интерпретацию принципа
относительности, в которой фиксируются неизменные элементы си¬
стемы физики — так называемые мировые константы.
Другой выдающийся физик XX в. — А. Пуанкаре также под¬
черкивал, что физика, в частности механика, «переживает, по-ви¬
димому, момент полного переворота. Понятия, которые казались
установленными наиболее прочно, были разбиты дерзкими новато¬
рами. Конечно, было бы поспешно признать их уже правыми толь¬
ко потому, что они являются новаторами»69. Для него было несом¬
ненным, что каждая научная теория не умирает целиком, в ней
что-то остается непреходящим, устойчивым™. Поставив вопрос о
том, насколько долговечны создания теоретической мысли, Пуан¬
каре замечает: «Оказалось, что прогресс науки подвергает опасно¬
сти самые устойчивые принципы — даже те принципы, которые
28
рассматриваются как фундаментальные. Однако ничто не доказы¬
вает, что их не удастся сохранить; и если будет осознано только их
несовершенство, они будут еще существовать в преобразованной
форме. Движение науки нужно сравнивать не с перестройкой како¬
го-нибудь города, где старые здания немилосердно разрушаются,
чтобы дать место новым постройкам, но с непрерывной эволюцией
зоологических видов, которые беспрерывно развиваются и в конце
концов становятся неузнаваемыми для простого глаза, но в кото¬
рых опытный глаз всегда откроет следы предшествовавшей работы
прошлых веков»71.
Дело отнюдь не в том, что эти выдающиеся физики XX в. были
защитниками прежней классической парадигмы, чем-то вроде
«консерваторов от физики». Дело и не в том, что они отвергали
или не видели новаторских изменений, происходивших в физике и
математике в начале XX в. Каждый из них осознавал, что форми¬
рование новых научных теорий не связано с полным отрицанием
всех предшествующих теорий. Однако, фиксируя изменчивость фи¬
зических и математических теорий, их понятий и методов, каждый
из них делал акцент на тех моментах в научном знании, которые
обеспечивают устойчивость науки. Поэтому они стремились ука¬
зать инвариантные, непреходящие, устойчивые характеристики в
изменяющемся мире науки, раскрыть механизм преемственности
между устойчивыми и изменяющимися компонентами научного
знания. Этим объясняется то обстоятельство, что и М. Планк, и
А. Пуанкаре дали обстоятельный анализ устойчивости фундамен¬
тальных принципов и законов теории, составляющих ее относи¬
тельно стабильное ядро. Так, М. Планк, как известно, посвятил
специальное историко-научное исследование развитию принципа
сохранения энергии, где, проводя различие между общими положе¬
ниями и принципами физики, он подчеркивает неизменность фун¬
даментальных принципов: «Определение понятия энергии и прин¬
цип сохранения энергии неизменны для всех времен. Однако фор¬
мы его применения к конкретным явлениям природы подвергаются
изменению...»72 Поэтому Планк предпочитает говорить не о ради¬
кальных переворотах в развитии физического мировоззрения, а о
постоянных флуктуациях основных понятий нашего мировоззре¬
ния, флуктуациях, которые «в конце концов представляются не в
виде колебаний в ту и другую сторону, а как постоянный процесс в
определенном направлении»73. А. Пуанкаре специально обсуждает
вопрос об эволюции законов и проводит различие между принци¬
пами физической теории и ее законами. Выделив ряд принципов
классической физики и ряд дополнительных принципов, вводи¬
мых новой физикой, он отстаивает мысль о том, что «принципы
остаются неприкосновенными; только для них и совершаются пере¬
мены, и сами перевороты служат лишь блестящим подтверждением
принципов»74.
Итак, делая акцент на устойчивых компонентах научного зна¬
ния, и Планк, и Пуанкаре отмечали, что эти компоненты являются
устойчивыми не сами по себе, не изолированно от других компо¬
29
нентов, а лишь относительно определенной совокупности измене¬
ний и преобразований. И наоборот, изменение каких-либо компо¬
нентов научного знания оказывается изменением лишь относитель¬
но определенной совокупности инвариантных характеристик науч¬
ного знания. В этом и состоит взаимосвязь инвариантных и вариа¬
тивных характеристик научного знания. Свое наиболее четкое вы¬
ражение эта взимосвязь принципа инвариантности и изменчивости
нашла в теоретико-групповом подходе, или так называемой Эрлан-
генской программе, выдвинутой Ф. Клейном, и была развернута в
изучении роли принципов симметрии в физике75.
Обычно при объяснении неприятия известными учеными «рево¬
люционной фразеологии» указывают или на то обстоятельство, что
они оставались приверженцами классической парадигмы, или на
то, что в историко-научных исследованиях господствовала кумуля-
тивистская концепция развития научного знания, не допускавшая
революционных переворотов в развитии науки. Вряд ли можно це¬
ликом отождествлять М. Планка и А. Пуанкаре с приверженцами
классической парадигмы в физике XX в. Действительно, в истории
физики того времени доминировала кумулятивистская концепция,
ведущими представителями которой были П. Дюгем, Э. Мах и др.
Однако дело намного сложнее. В эпоху кардинальных изменений,
происходящих в физике начала XX в., эти физики отстаивали ин¬
вариантность, устойчивость фундаментальных принципов физики,
делали акцент на неизменности тех принципов, которые делают
физику физикой, науку наукой и обеспечивают преемственность
между различными теоретическими построениями в физическом и
математическом знании. Именно эта гносеологическая и методоло¬
гическая ориентация определяет неприятие ими метафоры научной
революции.
В. И. Вернадский об особенностях развития науки
в XX столетии.
«За» и «против» идеи научной революции
Между тем метафора «научной революции» являлась решаю¬
щей при оценке изменений, происходивших в естествознании, фи¬
лософами прежде всего. В 1919 г. Э. Крик — будущий идеолог на¬
ционал-социализма — выпускает книгу под названием «Революция
в науке»76. Э. Трельч в 1921 г. публикует статью под таким же на¬
званием77. В 1926 г. Мюральт издает книгу «К современному кри¬
зису науки»78. В 1930 г. известный немецкий философ, выступав¬
ший с критикой наиболее выдающихся теорий XX в., в частности
теории относительности, Г. Динглер издает книгу «Крах науки и
примат философии»79. В 1931 г. В. Шингниц публикует в журнале
«Минерва» статью, посвященную перспективам теории науки —
наукологии, где проводит мысль о том, что «можно даже говорить
о перманентной революции в науке для того, чтобы четче осветить
борьбу и диалектику в развитии науки»80. После окончательного
утверждения теории относительности и квантовой механики гово-
30
рить о «научной революции» стало весьма модным. Поэтому столь
важно обратиться к наследию тех мыслителей, которые выступали
против этой моды, выдвигали аргументы против использования та¬
кого рода терминологии, связывая ее с вненаучными компонентами
мировоззрения. Одним из таких мыслителей был В. И. Вернадский.
В центре историко-научных исследований В. И. Вернадского на
первом этапе было понятие «научное мировоззрение». Его интере¬
совал рост научного мировоззрения. Конечно, В. И. Вернадский
был и историком таких научных дисциплин, как геохимия, биогео¬
химия, кристаллография и др. Однако уже в начале XX в. он вы¬
двинул новую историографическую программу — исследовать не
историю отдельных научных дисциплин, теорий, экспериментов, а
развитие естествознания в целом под углом зрения прогресса науч¬
ного мировоззрения. Что же понимает под научным мировоззрени¬
ем В. И. Вернадский? «Именем научного мировоззрения мы назы¬
ваем представление о явлениях, доступных научному изучению,
которое дается наукой; под этим именем мы подразумеваем опре¬
деленное отношение к окружающему нас миру явлений, при кото¬
ром каждое явление входит в рамки научного изучения и находит
объяснение, не противоречащее основным принципам научного ис¬
кания. Отдельные частные явления соединяются вместе, как части
одного целого, и в конце концов получается одна картина Вселен¬
ной, Космоса»81. Здесь В. И. Вернадский подчеркивает не просто
целостность научного мировоззрения, но и космичность. Научное
мировоззрение — это прежде всего рациональное отношение чело¬
века к постигаемому миру, рациональный способ понимания и объ¬
яснения природы в целом. Поэтому в основе научного мировоззре¬
ния «лежит метод научной работы, известное определенное отно¬
шение человека к подлежащему научному изучению явлению»82.
Состав научного мировоззрения не однороден. Наряду с элемента¬
ми, достигнутыми научными исканиями, в нем существуют, соглас¬
но В. И. Вернадскому, элементы, заимствованные из философии,
религии, общественной жизни и социальной мысли. Тем самым ис¬
тория научного мировоззрения не может быть отождествлена с ис¬
торией научных истин.
Одна из существенных проблем в изучении роста научного ми¬
ровоззрения состоит в объяснении связи между наукой и филосо¬
фией. В противовес позитивистскому отрицанию эвристической
функции философии В. И. Вернадский проводит мысль о нерастор¬
жимости философии и науки. Для него взаимосвязь философии и
науки в той или иной форме всегда имманентно присуща научному
мировоззрению, которое и оказывается духовным феноменом, объе¬
диняющим в единое целое разнородные элементы духовной дея¬
тельности человека. В противовес позитивистской концепции сме¬
ны религиозно-философского сознания научным Вернадский гово¬
рит о смене фаз научного мировоззрения и тем самым о смене
форм объединения философии и науки.
Развитие научного мировоззрения Вернадский рассматривает
как непрерывный рост, как процесс очищения от вненаучных эле¬
31
ментов и одновременно как углубление рационального отношения
человека к миру, предполагающее распространение научного мето¬
да и постижение целостности природы. Вместе с тем рост научного
мировоззрения включает в себя периоды резкого, кардинального
изменения научного мировоззрения. К таким периодам Вернадский
относит прежде всего возникновение научного мышления в антич¬
ности, создание естествознания в XVII — XVIII вв. и, наконец,
возникновение неклассической науки в XX в.
Стремясь осмыслить новые гносеологические и методологиче¬
ские основания науки XX в., Вернадский характеризует специфику
движения научного знания в XX в. и особенности научного миро¬
воззрения, складывающегося под воздействием достижений естест¬
венных наук в XX в. Уже в марте 1920 г., характеризуя новые от¬
крытия в физике, он замечает: «На наших глазах совершается ве¬
личайшая революция в этой области в представлении о неуничто-
жимости материи и невозможности ее создания из чего-то иного
(“из ничего44). Не ладно начинает быть и в области энергии. Науч¬
ные представления о материи и энергии моей молодости, когда я
научно вошел в круг этих идей — в 1880 годах и теперешней моей
мысли — 1920-х годах — изменились, может быть, и незаметно
для каждого из нас — но изменились во всех своих основаниях»83.
Конечно, нельзя не обратить внимание не только на некоррект¬
ность формулировок, отождествляющих материю и вещество, но и
на использование понятия «научная революция» для описания до¬
стижений физики начала XX в.
4 декабря 1920 г. Вернадский оставляет следующую запись о
характере движения науки в XX в.: «Несомненно, кругом происхо¬
дит величайшая революция, перед которой ничтожна та социаль¬
ная и политическая, которую мы так тяжело переживаем. Трудно
даже оценить всю глубину переживаемого нами потрясения. Очень
возможно, что люди подошли к самым основам метафизики и по¬
мимо научного революционного движения происходит величайший
переворот в метафизическом мышлении»84. В качестве обоснования
этой мысли он обращается к современной ему атомистике, подчер¬
кивая, что атомистические представления окончательно утверди¬
лись и одновременно решительным образом изменились по сравне¬
нию с атомистикой прошлого.
Через три дня — 7 декабря 1920 г.— он снова возвращается к
общей характеристике движения науки в XX в. Однако здесь уже
он дает иную характеристику специфики научного движения в на¬
шем столетии — он уже называет радикальные изменения основ
научных знаний и научного мировоззрения революциями и предпо¬
читает их называть периодами взрыва научного творчества. «Эти
явления должны быть резко отделены от революций. Революции —
в главной мере взрывы разрушений, причем разрушается не только
то, что по существу отжило — но и гибнет — ив значительной
мере живое и здоровое. В результате революции создается новое,
но тяжелые последствия содроганий чувствуются в течение долгих
поколений. Революционные явления наблюдаются и в научной об¬
32
ласти, но они являются в нсс извне, когда под влиянием религиоз¬
ных или политических явлений в ее область вторгаются новые по¬
строения и уничтожаются старые... Революции в науке, таким об¬
разом, есть разрушительный процесс... Творческий взрыв совер¬
шенно иной; он совершается с перерывами в кругу одного народа
или одной нации»85.
В этом стремлении избежать характеристики нового этапа в
развитии науки в XX в. как научной революции не трудно увидеть
то неприятие социальной революции, которое было присуще Вер¬
надскому и которое было связано с отождествлением ее с разруше¬
нием всех основ прежней жизни и с разрухой гражданской войны.
Конечно, в подчеркивании Вернадским разрушительного, а не
творчески-созидательного содержания всякой революции, в том
числе и научной, нельзя не видеть противостояния той идеологии
вселенского разрушения и радикального уничтожения всего старого
мира, и мира культуры в том числе, которое приняло грандиозные
размеры в России после 1917 г. «Революционаристское сознание»
не просто грозилось разрушить всю прежнюю культуру и науку,
оно находило и свои организационные формы и воплотилось во
многих актах вандализма.
Однако дело не только в этом. Вернадский всегда стремился по¬
нять историю науки как естественноисторический процесс, облада¬
ющий преемственностью. Ему как натуралисту, стремившемуся ос¬
мыслить исторический процесс в естественнонаучных терминах, го¬
раздо ближе и адекватнее казался термин «взрыв», подчеркивав¬
ший естественность происходящих изменений и позволявший най¬
ти способы количественного измерения темпов роста научного зна¬
ния. Показателями «взрыва научного творчества», согласно Вер¬
надскому, могут быть число выдающихся ученых в том или ином
периоде развития науки, их «плотность» на том или ином этапе,
интенсивность научного обмена и др. Иными словами, он предпо¬
чел социально-политической терминологии естественнонаучную хо¬
тя бы потому, что она позволяет перевести разговор в плоскость,
поддающуюся точному, количественному измерению, найти спосо¬
бы операционализации и наукометрического выражения показате¬
лей роста науки.
Термин «научная революция» отвергался Вернадским и потому,
что революция связывалась им с воздействием на науку вненауч-
ных компонентов — с воздействием религии, социальной филосо¬
фии, политической идеологии. По его мнению, о научной револю¬
ции можно говорить лишь в том случае, если анализируются вза¬
имные связи между различными компонентами научного мировозз¬
рения, те изменения в научном знании, которые происходят под
влиянием изменений в религиозном, философском и политическом
сознании. Революция в науке отождествляется им не просто с раз¬
рушительным процессом, а с разрушением, осуществляемым под
воздействием вненаучных факторов — социальной философии и
политического сознания прежде всего. Взрыв научного творчест¬
ва — это позитивная характеристика периодов ломки научных по¬
2 Заказ N? 434
33
нятий и методов и формирования нового, научно-рационального
отношения человека к природе.
Итак, применительно к анализу периодов радикальных перево¬
ротов в научном мировоззрении Вернадский вполне допускает ис¬
пользование термина «научная революция», подчеркивая, что из¬
менения в науке здесь происходят под непосредственным влиянием
вненаучных факторов, применительно же к анализу периодов рез¬
кой интенсификации научных исканий он предпочитает использо¬
вать термин «взрыв научного творчества».
Анализ Вернадским периодов взрыва научного творчества пред¬
ставляет собой один из примеров изучения периодичности в разви¬
тии науки, выявления определенных циклов в прогрессе научного
знания, когда непрерывный рост научных достижений сменяется
резкой интенсификацией научных открытий, радикальной транс¬
формацией основ научного знания, ведущих теоретических и мето¬
дологических принципов, фундаментальных понятий и методов.
Этот период вновь сменяется плавным ходом движения научного
знания. В рецензии на книгу А. П. Модестова он обращает внима¬
ние на то, что в истории науки «замечается какая-то определенная
историческая периодичность — через каждые 40—50 лет выдаю¬
щихся работ в разбираемой нами области знания: это легко заме¬
чается по приводимым датам и вычерченному автором графику»86.
К 1927 г. окончательно складывается терминология, с помощью
которой Вернадский анализирует различные периоды в истории на¬
уки. В этот год он выпускает в свет доклад «Мысли о современном
значении истории знаний», который был прочитан им в ноябре
1926 г. в созданной им «Комиссии по истории знаний АН СССР».
Именно в этом докладе он заявил: «Этот бурный поток нового, ус¬
корение хода научных достижений — когда в немногие десятиле¬
тия достигается то, что обычно создается в столетия или тысячеле¬
тия — очевидно, является проявлением какой-то силы, связанной с
духовной творческой энергией человека. Если нужна для нашего
ума какая-Hr. 1удь аналогия этого природного процесса, мимо кото¬
рого миллионы людей обычно проходят, его не замечая, этой ана¬
логией может быть взрыв. Можно говорить о взрыве научного твор¬
чества, идущего в прочных и стойких, не разрушающихся рамках,
заранее созданных»8'.
Решающими показателями интенсивного развития науки, взры¬
ва научного творчества Вернадский считает прежде всего сосредо¬
точение богато одаренных людей в близких поколениях, большая
«плотность» выдающихся ученых в определенном временном ин¬
тервале. Само собой разумеется, взрыв научного творчества выра¬
жается и в темпах изменения научного знания. Подчеркивая, что
факт удивительного скопления в одном временном интервале выда¬
ющихся мыслителей в близких поколениях до сих пор не получил
объяснения, Вернадский обращает внимание на благоприятные со¬
циально-политические и бытовые условия для научной работы.
Еще одним показателем взрыва научного творчества он считает
расширение фронта научных исследований. По его словам, в этот
34
период изменяются одновременно почти по всей линии науки все
основные черты научной картины мира. Не менее важным показа¬
телем взрыва научного творчества является одновременное измене¬
ние всех форм духовного творчества: радикальные изменения фун¬
даментальных понятий естествознания сопровождаются глубочай¬
шими изменениями в науке о человеке, ростом новых философских
исканий, новым подъемом религиозного творчества.
С конца 20-х годов В. И. Вернадский развертывает идею взры¬
ва научного творчества, связывая кардинальный переворот в науке
XX в. со складыванием ноосферы. Само понятие «взрыва научного
творчества» приобретает более глубокое содержание. Отныне оно
характеризует роль и перспективы человеческой деятельности в
победе духа над косной материей, раскрывает ведущие факторы
исторического развития человечества.
Преобразование биосферы в ноосферу, в сферу, созданную нау¬
кой и ее реализацией в технике, является решающей особенностью
науки XX в., взрыва научного творчества в XX в.
Амбивалентность установок ученого.
Вместо заключения
Обращение к метафоре «научная революция», ее использование
в оценке ученым вклада других ученых или в самооценке нераз¬
рывным образом связаны с определенными ценностными ориента¬
циями — это должно свидетельствовать о новаторском духе учено¬
го или о поддержке им новаторского духа других ученых. Однако
творческое мышление всегда амбивалентно: оно и свободно, и кон¬
сервативно, и раскрепощено, и «закрепощено» определенными
принципами научного знания. Новаторство составляет лишь одну
из компонент научного творчества, весьма существенную, но не
единственную. Если же подчеркивают лишь одну составляющую
научного творчества, а именно его новаторский, революционный
характер, то забывают о другой составляющей, которую можно на¬
звать консервативной установкой. Свобода научного творчества —
свобода внутри определенных границ, устанавливаемых или нау¬
кой, или вненаучными формами духовной деятельности (религией,
философией, общественной жизнью). Это свобода осмотрительная,
свобода вынужденная, свобода, понуждаемая приверженностью не¬
которым фундаментальным первопринципам, отказаться от кото¬
рых означало бы для ученого отказаться от самого себя. Новаторст¬
во и возможно лишь в рамках этих первопринципов, которые фик¬
сируются или в дисциплинарном знании, или в философско-мето-
дологических основаниях, или в религиозном жизнечувствовании.
Эти фундаментальные первопринципы оказываются относительно
инвариантными, устойчивыми по сравнению с изменчивостью тео¬
ретических исканий и построений и выполняют важнейшую регу¬
лятивную функцию, задавая границы научного поиска и его систе¬
му отсчета.
2*
35
Многие ученые прошлого и настоящего давно обратили внима¬
ние на амбивалентность установок исследователей как природы,
так и общества. Так, Р. Вирхов в предисловии к «Лекциям по цел-
люлярной патологии» (1858) писал о своей собственной философ¬
ско-методологической установке: «Я поставил себе целью при про¬
ведении нужной нам реформы в воззрениях по возможности сохра¬
нить в неприкосновенности все переданное нам до меня. Но мой
собственный опыт научил меня, что этому есть определенные гра¬
ницы. Слишком большая забота о такой неприкосновенности суще¬
ствующего заключает в себе истинный недостаток, поскольку спо¬
собствует заблуждениям... Мы хотим реформы, но не революции.
Мы хотим сохранить старое и присоединить к нему новое. Но среди
наших современников образ такой деятельности не популярен. Она
легко приобретает вид как бы пестрой смеси старого с новым, а
необходимость опровергать ложные и претенциозные учения но¬
вейших писателей больше, чем древних, производит впечатле¬
ние деятельности в большей мере революционной, нежели рефор-
мационной»88.
Приверженность принципам, консервативность (в определенных
границах, конечно) составляет неотъемлемую, необходимую черту
всякого творческого мышления. П. Эренфест, говоря о способе мыс¬
ли новаторов физики XX в. — Н. Бора и А. Эйнштейна, отмечал,
что их мысль пронизана «классическим знанием. Они знают, они
любят, они чувствуют классику так, как не может этого делать
обыкновенный физик. Меньше всего они готовы признать новое
только потому, что это новое. Скорее всего, их можно назвать кон¬
серваторами — с такой бережностью они относятся к классическим
объяснениям, к каждому принципу здания классической физи¬
ки»89. Э. Сегре обращает внимание на консервативность научных
установок Э. Ферми90. В. Гайтлер говорит о том, что Э. Шредингер
воспитан в традициях классической физики и не мог мыслить ины¬
ми категориями91. Г. Вейль, говоря об отношении классической и
современной теории инвариантов, заметил: «Оправданием тому,
что я придерживался значительно более консервативного стиля,
чем это, вероятно, казалось бы желательным нашему молодому по¬
колению алгебраистов, является нежелание жертвовать прошлым;
но даже при этом, надеюсь, я достаточно решительно прокладывал
путь к современным концепциям»92.
Консервативная составляющая научного творчества не должна
перерастать в научный догматизм, в слепую, нерефлексивную при¬
верженность однажды принятым принципам и методам решения
проблем, в фанатичное отстаивание идей и способов мысли, давно
уже ставших неэффективными. Творческое мышление постоянно
балансирует между двумя различными ориентациями — ориента¬
цией на нововведение, на новаторство и ориентацией на сохране¬
ние принятых норм, теорий, идей. Творческое мышление всегда на
границе между установкой на устойчивое, инвариантное и установ¬
кой на изменчивое, вариативное. Творческое мышление двулико: с
одной стороны, оно предполагает удержание определенных принци¬
36
пов, движение на их фундаменте и в принятой системе отсчета, а с
другой стороны, оно не может нс изменять, не модифицировать, не
трансформировать достигнутое знание. Это мышление соединяет в
себе, казалось бы, несовместимое — определенную дозу консерва¬
тизма, приверженности некоторым принципам и тяготение к нова¬
циям, к росту нового знания. Творческое мышление есть противо¬
речивое сочетание двух способностей, двух ориентаций — привер¬
женности определенным способам и формам мысли и одновременно
духа исканий, научного поиска. Амбивалентность творчества озна¬
чает, что в философии науки следует учитывать два «параметра»
научного знания, две составляющие научных исканий: крайне важ¬
на приверженность фундаментальным принципам, однако она не
должна превращаться в предвзятость; крайне важна ориентация на
поиск нового, однако эта творческая установка не должна стано¬
виться самодовлеющей. Использование метафоры «научной рево¬
люции» не учитывает амбивалентности творческого мышления и
выражает лишь одну установку ученого — установку на новое, на
нововведения.
1 B/umenberg N. Paradigm zu einer Metaphorologie. Bonn, 1960.
2 Цицерон. Диалоги. M., 1966. С. 23.
3 Гам же. С. 46.
4 Cohen J. В. Revolution in Science. Cambridge; London, 1989.
5 Аристотель. Политика // Соч. Т. 4 М., 1983. С. 526.
6 Макиавелли //. Соч. Т. 1. М.; Л., 1934. С. 326.
7 Гвиччардини Ф. Соч. М., 1934. С. 127.
8 Свифт Д. Избранное. Л., 1987. С. 246.
9 Болинброк. Письма об изучении и пользе истории. М., 1978. С. 187.
10 Priestley J. Lectures on history and general policy. L., 1836. P. 226.
11 Maclaurin C. Account of Sir J. Newtons Philosophical Discoveries. L., 1740. P. 39.
12 Локк Д. Соч. T. 3. M.: Мысль, 1988. С. 392.
13 Любимов Н. Н. Крушение монархии во Франции. М., 1893. С.82.
14 Там же. 15 Там же.
16 Вольтер. Философские сочинения. М., 1988. С. 90.
17 Вольтер. Эстетика. М., 1974. С. 293.
is Руссо Ж.-Ж. Трактаты. М., 1969. С. 207.
19 Там же. С. 182 . 20 Там же. С. 79.
21 Тюрго А. Избр. филос. произведения. М., 1937. С. 72, 114.
22 Кондильяк. Сочинения. Т. 1. М., 1980. С. 295.
23 Любимов Н. Н. Крушение монархии во Франции. С. 11.
24 Vovel/e М. La mentalite revolutionnaire. Societe et mentalites sous la revolution
francaise. P., 1985.
25 Vovtlle M. Ideologies et Mentalites. P., 1982.
26 Тюрго А. Избр. филос. произведения. С. 140-141.
27 Дидро Д. Избр. филос. соч. М., 1940. С. 93.
28 Там же. С. 125.
29 Encyclopedic ou dictionnaire raisonne des arts et des metiers. T. III. P., 1753.
30 Гольбах П. О системе природы. М., 1940. С. 285.
31 Дидро Д. Избр. филос. соч. С. 254.
32 Там же. С. 94.
33 СегреЭ. Ферми Э. — физик. М., 1973. С. 21.
34 Там же. С. 358.
35 Гельвеций К. А. О человеке. С. 358.
36 Там же. С. 399.
37 ДАламбер. Очерк происхождения и развития наук // Родоначальники позити¬
визма. СПб., 1910. С. 146.
38 Гам же.
Та”жс- с 148- 40 Там же. С. 147.
Bailly J.-S. Histoire de Г Astronom ic moderne. T. I. P., 1779. P. VI.
42 Ibid. T. III. P. 340.
43 Кондорсп Ж. А. Эскиз исторической картины прогресса человеческого разума. М.,
37
44 Condorcet J.-A. Oeuvres completes. T. III. P., 1847. P. 400.
45 Berthelot M. La Revolution chimique. Lavoisier. P., 1890. P. 47.
46 Там же. С. 49.
47 Погодин С. А. А. Л. Лавуазье — основатель химии нового времени // Успехи хи¬
мии. М., 1943. Т. 12, вып. 5. С. 351.
48 Там же.
49 Encyclopedic methodique. Chemie, pharmacie et metallurgie. T. III. P., 1796. P. 715.
50 Старосельская-Никитина О. Очерки по истории науки и техники периода
Французской буржуазной революции 1789—1794. М.; JL, 1946. С. 75.
51 Cabanis. Coup d'oeil les Revolutions et sur la Reforme de la Medicine. // Oeuvres
philosophiques. P., 1804. T. 3. 1956.
52 Gorres J. Gesammelte Schriften. Bd.3. Koln, 1926. P. 440.
53 Цит. по: Ренан Э. Будущее науки. T. 1. Киев, 1902. С. 138.
54 Маринетти Ф. Первый манифест футуризма. // Называть вещи своими имена¬
ми Программные выступления мастеров западноевропейской литературы XX ве¬
ка. М., 1986. С. 159.
55 Там же. С. 161. 56 Там же. С. 160.
57 Там же. С. 316—317. 58 Там же. С. 319.
59 Экспрессионизм. Пг.; М., 1923. С. 38, 45.
60 Там же. С. 54.
61 Роллан Р. Воспоминания. М., 1966. С. 531.
62 Там же. С. 496.
63 Neue Zeit. В. 1906—1907. N 52.
64 Больцман Л. Статьи и речи. М., 1970. С. 296; Жизнь науки. М., 1973. С. 487.
65 Планк М. Единство физической картины мира. М., 1966. С. 51.
66 Там же. С. 53. 67 Там же. С. 70.
68 Там же. С. 13.
69 Пуанкаре А. О науке. М., 1983. С. 286.
70 Там же. С. 9. 71 Там же. С. 158.
72 Планк М. Принцип сохранения энергии. М.; Л., 1938. С. 142.
73 Там же. С. 143.
74 Пуанкаре А. О науке. С. 418.
75 Визгин В. Л. Эрлангенская программа и физика. М., 1975. С. 100—102.
76 Krick Е. Die Revolution der Wissenschaft. Leipzig, 1919.
77 Troelth E. Die Revolution in der Wissenschaft // Schmollers Jahrbuch. B., 1921. Bd
45.
78 Muralt A. Zur gegenwartigen Krisis der Wissenschaft. B., 1926.
79 Dingier H. Die Zusammenbruch der Wissenschaft und der Primat der Philosophic. B.,
1930.
80 Schingnitz W. Scientiologie. «Minerva—Zeitschrift», Mai-Juni, B., 1931. Hf. 5/6.
81 Вернадский В. И. Избранные труды по истории науки. М., 1981. С. 43.
82 Там же. С. 44.
83 Вернадский В. И. Мысли // Архив АН СССР. Ф. 178. On. 1.
84 Там же. Л. 16. 85 Там же. Л. 27.
86 Вернадский В. И. История науки: Материалы, заметки, библиография // Архив
АН СССР. Ф. 518. Оп.1. № 167. Л. 7.
87 Вернадский В. И. Мысли. С. 233.
88 Вирхов Р. Лекции по целлюлярной патологии // Жизнь науки. М., 1973. С. 355.
89 Андронов А. А. Собр. тр. М., 1956. С. 335.
90 Сегре Э. Ферми Э. — физик. М., 1973.
91 Гайтлер В. Шредингер Э. // Э. Шредингер: Новые пути в физике. М., 1971.
С. 121.
92 Вейль Г. Классические группы, их инварианты и представления. М., 1947. С. 3.
Л. А. МАРКОВА
РАЗРУШАЕТ ЛИ НАУЧНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ СТАРОЕ ЗНАНИЕ?
Выдвижение научных революций на передний план в истори¬
ческих исследованиях науки в 60-е гг. XX в. существенно преобра¬
зило самый подход к изучению науки. Одним из наиболее важных
элементов нового подхода парадоксальным образом явилось ради¬
38
кально трансформированное понятие самой научной революции.
Трансформация эта выразилась прежде всего в том, что поня¬
тие научной революции утратило свою характерную функцию
разрушения старого знания и замены его новым. Такая функция
научной революции оказалась нереальной в силу своей несовме¬
стимости с идеями плюрализма, прочно утвердившимися в исс¬
ледованиях науки. В науке сосуществуют «на равных» теории
разных исторических периодов. В связи с этим большое значение
приобретает проблема выбора. Для XX в. особенно существенно,
что проблема выбора оказывается включенной в саму теорию. В
статье эта мысль подтверждается анализом некоторых фило¬
софских сторон квантовомеханических принципов и спора Бора с
Эйнштейном. Поскольку новый тип исследования науки рассмат¬
ривается в статье как целостное явление, то произошедшее
внутри него изменение понятия научной революции влечет за
собой, помимо существенно иной формулировки проблемы выбора,
также трансформацию и таких понятий, как социальность и
рациональность, прерывность и непрерывность, уникальность и
закономерность, а также ряда других.
§ 1. Понятие — одно, его оценки — разные
Одним из наиболее бросающихся в глаза следствий кризиса по¬
зитивистской философии науки XX в. явилось выдвижение на пе¬
редний план такого феномена в развитии естествознания, как на¬
учная революция.
Понятие научной революции начинает активно разрабатывать¬
ся историками, философами, социологами науки. Пересматривается
роль научных революций в истории науки, и одновременно меняет¬
ся само содержание этого понятия.
В развитии знания часто возникают ситуации, когда исследова¬
тели одинаково понимают тот или иной феномен, являющийся
предметом их изучения, но дают ему диаметрально противополож¬
ную оценку: одни — со знаком плюс, другие — со знаком минус.
Так было, например, с пониманием социальных факторов в разви¬
тии естественнонаучного знания интерналистами и экстерналиста-
ми, представителями двух методологических направлений, сформи¬
ровавшихся к середине XX в. в историографии науки. И те и дру¬
гие исходили из того, что социальность в истории науки может
присутствовать только как внешние социальные воздействия на на¬
учное знание. Расхождения начинались лишь при оценке значения
этих внешних факторов в истории естествознания: экстерналисты
полагали, что для понимания истории науки надо изучать в пер¬
вую очередь именно механизм воздействия извне социальных усло¬
вий на научное знание, признавая, что внутренняя логика разви¬
тия научных идей независима от этого воздействия; интерналисты
же считали, что мы действительно поймем историю науки, если
будем исследовать механизм развития научных идей, независимых
от внешних факторов.
39
Таким образом, понимание социальности в науке было одина¬
ковым у тех и у других: социальность — это внешние социальные
воздействия, меняющие скорость, направление движения научных
идей, их взаимодействие. Короче говоря, здесь просматривается
схема инерционного движения в классической механике, которое
приобретает ускорение или меняет направление под влиянием
внешних сил. При этом природа силы не имеет значения для ко¬
нечного результата, будет ли это, например, сила руки или сила
машины. Так же и для историка-интерналиста представляется не¬
существенным содержательный анализ социального окружения на¬
уки, важно изучить внутренний механизм движения научных идей.
Экстерналисты же, подробно изучая социальные условия развития
науки, оставляют в стороне логическую структуру научной теории
и ее изменения в ходе исторического развития.
В описанной ситуации мы имеем дело с таким положением ве¬
щей, когда понятие (в нашем случае социальность науки), служа¬
щее «яблоком раздора» между исследователями, интерпретируется
ими одинаково с содержательной точки зрения, но оценка ему да¬
ется прямо противоположная с точки зрения его функциональной
роли в истории науки. Одним из серьезных симптомов тех преобра¬
зований в исследованиях науки, которые произошли во второй по¬
ловине XX в., является привлечение внимания к самому понятию
социальности и его пересмотру, к постановке этого понятия под
вопрос. Но об этом мы уже говорили в другом месте1. Сейчас на¬
шей задачей будет проследить «судьбу» понятия научной револю¬
ции за последние два-три десятилетия.
Как и в случае анализа социальности в науке, выдвижение на
передний план научных революций в качестве предмета изучения
не сопровождалось эксплицитной постановкой вопроса о необходи¬
мости подхода к этому понятию как к некоторой проблеме. До сих
пор подавляющее большинство исследователей исходят из убежде¬
ния, что главное — это более глубокое, полное, детальное изуче¬
ние научных революций разного типа, революций, которые преж¬
де, при доминировании традиционного представления о развитии
науки как совершающемся поступательно, прогрессивно, непрерыв¬
но, исследовались недостаточно внимательно.
Понятием «научная революция» пренебрегали, поскольку оно
нс было в достаточной степени работающим. И историков, и фило¬
софов науки больше интересовали спокойные периоды в развитии
естествознания, и именно то, как эти периоды толковались, пред¬
определяло и понимание научных революций. Феноменологиче¬
ское присутствие в историческом процессе научных револю¬
ций, конечно же, признавалось, и даже таким классическим
представителем кумулятивистских представлений, как П. Дю-
гем, например. Но чтобы эти революции понять, их надо свести
к эволюции. Только таким путем можно сохранить непрерыв¬
ность развития. Революция — это нечто такое, от чего надо из¬
бавиться в конечном результате работы историка, историческая
реконструкция в своем окончательном варианте должна ассимили¬
40
ровать научные революции прошлого, не нарушая непрерывного
ряда развития.
Есть несколько способов такого рода включения революций в
исторический процесс. Они достаточно хорошо известны, напомню
некоторые из них: научная революция — это та же эволюция,
только убыстренная во много раз; революция — это некоторое на¬
чало, которое путем поиска и обнаружения бесконечного ряда
предшественников отодвигается все в более далекое прошлое; до¬
стижения научных революций прошлого присутствуют в современ¬
ном знании в снятом виде, все революции в истории науки были
только прелюдией к современности, ее подготовкой. Такое устране¬
ние революций из исторического процесса диктовалось необходимо¬
стью избежать разрывов в ряду развития научных идей, обеспечить
связь прошлого с настоящим посредством дедуктивного включения
нового знания в систему имеющегося знания.
Когда же по целому ряду причин, связанных и с особенностями
развития самого естествознания, и с определенной спецификой ис¬
торического, философского анализа науки в середине XX в., и с
целым рядом социальных обстоятельств, исторический процесс стал
представляться как серия научных революций, отношение исследо¬
вателей к понятию «научная революция» стало иным. Теперь по¬
нятие научной революции сохраняется в конечном результате ис¬
торической реконструкции и требует своей разработки в таком ка¬
честве.
Как и в случае с понятием социальности в науке, исследовате¬
ли неявно исходят из предположения, что все они примерно одина¬
ково понимают научную революцию, разногласия возникают лишь
при решении вопроса о том, какую роль она играет в историческом
процессе.
§ 2. Понятие научной революции как проблема
Если обратиться к исторической действительности, то подлинно
глобальными, фундаментальными можно назвать лишь две револю¬
ции — революцию XVII в. и научно-техническую революцию
XX в. Революция XVII в. явилась как бы моделью развития естест¬
вознания через научные революции на последующие два века. Од¬
нако вплоть до начала XX в. все изменения в естествознании со¬
вершенствовали, усложняли, корректировали научное знание. Но¬
вые достижения в отдельных отраслях не столько опровергали про¬
шлое, сколько встраивались в общий дедуктивный ряд, не изменяя
исходных аксиоматических начал науки нового времени.
Только в начале XX в. совершается очередная действительно
фундаментальная революция с пересмотром исходных идеализаций
пространства, времени, движения в контексте создания теории от¬
носительности и разработки квантовой механики. К середине века
революция пошла вширь, стала развиваться экстенсивно в сторону
непосредственного использования научных результатов в технике и
промышленности. Достижением считается в первую очередь воз¬
41
можность применения полученных результатов на практике. Об¬
суждение начал отступает на задний план, интерес к ним утрачи¬
вается. Важно, как работает научное знание.
Но через развитие техники, ее компьютеризацию и автоматиза¬
цию, уже на новой основе научный поиск опять замыкается на
субъекте деятельности (не случайно революцию XX в. называют
научно-технической), опять возобновляется интерес к началам.
Переосмысляются основные понятия, лежащие в основе научного
развития, в том числе и понятие научной революции.
Научная революция, ставшая одним из главных предметов изу¬
чения специалистов по науке разного профиля, изучается вширь и
вглубь. Неявно предполагается, что этот процесс познания научной
революции протекает примерно так, каким представляется в тради¬
ционной историографии и философии науки исторический процесс
развития научного знания вообще. В XIX — первой половине
XX в. знание о научных революциях было неполным, несовершен¬
ным, хотя на него и следует опираться в наши дни, используя все
положительное, что было добыто нашими предшественниками.
Появляются исследования того, когда впервые появилось само
словосочетание «научная революция», как оно соотносилось с по¬
нятием социальной революции, как постепенно повышался интерес
к научным революциям и какие были спады этого интереса, какую
можно предложить классификацию научных революций и, главное,
как же теперь будет выглядеть история науки, если мы ее «перепи¬
шем» в соответствии с нашим сегодняшним представлением о роли
и месте научных революций в развитии научных идей, с учетом
той большой работы, которую на сегодняшний день провели иссле¬
дователи по разработке, дальнейшему уточнению, углублению и
конкретизации понятия научной революции.
Можно вспомнить многочисленные попытки историков науки в
60-х и начале 70-х годов переписать истории отдельных научных
дисциплин по куновской схеме, где эпохи крупных научных рево¬
люций сменяются периодами нормальной науки, когда ученые ра¬
ботают в рамках парадигмы, возникшей в ходе последней научной
революции. Эти исторические исследования, как правило, выглядят
довольно схематично, являясь результатом формального наложения
схемы Куна на исторический процесс. Почему эти замыслы не оп¬
равдали тех ожиданий, которые на них возлагались их авторами?
Дело, по-видимому, в том, что в тех процессах, которые проис¬
ходили в философии, историографии и социологии науки в середи¬
не XX в. после кризиса позитивизма, главным было переосмысле¬
ние наиболее значимых для изучения науки понятий, в том числе
и понятия научной революции, а не создание трудов по истории, в
которых наука по-прежнему развивается поступатсльно-кумуляти-
вистским образом, но отдельные се периоды обозначались науч¬
ными революциями, а друг с — нормальными формами ее суще¬
ствования.
Правда, создание таких гетерогенных исторических конструк¬
ций, в которых стройность и логическая целостность поступатель¬
42
но-непрерывных, прогрессистских исторических исследований на¬
рушались вторжением в них научных революций как некоторых
прерывностей, что делало их явно нежизнеспособными, сыграло
свою положительную роль. Стало очевидным, что необходимо осоз¬
нать те изменения, которые произошли в самом понятии «научная
революция» (так же как и в понятиях «социальность», «научное
сообщество», «теория» и др.). А если эти изменения принять во
внимание, то станет очевидной невозможность построения на их
основе традиционных исторических реконструкций.
Невозможность этого базировалась на ряде трудностей, сразу
же возникавших перед историком, как только он пытался совме¬
стить традиционную схему исторического исследования с вновь
формирующимся понятием научной революции. Прежде всего, как
справиться с прерывностью исторического процесса, если не сво¬
дить революцию к эволюции тем или иным способом?
В традиционных историко-научных концепциях в ходе научной
революции старая фундаментальная теория разрушалась, на ее ме¬
сте утверждалась новая и вся прошлая история перестраивалась
как предыстория новой теории. Революции как будто бы и не бы¬
ло. Вся прошлая история есть постепенное, планомерное, прогрес¬
сивное движение в сторону современной теории, являющейся на се¬
годняшний день кульминацией, вершиной всей предыдущей исто¬
рии. Наступает следующая революция, возникает новая фундамен¬
тальная теория и новая радикальная ломка прошлой истории.
Как видим, за изгнание научных революций из окончательных
вариантов исторических исследований приходилось платить дорогой
ценой, прежде всего большим насилием над прошлым, его неодно¬
кратным разрушением после каждой очередной крупной научной
революции и построением заново истории в соответствии с научны¬
ми представлениями сегодняшнего дня. Наградой была, правда,
возможность рационального осмысления событий прошлого, непре¬
рывность, поступательность развития внутри каждого историческо¬
го исследования. Вот этих-то преимуществ и лишался историк, ког¬
да он включал в свою историческую реконструкцию научные рево¬
люции, подражая Куну.
В традиционных историко-научных построениях научная рево¬
люция стягивалась в точку, где происходила смена старой теории
новой (путем отказа от старой). За этим следовала перекристалли¬
зация всей прошлой истории в соответствии с новым знанием. Са¬
ма по себе точка фокусировки научной революции не расшифровы¬
валась логически, а вся сила логического анализа направлялась на
упорядочивание прошлого в соответствии с новой теорией. Успех
этого предприятия обеспечивался устранением революции из исто¬
рической реконструкции.
Когда же историки включили научные революции в непрерыв¬
ный ряд развития научных идей и попытались их интерпретиро¬
вать рациональными средствами, то возник целый ряд сложных
проблем. Возможно ли вообще перебросить мостик рациональности
между старой и новой теориями, если их логики диаметрально про¬
43
тивоположны? Можно ли идти по пути создания некоторой метало¬
гики? Соизмеримы ли вообще эти теории? Какую роль играют со¬
циальные, психологические, этические, эстетические и прочие
факторы при решении вопроса о замене старой теории новой? Как
вообще будет выглядеть исторический процесс, если крупнейшие
достижения прошлого будут истолковываться не как сменяющие
друг друга, а как сосуществующие?
Возвращаясь к вопросу изменения самого понятия научной ре¬
волюции, нам бы хотелось отметить одно, с нашей точки зрения
особенно существенное, логическое противоречие, возникающее в
очерченной выше сутуации. Если понимать научную революцию
как разрушение старого знания и возникновение нового, то единст¬
венно последовательным решением историка будет убрать из исто¬
рии все прошлые революции, даже наиболее фундаментальные, по¬
скольку их результаты заведомо обесценены всем последующим
развитием, всеми последующими революциями. Научно значимой
и истинной является только самая последняя теория, возникшая в
ходе последней революции.
Все прочее — это заблуждения, ошибки, которые только в та¬
ком качестве и могут войти в историческое исследование. Прошлое
имеет значение только постольку, поскольку оно подготовило на¬
стоящее. В настоящем знании оно содержится в снятом виде и толь¬
ко в таком качестве представляет интерес для естествоиспытателя.
Если же историк не только включает научные революции в истори¬
ческое повествование, но и рассматривает их как наиболее сущест¬
венные его элементы, то это означает весомость и значимость для
исторической реконструкции и основных составляющих этих рево¬
люций, а именно двух следующих друг за другом во времени и сме¬
няющих одна другую фундаментальных теорий. И они представляют
интерес не теми своими аспектами, которые в снятом виде вошли в
современную теорию, а как некоторая исторически определенная
целостность, обладающая своими уникальными свойствами, гармо¬
нически включенными в определенную культуру, сочетающимися с
социальным контекстом той или иной исторической эпохи.
Когда при этом ставится задача восстановить логическую по¬
следовательность исторических событий прежними логическими
средствами, неизбежно возникает противоречие: прежние логиче¬
ские средства нс могут успешно работать, поскольку изменились
исходные условия, когда единственно верной признавалась лишь
последняя фундаментальная теория. Вот это противоречие и дела¬
ло, на наш взгляд, беспомощными и искусственными большинство
попыток написать историю науки, которая понималась, как про¬
цесс, с одной стороны, поступательно прогрессивный, однонаправ¬
ленный, а с другой стороны, включающий в себя как особо значи¬
мые научные революции, понимаемые по Куну.
Постепенно эта трудность была преодолена по преимуществу
стихийно, путем переориентации историков на ситуационные ис¬
следования (case studies). Сейчас мы не будем специально останав¬
ливаться на этом типе исторической реконструкции, отмстим
44
лишь, что он получил широкое распространение в значительной
степени в результате трансформаций в понимании роли революций
в истории науки.
Любопытно обратить внимание на следующий факт. Кризис по¬
зитивизма в середине XX в. вызвал повышенный интерес к науч¬
ным революциям, они стали предметом активного обсуждения и
историков, и социологов, и философов науки. Им посвящались
многочисленные исследования, велись дискуссии, на базе которых
публиковались работы, в свою очередь вызывавшие споры и обсуж¬
дения. Но постепенно к концу 70-х — началу 80-х годов этот бум
интереса к научным революциям спал и сам термин «научная ре¬
волюция» стал встречаться все реже. В чем тут дело?
Дело, на наш взгляд, в серьезной трансформации понятия на¬
учной революции, которая привела к выдвижению на передний
план ряда других понятий, более активно работающих при реше¬
нии возникающих проблем в области философии, истории, со¬
циологии науки.
Прежде всего о сути трансформации понятия научной револю¬
ции. Мы уже говорили о том, что вместе с включением научных
революций в конечный вариант исторической реконструкции при¬
обретают значение теории прошлого нс как некоторые ошибки, за¬
блуждения, зигзаги в сторону от генеральной линии научного раз¬
вития, а как обладающие своей непреходящей значимостью, осо¬
бенностью и как присутствующие в нашей современности именно в
таком своем качестве.
Но если дело обстоит таким образом, то разрушительная функ¬
ция научной революции ставится под вопрос; существенной для по¬
нимания исторического процесса является созидательная функция,
возникновение нового знания, но без разрушения старого^. На пе¬
редний план выдвигается представление о сосуществовании про¬
шлого с настоящим. При этом сосуществование предполагает не
идею снятия, когда прошлое утрачивает все свое своеобразие
и просто поглощается настоящим, а равноправное сосуществова¬
ние. Мы подчеркиваем сейчас два момента: равноправие и сосуще¬
ствование.
Разумеется, этот тезис скрывает в себе массу сложных про¬
блем, которые мы пока что оставляем в стороне3. Чтобы показать
их сложность, достаточно назвать одну из них: какова логическая
форма такого рода сосуществования научных теорий? Большинство
современных исследователей науки склоняются сейчас к мнению,
что case studies могут быть только эмпирическими по своему ха¬
рактеру. Мы нс согласны с такой точкой зрения. Дело здесь, ско¬
рее, в том, что формируется новый тип теоретичности и в контек¬
сте этого процесса преобразовываются многие понятия, меняется
их смысл и характер отношений с другими понятиями. В настоя¬
щей статье мы пытаемся в какой-то степени осветить этот процесс
на примере трансформаций понятия научной революции.
По-видимому, причиной того, что о научных революциях гово¬
рят сейчас несравненно меньше, чем два-три десятилетия назад,
45
является изменение представления о том, что же такое есть науч¬
ная революция. Это изменение привело к лишению понятия науч¬
ной революции свойства разрушения старого, а без такой разруши¬
тельной функции неясно, с чем мы имеем дело, действительно ли с
научной революцией или с чем-то другим.
Сам по себе термин «революция», как и любой другой, истори¬
чески нагружен, и в это исторически сформированное содержание
понятия революции прочно вошел компонент коренной переделки
старого. Поэтому исследователи науки, даже не вникая ни в какие
детали логической судьбы понятия научной революции в последние
десятилетия, имея дело с событиями прошлого как не утратившими
для нас своего значения в качестве событий уникальных, неповто¬
римых, не стертых со страниц истории последующими событиями,
или имея дело с современными теориями, сосуществующими не¬
смотря на различный характер объяснения ими действительности, в
значительной степени инстинктивно избегают использования поня¬
тия научной революции, поскольку оно плохо работает.
Появляются другие понятия, ранее существовавшие на перифе¬
рии философских и исторических исследований науки, такие, как
уникальность, событие, самодетерминация и самодействие, тради¬
ция, выбор, диалогичность, субъектность научного знания и ряд
других. Понятие научной революции, как оказалось, было наи¬
более эффективным, когда оно работало в паре с такими поня¬
тиями, как эволюционизм, кумулятивизм, непрерывность, посту¬
пательность. Научная революция, выталкиваемая постоянно из
философских, исторических, социологических концепций, незри¬
мо присутствовала в них как основная движущая сила научного
прогресса. Как и подобает «силе», она не анализировалась логиче¬
ски, ее природа не выяснялась, но она была двигателем научного
прогресса.
Когда же, как казалось, научная революция начала занимать в
концепциях о науке подобающее ей место основного звена истори¬
ческого процесса, в кульминационный момент своего выхода на
авансцену, она сама же разрушает условия своего собственного ак¬
тивного существования в контексте традиционных (для XIX и пер¬
вой половины XX в.) концепций развития науки. Обнаружилось,
что только в тени своих антиподов (эволюция, кумулятивность и
т. д.), отрицаемая ими и тем самым определяемая, таинственная и
непознаваемая с точки зрения господствовавшей логики, научная
революция могла выполнять свою фундаментальную роль в разви¬
тии знания.
Когда же она была вытащена на свет и се попытались разло¬
жить на части (кризисная ситуация, возникновение аномалий, кон¬
куренция старой и новой теорий и т. д.), каждая из которых под¬
верглась изучению, анализу, интерпретации, была испытана на ло¬
гическую непротиворечивость и рационалистическую значимость,
тогда понятие научной революции сработало в направлении упраз¬
днения исходных предпосылок концепций развития науки, в кото¬
рых как нечто само собою разумеющееся предполагалась неизбеж¬
46
ность разрушения старого знания в ходе научной революции, заме¬
ны его новым и на его базе перестройки всей прошлой истории.
Как только исследователи взглянули на понятие научной рево¬
люции как на некоторую проблему, требующую решения, это по¬
нятие трансформировалось таким образом, что лишилось одной из
своих основных характеристик (функции разрушения), и на этом
прекратило свое существование в прежнем качестве. Теперь оно
опять отошло на периферию исследований науки, но уже иначе,
чем это имело место в традиционных концепциях. Теперь оно не
только по форме, но и по существу является второстепенным и не
играет сколько-нибудь значительной роли при решении возникаю¬
щих проблем.
На наш взгляд, важно отметить, что имеется некоторый общий
механизм преобразования понятий. При переходе к новому типу
историко-научных исследований из двух парных понятий одно су¬
ществовало (в традиционных концепциях) как бы незаконно с точ¬
ки зрения логики и рациональности и если и проникало в конеч¬
ный результат исследования, то какими-то обходными путями, не¬
легально. Трансформация понятия научной революции совершается
в сопряжении с коренными изменениями таких понятий, как соци¬
альность всеобщего труда (которой противостоит социальность со¬
вместного труда), субъект научной деятельности (против логики
научной теории), дискретность (против непрерывности), ситуация
выбора (против жесткого детерминизма), целостность события
(против точечности факта) и ряд других. В ходе преобразований,
которые имели место последние два-три десятилетия в истории,
философии и социологии науки, перечисленные выше понятия бы¬
ли выдвинуты на передний план, подверглись пристрастному рас¬
смотрению, обсуждению, анализу.
§ 3. Прерывность и непрерывность
Начнем с графического изображения исторического процесса. В
случае традиционной историографии науки исторический процесс
изображается прямой однонаправленной линией, непрерывность
которой обеспечивается каждый раз заново в ходе перестройки
прошлого после фундаментальной научной революции. Мы уже пи¬
сали о том, что непрерывность истории достигается путем изобра¬
жения этой истории как предыстории каждой очередной научной
революции, причем логическая структура полученного в ходе этой
революции нового научного знания и выстраивает все прошлые
факты в единый последовательный ряд. К единству и непрерывно¬
сти путь лежит через уничтожение в ходе революции всего, что не
вписывается в логику вступившего в свои права нового знания. Та¬
кая история монистична, в каждый данный момент в ней домини¬
рует один субъект — теория, который будет заменен в будущем,
но их сосуществование невозможно. Точнее будет сказать, что ре¬
ально существующая в истории множественность теорий, особенно
в революционные периоды, должна быть преодолена, это нечто не¬
47
нормальное для науки, хотя и неизбежное в определенные периоды
ее развития. Конкуренция, борьба между теориями имеет своей
целью победу одной из них. Наличие многих теорий — преходя¬
щее, временное, неустойчивое состояние.
Историческая картина, складывающаяся на базе case studies4,
представляет собой что-то вроде плоскости с возвышающимися на
ней холмами и пиками, изображающими события меньшей и боль¬
шей значимости. Поскольку по ходу истории старые события не
вытесняются новыми, как не имеющими значения, история стано¬
вится многосубъектной, многособытийной.
Теоретическое отношение человека к миру неодинаково в раз¬
ные исторические эпохи, соответственно неодинаковы и субъекты
деятельности, они отличаются друг от друга, их много. Научно-те¬
оретическое отношение специфично для периода с XVII по начало
XX в.5 Познавательная деятельность этого периода характеризует¬
ся своей направленностью вовне, на природу, которая изучается,
интерпретируется, используется, покоряется. Получаемый резуль¬
тат максимально освобождается от всяких социальных, личностных
характеристик исследователя и общества в целом. Механизм этого
очищения особенно четко воспроизводится в структуре естествен¬
нонаучного эсперимента нового времени, который строится в соот¬
ветствии с основными идеализациями науки: материальная точка и
инерционное движение6.
Как следствие, логический субъект оказывается одним и тем же
во всех случаях, поскольку все индивидуализирующие его черты
несущественны и подлежат устранению из конечного результата, а
в идеале он превращается в точку. Такое понимание субъекта по¬
знавательной деятельности очень существенно для гносеологии, ко¬
торую часто называют классической и которая является итогом
сложной многовековой работы в области логики и философии.
Поэтому нельзя согласиться с мнением, что научно-теоретиче¬
ское отношение к миру необходимо подправить, улучшить, доба¬
вить в него социальные, личностные моменты и тогда оно будет со¬
ответствовать потребностям сегодняшнего дня. Непродуктивными
являются и утверждения о том, что нововременная гносеология ни¬
когда не обладала теми свойствами, которые сама же провозглаша¬
ла необходимыми: имеются в виду ее требования, чтобы научные
результаты до конца были освобождены от всякой социальности,
личностности и т. д.
На самом деле устранение из научной теории всего, что исхо¬
дит от человека, провозглашалось гносеологией как некоторый иде¬
ал, к которому надо стремиться, но который всегда остается недо¬
стижимым. Процесс познания бесконечен, каждый момент прогрес¬
сивного развития менее совершенен, чем последующий, знание
становится все более объективным и истинным благодаря последо¬
вательному устранению из него всего социального. Именно поэто¬
му преднамеренное включение в научное знание социальности в
том или ином ее виде просто разрушает стройное здание классиче¬
ской гносеологии нового времени.
48
Новая философия науки строится заново, на совершенно иных
предпосылках. Если в классической гносеологии условием истинно¬
сти новой научной теории и ее конкурентоспособности являлось
максимальное устранение из нее всего социального, то в XX в., на¬
оборот, теория должна определить свое отношение нс только к пред¬
мету познания, но и к другим вариантам теоретической реконструк¬
ции этого предмета, к другим субъектам познавательной деятельно¬
сти. Субъектность включается в научное знание и через проблему
прибор—объект: изучаемый предмет в принципе не может быть от¬
делен от действия прибора, это действие должно быть учтено.
Обычно при интерпретации факта множественности теоретиче¬
ских реконструкций природного объекта, подлежащего изучению,
возникает следующая трудность: одному и тому же предмету по¬
знания соответствует много теорий, не отрицающих друг друга, не
снимающихся одна в другой, наоборот, они сосуществуют. Как же
быть с объективностью научного знания и его истинностью? Еще
два гносеологических понятия, очень существенных для понимания
науки, которые ставятся под вопрос, рассматриваются под иным уг¬
лом зрения. Не оказываемся ли мы в царстве полного релятивизма?7
Чтобы этого не произошло, очень важно, на наш взгляд, не
воспринимать предмет познания как некоторую данность, как не¬
которое наличное бытие, как оно есть. Предмет познания следует
понимать как реализующийся через актуализацию его разнообраз¬
ных возможностей бытия. Образцом может служить понятие эле¬
ментарности в квантовой механике: элементарный объект может
стать или корпускулой, или волной, причем не одновременно. Воз¬
можность реализации любой из этих возможностей воплощает в се¬
бе элементарность полностью, а не какую-то ее часть или сторону.
Истина о предмете достигается путем диалогического взаимо¬
действия теоретических конструкций, воспроизводящих в себе ту
или иную возможность бытия. Полисубъсктности соответствует нс
один предмет познания как некоторая данность, а предмет позна¬
ния с возможностью актуализации разных сторон своего существо¬
вания.
Если в классической гносеологии идеализация субъекта дея¬
тельности строилась по принципу идеализаций в механике, где за¬
коны движения относились к материальной точке, то в гносеологии
XX в. предмет познания, его идеализация создаются по образу
субъекта деятельности, таких его субъектных характеристик, как
самодетерминация и самодействие, через актуализацию тех или
иных возможностей его бытия.
Объективные характеристики предмета, на который направлено
мышление, оказываются еще более очевидными в том смысле, что
предмет сохраняет самостоятельность, независимость существова¬
ния от всех возможных его теоретических реконструкций: если в
классической гносеологии присутствие в научном теоретическом
знании социальных, субъективных характеристик означало несо¬
вершенство этого знания, его недостаточную объективность, то в
философии науки XX в. присутствие субъсктности в научном зна¬
49
нии означает, что в каждой из теоретических интерпретаций пред¬
мета природы присутствуют и иные актуализации возможностей
его бытия, но они нашли свое воплощение в других теориях и при¬
сутствуют в данной теории как ей предметно противостоящие. Если
в классической гносеологии субъект устраняется из конечного ре¬
зультата, то в XX в. объективное существование предмета позна¬
ния теоретически обосновывается внутри самого знания, можно го¬
ворить о целостности некоторого события.
Возникает проблема связи между отдельными событиями, про¬
блема континуальности.
Прежние логические средства не годятся — нельзя разрушить
то, что не подчиняется логике пусть даже совершенной последней
теории. Разговор надо вести на равных, признавая право оппонента
на существование. Между событиями устанавливаются диалогиче¬
ские отношения. Аналогичный тип общения устанавливается и
между конкурирующими теориями, сосуществующими во времени.
В исторических и философских работах по науке все чаще подчер¬
кивается момент именно сосуществования разных теорий, пара¬
дигм, а вместе с тем и субъектов.
Если мы вернемся к нашему изображению исторической реаль¬
ности как плоскости с возвышениями, изображающими отдельные
субъекты-события, то общение между ними можно изобразить в
виде соединяющих их линий. Поскольку событий бесконечно мно¬
го, то и актов-общений тоже бесконечно много, и если все возмож¬
ные (но совсем не обязательно реализованные) контакты пред¬
ставить на нашей схеме линиями, то вся плоскость, изображающая
историческую реальность, будет покрыта ими. Таким образом, если
в традиционных исторических концепциях мы имеем исторический
процесс в виде сплошной линии, в своем идеале лишенной разры¬
вов и образованной из точек-фактов, то в исторических концепци¬
ях типа case studies историческая реальность может быть изобра¬
жена плоскостью, сплошь покрытой чем-то вроде силовых ли¬
ний — общений. Таким путем здесь преодолевается дискретность.
Но в случае case studies дискретность приобретает несколько
иной смысл, как, впрочем, и непрерывность, или континуальность.
События должны отстоять друг от друга на некотором расстоянии,
чтобы сохранить свою индивидуальность и свою непохожесть на
прочие события. В этом смысле дискретность неизбежна и необхо¬
дима, но она не обладает абсолютным характером: пространство
между отдельными событиями заполнено полем общения, без кото¬
рого события не могут существовать.
Имеется еще другая сторона проблемы континуальности в исто¬
рических исследованиях типа case studies. Контакты между отдель¬
ными историческими событиями ни в коем случае не являются
внешними взаимодействиями или переходами от одной теории к
другой в одном направлении от прошлого к будущему. Речь идет о
возможности при некоторых предельных условиях двустороннего
перехода от одной теории к другой и обратно (вспомним принцип
соответствия в физике). Примерно такой механизм мы и имели в
50
виду, когда заполняли выше нашу плоскость, изображающую исто¬
рическую реальность, силовыми линиями взаимодействия.
Можно говорить и о другом способе взаимодействия, когда каж¬
дое событие-теория внутри себя содержит переход от одной теории
к другой и только благодаря этому может существовать (вспомним
принцип дополнительности Бора). В идеале каждое событие, как
воронка (опрокинем наш конус на плоскости вершиной вниз), мо¬
жет втянуть в себя все прошлое и все будущее. В этом смысле то¬
же можно говорить о преодолении в истории дискретности в смысле
всеобщности каждого отдельного события.
Уже из только что сказанного становится достаточно очевид¬
ным, что сами понятия дискретности и непрерывности в условиях
case studies трансформируются, и весьма существенно. Прежде все¬
го, дискретность не является объектом преодоления в пользу пол¬
ной непрерывности. Если мы в истории, да и в нашей современно¬
сти, имеем дело с событиями уникальными, непохожими друг на
друга, то они и пространственно должны отстоять друг от друга, а
не образовывать некоторую гомогенную поверхность, подобно тому
как в кумулятивистской истории факты-точки образуют сплошную
прямую линию.
Соотношение дискретности и непрерывности мыслится как воз¬
можная реализация одной из двух возможностей. Или мы пред¬
ставляем историческую действительность как возможность реализа¬
ции всех событий, эмпирически в ней присутствующих и бесконеч¬
но разнообразно друг с другом сообщающихся, что можно изобра¬
зить как заполнение всего пространства-плоскости между ними си¬
ловыми линиями воздействия, или же мы ту же историческую дей¬
ствительность представим как возможность ее втягивания в одно¬
единственное, любое из всех событий. Это событие, как воронка,
вовлекает в себя все остальные, все прошлое, настоящее и будущее.
Тем самым предполагается, что все связи этого события с дру¬
гими, и реализованные в прошлом, и сохранившиеся в виде исто¬
рически не реализованной возможности, свернуты в этом событии,
как готовая в любой момент распрямиться пружина. И от исследо¬
вателя зависит, выбрать для анализа действительно наиболее важ¬
ные механизмы взаимодействия, те, которые выражают и особен¬
ное своеобразие изучаемого события, и через это своеобразие все¬
общность истории.
Подобно тому как событие фокусирует в себе, как целостное
событие, весь мир (движение внутрь события), так и в любом акте
взаимодействия с внешним миром событие проявляет себя непре¬
менно все целиком, всеми своими свойствами, сфокусированными
именно в этом акте взаимодействия (движение вовне).
§ 4. Ситуация выбора
Если исходить из такого положения вещей, когда перед естест¬
воиспытателем оказывается несколько равноценных теорий, ни
одна из которых не обладает монополией на выработку пра¬
51
вил проведения научного исследования, тогда ученый покида¬
ет мир жесткой детерминации своей деятельности извне и попа¬
дает в ситуацию выбора. По-видимому, именно потому, что в
последние одно-два десятилетия, как мы старались показать выше,
исследователи науки предполагали именно политеоретичность со¬
временного естествознания, понятие выбора подвергается активно¬
му обсуждению. Для понятия выбора можно назвать в качестве
парного понятия необходимость, опирающуюся на внешнюю детер¬
минацию.
В традиционных историко-научных концепциях ситуация выбо¬
ра исключалась из окончательных вариантов рациональных рекон¬
струкций истории вместе с научными революциями. Если научная
революция заведомо выводила на историческую сцену более совер¬
шенную научную теорию, то и сама процедура выбора нс играла
особой роли, поскольку заранее предопределен выбор в пользу но¬
вой теории. И эта новая, превосходящая прежнюю по всем основ¬
ным параметрам, рано или поздно непременно появляется, если не
отрицать прогрессивного, поступательного, кумулятивного разви¬
тия науки.
Но поскольку проблема выбора подводит историков и филосо¬
фов науки к оценке теории через изучение ее существования и
функционирования на своих границах, в отношении и соответствии
с другими теориями, то поэтому она и начинает приобретать боль¬
шое значение в тот момент, когда в историческую реконструкцию
на равных включаются многие научные теории. В этом случае вы¬
бор нс предопределен заранее и приобретает другой логический
смысл. Уже в традиционных работах по истории науки, когда дело
касается проблемы выбора, речь идет о конкуренции и соревнова¬
нии теории с другими теориями. Выясняется вопрос о способности
теории ликвидировать аномалии, разрешить возникшую в развитии
науки кризисную ситуацию, о возможности прогрессивного или ре¬
грессивного развития теории. В центре внимания историков и фи¬
лософов науки нс логическая структура уже сформировавшейся те¬
ории и нс процесс возникновения теории в голове ученого, а неко¬
торая промежуточная ступень, когда теория уже возникла, но еще
не утвердилась в качестве законного элемента системы готового
знания.
Научное знание в этом случае не успело еще полностью дспер-
сонифицироваться. Когда новая научная теория возникла в голове
ученого, но еще нс представлена на суд членов научного сообщест¬
ва, она неразрывно связана с личностью ученого, является его до¬
стоянием, он может, в конце концов, и нс поделиться своими от¬
крытиями с коллегами, и тогда они никогда нс перейдут (восполь¬
зуемся терминологией Дж. Холтона) из сферы «частного» в сферу
«общественного». Действительно, ведь в ситуации выбора ученый
имеет дело со знанием еще нс уравновешенным, нс устойчивым, не
утвердившимся в качестве безусловно истинного, принимаемого
всеми членами научного сообщества, но все-таки уже имеющимся
налицо, изобретенным, открытым.
52
В контексте позитивистской философии и истории науки пред¬
полагалось, что анализ структуры научного знания (в форме тео¬
рии, научно-исследовательской программы, парадигмы и т. д.) нс
только можно проводить, отвлекаясь от процессов его производства
и оценки, но что такое отвлечение необходимо. Деятельность уче¬
ного по порождению знания и по выбору между сосуществующими
и следующими друг за другом теориями связывалась исключитель¬
но с индивидуальными, социально-психологическими характери¬
стиками ученого, которые не имеют ничего общего с логической
структурой знания и поэтому совершенно безболезненно и с необ¬
ходимостью отсекаются от нее8.
Структура научного знания жестко однозначна, выбор же пред¬
полагает у ученого наличие свободы воли, никак не подчиняющей¬
ся ни логике готового знания, ни логике развития этого знания.
Процедура выбора, понимаемая в контексте социально-психологи¬
ческих, индивидуальных, биографических характеристик ученого
включалась соответственно в социальную историю науки и в исто¬
рические труды биографического профиля. Из истории научных
идей ситуация выбора, понимаемая таким образом, вполне законо¬
мерно выпадала. Эта постановка вопроса находится полностью в
русле традиционной историографии науки.
Каждая последующая теория в развитии науки совершеннее
предыдущей, она ближе подходит к абсолютной истине. Если в
каждый данный момент в ситуации выбора в науке истинность и
ложность — абсолютный критерий выбора, то в истории науки
этот критерий выступает как относительный. Между старой и но¬
вой теориями существуют отношения последовательного приближе¬
ния к истине. Новая теория заменяет старую, так как она ближе к
абсолютной истине. Ложные теории вообще выбрасываются из ра¬
циональной реконструкции истории, остальные выстраиваются по
степени своей истинности.
Неравноценность с точки зрения истинности теорий, между ко¬
торыми следует сделать выбор, самоочевидна. В предельном случае
выбор осуществляется между истиной и ложью. Одним из класси¬
ческих примеров выбора такого рода можно назвать выбор между
птолемеевской теорией и копсрниканской. Копсрниканская теория
истинная, поскольку действительно Земля вращается вокруг Солн¬
ца, а нс наоборот. Теория Птолемея ложная, она извращает фак¬
ты. Эксперимент, опыт, практика являются однозначным, автома¬
тически срабатывающим критерием истинности теории и одновре¬
менно объективным критерием выбора между теориями. Ситуация
выбора разрешается, как правило, появлением новой совокупности
фактов. Но эти факты сами по себе могут решать выбор только че¬
рез эксперимент, физический экспсримснт-круцис. Эксперимент,
как теоретически нагруженный, в свою очередь, переходит в мыс¬
ленный эксперимент и решает проблему логически.
Процедура выбора элиминируется из теории, в теорию она
включается как процедура вывода. В теории выбор осуществляется
как бы самим неумолимым законом развития знания, функциони¬
53
рующим независимо от творческой деятельности и деятельности по
выбору отдельной человеческой личности. Из всей массы изобрета¬
емого, открываемого для включения в объективный ряд развития
отбирается только то, что наилучшим образом соответствует векто¬
ру поступательного движения. Поскольку развитие жестко одно¬
значно, направленно, прогрессивно, каждый последующий шаг не¬
обходимым образом связан с предыдущим состоянием. Решение
вопроса, какая теория лучше соответствует следующему шагу впе¬
ред, который надо сделать в движении к абсолютной истине, не
представляется столь уж сложным. Теория как бы вставляется в
уже готовую, определенной формы, но еще полую ячейку, конфи¬
гурация которой определена предыдущим развитием. Эксперимент
решает, какая теория наилучшим образом войдет в ячейку и ока¬
жется победительницей в конкуренции с другими теориями.
Выбор, осуществляемый ученым, понимается исключительно
как связанный с индивидуальными качествами ученого, его про¬
фессионализмом, эрудицией, характером, с его отношением к кол¬
легам и т. д., и в такой интерпретации проблема выбора остается
за пределами науки. В науку она включается как проблема, разре¬
шаемая объективно необходимым экспериментом. Но после того
как эксперимент решил в пользу той или иной теории, надо еще
эту теорию логически включить в существующую систему теорети¬
ческого знания.
До поры до времени в историографии науки процедуры выбора
расщеплялись на психологический, социальный аспект, связанный
с личностью ученого, и на практический и логический аспекты,
связанные с необходимо-объективным, внеличностным развитием
научного знания. Эти аспекты существовали независимо друг от
друга, но на передний план выдвигался практический аспект про¬
цедуры выбора, ситуация выбора разрешалась с помощью критерия
практики, путем проведения эксперимента-круцис.
Предполагалось, что эксперимент, опыт, как стоящие вне тео¬
рии, даже противостоящие ей, могут быть беспристрастными судья¬
ми в решении вопроса, какая теория более истинна. Социально¬
психологический, экспериментально-практический и теоретико-ло¬
гический аспекты проблемы выбора достаточно жестко расчленя¬
лись при очевидном доминировании второго аспекта, эксперимен¬
тально-практического.
Нам кажется важным подчеркнуть следующие черты в интерп¬
ретациях истории науки середины XX в., которые ответственны за
то, что проблема выбора трансформируется, начинает звучать ина¬
че и каждый из ее аспектов приобретает другой смысл. Само пред¬
ставление о науке становится более сложным и дифференцирован¬
ным. В науке вычленяются несколько аспектов, между которыми
проложены жесткие демаркационные линии: наука как система со¬
циальных институтов, наука как совокупность профессиональных
научных сообществ, наука как деятельность проблемных групп, не¬
видимых колледжей, наконец, наука как система знаний о мире,
подразделяемая на фундаментальные и прикладные знания.
54
В зависимости от того, какой аспект науки подлежит исследо¬
ванию, проблема выбора анализируется или как социальная (в сис¬
теме общественных, социальных отношений), или как психологи¬
ческая и этическая (в рамках отношений внутри научного сообще¬
ства, как элемент поведения ученого), или как теоретическая
(в русле развития теоретического знания), или как опытно-экс¬
периментальная (в плане подтверждаемости естественнонаучного
знания экспериментом и в контексте возможностей его использова¬
ния на практике). По крайней мере феноменологически все эти
различные способы подхода к решению проблемы выбора сущест¬
вуют независимо друг от друга, они разделены жесткими демарка¬
ционными линиями с гораздо большей очевидностью, чем в про¬
шлом веке.
К середине XX в. особенно большое значение приобрели иссле¬
дования проблемы выбора с точки зрения социально-психологиче¬
ских и этических отношений между учеными. Здесь прежде всего
следует назвать Р. Мертона и его школу. Если сферу генерации,
порождения нового знания Мертон решительно вычленяет в об¬
ласть сугубо индивидуального, уникального, особенного, поддаю¬
щуюся изучению только методами исторического описания9, то си¬
туация выбора является у него элементом социально-психологиче¬
ского поведения членов научного сообщества и регулируется нор¬
мами научного этоса.
Но по мере углубления кризиса позитивистской философии на¬
уки для понимания научных идей в их развитии и в их структуре
становится все более необходимым увидеть в теоретическом знании
ситуацию выбора, систему критериев, по которым члены научного
сообщества оказывают предпочтение той или другой теории. Реше¬
ние проблемы выбора в контексте теоретического знания оборачи¬
вается обнаружением социальности в самом развитии научных
идей.
Одновременно логизируется и в таком логизированном виде
включается в теорию практический аспект проблемы выбора. Это¬
му процессу довольно много внимания уделяет Кун в своей книге
«Структура научных революций»10. Он там специально подчерки¬
вает, что полное опровержение старой теории возможно только по¬
сле возникновения новой, сам по себе опыт и опровергающий экс¬
перимент нс могут дискредитировать теорию, поскольку ни одна
теория ни при каких обстоятельствах не может объяснит!, всех
фактов, всегда можно найти опытные данные, нс согласующиеся с
теорией.
И. Лакатош в своей статье «Фальсификация и методология на¬
учно-исследовательских программ»11 убедительно показал, что так
называемые экспсрименты-круцис выступают в своей роли решаю¬
щих, опровергающих и т. д. иногда лишь десятилетия спустя н и к
их проведения, как это было, например, с экспериментом Май
кельсона-Морли, т. е. только тогда, когда будет сформулировав
окончательно теория, в рамках которой эксперимент становится
опровергающим предыдущую теорию. Другими словами, экспсри-
55
мент, практика приобретают в науке смысл только тогда, когда они
переходят в логику теории.
Если обе конкурирующие теории истинны, если, следовательно,
логика раздваивается (ведь каждая из теорий построена в соответ¬
ствии с логикой), то и практика, подтверждающая каждую из тео¬
рий, тоже раздваивается. Классическая механика Ньютона так же
хорошо подтверждается практикой движения тел со скоростями,
далекими от световой, и идеализациями действительности, где ос¬
новными элементами являются пустота и материальная точка, как
и релятивистская механика Эйнштейна подтверждается практикой
движения тел со скоростями, приближающимися к световой, и иде¬
ализациями практики, где доминирует принципиально новое пони¬
мание элементарности.
Раздвоение практики осуществляется путем доведения до пре¬
дела (до логического предела, в идеальных условиях) тех или иных
характеристик практики, например скорости движения тел. Прак¬
тика переходит в логику, реальный, физический эксперимент пере¬
ходит в эксперимент идеальный, мысленный, который и разрешает
ситуацию выбора путем выбора между двумя логиками. Пробле¬
ма выбора становится логической проблемой, причем практи¬
ческий аспект этой проблемы, логизируясь, оказывается вклю¬
ченным в нее.
В естествознании XX в. ситуация выбора разрешается согласно
принципу соответствия и принципу дополнительности. В рамках
принципа соответствия выбор осуществляется путем определения
для каждой теории тех предельных условий, при которых она ис¬
тинна. Выбор делается с помощью мысленного эксперимента, кото¬
рый, однако, не может быть проведен реально. В определенной экс¬
периментальной ситуации принимается решение в пользу одной те¬
ории, в другой ситуации — в пользу второй теории. Выбор не абсо¬
лютен, он относителен, это учитывается заранее. В саму теорию
вводятся экспериментальные условия, а это значит, что в характе¬
ристику самой теории вводятся условия выбора. Наличное знание
включает в себя историческую ситуацию как логически значимую.
Творчество и выбор в прошлом расчленялись. В XX в. встала про¬
блема их объединения. Чтобы выбрать, надо повторить творчество.
Принцип дополнительности ставит вопрос о соотношении двух
теорий, а вместе с тем и проблему выбора еще более фундамен¬
тальным образом, чем принцип соответствия. Если принцип соот¬
ветствия определяет условия предельного перехода от одной теории
к другой, то принцип дополнительности говорит о невозможности
существования квантовой теории (одной теории) без постоянного
перехода внутри этой теории от микрофизики к макрофизике и об¬
ратно. То есть сама эта теория становится как бы теорией перехо¬
да, теорией выбора.
Как известно, согласно принципу дополнительности, поведение
атомных объектов нельзя резко отграничивать от их взаимодейст¬
вия с измерительными макроприборами и все опытные данные дол¬
жны описываться при помощи классических понятий, в том числе
56
и такие, выявляемые с помощью макроприборов взаимодополни-
тельные свойства элементарного объекта, как корпускулярные и
волновые. Касаясь лишь вскользь некоторых физических характе¬
ристик принципа дополнительности, могущих помочь нам разо¬
браться в своеобразии постановки проблемы выбора в XX в., на¬
помним, что физики часто пишут о неделимости микрообъекта.
При этом имеются в виду, во-первых, неотделимость волновых и
корпускулярных свойств микрообъекта и, во-вторых, неотдели¬
мость микрообъекта от макроприбора. В классической механике
свойство материальной точки быть жестко локализованной в про¬
странстве, быть точкой пересечения координат (здесь физическая
точка превращается в математическую точгсу) и, с другой стороны,
ее свойство обладать импульсными, силовыми характеристиками
спокойно сосуществовали в рамках различных теорий, математиче¬
ских и динамических, причем кинематика была некоторым проме¬
жуточным полем между ними.
Обнаруживались эти противоположные свойства, как и в кван¬
товой физике, с помощью разных приборов: неподвижные, жестко
фиксированные установки для определения пространственного по¬
ложения и подвижные — для определения импульса силы. Только
при анализе микрообъекта в квантовой физике стал очевидным ан¬
тиномический характер свойств материальной точки. Разведенные
по разным теоретическим системам свойства математического и
физического континуума пришлось совместить в характеристике
одного микрообъекта. Оказалось, что, чем точнее определяется по¬
ложение микрообъекта в пространстве и во времени, тем неопреде¬
леннее становятся его импульсные характеристики, и наоборот.
Теоретический и экспериментальный аппарат квантовой физи¬
ки демонстрирует неразделенность корпускулярных и волновых
свойств микрообъекта с соответствующими несовместимыми друг с
другом макроприборами и понятиями классической физики. И в то
же время эти свойства микрообъекта в отличие от свойств матери¬
альной точки в классической физике не могут существовать от¬
дельно, микрообъект в своей возможности является и волной, и
корпускулой.
Для наших целей важно подчеркнуть, что с позиций квантовой
физики (и только с этих позиций) можно увидеть антиномическую
природу исходных идеализаций классической физики, ее кинема¬
тических и динамических теорий. В свете принципа дополнитель¬
ности классическая механика сама выступает как теория перехода,
теория выбора между динамикой и кинематикой.
Трудность в том, что макроприборы и макропонятия, служащие
для проведения экспериментов и интерпретации их результатов,
регистрируют наблюдаемые явления, такие, как следы от удара
микрочастицы о фотопластинку или картина интерференции волн
при прохождении частицы сквозь щель в экране. Эти же по сути
макроявления (показания счетчиков, движение стрелки по шкале
прибора и т. д.) интерпретируются или предсказываются и фор¬
мальным аппаратом квантовой физики. Все эти наблюдаемые явле¬
57
ния принадлежат или к области корпускулярной, или к области
волновой физики. Между тем принцип дополнительности совер¬
шенно недвусмысленно утверждает, что речь в данном случае идет
не о корпускулах и не о волнах, а о микрообъектах, обладающих в
потенции и теми и другими свойствами, могущими быть обнару¬
женными только с помощью макроприборов, от которых их невоз¬
можно отделить.
Бор пишет: «...данные, полученные при разных условиях опы¬
та, не могут быть охвачены одной-единственной картиной; эти дан¬
ные должны скорее рассматриваться как дополнительные в том
смысле, что только совокупность разных явлений может дать более
полное представление о свойствах объекта»12.
Эйнштейн в его известном споре с Бором выражал неудовлетво¬
ренность необходимостью относить все результаты экспериментов и
математических вероятностных расчетов к классическим понятиям
волны и частицы. Любая теория, полагает Эйнштейн, должна исхо¬
дить из своих собственных идеализаций реальности. «...Я считаю
неправильным,— читаем мы у Эйнштейна,— если теоретическое
описание ставится в непосредственную зависимость от актов эмпи¬
рических наблюдений. Тенденцию к подобному подходу можно,
например, усмотреть в принципе дополнительности Бора... Я счи¬
таю, что наблюдения могут служить лишь особыми случаями, или
составными частями, физического описания...»13 «Я еще верю,—
пишет Эйнштейн в другом месте,— в возможность создания моде¬
ли, то есть теории, способной излагать сами сущности, а не только
вероятности их появления»14.
Квантовая механика оперирует классическими понятиями: точ¬
ка, корпускула, волна, причинность (интерпретируемая как прин¬
цип дополнительности), и в то же время эти исходные идеализации
и постулаты классической физики по принципу дополнительности
не могут служить сами по себе базисом квантовомеханических
представлений. Позицию Эйнштейна в споре с Бором можно пере¬
формулировать следующим образом: если нет исходных идеализа¬
ций, формирующих идеальный образ физической реальности, слу¬
жащий непосредственным предметом изучения, то нет и подлиной
теории, дающей полное описание.
Защита Бором принципа дополнительности означает защиту
очень важной идеи, определяющей, на наш взгляд, направление в
разработке фундаментальных идеализаций квантовой механики и
имеющей непосредственное отношение к нашей проблеме выбора:
понятие элементарности микрообъектов с необходимостью должно
содержать в себе идею постоянного взаимопревращения элементар¬
ных частиц. Теория становится теорией перехода волны в частицу и
наоборот, микроявлений в макроявления и обратно. Если принцип
соответствия формулирует условия взаимоперехода одной теории в
другую, то принцип дополнительности подсказывает структуру тео¬
рии, внутри себя содержащей переход от одной теории к другой.
Принцип соответствия и принцип дополнительности демонстри¬
руют нам сближение логики и истории в естествознании XX в.: ис¬
58
тория логизируется и входит в логику научной теории, а теория
тем самым приобретает исторические характеристики.
В связи с этим в XX в. (в противоположность прошлому веку)
совмещаются функции историка науки и естествоиспытателя при
решении проблемы выбора: естествоиспытатель, чтобы осуществить
выбор между теориями, должен повторить историю, переход от од¬
ной теории к другой, в самой структуре научной теории обнаружи¬
вается логизированная история. Историк науки, исследуя процессы
возникновения новых теорий и замены одних теорий другими, тем
самым уже включается в логику структуры научного знания.
Таким образом, наиболее существенным моментом проблемы
выбора является необходимость включения самой ситуации выбора
в теорию. Как это возможно? Процедура выбора включается в тео¬
рию через включение в эту теорию эксперимента-круцис, расчле¬
няющегося на предельно решающие условия. Создаются две пре¬
дельно идеальные ситуации, исключающие абсолютный выбор, но с
самого начала предполагающие только относительный выбор. Само
наличное знание включает в себя исторические ситуации как логи¬
чески значимые.
Заключение
Нашей основной задачей было показать, что самое главное при
анализе понятия научной революции — это сосредоточить внима¬
ние на его трансформации в контексте общих изменений мышле¬
ния философов, историков, социологов, изучающих науку в XX в.
При этом мы стремились продемонстрировать особый смысл, кото¬
рый приобретает выражение «контекст общих изменений». Те или
иные факты в науке (и в ее истории, и в ее современном состоя¬
нии) привлекают исследователей как нечто целостное, особенное,
не похожее на другие факты, отличающиеся от них. Факт превра¬
щается в событие.
Само по себе преобразование всей совокупности понятий, «ра¬
ботающих» при анализе науки XX в., тоже есть целостное событие
(а не просто некоторый общий контекст). Поэтому трансформация
понятия научной революции есть лишь один момент создания этой
новой целостности. Практически любое понятие приобретает новый
смысл внутри формирующегося своеобразного, не похожего на
прежние, но и не отрицающего их представления о науке.
Рассмотренные нами с большей или меньшей обстоятельностью
понятия, такие, как революция и эволюция, прерывность и непре¬
рывность, ситуация выбора и жесткая детерминация, приобретают
новое звучание в пределах достаточно частного для философии
«события», каким является анализ науки.
1 Маркова Л. А. Наука. История и историография, XIX—XX вв. М., 1987; Она же.
О природе социальности в науке: Анализ современных исследовательских про¬
грамм в социологии и истории науки // Исследовательские программы в совре¬
менной науке. Новосибирск, 1987. С. 248—266.
2 Опровергающую роль научной революции особенно обстоятельно анализировал К.
Поппер в своей теории фальсификационизма. См.: Поппер К. Логика и рост на¬
учного знания. М., 1983.
59
3 Многие из :mix проблем рассмотрены в кн.: Научные революции в динамике
культуры. Минск, 1987.
4 БолееПодробную характеристику case studies см.: Маркова Л. А. Новые формы
историко-научных исследований*и их перспективы // Воир. истории естествозна¬
ния и техники. 1987. N9 2. С. 49—60.
5 См.: Библер В. С. Мышление как творчество. М., 1975; Гайденко П. /7. Эволюция
понятия науки (XVII — XVIII вв.). М., 1987; Степин В. С. Становление научной
теории. Минск, 1976.
6 О научном эксперименте нового времени см., например: Ахутин А. В. История
принципов физического эксперимента. М., 1976; Библер В. С. Им. Кант и логика
эксперимента нового времени // Вопр. истории естествознания и техники. 1987.
N9 1. С. 51—61.
7 Эти и аналогичные вопросы рассматриваются в работах: Критика современных
немарксистских концепций философии науки. М., 1987; Юдин Б. Г. Релятивист¬
ские тенденции в западной социологии науки // Философия и социология науки
и техники: Ежегодник, 1984—1985. М., 1Ф86. С. 47—63; Markus G. Why Is There
No Hermeneutics of Natural Sciences? Some Preliminary Theses // Science in Context.
1987. Vol. 1, N 1. P. 5—51; Pinch 7\, Biiker W. Science, Relativism and the New
Sociology of Technology: Reply to Russel // Social Studies of Science. 1986. Vol. 16.
P. 347 — 360; Pinch T., Bijker W. The Social Construction of Facts and Artefacts: Or
How the Sociology of Science and the Sociology of Technology might Benefit Hach
Other // Social Studies of Science. 1984. August. P. 399—441.
8 О проблеме выбора см.: Мимчур Е. А. Проолема выбора теории. М., 1975.
9 Merton R. К. On Theoretical Sociology. N. Y., 1967. P. 3—7.
1° Кун T. Структура научных революций. М., 1977. С. 193, 197, 199.
11 Lhkatos /. 'Falsification and the Methodology of Scientific Research Programms //
Criticism and the Growth of Knowledge. Cambridge: L'niv. Press, 1970. P. 91 — 196.
12 Бор H. Атомная физика и человеческое познание. М.. 1961. С. 60—61.
п Эйнштейн A. Coop. науч. тр. М., 1967^Т. 4. С. 302.
14 Эйнштейн А. Физика и реальность: Со. ст. М., 1965. С. 65.
Н. И. КУЗНЕЦОВА, М. А. РОЗОВ
О РАЗНООБРАЗИИ НАУЧНЫХ РЕВОЛЮЦИЙ
Научные революции можно классифицировать в соответст¬
вии с качественными изменениями существенных параметров
науки. Выделяют четыре типа научных революций: появление
новых фундаментальных теоретических концепций; разработка
(или заимствование) новых методов; открытие новых объектов
исследования; формирование новых методологических программ.
Наукообразующие параметры связаны между собой, что означа¬
ет возможные связи революций разных типов, их взаимную обус¬
ловленность. Таким образом, революции не только разнообраз¬
ны, но и многоаспектны. Иными словами, одно и то же состоя¬
ние науки может быть охарактеризовано как революция не од¬
ного, а сразу нескольких типов, почти одновременно или непос¬
редственно следующих друг за другом.
Вопрос о научных революциях стал активно обсуждаться после
появления известной книги Т. Куна1 и, несомненно, под ее непос¬
редственным влиянием. Это и обусловило, как нам представляется,
на первых порах некоторую узость в постановке вопроса, состоя¬
щую в том, что революции рассматривались главным образом как
появление новых глобальных теоретических концепций, подобных
концепциям Коперника, Ньютона, Лавуазье или Эйнштейна. Но
60
революции в науке — это появление в ней чего-то принципиально
нового, чего-то такого, что коренным образом отличает одно состо¬
яние от другого. Можно ли полагать, что это обязательно новые те¬
ории? Первые шаги на пути детализации сделал сам Т. Кун, введя
представление о дисциплинарной матрице. В дальнейшем картина
все более обогащалась за счет, в частности, исследований и совет¬
ских ученых. Одно из самых богатых представлений мы находим в
работах В. С. Степина, где выделяются уже несколько типов науч¬
ных революций, причем рассматриваются случаи как внутридис-
циплинарных изменений, так и «прививки» парадигмальных уста¬
новок одной науки на другую. Революционная перестройка затра¬
гивает здесь не только отдельные теории, но и всю общую «дина¬
мическую систему» науки в целом2.
Проделанная уже работа позволяет, как нам представляется,
сделать следующие выводы. 1. Научные революции — это качест¬
венные изменения каких-то существенных параметров науки, и их
можно классифицировать или типологизировать в соответствии с
этими параметрами. 2. Указанные наукообразующие параметры,
несомненно, как-то связаны друг с другом, что означает и возмож¬
ные связи революций разных типов, их взаимную обусловленность.
Последний тезис позволяет говорить, что научные революции не
только разнообразны, но и многоаспектны, т. е. одно и то же состо¬
яние науки может быть иногда охарактеризовано как революция не
одного, а сразу нескольких типов, почти одновременных или не¬
посредственно следующих друг за другом.
Хотелось бы отметить еще один пункт, тоже частично связан¬
ный с влиянием книги Т. Куна. В своей концепции смены пара¬
дигм Т. Кун, может быть, помимо своего желания резко противо¬
поставил революции и традиции. Ученый в рамках нормальной на¬
уки действует парадигмально, т. е. традиционно; революция же —
это смена традиций, смена парадигм. Можно ли рассматривать ре¬
волюции как следствие традиционной работы? С точки зрения
Т. Куна, вероятно, нет. Ниже, однако, мы постараемся показать
противоположное, что означает существенное развитие и видоизме¬
нение куновской концепции. Ограничимся пока несколькими при¬
мерами, которые, несмотря на свою, может быть, даже несколько
вызывающую простоту, вполне способны моделировать и гораздо
более сложные процессы.
Пример первый — это ситуация чужеродного вторжения или
акция чужака. Представьте себе, что в некоторой семье существует
«дедушкино кресло», в котором традиционно сидит только глава
семьи, и никто другой. Но вот приходит гость и, ничего не подо¬
зревая, занимает это кресло. Гость абсолютно традиционен, ибо
кресла созданы для того, чтобы в них сидеть, но применительно к
данной семье этот гость совершает революцию, если, разумеется, у
него найдутся последователи. Можно еще более упростить ситуа¬
цию, убрав какие-либо предварительные запреты. Допустим, в на¬
званной семье никто никогда не играл в карты, а гость неожиданно
оказался большим любителем раскладывать пасьянс. Он опять-таки
61
действует вполне традиционно и демонстрирует свое искусство, но
после этого в жизни семьи происходит переворот, ибо новое увле¬
чение не знает границ. В науке функцию «гостя» может выполнять
любой ученый, если он вступает в контакт с другими областями
знания и становится носителем «чужих» традиций.
Второй пример, иллюстрирующий несколько иной механизм
возникновения новаций,— это пример побочного эффекта. Вос¬
пользуемся анекдотом, который приводит в одной из своих работ
Дени Дидро. Один мудрый отец, умирая, сказал своим детям, что у
него в поле закопан клад. Дети принялись вскапывать поле, клад
не нашли, но в конце осени сняли богатый урожай, для них нео¬
жиданный3. Мудрый отец, вероятно, осознавал, что в традициях
его детей не столько упорный труд, сколько жажда легкой наживы.
В сложившейся ситуации, однако, они, действуя вполне традици¬
онно, получают как раз то, чего хотел отец. С точки зрения Дид¬
ро, приведенный анекдот напоминает экспериментальную физику
его времени. Мы полагаем, что в данном плане с тех пор не столь
уж многое изменилось.
Третий пример, который понадобится нам в дальнейшем,— это
пример многоликости или, точнее, полисемантичное™ образца. Вот
ситуация, описанная известным этнографом Ю. Липсом: «Грубо
вырезанная европейская поварешка, сломанная и вновь починенная
с помощью винта, произвела настолько большое впечатление на
одного негра из Конго, что он изготовил такую же штуку для соб¬
ственного употребления. Он вырезал в точности такую же ложку
вместе с винтом, изящно выступающим из-под “сломанной" час¬
ти»4. Очевидно, что европеец действует в жестких традициях: у
него сломалась поварешка и он два куска рукоятки скрепляет вин¬
том. Так, вероятно, поступил бы почти каждый, имея винт или
шуруп. Но, сам того не желая, европеец задает и новый образец
поварешки, новый образец формы, которую и вырезает негр из
цельного куска дерева. Продукт действий европейца оказывается
полисемантичным: с одной стороны, это образец устранения полом¬
ки, с другой — просто образец ложки, имеющей определенную
форму.
Ниже мы покажем, что все выделенные механизмы действуют
и в реальных процессах развития науки.
Новые методы и новые миры
Переходя к подробному изложению, следует отметить, что мы
не претендуем в данной статье на исчерпывающую типологию или
классификацию революционных сдвигов в науке. Для обоснования
сформулированных выше положений достаточно нескольких типов.
Один тип, традиционно уже выделенный,— это смена теоретиче¬
ских концепций. Но наука, как уже отмечалось, характеризуется
не только теориями. Не в меньшей степени, например, она харак¬
теризуется методами исследования, включая как методы эмпириче-
62
ские, так и теоретические. Возникает естественный вопрос: а раз¬
витие или подключение новых методов — это разве не революция?
Новые методы, как отмечают сами ученые, часто приводят к
далеко идущим последствиям — и к смене проблем, и к смене
стандартов научной работы, и к появлению новых областей знания.
Укажем хотя бы очевидные примеры: появление микроскопа в био¬
логии, оптического телескопа в астрономии, методов «воздушной
археологии»...
Изобретение микроскопа и распространение его в XVII в. с са¬
мого начала будоражило воображение современников. Хотя прибо¬
ры были очень несовершенны, это было новое окно для наблюде¬
ния живой природы, которое позволило первым великим микроско-
пистам — Гуку, Грю, Левенгуку, Мальпиги — сделать их бессмер¬
тные открытия5.
Всю историю биологии можно разбить на два этапа, разделен¬
ные появлением и внедрением микроскопа. Без микроскопа не бы¬
ло бы целых больших и фундаментальных разделов биологии
(микробиологии, цитологии, гистологии...), во всяком случае в том
виде, как они сейчас существуют.
Нечто аналогичное происходило и в геологии. Во второй поло¬
вине XIX столетия применение микроскопа для исследования гор¬
ных пород приводит к революционным изменениям в петрографии.
Вот как этот решительный сдвиг описывает выдающийся русский
петрограф Ф. Ю. Левинсон-Лессинг в 1916 г.: «В зависимости от
введения новых методов исследования или от усовершенствования
прежних и от успехов сопредельных областей знания все отрасли
естествознания в течение XIX столетия эволюционировали и про¬
должают эволюционировать. Вместе с приемами исследования рас¬
ширяются и те проблемы, которые ставит себе данная наука, или
появляются новые перспективы, возникают новые задачи — и фи¬
зиономия науки постепенно видоизменяется... Значительным скач¬
ком в петрографии явилось введение микроскопического метода ис¬
следования. Быть может, нет другой науки, в которой можно было
бы указать такой резкий перелом, как тот, который совершился в
начале шестидесятых годов прошлого столетия в петрографии»6.
Нетрудно видеть, что Левинсон-Лессинг всю эволюцию естест¬
вознания XIX столетия ставит в зависимость от развития и усовер¬
шенствования методов исследования.
Во второй половине XX столетия начинается бурный подъем ас¬
трономии, связанный с появлением радиотелескопа. Академик
В. Л. Гинзбург пишет: «Астрономия после второй мировой войны
вступила в период особенно блистательного развития, в период
“второй астрономической революции" (первая такая революция
связывается с именем Галилея, начавшего использовать телескопы)...
Содержание второй астрономической революции можно видеть в про¬
цессе превращения астрономии из оптической во всеволновую»7.
И здесь, как видим, периодизация связана с методами эмпири¬
ческого исследования: первая революция — оптический телескоп,
вторая — радиотелескоп.
63
Один из самых смелых шагов был сделан археологией во время
первой мировой войны: шаг, который позволил археологу, как го¬
ворится, стать птицей — благодаря аэроплану и аэрофотосъемке,
что привело к целому ряду необычных открытий и важных обоб¬
щений. С высоты открылись такие следы прошлого, наблюдать ко¬
торые не могли и мечтать самые прозорливые наземные исследова¬
тели. Лео Дойель пишет: «Воздушная археология революционизи¬
ровала науку изучения древностей, может быть, даже в большей
степени, чем открытие радиоуглеродного метода датировки. По
словам одного из ее основателей, вклад, внесенный воздушной раз¬
ведкой в археологические изыскания, можно сравнить с изобрете¬
нием телескопа в астрономии»8.
У нас нет возможности увеличивать количество примеров, но
очевидно, что речь должна идти не только о методах наблюдения
или эксперимента, но обо всем арсенале методических средств во¬
обще. Не меньшее значение, например, могут иметь методы обра¬
ботки и систематизации эмпирических данных — вспомним хотя
бы роль картографии для наук о Земле или роль статистических
методов в социальных исследованиях. Огромное революционизиру¬
ющее значение имеет и развитие чисто теоретических методов, на¬
пример перевод естествознания на язык математического анализа.
Здесь надо вспомнить не только труды Ньютона, но и кропотливую
работу Эйлера, Лагранжа, Гамильтона и др. Без этой двухвековой
подготовки невозможна была бы и эйнштейновская научная рево¬
люция. Вообще проникновение математических методов в новые
области науки всегда приводит к их революционной перестройке, к
изменению стандартов работы, характера проблем и самого стиля
мышления.
Но главное, что бросается в глаза и что хотелось бы подчерк¬
нуть,— если в нарисованной Т. Куном глобальной картине узловы¬
ми точками являются новые теоретические концепции, то в такой
же степени можно организовать весь материал истории науки,
включая и естествознание, и науки об обществе, вокруг принципи¬
альных скачков в развитии методов. Качественная перестройка ме¬
тодического арсенала — это своеобразная координатная сетка, не
менее удобная, чем перечень куновских парадигм.
Перейдем теперь к фактам другого типа. Обычно, характеризуя
ту или иную науку, мы прежде всего интересуемся тем, что она
изучает. Это не случайно. Выделение границ изучаемой области
или, иными словами, задание объекта исследования — это тоже
достаточно существенный наукообразующий параметр. Не удиви¬
тельно, что возникновение новых дисциплин очень часто связано
как раз с обнаружением каких-то ранее неизвестных сфер или ас¬
пектов действительности. Нам представляется, что это тоже свое¬
образные научные революции, которые мы будем называть откры¬
тием новых миров. Перед исследователем в силу тех или иных об¬
стоятельств открывается новая область непознанного, мир новых
объектов и явлений, у которых нет еще даже имени. Далее в ход
идет весь арсенал уже имеющихся средств, методов, теоретических
64
представлений, исследовательских программ. Новой является сама
область познания.
Простейший пример — Великие Географические открытия. Но
не менее, а, может быть, и более значимо появление в сфере науч¬
ного изучения таких объектов, как мир микроорганизмов и виру¬
сов, мир атомов и молекул, мир электромагнитных явлений, мир
элементарных частиц... Список такого рода можно расширить. От¬
крытие явления гравитации, открытие других галактик, открытие
мира кристаллов, открытие радиоактивности... Все это принципи¬
альные шаги в расширении наших представлений о мире, которые
сопровождал! сь и соответствующими изменениями в дисциплинар¬
ной организации науки. И в такой же ст пени, как новые методы,
новые миры тоже образуют своеобразную координатную сетку, по¬
зволяющую упорядочить и организовать огромный материал исто¬
рии науки.
Следует подчеркнуть, что открытие нового мира и определение
его границ — это не одноактное событие. Понимание того, что в
поле зрения не отдельные интересные явления, а именно новый
мир, занимает иногда целые годы. Но еще Т. Кун отмечал, что на¬
учные революции растянуты во времени. Колумб, например, пыта¬
ясь указать, где побывали его корабли, наносил новые земли на
карту Азии. Заслуга осознания и доказательства того, что открыт
целый новый континент, принадлежит уже не ему, а последующим
мореплавателям. И отнюдь не пытаясь преуменьшить величие Ко¬
лумба, мы должны все же признать, что он, увы, никакой Америки
не открыл, хотя и положил начало процессу этого открытия.
Другой пример — появление в науке такого нового мира, как
вирусы. В 1892 г. Д. И. Ивановский обнаруживает удивительное
явление: способность возбудителя мозаичной болезни табака про¬
ходить сквозь фарфоровый фильтр, задерживающий бактерии. Ме¬
тод фильтрования совершенно традиционен, исследователя отлича¬
ет только исключительная тщательность в работе. Позднее, в
1899 г., его результаты подтверждает М. Бейеринк, который и
предложил для обозначения фильтрующегося инфекционного нача¬
ла термин «вирус» (лат. virus — яд). Осознание того, что виру¬
сы — это новый мир, дающий основания для выделения особого
свода знаний — вирусологии, пришло еще позднее в связи с труда¬
ми Ф. Туорта (1915 г.) и Ф. Д' Эррела (1917 г.). Иными словами,
лишь через несколько десятилетий научного труда выяснилось, что
перед нами целое семейство неклеточных форм жизни, насчитыва¬
ющее сегодня в общей сложности около 800 видов.
Открытие новых миров — это вовсе не прерогатива наук есте¬
ственных, аналогичный вклад сюда вносят и науки об обществе.
На это, к сожалению, обращают обычно гораздо меньшее вни¬
мание, хотя революционизирующее общекультурное значение
таких открытий не вызывает сомнений. Думается, например,
что уже появление «эйдосов» Платона — это открытие нового ми¬
ра, новой реальности, способ бытия которой вызывает обсуждения
до сих пор.
3 Заказ N9 434
65
Но главное в развитии наук об обществе — это открытие «про¬
шлого» человечества, открытие «прошлого» как особого мира и
объекта познания. Огромное общекультурное значение имела рас¬
шифровка Шампольоном египетской письменности, которая расши¬
рила историческую перспективу на целые тысячелетия и оаскрыла
для познания почти совершенно неизвестный дотоле мир*. Нельзя
не упомянуть в связи с этим воспоминания А. С. Пушкина о Ка¬
рамзине, где он пишет, имея в виду «Историю государства россий¬
ского»: «Древняя Россия, казалось, найдена Карамзиным, как Аме¬
рика — Коломбом»10. Сравнение удачно охватывает изоморфизм
познавательных ситуаций: открытие прошлого вполне сопоставимо
с открытием новых земель, культур и народов.
Революционным шагом вперед было и открытие Льюисом Мор¬
ганом доисторического прошлого человечества. Сам Морган в пре¬
дисловии к своему труду «Древнее общество» (1877) писал: «Глу¬
бокая древность существования человечества на земле окончатель¬
но установлена. Кажется странным, что доказательства этого были
найдены только в последние тридцать лет и что современное поко¬
ление — первое, которое признало столь важный факт»11.
Революции и традиции
Итак, мы выделилй три типа научных революций: построение
новых теоретических концепций, появление новых методов иссле¬
дования, открытие новых миров. Ниже мы сумеем продолжить этот
список, но предварительно необходимо показать, каков механизм
революций, как соотносятся революции и традиции и вообще на¬
сколько правомерно это противопоставление.
«Новое,— писал Борис Пастернак,— возникало не в отмену
старому, как обычно принято думать, но совершенно напротив, в
восхищенном воспроизведении образца»12. Речь шла о развитии
искусства, но сказанное полностью относится и к науке. Сами уче¬
ные сплошь и рядом четко осознают свою традиционность, осозна¬
ют явную обусловленность всех своих действий опытом прошлого.
Академик Б. Б. Полынов в одной из своих статей приводит отрыв¬
ки из дневника иностранного ученого, имени которого он не назы¬
вает. Несколько страниц случайно попались ему на глаза. И слава
Богу, что попались, ибо записи исключительно красноречивы.
«Что бы я ни взял,— пишет безымянный автор,— будь то про¬
бирка или даже стеклянная палочка, к чему бы я ни подошел: ав¬
токлаву или микроскопу,— все это было когда-то кем-то придума¬
но, и все это заставляет меня делать определенные движения и
принимать определенное положение. Я чувствую себя дрессирован¬
ным животным, и это сходство тем полнее, что, прежде чем нау¬
читься точно и быстро выполнять безмолвные приказания всех
этих вещей и скрытых за ними призраков прошлого, я действи¬
тельно прошел долгую школу дрессировки студентом, докторантом
и доктором...» Несколько ниже он продолжает: «Никто не может
меня упрекнуть в некорректном использовании литературных ис¬
66
точников. Самая мысль о плагиате вызывает у меня отвращение. И
все же с моей стороны не потребовалось особенного напряжения,
чтобы убедиться, что в нескольких десятках моих работ, составив¬
ших мне репутацию оригинального ученого и охотно цитируемых
моими коллегами и учениками, нет ни одного факта и ни одной
мысли, которая не была бы предусмотрена, подготовлена или так
или иначе провоцирована моими учителями, предшественниками
или пререканиями моих современников».
Может показаться, что перед нами карикатура. Но сам
Б. Б. Полынов подытоживает приведенные записи следующим об¬
разом: «Все, что писал автор дневника, есть не что иное, как дей¬
ствительные реальные условия творчества многих десятков, сотен
натуралистов всего мира. Мало того, это те самые условия, кото¬
рые только и могут гарантировать развитие науки, т. е. использо¬
вание опыта прошлого и дальнейший рост бесконечного количества
зародышей всякого рода идей, скрытых иногда в далеком про¬
шлом»13.
Но если работать в традициях, то как же тогда возникает но¬
вое? Вопрос, кстати, тоже достаточно традиционный. В начале
статьи мы уже рассмотрели три простейших механизма таких но¬
ваций и теперь постараемся показать, что они вполне удовлетвори¬
тельно моделируют рассмотренные нами ситуации революционных
преобразований в науке.
Начнем с новых методов. Вот описание первых шагов в разви¬
тии радиоастрономии: «Радиоастрономия зародилась в 1931 —1932
гг., когда в процессе экспериментов по исследованию высокочастот¬
ных радиопомех в атмосфере (высокочастотных для обычного ра¬
диовещания, но низкочастотных с точки зрения радиоастрономии)
Янский из лаборатории телефонной компании “Белл44 обнаружил,
что “полученные данные... указывают на присутствие трех отдель¬
ных групп шумов: группа 1 — шумы от местных гроз; группа 2 —
шумы от далеких гроз и группа 3 — постоянный свистящий шум
неизвестного происхождения44»14. Позднее Янский выяснил, что не¬
известные радиоволны приходят от центра Млечного Пути.
Перед нами типичная ситуация побочного эффекта, очень на¬
поминающая анекдот Дени Дидро. Янский участвует в достаточно
традиционных исследованиях, имеющих прикладное значение и
очень далеких от астрономии, но неожиданно обнаруживает косми¬
ческие источники радиоволн. Вот уж действительно, клада не на¬
шел, но собрал богатый урожай. Присмотревшись к ситуации более
внимательно, мы увидим здесь действие и другого механизма —
акции чужака или неожиданного гостя. Для того чтобы стать рево¬
люцией, новый метод должен был проникнуть в астрономию, но
астрономы не обратили на работы Янского почти никакого внима¬
ния. Успеха добивается его последователь радиоинженер Рибер, ко¬
торый строит около своего дома первый параболический радиотеле¬
скоп, изучает астрофизику и вступает в личные контакты с астро¬
номами. Только публикация в 1940 г. первых результатов Рибера
з*
67
послужила толчком к объединению усилий астрономов и радиоин¬
женеров15.
С аналогичной ситуацией мы сталкиваемся у истоков воздуш¬
ной археологии. Один из пионеров этого метода — Кроуфорд счи¬
тает датой его рождения 1922 год. Решающий эпизод состоял в сле¬
дующем: Кроуфорда попросили посмотреть несколько аэрофотос¬
нимков, сделанных офицерами британских ВВС; военным показа¬
лось, что на снимках есть «что-то археологическое». Это «археоло¬
гическое» было прежде всего древними межевыми валами, исследо¬
ванием которых Кроуфорд тщетно пытался заниматься еще в юно¬
сти. «Я хорошо помню,— пишет он,— как все произошло. Кларк-
Холл показал мне свои снимки. Они были покрыты прямоугольны¬
ми белыми фигурами, которые сразу же напомнили мне то, что я
тщетно пытался нанести на карту около десяти лет назад. Здесь, на
этих нескольких фотографиях, был ответ на мучивший меня воп¬
рос» (цит. по16).
В обоих описанных ситуациях действует и третий механизм,
выделенный в начале статьи,— полиссмантичность образца. Дейст¬
вительно, европеец не собирался изготавливать поварешку со сло¬
манной ручкой, перелом и его ликвидация — это случайное совпа¬
дение. Но именно это случайное совпадение и закрепляет негр,
когда делает копию. В такой же степени археолог и астроном за¬
крепляют в своей работе то, что у военных или радиоинженеров
явилось случайностью. «Запоминание случайного выбора,— пишет
Г. Кастлср,— это обычный способ возникновения информации»17.
Ситуация с поварешкой — это как раз и есть пример «запомина¬
ния случайного выбора».
Можно перейти теперь к открытию новых миров и показать,
например, что работы Д. И. Ивановского тоже вполне укладывают¬
ся в предложенные схемы. Впрочем, это настолько очевидно, что
во избежание повторений стоит ограничиться только рядом замеча¬
ний. Используя традиционный для того времени метод фильтрова¬
ния, Ивановский получает совершенно неожиданный результат.
«Случай свободного прохождения заразного начала через бактери¬
альные фильтры... — пишет он,— представлялся совершенно ис¬
ключительным в микробиологии»18. Ивановский настолько пора¬
жен, что предполагает первоначально, что фильтруется не сам воз¬
будитель, а яд, растворенный в соке больного растения. Перед на¬
ми типичный случай побочного эффекта.
Могут возразить, что авторы специально подобрали примеры.
Не без этого, разумеется. Но тот факт, что примеры так легко под¬
бирать, тоже кое о чем свидетельствует. Попробуем, однако, под¬
вести некоторый итог и подойти к вопросу с более принципиальной
точки зрения. Как же все-таки связаны традиции и революции?
Очень часто мы сталкиваемся здесь с рассуждениями по принципу
«с одной стороны... но с другой стороны...». «Революции,— говорят
любители такого подхода,— это, с одной стороны, переворот, появ¬
ление нового, а с другой — сохранение, преемственность, т. е. тра¬
диции». Скажет человек такую фразу и полагает, что все ясно:
68
что-то в науке меняется, а что-то остается прежним, меняются, на¬
пример, представления об атоме, а слово «атом» остается тем же
самым. Вот вам и проявление многосторонности! А если сосредото¬
читься только на том, что меняется? Как это происходит: в рамках
традиций и по их законам или в порядке самопроизвольного откло¬
нения, как у атомов Эпикура? Вот ведь в чем вопрос!
И все здесь упирается, как мы полагаем, в более точное пони¬
мание того, что такое традиция. Стоит задуматься над этим, и ста¬
новится ясно, что само противопоставление традиций и новаций нс
имеет под собой основания. Действительно, традиция — это восп¬
роизведение старого (воспроизведение образцов) в новых условиях,
в новой ситуации. Новое здесь присутствует изначально, иначе и
быть не может, ибо иначе не было бы и воспроизведения.
Именно ситуация воспроизведения образца, контекст воспроиз¬
ведения и выступает в качестве генератора нового. Вернемся к про¬
стым примерам в начале статьи. Очевидно, что гость, садясь в за¬
претное «дедушкино кресло», вовсе не помышляет о революции,
революционными его действия делает ситуация. В такой же степе4-
ни и кладоискатели не собирались обрабатывать поле, но получают
именно этот результат в силу тех обстоятельств, при которых они
действуют. Воспроизведение просто невозможно без новаций, восп¬
роизведение — это и есть новация. Другое дело, будет эта новация
подхвачена и закреплена, т. е. станет традицией или нет. И все
здесь опять-таки зависит от ситуации дальнейшего воспроизведе¬
ния: случайные сбои в работе радиоинженеров могли быть закреп¬
лены только в контексте астрономии, сбои в работе военных топо¬
графов — в контексте археологии.
Для того чтобы сделать еще один шаг, нам надо разобраться в
разнообразии традиций и дать хотя бы черновую и предваритель¬
ную их классификацию. Рассмотрим с этой целью различные слу¬
чаи воспроизведения образцов. Одно дело, например, повторение
простых гимнастических упражнений, которые демонстрируют по
телевидению в качестве утренней зарядки, другое — воспроизведе¬
ние элементарных трудовых актов типа чистки картофеля или за¬
бивания гвоздей. В чем же различие? Как уже отмечалось, воспро¬
изведение — это перенос старого в новую ситуацию. Очевидно, что
ситуация телезрителя не идентична той, которую он наблюдает на
экране, но сам акт воспроизведения не предполагает, нс требует
обязательной смены обстановки. Другое дело — трудовые опера¬
ции: одну и ту же картофелину вы не будете чистить или варить
дважды, один и тот же гвоздь дважды забивать. Воспроизведение
трудовых актов в принципе требует постоянно смены того материа¬
ла, с которым мы оперируем.
Будем рассматривать только традиции, предполагающие обяза¬
тельную смену материала, на котором они реализуются. К такому
типу принадлежат, очевидно, и традиции научной исследователь¬
ской работы, ибо нет необходимости дублировать до бесконечности
изучение одних и тех же конкретных явлений. Здесь, однако, воз¬
можны дополнительные градации. Представьте себе добросовестно¬
69
го канцелярского служаку, который на каждого посетителя запол¬
няет карточку с указанием фамилии, года и места рождения, наци¬
ональности, родителей... Его работа стандартна и традиционна, хо¬
тя каждый раз он имеет дело с новым человеком и никого не опра¬
шивает дважды. И вот неожиданно его переводят из канцелярии в
библиотеку и предлагают составить каталог с описанием имеющих¬
ся книг. Предположим, что наш герой абсолютно не знаком с биб¬
лиотечным делом. Может ли он и на новом месте следовать преж¬
ним образцам? Может, если перейдет к их метафорическому истол¬
кованию. Книга — это тоже «человек», имеющий фамилию, т. е.
название, год и место рождения, т. е. издания, национальность,
т. е. язык, на котором она написана, родителей, т. е. автора...
Воспроизведение образцов в их метафорическом значении игра¬
ет огромную роль в развитии науки и является составляющей мно¬
гих научных революций. Приведем в качестве примера революцию
в геоморфологии, связанную с теорией эрозионных циклов В. М.
Дэвиса (1885 г.). Революционное значение этой концепции, не¬
смотря на ее быстро выявившуюся спорность, не вызывает сегодня
сомнения ни у географов, ни у историков географии. «Геоморфоло¬
гия,— писал У. Д. Торнбери в 1954 г.,— вероятно, сохранит отпе¬
чаток личности Дэвиса дольше, чем какого-нибудь другого исследо¬
вателя» (цит. по19). Но не вызывает сомнений и тот факт, что Дэ¬
вис работал в определенных традициях. В каких именно? На этот
вопрос уверенно и однозначно отвечает известный географ и исто¬
рик географии К. Грегори. «Образцом здесь,— пишет он, ссылаясь
на исследования Стоддарта,— служила концепция Дарвина о раз¬
витии коралловых островов, выдвинутая в 1842 г.»20. Итак, одна
теория строится по образцу другой. Но возможно ли это? Одно де¬
ло — воспроизведение стандартных экспериментальных процедур
типа фильтрования или приемов аэрофотосъемки, другое — по¬
строение теории.
И тем не менее есть явное сходство между дарвиновской тео¬
рией коралловых рифов и концепцией эрозионных циклов Дэвиса.
У Дарвина все определяется соотношением двух процессов: медлен¬
ного опускания морского дна, с одной стороны, и роста кораллов —
с другой. У Дэвиса — поднятие суши, с одной стороны, и процесс
эрозионного воздействия текучих вод на возвышенный участок — с
другой. В обоих случаях два фактора, как бы противоборствуя друг
другу, определяют тем самым различные стадии развития объекта.
У Дарвина вследствие опускания суши на поверхности океана оста¬
ется только одна коралловая постройка — атолл; у Дэвиса вследст¬
вие эрозии — почти плоская равнина — пенеплен. Перед нами
один и тот же принцип построения модели, примененный в изуче¬
нии разных явлений действительности. Естественно поэтому пред¬
положить, что Дэвис в своих исследованиях рельефа постоянно ис¬
кал и нашел наконец дарвиновское противоборство роста и опуска¬
ния в их метафорическом понимании.
Можно высказать несколько косвенных соображений в пользу
того, что это возможно. Первое — воспоминания Дарвина о воз¬
70
никновении его теории коралловых островов. «Ни один другой мой
труд,— пишет Дарвин,— не был начат в таком чисто дедуктивном
плане, как этот, ибо вся теория была придумана мною, когда я на¬
ходился на западном берегу Южной Америки, до того, как я уви¬
дел хотя бы один настоящий коралловый риф... Правда, нужно за¬
метить, что в течение двух предшествующих лет я имел возмож¬
ность непрерывно наблюдать то действие, которое оказывали на
берега Южной Америки перемежающееся поднятие суши совместно
с процессами денудации и образования осадочных отложений. Это
с необходимостью привело меня к длительным размышлениям о
результатах процесса опускания суши, и было уже нетрудно мыс¬
ленно заместить непрерывное образование осадочных отложений
ростом кораллов, направленным вверх. Сделать это — и значи¬
ло построить мою теорию образования барьерных рифов и атол¬
лов»21.
Обратите внимание, Дарвин при построении своей теории идет
тем же самым путем, которым впоследствии пойдет Дэвис. Опять
две сходные теоретические концепции: опускание суши и накопле¬
ние осадков, опускание дна и рост кораллов. Первая из этих кон¬
цепций, строго говоря, не принадлежит Дарвину. Путешествуя на
«Бигле», он в качестве настольной книги возил с собой «Принципы
геологии» Лайеля, где даже на обложку было вынесено вошедшее
потом во все учебники изображение колонн храма Юпитера-Сера-
писа со следами поднятий и погружений22. Но одно дело — ис¬
пользовать такой способ восприятия и объяснения при анализе раз¬
ных ситуаций осадконакопления, и совсем другое — при изучении
коралловых островов. Шаг, осуществленный Дарвиным,— это, не¬
сомненно, реализация уже имеющихся образцов, но в их не бук¬
вальном, а метафорическом значении.
Другое косвенное соображение — это аналогичная судьба глав¬
ной эволюционной концепции Дарвина, его теории происхождения
видов. Эта концепция, если не считать, конечно, общей мировозз¬
ренческой идеи эволюции, не оказала прямого воздействия на фи¬
зическую географию23, но породила немалое число сходных теоре¬
тических конструкций в других областях, нередко очень далеких
от биологии. Примером может служить лингвистика. «Законы, ус¬
тановленные Дарвином для видов животных и растений,— писал в
1869 г. выдающийся лингвист А. Шлейхер,— применимы, по край¬
ней мере в главных чертах своих, и к организации языков»24.
Дальнейшие рассуждения Шлейхера очень напоминают, да простят
нам это сравнение, то, что должен был делать наш воображаемый
канцелярский служака, попав в библиотеку. Ему необходимо уста¬
новить соответствие: фамилия — название, дата рождения — год
издания... «Виды одного рода,— пишет Шлейхер,— у нас называ¬
ются языками какого-либо племени; подвиды — у нас диалекты
или наречия известного языка; разновидностям соответствуют мес¬
тные говоры или второстепенные наречия; наконец, отдельным осо¬
бям — образ выражения отдельных людей, говорящих на извест¬
ных языках»25.
71
Итак, новые теории тоже возникают в традициях, и в частно¬
сти одна теория может строиться по образцу другой на пути мета¬
форического истолкования образца.
Новые методологические программы
или стили мышления
Попробуем теперь несколько обобщить сказанное. Построив
теорию коралловых островов, которая сохранила свои позиции и по
сей день, Дарвин, несомненно, выступил как революционер в этой
области. Но, сам того не подозревая, он задал и некоторый образец
построения генетической теории вообще, который на уровне уже
метафорическом проникает в мышление представителей других
дисциплин. Конкретная теория в этой функции превращается в об¬
щенаучную методологическую программу. Это тоже революция, но
в гораздо более широком плане, революция в стиле мышления.
Концепция эрозионных циклов Дэвиса — это опять переворот в
конкретной области, но ее можно уже рассматривать и как одну
из реализаций новой методологической программы.
В принципе здесь возникают довольно сложные связи, которые
удобно моделировать на материале обыкновенных пословиц. Возь¬
мем выражение «не в свои сани не садись». Очевидно, что в ситуа¬
ции, когда кто-то действительно садится в сани, приведенное выра¬
жение может иметь значение буквального предписания. Оно здесь
аналогично конкретной теории типа теории коралловых островов.
Но вот ситуация изменилась и состоит в том, что некто решил сме¬
нить специальность или место работы, а ему в порядке совета на¬
поминают то же самое предписание. Теперь, вероятно, оно означа¬
ет: не за свое дело не берись. Но, дав такую интерпретацию, мы
получили опять вполне конкретное и лишенное какой-либо мета¬
форичности выражение, которое можно рассматривать как аналог
теории Дэвиса. Где же тогда метафорическая программа как тако¬
вая, можно ли ее сформулировать? Попытки такого рода вполне
возможны, но они приводят к очень абстрактным формулировкам
типа: не следует попадать в положение, которое в силу тех или
иных обстоятельств тебе не соответствует. А специалистам-пареми-
ологам давно известно, что «пословичный текст оказывается «не¬
определенным потенциалом» не только по отношению к кон¬
кретным возможностям употребления, но и по отношению к своим
абстрактным семантическим описаниям»26. Иными словами, одно¬
значно описать метафорическую программу, точнее, традицию не¬
возможно.
Очевидно, однако, что пословицы существуют независимо от
таких абстрактных формулировок; существуют в практике посто¬
янного употребления, как образцы этого употребления. Таким же
образом существуют и методологические программы, что не исклю¬
чает, разумеется, попыток их сформулировать. Но что в дан¬
ном случае означает слово «употребление»? Выше мы видели,
что восприятие того или иного выражения в его буквальном
72
или метафорическом значении целиком зависит от контекста,
от ситуации. Иными словами, «употребление» в данном случае —
это воспроизведение в определенном, неожиданном для данного
выражения (в его буквальном понимании) контексте, который иг¬
рает здесь решающую «творческую» роль. В частности, Дэвис,
строя теорию эрозионных циклов, не только работает в рамках
дарвиновской программы, но фактически тем самым ее и создает.
Методологические программы, как и пословицы, если они вербаль¬
но не сформулированы, просто не существуют вне контекстов их
реализации.
Но вернемся к научным революциям. Здесь вырисовывается те¬
перь следующая картина: на фоне «появления» новых миров, раз¬
работки новых методов и теорий происходят изменения и в самом
стиле мышления в силу формирования принципиально новых мето¬
дологических программ, имеющих метафорический характер. Это
примерно так же, как на фоне буквально понимаемых конкретных
утверждений формируется мир пословичных смыслов. Но в случае
методологических программ в функции пословиц выступают не от¬
дельные утверждения, а теоретические построения или целые на¬
учные дисциплины.
Рассмотрим несколько конкретных примеров. Давно уже суще¬
ствует такой раздел биологии, как экология, со своими специфиче¬
скими проблемами и методами исследования. Но в последние деся¬
тилетия термин «экология» стал встречаться все чаще и чаще в
контекстах, очень далеких от биологии. Появились такие выраже¬
ния, как социальная экология, культурная экология, этническая
экология, экология народонаселения, экология преступности, эко¬
логический подход в психологии, экология науки... Не напоминает
ли это такие метафоры, как «дыхание эпохи» или «бег времени»?
Очевидно, что биоло1ическая дисциплина, изучающая условия су¬
ществования живых организмов и взаимосвязи между организмом
и средой обитания, стала образцом (программой) для формирова¬
ния целого ряда направлений исследования, очень далеких по свое¬
му содержанию и от биологии, и друг от друга.
А что такое «теория поля»? Мы знаем конкретные полевые тео¬
рии в физике, например теорию электромагнитного поля, но вот в
начале нашего века появляется «теория поля» в психологии, и ста¬
новится ясно, что вслед за революцией в физике, осуществленной
Максвеллом, начинается революция в стиле мышления. Что же та¬
кое «теория поля»? Этот вопрос ставит крупный немецкий психо¬
лог Курт Левин и отвечает: «...теорию поля едва ли можно назвать
теорией в обычном смысле»27. Аргументы следующие: теория дол¬
жна быть либо правильной, либо неправильной, но между «поле¬
вым» характером теории и ее ложностью или истинностью не су¬
ществует однозначной связи. Какая-либо конкретная теория в фи¬
зике или психологии может быть «теорией поля», но это отнюдь не
означает, что она истинна или ложна. «Теорию поля, следователь¬
но, нельзя назвать правильной или неправильной, как теорию в
обычном смысле слова. Возможно, лучше всего теорию поля можно
73
характеризовать как метод, а именно метод анализа причинных со¬
отношений и построения научных конструкций»28. Очевидно, что,
двигаясь таким путем, Курт Левин пытается охарактеризовать тео¬
рию поля как метафору, как методологическую программу, проти¬
вопоставляя ее конкретным реализациям.
При анализе историко-научного материала легко заметить по¬
явление новых теорий, методов или картин мира, все это бросается
в глаза, и гораздо труднее выявить и зафиксировать изменения в
стиле мышления, даже если они имеют революционный характер.
А между тем именно стиль мышления чаще всего лежит в основе
крупных сдвигов в развитии науки. Хороший пример здесь — Га¬
лилей, с которым связывают часто всю научную революцию
XVII столетия.
Да, конечно, Галилео Галилей — это одна из самых значитель¬
ных фигур в истории естествознания и мировоззрения. И тем не
менее очень трудно сформулировать, в чем именно заключается со¬
вершенный им переворот. Многих исследователей не удовлетворяет
простое перечисление полученных им конкретных научных резуль¬
татов. Все чувствуют, что за всем этим кроется что-то более фун¬
даментальное, какой-то новый подход, новый способ мышления... В
чем же он состоит?
Существует, в частности, довольно устойчивое мнение, наибо¬
лее резко сформулированное А. Койре, что Галилей — платоник и
что, следовательно, один из существенных моментов научной рево¬
люции, связанный с возникновением механики,— это переход с
позиций Аристотеля на позиции Платона29.
Это кажется очень правдоподобным. И форма изложения основ¬
ных работ Галилея напоминает платоновские диалоги, и характер
обоснования результатов почти воспроизводит платоновскую тео¬
рию «воспоминания». Например, Сальвиати, обращаясь к Симпли-
чио, заявляет: «Я и без опыта уверен, что результат будет такой,
как я вам говорю, так как необходимо, чтобы он последовал; более
того, я скажу, что вы и сами так же знаете, что не может быть
иначе, хотя притворяетесь или делаете вид, будто не знаете этого.
Но я достаточно хороший ловец умов и насильно вырву у вас при¬
знание»30. Разве не напоминает это повивальное искусство Сокра¬
та в платоновских диалогах? Впрочем, не лишено оснований и мне¬
ние Л. Ольшки, который пишет: «По всему своему духовному
складу Галилей — платоник, но он находился скорее в плену пла¬
тоновских литературных особенностей, чем в плену его теорий.
Тщательное изучение платоновских диалогов сказалось на архи¬
тектонике и на планах его собственных диалогов»31.
Есть, однако, более существенный и прямой аргумент в пользу
платонизма Галилея — это его отношение к идеальным объектам.
Мы постоянно встречаем в диалогах рассуждения такого, напри¬
мер, типа: предположим, что у нас «имеется плоская поверхность,
совершенно гладкая» и по ней катится «совершенно круглый
шар»...32 Галилей при этом очень мало озабочен, что в действи¬
тельности это «совершенство» нигде не встречается. Естественно,
74
возникает вопрос: а не проявляет ли он некоторое безразличие к
этой самой действительности, удовлетворяясь миром вечных сущ¬
ностей? Это подтверждает и пристрастие Галилея к математиче¬
ским рассуждениям, вызывающее естественное раздражение у
перипатетика Симпличио: «Ведь в конце концов эти математи¬
ческие тонкости, синьор Сальвиати, истинно абстрактны, в при¬
ложении же к чувственной и физической материи они не оправ¬
дываются»33.
Вероятно, приведенные соображения и дают основания К. По¬
пперу относить Галилея к представителям эссенциализма34, кото¬
рый он определяет следующим образом: «Я использую название
“методологический эссенциализм44 для характеристики точки зре¬
ния, которой придерживался Платон и многие из его последовате¬
лей и согласно которой задача чистого знания или “науки44 состоит
в том, чтобы открывать или описывать истинную природу вещей,
т. е. их скрытую реальность или сущность»35. С этим можно было
бы согласиться, если бы сам Галилей не отрицал прямо и непосред¬
ственно данную точку зрения. Но в одном из писем он высказыва¬
ется по этому поводу следующим образом: «Либо мы станем пы¬
таться проникнуть во внутреннюю и истинную сущность субстан¬
ций природы, либо удовлетворимся познанием некоторых из эмпи¬
рических признаков. Первую попытку я считаю напрасным и тщет¬
ным усилием...4436 Как же можно считать это эссенциализмом?
Разгадку дает последний крупный труд Галилея, его знамени¬
тые «Беседы...», где он сам недвусмысленно высказывается о своем
отношении к идеализации: «Я допускаю, далее, что выводы, сде¬
ланные абстрактным путем, оказываются в конкретных случаях
далекими от действительности... С другой стороны, я прошу вас не
отказывать нашему Автору в праве принимать то, что предполага¬
лось и принималось другими известнейшими учеными, хотя и было
неправильным. Авторитет одного Архимеда должен успокоить в
этом отношении кого угодно. В своей механике и книге о квадрату¬
ре параболы он принимает как правильный принцип, что коромыс¬
ло весов является прямой линией, равноудаленной во всех точках
от общего центра всех тяжелых тел, и что нити, к которым подве¬
шены тяжелые тела, параллельны между собой». Итак, с одной
стороны, Галилей ссылается на традицию, идущую от Архимеда,
но с другой — тут же следует обоснование, которого у Архимеда,
нет, ибо оно, скорее всего, вообще не в духе античного мышления.
«Подобные допущения, — пишет Галилей, — всеми принимались,
ибо на практике инструменты и величины, с которыми мы имеем
дело, столь ничтожны по сравнению с огромным расстоянием, отде¬
ляющим нас от центра земного шара, что мы смело можем принять
шестидесятую часть градуса, соответствующей весьма большой ок¬
ружности, за прямую линию, а два перпендикуляра, опущенные из
ее концов, — за параллельные линии»37.
Обратим внимание на это выражение: «...мы смело можем при¬
нять...» Галилей вовсе не утверждает, что так на самом деле, он не
посягает на подлинную сущность вещей. На первый план здесь вы¬
75
ступает он сам как строитель некоторой модели, от которой требу¬
ется, чтобы она давала приемлемые результаты. Он похож на про¬
ектировщика какой-то машины, которая должна заработать и вы¬
полнять требуемые функции. «Мы смело можем принять...», что
модель будет работать с вполне достаточной для практики точно¬
стью, «можем принять», хотя в действительности все нс так.
Это уже что угодно, но никак не платонизм. Скорее здесь вы¬
ступают на первый план традиции прикладного инженерного мыш¬
ления. И нс случайно Галилей, продолжая уже приведенные рас¬
суждения, ссылается на архитекторов: “Если бы в наших практиче¬
ских делах нам следовало считаться с подобными ничтожными ве¬
личинами, то нам прежде всего пришлось бы осудить архитекто¬
ров, которые берутся воздвигать при помощи отвеса высокие башни
с параллельными стенами4*38. Именно традиции инженерного мыш¬
ления преодолевают, вероятно, в эпоху Галилея непроходимую для
античности пропасть между миром вечных теоретических сущно¬
стей и эмпирическим миром. И это действительно более радикаль¬
ный переворот, чем перестройки конкретных точек зрения по от¬
дельным вопросам механики.
Интересно сравнить подход Галилея со стилем современной фи¬
зико-математической литературы. В курсе “Механики44 Ландау и
Лифшица читаем: «Одним из основных понятий механики является
понятие материальной точки. Под этим названием понимают тело,
размерами которого можно пренебречь при описании его движения.
Разумеется, возможность такого пренебрежения зависит от конк¬
ретных условий той или иной задачи»3^. Что важно подчеркнуть,
здесь нет и речи о каких-либо идеальных сущностях. Материаль¬
ная точка — это реальное тело, реальная познавательная ситуа¬
ция, но такая, что при построении модели «мы смело можем при¬
нять», что имеем дело с точкой. Еще более ясно это сформулирова¬
но в «Курсе теоретической физики» Г. Иоса: «Так называется те¬
ло, собственными размерами которого... можно пренебречь, т. е.
его можно схематически представить как точку...»*° Иными слова¬
ми, если бы тело было точкой, оно вело бы себя в рамках данной
познавательной ситуации примерно так же, как и наблюдаемое ре¬
альное тело. Или, что то же самое, если бы отвесы были строго па¬
раллельны, мы получили бы при строительстве здания практически
тот же эффект, что и реальные галилеевские архитекторы.
Нам представляется, что именно это «если бы... то» как раз и
характеризует принципиальную новизну мышления Галилея. Идеа¬
лизация для него — это нечто похожее на проект инженера, кото¬
рый тоже с необходимостью должен рассуждать в сослагательном
наклонении. Ведь конструируемое содержание еще не существует,
но могло бы существовать, и нам надо предусмотреть, как оно
будет функционировать в зависимости от тех или иных об¬
стоятельств. Иначе говоря, «если бы... то» — это квинтэссен¬
ция инженерного проектирования. Такую нацеленность на ана¬
лиз нс столько реальных, сколько возможных ситуаций мы будем
называть диспозициональным мышлением, и представляется, что
76
именно Галилей перенес этот стиль из сферы инженерии в естест¬
вознание.
Сама постановка вопроса о платонизме Галилея, о том, изучает
ли он эмпирическую реальность или «скрытую сущность», связана,
как нам представляется, с непониманием его способа работы, с
представлением, что все определяется ориентацией на некоего при¬
родного агента, диктующего нам свою волю. Но Галилей прежде
всего ориентирован на свои теоретические конструкции, он познает
природу путем построения ее проектов. «К тому же для научно¬
го трактования этого предмета,— пишет он, — необходимо спер¬
ва сделать отвлеченные выводы, а сделав их, проверить и под¬
твердить найденное на практике в тех пределах, которые допуска¬
ются опытом»41.
Думается, что заслуга Галилея и его коренное отличие не толь¬
ко от Платона, но и от Аристотеля, отличие его мышления от тра¬
диций античного мышления вообще, состоят именно в том, что он
перешел в науке к диспозициональному мышлению, заложив тра¬
диции, живущие и в настоящее время. И опирался он при этом,
скорее всего, на опыт инженерной практики, инженерного мышле¬
ния своей эпохи. Инженерный проект в его метафорическом, разу¬
меется, звучании, т. е. как способ мышления, он перенес в естест¬
вознание. В качестве необходимого следствия этого появляется и
возможность мысленного эксперимента. Иногда, кстати, историки
физики именно в этом и видят один из важнейших аспектов рево¬
люции, совершенной Галилеем. И действительно, вот типичный об¬
разец нового способа рассуждения: «Скажите мне, если у вас име¬
ется плоская поверхность, совершенно гладкая, как зеркало, а
из вещества твердого, как сталь, не параллельная горизонту,
но несколько наклонная, и если вы положите на нее совершенно
круглый шар из вещества тяжелого и твердого, например из брон¬
зы, то что, думаете вы, он станет делать, будучи предоставлен са¬
мому себе?»4^.
Многоаспектность научных революций
Выше мы рассматривали научные революции разных типов, но
фактически уже из изложенного ясно, что реальные сдвиги в раз¬
витии науки сплошь и рядом включают в себя почти все, что было
перечислено, ибо изменение одних наукообразующих параметров
приводит и к изменению других. Новые методы эмпирического исс¬
ледования приводят к открытию новых миров, что, в свою очередь,
изменяет контекст использования всего арсенала уже выработан¬
ных средств; новые теории, становясь методологическими метафо¬
рами, проникают в другие области и порождают новые теоретиче¬
ские концепции. Иными словами, реальные сдвиги в развитии
науки многоаспектны и представляют собой органическое единст¬
во многих изменений, что, однако, ни в коем случае не отрица¬
ет, а, наоборот, предполагает специальный анализ отдельных ком¬
понентов.
77
Перейдем теперь к конкретному материалу и проиллюстрируем
явление многоаспектное™ и единство всех выделенных типов нова¬
ций на примере революции в почвоведении, совершенной крупней¬
шим русским ученым В. В. Докучаевым. «Докучаев,— пишут со¬
временные американские географы П. Джеймс и Дж. Мартин в
1981 г.,— достоин занять главное место среди географов всего мира
за свои новаторские работы в области почвоведения»43. Что же
конкретно сделал Докучаев?
«Мне пришлось в моей молодости пережить относительно ре¬
дкое в истории науки явление,— пишет В. И. Вернадский,— спор
о том, являются ли данное важное природное (естественное) тело и
такой же естественный процесс (природное явление) отличными от
уже известных (и изученных научно) тел или явлений, являются
ли они по существу новыми. Этот вопрос был поставлен в яркой
форме в 1870—1880 гг. моим учителем, крупным русским на¬
туралистом В. В. Докучаевым. Им был поднят спор, является ли
почва, как он правильно думал, особым, отличным от горной поро¬
ды естественным телом со своей особой научной индивидуально¬
стью или же это — выветрелая горная порода, как думали тогда
почти все агрономы и геологи»44.
Итак, если верить Вернадскому, В. В. Докучаев открыл новый
мир, новое естественное тело, новый тип естественных процессов.
Надо сказать, что с этим согласны все. «...Заложение основ новой
науки,— вторит Вернадскому Полынов,— произошло не потому,
что В. В. как-то иначе стал изучать те же самые объекты, кото¬
рые изучались его предшественниками, а потому, что он от¬
крыл перед нами новый мир объектов и приложил к их изучению
те методы, которые соответствовали их сущности и их особенно¬
стям»45.
В высказывании Полынова содержится, однако, еще один важ¬
ный элемент: все произошло «не потому, что В. В. как-то иначе
стал изучать те же самые объекты». Это уже сомнительно. Неуже¬
ли для открытия нового мира не понадобилось никакого нового
метода? В принципе, конечно, возможно, но в данном случае
это явно противоречит фактам. Остановимся на этом более
подробно.
До работ Докучаева существовало два разных представления о
почве: геологическое и агрономическое. Сам Докучаев отмечал, что
«одни из ученых (преимущественно агрономы) отождествляют по¬
чвы с пахотными землями, другие же исследователи (главным об¬
разом геологи) смешивают их с рыхлыми горными породами»46.
Агрономы в отличие от геологов подходили к выделению почв с
утилитарной, прагматической точки зрения. «Органическая жизнь
на суше,— писал П. А. Костычев в своем курсе лекций по почво¬
ведению 1886—1887 гг.,— обуславливается свойствами верхнего
слоя земли; он может быть пригоден для питания растений и через
посредство их служить тогда источником жизненных средств для
животных и человека...»47 К чему приводит такой подход, хорошо
видно из последующего содержания лекций. Почва определяется
78
как «слой, в котором находится почти вся масса растительных кор¬
ней», из чего следует, что почва лесовода — это гораздо более
мощное образование, чем почва хлебопашца, и что «понятие о по¬
чве определяется данными растительной физиологии, а не чем-ли¬
бо иным»48.
Обратившись теперь к трудам Докучаева, легко обнаружить,
что он с самых первых своих работ сознательно постулирует прямо
противоположный подход к изучению природы. «Болота,— пишет
он в одной из первых своих статей,— изучались до последнего вре¬
мени главным образом с утилитарной точки зрения — со стороны
их вреда или пользы для человека. Сущность явления осталась ма¬
ло затронутой...»49 Или в другом месте: «Несомненно, изучать дан¬
ное явление, данный предмет природы с одной только утилитар¬
ной точки зрения всегда было и будет величайшей ошибкой,
ибо явления и тела существуют в природе совершенно независи¬
мо от нас»50.
Итак, перед нами четко сформулированная методологическая
программа, прямо противоположная той, которая господствовала в
это время в агрономическом почвоведении. В свете этой программы
становится ясным, почему именно Докучаеву удалось построить
учение о почве как особом естественном теле природы. Революция
состояла, следовательно, не только в открытии нового мира, это
была и революция в стиле мышления. Как конкретно она могла
произойти, в силу каких обстоятельств Докучаев оказался носите¬
лем своей программы?
Многие исследователи упорно ссылаются на то, что Докучаев
пришел в почвоведение из геологии, приписывая этому чуть ли не
решающую роль. Ф. Ю. Левинсон-Лессинг, в частности, пишет:
«Тому обстоятельству, что Докучаев был геологом, и притом гео¬
логом, интересы которого были направлены в сторону изучения де¬
нудационных процессов, быть может, следует приписать и широ¬
кую правильную постановку им вопроса учения о почве, учения,
носящего на себе прежде всего отпечаток геологической, географи¬
ческой дисциплины»51.
Действительно, влияние геологических традиций на Докучаева
очевидно. В частности, в первых своих работах он ратует за приме¬
нение геологических методов при изучении почв. Но если перед
нами «чужак», который зашел в чужой дом в качестве незваного
гостя, то спрашивается, что именно он с собой принес и чем обус¬
ловлен его триумф? Конечно, в докучаевском почвоведении можно
найти как прямые, так и косвенные следы его геологического про¬
исхождения. Представление о почвенном профиле, например, легче
было ввести геологу, привыкшему к описанию обнажений, чем ко¬
му-либо другому. Но в этом ли главное?
Выше мы уже отмечали, что в геологии были свои представле¬
ния о почве. Но, во-первых, Докучаев как раз от них и отказыва¬
ется, а во-вторых, эти представления долгое время спокойно сосу¬
ществовали с агрономическими. Вот что об этом пишет Полынов:
«Нет необходимости объяснять, что геологические представления о
79
почве, в какой бы форме они ни проявлялись, не могли отвечать
практическим целям агрономии. Естественно, что они не могли
принимать какого-либо участия и в эволюции понятия об агроно¬
мической почве, так как главным и наиболее существенным мате¬
риалом для последнего всегда служил слой земли, подвергающийся
обработке. В конце концов такое положение дел привело к одно¬
временному существованию двух различных понятий о почве: агро¬
номического и геологического. И это не было проявлением какой-
либо борьбы между течениями или школами. Одновременное суще¬
ствование обоих понятий воспринималось как нечто вполне естест¬
венное, целесообразное и законное»52. Важно подчеркнуть: «...это
нс было проявлением какой-либо борьбы между течениями или
школами». А между тем Докучаева почвоведы-агрономы встречают
в штыки и «Русский чернозем» выдерживает прямо-таки яростную
атаку Костычева, наиболее видного представителя агрономического
почвоведения. Это показывает, что Докучаев не просто гость,
принесший что-то новое. Очевидно, что он «сел в дедушкино
кресло».
Мы полагаем, что именно методологические установки Докуча¬
ева, его способ мышления вызвали столь резкое противодействие
представителей агрономического почвоведения. Но возникает воп¬
рос: а не присутствовала ли здесь геология в качестве метафоры,
будучи образцом естественнонаучного подхода вообще? Нечто по¬
добное уже имело место в истории, но на заре развития естество¬
знания, и образцом-метафорой выступала тогда натурфилософия.
Стоит напомнить по этому поводу знаменитую фразу Роберта Бой¬
ля: «Химики до сих пор руководствовались чересчур узкими прин¬
ципами, не требовавшими особенно широкого умственного кругозо¬
ра; они усматривали свою задачу в приготовлении лекарств, в из¬
влечении и превращении металлов. Я смотрю на химию с совер¬
шенно другой точки зрения; я смотрю на нее ни как врач, ни как
алхимик, а как должен на нее смотреть философ»53.
Очень любопытно, что нечто совершенно аналогичное мы
встречаем у Ньютона в предисловии к «Математическим началам
натуральной философии»: «Древними эта часть механики была
разработана применительно к пяти машинам, применяемым в руч¬
ных ремеслах, при этом тяжесть, поскольку она нс есть сила, за¬
ключающаяся в руках, рассматривалась едва ли иначе как в гру¬
зах, которые нужно было передвигать указанными машинами. Мы
же рассуждаем нс о ремеслах, а о философии и пишем нс о силах,
заключенных в руках, а о силах природы...»54 (пер. В. В. Зубова).
Докучаев через два столетия совершает тот же самый переворот,
но уже не в механике и не в химии, а в почвоведении и в контек¬
сте совсем иного этапа развития науки.
Итак, докучаевскос почвоведение — это не только открытие
нового мира, но и революция в стиле мышления. Правда, револю¬
ция локальная, ограниченная рамками тогдашнего агрономического
изучения почв. Одно с другим здесь тесно связано: именно стиль
мышления обусловил выделение почвы как особого тела природы.
80
Очевидно, однако, что мы еще не перечислили всех аспектов доку-
чаевского переворота. Хорошо известно, что Докучаев является со¬
здателем новой теоретической концепции, нового учения о почве.
Сам он суть этого учения излагает следующим образом: «Трудами
наших отечественных ученых доказано, что почвы и грунт есть
зеркало, яркое и вполне правдивое отражение, так сказать, не¬
посредственный результат совокупного, весьма тесного, векового
взаимодействия между водой, воздухом и землей... с одной сторо¬
ны, растительными и животными организмами и возрастом стра¬
ны — с другой... Почва — это функция от сейчас названных мно¬
жителей- поч вообразова т елей » 55.
И тут происходит самое интересное: вновь созданное учение о
почве, в свою очередь, превращается в метафору, в образец синте¬
тического подхода к изучению компонентов географической среды.
Сам Докучаев это осознавал и пытался сформулировать. «Не под¬
лежит сомнению,— писал он,— что познание природы — ее сил,
стихий, явлений и тел — сделало в течение XIX столетия такие
гигантские шаги, что самое столетие нередко называется веком ес¬
тествознания, веком натуралистов. Но всматриваясь вниматель¬
нее в эти величайшие приобретения человеческого знания...—
нельзя не заметить одного весьма существенного и важного недоче¬
та. Изучались главным образом отдельные тела — минералы, гор¬
ные породы, растения и животные — и явления, отдельные сти¬
хии — огонь (вулканизм), вода, земля, воздух, в чем, повторяем,
наука и достигла удивительных результатов, но не их соотноше¬
ния, нс та генетическая, вековечная и всегда закономерная связь,
какая существует между силами, телами и явлениями, между
мертвой и живой природой, между растительными, животными и
минеральными царствами, с одной стороны, человеком, его бытом
и даже духовным миром,— с другой. А между тем именно эти со¬
отношения, эти закономерные взаимодействия и составляют сущ¬
ность познания естества, ядро истинной натурфилософии —
лучшую и высшую прелесть естествознания»56.
Едва ли, однако, сыграла роль эта формулировка. Живые об¬
разцы всегда сильнее вербальных формул. Именно в виде образца-
метафоры докучаевская революция выходит далеко за пределы по¬
чвоведения и охватывает широкий круг наук о Земле, включая ле¬
соведение, биогеоценологию, ландшафтоведение, учение о биосфе¬
ре, учение о зонах природы... Ясную характеристику этого аспекта
докучаевской революции дает В. О. Таргульян: «Докучаевская
“формула взаимодействия44 в процессе развития науки оказалась
шире своего первоначального предназначения — определения сущ¬
ности почвообразования — и стала определением многих других
природных и природно-антропогенных процессов»57.
Итак, перед нами в едином комплексе и открытие нового мира,
и новая теоретическая концепция, и две революции в стиле мыш¬
ления, одна из которых имеет дисциплинарный, а другая — обще¬
научный характер, делая Докучаева одним из крупнейших естест-
воиспытателей-методологов нашего века.
81
А теперь, возвращаясь к началу статьи, хотелось бы обратить
внимание на то, что все описание, несмотря на свою сложность и
масштабность, очень напоминает историю деревянной поварешки,
рассказанную этнографом Липсом. Действительно, учение о почве,
построенное по образцу геологии как науки об отдельных естест¬
венных телах, неожиданно становится образцом учения о единстве
всех компонентов природы. Перед нами явно изоморфные структу¬
ры развития, что еще раз доказывает пользу и правомерность про¬
стых моделей при изучении развития науки.
1 Кун Т. Структура научных ревопюций. М., 1975.
2 Степин В. С. Научные революции как точки «бифуркации» в развитии знания
// Научные революции в динамике культуры. Минск, 1987.
3 Дидро Д. Мысли к объяснению природы //Избр. филос. произв. М., 1941. С. 102.
4 Липе Ю. Происхождение вещей: Из истории культуры человечества. М., 1954.
С 48
5 См.: Лункевич В. В. От Гераклита до Дарвина. Т. 2. М.: Л., 1940. С. 61.
6 Левинсон-Лессинг Ф. Ю. Успехи петрографии в России // Избр. тр. Т. 2. М.,
1950. С. 9.
7 Гинзбург В. Л. О физике и астрофизике. М., 1980. С. 132—133.
8 Дойель Лео. Полет в прошлое. М., 1979.
9 См.: Лившиц И. Г. Дешифровка египетских иероглифов // Шампольон Ж. Ф. О
египетских иероглифах. М., 1950. С. 11. (Серия «Классики науки»).
1° Пушкин А. С. Воспоминания. Карамзин // Поли. собр. соч. В 10 т. Т. 8. Л.,
1978. С. 49.
и Морган Л. Древнее общество. Л., 1934. С. 3.
12 Пастернак Б. Л. Охранная грамота // Пастернак Борис. Воздушные пути. М.,
1982. С. 256-257.
13 Полынов Б. Б. Докучаев о современном почвоведении // Избр. тр. М., 1956.
С. 617.
и Струве О., Зебергс В. Астрономия XX века. М., 1968. С. 94—95.
15 Там же. С. 97.
16 Дойель Лео. Полет в прошлое. С. 32.
17 Кастлер Г. Возникновение биологической организации. М., 1967. С. 29.
18 Ивановский Д. И. Мозаичная болезнь табака // Избр. произведения, 1953. С. 78.
iQ Грегори К. География и географы. Физическая география. М., 1988. С. 46.
20 Там же. С. 29.
21 Дарвин Ч. Воспоминания о развитии моего ума и характера: (Автобиография) //
Соч. Т. 9. М., 1959. С. 214.
22 Равикович А. И. Чарльз Лайель. М., 1976. С 50—51.
23 Грегори К. География и географы. С. 30.
24 Шлейхер А. Теория Дарвина в применении к науке о языке // Звегинцев В. А.
История языкознания XIX—XX веков в очерках и извлечениях. 4. 1. М., 1964. С.
116.
25 Там же. С. 117.
26 Крикманн А. А. Некоторые аспекты семантической неопределенности пословиц
// Паремиологический сборник. М., 1978. С. 86.
27 Левин Курт. Определение понятия «поле в данный момент» // Хрестоматия по
истории психологии. М., 1980. С. 132.
28 Там же. С. 133.
29 Койре А. Галилей и Платон // Койре А. Очерки истории философской мысли.
М., 1985. С. 145-146.
30 Галилей Г. Диалог о двух главнейших системах мира // Избр. тр. М., 1964.
С. 243—244.
31 Ольшки Л. История научной литературы на новых языках. Т. 3. М., Л., 1933.
С. 120.
32 Га.1илей Г. Диалог о двух главнейших системах мира. С. 244.
33 Там же. С. 302.
34 Popper К. R. The Open Society and its enemies. Vol. 1. Princeton, New-Jercy:
Princeton univ. press, 1971. P. 299.
35 Ibid. P. 31.
36 Цит. по: Ольшки Л. История научной литературы... С. XVII.
37 Галилей Г. Беседы и математические доказательства, касающиеся двух новых от¬
раслей науки...// Соч. Т. 1. М.; Л., 1934. С. 428—429.
82
38 Там же. С. 429.
39 Ландау Л. Д% Лифиищ Е. М. Механика. М., 1958. С. 9.
40 Иос Г. Курс теоретической физики. Ч. 1. М., 1963. С. 83.
41 Галилей Г. Беседы и математические доказательства... С. 431.
42 Галилей Г. Диалог о двух главнейших системах мира. С. 244.
43 Джеймс Л., Мартин Дж. Все возможные миры: История географических идей.
М., 1988. С. 326.
44 Вернадский В. И. Проблемы биогеохимии // Труды биогеохимической лаборато¬
рии. М., 1980. С. 91.
45 Полынов Б. Б. Докучаев в современном почвоведении. Избр. тр. С. 619.
46 Докучаев В. В. Краткий исторический очерк и критический разбор важнейших
существующих почвенных классификаций // Соч. Т. 2. М.; Л., 1950.
47 Костычев П. А. Почвоведение: Курс лекций, читанных в 1886—1887 гг. М.; Л.,
1940. С. 7.
48 Там же. С. 9.
49 Докучаев В. В. По вопросу об осушении болот вообще и в частности об осушении
Полесья // Соч. Т. 1. М.; Л., 1949. С. 27.
50 Докучаев В. В. Способы образования речных долин Европейской России // Там
же. С. 153.
51 См.: Левинсон-Лессинг Ф. Ю. Жизнь и деятельность В. В. Докучаева // Избр. тр.
Т. 3. М., 1952. С. 427.
52 Полынов Б. Б. Очерк развития учения о почве как отрасли естествознания //
Избр. тр. М., 1956. С. 665—666.
53 Цит. по: Мейер Э. История химии от древнейших времен до настоящих дней.
СПб., 1899. С. 86.
54 Григорьян А. Т., Зубов В. П. Очерки развития основных понятий механики. М.,
1962. С. 12.
55 Сам Докучаев суть этого учения излагает в работе «К учению о зонах природы»:
Докучаев В. В. Соч. Т. 6. М.; Л., 1951. С. 399.
56 Там же. С. 398-399.
57 Таргульян В. О. Почвообразование и элементарные почвообразовательные процес¬
сы // Почвоведение. 1985. № 11. С. 36—37.
А. В. АХУТИН
КАК ВОЗМОЖНА НАУЧНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ?
Первые попытки ответить на вопрос: «Как возможна науч¬
ная революция?» — привели к выяснению парадигмальной
структуры научного знания. Однако сама парадигма была
истолкована, с одной стороны, как социально-психологическая,
с другой — как частная, прагматическая характеристика на¬
учного знания. Отсюда неопределенность в описании феноме¬
на революции. Между тем логическое обоснование и, следова¬
тельноу понятие феномен научной революции может полу¬
чить только в анализе целостной архитектоники научного
разума. Поскольку для этого разума определения картины ми¬
ра непосредственно превращаются в определения познаватель¬
ного органа и, стало быть, всякий акт познания изменяет не
только представления о мире, но и само «познающее устройст¬
во», «научная революция» представляет собой внутренний меха¬
низм как раз нормального, эволюционного развития науки. Со¬
всем иное дело, когда затрагиваются собственно архитектони¬
ческие начала разума, как это было в XVII в. и как это происхо¬
дит теперь, в XX в.
83
1. О понятии «научная революция»
В истории и философии науки разговоры о научных революци¬
ях стали уже наскучивать. Между тем вовсе нельзя сказать, чтобы
вопрос был в какой бы то ни было степени решен. Видимо, просто,
что называется, меняется парадигма. А может быть, дело оказалось
не столь уж важным, если каждый может на свой вкус выбрать ха¬
рактеристику события, его масштаб и исторический смысл, чтобы
учредить новую «революцию» или упразднить некогда признан¬
ную. Ведь идея радикальных переворотов в науке, ее внутренних
рубежей и организационных трансформаций столь же свойственна
самосознанию науки, как и идея прогрессивного роста, непрерыв¬
ного развития науки. В самом деле, ученый не может работать, не
включаясь в преемственный и солидарный процесс цехового дела,
не определив своей проблемы в контексте профессионального зна¬
ния, не осознав своего результата в качестве строительного элемен¬
та единого здания. Что же означают тогда «революции»? Как они
встраиваются в развитие науки? Следовательно, прежде чем опи¬
сывать революции или отрицать их, надо, видимо, прояснить само
понятие «научная революция».
Образы радикального обновления, переворота в мире знаний и
образ непрерывного прогресса, методического восхождения разума
в познании мира совмещаются в самосознании науки Нового вре¬
мени с момента ее зарождения в XVI в. Названия множества науч¬
ных трудов этой эпохи наглядно выражают это самосознание. «Но¬
вая наука» Н. Тартальи (1537), «О магните. Новая физиология...»
В. Гильберта (1600), «Новая астрономия» И. Кеплера (1609).
23-летний Р. Декарт сообщает И. Бекману в 1619 г., что собирает¬
ся основать «совершенно новую науку»1. В 1620 г. появляется «Но¬
вый органон» Ф. Бэкона, в котором отмеченная связь идей полного
обновления и прогрессивного развития «восстановленных» наук
прослеживается вполне отчетливо. В 1638 г. Г. Галилей публикует
«Беседы о двух новых науках». «Новые исследования», «Новые
опыты», «Новые изобретения» — подобные слова мы будем то и
дело встречать в названиях трактатов Р. Бойля, Р. Гука, О. фон
Герике и других ученых XVII в.
Как бы само собой срывается с языка и слово «переворот». В
1637 г. римский священник и ученый Р. Маджиотти, рассказывая в
письме своему другу Ф. Микелини об открытии кругообращения
крови В. Гарвеем (1628 г.), замечает, что этого открытия «доста¬
точно, чтобы перевернуть всю медицину, подобно тому как изобре¬
тение телескопа перевернуло вверх дном всю астрономию...»2. В
«Новых диалогах мертвых» (1683) Б. Фонтенель говорит о «рево^
люции» в медицине, совершенной В. Гарвеем, о «революции» в ма¬
тематике, вызванной открытием дифференциального исчисления И.
Ньютоном и Г. Лейбницем. В XVIII в. революционность открытий
В. Гарвея, Г. Галилея, И. Ньютона не вызывает сомнений. Глен-
виль в XVII в., Ж. Д'Аламбер в XVIII в., Дж. С. Милль в XIX в.
одинаково считают, например, революцией в математике декартову
84
алгсбраизацию геометрии. В свою очередь, были по праву призна¬
ны революционными механическая физиология Декарта3, кисло¬
родная теория Лавуазье, теории Дж. Дальтона, Дж. Джоуля, Фара¬
дея—Максвелла, Ч. Дарвина, Г. Менделя... Любой ученый или ис¬
торик науки на свой вкус добавит к перечисленным другие револю¬
ции и оспорит какие-либо из названных.
Очевидно, впрочем, что, чем больше разных революций мы ус¬
мотрим, тем серьезнее становится подозрение, что перед нами нс
экстраординарные события, а нечто, внутренне определяющее сам
механизм прогрессивного развития науки.
До некоторых пор революционный характер изменений, про¬
изошедших в XVII в., был бесспорен4. «В шестнадцатом и семнад¬
цатом веке,— пишет автор предисловия к хрестоматии текстов,
призванных иллюстрировать эту революцию,— интеллектуальная
карта Европы подверглась наиболее глубокому за всю историю за¬
падной цивилизации преобразованию. Этому сдвигу было дано имя
научной революции, ставшей источником нашего современного на¬
учного и технического мира... Это уникальное событие, не встреча¬
ющееся более нигде и никогда, и влияние его на развитие западной
цивилизации ставит его на уровень величайших событий человече¬
ской истории»5. Однако к настоящему времени тщательное изуче¬
ние средневековой науки и работ предшественников ученых
XVII в. ставит это привычное мнение под вопрос6. Теперь нетрудно
уже выстроить почти непрерывную линию развития по крайней
мерс математики и физики от античности до XVII в. Вообще же
говоря, ничего не стоит продлить се еще дальше в прошлое, хотя
для этого придется полностью стереть следы логической структуры
в знании, все еще признаваемом научным.
Странным образом самосознанию науки присущи обе тенден¬
ции: понимать историю науки как последовательность радикальных
переворотов и неуклонно восстанавливать образ непрерывного —
по внутренней логике — развития науки. Последнее тем более ес¬
тественно, что наука сама собой принимает форму единого процес¬
са познания единого предмета — природы. Сколь бы сложные ис¬
торические приключения ни приходилось испытывать разуму на
пути познания, поскольку это путь раскрытия в разуме природных
структур, сквозь все зигзаги истории проходит единая логика этого
развития.
Понятие научной революции размывается, стало быть, в двух
направлениях. С одной стороны, умножением количества «револю¬
ций» делается неопределенной та мера изменений, которую можно
счесть революционной. Всякое серьезное открытие, усовершенство¬
вание техники, принципиальное изменение теоретической модели,
выдвижение оригинальной и продуктивной идеи — все это можно
назвать революционным. Но для научного познания, весь смысл
которого в открытии нового, в постоянной ревизии основ, такие со¬
бытия и есть норма существования. С другой стороны, это понятие
все больше включает в себя социологические и часто даже психо¬
логические смыслы, характеризуя некие изменения в культурном и
85
социальном статусе науки, в структуре научного сообщества, в ис¬
толковании смысла научного знания. Понятие революции относит¬
ся в таком случае к науке нс поскольку она занята делом позна¬
ния, а поскольку это занятие есть также занятие человека в исто¬
рических обстоятельствах.
Часто в трудах историков и философов науки эти различные
аспекты смешиваются, так что одни революции выделяются по
эпистемологическим признакам (например, возникновение «не¬
классической» науки), другие — тут же — по социологическим
(например, дисциплинаризация и институтиализация науки в
XIX в.), третьи по социально-техническим (например, компьютер¬
ная эпоха), что же касается XVII в., все толкования сплетаются
обыкновенно в однородной ткани исторического повествования, ис¬
полненного в эпическом стиле.
Так можно ли всерьез спорить о научных революциях, если
каждый понимает «революционность» на свой лад? Можно ли при¬
дать этому понятию более определенный смысл?
Разумеется, дело идет не об уточнении терминов. В первую
очередь следует не только классифицировать, в каких смыслах
употребляется нынче термин «научная революция», сколько попы¬
таться ответить на принципиальный вопрос: в каком смысле
можно — если вообще можно — говорить о научной револю¬
ции? Допускает ли сама архитектоника познающего разума такое
событие? Словом, прежде всего следует ответить на вопрос крити¬
ческий: как возможна научная революция? Лишь после этого мы
получим отправную точку для выяснения всех других смыслов это¬
го понятия.
Среди множества трудов по истории научных революций, за¬
трагивавших самые разные ее аспекты, известная книга Т. Куна7
привлекла к себе особое внимание именно потому, что, кажется,
впервые подчинила историко-описательную задачу аналитической.
Спрашивается, что в самой структуре научного мышления допуска¬
ет нечто такое, как революция, более того, делает подобное собы¬
тие неизбежным.
Если бы пресловутая «парадигма» имела только социально-пси¬
хологический смысл, для нашей задачи исследование Т. Куна утра¬
тило бы значение, но «парадигма» — во всяком случае, по замыс¬
лу — как раз такое понятие, которое показывает, как может быть
связано «внешнее» и «внутреннее». Научная деятельность может
сложиться в форму «сообщества», «школы», «направления» именно
потому, что само научное мышление устроено парадигматически.
Этот аспект и важно осмыслить.
Несколько обобщая, можно сказать, что Т. Кун обратил внима¬
ние на двумерную структуру научного знания: грамматика теоре¬
тического текста включает в себя не только правила поверхностно¬
го синтаксиса, но и правила глубинных парадигматических транс¬
формаций. На мой взгляд, не так важны примеры конкретных па¬
радигм, приводимые Т. Куном, как осознание своего рода двумер-
ности знания, уяснение смысла его глубинного измерения.
86
В едином, по видимости, контексте научной деятельности, в не¬
прерывном процессе развития науки Т. Кун различает события
принципиально разного рода, движение как бы по двум ортого¬
нальным направлениям: работа внутри парадигмы («нормальная»
наука) и работа по изменению самой парадигмы («революция»).
Соответственно различаются жанры научных текстов, предельными
формами которых является «учебник», с одной стороны, и откры¬
тие некоего немыслимого «монстра» — с другой. Различаются ти¬
пы научных задач: нормальная наука методично решает множество
все более частных «головоломок», занимается уточнением понятий,
систематизацией теории, совершенствованием техники, тогда как в
эпоху революции внимание привлекает к себе чаще всего одна
проблема, фундаментальная аномалия, трудность которой заключа¬
ется в том, что эта единичность таит в себе новую форму теории.
Соответственно различаются и типы научного самосознания, и са¬
ми формы научной жизни: нормальная наука порождает идеологию
традиционализма, авторитаризма, позитивистского здравого смыс¬
ла, сциентизм; научное сообщество принимает эзотерические фор¬
мы технически утонченного профессионализма. Напротив, в ситуа¬
ции смены парадигм учеными овладевает философское беспокойст¬
во, обостряется их культурное чутье, сообщество размыкается,
вместо профессорски-просветительской популяризации «достиже¬
ний науки» развертываются принципиальные дискуссии с иными
сферами культуры — дисциплинарные, иерархические, культурные
перегородки становятся проницаемыми.
Помимо примеров, приведенных в книге Т. Куна, каждый чи¬
татель сам легко наполнит сказанное конкретными историческими
образами, стоит только припомнить, скажем, противостояние уни¬
верситетской учености и научного духа «республики ученых» в
XVI—XVII вв. или же споры «классиков» и «копенгагенцев» в тео¬
ретической физике первой четверти XX в.
Итак, следуя Куну, можно сказать, что научная революция
возможна, мыслима в силу того, во-первых, что научное мышление
вообще имеет структуру, внутреннюю форму, парадигмальное из¬
мерение, и потому, во-вторых, что само движение познания может
привести к необходимости изменения структуры научного мышле¬
ния. Но какова все же природа этой «парадигмы»? Каков собствен¬
но логический смысл этого понятия, если имеется в виду внутрен¬
нее измерение знания, а не внешняя форма, привносимая социаль¬
но-психологическими обстоятельствами, в чем часто и не без осно¬
вания упрекали Т. Куна?
Возьмем для ясности такой феномен, в котором социальная и
познавательная стороны предельно сближены. Человек вводится
в научное сообщество и одновременно формируется в качестве
познающего субъекта путем обучения. Процесс обучения и
встраивает учащегося в господствующую парадигму. Что это зна¬
чит?
Обучение — не просто процесс освобождения от предрассудков
и усвоения накопленных знаний. Обучаясь, человек овладевает
87
особым искусством мыслить научно, осваивает исследовательскую
технику — не только экспериментальную, но и интеллектуальную
«аппаратуру»: способность установить значимую проблему, навык
идеализирующей абстракции, моделирующего воображения, конст¬
руктивной интуиции etc. Наконец, он неприметно для себя усваи¬
вает некие базисные онтологические и логические предпосылки и
допущения — «векторы», изначально формирующие и направляю¬
щие исследовательское внимание, предопределяющие для него мир
возможных событий и форму возможных понятий. Все это — от
метафизических и методологических предпосылок до множества
частных методов и теорий, используемых в каждом акте позна¬
ния,— образует особый органон научной мысли. Образование
научного субъекта и состоит в овладении этим органоном, посред¬
ством которого он вообще может что бы то ни было научно позна¬
вать и знать.
Между субъектом и миром стоит сложная машина экспери¬
ментирующего разума, посредством которой добывается знание,
и содержание знания обусловлено тем, как именно оно добыва¬
ется.
Если рассматривать куновскую «парадигму» в таком контексте,
она оказывается элементом познавательной техники и продуктив¬
ной логики. В самом деле, вне определенных «концептуальных ра¬
мок», «способов видения», «профессиональных предписаний», «он¬
тологических категорий», без «понятийной сетки, через которую
ученый рассматривает мир»8,— словом, без особой интеллектуаль¬
ной оптики, с помощью которой ученый видит природу в опреде¬
ленном свете, и техники, с помощью которой он преобразует види¬
мость, чтобы добраться до сути вещей, никакое научное познание
вообще невозможно. Только потому, что парадигматическая струк¬
тура присуща самой логике познания, она обнаруживается и в
субъективном мире ученого (как «гештальт», «установка», «стерео¬
тип»), и в социальном мире науки (как «норма», «концепция»,
«предписание» сообщества). Но именно логический («архитектони¬
ческий») смысл парадигмы остается у Т. Куна менее всего раскры¬
тым. Его внимание привлекает скорее прагматика науки, чем ее
логическая архитектоника, а когда он в дополнении 1969 г. оконча¬
тельно истолковывает парадигму как «образец», проблема без ос¬
татка растворяется в социопсихологии.
Итак, первое, что следует предположить, чтобы допустить са¬
му возможность феномена научной революции,— понятие о тех¬
нике познания вообще, об органоне, устройство которого определе¬
но парадигматическими структурами. Если считать, что знание
возникает само собой в результате непосредственного контакта ес¬
тественных чувств и здравого смысла с естественным миром и в
дальнейшем только растет, или же, что наука развивается элемен¬
тарным гипотетико-дсдуктивным методом, ни о какой революции в
науке речи быть не может.
Второе предположение состоит в том, что допускается возмож¬
ность (и необходимость) парадигматического переустройства тех¬
88
ники познания. Следует предположить такие познавательные ситу¬
ации, когда движение вперед осуществляется не путем применения
органона, а путем его изменения, путем трансформации его пара¬
дигматических структур. Внимание должно быть переключено с
«предмета» на «орудие». Принципиальная аномалия говорит о том,
что должен быть переустроен сам познавательный «аппарат». Так
революция может быть вписана в логику познания.
Здесь, однако, необходимо сделать ряд важных оговорок.
1. Подлинно радикальная и неустранимая революция (а не слу¬
чайный исторический зигзаг) может быть только внутренней, т. е.
логически необходимой. Во-первых, потому, что серьезная, чрева¬
тая глубинными изменениями аномалия может быть только пре¬
дельной проблемой, т. е. проблемой, которую можно поставить
только в рамках предельно развитой теории. Опасные «облачка»
появляются, как известно, на предельно чистом теоретическом не¬
бе. Иными словами, заметить аномалию, построить «монстр», уяс¬
нить неразрешимость проблемы может лишь высокопрофессиональ¬
ный ум*. Нужно очень хорошо знать, что небо неизменно, чтобы
понять значение «новой звезды». Во-вторых, потому, что речь
идет о проблеме, решение которой предполагает не просто устране¬
ние одной парадигмы и принятие или придумывание новой. Если
парадигма есть то, чем мыслят, то новая парадигма может появить¬
ся только в результате радикальной рефлексии и переустройства
старой. Научная революция есть результат внутреннего переуст¬
ройства научного мышления, а не внешнего выбора иного «образ¬
ца» неким неопределенным умом вообще.
2. Научная революция была бы практически немыслимым со¬
бытием, если бы профессионализм действительно совпадал с владе¬
нием парадигмой в узком смысле системы норм, образцов, алгорит¬
мов. Здесь следует внести существенные коррективы в наше первое
предположение. В отличие от автомата, обучаясь, мы обучаемся не
программе, а именно проблемам. Хорошо работающий, способный
к оригинальным поворотам и глубинной саморефлексии ум образо¬
ван не в парадигме, а на скрещении разных парадигм, в их конф¬
ликтах и возможных альтернативах. Не школьная образцовость, а
многомерность реальной культуры формирует пространство степе¬
ней свободы продуктивного ума. Таким именно умом отличались
И. Кеплер, М. Фарадей, А. Эйнштейн, Н. Бор...
3. Феномен научной революции открывает нам, что связь нау¬
ки и культуры имеет не внешний, а глубоко внутренний характер.
Нс подвергаясь внешним влияниям, а углубляясь в себя, мысль ус¬
ваивает культуру. Она обнаруживает многообразие интеллекту¬
альных традиций, образующих реальную культуру работаю¬
щей мысли. Она питается иными энергиями культуры, помимо
собственно познавательной. Словом, она становится культурной
мыслью.
Вернемся однако к более узкому смыслу научной революции.
89
Конструктор или архитектоника?
О каких именно переустройствах «аппарата» идет речь? Ведь
любое научное понятие является одновременно и теоретическим
представлением предмета, и инструментом его дальнейшего иссле¬
дования, так что каждый шаг в познании некоторым образом изме¬
няет и инструментарий познания. Какое же изменение - структуре
понятий, моделей, теоретических идеализаций, экспериментальной
техники следует считать парадигматически значимым? В этом
главном пункте царит наибольшая неразбериха. Мало того, что на
роль парадигмы может претендовать любая фундаментальная тео¬
рия или определенный метод моделирования,— в этом понятии
безнадежно смешаны собственно логические, прагматические, со¬
циологические, психологические смыслы.
В книге Т. Куна мы можем прочитать, что смену парадигм вы¬
зывают «только аномалии, пронизывающие научное знание до са¬
мой сердцевины», что различия между парадигмами субстанциаль¬
ны, поскольку они «по-разному характеризуют элементы универсу¬
ма и поведение этих элементов», что вовсе не внешний авторитет,
а как бы сама природа требует трансформации парадигм10, и вме¬
сте с тем в той же книге это событие характеризуется как «геш-
тальтпереключение», как смена «профессиональных предписаний»,
«правил игры», основания которой «проистекают не из логической
структуры научного знания», а из «согласия», или «расположения»
научного сообщества11. Смешение этих вполне реальных и значи¬
мых аспектов будет неизбежным, пока останется невыясненной ар¬
хитектоника познавательного органона в целом, в ее основополо¬
жениях и несущих конструкциях. Что в самом деле значит «серд¬
цевина знания»? Что за философия определяет субстанциальность
онтологических элементов теории? Почему природа начинает све¬
титься теоретическим смыслом, лишь рассматриваемая через приз¬
му идеализирующего концепта, через сеть категорий? Что значит,
что природа — а вовсе не предпочтение научного сообщества —
вызывает революцию, т. е. требует радикальной рефлексии и пере¬
устройства самого познающего субъекта?
Пока мы не выясним, как формируется и логически обосновы¬
вается структура научного разума и что в ней допускает возмож¬
ность фундаментального самоизменения, указанная выше неопре¬
деленность в истолковании научной революции, более того, сомне¬
ния в реальности этого феномена останутся неизбежными.
* * *
Одна из наибольших трудностей современных исследований на¬
уки заключается вообще в том, что можно назвать ее прагматиче¬
ским плюрализмом. Возникает впечатление, будто в науке нынче
мыслят не понятиями и даже не теориями, а микродисциплинами и
целыми методологемами, к тому же альтернативными12. Способ¬
ность современной науки к порождению новых объектов, неслы¬
ханные междисциплинарные связи и переходы крайне затрудняют
90
понимание архитектонического единства научной мысли. Стремясь
как-то разобраться в этом многообразии и уловить формы единст¬
ва, чаще всего теперь приходят не к образу органона, а к образу
конструктора: набору элементов, строительных блоков. Эти эле¬
менты и составные части охотно описываются, но при этом не
слишком заботятся об их «дедукции»13 (т. е. о выяснении их внут¬
ренней связи в акте познания). Если к тому же открыть в этих
«блоках» социокультурные размерности, мы обретем неограничен¬
ные возможности объяснять разные факты научной жизни, но си¬
ла подобных объяснений будет обратно пропорциональна их
свободе.
Разумеется, внимательное исследование хотя бы одной реаль¬
ной революции в истории естествознания позволяет выделить «бло¬
ки» достаточно конструктивные, чтобы за ними можно было разли¬
чать черты более органической архитектоники. Например, в про¬
цессе реконструкции становления электромагнитной теории Фара¬
дея—Максвелла В. С. Степин обособил три главных компонента
познавательного «аппарата», изменение которых может быть оха¬
рактеризовано как научная революция: «идеалы и нормы исследо¬
вания, научную картину мира и философские основания науки»14.
Поскольку эти компоненты выделены как независимые «блоки»,
перед нами конструкторская модель, поскольку же «метод», «мир»
и «основоположения» действительно архитектоничны для научного
разума, они образуют три стороны, три аспекта единого познава¬
тельного органона.
Это создает явные (и неявные) конфликты и напряжения в
концепции В. С. Степина. С одной стороны, речь идет о норматив¬
ных «презумпциях», онтологических «постулатах» и философских
«принципах». Научная мысль как бы расчленяется на три отсека,
каждый из которых оказывается детерминированным извне («куль¬
турой»), а культурная автономия научного разума складывается в
более неопределенной форме «стиль мышления». С другой сторо¬
ны, В. С. Степину ясно, что идеалы и нормы систематизируются в
«сетку метода», а эта сетка существенным образом предопределяет
и предметный состав, и структуру соответствующей «картины ми¬
ра» (ибо определенный ответ на вопрос «что значит знать?» пред¬
определяет и то, что можно знать), так что «презумпции» и «по¬
стулаты», логика метода и онтология мира оказываются внутренне
связанными15.
«Картина мира» не просто «табло», которое «имеет» и которым
«пользуется» теоретик. Некоторым образом он сам определен и ог¬
раничен ею как познающий субъект. Если теперь взять ту же са¬
мую структуру, так сказать, в ее субъективной проекции, мы по¬
лучим систему норм и идеалов «объективного» знания. Так, меха¬
ника как форма объективного мира для теоретического субъекта
есть и норма объективного (истинного) представления вещей, идеал
теоретической ясности и отчетливости. Для теоретической мысли,
согласно известной формуле Спинозы, порядок и связь вещей тот
же, что порядок и связь идей.
91
Нс менее ясно и то, что философские идеи и принципы «обос¬
новывают идеалы и нормы и онтологические постулаты»16. Фило¬
софия — собственная работа которой остается за пределами естест¬
веннонаучного познания, пока не затрагиваются его первоосно¬
вы,— как раз и обосновывает это тождество формы мира и нормы
мысли, порядка вещей (скажем, причинность) и порядка идей (со¬
ответственно дедуктивность). Это прежде всего означает, что фило¬
софия, даже жестче — метафизика не есть система «философских
взглядов» или «мировоззренческих мнений» ученого, не система,
иными словами, его метафизических предубеждений, а то, силой
чего производится и воспроизводится определенный субъект науч¬
ного познания в конкретном устройстве его мышления и соответст¬
вующего мира. Предельная трудность революционного изменения
структуры мышления и состоит в том, что речь здесь идет нс о
смене системы взглядов, не о переустройстве «парадигм», «бло¬
ков», «концептуальных рамок», а о самоизменепии субъекта^1.
Стало быть, «презумпции» и «постулаты» определены не столь¬
ко социокультурными факторами, сколько метафизическими нача¬
лами, обосновывающими логичность предметного (теоретического)
мира и предметность рациональной (теоретической) конструкции.
Исходно же они коренятся в том философском замысле, которым
наука вообще самоопределяется в культуре.
Можно ли в таком случае говорить об особом типе революции,
когда «картина исследуемой реальности» меняется, а «идеалы и
нормы» не затрагиваются?18 И разве переход от механической к
электромагнитной картине мира, т. е. спор «эфира» и «поля», не
был вместе с тем и спором об идеалах научного описания? С пре¬
дельной ясностью эта внутренняя связь «мира» и «идеала» прояви¬
лась в известном споре А. Эйнштейна и Н. Бора.
Возникает, однако, и более серьезное затруднение.
«Конструкторский» образ науки и исчезновение леса за деревь¬
ями «элементов», «компонент», «блоков», частных дисциплин, па¬
радигм, школ, направлений привели к бесконечному дроблению и
мультипликации научных революций. Если учесть все подготови¬
тельные этапы, неприметные новации, междисциплинарные пере¬
носы, если принять во внимание все локальные, частные, микро- и
миниреволюции, возникает естественный вопрос, который возвра¬
щает нас к исходной двойственности научного самосознания: да не
описываем ли мы самое что ни на есть нормальное развитие нау¬
ки? Может быть, традиционный образ рутинного прибавления зна¬
ния к знанию вообще не имеет отношения к делу? Может быть,
разбираясь в механизмах научной революции, мы открыли подлин¬
ный механизм как раз эволюционного развития науки? Ведь, по
существу, каждый продуктивный шаг познания, каждое добытое
знание заставляют увидеть в новом свете и как бы впервые пра¬
вильно понять те самые представления, с помощью которых новое
знание и было получено,— увидеть в новом свете и, значит, пере¬
осмыслить, перестроить всю систему; только так ведь можно встро¬
ить в нес новое знание. Элементарный акт познания состоит не в
92
прибавке нового элементарного знания к совокупности старого, а в
элементарном преобразовании системы, посредством которой акт
этот и был осуществлен. Понять новое — значит изменить пред¬
шествующее понятие, а оно определено всей теоретической си¬
стемой.
Словом, наука развивается рефлексивно: «результат» становит¬
ся «началом», познание включает самопознание19. Постоянное пре¬
образование структур познающего органона и есть форма непре¬
рывного воспроизводства единого субъекта научного познания пе¬
ред лицом его единого объекта — природы.
Вот почему далеко не случайно большинство так называемых
постпозитивистских концепций развития науки, сколь бы «основа¬
тельные» мутации в структуре научного мышления они ни предпо¬
лагали, складывается тем нс менее в форму эволюционных теорий,
и мы не удивимся, прочитав в заключительных строках книги Т.
Куна о «структуре научных революций», что он развил в ней «эво¬
люционную точку зрения на науку»20. Разумеется, речь идет о те¬
ории эволюции дарвиновского типа, предполагающей существова¬
ние самостоятельных организмов (познавательных), их конкурен¬
цию, мутационные изменения глубинных структур, прогрессивные
и тупиковые линии развития и т. д.21
В самом деле, несмотря на все перипетии и нелинейности исто¬
рической феноменологии, логика развития науки обнаруживает не¬
умолимую тенденцию к унификации, соответствующей самому
смыслу теоретического понимания мира22. По мере экстенсивного
развития, охвата все более широкого круга явлений теоретическая
мысль развивается и интенсивно, т. е. углубляет, унифицирует и
связывает воедино свои принципы и начала в перспективе «велико¬
го объединения», «мировой формулы»23. Все революционные драмы
объединены поэтому единым эволюционным сюжетом, соответству¬
ющим основной познавательной задаче: непрерывному продвиже¬
нию в познании природы. Поэтому-то все исторические «револю¬
ции» могут быть логически встроены в развитие единой теории со¬
образно принципу соответствия или же по рецепту «эрлангенской
программы»24.
Следует поэтому ясно различать нормальное преобразование
исследовательского мира и познавательной стратегии, включающее
возможное изменение картины предметной реальности, принципи¬
альных моделей, методологических парадигм, т. е. идеальной (и
реальной) техники исследования — от ситуаций, в которых затра¬
гиваются принципы самого познавательного «искусства», архитек¬
тоника познающего разума, основания гносеологического субъекта
в его отношении к своему естественному объекту,— ситуаций, ког¬
да дело идет, скажем, не об изменении картины мира, а о самой
возможности представить мир как картину (объектно-объектиьно).
Так мы возвращаемся к тому, с чего начали обсуждение проблемы.
Рубеж, отделяющий классическую физику от неклассической, по
своей логической сути отличается от тех рубежей, которые можно
нащупать внутри классической физики. Но философский опыт ре¬
93
лятивистской и квантовой механики высветил и эти рубежи с осо¬
бой резкостью, выявив существенную неоднородность, присущую
самой классической физике.
В частности, концепция «замкнутых теоретических систем» и
соответствующее истолкование научной революции В. Гейзенберга
и К. фон Вейцзеккера, на формирование которой сильное влияние
оказал принцип дополнительности Н. Бора, представляется мне го¬
раздо более логичной, чем концепция «парадигм» Т. Куна или «ис¬
следовательских программ» И. Лакатоса. Она отработана, правда,
только на материале теоретической физики и в отличие от послед¬
них не конкретизирована ни исторически, ни тем более социально¬
психологически, но с большей логической продуманностью отвеча¬
ет на вопрос, как возможна научная революция. Не вдаваясь в де¬
тали, кратко поясню, что имеется в виду25.
Квантовой механике соответствует не особая картина мира, а
новая идея реальности, идея потенциальной реальности. Эта реаль¬
ность представляется в дополнительных экспериментальных ситуа¬
циях, которые актуализируют (объективируют) квантовую реаль¬
ность в объектах, соответствующих разным, исключающим друг
друга и поэтому дополняющим друг друга картинам мира. Отноше¬
ние между теорией (идеализацией) и реальностью, представляемой
в объективном мире теории («картина»), отношение, остававшееся
«за кадром» в классической физике, стало собственным элементом
неклассической теории. Эта философская тайна открывается внут¬
ри самой физики. Соответственно история физики может предстать
как последовательность универсальных (в этом смысле замкнутых)
теоретических представлений, т. е. идеальных миров (механиче¬
ский, статистико-термодинамический, полевой, квантовый, воз¬
можный квантово-релятивистский), между которыми не может
быть непрерывного перехода, ибо это тотальные миры, порождае¬
мые особыми «мировыми идеями» (идеями объективирующей идеа¬
лизации). Принцип дополнительности подсказывает также, что по¬
следовательность этих миров нельзя представить как ступени раз¬
вития одного мира, мира миров. Реальность принципиально не
представима в одной картине. Необходимо «дополнительное» со¬
существование разных мировых картин...
Опыт релятивистской и в особенности квантовой механики уни¬
кален для понимания смысла и структуры научной революции. В
те первые десятилетия века вполне успешное экспериментальное
освоение новых явлений и не менее успешная разработка способов
их математического описания не освобождали, однако, ведущих те¬
оретиков от впечатления топтания на месте. Трудности — соци¬
ально-психологические, философские, логические,— связанные с
внутренней необходимостью переключить аналитическое внимание
в другое — глубинное — измерение научного мышления, погру¬
зиться в исследование «механики» мысли и уяснить, какие ее осно¬
вания затрагиваются новыми проблемами,— трудности эти дейст¬
вительно были предельными. Ведь затрагивались принципиальные
основы познающего разума, его «трансцендентальные условия»: аб-
94
солютность («априорность») ньютоновского пространства-времени,
представимость реальности в единственной объективной картине
мира, картезианское субстанциальное разделение res cogiians и res
extensa. Затрагивались, словом, такие начала, которые на протяже¬
нии всей истории классической физики были априорными условия¬
ми самой возможности научного познания. По всей видимости, мы
наталкиваемся здесь на границу, гораздо более фундаментальную,
чем все предшествующие. Речь идет не о теоретических «парадиг¬
мах», а о коренных принципах «объективного» познания, что, ра¬
зумеется, не значит, что познание может стать «субъективным».
Нынче, впрочем, это можно и не разъяснять.
Ситуация столь радикального отстранения от собственного ми¬
ра — глубоко укорененного в традиции, философски обоснованно¬
го, теоретически продуманного и экспериментально выверенного,
едва ли не слившегося с миром обычного здравого смысла (до сих
пор отождествляющего истинность с объективностью),— эта ситуа¬
ция напоминает нам об историческом начале современной науки,
об эпохе XVI—XVII вв., о «коперниканском» отстранении от пто¬
лемеевского, аристотелевского, томистского мира. Мы открываем
своего рода со-временность научных революций начала XX в. и на¬
чала XVII в. Может быть, только в этих точках перед нами рас¬
крываются в самом деле принципиальные изменения, охватываю¬
щие не столько парадигмы научного познания, сколько саму архи¬
тектонику разума, априорно определяющую его как разум науч¬
ный.
Научная новация и архитектонический сдвиг
В заключение я хотел бы пояснить и развить сказанное на од¬
ном хорошо известном историческом примере, на примере так на¬
зываемой коперниканской революции. Прежде всего поражает
контраст между тем, что именно сделал Коперник, и эпохальным
переворотом, именуемым «коперниканской революцией». С одной
стороны, трактат с традиционным названием26 «О круговращении
небесных сфер», предназначенный для узкого круга профессиона¬
лов («математика пишется для математиков»), содержащий не¬
сколько специальных астрономических гипотез и массу вычисле¬
ний, выполненных с виртуозной по тем временам математической
техничностью, с другой — мировоззренческий переворот, едва ли
не сопоставимый с откровением новой веры. А. Ф. Лосев несколько
гротескно, но ярко изобразил этот переход: «Мир не имеет границ,
т. е. не имеет формы. Для меня это значит, что он — бесформен.
Мир — абсолютно однородное пространство. Для меня это значит,
что он — абсолютно плоскостей, невыразителен, нерельефен. Неи¬
моверной скукой веет от такого мира. Прибавьте к этому абсолют¬
ную темноту и нечеловеческий холод междупланетных про¬
странств... То я был на земле под родным небом, слушал о вселен¬
ной “яже не подвижется44... А то вдруг ничего нет, ни земли, ни
неба, ни “яже не подвижется44... Читая учебник астрономии, чувст¬
95
вую, что кто-то палкой выгоняет меня из собственного дома и еще
готов плюнуть в физиономию. А за что?»27
Конечно, А. Ф. Лосев нарочито утрирует картину, но подобное
переживание откровения нового мира вовсе не надуманно. Доста¬
точно вспомнить не менее выразительное описание нового миро¬
ощущения Б. Паскалем. Напомним эти знаменитые изречения: «Le
silence eternel de ces espaccs infinis m'effraie» («Вечное молчание
этих бесконечных пространств ужасает меня»); «...глядя на эту не¬
мую вселенную, на человека, лишенного света, предоставленного
самому себе и как бы затерявшегося в этом уголке вселенной, не
зная, кто его туда поместил, что ему делать, что станет с ним по
смерти, и неспособного это узнать,— я прихожу в ужас, как чело¬
век, которого спящим перенесли на пустынный и жуткий остров и
который пробудился, не зная, где он находится, и не имея средств
уйти оттуда»^.
«Ужас» Б. Паскаля перед несоизмеримой с человеком вселен¬
ной, но также и восторг «героического исступления» Дж. Бруно бо¬
лее, чем все математические доказательства и физические экспери¬
менты, свидетельствуют о неожиданной реальности новооткрывше-
гося мира. Дело идет не о гипотезах, взглядах, теориях, учениях.
Не отвлеченные спекуляции и, разумеется, не здравый смысл, а
чуть ли не метафизический страх и мистическое вдохновение обра¬
зуют начало новой премудрости. Подлинно философское изум¬
ление29 и бытийный страх лежат в истоках страсти к позна¬
нию — изумление и страх, конечно же сливающиеся с востор¬
гом и страстью. Вот почему новое самосознание естественно от¬
ливается в традиционную для платонизма (от «Пира» Платона
до «Пира» Фичино) форму трактата о божественном эросе,
образцом которого может послужить «О героическом неистовстве»
Дж. Бруно30.
Переворот действительно глубинный, проникающий до сердце¬
вины духа и оказывающийся во всех сферах культуры — в религи¬
озной, художественной, практической — далеко не только в науч¬
ной. Пробужденные им энергии действуют во всей истории ново-
европейской культуры, и вновь и вновь всплывает в сознании
участников этой истории образ «коперниканской революции».
Зачинатели современного естествознания в XVII в. образуют свое¬
го рода общину «коперниканцев»; Дени Дидро в XVIII в. срав¬
нивает формирование «истинно энциклопедической» точки зре¬
ния (планомерный и объективный обзор человеческих знаний)
с коперниканским перенесением наблюдателя «в центр Солн¬
ца»31. И. Кант понимает свой критический переворот в фило¬
софии как распространение коперниканской революции на мета¬
физику32. С образом этой революции немецкие романтики (в част¬
ности, Ф. Шлегель, Ф. Шеллинг) связывали учение об универсаль¬
ности человека и бесконечно деятельной природе его духа33. В кон¬
це XIX в., повторяя жест паскалевского остранения, А. Шопенгау¬
эр и Ф. Ницше по-новому осознают «неуместность» человека (со
всеми его воображаемыми и теоретически конструируемыми космо¬
96
логиями) во вселенной, ничего не знающей о нем34. О. Шпенглер
также сравнивает свою «революцию» в понимании истории с ко-
перниканской35.
Словом, радикальность и эпохальность изменений налицо. Но
как же неприметная астрономическая новация Коперника входит в
средоточие этого мировоззренческого переворота? Как можно соот¬
нести одно с другим?
Историки верно замечали, что смысл научной революции
XVII в. не в совокупности отдельных открытий, не в том, иначе го¬
воря, что Н. Коперник создал гелиоцентрическую систему, а
В. Гарвей открыл законы кровообращения, Везалий в то же время
создал негаленовскую анатомию, а Галилей... и т. д.,— смысл этой
революции они видят по меньшей мерс в полном изменении того,
что Р. Коллингвуд назвал «идеей природы»36. Как же изменение
этой идеи входит в изменение астрономической теории? Как вооб¬
ще возможен мировоззренческий переворот?
Оставим в стороне просвещенческую идею «пробуждения» есте¬
ственного разума, оставим в стороне и «обратную» ей идею дегра¬
дации человеческого духа, начавшейся-дс в эпоху Возрождения.
Эти идеологемы философски не интересны. Поставим вопрос так:
как одна культурно и метафизически полноценная осмысленность
мира может быть переосмыслена, преобразована в другую, столь
же полноценную форму осмысленности? И в этом контексте зада¬
дим наши тематические вопросы: как оказалась вообще возможной,
допустимой сама «гипотеза» Н. Коперника, почему эта «гипотеза»
не только была понята, но и осознана как начало радикального
преобразования всего мировоззрения?
Одна из распространенных точек зрения состоит в том, что Ко¬
перник отважился на свое новшество именно потому, что не связы¬
вал с ним никакой метафизики, рассматривая его как некий фор¬
мальный момент астрономического описания. Т. Кун в книге о ко-
перниканской революции говорит, что учение о движении Земли
было «непредвиденным побочным продуктом»37. «В труде Копер¬
ника,— говорит он далее,— революционная концепция движения
Земли была первоначально аномальным побочным продуктом и по¬
пыткой посвященного астронома преобразовать технику, использу¬
емую при вычислении положения планет»38.
Б. С. Грязнов фиксировал этот важный для теории развития
науки момент — логически последовательное и вместе с тем логи¬
чески непредсказуемое появление важного новшества,— используя
понятие античной логической теории — поризм39. Поризм — это
побочный продукт доказательства теоремы или решения задачи,
неожиданный промежуточный результат. Оспаривая концепцию
К. Поппера о возникновении новой теории из новой проблемы,
Б. С. Грязнов замечал, что Коперник нс решал проблему об уст¬
ройстве вселенной, он решал частную задачу старой птолемеевской
теории, связанную с необходимостью реформы календаря. Утверж¬
дение о движении Земли получилось у него как поризм. Точно так
же как утверждение о квантованности энергии излучения у
4 Заказ N? 4Д4
97
М. Планка при решении классической проблемы излучения черно¬
го тела40. Эти неожиданные и поначалу совершенно искусственные
предположения как бы ненароком наводят мысль на новые пути и
приоткрывают дверцу в новый мир.
Сам Коперник, правда, изображает дело несколько иначе. Ра¬
зумеется, основной замысел его вовсе не в том, чтобы учредить но¬
вую систему мира. Скорее наоборот — усовершенствовать тради¬
ционную. Но дело и не в решении частной задачи. «Я часто раз¬
мышлял,— пишет он в «Малом комментарии»,— нельзя ли найти
какое-нибудь более рациональное сочетание кругов, которым мож¬
но было бы объяснить все видимые неравномерности, причем каж¬
дое движение само по себе было бы равномерным, как того требует
принцип совершенного движения»41. Привести космологическую
систему в соответствие с каноническим аристотелевским принци¬
пом совершенства равномерного кругового движения и было исход¬
ной целью Коперника42.
Многочисленные «птолемеевские» системы, бытовавшие в эпо¬
ху Коперника, были далеки от совершенства и в смысле внутрен¬
ней связности, и в смысле согласованности с данными наблюдения,
не говоря уж о том, что сами эти данные оставляли желать лучше¬
го43. Но Коперника задевает прежде всего то, что они «не удовлет¬
воряют разум»44.
Говоря во вступлении к «De revolutionibus» о «вращении мира»,
о «форме вселенной», о прекрасном совершенстве неба, этого «ви¬
димого бога», Коперник сетует на несовершенство традиционных
систем и объясняет это тем, что «спорящие не опирались на одни и
те же рассуждения»45. Стремление к рациональной стройности, да¬
же к совершенной космической красоте,— вот источник вдохнове¬
ния Коперника. Источник настолько античный, что его труд — во
всяком случае, по «идеалам и нормам» — следует считать скорее
уж возвращением к античным образцам, чем попыткой мыслить
по-новому. В смысле владения математической техникой он тоже
представляет собой пример возрождения птолемеевского искусства.
А поскольку и данными Коперник пользовался в основном птоле¬
меевскими, прав был Кеплер, упрекавший его в том, что он «боль¬
ше толкует Птолемея, чем природу»46.
Труд Коперника отличается поэтому двойственным характером,
одновременно традиционным и модернистским, консервативным и
радикальным. «Революционизирующее произведение,— замечает в
этой связи Т. Кун,— одновременно является и кульминацией про¬
шлой традиции, и источником новой будущей традиции»47.
Античный идеал рационально устроенного космоса, убеждение
в том, что математическая стройность «разумного порядка» есть
критерий красоты, а красота, в свою очередь, ясное свидетельство
божественности космоса,— вот что открываем мы, вчитываясь в
немногие страницы Коперникова труда, предназначенные не для
«посвященных».
Нет, Коперник решал не частную проблему реформы Юлиан¬
ского календаря, которая занимала Льва X , Климента VII и Павла
98
Ill в связи с накапливающейся ошибкой при вычислении пасхалий.
Во всяком случае, ему было ясно, что ошибка в определении дня
весеннего равноденствия — один из многих дефектов и что нужно
полное переустройство системы, чтобы она согласовалась со своим
собственным основополагающим принципом (равномерное враще¬
ние). Реформа календаря обсуждалась на Латеранском соборе
(1512—1517 гг.)48, а Коперник пишет, что скрывал свой труд
36 лет, т. е. проект его существовал по меньшей мере уже в
1506 г., а может быть, и раньше49. «Малый комментарий», содер¬
жащий «семь требований», формулирующих принципы гелиоцент¬
ризма, также был составлен в это время. Известно, что к публика¬
ции труда Коперника настоятельно склонял кульмский епископ
Тидеман Гизе. Гизе, пишет Георг Ретик, понял, «...что не мало бу¬
дет сделано во славу Христа, если церковь будет обладать правиль¬
но установленной последовательностью времен и надежной теорией
в науке о движении»50. Но Коперник, как мы знаем, всячески ук¬
лонялся от публикации. Более того, основные расчеты новой систе¬
мы Коперник сделал, пользуясь данными Птолемея, а к системати¬
ческим собственным наблюдениям приступил только в 1512 г., во
Фромборке, когда Павел Мидделбургский, участвовавший в соборе,
впервые обратился к нему с призывом помочь в реформе51. Реше¬
ние этой частной проблемы требовало новых точных наблюдений и
не имело отношения к построению самой системы.
Вряд ли, далее, можно вообще сомневаться в том, что, несмот¬
ря на шаткость физических аргументов, приводимых Коперником в
защиту возможности движения Земли, он был уверен в реальности
гелиоцентрической системы. Известно, как были возмущены Гизе и
Ретик — ближайший друг и первый ученик,— когда они увидели
предисловие А. Осиандера, самовольно и анонимно вставленное им
в книгу при подготовке ее к печати и истолковывающее все учение
в гипотетическом духе. Гизе в письме Ретику называет это «свято¬
татством под защитой доверия»52.
Кроме того, сама гелиоцентрическая идея вовсе не была неким
неожиданным новшеством. Эта идея вместе с представлением о
возможных движениях Земли издавна существовала в традиции, и
Коперник в обращении к Павлу III ссылается на места из Цицеро¬
на и псевдо-Плутарха (сочинения, известные ему со времен учебы
в Падуанском университете в 1501 —1503 гг.), в которых упомина¬
ются пифагорейцы Гикет и Экфант, стоик Филолай, а также Ге-
раклид Понтийский). Знает он и об Аристархе Самосском53. Почти
все «физические» аргументы, приводимые Коперником в обоснова¬
ние возможности движения Земли, обсуждались в университетах
по меньшей мере с XIII в. и полностью содержатся, например, в
трактате Н. Орема (ок. 1323—1382) «Вопросы о четырех книгах
“О небе и мире44»54. Все эти проблемы серьезно обсуждались в
Краковском университете в годы учения там Коперника
(1491 —1495)55. Иными словами, «проблема» существовала, она не
возникла из случайного «поризма» готовой математической теории.
Напротив, потому-то гипотеза Коперника и превратилась в тео¬
4*
99
рию, внушавшую автору и его последователям уверенность в ее со¬
стоятельности, что помимо успешных расчетов и наблюдений она
поддерживалась глубинным движением интеллектуальной культу¬
ры эпохи.
Наконец, еще одно. Противореча «общепринятому мнению ма¬
тематиков и даже, пожалуй... здравому смыслу»56, явно противоре¬
ча показаниям чувственного опыта, будучи очевидным и подозри¬
тельным монстром в физико-метафизическом мире средневековой
учености, система Коперника в действительности не обладала и
той рациональной простотой и красотой, которая одна могла бы
дать хоть какое-то основание для предпочтения ее птолемеевской.
«В чисто практическом отношении,— замечает Т. Кун,— новая
планетарная система Коперника была несостоятельна; она не была
ни более точной, ни значительно более простой, чем ее птолемеев¬
ская предшественница...»57 «Распространенное мнение, что гелио¬
центрическая система Коперника является значительным упроще¬
нием системы Птолемея, очевидно, является неверным,— пишет
О. Нейгебауэр.— Выбор системы отсчета не оказывает никакого
влияния на структуру модели, а сами коперниковские модели тре¬
буют почти вдвое больше кругов, чем модели Птолемея, и значи¬
тельно менее изящны и удобны»5®.
О каком же «разумном порядке» говорит Коперник? Что за
«гармония» и «красота» открываются его мысленному взору? Поче¬
му он так спокойно предоставляет физикам и философам выяснять
вновь возникшие проблемы? Почему, наконец, и в самом деле по¬
являются эти «коперниканцы»?
Конечно, едва ли не основным вкладом самого Коперника в
«коперниканскую революцию» была высокая техника астрономиче¬
ских расчетов, впервые, вероятно, со времен Птолемея доведенная
до такого совершенства,— техника, которая сразу же сделала шат¬
кую гипотезу результатом точной науки. Но вероятно и то, что ар¬
гументы интеллектуальной эстетики были существенными для Ко¬
перника. В своих вычислениях и наблюдениях он видел воплоще¬
ние разума. Но разума особого, разума, предшествующего созерца¬
ниям и физическим объяснениям созидаемого им мира. Преимуще¬
ственно математический склад ума Коперника сыграл тут свою
роль, но не потому, что позволял с легкостью изобретать удобные
для вычисления схемы, а потому, что давал опору «отвлеченному»
анализу альтернативных схем, анализу возможных «порядков ра¬
зума», независимых от традиционных идеальных образов. Принцип
порядка разума (ratio ordinis) состоит в том, что разум находит в
себе разумные конструкции и лишь затем соотносит их с реальным
миром59.
Дело не в том, что явления, не «спасаемые» птолемеевской схе¬
мой, будут «спасены» коперниканской. Дело в том, что открылась
возможность иных оснований разумного порядка вообще. И если
Коперник еще мыслит в традиционном образе (лучше сказать, в
идее) равномерного кругового движения как совершенного (в
смысле самоочевидного, логичного, «умного»), то «с появлением
100
Тихо Браге и Кеплера гипнотическое влияние традиции было
сломлено»60.
Конечно же, не в одном математическом складе ума тут дело.
Мы чувствуем в труде Коперника особую уверенность, уверенность
разума, обретающего тайну мира в себе как источнике форм и по¬
рядков. «...Живостью своего ума,— говорит галилеевский Сальвиа-
ти о коперниканцах,— они произвели такое насилие над собствен¬
ными чувствами, что смогли предпочесть то, что было продиктова¬
но им разумом, явно противоречащим показаниям чувственного
опыта»6*.
«...Направляемые единственно только доводами разума,—
вновь подчеркивает Сальвиати этот важнейший пункт,— (Копер¬
ник) все время продолжал утверждать то, чему противоречили
чувственные опыты...»62
Традиционно говоря о разумном порядке, разумных основаниях
и красоте, Коперник неявно для себя руководствуется нетрадици¬
онной идеей разума — автономного источника своих порядков.
Пункт этот в самом деле центральный для коперниканской рево¬
люции. Не гелиоцентризм его астрономической системы револю¬
ционен, а «рациоцентризм» его теоретической установки. Для
полной ясности напомним известные, но в нашем контексте, может
быть, понятнее звучащие слова И. Канта, суть коперниканской ре¬
волюции видящего в том, что «естествоиспытатели поняли, что ра¬
зум видит только то, что сам создает по собственному плану, что
он с принципами своих суждений должен идти впереди согласно
постоянным законам и заставлять природу отвечать на его вопро¬
сы, а не тащиться у нее словно на поводу, так как в противном
случае наблюдения, произведенные случайно, без заранее состав¬
ленного плана, не будут связаны необходимым законом, между тем
как разум ищет такой закон и нуждается в нем»63.
Присутствие и работу этого нового разума и замечали мы в
труде Коперника.
Брожение новой «закваски» в традиционных формах, работа
нового разума, сказывающегося повсюду, но стремящегося следо¬
вать традиционным «парадигмам»,— вот характернейшая черта
научной культуры XIV—XVI вв. Таков труд Н. Коперника. Таково
еще космологическое мышление И. Кеплера. Обретенную втайне
(часто для самих себя) свободу конструктивного воображения они
направляют на то, чтобы найти совершенную схему идеального
космоса. Новое же сказывается в другом, в свободе от традицион¬
ной метафизики, от той мощной логики, которая втягивает астро¬
номический образ в определенную физически и метафизически ос¬
мысленную космологию. Традиционная идея совершенного космоса
нетрадиционно отщепляется от своего метафизического базиса, и
может показаться, что она опирается только на наблюдения и
математические конструкции, связывая их в гипотетический об¬
раз космоса. Но сама возможность такого отщепления и уве¬
ренность в том, что физико-метафизические оправдания не за¬
ставят себя ждать, говорит о присутствии этих оснований в том
101
архитектонически новом уме (со своей метафизикой и даже своим
богословием), который мы застаем у Коперника и Кеплера уже за
делом.
1 Descartes R. Correspondence. Т. I—IV. Р., 1936—1947. Т. 1., (1936). Р. 146.
2 Le ореге di Galileo Galilei: 20 vol./Ed. An. Favaro. Florence., 1890—1909 (repr.
1964—1966). Vol. 17. P. 65.
3 Еще в 1967 г. лауреат Нобелевской премии по физиологии Ч. Шеррингтон писал,
что утверждение Декарта (организм — машина) было «самым революционным
для биологии его времени и чреватым всеми грядущими переменами». Этот и
другие примеры взяты из капитального труда Б. Коэна: Cohen /. В. Revolution in
science. Cambridge (Mass.); L., 1985. P. 85—90, 156—158. История понятия «ре¬
волюция» в применении к науке прослежена здесь детально и многосторонне.
4 Так, Марта Орншейн в работе, посвященной роли научных обществ в XVII в. пи¬
шет, что в эту эпоху произошла «революция в установленных нормах мышления
и исследования, по сравнению с которой большинство зафиксированных в исто¬
рии революций кажутся незначительными» (цит. по кн.: Cohen I. В. Op.cit.
Р. 392). Дж. Робинсон пишет: «Научные достижения этой эпохи превосходят
все, что было сделано до тех пор за всю жизнь человека на земле» (Robinson J.
Mind in the making, L., 1921. P. 144). См. также: Randall J. The making of the
modern science, 1300—1800. N. Y., 1949 (1957); Rupert Hall A. The scientific
revolution, 1500—1800. L., 1954 (1983); Smith P. History of modern culture. N. Y.,
1930. Vol. 1: Great renewal, 1543—1687.
5 The history of science in western civilisation. Wash., 1978. (Vol. II: The scientific
revolution. Eds. Williams L. and Steffens H.).
6 Мы имеем в виду прежде всего труды П. Дюгема, А. Майер, А. Койре, А. Кром-
би, M. Клэджетта и др. В отечественной истории науки особое значение имеют
труды В. П. Зубова, а также только что вышедшая в свет работа: Гайденко В. #.,
Смирнова Ю. Западноевропейская наука средневековья. Общие принципы и уче¬
ние о движении. М., 1989. См. также обсуждение этой темы в статье: МсмиГ
lin Е. Medieval and modern science: continuity or discontinuity? // International
philosophical quarterly. 1965. № 5. P. 103—109.
7 Kuhn Th The structure of scientific revolution. Chicago, 1962. Русское издание: Кун
T. Структура научных революций. М., 1975.
8 Выражения Т. Куна. См.: Кун Т. Указ. соч. С. 19, 21, 22, 63, 78, 126.
9 См.: Кун Т. Указ. соч. С. 92. «...Все всегда начинается,— замечает В. Гейзен¬
берг,— с весьма специальной, узко ограниченной проблемы, не находящей реше¬
ния в традиционных рамках. Революцию делают ученые, которые пытаются дей¬
ствительно решить эту специальную проблему, но при этом еще и стремятся вно¬
сить как можно меньше изменений в прежнюю науку. Как раз желание изменять
как можно меньше и делает очевидным, что к введению нового нас вынуждает
предмет, что сами явления, сама природа, а не какие-либо человеческие автори¬
теты заставляют нас изменить структуру мышлении*(Гейзенберг В. Шаги за го¬
ризонт. М., 1987. С. 198. Ср. характеристику М. Планка: Там же. С. 194).
ю Кун Т. Указ. соч. С. 92, 136, 211, 213.
11 Кун Т. Указ. соч. С. 22, 146, 212, 126, 184. Опасность подобной путаницы Кун
сознает (см. с. 25), однако мирится с тем, что в результате понятие парадигмы
размывается и основания для описания некоего исторического события как рево¬
люции становятся весьма произвольными. Такого же рода «прагматической» дву¬
смысленностью страдает и понятие «исследовательская программа» И. Лакатоса.
Неясно, к примеру, является ли «метафизическое ядро» программы архитектони¬
ческим элементом познающего разума или же только системой философских
предубеждений ученых. См.: Лакатос И. История науки и ее рациональные ре¬
конструкции // Структура и развитие науки. М., 1978. С. 203—269.
12 Финкельштейн А. М., Крейнович В. Я. Неизбежны ли научные революции: «за»
и «против» // Методологические проблемы взаимодействия общественных, есте¬
ственных и технических наук. М., 1981.
13 См., например: Дышлевый П. С. Научные революции как предмет философского
исследования // Научные революции в динамике культуры. Минск, 1987. С. 83.
14 Степин В. С. Становление научной теории. Минск, 197о; Он же. Научные рево¬
люции как «точки» бифуркации в развитии знания // Научные революции в ди¬
намике культуры. С. 41.
15 В этом ведь и состоит высшее основоположение «синтетических суждений»:
«...Условия возможности опыта вообще суть вместе с тем условия возможности
предметов опыта...» (Кант И. Критика чистого разума // Соч.: В. 6 т. М., 1964.
Т. 3. С. 234.
102
16 Степин В. С. Указ. соч. С. 52.
17 Разумеется, в историческом материале прежде всего бросаются в глаза изменения
отдельных структурных элементов, но они суть лишь симптомы произошедших
или происходящих глубинных сдвигов.
18 Степин В. С. Указ. соч. С. 62.
19 Этот механизм развития теоретической мысли в философском наукоучении изве¬
стен по меньшей мере со времен Гегеля. См.: Ильенков Э. В. Диалектика абст¬
рактного и конкретного в «Капитале» К. Маркса. М., 1960. См. также: Черняк В. С.
История. Логика. Наука. М., 1986. С. 197—227.
20 Кун Т. Указ. соч. С. 218.
21 Тулмин С. Человеческое понимание. М., 1984; Кребер Г. Эволюционизм в теории
развития науки // ВИЕТ. 1987. № 3.
22 Овчинников Н. Ф. Тенденция к единству науки. Познание и природа. М., 1988.
23 Ср. идеи В. Гейзенберга о стремлении науки к выяснению «великой взаимосвя¬
зи»: Гейзенберг В. Шаги за горизонт. С. 254, 267, 275, 305, 321.
24 Визгин Вл. П. Эрлангенская программа в физике. М., 1975.
25 Детальное обсуждение этой концепции см. в статье: Ахутин А. В. Историко-на¬
учная концепция В. Гейзенберга // ВИЕТ. 1988. N9 4.
26 в полном согласии с Евдоксом и Аристотелем речь шла о небесных сферах (а не
«орбитах») См.: Веселовский И. Н, Белый Ю. А. Николай Коперник. М., 1974.
С. 239—240. См. также: Three Copernican treatises/Ed. Rosen. 3 ed. with a
biography of Copernicus and Copernican bibliography, 1939—1958. N. Y., 1971.
P. 11—21.
27 Лосев А. Ф. Диалектика мифа. M., 1930. С. 27.
28 Pascal В. Oeuvres comtetes. P., 1954. P. 1113. (Bibl. de la Pleiade).
29 Отзвук этого изумления слышится в знаменитых словах И. Канта о «звездном не¬
бе над нами». Во «Всеобщей теории и истории Неба» (1755) Кант говорит: «Ми¬
роздание с его неизмеримым величием, с его сияющим отовсюду бесконечным
разнообразием и красотою приводит нас в безмолвное изумление» (Кант И.
Соч. Т. 1. С. 201).
30 Сопоставляя трактаты М. Фичино и Дж. Бруно, французская исследовательница
пишет: «В действительности одними и теми же словами они на деле говорят не¬
что совершенно различное. Любовь Фичино предполагает христианскую теорию
вселенной, тогда как любовь Бруно связана с концепцией мира, исключающей
какую бы то ни было идею творения» (Vedrine Н. La conception de la Nature chez
Giordano Bruno. P., 1967. P. 53.).
31 Diderot D. Encyclopedic // Encyclopedic ou Dictionnaire raisonne des Sciences, des
Arts et des Metiers. Vol. V. P., 1755. P. 640D—641A.
32 Кант И. Соч. T. 3. С. 91.
33 Blumenberg Н. Die Genesis der Kopernikanischen Welt. Frankfurt-am-Main, 1975.
S. 80-91.
34 Ibid. S. 123.
35 Шпенглер О. Закат Европы. Т. 1. Образ и действительность. М.; Пг. 1923. С. 16.
36 Collingwood R. The Idea of Nature. Oxford, 1945 (1964); Rupert Hall A. On the
historical singularity of the scientific revolution of the seventeenth century // The
diversity of the history: Essais in honour of Sir H. Koenigsberger. Ithaca; N. Y.; L.,
P. 201—214. См. также: Ахутин А. В. «Фюсис» и «Натура». Понятие «природа»
в античности и в Новое время. М., 1988.
37 Kuhn Th. The Copernican revolution. Planetary astronomy in the development of
western thought. Cambridge, 1957. P. 1.
38 ibid. P. 136.
39 Грязнов Б. С. О взаимоотношении проблем и теорий // Природа. 1977. N9 4.
См. также: Грязнов Б. С. Логика. Рациональность. Творчество. М., 1982.
С. 111 — 118.
40 «Введение предложенной Планком гипотезы казалось просто остроумным при¬
емом, позволяющим улучшить теорию интересного, но в общем-то довольно част¬
ного явления, а отнюдь не воспринималось как гениальная мысль, которая долж¬
на привести к изменению основных концепций классической физики»
(Де Бройль Л. Революция в физике. М., 1963. С. 91).
41 Коперник Н. О вращении небесных сфер. Малый комментарий. Послание против
Вернера. Уппсальская запись. М., 1964. С. 419. (Классики науки).
42 Составитель так называемых «Прусских таблиц» (1551) Эразм Рейнгольд напи¬
сал на принадлежащем ему экземпляре Коперникова труда: «Аксиома астроно¬
мии: небесное движение кругообразно и равномерно или же составлено из круго¬
образных и равномерных частей» (цит. по: Gingrich О. The role of Erasmus
Reinhold and the Prutenic Tables in The dissemination of Copernican theory // Studia
Copernicana. Wroclaw; W, Krakow; Gdansk, 1973. P. 515).
43 Математическая астрономия вообще была слабым местом средневековой учености.
Она впервые вышла на уровень Птолемея едва ли не к XV в., когда немцы Георг
103
Пейербах (1423—1461) и его ученик Иоган Мюллер (Региомонтан) (1436—1476)
перевели из арабских источников первые шесть книг ♦Альмагеста». С тех пор
греческая наука стала восприниматься как искаженный арабами оригинал. См.:
Kuhn Th. Op. cit. P. 123. Коперник изучал Птолемея по этому переводу. См.: Ве¬
селовский И. Н., Белый Ю. Л. Указ. соч. С. 83—84; Кирсанов В. С. Научная ре¬
волюция XVII века. М., 1987. С. 75.
44 Коперник Н. Указ. соч. С. 17.
45 Там же.
46 Цит. по: Cohen /. В. Op. cit. Р. 122. В ♦Послании против Вернера» (1524) Копер¬
ник пишет: ♦Мы... должны идти по стопам древних математиков и держаться ос¬
тавленных ими как бы по завещанию наблюдений. И если кто-нибудь, наоборот,
хочет думать, что верить им не следует, то, конечно, врата нашей науки будут
для него в этом вопросе закрыты...» (Коперник Н. Указ. соч. С. 433).
47 Kuhn Th. Op. cit. P. 134.
48 Коперник Г. Указ. соч. С. 479—553.
49 Birkenmaier L Mikolai Kopernik. Krakow, 1900.
50 Коперник H. Указ. соч. С. 544.
51 Там же. С. 14—15.
52 Там же. С. 485.
53 Там же. С. 39, 162.
54 Веселовский И. НБелый Ю. Л. Указ. соч. С. 63—64.
55 Там же. С. 65—89.
56 Коперник Н. Указ. соч. С. 12.
57 Kuhn Th. Op. cit. P. 171.
58 Нейсебауер О. Точные науки в древности. М., 1968. С. 196—197. «Для Вселен¬
ной,— говорит Коперник в “Малом комментарии**,— будет достаточно 34 кругов,
при помощи которых можно объяснить весь механизм мира и всю хорею планет»
(Коперник Н. Указ. соч. С. 430).
59 Blumenberg Н. Op. cit. S. 52—56.
60 Нейгебауер О. Указ. соч. С. 197.
61 Галилей Г. Избр. тр.: В 2 т. М., 1964. Т. 1. С. 423.
62 Там же. С. 434.
63 Кант И. Соч. Т. 3. С. 85.
Раздел II
...И ВОЗНИКЛА НАУКА
НОВОГО ВРЕМЕНИ
В. С. ЧЕРНЯК
ТРАДИЦИЯ ИЛИ АЛЬЯНС ТРАДИЦИЙ?
(Интеллектуальная революция в астрономии XVI в.)
В статье показано, что коперниканский переворот в астро¬
номии произошел на фоне плюрализма традиций (научных, фи¬
лософских, религиозных), взаимопроникновение которых привело
к новому глобальному синтезу. Хотя идея множественности идей
и концепций, предваряющих собою революционные новации в нау¬
ке, имеет своих сторонников среди историков и философов науки
(Э. Мецжер, Т. Кун, Л. Фейерабенд), однако до сих пор дискус¬
сионным остается вопрос о том, разрешается ли революци¬
онная ситуация в монотрадицию («нормальную науку» Ку¬
на) или в известное множество традиций (пролиферацию идей
Фейерабенда или конкуренцию исследовательских программ Лака¬
тоса и т. п.).
В. С. Черняк считает, что ответ на этот вопрос не может
быть однозначным и всецело зависит от конкретной историче¬
ской ситуации в науке. Общий вывод автора состоит в том, что
в зависимости от объекта исследования историк имеет дело с
различными логиками науки, которые к тому же могут приме¬
няться лишь фрагментарно. Поэтому не следует делать ставку
на какой-то один логический механизм и рассматривать его в
качестве универсальной объяснительной схемы.
Введение
В традиционной философии науки, которая, начиная с первой
четверти XIX в., была преимущественно позитивистской, понятие
научной революции, получившее распространение в конце XVIII в.
под влиянием социально-политических процессов в канун Великой
французской революции, постепенно оказалось вытесненным ли¬
нейно-кумулятивным образом развития науки1. Как и в пору свое¬
го возникновения, это понятие имело скорее характер метафоры,
чем инструмента философского анализа. Даже в XX в., вопреки
очевидным реалиям революционного обновления, естествознания
позитивистская философия продолжала игнорировать понятие на¬
учной революции, которое не вписывалось в контекст специфиче¬
105
ски понимаемой логики науки. Рост знания при этом изображался
в терминах индуктивной и дедуктивной логики, а отношения меж¬
ду сменяющими друг друга теориями ,— посредством процедур ло¬
гической редукции. Разумеется, подобная эпистемология была да¬
лека от реальной истории науки и тех историко-научных работ,
которые отклонялись от кумулятивистской схемы развития науки.
К концу 50-х годов стало, однако, ясно, что смена фундамен¬
тальных теорий (типа классической и неклассической физики) не
удовлетворяет канонам позитивистской логики науки и не может
описываться формально-логическими средствами. Осознание фун¬
даментальных разрывов, существующих между логически связан¬
ными системами знания (теориями), привело к поиску иных меха¬
низмов трансформации научных идей, которые, с одной стороны,
идентифицируются с не-формальной логикой внутреннего развития
науки, а с другой — с процессами ее социокультурной детермина¬
ции. Причем в обоих случаях дело не ограничивается внутренними
рамками развития научной дисциплины, поскольку переворот в ос¬
нованиях теорий, именуемый научной революцией, сам нуждается
в основании, которое пребывает вне сферы науки и не входит в ее
компетенцию.
Что выступает в роли таких оснований? Это «плеяды абсолют¬
ных предположений» Коллингвуда, «философские субструктуры»
Койре, «парадигмы» Куна, «идеалы естественного порядка» Тул-
мина и т. п. Смена подобных глобальных предположений квалифи¬
цируется у разных авторов как «реформа интеллекта» (Койре),
«полная смена интеллектуального гардероба», «усвоение совершен¬
но нового мировоззрения» (Тулмин) и т. п.
«Люди обычно не осознают своих абсолютных предположе¬
ний,— пишет Коллингвуд,— и, следовательно, не осознают их из¬
менений, поэтому такое изменение не может быть делом выбора.
Нет в нем и ничего поверхностного и легковесного. Это самая ра¬
дикальная перемена, какую может вынести человек, и она влечет
за собой отказ от всех его наиболее твердо устоявшихся навыков и
стандартов мышления и деятельности». Почему происходят такие
перемены? «Вкратце, они происходят потому, что абсолютные
предположения каждого данного общества на каждом данном этапе
его истории образуют структуру, испытывающую “напряжения44
большей или меньшей интенсивности, которые “принимаются44
различными способами, но никогда не исчезают. Если напряжения
слишком велики, структура разрушается и заменяется другой, ко¬
торая образует модификацию старой структуры, после того как бу¬
дут устранены деструктивные напряжения; модификация не изо¬
бретается сознательно, а создается в процессе бессознательного
мышления»2.
Этот момент весьма важен и для понимания некоторых аспек¬
тов интеллектуальной революции (таких, как «внезапная» победа
одной из конкурирующих теорий, быстрое и неожиданное ее при¬
знание научным сообществом и общественным мнением), которые
фигурируют в ряде современных концепций развития науки.
106
Отметим, что термин «интеллектуальная революция» сравни¬
тельно недавно вошел в словарь современной философской науки.
Так, Тулмин в своей книге «Человеческое понимание» (1972) ква¬
лифицирует куновскую концепцию как теорию «интеллектуальных
революций», считая ее близкой к позиции Коллингвуда, хотя и
признает, что нет прямых доказательств того, что Кун был созна¬
тельным преемником английского историка. Хотя параллель между
«парадигмой» Куна и «плеядой абсолютных предположений» доста¬
точно очевидна, истоки куновской концепции следует искать в ис¬
ториографии науки — особенно в трудах А. Койре и Э. Мецжер
(на что указывает и сам Кун). Впрочем, известная работа Койре
«Этюды о Галилее» и «Очерки метафизики» Коллингвуда появи¬
лись на свет почти одновременно (в конце 30-х годов), что, по-ви¬
димому, не случайно. Однако значительно раньше — в самом на¬
чале 20-х годов — концепция «интеллектуальной революции» на
материале истории кристаллографии и химии была превосходно
разработана французским историком Элен Мецжер (близко сотруд¬
ничавшей затем с Койре), где она показала теснейшую связь науч¬
ных революций с переворотами в метафизике.
Но все же именно Койре суждено было создать целое направле¬
ние в историографии науки, для которого программным стало по¬
ложение, что наука развивается в тесном единстве с философией и
что великие научные революции всегда определялись переворотами
или изменениями философских концепций. Наиболее важной он
считает научную революцию XVI—XVII вв., которая нашла выра¬
жение в глубоком интеллектуальном преобразовании физики и ас¬
трономии.
1. Традиция или множество традиций?
По мнению Койре, сущность интеллектуальной революции
XVI—XVII вв. может быть охарактеризована двумя тесно связан¬
ными между собою моментами: 1) разрушением античного Космоса
и, следовательно, исчезновением из научных рассуждений различ¬
ного рода концепций, основанных на этом понятии, и 2) геометри¬
зацией пространства, т. е. замещением конкретного пространства
догалилеевской физики абстрактным и гомогенным пространством
евклидовой геометрии.
Разрушение античного Космоса означает разрушение идеи ми¬
ра, имеющего завершенную структуру, мира, иерархически упоря¬
доченного и качественно дифференцированного в онтологическом
смысле этого слова. Эта идея Космоса замещается идеей открытого,
неопределенного и бесконечного Универсума, в котором все вещи
принадлежат к одному и тому же уровню реальности вопреки тра¬
диционной аристотелевско-христианской концепции с ее различе¬
нием и противопоставлением двух миров — небесного и земного.
Разрушение Космоса, считает А. Койре, было наиболее глубокой
революцией, совершенной в человеческих умах со времен изобре¬
тения Космоса греками. И дело здесь не столько в критике оши¬
107
бочных или несовершенных теорий и замене их более совершенны¬
ми теориями, а в коренной реформе самого способа мышления. Ос¬
нователи современной науки «должны были с самого начала ре¬
формировать сам интеллект, снабдить его серией новых понятий,
выработать новую идею природы, новую концепцию науки, други¬
ми словами, новую философию»^. При этом особенностью галиле¬
евской и картезианской науки было то, что она возникла не сразу,
как Афина из головы Зевса, а была подготовлена длительным уси¬
лием мысли, упорно трактующей те же вечные проблемы, преодо¬
левающей те же трудности и препятствия, но при этом «медленно
и прогрессивно выковывающая инструменты и орудия, т. е. новые
концепты, новые методы мышления, которые позволили бы, нако¬
нец, их преодолеть»4.
В свете этих интеллектуальных изменений становится очевид¬
ным также и то, что видимость непрерывности в развитии физики
начиная со средних веков и Нового времени — это иллюзия. Воп¬
реки П. Дюгсму и некоторым другим историкам науки А. Койре
полагает, что классическая физика не является продолжением
средневековой физики парижских номиналистов, она располагается
сразу совсем в иной плоскости, в плоскости, которую можно квали¬
фицировать как Архимедову науку. Истинной предтечей современ¬
ной физики является не Буридан, не Николай Оремский, даже не
Филопон, но Архимед.
Основную идею галилеевской революции Койре сформулировал
еще в начале 30-х годов. В резюме одной из своих лекций (1935 г.)
он отмечал: «Усилия Галилея в Падуе (к 1600 г.) были направле¬
ны к построению математической физики (ни перипатетическая
физика, ни физика импетуса не поддаются математизации) по мо¬
дели статики Архимеда, так сказать, архимедовской динамики»5. В
этой физике понятие движения-процесса или движения-результата
замещается понятием движения-состояния. Отсюда возможность
утверждать бесконечное сохранение этого движения-состояния.
При этом возникновение классической науки, которое завершилось
разрушением античного и средневекового Космоса, Койре представ¬
ляет в первую очередь как движение философское, связанное с
возвратом к платонистской традиции. В подкрепление этого тезиса
Койре ссылается на Галилея и его современников — Бонамико и
Маццони, для которых демаркация между платонизмом и аристо-
телизмом определялась различными взглядами на математику, ее
роль в создании современной науки. Им новая философия природы
представлялась как возврат к Платону, как победа Платона над
Аристотелем. «Коперниканизм фактически для Галилея неотделим
от платонизма,— отмечал Койре в лекциях 1935—1936 гг.,— но нс
неоплатонизма флорентийской школы, но платонизма Менона и
Тимея: врожденный характер идей, априоризм, математизм»6.
Этот тезис Койре ныне оспаривается в целом ряде современных
работ. Так, Макхеймер считает неверным рассматривать галилеев¬
скую науку в терминах дихотомий платонизма—аристотелизма,
рационализма—эмпиризма, количественного—качественного и ви¬
108
дит в ней переходный этап между научно-философскими традиция¬
ми позднего средневековья и реалиями Нового времени.
Синтетический характер галилеевской методологии подчеркива¬
ет и М. Финокьяро, отмечающий сбалансированность в ней различ¬
ных традиций и подходов. В этой ситуации попытки представить
Галилея в русле одной какой-то традиции неизбежно должны по¬
рождать противоположную тенденцию. Исторически так оно и бы¬
ло: как только одни историки нарекли Галилея эмпиристом, другие
тут же представили не менее веские аргументы в пользу его рацио¬
нализма и априоризма, а попытки Кассирера, Барта и Койрс пред¬
ставить Галилея последовательным платоником, особенно в послед-,
ние два десятилетия, вызвали целую волну публикаций, опроверга1
ющих этот тезис7.
Независимо от того как квалифицировать философию (метафи¬
зику), которая определяла стиль научного иссследования Галилея,
во всяком случае ясно, что это была новая философия и новый
способ понимания мира, который мог, конечно, включать в «пере¬
плавленном» виде элементы как платонизма, так и аристотелизма,
но в такой системе нового миропонимания, где они уже не могут
быть редуцированы к своим первоначальным элементам.
Плюрализм традиций всегда чреват новациями, ибо предпола¬
гает свободное, не стесненное господствующей традицией выраже¬
ние своего мнения любым исследователем. Так, до научной рево¬
люции в кристаллографии, связанной с работами Гаюи, существо¬
вал необычайный плюрализм мнений и точек зрения. Мецжер в
своей классической работе «Генезис науки о кристаллах» (1918)
так описывает эту ситуацию: «То, что поражает больше всего во
многих работах, предшествующих Гаюи,— это абсолютная незави¬
симость, которую ученые открыто исповедовали по отношению
друг к другу; не было ни теории кристаллизации, ни структурной
модели кристаллов, которая принималась бы без критики группой
исследователей... Никто не провозглашался учителем... Каждому
автору казалось, что он строит свою систему заново, а не пытается
робко, как это будет позднее, подправить респектабельный мону¬
мент, части которого устарели со временем. В качестве науки о
кристаллах не признавалась никакая традиционная дисциплина.
Ученый, таким образом, волен свободно излагать свои концепции.
Ничто не препятствует и не стесняет развитие новых доктрин, ко¬
торые не сталкиваются друг с другом и не наталкиваются на пре¬
пятствия»8.
Этот начальный этап кристалографии был повсюду проникнут
метафизическими объяснениями, черпаемыми преимущественно в
господствующих философских системах — картезианстве и корпу¬
скулярной философии. «История науки о кристаллах лучше, чем
любая другая наука, демонстрирует значение философских систем.
Создается впечатление, что в эту эпоху она была всего лишь их
продолжением»9.
Как показала Мецжер на примере кристаллографии и химии,
научной революции предшествует период «интеллектуальной анар¬
109
хии», характеризующийся чрезвычайным плюрализмом сопернича¬
ющих между собой гипотез, теорий, имеющих своим источником
множество философских, религиозных и научных традиций. За
этим многообразием идей и традиций скрывались, однако, некото¬
рые универсальные метафизические принципы, воплощающие иде¬
алы объяснения природы и познавательной деятельности.
На каком-то этапе плюрализм мнений и традиций трансформи¬
руется в единую и не оспариваемую никем теорию, которая как-то
«внезапно» овладевает умами ученых и консолидирует их в единое
сообщество. Однако эта внезапность лишь кажущаяся, так как
принятие новой теории является следствием переворота в метафи¬
зике, который постепенно подготавливает почву для быстрого при¬
знания соответствующей теории в качестве общепризнанной тради¬
ции в науке. Дальнейшее становление определенной традиции идет
по пути вывода новых следствий и расширения области ее приме¬
нения. Возникающие в процессе экстенсивного роста теории труд¬
ности и аномалии часто не находят удовлетворительного решения,
что ведет к различного рода искусственным усложнениям, появле¬
нию многочисленных гипотез ad hoc и возникновению альтерна¬
тивных теорий. Единство традиции уступает место множественно¬
сти теорий, являющихся предвестниками новой научной револю¬
ции. Последняя не означает полного разрыва с прежними традици¬
ями и теориями, которые, правда, подвергаются глубокому преоб¬
разованию в новой системе мировидения. Кроме того, не сбрасыва¬
ется со счетов вся сумма накопленных прежде идей, многие из ко¬
торых несут в себе позитивное содержание, сохраняя эвристическое
значение даже после глубоких революций в науке.
Читателю нетрудно заметить, что Мецжер во многом предвос¬
хитила логическую схему развития науки, реализованную в изве¬
стной книге Т. Куна. В обоих случаях научной революции предше¬
ствует плюрализм традиций и теорий, который сменяется одной до¬
минирующей традицией — нормальной наукой, по терминологии
Куна. Но если доминирующая традиция, согласно Куну, «в очень
малой степени ориентирована на крупные открытия, будь то от¬
крытие новых фактов или теорий», то возникновение альтернатив¬
ных теорий в течение «допарадигмального» периода или же в пери¬
оды кризиса парадигмы является условием различного рода нова¬
ций, открывающих путь к научной революции. Надо сказать, что
схема Куна, являющаяся в значительной мере экспликацией исто¬
риографической концепции Мецжер, вызвала возражения целого
ряда эпистемологов, причем по разным основаниям. Так, П. Фейе-
рабенд считает, что разделение во времени периодов пролиферации
и периодов монизма является ошибочным. Указывая на факт суще¬
ствования аномалий (а тем самым теоретических альтернатив) на
всех этапах парадигмы, он делает отсюда вывод, что характерной
чертой науки является именно пролиферация, а не схема «нор¬
мальное состояние — пролиферация — нормальное состояние»*°.
Отрицая существование монизма в пользу пролиферации теорий,
Фейерабенд, однако, не отбрасывает идею нормальной науки цели¬
не
ком, а пытается найти ей подходящую замену в форме понятия ус¬
тойчивости.
Взаимодействие между множественностью и устойчивостью,
аналогичное взаимодействию между изменчивостью и устойчиво¬
стью в живой природе, является основным фактором эволюции на¬
уки. Суть этого взаимодействия состоит в том, что, несмотря на
множественность идей нетрадиционного характера, принятая тео¬
рия должна сохранять устойчивость перед лицом возникающих
трудностей. Кроме того, устойчивость поддерживается известными
регулятивными правилами, ограничивающими произвол в изобре¬
тении идей разумными границами. Оба эти фактора не существуют
изолированно, реально существует их наложение. Поэтому нет ни
периодов монизма, ни чередования периодов монизма и плюрализ¬
ма. Фейерабенд даже считает, что Кун, сам того не замечая, имен¬
но это и утверждает своей концепцией. Действительно, у Куна
противоположность монизма и плюрализма является весьма отно¬
сительной и подвижной. Так, аномалии возникают лишь на фоне
нормальной науки. «Чем более точна и развита парадигма, тем бо¬
лее чувствительным индикатором она выступает для обнаружения
аномалий»11. Возникновение аномалий, в свою очередь, ведет к по¬
явлению альтернативных теорий, расшатывающих правила нор¬
мальной науки. «Исследование, использующее парадигму, должно
быть особенно эффективным стимулом для изменения той же пара¬
дигмы»12. Таким образом, доминирующая традиция, порождая в
ходе своего развития альтернативные теории, подготавливает почву
для собственного ниспровержения.
Этот ход мысли имплицирует и наличие черт непрерывности и
постоянства даже при переходе к новой парадигме. «Поскольку но¬
вые парадигмы рождаются из старых,— пишет Кун,— они обычно
вбирают в себя большую часть словаря и приемов, как концепту¬
альных, так и экспериментальных, которыми традиционная пара¬
дигма ранее пользовалась. Но они редко используют эти элементы
полностью традиционным способом»13.
Однако у Куна столь же явно присутствует и другая позиция,
суть которой выражает тезис несоизмеримости парадигм и фунда¬
ментального разрыва между ними. В чем тут дело?
На наш взгляд, причина указанного противоречия заключается
в том, что Кун излагает свою концепцию как бы в двух семантиче¬
ских плоскостях, чем и объясняются трудности ее аутентичного
толкования. Первая плоскость — это область жестких идеализа¬
ций, логических дефиниций ключевых понятий, допустимых лишь
в строго оговоренных пределах. Использование такого рода жест¬
ких идеализаций вне допустимых пределов может стать источни¬
ком радикальной версии научной революции как полного разрыва
(аналогичного гештальт-переключению) между сменяющими друг
друга парадигмами. Данная плоскость куновских рассуждений про¬
воцирует и соответствующий тип критики: обвинение в профессио¬
нальном кретинизме «нормальной науки», иррациональном харак¬
тере научной революции и т. п.
11
Вторая плоскость куновских рассуждений состоит в историко¬
описательном применении тех же понятий, когда жесткость идеа¬
лизированных схем уступает место конкретному анализу реальных
ситуаций в истории науки. Такого рода «заземление» ключевых
понятий делает их более «размытыми» и пластичными, так что
границы между отдельными стадиями оказываются менее резкими,
а разделенность во времени пролиферации и монизма имеет скорее
смысл преобладания, относительного доминирования одной из ука¬
занных тенденций. С этой точки зрения монизм и плюрализм тео¬
рий являются звеньями единого циклического процесса развития
науки. Фейерабенд в самом факте существования двойного плана
рассуждений Куна склонен видеть противоречие, которое он разре¬
шает путем отбрасывания идеальной (теоретической) схемы Куна в
пользу историко-описательного применения ключевых понятий его
концепции. Он совершенно не учитывает взаимосвязи двух этих
уровней рассуждений, того, что любая закономерность в чистом
виде существует лишь в абстракции, а в действительности же мас¬
кируется и деформируется разного рода побочными эмпирическими
обстоятельствами. Куновская «нормальная наука» и другие поня¬
тия суть лишь идеализации, которые нельзя идентифицировать без
соответствующих поправок с реальной историей науки. Игнориро¬
вание этой диалектики идеального и реального приводит к тому,
что момент их несовпадения используется (например, Фейерабен-
дом) в качестве аргумента всеобщей нереализуемости теоретиче¬
ской схемы Куна. Но это неверно, по-первых, потому, что эта схе¬
ма имеет великолепное эмпирическое подтверждение в работах
Э. Мецжер, и, во-вторых, потому, что критикуемая Фейерабендом
схема «плюрализм—монизм» теорий и традиций может быть ис¬
толкована как отражение общих закономерностей развития науки,
таких, как восхождение от единичного к особенному и от особенно¬
го к всеобщему, а также как восхождение от абстрактного к конк¬
ретному.
Таким образом, схема Мецжер—Куна может быть обоснована
теоретически и исторически, что отнюдь не означает того, что она
является универсальной отмычкой для историка. То же самое мож¬
но сказать о концепции Фейерабенда. Общим для них, однако,
является тот момент, что революционные новации в науке воз¬
никают в точке скрещения множества разнородных традиций
и теорий.
Множественность культурных влияний и традиций в точке их
пересечения должна, по-видимому, обладать повышенной способ¬
ностью к «интеллектуальным мутациям» или новациям типа ин¬
теллектуальных гибридов. Возможно, в этом состоит одна из зако¬
номерностей появления нового в науке (и, конечно, не только в
науке). Необходимое условие существования традиции — это спо¬
собность постоянного воспроизводства на собственной основе. В си¬
лу этого традиция упорно сопротивляется внедрению любого нов¬
шества, нарушающего этот механизм самовоспроизводства.
12
Строго говоря, традиция и новация взаимно исключают друг
друга. Если возникает существенно новая идея, влияющая на меха¬
низм наследования интеллектуального материала, то изменяется и
сама традиция. В тех случаях, когда значимая идея не прививается
к древу старой традиции, оказывается несовместимой с ней, она
отторгается, давая начало новой традиции — теории, концепции и
даже стилю мышления. В таком случае говорят о разрыве со старой
традицией и революции в науке. Очевидно, что условием сохране¬
ния «чистоты» традиции (в любом виде деятельности) является ее
полная изоляция либо способность доминировать над другими тра¬
дициями. Наоборот, трансформации возникают в точках скре¬
щения разнородных традиций, когда сам факт их взаимодейст¬
вия и взаимопроникновения приводит к нарушению устойчиво¬
сти каждой из них.
2. Традиции и новации:
пример коперниканской революции
Конкретный смысл понятия «интеллектуальная революция»
весьма рельефно раскрывается в работах Койре, посвященных ре¬
волюции в астрономии. Основной замысел этих работ Койре видит
не в том, чтобы очертить историю астрономии XVI—XVII вв. от
Коперника до Ньютона во всех ее деталях, включая историю аст¬
рономических наблюдений, основание и деятельность обсервато¬
рий, изобретение подзорной трубы и т. д. Он ставит перед собой
задачу представить историю революции в астрономии, т. е. «исто¬
рию эволюции и трансформации ключевых понятий, с помощью
которых астрономия пытается упорядочить или “спасти явления,
замещая хаос чувственной видимости умопостигаемой реальностью,
которая его объясняет»14.
Эта революция прошла три этапа, связанных соответственно с
деяниями трех ученых: 1) Коперник «остановил Солнце и бросил
Землю в небеса»: геоцентризм замещается гелиоцентризмом,
2) Кеплер на место кинематики кругов Коперника и древних ста¬
вит динамику (в значительной мере аристотелевскую) и создает
«эллиптическую астрономию»; 3) наконец, Борелли завершает
унификацию земной и небесной физики, которая выражается в
«выпрямлении» круга в пользу бесконечной прямой. Мир становит¬
ся открытым и управляемым динамикой.
Для Койре революция в астрономии не сводится только к изме¬
нению идей и методов самой научной дисциплины, как это обычно
считали историки. Она располагается в пространстве трансформа¬
ций по меньшей мере трех традиций — философской, теологиче¬
ской и собственно научной, каждая из которых представляет собой
многомерное целое.
Лейтмотивом рассуждений Койре при анализе коперниканской
революции является «привязка» Коперника к неоплатонической и
пифагорейской традиции. «Не всегда замечают,— пишет он,— или
из
по крайней мере делают это недостаточно, что, помещая Солнце в
центр мира благодаря его достоинству, Коперник возвращается к
пифагорейской концепции и полностью опрокидывает иерархию
мест средневекового и античного Космоса, в котором центральное
место никоим образом не является самым почетным, но, напротив,
наиболее недостойным (презренным). Оно является фактически
наиболее низким и присущим несовершенству Земли; совершенство
находится наверху, на небесном своде, выше которого находятся
“небеса44, между тем как ниже Земли (ее поверхности) находится
как раз преисподняя»15.
Вот почему Койре подчеркивает, что приписываемая Солнцу
функция озарять и освещать Вселенную является для Коперника
чрезвычайно и предельно важной. Парадоксально, но факт: то, что
оставили без внимания другие историки или, во всяком случае, не
придали этому особого значения, Койре возводит в ранг решающе¬
го события. Ведь апелляция к пифагорейской доктрине была связа¬
на в первую очередь с эпохальным переворотом в системе ценно¬
стей, которые произвел Коперник, сделав Солнце центром Вселен¬
ной. По существу, это был революционный переворот в онтологии,
которая с античности представлялась в виде иерархии ценностно
нагруженных пластов бытия. Но эта революция, как ни странно,
есть возрождение старой традиции, пишет Койре. «Лишь старые
традиции, традиция метафизики Света (метафизика, которая в те¬
чение Средних веков целиком порождает и сопровождает изучение
оптики), платоновская реминисценция и возрождение неоплатониз¬
ма и неопифагорейства (Солнце видимое, представляющее Солнце
невидимое, Мэтр и король видимого мира и, следовательно, символ
Бога...) могут объяснить чувства, с которыми Коперник говорит о
Солнце. Он его обожает и почти обожествляет... Коперник, как я
об этом часто говорил и как об этом задолго до меня говорили дру¬
гие, не является коперниканцем. Он “несовременен44»16.
Особую важность Койре придает платоновской идее сферично¬
сти небесных тел. Когда средневековая и классическая физика го¬
ворит о форме, она имеет в виду субстанциональные формы. Ко¬
перник, напротив, мыслит форму геометрическую. Впрочем, Койре
оговаривается: речь идет не о полной геометризации, поскольку
каждое небесное тело, включая Землю, имеет особую природу. Но
если в прежней физике особая природа тела определяла и специ¬
фический тип движения (прямолинейное для подлунного мира и
круговое для небесных тел), то у Коперника эта дифференциация
исчезает. Тела вращаются не в силу своей специфической природы,
но в силу того, что они имеют сферическую форму и эта форма яв¬
ляется достаточным основанием, чтобы породить наиболее совер¬
шенное и естественное движение. Именно в метафизике Койре
ищет ключ к системе Коперника. Метафизический принцип, со¬
гласно которому сферическая форма является причиной естествен¬
ного кругового движения, позволяет: 1) приписать Земле круговое
движение, подобное тому, которым наделены планеты; 2) утверж¬
дать идентичность законов движения Земли и планет; 3) отбросить
114
противопоставление подлунного и надлунного миров, утверждая
тем самым единство и единственность Вселенной.
Подобная интерпретация встречает и возражения, проистекаю¬
щие, вероятно, от неопределенности текстов самого Коперника.
Так, Е. Браншвогель (на которого ссылается А. Койре) трактует
учение Коперника как продолжение античной традиции стоицизма,
где Солнце — это источник тепла и жизни. Что же касается сфе¬
ричности небесных тел, то в ней он видит условие «естественного»
характера их движения, но отнюдь не источник последнего. Койре
тем не менее настаивает на том, что Коперник придерживался пла-
тонистской и пифагорейской традиции.
Нам представляется, что подобный спор не случаен. И во мно¬
гом причиной разночтения Коперника может служить знаменитое
место из «Вращений» (гл. X, кн. 1), где Солнце он называет «све¬
тильником мира» и обращается к свидетельствам древних, которые
именовали его то «светочем мира», то «душой», то «управителем».
«Трисмегист называет его видимым богом, Электра у Софокла —
всевидящим».
Из этого отрывка ясно, что он обращается не к одному, а к не¬
скольким истокам древнего происхождения, которые так или иначе
подразумевались и могли быть идентифицированы культурными
людьми той эпохи (середины XVI в.).
Так, «Электра» Софокла написана примерно в 30-х годах V в.
до н. э. Тот, «который видит и от века правит всем»,— это Зевс, к
которому Электра взывает: «Ты, божественный свет...»17 Вероятно,
здесь имеется в виду мифологическое обожествление Солнца, свой¬
ственное многим древним народам. Древние греки, к примеру,
именовали Гелиоса (солнце) «неутомимым оком эфира»18.
Что же касается Гермеса Трисмегиста — мифического автора
«Герметического корпуса», то в эпоху Возрождения он восприни¬
мался как реальное историческое лицо — его считали египетским
жрецом, ставшим впоследствии источником мудрости Пифагора,
Платона и других греческих мыслителей. Почтение к наиболее
древним учениям вообще было свойственно средневековой и ренес¬
сансной культуре с ее установкой: «чем древнее, тем истиннее».
Может быть, поэтому Коперник упоминает «трижды величайшего»
Гермеса, а не более поздних, как ему тогда представлялось, грече¬
ских философов. Однако подобное общепринятое в то время убеж¬
дение было ошибочным. По мнению Ф. Ейтс, эти сочинения, вдох¬
новлявшие многих ренессансных мыслителей, которые почитали их
глубоко древними, на самом деле написаны во II—III вв. и пред¬
ставляют скорее смесь поверхностного платонизма, неоплатонизма,
стоицизма и прочих бытовавших в Греции философских учений в
сочетании с персидской магией и халдейской астрологией19. Для
герметической традиции Возрождения было характерно представле¬
ние Солнца как центра мироздания и источника мистико-магиче¬
ской силы, а также убеждение в том, что все в мире движется, так
как нет жизни без движения. Поэтому с точки зрения герметизма
нелепо предположение, что Земля, эта колыбель всего сущего, дол¬
115
жна быть неподвижной: без движения дать жизнь невозможно. В
то же время при всем своем почитании Солнца как источника жиз¬
ни не все герметисты Возрождения приписывали ему центральное
положение. Так, первый переводчик «Герметического корпуса»
(трактата «Пэмандр» с греческого на латинский (1471 г.) Марсилио
Фичино не оспаривал астрономическое положение, которое занима¬
ло Солнце в системе Птолемея, и в соответствии со старой тради¬
цией считал его «медиумом», т. е. занимающим среднюю орбиту
среди семи светил.
Что же касается самого Коперника, то, как считают современ¬
ные исследователи герметизма, он не избежал влияния со стороны
герметического мистицизма, связанного с Солнцем. Это обстоя¬
тельство проливает новый свет на вышеупомянутую полемику Кой-
ре и Браншвогеля относительно истоков гелиоцентризма Коперни¬
ка, где обе стороны столь же правы, сколь тенденциозны в своей
односторонности. В целом же, как нам представляется, Коперник
не был продолжателем какой-то одной традиции (скажем, неопла¬
тонической или пифагорейской). Скорее он апеллировал к множе¬
ству традиций, которые имели важное и конструктивное значение
для него самого или же были «модными» в глазах «мыслящих лю¬
дей» его времени. В самом деле, что может быть общего между
«Электрой» Софокла, созданной в V в. до н. э., и «Герметическим
корпусом», появление которого датируется II—III вв. нашей эры?
Надо сказать, что Койре не придал особого значения упомина¬
нию Коперником Гермеса Трисмегиста. Сопоставляя позицию Ейтс
с установками Койре в этом вопросе, В. П. Визгин отмечает, что
«Койре и следующие за ним историки науки фактически отбрасы¬
вали анализ витализма и магии, герметизма и других “теневых"
неофициальных сторон духовной жизни средних веков»20. Однако
сам факт упоминания Гермеса Трисмегиста нам представляется не
случайным. Не только Гермес именует Солнце «видимым богом»,
но, как утверждает Коперник в другом месте книги, «многие фило¬
софы ввиду необычайного совершенства неба называли его види¬
мым богом»21.
Что же касается оценки Койре роли аристотелизма, то ее до¬
вольно сложно выразить однозначно. Даже там, где Коперник не¬
двусмысленно оперирует понятиями «естественного места», «есте¬
ственного» и «насильственного» движения, Койре стремится все же
затушевать роль Аристотеля в создании коперниканской концепции
и, наоборот, подчеркнуть особое значение идеи геометрической
формы, приписываемой Платону, т. е. идеи сферичности Земли как
причины ее равномерного движения. Однако, доказывая сферич¬
ность Земли и планет и называя их поэтому простыми телами, Ко¬
перник, как следует из его текстов, недвусмысленно опирается на
динамику Аристотеля. Не случайно известный историк физики
Ф. Розенбергер называет Коперника «истинным последователем
Аристотеля». Без аристотелевских понятий «естественного места» и
«естественного движения» Коперник не мыслит свою систему.
«Ведь ничто не противоречит так всему порядку и форме мира, как
U6
то, что какая-нибудь вещь находится вне своего места»,— пишет
он. Та решающая новация, которую он ввел в аристотелевскую ки¬
нематику планет, состояла в разрушении границы между миром
подлунным и надлунным, что и позволило ему перевернуть всю
структуру планетных движений.
С этим связана и новая метафизика прямой и кривой, когда
для подлунного мира «естественным» становится также круговое
движение. Прямолинейное движение по своему статусу ниже кру¬
гового и свойственно телам, которые покидают свое «место» или
же каким-то образом вытесняются из него. Оно происходит, когда
не все идет как следует.
«Круговое движение всегда совершается равномерно, ибо оно
имеет неубывающую причину. У прямолинейных же движений эта
причина поспешно иссякает, так что тела, достигнув своего места,
перестают быть тяжелыми и легкими, и это движение прекращает¬
ся. Таким образом, поскольку круговое движение присуще сово¬
купностям, частям же свойственно и прямолинейное движение, то
мы имеем право сказать, что круговое движение может сосущест¬
вовать с прямолинейным, как живое существо с болезнью»22.
Заметим особо, что подобное сосуществование кругового и пря¬
молинейного движений свойственно не только Земле, но и всем не¬
бесным телам, поскольку каждое из них представляет собою Це¬
лое, состоящее из частей. Существенен и другой момент: когда те¬
ло достигает своего места, оно перестает быть легким или тяже¬
лым. Тем самым Земля и небесные тела, будучи невесомыми,
вновь могут быть идентифицированы с античными концептами
движения небесных сфер, которые по существу мало чем отлича¬
лись у Платона и Аристотеля.
Таким образом, Коперник, преобразуя античную и средневеко¬
вую космологию, сохраняет тем не менее аристотелевскую динами¬
ку и архаическое понятие естественного кругового движения. «Но
подобное примирение гелиоцентрической системы Коперника с на¬
учной программой Аристотеля было все-таки искусственным и не
убеждало современников Коперника»23,— пишет П. П. Гайденко.
Тем более оно представлялось все более чуждым последующим по¬
колениям коперниканцев.
С учетом вышесказанного можно прийти к выводу, что «интел¬
лектуальную революцию» XVI в., совершенную Коперником, вряд
ли возможно представить как победу одной из философских тради¬
ций над другими, например неоплатонизма и пифагореизма над
аристотслизмом. Тем более что неоплатонизм исторически разви¬
вался в результате смешения разнородных традиций, и в первую
очередь платонизма, аристотслизма, неопифагореизма. Скорее
здесь имеет место плюрализм тенденций и традиций, часто проти¬
воречивых и несовместимых друг с другом, их взаимное переплете¬
ние и сплавление в новый синтез, который именуется коперникан-
ской революцией.
Может быть, поэтому Койре, упорно отстаивая в течение мно¬
гих лет тезис «реванша Платона», т. е. победы одной философской
117
традиции, в конце концов от него отказался, найдя объяснение фе¬
номена Галилея в странном альянсе двух, казалось бы, несовмести¬
мых традиций — Платона и Демокрита, который он же и уподобил
союзу Великого Турка с Христианнейшим королем (Людови¬
ком IX).
Подобное причудливое соединение разнородных философских
традиций являет собою и коперниканская революция. Будь Копер¬
ник правоверным перипатетиком, ему бы и в голову не пришла
мысль оторвать динамику Аристотеля от его космологии. Вряд ли
он преуспел бы и в том случае, если бы рьяно придерживался уче¬
ния Платона. Вместо этого Коперник соединяет, казалось бы, несо¬
единимое: к модели Аристарха Самосского он «прививает» несов¬
местимую с ней динамику Аристотеля и получает поразительный
по своей продуктивности гибрид — коперниканскую астрономию.
Конечно, с нашей точки зрения, подобная «прививка» является ис¬
кусственной и ненужной, но для того времени она была понятной и
совершенно естественной, так как другого объяснения просто не
было. По существу, Коперник создает прецедент логически проти¬
воречивой теории, которая, как нам кажется, в чем-то аналогична
другой революционной теории, появившейся несколько веков спу¬
стя,— боровской модели атома, где «коперниканская система» ор¬
бит электронов находилась в противоречии с классической электро¬
динамикой.
Следовательно, условием возможности интеллектуальной рево¬
люции XVI в. была не победа, или «реванш», одной из философ¬
ских (метафизических) традиций над другой, а существование не¬
которого множества традиций, синтез которых положил начало но¬
вой (впрочем, необязательно одной) философской традиции. Кроме
того, и в самой астрономии не существовало единой традиции. В
обращении к Павлу III Коперник говорит, что к размышлениям о
другом способе расчета движений мировых сфер его «побудило
именно то, что сами математики не имеют у себя ничего вполне
установленного относительно исследований» движения Земли. Это¬
му способствовали также разногласия среди математиков относи¬
тельно принципов представления видимых вращений и движений,
разнообразие и множественность астрономических систем, неспо¬
собных с точностью удовлетворить принципу равномерного круго¬
вого движения. В силу плюрализма и ненадежности существовав¬
ших традиций Коперник был волен изобретать любые гипотезы,
лишь бы они «спасали явления». Так, он пишет «Зная, что и до
меня другим была предоставлена свобода изобретать какие угодно
круги для показа явлений звездного мира, я полагал, что и мне
можно попробовать найти (в предположении какого-нибудь движе¬
ния Земли) для вращения небесных сфер более надежные демонст¬
рации, чем те, которыми пользуются другие математики»24. Одна¬
ко не следует забывать, что здесь речь идет о математической или,
проще говоря, вычислительной астрономии, где свобода изобрете¬
ния каких угодно кругов для «спасения явлений» еще с античности
превратилась в своеобразную традицию. Самые смелые и дерзкие
118
построения в этой области могли лишь улучшить технику вычисле¬
ний, не затрагивая при этом существа дела, т. е. скрытой реально¬
сти космического механизма, видимые явления которого были
предметом математического описания. Следовательно, никакой аст¬
рономической революции на этом уровне не было и быть не могло
(чем, возможно, и объясняется спокойствие, с которым был принят
первый трактат Коперника «Малый комментарий» церковниками и
широкой публикой).
Коперниканская революция начинается с того момента, когда
математические построения рассматриваются как истинное изобра¬
жение структуры мира, как символы, имеющие онтологический
смысл. Эпистемологическая революция становится прелюдией рево¬
люции в астрономии. И только на этом уровне Коперник должен
искать себе поддержку у философов, обращаясь к всевозможным
авторитетам, популярным в то время. Но и здесь благодаря плюра¬
лизму философско-религиозных традиций Коперник обладал свобо¬
дой действий, достаточной для крупных революционных новаций в
онтологическом осмыслении «мирового механизма».
Таким образом, мы встречаемся с ситуацией, когда математи¬
ческая (вычислительная) астрономия тесно смыкается с философ¬
ской онтологией и гносеологией.
Но каков механизм их взаимодействия? Можно ли считать, что
кинематика Коперника была прямо имплицирована метафизикой?
Койре, например, полагает, что направлением своих исследований
Коперник обязан древним авторитетам, о чем он писал в своем об¬
ращении к Павлу III. Однако эту версию ставит под сомнение из¬
вестный историк астрономии Дж. Л. Дрейер, с которым полемизи¬
рует Койре. Дрейер сомневается в искренности Коперника и счита¬
ет, что письмо Коперника к Павлу III не позволяет ответить на
вопросы, была ли его новая гипотеза навеяна чтением древних,
или он разработал гелиоцентрическую астрономию прежде, чем на¬
шел подтверждение этой идеи в сочинениях других авторов. Воз¬
можно ли решить этот вопрос?
В одной из своих статей, посвященных изменению структуры
мышления в становлении естествознания, В. Гейзенберг поставил в
общей форме вопрос: «Как делаются революции?» — и дал на него
следующий ответ: «Революции делаются, когда мы стремимся из¬
менить как можно меньше». При этом «все всегда начинается с
весьма специальной, узко ограниченной проблемы, не находящей
решения в традиционных рамках. Революцию делают ученые, ко¬
торые пытаются действительно решить эту специальную проблему,
но при этом еще стремятся вносить как можно меньше изменений
в прежнюю науку»^5. Гейзенберг допускает, что такого рода ответ
может иметь всеобщее значение, хотя свое обобщение он строит на
примере широко известных парадигм современной физики, облада¬
ющих, как известно, большой инерцией и верностью традициям
«нормальной науки».
Действовал ли Коперник именно так? В самом деле, Коперник
начал свое исследование со специальной проблемы определения
119
продолжительности года и месяца, связанных с движениями Солн¬
ца и Луны, индуцированной, между прочим, практической задачей
исправления календаря, которой церковь придавала важное значе¬
ние в связи с правильной датировкой христианских праздников.
Первый решающий шаг Коперника был связан с определением
годового равномерного движения Солнца относительно некоторой
неподвижной системы — совокупности звезд, что Птолемей считал
нелепым и «не более подходящим, как если бы кто-нибудь предпо¬
ложил делать так по отношению к Юпитеру или Сатурну». Таким
образом, суточное вращение небесной сферы заменялось суточным
вращением Земли. Такое мнение не было вполне оригинальным от¬
крытием Коперника, его высказывали еще Филолай и Гераклид
Понтийский. Однако в свое время эта гипотеза была опровергнута,
во-первых, по физическим соображениям, подробно изложенным
Птолемеем, а также потому, что она казалась противоречащей
факту прецессии — перемещения точек весеннего равноденствия
навстречу видимому движению Солнца. Коперник устранил это
противоречие путем введения поступательного движения Земли
вокруг Солнца и так называемого деклинационного движения (го¬
дового вращения оси Земли вокруг полюса эклиптики).
Ясно, что предпосылкой реалистической интерпретации, усло¬
вием ее возможности стала обновленная метафизика Коперника.
Однако было бы ошибкой считать, что гипотеза тройного движения
Земли возникла как прямое и непосредственное продолжение этой
метафизики. Здесь нет жесткой и однозначной детерминации, свя¬
зывающей постановку собственно астрономических проблем с фи¬
лософским мировоззрением. На определенном этапе вступает в
свои права и внутренняя логика развития самой астрономии.
Если реконструировать логическую стуктуру метода Коперника
и последовательность образующих его шагов, то обнаружим следу¬
ющее: 1) в эпоху Коперника сложилось твердое убеждение в том,
что система Птолемея и другие известные астрономические учения
не соответствуют наблюдениям «всех времен» и от них следует от¬
казаться; 2) решение Коперником специальной проблемы опреде¬
ления продолжительности года и месяца нуждалось в более точных
наблюдениях самого Коперника и требовало принятия новых гипо¬
тез, которые противоречили «свидетельству наших чувств» и были
«как бы диаметрально противоположны гипотезам древних»26;
3) принятая в ходе решения специальной проблемы движения Сол¬
нца и Луны гипотеза тройного движения Земли в результате тща¬
тельных наблюдений была последовательно распространена на ос¬
тальные светила; 4) предварительная прикидка к наблюдениям
«всех времен» указывала на то, что речь идет не о простом обнов¬
лении астрономии (очередной гипотезе, призванной спасти явле¬
ния), но о коренном преобразовании ее оснований; 5) следующий
шаг состоял в математическом выводе возможных следствий из
принятых гипотез с целью согласования их со всей совокупностью
наблюдений, накопленных астрономией в течение двух тысячеле¬
тий; 6) подтверждение истинности этих следствий возводило при¬
120
нятые гипотезы в ранг законов астрономической науки; 7) с пре¬
вращением гипотез в законы произошло оборачивание ролей тео¬
рии и ее эмпирического базиса. Если наблюдения первоначально
выступали в качестве предпосылки при создании теории, то затем
уже теория становится предпосылкой, подтверждающей истинность
наблюдений предшествующих веков. Об этом совершенно недвус¬
мысленно пишет Ретик: «Аристотель говорит: “Самым истинным
является то, что служит обоснованием истинности для последую¬
щих». Поэтому Коперник «решил принять такие гипотезы, которые
содержали бы причины, могущие подтвердить истинность на¬
блюдений предшествующих веков (курсив мой.— В. Y.), и, как
можно надеяться, сделали бы то, чтобы все позднейшие астрономи¬
ческие предсказания (явлений) оказались правильными44»^7. Этот
процесс Гегель впоследствии назовет «возвращением в основание»,
а Маркс — оборачиванием метода.
Рассмотрим теперь другой аспект тезиса Гейзенберга «револю¬
ции делаются, когда мы стремимся изменить как можно меньше».
Мы видим, что данный тезис фальсифицируется работой самого
Коперника, ибо, предположив одно движение Земли (вращатель¬
ное), он тут же вводит два других. (Этим, впрочем, не отменяется
истинность данного тезиса в других случаях).
Здесь, однако, возникает вопрос, в свете которого указанный
тезис не будет совершенно ложным. Можно ли рассматривать труд
Коперника как феномен научной революции до и независимо от
признания его таковым научным сообществом той эпохи? Ведь
идея движения Земли, а также идея гелиоцентрической системы
возникли еще в древности и затем находились в поле зрения сред¬
невековой арабской астрономии. Почему, например, мы не связы¬
ваем революцию в астрономии с гелиоцентрической системой Ари¬
старха Самосского? Очевидно, потому, что эта идея существовала
как бы вне традиции и лишь спорадически упоминалась в связи с
известными и признанными концепциями астрономии. Научная ре¬
волюция, по существу, означает коренное преобразование сущест¬
вующей традиции в новую традицию или даже несколько тради¬
ций, воплощенных в деятельность последователей определенной
идеи (концепции).
Как обстояло дело с коперниканской доктриной?
Известно, что в Германии и за ее пределами труд Коперника
долгое время воспринимался в духе предисловия Осиандера, кото¬
рое приписывалось самому Копернику. Прежде всего это относится
к Вюртембергскому кружку астрономии, возглавляемому видным
реформатором-лютеранцем и широко эрудированным ученым
Ф. Меланхтоном. Этот кружок, куда входили известные астрономы
Э. Рейнгольд, К. Пейцер, И. Ретик, имел значительное влияние на
духовный климат немецких университетов, где почетное место за¬
нимали астрономия и математика. Это влияние осуществлялось
благодаря тому, что члены этого кружка пополняли преподаватель¬
ский корпус университетов и являлись авторами учебников. Вполне
понятно, что восприятие коперниканской доктрины в значительной
121
мерс определялось Вюртембергской интерпретацией, которая учи¬
тывала лишь математический и инструментальный аспект этого
учения. Более того, ранний вариант этой интерпретации откровен¬
но опирался на идею геоцентризма и признавал лишь те части ко-
перниканской системы, которые нс противоречили этой идее. Так,
Меланхтон трактовал реалистические притязания Коперника как
возрождение «абсурдной доктрины» Аристарха Самосского, проти¬
воречащей Библии. Известный астроном Рейнгольд, создатель аст¬
рономических таблиц, видел основную заслугу Коперника в осво¬
бождении от эквантов, чем немало способствовал созданию образа
Коперника-вычислителя. В университетских кругах на Коперника
смотрели как на реформатора птолемеевской астрономии, называя
его «вторым Птолемеем». Единственным из членов Вюртембергско¬
го кружка, кто не только признал реалистическую интерпретацию
коперниканской модели, но и стал ее горячим поборником, был
И. Ретик. Однако, несмотря на возможность высказывать свою точ¬
ку зрения и то, что он читал лекции в ряде университетов (Вюр¬
темберге, Лейпциге и Кракове), ему не удалось найти себе после¬
дователей. Впрочем, это и неудивительно: нормальному восприя¬
тию учения Коперника противился здравый смысл, принимающий
непосредственную очевидность неподвижности Земли и вращения
небес, а также груз тройной традиции — научной, философской,
теологической.
Таким образом, космологическое учение Коперника в течение
полувека отвергалось научным сообществом по самым различным
соображениям. И в этом смысле тезис Гейзенберга — «революции
делаются, когда мы стремимся изменить как можно меньше» — ос¬
тается справедливым.
Можно ли говорить о коперниканской революции в астрономии
применительно к этому периоду? Если научная революция есть
«изменение взгляда на мир» (Кун) или «изменение мировоззре¬
ния» (Тулмин), то кто же выступает субъектом столь радикальных
интеллектуальных преобразований?
Если принять «эпистемологию без познающего субъекта», т. е.
концепции объективного знания Поппера и его последователей, то
проблема вообще не возникает, все решается на уровне чистой ло¬
гики идей, в которой, по существу, выключено историческое вре¬
мя, а традиция представлена в абстрактной форме филиации идей.
Отсюда ясно, что необходимо четко различать логический и ис¬
торический аспекты проблемы. С логической точки зрения копер-
никанская революция произошла тогда, когда произошла — с мо¬
мента объективации идеи в текстах Коперника — в «Малом ком¬
ментарии» (1507) и «О вращениях...» (1543).
С исторической точки зрения научная революция означает воз¬
никновение новой традиции, которое можно отнести лишь к перио¬
ду после 1580 г., когда стала обнаруживаться тенденция к реали¬
стической интерпретации коперниканства. В дальнейшем вплоть до
работ Кеплера она представляла собой одну из альтернативных то¬
чек зрения на мироздание и отнюдь не доминировала над осталь¬
122
ными. Этот плюрализм взглядов отчетливо выражен Кеплером,
писавшим «Теперь относительно того, какое тело находится в цен¬
тре (мира): нет ли такового вообще — как хотел Коперник, когда
он вычислял; или это — Земля, как хотел Птолемей и до некото¬
рой степени Тихо, или, наконец,— это само Солнце, как уверен я
сам и Коперник, когда он теоретизирует. Я начал обсуждать это с
помощью физических аргументов»28. Характерно, что коперникан-
ская традиция предстает здесь расщепленной на две независимые
составляющие — математическую и философскую — объединение
которых становится целью самого Кеплера. Кроме птолемеевской
системы, здесь упоминается также новая гипотеза Тихо Браге, ко¬
торая появилась спустя почти 40 лет после опубликования главного
труда Коперника. Любопытно, что Тихо, который еще в 1577 г.
считал себя коперниканцем, в 1578 г. резко меняет свою пози¬
цию и делает первый набросок своей системы мира, где пытает¬
ся «избежать недостатков Птолемея и Коперника и объеди¬
нить их положительные качества. Земля покоится в центре ми¬
ра, как у Птолемея и в Библии, Луна и Солнце обращаются
вокруг нее, а вот планеты обращаются не вокруг Земли, а вок¬
руг Солнца, как у Коперника, и лишь вместе с ним — вокруг
Земли»29.
Весьма важным для понимания процесса становления коперни-
канской традиции является то, что альтернативная гипотеза Тихо
была реакцией на первые шаги распространения реалистической
интерпретации коперниканства.
Своего апогея коперниканская традиция достигает в первое де¬
сятилетие XVII в., о чем свидетельствует декрет конгрегации за¬
прещенных книг от 5 марта 1616 г.: «Поскольку до сведения этой
конгрегации дошло, что ложная пифагорейская доктрина, совер¬
шенно противоречащая Священному писанию, которую Николай
Коперник изложил в книге “De Revolutionibus44, а Дидак Астуника
в “Комментариях на Иова44, уже получила распространение и мно¬
гими признается, то эти книги во избежание расползания подобно¬
го учения к ущербу католической истины приостанавливаются
впредь до исправления»30.
Таким образом, декрет инквизиции свидетельствует о широком
признании новой космологии Коперника. Но можно ли говорить в
данном случае о коперниканской парадигме в куновском смысле
слова? Вряд ли.
Во-первых, социализация этой доктрины происходила крайне
медленно. Здесь мы не находим ни момента «внезапности» ее при¬
знания научным сообществом, аналогичного в чем-то гештальт-пе¬
реключению, ни полного доминирования над другими традициями
(что характерно для схемы Мецжер—Куна). Во-вторых, как пока¬
зывает пример Тихо, распространение этой традиции провоцирова¬
ло альтернативные подходы. Строго говоря, коперниканская космо¬
логия не стала или, скорее, не успела стать парадигмой, так как в
момент, когда она получила наибольшее признание благодаря про¬
паганде Галилея и Кеплера, она фактически устарела. К этому
123
времени относится появление «Новой астрономии» Кеплера, где ос¬
новной принцип небесных движений, господствующий в течение
двух тысячелетий и разделяемый Коперником,— принцип кругово¬
го равномерного движения — был отброшен, а само движение не¬
бесных тел было объяснено через действие физической силы.
Можно ли на этом основании утверждать, что модель Мец-
жер—Куна принципиально ошибочна? Вряд ли. Во-первых, эта мо¬
дель доказала свою пригодность для описания некоторых историко¬
научных ситуаций. Во-вторых, она адекватно описывает состояние
«интеллектуальной анархии», в котором находилась предкоперни-
канская астрономия с ее множеством астрономических теорий (вы¬
числительных схем), а также философско-религиозных интерпрета¬
ций (онтологий). В каком-то, весьма условном смысле можно даже
говорить о возникновении коперниканской парадигмы — новой вы¬
числительной схемы, признанной практически сразу же в универ¬
ситетских кругах Германии. То, что упорно препятствовало приня¬
тию новой онтологии, с которой, по существу, и связывается поня¬
тие революции в астрономии,— это господствующий идеологиче¬
ский фон в лице католической церкви. На этом фоне и произошло
«расщепление» астрономического учения Коперника на две само¬
стоятельные части — математическую теорию и реалистическую
интерпретацию, а стремление примирить учение Коперника с хри¬
стианским учением вызвало к жизни новую гипотезу Тихо Браге.
Нетрудно представить себе «парадигмальнос» развитие копер-
никанского учения в течение известного времени с отчетливым до¬
минированием одной традиции, если мысленно исключить «дефор¬
мирующий» фактор религиозной оппозиции. Но и с учетом внеш¬
них обстоятельств важное значение для самого понимания извест¬
ного плюрализма доктрин в астрономии после Коперника имеет по¬
нятие научного сообщества, эскизно присутствующее в работах
Мецжер и достаточно ясно выраженное у Куна. Частичное приме¬
нение модели Мецжер—Куна может при этом успешно сочетаться
с идеей изменения структур мышления, высказанной Гейзенбергом
в цитированной выше статье.
Если проследить эту историю дальше и показать те трансфор¬
мации, которые претерпела коперниканская концепция у Кеплера
и Борелли, то нам пришлось бы и вовсе отказаться от схемы Мец¬
жер—Куна и вместо нее использовать какие-то другие схемы, на¬
пример модель научно-исследовательских программ Лакатоса, где в
качестве «жесткого ядра» программы оставалась бы и эффективно
работала идея гелиоцентрической системы планетных движений
Коперника.
Таким образом, интеллектуальная революция после Коперника
развивалась в рамках сосуществования альтернативных традиций,
что не соответствует модели Мецжер—Куна, но может быть более
или менее адекватно описано другими моделями, удовлетворяющи¬
ми требованию «теоретического плюрализма» Фейерабенда (в част¬
ности, моделью Лакатоса).
124
Данная ситуация подтверждает высказанный нами ранее тезис,
что в зависимости от объекта исследования историк имеет дело с
различными логиками науки. Неучет всего многообразия логик,
практически используемых в историко-научных реконструкциях,
приводит к тому, что ставка делается на какой-то один логический
механизм, претендующий на роль универсальной объяснительной
схемы. Таковы, в частности, «логики открытия», выделенные Ла¬
катосом в его известной статье «История науки и ее реконструк¬
ции»: индуктивизм, конвенционализм, фальсификационализм и
методология научно-исследовательских программ. Нетрудно, одна¬
ко, показать, что в ряде случаев, особенно тех, которые широко
рекламировались сторонниками указанных методологических на¬
правлений, обнаруживалась их явная незащищенность перед судом
историографической критики. Историографическая фальсифициру¬
емость вышеуказанных «логик открытия» вовсе не говорит о том,
что они полностью ошибочны и от них нужно отказаться. Каж¬
дая историческая апробированная методология может быть по¬
лезной при анализе некоторых этапов истории науки. Поэтому
не исключено использование в историко-научных исследовани¬
ях (в том числе и в одном из них) нескольких методологиче¬
ских стратегий, соответствующих специфическим ситуациям в ре¬
альной науке31.
1 См. статью Опфцова А. П. в данной книге.
2 Тулмин Спи Человеческое понимание. М., 1984. С. 89.
3 Коугё A. Etudes d'histoire de la pensee scientifique. P., 1966. C. 178—179.
4 Ibid. P. 176.
5 Коугё A. De la mystique e la science: Cours, conferences et documents 1922—1962.
P., 1986. P. 38.
6 Ibid. P. 47.
7 Методологические принципы современных исследований развития науки (Гали¬
лей). PC ИНИОН. М., 1989.
8 Metzger Я. La gendse de la science des cristaux. P., 1969. P. 210.
9 Ibid. P. 212.
10 фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки. М., 1987. С. 124.
п Кун Т. Структура научных революций. М., 1975. С. 91.
12 Там же. С. 11
13 Там же. С. 189.
14 Коугё A. La revolution astronomique. Р., 1969. Р. 9.
15 Ibid. Р. 114.
16 Ibid. Р. 69.
17 Греческая трагедия. М., 1956. С. 191.
18 Евсюков В. В. Мифы о вселенной. Новосибирск, 1988. С. 102.
19 Yates F. Giordano Bruno and the hermetic tradition. Chicago univ. press, 1964.
20 Визгин Вик. П. Герметическая традиция и генезис науки // Вопр. истории есте¬
ствознания и техники. 1985. № 1. С. 60.
21 Коперник Я. О вращениях небесных сфер. М., 1964. С. 16.
22 Там же. С. 22.
23 Гайденко П. П. Эволюция понятия науки. М., 1980. С. 540.
24 Коперник Н. О вращениях небесных сфер. С. 13.
25 Гейзенберг В. Шаги за горизонт. М., 1987. С. 198—199.
26 Коперник Н. О вращениях небесных сфер. С. 545.
27 Там же. С. 509.
28 Цит. по: Westman R. S. The Melanchton circle, Reticus and the Wettenberg
interpretation of Copernican theory// Isis. Wash., 1975. Vol. 66, N 232. P. 168.
29 Белый Ю. А. Тихо Браге. M., 1982. С. 150.
30 Цит. по: Идельсон Н. И. Этюды по истории небесной механики. М., 1975. С. 51.
31 Черняк В. С. История. Логика. Наука. М., 1986. С. 364—365.
125
В. Н. КАТАСОНОВ
ДИФФЕРЕНЦИАЛЫ И ФИЛОСОФЕМЫ
(революция в математике
и ее философский контекСт)
В статье вскрываются философские предпосылки, служившие
Лейбницу ориентирами при создании дифференциального и ин¬
тегрального исчисления. Новая дисциплина базировалась на но¬
вых аксиомах, немыслимых для математики античности. Эти
аксиомы, помимо голого правдоподобия, получали и своеобразную
оправданность благодаря их связи с более общими метафизиче¬
скими принципами, игравшими фундаментальную роль в физике,
биологии и теологии Лейбница.
Математики должны быть философами
не меньше, чем философы математиками...
Лейбниц Мальбрашиу
13—23 марта 1699 г.
История появления и развития методов дифференциального и
интегрального исчисления представляет собой в высшей степени
поучительный пример для человека, размышляющего над историей
науки. Теоретический разум оказывается здесь в удивительной
близости к разуму, так сказать, догматическому, к разуму, задаю¬
щему нормы и идеалы. Дискуссии вокруг новых методов математи¬
ческого анализа в XVII—XVIII вв. настолько насыщены метафизи¬
ческой проблематикой, настолько актуальны для философов-про-
фессионалов, что обсуждение, казалось бы, внутриматематических
проблем незаметно поднимается до уровня большого философского
диалога. Математика вдруг открывается не как некая «чистая» на¬
ука, которой нет дела до остального мира, нет дела до истории с ее
трагическими мировоззренческими коллизиями, а как наука «анга¬
жированная», непосредственно вовлеченная в эти коллизии, наука,
совершающая в этих коллизиях свой выбор, свое самооопределе-
ние. Это самоопределение математики есть, конечно, самоопреде¬
ление человека, для которого наука всегда есть не только орган от¬
крытия истины, но и способ утверждения ее. Ибо и сама истина
есть не только то, что есть, но всегда и то, что должно быть: исти¬
на открывается нам не только в модусе бытия, но и в модусе дол¬
женствования. Новая культурная эпоха, берущая начало в
XVI—XVII вв., новый человек, выходящий на авансцену европей¬
ской истории в это время, находят свое определенное отражение и
в глубоких трансформациях, связанных со становлением новой ма¬
тематики. Трансформации эти касаются самих оснований науки,
понимания природы числа, пространства, норм доказательства.
Трансформации эти настолько серьезны, что справедливо заслужи¬
вают названия революционных. Однако историки науки далеко не
единодушны в признании правомочности применения термина «ре¬
волюция» к истории математики1. Главным аргументом против
126
этого термина служит особый характер исторического роста мате¬
матического знания. По отношению к дисциплинам естествознания
(куда мы обычно не включаем математику) движению математиче¬
ского знания на первый взгляд в высшей степени свойственна ку¬
мулятивная тенденция. Наверное, самый сильный пример этого ро¬
да — «Начала» Евклида. Прогресс математики как будто почти не
затронул этот уже 22 века читаемый учебник геометрии. И в на¬
шем веке мы изучаем элементарную геометрию, вообще говоря, по
Евклиду. Как можно говорить о революции в математике, если но¬
вовведения не затрагивают старых ареалов знания, а просто, по ви¬
димости, добавляются к ним?
Здесь должно заметить, что наличное знание, в том числе и ма¬
тематическое, не исчерпывает своего значения чистой фактично¬
стью своих результатов. Каждая доказанная теорема есть не просто
установленный научный факт, но одновременно и определенный
способ трактовки исследуемого материала, определенный способ
доказательства, определенное понимание связи формулируемого
теоретического факта с общим корпусом знания. В этом ориентиро¬
вании теоретического факта по отношению к целому теории сказы¬
вается присутствие в структуре последней, помимо голого фактиче¬
ского материала, и некоторых архитектонических заданий. Смысл
этих заданий уже выходит за рамки чистой математики. Этот
смысл — не всегда явно эксплицированный! — так или иначе от¬
вечает на вопрос о месте математики в общем фронте познания, о
философии математики. Этот смысл создает внутри дисциплины
особое гносеологическое «поле», по «силовым линиям» которого
должны строиться ее теории. С этой точки зрения, хотя вплоть до
нашего столетия «Начала» Евклида и остаются некоторым неиз¬
менным фактом математического знания, понимание этого факта
тем не менее претерпело многообразные изменения. Так, Декарт
при всем его уважении к геометрии древних считал, что математи¬
ки древности утаили некоторый алгоритм открытия геометрических
истин. Речь при этом шла не просто о каком-то эффективном ме¬
тоде открытия самом по себе, а о методе, который бы соответство¬
вал самой природе этой науки. Только обладая этим методом, мож¬
но будет сказать, что построенная геометрия представляет собой
целостную науку, а не хаотическое собрание случайно открытых
теорем. И этим методом, согласно Декарту, должен быть не так
называемый синтетический метод древних, а новый метод аналити¬
ческой геометрии, своеобразное формализованное исчисление от¬
резков2.
Аналогично и в математике нашего века «Основания геомет¬
рии» Д. Гильберта имеют дело в главном с тем же содержанием,
что и «Начала» Евклида. Однако интерпретация этого материала,
понимание его уже совсем другие. Гильберт выделяет отдельные
«этажи» замкнутых логических структур, которые могут существо¬
вать и автономно, независимо от их моделирования в евклидовой
геометрии. Это выделение позволяет построить примеры геометрий,
которые, как говорится, «и не снились» математикам Древней Гре¬
127
ции (неевклидовы и неархимедовы геометрии). Опять объем зна¬
ния в главном тот же, однако истолкование его новое. За этим но¬
вым истолкованием следует построение новых областей математи¬
ки в соответствии с новыми регулятивными принципами, осознан¬
ными впервые еще на старом материале. Интересно, что и сами
«Начала» Евклида представляют собой в этом смысле отнюдь не
наивно-непосредственный, нерефлектированно-целостный взгляд на
геометрию, а результат тщательного логического продумывания
взаимосвязи теорем и принципов построения математики. Истори¬
ками математики давно подчеркивается та сознательная аккурат¬
ность, с которой Евклид доказывает теоремы первых четырех книг
без использования общего понятия отношения и равенства отноше¬
ний (Евдокса), введение которого откладывается до V книги. Речь
идет не о тривиальной логической корректности (не использовать
ранее не определенные понятия). Парадокс в том, что многие тео¬
ремы первых четырех книг можно доказать и с помощью общего
понятия отношений (Евдокса), и доказать, быть может, более
изящно (например, теорему Пифагора). Почему же Евклид не вво¬
дит это более общее определение отношения величин — по сравне¬
нию с пифагорейским, охватывавшим только случай целочислен¬
ных отношений,— сразу, с первой книги? Разве более общее поня¬
тие не должно логически предшествовать логически подчиненному
понятию? Это отступление от правил школьной логики в корпусе
евклидовских «Начал» — одно из самых ярких свидетельств кри¬
зиса древнегреческой математики, ко времени эллинизма ставшего
уже хроническим. Евдоксово определение отношений (точнее, их
равенства), охватывающее и случай так называемых несоизмери¬
мых величин, не просто более общее. Оно использует понятие ак¬
туальной бесконечности и тем самым нарушает табу не только
всей предшествующей математики, но и классических канонов гре¬
ческой философии3. Это определение не просто добавляет к старой
математике что-то новое, а трансформирует сами нормы доказа¬
тельства, саму интуицию того, что считать ясным, а что нет, саму
конституцию математики. Именно поэтому Евклид, как человек не
просто умный, но и мудрый, стремится по возможности изложить
классические результаты без использования Евдоксовых конструк¬
ций, вопреки их многообещающей общности и эффективности. Из¬
вестный американский историк математики Д. Даубен, настаивав¬
ший на адекватности термина «научная революция» в отношении
истории математики, писал о перевороте, связанном с введением
иррациональных отношений в древнегреческой математике IV в.:
«...после Евдокса никто уже не мог смотреть на математику и ду¬
мать, что она была той же самой, что и для пифагорейцев. Также
невозможно было и сказать, что Евдокс просто добавил нечто к те¬
ории, в которой ранее все было прекрасно. Урок, преподанный от¬
крытием иррациональностей, в том и состоял, что не все было пре¬
красно... Старые методы были вытеснены, и, в конце концов, хотя
и продолжали использовать те же самые слова “число44, 44пропор¬
ция4*, их значение, сфера применения и сущность не были уже те¬
128
ми же самыми»4. Все эти существенные трансформации в понима¬
нии того, что есть и чем должна быть математика, вполне оправ¬
дывают, по Даубену, применение термина «научная революция» к
истории математики.
Мы разделяем эту позицию американского историка. В приме¬
нении к математике XVII в., может быть, в особенности очевидным
становится факт переосмысления старых понятий в свете новых
методологических принципов и философем. Классические матема¬
тические объекты — отрезок, кривая — начинают мыслиться как
объединение точек, т. е. именно так, как сознательно запрещала
их мыслить платоновско-пифагорейская традиция. Точка начинает
использоваться во всей парадоксальности своих определений: точка
есть одновременно и две точки, а то и... целый треугольник. Стра¬
шась этих двусмысленностей, математика античности воздержива¬
лась от некоторых шагов. Новое же время преступает эти запреты.
Математики Нового времени вводят новые аксиомы, касающиеся
структуры геометрических объектов (см. ниже). Внутри старой ма¬
тематики этим аксиомам нет никакого оправдания. Это оправдание
может быть найдено только в более широком контексте — в новой
философии математики (и познания вообще). Не случайно творцы
главных направлений новоевропейской математики — Декарт,
Барроу, Лейбниц, Ньютон — так много места уделяют «философ¬
ским вопросам» математики. Нужно было изменить взгляд на саму
математику вообще, чтобы легализовать новые методы. Это изме¬
нение носило разрывный характер, характер вторжения новых фи¬
лософских принципов в классические ареалы познания. Именно в
этом смысле оправдано применение термина «научная революция»
к математике XVII в.
В этой статье мы обсуждаем Лейбницевский подход к проблеме
оправдания дифференциального исчисления. Являясь одним из со¬
здателей этого исчисления и одновременно одареннейшим филосо¬
фом, Лейбниц представляется особенно выигрышной фигурой для
демонстрации той глубокой связи математики и философии, кото¬
рая оказывается решающим фактором в переходные моменты раз¬
вития науки.
Метод идеальных элементов
и прагматическая точка зрения
на исчисление бесконечно малых
В знаменитой основополагающей для дифференциального ис¬
числения работе 1684 г. «Новый метод максимумов и минимумов,
а также касательных, для которого не служат препятствием ни
дробные, ни иррациональные величины, и особый для этого род ис¬
числения» Лейбниц обосновывает свои рассуждения и с помощью
касательных, и с помощью дифференциалов. Рассуждения с по¬
мощью касательных наглядны и очевидны: в точках эстремума —
максимума или минимума — касательная горизонтальна. Если мы
умеем проводить касательные к кривым,— а это и было камнем
5 Заказ № 434
129
преткновения! — то мы можем находить точки экстремума. Эти
соображения были давно известны и общеприняты (например,
П. Ферма, И. Барроу и др.). Однако у Лейбница эти соображения
лишь иллюстрация его нового метода — собственно дифференци¬
ального исчисления. Этот новый метод вызвал много недоумений и
критики (Б. Ньювентиит, М. Ролль, Ф. Лагир и др.). Главное, бы¬
ло непонятно, что такое дифференциал функции. Дифференциал
независимой переменной был просто произвольным конечным ко¬
личеством5. Дифференциал же зависящей от х переменной v вво¬
дился двояко. Первый способ — с помощью касательной. На языке
современных обозначений
dv - dx-tga, (1)
где а — есть тангенс угла наклона касательной к оси. Но мы
уже отметили — задача проведения касательной сама была слож¬
ной проблемой. Тем важнее оказывалась роль второго, формально¬
го способа введения дифференциала, как результата применения
правил некоторого исчисления. В список этих правил входили спо¬
собы нахождения дифференциала алгебраических сумм, произведе¬
ния, частного функций. Эти правила, (которые, однако, Лейбниц в
своей статье не доказывал), заставляли думать, что дифференциа¬
лы суть бесконечно малые величины. В первом же определении,
через касательную, дифференциалы были произвольными конечны¬
ми величинами. Что же надо было понимать под дифференциалом?
Не помогало, а скорее запутывало следующее «объяснение», приве¬
денное в работе: «Доказательство всего этого (нахождение экстре¬
мумов и касательных с помощью дифференциалов.— В. К.) будет
легким для знакомого со всеми этими вещами, если он только при¬
мет во внимание то недостаточно еще оцененное обстоятельство,
что dx, dy, dv, dw, dz можно считать соответственно пропорцио¬
нальными разностям или мгновенным приращениям или уменьше¬
ниям х, у, v, w, z»6. Понять, что такое «мгновенное приращение»
было не проще, чем что такое бесконечно малая величина. Всю
свою жизнь Лейбниц пытался дать новому исчислению обоснова¬
ние, независимое от «метафизики бесконечно малых». Однако это
ему не удавалось. Мы обсуждаем ниже те философские предпосыл¬
ки, которые оправдывали формулу (1), названную Лейбницем в
одной из своих статей «законом дифференциального исчисления»7.
В этом обсуждении выявится также и та общая перспектива, в ко¬
торой рассматривал Лейбниц математическое знание. Анализ мате¬
матических представлений Лейбница подтверждает ту черту его
научной деятельности, которая уже не раз подчеркивалась исследо¬
вателями: столь разностороннее научное наследие великого немец¬
кого ученого оказывается в удивительной органической связи с
фундаментальными принципами его философии8.
Несмотря на характерную двойственность высказываний Лейб¬
ница, более внимательный анализ математических работ, прове¬
денный историками математики, делает несомненным тот факт,
что Лейбниц строит дифференциальное исчисление, используя по¬
130
нятие актуально бесконечно малой величины. Так, известный аме¬
риканский историк математики К. Бойер справедливо замечает,
что, хотя в вышеупомянутой работе 1684 г. в формуле (1) dx (и,
следовательно, dv) и определяются как конечные величины, тем не
менее все определение основывается на понятии бесконечно малой
величины9. В формулу (1) входит угол между касательной и осью.
Касательная же определяется Лейбницем как «прямая, соединяю¬
щая две точки кривой, расстояние между которыми бесконечно ма¬
ло», т. е. актуально бесконечно малая неявно присутствует в этом
определении. Попытка Лейбница уйти от актуальной бесконечно¬
сти есть лишь petitio principiL
Из более поздних работ важно отметить также очень доброт¬
ную статью голландского историка математики Г. Боса о диффе¬
ренциальном исчислении Лейбница10. Бос также подчеркивает тот
момент, что во всех своих опубликованных математических рабо¬
тах, за исключением работы 1684 г., Лейбниц понимает дифферен¬
циал как бесконечно малую величину11. В историческом плане
этот факт отнюдь не случаен. Постараемся осознать это. Дело в
том, что для математиков XVII в. еще не существовало понятия ве¬
личины в нашем сегодняшнем смысле. Непрерывно меняющаяся
величина — это обычно геометрический отрезок (площадь, объем).
Эта величина еще не «арифметизована», как в сегодняшнем анали¬
зе. Она не выражается полностью через действительные числа (нет
еще общего понятия действительного числа). Для того чтобы поста¬
вить каждой точке в соответствие действительное число, нужно вы¬
брать некоторый выделенный отрезок — единицу измерения. Одна¬
ко этот выбор ничем не обусловлен, произволен. И математика
XVII в. еще сопротивляется этой тенденции (хотя и довольно ясно
сознает ее!) — полностью свести геометрические соотношения к
числовым. «Недостаточность оснований» для выбора единицы дли¬
ны как бы подсказывала — эта тенденция неестественная, проти¬
воречит самой природе вещей. В математике XVII в. еще сильны
запреты античной математики: геометрия и арифметика — различ¬
ные науки. Первая никак не сводима ко второй. Хотя бы потому,
что существуют несоизмеримые отрезки, а XVII в. еще не знает
понятия иррационального числа. Поэтому для математиков времен
Лейбница непрерывная величина всегда сохраняет свой геометри¬
ческий характер. Лейбниц приходит к своим дифференциальным
конструкциям, исходя из опыта работы с дискретными последова¬
тельностями чисел. От рассмотрения величин, принимающих диск¬
ретное множество возрастающих (или убывающих) значений, он
переходит к величинам непрерывно возрастающим. Если за х обоз¬
начить саму величину, a dx — ее приращение, то в случае диск¬
ретных последовательностей dx конечно и каждой последователь¬
ности значений jc,- можно поставить в соответствие последователь¬
ность ее конечных приращений dxt = jc, + у — xt. Если же величина
возрастает непрерывно, то последовательность приращений есть по¬
следовательность бесконечно малых чисел. Для XVII в. это было и
понятно и непонятно одновременно. Непонятно по тем же причи¬
5*
131
нам, что и для нас,— что есть бесконечно малое число? Как можно
мыслить нечто, которое одновременно есть и ничто, нуль? Понят¬
но, во всяком случае более убедительно, чем для нас, потому что
непрерывная величина мыслилась геометрически, она есть, напри¬
мер, непрерывно меняющийся отрезок — непрерывная последова¬
тельность отрезков. Один же отрезок отличается от другого, «сле¬
дующего» в ряде рассматриваемой непрерывной последовательно¬
сти, только на точку, имеющую, естественно, «длину» нуль. Беско¬
нечно малое число и в XVII в., и вообще с генетической точки зре¬
ния есть арифметический образ геометрической точки. Проблема
бесконечно малого аналогична проблеме точки, проблеме ее отно¬
шения к целому пространства. Со времени Зенона Элейского анти-
номичность этого отношения была уже общеизвестна. Поэтому бес¬
конечно малые дифференциалы Лейбница встретили довольно
дружный хор недоумевающих и порицающих голосов. Упомянутая
работа Боса хороша именно тем, что рассматривает построения
Лейбница так, как они были задуманы их автором, не гримируя их
под современный анализ, в котором понятию бесконечно малой ве¬
личины «отказано в гражданстве»12. Лейбниц ясно представлял все
противоречия, связанные с использованием бесконечно малых ве¬
личин. Оправдание их введения в математику не могло быть
найдено в рамках старого, классического, связанного с антично¬
стью идеала математического знания. Для оправдания бесконечно
малых нужны были новые философские представления о природе
математики.
Какие же оправдания выдвигает Лейбниц в пользу построения
математической дисциплины на основе такого противоречивого по¬
нятия, как бесконечно малая величина? Мы уже отметили, что
проблема бесконечно малой величины непосредственно связана с
проблемой точки как «элемента» пространства. Для Лейбница эта
проблема была неотделима от вопроса об «элементе бытия» вооб¬
ще, от вопроса о «неделимом истинном единстве», к которому при¬
водит анализ (в общелогическом смысле слова). Ответом на по¬
следний вопрос является, собственно, вся система «Монадологии».
Для нас сейчас важен один фрагмент из работы 1695 г., примыка¬
ющей к кругу идей «Монадологии». Вот этот фрагмент: «Таким об¬
разом, точки физические неделимы только по видимости; матема¬
тические точки — точки в строгом смысле, но они только модаль¬
ности; только точки метафизические, или точки-субстанции (а их
образуют формы или души), суть точки в строгом смысле, и при¬
том реальные; и без них не было бы ничего реального, так как без
настоящих единиц не может быть и множества»13. Лейбниц описы¬
вает в начале этой работы, как он со времен своей юности поста¬
вил себе задачу: найти принцип истинного единства и воплощение
этого принципа — истинный элемент. Атом как элемент бытия,
как неделимая материальная частица был отвергнут Лейбницем.
Атом неделим «только по видимости»: протяженная материальная
частица, как бы ни была она мала, имеет части, мы можем мыс¬
лить эти части, следовательно, атом не является неделимым эле¬
132
ментом. Принцип истинного единства может, по Лейбницу, быть
только идеальным — душа, форма. Материальным воплощением
этого принципа является индивидуальное живое существо — мона¬
да. Именно монады выступают как истинные бытийственные эле¬
менты, «метафизические точки», из которых сложено все сущее.
Для нас в цитированном фрагменте интересна в особенности ха¬
рактеристика математических точек. Математические точки суть
точки в строгом смысле, говорит Лейбниц. Т. е. понятие математи¬
ческой точки действительно предполагает некий «элемент» про¬
странства, не имеющий частей. Именно в таком качестве использу¬
ются точки в геометрии. Именно так определяет Евклид точку в
своих «Началах». Однако как точка соотносится с целым непре¬
рывного пространства, которому она принадлежит, как можно вы¬
делить точку в континууме — непонятно. Точки остаются только
модальностями. Можно или чисто аксиоматически потребовать: в
любом куске пространства можно взять хотя бы одну точку, или
дать более наглядную процедуру выделения точки, рассматривая,
например, последовательность вложенных друг в друга шаров со
стремящимися к нулю радиусами. Точка выступает в последнем
случае как некое предельное понятие, как «самый малый» элемент
пространства. Точка представляет собой, строго говоря, не дан¬
ность, а некоторую предельную (для воображения!) идею. В приве¬
денной цитате важно подчеркнуть тот факт, что Лейбниц отказы¬
вает математическим точкам в реальности. Реальны физические
элементы, но они нс истинные элементы, не суть точки. Реальны
метафизические точки, истинные элементы сущего — монады. Ма¬
тематические точки не обладают никакой реальностью вне пред¬
ставляющего их сознания (монады), они суть лишь некоторые иде¬
альные (как предельные) понятия, идеальные (как существующие
только в сознании) элементы.
Такими же идеальными понятиями оказываются и бесконечно
малые величины у Лейбница, поскольку они представляют собой
арифметический аналог геометрической точки. В письме к фран¬
цузскому математику П. Вариньону от 2 февраля 1702 г. Лейбниц,
оправдывая свои дифференциалы, писал: «...если кто-нибудь не до¬
пускает бесконечных и бесконечно малых линий в строго метафи¬
зическом смысле и в качестве действительных вещей, тот может
надежно пользоваться ими как идеальными понятиями, сокращаю¬
щими рассуждения и сходными с так называемыми в обыкновен¬
ном анализе мнимыми корнями (вроде, например,\б.), которые,
несмотря на то что их называют мнимыми, не перестают от этого
быть полезными и даже необходимыми для аналитического выра¬
жения действительных величин»14. Лейбниц ясно осознавал опре¬
деленную общность методологических проблем, связанных с обос¬
нованием дифференциала, и проблем, касающихся комплексных
чисел. Начиная с XVI—XVII вв. введение новых «идеальных эле¬
ментов» становится характерной чертой новоевропейской матема¬
тики. Общим для всех этих новых объектов было то, что они не
только не допускали непосредственной интерпретации на уровне
133
чувственно данного мира, но и были лишены той наглядности, той
«очевидности», которая свойственна объектам традиционной ариф¬
метики и геометрии — целым числам, точкам, прямым и т. д. Но¬
вые объекты «идеальны», представляют собой своеобразные «абст¬
ракции» (как бы второго рода), но оказываются удивительно эф¬
фективным средством познания (как внутри, так внематематиче-
ского). Таковы и комплексные числа, и иррациональные (а строго
говоря, и отрицательные числа), и бесконечно удаленные точки
проективной геометрии, и «идеальные числа» Куммера и др. Не¬
мецкий математик Г. Вейль, один из самых проницательных уче¬
ных нашего времени, писал о методе идеальных элементов: «...в
математике постоянно производится расширение первоначально за¬
данной области операций при помощи присоединения идеальных
элементов, причем делается это для того, чтобы сообщить всеоб¬
щую применимость некоторым простым законам»15. Это расшире¬
ние первоначально заданного множества объектов с целью обеспе¬
чения выполнимости некоторых операций (чтобы вычесть любые
числа, нужно ввести отрицательные величины в качестве чисел;
чтобы всегда существовал корень из числа, нужно ввести иррацио¬
нальные и комплексные числа; чтобы любые две прямые плоскости
пересекались — вводятся бесконечноудаленные точки и т. д.) по¬
зволяет вскрыть новые, более общие соотношения и закономер¬
ности, которые «изнутри» исходной области совсем неочевид¬
ны. Метод идеальных элементов как бы выявляет скрытые пара¬
метры изучаемой реальности и тем самым дает более глубокое ее
понимание.
Однако назвать какие-то математические понятия идеальными
не значит объяснить их эффективность и тем более не значит га¬
рантировать законность их применения. И как философ, и как ма¬
тематик Лейбниц должен был как-то объяснить «непостижимую
эффективность» бесконечно малых. С чисто математической точки
зрения Лейбниц пытался интерпретировать дифференциальное ис¬
числение как лишь модификацию «метода исчерпывания», приме¬
нявшегося уже в геометрии античности (см. вышеприведенную ци¬
тату из «Journal de Travaux», с. 214). Этот метод не использует ак¬
туально бесконечно малых величин. Согласно лейбницсвской ин¬
терпретации, вместо дифференциалов можно подставлять в уравне¬
ние произвольные конечные величины и, чем они меньше будут
отличаться от некоторых предельных, тем точнее будет получае¬
мое равенство. Однако противники дифференциального исчисле¬
ния стали тогда утверждать, что исчисление дает лишь приближен¬
ные результаты. Это губило саму идею дифференциального исчис¬
ления как метода научного познания. Приходилось искать иные
оправдания.
Конечно, всегда оставалось чисто прагматическое объяснение:
новый метод позволял успешно решать задачи. Лейбниц, пишет
К. Бойер, «чувствовал, что исчисление в качестве modus operandi
несло с собой и свое доказательство»16. По нашему мнению, это
было и так, и не так. «Знать» и «уметь» различаются в математике
134
так же, как и в других областях жизни. Дело в том, что дифферен¬
циальное исчисление Лейбница, эффективно решая некоторые ста¬
рые задачи, все-таки более эффектно проявляло себя в постановке
и решении новых. Эти решения нередко представлялись бесконеч¬
ным рядом (например, квадратура круга Лейбница, нахождение
цепной линии и др.), т. е. чем-то совершенно немыслимым для
классической математики античности. Та несоизмеримость теорий,
которую так ярко демонстрировал Т. Кун в истории физики, ана¬
логичным образом выступает и в математике. В каком смысле
можно говорить, что новые методы в математике XVII в. решали
задачи? Само решение выступало как новый объект — бесконеч¬
ный ряд. Решение одновременно представляло собой и некоторое
новое определение. На место одного неизвестного — чему равна
площадь круга? — ставилось другое — бесконечный ряд. Выигрыш
был, правда, в том, что была развита эффективная техника работы
с бесконечными рядами. Но умение не удовлетворяло полностью
жажду знания. Ответ на вопрос «как?» для бесконечного ряда (как
с ним оперировать) не решал вопроса о «что?» этого ряда — вопро¬
са о законности введения этого нового математического объекта. И
корень этого вопроса, как и для бесконечно малых,— актуальная
бесконечность.
В XVI—XVII вв. тенденция прагматического оправдания эф¬
фективности математики в высшей степени популярна. Вдохновля¬
ясь мечтой францисканского миссионера XIII в. Р. Луллия о «вели¬
ком искусстве», которое могло бы автоматизировать процесс мыш¬
ления, многие ищут удобной знаковой системы, универсального ал¬
горитма, позволившего бы «без лишней траты умственных сил»17
решить все возможные проблемы. Само создание алгебры в
XVI—XVII вв. (К. Рудольф, М. Штифель, Р. Бомбелли, П. Рамус,
С. Стевин, Ф. Виет, Р. Декарт и др.) представляется даже лишь
побочным продуктом этой титанической «супер-идеи»18. Эта мощ¬
ная традиция (в европейской культуре восходящая еще к идее «Ор¬
ганона» у Аристотеля) расцветает в математике XVIII в. и дожива¬
ет до XX, обновляясь (и радикализируясь) в проблемах, связанных
с компьютеризацией, «искусственным интеллектом», логицистским
обоснованием математики. В XVII в. эта идея не имеет еще того
выхолощенно-формалистического вида, какой она нередко прини¬
мает в наше время19. Математики и философы XVII в. не рассмат¬
ривают математику как чисто формальную науку, для них важно
понять ее укорененность в самом бытии. Декарт ищет обоснования
идеи универсального алгоритма на путях трансцендентализма: де¬
картовский метод (и должная выразить его «универсальная мате¬
матика») укоренен в самой структуре разума. Примерно по тем же
путям движется и Лейбниц (сделавший, однако, несравненно боль¬
ше для реализации идеи mathesis universalis). В одном из много¬
численных набросков, посвященных разработке «универсальной ха¬
рактеристики», Лейбниц пишет: «И хотя давно уже некоторые вы¬
дающиеся мужи выдвинули идею некоторого универсального язы¬
ка, или универсальной характеристики, посредством которой пре¬
135
красно упорядочиваются понятия и все вещи... никто, однако, не
попытался создать язык, или характеристику, в которой одновре¬
менно содержалось бы искусство открытия и искусство суждения,
т. е. знаки или характеры которой представляли бы собой то же,
что арифметические знаки представляют в отношении чисел, а ал¬
гебраические — в отношении абстрактно взятых величин. А ведь
Бог, даруя человеческому роду эти две науки, по-видимому, желал
нам напомнить, что в нашем разуме скрывается тайна значительно
более важная, и эти две науки — только тени ее»20. Лейбниц был
очень воодушевлен идеей «универсальной характеристики», считал
ее вполне осуществимой21. Анализ бесконечно малых должен был
составлять существенную часть этой науки, а именно часть, входя¬
щую в «науку о бесконечности» вообще. Тем самым изначально
Лейбниц строит свой анализ бесконечно малых как часть универ¬
сального формального алгоритма, строит его как исчисление
(calculus). Именно это внимание к знаку, к формальной стороне
нового метода позволило Лейбницу сформулировать ряд важных
положений математического анализа. Это и знаменитая формула
Лейбница для дифференцирования произведения, и удачно выбран¬
ные им обозначения для дифференциала (дожившие до сегодняш¬
него дня). Именно с этой точки зрения обсуждает Лейбниц в пере¬
писке с И. Бернулли формальное употребление знаков интеграла
и дифференциала22,
когда I =: и возможны следующие равенства:
Однако ни голый успех в решении некоторых задач, ни надеж¬
ды на построение универсального алгоритма, «универсальной ха¬
рактеристики» (надежды, которые ведь тоже нужно было еще оп¬
равдать) не давали ответов на прямые вопросы: что такое беско¬
нечно малый дифференциал? чем гарантирована законность его ис¬
пользования? Из фрагментов рукописного архива Лейбница, опуб¬
ликованных уже только в XIX в., мы знаем, что он настойчиво пы¬
тался обосновать свои инфинитезимальные построения в математи¬
ке с помощью конечных величин. Воодушевлены были эти попытки
уверенностью Лейбница в справедливости некоторых уже не узко¬
математических, а общефилософских положений, игравших фунда¬
ментальную роль для всей его научной деятельности. К рассмотре¬
нию одной из этих философем мы сейчас и перейдем.
Ситуация в математике была для Лейбница полностью анало¬
гичной ситуации в механике. Работа «Анагогический опыт исследо¬
вания причин» начинается тезисом, что «познание законов приро¬
ды приводит нас в конечном итоге к более высоким принципам по¬
рядка и совершенства, которые указывают на то, что вселенная яв¬
Принцип законопостоянства
136
ляется результатом универсальной разумной силы»23. Природу,
как считал Лейбниц, можно в той или иной степени в меру нашей
изобретательности объяснить из законов механики. Однако прин¬
ципы самой мехники не могут уже быть объяснены в рамках меха¬
ники. Нужно прибегнуть к конечным причинам, особым «архитек¬
тоническим принципам», указывающим на мудрость Творца. Лейб¬
ниц иллюстрирует архитектонический принцип следующим приме¬
ром. Предположим, «природа должна была бы построить некото¬
рый треугольник»24 при условии, что известен только его пери¬
метр. Если бы природа руководствовалась только «геометрической
необходимостью», т. е. только физическими законами, то задача
была бы неопределенной, не было бы построено никакого треуголь¬
ника. Архитектоническая же необходимость требует, чтобы произ¬
вольный треугольник — при отсутствии дополнительной детерми¬
нации — был бы обязательно равносторонним. Природа у Лейбни¬
ца распадается на «два царства, которые взаимопроникают, не сли¬
ваясь и не мешая друг другу: царство силы, где все можно объяс¬
нить механически, с помощью действующих причин, если мы до¬
статочно глубоко в них проникаем, и царство мудрости, где все
можно объяснить архитектонически, с помощью, так сказать, ко¬
нечных причин, если мы познаем их достаточно хорошо»25. Такой
конечной причиной, архитектоническим принципом выступает, на¬
пример, принцип наибольшего совершенства: основные законы
природы не произвольны, а являются выражением некоторого оп¬
тимального решения. Таков и знаменитый принцип непрерывности
Лейбница: «...когда случаи (или данные) непрерывно приближают¬
ся друг к другу так, что наконец один переходит в другой, то необ¬
ходимо, чтобы и в соответственных следствиях или выводах (или
искомых) происходило то же самое»26. Последний принцип, по
мысли Лейбница, выражает то единообразие творения, которое
служит прекрасным свидетельством совершенства Творца. Причем,
как подчеркивается в конце работы «Анагогический опыт исследо¬
вания причин», эти архитектонические принципы познания явля¬
ются не только выводом из научного опыта, но и плодотворными
принципами новых открытий. Сознательное ориентирование есте¬
ствознания на метафизику было устойчивой чертой Лейбница-уче-
ного. Для наших целей здесь будет полезно рассмотреть один важ¬
ный момент из переписки Лейбница с королевой Пруссии Софией-
Шарлоттой.
В письме от 8 мая 1704 г. Лейбниц формулирует положение,
которое считает «главнейшим принципом природы»: «Принцип
этот состоит в том, что свойства вещей всегда и повсюду явля¬
ются такими же, каковы они сейчас и здесь. Иными словами,
природа единообразна в том, что касается сути вещей, хотя и допу¬
скает разницу степеней большего и меньшего, а также степеней со¬
вершенства»27. Этот принцип, сформулированный Лейбницем в по¬
ру своей философской зрелости, действительно оказывается для не¬
го фундаментальным: в различных областях знания построения
философа так или иначе соотносятся с этим принципом. Здесь же в
137
переписке с Софией-Шарлоттой принцип применяется к метафизи¬
ке. Лейбниц доказывает с помощью него, что любая монада неу-
ничтожима не только как идеальное существо, но и как некое «жи¬
вотное», т. е. как соединение души и тела. Животному свойственно
восприятие, которое требует наличия материальных органов, т. е.
тела. Субстанция, монада, духовное начало живого, по Лейбницу,
неуничтожимо. Однако, согласно принципу, что все должно проис¬
ходить всегда так, как «сейчас и здесь», мы умозаключаем (вместе
с Лейбницем), что и после смерти субстанция должна обладать
восприятием и, следовательно, некоторым телом. «В этом кроется
одна из величайших тайн природы,— пишет Лейбниц,— ибо вся¬
кая природная органическая машина (такая, какую можно видеть
у животных) со всеми ее тайниками и закоулками неразрушима и
всегда располагает запасным оборонительным рубежом против ка¬
кого бы то ни было натиска и насилия» (курсив мой.— В. /С.)28.
Живое существо сохраняет свою структуру во всех своих «сверты¬
ваниях и развертываниях» неизменной. В противном случае пере¬
ходы к новым состояниям были бы связаны со скачком, что нару¬
шало бы, по Лейбницу, то единообразие, которое составляет пози¬
тивное содержание рассматриваемого принципа.
Довольно естественно, что эти соображения заставляют Лейб¬
ница в эмбриологии склоняться в сторону учения о преформизме.
Тонкие опыты Мальпиги и Сваммердама позволили обнаружить
уже на ранней стадии развития зародыша наличие различных орга¬
нов. «В самом яйце,— писал Мальпиги,— мы имеем животное уже
почти сформировавшимся»29. Открытие Левенгуком в 1677 г. спер¬
матозоида, хотя и заменило теорию «овизма» на теорию «анимаку-
лизма» (присутствие готового маленького живого существа не в
яйцеклетке, а в сперматозоиде), но оставило преформизм как тако¬
вой нетронутым. Именно на эти научные данные ссылался Лейб¬
ниц для подтверждения своей метафизики. «Опыты весьма искус¬
ных наблюдателей, в особенности таких, как господа Сваммердам
и Левенгук, склоняют нас к мысли, что то, что мы именуем зарож¬
дением нового животного, есть всего лишь преобразование, разво¬
рачиваемое благодаря росту уже образованного животного, и, сле¬
довательно, одушевленное и организованное семя столь же извеч¬
но, как мир»30. С этой точки зрения в мире не существует, собст¬
венно, ни рождений, ни смерти, а есть лишь последовательность
сворачиваний и разворачиваний целостного живого существа, как
бы чисто геометрическая «игра» масштабов31. Как мы знаем, все
всегда и повсюду остается, как «сейчас и здесь»...
По существу, с помощью этого же принципа — будем называть
его принципом законопостоянства — Лейбниц обосновывает в
письмах к Софи и-Шарлотте и предустановленную гармонию. Соот¬
ветствие между последовательностью состояний души — перцепци¬
ями и апперцепциями — и поведением тел согласно физическим
законам недопустимо, по Лейбницу, объяснять окказиционалист-
скими схемами. «Обыкновенно тела оказывают действие друг на
друга по вполне понятным законам механики, и вдруг оказывается,
138
что стоит душе захотеть чего-то, как Божество тотчас вмешается в
естественное поведение вещей и нарушит его! Как вам это понра¬
вится?»32 Соответствие между миром материального и духовного
обусловливается у Лейбница также установлением Творца. «Одна¬
ко,— пишет Лейбниц,— эта причина действует лишь однажды и
навсегда...»33 «Часы мира» лишь однажды создаются и заводятся.
Безупречность их хода, полное соответствие движений одной части
движениям другой гарантируется бесконечным мастерством Часо¬
вщика. Бог, мыслимый как часовщик, как совершенный мастер,
есть теологическое выражение принципа законопостоянства у Лей¬
бница. И обратно, принцип законопостоянства является самым яр¬
ким свидетельством лейбницевского деизма. Законы даются миру
раз и навсегда. Их стабильность есть как свидетельство совершен¬
ства Творца, так и гарантия их познаваемости. Полезно вспомнить,
что позиция Лейбница настойчиво оспаривалась Кларком в знаме¬
нитой переписке. Мир, существующий автономно по незыблемым,
пусть даже и совершенным, законам, противоречил, по мнению
Кларка, самому понятию Провидения. «...Этим,— писал Кларк,—
Бога делают лишь творцом, а правителем — только по назва¬
нию»34. Однако, отвечал Лейбниц, «истинное провидение Бога тре¬
бует совершенного предвидения; более того, оно требует также,
чтобы он не только все предвидел, но и обеспечил все заранее оп¬
ределенными вспомогательными средствами, иначе ему не хватало
бы либо мудрости, чтобы предвидеть событие, либо могущества,
чтобы встретить его подготовленным»35. Бог Лейбница связан зако¬
ном достаточного основания. Разумное основание оказывается тем,
что определяет волю. Возобновляя в новой исторической ситуации
старый схоластический спор между волюнтаризмом и интеллектуа¬
лизмом, между Бонавентурой и Фомой, Лейбниц решительно ста¬
новился на сторону последнего36.
Принцип законопостоянства, выдвигаемый Лейбницем, играет
столь большую роль в его научном наследии — в том числе и в ма¬
тематике,— столь сознательно и настойчиво подчеркивается, что
может считаться, собственно, одним из главных принципов новоев¬
ропейского рационализма, как некоего общего умонастроения, од¬
ним из основателей которого справедливо считается великий не¬
мецкий философ. Мы уже подчеркивали, что, по мысли Лейбница,
этот принцип играет огромную эвристическую роль в построении
наук. В одном из писем к Софии-Шарлотте Лейбниц, говоря об
этом принципе, пишет: «...будем объяснять вещи, о которых мы
имеем лишь смутное представление, исходя из тех вещей, которые
нам хорошо известны...»37 Это продолжение на сферу неизвестного
свойств известного, выражение нового и непонятного в терминах
известного действительно играет огромную роль в генезисе науки
последних четырех столетий. Метод «идеальных элементов», об¬
суждавшийся выше, является как бы только приложением этого эв¬
ристического принципа законопостоянства. Действительно, в мето¬
де «идеальных элементов» мы вводим новые, «идеальные» объекты
для того, чтобы обеспечить универсальную выполнимость некото¬
139
рых операций, некоторых законов (например, чтобы из любого
действительного числа — включая и отрицательные числа — из¬
влечь квадратный корень, мы вводим комплексные числа). Мы
строим новую область объектов, и «лесами» при этом строительст¬
ве служат те законы исходной области, которые мы желаем сохра¬
нить. Мы получаем более широкую область объектов, однако «рас¬
сматриваем» ее с точки зрения старых законов. Закон остается тем
же, и его инвариантность служит конструктивным принципом. Ин¬
тересно отметить, что и знаменитый принцип непрерывности Лейб¬
ница также, по существу, является следствием принципа законопо-
стоянства. Принцип непрерывности гласит: если условия непрерыв¬
но переходят одно в другое, то так же непрерывно должны перехо¬
дить друг в друга и следствия. Другими словами, закон перехода
элементов друг в друга в «сфере» следствий такой же, как и в
«сфере» условий. Все происходит всегда, как «теперь и здесь»... В
этом смысле «сфера» следствий может представлять «сферу» усло¬
вий (и наоборот). Особую роль играл принцип законопостоянства
при введении в науку такого «темного» объекта, как актуальная
бесконечность. Кассирер в своей книге о Лейбнице, касаясь вопроса
о бесконечности, также подчеркивает обсуждаемый нами момент:
«Бесконечное следует здесь повсюду, как выражение того, что оп¬
ределенная законосообразность познания должна считаться дейст¬
венной поверх любой области приложения в данном; оно является
также позитивной гарантией распространения силы и значения чи¬
стой мысли на область, где отказывают созерцание и чувствен¬
ность, и подчинения этой области своему собственному закону»38.
Здесь огромное значение имели математические конструкции Лей¬
бница, к которым мы теперь непосредственно и переходим.
Руководствуясь именно этим принципом законопостоянства,
подходит Лейбниц и к задаче о проведении касательной. Кривая, к
которой проводится касательная, должна прежде всего быть понята
специальным образом как комбинация «того же», «известного»,
«тождественного», т. е. прямых: «...природа, управляемая высшей
мудростью, которая повсюду проявляет свой общий замысел, долж¬
на подчинять кривые линии правилам, применяемым для прямых и
плоскостей, которые касаются этих кривых, как если бы эти кри¬
вые были из них составлены, что, однако, если говорить строго, со¬
всем не так»39. Маркиз Г.-Ф. Лопиталь, ученик и соратник Лейб¬
ница в деле пропаганды дифференциального исчисления, в своей
книге «Анализ бесконечно малых» (1696) — первом полном курсе
дифференциального исчисления — прямо вводит «требование или
допущение: требуется, чтобы можно было рассматривать кривую
линию как совокупность бесконечного множества бесконечно ма¬
лых прямых линий, или же (что то же самое) как многоугольник с
бесконечным числом бесконечно малых сторон...»40. Провести ка¬
сательную, по Лейбницу, значит «провести прямую, соединяющую
две точки кривой, расстояние между которыми бесконечно мало,
или же провести продолженную сторону бесконечноугольного мно¬
гоугольника, который для нас равнозначен кривой. А такое беско¬
140
нечно малое расстояние
можно всегда выразить с
помощью какого-либо из¬
вестного дифференциа¬
ла...»41. Дифференциал
здесь, как видим, беско¬
нечно малая величина.
Но, возвращаясь к наше¬
му исходному вопросу,—
почему в этой же статье
1684 г. (откуда взята по¬
следняя цитата) Лейбниц
определяет дифференциалы и как конечные величины? И что зна¬
чит, что эти дифференциалы «пропорциональны разностям или
мгновенным приращениям» исходных величин?42 Разности и мгно¬
венные приращения бесконечно малы43. Как конечная величина —
дифференциал — может быть пропорциональна бесконечно малой?
Постараемся восстановить логику этого умозаключения.
Дифференциал (конечный) dv определяется из соотношения
(см. рис.)
(h_ __ NM
dx AN
(2)
Но вся конструкция опирается на предпосылку: «элемент кри¬
вой» представляет из себя бесконечно малый отрезок прямой ММ',
продолжением которого и является касательная. Проекции этого
бесконечно малого отрезка на оси координат суть бесконечно ма¬
лые приращения — d'x и d'v (мы пишем d со штрихом, чтобы от¬
личить бесконечно малый дифференциал от конечного, определен¬
ного формулой (2)).
Обычно рассматриваются два подобных треугольника AMN и
ММ'Р44. Из их подобия получаем
VМ _ РМ' _ d'v
AN ~ МР ~ d'z' W
Сравнивая (2) и (3), имеем
dv d'v //ч
гг = -77- (1)
Итак, строго говоря, не сами бесконечно малые разности
(«мгновенные приращения») d'v и d'x пропорциональны конечным
приращениям dv и dx — «коэффициент пропорциональности» меж¬
ду ними равен бесконечности! — а отношения этих приращений
равны. И предпосылкой этого утверждения служит соотношение
(3), выражающее подобие конечного и бесконечно малого («харак¬
теристического») треугольника. Однако «бесконечно малый треу¬
гольник» есть не некая очевидная данность, а скорее символ, обоз¬
начающий реальность, постулируемую в качестве «атомарной» в
данной теории. С этой точки зрения говорить о «бесконечно малом
треугольнике» и его подобии конечному треугольнику некорректно.
141
Равенство (3) есть не констатация геометрического факта, а тре¬
бование. Смысл этого требования: бесконечно малый треугольник
должен быть подобен конечному треугольнику, образованному ка¬
сательной. В соотношении (3), фундаментальном для дифференци¬
ального исчисления, мы видим постулирование свойств самого про¬
странства, свойств элементарных «бесконечно малых прямых», из
которых сложена, согласно предпосылке, кривая. Это постулирова¬
ние свойств геометрического «микромира» осуществляется через
сравнение со свойствами «макрообъекта» — конечного треугольни¬
ка (образованного касательной). Эти треугольники, бесконечно ма¬
лый и конечный, разнящиеся не просто размерами, а разделенные
непостижимым «трансцезусом», переводящим конечный геометри¬
ческий объект в бесконечно малый, должны иметь одинаковое со¬
отношение сторон. Другими словами, их форма должна быть тож¬
дественной.
В этом построении нетрудно увидеть математическое выраже¬
ние «главнейшего принципа природы» Лейбница, того, что мы на¬
зывали принципом законопостоянства: «свойства вещей всегда и
повсюду являются такими же, каковы они сейчас и здесь». Причем
под «свойствами» понимается не нечто чувственно данное (данное
воображению), а то, что может быть мыслимо и тогда, когда чувст¬
ва бессильны: отношение сторон, форма треугольника. Эта форма
прямоугольного треугольника рассматривается Лейбницем как ин¬
вариантная не только для конечных треугольников, но и для беско¬
нечно малого. В этом смысле становится безразличным, рассматри¬
вать ли дифференциалы, определяемые соотношением (2), т. е. ко¬
нечные величины, или дифференциалы, определяемые алгоритмом
дифференцирования, т. е. бесконечно малые величины,— все они
оказываются «пропорциональными» друг другу45. Как для префор¬
мистов внутри зародыша уже находятся в «свернутом» состоянии
все части будущего организма, развитие которого есть лишь «раз¬
ворачивание» уже готовых, сформированных органов, так и для
лейбницевского понимания кривой ее поведение в окрестности точ¬
ки, в частности расположение касательной, полностью определяет¬
ся «зародышем» этой кривой — характеристическим бесконечно
малым треугольником.
Итак, новая математика XVII в., в частности дифференциаль¬
ное исчисление в той форме, как оно вводится Лейбницем, пред¬
ставляет собой не просто новые методы решения задач, а прежде
всего новые аксиомы, которые обосновывают эти методы. Эти ак¬
сиомы имеют, так сказать, «онтологический» характер: они дают
новое, неприемлемое для античности и средневековья понимание
структуры континуума. Эта удивительная метаморфоза в понима¬
нии самих оснований науки была обусловлена не только чисто
прагматической эффективностью новых методов, не столько новы¬
ми открытиями — эти открытия еще сами требовали обоснования
через оправдание новой аксиоматики,— сколько изменением фило¬
софского горизонта, в котором только и существует математика в
любой период истории. Новые аксиомы выражают нс то, что кому-
142
то когда-то удалось увидеть, открыть, обнаружить. Они менее всего
эмпиричны. Они выражают определенное долженствование: кри¬
вая должна представляться, как бесконечноугольная ломаная с бес¬
конечно малыми сторонами, бесконечно малый характеристический
треугольник должен быть подобен конечному треугольнику, обра¬
зованному касательной. Оправдания этого долженствования лежат
уже вне самой математики. Они связаны с более общими философ¬
скими принципами, с общемировоззренческими тенденциями дан¬
ного времени.
К. Бойер, характеризуя в целом гносеологическую установку
создателя дифференциального исчисления, писал: «...Лейбниц при¬
бегал к помощи идей предельных форм, предполагаемых метафизи¬
ческим идеализмом. Даже в случае, если величины — такие, как
дифференциалы,— участвующие в соотношении, становились не¬
определенными Unassignable — имеется в виду — актуально бес¬
конечно малыми, т. е. и бесконечно малыми, и в то же время не¬
нулевыми.— В. К.), он чувствовал тем не менее, что предельные
фюрмы оставались. Точка, считал он, не есть то, часть чего есть
нуль, но то, протяженность чего есть нуль... Характеристический
треугольник был для Лейбница треугольником, в котором форма
треугольника оставалась и после того, как была элиминирована его
величина...»46. Все эти спекулятивные положения о структуре точ¬
ки и бесконечно малых треугольниках в принципе недоступны го¬
лой эмпирии (понимая под эмпирией и чисто математическое про¬
считывание какой-то конкретной задачи). Чтобы «увидеть» беско¬
нечно малое, нужен был микроскоп с бесконечным увеличением:
нужна была метафизика. Мы видели, сколь естественно основная
предпосылка лейбницевских инфинитезимальных построений —
подобие «характеристического треугольника» конечному треуголь¬
нику, образованному касательной, подкасательной и ординатой,—
связана с архитектоническим принципом законопостоянства. Лейб¬
ниц прекрасно сознавал «метафизический» характер построенной
им науки: «...судьба даровала нашему веку прежде всего то, что
после столь долгих лет забвения вновь воссиял светоч математики,
как я его называю. Ведь были открыты и развиты Архимедовы
способы исчерпывания через неделимые и бесконечные, что можно
было бы назвать метафизикой геометров и что, если я не ошиба¬
юсь, было неизвестно большинству древних, за исключением Архи¬
меда» (подчеркнуто мной.— В. К.)4'. Здесь хочется сделать добав¬
ление к словам Лейбница. Древним не просто «были неизвестны»
новые инифинитезимальные методы, а они в некотором смысле «не
хотели их знать»: математики античности в своем большинстве со¬
знательно отказывались развивать математику в направлении бес¬
конечно малых48. Они ясно осознавали, что введение бесконечно
малых связано с некоторыми допущениями, которые чисто матема¬
тически необоснованы, произвольны (например, что круг есть бес-
конечноугольник с бесконечно малыми сторонами). Точнее, те нор¬
мы строгости, та философия математики, которая была господст¬
143
вующей в тысячелетней культуре античной математики, не давала
права на подобное понимание4^.
Новое время преодолевает эти запреты. Актуально бесконечное
становится термином науки. Оперирование с ним требует введения
новых аксиом. Сами же эти аксиомы оправдываются отнюдь не на¬
глядностью — подчеркнем это еще раз — формулируемых поло¬
жений, а новым мировоззренческим контекстом, в который вписы¬
вается математика. «Порядок требует,— пишет Лейбниц,— чтобы
с кривыми линиями и поверхностями обращались так же, как если
бы они были составлены из прямых линий и плоскостей»50. Новых
аксиом требует новый порядок мироздания. А в последний входит
не только сфера сущего, но и сфера должного. Не случайно прин¬
цип законопостоянства участвует не только в объяснении префор¬
мизма и монадологии, но и в оправдании лейбницевских теологи¬
ческих построений. Тем самым и математика в своих основаниях
оказывается обусловлена сферой должного, сферой самоопределе¬
ния человеческой свободы5*. В этой сфере человек полагает свои
представления о целях, ценностях и идеале жизни вообще и позна¬
ния в частности. В этой удивительной и таинственной области че¬
ловеческого духа формулируются те архитектонические принципы,
которые определяют направления роста данной культуры, ее коор¬
динаты, ее «неподвижные звезды». Именно через причастность
этой сфере долженствование, выраженное в математических аксио¬
мах, приобретает помимо голого правдоподобия еще и своебразную
оправданность благодаря согласованности с универсальными зако¬
нами бытия. Наука, «культивируя» ту или иную систему аксиом,
делает ее постепенно общепринятой и «естественной». Однако
свобода чревата произволом. Интересно, что и в математике
XVII в. мы встречаемся с этим произволом, с этой неразумностью
свободы.
Конечно, математика того времени еще не желает понимать
себя как чисто формальную науку, произвольно избирающую свои
аксиомы. Напротив, как стремились мы показать, исчисление Лей¬
бница существенно (и сознательно) использовало общефилософские
архитектонические принципы. Однако поскольку предметом иссле¬
дования служит столь «темный» объект, как актуальная бесконеч¬
ность, то оценить степень адекватности новых аксиом своему пред¬
мету было в высшей степени сложно. В этих аксиомах как бы пе¬
ревешивало долженствование над бытием, метод над пониманием.
Это нередко приводило к двусмысленностям и апориям. В упомяну¬
той статье Боса можно найти прекрасные примеры, иллюстрирую¬
щие этот тезис. Прежде всего двусмысленным было само понятие
дифференциала dx. Дифференциал должен был удовлетворять, соб¬
ственно, только двум требованиям: быть бесконечно малой величи¬
ной по сравнению с величиной х и иметь ту же размерность, как и
сама величина х. Однако вместе с dx этому же условию удовлетво¬
ряют тогда и 2с/х, и 0,5 dx, и вообще rvdx (где п — положительное
число). Более того, этому же условию удовлетворяют и , и
а
144
У adx (где а — константа и имеет ту же размерность, что и х)у
причем первая величина бесконечно мала по сравнению с dx,
а вторая — бесконечно большая по сравнению с dx\ dx долж¬
но было быть, вообще говоря, наименьшим приращением не¬
прерывно возрастающей величины х. Но в том и состояла слож¬
ность, что такого наименьшего приращения не существует. Что
же должно было понимать под dxt Как отмечает Бос, эта несосто¬
ятельность не была замечена пионерами дифференциального ис¬
числения52.
Однако и в XVII в. существовали другие точки зрения на акту¬
ально бесконечное и им соответствовала другая метафизика. Б. Па¬
скаль по праву считается одним из основателей дифференциально¬
го исчисления. Именно гению Паскаля обязан был Лейбниц идеей
отбрасывания бесконечно малых более высоких порядков. Но Пас¬
каль отказался от перспектив, открывавшихся благодаря исчисле¬
нию бесконечно малых. Оно отнюдь не было для него источником
гносеологического оптимизма. Глубокий мировоззренческий кри¬
зис, пережитый Паскалем, сказывался и на понимании математики.
Две бесконечности — бесконечность бесконечно большого и
бесконечность бесконечно малого, между которыми расположен че¬
ловек и в материальном, и в интеллектуальном смысле повергают
Паскаля в глубокий религиозный трепет. «Кто рассмотрит себя та¬
ким образом,— пишет он в “Мыслях44,— тот испугается за самого
себя и, увидя себя опирающимся лишь на комочек плоти, данный
ему природой, и висящим между двумя безднами бесконечности и
ничто, будет потрясен видением этих чдуес, и я думаю, что,
сменив свое любопытство на восхищение, он будет более распо¬
ложен в молчании созерцать эти чудеса, чем самонадеянно ис¬
следовать их»53. Путь Паскаля — путь религиозного смирения:
актуальная бесконечность, опознаваемая человеком, являет
ему бесконечность божественной мощи и премудрости, непостижи¬
мую человеческим разумом. Познание на его высших уровнях не¬
доступно активистской установке на дерзкое разоблачение божест¬
венных тайн. Оно дается лишь как смиренно взыскуемый дар, как
откровение...
Эпистемологические установки Лейбница были прямо противо¬
положны. Вдохновляясь титаническими проектами Луллия, Бруно,
Декарта и других сторонников mathesis universalis, Лейбниц твердо
верил в то, что человек, сотворенный по «образу божию», способен
самостоятельно открыть все тайны мироздания, в том числе касаю¬
щиеся и бесконечности. Гарантией этого служило Лейбницу
то удивительное единство космоса материального и духовного, ко¬
торое проявлялось в подчинении их общим архитектоническим
принципам.
Итак, сформулируем еще раз. Решающим моментом научной
революции в математике XVII в. является введение новых аксиом.
Эти аксиомы принципиально сверхэмпиричны и не оправданы ни¬
каким прежним опытом. Новые аксиомы в математике выступают
аналогично тому, как выступают гипотезы в физике. Их оправда¬
145
ние, строго говоря,— только в объясняющей (или разрешающей)
эффективности построенных на этих аксиомах теорий. Но слож¬
ность состоит в том, что новые аксиомы вводят и новые нормы объ¬
яснения (в математике — легализация использования актуальной
бесконечности). Эффективность тогда уже не может быть достаточ¬
ным критерием истинности. Нужно ставить более широкий вопрос
0 допустимых нормах объяснения вообще. В этом смысле аксиомы
можно сравнить с бумажными деньгами. Как деньги важны не сами
по себе, а в качестве специфического фактора товарно-денежных
отношений, так и аксиомы ценны прежде всего с точки зрения их
познавательной эффективности. Однако этою недостаточно. Функ¬
ционирование бумажных купюр должно быть гарантировано зако¬
нами государства, обеспечивающими их обмен на товары. Анало¬
гично и для аксиом. Их применение должно быть оправдано не
только эффективностью новых теорий, но и с точки зрения особой
гносеологической юрисдикции, исходящей из сферы общефилософ¬
ских представлений. Каждая научная теория — и математическая
в том числе — подвластна юрисдикции определенного идеального
«государства» принципов и начал познания. Только эта подчинен¬
ность обеспечивает интеграцию научной теории ь культуру своего
времени. Научная революция с этой точки зрения выступает преж¬
де всего как революция в этом идеальном «государстве», как смена
принципов, ориентиров познания. История математики в XVII в.
подтверждает это общее представление.
1 См., напр.: Crow М. J. Ten “laws41 concerning conceptual change in mathematics //
Historia mathematica. N. Y., 1975. Vol. 1—2, N 2, 4.
2 См.: Катасонов В. H. Аналитическая геометрия Декарта и проблемы философии
техники // Вопр. философии. 1989. № 12.
3 Определение равенства отношений в пятой книге «Начал Евклида» звучит следу¬
ющим образом: «Говорят, что величины находятся в том же отношении: первая
ко второй и третья к четвертой, если равнократные первой и третьей одновремен¬
но больше, или одновременно равны, или одновременно меньше равнократных
второй и четвертой каждая каждой при какой бы то ни было кратности, если
взять их в соответственном порядке» (Евклид. Начала. Кн. I—VI М.; Л, ГИТТЛ,
1950. С. 142). Другими словами, a/b = c/d, если и только если выполняются ус¬
ловия: для любых натуральных тип из ma<nb следует me end; из та = nd
следует me = nd; из ma>nb следует mc>nd, т. е. для доказательства равенства
отношений нужно было доказать бесконечное множество утверждений. Известный
американский историк математики К. Бойер следующим образом комментирует
Евдоксово определение равенства отношений: «...строго говоря, определение не
слишком удалено от определений действительного числа в XIX в., так как оно
разделяет весь класс рациональных чисел m/n на две категории чисел, согласно
тому что ma<nb или ma>nb, так как существует бесконечно много рациональ¬
ных чисел, греки имплицитно столкнулись здесь с понятием, которого они жела¬
ли избежать,— понятием бесконечного множества, — но, по меньшей мере, те¬
перь было возможно давать удовлетворительные доказательства теорем, содержа¬
щих пропорции» (Boyer С. В. A History Mathematics. N. Y.; L. 1968. P. 99—100).
4 Dauben J. W. Conceptual revolutions and the history of mathematics. //
Transformation and tradition in the sciences / Ed. by E. Mendelsohn. L.; N. Y. 1984.
P. 88.
5 Избранные отрывки из математических сочинений Лейбница (сост. и пер.
А. II. Юшкевич), с. 166 // Успехи мат. наук. Т. III, вып. 1 (23). 1948. С. 166.
6 Ibid. С. 169.
7 Leibniz G. W. Mathematische Schriften. Halle, 1849—63. Bd. 5. S. 287.
8 Из более поздних работ нужно отметить книгу: Serres М. Le sisteme de Leibniz et
ses modeles mathematiques: 2 v. PUF. P. 1968. Однако пронизывающая книгу' фор¬
малистическая установка автора значительно снижает, по нашему мнению, ее
философское значение.
146
9 Boyer С. В. The Concepts of the Calculus. N. Y., 1939. P. 210.
1° Bos H. J. M. Differentials, Higher-Order Differential and the Derivative in the
Leibnizian Calculus // Archive for History of exact scniences / Ed. by C. Truesdell.
Vol. 14. N 1. B.; Heidelberg; N. Y., 1974.
u Ibid. P. 13. Исключительное положение статьи 1684 г. Бос считает случайным мо¬
ментом. Мы придерживаемся здесь иного мнения. Об этом будет сказано ниже.
12 я не затрагиваю здесь вопроса о так называемом нестандартном анализе.
13 Лейбниц Г. В. Новая система природы и общения между субстанциями, а также о
связи, существующей между душою и телом, с. 276—277 // Соч.: В. 4т. Т. 1. М.,
1982. С. 276-277.
14 Избранные отрывки из математических сочинений Лейбница. С. 192.
15 Вейль Г. О философии математики. М.; Л., 1934. С. 40. Крупнейший математик
нашего века Д. Гильберт называет обсуждаемый метод «гениальным методом иде¬
альных элементов» (см.: Гильберт Д. Основания геометрии. М.; Л., 1948.
С. 355).
16 Boyer С. В. Op. cit. Р. 209.
17 Выражение Р. Декарта, в связи с идеей mathesis universalis. См.: Декарт Р. Избр.
произв М., 1950. С. 89.
18 См. мою статью «“Аналитическая геометрия** Декарта и проблемы философии и
техники» (Вопр. философии. 1989. N? 12).
19 П. Бутру, чуткий историк математики, прекрасно выразил математический идеал
«формалистов»: «...математика перестает быть объективной наукой, и понятия,
которые она изучает, не имеют больше ценности сами по себе. Отныне должно
видеть в алгебре или в геометрическом доказательстве только удачный метод. Ма¬
тематические свойства ни истинны, ни ложны, ни красивы или интересны; они
лишь только соответствуют определениям и аксиомам, гипотезам, из которых они
получаются. Впрочем, эти гипотезы конвенциональны и, даже если они шокиру¬
ют здравый смысл, они не становятся от этого менее законны, чем если бы они не
влекли никаких логических противоречий. Что же до их уместности, то она оце¬
нивается по двум критериям: полезность и удобство для науки, которая на них
основывается. Модифицируя определения и аксиомы, мы могли бы построить бес¬
конечно много различных наук: совершенно естественно, что среди этих наук мы
выберем ту, которая наиболее соответствует привычкам нашего духа и нашим це¬
лям» (Boutroux Р. L'id6al scientifique des mathematiciens. P. 1955. P. 152).
20 Лейбниц Г В. Соч. М., 1984. Т. 3. С. 412—413.
21 В той же работе, из которой приведена последняя цитата, Лейбниц пишет: «Я ду¬
маю, что несколько специально подобранных людей смогли бы завершить дело
(построение всей системы естествознания! — В. К.) в пределах пяти лет; а уче¬
ния, более близкие к жизни, т. е. доктрину моральную и метафизическую, полу¬
ченную посредством неопровержимого исчисления, они смогли бы представить в
течение двух лет» (Лейбниц Г. В. Ор. с. И., с. 416). Лейбниц не только мечтал о
подобной «шигалевщине», но и предпринимал некоторые практические шаги для
ее реализации в области историософии и политологии. См.: Voise W.
Mathematique politique et 1'histoire raisonne de Leibniz dans son «Specimen
demonsrationum politicarum» // Leibniz: Aspects de I'homme et de Г oeuvre. P., 1968.
P. 61—68.
22 Cm.: Boyer С. B. Op. cit. P. 211.
23 Лейбниц Г. В. Соч. М., 1984. Т. 3. С. 127.
24 Там же. С. 136.
25 Там же. С. 130.
26 Там же. Т. 1. С. 203—204.
27 Там же. Т. 3. С. 389.
2« Там же. С. 383.
29 Цит. по: Westfall R. S. The construction of modern science. N. Y., 1971. P. 99.
30 Лейбниц Г. В. Соч. Т. 3. С. 383.
31 В действительности в биологии все оказалось гораздо сложнее. Однако интересно
отметить определенное соответствие лейбницевской догадки — несмотря на про¬
цесс развития живого существа, все остается, как «сейчас и здесь»,— и совре¬
менных научных представлений. Изучение процессов морфологической самоорга¬
низации биологических объектов приводит к выводам, что рост позвоночника, ко¬
стей у животных, плавников у рыо, антенн насекомых, раковин, плодов растений
и т. д. представляет собой некоторый итеративный процесс, в течение которого
«управляющая группа» преобразований остается постоянной. Само получающееся
образование, так называемая цикломерия, представляет собой некое члененное
многообразие, элементы которого переводятся один в другой преобразованиями
управляющей циклической группы. Другими словами, несмотря на сложность по¬
лучающегося в результате образования, рост его управляется некоторым достаточ¬
но простым законом, остающимся от рождения и до смерти живого существа по¬
147
стоянным (как “сейчас и здесь44). См.: Петухов С. В. Геометрия живой природы
и алгоритмы самоорганизации. М., 1986.
32 Лейбниц Г. В. Соч. т. 3. Р. 392.
33 Там же. Р. 393.
34 Лейбниц Г. В. Т. 1. С. 440.
35 Там же. С. 436.
36 в переписке с П. Бейлем Лейбниц объяснял: «Что же касается свободной воли, то
я придерживаюсь мнения томистов и других философов, которые полагают, что
все предопределено, и не вижу причин усомниться в этом. Однако это не препят¬
ствует нам обладать свободой, избавленной не только от принуждения, но и от
необходимости: в этом отношении с нами происходит то же, что с самим Богом,
который тоже всегда детерминирован в своих действиях, ибо не может избегать
обязанности выбирать лучшее. Но если бы он не имел выбора, если бы то, что он
совершает, было единственно возможным, то оказался бы подвластным необходи¬
мости. Чем выше совершенство, тем более оно детерминировано привязанностью
к добру и в то же время более свободно. Ибо в этом случае имеется возможность
и тем более обширного познания, и тем более укрепленной в границах совершен¬
ного разума воли» (Лейбниц Г. В. Соч. Т. 3. С. 364).
37 Лейбниц Г В. Соч. Т. 3. С. 392.
за Cassirer Е. Leibniz System in seinen wisseschaftlichen Grundlagen. Marburg, 1902.
S. 81.
39 Лейбниц Г. В. Соч. Т. 3. С. 135.
40 Г. Ф. де Лопиталь. Анализ бесконечно малых. М.; Л., 1935. С. 63—64.
41 Лейбниц Г. В. Избранные отрывки из математических сочинений. С. 170.
42 Там же. С. 169.
43 Под разностями понимаются бесконечно малые, на которые отличаются «последо¬
вательные» значения непрерывно возрастающей величины (см.: Bos Н. У. М.
Op. cit. Р. 13). То же означают и мгновенные приращения.
44 См., например: Лопиталь де Г. Ф. Анализ бесконечно малых. С. 78.
45 С этой точки зрения можно упрекнуть Боса в некотором искажении исторической
перспективы. Он пишет в своей работе: «В действительности в более поздних
статьях (с одним исключением, касающимся его ответа на критику Ньювентиита)
Лейбниц не использует определения (2), но прямо трактует дифференциалы как
бесконечно малые. Таким образом, выбор (2) в качестве определения в лейбни-
цевской статье 1684 г. был аномальным и скорее неудачным выбором... Он еще
больше препятствовал пониманию статьи, которая по другим причинам была и
так уж очень темной» (в тексте работы были опечатки, и именно в определении
дифференциала.— В. К.) (Bos Н. У. А/. Op. cit. Р. 64). Мы думаем иначе. Опре¬
деление Лейбница было совсем не случайным. Оно в высшей степени соответст¬
вовало главной его идее: и в геометрическом микромире сохраняются обычные
свойства конечной «макрогеометрии». «Там» все происходит так же, как
и «здесь». С этой точки зрения безразлично, говорить ли о бесконечно ма¬
лых дифференциалах алгоритма или конечных дифференциалах определе¬
ния (2): они «пропорциональны». В одних случаях удобно одно понимание,
в других — противоположное. Лейбниц, правда, не доказывает этой «пропорци¬
ональности» в рассматриваемой статье (мы знаем, по оставшимся черновым на¬
броскам, что он пытался сделать это). Однако, строго говоря, доказать этого и
нельзя было. Речь шла о введении новой аксиомы. Оправдание же ее, само осно¬
вание уподобления конечного и бесконечно малого, лежало уже вне математики.
Именно невнимание к философскому контексту всей истории не позволяет Босу
увидеть это.
46 Boyer С. В. Concepts of the Calculus... P. 218.
47 Лейбниц Г. В. Соч. Т. 3. С. 452.
48 Известный историк математики Г. Г. Цейтен писал: «...если греки отказались от
использования бесконечно малых, то не благодаря непониманию их, а вполне со¬
знательно, под влиянием чисто логических соображений» (Цейтен Г. Г. История
математики в древности и в средние века. М.; Л., 1932. С. 58).
49 Аналогичным образом (на примере Галилея) характеризует П. П. Гайденко про¬
цесс генезиса новой математики в XVII в.: «допущение предельного перехода
многоугольника с как угодно большим, но конечным числом сторон в фигуру дру¬
гого рода — круг — позволяет Галилею ввести в оборот понятие актуальной бес¬
конечности, вместе с которым в научное построение проникают парадоксы,— и
на этих-то парадоксах, которые прежде в математику пытались не впускать, как
раз и работает та новая ветвь математики, которая во время Галилея носит назва¬
ние “математики неделимых44, а впоследствии получает название исчисления бес¬
конечно малых» (Гайденко П. П. Эволюция понятия науки XVII—XVIII вв., М.,
1987. С. 76).
50 Лейбниц Г. В. Соч. Т. 3. С. 131.
148
51 «Математика не является окаменелой и приносящей с собой окаменение схемой,
как это часто думают профаны,— писал Г. Вейль,— нет, здесь мы находимся как
раз в том узловом пересечении необходимости и свободы, которое составляет
сущность самого человека» (Вейль Г. О философии математики. С. 26).
52 Bos Н. J. М. Op. cit. Р. 24—25.
53 Pascal В. Oeuvres completes. Р., 1963. Р. 526.
Д. В. НИКУЛИН
ПРОСТРАНСТВО ГЛАЗАМИ УЧЕНЫХ
И ТЕОЛОГОВ (XVII в.)
В статье рассматриваются учения XVII в. о пространстве.
Несмотря на то что представление о не зависящем ни от каких
внутримировых сущностей самостоятельном пространстве
можно отыскать и в античной, и в средневековой метафизике и
науке, понятие это тем не менее лишь в XVII столетии стало
значимой приметой новоевропейской науки. Наряду с концепцией
абсолютного пространства Ньютона анализируются учения о
пространстве двух других его кембриджских современников —
И. Барроу и Г. Мора, рассматриваются взаимное влияние, а
также теологические импликации указанных теорий.
Научная революция XVII в. по праву связывается с учением и
именем Ньютона. Под «учением» в таком случае обыкновенно ра¬
зумеется ньютонианская механика, теория тяготения и учение о
бесконечно малых. Однако в своей натурфилософии английский
мыслитель оперирует и некоторыми основополагающими понятия¬
ми, которые в том виде, в котором они были осмыслены и введены
Ньютоном в свою систему, действительно способствовали радикаль¬
ному изменению воззрений на природу. Если бы возможно было
предложить Ньютону проделать мысленный эксперимент (хотя из¬
вестно, что ученый весьма скептически относился к умозритель¬
ным, априорным испытаниям природы, предпочитая им действи¬
тельный, эмпирический опыт) — представить: в мире исчезли все
конечные сотворенные сущности, и вещи, и тела, исчез и сам
мир, — то на вопрос: «Что осталось бы тогда?» — английский мыс¬
литель скорее всего ответил бы: «Абсолютное пространство, время
и Бог».
Абсолютное пространство — одно из основных понятий и
структур не только ньютонианской теории, но и всей науки Нового
времени. С одной стороны, оно — воплощенная пустота, ибо в нем
ничего нет. С другой — пространство необходимо присутствует и
не может быть отмыслено, оно актуально бесконечно и, кроме то¬
го, строго расчислено и является неотъемлемым проявлением боже¬
ственного бытия и потому не может быть абсолютным ничто.
Между тем у Ньютона в учении о пространстве были предшест¬
венники: ближайшие — его современники, кембриджские платони¬
ки1, и более отдаленные — схоласты позднего средневековья. По¬
нятие пустоты как реального пространства перемещения появилось
149
в зрелой схоластике как результат превращения движения из целе¬
вого, заданного начальной и конечной точками пути тела, переме¬
щающегося в сплошной среде, в процесс, осуществляющийся в пус¬
тоте с единственным требованием — постепенности и непрерывно¬
сти самого перемещения. Подобное переосмысление понятий дви¬
жения и пространства можно обнаружить в трудах таких мыслите¬
лей, как Фома Аквинский и Альберт Саксонский2. Необходимо
вспомнить и Буридана, а также Брадвардина, говорившего, что мо¬
жет существовать пустота без тела, но не может существовать пус¬
тоты без Бога. Кроме того, связанное с представлением о безмерно¬
сти пространств понятие актуальной бесконечности, отвергавшееся
в античной философии и науке, было введено в оборот в связи с
представлением о божественном всемогуществе опять-таки в сред¬
ние века. Так, Дунс Скот полагал, что актуально бесконечное —
предмет, наиболее достойный размышления, а Роберт Гроссетест
считал актуальную бесконечность непостижимой для человеческого
ума, однако содержащийся в уме божественном3. Указанные пред¬
посылки составляют традиционный аспект учения об абсолютном
пространстве.
Революционый же, если можно так выразиться, аспект этого
учения связан с тем обстоятельством, что в некоторых своих уста¬
новках теория абсолютного пространства существенно и принципи¬
ально отличается от сходных средневековых концепций. Для схола¬
стической философии пустота не могла быть актуально бесконеч¬
ной, но лишь неопределенной, поскольку актуально бесконечен
лишь Бог, не могла также содержать в себе какой-либо определен¬
ности, поскольку в ней ничего нет. Абсолютное же пространство,
эта значимая примета новоевропейской «экспериментальной фило¬
софии», прежде всего актуально бесконечно, а вместе с ним беско¬
нечен мир. «Если в прежнем мировоззрении, — справедливо отме¬
чает Л. М. Лопатин, — одним из первых предположений, от кото¬
рого решались уклоняться лишь немногие смелые умы, являлась
ограниченность вселенной в пространстве и ее замкнутость в раз
навсегда утвержденных пределах, — то для нас, напротив, стоит
как некая непоколебимая аксиома бесконечность мира»4. Кроме
того, абсолютное пространство строго расчислено, содержит в себе
меру и, хотя само не измеримо, тем не менее служит гарантом и
условием точной измеримости вещей в мире и их отношений. В та¬
ком пространстве можно воспроизводить, строить и конструировать
любые процессы, в которых участвуют нс только тела, но равно и
геометрические фигуры, подчиняющиеся всем законам и правилам
евклидовой геометрии. Наконец, абсолютное пространство —
ближайшее проявление и наиболее адекватное выражение боже
ственного бытия, то, в чем возможно исследование, — различе¬
ние по следам — абсолютному времени и пространству — веч¬
ной и вневременной причины существования мира и его законо¬
мерностей.
Ввиду важности понятия пространства для нововременной мета¬
физики и науки мы намереваемся более подробно рассмотреть уче¬
150
ние Ньютона об абсолютном пространстве, а также воззрения на
пространство его предшественников и современников, кембридж¬
ских мыслителей И. Барроу и Г. Мора.
1. Анализ понятия пространства Исааком Барроу.
И. Барроу (1630—1677), выдающийся математик и богослов,
старший современник Ньютона, немало способствовал научному
становлению и продвижению последнего, а в 1669 г. передал ему
Лукасовскую кафедру математики в Тринити-колледж в Кембрид¬
же. Ньютон слушал университетский курс лекций Барроу, влияние
которого ощутимо в незавершенной ранней ньютоновской работе
«О тяготении и равновесии жидкостей», содержащей интересные
рассуждения о пространстве.
Наука, полагает Барроу, имеет предметом своего рассмотрения
величину, причем основание науки, поскольку она точна, есть ма¬
тематика, а математика — это геометрия по преимуществу, как
оперирующая непрерывными и бесконечно делимыми, пространст¬
венно выраженными величинами, тогда как алгебра — скорее
часть логики и имеет дело с дискретными мыслительными форма¬
ми. Число же есть «знак геометрической величины» и потому так¬
же сводимо к ней и непрерывно. Таким образом, оказывается, что
основным и всеобщим предметом научного рассмотрения является
непрерывная геометрическая величина. Однако сама величина и
фигура еще не есть нечто заданное: она созерцается как конструи¬
руемая, порождаемая движением точки, т. е. геометрическая фи¬
гура дается не в акте, а в процессе ее создания и становления. От¬
сюда необходимость и важность для Барроу анализа понятия про¬
странства как того, в чем такой процесс осуществляется.
Рассмотрению проблемы пространства Барроу посвящает деся¬
тую математическую лекцию профессорского курса, читанного на
Лукасовской кафедре математики^. Прежде всего, говорит англий¬
ский мыслитель, следует разобрать соотношение прстранства и ве¬
личины — совпадают ли они или же рознятся и в каком отноше¬
нии (ибо вопрос этот очень сложен, а что такое пространство —
трудно изъяснить) — и для этого нужно рассмотреть отдельно два
тезиса: (а) пространство совпадает с величиной, его заполняющей,
и потому реально не существует само по себе и (б) пространство не
совпадает с величиной и потому есть реальное нечто. Оказывается,
может быть доказана непротиворечивость обоих утверждений.
(а). Пространство есть величина и потому самостоятельного бы¬
тийного статуса не имеет6.
1. Если бы оно было нетварным, то, будучи вечным и бесконеч¬
ным, оно было бы и независимым от Бога, «что противоречит как
разуму, так и религии».
2. В идее пространства не содержится ничего иного, помимо
протяжения, но протяжение — отличительное свойство величины;
значит, пространство есть величина. Это аргумент Декарта, а так¬
же Аристотеля.
151
3. Допустим, пространство не является величиной, однако в та¬
ком случае пространство не заслуживает названия субстанции, но
не является и акциденцией, поскольку, хотя оно и присуще неотъ¬
емлемо всякой субстанции, от нее не зависит».
4. Аргумент Зенона, упоминаемый Аристотелем7: если место
есть нечто, оно должно в чем-то находиться и, стало быть, должно
существовать пространство пространства и т. д. до бесконечности,
что, очевидно, нелепо.
В защиту второго тезиса Барроу приводит не менее основатель¬
ные аргументы.
(б). Пространство не есть величина8:
В обыденном представлении пространство является чем-то ли¬
шенным границ, а также сопротивления проникновению тел, само
же неподвижно и от тел не зависит, служа мерой расстояния меж¬
ду ними. В таком виде пространство действительно есть, как гово¬
рит Аристотель9, неподвижный сосуд, заключающий в себе тело,
однако понимаемый, очевидно, в данном случае как бесконечное
вместилище, что совершенно невозможно для самого Аристотеля.
Но тогда представление о пространстве как о самостоятельно суще¬
ствующем и независимом может быть верным только в том случае,
если материя в мире ограничена — либо сама по себе, либо от Бо¬
га. Поэтому для того чтобы доказать свой второй тезис о том, что
пространство не является чем-либо реально существующим, снача¬
ла необходимо доказать дополнительное утверждение об ограни¬
ченности материи10.
Во-первых, приходится оспаривать положение Декарта о бес¬
предельной протяженности материи11: из того, что бесконечность
материи или мира может быть доступна воображению, еще отнюдь
не следует ее реальности, что фактически означает довод против
онтологического доказательства с той, однако, разницей, что в он¬
тологическом доказательстве существование выводится из рацио¬
нального понятия, в данном же случае — из представления вообра¬
жения. «...Прежде всего, никто не в состоянии постичь, чтобы ма¬
терия была актуально бесконечной, — говорит Барроу, — постичь
же ее как неопределенно протяженную — то же самое, что во¬
ображать ее не имеющей никаких пределов и границ Возмож¬
ность вещи быть представимой воображению доказывает лишь воз¬
можность ее существования, но не действительное существование.
Актуальная бесконечность мира не может быть доказана из вообра¬
жения, а только одно то, что он [мир] по потенции больше любой
конечной вещи»12.
Во-вторых, нельзя переносить аналогии человеческого разума
на Бога: христианский философ должен отметать все подобные ас¬
социации, ибо Бог способен увеличивать и уменьшать размеры
данного мира по своей воле, т. е. творить и уничтожать материю.
Творец может даже удалить из сферы мира все внешние акциден¬
ции и всю находящуюся в ней материю, «не нарушая природы сфе¬
ричности». «Вера требует и благочестие побуждает нас принять
это; разум же этому не противоречит, но скорее защищает и под¬
152
тверждает»13. Аргумент от божественного всемогущества — общее
место в схоластике и постоянно воспроизводится также мыслителя¬
ми Нового времени (например, Декартом). Однако внутренне этот
аргумент парадоксален. В самом деле, утверждение: «Бог не может
преуменьшить своего могущества» — означает, что он тем самым
не всесилен, поскольку не в состоянии преуменьшить свое могуще¬
ство; если же он всесилен и может могущество уменьшить, то тем
самым он оказывается не всемогущим.
Наконец, в третьих, актуальная бесконечность материи проти¬
воречит Писанию, поскольку, очевидно, ставит на один бытийный
уровень творца и сотворенное.
Таким образом, материя должна быть необходимо ограничена.
Тогда в защиту второго тезиса, того, что пространство не есть ве¬
личина и, стало быть, является реально сущим, свидетельствуют
следующие доводы14.
1. Если бы вне конечного мира не было бы пространства, от¬
личного от него, то Бог, бесконечный по сущности, был бы ограни¬
чен в мире. И «если бы Бог не существовал вне границ материи,
наше воображение могло бы измыслить такое место вне материи,
где Бога нет, и так некоторым образом превзойти (transcendere)
божественное существование, но тогда мы не могли бы постигать
или познавать Бога как бесконечного».
2. Кроме того, Бог может сотворить вне этого мира другие ми¬
ры, однако тогда уже должно быть пространство, где это могло бы
произойти.
3. Если допустить или предположить существование двух миров
сферической формы, то, даже если они касаются в одной точке,
между ними должно быть некое реально существующее промежу¬
точное пространство.
4. Наконец, если существует лишь одна мировая сфера, то при
вращении, а также и при другом ее движении одни ее части долж¬
ны оставлять пространство, которое затем оказывается занимаемо
другими ее частями — иначе не было бы вовсе никакого вращения.
Иначе говоря, мир необходимо должен пребывать в некотором мес¬
те или пространстве15.
Приведя равно основательные и веские аргументы как в защи¬
ту, так и в опровержение тезиса о реальном и самостоятельном су¬
ществовании пространства, Барроу говорит, что он не присоединя¬
ется ни к тому, ни к другому мнению в отношении столь сложного
и двусмысленного вопроса, но предлагает свой собственный способ
его разрешения, некий средний путь. Озабоченный тем, чтобы со¬
блюдать законы логики в своих рассуждениях и даже проповедях,
Барроу не может допустить, чтобы два противоположных суждения
были верны одновременно относительно одного и того же в одном и
том же отношении. По-видимому, английский мыслитель, хорошо
знакомый со школьной традицией, вводя таким несколько
непривычным способом свой взгляд на природу пространства, восп¬
роизводит схоластический строй обсуждения какого-либо вопроса,
установившийся в артикулах средневековых «сумм»: сначала при¬
153
водится сам вопрос (quaestio), затем аргументы «за» и аргументы
«против», затем решение (solutio) вопроса сначала в категориче¬
ской форме, за которым следует разъяснение решения и, наконец,
опровержение возражений против solutio.
Пространство, по Барроу, выражает переизбыток божественного
присутствия или мощи1®. Пространство не совпадает с величиной,
однако и не есть нечто, в действительности отличное от нее. Иначе
говоря, пространство реально, но не является неким актуально су¬
щим. Но что это значит? «Под пространством, — говорит Бар¬
роу,— разумеется не что иное, как чистая возможность, одна лишь
способность вмещать, вкладывать или... содержать в себе какую-
либо величину»17. Пространство как тако-ое есть лишь потенция,
возможность тела быть протяженным, иметь определенные очерта¬
ния и размеры и «существовать либо всецело одновременно, либо
последовательно через движение»18.
Такое определение пространства, полагает Барроу, позволяет
разрешить трудности и снять антиномию пространства, выражен¬
ную в приведенных выше двух тезисах19.
— Как возможность, пространство вечно и бесконечно, однако
тем самым оно не превращается в нечто самодовлеющее и никак не
ограничивает божественное совершенство и бесконечность.
— Пространство отлично от величины и не совпадает с ней,
как возможность не совпадает с действительностью или потен¬
ция — с актуальностью.
— Указанное понятие пространства не противоречит обыденно¬
му словоупотреблению: когда говорится, что нечто находится меж¬
ду телами, это означает, что нечто может быть туда помещено.
— Поскольку пространство есть потенциальность, то снимается
аргумент Зенона, ибо для существования возможности не требуется
другая возможность; кроме того, она — повсюду, поскольку Бог
не ограничен в возможности поместить куда-либо тело или вели¬
чину.
— Из неограниченности возможности не следует с необходимо¬
стью бесконечность материи.
— Никоим образом не ограничивается и не отменяется везде¬
сущность Бога, поскольку вездесущность (ubiquitas) означает, что
он может присутствовать везде, где только может существовать
что-либо.
— Понятие пространства согласуется с геометрией, поскольку
нет необходимости, чтобы между двумя точками или между грани¬
цами всегда реально существовал некий посредник (medium). Ина¬
че говоря, линия полностью определяется своими границами и ре¬
альное существование фигуры означает задание, через порождение
и конструирование, ее границ, а то, что существует между ними,
существует в возможности.
— Понятие пространства удовлетворяет .также и физическим
экспериментам и явлениям, предоставляя столько пустоты для по¬
мещения в ней тела, сколько требуется; но при этом пустота не яв-
154
ляется чем-то реально сущим, наделенным действительными изме¬
рениями, и не перемещается вместе с телами.
Таким образом, основная интуиция, из которой исходит Бар¬
роу, — божественная вездесущность и всемогущество. И все же его
определение понятия пространства страдает некоторой двусмыслен¬
ностью. Как замечает Дж. Т. Бейкер, пространство в определении
Барроу «одновременно и определенно и неопределенно»^0. Дейст¬
вительно, как пространство, заключенное в пределах данной фигу¬
ры, оно определенно, и неопределенно — как возможность сущест¬
вования той же фигуры. Кроме того, пространство — в возможно¬
сти по отношению к вешам, которые могут в нем находиться, оно
же реально в его связи и отношении к тому, что для Барроу явля¬
ется единственной и конечной реальностью — Богу, поскольку до
творения мира, утверждает кембриджский мыслитель, уже должно
было быть пространство.
Пространство в том виде, как оно введено Барроу, задает соот¬
ветствие и расчисленность мира математических объектов и мира
объектов физических, обретающих соответственно геометрическую
или физическую телесность актом божественного творения в беско¬
нечном (как возможность, заранее, до акта творения, не опреде¬
ленная) и не зависимом ни от вещи, ни от субъекта пространстве.
Однако геометрические фигуры могут быть порождаемы и челове¬
ческим воображением — разница, очевидно, состоит в том, что бо¬
жественное порождение непроцессуально, именно оно есть акт в
отличие от человеческого.
Итак, пространство для Барроу есть бесконечная в своей неоп¬
ределенности возможность творения конечных фигур и вещей, воз¬
можность обретения ими своего телоса. При этом пространство рав¬
но может быть пространством как геометрии, так и физики, «так
что то, чего разум требует, рука частично может сделать, и прак¬
тика в определенной мере способна соперничать с теорией»21.
Отсюда ясно, что наука умозрительная (геометрия) и экспери¬
ментальная (физика) сходятся, поскольку обе изначально основы¬
ваются на представлении о пространстве, что дает возможность
обретения точного знания о вещах неточных, находящихся в ста¬
новлении, — не случайно Барроу выступал против разделения ма¬
тематики и натурфилософии. Такое конечное совпадение (за счет
пространства) теории и практики, геометрии и физики, есть «по¬
длинное основание науки... устанавливающее значение разума с
одобрения опыта»22.
Из сказанного видно, что пространство в том виде, как оно
трактуется Барроу, имеет несколько странный характер: не суб¬
станция и не атрибут, оно есть возможность и основание любого
явления, как геометрического, так и физического, как бы возмож¬
ность, уже реально осуществленнная, поскольку существует до ми¬
ра и величины и предшествует их творению, оно есть нечто,
интимно близкое Богу, определяемое им и выражающее его беско¬
нечность.
155
2. Теологические импликации
в учении о протяжении Генри Мора
Одним из современников Барроу, оказавшим существенное вли¬
яние на общую духовную атмосферу Кембриджа и Англии XVII в.,
в том числе на Ньютона, был один из крупнейших представителей
кембриджского платонизма — Г. Мор (1614—1687)25. Особое зна¬
чение в его творчестве имела тема пространства. Одним из основ¬
ных положений метафизики Г. Мора был тезис: все сущее протя¬
женно. Оспаривая картезианское положение о тождестве материи и
протяженности24, Мор пишет в письме Декарту, что не только те¬
ла, но и «Бог является протяженным, также и ангелы и всякое са-
мосущее, поскольку протяжение заключено в тех же границах, что
и абсолютная сущность вещей. ...Утверждать, что Бог по-своему
протяжен, заставляет меня то, что он вездесущ и тесно (intime) за¬
полняет всю мировую машину в ее частях»25. В «Руководстве по
метафизике», своем основном философском трактате, Мор говорит:
«Под протяжением (extensio) я... понимаю не действительную его
величину (magnitudo), которая делима... но лишь некоторую про¬
тяженность (amplitudo), единую и простую, так что ей по сути не¬
возможно быть разделенной на части»26. Протяженность — это
знак бытия, некий способ данности сущего: вне ее всякая сущность
редуцируется к математической точке, являющейся не чем иным,
как чистым отрицанием и не-сущим. Не только материя, но и дух,
полагает Мор, пространственно находятся там, где действуют. Од¬
нако протяжение или пространство (Мор склонен их отождеств¬
лять) не тело и не дух, а также не субстанция и не атрибут, но не¬
кое representatio, представление божественной сущности2', причем
такое, что оказывается возможным перечислить двадцать предика¬
тов, «titulos» (единое, простое, неподвижное, вечное и т. д.), равно
сказывающихся как о Боге, так и о пространстве.
В вопросе, связанном с пространством, у Генри Мора отчетливы
каббалистические мотивы: десятая часть трудов Мора посвящена
каббалистике, однако в данном случае речь идет не о прямом за¬
имствовании, но скорее о критическом осмыслении и подтвержде¬
нии собственных воззрений ссылкой на древний авторитет, по¬
скольку многими учеными в XVII в. каббала воспринималась как
prisca theologia. В частности, Мор нередко в защиту своей теории
пространственной выраженности всякого сущего, стремясь подчерк¬
нуть ближайшую связь протяжения с Богом, ссылается на учение о
«makom»28, «месте», как одном из именований божества, учение,
возникшее в каббалистической литературе главным образом вокруг
толкования слов комментария Хосе Халафты к тексту Пятикни¬
жия: «Мы не знаем, является ли Бог местом этого мира или же его
мир не является его местом, но из стиха: “И сказал Господь: вот
место у меня4* [Исх. 33:21 ] следует, что Господь есть место своего
мира, но этот мир не есть его место»29. С учением о «божествен¬
ном месте» был знаком и Ньютон, на протяжении всей своей жиз¬
ни проявлявший большой интерес к теологическим вопросам, кото¬
156
рым посвящены многие страницы его рукописей из Портсмутской
коллекции, большей частью не опубликованные30. Самый термин
«шакот» в оригинальном его написании, используемый как мета¬
фора божественной вездесущности, не раз встречается в рукописях
английского мыслителя31.
3. Учение об абсолютном пространстве И. Ньютона
Основной интенцией натурфилософиии и механики Ньютона
являются, по-видимому, поиск и полагание некоторого небольшого
числа инвариантов, не зависящих от каких бы то ни было случай¬
ных изменений или отклонений, т. е. инвариантов абсолютных, пе¬
редающих совершенство божественного устроения и гармонии ми¬
ра, — таковы понятия силы, массы, пространства и времени32: тя¬
желая, но непротяженная точка, являющаяся полноправным пред¬
ставителем тела, для которого в новой механике существенно не
то, что оно протяженно, а то, что оно может двигаться, быть под¬
верженным действию силы и обладать массой, — точка эта дви¬
жется в пространстве и времени, не зависящих никак ни от мира,
ни от того, какого рода объект (геометрический шар или же его
физическое подобие) помещается в них, т. е. в пространстве и вре¬
мени абсолютных. Связь же силы с массой устанавливается через
тяготение и законы движения, а тяготение, так же как и простран¬
ство и время, связывается с проявлением сверхматериального, вне-
мирового начала мира.
Пространство не определяется Ньютоном — оно относится к то¬
му, что известно непосредственно: «...время, пространство, место и
движение составляют понятия общеизвестные»^3. Однако непосред¬
ственная данность и «общеизвестность» не означают легкопостижи-
мости, поскольку как раз непосредственно данное чаще всего и со¬
ставляет проблему для познания. Так, прежде всего, пространство
не укладывается (и здесь Ньютон вполне солидарен как с Барроу,
так и с Мором) в рамках традиционного разделения на субстанцию
и акциденцию, а имеет некий собственный способ существования34.
Пространство не субстанция, поскольку не абсолютно само по себе
(а лишь в отношении к высшему сущему) и есть «как бы эманаци-
онный эффект Бога» (tanquam Dei effectus emanativus), божествен¬
ное происхождение или некая присущность (affectio) всякого суще¬
го. Пространство и не акциденция, поскольку акциденция не суще¬
ствует вне субъекта; мы же легко можем представить пространство
вне мира или место, лишенное какого бы то ни было тела, т. е.
пространство без субъекта, в котором оно оказывалось бы в качест¬
ве атрибута. Не является оно и чистым ничто, ибо «нет идеи ни¬
что», тогда как пространство некоторым образом нам известно.
Но в таком случае что вообще можно сказать о нем? Простран¬
ство, считает Ньютон, адекватно представимо феноменально, через
описание его свойств, коих насчитывается шесть.
1. В пространстве можно выделять части, общие границы кото¬
рых обыкновенно называют плоскостями, и общие границы пло¬
157
скостей — линии, линий — точки. Иначе говоря, пространство
трехмерно35.
2. Пространство бесконечно. Конечное, предел понимается в
Новое время как отрицательность, и тогда бесконечное, будучи
«отрицанием отрицания» (negatio negationis)36, нечто в высшей
степени положительное и реальное. Высказываясь против декартов¬
ского разделения на бесконечность Бога и неопределенность мира,
отождествляемого с протяжением37 (хотя при этом Ньютон вполне
согласен с Декартом в том, что конечное должно пониматься из
бесконечного, а не наоборот), Ньютон утверждает реальную, пози¬
тивную бесконечность пространства, что, по его мнению, ничуть не
умаляет божественного совершенства и пантеистически не превра¬
щает пространство в самого Бога, поскольку само по себе актуаль¬
но бесконечное еще не есть совершенство, но таковым является
бесконечное проявление какого-либо совершенного качества (на¬
пример, бесконечный божественный интеллект, мощь, блаженство
и т. д.). «Быть ограниченным или изменяющимся во времени и
пространстве означает несовершенство, быть же всегда и везде тем
же самым есть высшее совершенство. Пространство, несмотря на
свою вечность и бесконечность, не будет ни Богом, ни мудрым,
всесильным и живым, по лишь простирающимся по длительности и
протяжению, тогда как Бог в силу вечности и бесконечности своего
пространства (т. е. в силу вечной своей вездесущности) окажется
совершеннейшим существом»38. Актуальная бесконечность про¬
странства наглядно не представима и не доступна воображению, но
тем не менее можно мыслить (intelligere) ее. В воображении мы
способны представлять все большее и большее пространство и меж¬
ду тем мы можем помыслить пространство больше любого, которое
мы в состоянии вообразить39. Тем самым потенциальная бесконеч¬
ность оказывается связанной с воображением, с разумом же — бес¬
конечность актуальная.
3. Части пространства неподвижны. Однако о самих частях,
упоминавшихся уже выше, можно говорить лишь условно: наличие
частей означает лишь возможность разграничения пространства,
помещения в него и различения в нем чего-либо, измерения его на
фоне абсолютного, хотя само пространство — не мера, а только за¬
лог или гарант числовой отнесенности меры к чувственным вещам
(и здесь Ньютон оказывается близок Барроу), причем части про¬
странства совершенно неотличны одна от другой40. «...Само про¬
странство, — пишет Ньютон, — не имеет частей, которые могли
бы быть отделены друг от друга или двигаться по отношению друг
к другу или же различаться между собой некими внутренне прису¬
щими им свойствами. Пространство не слагается из суммы своих
частей. ...В каждой своей точке оно подобно самому себе, однород¬
но и не имеет в действительности иных частей, помимо математи¬
ческих точек, которые, повсюду бесконечны по числу и не состав¬
ляют никакой величины. Оно есть сущее, наиболее простое и
совершенное в своем роде»41. Взаимная неподвижность частей про¬
странства, понимаемых в указанном смысле, подтверждается сле-
158
дующими двумя соображениями: если бы они двигались, то, во-
первых, происходило бы как бы постоянное перемещение, переме¬
щение одних частей в соседство других, но тогда в таком простран¬
стве ничто фиксированно не могло бы быть дано и, во-вторых, про¬
странство переходило бы само в себя, так что разные части совпа¬
дали бы и тело одновременно могло бы находиться в разных частях
пространства, либо разные тела — оказаться в одной части, что
нелепо. Неподвижность частей и неизменность их порядка лучше
всего представимы постоянством порядка длительности: так, если
мысленно поменять местами «вчера» и «сегодня», то «вчера» уже
не будет «вчера», а станет «сегодня», и наоборот; если так же по¬
менять местами «ту» часть пространства и «эту», то «та» станет
уже «этой», и обратно. Отсюда следует, что части длительности и
пространства должны быть понимаемы лишь из их взаимного по¬
рядка следования или расположения, а вне этого порядка они не
могут быть рассматриваемы в качестве самостоятельно сущих42.
4. Пространство является присущностью (affectio) сущего, по¬
скольку оно сущее. Никакое сущее не существует и не может су¬
ществовать, не относясь к пространству. Бог пребывает повсюду,
души — где-либо, а тела — в том месте как части пространства,
которое занимают43. На первый взгляд положение это со всей оче¬
видностью воспроизводит тезис Генри Мора о протяженности вся¬
кого сущего как телесного, так и духовного. Между тем Ньютон
имеет в виду несколько иное: всякая душа связана с телом, т. е.
индивидуальна, и как таковая может рассматриваться как отнесен¬
ная к пространственно выраженному, не будучи сама таковой, Бог
же — повсюду в силу своего всемогущества, как творец и управи¬
тель мира. Действительно, в более поздних своих работах, в част¬
ности в «Общем поучении» «Начал», Ньютон рассматривает только
тела в их отношении к абсолютному пространству, поскольку толь¬
ко тела понимаются им как сущее, выразимое в числе в своем дви¬
жении и существовании, т. е. только тела — предмет изучения ме¬
ханики как науки о движении.
Здесь важно отметить следующее: пространство как присущ¬
ность означает, что оно есть некое необходимое следствие, эффект
божественного существования и присутствия в мире, то (и в этом
Ньютон полностью повторяет ход, проделанный Барроу), в чем Бог
«всегда и везде может привести к действительности все, что явля¬
ется возможным»44; оно необходимо постольку, поскольку необхо¬
димо божественное присутствие в мире, более того, ясно свидетель¬
ствует в пользу такового.
5. Положения, расстояния и локальные движения тел должны
быть относимы к частям пространства45. Достаточно очевидное
следствие свойств 1 и J, это положение означает, что истинный от¬
счет может вестись лишь по отношению к чему-то абсолютно не¬
подвижному, тому, что может быть выбрано в качестве истинной
системы отсчета. Кроме того, очевидно, что сами части пространст¬
ва, чтобы неизменно пребывать неподвижными, должны быть со¬
вершенно динамически индифферентными по отношению к движу¬
159
щимся телам, т. е. никак с ними не взаимодействовать. Иначе го¬
воря, пространство как необходимая присущность знаменует суще¬
ствование мира, устроенного на мере и числе, являясь также и ус¬
ловием познания телесных сущностей.
6. Пространство вечно по длительности и неизменно по приро¬
де46. Но для Ньютона как христианина мир — творение божье и
всякое сущее сотворено — и душа, и тело. Однако вечность про¬
странства означает фактически его нетварность, т. е. его предшест¬
вование всей совокупности тварного, но нетварным является один
лишь Бог. Но тогда пространство оказывается чем-то вполне само¬
стоятельным и от творца никак не зависящим — и здесь мы подо¬
шли к одному из самых важных пунктов в понимании пространст¬
ва в традиции, окончательно выкристаллизовавшейся в учении
Ньютона об абсолютном пространстве. Никоим образом, утвержда¬
ет он, пространство не является самостоятельной сущностью.
Пространство — необходимая присущность, affectio, всех вещей,
без него они не могут существовать. Пространство есть непосредст¬
венный «эманационный эффект вечного и бесконечного сущест¬
ва»47, необходимое следствие его существования и именно поэтому
является «протяжением вечным, бесконечным, нетварным, повсюду
однородным, всецело неподвижным, не способным вызывать изме¬
нения в движении тел или изменения в мысли разума»48. В конеч¬
ном счете пространство выражает божественную вездесущность и,
не будь оно вечным, творцу пришлось бы сотворить собственную
вездесущность, что, очевидно, нелепо, поскольку все божественные
предикаты предвечны и неизменны и не зависят от конечных и
тварных вещей.
Таковы шесть свойств пространства, из которых, между про¬
чим, становится ясным, почему для Ньютона в отличие, скажем,
от Декарта оказывается возможным принять пустоту: хотя мы и
можем вообразить, что в пространстве ничего не помещено, тем не
менее мы не можем полагать, что пространство не существует, —
более того, совершенно пустого пространства нет вовсе, ибо в нем
всегда нечто есть, именно оно само, которое не есть ничто, но эф¬
фект, следствие проявления божественного присутствия49.
Вопрос о природе пространства не оставлял Ньютона всю
жизнь. Сопоставление ранней работы «О тяготении и равновесии
жидкостей» (1664—1668) и более зрелых — второго издания «На¬
чал» (1713) и второго издания «Оптики» (1717) показывает, что
основная интуиция, связанная с пространством, — то, что оно есть
что-то чрезвычайно близкое творцу и всецело от него зави¬
сящее, — осталась неизменной. Есть, однако, одно существенное
различие.
Пространство, по мнению Ньютона, никоим образом не отно¬
сится к сущности Бога и не есть сам Бог, который, несмотря на
свою вездесущность, всецело трансцендентен миру. Но в силу
своей вечности и бесконечности оно не является и какой бы то ни
было телесной оформленностью и потому чувственно никак не вос¬
принимаемо50. Отсюда проистекает фундаментальное разделение
160
пространства на абсолютное и относительное: «Абсолютное про¬
странство по самой своей сущности, безотносительно к чему бы то
ни было внешнему, остается всегда одинаковым и неподвижным.
Относительное есть его мера или какая-либо ограниченная подвиж¬
ная часть, которая определяется нашими чувствами по положению
его относительно некоторых тел и которая в обыденной жизни при¬
нимается за пространство неподвижное»51. Но тогда с чем может
быть сходно пространство? В тексте «О тяготении...» встречаем
следующее очень интересное рассуждение52. Мы отчетливо можем
представить, говорит Ньютон, что творец «закрыл» некоторые час¬
ти пространства, сделав их непроницаемыми для других тел, и
придал им определенные размеры и форму. Получившиеся образо¬
вания решительно ничем не будут отличаться по своим свойствам
от тел, за исключением того, что будут неподвижны, поскольку не¬
подвижны части пространства; однако если предположить дополни¬
тельно, что явленные непроницаемости, отражающие всякое внеш¬
нее проникновение (тела, света и т. д.), могут передвигаться, то
они вполне будут тождественны телам, ибо тело познается феноме¬
нально, из своих свойств и атрибутов. Тело оказывается, таким об¬
разом, неким «фантомом», внешней непроницаемой оболочкой, об¬
ликом; если же, как это делал Декарт, полагать тело тождествен¬
ным протяжению, то это, говорит Ньютон, ведет к атеизму, по¬
скольку в силу вечности протяжения таковым оказывается также и
тело, которое в таком случае не может быть сотворено и потому от
творца не зависит. Как видим, Ньютон дает алгоритм построения,
конструирования тела, для чего достаточно лишь протяжения и бо¬
жественной воли. При этом, очевидно, пространство оказывается
неожиданно близким материи: пространство не делимо на действи¬
тельные части и есть некая связность, — но и материя сама по се¬
бе также не делима, ибо в ней нет ничего, что могло бы быть поде¬
лено: материя лишь условие непрерывности и делимости — делимы
лишь конечные, уже оформленные тела, и, кроме того, пространст¬
во является возможностью — так же как и близкая не-сущему ма¬
терия. Ньютону приходится специально оговаривать, что простран¬
ство все же отлично от materia prima, близкой не-сущему первома-
терии53, поскольку она абсолютно точна и регулярна в себе и слу¬
жит залогом и условием измерения вещей.
Между тем в XVII в., как было сказано, из текучей, абсолютно
лишенной собственной сущности и определения, не могущей вы¬
ступать в качестве субъекта материя становится самостоятельной,
независимой субстанцией. Пространство же, как было сказано,
субстанцией не является. Очевидно, поэтому Ньютон, восприняв¬
ший общую тенденцию субстанциализации материи, в зрелые годы
резко разводит материю и пространство, так что мы встречаем уже
иную его трактовку. «...Не становится ли ясным из явлений, —
пишет он, — что есть бестелесное существо, живое, разумное, все¬
могущее, которое в бесконечном пространстве, как бы в своем чув¬
ствилище, видит все вещи вблизи, прозревает их насквозь и пони¬
мает их вполне, благодаря их непосредственной близости к не-
6 Заказ N9 434
161
му»54. Теперь уже английский мыслитель сближает пространство с
чувствилищем (sensorium), т. е. той частью души, в которую схо¬
дятся впечатления или образы внешних объектов. Подобная трак¬
товка пространства вызвала возражения современников, в частно¬
сти Лейбница, критиковавшего такой подход в своих письмах
Кларку55, что вынудило Ньютона изменить первоначальный латин¬
ский текст и в уже выпущенные и отпечатанные экземпляры «Оп¬
тики» вставить новую страницу, выправив прежний вариант: «про¬
странство есть чувствилище» на пространство есть как бы чувстви¬
лище»56, придав таким образом термину скорее метафорическое
значение, что позволяло снять обвинение в превращении Бога в
мировую душу. «...Пребывая всюду, он более способен своей волей
двигать тела внутри своего безграничного чувствилища и благодаря
этому образовывать и преобразовывать части вселенной, чем мы
посредством нашей воли можем двигать части наших собственных
тел. И, однако, мы не можем рассматривать мир как тело Бога,
или отдельные части его как части Бога. Он — единое существо,
лишенное органов, членов или частей, и части мира — его созда¬
ния, ему подчиненные и служащие его воле; он не является и ду¬
шою мира...»57 Бог, по мнению Ньютона, не мировая душа, а пове¬
литель и управитель мира: «Сей управляет всем не как душа мира,
а как властитель вселенной, и по господству своему должен имено¬
ваться Господь бог вседержитель (лагто/сратор)»58 — и, будучи
неизменным, но «вечен и бесконечен, всемогущ и всеведущ, т. е.
существует из вечности в вечность и пребывает из бесконечности в
бесконечность, всем управляет и все знает, что было и что может
быть. Он не есть вечность или бесконечность, но он вечен и беско¬
нечен, он не есть продолжительность или пространство, но продол¬
жает быть и всюду пребывает. Он продолжает быть всегда и при¬
сутствует всюду, всегда и везде существуя; он установил простран¬
ство и продолжительность»59. Бог, творец и управитель, не нахо¬
дится где-либо в мире, и однако ничто не лишено его присутствия,
а также действия провидения. Единый Бог (Ньютон придерживался
унитарианского взгляда на его природу) зрит вещи непосредствен¬
но, т. е. не отстоя от них, а это и означает вездесущность. Но в та¬
ком случае само пространство оказывается близким мировой душе,
исполняя роль как бы посредника-души между телесным миром и
божественным разумом, являясь тем, в чем замысел зримо вопло¬
щается в образ (к такому же заключению приводит и последова¬
тельный анализ учения Генри Мора о протяжении). При этом, бу¬
дучи выше чувственного мира, абсолютное пространство чувствен¬
но не постижимо, но, будучи ниже ума, не постижимо и рацио¬
нально, а познается неким особым способом — по аналогии. Бог
же по сущности не постижим вовсе, но лишь по проявлениям и со¬
вершенному строению вещей и конечным причинам: «Мы имеем
представление о его свойствах, но какого рода его сущность — со¬
вершенно не знаем»60.
Понятие об абсолютном пространстве, выработанное на основе
концепций И. Барроу и в первую очередь И. Ньютона, оказалось
162
чрезвычайно плодотворным в новой науке, но и, как выяснилось
позже, во многом ограниченным: будучи абсолютно однородным,
бесконечным и равномерным, оно знаменовало превращение упоря¬
доченного человеческого мира топосов в мир строго расчисленный,
но не жилой. Абсолютное пространство, как было показано англий¬
скими мыслителями, не субстанция и не атрибут, а также и не от¬
ношение, но выражение отношения Бога-творца к сотворенному им
миру. Пространство не энергия и не потенция. Два мыслителя под¬
черкивают разные стороны этого обстоятельства: Барроу выделяет
динамический аспект — для него пространство есть возможность,
но всегда уже реально осуществленная: Ньютон — энергетический
аспект: пространство является актуально наличной и неделимой
связностью, постоянно ускользающей в чистую потенциальность,
как возможность божественного видения вещи. Пространство —
необходимая, неотмысливаемая присущность (affectio) вещей и в
этом отношении есть проявление божественного всеприсутствия,
через которое само пространство и оказывается конституируемым;
при этом Бог не есть пространство. Пространство — нечто близкое
Богу, гораздо более близкое, чем сотворенный мир, но не имеет
собственной сущности. Оно есть некоторое смутно познаваемое на¬
ми представление (representatio) божественной сущности, «эмана-
ционный эффект», аналог божественного единства, то, в чем Бог
зрит вещи, как в своем чувствилище, некая не зависящая от вещей
способность их представления и организации. Поскольку же зрит,
постольку и созидает, ибо для божественного разума зримое есть
мыслимое и как таковое имеет статус реально сущего: акт божест¬
венного усмотрения означает выведение сущности из небытия, на¬
деления ее бытием, поскольку всему сотворенному бытие придано
творцом, который один лишь есть чистое бытие, и в этом смысле
абсолютное пространство не нечто реально наличное, но то, на фо¬
не чего мир выступает как существующий и познаваемый, то, в
чем вещи обретают свой телос, завершение и восполнение.
Однако возможность или условие чьего познания — божествен¬
ного или человеческого — являет пространство? Очевидно, и того,
и другого: первого — как творения вещи в акте ее видения, второ¬
го — как познания вещи в аспекте ее измеримости числом, по¬
скольку для XVII в. гарантом точности и ясности человеческого по¬
знания является божественный разум, по причастности к свету ко¬
торого мыслит человеческий; точность же вещи как внешнего объ¬
екта познания дается ее выраженностью на фоне абсолютного про¬
странства. Пространство как бы прилегает, обтекает тело со всех
сторон, вылепляет его, лишая всякой тени внутренней самодвижно-
сти и произвольности в поведении, ибо только так тело может быть
познаваемо человеческим разумом в качестве движущегося по за¬
кону, выражаемому точно и в числовой пропорции. Пространство
оказывается условием человеческого познания вещей постольку,
поскольку всецело выплотняет тело в его определенности и пред¬
ставляет его на суд и обозрение внепространственного разума.
Только так всецело внешне, извне представленная вещь может от¬
6*
163
ныне быть предметом научного рассмотрения. Так в новой науке
оказывается зафиксированной жесткая дихотомия: субъект / объ¬
ект, познающее — как внутреннее, самодеятельное и непространс¬
твенное (в этом смысле мнение Генри Мора не смогло вписаться в
рамки новой научной рациональности и потому осталось «ненауч¬
ным»), объект — познаваемое, внешне пространственно выражен¬
ное и лишенное какой бы то ни было самостоятельности, — дихо¬
томия, закрепляемая пониманием абсолютного пространства как
необходимого представления божественного всеприсутствия.
1 См.: Гайденко Я. Я. Эволюция понятия науки (XVII—XVIII вв.). М., 1987. С.
266.
2 См.: Гайденко П. Я, Смирнов Г. А. Западноевропейская наука в средние века.,
М., 1989. С. 266; Jammer М. Concepts of Space. Cambridge (Mass.), 1954. Основы
нововременной науки, ее главные интуиции, ходы и положения были подготовле¬
ны поздней схоластикой — это, начиная с Дюгема, более или менее устоявшая
точка зрения.
3 См.: Gilson Е. The History of Christian Philosophy in the Middle Ages. N. Y., 1955;
Штёкль А. История средневековой философии. M., 1912.
4 Лопатин Л. М. Декарт как основатель нового миросозерцания // Вопр. филосо¬
фии и психологии. 1986. Кн. 34. С. 615—616.
5 Barrow /. Lectiones Mathematical // The Mathematical Works of Isaac Barrow / Ed. by
W. Whewell. Cambridge, 1860. (Reprinted: Hildesheim — N. Y., 1973). P. 149—165;
см. также: Baker J. T. An Historical and Critical Examination of English Space and
Time Theories from Henry More to Bishop Berkley. Bronxville, 1930. P. 14—16.
6 Barrow /. Op. cit. P. 149—150.
7 Физика. IV, 3, 210 в. // Аристотель. Соч.: В 4 Т. Т. 3. М., 1981.
8 Barrow I. Op. cit. Р. 150—153; ср. также: Strong Е. W. Barrow and Newton // J.
Hist. Philos. 1970. № 2. P. 159—160.
9 Физика. IV, 4, 212 d.
10 Barrow /. Op. cit. P. 152—153.
и Начала философии, II, 21. // Декарт P. Избр. произведения. М., 1950. С. 476.
12 Barrow /. Op. cit. Р. 167—168.
13 Ibid. Р. 153.
14 Ibid. P. 154-155.
15 В отличие от конечного замкнутого мира, который не находится в пространстве: у
космоса нет места, поскольку для него нет внешнего объемлющего — космос со¬
держится сам в себе.
16 Barrow /. Op. cit. Р. 154.
17 Barrow 1. Op. cit. P. 158: «... spatium nihil est aliud quam pura puta potentia, mera
capacitas, ponibilitas, aut ... interponibilitas magnitudinis alicujus».
18 Ibid. P. 159.
19 Ibid. P. 159—161.
20 Baker J. T. Op. cit. P. 15.
21 Barrow /. Op. cit. P. 186.
22 ibid. P. 188.
23 О влиянии кембриджского платонизма, а также герметической традиции на Нью¬
тона см.: McGuire J. Е. Neoplatonism and Active Principles: Newton and the Corpus
Hermeticum // Hermeticism and the Scientific Revolution. Los Angeles, 1977. P. 96
sqq.; Ariotti P. E. Toward Absolute Time // Studi internazionali di filosofia. 1973.
№5. P. 143—144; Westfall R. S. The Role of Alchemy in Newton's Career //
Reason, Experiment and Mysticism in the Scientific Revolution. N. Y., 1975.
P. 234-235.
24 «Мышление и протяжение можно рассматривать как то, что составляет природу
мыслящей и телесной субстанций, и тогда они должны быть понимаемы не иначе
как сама мыслящая субстанция и субстанция протяженная, т. е. душа и тело»
(Начала философии, 1, 63 // Декарт Р. Избр произведения. С. 455). Ср. также:
Начала философии, 1, 53; II, 4; II, 5 (С. 449, 466, 469); Метафизические раз¬
мышления, III, VI (С. 361, 395, 403); Правила для руководства ума,
XIV (С. 150).
25 Descartes R. Correspondence avec Amauld et Morus. P., 1953. P. 96—99.
26 Enchiridion Metaphysicum VIII, 14 // More H. Philosophical Writings. N. Y., 1969.
27 ibid. VIII, 8.
28 «... Саму божественную сущность каббалисты называют makom или местом
(Locus)» (Ibid. VIII, 6).
164
29 Цит. по: Jammer М. Op. cit. Р. 28; см. также: Copenhaver В. R. Jewish Theologies
of Space in the Scientific Revolution // Annals of Science. 1980. N 37. P. 489—548.
30 Cm.: Strong E. W. Newton and God // Journal of the History of Ideas. 1952. № 16.
P. 147—167; Austin W. H. Newton on Science and Religion // J. Hist of Ideas. 1970.
N 31. P. 521—542.
31 См.: Коугё A., Cohen I. B. Newton and the Leibniz — Clarke correpondence //
Archives internationales de Г histoire des sciences. 1962. № 58—59. P. 96—101.
32 См.: Гайденко 77. П. Своеобразие научной программы Ньютона // Природа. 1987.
№ 8. С. 25.
33 Ньютон И. Математические начала натуральной философии // Крылов А. Н.
Собр. тр. Т. 7. М.; Л., 1936. С. 30.
34 Newton /. De gravitatione et aequipondio fluidorum // Unpublished scientific Papers of
Isaac Newton / Ed. by A. R. Hall, M. B. Hall. Cambridge, 1962. P.99—100.
35 Newton /. De gravitatione... P. 100.
36 ibid. P. 102.
37 Начала философии 1, 26 //Декарт P. Избр. произведения. М., 1950. С. 437.
38 Текст неопубликованных набросков Ньютона из Портсмутской коллекции, храня¬
щейся в библиотеке Кембриджа, впервые напечатан в: McGuire J. Е. Newton on
Place, Time, and God // The British Journal for the History of Science. 1978. № 11.
P. 116—119.
39 Newton /. De gravitatione... P. 101.
40 Ньютон И. Начала... С. 32.
41 McGujre J. E. Newton on Place, Time, and God. P. 116—117.
42 Newton 1. De gravitatione... P. 103.
43 Ibid.; cp. также: McGuire J. E. Newton on Place, Time, and God. P. 116—117.
Присущность (affectio) означает в данном случае не актуальное обладание сущего
неким свойством или качеством, но некую его неотъемлемую наделенность как
следствие проявления бытия другого сущего — так, как вещи присуща тень. Ина¬
че говоря, в ответ на вопрос, почему вообще существует не зависящее от мира
пространство, Ньютон отвечает: оно «есть» (и, более того, не может не «быть»)
потому, что есть Бог. Для того чтобы уловить некоторые обертоны термина
affectio, следует указать, что он использовался для характеристики страдатель¬
ных, от субъекта почти не зависящих состояний или diaOeoei£, например движе¬
ния и страдания, лссво£ души (Альберт Великий) или состояния и расположения
звезд (affectio astrorum у Цицерона, что буквально означает «созвездие»). См.:
Ausfiihrliches Lateinishe-Deutsch Handworterbuch. Bd. 1 Leipzig, 1879;
Mittellateinische Worterbuch. Bd. 1 Lieferung 3. Berlin, 1960. Поэтому affectio можно
перевести также и как «размещенность» или «помещенность», что к тому же на¬
мекает на пространственную отнесенность.
44 McGuire J. Е. Newton on Place, Time, and God. P. 122—123.
45 Newton /. De gravitatione... P. 104.
46 Ibid.
47 ibid.
48 ibid. P. 111.
49 ibid. P. 104.
50 McGuire J. E. Newton on Place, Time, and God. P. 116—117.
51 Ньютон И. Начала... С. 30.
52 Newton /. De grawitatione... P. 106—109.
53 ibid. P. 107.
54 Ньютон И. Оптика, или трактат об отражениях, преломлениях, изгибаниях и
цветах света. М.; Л., 1927. С. 287—288.
55 «Г-н Ньютон говорит, — пишет Лейбниц, — что пространство — это орган, кото¬
рым Бог пользуется, чтобы воспринимать вещи, бднако если он и нуждается в
каком-либо средстве, чтобы их воспринимать, то они не зависят полностью от не¬
го и никак не являются его творением». «Сер Исаак Ньютон, — отвечает пред¬
ставляющий взгляды Ньютона С. Кларк, — не говорит ни того, что пространство
является органом, которым Бог пользуется для восприятия вещей, ни того, что
Бог вообще нуждается в каком-либо средстве для этого. Он утверждает, напротив,
что Бог, как вездесущий, воспринимает все вещи, где бы они ни находились в
пространстве, своим непосредственным присутствием, без вмешательства или по¬
мощи какого-либо органа или средства» (Лейбниц Г. В. Соч.: В 4 т. Т. 1. М.,
1982. С. 430-431).
56 Коугё A., Cohen LB. The Case of Missing «Tanquam» // Isis, 52, 1961.
P. 555—556.
57 Ньютон И. Оптика... С. 313.
58 Ньюпюн И. Начала... С. 659.
59 Там же. С. 660. Установил, как это следует из рассуждений, не волитивным ак¬
том творения, а одним лишь фактом божественного своего бытия.
60 Там же. С. 661.
64 Заказ №434
165
Раздел III
СУДЬБЫ НАУЧНЫХ ТРАДИЦИЙ
П. П. ГАЙДЕНКО
К ИСТОРИИ ПРОБЛЕМЫ НЕПРЕРЫВНОСТИ:
ТРАНСФОРМАЦИИ И ТРАДИЦИИ
В статье рассматривается историческая судьба принципа
непрерывности, сформулированного Аристотелем. Несмотря на
то, что наука Нового времени определяла себя в сознательном
отталкивании от многих положений аристотелевской физики
(и метафизики), понимание непрерывности, данное Аристоте¬
лем, хотя и оспаривается в XVII в., но не отбрасывается окон¬
чательно. В значительной мере античные представления оказы¬
ваются действующими и у Декарта, и у Ньютона, и у Лейбница.
Я XVIII в. у Канта и в XX в интуиционистской математике
аристотелевское понимание континуума по-прежнему выступает
как одна из главных определяющих точек зрения. История прин¬
ципа непрерывности опровергает вульгарные представления о
научной революции как о тотальном разрушении старой науки
«до основания».
Понятие научной революции сегодня прочно вошло в наше со¬
знание, и плодотворность его при анализе истории науки очевидна.
Однако, как это нередко бывает, новые и весьма полезные идеи на¬
чинают иной раз применяться слишком смело и широко, выходя за
границы, внутри которых они справедливы. Так, например, по от¬
ношению к XVII в. понятие научной революции мыслится нередко
столь радикально, что предшествующий период развития научного
знания, а именно античная и средневековая наука, объявляется ли¬
бо вообще не-наукой, пред-наукой и т. д., либо «совсем другой на¬
укой», не имеющей ничего общего с математикой и естествознани¬
ем XVII—XVIII вв. В этой ситуации исследование судьбы антич¬
ных научных традиций позволяет внести корректив, установив бо¬
лее точный смысл понятия научной революции, т. е. ограничив
его, ибо оно сегодня имеет тенденцию утратить свою границу, т. е.
из научного понятия превратиться в идеологическое.
Хорошо известно, что в XVII в. пересматривается ряд принци¬
пов и понятий античной и средневековой науки. Во-первых, на ме¬
сто конечного космоса встает бесконечная вселенная и пространст¬
во из анизотропного становится изотропным. Во-вторых, меняется
понимание движения — основного понятия физики и натурфилосо¬
фии: закон аристотелианской физики «все движущееся движется
чем-нибудь» заменяется законом инерции, благодаря чему отменя¬
166
ется прежде незыблемое противопоставление движения и покоя как
качественно разных состояний. Закон инерции как раз предполага¬
ет бесконечность вселенной, благодаря которой круговое движение,
прежде считавшееся самым совершенным, «выпрямляется» и при¬
равнивается прямолинейному. В-третьих, не остаются неизменны¬
ми и основания математики; становление механики как основной
науки о природе имеет в качестве своей предпосылки создание ин¬
финитезимального исчисления, которое первоначально — у Гали¬
лея, Кавальери, Торичелли и др. — сопровождается пересмотром
важнейших положений античной математики, и прежде всего ме¬
тода исчерпывания, который на первый взгляд кажется сходным с
дифференциальным исчислением.
Мы упомянули только самые значительные изменения, про¬
исшедшие в XVI—XVII вв., но их вполне достаточно, чтобы
охарактеризовать этот период как научную революцию. Наи¬
большей критике в XVII в., как известно, подверглась перипатети¬
ческая программа, и не только физика и космология, но и метафи¬
зика Аристотеля, столь авторитетного в средние века, стала
главной мишенью нападок Галилея и Декарта, Фр. Бэкона и Гас¬
сенди. Аристотелевской научной программе прежде всего противо¬
поставлялась математическая — платоновско-пифагорейская или
атомистическая — демокритова, а нередко и «синтез Платона и
Демокрита», как охарактеризовал Галилееву механику А. Койре.
Уже сам факт такого противопоставления, кстати, свидетельствует
о том, что пересмотр античных научных традиций был отнюдь не
универсальным, хотя в Новое время существенно меняется не толь¬
ко структура античной математики, но и понятие атома не всегда
совпадает с демокритовским.
Мне, однако, хотелось бы показать, что и судьба некоторых
принципов аристотелевской программы была в Новое время не
столь однозначной, как первоначально может показаться. Прежде
всего это принцип непрерывности, как его сформулировал Аристо¬
тель в «Физике». Этот принцип фундаментален для Аристотеля; с
его помощью греческий философ решал проблемы не только физи¬
ки и математики, но и философии, в частности возникшие в связи
с апориями Зенона.
Принцип непрерывности в античной физике
и математике
Как известно, элеец Зенон пытался доказать, что ни множест¬
венность, ни движение невозможно мыслить без противоречия. В
основе апорий Зенона лежит допущение актуальной бесконечности,
которое, собственно, и приводит к противоречию всякий раз, когда
речь идет о множественности и движении. Кратко содержание Зе-
ноновых парадоксов передает Аристотель в «Физике»: «Есть четы¬
ре рассуждения Зенона о движении, доставляющие большие за¬
труднения тем, которые хотят их разрешить. Первое, о несущест¬
вовании движения на том основании, что перемещающееся тело
6
167
должно прежде дойти до середины, чем до конца... Второе, так на¬
зываемый Ахиллес. Оно заключается в том, что существо, более
медленное в беге, никогда не будет настигнуто самым быстрым,
ибо преследующему необходимо раньше прийти в место, откуда
уже двинулось убегающее, так что более медленное всегда имеет
некоторое преимущество... Третье... заключается в том, что летя¬
щая стрела стоит неподвижно; оно вытекает из предположения, что
время слагается из отдельных «теперь» ... Четвертое рассуждение
относится к двум разным массам, движущимся с равной скоростью,
одни — с конца ристалища, другие — от середины, в результате
чего, по его мнению, получается, что половина времени равна ее
двойному количеству»1.
Апории «Дихотомия» и «Ахиллес» предполагают допущение
бесконечной делимости пространства, которое в силу этого не мо¬
жет быть пройдено до конца, тогда как «Стрела» и «Стадий» по¬
строены на том, что время и пространство состоят из бесконечного
множества неделимых «моментов» времени и «точек» пространст¬
ва.
Чтобы построить науку о движении — физику, Аристотель дол¬
жен прежде всего доказать возможность мыслить движение без
противоречия. Он делает это, вводя принцип непрерывности, игра¬
ющий фундаментальную роль в его научной программе. Непрерыв¬
ность, по Аристотелю, есть определенный тип связи элементов сис¬
темы, отличающихся от других форм связи — последовательности
и смежности. Следование по порядку — условие смежности, а
смежность — условие непрерывности. Важно уяснить различие
между смежным и непрерывным: если предметы соприкасаются, но
при этом сохраняют каждый свои края, так что соприкасающиеся
границы не сливаются в одну общую, то мы имеем дело со смежно¬
стью; если же граница двух предметов (отрезков линии, «частей
времени» и т. д.) оказывается общей, то тут речь идет о непрерыв¬
ности. «Я говорю о непрерывном, — пишет Аристотель, — когда
граница, по которой соприкасаются оба следующих друг за другом
предмета, становится для обоих одной и той же и, как показывает
название, не прерывается...»2
Непрерывными, по Аристотелю, могут быть не только части
пространства и времени, но и движения; более того, подлинно не¬
прерывным он считает то, что непрерывно по движению3. Чтобы
движение было непрерывным, должны быть выполнены три усло¬
вия: единство (тождественность) вида движения, единство движу¬
щегося предмета и единство времени.
Непрерывное, по Аристотелю, — это то, что делится на части,
всегда делимые. А это значит, что непрерывное не может быть со¬
ставлено из неделимых. Таким образом, Аристотель снимает те
трудности, которые возникают в физике при допущении, что про¬
странство и время состоят из неделимых, и получает возможность
мыслить движение как непрерывный процесс, а не как сумму «про-
двинутостей». Непрерывность составляет условие возможности дви¬
жения и его мыслимости. Остаются однако две первые апории —
168
«Дихотомия» и «Ахиллес», основанные на бесконечной делимости
пространства и времени. Здесь для разрешения противоречия Ари¬
стотель действует иначе. Если любой отрезок пути в силу его не¬
прерывности делим до бесконечности, то движение окажется не¬
возможным только при забвении того, что и время, в течение кото¬
рого тело проходит этот путь, тоже непрерывно, т. е. делимо до
бесконечности. А если учесть, что непрерывности пути соответст¬
вует непрерывность времени, то парадокс снимается. «Поэтому
ошибочно рассуждение Зенона, что невозможно пройти бесконеч¬
ное, т. е. коснуться бесконечного множества отдельных частей в ог¬
раниченное время. Ведь длина и время, как и вообще все непре¬
рывное, называются бесконечными в двояком смысле: или в отно¬
шении деления, или в отношении границ. И вот бесконечного в ко¬
личественном отношении нельзя коснуться в ограниченное время,
бесконечного согласно делению — возможно, так как само время в
этом смысле бесконечно. Следовательно, приходится проходить
бесконечность в бесконечное, а не в ограниченное время и касаться
бесконечного множества частей бесконечным, а не ограниченным
множеством»4.
Аристотелево определение непрерывности по существу совпада¬
ет с аксиомой Евдокса, получившей название также аксиомы Ар¬
химеда и сформулированной Евклидом в четвертом определении
V книги «Начал»: «Говорят, что величины имеют отношение меж¬
ду собой, если они, взятые кратно, могут превзойти друг друга»5.
Вот как Аристотель формулирует евдоксов принцип отношений,
показывая, что его альтернативой будет парадокс «Дихотомия»:
«Если, взявши от конечной величины определенную часть, снова
взять ее в той же пропорции, т. е. не ту же самую величину, кото¬
рая взята от целого, то конечную величину нельзя пройти до кон¬
ца; если же настолько увеличивать пропорцию, чтобы брать всегда
одну и ту же величину, то пройти можно, так как конечную вели¬
чину всегда можно исчерпать любой определенной величиной»6.
Вероятно, теория отношений Евдокса была попыткой решить воп¬
рос о возможности установления отношения также и несоизмери¬
мых величин. Пока не была открыта несоизмеримость, отношения
могли выражаться целыми числами, и для определения отношения
двух величин нужно было меньшую взять столько раз, сколько не¬
обходимо для того, чтобы она сравнялась с большей. Но отношения
несоизмеримых величин невозможно выразить в виде пропорции,
члены которой будут целыми числами. Чтобы все же иметь воз¬
можность устанавливать отношения несоизмеримых величин, Ев¬
докс предложил такой выход: если для двух величин а и Ь> где а >
Ьу можно подобрать такое число л, чтобы меньшая величина, взя¬
тая л раз, превзошла большую, т. е. чтобы было справедливо нера¬
венство nb > ciy то величины а и Ъ находятся между собой в неко¬
тором отношении. В противном же случае они не находятся ни в
каком отношении, что действительно имеет место там, где прихо¬
дится иметь дело с бесконечно малыми величинами, которые были
известны грекам в виде, например, роговидных углов: последние не
169
имеют отношения с прямолинейными углами, ибо роговидный угол
всегда меньше любого прямолинейного угла. Как пишет И. Г. Баш-
макова, «роговидные углы по отношению к любому прямолинейно¬
му являются актуальными бесконечно малыми, или неархимедовы¬
ми величинами»'. Именно эти величины, согласно Евдоксу, Архи¬
меду и Аристотелю, не находятся ни в каком отношении с конечными.
Аристотель, как известно, не принимает понятия актуальной
бесконечности, и здесь его позиция совпадает с принципами антич¬
ной математики. Аристотель пользуется только понятием потенци¬
ально-бесконечного, т. е. бесконечно делимого, которое, «будучи
проходимым по природе, не имеет конца прохождения, или преде¬
ла» (Физика III, 6, 206 в).
Сказать, что бесконечное существует только как потенциальное,
а не как актуальное — значит сказать, что оно i тановится, возни¬
кает, а не есть нечто законченное, завершенное, не есть бытие.
Пример потенциально бесконечного — это беспредельно возраста¬
ющий числовой ряд, ряд натуральных чисел, который, сколько бы
мы его ни увеличивали, остается конечной величиной. Потенциаль¬
но бесконечное всегда имеет дело с конечностью и есть беспредель¬
ное движение по конечному. Принцип непрерывности, как его за¬
дал Аристотель, базируется на понятии потенциально бесконечного.
Бесконечное, таким образом, есть, по Аристотелю, возможное,
а не действительное, материя, а не форма: не случайно же мате¬
рию Аристотель понимает как возможность. Не допуская актуаль¬
ной бесконечности, Аристотель определяет бесконечное как то, вне
чего еще всегда что-то есть. А может ли существовать нечто такое,
вне чего больше ничего нет? И если да, то как его назвать? «Там,
где вне ничего нет, — говорит Аристотель, — это законченное и
целое: это то, у которого ничто не отсутствует, например, целое
представляет собой человек или ящик... Целое и законченное или
совершенно одно и то же, или сродственны по природе: закончен¬
ным не может быть ничто, не имеющее конца, конец же грани¬
ца»8. Бесконечное — это материя, т. е. в ее аристотелевском пони¬
мании нечто вполне неопределенное, не имеющее в себе своей свя¬
зи и лишенное всякой структуры. Целое же — это материя оформ¬
ленная, и «конец», «граница», структурирующая его и делающая
чем-то актуально сущим, действительным, — это форма. Именно
потому, что началом актуально сущего является форма, а форма
есть предел, начало цели (она же — «конец», граница), он отвер¬
гает возможность актуально бесконечного: такое понятие является,
по Аристотелю, как, впрочем, и по Платону, самопротиворечивым.
Пересмотр аристотелевского принципа непрерывности
и понятие бесконечно малого у Галилея и Кавальери
Несмотря на напряженные споры вокруг понятий бесконечного
и непрерывного, средневековая физика и математика признавали
как теорию отношений Евдокса, так и Аристотелево понятие не¬
прерывного. Философско-теоретическому пересмотру эти античные
170
принципы были подвергнуты в эпоху Возрождения Николаем Ку-
занским и Джордано Бруно. В рамках же собственно физики и ма¬
тематики они были поставлены под сомнение и, в сущности, отвер¬
гнуты Галилеем и его учеником Кавальери, стоявшими у истоков
инфинитезимальною исчисления*.
Проблема непрерывности обсуждается Галилеем в разных кон¬
текстах. Так, например, рассматривая вопрос о причинах сопротив¬
ления тел разрыву или деформации и считая причиной мельчай¬
шие «пустоты» или «поры» в телах, Галилей сталкивается с таким
аргументом: как объяснить большую силу сопротивления некото¬
рых материалов, если при ничтожном размере «пустот» и сопро¬
тивление их должно быть ничтожным? Отвечая на этот вопрос, Га¬
лилей пишет: «Хотя эти пустоты имеют ничтожную величину и,
следовательно, сопротивление каждой из них легко превозмогаемо,
но неисчислимость их количества неисчислимо увеличивает сопро¬
тивляемость»9. Понятие ничтожно-малых пустот характерно: ни¬
чтожно-малое, в сущности, не есть конечная величина, ибо в этом
случае число пустот в любом теле было бы исчислимым. Что Гали¬
лей хорошо понимает заключающуюся здесь проблему и трудность,
свидетельствует следующая беседа Сагредо и Сальвиати. «Если со¬
противление не бесконечно велико,— говорит Сагредо,— то оно
может быть преодолено множеством весьма малых сил, так что
большое количество муравьев могло бы вытащить на землю судно,
нагруженное зерном. . Конечно, для того чтобы это было возмож¬
но, необходимо, чтобы и число их было велико: мне кажется, что
так именно обстоит дело и с пустотами, держащими связанными
частицы металла.
Сальвиати. Но если бы понадобилось, чтобы число их было
бесконечным, то сочли бы вы это невозможным?
Сагредо. Нет, не счел бы, если бы масса металла была беско¬
нечной, в противном случае...»10.
Мысль Сагредо ясна: в противном случае мы окажемся перед
парадоксом Зенона: как бы малы ни были составляющие элементы,
но если они имеют конечную величину, то бесконечное их число в
сумме даст величину бесконечную — неважно, идет ли речь о мас¬
се металла, длине линии или величине скорости. На этом принци¬
пе стояли как античная математика, так и античная физика. Но
именно этот принцип и хочет оспорить Галилей. Вот ответ Сальви¬
ати на соображения Сагредо: «В противном случае — что же? Раз
мы уже дошли до парадоксов, то попробуем, нельзя ли каким-либо
образом доказать, что в некоторой конечной непрерывной величине
может существовать бесконечное множество пустот»11. Доказатель¬
ство Галилея состоит в допущении тождества круга и многоуголь¬
ника с бесконечным числом сторон, т. е. образований, с точки зре¬
ния античной математики не могущих иметь между собой никакого
* Еще до Кавальери метод исчисления неделимых применил Кеплер в своей «Сте¬
реометрии винных бочек». Однако, подобно античным математикам, он рассмат¬
ривал этот метод лишь как технику вычисления, а не как строго научный, т. е.
математический, метод.
171
отношения. Именно предельный переход от многоугольника к кру¬
гу путем допущения многоугольника с актуально бесконечным чис¬
лом сторон составляет основание вводимого Галилеем метода инфи¬
нитезимального исчисления. Использование актуально бесконечно¬
го в математике, по мнению Галилея, расширяет возможности по¬
следней. Именно Галилей пользуется понятием неделимого, на ос¬
нове которого строит затем геометрию неделимых его ученик Ка-
вальери*.
Эти неделимые Галилей именует «неконечными частями ли¬
нии», «неделимыми пустотами», «атомами». Природа их парадок¬
сальна, противоречива: они не являются ни конечными величина¬
ми, ни «нулями». Из них-то, по Галилею, и состоит непрерывная
величина.
Характерно, что в XVIII в., когда бурно обсуждалась природа
этой самой «бесконечно малой», Вольтер со свойственным ему ост¬
роумием определил математический анализ как «искусство счи¬
тать и точно измерять то, существование чего непостижимо для
разума»13.
Галилей, вводя понятие «бесконечного числа бесконечно ма¬
лых», принимает, таким образом, в качестве предпосылки актуаль¬
ную бесконечность, которой избегала античная математика, как и
античная физика.
Вслед за Галилеем Кавальери, принимая те же предпосылки,
предложил метод составления непрерывного из неделимых. При
этом характерно название работы Кавальери: «Геометрия, изло¬
женная новым способом при помощи неделимых непрерывного»
(первое ее издание вышло в 1635 г.). Название полемично по отно¬
шению к принципу отношения Евдокса—Архимеда, как и к прин¬
ципу непрерывности Аристотеля, который в XIII в. кратко сформу¬
лировал Фома Аквинский: «Ничто непрерывное не может состоять
из неделимых»14. Плоская фигура мыслится Кавальери как сово¬
купность всех ее линий, а тело — как сумма всех его плоскостей15.
Интересно разъяснение, которое дает Кавальери новому мето¬
ду, прямо указывая на то, что ему не ясна природа «неделимого»,
с помощью которого он «составляет» геометрические объекты, а
потому не ясна и сущность самого «составления»: «Я пользовался
тем же приемом, каким пользуются алгебраисты для решения
предлагаемых им задач: хотя бы корни чисел были неопределимы,
непостижимы и неизвестны, они их тем не менее складывают вме¬
сте, вычитают, умножают и делят, и, если только они окажутся в
* С помощью понятия неделимых Галилей пытается решить задачу «колеса Аристо¬
теля»: при совместном качении двух концентрических кругов больший проходит
то же расстояние, что и меньший. Как это возможно? «Разделяя линию на неко¬
торые конечные и потому поддающиеся счету части, нельзя получить путем сое¬
динения этих частей линии, превышающей по длине первоначальную, не встав¬
ляя пустых пространств между ее частями; но, представляя себе линию, разделен¬
ную на неконечные части, т. е. на бесконечно многие ее неделимые, мы можем
мыслить ее колоссально растянутой без вставки конечных пустых пространств, а
путем вставки бесконечно многих неделимых пустот»12.
172
состоянии получить в результате этих манипуляций нужное им ре¬
шение предложенной задачи, они считают, что достигли цели. Как
раз так же я оперирую с совокупностью линий и плоскостей: пусть
они, поскольку речь идет об их числе, неопределимы и неизвестны;
поскольку речь идет об их величине, они ограничены всякому вид¬
ными пределами»16. Кавальери сознает, что понятие актуальной
бесконечности, с которым оперирует геометрия неделимых, порож¬
дает «сомнения, связанные с опасностью плавания у скал этой бес¬
конечности»17. Это сознание, как и та критика, которой подверг¬
лось понятие континуума как «совокупности неделимых» со сторо¬
ны современников Кавальери, заставило его в седьмой книге «Гео¬
метрии» уточнить его метод. Если первоначально Кавальери срав¬
нивал между собой совокупность всех линий одной плоской фигуры
с совокупностью всех линий другой (аналогично и плоскостей, из
которых составлены тела), то в седьмой книге он сравнивал любую
линию одной фигуры с соответствующей линией другой. Таким пу¬
тем он избегал необходимости оперировать понятиями «все ли¬
нии» и «все плоскости». Поясняя свое ограничение, Кавальери пи¬
сал: «Мы намеревались доказать лишь то, что отношение между
континуумами соответствует отношению между неделимыми, и на¬
оборот»18.
Самое удивительное, однако, в том, что одним из критиков Ка¬
вальери оказался также и Галилей, сам, как мы знаем, предлагав¬
ший составлять непрерывное из бесконечно большого числа неде¬
лимых! Из переписки Кавальери известно, что Галилей не хотел
признать правомерности понятий «все плоскости данного тела» и
«все линии данной плоскости». Это кажется неожиданным, если
мы вспомним, что Галилей допускал «строение континуума из аб¬
солютно неделимых атомов»19, хотя и не мог разъяснить природу
этих неделимых. Как мы уже выше могли видеть, Галилей рассуж¬
дал о неделимых не только с точки зрения математической, но и
как физик. Размышляя о природе континуума в работе «Разные
мысли», Галилей утверждает: «Бесконечность должна быть вовсе
исключена из математических рассуждений, так как при переходе
к бесконечности количественное изменение переходит в качествен¬
ное, подобно тому, как если мы будем самой тонкой пилой раз¬
мельчать тело, то, как бы мелки ни были опилки, каждая частица
имеет известную величину, но при бесконечном размельчении по¬
лучится уже не порошок, а жидкость, нечто качественно новое,
причем отдельные частицы вовсе исчезнут»20.
Почему же Галилей критикует Кавальери за метод, каким
пользовался сам? Вот что думает по этому поводу С. Я. Лурье, пе¬
реводчик «Геометрии» Кавальери и автор предисловия к переводу:
«Галилей вообще не выставил никакой связной математической те¬
ории неделимых: стоя на атомистической точке зрения (непрерыв¬
ное состоит из неделимых, линия состоит из точек), он в то же
время видел логические несообразности, к которым приводила эта
теория; компромисс Кавальери его не удовлетворял, он не хотел
понять Кавальери, чувствовал, что математический атомизм необ¬
173
ходим для дальнейшего прогресса математики, но не знал, как сде¬
лать его теоретически приемлемым»21.Вероятно, С. Я. Лурье здесь
недалек от истины, хотя его утверждение о том, что Галилей в сво¬
ем учении о неделимых следует Демокриту, вряд ли можно при¬
нять без оговорок. Галилей пытается найти объединение физиче¬
ского атомизма Демокрита с математическим атомизмом, которого
у Демокрита не было, а потому опирается скорее на Архимеда*. Но
позиция его в этом вопросе с психологической точки зрения очень
показательна; то, что он позволяет себе, хотя и не без некоторых
оговорок, он решительно не одобряет у другого: тут с особой ясно¬
стью ему видны логические противоречия, связанные с понятием
актуальной бесконечности, в частности с бесконечно малым. Как
бы то ни было, очевидно одно: Галилею не удалось удовлетвори¬
тельно разрешить проблему континуума на пути, отличном от евк¬
лидовско-аристотелевского, и он, критикуя Кавальери, вынужден
признать, что вместе с наделимым в математику входят неразре¬
шимые парадоксы.
Попытки преодолеть парадокс бесконечного:
Декарт, Ньютон, Лейбниц
Нс удивительно, что Декарт, признавая принцип непрерывно¬
сти не только в математике, но и в физике, возвращается в этом
пункте к Аристотелю. «Невозможно,— пишет Декарт,— существо¬
вание каких-либо атомов, т. е. частей материи, неделимых по
своей природе, как это вообразили некоторые философы»22. Соот¬
ветственно Декарт не допускает в научный обиход и понятие акту¬
ально бесконечного. Актуально бесконечен, по Декарту, лишь бог,
но именно потому он и непознаваем. Ведь познание, говорит Де¬
карт, следуя здесь античной традиции, есть полагание предела,
границы. «Мы никогда не станем вступать в споры о бесконечном,
тем более что нелепо было бы нам, существам конечным, пытаться
определить что-либо относительно бесконечного и полагать ему
границы, стараясь постичь его. Вот почему мы не сочли нужным
отвечать тому, кто спрашивает, бесконечна ли половина беконеч-
ной линии, или бесконечное число четное или нечетное и т. д. О
подобных затруднениях, по-видимому, не следует размышлять ни¬
кому, кроме тех, кто считает свой ум бесконечным. Мы же относи¬
тельно того, чему в известном смысле не видим пределов, границ,
не станем утверждать, что эти границы бесконечны, но будем
лишь считать их неопределенными. Так, не будучи в состоянии во¬
образить столь обширного протяжения, чтобы в то же самое время
не мыслить возможности еще большего, мы скажем, что размеры
возможных вещей неопределенны. А так как никакое тело нельзя
* «Утверждали иногда, — пишет по этому поводу В. П. Зубов,— что Галилей про¬
должил традицию Демокрита. С гораздо большим основанием можно творить,
однако, о традиции Архимеда. Ведь мы знаем, что, по Демокриту, континуум
слагается из элементов того же рода (тела из мельчайших тел и т.д.), тогда как у
Архимеда речь шла об элементах n—1 порядка»23.
174
разделить на столь малые части, чтобы каждая из них не могла
быть разделена на еще мельчайшие, то мы станем полагать, что
количество делимо на части, число которых неопределенно»24.
Из этого отрывка видно, что в качестве понятия, доступного
человеческому разуму, Декарт признает только потенциальную
бесконечность. Как и Аристотель, он мыслит континуум как бес¬
предельно делимое.
Правда, в отличие от Аристотеля Декарт не считает вселенную
конечной. Но характерно, что он называет ее не бесконечной
(infinite), а только неопределенной (indefinite), т. е. бесконечной
потенциально, не имеющей предела. Атомизм же Декарт не при¬
знает ни в математике, но в физике: картезианские корпускулы
отличаются от демокритовских атомов тем, что они бесконечно де¬
лимы. В этом смысле картезианская программа является континуа-
листской, как и перипатетическая. Отвергая аристотелианскую фи¬
зику и космологию по целому ряду параметров, Декарт, однако,
полностью разделяет аристотелевский принцип непрерывности.
Таким образом, пересмотр понятий античной науки и филосо¬
фии в XVII в. отнюдь не был универсальным: важнейшее положе¬
ние античной математики и физики, вначале поколебленное уче¬
нием о неделимых Галилея, Кавальери, Торичелли, было восста¬
новлено в правах Декартом. Да и Галилей, как мы видели, в воп¬
росе о непрерывности так и не пришел к определенному решению:
критикуя Кавальери, он, в сущности, отказывался от своего рево¬
люционного переворота.
Споры вокруг принципа непрерывности и природы бесконечно
малого не утихали на протяжении XVII и XVIII вв., что, впрочем,
не мешало дальнейшей разработке и использованию математиче¬
ского анализа. Характерна попытка Ньютона найти выход из за¬
труднений, связанных с понятием актуально бесконечно малого.
Первоначально английский ученый употреблял бесконечно малые
величины и пользовался ими, как и его предшественники (в част¬
ности, Дж. Валлис), т. е. отбрасывал их на том же основании, что
и другие математики: поскольку значение их исчезающе мало по
сравнению с конечными величинами. Однако затем Ньютон создает
так называемую теорию флюксий. Метод флюксий, содержащий в
самой первоначальной формулировке принцип пределов, был со
стороны Ньютона попыткой избежать актуально бесконечного и
обосновать практически уже вошедшее в обиход математиков от¬
брасывание бесконечно малых слагаемых. Метод флюксий следую¬
щим образом вводится в «Математических началах натуральной
философии»: «Количества, а также отношения количеств, которые
в продолжение любого конечного времени постоянно стремятся к
равенству и ранее конца этого времени приблизятся друг к другу
ближе, нежели на любую заданную разность, будут напоследок
равны»25. Анализируя математические работы Ньютона, в частно¬
сти его «Анализ с помощью уравнений с бесконечным числом чле¬
нов», Д. Д. Мордухай-Болтовской замечает, что Ньютон стоял как
бы на перепутье между созданным им методом флюксий и возник¬
175
шим позднее у Даламбера понятием предела; однако создать тео¬
рию предела Ньютону не удалось, хотя понятие «предела» и появ¬
ляется в «Началах»2”.
Таким образом, Ньютон искал способ избежать понятия беско¬
нечно малой величины, т. е. актуально бесконечного, и его метод
первых и последних отношений есть попытка приблизиться к мето¬
ду исчерпывания древних, вполне строгому и строящемуся на при¬
знании лишь потенциальной бесконечности*.
Аналогичные затруднения с понятием бесконечно малого испы¬
тывал Лейбниц, чье отношение к принципу непрерывности весьма
показательно для научно-философской мысли XVII—XVIII вв. По¬
зиция Лейбница в вопросе о бесконечно малых столь же непосле¬
довательна, как и позиция его предшественника Галилея: Лейбниц,
с одной стороны, оперирует этим понятием и сам разрабатывает
метод математического анализа, а с другой — разделяет критиче¬
ское отношение других математиков и особенно философов к этому
понятию-парадоксу. Такая двойственная позиция у Лейбница со¬
храняется на протяжении всей его жизни. В этом отношении очень
показательно письмо Лейбница к Фуше от января 1692 г. Фуше в
письме к Лейбницу доказывал невозможность оперирования с неде¬
лимыми в математике и настаивал на необходимости признать
принцип непрерывности в его аристотелевской формулировке. От¬
вечая Фуше, Лейбниц пишет: «Вы правы, говоря, что, коль скоро
все величины могут делиться до бесконечности, не существует та¬
кой величины, сколь угодно малой, которая в свою очередь не мог¬
ла бы быть разделена на еще меньшие части, число которых беско¬
нечно»28. Однако, признав бесконечную делимость любой вели¬
чины, Лейбниц тут же добавляет:«Впрочем, я не нахожу ничего
дурного и в предположении, что эта делимость может быть в конце
концов исчерпана, хотя и не вижу в этом никакой нужды»29. Это
замечание стоит в противоречии с признанным только что прин¬
ципом непрерывности: в самом деле, если делимость может
быть исчерпана, значит, могут быть получены последние недели¬
мые элементы.
Точно так же «вибрирует» мысль Лейбница в вопросе о беско¬
нечном в его «Новых опытах о человеческом разумении», написан¬
ных в 1703—1704 гг. С одной стороны, Лейбниц признает, что в
математике нельзя оперировать понятием актуальной бесконечно¬
сти. «Не существует бесконечного числа, или бесконечной линии,
или какого-нибудь другого бесконечного количества, если брать их
как настоящие целые... Истинная бесконечность... заключается
лишь в абсолютном, которое предшествует всякому соединению и
не образовано путем прибавления частей»30. В данном случае речь
* Интересно, что известный математик К. Маклоран, пытавшийся защитить ньюто¬
новский метод флюксий от критики Дж. Беркли [в сочинении «Аналист»
(1734)], в своем «Трактате о флюксиях» сближает метод Ньютона с методом ис¬
черпывания Евклида и Архимеда. В основе метода исчерпывания лежит сколь
угодно точное приближение к искомой величине с помощью сходящихся к ней
сверху и снизу последовательностей известных величин27.
76
идет о невозможности актуально существующей бесконечно боль¬
шой величины. Однако и по отношению к актуально существую¬
щей бесконечно малой величине Лейбниц здесь высказывается то¬
же однозначно: «Мы заблуждаемся, пытаясь вообразить себе абсо¬
лютное пространство, которое было бы бесконечным целым, со¬
ставленным из частей. Ничего подобного не существует. Такое по¬
нятие внутренне противоречиво, и все эти бесконечные целые, рав¬
но как и их антиподы, бесконечно малые, применимы лишь для
математических выкладок, подобно мнимым корням в алгебре»31.
Однако, с другой стороны, Лейбниц в той же работе признает ак¬
туально бесконечное множество восприятий, имеющихся в нас в
каждый момент, но не сознаваемых нами32, а также актуально
бесконечное множество субстанций-монад, или как он их называет,
«метафизических точек». Таким образом, причина «вибрации»
Лейбница — в невозможности признать актуальную бесконечность
в математике и в то же время в невозможности отвергнуть акту¬
альную бесконечность в физике и метафизике.
Вот что в этой связи пишет Лейбниц Фуше в 1692 г.: «Я на¬
столько убежден в существовании актуальной бесконечности, что
не только не допускаю мысли о том, что природа не терпит беско¬
нечного... а напротив, считаю, что она повсюду выказывает любовь
к нему, дабы тем нагляднее продемонстрировать совершенство
творца. Итак, я полагаю, что нет ни одной части материи, которая
была бы не скажу только неделимой, но даже не разделенной акту¬
ально, и следовательно, любая мельчайшая частица материи долж¬
на рассматриваться как мир, наполненный бесчисленным количест¬
вом разнообразных созданий»33.
Возражая Декарту и его последователям, не допускавшим воз¬
можности для конечного существа мыслить актуально бесконечное,
Лейбниц в письме к Мальбраншу замечает: «Ответ, что наш ум,
будучи конечным, не понимает бесконечного, неправилен, так как
мы можем доказать и то, чего мы не понимаем»34. Эта мысль Лей¬
бница повторяет высказанную Кавальери: хотя бы мы не понимали
сущности тех приемов, которыми мы пользуемся, мы тем не менее
можем получать с их помощью нужное решение задач, именно так,
справедливо говорит Кавальери, поступают алгебраисты, и матема¬
тический анализ по своему методу сходен с алгеброй, оперирую¬
щей с непостижимыми корнями чисел. Это переворот по сравнению
с античной математикой, основанный на сближении техники вы¬
числения и точной науки, приближенного метода вычисления и
строго математического доказательства.
Лейбниц, таким образом, допускает актуально бесконечное в
тварном мире, а не только в Боге; то, что делимо до бесконечно¬
сти, должно быть уже актуально разделено на бесконечное число
бесконечно малых единиц, ибо, согласно Лейбницу, возможное
должно иметь свое основание в действительном, потенциальное —
в актуальном. В этом отношении интересно проанализировать диа¬
лог 1776 г.«Пацидий — Филалету», в котором намечены все ходы
мысли, воспроизводившиеся затем Лейбницем на протяжении по¬
177
следующих сорока лет. Диалог посвящен трудностям, связанным с
проблемой континуума, которая, по Лейбницу, есть узел, еще ни¬
кем не развязанный. «Ни Аристотель, ни Галилей, ни Декарт не
могли обойти этот узел: один его скрыл, другой оставил неразвя¬
занным, третий разрубил35. Диалог построен по классическим ка¬
нонам жанра: принимается допущение, затем обсуждаются его
следствия и оно отвергается в пользу другого, которое затем обсуж¬
дается таким же образом. Первое допущение, которое принимает
Лейбниц, принадлежит сторонникам составления непрерывного из
неделимых. К ним первоначально, до своего приезда в Париж,
принадлежал и сам Лейбниц. Вот это допущение: пространство со¬
стоит из точек, а время — из моментов «теперь». Поскольку со¬
ставление линии из конечного числа точек ведет к очевидным не¬
сообразностям, например к невозможности разделить отрезок по¬
полам, то остается допустить, что «линии состоят из точек, но по
числу бесконечных»36. Однако в этом случае пришлось бы согла¬
ситься, что диагональ и сторона квадрата равны, а также что целое
равно части. Поскольку это невозможно, делается вывод: линия не
состоит из точек, и принимается аристотелево определение конти¬
нуума как делимого до бесконечности. Актуально бесконечное в
математике, таким образом, отвергается. Эту позицию Лейбниц
оценивает как «ответ Галилею». Ответ этот гласит: «До обозначе¬
ния нет никаких точек... Нет точек, линий, поверхностей, т. е. во¬
обще оконечностей (границ, пределов.— Я. Г.), кроме тех, кото¬
рые возникают при делении: и в непрерывности нет частей, пока
они не созданы делением. Но никогда не осуществляются все деле¬
ния, какие только осуществимы...»37. Это позиция Аристотеля, Ев¬
докса, Декарта, допускающая лишь потенциальную бесконечность.
Однако Лейбниц на этом не останавливается. Хотя, казалось
бы, вопрос решен и противоречия сняты, он ставит вопрос о конти¬
нууме в физике, рассматривая структуру твердых тел и жидкостей
и желая теперь возразить Декарту, с которым он только что соли¬
даризировался. «Я не допускаю ни атомов (Гассенди), т. е. совер¬
шенно твердого тела, ни тонкой материи Декарта, т. е. совершенно
жидкого тела»38. Модель физической непрерывности, по Лейбни¬
цу,— это тело, повсюду сгибаемое. «Разделение непрерывности на¬
до уподобить не песку, распадающемуся на отдельные песчинки, а
бумаге или ткани, которая может образовать складки: хотя число
складок ничем не ограничено и они могут быть все меньше и мень¬
ше одна другой, однако тело никогда не распадается на точки или
наименьшие части»39. Для Лейбница главное здесь, что «складки»
все время остаются протяженными величинами, а не превращаются
в «неделимые точки». Однако принципиального отличия от Декар¬
та тут нет, ибо у последнего тоже части материи — корпускулы —
остаются всегда делимыми.
Рассмотрев непрерывность пространства, времени, а затем ма¬
терии, Лейбниц ставит вопрос о непрерывности по отношению к
движению и рассматривает две альтернативные точки зрения. Если
принять непрерывное движение, то придется признать, что непре¬
178
рывность состоит из точек, ибо «движение есть смена двух пребы¬
ваний, которыми тело связано с двумя ближайшими точками в два
ближайших момента...»40. Поскольку же составленность линии из
точек уже была отвергнута, то Лейбниц обращается ко второй воз¬
можности — движению скачками. «Между промежутками покоя
будет происходить моментальное движение скачком»41. Скачки эти
можно мыслить как своего рода «транскреации», т. е. уничтожение
тела в одной точке и сотворение его заново в другой, как по-види¬
мому, решали проблему движения мусульманские математики-му-
текаллимы: «Движущееся тело Е, пробыв некоторое время в А, ис¬
чезает и уничтожается, а в следующий момент снова возникает и
возрождается в В»42. Характерно, что признать первую из двух
возможностей, а именно непрерывность движения, Лейбницу ме¬
шает убеждение в том, что «движение есть смена двух пребыва¬
ний», т. е. что оно прерывно по своему существу. И эта посыл¬
ка представляется Лейбницу настолько само собой разумеющей¬
ся, что он не принимает идею непрерывности движения Аристо¬
теля, средневековых физиков, Декарта. Но и «скачки» тоже
не удовлетворяют Лейбница, представляются ему таким же
«чудом», что и «совершенная твердость атомов, принимаемая
Гюйгенсом»43.
Какой же выход видится здесь немецкому философу? Как ни
неожиданно это для читателя, только что принявшего к сведению
пассаж о невозможности актуально бесконечного в математических
и физических объектах, но Лейбниц вновь возвращается к актуаль¬
но бесконечному, отвергнутому в споре с Галилеем: «Я думаю так:
нет такой части материи, которая была бы актуально разделена на
множество частей, и, следовательно, нет столь малого тела, в кото¬
ром не содержался бы мир бесчисленных творений... Таким обра¬
зом, и тело, и пространство, и время актуально подразделены до
бесконечности»44. Соответственно теперь отвергается непрерыв¬
ность движения и признаются уже было отброшенные «скачки»,
но, правда с одной оговоркой: эти скачки должны быть «бесконеч¬
но малыми», а значит, «проскакиваемое» расстояние должно быть
меньше любой конечной величины. Таков итог размышлений Лей¬
бница.
С известной оговоркой он в конце концов вновь признает и бес¬
конечно малую величину, а именно как «воображаемую»: «В гео¬
метрии я допустил бы с эвристической целью бесконечно малые
величины пространства и времени, рассматривая их как вообража¬
емые»45.
Можно было бы сказать, что диалог, написанный в 1676 г.,—
еще не вполне зрелое произведение Лейбница, если бы те же са¬
мые ходы мысли не были воспроизведены им почти двадцать лет
спустя в переписке с Фуше, а затем и в более поздних работах —
вплоть до 1716 г. Поэтому нельзя не согласиться с А. П. Юшкеви¬
чем, отмечавшим непоследовательность Лейбница в вопросе об ак¬
туально бесконечном46. Точка зрения Лейбница на бесконечно ма¬
лую все время неустойчива, потому что он в своей физике и мета¬
179
физике принимает актуальную бесконечность, что не может не от¬
ражаться и на его понимании бесконечного в математике.
В то же время в философии Лейбница идея непрерывности иг¬
рает существенную роль: актуально существующие метафизические
и физические «точки», монады, составляют своего рода непрерыв¬
ную цепь, лишенную «промежутков», «разрывов», «скачков». Ха¬
рактерно, что П. А. Флоренский, отвергая идею непрерывности,
которая, по его мнению, господствовала в науке и философии
XIX в., возводит эту идею прежде всего к Лейбницу4'. Однако
Лейбницево понимание непрерывности, как мы видели, существен¬
но отличается от традиционного, к которому тяготел Декарт, а
впоследствии Кант: у Лейбница идея непрерывности имеет предпо¬
сылкой принятие актуально бесконечного. Так, вводя понятие «не¬
заметных», «бесконечно малых восприятий», возникшее у него по
аналогии с математической бесконечно малой, Лейбниц пишет:
«Незаметные восприятия имеют такое же большое значение в
пневматике, какое незаметные корпускулы имеют в физике... Ни¬
что не происходит сразу, и одно из моих основных достоверных по¬
ложений — это то, что природа никогда не делает скачков... Зна¬
чение этого закона в физике очень велико: в силу этого закона
всякий переход от малого к большому и наоборот совершается че¬
рез промежуточные величины... Точно так же никогда движение не
возникает непосредственно из покоя, и оно переходит в состояние
покоя лишь путем меньшего движения... Придерживаться другого
взгляда — значит не понимать безграничной тонкости вещей, за¬
ключающей в себе всегда и повсюду актуальную бесконечность»48.
Эти последние слова об актуальной бесконечности кладут водораз¬
дел между традиционным принципом непрерывности как бесконеч¬
ности потенциальной (бесконечной делимости) и Лейбницевым
толкованием этого принципа. Философское обоснование по-новому
истолкованного им принципа непрерывности Лейбниц предлагает в
«Монадологии». Здесь на новом уровне воспроизводится старый па¬
радокс, возникающий при попытке составлять непрерывное из не¬
делимых. С одной стороны, Лейбниц определяет монаду как про¬
стую субстанцию, не имеющую частей, а значит, нематериальную
(все материальное имеет части и делимо). С другой стороны, Лейб¬
ниц говорит, что «сложная субстанция есть не что иное, как собра¬
ние или агрегат простых»49. Выходит, что сложное (т. е. непрерыв¬
ное) мы получаем из суммы бесконечного числа простых (недели¬
мых), статус которых так же неясен, как и статус математической
бесконечно малой: это и не величины (ибо монады, по Лейбницу,
нематериальны, не имеют протяжения), и не «нули» (ибо всякая
монада обладает «телом»).
Монада у Лейбница мыслится по аналогии с душой: именно ду¬
ши, по определению, неделимы. Но тогда выходит, что тело как
сложная субстанция составляется из бесконечного числа душ —
субстанций простых. Пытаясь выйти из этого затруднения, Лейб¬
ниц прибегает к метафоре: сравнивает тела с прудом, полным ры¬
бы (где рыбы — это, надо думать, монады). Но в таком случае что
180
такое та «вода», в которой обитают «рыбы»? Если реальны только
монады, как и заявляет Лейбниц, то «вода» тоже состоит из новых
неделимых, и так до бесконечности. Противоречие не разрешается.
Для его разрешения Лейбниц прибегает еще к одному средству:
рассматривать материю не как субстанцию, а как «субстанциат»,
подобный армии или войску. «В то время как ее рассматрива¬
ют так, будто она есть некая вещь, на самом деле она есть фено¬
мен, но вполне истинный, из которого наше восприятие создает
единство»50.
Рассмотрение материи как «феномена», пусть даже «хорошо
обоснованного» (хотя самого этого обоснования Лейбниц так и не
смог предъявить), означает — правда, на другом языке — возвра¬
щение к предпосылкам Аристотеля, трактовавшего материю как
возможность, а не действительность. Но для последовательного
проведения такой точки зрения необходимо отказаться от понятия
актуальной бесконечности применительно к конечному (тварному)
миру: ведь Аристотель в свое время потому и определил материю
как бесконечно делимое, что она принадлежала у него к сфере воз¬
можного. Лейбниц же, объявляя материю феноменом, в то же вре¬
мя сохраняет в силе вышеприведенные тезисы: 1) в каждой части
материи «содержится» актуально бесконечное число монад и
2) всякая душа обладает телом.
Как видим, Лейбницу тоже не удалось разрешить парадоксы
актуальной бесконечности и последовательно провести принцип не¬
прерывности в математике. Вопрос остался открытым и в филосо¬
фии. К нему во второй половине XVIII в. вновь обратились как ма¬
тематики, так и философы.
Возвращение к античным традициям
в математике и философии во второй половине XVIII в.
Рождение трансцендентального идеализма Канта в немалой сте¬
пени было обусловлено необходимостью справиться с парадоксами
актуальной бесконечности. По Канту, подлинным бытием обладают
лишь вещи в себе, которые суть простые, неделимые единства, ли¬
шенные протяжения. От лейбницевых монад, однако, эти единства
отличаются тем, что они, во-первых, непознаваемы, а во-вторых,
из них недопустимо «составлять» материальные тела, т. е. рассмат¬
ривать сложное как «агрегат» простого. Что же касается мира яв¬
лений, протяженного в пространстве и длящегося во времени (про¬
странство и время как раз суть априорные формы, с помощью ко¬
торых порождается мир явлений), то он непрерывен, т. е. беско¬
нечно делим. Именно разделение сущего на вещи в себе и явления
позволяет Канту решить проблему континуума: непрерывность
пространственно-временного мира не противоречит, так сказать,
дискретности мира сверхприродного. В «Метафизических началах
естествознания» (1786) Кант пишет: «Сколь далеко... простирается
математическая делимость пространства, наполненного той или
181
иной материей, столь же далеко простирается и возможное физиче¬
ское деление субстанции, его наполняющей. Но математическая
делимость бесконечна, следовательно, и физическая, т. е. всякая
материя до бесконечности делима, и притом на части, из которых
каждая в свою очередь есть материальная субстанция»51. Послед¬
нее замечание имеет целью подчеркнуть, что в материи нет «по¬
следних неделимых» элементов, которые оказались бы чем-то
сверхматериальным: всякая часть материи, как и пространства, де¬
лима до бесконечности. Здесь Кант возвращается к Аристотелю и
следовавшему за ним Декарту. И объяснение этой бесконечной де¬
лимости Кант дает в духе Аристотеля, хотя для достижения такой
позиции ему пришлось пойти совсем не аристотелевским и не ха¬
рактерным для античности путем: допустить феноменальный ха¬
рактер эмпирического мира.
Перед Кантом стояла альтернатива. Если принять материю за
субстанцию, и притом не тождественную пространству, то предпо¬
ложение бесконечной делимости материи требовало бы допустить,
что она состоит из актуально бесконечного множества «последних
единиц»,— путь, которым пошел Лейбниц, отвергнув в то же вре¬
мя физический атомизм. Но если считать, как Аристотель, что ма¬
терия — это лишь возможность, то нет надобности искать в самой
материи бесконечной разделенности в качестве условия ее беско¬
нечной делимости. Кант объявил материю только явлением, для
того чтобы можно было выбрать второй путь — возвращение к
принципу непрерывности в его аристотелевско-евдоксовском вари¬
анте. «О явлениях, деление которых можно продолжить до беско¬
нечности, можно лишь сказать, что частей явления столько, сколь¬
ко их будет дано нами, пока мы будем в состоянии продолжать де¬
ление. Ведь части, как относящиеся к существованию явлений, су¬
ществуют лишь в мыслях, т. е. в самом делении»52. Иначе говоря,
если материя не есть вещь в себе, то нет надобности допускать ак¬
туальной бесконечности (частей) для обоснования потенциальной
бесконечности процесса деления.
Феноменалистское истолкование пространства, времени и мате¬
рии позволяет Канту вернуться в XVIII в. к классической античной
теории непрерывности.
Возвращение к потенциальной бесконечности при обосновании
дефференциального исчисления происходит и в математике второй
половины XVIII в., хотя полностью преодолеть идею актуально
бесконечно малого и создать теорию пределов, опирающуюся на
методологические принципы метода исчерпывания, удалось только
позднее, усилиями К. Ф. Гаусса, Б. Больцано, О. Коши и особенно
К. Вейерштрасса.
Противоречивость понятия бесконечно малого, как мы видели,
была очевидна с самого появления этого понятия; не случайно
Ньютон создавал теорию первых и последних отношений, стремясь
избежать «бесконечно малых». Это стремление особенно усилилось
после критики инфинитезимального исчисления, осуществленной
Беркли. Не удивительно поэтому, что Даламбер в своих статьях
182
«Дифференциал» (1754), «Флюксия» (1756), «Бесконечно малое»
(1759) и «Предел» (1765), помещенных в знаменитой «Энцикло¬
педии, или Словаре наук, искусств и ремесел», в качестве обос¬
нования анализа предложил теорию пределов. При этом он опи¬
рался на ньютоновский принцип «первых и последних отноше¬
ний». Дальнейшие шаги в этом направлении были предприня¬
ты Лагранжем. В 1784 г. по инициативе Лагранжа Берлин¬
ская академия наук назначила приз за лучшее решение проб¬
лемы бесконечного в математике. Объявление об условиях
конкурса гласило: «... всеобщим уважением и почетным титу¬
лом образцовой ‘‘точной науки“ математика обязана ясности
своих принципов, строгости своих доказательств и точности сво¬
их теорем. Для обеспечения непрестанного обновления столь цен¬
ных преимуществ этой изящной области знания необходима ясная
и точная теория того, что называется в математике бесконечно¬
стью. Хорошо известно, что современная геометрия (математика)
систематически использует бесконечно большие и бесконечно ма¬
лые величины. Однако геометры античности и даже древние анали¬
тики всячески стремились избегать всего, что приближается к бес¬
конечности, а некоторые знаменитые аналитики современности ус¬
матривают противоречивость в самом термине «бесконечная вели¬
чина». Учитывая сказанное, Академия желает получить объясне¬
ние, каким образом столь многие правильные теоремы были выве¬
дены из противоречивого предположения вместе с формулировкой
точного, ясного... истинно математического принципа, который был
бы пригоден для замены принципа бесконечного и в то же время
не делал бы проводимые на его основе исследования чрезмерно
сложными или длинными»53*.
Однако, как мы уже говорили, строгое решение поставленной
Берлинской академией проблемы было предложено только в XIX в.
Решающую роль играли здесь работы О. Коши. Метод, им предло¬
женный, сходен с античным методом исчерпывания и тоже исклю¬
чает обращение к актуально бесконечному. Вот как определяет Ко¬
ши вводимое им понятие предела: «Если значения, последователь¬
но приписываемые одной и той же переменной, неограниченно
(indefiniment) приближаются к фиксированному значению таким
образом, что в конце концов отличаются от него сколь угодно ма¬
ло, то последнее называют пределом всех остальных»54. Бесконеч¬
но малая определяется здесь как переменная, последовательные
численные значения которой становятся меньше любого данного
положительного числа55.
Именно благодаря философии Канта, с одной стороны, и разра¬
ботанной в XIX в. теории пределов — с другой, в XIX в. и в самом
деле принцип непрерывности, близкий к его античному понима¬
нию, стал играть важную роль.
* Характерно, что победитель конкурса швейцарский математик С. Люилье предста¬
вил работу под девизом: «Бесконечность — пучина, в которой тонут наши мысли»
(см. 53).
183
Аксиома непрерывности Р.Дедекинда
В связи с необходимостью обосновать теорию пределов к про¬
блеме непрерывности в 60—70-х годах XIX в. обратился немецкий
математик Р. Дедекинд. Считая недостаточно строгим введение по¬
нятия предела с помощью геометрической наглядности, Дедекинд
пытался найти арифметическое обоснование анализа бесконечных.
«Говорят часто, что дифференциальное исчисление занимается не¬
прерывными величинами, однако же нигде не дают определения
этой непрерывности и даже при самом строгом изложении диффе¬
ренциального исчисления доказательства не основывают на непре¬
рывности...»56. В результате напряженных поисков Дедекинд до¬
стиг цели: он предложил принцип непрерывности, который, по его
убеждению, удовлетворял самым строгим требованиям. «В преды¬
дущем параграфе,— пишет Дедекинд, имея в виду свою работу
“Непрерывность и иррациональные числа44,— обращено было вни¬
мание на то, что каждая точка Р прямой производит разложение
прямой на две части таким образом, что каждая точка одной части
расположена влево от каждой точки другой. Я усматриваю теперь
сущность непрерывности в обратном принципе, т. е. в следующем:
“Если все точки прямой распадаются на два класса такого рода,
что каждая точка первого класса лежит влево от каждой точки вто¬
рого класса, то существует одна и только одна точка, которая про¬
изводит это разделение на два класса, это рассечение прямо на два
куска44»57.
На первый взгляд это определение непрерывности совпадает с
аристотелевским. Как мы помним, согласно Аристотелю, непрерыв¬
но то, концы чего образуют единое. Применительно к прямой это
значит: непрерывна та прямая, отрезки которой имеют только одну
общую точку. О том же, как видим, говорит и Дедекинд. И не слу¬
чайно после выхода в свет работы Дедекинда математик Р. Лип¬
шиц указал ему на то, что открытая Дедекиндом аксиома непре¬
рывности совпадает с теорией отношений Евдокса, основанной на
том же принципе, что и Аристотелево понятие непрерывности. «Я
не отрицаю обоснованности Вашей дефиниции,— писал Р. Лип¬
шиц,— я лишь думаю, что она только по форме выражения, а не
по существу отличается от того, что установили древние. Я могу
только сказать, что установленное Евклидом определение (кн. V,
опр. 4), которое я привожу по латыни, я считаю столь же удовлет¬
ворительным, как и Ваше определение: rationem habere inter se
magnitudines dicuntur quae possunt multiplicatae sese mutuo superare
(говорят, что величины имеют отношение между собой, если, взя¬
тые кратно, они могут превзойти друг друга)»5*. Отвечая Липши¬
цу, Дедекинд, однако, настаивает на том, что «одни только евкли¬
довы принципы, без привлечения принципа непрерывности, кото¬
рый в них содержится, неспособны обосновать совершенную тео¬
рию реальных чисел как отношений величин... И напротив, благо¬
даря моей теории иррациональных чисел создан совершенный обра¬
зец непрерывной области, которая именно поэтому способна харак¬
теризовать всякое отношение величин определенным содержа¬
184
щимся в нем числовым индивидуумом (Zahlen-Individuum)»59. При
этом Дедекинд подчеркивает, что он не случайно мыслит контину¬
ум как арифметический и само обоснование анализа стремится
дать с помощью арифметики: он не хочет «привлекать довольно
темное и сложное понятие величины»60. Это говорит о том, что
действительно Дедекинд иначе мыслит непрерывное, чем Аристо¬
тель. Для Аристотеля непрерывное — это то, что бесконечно дели¬
мо, т. е. потенциально бесконечное; для Дедекинда же непрерыв¬
ное содержит в себе актуально бесконечное множество «сечений»,
т. е. «числовых индивидуумов». Дедекинд вводит постулат сущест¬
вования всех сечений и порождающих их реальных чисел, справед¬
ливо указывая на то, что такой постулат не был нужен Евдоксу.
Не случайно теория непрерывности Дедекинда имеет общую базу с
теорией множеств Г. Кантора: оба опираются на понятие актуально
бесконечного. «К определению некоторого иррационального реаль¬
ного числа,— пишет Г. Кантор,— всегда принадлежит хорошо оп¬
ределенное бесконечное множество первой мощности рациональных
чисел; в этом состоит общее всех форм дефиниции...»61. В основе
определения непрерывности Дедекинда, справедливо замечает Кан¬
тор, лежит совокупность всех рациональных чисел.
По-видимому, та характеристика теоретико-множественного по¬
нимания континуума, которую дает Г. Вейль, может быть отнесена
и к теории континуума Дедекинда. «... Наша концепция,— говорит
Вейль, имея в виду концепцию Г. Кантора,— остается по-прежне¬
му статической, характерным для нее является ничем не ограни¬
ченное применение терминов «все» и «существует» не только к на¬
туральным числам, но также и к местам в континууме, т. е. к воз¬
можным последовательностям или множествам натуральных чисел.
В этом и заключается сущность теории множеств: она рассматрива¬
ет в качестве замкнутой совокупности существующих самих по се¬
бе предметов не только числовой ряд, но и совокупность его под¬
множеств. Поэтому она целиком базируется на почве актуально
бесконечного»62. Когда Вейль характеризует теоретико-множест¬
венную концепцию как «статическую», он имеет в виду то же раз¬
личение бесконечного как «бытия» и как «становления», о котором
у нас шла речь выше. Дедекинд в своей трактовке непрерывности
возвращается, таким образом, не к Аристотелю и Евклиду, а ско¬
рее к Лейбницу, у которого речь идет не просто о бесконечной де¬
лимости как незавершимом процессе («становлении»), а о «беско¬
нечной разделенности» как завершенном состоянии (т. е. «бытии»).
А между тем всякий раз, когда оперирование понятием акту¬
ально бесконечного приводит к парадоксам, как это случилось и с
теорией множеств, математическая мысль вновь пытается обосно¬
вать свои построения на понятии «становления» (возможности), а
не «бытия» (действительности). И независимо от того, известна ли
математикам Аристотелева (и Кантова) теория непрерывности, они
невольно вновь обращаются к ней.
Характерная для античности постановка проблемы континуума
отнюдь не была отменена в период становления науки Нового вре¬
185
мени, хотя аристотелевская теория движения, как и учение о ко¬
нечном космосе, в XVII—XVIII вв., была отвергнута. К тем прин¬
ципам, которые после довольно длительного периода их критики
(отчасти у Галилея, затем у Кавальери и Торичелли, а также в
математическом анализе у Валлиса, братьев Бернулли и других
математиков, опиравшихся на понятие актуально существующего
бесконечно малого) вновь получили признание в математике и фи¬
лософии в XVIII и XIX вв., принадлежат, как мы видели, теория
отношений Евдокса и понятие непрерывности Аристотеля. Судьба
античной идеи непрерывности свидетельствует о том, насколько
неверно то представление, что наука в собственном смысле слова
начинается только в XVII в. Столь же несостоятельно и утвержде¬
ние, что существует столько же разных, несовместимых между со¬
бой «наук», сколько имеется разных «культур», а потому понятия,
которыми оперирует, скажем, аристотелевская физика, совершенно
непереводимы на язык физики Нового времени. Конечно, в рамках
различных культурно-исторических контекстов научные теории
имеют свои особенности, но эти особенности нельзя слишком абсо¬
лютизировать, иначе окажется невозможной историческая реконст¬
рукция прошлого.
Рассмотрение исторической судьбы того или иного научного по¬
нятия или принципа может оказаться весьма плодотворным как
для того, чтобы более корректно пользоваться понятием «научная
революция», так и для того, чтобы показать реальные возможности
истории науки в плане реконструкции проблемы, сохраняющей
свое значение на протяжении веков и даже тысячелетий. И быть
может, такая реконструкция может оказаться полезной также и
для решения этой проблемы — по крайней мере для ее более чет¬
кой и сознательной постановки.
1 Аристотель. Физика. VI, 9.
2 Там же. V, 3, 226в—227а.
3 Там же. V, 4. Там же. VI, 2, 233а.
5 Евклид. Начала. Кн. I—VI. С. 142.
6 Аристотель. Физика. III, 206в.
7 Башмакова И. Г. Лекции по истории математики в Древней Греции // Истори¬
ко-математические исследования. Вып. XI. M., 1958. С. 311.
8 Аристотель. Физика. III, 6, 207а.
9 Галилей Г. Избр. тр. В 2 т. Т. 2 M., 1964. С. 131.
ю Там же. С. 131 — 132.
и Там же. С. 132.
12 Там же. С. 135.
13 Цит. по: Клайн М. Математика: Утрата определенности. M., 1984. С. 176.
14 Цит. по: Lasswitz К. Geschichte der Atomistik. I. 1890. S. 191.
11 2 3 * 5 * * 8 9 * * 12 13 14 * 16 * * 19 20 21 22 23 24 См.: Кавальери Б. Геометрия, изложенная новым способом при помощи недели¬
мых непрерывного. М.; Л., 1940. С. 227.
16 Там же. Геометрия... С. 89.
Г7 Там же. С. 91.
1® Cavalerius В. Geometria indivisibilibus continuorum nova quadam ratione promota.
Boloniae, 1635. Lib. VII. P. 2.
19 Галилей Г. Избр. тр. Т. 2. С. 154.
20 Цит. по: Кавальери Б. Геометрия... Предисловие С. Я. Лурье. С. 37.
21 Лурье С. Я. Математический эпос Кавальери // Кавальери Б. Геометрия... С. 39.
22 Декарт Р. Избр. произведения. М., 1950, С. 475.
23 Зубов В. П. Развитие атомистических представлений до начала XIX века. М.,
1965. С. 215—216.
24 Декарт Р. Избр. произведения. С. 437—438.
186
25 Ньютон И. Математические начала натуральной философии // Крылов А. Н.
Собр. тр. Т. VII. M.; Л., 1936. С. 57.
26 См.: Морду хай-Болтовской Д Д. Комментарии к Ньютону // Ньютон И. Мате¬
матические работы. М.; Л., 1937. С. 289.
27 Maclaurin С. Treatise of Fluxions in Two Books. 1742. T. 1. P. 6.
28 Лейбнии, Г. В. Соч. Т. 3. M., 1984. С. 287.
29 Там же. С. 287.
30 Лейбниц Г.В. Соч. Т. 2, М., 1983. С. 157.
31 Там же. С. 158. 32 Там же. С. 53.
зз Лейбниц Г. В. Соч. Т. 3. С. 294.
35 Там же. С. 246.
37 Там же. С. 250.
39 Там же.
4i Там же. С. 254.
43 Там же. С. 256
45 Там же. С. 260
46 Юшкевич А. П. Идеи обоснования математического анализа в XVIII веке // Исто¬
рико-математические исследования. Вып. XXX. М., 1987. С. 14—15.
47 Флоренский П. А. Введение к диссертации «Идея прерывности как элемент миро¬
созерцания» // Историко-математические исследования. Вып. XXX. М., 1986.
С. 160.
34 Там же. С. 316.
36 Там же. С. 247.
38 Там же. С. 252.
40 Там же.
42 Там же. С. 255.
44 Там же.
48 Лейбниц Г. В. Соч. Т. 2 С. 56.
49 Там же. Т. 1. С. 413.
50 Leibniz G. W. Die philosophische Schriften, hrsg. von Gerhardt C. J. Bd. VI. S. 624.
51 Кант И. Соч. T. 6. С. 1Й>3.
52 Там же.
53 Цит. по: Клайн М. Математика: Утрата определенности. С. 175.
54 Коши О. Л. Алгебраический анализ. Спб., 1864. С. 19.
55 Подробнее об этом см.: Юшкевич А. П. Развитие понятия предела до Вейерштрас-
са // Историко-математические исследования. Вып. XXX. С. 64—71.
56 Дедекинд А Непрерывность и иррациональные числа. Одесса, 1923. С. 9—10.
57 Там же. С. 17.
58 Цит. по кн.: Becker О. Grundlage der Mathematik in geschichtli* her Entwicklung,
Frankfurt a. M., 1975. S. 237.
59 Ibid. S. 240. 60 Ibid. S. 241.
61 Ibid. S. 243.
62 Вейль Г. О философии математики. М.; Л., 1934. С. 73.
ВИК. п. визгин
ТРАДИЦИЯ И ИННОВАЦИЯ:
ВЗГЛЯД ИСТОРИКА НАУКИ
В статье традиция истолковывается как единство научной
школы и концептуальной темы, анализируется специфика соче¬
тания традиции и инновации в развитии знания в период до на¬
учной революции XVII в. и после образования дисциплинарного
естествознания в XIX в. (на примерах истории идеи множест¬
венности миров, с одной стороны, и открытия хроматографиче¬
ского метода в химии — с другой), показывается необходимость
аналитического подхода к определению соотношения инвариант¬
ных и изменяющихся параметров в динамике роста знания, де¬
монстрируются «защитные механизмы» традиции и значение
междисциплинарных «стыков» в появлении радикальных новаций
в науке.
В настоящей статье мы хотим рассмотреть соотношение тради¬
ции и инновации сквозь две различные, чтобы не сказать контраст¬
187
ные, методолого-исторические призмы: во-первых, сквозь вполне
конкретный опыт истории идей, воспользовавшись проведенным
нами исследованием традиции множественности миров (ММ) от ан¬
тичности до XVII в., и, во-вторых, сквозь исследование истории од¬
ного весьма локального открытия в области химии (хроматогра¬
фия), напоминающее узкофокусностью своего предмета распрост¬
раненную сейчас в истории науки методологию case studies. Но
сначала в качестве преамбулы попробуем эксплицировать само по¬
нятие «традиция».
Понятие «традиция» как объяснительное средство в истории
функционирует на первый взгляд достаточно просто. По сути дела,
отнести объясняемый феномен истории к традиции означает не бо¬
лее чем провести операцию его отождествления с другими, полу¬
чившими в своей неизменности и устойчивости классификацион¬
ный вид чего-то само собой понятного, уже давно и бесспорно объ¬
ясненного для исторического сознания, и поэтому служащими ре¬
сурсом для объяснения.
Традиция — исторический шаблон. Шаблон в теме, в вопроша-
нии и в ответе, в приеме мысли, в задачах и средствах их решения
и т. п. Любая устойчивость, служащая опорой для возможных ин¬
новаций, может рассматриваться как «традиция». Какова же твор¬
ческая функция традиции? Прежде всего, традиция служит отправ¬
ным пунктом для ее возможного саморасширения. Например, в те¬
оретической физике возникла традиция связывать свойства сим¬
метрии с законами сохранения. Так, однородность времени (опре¬
деленный вид симметрии) равносильна закону сохранения энергии.
Но может случиться, что мы имеем дело с таким законом сохране¬
ния — или просто с законом, который, однако можно истолковать
как закон сохранения,— для которого у нас нет аналога в виде
принципа симметрии, заданного на определенном пространственно-
временном многообразии. Тогда мы тем не менее можем попытать¬
ся найти это соответствие, переформулировав или расширив сосед¬
ние понятия. Эта попытка и будет проявлением методологии тра¬
диции как эвристики. Механизм здесь аналогичен действию пара¬
дигмы в куновском смысле в период нормального развития науки.
Само понятие традиции, на наш взгляд, проясняется через рас¬
члененные культуры на «культуру культурату» (cultura culturata) и
«культуру культуранс» (cultura culturans) по аналогии со спинозов-
ской natura naturata и natura naturans. Традиция — это ставшая
культура, завершенная, но воспроизводимая актуально и активно;
это культурные акты, принявшие вид архива, запасника, вопросни¬
ка и «решебника», открытого для всех. Традиция — ставшая куль¬
тура, предназначенная в своем актуальном воспроизведении для
роста культуры в целом, для преодоления ее как данности, преоб¬
разования в культуре как творчестве, созидающем новую культуру.
В методологии исторических исследований науки «традиция»
выступает репрезентантом непрерывности. «Традиция», «влияние»,
«течение», «направление» и т. п. представления фиксируют исто¬
рический процесс в терминах непрерывности, образуя инструмен¬
те
тарий классической методологии ее познания. Индивидуальный
акт, личное свершение ученого в такой «оптике» растворяется в
универсалиях, различное тонет в тождественном. Сами традиции
выступают как якобы самостоятельные силы, почти как «субъекты»
исторического процесса. Такая методология истории соответствует
нормам классической науки. В конечном итоге такое видение исто¬
рии замыкается на предельную идентификацию ее в некоем смыс¬
ле — историософскую «глобалию» того или иного жанра. Серьез¬
ное ограничение категории непрерывности, следовательно, и поня¬
тия традиции наступает тогда, когда история начинает открываться
в своем дискретном, в пределе — катастрофическом «измерении»
как бифуркация, как превращение малых событийных флуктуаций
в колоссальные необратимые последствия, которые невозможно за¬
ранее предвидеть. «Традиционное» или «традиционалистское» ви¬
дение истории, напротив, всецело детерминистично, и поэтому те¬
чение истории в этом подходе мыслится предсказуемым.
Альтернатива «традиционизму» — представление о «зернисто¬
сти» структуры истории, причем эта «зернистость» такова, что ее
отдельные точечные «зерна» могут менять при определенных усло¬
виях все целое. Таким образом, для исследования проблемы соот¬
ношения «традиций» и «инноваций» мы должны обратиться к ана¬
лизу связи категорий «дискретности» и «непрерывности» примени¬
тельно к истории.
Вышесказанное, однако, вовсе не означает, что категория не¬
прерывности и вместе с ней представление о традиции должны
быть отброшены. Нет, эти понятия остаются в методологическом
арсенале историка. Но их применение нужно ставить в контекст
конкретного аналитического исследования. Это означает, что воп¬
рос о соотношении непрерывности и дискретности, традиции и ре¬
волюции, продолжения того же самого и нововведения решается
всегда аналитически, т. е. через раскрытие конкретной структу¬
ры явления, что позволяет установить, что же именно сохраняет¬
ся в историческом преобразовании, а что рвется; что непрерыв¬
но, а что дискретно. Дискретное и непрерывное — всегда инди¬
видуально определенная система, реконструкция которой — цель
историка.
Что такое традиция в истории познания? Как можно себе пред¬
ставить ту историко-эпистемологическую реальность, которую ис¬
торики, часто не задумываясь над ее устройством, называют «тра¬
дицией»? Можно предложить такую грубую модель традиции: тра¬
диция — это сочленение интерналистской эпистемологической кон¬
станты с историко-институциональной реальностью определенного
рода, или, уточняя вышесказанное, сочетание образования типа
холтоновской «темы»1 с тем, что мы называем школой. Школьно¬
тематическое единство, говоря предельно лаконично, вот что такое
в своем модельном задании традиция. Поэтому анализ традиции в
своем экстерналистском варианте выступает прежде всего как ана¬
лиз школ, а в своей историко-интерналистской проекции — как
анализ тематических линий.
189
Сочетание школьности и определенного тематизма удобно про¬
следить на примере атомистической традиции. Атомизм в истории
познания — это четко прослеживаемая сквозь разные исторические
периоды традиция. Например, уже в античности существовали раз¬
ные атомистические школы. Все они развивали одну и ту же тему:
дискретность, неделимость материального основания универсума,
но развивали по-разному. Школа Левкиппа—Демокрита достаточ¬
но сильно отличается от школы Эпикура, представленной в Риме
Лукрецием. Школьный аспект традиции объясняет эффект транс¬
ляции типа знания, устойчивого тематического ядра через разные
социальные и культурные условия, включая различные эпохи,
страны, даже регионы. Внутрилогический тематический план тра¬
диции открывает возможность понять, как могут меняться темати¬
чески однородные представления. Само тематическое единство тра¬
диции можно представлять как соединение устойчивого тематиче¬
ского ядра (основы «школьных» доктрин) и доступной для измене¬
ний оболочки. Так, в атомизме и Демокрита и Эпикура сохраня¬
ются основные атомистические постулаты: атомы и пустота, меха¬
ническое, не прекращающееся движение атомов. Но при сохране¬
нии тематического ядра изменения происходят в оболочке этих
принадлежащих к одной традиции учений: если у Демокрита число
атомов и их форм бесконечно, то у Эпикура оно огромно, но уже
конечно; если у Демокрита нет, по сути дела, самостоятельного по¬
нятия веса атомов, то у Эпикура оно вводится, в силу чего и сама
вселенная у него приобретает такие характеристики, которые от¬
сутствуют во вселенной первых греческих атомистов (наличие
«верха» и «низа»). Этими моментами далеко не исчерпываются от¬
личия атомизма Демокрита от атомизма Эпикура, но нам здесь
важно показать, как устроена и работает традиция как такое сое¬
динение темы и школы, которое обеспечивает определенную гармо¬
нию между устойчивостью основных когнитивных структур и их
изменчивостью.
Сделаем одно методологическое замечание. В работах истори¬
ков такого рода ситуация, т. е. историческая динамика школьно-те¬
матических единств, соединений устойчивых познавательных
структур с их изменениями, обычно называется «развитием». При¬
мером может служить известная работа В. П. Зубова о развитии
атомистических представлений от античности до XVIII вА Но мы
не можем пойти за такими историками и принять для описания по¬
добных ситуаций термин «развитие»: он нагружен, на наш взгляд,
значениями, которые в данном контексте исторических исследо¬
ваний познания могут сбить с толку. Одно из таких значений мы
находим у Гегеля. Развитие понимается им как телеологический
конструкт: абсолютная идея «возвращается» в процессе своего са¬
моразвития к себе самой, превращая свое «в-себе-бытие» в «бытие-
для-себя». В реальной истории мысли дело обстоит иначе: совре¬
менный научный атомизм вовсе не «развился» из до-научного
натурфилософского: между ними радикальный разрыв. Никакая
преформ истекая континуалистская модель здесь не адекватна сути
190
дела. И конечно, нелепо говорить, что эпикуровская атомистика
является «развитием» демокритовской, что она усовершенствует
учение Абдерита, позволяя атомизм «вообще» (такого ведь не су¬
ществует, и уже в этом принципиальное отличие современной фи¬
лософии истории от гегелевской) полнее осуществиться в историче¬
ской эмпирии. Никакого органически последовательного внутрен¬
него «роста» («развития») идеи атомизма не происходит в реальной
исторической жизни атомистических учений и школ. Атомизм
Эпикура вовсе не «улучшает» как «последующая» ступень качеств
атомизма Демокрита, а делает, напротив, в определенных отноше¬
ниях даже шаг назад. Иными словами, историзм современной ис¬
тории не совместим с «органицистской» метафизикой понятий
(идей) в духе Гегеля.
Но как же объяснить в таком случае реальные сдвиги в когни¬
тивных структурах в рамках одной темы, одной традиции? Эти
сдвиги объяснимы через анализ контекстуальных ментально-исто¬
рических целостностей. В эпоху Эпикура наступает совершенно
другая духовная, культурная, социальная, политическая ситуация,
чем это было в век Перикла, в период формирования атомизма
Левкиппа и Демокрита. Эпикуреизм принадлежит к философским
школам эллинистической эпохи, в то время как демокритовский
атомизм — явление высокой классики. У Эпикура другая гносео¬
логия, другое соотношение этики и физики и т. п. Он, кроме то¬
го, извлекает уроки из перипатетической критики атомизма, ус¬
ваивая себе кое-что из учения его основного идейного противни¬
ка. Итак, оболочка традиционного учения претерпевает мутации
и изменения в силу приспособления ее ядра к новым условиям
мышления.
Понятие развития более подходит, по-видимому, к историче¬
скому анализу собственно научных знаний. Действительно, ситуа¬
цию отражает принцип соответствия, который не действует в на¬
турфилософский период, но действует после научной революции
XVII в., давшей возможность определенной кумуляции знаний та¬
ким образом, что последующие теоретические достижения согласу¬
ются с предыдущими именно по принципу соответствия. Сущест¬
венным моментом в этой связи выступает, конечно, и строгая ма¬
тематическая форма представления научных знаний в Новое вре¬
мя. В этом смысле корректно говорить о развитии механики от
Ньютона к Эйнштейну, но некорректно, на наш взгляд, считать,
что атомизм развивался от Левкиппа к Эпикуру или Гассенди.
Адаптация постоянной темы к различным социокультурным и ис¬
торическим условиям как целостностям не есть ее развитие. На
наш взгляд, существуют минимум две принципиально различные
истории знаний — история знаний до научной революции XVII в.
и история научных знаний после нее. Традиции действуют и там и
там, но принципиально в разных режимах. Об этих двух видах ис¬
тории знаний мы еще скажем ниже.
191
Идея множественности миров как традиция
Теперь мы можем показать на еще более узком примере, чем
атомизм, как действует традиция в первой из перечисленных нами
историй. Таким примером мы выбираем исследованную нами исто¬
рию идеи множественности миров от античности до научной рево¬
люции XVII в*
Выше мы сказали, что удобно для описания действия традиции
представить ее когнитивную компоненту как композицию из ус¬
тойчивого тематического ядра и изменчивой оболочки (аналогично
структуре исследовательской программы у Лакатоса). В случае
идеи множественности миров (ММ) мы можем ввести следующие
параметры, задающие область изменений в оболочке: 1) режим
функционирования традиции (в данном случае ММ-традиции);
2) приемы обоснования ММ; 3) представление о мире в данном
учении о ММ; 4) эпистемологический статус учения о ММ. Види¬
мо, список этих параметров неполон, но нам его вполне достаточно
для того, чтобы увидеть, как и по каким характеристикам могут
происходить изменения в традиционно заданной доктрине, в час¬
тности такой, как учение о ММ. Раскроем теперь конкретно зна¬
чение перечисленных параметров. Режим функционирования
традиции ММ может быть следующим: бесконечная или конечная
множественность миров вообще, бесконечная или конечная множе¬
ственность обитаемых миров, кроме того, к режиму функциониро¬
вания относится и такая характеристика, как множественность ми¬
ров, следующих друг за другом, или же множественность одновре¬
менно пространственно сосуществующих миров. Все эти режимы
функционирования традиции множественности миров осуществля¬
лись в истории4. Что касается приемов обоснования ММ, то пере¬
числим его основные принципы, действовавшие в указанный исто¬
рический период; 1) бесконечность Вселенной в пространственно-
временном плане; 2) однородность Вселенной в пространствен¬
но-физическом плане; 3) принцип изономии; 4) принцип связи
свернутой и развернутой форм бесконечности; 5) телеологический
критерий (благое должно существовать); 6) онтологический и акси¬
ологический примат бесконечного над конечным; 7) принцип тож¬
дества возможности и действительности; 8) принцип полноты. У
первых греческих атомистов применялись главным образом первые
три принципа, а также седьмой. Но уже у Эпикура начинает фун¬
кционировать принцип полноты. У Николая Кузанского добавля¬
ются четвертый, пятый и шестой принципы, а у Бруно мы находим
все восемь перечисленных нами принципов обоснования ММ.
Наконец, в рамках одной традиции ММ действуют разные
представления о мире: мир как замкутая геоцентрическая космоло¬
гическая система, всключающая всю совокупность видимого, в том
числе и звезды (атомизм); мир как любой центр притяжения
* Статус традиции у темы множественности миров признается всеми ее современны¬
ми исследователями3.
192
(средние века, Леонардо); мир как планета и мир как гелиоцентри¬
ческая солнечно-подобная система небесных тел (начиная с
XVII в.). Существуют, кроме того, и разные эпистемологические
статусы учения о ММ: чисто умозрительный статус учения о ММ
и соответствующего представления о мире (атомизм) или умо¬
зрительно-наблюдательный статус вследствие астрономизации те¬
мы ММ.
Каждое значение переменной вводится в традицию ММ в силу
нового контекста условий и только конкретный исторический ана¬
лиз помогает разобраться в причинах этих сдвигов. Такое устрой¬
ство традиции ММ делает ее чрезвычайно долгоживучей. Действи¬
тельно, она вынесла все самые радикальные мировоззренческие пе¬
ревороты и научные революции. Именно благодаря гибкости своей
оболочки, нефиксированности своих основных параметров (напри¬
мер, понятия о мире) традицию ММ не смогли прервать никакие
мутации в общественном сознании, смены научно-философских
программ. Проиллюстрируем эти методологические соображения
более близким обращением к истории традиции ММ.
Традиция ММ имеет свои мифологические предпосылки. Для
мифологических представлений о ММ характерна неясность плана,
в котором находятся миры. Горизонтальный план легко преобразу¬
ется в вертикальный. Этот обмен планов присущ и скандинавской,
и индийской мифологиям. Важно, что инвариантом выступает пе¬
ресечение этих планов — некоторый фокальный топос, как прави¬
ло отражающий интуицию ближайшего пространства, в котором
обитает данный народ, генерирующий данную мифологию. Напри¬
мер, у древних египтян такой системой отсчета выступала долина
Нила. На уровне мифа космологическое сознание, в том числе об¬
ращающееся к представлению о многих мирах, можно назвать поэ¬
тому топоцентристским (термин Г. М. Идлиса5). Но если сходство
древных мифологий с построением Анаксимандра нельзя не отме¬
тить, то столь же невозможно не отметить и резкого различия
между ними. У Анаксимандра топоцентристская перспектива заме¬
нена геоцентристской, вертикальное структурирование космоса за¬
менено сферической структурой с использованием в явном виде
принципа изономии, объясняющего центральное положение Земли.
Вместе с использованием в космологическом сознании принципа
изономии наряду, конечно, и с некоторыми другими особенностями
мысли, обнаруженной у первых греческих мыслителей из Милета,
мы вступаем на почву умозрительной теоретической космологии.
Именно на этой почве у атомистов Греции создается грандиоз¬
ное по своей смелости и цельности учение о ММ, положившее ос¬
нование европейской традиции множественности миров. Это уче¬
ние было гениальным, опережающим время предвосхищением. На
его основе не могла развиваться античная астрономия в силу его
исключительно умозрительного характера. Но движение истории,
прогресс в астрономии, в математике и механике, в технике на¬
блюдений и ряд других факторов способствовали тому, что пробле¬
матика ММ постепенно пропитывалась астрономическими реалия¬
193
ми. Когда начинает расшатываться фундамент перипатетической
физики, то при этом затрагиваются и основы соответствующей кос¬
мологии. В частности, вместо аристотелевского учения о единствен¬
ности центра притяжения (земля) возникает представление о мно¬
жественности центров притяжения во вселенной, а каждый такой
центр мыслится как автономный мир. «Вероятно,— говорит Стивен
Дик,— именно благодаря понятию о «центре притяжения» тради¬
ция множественности миров переместила фокус своего внимания от
множества аристотелевских koo/.ioi к множеству землеподобных
планет. Леонардо и Николай из Кузы представляют собой важней¬
ший поворотный пункт в этой эволюции»6. Это безусловно револю¬
ционный сдвиг в представлениях о вселенной. Но он легко усваива¬
ется традицией множественности миров благодаря тому, что хотя
понятие о мире и переформулируется, но сам принцип ММ при
этом сохраняется. Этот поворот в философско-космологическом
мышлении поддерживался различными факторами, в том числе
возрождением традиций неоплатонизма и пифагореизма в эпоху
Ренессанса, а на его размах и мировоззренческо-научное значение
самым решительным образом повлиял Коперник. В результате это¬
го поворота традиция ММ несет с собой уже не античное представ¬
ление о космосе как конечной замкнутой геоцентрической системе,
включающей в себя все видимые небесные тела, а новое представ¬
ление о мире, свободное от конечности вселенной и геоцентризма.
Так традиция ММ стыкуется с революционным обновлением веду¬
щих понятий космологии, физики, философии.
При этом меняется и режим функционирования традиции ММ:
вместо представления о множестве миров, в слабой степени свя¬
занных с проблемой их населенности, возникает представление о
множестве именно обитаемых миров — признак обитаемости ста¬
новится необходимым в новом понятии о мире. Это происходит у
Дж. Бруно и у Николая из Кузы. Это вполне понятный сдвиг и но¬
вовведение, потому что при трактовке мира как землеподобного
небесного тела на первый план, естественно, выступает его анало¬
гия с Землей — обитаемой планетой.
Важно еще подчеркнуть, что при этом развивается и новый
эпистемологический статус учений о ММ: в их состав начинает все
больше и больше входить наблюдательная астрономия. Тема ММ
астрономизируется, но опять-таки сохраняется как историческая
традиция.
Можно выделить два этапа астрономизации традиции ММ. Во-
первых, это умозрительная подготовка к включению опытного и
математически оформленного, инструментально обеспеченного зна¬
ния в когнитивные структуры мышления о ММ. Отмеченное нами
революционное преобразование понятия о мире уже само по себе
делает миры в принципе открытыми для наблюдений и эмпириче¬
ских верификаций утверждений о них. Но в эпоху Возрождения,
когда это происходит, в системе обоснования ММ продолжают до¬
минировать умозрение, метафизические и теологические конструк¬
ции. Перелом наступает только в начале -XVII в., когда Галилей
194
проводит первые телескопические наблюдения Луны, неподвижных
звезд, Млечного Пути, а также четырех спутников Юпитера. Рево¬
люционное значение этих открытий было ясно осознано Кеплером,
прямо заявившим, что селенографическое приложение к его произ¬
ведению «Сон» было составлено «на основе» наблюдений, которы¬
ми,— как он пишет,— я обладаю в настоящее время»7. В посвяще¬
нии к этому приложению он говорит, что возникающие вопросы
надо «решать по частям на основе наблюдений, открытых при по¬
мощи зрительной трубы, если эти явления приведены в соответст¬
вие с заключениями, выведенными из аксиом оптики, физики и
метафизики»8. В иерархии аргументов в пользу ММ метафизиче¬
ские допущения начинают выясняться оптикой, физикой — наука¬
ми нового типа, которые в это время возникают заново или ради¬
кально преобразуются. Вот с этого времени и начинается прямая
астрономизация традиции ММ, а XVII век и последующие века
проходят уже под ее знаком. Так, Дж. Вилкинс, автор известного
трактата о ММ, стоявший кстати, у истоков создания Лондонского
Королевского общества, утверждал, что целью его сочинения
(1638 г.) является построение такой картины Вселенной, которая
бы опиралась на «свидетельство глаз Галилея»9. А уже в конце
XVII в. Гюйгенс решительно отбросил тезис о существовании жиз¬
ни на Луне, исходя непосредственно из результатов астрономиче¬
ских наблюдений, производимых им самим при помощи им же усо¬
вершенствованного телескопа.
Традиция ММ выдерживает не только научную революцию в
космологии и астрономии, но и альтернативу в принципах обосно¬
вания, учений о ММ, возникшую после известного декрета еписко¬
па Парижа (1277 г.), осуждающего тезис о невозможности для бога
создать множество миров. Тогда возникли в принципе две основные
возможности в обосновании учений о ММ: 1) ММ может создавать¬
ся беспредельной мощью Бога-творца (теологический креационист¬
ский подход); 2) ММ может создаваться за счет вполне автономно
действующей по своим законам природы, причем аристотелевская
физика при этом отбрасывается в той или иной мере (натуралисти¬
ческий физический подход). В истории были реализованы обе
стратегии. Переключение в способах обоснования учений о
ММ было усвоено соответствующей традицией. Оба подхода мог¬
ли смешиваться между собой в конкретных исторических вариан¬
тах эволюции темы ММ, что было типично для мыслителей Воз¬
рождения.
Традиция ММ не только сумела ассимилировать самые разные,
достаточно глубокие нововведения и революционные перевороты в
знании, но и послужила мощным революционизирующим факто¬
ром. История позволяет раскрыть ее функцию в преобразовании
космологического сознания при переходе к новой научной картине
мира. Как показали исследования Дика, Кроу10, а также наши соб¬
ственные, традиция ММ имеет не столько маргинальный паранауч-
ный статус, сколько внутринаучный и история ММ принадлежит не
только к истории религий, мифа, литературы и философии, но и
195
прежде всего к истории науки. Маргинальное™, междисциплинар¬
ность этой традиции вовсе не отнимает у нее собственно научной
значимости, что убедительно подтверждает ситуация в современ¬
ной космологии. В этой глубокой укорененности темы ММ в куль-
туре — одна из причин удивительной исторической долгоживуче-
сти соответствующей традиции.
В истории генезиса, роста и преобразования знаний можно вы¬
делить, как мы уже сказали, два принципиально различных вида
истории. Во-первых, историю научных знаний в собственном смыс¬
ле слова, что мы обычно и называем историей науки. Так, об исто¬
рии научной химии говорят, начиная с работ Бойля или Лавуазье.
Во-вторых, существует то, что можно назвать историей натурфило¬
софских знаний, историей знаний, якобы «предвосхищающих» на¬
учные знания в первом смысле слова, описываемые в истории на¬
ук. Кратко говоря, это история наук и история их «предвосхище¬
ний». Механизмы образования знаний, механизмы их накоплений,
трансляции, механизмы традиции в этих двух видах истории суще¬
ственным образом различаются. Дело в том, что структуры «пред¬
восхищающего» знания «вмонтированы» в совершенно другие кон¬
тексты культурно-познавательного плана. Во-первых, они состав¬
ляют, как правило, одно целое с философией, свободно пересекаясь
на этих правах и с литературой, и с теологией. Научные же знания
характеризуются достаточной культурной автономией и когнитив¬
ной жесткостью, что конечно, нельзя понимать в том плане, что
философия или иные подразделения культуры никак не влияют и
не взаимодействуют с ними. Но отделение науки от натурфилосо¬
фии в XVII—XIX вв.— факт неоспоримый и принадлежащий к
истории становления науки в ее современной дисциплинарной
структуре. История натурфилософских «предвосхищений» перепле¬
тается самым непосредственным образом и с искусством, и с поли¬
тическим и утопическим мышлением, как это было у Платона,
Кампанеллы, Бруно. Эти две истории не находятся в отношениях
временной смены «предвосхищений» наукой — они длительное
время, если не всегда, сосуществуют друг с другом и эволюциони¬
руют на первый взгляд почти совершенно независимо друга от дру¬
га. Действительно, мы не можем отрицать влияния натурфилософ¬
ской космологии Бруно на астрономию его времени, но оно было,
видимо, очень незначительным. Но если мы примем во внимание
план «предвосхищений», то в этом историческом ряду влияние
Бруно вполне соразмерно его гениальным и опережающим время
концепциям. Здесь следует назвать, например, Лейбница. Период
научной революции в данном аспекте представляет собой историче¬
ски исключительный период. Действительно, в эту эпоху действу¬
ют личности, в которых перегородки между этими двумя типами
истории как бы отменяются или становятся «прозрачными». Таков
как раз феномен Лейбница, Декарта, Ньютона. Мы не назвали
Кеплера и Галилея, которые, кстати, понимали значение космоло¬
гии Ноланца, о чем мы имеем признание Кеплера в его письме к
Галилею. Такая ситуация воспроизводится и в начале XX в. у
196
творцов новейшей научной революции. Но в периоды «нормально¬
го» развития науки для массы ученых практически не существует
история «предвосхищений» и ее гениальных представителей.
Для историка методологически важно закрепить это сознание
об отсутствии прямой сквозной кумулятивной связи между «пред¬
восхищающей» историей и историей собственно научных знаний.
Но другой, не менее важный в методологическом плане момент —
момент возможной, а часто непредвиденной и поэтому иногда ка¬
жущейся парадоксальной связи этих двух историй. В культуре нет
абсолютных перегородок, сквозь которые «осмос» был бы нацело
запрещен. И задача историка выявить порой очень трудно опреде¬
лимые пути такого «осмоса», благодаря которому в конечном счете
осуществляется движение науки, хотя в целом такое контактирова¬
ние ненауки и науки далеко неоднозначно в плане его влияния на
непосредственный прогресс научных знаний.
Что же такое все-таки история «предвосхищений», или «пред¬
восхищающая» история? «Предвосхищающая» история не синоним
античной или средневековой истории знаний уже потому, что в ан¬
тичности были заложены основы некоторых научных дисциплин
вполне в строгом смысле слова. В частности, история античной ма¬
тематики и частично история античной астрономии являются исто¬
риями научных знаний, а не историями ненаучных «предвосхище¬
ний» будущей науки. Итак, «предвосхищения» — это вовсе не то,
что просто предшествует научным знаниям по времени, нет, это
прежде всего совершенно другое по способу генезиса и функциони¬
рования формообразование культуры, чем наука.
«Континуальное» и «дисконтинуальное» в развитии науки:
случай М. С. Цвета
Обратимся теперь к анализу истории собственно научных зна¬
ний, а именно к одному эпизоду из истории химии нашего века.
История открытия хроматографического метода анализа
(М. С. Цвет, 1903 г.) и его дальнейшая судьба чрезвычайно инте¬
ресны для исследования таких важнейших характеристик истори¬
ко-научного процесса, как, с одной стороны, непрерывность, пре¬
емственность и традиционность в движении знания, а с другой —
революционные изменения, инновации, разрывность, дискретность,
вносимые крупными вкладами в познание и преобразование мира.
Историки науки на протяжении жизни многих поколений находи¬
лись и в большинстве своем продолжают еще находиться под силь¬
ным влиянием кумулятивистской и континуалистской установки.
Согласно такой установке, часто имеющей характер неосознавае¬
мой предпосылки концептуализации изучаемого историками эмпи¬
рического материала, научное свершение медленно, практически
неопределенно долго, вызревает, начиная с самых отдаленных пе¬
риодов развития человечества и кончая современностью. В плане
такой установки историк, почти не отдавая себе в том отчета, рас¬
полагает факты, дает периодизацию изучаемого им научного вкла¬
197
да, находит его предшественников. Новизна, неожиданность, ори¬
гинальность творческой инновации автора изучаемого историком
научного вклада там самым неизбежно стираются или в какой-то
степени сглаживаются. Создается впечатление, что крупный вклад
в науку является делом многих поколений, исподволь накапливаю¬
щих наблюдения и делающих последовательные попытки теорети¬
ческих обобщений. Такая установка (“априорный44 кумулятивизм)
базируется естественным образом на индуктивистской концепции
научного знания. Между умением ремесленника, опытом аптекаря
и металлурга, с одной стороны, и теоретическими построениями
профессиональных ученых — с другой, фактически не проводится
никакой принципиальной границы. Накопленные в повседневной
практике сведения, согласно такой концепции, незаметно обобща¬
ясь, перетекают в теоретические понятия, становясь научными
свершениями высокой теоретической нагруженности. Но добросове¬
стный историк-фактограф, без всякой методологической рефлексии
совершая свое исследование и выстраивая ряд отдаленных «предпо¬
сылок» изучаемого им вклада в науку, совершенного в Новое вре¬
мя в период развитого естественнонаучного познания мира или
даже в современный период, не смог бы самим приводимым им
материалом оправдать некритически применяемую им континуа-
листскую, кумулятивистско-индуктивистскую установку. Но, как
правило, он не замечает того, что его фактический материал, его
часто интереснейшие скрупулезные анализы фактов приводят к
резкому противоречию с его установкой, которой он пользуется как
общей схемой для распределения и упорядочивания изучаемого им
материала. Охарактеризованная нами ситуация является весьма
типичной для многих историко-научных исследований, и вывод,
который из нее непосредственно следует, ставит под вопрос право¬
мочность такой априорной континуалистской установки. Это ни в
коем случае не означает, что в истории нет преемственности, что в
ней не действуют традиции. Траектория движения науки склады¬
вается из взаимодействия преемственности и «разрывности», тра¬
диций и инноваций, кумуляций знаний и их «скачков», причем
это взаимодействие носит всегда конкретно-исторический характер
и должно быть сознательной целью историко-научного исследова¬
ния, реконструирующего прошлое. Если сказать предельно кратко,
то видеть в движении науки только преемственность, накопление
знаний, постепенный прогресс и линейность — значит искажать
историю, упрощать, сглаживать, спрямлять ее путь. На современ¬
ном этапе историко-научных исследований такая односторонняя ус¬
тановка явно тормозит прогресс истории науки. В свое время она
была прогрессивным явлением, но уже в прошлом веке стала обна¬
руживаться ее односторонность. В XX в. ряд крупных историков и
эпистемологов развили новое методологическое видение науки и ее
истории (Койре, Башляр, Кангийем и др., в том числе и советские
историки). И сегодня, когда, кажется, уже нет спора об этих ос¬
новных категориях истории науки в целом, многие историки про¬
должают работать по старинке, линеаризируя историю, упрямо
198
отыскивая «предшественников» своим героям во всех ее периодах,
соединяя — очевидно, только в своем воображении — часто просто
несоединимое, маскируя тем самым реальный разрыв, плодотвор¬
ный инсайт, оригинальный вклад-инновацию.
Современная история науки стремится к высокой степени ана¬
литичности. Именно аналитическая дифференцировка «профиля»
предмета историко-научного исследования позволяет найти конк¬
ретные подходы к решению общей методологической «сверхзадачи»
синтеза установок на преемственность, с одной стороны, и на «дис-
континуальность» — с другой. «Непрерывность» и «дисконтинуаль-
ность» выступают как характеристики, релевантные для разных
«сечений» предмета историко-научного исследования. И в резуль¬
тате сам научный вклад предстает как уникальный синтез этих
«сечений».
Покажем такое «пересечение» континуализма и дисконтинуа-
лизма в истории науки на примере открытия Цветом адсорбцион¬
ного хроматографического анализа. Мы будем использовать непос¬
редственно работы самого Цвета, который всегда лаконично, но
точно называет своих коллег, с работами которых связаны его соб¬
ственные. Не доверять Цвету в этом отношении у нас нет никаких
оснований. Его предельная честность, справедливость, даже щепе¬
тильность в отношении признания заслуг других ученых, его широ¬
чайшая эрудиция и научная смелость общепризнаны.
Как известно, Цвет занимался прежде всего проблемами фито¬
физиологии, и в частности такой трудной проблемой, как состав и
строение хлорофилла. Уже в его магистерской диссертации, посвя¬
щенной проблемам клеточной физиологии, центральное место за¬
нимает глава о хлоропластах. «Именно эта часть работы,— пишут
А. А. Рихтер и Т. А. Красносельская,— послужила М. С. исходной
для его дальнейших работ, она стала связующим звеном между его
женевскими исследованиями и работами последующих периодов»11.
С 1901 г. перед Цветом встала конкретная проблема: почему хло¬
рофилл, полученный из листьев растений, нерастворим в бензине и
лигроине? Цвет занимается в эти годы (1901 —1903 г.) исключи¬
тельно этой проблемой. Вот как рисует Цвет проблемную ситуа¬
цию, в которую он всецело погрузился: «Этот вопрос, далеко не
безразличный для выяснения физического строения и химического
состава хлорофилльного аппарата, остается до сих пор неразрешен¬
ным. Блестящее развитие химии производных хлорофилла заслони¬
ло собой целый ряд значительно более интересных с физиологиче¬
ской точки зрения вопросов. Те немногие исследователи, которые
обратили внимание на отмеченные нами явления, предложили раз¬
личные, взаимно противоречащие объяснения, не обоснованные
сколько-нибудь прочно экспериментально»12. Итак, во-первых,
Цвета интересуют проблемы физиологии растений, а не химия, по¬
лучившая, как он отмечает, большое развитие в связи с исследова¬
ниями хлорофилла и его производных. А во-вторых, Цвет стремит¬
ся к решению важных для физиологии растений проблем методами
точного и надежного эксперимента. Исходя из таких установок,
199
Цвет начинает свои бесподобные по тщательности, изобретательно¬
сти и точности экспериментальные исследования. Конечно, у него в
данном плане есть «предшественники», и он их всех сам указыва¬
ет. Это «маститый венгерский физиолог» Визнер, описавший в
1874 г. различное поведение бензола, толуола, скипидара и сероуг¬
лерода в качестве растворителей хлорофилла и давший поставлен¬
ному Цветом вопросу о причинах нерастворимости хлорофилла в
бензине и лигроине такое объяснение: «...протоплазма не допускает
указанные растворители к хлорофиллу, и поэтому он в них нераст¬
ворим». Это и немецкий фитофизиолог Саксе, а также Краус,
Гинье, Арно, Манна и Монтеверде, изучавшие проблему раствори¬
мости — нерастворимости хлорофилла в петролейном эфире и бен¬
зине и давшие этой нерастворимости разные объяснения13. Все вы¬
двинутые этими исследователями объяснения, по мнению Цвета,
взаимно противоречили друг другу, и уже поэтому требовалось
найти новое и надежно установленное в эксперименте решение.
Опыты Цвета, начатые им в 1900—1901 гг., привели его к чет¬
кому и экспериментально подтвержденному решению указанного
вопроса: «...нерастворяемость большей части хлорофилльных пиг¬
ментов из листьев в бензине и лигроине обуславливается не их не¬
растворимостью в этих жидкостях, а задерживающим действием
молекулярных сил субстрата, т. е. адсорбционным поглощением»14.
Подчеркнем, что только в ответе на этот центральный для Цвета
вопрос он «вышел» на явление адсорбции. До этого Цвет никогда
не исследовал адсорбцию как таковую и не продолжал богатую
традицию ее исследования, так как не ставил перед собой физико¬
химических задач, выступая, как мы это видели, как фитофизио¬
лог. Но раз он уже «вышел», решая свою специальную фитофизио¬
логическую проблему, на явления адсорбционного поглощения
пигментов хлорофилла стромой зеленого листа, то стал со всей
тщательностью экспериментатора изучать эти явления на своем
материале, т. е. на материале поглощения растительных пигментов
различными адсорбентами.
Доказывая свое решение вышеизложенной проблемы, Цвет по¬
строил модель зеленого листа. Это второй важнейший шаг на пути
его открытия хроматографии. Вот как была приготовлена Цветом
эта модель, которая должна была подтвердить его объяснение на¬
блюдаемой нерастворимости хлорофилла в бензине и лигроине:
«Извлеченный из листьев хлорофилл, нацело растворимый в лигро¬
ине, путем выпаривания раствора в безвоздушном пространстве, в
присутствии фильтровальной бумаги, внедряется в последнюю. Ок¬
рашенная таким образом хлорофиллом бумага относится к растово-
рителям точь-в-точь как первоначальный зеленый лист»1*. Это и
есть модель зеленого листа. Именно модель, так как сконструиро¬
ванное Цветом устройство имитирует только часть исследуемых им
свойств живого листа, а именно растворимость — нерастворимость
пигментов в органических растворителях. Лигроин извлекает из
этой модели только каротин, оставляя хлорофилл, а для освобож¬
дения и перевода в раствор других пигментов требуется добавить к
200
используемому растворителю спирт. Заключение о физической
адсорбции как механизме удержания хлорофилльных пигментов
на строме листа доказывалось Цветом тем, что взаимодействие
химического порядка между целлюлозой фильтровальной бумаги
и хлорофилльными пигментами «в высшей степени невероятно»
(Там же).
Создав модель листа, Цвет сделал решительный шаг к откры¬
тию хроматографии. Действительно, он открыл причину удержания
стромой листа хлорофилльных пигментов. Построив искусственный
лист, он это «удержание» объяснил адсорбцией. Целлюлозный суб¬
страт поглощает пигменты по-разному: каротин легко извлекается
лигроином, а другие хлорофилльные пигменты нет. Избирательная
адсорбция! Но это еще далеко не хроматография! Наблюдения над
избирательными поглощениями растворенных в различных раство¬
рителях веществ велись давно. Это длительная историческая тради¬
ция. Уже Аристотель описывал такие случаи как в своих «Пробле¬
мах», что отмечают Саксе и сам Цвет16, так и, как это гораздо ме¬
нее известно, в своей «Метеорологике» (II, 3, 359а, 1—6)*7, где он
дает описание устройства для обессоливания морской воды. Сам
Цвет считал, что Аристотелю вряд ли можно приписать знание по¬
глотительных (в смысле адсорбции) свойств почв (в “Метеорологи¬
ке44 в качестве очистителя описан воск). Очевидно, что далеко не
всякую задержку одного вещества в другом можно считать адсорб¬
цией. Первая теоретическая концепция адсорбции была создана
только Т. Е. Ловицем (1790 г.) а само название адсорбции для оп¬
ределенных видов поглощения одними веществами — их поверхно¬
стями — других было дано, как это отмечает Цвет, в 1835 г.
Франкенхаймом18.
Цвет не остановился на достигнутом результате, а погрузился в
дальнейшие исследования, отталкиваясь от достигнутого. Он стал
методически* изучать пигменты хлорофилла по их отношению к
различным адсорбентам в различных ситуациях растворения и по¬
глощения. Уже в докладе, прочитанном 8 (21) марта 1903 г. в Био¬
логическом отделении Варшавского общества естествоиспытателей,
Цвет указывает три разные методики, которые он применял для
изучения адсорбционного поведения пигментов хлорофилла. И од¬
на из этих методик оказалась как раз знаменитым в будущем хро¬
матографическим приемом. Явление, которое Цвет обнаружил при
пропускании растворителя через инулиновый столб адсорбента с
поглощенными пигментами в поверхностных слоях, он назвал в
этом докладе «особенно поучительным»19. Это явление состояло в
значительном расширении окрашенных колец, в их распростране¬
нии по всему столбу адсорбента при действии на него потока чис¬
того растворителя. В 1906 г. Цвет уже хорошо изучил это явление
и оценил его великолепные разделительные и аналитические воз¬
* Уместно здесь напомнить приводимое Цветом в его докторской диссертации
1910 г. «Хромофиллы в растительном и животном мире», являющейся самой пол¬
ной и фундаментальной его работой, такое изречение: «...tout progres scientifique
est un progres de m6thode*.
7 Заказ N9 434
201
можности. «Разделение становится практически совершенным,—
указывает Цвет,— если после пропускания вытяжки пигментов че¬
рез столбик адсорбента его промывать струей чистого растворителя.
Как лучи в спектре, в столбике углекислого кальция закономерно
располагаются различные компоненты смеси пигментов, давая воз¬
можность своего качественного и количественного определения.
Получаемый таким образом препарат называю хроматограммой, а
предлагаемую методику — хроматографической»2^. К этому време¬
ни (1906 г.) Цвету уже были ясны «необыкновенная применимость
и производительность» открытой им методики.
Фитофизиология «навела» (наведение или индукция — метод,
описанный еще Аристотелем) Цвета на новый подход к изучению
(и применению) адсорбционных явлений. Здест. нельзя не вспом¬
нить «фигуру» открытия Америки Колумбом, считавшим, что он
нашел новый путь в Индию (об этой “колумбовой" логике науч¬
ных открытий удачно и в полном соответствии с нашим анализом
говорят в данном сборнике Н. Кузнецова и М. Розов). Именно поэ¬
тому открытие Цвета в данной области выступило как бестради-
ционная инновация, не имеющая предшественников в прошлом
среди тех, кто изучал адсорбцию или занимался аналитической хи¬
мией. Итак, еще раз для ясности зафиксируем этот стержневой для
нас момент: решение вспомогательной по отношению к фитофизио¬
логии задачи из области адсорбционных явлений и стало фокусом
основной скачкообразной, «дискретной» инновации в данной обла¬
сти, положившим начало новой мощной традиции аналитической
химии*.
Подведем краткие итоги. Как же сочетаются в открытии метода
адсорбционного хроматографического анализа традиции, преемст¬
венность и непрерывность процеса научного развития, с одной сто¬
роны, и его разрывность, прерывность, скачкообразность — с дру¬
гой? Открытие элюентно! о или проявительного хроматографическо¬
го приема — действие струи чистого растворителя на адсорбиро¬
ванный на поглотителе слой разделяемой смеси веществ — знаме¬
нует собой яркое проявление скачкообразной инновации. Это,
несомненно, момент радикальной новизны, не имевший своих
предшественников в прошлом. Действительно, никакие опыты,
проводившиеся в XIX в. по изучению адсорбции, не содержали в
себе такого приема или даже его «предвосхищения» — ни опыты
Ф. Рунге или Ф. Гоппельсредера, ни опыты с углеводородами неф¬
ти С. К. Квитки и Д. Дея. Открытие приема, названного впослед¬
ствии элюентной хроматографией, является типичным примером
«прерыва» постепенности научного развития, внесения в него не¬
ожиданной и крупной инновации, для которой не было предшест¬
венников и «предвосхитителей» в прошлом. Идея элюентной хро¬
матографии родилась в опытах Цвета и зафиксирована в его работе
1903 г. Но если мы возьмем другие составляющие исследований
* Случай с открытием Цвета укладывается в предложенную Б. С. Грязновым схему,
когда новое знание возникает как «поризм» .
202
Цвета, в частности трактовку им механизмов процессов хроматог¬
рафирования, то здесь мы обнаружим совсем иную эпистемологи¬
ческую картину. Сам Цвет, в частности, истолковывал хроматог¬
раммы, им полученные, как явление адсорбционного замещения,
которое является необходимым следствием термодинамической тео¬
рии адсорбции, но на которое, однако, «не было обращено доселе
должного внимания»21. И в фитофизиологических исследованиях
хлорофилла, и в физико-химических исследованиях адсорбции, и в
других направлениях работа Цвета в целом была связана с работа¬
ми других ученых, с проблемами и подходами к их решению, тра¬
диционно разрабатываемыми в физической химии, в биохимии и
физиологии растений. Для истолкования элюентной хроматографии
Цвет нуждался в массиве физико-химических знаний самого разно¬
го плана, включая, конечно же, прежде всего учение о сорбцион¬
ных процессах. И что очень важно, так это связь «дисконтинуаль-
ного вклада» (элюентная хроматография) с «континуальным впи¬
сыванием» его в «массив» науки и техники. Действительно, после
почти двадцатилетней паузы в 1931 г. начинается бурное развитие
хроматографии: «дискретный» вклад получает «континуальную»
жизнь в науке, знаменуя начало новой традиции.
Проделанный нами анализ показывает, что инновация возника¬
ет тогда, когда одна традиция (в данном случае фитофизиологиче¬
ская) «отпочковывает» через «поризм» новую традицию в «сосед¬
ней» дисциплине (в разобранном примере — аналитико-химиче¬
скую). И поэтому инновация выступает как образование на базе
старых новых традиций.
Мы можем сделать теперь такой общий вывод, сравнивая дейст¬
вие механизма «традиция-инновация» в натурфилософский, «пред-
научный» период истории знаний, с одной стороны, и в собственно
научный период их развития — с другой. Традиции в первом пе¬
риоде являются более устойчивыми,в высшей степени способными
к адаптациям к новым условиям, представляя собой некие глубин¬
ные, прочно укорененные в культуре тематические ориентации
мышления. Напротив, в период собственно научной истории боль¬
шую значимость приобретает инновация, которая может послужить
началом новой традиции. «Кроссинги» разных подходов, формиру¬
ющие междисциплинарные «стыки», динамизируют механизм свя¬
зи традиции и инновации.
1 См.: Холтон Дж. Тематический анализ науки. М., 1981
2 Зубов В.П. Развитие атомистических представлений до начала XIX века . М.,
1965.
3 Визгин Вик. П. Идея множественности мигюв: Очерки истории. М., 1988; Michael
Crowe. The Extraterrestrial Life Debate 1750—1900: The idea of plurality of worlds
from Kant to Lowell. Cambridge, 1986; Steven I.Dick. Plurality' of Worlds: The Origins
of the Extraterristrial Life Debate from Democritus to Kant. Cambridge, 1982. (Рец.
на кн.: Визгин В. П. Проблема множественности миров как предмет историко-на¬
учного исследования // Вопр.истории естествознания и техники. 1985. № 3).
4 Это подробно рассмотрено нами в работе «Идея множественности миров. Очерки
истории» (М., 1988).
5 Идлис Г. М. Революции в астрономии, физике и космологии. М., 1985.
6 Steven l.Dick. Plurality of Worlds: The Origins of the Extraterristrial Life Debate from
Democritus to Kant. Cambridge, 1982. P. 4.
7*
203
7 Ibid. P. 177.
8 Кеплер M. О шестиугольных снежинках. М., 1982. С. 152.
9 Steven /.Dick. Plurality of Worlds... P. 177.
10 Crows M. The Extraterrestrial Life Debate 1750—1900. The idea of plurality of worlds
from Kant to Lowell. Cambridge, 1986; Dick S. Plurality of Worlds. The Origins of the
Extraterrestrial Life Debate from Democritus to Kant. Cambridge, 1982.
11 Рихтер А. А., Красносельская T. А. Роль M. С. Цвета в создании хроматографи¬
ческого адсорбционного анализа // Цвет М. С. Хроматографический адсорбцион¬
ный анализ: Избр. работы / Ред. акад. А. А. Рихтера и проф. Т. А. Красносель¬
ской. М. 1946. С. 217.
12 Цвет М. С. Физико-химические исследования хлорофилла. Адсорбции // Там
же. С. 31.
13 Там же. С. 31—32.
14 Цвет А/. С. О новой категории адсорбционных явлений и о применении их к
биохимическому анализу // Цвет М. С. Хроматографический адсорбционный
анализ. С. 12—13.
15 Там же. С. 13.
1ь Цвет М. С. Хромофиллы в растительном и животном мире (1910) // Там же.
С 82
17 Аристотель. Метеорология // Собр. соч. В 4 т. Т. 3. М., 1981. С. 441—558.
18 Цвет М. С. Хромофиллы в растительном и животном мире. С. 83.
19 Цвет М. С. О новой категории адсорбционных явлений и о применении их к
биохимическому анализу. С. 21.
20 Цвет М. С. Физико-химические исследования хлорофилла. Адсорбции. С. 39.
21 Цвет М. С. Хромофиллы в растительном и животном мире. С. 1з8.
22 Грязнов Б. С. Логика. Рациональность. Творчество. М., 1982. С. 114—116.
В. П. ФИЛАТОВ
«НАРОДНЫЕ НАУКИ» В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ
В статье В. Я. Филатова анализируется природа «народных
наук» — своеобразных форм опыта и знания, связанных с доми¬
нирующими в традиционных обществах практиками. В истори¬
ческой перспективе прослеживается их взаимодействие с собст¬
венно научным знанием, их положение в эпоху НТР. На примере
«народной агрикультуры» рассматривается судьба этого знания
в отечественной истории, вплоть до коллективизации и куль¬
турной революции конца 20-х годов, практически полностью по¬
дорвавших практическую и духовную основу «народных наук»,
В последние годы в философии и в общественном сознании за¬
метно возрос интерес к донаучному и вненаучному знанию. Фило¬
софы стали более внимательно анализировать повседневный опыт и
массовое сознание, они, а также многие люди, интересующиеся
проблемами духовной культуры, стремятся глубже понять природу
мистического опыта, магии, таких современных околонаучных фе¬
номенов, как парапсихология и т. п. «Народные науки» и «народ¬
ные технологии», о которых пойдет речь ниже, также относятся к
этой вненаучной сфере когнитивного опыта, слабо пока изученной
философией и весьма противоречиво оцениваемой в общественном
сознании. Но и к ним заметно возрос интерес — достаточно вспом¬
нить о непрекращающихся дискуссиях между сторонниками народ¬
ной медицины и представителями научной медицины. В данной
статье предполагается рассмотреть несколько вопросов. Это приро¬
204
да самого феномена народных наук, это общая картина их взаимо¬
отношений с научным знанием и историческими трансформациями
последнего, наконец, это судьба народной агрикультуры в контек¬
сте развития науки и политических изменений в нашей стране.
Сам термин «народная наука» весьма двусмыслен. В самом де¬
ле, эпитет «народная», казалось бы, должен указывать на неспеци¬
ализированный характер этого знания, т. е. на то, что его носите¬
лями являются все члены определенной человеческой общности. С
известными оговорками бывает и так — в случае, например, на¬
родной агрикультуры. Но все же в отличие от действительно неспе¬
циализированного повседневного опыта народные науки конституи¬
руются вокруг выделенных, жизненно важных сфер человеческой
практики. Поэтому они могут требовать немалого опыта и мастер¬
ства (секреты врачевания, строительства жилищ, приемы селекции
животных и т. п.) и складываться в достаточно специализирован¬
ные системы знания. С другой стороны, слово «наука» уместно
здесь в основном потому, что в ходе истории возникли собственно
научные дисциплины, аналогичные соответствующим народным на¬
укам — народной медицине, агрикультуре, педагогике и т. д. Сами
же по себе эти последние не относятся к науке как таковой ни в
современном ее понимании, ни в понимании античном или средне¬
вековом. Это донаучный или вненаучный тип знания, частично
фиксируемый понятиями «техне», «фронезис», «практическое уме¬
ние», а чаще вообще не принимавшийся в расчет в гносеологиче¬
ских типологиях.
Какие есть основания для выделения этого знания в особый
тип, какие точки зрения на его природу существуют в современной
литературе? Весьма серьезно относятся к народным наукам этно¬
графы. У них этот феномен не вызывает сомнений и изучается под
именем «этнонауки». Этномедицина, этнопедагогика, сложные сис¬
темы социальных отношений, традиционные системы природополь¬
зования в архаических бесписьменных культурах закрепляются и
транслируются посредством обрядов, магической практики и т. п.,
позволяя носителям этого знания веками выживать в грозном при¬
родном окружении. Нередко подобные этнонауки приобретают
весьма изощренный характер. Например, сложной «наукой навига¬
ции» обладали народы, жившие морским промыслом или торгов¬
лей. Так, мореплаватели с тихоокеанского острова Палават и в на¬
ши дни совершают переходы на сотни миль без компаса, успешно
ориентируясь с помощью стройной и систематической «когнитив¬
ной карты», не имеющей ничего общего с европейским понимани¬
ем перемещения в пространстве. Эта когнитивная карта построена
«на основе весьма отвлеченного принципа. Острова отсчета никогда
нет в поле зрения, точно так же очень редко бывают видны и звез¬
ды, под которыми он “передвигается“. Большая часть релевантной
информации на самом деле оказывается результатом расчетов
“вслепую", наблюдений за волнами, морскими приметами и пти¬
цами; но каждый из этих признаков мореплаватель обязательно со¬
относит с воображаемым движением отдаленного острова под никак
205
нс обозначенными точками подъема невидимых звезд. Не удиви¬
тельно, что для европейцев понимание этой системы сопряжено с
огромными трудностями»1. Аналогично этому русские поморы ве¬
ками бороздили северные моря без компаса и пользовались собст¬
венной системой навигации, передаваемой из поколения в поколе¬
ние. И она складывалась из опыта наблюдений над господствующи¬
ми ветрами и течениями, незаметными нетренированному глазу
отмелями и прочими «морскими приметами».
Принципиальными чертами, отличающими подобные этнонауки
от науки как таковой (будь то древней или современной), являют¬
ся их бесписьменный характер, этническая локальность, передача
знания через рецепты действия и ритуалы, встроснность в религи¬
озно-мифологическое миропонимание. Письменность играет здесь
особую роль. По мнению Э. Гуссерля, с которым трудно не согла¬
ситься, письменный язык в отличие от устной коммуникации обес¬
печивает такие необходимые для науки предпосылки и условия как
удержание идентичности определенных структур мышления (в час¬
тности, идеальных объектов), возможность развернутой и контро¬
лируемой логической аргументации, возможность систематической
и отдаленной по времени критики утверждений и т. п. В целом
благодаря письменности коммуникация носителей знания перехо¬
дит на новый уровень, поскольку становится возможной без непос¬
редственной адрссованности мысли конкретным лицам, что харак¬
терно для научно-теоретических рассуждений2.
В этом плане возникает проблема: можно ли относить к народ¬
ным наукам, как это иногда делается, виды традиционного знания,
которые существовали в древних высокоразвитых цивилизациях и
которые фиксировались в письменных трактатах. Например, тради¬
ционную китайскую медицину или не имевшую аналогов на Запа¬
де китайскую геомантию — науку о благоприятном расположении
жилищ и могил с учетом особенностей ландшафта. По-видимому,
хотя подобные науки носят этнический характер, а процесс их пе¬
редачи от поколения к поколению осуществляется не только через
письменность, их все же нельзя относить к собственно народным
наукам. Некоторые из традиционных китайских наук находились к
тому же под жестким государственным контролем, и к занятиям
ими допускался лишь ограниченный круг людей. Вместе с тем тра¬
диционные науки в Китае были более открыты к восприятию на¬
родного опыта, чем европейская ученость, поскольку они были тес¬
нее связаны с земледельческой практикой, в них слабо развивались
формально-логическая и математическая стороны.
Есть точки зрения, очерчивающие поле народных наук не¬
сколько иначе — не как рудиментарную область архаических этно-
вариантов «протонауки», но как сферу зачатков научности нового
типа, призванной сменить современную узкоспециализированную,
«лабораторную» науку. Так, Н. Ф. Федоров ставит вопрос «о нау¬
ке, как она есть и какою должна быть, о науке сословной и о нау¬
ке, на всеобщем наблюдении основанной, на выводах, из наблюде¬
ний производимых везде (повсюду), всегда и всеми, и на опыте,
206
производимом в самой природе, на опыте как регуляции метеори¬
ческих, вулканических, или плутонических, и космических явле¬
ний, а не на опытах, лишь в кабинетах и лабораториях производи¬
мых, на фабриках и заводах прилагаемых...»3. Этот вопрос решает¬
ся русским космистом в плане противопоставления городской (со¬
словной) науки и всеобщего (народного) сельского знания.
Н. Ф. Федоров, впрочем, указывает, что «сельское знание в стро¬
гом смысле не может быть названо знанием, так как оно не вышло
еще из мифической стадии развития»4. Однако именно с его разви¬
тием он связывает будущее человечества, и в частности реализа¬
цию собственного космократического проекта. Ясно, что Н. Ф. Фе¬
доров не предлагал законсервировать наличные народные науки на
их бесписьменной мифологической стадии. Согласно его утопиче¬
скому видению проблемы, общинно-земледельческий труд с накоп¬
ленным в нем многовековым опытом природопользования должен
быть соединен (с помощью общего дела ученых и неученых) с тем
познавательным потенциалом, который накоплен в «лаборатори¬
ях», но пока бесполезен и даже вреден в приложении к естественно
разворачивающимся космоорганическим процессам, которыми ок¬
ружен «сельский» человек.
Заметим, что в подобных устремлениях Федоров был не оди¬
нок. Несколько позже, в 20-х годах нашего века, известный авст¬
рийский философ-мистик Р. Штейнер прочел своим последовате¬
лям курс лекций «Агрикультура». В нем он, как и русский мысли¬
тель, учил, что вторжение в земледельческую практику основан¬
ных на механистическом мировоззрении технологий, химии и т. п.
ведет к разрушению глубинных связей крестьян с «матерью-зем-
лей», к утрате ими космического мироощущения. Штейнер призы¬
вал к воссозданию и развитию народной агрикультуры, BoectaHae-
ливающей утраченные лабораторными учеными связи с «физиче¬
скими и духовными силами Земли». С крестьянами, но без ученых
предполагалось выработать «биодинамические» методы на основе
традиционных земледельческих технологий и радикального отказа
от минеральных удобрений, ядохимикатов, рационально-машинных
технологий. Штейнеровские идеи альтернативной народной агри¬
культуры живы до сих пор и входят наряду с другими в программу
«органического агрикультурного движения», существующего в ряде
стран5.
Наконец, для полноты картины и для понимания ее неодно¬
значности как в когнитивном, так и в социальном аспекте следует
сказать еще об одной трактовке «народных наук», более современ¬
ной и имеющей в виду иные феномены. Она принадлежит амери¬
канскому социологу науки Дж. Раветцу, применившему понятие
«народная наука» (folk-science) для описания целого ряда сомни¬
тельных научных дисциплин, возникших в XX в.6 Это имеющие
хождение в американских университетах курсы «семейных наук»,
«административной науки», «похоронной науки» и т. п., призван¬
ные обеспечить рациональность и комфорт в различных сферах
жизни человека. Обычно ядром таких «наук» является системати¬
207
зированный опыт успешной практики в соответствующей области
деятельности. Вместе с тем представители этих «наук» в силу вы¬
сокого статуса научной деятельности в современном обществе
склонны к имитации в своих областях академической атрибутики
(учебники, аспирантура, научные степени и т. п.), повышая этим
престиж своих занятий. Последние, конечно, трудно отнести к на¬
родным наукам как таковым, более точным было бы называть их,
по нашему мнению,«поп-науками».
Опираясь на этот краткий обзор, можно указать теперь на ос¬
новные черты знания, которые относятся к народным наукам.
Прежде всего это знание, возникающее вокруг жизненно важных
сфер деятельности определенного сообщества людей, причем сооб¬
щества традиционного, не затронутого капиталистической или
иной рационализацией, еще сохранившего достаточно «плотные»
этнические структуры. Народные науки поэтому географически и
этнически локальны, что отличает их от универсализма современ¬
ного научного знания. В качестве объемлющей мировоззренческой
структуры им служит «психо-космос» традиционной земледельче¬
ской практики с его круговоротом стихий7, земельной магией,
сплавом практических действий с религиозными обрядами и ритуа¬
лами. К наиболее типичным народным наукам можно отнести на¬
родную медицину, этнопедагогику8, народную архитектуру, народ¬
ную агрикультуру или иные системы природопользования у незем¬
ледельческих народов, комплекс этносоциоэкономики, или, если
пользоваться простым языком, народное учение о жизнестроитель-
стве — «домострой». К этому комплексу знания примыкают «на¬
родные технологии» и традиционная энергетика (основанная на
энергии природных стихий — воды, воздуха, огня) — кузнечное
дело, ткачество, мелиорация и т. п. Разумеется, такие классифика¬
ции в значительной мере условны, перечисленные виды знания и
опыта тесно переплетены между собой и встроены в объемлющий
круговорот традиционной жизни с его сменой сезонов и чередой ре¬
лигиозных обрядов и праздников9. Говоря об этом, Н. Ф. Федоров
отмечал, что такое знание в России вплетено в Пасхалию: «...ка¬
лендарная форма есть самая естественная для всех знаний (знания
сельского, а не городского, для народов сельских, а не мануфактур¬
ных), если не ограничиваться только суточными, месячными и го¬
довыми периодами, но если принять все астрономические циклы, и
тогда форма знания не будет произвольною, отвлеченною от того,
каким оно является в действительности»10.
Как народные науки взаимодействовали с научно-теоретиче¬
ским знанием в истории? Здесь существовало несколько принципи¬
ально важных рубежей. Один из них отмечен выше — возникнове¬
ние письменности. Народные науки существовали и до письменно¬
сти, и в принципе письменность не играет в их судьбе существен¬
ной роли: по своей природе они транслируются в устной традиции,
в непосредственных отношениях «родители—дети», «учите¬
ля—ученики», в совместной практической, бытовой деятельности
людей. Письменность монополизируется интеллектуальной эли¬
208
той — философами, богословами, учеными, поэтами11. Но это не
разрушает живых традиций, существующих в низших слоях обще¬
ства, отделенных от этой элиты жесткими сословными перегород¬
ками. Народные науки и связанная с письменностью высокая уче¬
ность мирно сосуществовали в докапиталистических европейских
обществах, этому способствовала также принципиальная соизмери¬
мость упомянутого выше «психо-космоса» традиционной народной
жизни с рационализированным «космосом» античной и средневеко¬
вой науки.
Более серьезным и в конечном счете решающим для судьбы на¬
родных наук рубежом стало возникновение социальных формаций,
основанных не на традиционных, органических типах производст¬
ва, но на машинных технологиях, вещно-экономических связях, на
применении знания в крупномасштабном промышленном производ¬
стве. «Только при этом способе производства,— отмечал
К. Маркс,— впервые возникают такие практические проблемы, ко¬
торые могут быть решены лишь научным путем. Только теперь
опыт и наблюдения — и настоятельные потребности самого про¬
цесса производства — впервые достигли такого масштаба, который
допускает и делает необходимым применение науки... Тем самым
одновременно происходит отделение науки как науки, применен¬
ной к производству, от непосредственного труда, в то время как на
прежних ступенях производства ограниченный объем знаний
и опыта был непосредственно связан с самим трудом, не разви¬
вался в качестве отделенной от него самостоятельной силы и пото¬
му в целом никогда не выходил за пределы традиционно пополняе¬
мого и лишь очень медленно и понемногу расширяемого собирания
рецептов»12.
Не следует, конечно, понимать дело так, будто
XVI—XVII вв. — эпоха раннебуржуазных революций и революций
в науке, технике, интеллектуальной жизни в целом — окончатель¬
но подрубили корни народных наук, как это произошло в то время
со схоластической ученостью. Вместе с тем возникла новая ситуа¬
ция, при которой вышеупомянутые перегородки между народными
науками и теоретическим знанием стали разрушаться и эти типы
знания стали сталкиваться в общем поле деятельности. Если же
учесть процессы «разрушения космоса» и возникновения нового
механистического мировоззрения, упрочение чуждого народным
наукам и технологиям точного, количественного стиля мышления и
практики13, то ясно, что эти столкновения не могли уже разре¬
шиться мирным исходом. В них сходились типы знания и опыта,
несоизмеримые по своим когнитивно-метафизическим основам. Ра¬
зумеется, что эти столкновения происходили не в неком чистом
гносеологическом пространстве, подобном тому, в котором развора¬
чивался галилеевский диалог между Симпличио и Сальвиати. Они
были вплетены в многосторонние процессы нарастающей индустри¬
ализации, урбанизации, разрушения изолированных этнических
комплексов и традиционных форм жизни, рационализации старых
и возникновения новых сфер практики. Сам по себе тип знания,
209
воплощенный в народных науках, маловосприимчив к рациональ¬
ной критике и пересмотру и не приспособлен к динамичной эволю¬
ции. Попав в эти процессы, народные науки или разрушаются или
маргинализируются, влача свое существование в социальных ни¬
шах и регионах, не затронутых еще просвещением и техническим
прогрессом14.
Как отмечалось, основой народных наук является традиционная
земледельческая практика. Какова ее судьба в очерченном контек¬
сте? Обычно считается, что в Европе начиная с XVII в. начал по¬
степенно складываться современный тип земледелия. Этот процесс
был связан с ориентацией на товарное производство сельскохозяй¬
ственных продуктов, с ускорившимся ростом народонаселения, с
быстро увеличивающимися потребностями городов в продовольст¬
вии, промышленности — в сырье. В земледелии начал внедряться
современный севооборот — без паров, с включением таких нетра¬
диционных культур, как сахарная свекла, картофель и т. п. Все это
заставляло крестьян отходить от патриархальных систем земледе¬
лия, искать методом проб и ошибок новые агроприемы, заниматься
селекцией животных и растений. Реально до середины XIX в. все
это делалось практиками, на вненаучной основе. Однако с появле¬
нием в прошлом веке первой прикладной агронауки — агрохими¬
ческих исследований Ю. Либиха и его школы — процессы рацио¬
нализации земледелия стали приобретать научную основу. Внедре¬
ние неорганических удобрений, машин, основанных на генетике
приемов селекции и т. п. превратило земледелие и животноводство
в область современного интенсивного производства, мало что со¬
хранившего от традиционной народной агрикультуры. Конечно, ос¬
тровки последней сохранялись в силу постепенности этих процес¬
сов, разного уровня развития стран, наличия глубоких крестьян¬
ских культурных традиций и т. п. Так, например, в Австрии, где
Р. Штейнер поднимал контрдвижение против онаучивания земле¬
делия, традиционная агрикультура сохраняется до наших дней, по¬
лучая новое звучание в свете экологической ситуации и растущей
потребности в биологически чистых продуктах.
Поскольку народные науки этнически и географически локаль¬
ны, то обсуждение более тонких и интересных проблем, возникаю¬
щих вокруг них, должно идти на какой-либо национальной почве.
В этом отношении наша страна предоставляет массу своеобразного
и даже драматического материала. Дело в том, что здесь во взаи¬
моотношения между народной наукой и современной наукой вме¬
шались мощные политико-идеологические факторы, придавшие
всей ситуации неожиданный и противоестественный оборот. То,
что на Западе совершалось в течение столетий, в нашей стране за¬
думали провести за считанные годы в ходе «культурной револю¬
ции» на колхозных полях.
Россия была великой земледельческой страной с уходящими в
глубь веков традициями народной агрикультуры. Можно считать
последние патриархальными и допотопными, но именно на них ос¬
новывалось производство, да и вся жизнедеятельность большинства
210
русского народа. Если при этом учесть разнообразие и суровость
климатических и почвенных условий страны, особенно Нечерно¬
земья, русского Севера и Сибири, то нельзя не отдать дани искус¬
ству русских землепашцев. Достаточно почитать очерки писателей-
народников XIX в. и других знатоков быта и хозяйства крестьян¬
ской Руси, чтобы понять, что русская народная агрикультура была
сложным, разветвленным и весьма приспособленным к природным
условиям типом знания и опыта. Этот опыт тесно связан и перехо¬
дил в другие «народные науки» — «социологию» и «экономику»
(общинное самоуправление, распределение податей и оброков, ре¬
гулярные переделы земли и т. п.), «народную медицину» (земле¬
дельческий цикл включал в себя сроки сбора лекарственных расте¬
ний, предписывал посты и определенную диету в зависимости от
выполняемой работы, правила гигиены и т. д.). Он влиял на уст¬
ройство жилищ (различные виды русской избы, казацкий курень),
обладал богатой эстетической стороной (земельные обряды, празд¬
ники, игры и т. п.). Народная агрикультура, как уже отмечалось,
невозможна без традиционных технологий и традиционной энерге¬
тики, использующей силу животных и возобновимые, рассредото¬
ченные, как и само сельское хозяйство, по земной поверхности ис¬
точники энергии. Современный ученый-энергетик следующим об¬
разом описывал эту традиционную энергетику, которую по иронии
судьбы теперь называют основанной на «нетрадиционных источни¬
ках»: «В течение столетий на обширной территории России актив¬
но использовалась энергия ветра для размола зерна, обработки
круп и растительного маслоделия. До 1917 года в России действо¬
вало около 800 тысяч ветряных жерновых мельниц и толчей для
конопляного и льняного семени. Велико было и количество водя¬
ных мельниц с гидродвигателями различных типов и мощностей.
По сути, ни одна несудоходная река не обходилась без последова¬
тельного каскада гидросиловых установок. Россия как развитая аг¬
рарная страна не смогла бы существовать без развитой автономной
энергетики на возобновимых источниках, то есть той, которую мы
сегодня называем экологической»15.
Так организованное, русское земледелие было устойчивым и
самодостаточным, но, конечно не слишком эффективным, особенно
на фоне осваивающего новые методы западноевропейского сельско¬
го хозяйства. Проблема его реорганизации на базе более рацио¬
нальных и научных оснований стала осознаваться довольно рано.
Уже в 1765 г. было основано старейшее из русских научных об¬
ществ — «Вольное экономическое общество», ставившее своей
целью анализ хозяйственного положения страны, распространение
сельскохозяйственных знаний и изучение европейских агротехно¬
логий. Если оценивать последующие успехи этой программы, то
нужно признать, что они были невелики. Вплоть до 1929 г., не¬
смотря на усилия многих поколений русских аграрников16, основ¬
ная масса крестьянства не воспринимала результатов агронауки и
держалась традиций народной агрикультуры. Некоторые сдвиги на¬
метились в этой сфере с появлением земского самоуправления, од¬
211
ной из задач которого было содействие развитию земледелия. В
этой атмосфере начала свою деятельность Петровская земледельче¬
ская и лесная академия, сыгравшая огромную роль в развитии рус¬
ской сельскохозяйственной науки. В начале нынешнего века сло¬
жилась противоречивая ситуация: в России была аграрная наука
мирового уровня и патриархальная — с чистыми парами, местны¬
ми сортами, без неорганических удобрений и современной техни¬
ки — система земледелия. Лишь отдельные островки более рацио¬
нального хозяйства вкрапливались в эту традиционную, не прояв¬
ляющую интереса к агронауке стихию.
Противоречие это ощущалось уже до революции. В самом деле,
школа В. В. Докучаева, разработавшая генетическую классифика¬
цию почв, принесла России репутацию родины почвоведения. В
Петровской академии Д. Н. Прянишников создал школу аграрной
химии, в ряде отношений продвинувшуюся дальше аналогичных
европейских. В Институте прикладной ботаники начала создавать¬
ся мировая коллекция растений (позднее доведенная трудами
Н. И. Вавилова до всемирно известной коллекции ВИР) с целью
получения новых сортов на основе методов генетики. Подобное
знание должно было так или иначе найти свое применение в прак¬
тическом земледелии, однако пути к этому представлялись слож¬
ными, длительными и до конца неясными. Собственно, таковой же
ситуация оставалась и после революции с тем отличием, что путь
модернизации сельского хозяйства на базе крупных товарных
хозяйств был блокирован. Оставались, однако, другие направле¬
ния — через начавшую складываться еще до революции систему
кооперации мелких производителей, через подъем общей культуры
крестьян, наконец, через создание централизованной государствен¬
ной системы агропомощи или какие-либо другие крупномасштаб¬
ные правительственные акции.
В научной литературе и публицистике активно обсуждаются
проблемы аграрного производства и политики 20—30-х годов, со¬
циально-экономические, идеологические причины и последствия
коллективизации. Число вопросов здесь огромно, на многие из них
еще нет однозначных ответов. Нет таких ответов и на вопросы о
значении и положении агронауки в это время, ее отношении к на¬
родному земледельческому опыту. Поэтому ниже будут высказаны
соображения довольно общего плана, причем во многом гипотети¬
ческого характера.
По-видимому, наиболее естественным и безболезненным путем,
который позволил бы крестьянам ассимилировать современную аг¬
ротехнику и сохранить одновременно позитивный опыт народной
агрикультуры, была бы опора на существовавшую кооперативную
инфраструктуру. Среди ее организаторов были крупнейшие эконо¬
мисты-аграрники из окружения А. В. Чаянова, связанные с пред¬
ставителями других отраслей сельскохозяйственной науки. Как от¬
мечает наш известный писатель-деревенщик, «кооператоры не
только сбывали деревенский продукт, но и торговали городскими
товарами, распространяли среди крестьян не только передовые аг¬
212
ротехнические и животноводческие знания, но и культуру вообще,
занимаясь издательской, просветительской и даже музыкальной де¬
ятельностью»17. Теми или иными формами кооперации в начале
20-х годов было охвачено свыше половины индивидуальных трудо¬
вых крестьянских хозяйств, однако «кооперативным организациям,
на базе которых А. В. Чаянов, Н. Д. Кондратьев и другие экономи¬
сты-аграрники предлагали создать общественную распределитель¬
ную систему, не доверяли»18. Не доверяли им и в деле рационали¬
зации агропрактики. Унаследованная кооперативная система посте¬
пенно разрушалась и огосударствливалась: «..подписанный Ле¬
ниным декрет от 10 апреля 1918 г., дававший широкий простор
русской кооперации, перестал действовать в том же 1918 году. А
вскоре кооперативные средства, собранные за многие годы, начали
изыматься государством, и Отто Юльевич Шмидт, занимавшийся
тогда кооперативным делом, уже ратовал за его полное подчинение
государству»19.
Деморализованные разверсткой, принудительными заготовками,
деятельностью комбедов, ограничениями в правах, развалом коопе¬
рации и т. п., крестьяне, естественно, не выказывали особого инте¬
реса к совершенствованию агроприемов. Между тем это блокирова¬
ло и другой возможный канал проникновения науки в практику
земледелия. Речь идет об активно развертывавшейся в 20-е годы
системе научных учреждений Наркомзема во главе с ВАСХНИЛ.
Возглавляемая с начала 20-х годов замечательным ученым и орга¬
низатором науки Н. И. Вавиловым сеть этих учреждений постепен¬
но наращивала научный потенциал, в нее вкладывались значитель¬
ные финансовые средства. В какой-то мере ее ориентиром можно
считать систему исследовательских институтов, селекционных
станций, учебных заведений, существовавшую тогда при американ¬
ском Департаменте земледелия, наиболее развитую в мире и осу¬
ществлявшую эффективную агропомощь фермерам. Поддерживае¬
мые в организационных начинаниях и в финансовом отношении
Вавилов и другие руководители этих учреждений часто деклариро¬
вали в 20-е годы, что наука вскоре даст весомую прибавку урожа¬
ев, преобразит животноводство, птицеводство и т. п. Однако даль¬
ше деклараций дело не шло, восстановление и рост сельскохозяйст¬
венного производства при нэпе были достигнуты помимо науки,
просто благодаря реалистической политике в отношении крестьян¬
ства. Между тем власти в это время уже настойчиво требовали от¬
дачи от науки. Выступления М. И. Калинина, редактора газеты
«Беднота», а позднее наркома земледелия Я. А. Яковлева и др. со¬
держали призывы дать наконец простые и эффективные агроприе¬
мы крестьянам, настойчиво искать пути применения сельскохозяй¬
ственного знания на практике.
Как же разрешилось это противоречие? На наш взгляд, следую¬
щими путями, из которых все были неблагоприятными для сохра¬
нения народной агрикультуры и привели в конце концов к ее то¬
тальному разрушению. Во-первых, не дожидаясь, пока помощь
ученых дойдет до полей, в середине 20-х годов сельскохозяйствен¬
213
ные руководители подняли альтернативное академической науке
движение «крестьянских ученых» («опытников», «хат-лаборато¬
рий»). Охватывающее, по тогдашним оценкам, свыше двадцати ты¬
сяч активистов, это движение, организованное вокруг газеты «Бед¬
нота», ставило целью включить массы крестьян в коллективный
поиск и освоение новых агроприемов, в работу по селекции живо¬
тных и растений. Вообще говоря, это движение имело определен¬
ный смысл, ведь в тысячах и тысячах деревень не было людей со
сносной агрономической подготовкой. Но оно было излишне идео¬
логизировано, достижения опытников распространялись газетами
без должной проверки, и можно предположить, что среди крестьян¬
ских ученых, «лабкоров», было немало прототипов будущего «из¬
вестного местного селекционера и естествоиспытателя» Кузьмы
Гладышева из истории о жизни и приключениях солдата .Чонкина.
Во-вторых, к концу 20-х годов стали появляться затребованные
властями простые и универсальные агроприемы, преподносимые их
создателями как панацеи, повсеместное применение которых даст
значительную и не требующую особых затрат прибавку урожая. В
основном эти агроприемы касались предпосевной обработки семян
и предлагались не ведущими учеными, а одиночками-опытниками
и маргиналами от науки20.
Наконец, ученые, в том числе руководители ВАСХНИЛ, в
1928—1929 гг. стали склоняться к тому, что их разработки в пол¬
ном объеме могут найти применение лишь в крупных, механизиро¬
ванных, способных воспринять рациональные технологии хозяйст¬
вах. В этом контексте становится понятным энтузиазм, с которым
Н. И. Вавилов, его окружение и многие другие ведущие ученые
поддерживали на рубеже 20—30-х годов поворот к коллективиза¬
ции сельского хозяйства, организацию огромных зерновых совхозов
(«фабрик зерна»), садов-гигантов и т. п/1 Им представлялось, что
этим открывается неограниченное поле для крупномасштабных
экспериментов в сельском хозяйстве, для комплексной реконструк¬
ции последнего на научных основаниях.
В контексте обсуждаемой проблемы важно то, что все эти пози¬
ции и связанные с ними реальные дела явно или неявно предпола¬
гали негативную трактовку народной агрикультуры — как архаи¬
ческих, консервативных предрассудков, требующих скорейшей и
полной замены. Такая установка органично вписывалась в общее
отношение к крестьянской культуре, проявлявшееся в течение 20-х
годов и особенно в период «великого перелома» и «культурной ре¬
волюции» 1928—1932 гг., приведших к фронтальному и необрати¬
мому разрушению этой культуры22. Для крестьян это действи¬
тельно была революция, полная деструкция привычного способа
производства и форм жизни. Каковы же ее основные моменты?
Прежде всего это массовая миграция крестьян в города. С 1929 г.
до введения прописки (1933 г.) в города перебралось около 15 млн
крестьян, помимо этого миллионы их ушли на отходные работы
(так, в 1931 г. около 7 млн отходников кочевали по стройкам пер¬
вой пятилетки)23. Свыше миллиона крестьянских хозяйств подвср-
214
глись раскулачиванию, сопровождавшемуся репрессиями, высыл¬
кой, конфискацией средств производства. Вместе с этими миллио¬
нами людей село лишилось основных носителей традиционной аг¬
рикультуры и народных технологий24. Быстро сошла на нет упомя¬
нутая выше традиционная энергетика, на миллионы сократилось
поголовье рабочего скота, сотни тысяч мельниц заменялись тысяча¬
ми тракторов. Насаждались не соответствующие реальным возмож¬
ностям машинистские утопии, по нескольку колхозов пристегива¬
лись к МТС, выступавшим своеобразными центрами культурной
революции в деревне. Поднялась волна грубой антирелигиозной
пропаганды и политики (например, МТС обычно помещали в за¬
крываемых храмах), которая не только оскорбляла религиозные
чувства, но и разрушала вековые земледельческие и хозяйственные
ритмы. Разрушение индивидуальных хозяйств отрывало земледель¬
цев от земли, подрывало основы трудовой морали.
Пусть слабым, но все же оправданием этих жертв и деструк¬
тивных процессов была бы ожидаемая Вавиловым и другими уче¬
ными подготовка колхозных просторов и ферм для широкого внед¬
рения науки. Но и этого не произошло: культурная революция
прошлась не только по традиционной земледельческой практике,
но и по самой сельскохозяйственной науке. Кампания по реконст¬
рукции этой области на марксистской основе, борьба в ней с «бур¬
жуазными специалистами» («спецеедство»), ряд крупных процес¬
сов над «вредителями на аграрном фронте» (над возглавляемой Ча¬
яновым школой экономистов-аграрников (1930 г.), над сельскохо¬
зяйственными специалистами Госплана и селекционерами-плодово-
дами (1933 г.), начавшиеся с 1936 г. регулярные аресты генети¬
ков), резкое падение уровня подготовки сельскохозяйственных спе¬
циалистов в результате травли профессуры, сокращения сроков
подготовки студентов и сомнительных экспериментов в тогдашних
вузах (например, бригадные методы обучения или всерьез обсуж¬
давшийся в начале 30-х годов проект обучения студентов Тимиря¬
зевской академии в специальных институтах-совхозах для резкого
увеличения выпуска агрономов) — вот далеко не полный перечень
достижений культурной революции на «фронте аграрной науки».
В результате место народной агрикультуры в 30-е годы заняла
не настоящая современная сельскохозяйственная наука, а поднятые
культурной революцией учение о гибридизации «великого преобра¬
зователя природы» И. В. Мичурина, творческая агробиология «на¬
родного академика» Т. Д. Лысенко, известная в свое время траво¬
польная система «первого агронома» Р. В. Вильямса и другие, уже
забытые сейчас «учения» выдвиженцев культурной революции25.
Эти «ученые» и их «учения» выставлялись как подлинно народ¬
ные, прямо связанные с колхозно-совхозной практикой в противо¬
вес замкнувшейся в себе кастовой, профессорской науке. Вокруг
них поднимались шумные кампании, широкие движения опытни¬
ков, ударничество и т. п. Между тем все это могло называться «на¬
родной наукой» с тем же основанием, как «сталинский фольклор»
и «героическая литература» тех лет — полинно народным искусст¬
215
вом. Это была наука «для народа», «для масс» — «газетная нау¬
ка», достижения которой создавались не столько в лабораториях
или на опытных делянках, сколько в идеологических дискуссиях, в
газетных призывах и наставлениях, в интервью и кинохронике26.
Противоречащая науке, здравому смыслу и подлинно народному
земледельческому опыту эта «псевдонародная наука» для своего
внедрения в практику требовала многочисленных инструкций и ди¬
ректив, административного аппарата, заканчивающегося фигурой
уполномоченного из райкома, вокруг которой наговорено столько
слов нашей деревенской публицистикой.
м*
Есть ли у народных наук будущее, или им уготовано место
только в этнографических музеях? В одной небольшой заметке
М. М. Бахтин27 говорил о двух типах опыта: об опыте «малом» —
специализированном, контролируемом, осуществляющемся «здесь и
теперь» — и опыте «большом», в котором сконденсирована практи¬
ка жизнедеятельности многих и многих поколений. Мы явно недоо¬
цениваем значимости этого второго опыта и часто думаем, захва¬
ченные сциентистскими, технократическими и социально-конст¬
руктивистскими иллюзиями, что жизнь можно организовать на ос¬
нове лишь рационализированного — урезанного и ограниченного
опыта. Нужно было дойти с этими иллюзиями до грани экологиче¬
ской и антропологической катастрофы, чтобы вспомнить и вновь
осознать не только культурную, но и жизненно-практическую цен¬
ность вненаучных форм отношения человека к миру. Будущее все
менее рисуется теперь как рационально-калькулируемая среда из
стекла и алюминия и все более — как зеленый, естественный мир,
способы природопользования в котором если не по форме, то по
смыслу будут более близкими к традиционным, чем к экологиче¬
ским нелепицам, окружающим нас сейчас.
Многие говорят в наши дни о постиндустриальном обществе, о
вступлении в постмодернистское время — более индивидуализиро¬
ванного и эстетизированного мироощущения. Еще давно, когда гос¬
подствовали совсем иные настроения, П. А. Флоренский писал: «С
тех пор как помню себя, я с безошибочной отчетливостью сразу,
почти не смотря, различал ручное производство от машинного. И
хотя машины и их продукция весьма занимали мой ум, но непос¬
редственно, не то эстетически, не то более нутром, машинные ве¬
щи мною презирались: весь мир в моем восприятии пронизан раз¬
литою в нем жизнью, его организующей, весь мир имел в себе
внутреннюю игру глубины, а машинные вещи казались бездушны¬
ми, плоскими какими-то, ничуть не таинственными, насквозь по¬
нятными и имели вид совершенно по Миллю и Бэну»28. В отличие
от машинных технологий в органическом, традиционном производ¬
стве раскрывается «глубокая правда вещества», оно индивидуали¬
зируется, человек приучается любить его — «не материю физиков,
не элементы химии, не протоплазму биологии, а самое вещество, с
его правдою и его красотою, с его нравственностью»29.
216
Конечно, современное общество не может отказаться от техни¬
ки, но оно может прийти к ее новому пониманию. Дилемма уже не
стоит абстрактно, как в начале века: машина или дух, современное
или естественное, традиционное. Человек сделал природу заложни¬
цей машины: как точно заметил Хайдеггер, ныне реки встроены в
гидроэлектростанции в отличие от традиционных сооружений и
технологий, органично встраивающихся в природу и ее процессы и
веками не нарушающих их. Можно ли найти новый технологиче¬
ский синтез, уйти от гигантизма и безличности современной техни¬
ки, экологизировать и антропологизировать ее? Представляется,
что решение этих остро стоящих ныне вопросов невозможно без
восстановления и внимательного изучения опыта народных наук и
технологий.
1 Найссер У. Познание и реальность. М., 1981. С. 137.
2 См.: Husserl Е. Origion of geometry // Husserl E. The crisis of European science and
transcendental phenomenology. Evanston, 1970. P. 360—361.
3 Федоров H. Ф. Соч. M., 1982. C. 489.
4 Там же. С. 318.
5 См.: Peters 5. Organic farmers celebrate organic research: a sociology of popular
science // Counter-movements in the science: The sociology of the alternatives to big
science. Dordrecht etc., 1979. P. 251—275.
6 Cm.: Ravetz J. R. Scientific knowledge and its social problems. Oxford, 1971.
P. 387-388.
7 См.: Гачев Г. Национальные образы мира. М., 1988; Филатов В. П. В царстве
стихий и качеств // Природа. 1987. № 2.
8 Об этой народной науке см.: Кон И. С. Ребенок и общество. М., 1988.
9 См.: Селиванов В. В. Год русского земледельца // Письма из деревни: Очерки о
Кьянстве в России второй половины XIX века. М., 1987. С. 24—145.
ров Н. Ф. Соч. С. 255.
п См.: Гуревич А. Я. Проблемы средневековой народной культуры. М., 1981.
12 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 47. С. 554.
13 См.: Койре А. От мира «приблизительности» к универсуму прецизионности //
Кой ре А. Очерки истории философской мысли. М., 1985.
и Как отмечал по сходному поводу М. Полани, «искусство, которое не практикуется
в течение жизни одного поколения, оказывается безвозвратно утраченным. Этому
можно привести сотни примеров, процесс механизации добавляет к ним сегодня
все новые и новые. Обычно эти потери невосполнимы» (Полани М. Личностное
знание. М., 1985. С. 87).
15 Черкасский В. У околицы или посередь страны // Сов. Россия. 1988, 18 мая. В
плотности расположения водяных мельниц мне довелось убедиться самому на ма¬
ленькой речушке Каве в Тверской области, где на протяжении 10 км сохранились
следы подобного каскада из пяти мельниц.
16 Усилия эти были весьма значительны. Есть данные о том, что к началу XX в. в
России насчитывалось свыше 6 тыс. «точек» на местах, занимавшихся различны¬
ми видами агропомощи.
п Белов В. Каноны // Новый мир. 1987. № 8. С. 51.
18 Никольский С. А. Административно-бюрократическая система и коллективизация
// Вопр. философии. 1988. № 12. С. 87.
19 Белов В. Кануны. С. 51.
20 Среди этих «панацей» были сверхранние и сверхпоздние посадки озимых, облу¬
чение семян с помощью радиоактивных веществ и т. п. Дань этому увлечению
отдал даже такой замечательный ученый, как А. Л. Чижевский. В начале
30-х годов он провел цикл исследований по ионизации семян (а также пчел, за¬
родышей животных и птиц) и достаточно широко пропагандировал этот прием, в
том числе в прессе (см.: Я годи некий В. Н. Александр Леонидович Чижевский.
М., 1987. С. 157—166). Но, конечно, главное достижение в этой области — зна¬
менитая «яровизация» Т. Д. Лысенко, сразу же поддержанная наркомом Яковле¬
вым, разрекламированная центральной прессой и быстро и достаточно широко
внедренная в приказном порядке в практику. Лысенковская «теория яровизации»,
как представляется, является образчиком «народной науки» в смысле Дж. Равет-
ца. Хотя ученые-растениеводы через несколько лет показали, что яровизация не
дает прибавки урожая, было уже поздно: сельскохозяйственная статистика уже
217
была разрушена и подтверждала рост урожаев при яровизации, а благодаря мас¬
сированной пропаганде эта «теория» превратилась в газетную «поп-науку», недо¬
сягаемую для собственно научной критики.
21 Можно подумать, что эта позиция Н. И. Вавилова объясняется лишь его положе¬
нием руководителя науки, вынужденного проводить политику партии в возглав¬
ляемой им важной для общества области исследований. Однако на первых порах
он был вполне искренен. Так, в 1930 г., находясь в США, он звал известного ге¬
нетика Ф. Г. Добжанского (работавшего в США с 1927 г.) вернуться в СССР,
чтобы принять участие в гигантском эксперименте, открываемом коллективиза¬
цией. Правда, уже в 1932 г. Вавилов предупреждал Добжанского, что этого не
нужно делать (см.: Joravsky D. The Lysenko affair. Cambridge; Mass., 1970.
P. 35—36). Позитивное отношение к коллективизации вначале проявляли
А. С. Серебровский и даже «буржуазный специалист» Н. К. Кольцов, которого
трудно заподозрить в излишних симпатиях к сталинской политике.
22 Различные аспекты этого разрушения описаны многими экономистами, историка¬
ми, философами. См., например, Мяло К. Оборванная нить. Крестьянская куль¬
тура и культурная революция // Новый мир. 1988. № 8.
23 См.: Сонин М. Я. Воспроизводство рабочей силы в ССС^ и баланс труда. М.,
1959. С. 143; Корнилов А. В. На решающем этапе. М., 19о8. С. 158—159.
24 Подобно, например, тому, как американские социологи фиксируют широкое рас¬
пространение феномена лекарей-самоучек, «семейных хилеров», врачующих
свою семью и семьи соседней, в сельских общинах всегда выделялись знатоки
своего дела, на которых ориентировались другие крестьяне. Как правило, это бы¬
ли трудолюбивые, предприимчивые, крепкие хозяева, которые были раскулачены
или же успели разбежаться по стройкам и фабрикам.
25 См.: Филатов В. П. Об истоках лысенковской «агробиологии» // Вопр. филосо¬
фии. 1988. № 8. Может показаться странным, но почтенного по годам И. В. Ми¬
чурина также, видимо, можно отнести к этим выдвиженцам. До 1930—1931 гг.,
несмотря на ретивость молодых помощников Мичурина И. С. Горшкова и
А. Н. Бахарева, использовавших любую возможность для рекламы работ своего
учителя в газетах и журналах, Мичурин в сообществе настоящих ученых-помоло¬
гов рассматривался как практик-маргинал, работающий сомнительными методами
и получающий сомнительные результаты (например, гибриды дыни и тыквы, ма¬
лины и земляники и т. п.). Еще в 1931 г., когда была проведена стандартизация
сортов плодовых растений в свете принятого решения о развитии крупного госу¬
дарственного садоводства, в перечень стандартных сортов, опубликованный Всесо¬
юзным институтом растениеводства, ученые включили лишь один мичуринский
сорт (тогда как он сам и его помощники заявляли о трехстах выведенных им сор¬
тах). А буквально через год-другой Мичурин был осыпан почестями, его учение
было объявлено вершиной помологии и биологии в целом, и окончивший четыре
класса уездного училища садовод умер академиком ВАСХНИЛ и почетным ака¬
демиком АН СССР в городе «своего имени», как он обычно говорил.
26 Из сотен печатных работ Лы енко лишь единицы не являются газетными публи¬
кациями. См. список его работ в кн.: Лысенко Т. Д. Агробиология. М., 1952.
27 См.: Из наследия Бахтина М.М. //День поэзии 1981. М., 1981.
28 Флоренский II. А. Пристань и бульвар // Прометей. 1972. № 9. С. 147.
29 Там же. С. 148.
Т. Б. РОМАНОВСКАЯ
ПРОБЛЕМЫ НАУЧНЫХ ТРАДИЦИЙ
И ТРАДИЦИОННОЕ ЗНАНИЕ
В СОВРЕМЕННОЙ ИНДИИ
Современное естествознание, будучи привнесенным в Индию
извне как продукт западной цивилизации, развивалось в среде, где
отсутствовали научные традиции, сложившиеся на протяжении
веков развития науки Нового времени в Европе. Однако эти недо¬
стающие собственные традиции отчасти возмещались обраще¬
нием к массиву традиционного знания, когда современная науч-
218
пая деятельность рассматривалась как продолжение деятельно¬
сти далеких предков. На конкретных примерах ученых-естест-
венников Индии XX в. предлагается рассмотрение трех основ¬
ных моделей интерпретации традиционного наследия и включе¬
ния его в естественнонаучный обиход. Значительно более рас¬
пространенная, нежели в странах Запада, референция к тради¬
ционному знанию на Востоке может интерпретироваться как
попытка создания неких промежуточных образцов научной дея¬
тельностиу как попытка ассимилированного в культуре перехода
от образцов автохтонных к привнесенным образцам современно¬
го естествознания.
Наука современных развивающихся стран Востока представляет
собой уникальный объект для исследования. Во-первых, ряд чисто
теоретических проблем, анализируемых в современном науковеде¬
нии, например различие между «восточным» и «западным» спосо¬
бом разумения, переживаются, если так можно выразиться, как
эмпирическая данность в непосредственной научной практической
деятельности ученых этих регионов. Во-вторых, развивающаяся с
опозданием почти на два века по сравнению с европейской наукой
наука этих регионов переживает сейчас момент, в некоторых своих
положениях сходный с возникновением науки Нового времени в
XVII в., т. е. момент возникновения науки как нового типа рацио¬
нальности, хотя у нее есть и существенное отличие. Оно состоит в
том, что сегодня образцы для этой новой науки Востока уже зада¬
ны и являются элементами нормальной науки в странах, бывших
метрополиями для ранее колониальных регионов.
Во всем мире постоянно растет интерес как к традиционной
культуре Востока, так и к массиву восточного традиционного зна¬
ния, и этот интерес проявляют не только специалисты-науковеды,
но и, например, ученые-естественники. При этом само это знание
приобретает различные интерпретации в зависимости от задач,
стоящих перед обращающимися к нему учеными. Упомянем полу¬
чившую повсеместную известность и ставшую бестселлером книгу
физика-теоретика Ф. Капры «Тао физики»1, где традиционное зна¬
ние Востока рассматривалось как недостижимый идеал абсолютного
знания, или позицию Дж. Нидэма2, анализирующего науку древ¬
него Китая как совокупность не реализованных до конца открытий,
существенных с нашей сегодняшней точки зрения, или восприятие
традиционного знания Востока только с точки зрения влияния на
него греческого наследия. Но весь этот спектр мнений, несомненно
важный и для непосредственного развития науки на Западе, ни в
коей мере не соизмерим с той напряженностью обсуждения этой
проблематики, которая отражается в трудах современных ученых
Востока.
В данной работе мы проследим специфику противоречия тради¬
ционное—современное, отраженную как в высказываниях йаукове-
дов Востока (этому посвящены специальные работы Е. Б. Рашков-
ского3), так и прежде всего в рефлексии и непосредственной науч¬
ной деятельности самих ученых-естественников. Мы сосредоточим
219
внимание на ученых Индии — страны не только с одной из самых
древних цивилизаций в прошлом, но и входящей в настоящем по
объему научной продукции, числу научных работников, числу пуб¬
ликуемых научных журналов и т. д. в десятку наиболее научно
развитых стран мира.
Известная своими достижениями в области естественных и точ¬
ных наук в древности, такими, например, как изобретение позици¬
онной системы счисления, успехи формальной логики или откры¬
тия в области астрономии и химии, к концу XVIII в., когда евро¬
пейская наука начала внедряться в Индию, и внедряться плано¬
мерно, научная мысль в этой стране насчитывала, по единодушно¬
му мнению и самих индийцев, уже около семи веков стагнации.
Учебные заведения, организованные европейцами в Индии в
конце XVIII — начале XIX в., можно условно разделить (и это
разделение характерно и для позиций, которые занимали англича¬
не в вопросах образования индийцев) на традиционалистские и ев¬
ропеизированные, или модернизаторские.
В борьбе между этими двумя тенденциями многие индийцы вы¬
ступали сторонниками введения европейского обучения. Наиболее
распространена была позиция, которую занял известный деятель
бенгальского Ренессанса, создатель религиозно-реформаторского
общества «Бархмо-Самадж» Р. Рой. В 1832 г. он направил обраще¬
ние английскому правительству в Индии, где обосновывал необхо¬
димость введения там именно европейской системы образования.
Объясняя, что в обучении при помощи индийских пандитов проис¬
ходит распространение того знания, которое может лишь «перегру¬
жать молодые умы теми грамматическими тонкостями и метафизи¬
ческими категориями, которые почти не имеют или совсем не име¬
ют практической ценности» (перевод текста будет опубликован в
книге Е. Б. Рашковского, любезно показавшего нам этот доку¬
мент). Р. Рой сравнивал сохранение такой модели обучения с поло¬
жением, которое сложилось бы в Европе, где Британия пребывала
бы в невежестве, если бы философия лорда Бэкона потерпела по¬
ражение в борьбе со схоластикой, и настаивал на обучении «тузем¬
цев Индии» математике, натурфилософии, химии и прочим «по¬
следним наукам», поскольку именно благодаря этим наукам нации
Европы имеют преимущества перед нациями остального мира. В
борьбе за приоритеты образования в Индии «ориенталисты» потер¬
пели поражение, и в 1835 г. глава Комитета по образованию в Ин¬
дии Т. Д. Маколей подписал указ (так называемый закон Мако¬
лея), согласно которому целью британского правительства в Индии
было «распространение европейской литературы и науки среди ин¬
дийских туземцев»4.
Отметим, что сам лорд Маколей отказывал традиционному ин¬
дийскому знанию в какой-либо познавательной ценности, обещая в
результате своей деятельности в ближайшем же будущем избавить¬
ся в индийской медицине от традиционных методов,»... над кото¬
рыми посмеялись бы даже наши бродячие шарлатаны, от истории,
полной королей, тридцати футов высотой, и королев, которым по
220
тридцать тысяч лет, от географии, где описываются моря из вина и
моря из масла»5. Уже из приведенных выше примеров (а их можно
привести гораздо больше) видно, что новое европейское знание
вводилось не только «за», но и «против», а именно оно вводилось
за счет одновременного окарикатуривания и унижения всего масси¬
ва знания традиционного. Инициаторами этого процесса выступали
и сами индийцы, чья оценка традиционного знания была в тот мо¬
мент также сугубо негативной.
В первые десятилетия XX в. в Индии складывается в науке и в
высшем образовании организационная структура, полностью повто¬
ряющая европейские структуры и задачи составляющих ее учреж¬
дений не отличаются от аналогичных задач соответствующих евро¬
пейских институтов.
Разумеется, наиболее тесные связи были у индийских научных
учреждений с Англией. Из Англии приезжали ученые и педагоги, в
Англию отправлялись для усовершенствования образования индий¬
ские ученые. Английский язык был языком научной деятельности.
Спустя сто тридцать лет после призыва Р. Роя к введению в Ин¬
дии обучения на английском языке уже упомянутый выше
А. Рахман — человек, стоящий на подчеркнуто рационалистиче¬
ских позициях и считающий, что у науки Индии нет в будущем
другого пути, как пройти ускоренными темпами путь европейской
науки,— констатирует в статье «Индийская наука и Неру»6,
что индийская наука не обрела своего самосознания, а индий¬
ский народ бесконечно далек от науки, и одну из главных причин
такого отчуждения он видит именно в английском языке как языке
науки.
Основные причины неэффективности индийской науки (восьмое
место Индии по числу публикаций и шестьдесят девятое по уровню
цитирования — данные за 1981 —1985 гг.) А. Рахман объясняет
традиционностью индийского общества. Рахман видит в индийских
традициях лишь груз, тянущий науку вниз. Знание традиционное
он отождествляет зачастую со знанием религиозным, следование
традициям — со следованием религиозной догме. Работающий со¬
временными методами социологии и истории науки Рахман упоми¬
нает об обращении самих ученых-естественников к традиционному
массиву знания, к попыткам соотнести результаты своей работы с
традициями и философскими системами прошлого как о малопо¬
нятном и мало почтенном курьезе. Надо признать, что этот «курь¬
ез» встречается гораздо чаще, чем можно было бы ожидать из пре¬
дельно «европеизированной» организации индийской науки. Это
заставляет предположить не столько случайности, сколько некую
вполне отчетливую тенденцию в поведении ряда крупных ученых-
естественников Индии по отношению к традиционному знанию.
Ниже мы рассмотрим несколько примеров, относящихся к деятель¬
ности известных индийских ученых XX в., которые позволят нам
выделить возможные варианты подобного поведения.
Первый из них — Дж. Ч. Бозе (Бос в русском правописании),
физик и физиолог, был первым индийским ученым, получившим
221
мировую известность. Выходец из обеспеченной семьи брахмана —
последователя уже упомянутого реформаторского течения, у исто¬
ков которого находился Р. Рой,— брахмоизма (заметим, что за ис¬
ключением одного М. Саха к касте брахманов принадлежали все
первые крупные ученые Индии; это можно объяснить прежде всего
традициями: именно брахманам надлежало обладать знаниями,
хранить и передавать их),— Дж. Бос получил начальное образова¬
ние в деревенской традиционной школе, организованной его отцом,
а затем окончил Колледж Святого Ксаверия в Калькутте, где его
учителем был бельгийский иезуит Лафон, довольно известный в
Индии физик-экспериментатор. В колледже Бос специализировался
по физике (его увлечением еще были санскрит и метафизика).
Уехав в Англию для продолжения образования, он оканчивает два
учебных заведения: Лондонский университет и Колледж Святого
Христа в Кембридже, где уделяет больше всего внимания уже двум
дисциплинам — физике и биологии. Вернувшись в 1884 г. в Ин¬
дию, Дж. Ч. Бос занял место преподавателя физики в Президент¬
ском колледже. Несмотря на то что Президентский колледж был
одним из наиболее известных и хорошо оборудованных колледжей
Индии, экспериментальная база его была на очень низком уровне,
и, очевидно, именно этим и можно объяснить, что первые сущест¬
венные результаты Дж. Ч. Боса появились только спустя 10 лет —
они относились к области экспериментальной физики. В течение
1894—1899 гг. Дж. Ч. Бос проводил эксперименты с излучателем
электромагнитных волн в диапазоне 5—25 мм, полученным им при
помощи сконструированного им самим «электрического излучате¬
ля». Опыты по поляризации этих волн и составили содержание его
первой научной статьи, опубликованной в 1895 г. в «Журнале ази¬
атского общества Бенгалии»,— «Поляризация электромагнитных
волн дважды преломляющим кристаллом». Начатые в 1894 г. экс¬
перименты Дж. Ч. Боса с электромагнитными волнами принесли
ему широкое признание за период в пять лет (с 1895 по 1899 г.).
Он опубликовал более двадцати статей по этой проблематике, в
том числе и в крупных европейских журналах, таких, как «Ргос
Roy. Soc.» или «Electrician». В Англии, куда он был приглашен с
лекциями, его опыты получили одобрение У. Кельвина и Дж. У. Ре-
лея. Наконец, еще одним свидетельством безусловного принятия
английским научным сообществом его работ было присуждение Бо¬
су одному из первых индийцев степени бакалавра в Лондонском
университете в 1896 г.
В самом разгаре всеобщего признания Бос меняет тематику сво¬
их исследований и обращается к биологии и физиологии, которыми
он не занимался со времен своей учебы, т. е. более десяти лет. У
этого поворота есть два чисто рациональных объяснения. Первое
принадлежит самому Босу, мотивирующему обращение к биологии
своей реакцией на усиливающуюся математизацию физики, к ко¬
торой он не был готов. Переход же к изучению реакции живых ор¬
ганизмов, растений и неорганической природы на возбуждение
электрическим током позволял совершенно очевидно оставить во
222
многом неизменным прежние экспериментальные установки. Автор
же его биографии 1958 г. Д. С. Бозе (Бос) считает, что именно в
процессе экспериментов, изучая свойства и действия сконструиро¬
ванного им «когерера» — «прерывателя искры», Бос задумался над
проблемами реакции живого на электрическое возбуждение. Нет
никакого основания не доверять этим двум объяснениям. Однако
уже в первых же письмах Боса по поводу нового направления его
экспериментов формулируется вполне отчетливо сверхзадача его
новой деятельности — показать единство живой и неживой при¬
роды.
Единство живой и неживой природы — понятие, которое может
толковаться разными способами. Можно воспринимать его как сво¬
димость живого к неживому, например к межмолекулярным взаи¬
модействиям в духе современного редукционизма. Приверженцы
этой точки зрения достаточно многочисленны в современной нау¬
ке7. Можно, напротив, трактовать единство как «одушевленность»
живой природы в духе, например, единого Брахмана ведийского
канона: «Каждое более высокое начало является и более конкрет¬
ным по сравнению с более низким, и поэтому ананда, то есть
Брахман, является всеобъемлющим. Из него происходят все вещи,
им все вещи поддерживаются, и в нем все вещи растворяются. Раз¬
личные части, неорганический мир, растительная жизнь, животное
царство и человеческое общество не связаны с этим высшим быти¬
ем каким-либо абстрактным или механическим путем. Они еди¬
ничные в том и через то, что является всеобщим по отношению к
ним»8. Подобное понимание единства живой и неживой природы
как всеобщей одушевленности можно встретить и в рассуждения о
живом космосе платоновского «Тимея», и в психофизических идеях
Г. Т. Фехнера, и даже в высказываниях современных ученых,
И. Пригожина например. Поэтому его нельзя однозначно отнести
лишь к индуистской философии, хотя именно там оно впервые и
подробно было проработано.
Сложность с трудами Боса-физиолога состоит в том, что его по¬
зицию в отношении единства живого и неживого трактовали попе¬
ременно как идентичную каждому из этих двух несовпадающих и
даже противоположных представлений о единстве. Во многом это
было вызвано самими работами Боса. Так, например, он использу¬
ет в своих книгах термины, характерные для лексикона редукцио¬
нистов: «Молекулы нерва при получении первого сигнала должны
перестраиваться благоприятно или неблагоприятно для прохожде¬
ния импульса...»9
(Речь идет о нервах растений.) Описывая ответы на возбужде¬
ние нервов, металлов, глазной сетчатки, Бос пишет: «Мы должны
затем признать, что вещество может существовать в различных мо¬
лекулярных состояниях или вследствие внутренних изменений, или
от действия раздражителя»10. Подобные высказывания, так же как
и его высокотехнические, методично и подробно описанные опыты,
сам факт использования Босом физических методов в биологии,
казалось, рисуют облик экспериментатора-материалиста, но только
223
при формальном подходе к анализу позиции ученого. Например,
известно, что Бос-физиолог был противником витализма, посколь¬
ку он отвергал дуализм живой и неживой природы: «Существует
абсолютная непрерывность явлений, начиная от животной ткани,
через переходный этап растений к неорганическим металлам. Вы
не можете провести разделительную линию между ними»11. Но Бос
отвергал дуализм с позиций всеобщей одушевленности окружаю¬
щего мира, по его мнению, биение жизни одинаково меняется и в
живом организме, и в металле после введения в них яда, и это из¬
менение фиксируют им изобретенные приборы. Об этом Бос пишет
в частном письме12. Не соглашаясь, что жизнь благороднее нежи¬
вой материи, Бос отвергал в действительности наличие неживой
материи как таковой при одушевленном окружающем мире. Заме¬
тим, что зачастую портрет Боса—материалиста, эволюциониста и
борца против мистицизма диктовался не более чем сиюминутными
задачами самого портретиста. Но каждое из этих определений тре¬
бует дополнительного уточнения, что в корне меняет представле¬
ние о взглядах Боса. Так, например, Бос был сторонником теории
эволюции Дарвина, но он понимал ее значительно в более широ¬
ком смысле, а именно он рассматривал также некую неявно выде¬
ленную эволюцию сознания: «...происходит продолжительная эво¬
люция от зачаточного состояния к высшему совершенству»13. Бос
ссылается на А. Бергсона, чью цитату из «Энергии ума» он приво¬
дит; он считает,что сознание присуще всему живому, допускает на¬
личие сознания у растений. Поэтому его упоминания о боли, жаж¬
де, страхе и т. д. растений никак не могут считаться метафориче¬
скими. Отсюда и предположение Боса о наличии нервов у растений
также случайным считать нельзя. Оно вполне укладывается в его
общие представления об одушевленности всего окружающего мира.
Более того, рассматривая ответы на раздражение неживых объ¬
ектов, Бос пользуется той же терминологией, что и при анализе
живых объектов. Известно его частое упоминание об «усталости»
детекторного приемника, который после «отдыха» приобретает ут¬
раченные свойства. Металлы испытывают при действии раздраже¬
ния некие ощущения, и Бос подчеркивает, что мертвый лист не
тождествен металлу, поскольку последний может тоже угнетаться
(убиваться) под действием яда. «Мы видели, что критерием, по ко¬
торому распознается ответ как специфический для живого является
его разрушение под действием определенных ядов. Мы находим од¬
нако, что “яды" также уничтожают ответ в растениях и металлах.
Точно так же как животные ткани переходят из состояния отзыв¬
чивости при жизни в состояние неотзывчивости, когда убиваются
ядами, мы находим металлы превращенными из отзывчивого в нео¬
тзывчивое состояние действием тех же самых “ядовитых" реаген¬
тов»14. Наверное, яснее всего позиция Боса выразилась в его за¬
ключении к одной из глав его работы 1927 г. «Автографы расте¬
ний». Несмотря на длину цитаты, мы приведем ее полностью: «Но
говорят ли нам две записи живого и неживого о каким-то общем и
низменном свойстве материи? Нс означает ли это, что любая моле¬
224
кулярная перестройка в живом и неживом происходит под действи¬
ем определенного раздражения, что физиологическое тесно связано
с физическим, что нет внезапных различий в едином проявлении
общего закона?
Мельчайшая пылинка и земля, растение и животное — все об¬
ладает чувствительностью. Поэтому в масштабе вселенной мы мо¬
жем рассматривать миллионы космических тел, которые летят
своей дорогой в пространстве как нечто родственное организмам,
имеющим определенное историческое прошлое и прогрессивную
эволюцию в будущем. Тогда мы придем к пониманию того, что
космические тела не бесчувственные глыбы, несущие смерть, а ак¬
тивные организмы, “чье дыхание, может быть, это раскаленные
пары железа, чья кровь — расплавленный металл и чья пища —
поток метеоритов»15.
Таким образом, для Боса основное — это не то, что в живом и
неживом происходит «молекулярная перестройка», а осознание,
что и сама перестройка есть лишь проявление единого закона, вы¬
ражающегося в том, что все обладает «чувствительностью». Из
картины, трактовавшейся как отражение молекулярного взаимо¬
действия, возникает при более внимательном рассмотрении оду¬
шевленный окружающий мир, одушевленный Космос. Все это ни¬
как не отражается на нейтральном сциентистском языке, которым
ученый-экспериментатор описывает свои пионерские в области за¬
рождающейся науки биофизики опыты.
Ответ на вопрос, каким образом понимает единое Бос, состоит
в том, что для него одушевлена и живая и «неживая» природа.
При рассмотрении научной карьеры Дж. Ч. Боса в ретроспек¬
ции видно, что от экспериментальных работ по физике, выполнен¬
ных целиком в рамках современной универсальной науки, он пере¬
ходит к опытам по физиологии растений и животных, которые ин¬
терпретируются им, как справедливо отмечает автор биографии
Боса А. Нанди, в духе традиционного, хотя и модифицированного
антропоморфными представлениями индусского монизма. Для Боса
образ мира как единого живого организма был самым тесным обра¬
зом связан именно с космогоническими представлениями индуизма.
Бос неоднократно подчеркивал в своих работах, что для него
почти тождественны в своей деятельности и ученый, и поэт, кото¬
рые находятся «в поисках чего-то невыразимого. Разница состоит в
том, что поэт несведущ относительно средств в отличие от учено¬
го»16. Такое понимание единства мира связано у Боса с индийской
традицией. Действительно, ведь еще сами древние сравнивали
между собой жрецов (прообразы современных ученых) и поэтов и
опять же в их отношении к Единому: «Жрецы и поэты многими
словами превращают во многое скрытую реальность, которая толь¬
ко одна»1' — и еще к гимнам Ригведы относится представление о
единстве реальности и о ее воплощенности в высшем существе:
«Реальность едина, и знатоки называют ее различными именами:
Агни, Яма и Матаришван»18. И в своей трактовке единства Бос то¬
же постоянно ссылается на древние авторитеты. Цитата, приведен¬
225
ная далее, встречается в той или иной форме и в выступлениях, и
в статьях, и в научных монографиях Боса: «Когда передо мной
предстали молчаливые свидетельства собственноручных записей и
я увидел в них доказательства вссподавляющсго единства, прису¬
щего всему: пылинке, сверкающей в лучах света, многообразной
жизни на нашей планете и сияющему солнцу над нами,— именно
тогда я впервые кое-что понял в изречении, начертанном моими
предками на берегах Ганга тридцать веков тому назад:44Только
тем, кто видит во всем меняющемся разнообразии единство, до¬
ступна вечная Истина,— только им, и больше никому, никому"19.
Если среди специалистов-физиологов опыты Боса не имели того
успеха, что его физические опыты, и, напротив, встретили доста¬
точно большое число противников, не помешавших между тем
присуждению ему докторской степени в Лондонском университете
в 1916 г. и избранию его членом Королевского общества в 1920 г.,
то они имели самый широкий успех вне сообщества коллег-физио-
логов, среди ученых, философов, писателей, кого привлекала при¬
нятая Босом интерпретация явлений живой и неживой природы.
Известны одобрительные отзывы А. Бергсона, заметившего, что
именно Бос заставил природу открыть наиболее хранимые ее тай¬
ны и что Бос в отличие от Ч. Дарвина высветил в природе не кон¬
фликты, а совместимость и непрерывность. Б. Шоу, чьи вегетари¬
анские взгляды хорошо известны, был потрясен демонстрацией
страданий поджаренной капусты в опытах Боса, Р. Роллан и Р. Та¬
гор говорили о новых горизонтах, которые открывают эти опыты.
Показательна реакция английского специалиста-металловеда
Р. Остена, присутствовавшего при демонстрации Босом опытов по
введению яда в металлы. Остену импонирует сама идея, что метал¬
лы — живые существа. «Я всю мою жизнь изучал свойства метал¬
лов. Я счастлив узнать, что у них есть жизнь...»20 Это отзыв уче¬
ного по поводу некоего курьеза, по поводу принципиально иной
науки, к которой он, всю жизнь изучавший свойства тех же метал¬
лов, никакого отношения не имеет и об обоснованности положений
которой он даже и не ставит вопроса, причем и термин «наука»
тут вообще не используется.
В биографии Дж. Ч. Боса, написанной А. Нанди, упоминается о
фальсификациях результатов отдельных проводимых им опытов.
Не останавливаясь специально на этих фактах, отметим, что прин¬
ципиальная возможность исправления результатов, не укладываю¬
щихся в изначальную концепцию и в его понятие истинности, от¬
части содержится в позиции, сформулированной Дж. Ч. Босом при
открытии в 1917 г. организованного им Института Боса: «То, что я
сегодня открываю,— это дворец, не просто лаборатория. Истины,
которые могут быть почувствованы, определяются экспериментами,
но есть некие великие истины, которые могут быть достигнуты
только верой21».
Феномен Дж. Ч. Боса, рассматриваемый через призму прошед¬
шего со времени его смерти полувека, состоит в .том, что он уже
изначально строил теорию, вписывающуюся в концептуальные схе¬
226
мы традиционного знания, и стремился обосновать ее, пользуясь
языком современной науки. Таким образом, Бос пытался воссоз¬
дать традиционную парадигму и работать в ней при помощи мето¬
дологии нового знания. Независимо от конкретных успехов или,
напротив, неудач в исследованиях здесь важно подчеркнуть другое:
Дж. Ч. Бос подчинил свою научную деятельность воссозданию иде¬
алов традиционного знания, традиционного индусского миро¬
восприятия и его деятельность была направлена прежде всего на
то, чтобы утверждать эти идеалы. Приоритет отдавался не резуль¬
татам, полученным из опытов «новой» науки, а постулатам тради¬
ционного знания. Особое значение личного вклада Боса состоит в
том, что он пытался соединить индийскую традицию с нормами со¬
временной науки. Как писал ему его однофамилец С. Ч. Бос — ин¬
дийский политический деятель, известный своими националистиче¬
скими взглядами: «Ваши исследования принесли прямые опытные
доказательства того единства, которое древние мудрецы Индии об¬
наруживали в разнообразии жизни... Магическое прикосновение
вашего гения дало жизнь тому, что казалось инертным и бесчувст¬
венным, оно возродило страсть к новому пробуждению в истории
этой страны»22. Уже многократно упоминавшийся А. Нанди заме¬
тил, характеризуя труд Дж. Ч. Боса, что он помог индийцам пре¬
одолеть чувство неполноценности при занятии наукой — плодом
западной цивилизации.
Дж. Ч. Бос был не единственным из индийских ученых, кто
подчинил всю научную деятельность идеям, заложенным в тради¬
ционном знании и традиционной философии, но такое отношение к
наследию не было доминирующим. Не менее распространенной бы¬
ла позиция, занимаемая младшим современником Дж. Ч. Боса,
также получившим международную известность, индийским хими¬
ком Ч. Рэем. В его биографии много сходных черт с биографией
Боса. Его судьба тоже связана с Президентским колледжем в Каль¬
кутте, он и учился, и затем преподавал в нем. Как и Бос,
П. Ч. Рэй продолжал после учебы в колледже свое образование в
Англии, где на факультете естествознания Эдинбургского универ¬
ситета он стал учеником известного английского ученого-химика
Дж. Крумбрауна. В университете Эдинбурга Рэй получил степень
доктора и, вернувшись в Индию, преподавал химию в уже упомя¬
нутом Президентском колледже. В своей основной научной де¬
ятельности Рэй целиком занят проблемами современной науки:
известны и были признаны его экспериментальные работы по
изучению соединений цинка, кадмия, соединений металлов с
производными серы и т. д. П. Ч. Рэй был и организатором про¬
мышленности: такие предприятия, как «Бенгальские химические и
фармацевтические производства» или «Бенгальские эмалевые про¬
изводства», были созданы во многом благодаря его инициативе.
Особое место в творчестве П.Ч.Рэя занимает изучение истории
химии Индии, продолжавшееся на протяжении всей его жизни. Ре¬
зультатом этой деятельности стала двухтомная «История индусской
химии», первое издание которой вышло в 1902 г., а переиздания,
227
переработки и дополнения к этому труду продолжают выходить и
после смерти его создателя23.
Для Рэя-историка важны прежде всего реальные, практические
достижения древних индийцев в области химии: он пишет о фер¬
ментированных напитках и окрашенных тканях в ведийский пери¬
од; производит конкретные сведения из Арташастры — трактата
Каутильи, датируемого IV в. до н.э., который Рэй называет «самым
ранним и наиболее достоверным источником информации о знании
химии, металлургии и медицины в этот ранний период»24, и т. д.
Но наряду с изложением этих конкретных данных «практической»,
или «экспериментальной», химии в книгах Рэя пересказываются и
теоретические положения индийских натурфилософских учений.
Зачастую при этом Рэй как бы полагает, что многое в современной
ему науке уже было отчасти предвосхищено в знании традицион¬
ном. Как правило, речь идет лишь о некоторых основополагающих
принципах и явно Рэй нигде не утверждает, что в прошлом полно¬
стью была сформулирована совпадающая с современными пред¬
ставлениями теория, однако сам его презентистский, а вернее, мо-
дернизаторский подход к прошлому, причем именно в той части,
где речь идет о теоретических построениях, естественно увеличива¬
ет в ретроспекции значение этого прошлого и для современной на¬
уки. Включение в последние издания П. Ч. Рэя дополнительных
глав («Физико-химические теории древних индийцев» Б. Н. Сии-
ла) только усиливает этот общий эффект книги.
Вот типичный пример рассуждений П. Ч. Рэя: он излагает со¬
держащееся в Чхандогья-Упанишада следующее представление о
космогенезе: в своем начальном состоянии вселенная существовала
в непроявленной потенциальной форме как семя или эмбрион, за¬
тем она перешла в некое большее по объему состояние и приобрела
форму яйца, которое после периода созревания взорвалось на две
части: Небеса и Землю. Описав эту картину, в качестве заключе¬
ния Рэй пишет: «Это, разумеется, очень грубая картина, но любо¬
пытно, что она связана с современной теорией эволюции, основан¬
ной на идее расширяющейся вселенной»2^. На аналогичных мифо¬
логических основаниях построены и выводы Рэя о том, что идея
космогенеза в несколько другой формулировке Патенджали содер¬
жит закон сохранения и превращения энергии и включает в себя
строгую идею причинности. И хотя в спекулятивных построениях
древних действительно можно обнаружить удивительные переклич¬
ки с содержанием современных физических теорий, как совершен¬
но справедливо и отмечает Рэй, однако непосредственную связь с
этими теориями все же установить довольно трудно. И постоянное
обращение при изложении этих теорий к воззрениям современной
физики, и, более того, попытки изложить эти теории, пользуясь
современной терминологией, тоже следует отнести к стремлению*
«модернизировать» древнее знание, сделать его более научно зна¬
чимым. Позицию П.Ч.Рэя можно ясно понять из заключения к его
книге, где он рассматривает упадок научного духа в Индии, кото¬
рый он соотносит с окончательным поражением буддизма и уста¬
228
новлением в более жесткой форме кастовой системы. Считая, что
одна из основных причин упадка химии Индии состояла в том, что
наука пошла по пути алхимии и оккультизма, и тем самым осуж¬
дая эти направления, Рэй полагает, что наука должна развиваться
естественным путем, как культура, как цивилизация: наука долж¬
на развиваться путем органической эволюции через адаптацию, ес¬
тественный отбор и мутацию. И именно мутация приводит к тому,
что в умственной сфере происходит явный прогресс человеческой
цивилизации, который осуществляется благодаря деятельности ге¬
ниев, святых и пророков. Тем самым гении, пророки и святые вно¬
сят как бы на равных вклад в развитие науки, и как следствие это¬
го положения — вывод о том, что один из основных по значимо¬
сти вкладов в науку был осуществлен в древности. К такому,
пусть явно и не сформулированному, выводу и приходит в итоге
своей книги Рэй26.
Рассмотренные выше примеры дают две модели отношения к
древнему знанию: (1) древнее знание и традиционные представле¬
ния как высшая ценность, и вся научная деятельность ученого
подчиняется именно реализации этой ценности; (2) древнее знание
содержит высшие духовные ценности и предвосхищает современ¬
ные теории, но непосредственная научная деятельность ученого
протекает как бы независимо от содержания этого знания в рамках
современной универсальной парадигмы, при том что в рефлексии
он постоянно соотносится с массивом традиционного знания. Эти
модели никак не остались только достоянием первого поколения
ученых Индии. Они продолжают существовать, если не доминиро¬
вать, и в современной науке страны.
Приведем в подтверждение еще один, но достаточно красноре¬
чивый пример. Речь идет о крупном индийском ученом-физике
Р.Раманне. Специалист в области ядерной физики, получивший
докторскую степень в Лондоне, автор теоретических работ по про¬
блемам ядерного деления, он был еще и одним из создателей со¬
временной атомной промышленности Индии, осуществляя строи¬
тельство первого атомного реактора в стране. Долгие годы Р. Ра-
манна — глава Атомной энергетической комиссии Индии. Таким
образом, Р.Раманна как в своей теоретической, так и в практиче¬
ской и даже административной деятельности находится исключи¬
тельно внутри проблем современной науки, способствуя ее разви¬
тию в Индии. Однако наряду с этой деятельностью Раманна посто¬
янно обращается в своих статьях, посвященных анализу научного
знания, к традиционному наследию древней Индии. Вот как опи¬
сывает Раманна свое понимание значения философско-религиозно¬
го учения индийского логика XIX в.н.э. Шанкары — «Адвайта-ве-
данты» — веданты: «Адвайта не была просто эзотерической загад¬
кой, доступной для немногих... но изложением логических следст¬
вий всякого мышления, тесно связанного с наукой. Мой мозг был
приведен в состояние, которое позволило мне понять, что Адвайта
есть не просто смутный философский трактат, но одна из наиболее
фантастических логических попыток понять все знание в соотно¬
229
шении с тем, что есть реальность»27. В изложении Раманной от¬
дельных положений древнего учения тоже содержится явная по¬
пытка приписать им современное звучание: так, он считает, что
Шанкарой были предвосхищены идеи канторовских множеств.
Р.Раманна рассматривает развитие науки в общем и физики в
частности как постепенный процесс унификации физических зако¬
нов. По мере накопления данных все большее число фактов долж¬
но быть объяснено при помощи немногих общих физических зако¬
нов: «...и обобщение должно быть достаточным для описания всех
аспектов природы, которые мы наблюдаем и излагаем в физике»28.
В современном процессе унификации законы природы выражаются
как различные типы симметрий, от геометрических симметрий
кристаллов и кончая суперсимметриями в квантовых теориях поля.
Поэтому, считает Раманна, если возможна унификация законов
физики, то она должна вести к очень высокой степени симметрии,
включающей в себя как описание атомов и молекул, так и описа¬
ние состояния человеческого сознания. Раманна называет ее «ги¬
персимметрией». Вот эта идея находится, по мнению Раманны, в
тесной связи с Адвайтой Шанкары «в том смысле, что высший
Брахман может рассматриваться как высшая симметрия, а наруше¬
ние этой симметрии (Майя) — это причина истинного реального
мира»29. Этому состоянию высшей симметрии в человеческом со¬
знании соответствует состояние «бессонного сна» Сушапти в Ад-
вайте Шанкары. И как одно из основных заключений, содержа¬
щихся в статье, в ней проводится мысль о том, что «вся Вселенная
обладает суперсимметрией, отклонение от которой порождает на¬
блюдаемый мир Майя, и суперсимметрия может восприниматься,
быть обнаружена только в состоянии бессонного сна (сушапти).
Таким образом, мы имеем состояние (состояние суперсимметрии),
в котором все есть не что другое, нежели абсолютная истина, и са¬
мо ее существование есть причина существования вселенной. Поэ¬
тому единственно абсолютная истина и реальность и состоит в су¬
персимметричном состоянии Высшего Брахмана»30.
Для Раманны в учении Шанкары и заключены смысл и содер¬
жание современных физических теорий. В некотором смысле уни¬
фикация, к которой только стремится современная физика, уже до¬
стигнута в логических и метафизических построениях древности,
поскольку Адвайта Шанкары есть уникальная попытка определить
истину и реальность, включающие в себя все знание и выводимые
из частной логики со всеми их последствиями. Таким образом, в
случае Раманны, как и в случае Рэя, научная деятельность в рам¬
ках универсальной современной научной парадигмы сочетается с
полностью ассимилированным автором традиционным видением
мира, которое он тоже переводит на язык современной науки, да¬
вая ему как бы новую научную легитимность. Еще один пример
того, насколько апелляция к традиционному мышлению укоренена
в деятельности современного ученого, дает работа историка науки
лектора Делийского университета Н.К.Джайна, который в своей
монографии об истории науки в Индии31— «стандартном труде
230
фактологического характера — вводит специальный раздел об «ин¬
дийском подходе к жизни», где излагаются учения о мировой душе
Атмане и ее свойствах, о цикле перерождений, испытываемых че¬
ловеческой душой, и т.д. Подтверждение же справедливости этих
положений Джайн ищет в ссылках на высказывания западных ав¬
торитетов и в газетных сенсациях о «достоверных случаях пересе¬
ления душ». Этот удивительный переход от нормальной парадигмы
современной истории науки к системе традиционных взглядов,
причем даже не в их философских или философско-религиозных
аспектах, а в плане обыденного сознания, ссылка на них как на
часть ежедневной реальности хотя и отличаются от нагруженного
научными теориями подхода Раманна, но в принятой нами класси¬
фикации должны быть отнесены к той же модели.
Однако картина отношения индийских ученых-сстсственников
к традиционному наследию не будет полной, если не обратиться к
мнению тех, кто фактически разделяет точку зрения А. Рахмана о
необходимости повторения наукой Индии пути науки европейской.
Приведем в качестве образца такой позиции свидетельство
А. Р. Чаудхури — молодого индийского астрофизика, заканчивав¬
шего образование в США и работающего там на стажировке в аст¬
рофизической обсерватории. Даже заглавие его статьи «Делая за¬
падную науку вне запада»32, не оставляет сомнения в том, что для
него наука — это прежде всего наука западная с ее правилами,
нормами и задачами. Действительно, основной пафос его статьи за¬
ключается в том, что в Индии не существует полной науки. По¬
скольку преподаватели в индийских высших учебных заведениях
редко сами занимаются научной деятельностью, то наука препод¬
носится как занятие по решению задач, т.е. как в некотором смыс¬
ле процесс не творческий, а чисто механический и повторяющийся.
Чаудхури считает, что в Индии не обсуждаются и не решаются
глобальные задачи в науке и что полной науки нет ни в Китае, ни
в Японии, последнее он мотивирует тем, что так считают сами
японцы. Автор утверждает, что хотя наука и зависит от состояния
культуры в данном регионе, но научное влияние передается труд¬
нее, чем передается культура, а в странах Востока не выработано
еще «гештальт-представление» о том, что есть наука, которая уже
укоренилась на Западе. Из контекста статьи очевидно, что это
гештальт-представление должно точно совпадать с образом науки
на Западе. Однако, несмотря на такую явную европоцентрическую
установку, первым пунктом в понятие «полной науки» Чаудхури
вносит требование, чтобы наука свободно оперировала понятиями
прошлого. Причем здесь вновь, как и в рассмотренных ранее слу¬
чаях, имеются в виду понятия своего национального прошлого. За¬
метим, что и у Рахмана, который от прошлого, в том числе от тра¬
диционного научного прошлого, яростно отталкивается, оно все же
непременно присутствует как объект пусть негативной, но рефе¬
ренции. Из рассмотренного выше примера можно выделить третью
модель отношения к традиционному прошлому ученых-естествен-
ников Индии. Она характеризуется относительной индифферентно¬
231
стью ученого к метафизическим достижениям традиционного зна¬
ния, а именно им в первых двух моделях отводилось первостепен¬
ное место. Наибольший интерес проявляется в данном случае к ре¬
альным результатам, полученным в традиционном знании, которые
могут трактоваться в современной парадигме однозначно и без до¬
полнительной метафизической окраски. Тут явный приоритет отво¬
дится современной науке, и достижения прошлого рассматриваются
лишь как дополнительное доказательство возможности эту науку
реализовывать, а весь массив знания традиционно рассматривает¬
ся как первое приближение к изощренным результатам науки со¬
временной.
Надо отметить, что чаще всего у ученых-естественников Индии
встречается вторая модель отношения к традиционному знанию.
Попытаемся ответить на вопрос, почему традиционное знание при¬
обретает большее значение по сравнению с ситуацией в какой-ни¬
будь европейской стране. Объяснение должно, на наш взгляд, со¬
стоять из двух частей. Первая носит чисто социальный характер и
связана с природой современной науки, привнесенной в Индию из¬
вне, колонизаторами, откуда подразумевается изначальная враж¬
дебность ее всякому индийцу. За последнее время во многом как
реакция на последствия экологического кризиса, охватившего пла¬
нету в результате применения как раз достижений науки, антисци-
ентистские настроения в странах Востока отражаются еще и в уси¬
лении, впрочем никогда до конца не исчезавших, призывов бороть¬
ся с колонизацией в сфере науки, с духовной колонизацией умов,
которая иногда отождествляется с восприятием норм современной
науки, трактуемой как западная. Так, уже неоднократно цитиро¬
вавшийся А.Нанди в работе «Внутренний враг»33 возвращается к
вопросу о соотношении истории и мифа в индийской культуре и
через сто пятьдесят лет после Т. Д. Маколея тоже говорит о мифо¬
логическом восприятии истории в индийской традиции, но он при¬
ветствует именно замену истории мифом, считая, что миф описы¬
вающий события прошлого и одновременно постоянно корреспонди¬
руемый с настоящим, жив в отличие от истории с ее раз и навсегда
заданным набором событий прошлого. Та же тенденция наблюдает¬
ся и в восприятии мира ученых-естественников, но уже на фоне
другие реалий.
Заметим, что А.Нанди не призывает к полному отказу от за¬
падных ценностей и западного знания, он как раз ратует за асси¬
миляцию Востоком западной цивилизации, но это не означает со¬
здание некоего гибрида, синтеза, о котором так много пишут восто¬
коведы. Нанди считает необходимым именно поглощение восточной
системой мировосприятия понятий западной науки и культуры. От¬
сюда характеристика как патологии фигуры прозападного индийца.
Эта точка зрения очень близка к позиции М. Ганди, писавшего:
«Любой индиец, достигнувший чего-либо значительного в любой
области, является прямым или косвенным плодом западного обра¬
зования. Но одновременно любой отклик, любое воздействие, кото¬
рое он оказывал на людей, было в конечном итоге результатом во¬
232
сточной культуры». Из этого высказывания можно сделать вывод,
позволяющий перейти от первого, самого очевидного слоя противо¬
речий внутри нового знания: национальное, отождествляемое с
традиционным, сталкивающееся с современным, отождествляемым
с колониальным, чужеродным,— на совершенно другую пробле¬
му — для воздействия на людей необходимо находиться внутри во¬
сточной культуры. Эффективность политической деятельности для
деятеля науки переходит в требование эффективности научной де¬
ятельности, т.е. создания, добычи, производства нового знания.
Для производства этого нового знания ученый, выросший внутри
восточной культуры, восточной цивилизации, испытывает потреб¬
ность обращения к наследию этой культуры.
Постоянное обращение индийских ученых к массиву традици¬
онного знания может быть проинтерпретировано при помощи пред¬
ложенной М.А.Розовым модели науки как набора социальных эста¬
фет или способа передачи деятельности по образцам34. В данном
случае речь идет о несопоставимости образцов научной деятельно¬
сти в сфере западной новой науки и образцов традиционного ин¬
дийского знания. В приведенном выше тексте мы нигде не опреде¬
ляли явно ни понятие «традиционное знание», ни понятие «совре¬
менная наука». Отчасти эта нечеткость вынужденная. Положение
усугубляется разнообразием и сложностью теоретических построе¬
ний философских школ древней Индии, которые отличались и сво¬
ими естественнонаучными представлениями. Но вместе с тем есть
определенный набор характерных черт этого традиционного зна¬
ния, включающий сакрализованный характер текстов вне зависи¬
мости от того, ортодоксальная или неортодоксальная система бра¬
лась за исходную. Любое новое знание всегда включало в себя зна¬
ние старое, и изложение новой теории начиналось с изложения те¬
ории старой, а наиболее развитый способ получения нового знания
состоял из комментирования древних текстов, характерное свойст¬
во знания традиционного — это специфически большой и жесткий
массив непроблематизируемого знания3^.
Естествознание Нового времени, впервые привнесенное в Ин¬
дию в конце XVIII — начале XIX в., но получившее распростра¬
нение только во второй половине XIX в., вступило в явное столк¬
новение с принятой системой знания. Иная методология в силу
иной исходной системы представлений, тенденция к достаточно бы¬
строй смене теорий — все это было принципиально чуждо индий¬
ским ученым. Дополнительная трудность состояла в том, что новая
наука была привнесена в готовом виде, ее рецепты и законы были
заданы, преподавались уже в готовых фиксированных формах. Но¬
вую науку можно было выучить наизусть как еще один сакраль¬
ный текст, но, для того чтобы в ней работать, и работать творче¬
ски, ее надо было принять за образец, а этот образец должен был
быть полностью ассимилирован. Сходные процессы происходили и
при формировании науки Нового времени в Европе, но там это
был эволюционный, длительный процесс. В Индии встречались
представления индийской системы традиционного знания с концеп¬
8 Заказ № 434
233
циями науки Нового времени, они встречались на узком отрезке
времени. Это уже было столкновение, сталкивались две независимо
сформировавшиеся системы понятий. Поэтому индийский ученый,
всем своим воспитанием и окружением приготовленный к совер¬
шенно другой системе образцов, был вынужден создавать некие
промежуточные образцы. Для ассимиляции образцов новой науки,
для их творческого использования, как представляется, было необ¬
ходимо формирование некоего буфера, промежуточного звена, пе¬
рехода от канонов знания традиционного, вполне устоявшегося, к
не менее жестким канонам нового естествознания. Приведенные
модели отношения к традиционному знанию и представляются как
раз примерами создания таких промежуточных образцов. К таким
промежуточным образцам можно отнести использование экспери¬
ментального метода и совершенного нового инструментария не для
проверки (поскольку если бы речь шла о проверке, то мы бы име¬
ли деятельность по образцам науки Нового времени), но для утвер¬
ждения норм традиционного знания. Промежуточным образцом яв¬
ляется и использование теоретических построений современной но¬
вой науки для реинтерпретации и тем самым дополнительного ут¬
верждения традиционного знания. Создание подобных промежуточ¬
ных образцов и позволяет переходить к деятельности по образцам
уже в новой науке. Специального анализа требуют содержатель¬
ный аспект образцов новой науки и их связь с переходными образ¬
цами, но это выходит за рамки данной работы.
1 Capra F. The Тао of Physics. L., 1983.
2 Needham J. Science and civilisation in China VI—IX.
3 Рашковский E. Б. Науковедение и Восток. M., 1980; Рашковский Е. Б. Зарожде¬
ние науковедческой мысли в странах Азии и Африки. М., 1985.
4 Цит. по: Bhargava М. L History of modern India. N.D., 1987. P. 185.
5 Цит. no: Weill G. L'eveil des nationalites et le movement liberal ( 1815—1848). P.,
1930. P. 474.
6 Rahman A. Trimurti: Science, Technology, Society. N.D., 1972.
7 См.: Волькенштейн M. В. Дополнительность физики и биологии // Нильс Бор и
науки XX века. Киев, 1988. С. 114—125.
8 Capra A. The Тао of Physics. Р. 137.
9 Бос Дук. Ч. Избранные произведения по раздражимости растений. М., 1964. Т. 2.
С 338
10 Там же. Т. 1. С. 97. 11 Там же.
12 Nandv A. Alternative Sciences. N.D. 1980.
13 Бос Дж.Ч. Избранные произведения... Т. 2. С. 190.
14 Там же. Т. 1. С. 135. 15 Там же. Т. 2. С. 219.
16 Цит. по: Бос Дук. Ч. Избранные произведения... Т. 1. С. 57.
17 Цит. по: Радхакришнан С. Индийская философия. М., 1956.
Т. 1. С. 76.
18 Там же. С. 75.
19 Бос Дук. Ч. Избранные произведения... Т. 2. С. 219.
20 Цит. по: Nandy A. Alternative sciences. N.D., 1980. Р. 47.
21 Там же. С. 58 * 22 Там же. С. 65.
23 Ray Р. С. History of Hindu Chemistry. V. I, II, 1902—1909.
24 Ibid. P. 50. 25 idid. P. 43.
26 Ray p. C. History of chemistry in ancient and medieval India. Calcutta, 1956. Есть
много общего во взлядах Дж. 4. Боса и П. 4. Рэя, начиная от представлений об
органическом «природном» характере развития культуры и цивилизации и кон¬
чая приводимыми Рэем цитатами из древних текстов, где в конкретных химиче¬
ских опытах описывается, например, «смерть» ртути и приводятся характеристи¬
ки этой «смерти». При несходстве тематики и подходах все же прямо из текстов
можно предположить, что авторы принадлежат одной культуре и используют об¬
щие культурные понятия.
234
27 Ramanna R. Logic, Shankara and Subramamania Iyer // Society and Science, N. D.,
1982. Vol. 7. P. 8.
28 Ibid. P. 9. 29 ibid. P. 6.
30 Ibid. P. 10—11.
31 Jain N. K. History of science and scientific method. N.D., 1982.
32 Choudhuri A. R. Practisizing Western science outside the West. Personal observations
on the Indian science // Soc. Stud. Sci. 1985. Vol. 15. P. 475—505.
33 Nandy A. The intimate enemy. N. D., 1984.
34 Розов M. А. Явление дополнительности в гуманитарном познании // Нильс Бор и
наука XX века. Киев, 1988. С. 165—177.
35 Лысенко В. Г. «Философия природы» в Индии. М., 1986.
МОЛОДЦОВА Е. Н.
ПРИНЦИПЫ ТРАНСЛЯЦИИ ЗНАНИЯ
В ТРАДИЦИИ И В СОВРЕМЕННОЙ НАУЧНОЙ КУЛЬТУРЕ
В статье прослеживаются некоторые аспекты сосущество¬
вания и взаимодействия двух разных типов знания об одном и
том же объекте, живущих в современной культуре: традиционно¬
го и научного. Точки соприкосновения и различия этих двух ти¬
пов знания показывают принятые в них способы трансляции,
т. е. способы соединения знания и человека. При рассмотрении
ситуации встречи двух реально существующих типов знания вы¬
ясняются некоторые скрытые от саморефлексии науки ее соб¬
ственные особенности. Выдвигается гипотеза о неизбежности
уравновешивания рационально-логической компоненты, которая
долгое время доминировала в современной науке, с другими
структурами знания.
Одним из общих мест современной научной культуры является
убеждение в том, что все типы знания о тех объектах, к которым
обращается наука, являются аналогами науки, зачатками науки,
протонаукой и имеют ценность не сами по себе, но лишь как сту¬
пени к возникновению и развитию собственно научного знания и
метода, снимаясь в науке как высшей форме знания. Эпитет «на¬
учный» носит ярко выраженный оценочный характер. Это один из
стереотипов нашей культуры, существующий несмотря на усилива¬
ющуюся тенденцию критики науки.
С понятием «современная наука» обычно связывается тот ее
образ, который родился в ходе научной революции XVII в., когда
научное знание резко противопоставило себя, как принципиально
революционное, руководствующееся критерием новизны, знанию
традиционному, сохраняющему и поддерживающему себя. Однако
явная натяжка в этом противопоставлении становится нам очевид¬
ной сегодня, когда научное знание вынуждено все чаще взаимодей¬
ствовать с традиционным. Обратим внимание хотя бы на аберра¬
цию термина «традиция»: то, что в философской рефлексии обоз¬
начается как обращение современной науки к традиционным зна¬
ниям, в самой науке осознается как вхождение в нее нетрадицион¬
ных методов. Эта терминологическая путаница показывает, что ре¬
ально мы имеем дело не столько с традицией и революцией, сколь¬
8*
235
ко с двумя традициями, только традиции эти разные. Эту разность
трудно уловить на содержательном уровне, и, может быть, поэто¬
му, хотя и были многочисленные попытки, так и не удалось за¬
фиксировать се в определении «науки», которое дало бы критерии
отличения от того, что не есть наука.
Сегодня мы сталкиваемся с парадоксальным фактом: наука яв¬
но начинает испытывать внутреннюю потребность в обращении к
традиционным знаниям, которые, как выясняется, существуют в
нашей культуре практически в том виде, в котором дошли к нам
из прошлого, и при этом не испытывают никакой потребности в
контакте с наукой. Различие этих двух типов существования зна¬
ния показывают принятые в них способы трансляции знания, спо¬
собы соединения знания и человека, причем этот индикатор сраба¬
тывает только тогда, когда традиция и наука вынуждены вступить
во взаимодействие. Характерно, что к этому вынуждают ситуации,
складывающиеся в самой науке, тогда как традиционные знания по
сей день функционируют в культуре как самозамкнутые и самодо¬
статочные. Судя по всему, случаи обращения науки к традиции
фиксируют изменения в образе самой науки, точки «расплыва»,
размывания этого образа, иными словами, показывают то, что про¬
исходит в науке, но пока не осознается ею.
Рассмотрим проблему на материале иглорефлексотерапии, тра¬
диционного восточного метода, входящего в сегодняшнюю запад¬
ную медицину и подвергающегося научному анализу. Как происхо¬
дит встреча этих двух методов, двух разных типов медицины? В
Европе мы имеем дело с возникновением все большего числа ле¬
карственных препаратов со все более широким спектром действия,
направленного на достижение не столько оптимальных (оптимум
нам неизвестен!), сколько все более сильных воздействий. Мы сле¬
дуем принципу: чем сильнее и быстрее, тем лучше. Параллельно с
осуществлением этого принципа развиваются и непредсказуемые
последствия: аллергизация, лекарственная зависимость, лекарст¬
венная непереносимость и т. д. С одной стороны, работает обще¬
принятая установка: стандартная пропись должна оказывать стан¬
дартное действие, с другой стороны, чем сильнее применяемое воз¬
действие, тем меньше надежды на стандарт, тем больше непредска¬
зуемых последствий дает объект, в нашем случае — человек. По¬
следствия, которые в принципе не могут быть учтены на данном
этапе развития науки, становятся массовыми, они непрогнозируе¬
мы и неконтролируемы. Такой класс ситуаций становится уже не
исключением, а правилом, причем отнюдь не в одной только меди¬
цине. Именно из таких ситуаций наука и оказывается вынужден¬
ной искать выход в обращении к традиции.
И вот в конце шестидесятых годов группа советских врачей
знакомится в клиниках КНР с методом чжень-цзю терапии, ре¬
флексотерапии, дающими возможность немедикаментозного лече¬
ния. Контакт в достаточной мере случаен, однако интерес, прояв¬
ленный европейскими врачами и пациентами к этому абсолютно
«ненаучному» методу, вполне закономерен, так как традиция со¬
236
временной европейской медицины, стремящейся построить себя по
строго научному образцу, перестала быть самодостаточной. И тогда
происходит «псрсоткрытис» имеющей многотысячелетнюю историю
индо-тибетско-китайско-монгольской медицинской методики.
Но для того чтобы включить иглорефлексотерапию, как и лю¬
бой другой заимствуемый метод, в свою структуру, современная
медицина, как и всякая отрасль научного знания, требует понима¬
ния и оправдания нового для нее, нетрадиционного в ее системе
типа знания, в терминах и теориях самой науки. Однако попробуй¬
те это сделать, когда у самого порога нас встречают вот такие абсо¬
лютно чуждые науке картинки:
На левом рисунке изображен цикл из пяти элементов, в общей
форме показывающий неразрывную связь человека с космосом.
Пять связанных между собой космических элементов, точнее, дви¬
жений постоянно вращаются, во вращении находится также связы¬
вающий круг1. Схема одинакова как для человека, так и для кос¬
моса, поскольку восточная теория всегда рассматривает челове¬
ка как микрокосм, любая часть которого является аналогом
микрокосма. Часть воспроизводит в себе сложность целого. Каж¬
дый из элементов одновременно обозначает цвет, вкус, соответст¬
вующий процесс, время года, орган тела, секрет, ткань, орган
чувств, состояние психики, планету. Например, для дерева это вы¬
глядит так: зеленый цвет, кислый вкус, процесс возрастания, сезон
года — весна, орган — печень, секрет —слезы, ткань — мышцы,
орган чувств — глаз, состояние психики — гнев, планета — Юпи¬
тер.
Дерево это рождение, возрастание, начало любого процесса,
огонь — максимальная активность, металл — упадок, вода — ми¬
нимальная активность, земля — ось и центр всех циклических из¬
менений мировоздания.
Круг показывает конструктивные связи между всеми элемента¬
ми: дерево рождает огонь, огонь согревает землю, земля рождает
металл, металл дает воду (будучи расплавленным), вода питает де¬
рево. Пентаграмма внутри круга изображает деструктивные связи
элементов: огонь угнетает (плавит) металл, металл режет дерево,
дерево подрывает корнями землю, земля впитывает воду, вода ту¬
шит огонь.
огонь
ХП
1
дерево
1Э-15ц1Нд
237
Второй, правый рисунок вводит еще два понятия — время и
энергия. По 12 основным, парным меридианам циркулирует энер¬
гия, и ее циркуляция обеспечивает жизнедеятельность органов и
всего организма как человека, так и космоса. Энергия организма в
точном соответствии с ритмом вселенной за 24 часа проходит все
12 основных меридианов, причем каждый меридиан имеет свое
время максимума и минимума энергии. Каждый орган, каждая
функция обнаруживают максимум и минимум энергии в точно ус¬
тановленный срок.
Изображенная на втором круге связь меридианов показывает не
только временные, но и пространственные закономерности. Если по
окружности проходит отношение «тонизация—дисперсия», или
«прибавление—отнятие» энергии, происходящее строго по часово¬
му графику, то пунктирные линии внутри круга обозначают отно¬
шение «верхний—нижний», а сплошные — «левый—правый».
Традиционная восточная медицина исходит из того, что в орга¬
низме человека представлены все виды связей, и болезнь является
следствием нарушения какой-либо из них, так как при этом утра¬
чивается равновесие. Точки, на которые оказывает воздействие по¬
средством укола врач-рефлексотерапевт, мыслятся как пункты кон¬
такта внутренней энергии организма со средой, с энергией вселен¬
ной, воздействие на точку восстанавливает нарушенный баланс ор¬
ганизма и среды. Лечение решает задачу восстановления правиль¬
ных связей между элементами, для чего необходим учет всех свя¬
зей организма и космоса.
Приведенные схемы изображают эту связь в общей форме, од¬
нако традиционная медицина никогда не работает с общим, всег¬
да — с индивидуальным, а выход на индивидуальные свойства че¬
ловека осуществляется с помощью астрономо-астрологических уче¬
ний. Как считают современные представители восточной медици¬
ны, хранители древнего знания (но отнюдь не прошедшие совре¬
менную подготовку врачи-иглорефлексотерапевты), все данные по
индо-тибетско-китайско-монгольской медицине в конечном счете
замыкаются на астрономию.
Выход на астрономию чрезвычайно сложен, да и не афиширу¬
ется носителями традиционного знания, но связь звездного мира со
всем живым на Земле я попытаюсь показать на материале, любез¬
но предоставленном в мое распоряжение сотрудником Института
философии, социологии и права АН МНР Л. Тэрбишем. Речь идет
о практике составления климатического прогноза в традиционной
Монголии, практике, которая долго предавалась официальному за¬
бвению, однако же до сих пор существует в народе, точнее, в среде
монгольских лам. Лама, специализирующийся в области астроно¬
мии , должен уметь на основе тибетского календаря вычислить
прогноз долгосрочных климатических изменений по своему регио¬
ну, дать преломление тибетского календаря в специфике своей ме¬
стности. Основу работы ламы составляет звездная карта, изобра¬
женная на каменном рисунке диаметром 1,5 м, которая датируется
примерно 1750—1760 гг. На камне нанесены 1400 звезд, 800 из
238
которых северного расположения, остальные — южного. Во Внут¬
ренней Монголии, в окружении пяти дацанов (ламаистских хра¬
мов), имеется идентичный рисунок, который, по-видимому, возник
раньше первого. Имеется также датируемый 1712 г. монголо-тибет¬
ский определитель небесных тел, совпадающий с этими рисунками.
И карта, и определитель, не являясь общедоступными материала¬
ми, составляют основу работы ламы-астронома.
Ни одна из изображенных на карте звезд не существует сама
по себе, но каждая связана с земными реалиями. Так, например,
когда в зоне видимости появляются 6 малых звезд, то вместе с ни¬
ми на земле возникает потомство сурков (тарбаганов), и звезды ис¬
чезают только тогда, когда сурки становятся способными выжить
самостоятельно. Эти звезды опекают сурков, они — для сурков,
так считают монголы. И точно так же любая другая звезда, она
всегда для кого-то или чего-то.
Название звезды в понимании монголов раскрывает ее содержа¬
ние, а поскольку в одном слове его не выразишь, то небесные тела
обычно имеют много названий: Солнце — 300, Луна — 150. Пер¬
вая из шести малых звезд, звезда Пагшаг, появляется на горизонте
6—7 июля. Перевод ее монгольского названия — «яд воды», так
как с появлением этой звезды вода считается отравленной, ее не¬
желательно пить, нежелательно умываться, запрещено собирать
лекарственные растения. Народные медики, т. с. ламы, специали¬
зирующиеся в медицине, выясняли у лам, специализирующихся в
астрономии, когда именно в данном году появится звезда Пагшаг,
и в это время никаких медицинских действий не предпринимали.
Звезда Риши появляется на горизонте 6—7 сентября (даты по
каждому году варьируются в зависимости от региона), и с ее появ¬
лением вода становится целебной. Водное лечение следует начи¬
нать с появлением этой звезды и продолжать до 22 декабря. После
22 декабря вода теряет свои свойства целебности, а с появлением
звезды Пагшаг наступает пик отравления воды. Старики в Монго¬
лии и сегодня придерживаются этих принципов обращения с водой.
Это простейший пример бытовавших и бытующих среди монголов,
сохраняющихся в ламаистской среде представлений о связи земного
мира с миром небесным, замкнутости медицины на астрологию, на
самом же деле эти представления неизмеримо сложнее. Они суще¬
ствуют в обращении в форме рецептов, но хранятся и разрабатыва¬
ются в среде лам в форме высокой теории.
Фактически при проведении любого медицинского действия, в
том числе при выборе точек воздействия в иглорефлсксотерапии,
традиционная медицина требует учитывать все связи, целостную
картину, в которой все связано со всем, и именно этому должен
научиться врач-рефлексотерапевт. Но как?
Д. М. Табесва считает основной особенностью принятого на Во¬
стоке исследовательского подхода то, что он был направлен на изу¬
чение функций организма в целом, а не отдельных органов, но чем
сложнее функция, тем труднее ее объяснить с помощью разложе¬
ния на составные части, зато значительно легче она воспринимает¬
239
ся как целое2. То есть мы должны сформировать у исследователя
способность целостного видения, и я не могу назвать это иначе как
формированием таланта, никак не исчерпывающегося навыками
мышления, но сопряженного с целостной структурой личности.
Именно личность формировалась в традиционном обучении как но¬
ситель традиционного знания.
Чтобы почувствовать специфику знаний, которые надлежит ка¬
ким-то образом транслировать, необходимо остановиться еще на
одной характерной черте восточной медицины — пульсовой диаг¬
ностике, без которой традиция считает невозможной работу ре¬
флексотерапевта. Древние сравнивали пульс с ощущениями, при¬
косновениями, звуками, зрительными восприятиями. Так, напри¬
мер, поверхностный пульс «фу» напоминал им колыхание перьев
птицы при очень слабом ветре или плавание кусочка дерева на во¬
де, длинный пульс «чан» описывался как «ни большой, ни малень¬
кий», напоминающий движение пальцев по бамбуку, и т. п.3 И ни¬
чего более определенного ни одно традиционное руководство об
этом не сообщает, придавая каждому описанию исключительно
субъективный характер.
Для человека, владеющего пульсовой диагностикой, такое опи¬
сание является вполне достаточным, более того, единственно воз¬
можным. То, как именно ставится диагноз с помощью этого мето¬
да, нельзя объяснить даже самому себе. Этому методу нельзя нау¬
читься с помощью книг, его может передать тебе только учитель.
Причем в процессе обучения желательно иметь контакт только с
учителем, все другие контакты считаются излишними и резко от¬
секаются. После смерти учителя, когда он передал тебе свое
знание, человек должен развивать только свои собственные по¬
тенции, черпать новое только из самого себя, идти только своим
собственным путем.
Но для такого постижения знания надо быть личностью, и од¬
ной из основ восточной методики тренировки личности является
риск. Казалось бы, как связаны между собой ситуации риска и
знание? Однако посмотрим на уровне современного сознания,
сформированного чернобыльской аварией, которая высветила в том
числе и дефекты нашего знания. Григорий Медведев, описывая
трагедию Чернобыля4, считает роковой ошибку в работе со стерж¬
нями защиты, тонкости действия которых не учли операторы.
Один — потому, что, скорее всего, знал эти тонкости, но был моло¬
дым специалистом и знания не вошли еще в плоть и кровь (выде¬
лено мною.— Е. А/.). Второй, изучавший работу реактора и сдавав¬
ший экзамены, пропустил мимо сознания тонкости в конструкции
поглощающего стержня, ибо они впрямую не связывались в его со¬
знании с опасностью для жизни (выделено мною.— Е. А/.). Итак,
мало знать, надо еще иметь определенным образом структуриро¬
ванное сознание, а структурируют его фактор времени и фактор рис¬
ка. Чтобы это осознать, потребовалась трагедия, зафиксировавшая
разрыв между уровнем сложности знания и уровнем сложности лич¬
ности — носителя знания, разрыв между знанием и его применением.
240
Традиционное знание — это знание, которое в принципе неот¬
делимо от применения, знание и его использование уже в процессе
обучения неразрывно слиты, теория принципиально не может су¬
ществовать вне практики, и такое знание есть мудрость, иначе же
будем иметь науку, занятие пустое, с точки зрения представителя
традиционного знания. Это взгляд на метод изнутри, взгляд чело¬
века, действительно владеющего этим методом, способного к лич¬
ному творчеству внутри рамок традиционного знания.
Я не случайно начала изложение материала рефлексотерапии с
воспроизведения двух вписанных в круг образных схем и с прин¬
ципа описания пульса в системе пульсовой диагностики. Спраши¬
вается, могут ли быть в принципе поняты и транслированы в при¬
нятых в современной науке строго рациональных и вербализован¬
ных способах содержание этих схем и принципов пульсовой диаг¬
ностики? То есть может ли образ, которым мыслили в традицион¬
ной восточной теории, быть передан в строгой логике и следует ли
вообще к этому стремиться? Сошлюсь на теорию В. В. Налимова5,
который считает природу мышления континуальной, а потому ни¬
когда не могущей быть выраженной в дискретных символах языка,
так что у человека совершенно неизбежны отголоски дологических,
континуальных форм коммуникации. И даже не отголоски — есть
тип знания, который принципиально стремится быть транслирован
в таких континуальных формах. Хорошо это или плохо?
Как пишет Ф. В. Бассин, «если согласиться с истолкованием
Налимова, то становится понятным целый ряд, казалось бы, несвя¬
занных между собой фактов: особая продуктивность неоречевлен-
ной (неосознаваемой, предречевой) мысли, проявляющаяся во вне¬
запных решениях... Есть основания рассматривать в качестве суще¬
ственного фактора наблюдаемых сдвигов облегченность увязывания
смыслов на предречевом уровне их развития. То, что зафиксирова¬
но в развернутой речи, приобретает стабильность, утрачивает
смутные, зыбкие очертания субъективного переживания, становит¬
ся надындивидуальным социальным фактором, орудием общения,
«именем» объекта и потому феноменом, ясно познаваемым, но зато
за все эти привилегии надо платить. А плата заключается в ущер¬
бе, который этим преимуществом наносится способности дальней¬
шего развития смысла, в ослаблении способности к легкому уста¬
новлению новых связей оречевленного смысла с другими смыслами.
Сколько приобретается в результате вербализации смысла в его ло¬
гической завершенности, столько утрачивается, по-видимому, в его
потенциях к дальнейшему развитию»6.
Таким образом, сколько приобретаем в ходе развития строго
логических форм коммуникации и построения текстов, столько же
и утрачиваем в способности индивидуального творчества и индиви¬
дуального восприятия, и необходимо стремиться к должной балан¬
сировке этих форм с целью минимизации потерь. Все это прекрас¬
но понимали буддийские мыслители, особое внимание уделявшие
анализу знания с того момента его возникновения, когда оно еще
нс может быть выражено в словах7.
241
И символика круга с пятью элементами, и круга циркуляции
энергии, и пульсовой диагностики настолько сложны, что в прин¬
ципе не передаются только в строго формализованном мышлении,
в анализе, хотя эти способности здесь совершенно необходимы, но
рассчитаны еще и на сформированную способность к интуитивному
постижению, которая в традиционном знании является не редким
исключением, как это бывает в современной науке, но постоянно
действующим правилом, дающим простор для формирования собст¬
венно творческого характера мышления и поведения. Видимо, об¬
раз — та форма для передачи очень сложных структур знания, с
элиминацией которой познание неизбежно утрачивает свою твор¬
ческую потенцию.
И сегодня индийские врачи готовы обучить пульсовой дигности¬
ке человека, если он придет к ним в возрасте пяти лет. Да, дейст¬
вительно, традиционное обучение начинается с пятилетнего возра¬
ста, когда ребенок заучивает тексты наизусть до понимания
их смысла. На первый взгляд работа бессмысленная, но только
на первый. Как показывает современная психология, именно
память играет важнейшую роль в формировании мышления ре¬
бенка. И именно в 5—6 лет у ребенка наиболее развитой в мыш¬
лении является функция памяти и способность схватывать це¬
лое без его аналитического расчленения, кроме того, память ока¬
зывается важнейшей составной частью психики вообще, опреде¬
ляющей в детском возрасте пути ее дальнейшего формирова¬
ния. «Память в раннем детском возрасте — одна из центральных,
основных психических функций, в зависимости от которой и стро¬
ятся все остальные функции. Анализ показывает, что мышление
ребенка раннего возраста во многом определяется его памятью»,—
пишет Л. С. Выготский8, и потому «определяющим моментом в на¬
чале развития является память ребенка»9. И вообще современные
психологи приходят к выводу, что обучение детей грамоте гораздо
легче в 5—6 лет, чем в 7—8. По сути дела, традиционный метод
берет оптимальный возраст для начала обучения и начинает с тре¬
нировки именно той психической функции, которая далее опреде¬
лит структуру психики. Очевидно, что в нашем современном обу¬
чении мы сильно недооцениваем роль памяти в формировании со¬
знания ребенка.
Но что же — подготовка будущего врача начинается с запоми¬
нания собственно медицинских текстов? Отнюдь нет. Ведь готовят
не врача, готовят личность в целом. Обучение начинается с заучи¬
вания наизусть исходных текстов буддизма. Как считают в монас¬
тыре Гандантэгчинлин в Улан-Баторе, недостаток современной сис¬
темы образования в том' что идут сразу по всем отраслям знания,
а надо бы сконцентрироваться вначале на одном предмете и полу¬
чить метод познания. «Не познав ствол, не хватайся за ветки».
Первый предмет обучения, королева всех наук — философия, и
только изучив ее, можно переходить к отдельным предметам. Дей¬
ствительно, если мы хотим сформировать способность к целостному
видению, разумно идти от целостной картины мира, когда связь
242
целого уже познана и отдельные отрасли знания не воспринимают¬
ся как нечто изолированное, но с самого начала осознаются как ча¬
сти целого. Современные дифференцированные науки практически
обходятся без такой целостной картины и потому утрачивают связь
друг с другом.
Если обучение начато с пяти лет, то где-то к 40-годам перехо¬
дят к изучению текстов Абхидхаммы, сложнейшего раздела будди¬
стской философии, получают ученое звание, но, в сущности, обу¬
чение длится всю жизнь.
Важнейшим в обучении является отношение «учитель—уче¬
ник». В Гандантэгчинлине, где обучение сегодня начинается с 18
лет, прежде чем вступить в такое отношение, ученик выполняет
работу послушника и три года может наблюдать за учителем, но
потом, вступив в отношение «учитель—ученик», всякое наблюде¬
ние за учителем прекращает, если же есть в учителе что-то пло¬
хое, то это должно рассматриваться как недостаток кармы самого
ученика. Всякая критика учителя исключена (учителя, но не мыс¬
ли!). Не могу не отметить контраста с современным обучением, где
гиперкритицизм по отношению к учителю доведен до абсурда, до
той ситуации, когда обучаемый выставляет оценки учителю за ка¬
чество преподавания и за внешний вид.
Ученик в монастыре является предметом заботы учителя, кото¬
рый подходит к нему с позиций «трех корзин». Надо, чтобы корзи¬
на не была повернута вверх дном, не была дырявой и не была
грязной.
Современная наука, считают в монастыре, заботится о том, что
вне человека, о теле человека, а надо, чтобы душа была чистой.
Если же тело находится в покое (а именно об этом печется совре¬
менная наука), то душа не имеет при этом покоя. Для покоя души
необходим непокой тела.
Учитель заботится о том, чтобы ученик преодолел желания, а
также гнев, ибо желания и гнев рождают глупость. Если же жела¬
ния и гнев преодолены, то преодолевается и глупость. Прежде все¬
го — искоренение этих трех. Ибо желание — бесконечно, счастье
же всегда лишь краткий миг. Необходимо стремиться к добру. Од¬
нако зло существует неизбежно, и надо научиться правильному от¬
ношению к нему — воспринимать его как украшение, например
как браслет или серьгу в ухе. Следует преодолеть отношение к
смерти как к последней черте, ибо от такого отношения идет все¬
дозволенность в современной жизни. Как видим, учитель в первую
очередь печется о нравственных качествах ученика.
В процессе обучения учитель может действовать самыми разны¬
ми методами — как не существует одной таблетки от всех болез¬
ней, так и здесь нет рецепта на все случаи. Можно поставить воп¬
рос так, что он дает рамку ответа. Можно заставить ученика само¬
стоятельно искать решение. Можно совершенно неожиданно ска¬
зать ученику неправду, чтобы тот смог сам это определить, подвер¬
гая, как это и предписано Буддой, всякую мысль критике. Обяза¬
тельно участие в диспутах, где логическая мысль направляется в
243
нужное русло. Как видим, развитию логического мышления уделя¬
ется громадное, однако не главное внимание.
Образование здесь исходно соединено с воспитанием. Трениру¬
ется личность в целом, отсюда и способ ее мышления. Нет мыш¬
ления, нет знания вне личности — это исходный пункт в традици¬
онных способах передачи знания. Опустив этот момент, мы сегодня
выпускаем просто чернорабочих с дипломами, а не действительно
образованных людей, считают в Гандантэгчинлине. И я вниматель¬
но прислушиваюсь к этому идущему из глубины веков голосу, так
как именно монастырь оказывается сегодня, как и раньше, храни¬
телем и передатчиком древнего знания в его исходно полной фор¬
ме, внимательно прислушиваясь даже тогда, когда мне говорят, что
современная наука, к сожалению, пока не готова полностью восп¬
ринять учение буддизма, хотя в итоге и буддистское и научное
знание должны будут сомкнуться, поскольку истина едина. Я силь¬
но подозреваю большую правду и в первой и во второй части этого
утверждения. И спокойно слушаю, когда выпускники Гандантэг-
чинлина мне говорят, что буддизм обладает полным знанием, зна¬
нием самодостаточным, а наука — ну что ж, пусть ищет и обосно¬
вывает, пока сама не придет к пониманию.
Однако я уже упоминала о том, что в современном монастыре
Гандантэгчинлин обучение начинается не с пяти, а с 18 лет, после
окончания школы и достижения совершеннолетия. В это время зау¬
чивание текстов наизусть оказывается для человека изнуритель¬
ным, подчас непосильным трудом, и это вполне согласуется с обос¬
нованием современной психологии, согласно данным которой с из¬
менением возрастной ступени изменяется характер психических
функций, с помощью которых происходит запоминание, функции
памяти как бы замещаются другими психическими функциями, и
переход к абстрактному мышлению приводит к совсем иному типу
запоминания. К 18 годам этот иной тип запоминания уже полно¬
стью сформирован и необходимый этап в структурировании лично¬
сти упущен, приходится обходиться без него. Человек, прошедший
полный курс традиционного обучения, считает, что тем самым ут¬
рачивается культура обучения. Но человек, который начал поздно
и тексты наизусть не заучивал, не видит в этом уже ничего страш¬
ного, не осознает свою подготовку как дефектную. Узнав систему
категорий исходного медицинского трактата «Чжуд-ши», он счита¬
ет эти знания достаточными.
Пропустивший целый этап в своем обучении, как правило, ни¬
когда на осознает важности пропущенного, а потому редукция соб¬
ственного развития проходит для него безболезненно, незамечен¬
ной. Однако он учился у учителя и потому убежден, что без помощи
учителя текст «Чжуд-ши» не может быть понят и применен на прак¬
тике, т. е. редукция этого единственного учителя из процесса транс¬
ляции древнего знания представляется ему невозможной. И учитель
передает это знание далеко нс всем — из десяти учеников знание от
учителя обычно получают лишь двое, знание передается примени¬
тельно к личности. Всего процесс обучения длится 15—20 лет.
244
Современный же исследователь, нс связанный с традиционной
системой обучения и решающий проблему объективации данных
пульсовой диагностики, считает возможным самостоятельно изу¬
чать и анализировать переводы «Чжуд-ши» и «Вайдурья-онбо»10,
элиминируя уже не только фигуру учителя, но и знание языка, и
тем самым полностью порывая с традицией. Сам он осознает свою
деятельность как вполне адекватную текстам, объективирующую
их содержание, не задаваясь вопросом о правомерности такой про¬
цедуры.
Впрочем, существует в современности и еще один способ разры¬
ва традиции. Вплоть до последнего времени существовало и у нас,
и в Монголии официальное запрещение заниматься ламам астроно¬
мией и медициной, в результате многие старики умерли, не имея
ученика и не передав знание, знание ушло вместе с ними. Ведь
традиционное знание умирает вместе со своим носителем, если не¬
кому было его передать. Смерть знания в культуре — трагичней¬
шая вещь.
Сложная картина взаимоотношения традиционных и современ¬
ных медицинских подходов предстает в Институте народной меди¬
цины при Минздраве МНР. Я останавливаюсь на примере именно
этого учреждения, так как именно с ним мне выпал случай позна¬
комиться, но, насколько я знаю, и в нашем Институте народной
медицины, и в Институте народной медицины КНР происходит од¬
но и то же: наука встречается с многовековой традицией и пытает¬
ся не сама адаптироваться к ней, но адаптировать традицию при¬
менительно к себе. И прежде всего наука ищет объективных спосо¬
бов проверки знания, с которым столкнулась, старается очистить
его от всех субъективных, личностных моментов. Анализируя тра¬
диционное знание, здесь все ищут объективную медицину.
Любопытен путь, ведущий человека в этот Институт. Прежде
всего нас здесь встречает Лаборатория народной медицины, где за¬
нимаются расшифровкой рецептов, содержащихся в древних тек¬
стах. Баасанхуу — один из сотрудников этой лаборатории, он ро¬
дился в семье скотовода, в пять лет отец обучил его старомонголь¬
ской письменности, т. е. начал обучение с того возраста, с которого
предписывает начинать его традиция. Потом — современная шко¬
ла, к которой в 13 лет добавляется изучение тибетского языка у
старика, причем такое обучение никогда не может носить характер
лишь языковой подготовки, старик обязательно делится своими по¬
знаниями в тибетской культуре, комментирует тексты, раскрывая
весь спектр их значений. Собственно, такой способ обучения при¬
вез в Москву Ю. Н. Рерих, и к нему прибегали его ученики-индо¬
логи в своей собственной преподавательской деятельности, пока
индологическая школа Рериха существовала в Москве.
Итак, у Баасанхуу с современным соединяются элементы тра¬
диционного образования, он существует как бы в двух культурах.
Далее он кончает медицинский техникум, работает фельдшером,
затем приходит в Институт народной медицины. Но в 28 лет он
покидает его ради обучения в семинарии Гандантэгчинлина, без
245
которой работать с традиционными текстами практически не¬
возможно. Пять лет он учится в семинарии, где проходит об¬
щий курс буддистской философии, изучает тибетский язык и
два года специализируется только в области медицины. Потом
три месяца стажировки в Индии в области аюрведической медици¬
ны с изучением английского и хинди. На мой взгляд, подготовка
блестящая.
Баасанхуу считает, что монгольская медицина начинается на
стадии шаманизма, где магия и реальное лечение шли вместе. Но
он всегда стремится отделить одно от другого. Примером такого ле¬
чения может быть случай, когда при заболевании ротовой полости
у ребенка брат его матери должен был сесть на коня и скакать бы¬
стро и долго, а потом покрытые пеной удила сразу же вложить в
рот ребенка. Может быть, здесь что-то и действовало, например
пена лошади в соединении с железом удил, но мы этого не знаем,
не проверили научными методами, и потому это из нашего рас¬
смотрения исключается, случаи исцеления не служат доказательст¬
вом: только научный анализ достоверен.
Монголия — страна кочевая, а потому, считает Баасанхуу, за¬
болевания здесь носили в основном травматический характер. Для
их лечения существовали бареч, костоправы, им был известен и
широко практиковался особый способ лечения сотрясения головного
мозга с помощью особого вида массажа — «баречи». На основании
пульсовой диагностики ставили диагноз сотрясения и определяли
направление смещения, а потом делали коррекцию с помощью осо¬
бого вида точечно-вибрационного массажа, так что все лечение за¬
нимало 15—30 минут. Метод этот и сегодня применяется в неофи¬
циальной медицине Монголии, но он имел несчастье пройти докли¬
нические испытания в Институте народной медицины. Несчастьем
этот факт считаю я, сотрудники же Института видят в этом боль¬
шую удачу не только для себя, но и — совершенно искренне —
для самого метода.
И далее сотрудники института выявляют в Улан-Баторе и по
аймакам людей, владеющих этим методом, и устраивают им экза¬
мен, после чего решают, кому выдавать разрешение на дальней¬
шую практику, а кому запретить. Это еще один современный спо¬
соб обрыва традиции, уничтожения знания, так как экспертами по
отношению к тысячелетней практике становятся люди, которые
только что открыли для себя этот метод, к тому же не владеющие
в должной мере навыками пульсовой диагностики, обязательными
в данном виде лечения. Ученые действуют с лучшими намерения¬
ми, стремясь свести к минимуму вред, который наносит, с их точки
зрения, всякое действие, которое не контролируется наукой, и в
упор не видят последствий собственных действий, не предполагают
даже, что контроль в данном случае означает уничтожение. Все
мои собеседники, знакомые с традиционной практикой не извне, а
изнутри, приходили в ужас: ученым ничего объяснить было нельзя,
знающим же ничего объяснять было не надо. Поистине получалось,
что «знающий не говорит, а говорящий не знает».
246
И по отношению ко всякому выявленному методу сотрудники
Института ставят своей задачей взять его под контроль, наука в их
лице стремится поставить себя над традиционным знанием, над
изучаемым объектом, не задумываясь о своем собственном соотно¬
шении с его степенью сложности. Думаю, что это является одной
из немаловажных причин того, что носители традиции не стремят¬
ся поведать о своем знании ученым.
Коренной перелом, произошедший в монгольской медицине,
Баасанхуу связывает с именем Чингисхана. Время Чингисхана
принесло войны и необходимость быстрого походного лечения. Но
все лекари либо были шаманами, либо находились под покрови¬
тельством шамана. А шаман — не воин, он в сражениях не участ¬
вует. Есть предположение, что великий хан вообще не жаловал
шаманов. И Чингисхан создаст школу, где собирает 500 человек,
которым преподавали шаманы. Таким образом лечение отделяется
от шаманизма. Что утрачено в ходе такой «ускоренной модерниза¬
ции» медицины, никого не интересует, важно, что ученики уже не
шаманы, а просто лекари, свободные от многих связывавших их
ранее ограничений.
Но медицина явно не выдержала своего светского статуса, тем
более что, на мой взгляд, ее отделение от шаманизма выглядит
весьма проблематично, если, конечно, Чингисхан нс уничтожил
всех шаманов (а этого он явно не сделал). С приходом в Монголию
ламаизма, практически ассимилировавшего шаманизм, медицина
становится одной из специальностей монгольских лам, которых го¬
товили теперь уже в монастырях при дацанах, откуда они часто
уезжали учиться в Тибет.
Баасанхуу считает, что в своих истоках медицинские знания
всегда возникали эмпирически, в том числе эмпирически находи¬
лись и точки прижигания или укалывания, просто по принципу
«даст эффект — не даст эффекта». Свидетельством их эмпириче¬
ского происхождения является тот факт, что точки прижигания ки¬
тайской и монгольской медицины различны. Если Китай знал око¬
ло 800 точек, то монгольская медицина — около 300, причем одна
точка, используемая в монгольской медицине, равносильна по дей¬
ствию 5 точкам китайской. Источником эмпирических медицин¬
ских знаний служили наблюдения за поведением животных. Суще¬
ствует легенда, согласно которой однажды охотник попал косуле в
область матки, началось сильное кровотечение, но косуля стала
есть розовые цветы, и кровь остановилась. С тех пор эти цветы
стали применяться для остановки маточных кровотечений. Человек
как бы принимает эстафету у животного.
Мне думается, что проблема происхождения традиционных ме¬
дицинских знаний действительно замыкается на животное, которое
знает траву, нужную при данном заболевании, знает точки, на
которые воздействуют при акупунктуре. Так, кошка регулярно мо¬
ет и трет лапой ухо, где сосредоточено большое число так называе¬
мых «активных точек», и тем самым прибегает к аурикулярной те¬
рапии, не имея ни малейшей нужды выражать свое «знание» в сло¬
247
вах. Разъяренное животное обычно не просто вцепляется куда по¬
пало, но достигает максимального болевого и физиологического эф¬
фекта, точно попадая как раз в те самые «точки». Животным дви¬
жет инстинкт, но человек имеет гораздо больше общего с живо¬
тным, чем это принято думать в нашей рационально-логизирован¬
ной культуре, прилагающей все усилия к тому, чтобы заглушить в
человеке голос инстинкта, на уровне которого человек знает все то,
что знает животное, но утрачивает эти знания при попытке выве¬
сти их только на уровень рационально-логических структур, кото¬
рыми не ограничивает себя знание традиционное.
Надо сказать, что установка врача-рсфлсксотсрапевта, состав¬
ляющего индивидуальный рецепт, для которого никогда не сущест¬
вует прописи, а также врача, обученного пульсовой диагностике,
направлена на достижение целостного и мгновенного видения, а не
растянутого во времени аналитического расчленения, т. е. обраще¬
на не столько к рацио, сколько к другим, более глубоким слоям
психики, адресована особым психическим состояниям, достижение
которых культивировалось.
Современная же наука считает эти знания достоверными лишь
в том случае, если они проходят проверку методами самой науки:
наука не доверяет никому, кроме себя. Любой препарат из рас¬
шифрованного древнего рецепта должен пройти в Институте народ¬
ной медицины проверку современными методами химического ана¬
лиза в специально для этого существующем секторе химии, где
препарат, не получивший химического подтверждения своих
свойств, отвергается. Впрочем, такие случаи крайне редки. На ис¬
пытании в Институте за 14 лет было 50 растений народной меди¬
цины, из них было всего три случая неподтверждения, причем они
пришлись на заменители описанных в тексте растений, в случае же
с исходными растениями всегда наблюдалось химическое подтверж¬
дение их свойств. Недоверие науки к древним знаниям оказалось,
в сущности, необоснованным.
И я должна здесь еще заметить, что обычно растения и препа¬
раты, используемые в традиционной медицине, демонстрируют го¬
раздо более широкий спектр действия, чем тот, который выявлен
химическим анализом. Возьмите современную аптечную коробку с
травой, на которой обозначены случаи ее применения, и сопоставь¬
те с описанием того же растения у Авиценны — у него всегда бу¬
дет гораздо больше рекомендаций к применению, чем у наших со¬
временников. Дело в том, что химический анализ схематизирует
свойства препарата в соответствии с известными в науке вещества¬
ми, но нс учитывает действующих в реальном растении факторов,
а также эффекта их целостного сочетания.
Поэтому современный химический препарат, изготовленный на
базе известных науке компонентов растения, обычно оказывается
гораздо менее действенным, чем само растение. И сектор патологии
Института народной медицины МНР, испытывающий уже изготов¬
ленные препараты, считает большой удачей, когда один из трех-
четырех препаратов проходит доклинические испытания.
248
Но еще сложнее обстоит дело с научным исследованием метода
рефлексотерапии, которое также ведет Институт. Современный
врач-рефлексотерапевт обучается в Москве, в Китае, в Монголии
примерно одинаково. Исходным материалом является клинический
врач, уже прошедший курс обучения медицине по современной си¬
стеме, что полностью сформировало его мышление. Считается, что
врач с современной подготовкой очень легко понимает сущность
восточного метода, тогда как обратное было бы затруднительно.
Процесс обучения современного врача по специальности «иглореф-
лексотерапия» длится в общей сложности шесть месяцев. Три меся¬
ца уходит на специализированные курсы, где учат корректному
владению иглой, технике иглоукалывания. Такой врач не выбирает
рецепта и не ставит диагноза: к нему приходит клинически обсле¬
дованный больной и для каждой болезни есть готовый рецепт. За¬
дача врача — лишь правильно использовать иглу. Получивший та¬
кие знания выпускник некоторое время работает в клинике рядом
с врачом-рсфлексотсрапевтом. Потом его ждут курсы усовершенст¬
вования, занимающие еще 3 месяца. Здесь уже включают элемен¬
ты восточной теории и восточной диагностики. Но после того как
мы познакомились с практикой традиционного обучения, не очень
понятно, чему можно научить за 6 месяцев и о какой восточной
теории идет речь? И не может уже удивить тот факт, что, напри¬
мер, в КНР в Институте народной медицины теория пяти элемен¬
тов до сих пор официально отвергается, как нс нашедшая верифи¬
кации в современной научной теории.
И что же мы имеем при таком обучении методу? Прежде всего
традиционную для науки попытку ускорить сам процесс лечения и
диагностики с помощью приборов. Находить точки и диагностиро¬
вать их патологию стремятся при помощи снятия электрических
потенциалов, а затем воздействовать на точки электротоком, хотя
в случае неадекватно подобранных параметров такое воздействие
может менять свойства точек, причем необратимо. Мы нс понима¬
ем природу точки акупунктуры, не знаем, в сущности, с чем име¬
ем дело, каковы будут ближайшие, нс говоря уже об отдаленных,
последствия наших действий, однако неудержимо экспериментиру¬
ем. Мы начинаем воздействовать на те точки, которые были строго
запрещены в восточной медицине как точки смертельного риска, и
очень гордимся этим. Мы ищем все более и более эффективные
способы воздействия на точки и, что самое главное, находим. В
Казахстане, в клинике профессора Инюшина, уже применяется
воздействие на точки акупунктуры с помощью низкоэнсргстическо-
го лазера, увеличивающего силу и быстроту действия. Для нас са¬
моценно ускорение в получении знания, оно же самоценно и в его
применении.
Сотрудники Института народной медицины МНР сильно удиви¬
лись, узнав о применении у нас в клинике лазерного воздействия
на точки. Здесь лазер не применяют, так как точки всегда имеют
собственную глубину, лазер же выходит за собственную глубину
точки. Кроме того, укол в точку должен иметь строго определенное
249
направление, лазер же направление укола не берет. И вообще,
считают они, любое применение лазера дает нежелательные по¬
следствия, которые выявляются через два года, тем более недопу¬
стимо лазерное воздействие на точки. Но научная мысль не при¬
выкла считаться с последствиями совершаемых под ее руководст¬
вом действий, знание и действие в ней разделены, часто имеют
разных носителей, и знающий не знает совершаемого с помощью
знания. Обычно мы привыкли считать, что разрушительные по¬
следствия нашей деятельности связаны с происходящим по тем или
иным, внешним по отношению к научному знанию законам приме¬
нения этого знания, но не стоит ли задуматься о самой структуре
нашего знания, вернее, о способе соединения знания и личности в
научной культуре? Мне кажется, что стоит. Обратим еще раз вни¬
мание на тот факт, что отделение знания от действия категориче¬
ски запрещалось традицией, в которой лишь то знание имело цен¬
ность, которое одновременно соединялось с применением (впрочем,
зачем здесь прошедшее время — сегодня в традиции дело обстоит
точно так же). В современной науке деятельность теоретика и дея¬
тельность по практическому применению теории, как правило, яв¬
ляются разными видами деятельности, с разными носителями. Счи¬
тается, что разграничение ролей теоретика и практика служит раз¬
витию науки, которой необходима специализация. В традиционном
знании чем более высоким уровнем теории владеет человек, тем
более высококвалифицированным практиком он оказывается; эти
роли всегда соединены в одном лице, и понимание здесь есть уме¬
ние действовать.
Считая недопустимым применение лазера, сотрудники Инсти¬
тута народной медицины МНР допускают применение электричест¬
ва, хотя в качестве наилучшего оценивают ручной метод, при ко¬
тором на 10 тысяч случаев выпадает одна ошибка, при электриче¬
ском же воздействии — значительно больше. Прибор здесь нена¬
дежный посредник.
Однако обращение к прибору является для современного врача-
рефлексотерапевта практически неизбежным. Поскольку метод
пульсовой диагностики оказывается принципиально недоступен со¬
временному врачу, но необходимость этого метода, без которого
древние не мыслили рефлексотерапии и вообще восточной медици¬
ны, ему совершенно очевидна, выход ищется на традиционно науч¬
ном пути предельной объективации данных и передачи их на ма¬
шину: контакт врача и пациента признается возможным полностью
заменить контактом с машиной. И в любом современном научном
исследовании по пульсовой диагностике авторы будут озабочены
способами объективного описания данных пульсовой диагностики и
вариантами передачи их для машинной обработки. Интересно по¬
смотреть отношение к этому людей, получивших разные типы об¬
разования.
Врач-рефлексотерапевт с современной подготовкой считает ско¬
рейшее решение этой задачи чрезвычайно желательным и в прин¬
ципе возможным. Лама из монастыря Гандантэгчинлин утвержда¬
250
ет, что, передавая данные по пульсовой диагностике датчикам и
запуская их на машину, мы можем получить лишь общий случай,
тогда как вся восточная медицина занята тем, чтобы получить пре¬
дельную индивидуализацию для каждого случая, именно в этом
творческая задача врача-рефлексотерапевта. Кроме того, все дан¬
ные по пульсовой диагностике и традиционной медицине вообще
замыкаются на астрономию, на связь человека с космосом, а этот
момент машина не учитывает вообще. Врач,* владеющий методом
пульсовой диагностики и прошедший современное медицинское
обучение, уверен, что любая попытка машинизации пульсовой ди¬
агностики в принципе несостоятельна, ибо древний метод предпо¬
лагает непосредственный контакт врача и пациента; современная
же медицина разошлась с традиционной как раз на стадии инстру¬
ментальной, когда был снят индивидуальный контакт врача и боль¬
ного, и после этого расхождения мы получили два разных типа ме¬
дицины: научную и традиционную, причем последняя отнюдь не
снимается с возникновением первой, но просто существует отдель¬
но от нее, в другой среде, с другими носителями.
Не только к медицине, но и в традиционной астрономии к пе¬
редаче функций человека машине относятся скверно. Для челове¬
ка, прошедшего традиционное обучение и специализирующегося в
области восточной астрономии, этика отношений с учителем вклю¬
чает в себя обязательный запрет машинного вычисления астроно¬
мических явлений. Расчет, занимающий пять-шесть лет, ученик
должен провести своими руками, при этом нельзя прибегать к
справочникам, все тексты держатся в памяти. При переводе на ма¬
шину мы теряем знания, машина ограничивает возможности разви¬
тия мышления. Традиционный способ развивает мозг, способный
вмещать в себя безграничное количество информации. Развиваем
машины — теряем человека, теряем в развитии его творческой
способности. Развитие современных вычислительных машин тако¬
во, что при этом человек, умеющий считать, просто вытесняется, в
итоге при высокоразвитой технике сам человек нс может вычис¬
лить таблицу умножения. Трудная работа длительного расчета по
памяти формирует полностью осознанное действие без выпадения
этапов его формирования и одновременно является испытанием
ученика.
И когда современный ученый, врач-рефлексотерапевт работает
с восточным методом, его сознание в этом процессе как бы раздва¬
ивается: с одной стороны, он прекрасно понимает, что метод дол¬
жен применяться в его исходном варианте, с другой — он не мо¬
жет быть применен в рамках современной культуры в своей пол¬
ной форме, а урезание явно не знает границ. И современный врач-
рефлексотерапевт неизбежно обращается к старикам за получени¬
ем отвергаемого его наукой знания, стремится войти в собственно
восточную систему теоретического обоснования, без которой невоз¬
можна грамотная практика, вернее, без него практика метода не¬
возможна вообще, она превращается в абсурд. И теорию пяти эле¬
ментов, и астрономическую связь изучают с помощью носителей
251
традиционного знания. И здесь в сознании нс может не произойти
сшибки двух процессов — процесса современного и процесса тра¬
диционного образования.
При такой встрече воочию выясняется, что об одном и том же
объекте — в нашем случае о человеке — могут существовать, и се¬
годня реально существуют, два разных типа знаний и их ценност¬
ное соподчинение отнюдь не столь очевидно, как нам представля¬
лось, когда мы рассматривали их порознь. Эти разные по своему
строению знания соответственно и передаются разными способами.
Наука считает идеальной ситуацией для передачи знания его
предельную объективацию, устранение всех личностных, субъек¬
тивных моментов. Самый лучший способ распространения знания с
точки зрения науки тот, который обеспечивает наибольшее ускоре¬
ние процесса обучения и придает ему как можно более массовый
характер. Знание и его применение рассматриваются в науке как
разные вещи.
Но это в идеале, а что на самом деле? В случае смены парадиг¬
мы знания мы никак не можем обойтись без анализа личности того
человека, который смену аксиоматик осуществил. Как правило, эта
личность талантлива, т. е. способна к целостному постижению объ¬
екта. При всем стремлении науки к ускорению процесса рапростра-
нения знания мы имеем констатацию того, что на подготовку спе¬
циалиста у нас уходит примерно 20 лет, т. е. срок обучения ра¬
вен традиционному; по-видимому, это естественный для челове¬
ка срок обучения и он не может и не должен быть ускорен.
Что касается массовости обучения, то уже сегодня становится
очевидным: она в принципе недостижима, а потому возможно
иметь лишь видимость такого достижения. Разрыв знания и приме¬
нения начинает осознаваться как неправомерный в условиях сегод¬
няшних катастроф.
Таким образом, те моменты, которые редуцированы наукой в
ее саморефлексии, на деле в ней остаются в ослабленном виде и
чем далее она действует в соответствии с собственным идеалом,
тем более очевидным это становится. В тех случаях, когда наука
сталкивается с объектом, превосходящим ее по уровню сложности,
именно эти редуцированные структуры начинают выходить на по¬
верхность. Толкают науку к этому те порождаемые ею самой ситу¬
ации, в которых неконтролируемые и непрогнозируемые в науке
последствия начинают превосходить полезный эффект от ее приме¬
нения. И тогда мы оказываемся вынужденными пересмотреть дей¬
ствующий в науке идеал знания и прежде всего наше осознание
науки как идеала знания.
Можно предположить, что мы имеем дело с некоторым имма¬
нентным законом жизни знания в культуре, когда на поверхность
всплывают попеременно те или иные структуры, какое-то время
способные доминировать, как это произошло с выдвинутой на пере¬
дний план рационально-логической компонентой научного зна¬
ния, но потом неизбежно уравновешиваются с другими структура¬
ми знания.
252
Многотысячелетняя традиция дает знание неизмеримо более
сложное, чем современная наука, в котором вербальный и невер¬
бальный компоненты хорошо уравновешены, и когда логика собст¬
венного развития заставляет науку к этому знанию обратиться, ей
неизбежно приходится задумываться о своей собственной соизмери¬
мости с тем, что она делает объектом своего изучения, о собствен¬
ных принципах оперирования со знанием, об отнюдь не нейтраль¬
ном характере знания по отношению к личности, о неустранимости
субъективно-личностных компонентов не только из процесса по¬
знания, но и из его результата — из состава самого знания.
И все это приводит к «расплыву» классически строгого образа
науки, показывая нам сущностное единство всего человеческого
знания, так что разница между традицией и революцией в его раз¬
витии оказывается нс столь велика, как нам сначала представля¬
лось, ибо истина в конечном счете действительно едина.
1 Опорой при изложении материала рефлексотерапии здесь и далее яиляются кни¬
ги: Табеева Д. М. Руководство по иглорефлексотерапии. M., 1978; Гаваа Лувсап.
Традиционные и современные аспекты восточной рефлексотерапии. М., 1986.
2 Табеева Д. М. Руководство по иглорефлексотерапии. С. 35.
3 Гаваа Лувсан. Традиционные и современные аспекты восточной рефлексотерапии.
С. 219-220.
4 Медведев Г. Чернобыльская тетрадь // Новый мир. 1989. N9 6. С. 26—27.
5 Эта теория подробно излагается в книге: Налимов В. В. Вероятностная модель
языка М., 1974.
Басси и Ф. В. У пределов распознавания: к проблеме предречевой формы мышле¬
ния // Бессознательное. Т. 3. Тбилиси, 1978. С. 741.
7 Подробнее об этом см.: Молодцова Е. //. Знание о естественном объекте в тради¬
ционной индийской культуре // Паука и культура. М., 1984.
8 Выготский Л. С. Собр. соч. Т. 2. M., 1982. С. 392.
9 Там же. С. 394.
ю См., например: Пульсовая диагностика тибетской медицины, Новосибирск, 1988.
С. 17.
С. С. ДЕМИДОВ
ФИЛОСОФСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
МОСКОВСКОЙ ШКОЛЫ ТЕОРИИ ФУНКЦИЙ
На основании анализа философских воззрений московских ма¬
тематиков начала XX в. (представителей московской философ¬
ско-математической школы, в частности Н. В. Бугаева с его
аритмологией и П. А. Флоренского) делается вывод о наличии
философско-математической традиции, сыгравшей определенную
роль в создании Московской школы теории функций Д. Ф. Егоро¬
ва — Н. Н. Лузина.
Говоря о традиции в науке, историки науки, как правило, име¬
ют в виду преемственность в имманентном развитии самого зна¬
ния. Традиции в жизни научных институтов и сообществ, в куль¬
турной атмосфере, царящей в научных школах, даже просто в фи¬
лософских воззрениях ее представителей рассматриваются как не¬
253
что второстепенное, необязательное для понимания, во всяком слу¬
чае, главных токов развития знания. Такой односторонний взгляд
не только обедняет действительную историческую картину жизни
науки, но и в ряде случаев искажает ее. Замечательный пример то¬
му дает история московской школы теории функций.
Московская школа теории функций Д. Ф. Егорова — Н. Н. Лу¬
зина — одно из наиболее ярких явлений в математике первой тре¬
ти XX в. О ее ранней истории и творчестве ее основателей имеется
обширная литература, в том числе мемуарного характера1.
Ее созданию предшествовало более чем вековое развитие мате¬
матических исследований в Москве. К началу XX в. она становится
крупным математическим центром со сложившимися направления¬
ми исследований — механикой (Н. Е. Жуковский, С. А. Чаплы¬
гин), дифференциальной и проективной геометрией (Б. К. Млодзе-
евский, Д. Ф. Егоров), теорией чисел (Н. В. Бугаев) и теорией ве¬
роятностей (П. А. Некрасов). Несмотря на то что достижения мос¬
ковских математиков получили всемирную известность (в первую
очередь это относится к результатам по дифференциальной геомет¬
рии — области, ставшей после К. М. Петерсона традиционной для
москвичей), в целом, если не считать замечательных достижений в
области механики (вполне оцененных, впрочем, позднее), они не
относились к областям, определявшим лицо современной математи¬
ки. Такое положение дел побудило в начале XX в. молодых мос¬
ковских математиков к поискам новых направлений, которые мог¬
ли вывести их на передовые рубежи. При этом эти направления нс
должны были по возможности пересекаться с путями, на которых
трудились математики знаменитой Петербургской математической
школы, конкурировать с которыми в условиях существовавшей от¬
чужденности двух школ было трудно. Таким новым направлением
стала для москвичей теория функций действительного переменно¬
го, успешно разрабатывавшаяся в это время преимущественно во
Франции. История показала правильность сделанного выбора.
Годом рождения Московской школы теории функций принято
считать 1911 год. В этом году в «Докладах» Парижской академии
наук появилась статья Д. Ф. Егорова «О последовательности изме¬
римых функций»2, содержащая известную теорему, носящую его
имя. А в 1912 г. там же была опубликована статья Н. Н. Лузина о
С-свойстве3. Этими работами открывается целая серия замечатель¬
ных исследований, составивших славу школе Егорова—Лузина.
Упомянутым событиям предшествовал сравнительно короткий
период приятия и акклиматизации на московской почве идей новой
теории функций действительного переменного: осенью 1900 г.
Б. К. Млодзсевский прочитал в Московском университете курс тео¬
рии функций действительного переменного, который он повторил
осенью 1902 и 1904 гг. и весной 1907 г.4: в 1907 г. вышла книга
И. И. Жегалкина «Трансфинитные числа» , защищенная в следую¬
щем году в университете в качестве магистерской диссертации.
Приблизительно так рассказывается в литературе о возникнове¬
нии московской школы. При этом стало обыкновением подчерки-
254
вать независимость тематики новой школы от работ московских
математиков предшествующего поколения. Новое направление, со¬
гласно общепринятым воззрениям, оказывалось нс в традициях
старой московской школы, но скорее ей противостояло.
Такие взгляды, как мы постараемся показать, не соответствуют
реальной истории. Они проистекают из одностороннего подхода, ог¬
раничивающего исторический анализ изучением имманентного раз¬
вития математических идей. Переосмысление событий ранней исто¬
рии московской школы стало возможным благодаря вчитыванию в
философский контекст, в котором проводились математические ис¬
следования в Москве в конце XIX — начале XX в. Задачу сущест¬
венно упростило введение в оборот материалов из архива известно¬
го русского богослова, философа и естествоиспытателя Павла Алек¬
сандровича Флоренского (1882—1943).
С конца 70-х годов Московский университет становится цент¬
ром активной философской деятельности. Здесь трудятся такие из¬
вестные философы, как Н. Я. Гротт, Л. М. Лопатин, С. Н. Трубец¬
кой. С университетом тесно связана деятельность одного из круп¬
нейших русских философов XIX в.— Вл. Соловьева. С 1885 г. при
университете создается Московское психологическое общество, ко¬
торое издает Труды, а начиная с 1889 г.— журнал «Вопросы фило¬
софии и психологии». В работе общества наряду с философами
принимают участие естествоиспытатели, медики, представители гу¬
манитарного знания, деятели искусства. Так, среди членов обще¬
ства мы видим писателя Л. Н. Толстого, композитора А. Н. Скря¬
бина, искусствоведа И. В. Цветаева, естествоиспытателей
И. М. Сеченова и К. А. Тимирязева. Активное участие в жизни об¬
щества принимали математики: В. Я. Цингер, Н. В. Бугаев,
Б. К. Млодзеевский, П. А. Некрасов.
Особо следует отметить деятельность одного из организаторов
психологического общества — наиболее влиятельного московского
математика конца XIX — начала XX в. Николая Васильевича Бу¬
гаева (1837—1903). Один из учредителей Московского математиче¬
ского общества — член-корреспондент Российской академиии наук
Бугаев занимался различными вопросами математического анали¬
за, теории алгебраических уравнений. Основные его результаты
принадлежат теории чисел, в связи с которой он развивал целое
направление, названное им аритмологией (о нем мы еще скажем в
дальнейшем). Наряду с математикой значительное место в творче¬
стве Бугаева занимала философия. «По внутреннему складу ума,
по заветным стремлениям своего духа он был столько же философ,
как и математик»,— писал о нем Л. М. Лопатин6.
Знаток И. Канта, Г. В. Ф. Гегеля, Г.-В. Лейбница, Дж. Локка и
Д. Юма, Бугаев, начав с позитивизма, пришел к созданию своей
собственной системы, отправляющейся от лейбницевой монадоло¬
гии. Он назвал ее «эволюционной монадологией». Бугасвскис мо¬
нады, которые бывают разных порядков и сложности в отличие от
лейбницсвских взаимодействуют. И если монада, взятая сама по
себе вне отношений с другими монадами, не может изменить свое
255
психическое содержание (закон монадологической косности), то во
взаимодействии с другими монадами она может совершенствовать¬
ся, обогащая свое психическое содержание (закон монадологиче¬
ской солидарности). Конечной целью совершенствования монады
является развитие ее психического содержания до психического со¬
держания мира, а целью развития мира должно стать его превра¬
щение в монаду7.
В тесной связи с его философскими воззрениями развивались
его взгляды на математику, итоговое выражение которым он дал в
1897 г. на I Международном конгрессе математиков в Цюрихе в до¬
кладе «Математика и научно-философское миросозерцание»8.
Не входя в обсуждение концепции Бугаева9, отметим лишь не¬
которые важные для нас ее моменты. Математику он рассматривал
как теорию функций по преимуществу. Она распадается на два от¬
дела: теорию непрерывных функций и теорию разрывных функций.
Теорией непрерывных функций занимается анализ, теорией раз¬
рывных функций — специальный отдел математики, который Бу¬
гаев называет аритмологией10.
Господствовавшие до сих пор научно-философские мировоззре¬
ния естествоиспытателей Бугаев ставил в прямую связь с преобла¬
данием анализа в математическом естествознании. Так как мате¬
матический анализ стал его основой, среди естествоиспытателей и
философов укрепилось мнение, что «аналитическая точка зрения
приложима к объяснению всех явлений»11. Молчаливо допуска¬
лось, «что все мировые события подчиняются определенным и не¬
преложным аналитическим законам... что если бы мы знали эти
законы, то все явления можно было бы предсказать с такою же
точностью, с какой предсказываются затмения и движения планет.
Такое сокрытое допущение выработалось под влиянием того обсто¬
ятельства, что у современного ученого сложились привычки к ана¬
литическому миросозерцанию... Такой взгляд приводит к полному
детерминизму»1^. Однако, указывал Бугаев, имеется целый ряд
факторов из естествознания, социологии и психологии, которые не
могут получить объяснения, исходя из «аналитической точки зре¬
ния». Для их рассмотрения необходимы «прерывные» функции
аритмологии, которая и ставит пределы полному детерминизму.
«Сущность истинно научно-философского миросозерцания вытека¬
ет из применения математики в ее полном объеме к изучению яв¬
лений природы... Аритмологичсская точка зрения дополняет анали¬
тическое мировоззрение...»13.
В плане чисто математическом аритмология Бугаева — разви¬
тие теории теоретико-числовых функций, а «прерывные» функции
аритмологии — это либо кусочно-непрерывные функции, имеющие
конечное число точек разрыва на любом конечном промежутке
(вроде функции (Е(х)), и функции, являющиеся пределами после¬
довательностей таких функций («предел ьно-аритмологические»
функции14), либо даже функции, заданные в отдельных, например
целочисленных, точках. «Итак,— писал Бугаев еще в 1865 г., при¬
водя пример такой функции,— не только значения этой числовой
256
функции, но даже значения переменного по самому смыслу ее дол¬
жны изменяться скачками»15.
Интерес к изучению «прерывных» функций, возникший у него
уже в 60-е годы (см.16, например, его вступительную лекцию к
курсу теории чисел, опубликованную к 1865 г. в «Московских уни¬
верситетских известиях»), проявляли многие его современники. С
появлением теории множеств некоторые из них усмотрели в ней
основу для изучения таких функций. Начало планомерной работе
в этом направлении положили исследования о разрывных функци¬
ях Э. Бореля, Р. Бэра и А. Лебега 1898—1899 гг., заложившие ос¬
новы теории функций действительного переменного. Расцвет этой
теории приходится на первое десятилетие XX в. Ее достижениями
в значительной степени определялось лицо математики этого пери¬
ода. Многие разделы математики испытали сильное ее влияние и
даже были перестроены (как, например, теория вероятностей) на
ее основе. Сформировавшийся как математик в 60-е годы, Бугаев,
хотя и сумел уже тогда увидеть важность изучения разрывных
функций, не понял значения зародившейся в 70-годы теории мно¬
жеств. (Впрочем, не сумели этого сделать многие математики, изу¬
чавшие разрывные функции, в их числе Г. Дарбу.) Его искания
оказались совершенно в стороне от построений Бореля, Бэра и Ле¬
бега, но его интерес к анализу разрывных функций был вполне в
духе времени.
Воззрения Бугаева нашли отклик у российских философов и
математиков. Вокруг него сформировалась так называемая москов¬
ская философско-математическая школа (П. А. Некрасов,
В. Г. Алексеев и др.), идеи которой, как на это указывают совре¬
менные исследователи17, оказались во многом близкими эволюцио¬
нистским построениям П. Тейяра де Шардена. Влияние этой шко¬
лы было особенно сильным в среде московских математиков, хотя
распространялось далеко за ее пределы.
Особое значение для развития московской математической
школы имели, на наш взгляд, следующие два аспекта философско-
математических воззрений Бугаева.
1. Широкий общефилософский контекст, в котором виделась
ему математика.
2. Понимание математики как по преимуществу теории функ¬
ций и сосредоточение внимания на анализе разрывных функций.
Общефилософский контекст создавал превосходную атмосферу
для приятия теории множеств, которая в первоначальной своей
форме у Кантора имела сильный философский и даже теологиче¬
ский привкус. Именно эта сторона вызывала резкое неприятие ра¬
бот Кантора математиками Петербурга, где было очень сильным
влияние позитивизма. Наоборот, московский климат, созданию ко¬
торого во многом способствовал Бугаев, оказался очень подходя¬
щим для восприятия канторовских идей.
Понимание же математики как прежде всего теории функций и
особое внимание к разрывным функциям готовили почву для пере¬
садки новых западных теоретико-функциональных идей.
257
Если два года назад мы могли говорить лишь о вероятном влия¬
нии идей Бугаева на возникновение московской школы теории
функций18, то изучение бумаг из архива П. А. Флоренского позво¬
ляет утверждать это с полной уверенностью.
Так, из составленного Флоренским конспекта лекций Б. К. Млод-
зеевского по теории функций действительного переменного, прочи¬
танных осенью 1902 г., видно19, что Млодзеевский ставил в связь
старые теоретико-функциональные идеи Бугаева с новой теорией
функций: в свой курс он включил (очень, правда, несовершенную)
классификацию разрывных функций Бугаева.
К сожалению, о влиянии философических идей Бугаева на Его¬
рова мы можем говорить лишь на основании косвенных данных. В
своих математических трудах Егоров изъясняется сухо, не делая
никаких философических отступлений. Архив его после ареста ис¬
чез. Лишь сохранившиеся его письма к Лузину20, а также отдель¬
ные фрагменты переписки Лузина с Флоренским позволяют гово¬
рить о большом его интересе к философии (в частности, к Канту),
в том числе к религиозной философии. Один из любимых учеников
Бугаева — Егоров начал свою научную деятельность с работы по
арифмологии. Теоретико-числовые идеи своего учителя он включил
в свой курс теории чисел, изданный уже в 1923 г. Так что вряд ли
можно сомневаться в том, что он испытал влияние философско-ма¬
тематического учения Бугаева.
Важную и до сих пор не отмечавшуюся роль в генезисе москов¬
ской школы теории функций сыграла деятельность П. А. Флорен¬
ского21.
Флоренский поступил на математическое отделение физико-ма¬
тематического факультета в 1900 г. Еще в гимназические годы у
него возник интерес к вопросу о непрерывности и разрывности в
математике и естествознании. Поэтому понятен тот интерес, кото¬
рый пробудили в нем мысли Бугаева о математике разрывных фун¬
кций, о ее значении для формирования подхода к проблемам есте¬
ствознания, отвечающего духу современной науки.
Идеи Бугаева становятся для Флоренского отправной точкой
собственных изысканий. Он самостоятельно выбирает тему иссле¬
дований, которую позднее сформулирует так: «Идея прерывности
как элемент миросозерцания», и напряженно работает над этой те¬
мой на протяжении всех студенческих лет. Работа ведется им в вы¬
сшей степени самостоятельно. Сколько-нибудь тесных контактов с
самим Бугаевым у него, судя по всему, не было.
Первый том этой работы «Об особенностях плоских кривых,
как местах нарушения их непрерывности. Часть первая: об особен¬
ностях кривых алгебраических» он подает в качестве зачетного со¬
чинения на степень кандидата22. Работа была оценена высшим
баллом 31 марта 1904 г. Флоренский был рекомендован для остав¬
ления в университете для подготовки к профессорскому званию.
Этой рекомендацией он не воспользовался, так как дальнейшие за¬
нятия математикой не входили в его планы. Математику же он
рассматривал как необходимую ступень для вхождения в филосо¬
258
фию и богословие. В 1904 г. он поступает в Московскую духовную
академию, с которой была связана почти вся его дальнейшая
жизнь. Многие годы он состоял ее профессором по кафедре истории
философии, в ее стенах он защитил в 1914 г. магистерскую диссер¬
тацию, составившую первые главы опубликованного тогда же его
знаменитого труда «Столп и утверждение Истины»23. Кроме работ
по богословию и философии Флоренский оставил замечательные
труды по искусствоведению, фольклористике, семиотике, наконец,
электротехнике и материаловедению2^.
Упомянутая кандидатская работа Флоренского представляет
особый интерес. В ней бугаевская тема — изучение разрывности —
ставится в связь с канторовской теорией множеств и с новейшими
исследованиями о разрывных функциях, предпринятыми француз¬
ской школой теории функций. Таким образом, теория функций
действительного переменного становится, по Флоренскому, следую¬
щим шагом в развитии аритмологической программы Бугаева в ма¬
тематике.
В материалах к незаконченному второму тому, в котором Фло¬
ренский предполагал дать подробное изложение идей канторовской
теории множеств и теории функций действительного переменного,
содержатся многочисленные выписки из работ Г. Кантора, Дж. Пе-
ано (в том числе о знаменитой кривой Пеано), Э. Бореля. Некото¬
рые из них помечены январем 1901 г.
Сказанное о работе Флоренского имело бы для истории москов¬
ской школы теории функций довольно ограниченный интерес, если
бы не исключительная его активность в студенческие годы.
По материалам своего исследования он публикует в 1904 г. в
журнале «Новый путь» первый на русском языке очерк основ¬
ных идей канторовской теории множеств25. Он организует и
становится душой студенческих внеочередных заседаний Москов¬
ского математического общества. На этих заседаниях26 он прочи¬
тал ряд докладов, в том числе и по новой теоретико-множествен¬
ной тематике27.
Среди участников этих заседаний был и Н. Н. Лузин, который
был на год моложе Флоренского и по возрасту и по курсу. Между
ними установились дружеские отношения, которые они сохранили
на всю жизнь. Флоренский сделал Лузина своим заместителем по
студенческим заседаниям математического общества, а после ухода
Павла Александровича из университета Лузин сам стал их секрета¬
рем. Влияние Флоренского как мыслителя Лузин испытывал всю
жизнь. Совершенно очевидно, что старший по возрасту и бо¬
лее тогда начитанный Флоренский с его интересом к теоретико¬
множественной и теоретико-функциональной тематике оказал на
первых порах влияние на направленность математических интере¬
сов Лузина.
Конечно, говоря о влиянии Флоренского на Лузина, следует по¬
стоянно иметь в виду разницу в характере их дарований и устрем¬
лений. Если первый по преимуществу философ, второй — матема¬
тик. Математика нужна Флоренскому как основообразующее нача¬
259
ло для выработки собственного подхода к миропониманию, матема¬
тические задачи, которыми он занимается, диктуются у него не
конкретной математической практикой, но философскими его ин¬
тересами. Лузина постоянно волновали философские вопросы —
это видно и из его последующих работ, и из его переписки28 с
Флоренским, в которой философская проблематика занимает зна¬
чительное место. На философский дух творчества Лузина указыва¬
ли А. Н. Крылов29 и А. Лебег30. В начале 20-х годов вокруг Лузи¬
на и известного философа Г. Г. Шпета сформировался логико-фи¬
лософский кружок, который посещали такие известные философы,
как С. Н. Булгаков, Н. А. Бердяев, С. Л. Франк. На заседаниях
кружка бывал и молодой Н. В. Тимофеев-Ресовский31. Но все же в
первую очередь Лузин был и оставался математиком. Воздействие
на него теоретико-множественных и теоретико-функциональных
занятий Флоренского имело поэтому скорее значение для создания
определенного интереса к этим вопросам, для философского их ос¬
мысления. Решительный поворот к исследованию этой тематики,
пониманию тех специальных задач, которые ставили эти теории,
произошел у Лузина, судя по всему, под влиянием его учителя
Д. Ф. Егорова (летом 1903 г. вернувшегося из годичной загранич¬
ной командировки) и собственной поездки во Францию в
1905—1906 гг.
В письме от 1. V. 1906 г. из Парижа Лузин очерчивает круг
своих математических занятий — символическая логика и теория
множеств. Весьма вероятно, что уже тогда он занялся континуум-
проблемой, о безуспешных попытках решить которую мы узнаем
из его письма от 6. IV. 1912 (об этом см. ниже). В 1908 г. он заин¬
тересовался алгебраической теорией чисел. В 1909 г. изучает «Уче¬
ние о линейном протяжении» Г. Грассмана и пытается строить про¬
ективную геометрию трансцендентных кривых. В этом же году в
одном из писем мы находим первое глухое упоминание о контину¬
ум-гипотезе: «Летом думаю готовиться к пробным лекциям и разо¬
брать несколько тем: “Возможность проективной геометрии транс¬
цендентных кривых44 и “Kontinuum-probleme44». Следующие слова
из письма Лузина от 24. XII. 1909 г. дают основание предполо¬
жить, что к концу этого года он оставляет надежды на решение
проблемы и начинает занятия теорией функций: «Что дальше де¬
лать, не знаю. Интерес и вера в символическую логику пропали.
Влечет теория функций и теория электронов». А уже к концу сле¬
дующего года тематика его дальнейших занятий определяется
окончательно. В письме от 23. IX. 1910 г., написанном незадолго
до его трехлетней командировки в Германию и Францию, он писал:
«Теперь начинаю понемногу работать в области тригонометриче¬
ских рядов... Обнаружил прискорбный факт, что, занимаясь
Mengenlehre, я отстал в других областях». Во время этой команди¬
ровки он и подготовит свою знаменитую диссертацию «Интеграл и
тригонометрический ряд». Сам он в письме от 6(23). IV. 1912 г.
так напишет об этом из Парижа: «Во время командировки мной
была предпринята работа о тригонометрических рядах Fourier, ко¬
260
торая почти доведена до конца. Вероятно, это и будет первой дис¬
сертацией. Работа была предпринята главным образом для меня са¬
мого, так как после неудачи с Continuum-problem мне просто хоте¬
лось проверить свои силы и выяснить причины неудачи (их проис¬
хождение). Так как работа, делаемая не случайно, поверхностной
аналогией и «вдохновением» (как я хотел этого ранее), но упор¬
ным напряжением, удалась почти вся (сейчас заканчиваю) — то я
получил некоторую бодрость и лучше чувствую себя (духовно). Ес¬
ли все доведу до конца, то дальше не буду нервничать и буду спо¬
койно работать. Абсолютная неуверенность в себе давно уже гнетет
меня. Огромный недостаток было отсутствие школы и простого
умения работать. В этом смысле я многому обязан немцам
(Hilbert'y, Landau)».
Нарисованная здесь картина почти совершенно не проявляется
при изучении истории возникновения Московской школы теории
функций по опубликованным научным трудам, обзорам и мемуа¬
рам. Выявить се оказалось возможным, лишь задавшись вопросом о
философской атмосфере, царившей в среде московских математи¬
ков в начале нынешнего века, и начав целенаправленные поиски
ответа в различных источниках, в первую очередь в архивных.
Существовали исторически обусловленные причины того, поче¬
му рассмотренные нами вопросы оказались обойденными в литера¬
туре. Послереволюционная обстановка в Московском университе¬
те — идеологическая борьба с разного рода идеалистическими уче¬
ниями — делала нежелательным для тогдашних ученых всякое
упоминание об их связи с соответствующими философскими тради¬
циями. Одиозной выглядела и принадлежность к московской фило¬
софско-математической школе, за которой тогдашняя критика^1 2 3 за¬
крепила эпитет «черносотенная». В развернувшейся в 1936 г. кам¬
пании против Лузина одним из главных пунктов критики были его
философские устремления. В выпущенном в 1953 г. уже после
смерти Лузина русском переводе его «Лекций об аналитических
множествах и их приложениях»33 было опущено предисловие
А. Лебега к французскому изданию, в котором говорилось о Лузи¬
не как о философе: издававшим перевод его ученикам казалось
благоразумным об этом не напоминать.
1 См., например: Юшкевич А. II. История математики в России до 1917 г. M.,
1968; История отечественной математики. Т. 2. Киев, 1967; Александров П. С.,
Гнеденко Б. В., Степанов В. В. Математика в Московском университете в XX ве¬
ке (до 1940) // Историко-математические исследования. М., 1948. Вып. 1.
С. 9—42; Медведев Ф. А. Подготовка теоретико-множественных и теоретико-
функциональных исследований в России // Очерки истории математики и меха¬
ники. М., 1963. С. 45—66; Люстерник Л. А. Молодость московской математиче¬
ской школы // Успехи мат. наук. 1967. Т. 22, кн. 2. С. 199—239; Т. 22, вып. 4.
С. 147—185; Кузнецов П. И. Дмитрий Федорович Егоров: (К 100-летию со дня
рождения) // Успехи мат. наук. 1971. Т. 26, вып. 5. С. 160—210; Александ¬
ров П. С. Страницы автобиографии // Успехи мат. наук. 1979. Т. 34, вып. 6.
С. 219—249; Т. 35, вып. 3. С. 241—278; Историко-математические исследования.
М., 1983. Вып. 27. С. 312—333.
2 Egorov D. Sur les suites des fonctions mesurables // C. R. Acad. Sci. P. 1911.
Vol. 152. P. 244—246.
3 Lusin N. N. Sur les propriete des fonctions mesurables // C. R. Acad. Sci. P., 1912.
Vol. 155. P. 580—582.
261
4 Медведев Ф. А. О курсе лекций Б. К. Млодзеевского по теории функций дей¬
ствительного переменного, прочитанных осенью 1902 г. в Московском уни¬
верситете // Историко-математические исследования. М., 1986. Вып. 30.
С. 130—147.
5 Жегалкин И. И. Трансфинитные числа. М., 1907.
6 Лопатин Л. М. Философские идеи Бугаева Н. В. // Математ. ст. 1905. Т. 25,
№ 2.
7 Подробнее см.: Лопатин Л. А/. Философские идеи Н. В. Бугаева; Демидов С. С.
Н. В. Бугаев и возникновение московской школы теории функций действитель¬
ного переменного // Историко-математические исследования. М., 1985. Вып. 26.
С. 113—124; Некрасов Я. А. Московская философско-математическая школа и
ее основатели // Матем. сб. 1905. Т. 25, № 2. С. 1—249; наконец, см. работу са¬
мого Бугаева: Бугаев Н. В. Основные начала методологии // Вопр. философии и
психологии. 1893. Кн. 17. С. 26—44.
8 Бугаев Я. В. Математика и научно-философское миросозерцание // Матем. ст.
1904. Т. 25, № 2. С. 349—369.
9 Подробнее см.: Демидов С. С. Н. В. Бугаев и возникновение...
ю Половинкин С. А/., Флоренский П. А. Логос против хаоса. М., С. 18—22.
и Бугаев Н. В. Математика и... С. 359.
12 Там же. с. 359.
13 Там же. С. 366.
14 Некрасов П. А. Московская философско-математическая школа и ее основатели.
С. 30-31.
15 Бугаев Н. В. Введение в теорию чисел: (Вступительная лекция, прочитанная в
1865 г. и напечатанная в «Московских университетских известиях») // Матем.
ст. Т. 25, № 2. С. 339.
16 Бугаев Н. В. Введение в теорию чисел...
17 См.: Старостин Б. А. От феномена человека к человеческой сущности // Тейер
де Шарден П. Феномен человека. М., 1987. С. 21—22.
18 См.: Демидов С. С. Бугаев Н. В. и возникновение...
19 Медведев Ф. А. О курсе лекций Млодзеевского Б. К....
20 Письма Егорова Д. Ф. к Лузину Н. Н. / Предисл. П. С. Александрова; публ. и
примем. Ф. А. Медведева при участии А. П. Юшкевича // Историко-математи¬
ческие исследования. М., 1980. Вып. 25. С. 335—361.
21 Демидов С. С. Из ранней истории московской школы теории функций // Исто¬
рико-математические исследования. М., 1986. Вып. 30. С. 124—130.
22 Флоренский П. А. Введение к диссертации «Идея прерывности как элемент миро¬
созерцания» / Публ. и примем. С. С. Демидова и А. Н. Паршина // Историко¬
математические исследования. М., 1986. Вып. 30. С. 124—129.
23 Флоренский П. А. Столп и утверждение Истины. М., 1914.
24 Половинкин С. М., Флоренский Я. А. Логос против хаоса.
25 Флоренский Я. А. О символах бесконечного // Новый путь. 1904. Т. 2.
С. 173-235.
26 Об этих заседаниях см.: Половинкин С. М. О студенческом математическом
кружке при Московском математическом обществе в 1902—1903 гг. // Историко¬
математические исследования. М., 1986. Вып. 30. С. 148—158.
27 О собственных идеях Флоренского относительно разрывности в математике см.:
Флоренский Я. А. Введение к диссертации... (в частности, примеч. 8)
28 Переписка Лузина Н. Н. с Флоренским П. А. / Публ. и примеч. С. С. Демидова,
А. Н. Паршина, С. М. Половинкина, П. В. Флоренского // Историко-математи¬
ческие исследования. М., 1989. Вып. 31. С. 125—191.
29 Крылов А. Я. Записка об ученых трудах проф. Лузина Н. Н. // Николай Нико¬
лаевич Лузин / Сост. П. Й. Кузнецов М., 1983. С. 27—33.
30 См. предисловие Лебега А. к книге Лузина Н. Н. «Lecons sur les ensemmbles
analytiques el leurs applications» (P., 1930).
31 Гранин Д. Зубр // Новый мир. 1987. N9 1. С. 36.
32 См., например: Выгодский М. Я. Математика и ее деятели в Московском универ¬
ситете во второй половине XIX века // Историко-математические исследования.
М., 1948. Вып. 1. С. 141 — 183; Кольман Э. Предмет и метод современной мате¬
матики. М., 1936.
33 Лузин Я. Я. Лекции об аналитических множествах и их предложениях. М., 1953.
СОДЕРЖАНИЕ
Введение 3
Раздел I
НАУЧНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ:
ГЕНЕЗИС И ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОНЯТИЯ
Огурцов А. П. Идея «научной революции»: политический контекст и
аксиологическая природа 12
Маркова Л. А. Разрушает ли научная революция старое знание? 38
Кузнецова Я. И., Розов М. А. О разнообразии научных революций .... 60
Ахутин А. В. Как возможна научная революция? 83
Раздел II
...И ВОЗНИКЛА НАУКА НОВОГО ВРЕМЕНИ
Черняк В. С. Традиция или альянс традиций? (Интеллектуальная ре¬
волюция в астрономии XVI в.) 105
Катасонов В. Я. Дифференциалы и философемы (революция в мате¬
матике и ее философский контекст) 126
Никулин Д В. Пространство глазами ученых и теологов (XVII в.) 149
Раздел III
СУДЬБЫ НАУЧНЫХ ТРАДИЦИЙ
Гайденко П. П. К истории проблемы непрерывности: трансформации
и традиции 166
Визгин Вик. Я. Традиция и инновация: взгляд историка науки 187
Филатов В. П. «Народные науки» в отечественной истории 204
Романовская Т. Б. Проблемы научных традиций и традиционное зна¬
ние в современной Индии 218
Молодцова Е. Я. Принципы трансляции знания в традиции и в
современной научной культуре 235
Демидов С. С. Философские предпосылки возникновения московской
школы теории функций 253
CONTENTS
Introduction 3
Part I
SCIENTIFIC REVOLUTION:
THE GENESIS AND THE TRANSFORMATION OF CONCEPT
Ogurtsov A. P. The idea of «scientific revolution»: the political context
and the axiological nature 12
Markova L. A. Does the revolution destroy the old knowledge? 38
Ahoutin A. V. How the scientific revolution is possible? 60
Kouznetsova N. /., Rosov M. A. About the variety of the scientific revo¬
lutions 84
Part II
...AND THE NEW SCIENCE HAD ARISEN
Chernyak V. S. The tradition or the union of traditions (the intellectual re¬
volution in XYI century's astronomy) 105
Katasonov V. N. The differentials and the philosophemas (the revolu¬
tion in mathematics and its philosophical context) 126
Nicoulin D. V. The space: the science and theology (XYII c.) 149
Part III
THE FATES OF SCIENTIFIC TRADITIONS
Gaidenko P. P. The history of the problem of continuum: the transfor¬
mation and the tradition 166
Virgin V. P. Tradition and innovation: the view of the historian of science.. 187
Filatov V.P. «The folk sciences» in Russia 204
Romanovskaya T. B. The problems of scientific traditions and the tra¬
ditional knowledge in modern India 218
Molodtzova H. N. The translation of knowledge in traditional and
modern scientific culture 235
Demidov S. S. The philosophical premices of Moscow's mathematical
school genesis 253
Научное издание
ТРАДИЦИИ И РЕВОЛЮЦИИ В ИСТОРИИ НАУКИ
Утверждено к печати Институтом философии АН СССР
Заведующий редакцией М. М. Беляев. Редактор издательства Л. Ф. Пирожкова.
Художник Ф. Н. Буданов. Художественный редактор М. Л. Храмцов.
Технические редакторы Н. ГГ Кузнецова, И. Н. Жмуркина.
Корректор К. И. Келаскина.
ИБ № 47415
Сдано в набор 05.10.90. Подписано к печати 03.06.91. Формат 60 x90 1/16 Бумага книжно-журн.
Гарнитура Таймс. Печать офсетная. Уел. печ. л. 16,5. Уел. кр. отт. 16,5. Уч.-изд. л. 20,5.
Тираж 700 экз. Тип. зак. 434. Цена 8 руб.
Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Наука*.
117864 ГСП-7, Москва В-485, Профсоюзная ул., 90.
4-я типография издательства «Наука».
633077, г. Новосиоирск-77, ул. Станиславского, 25.