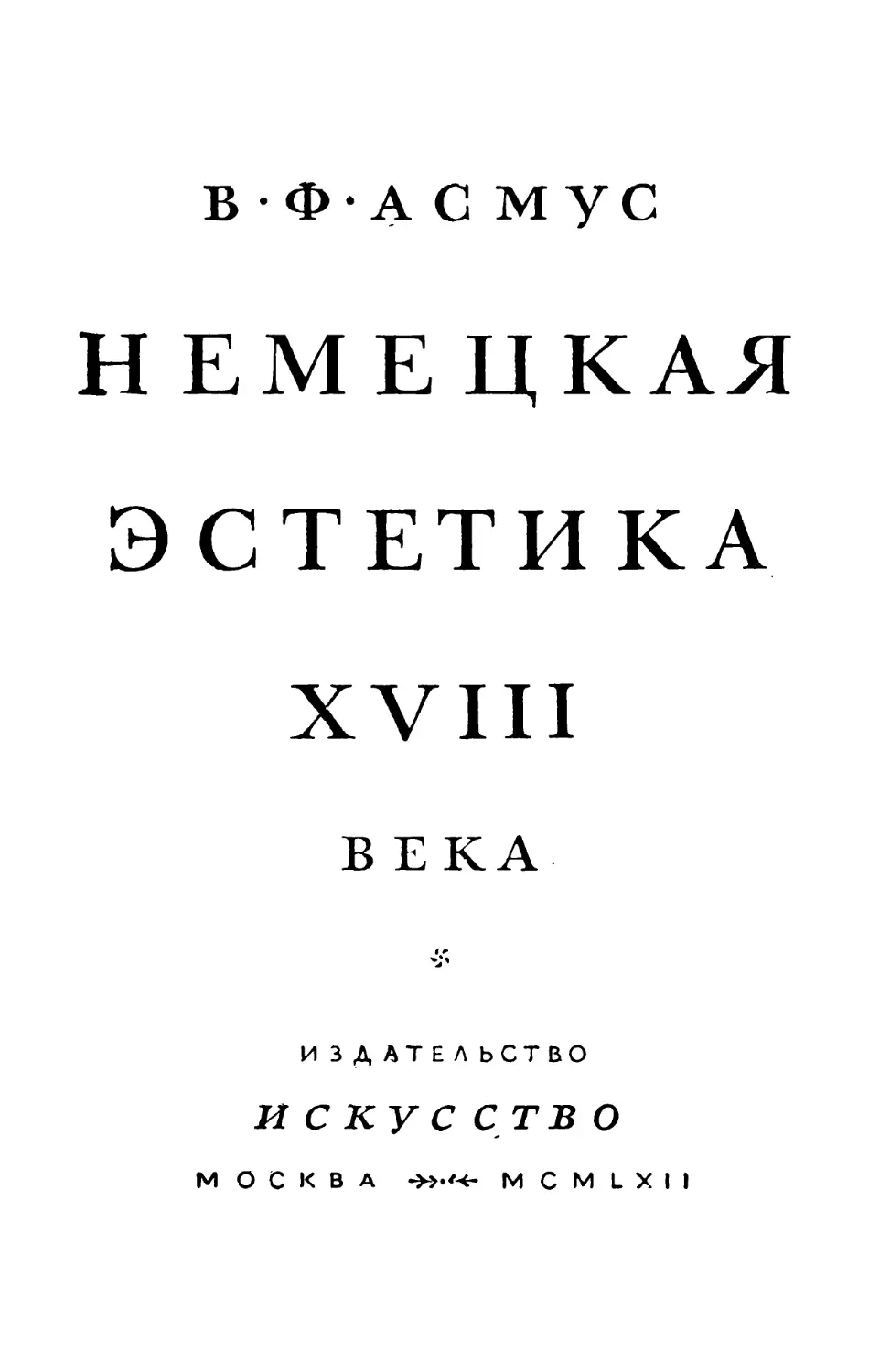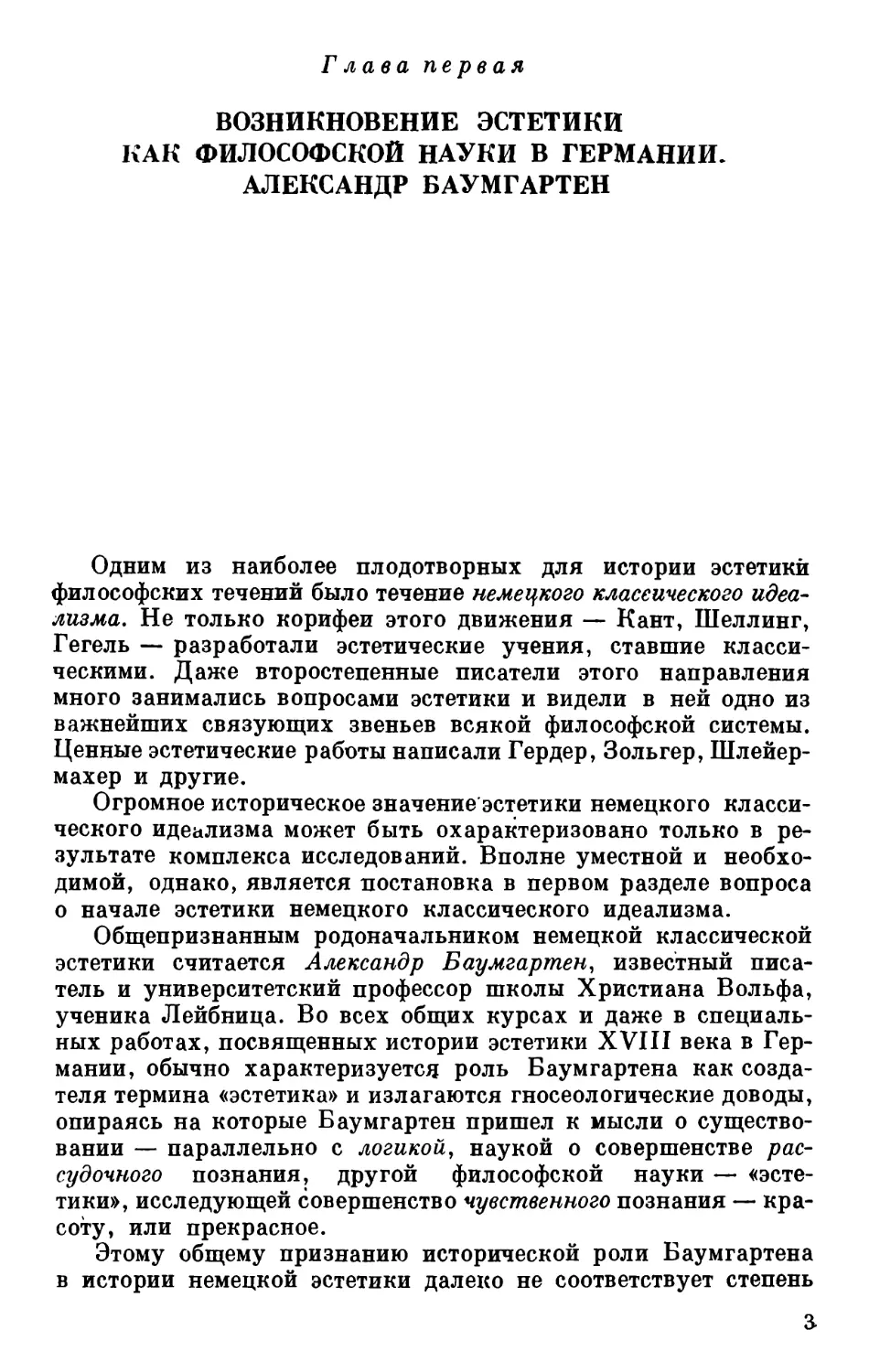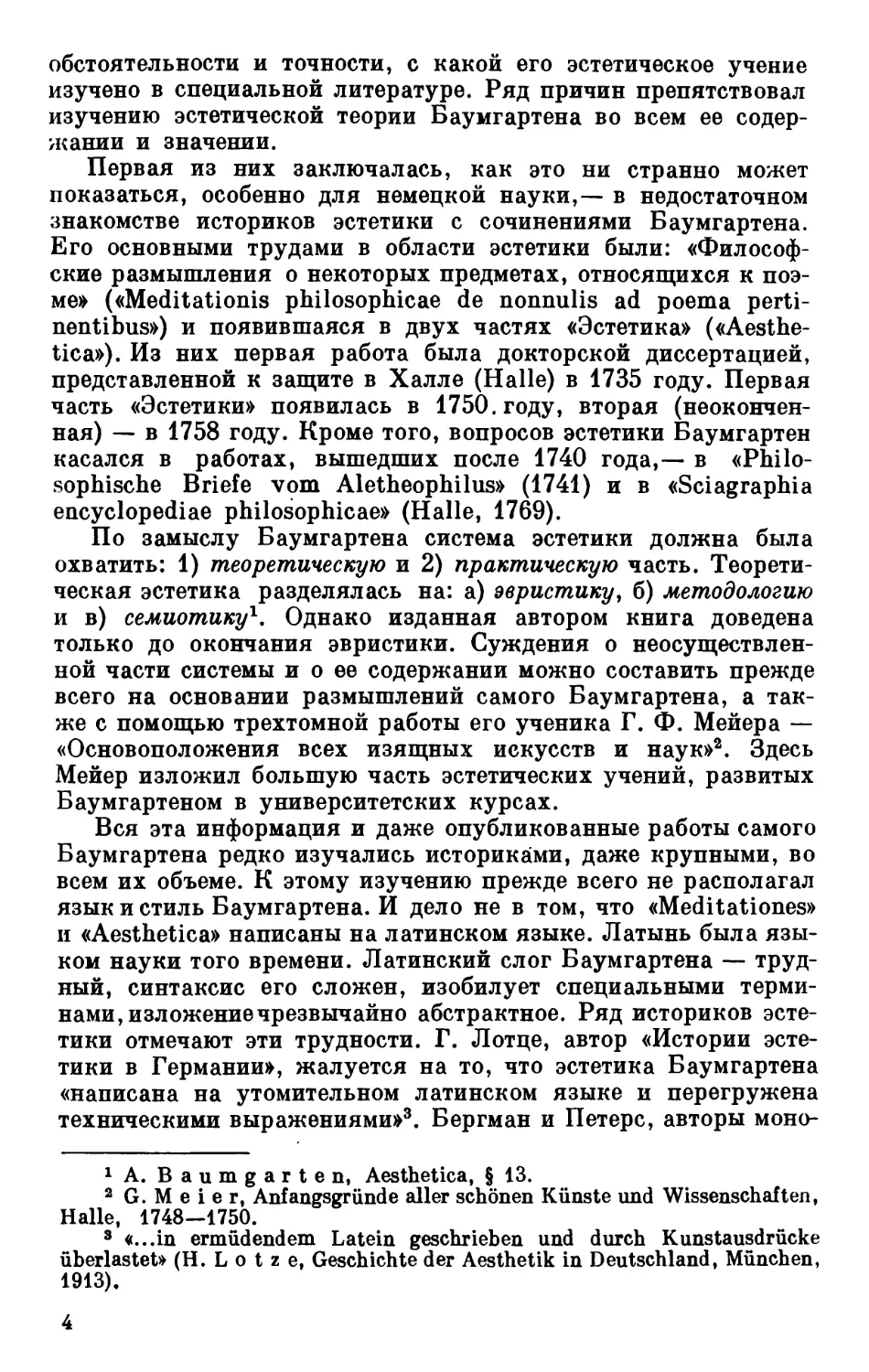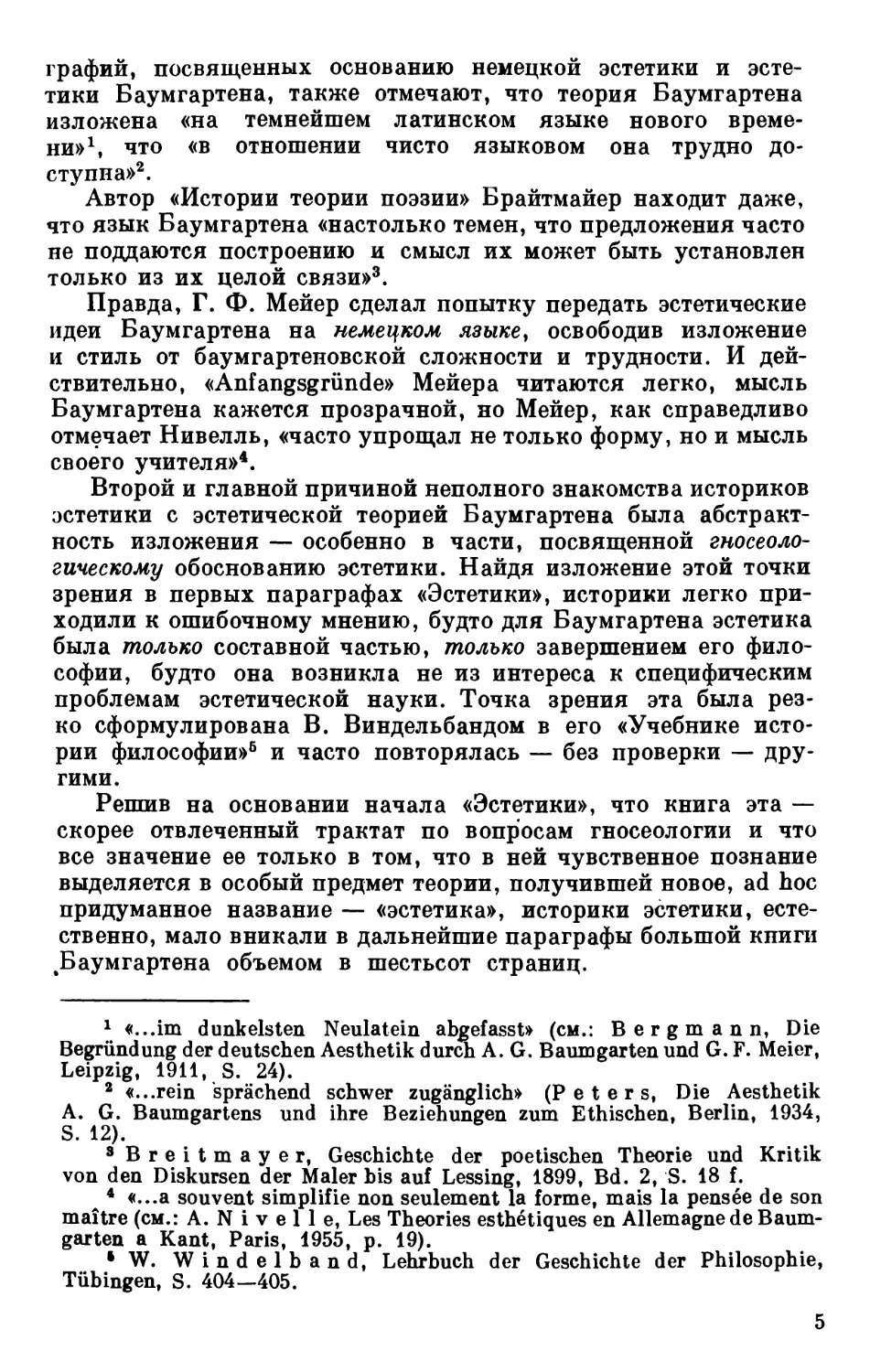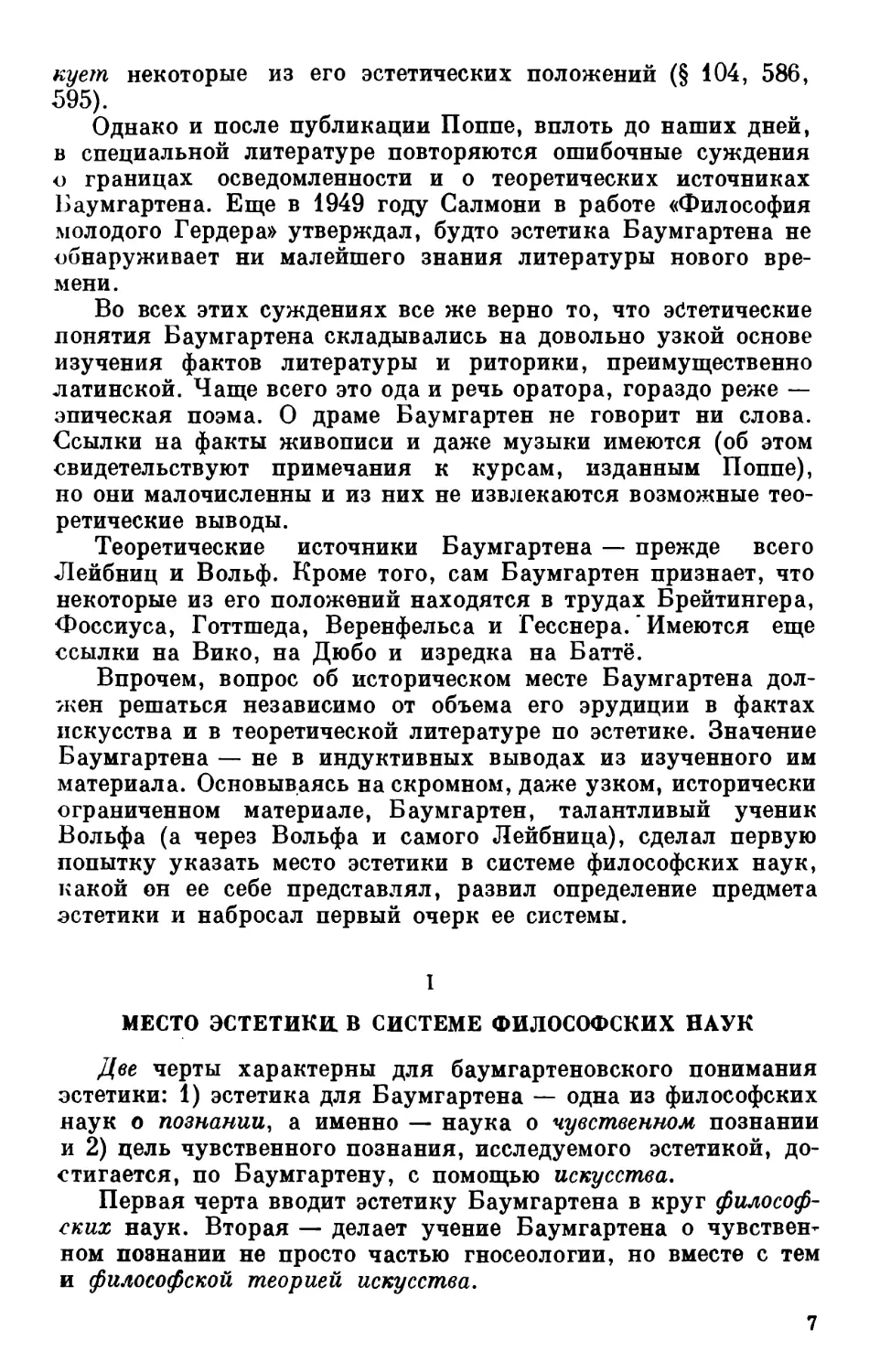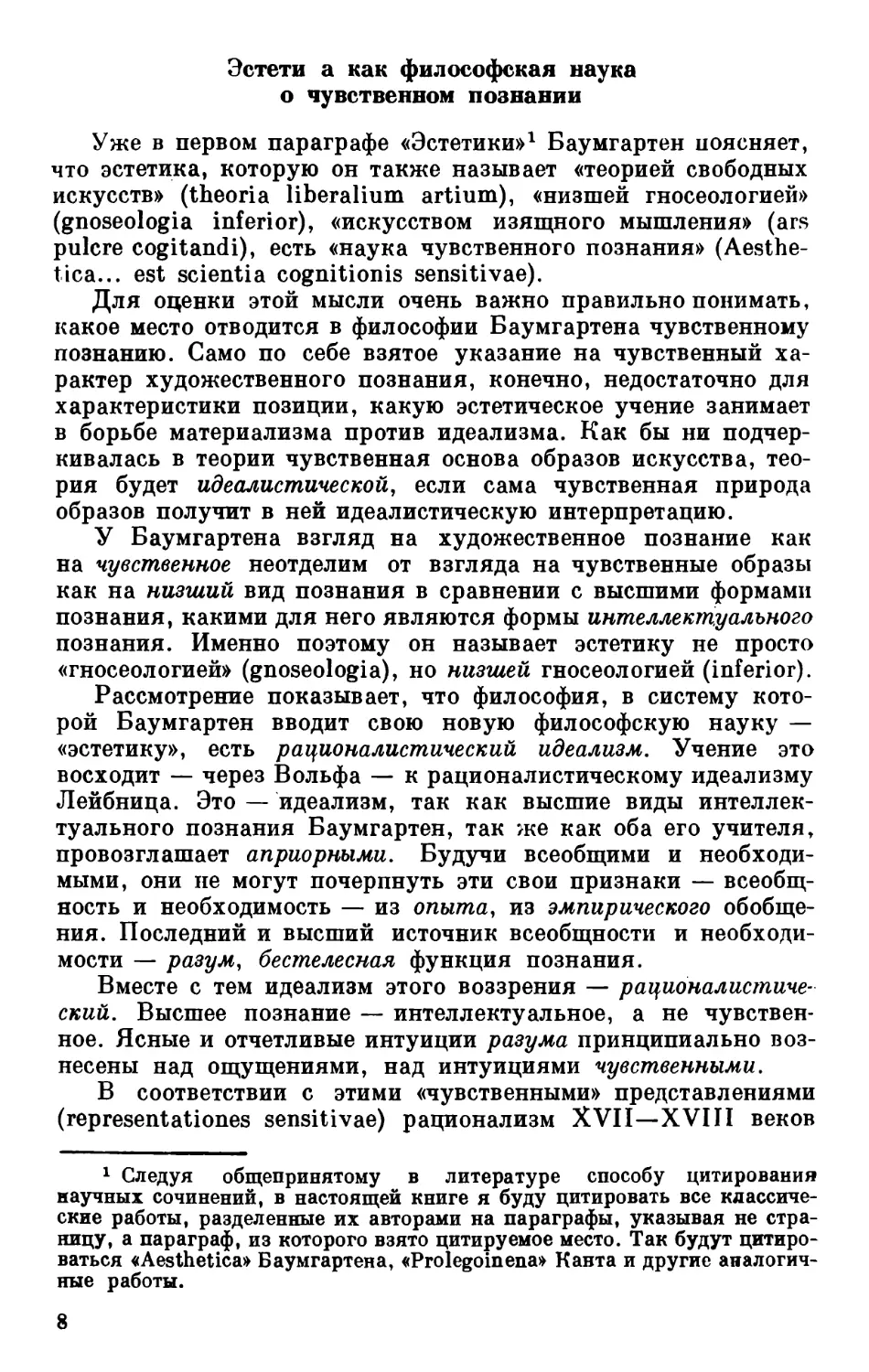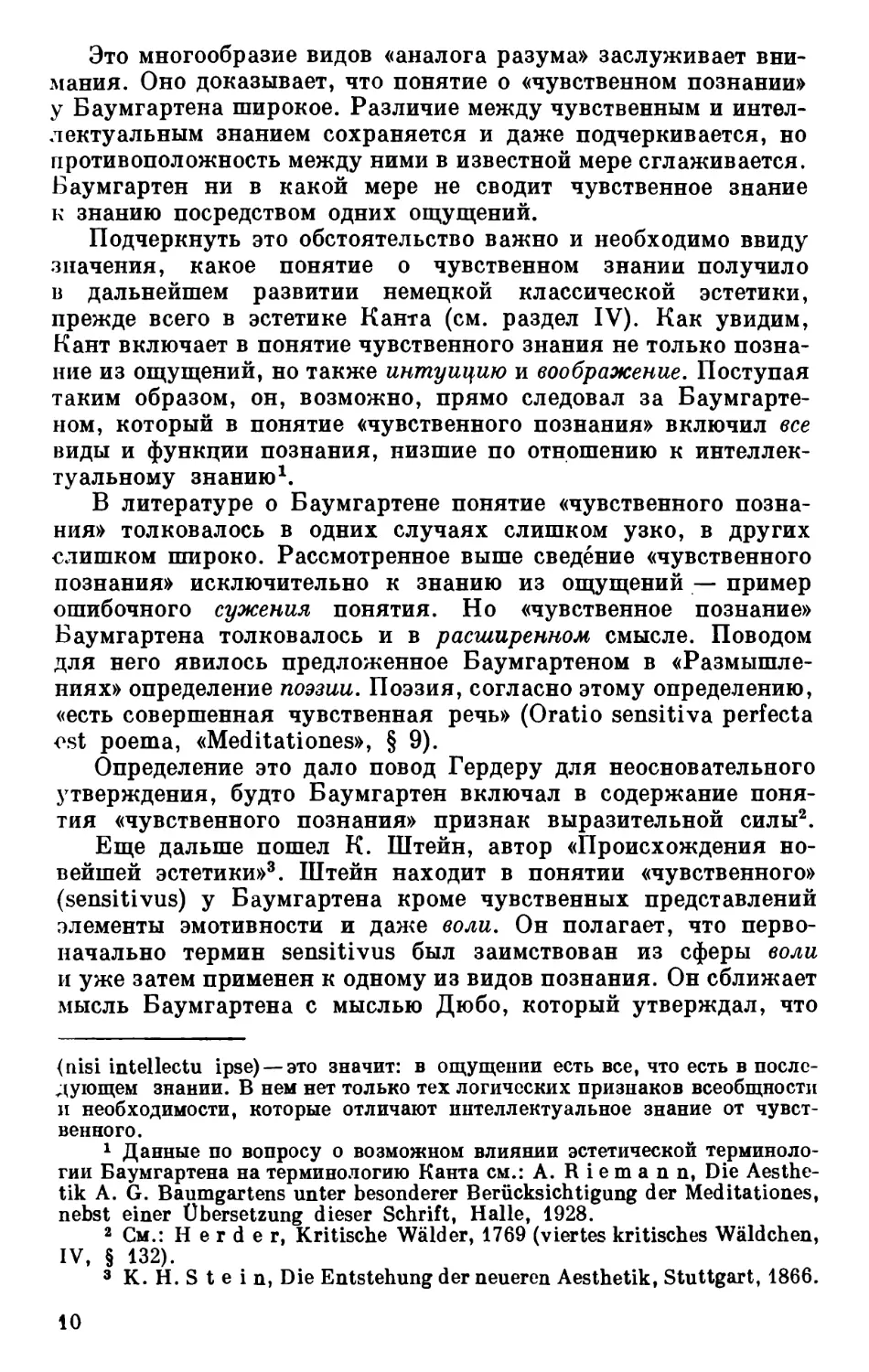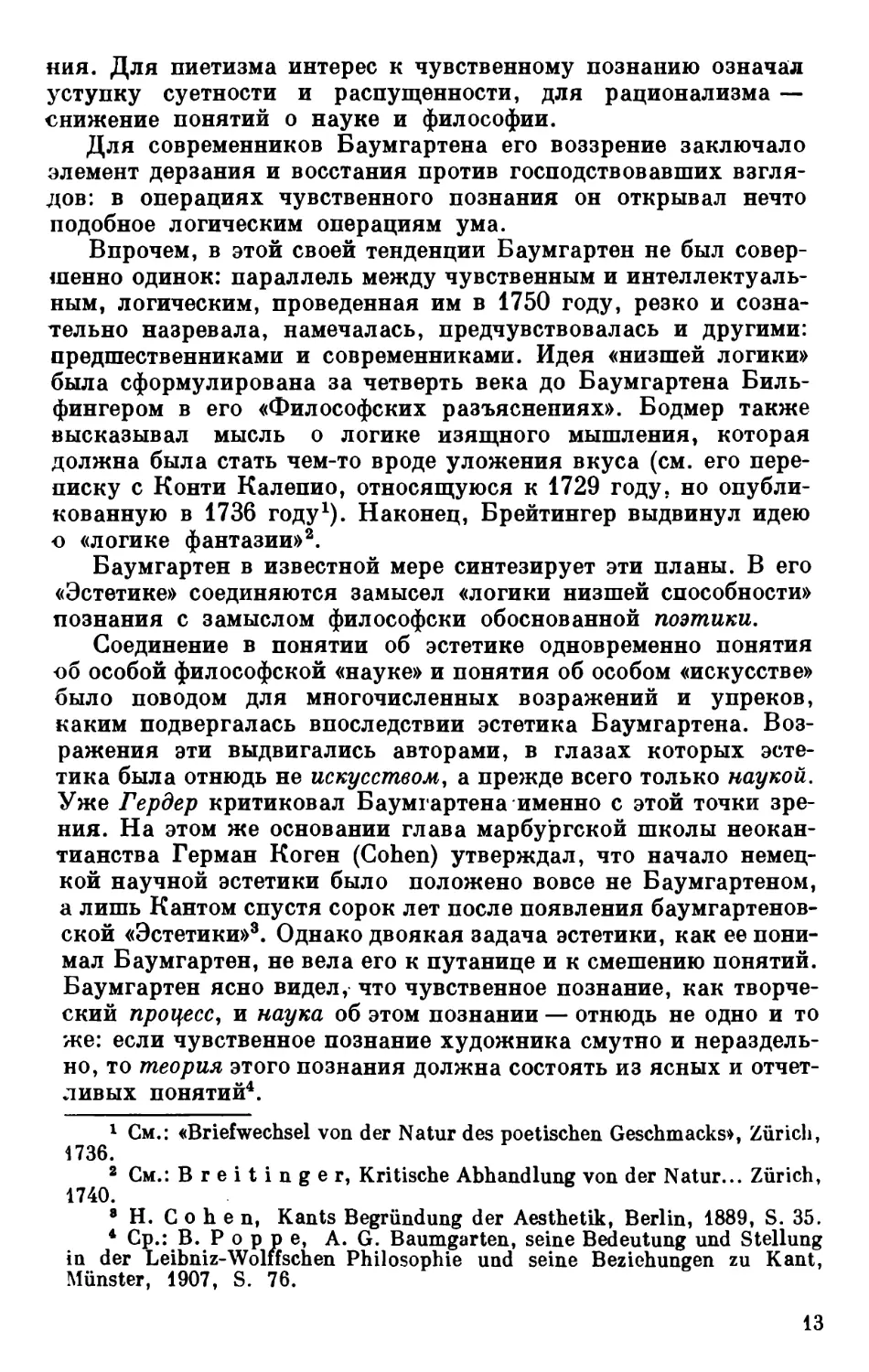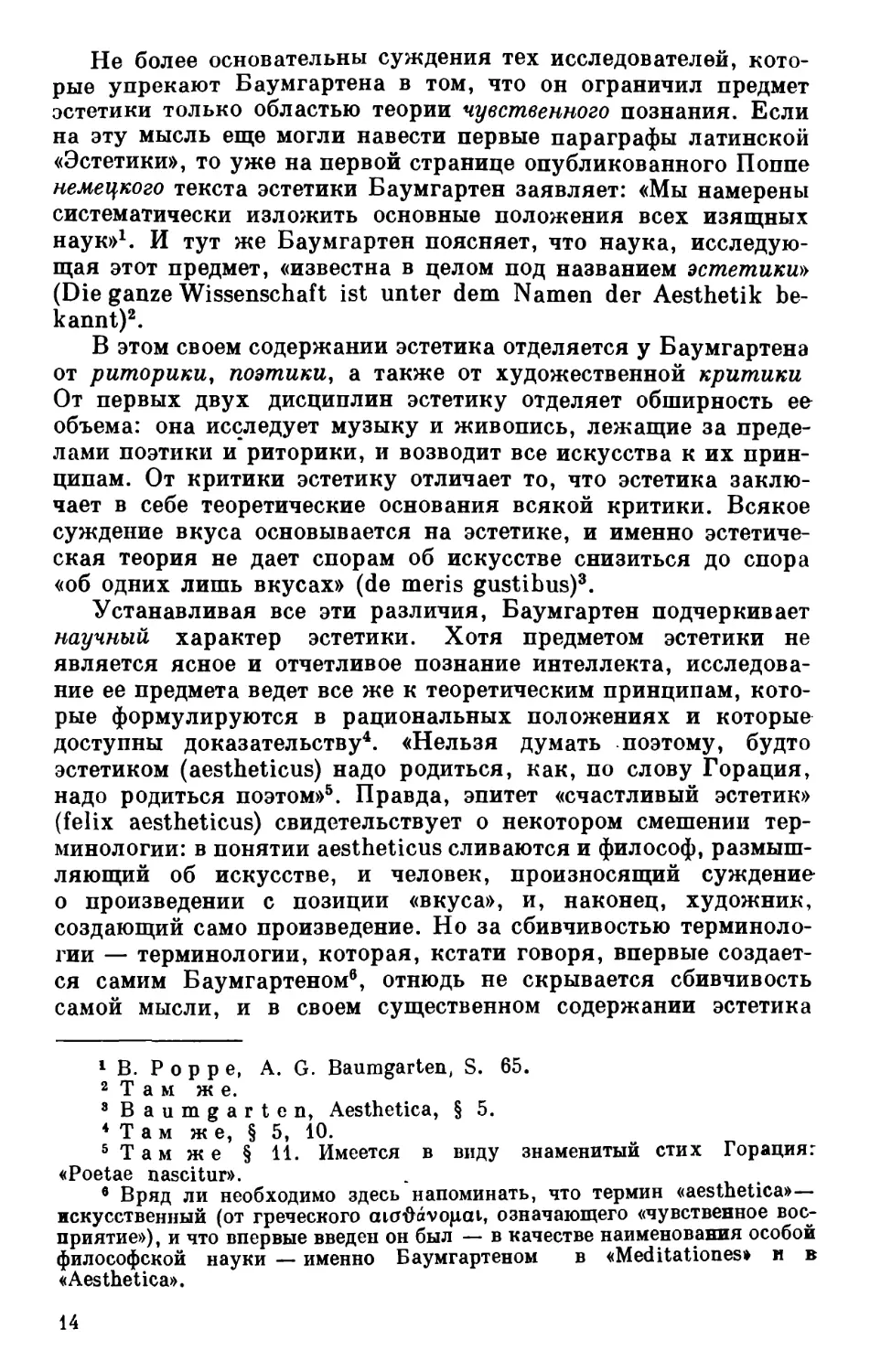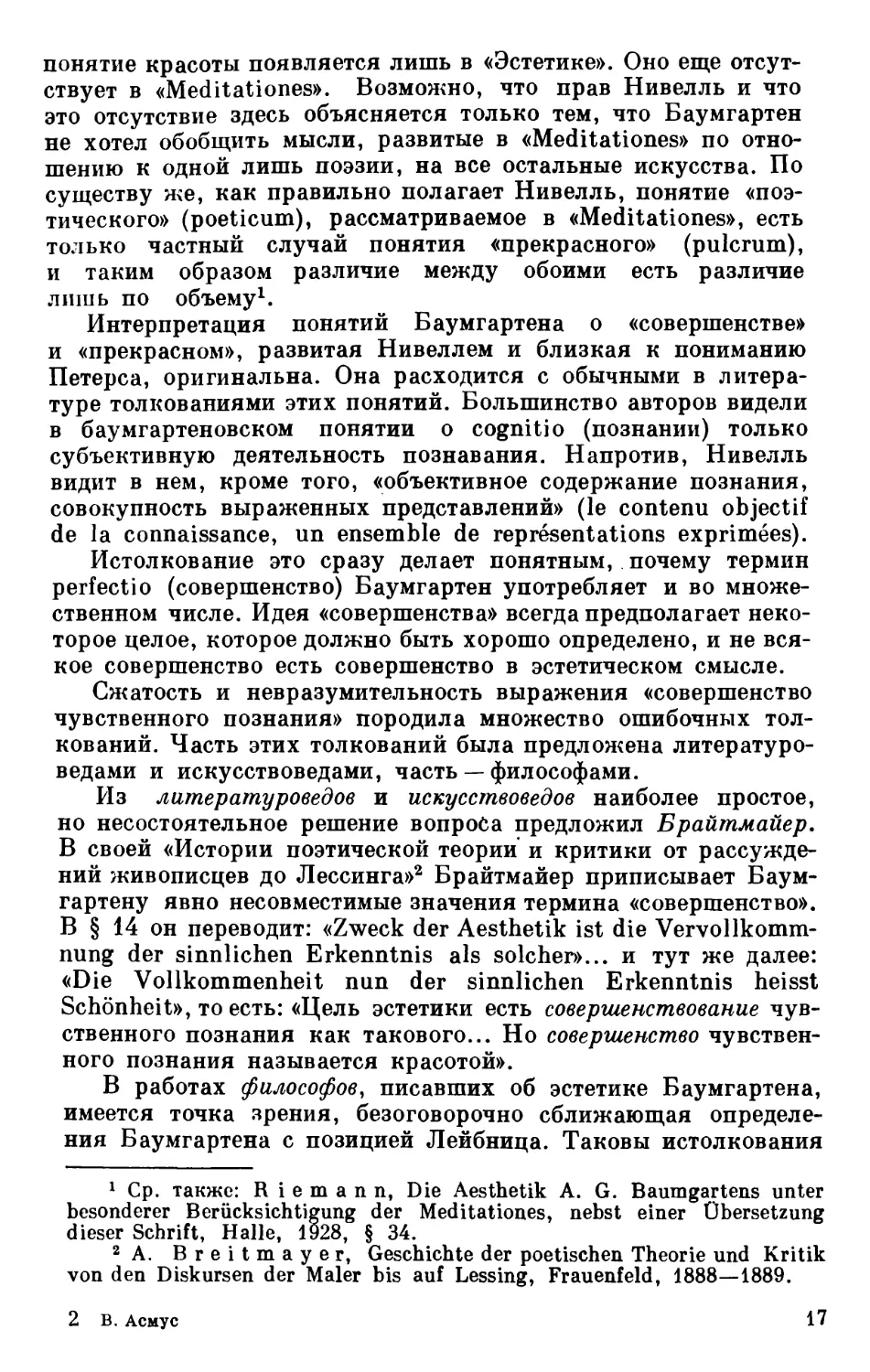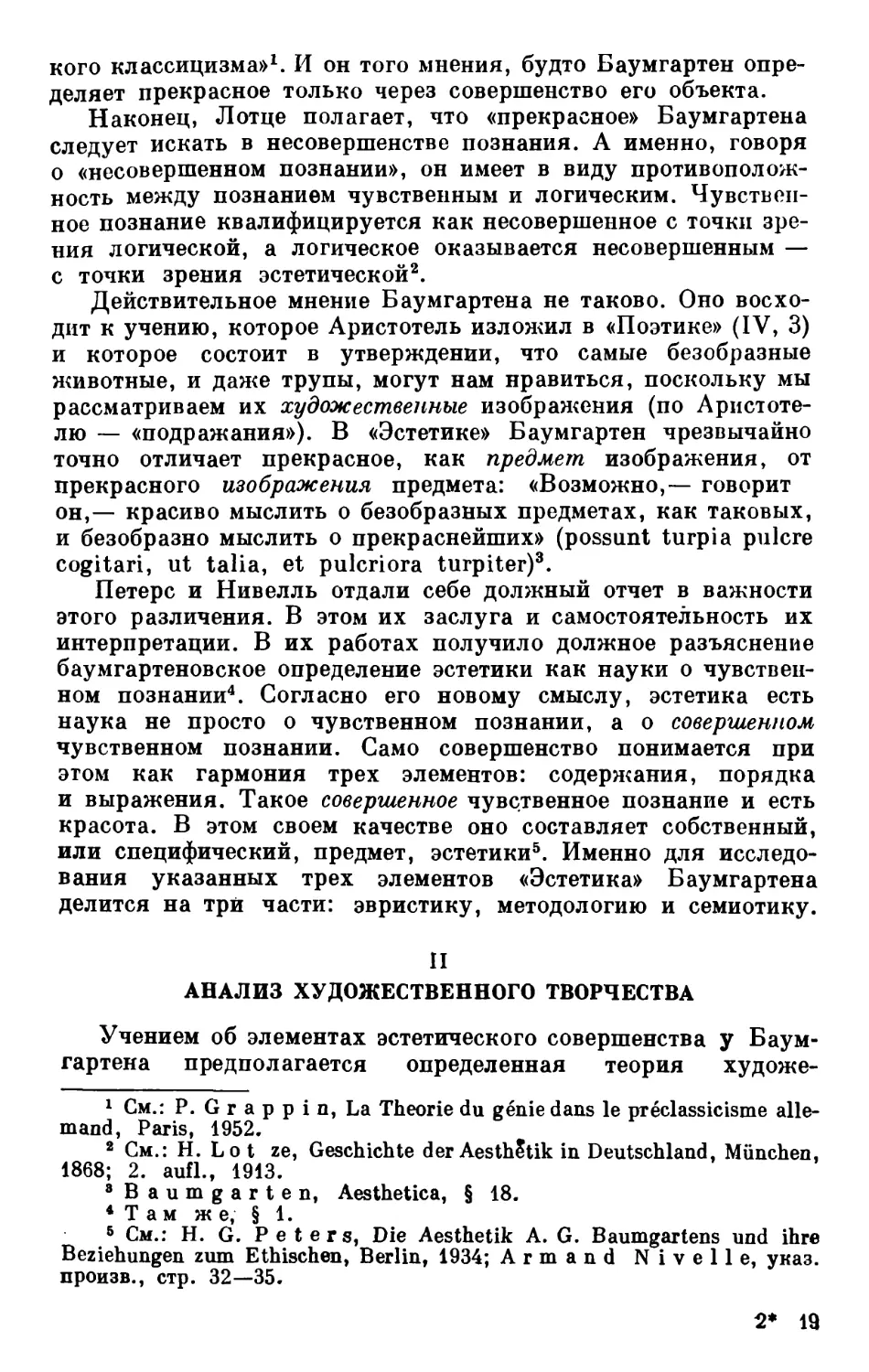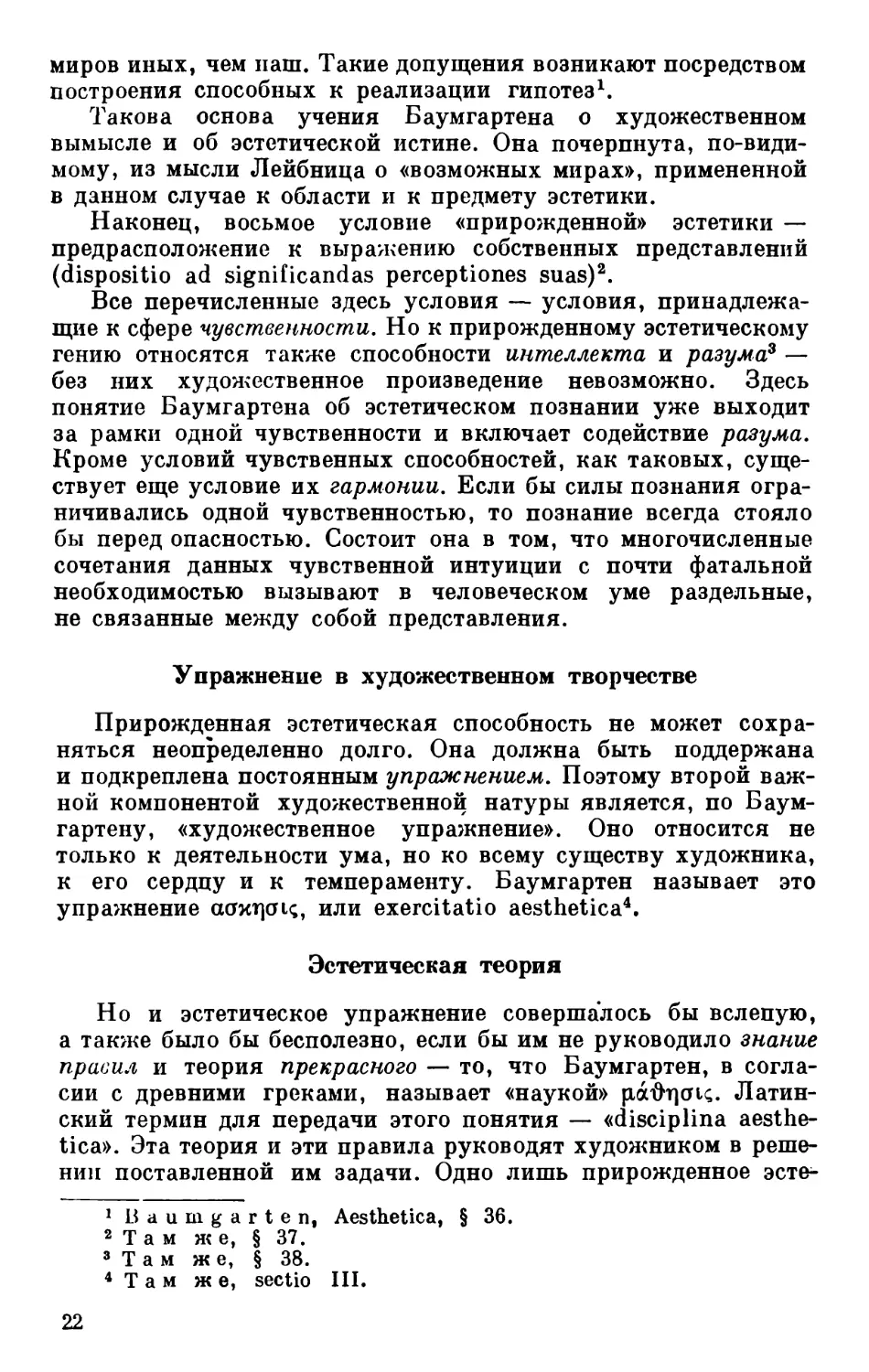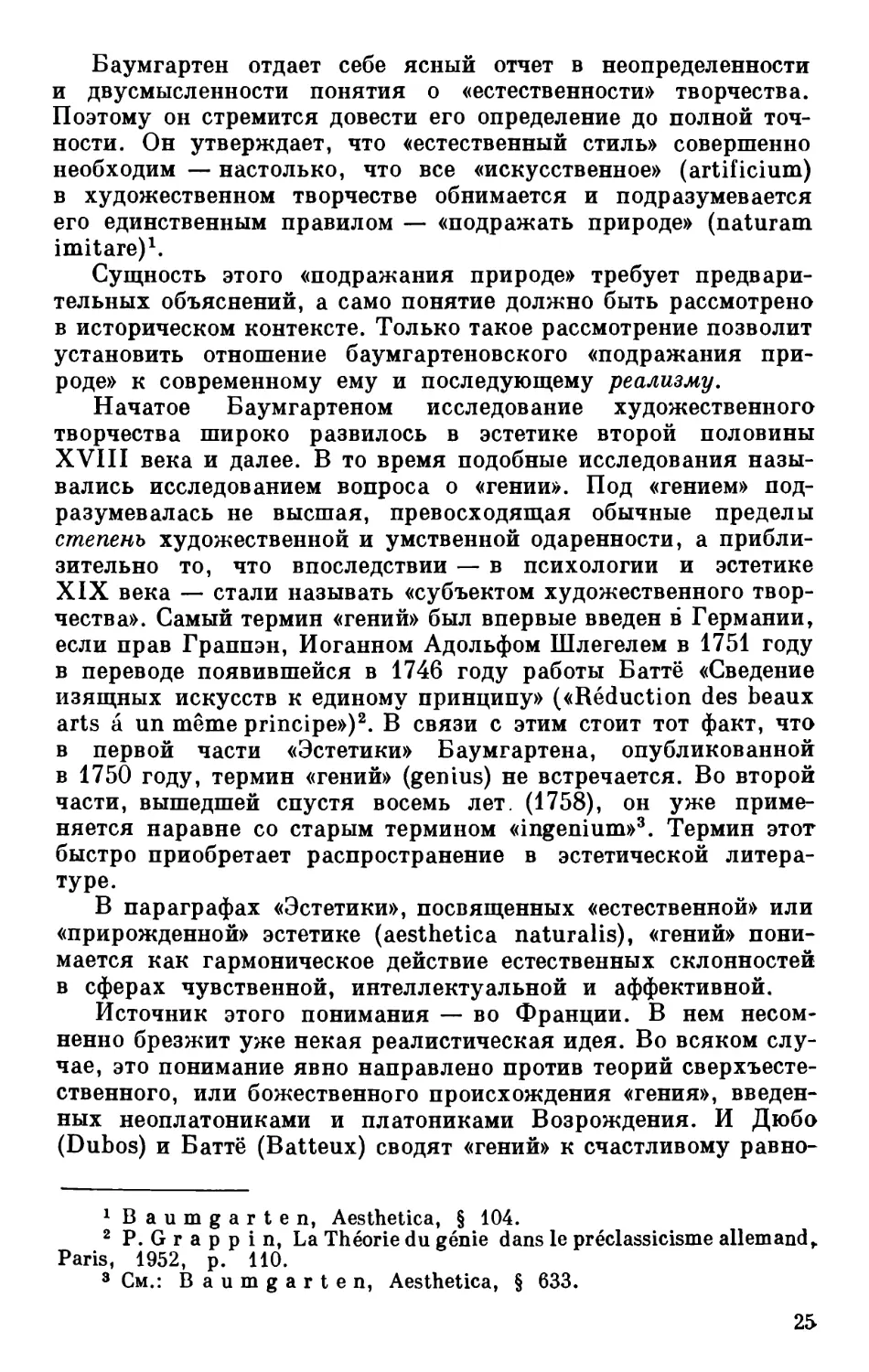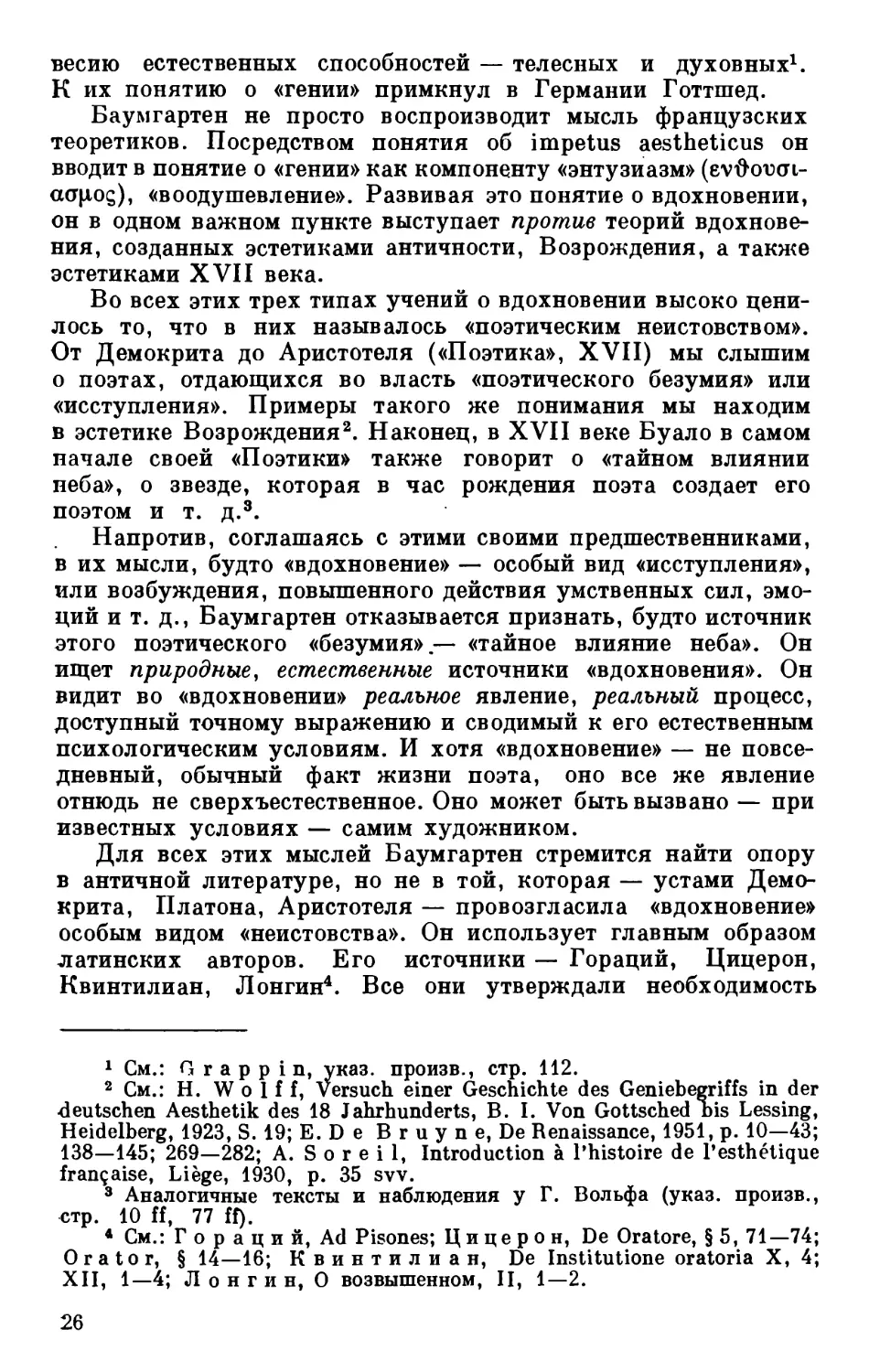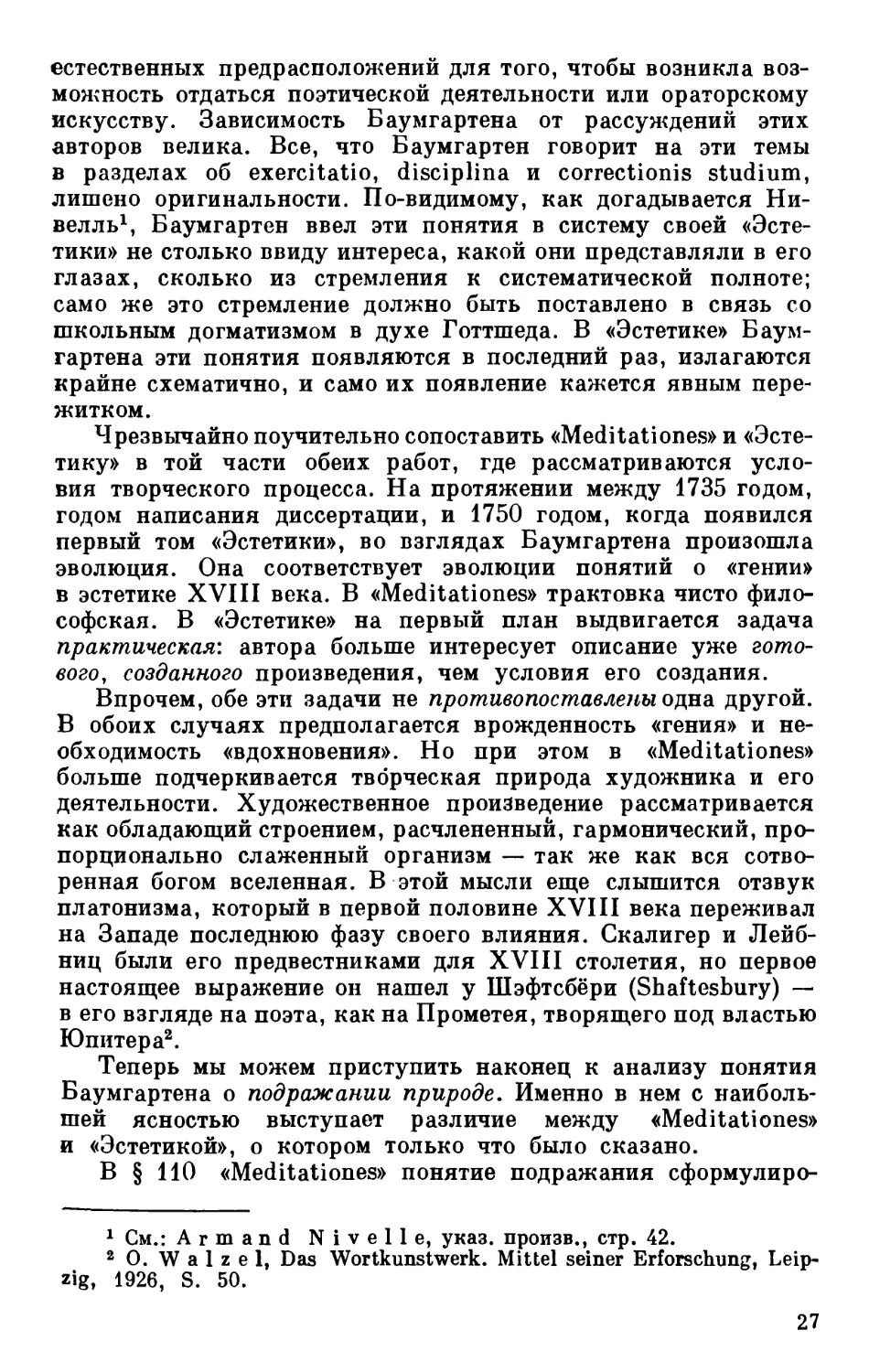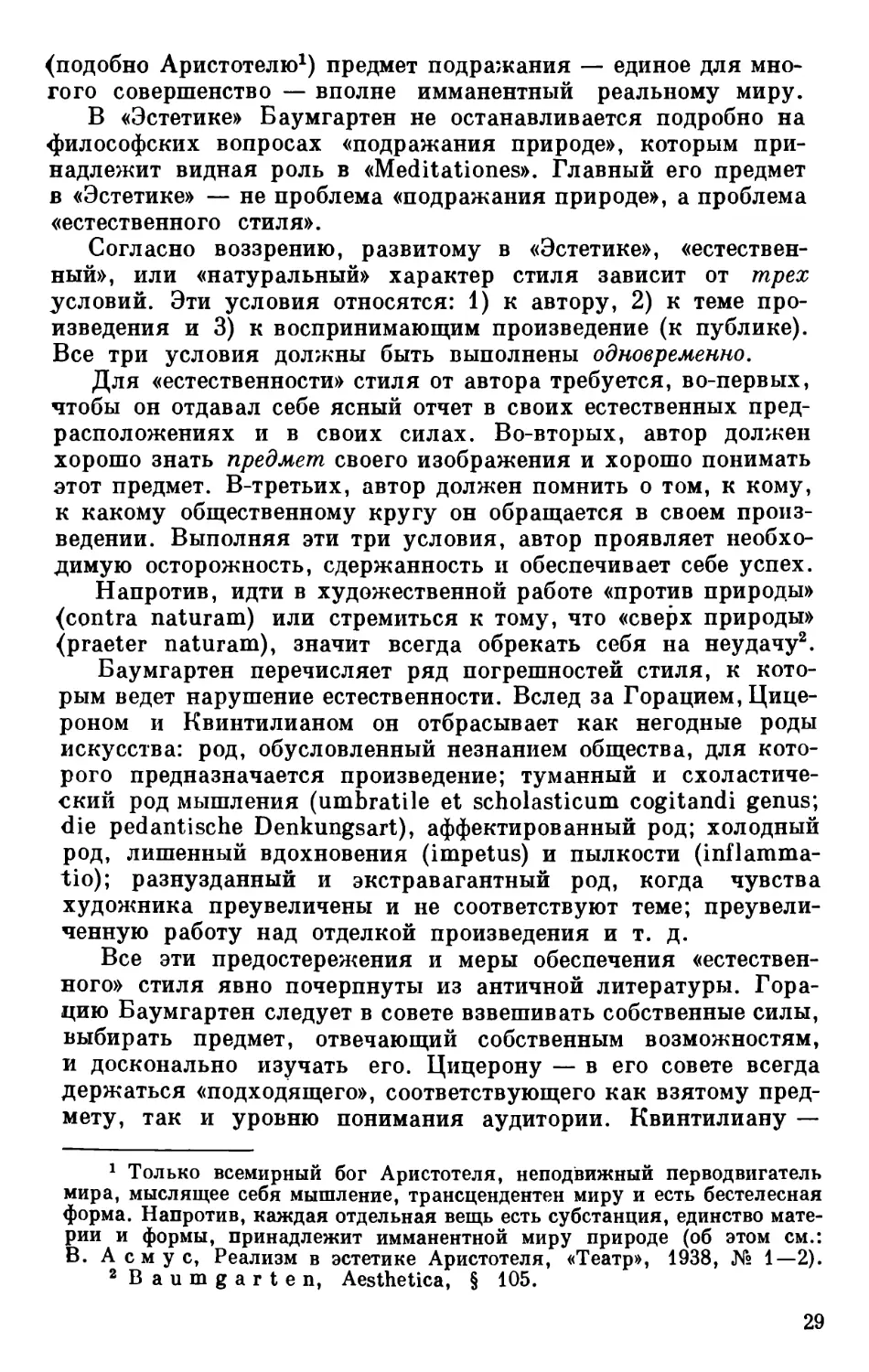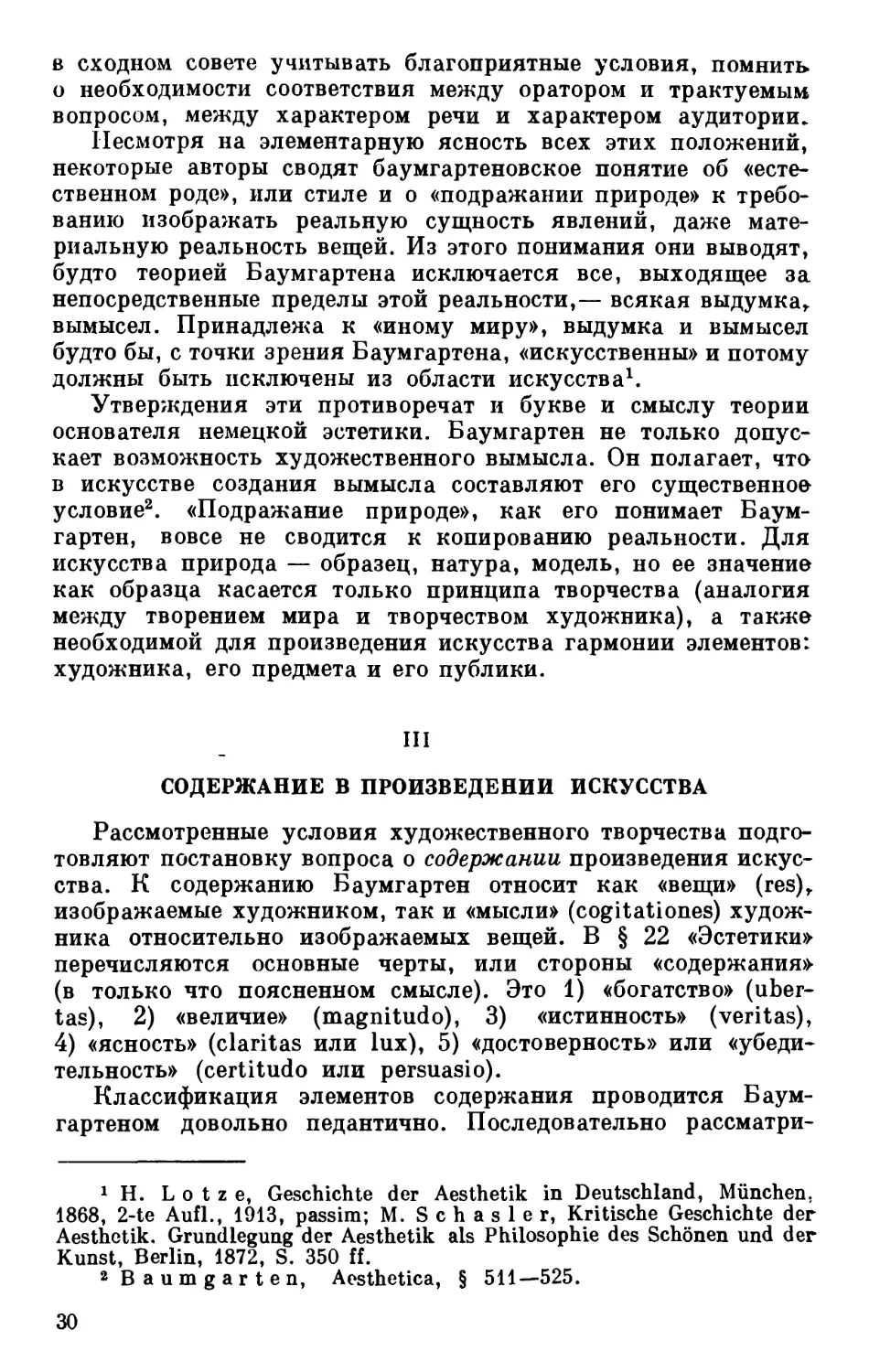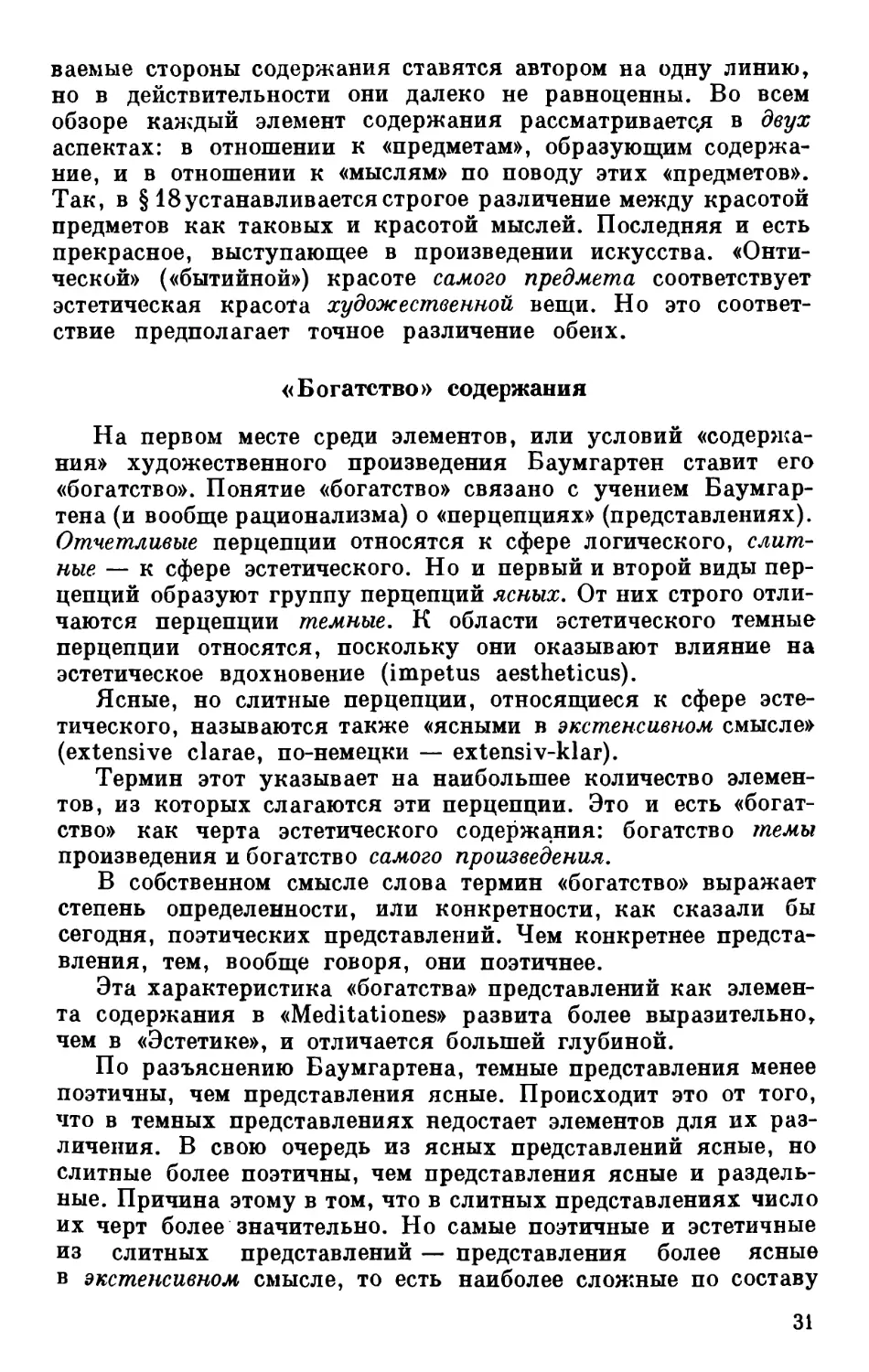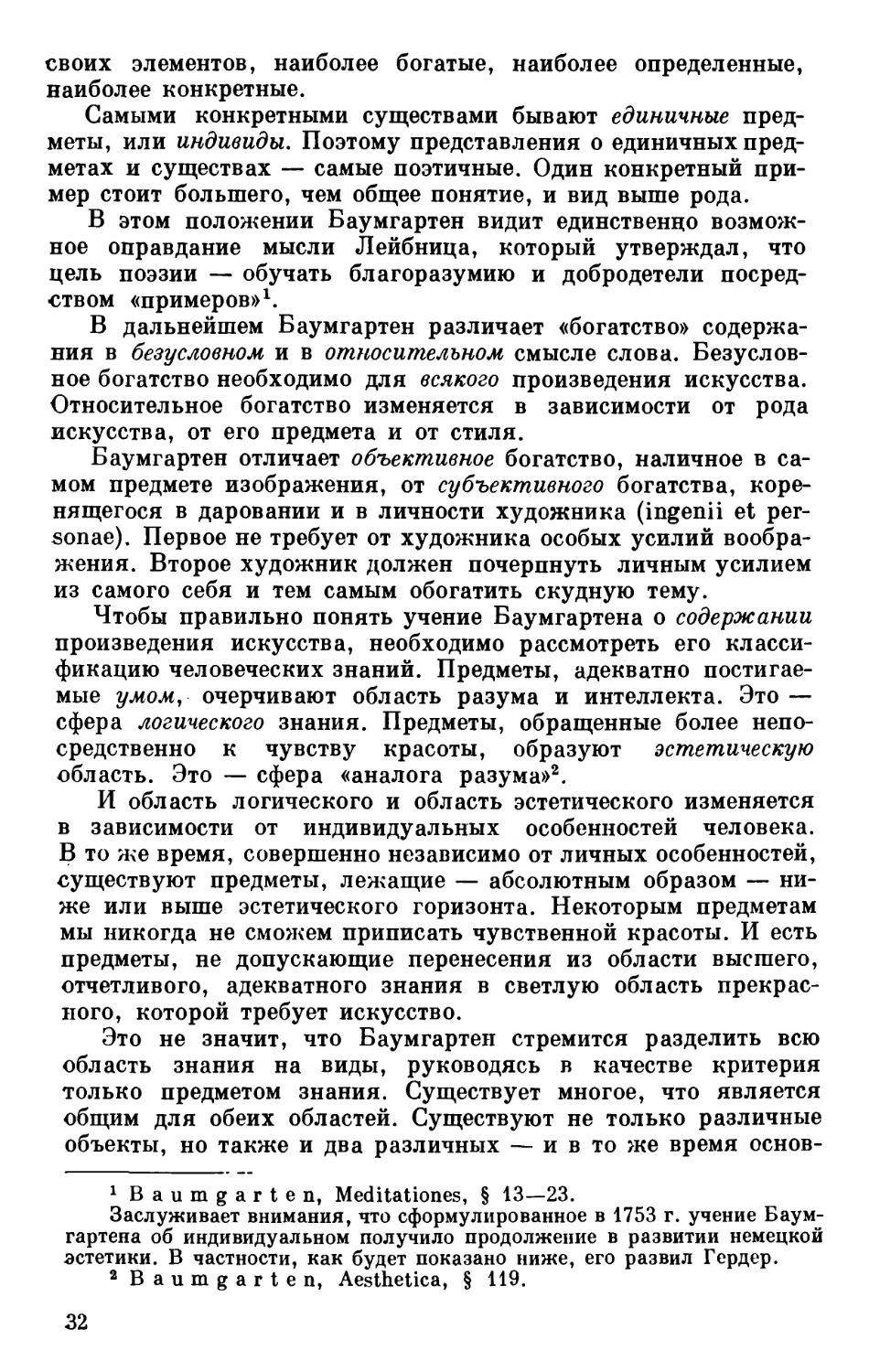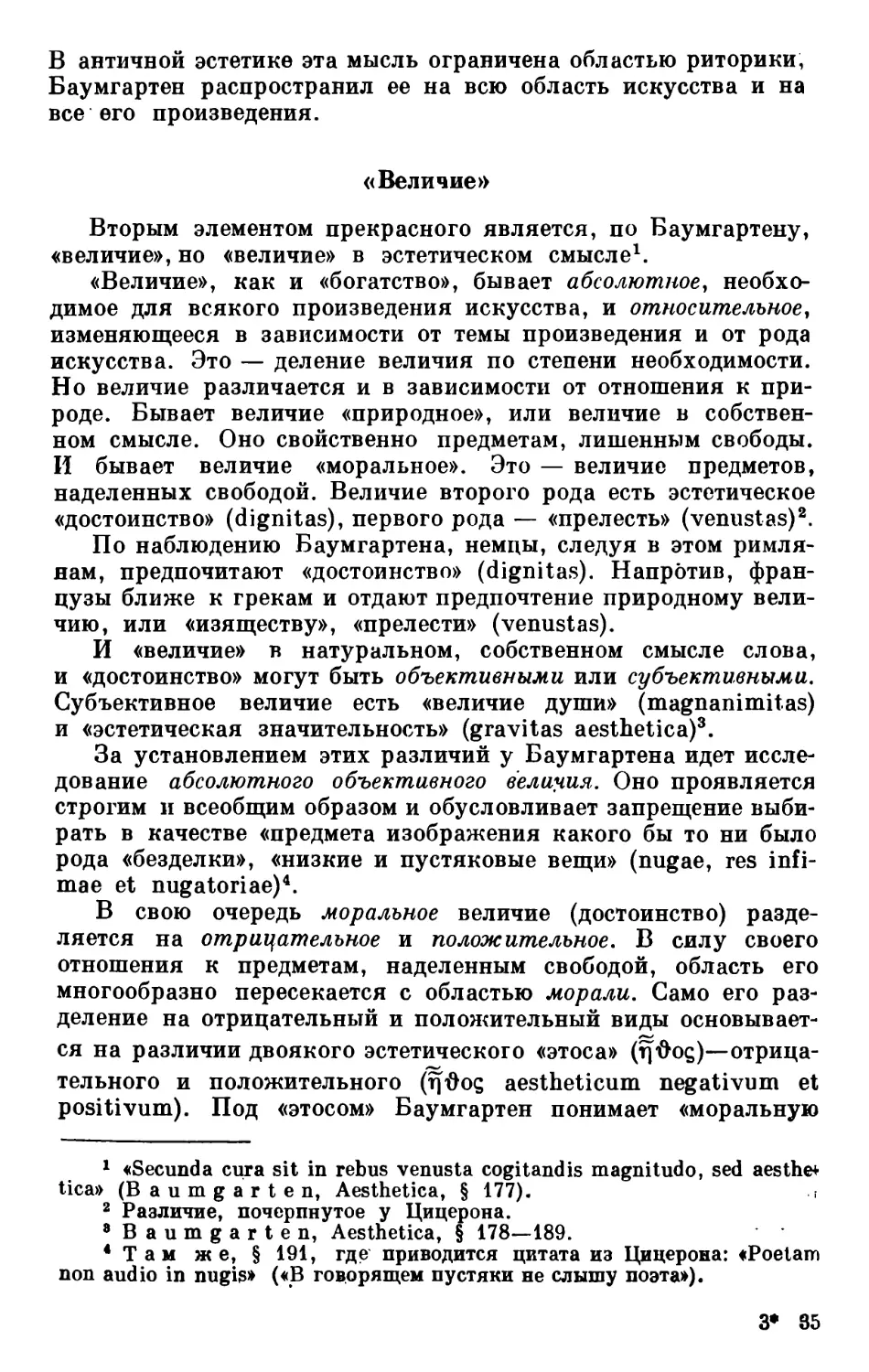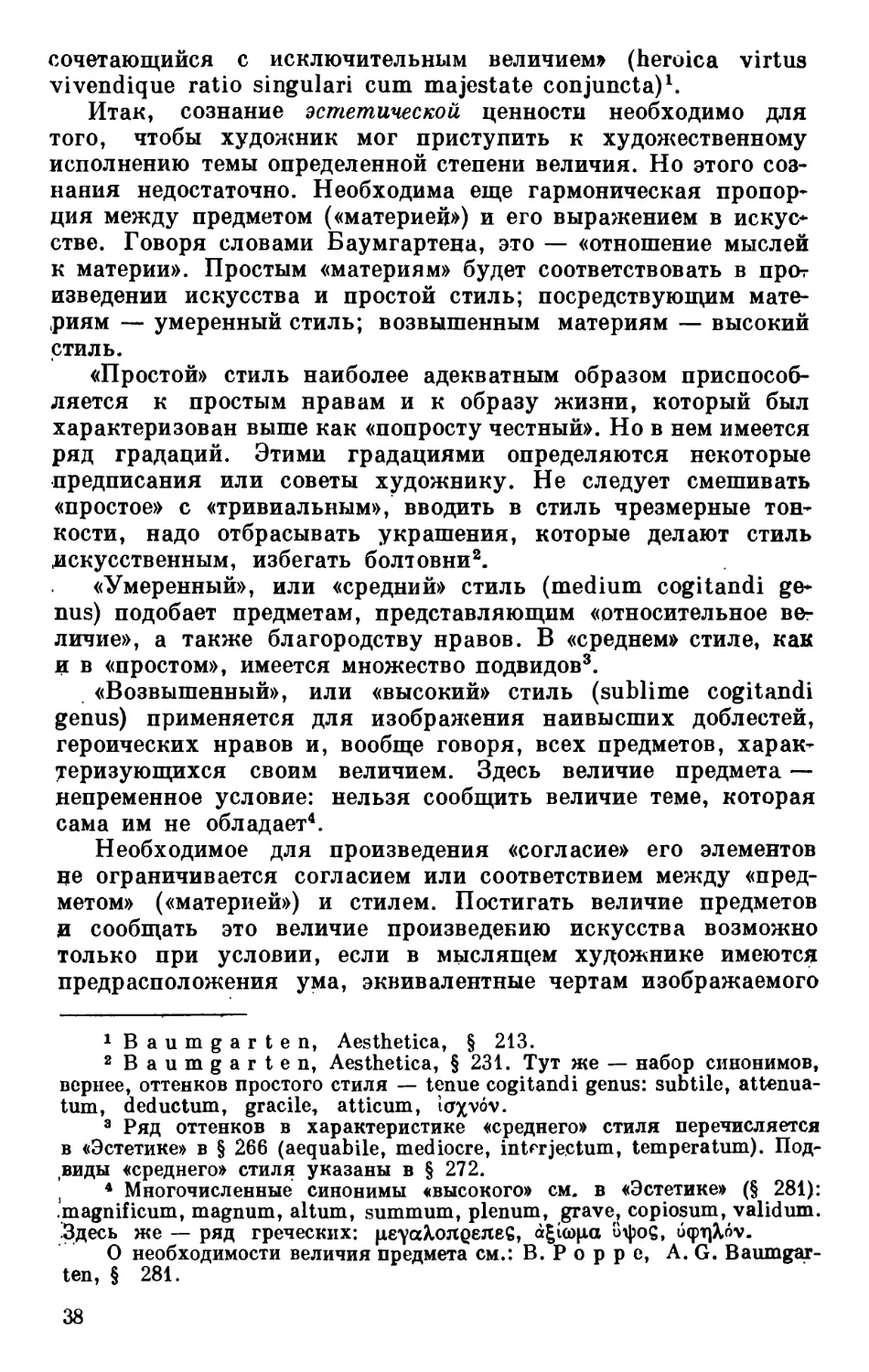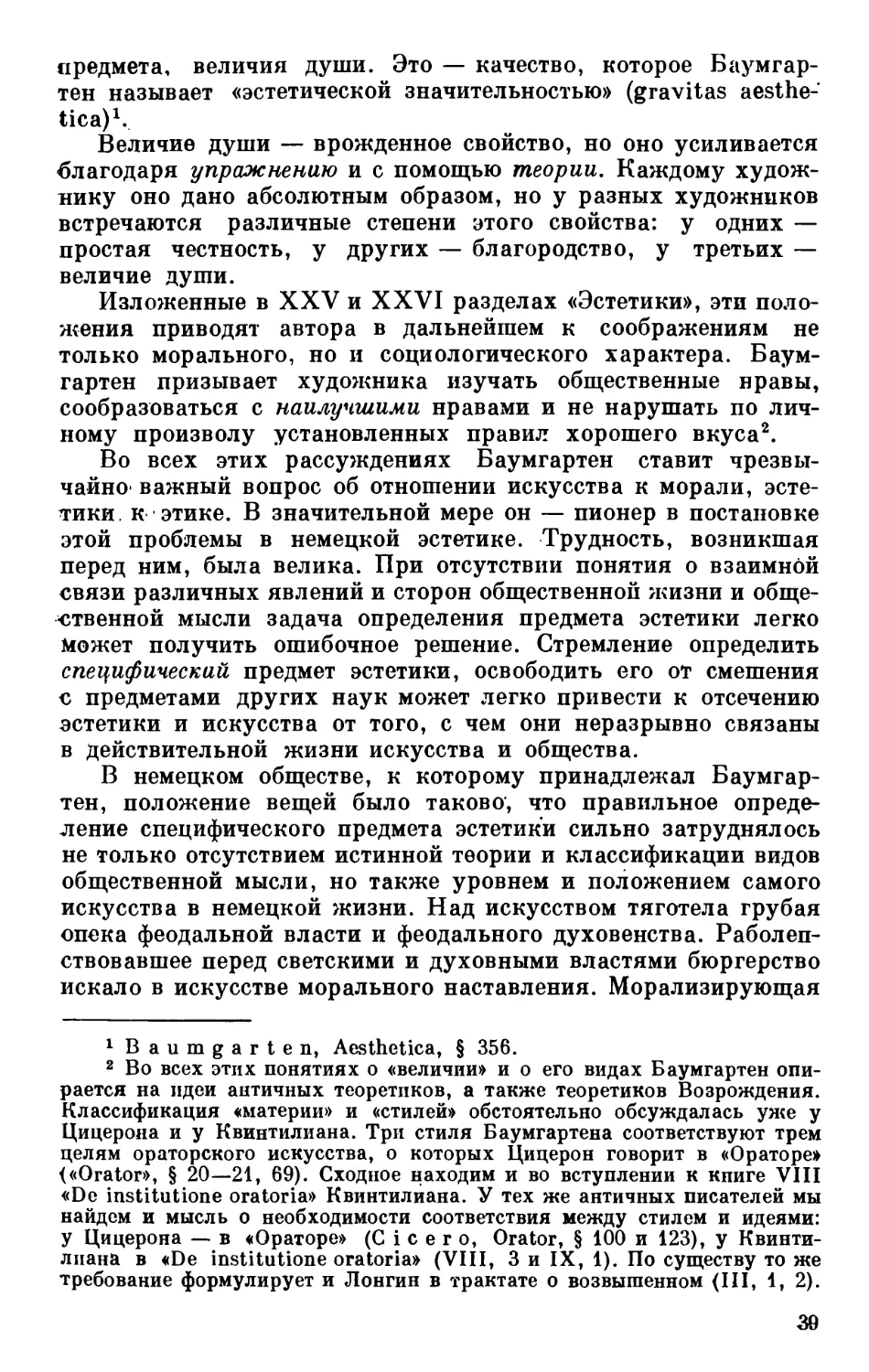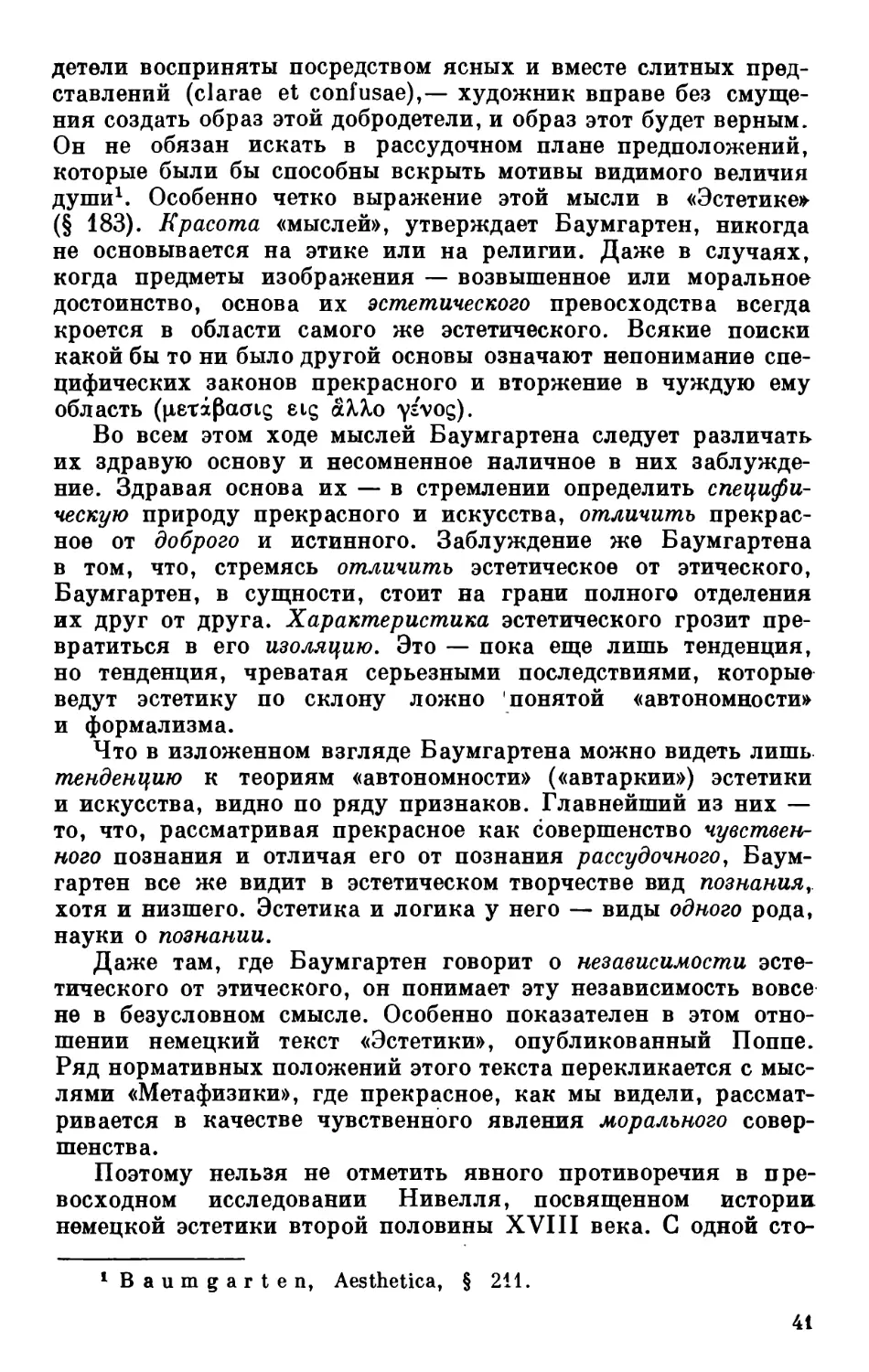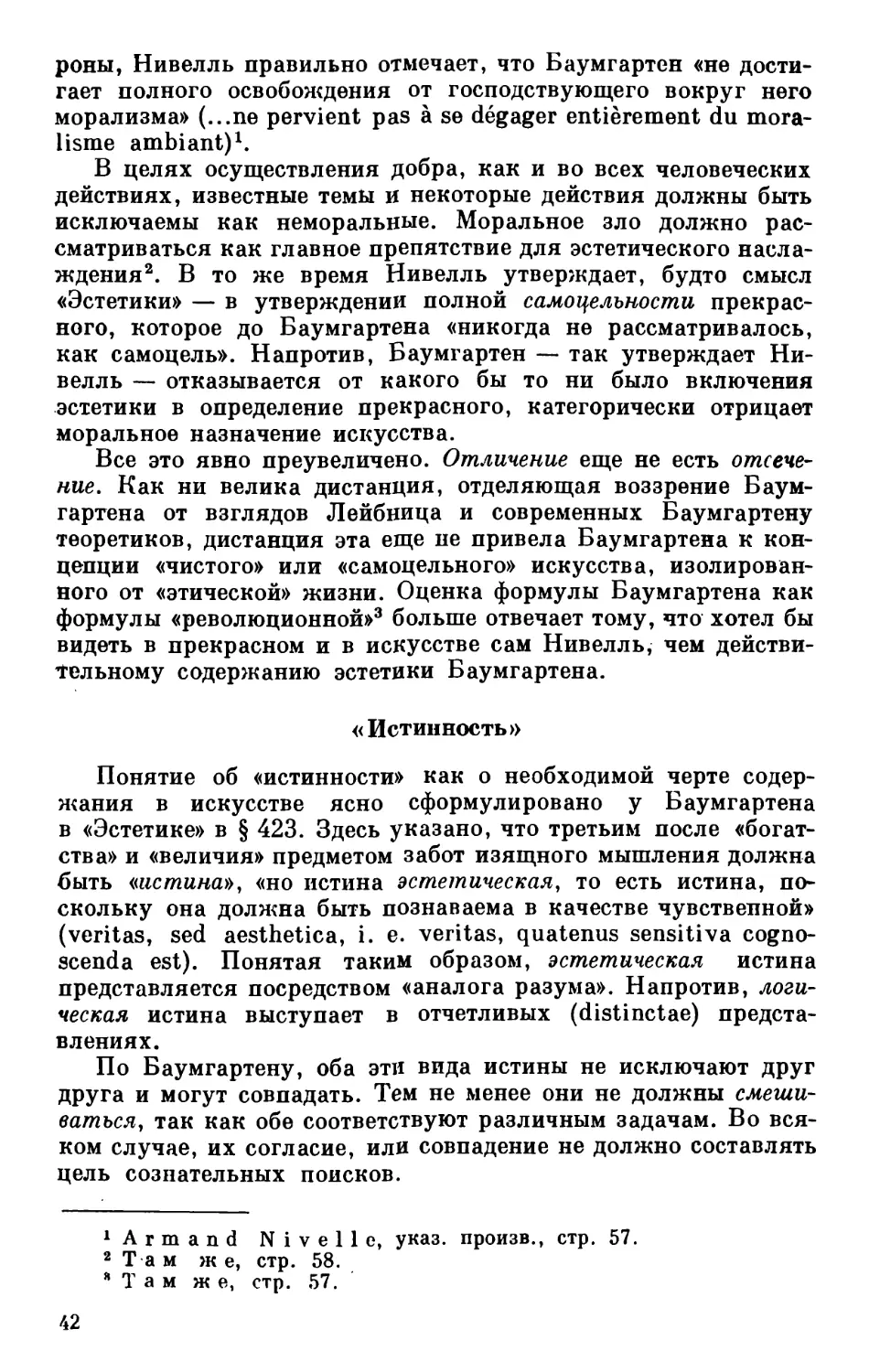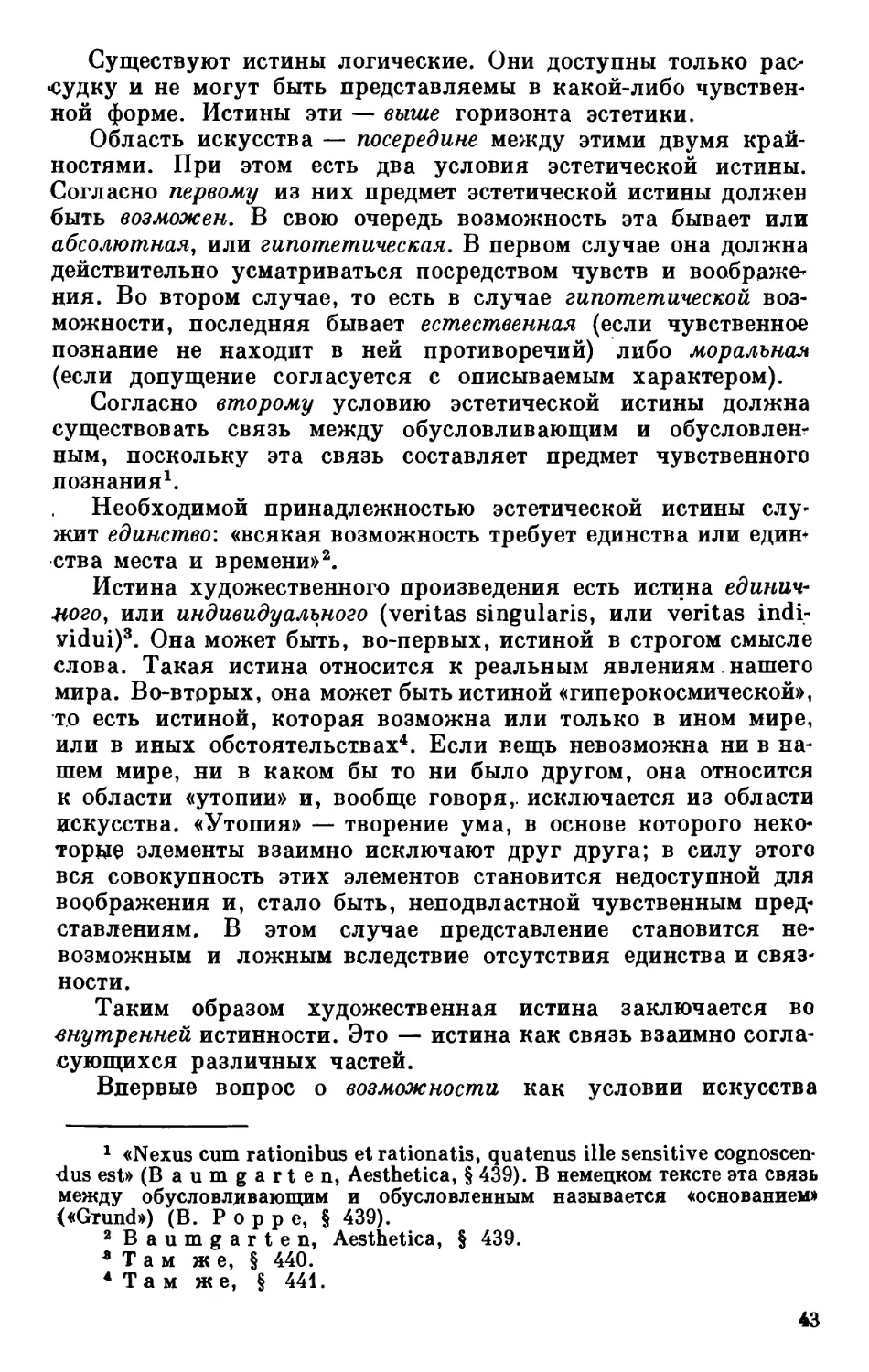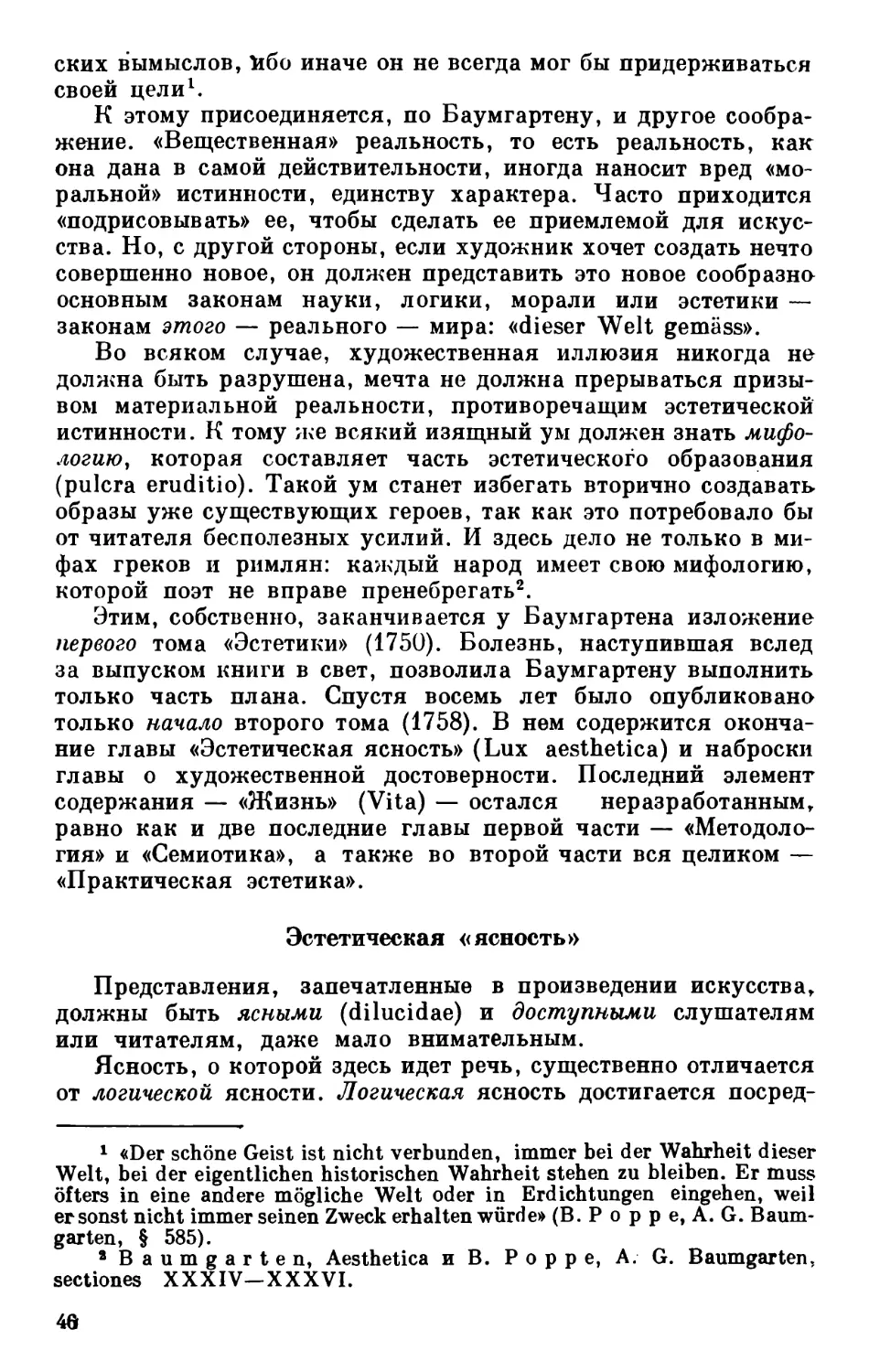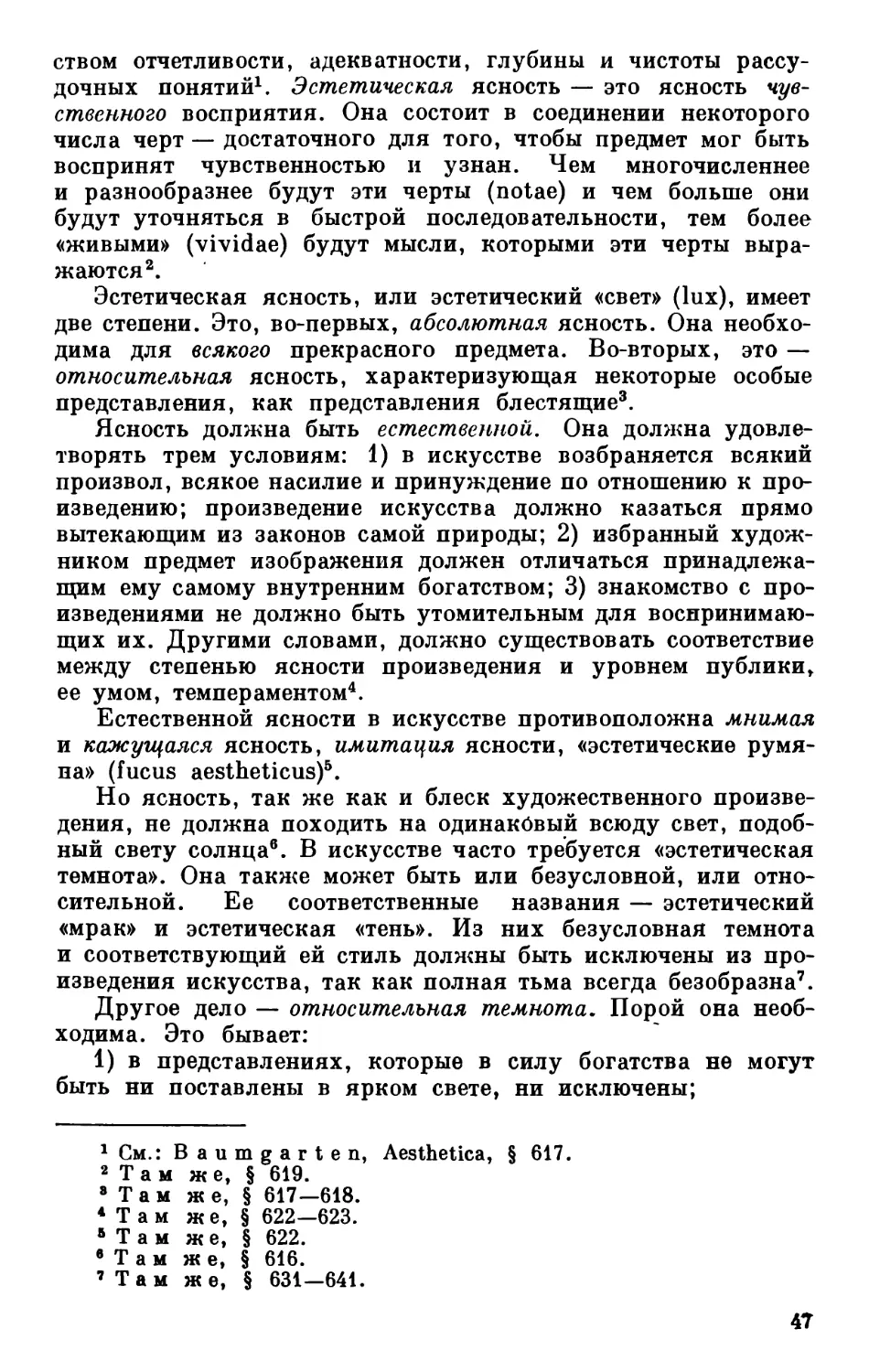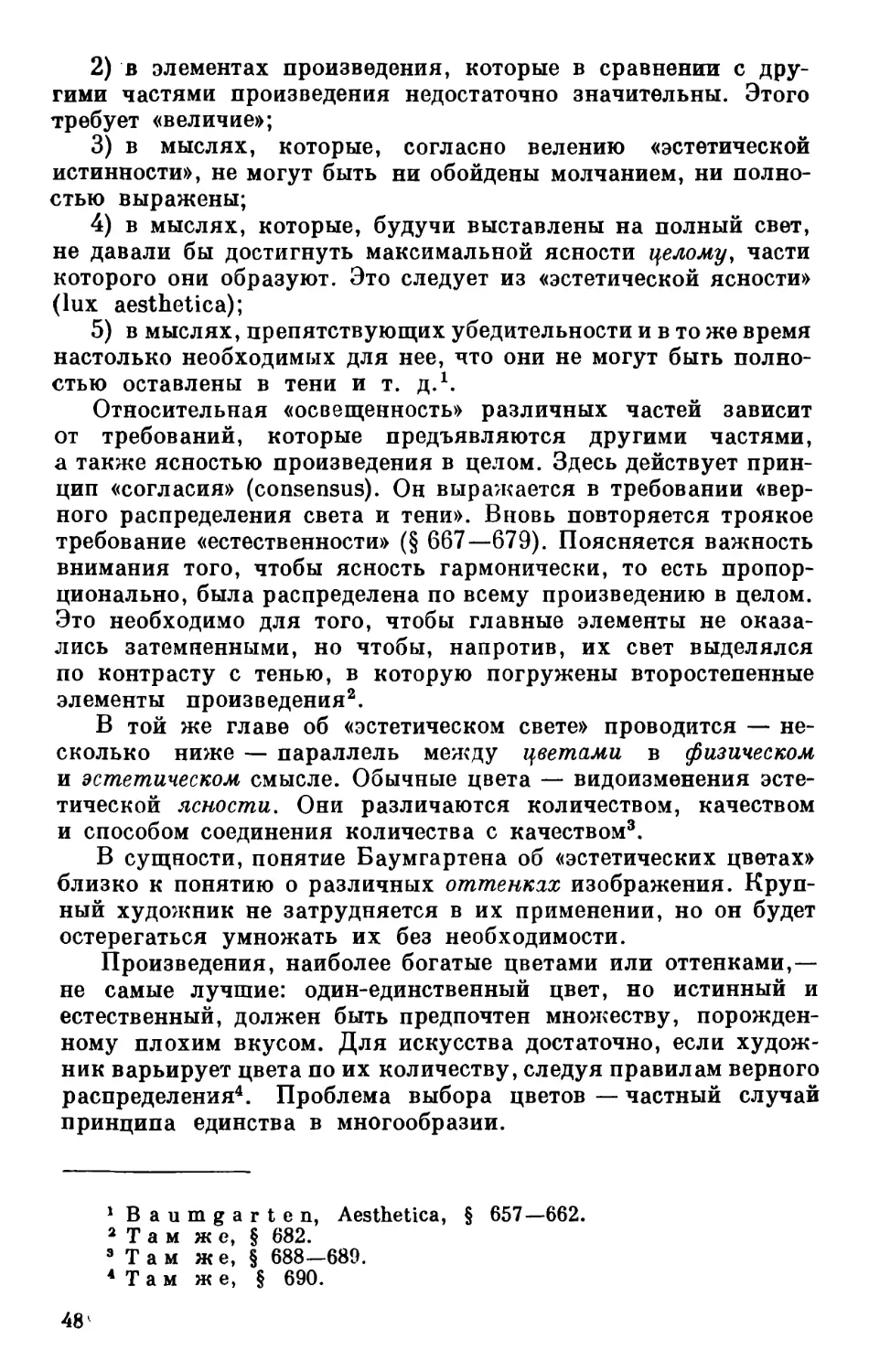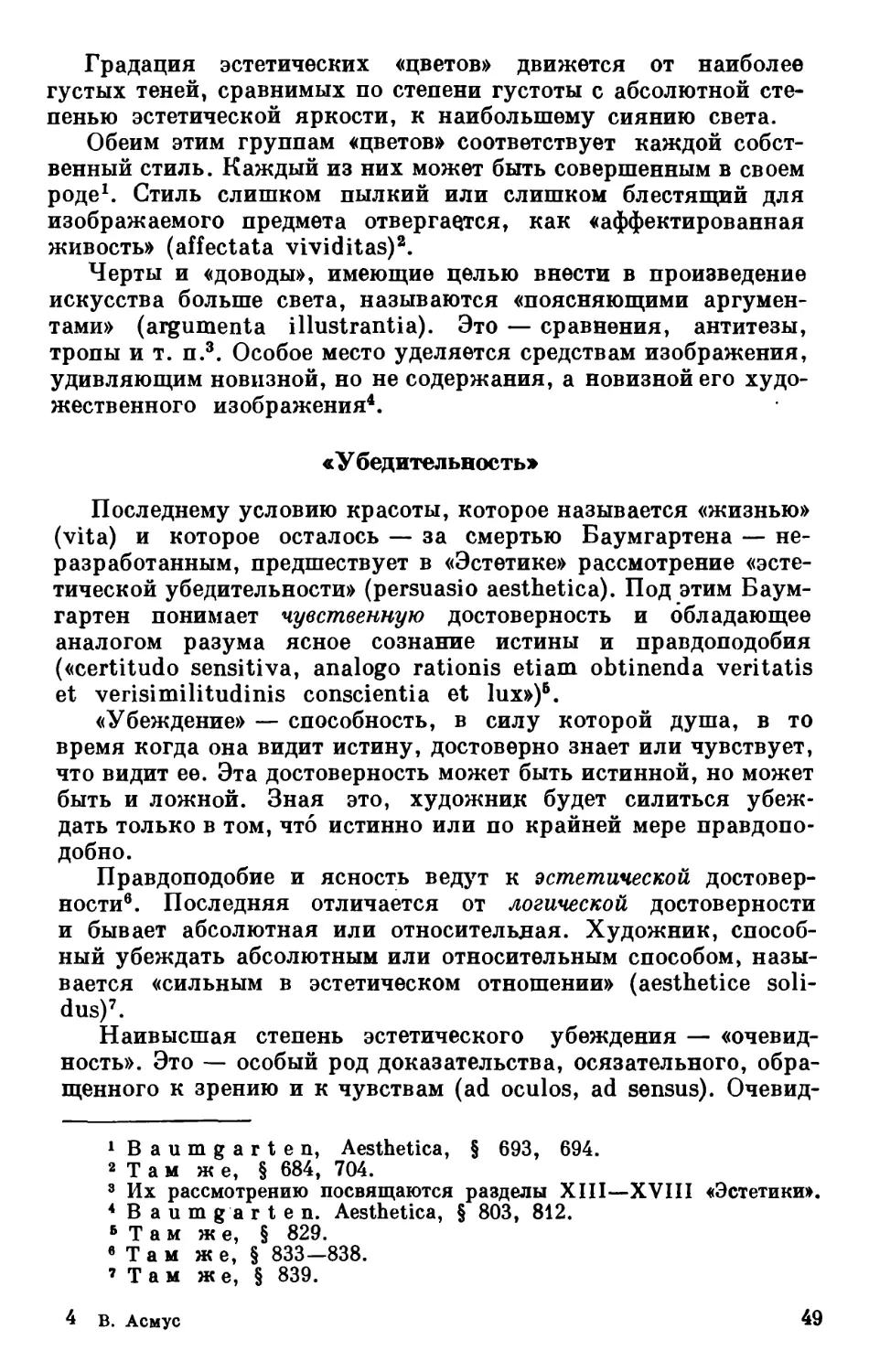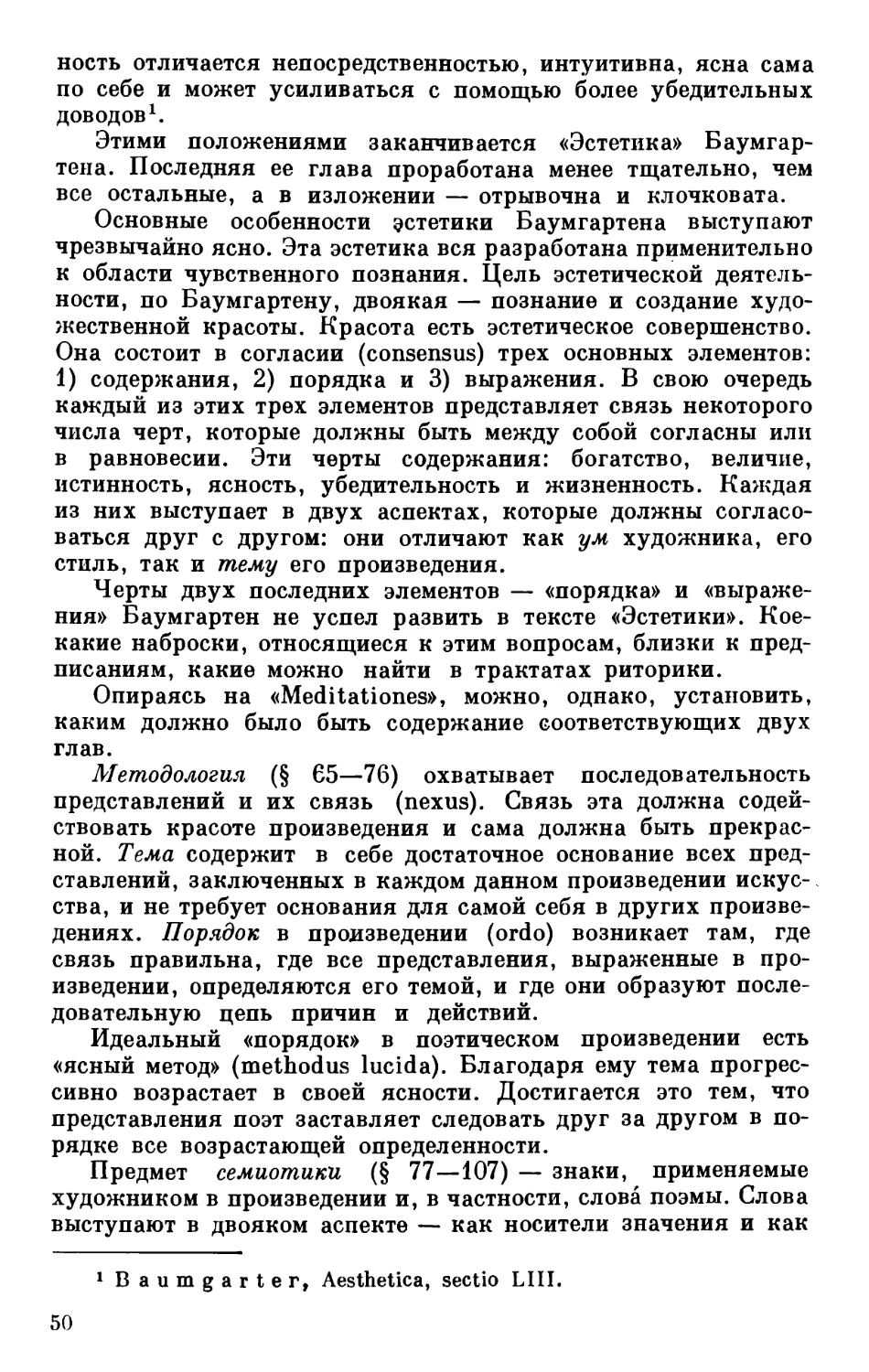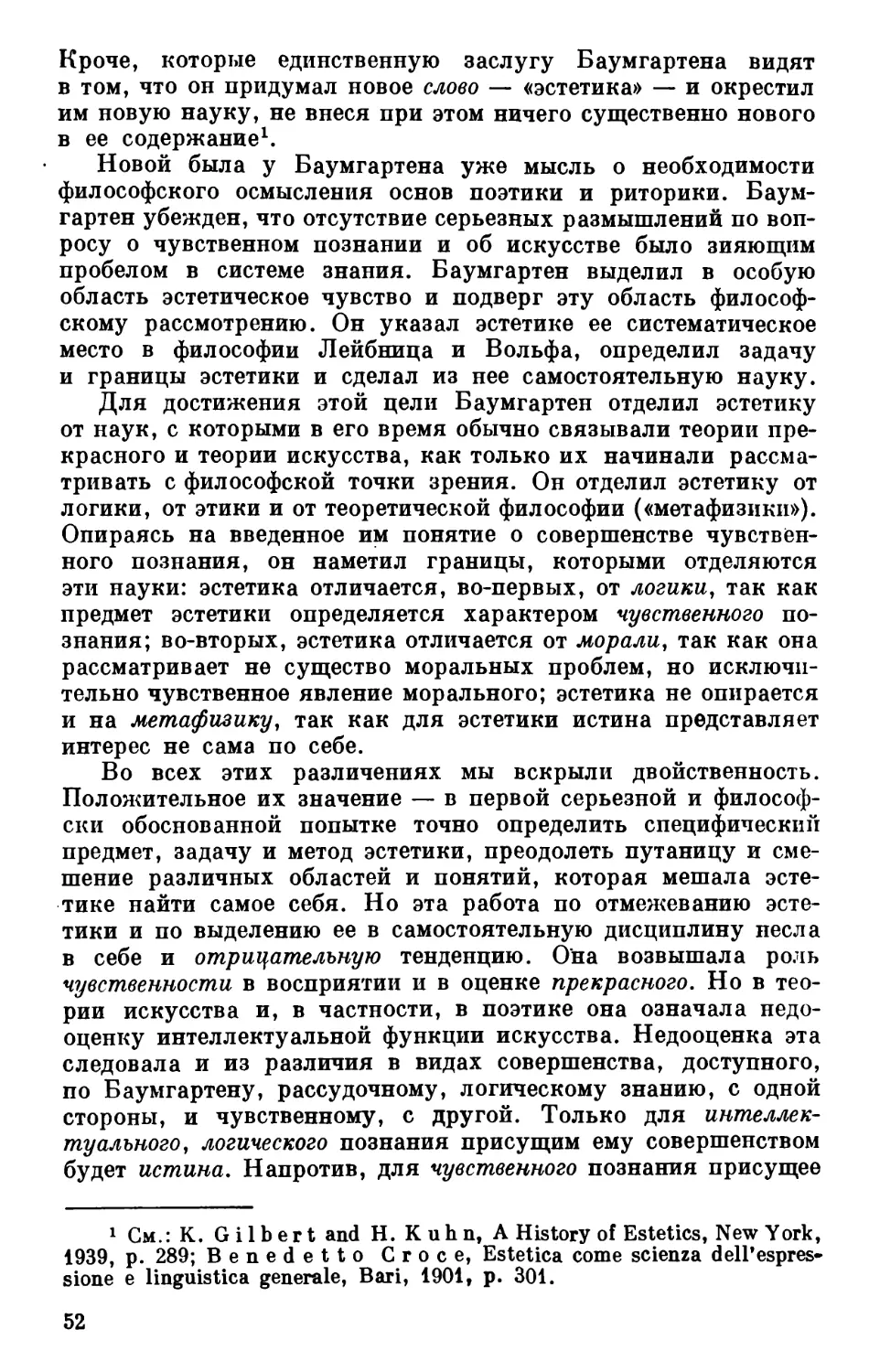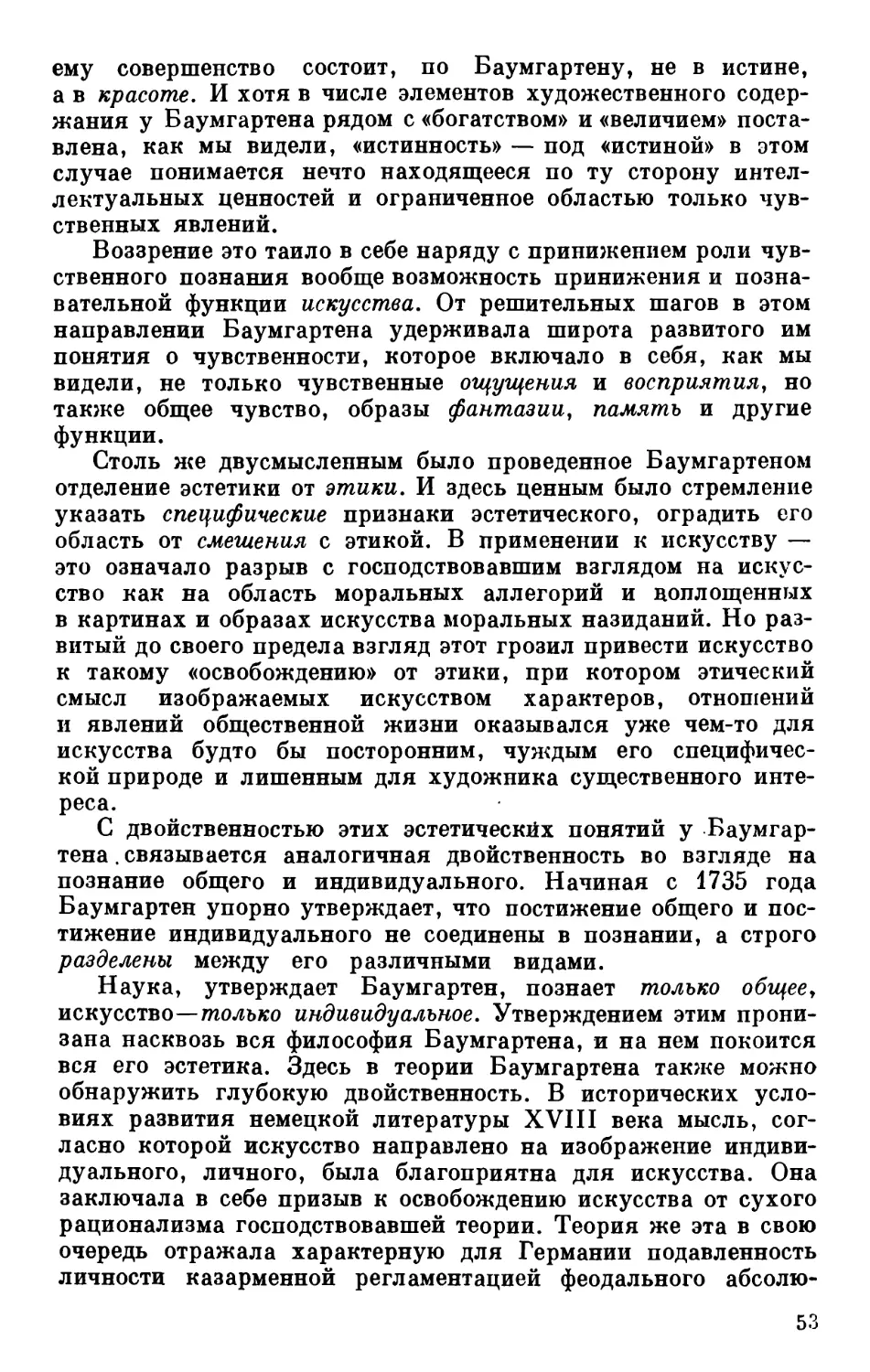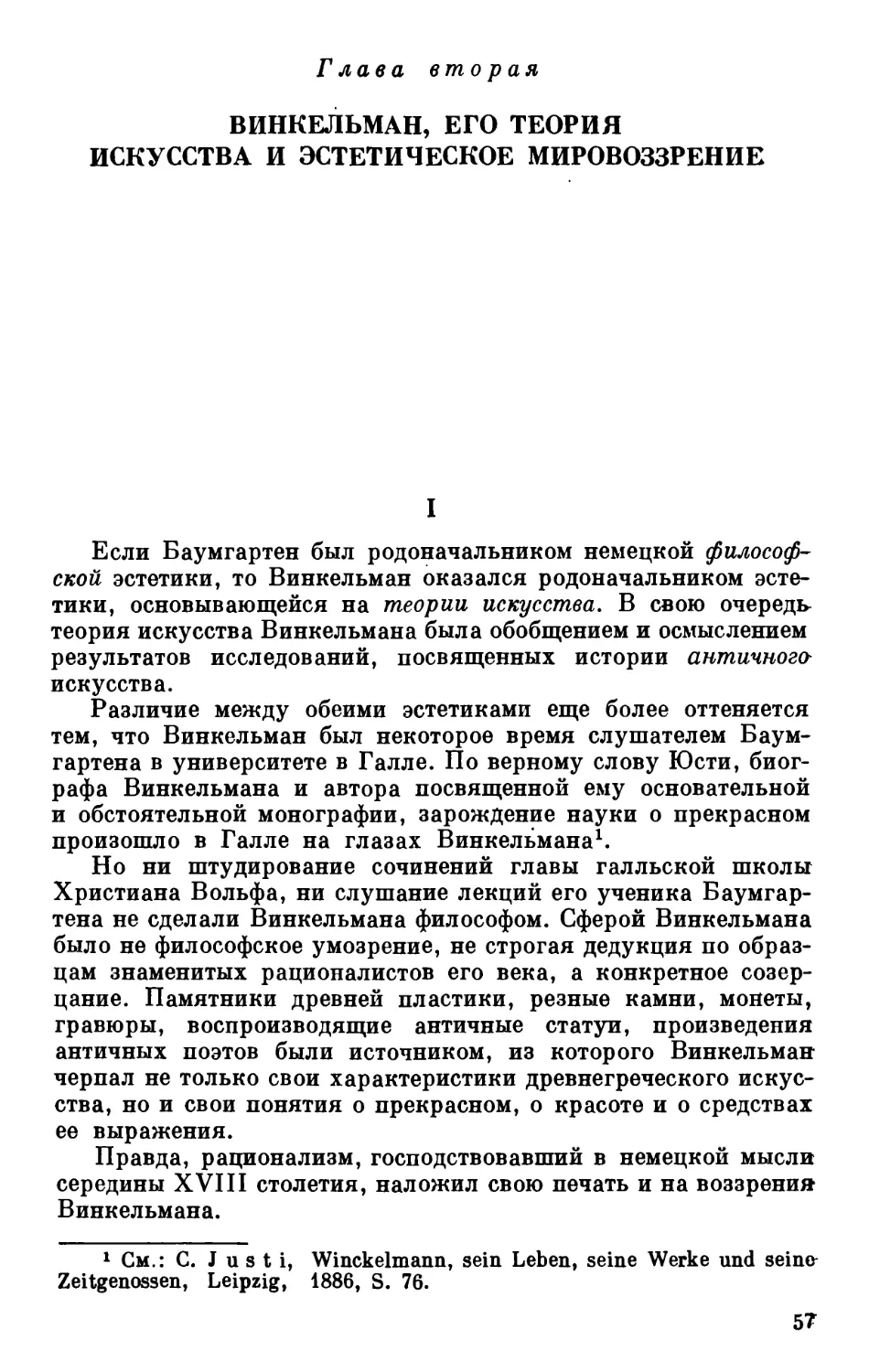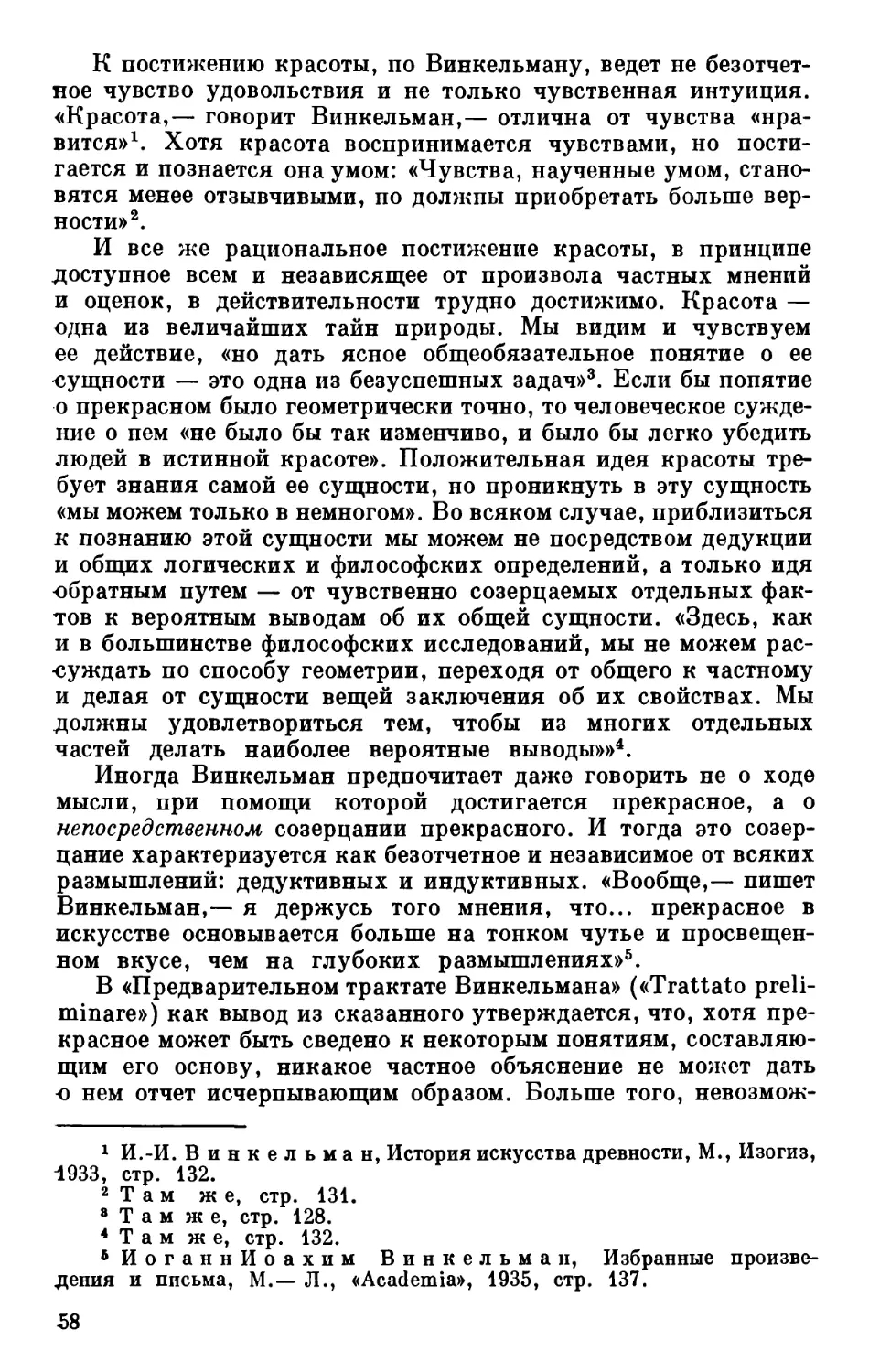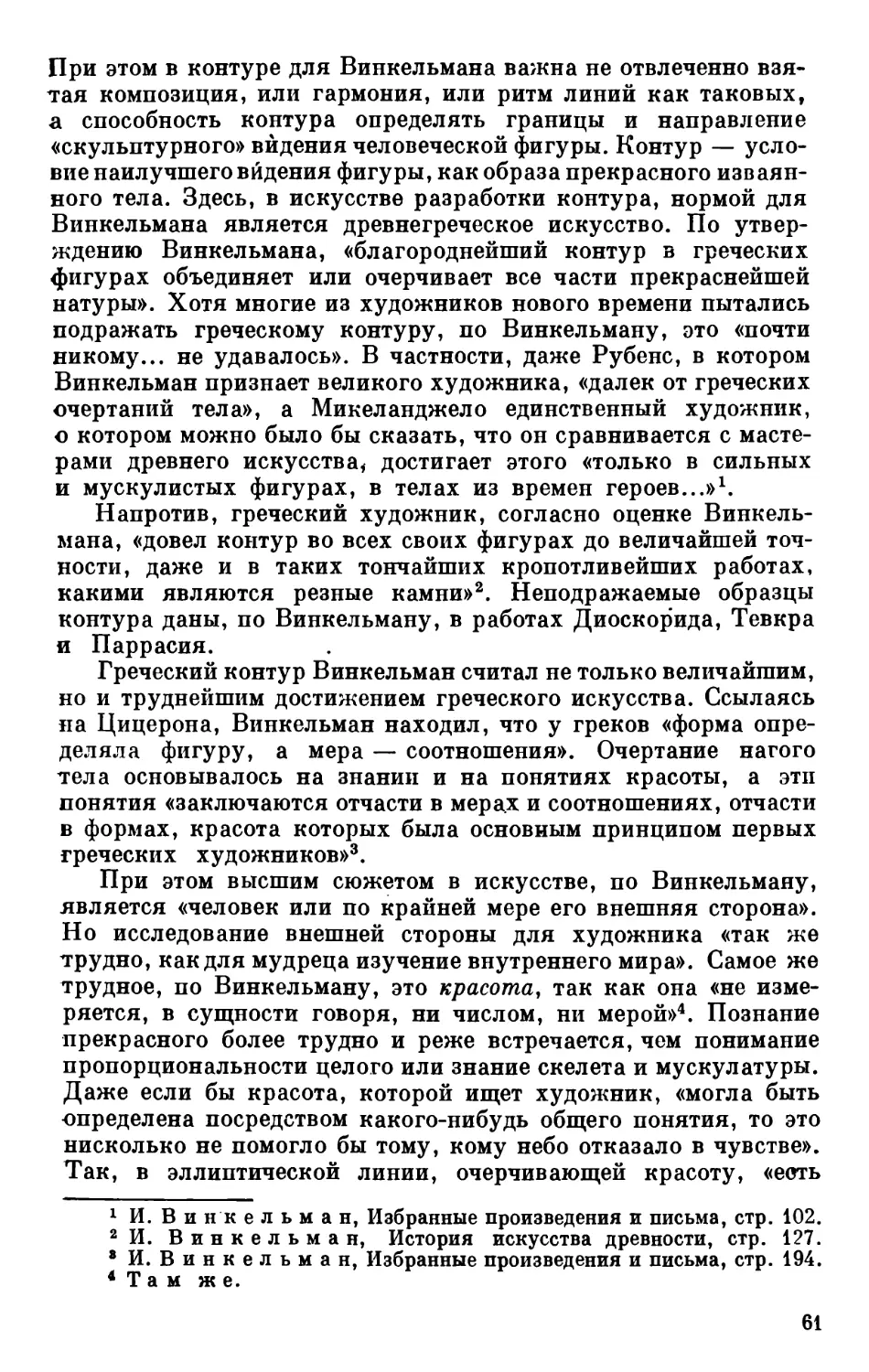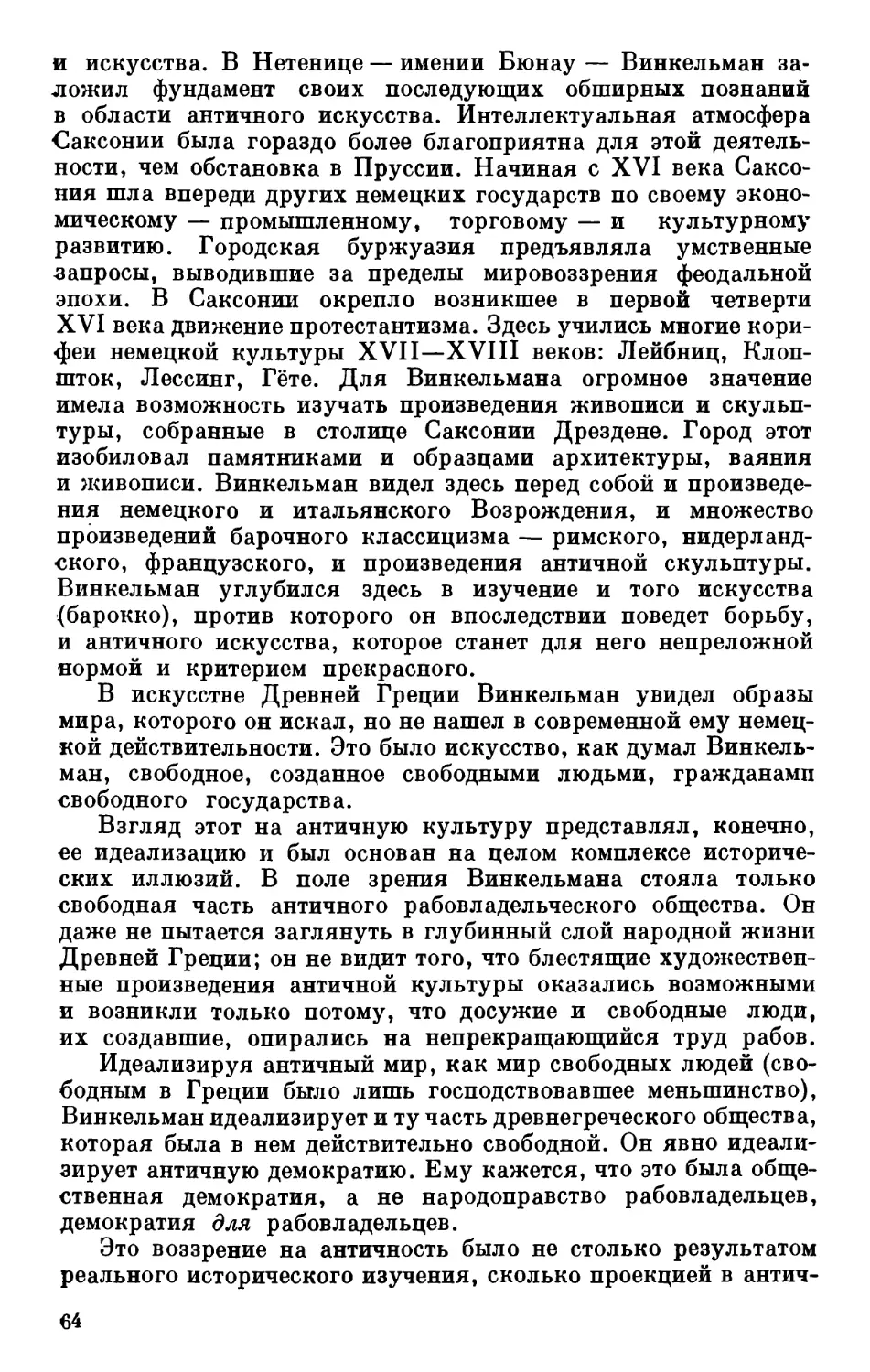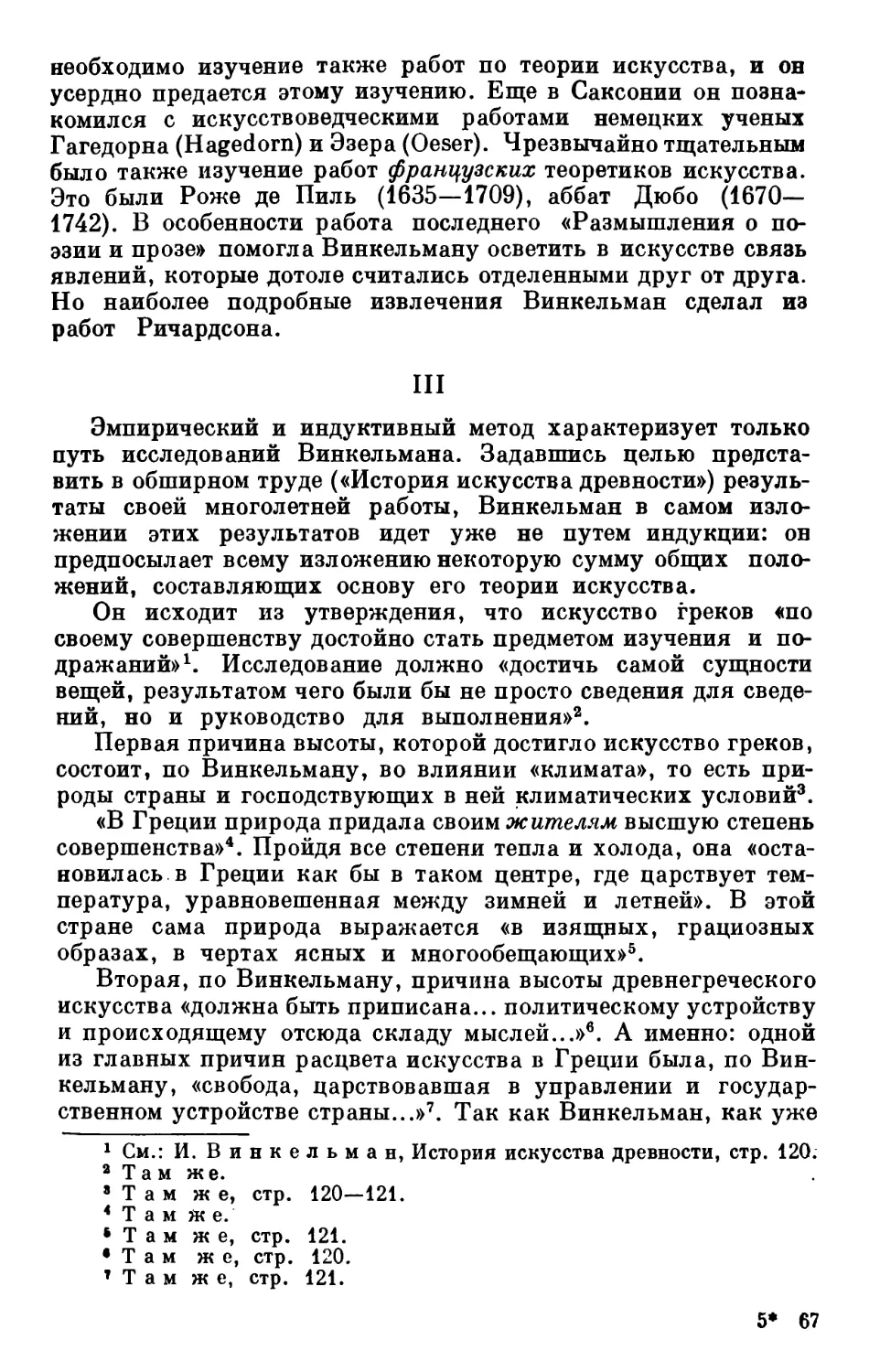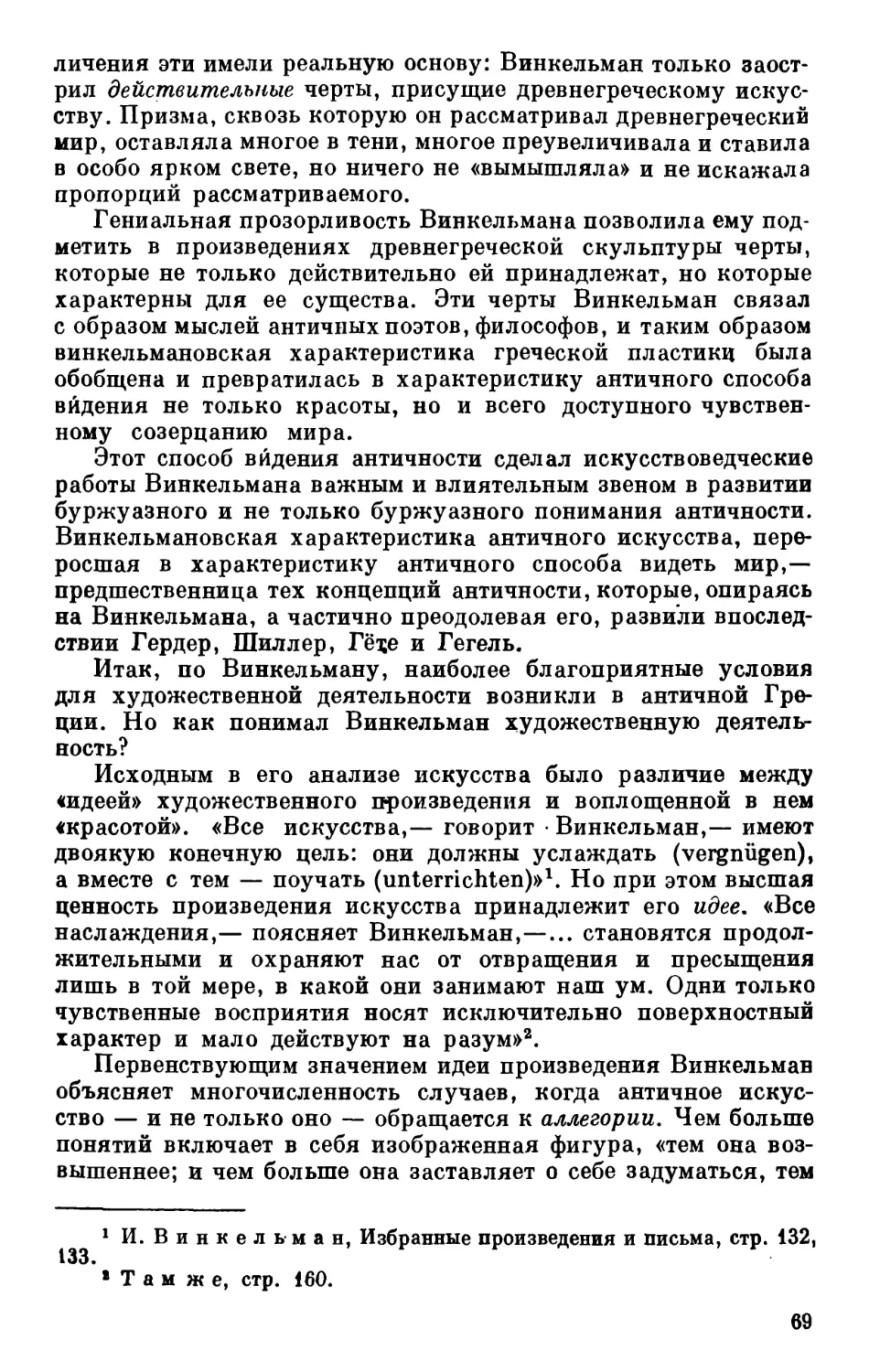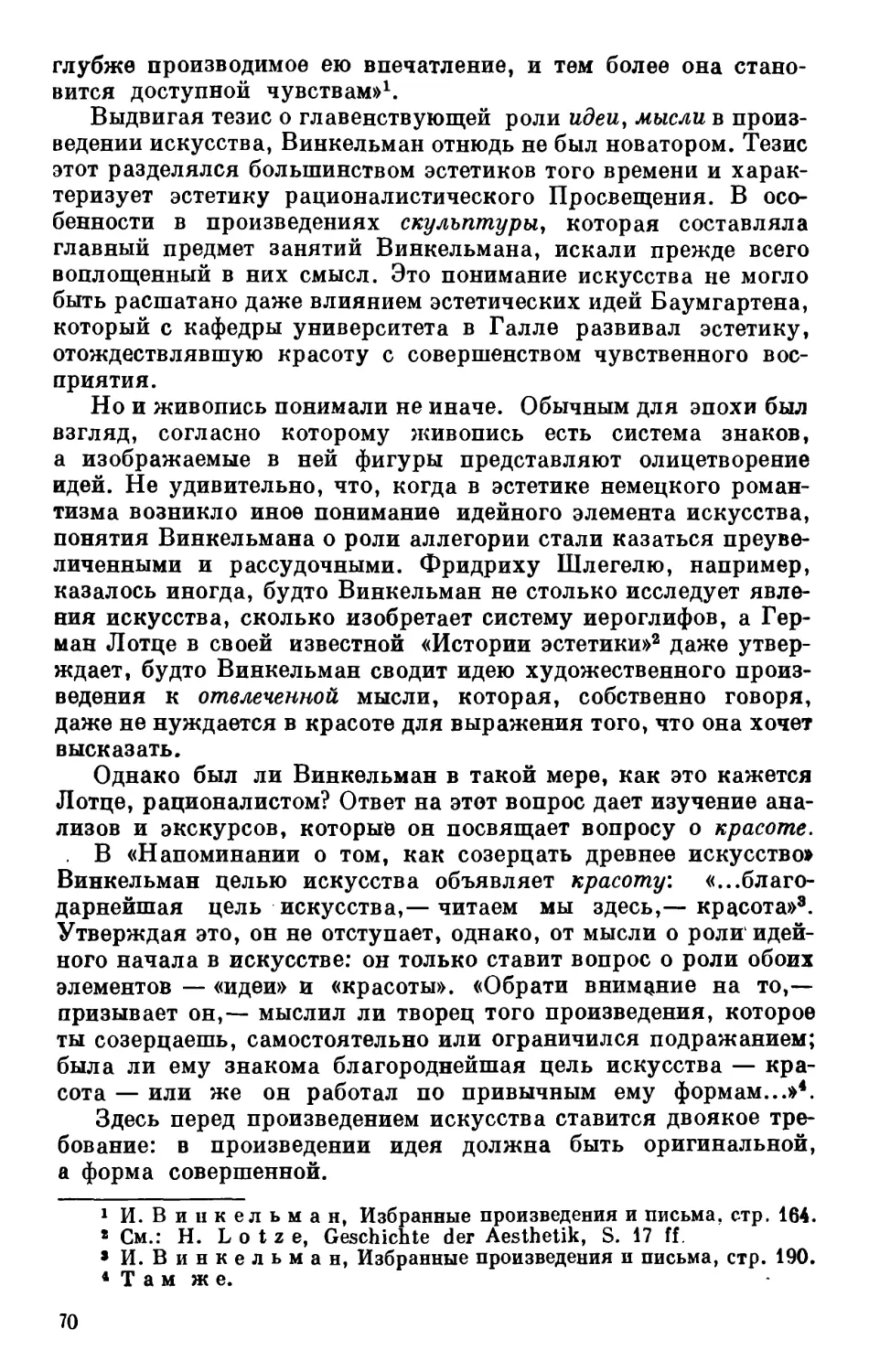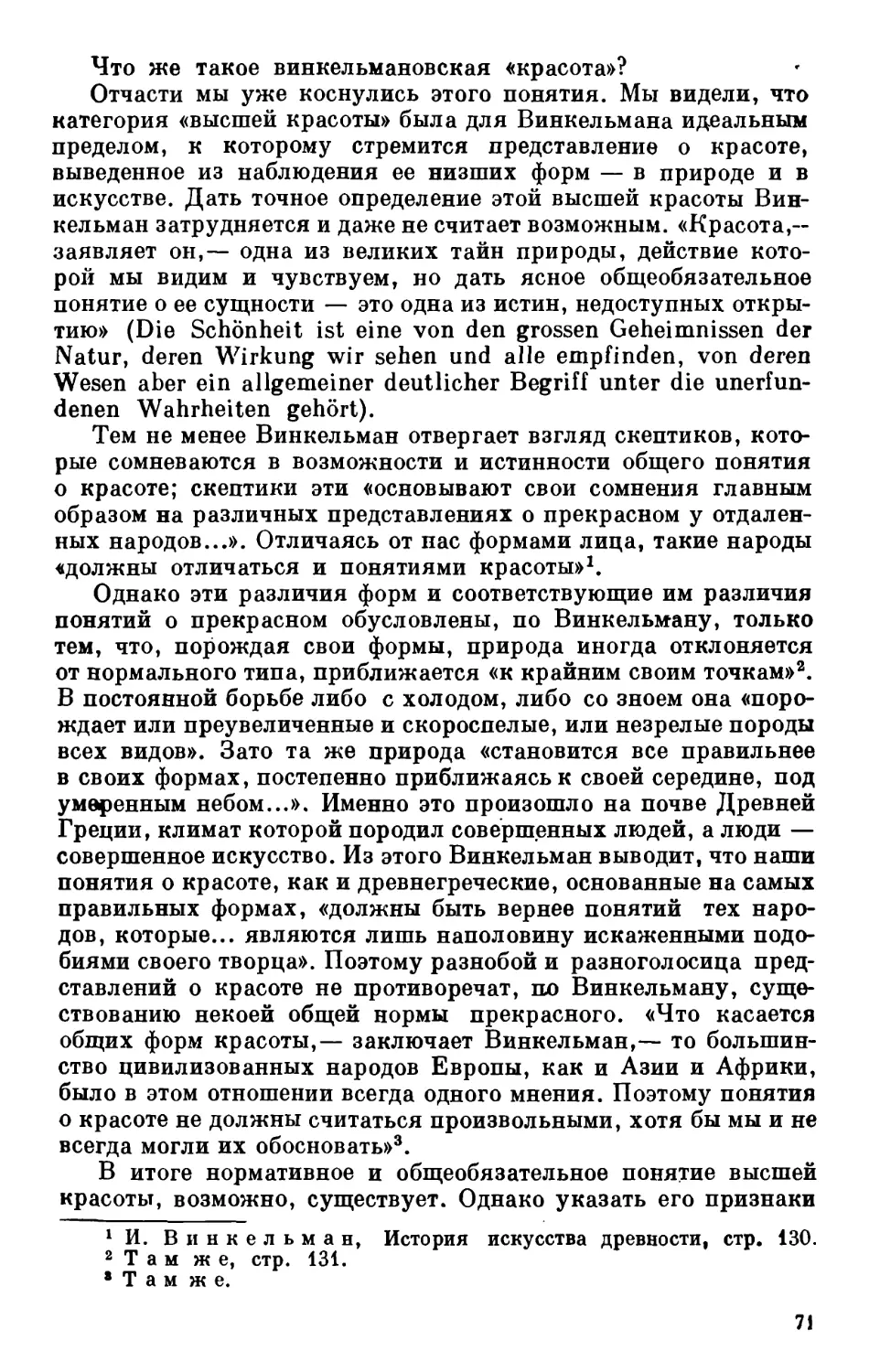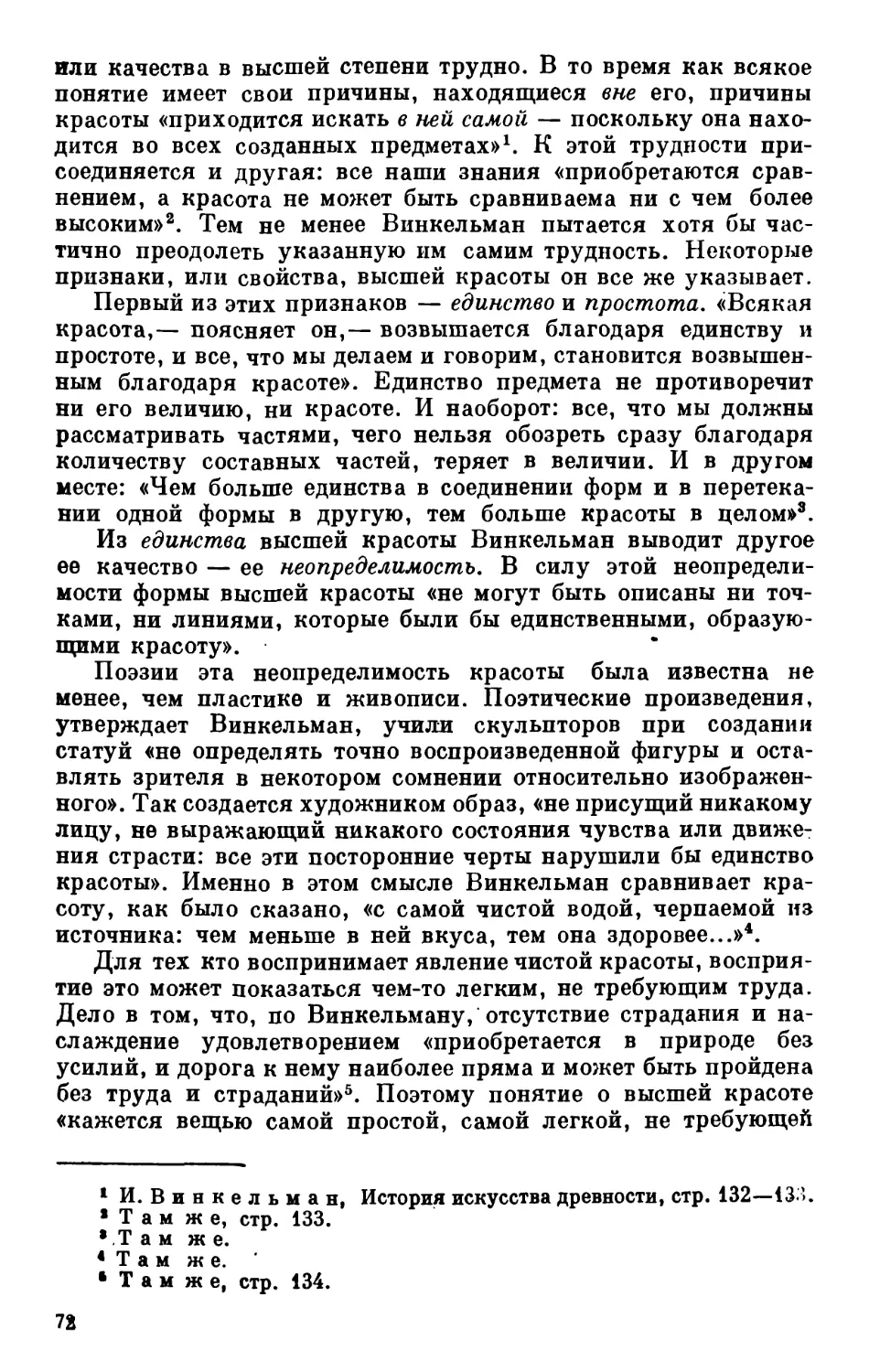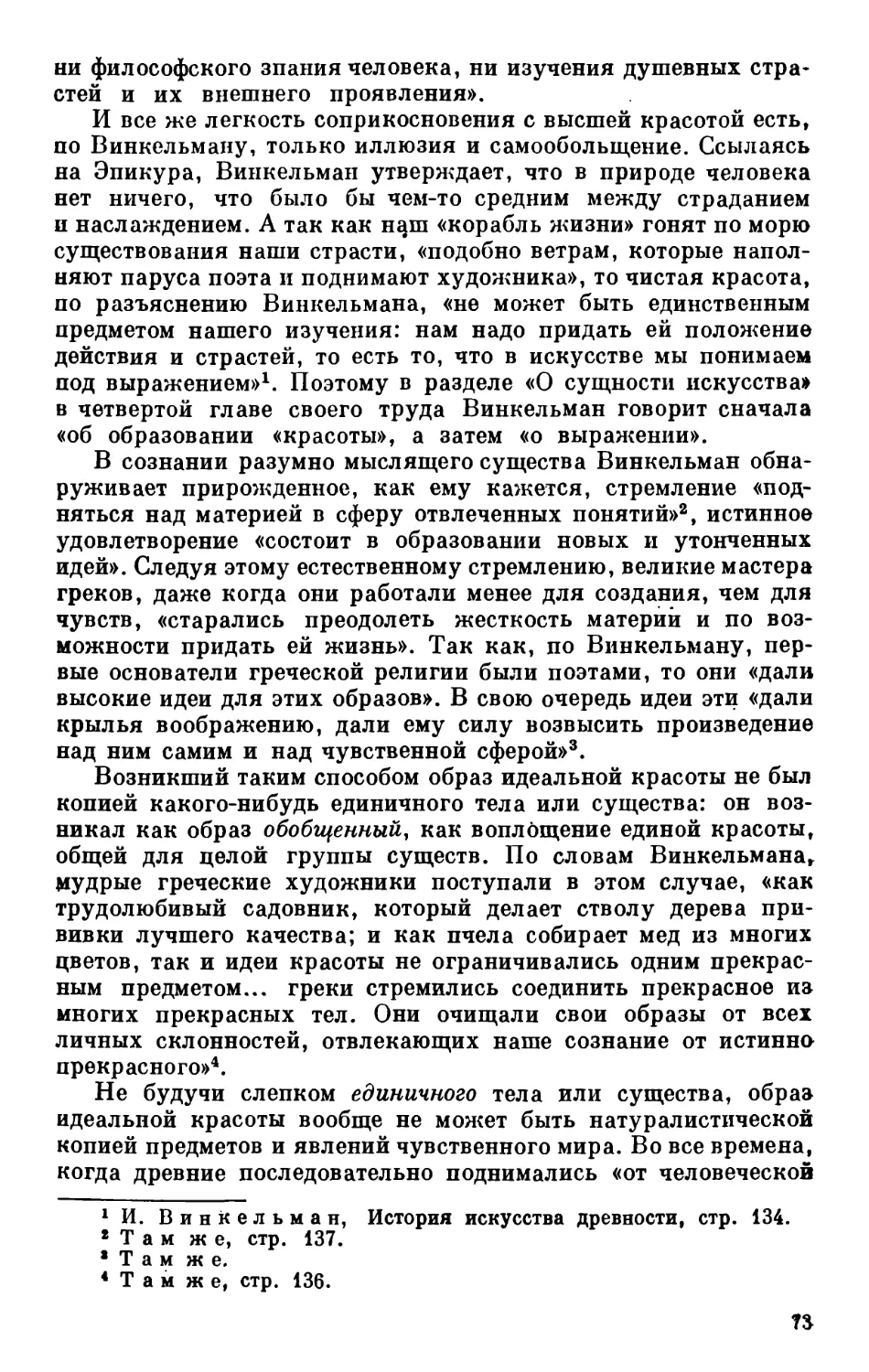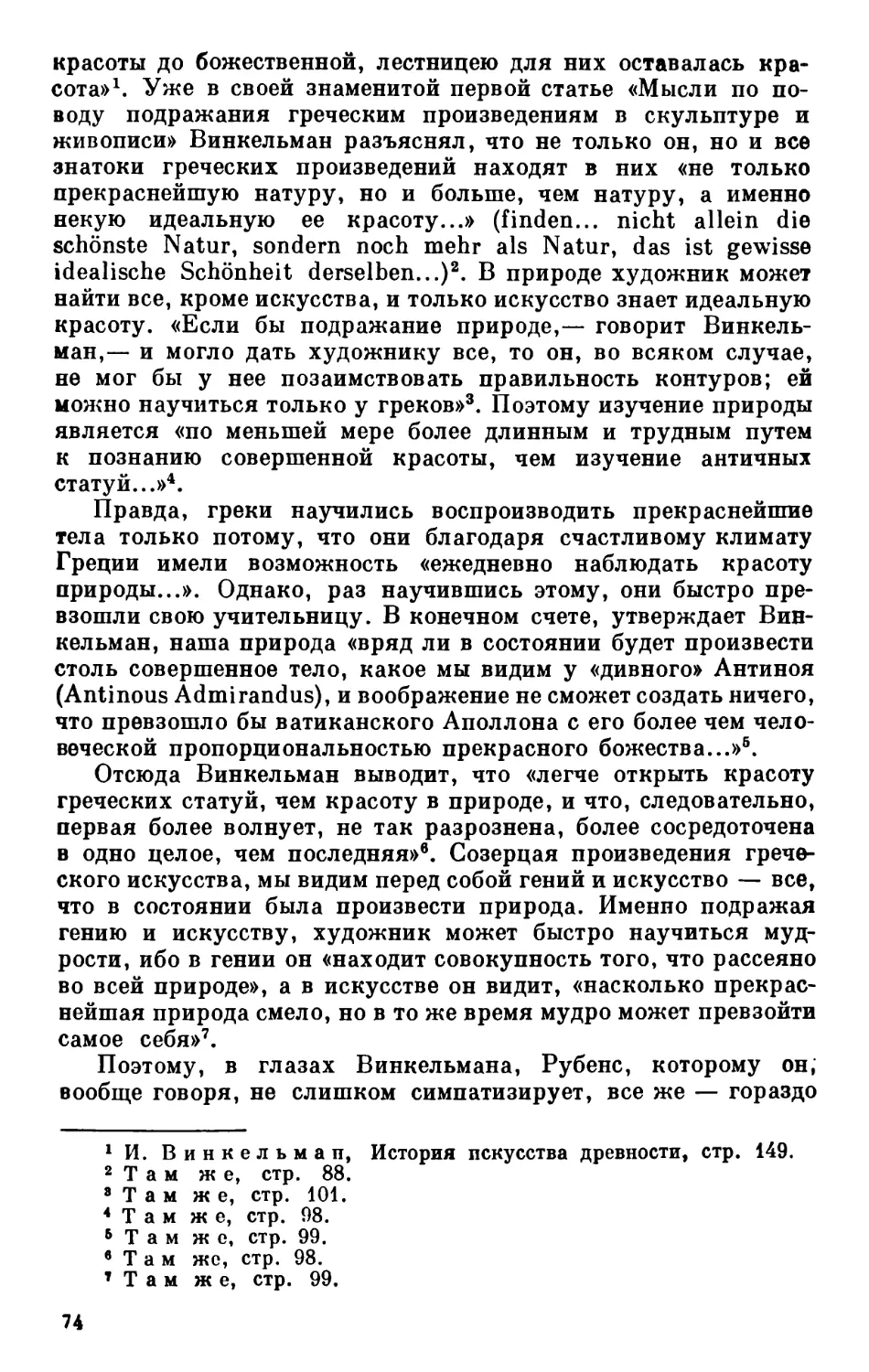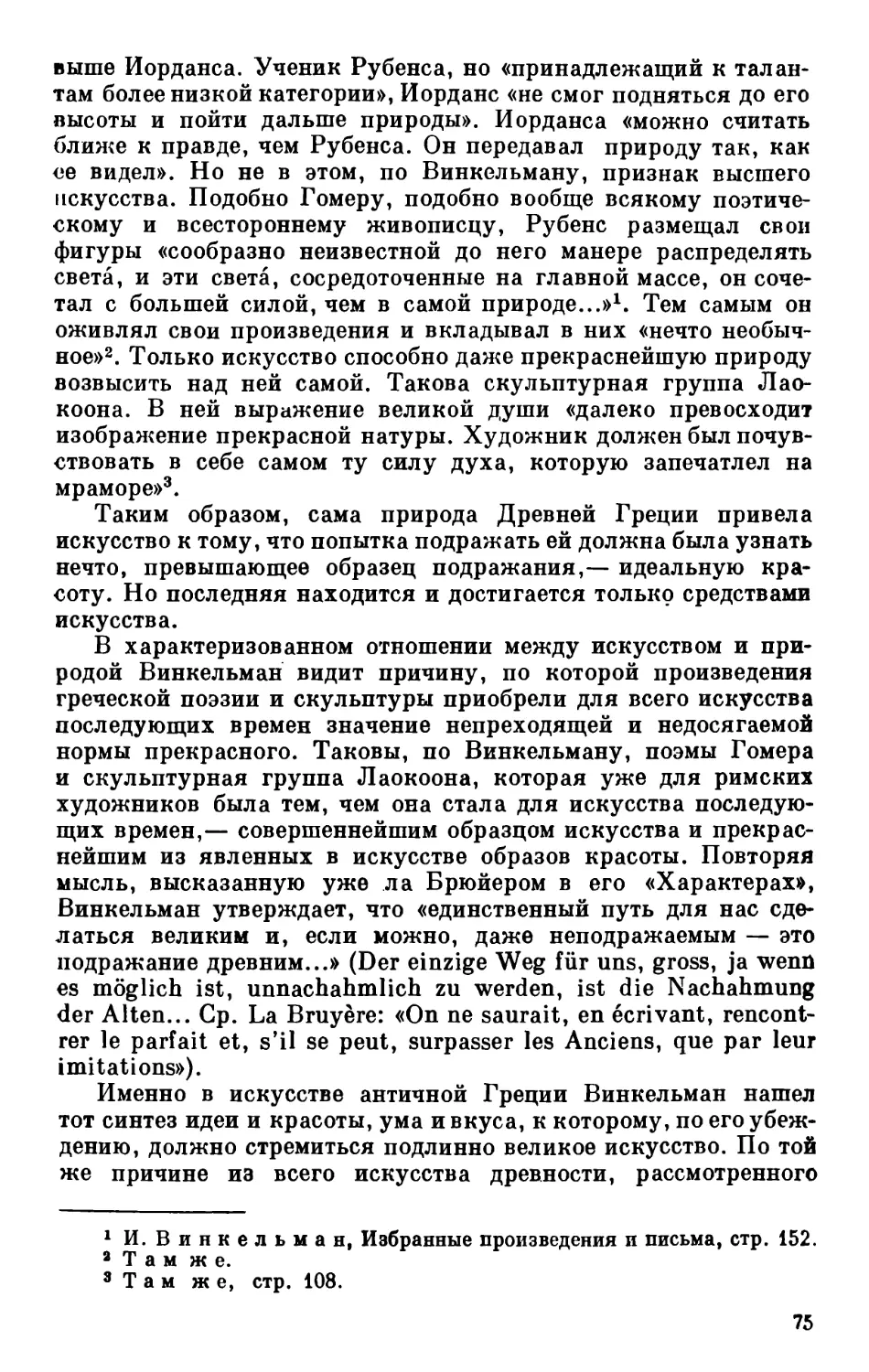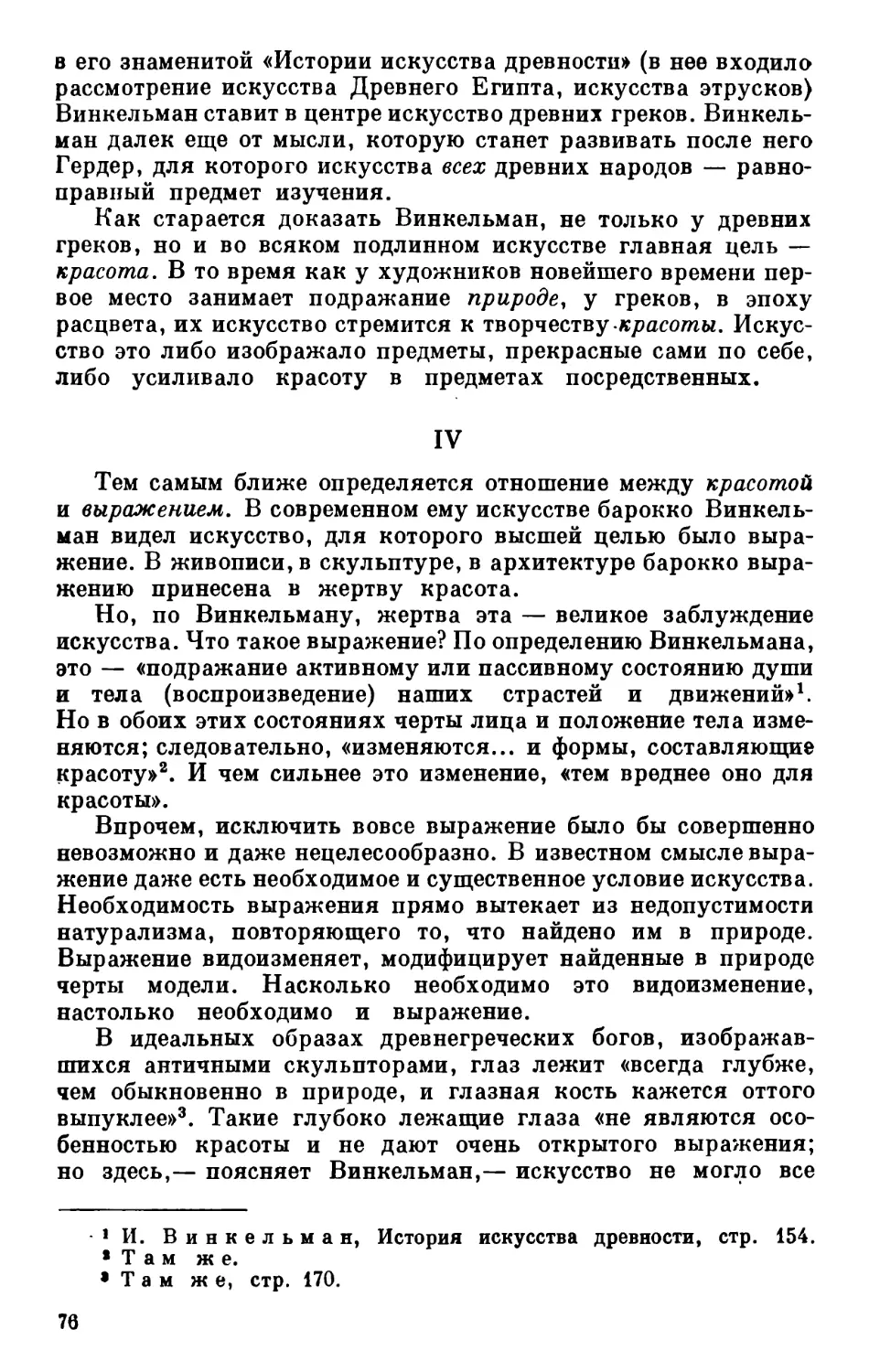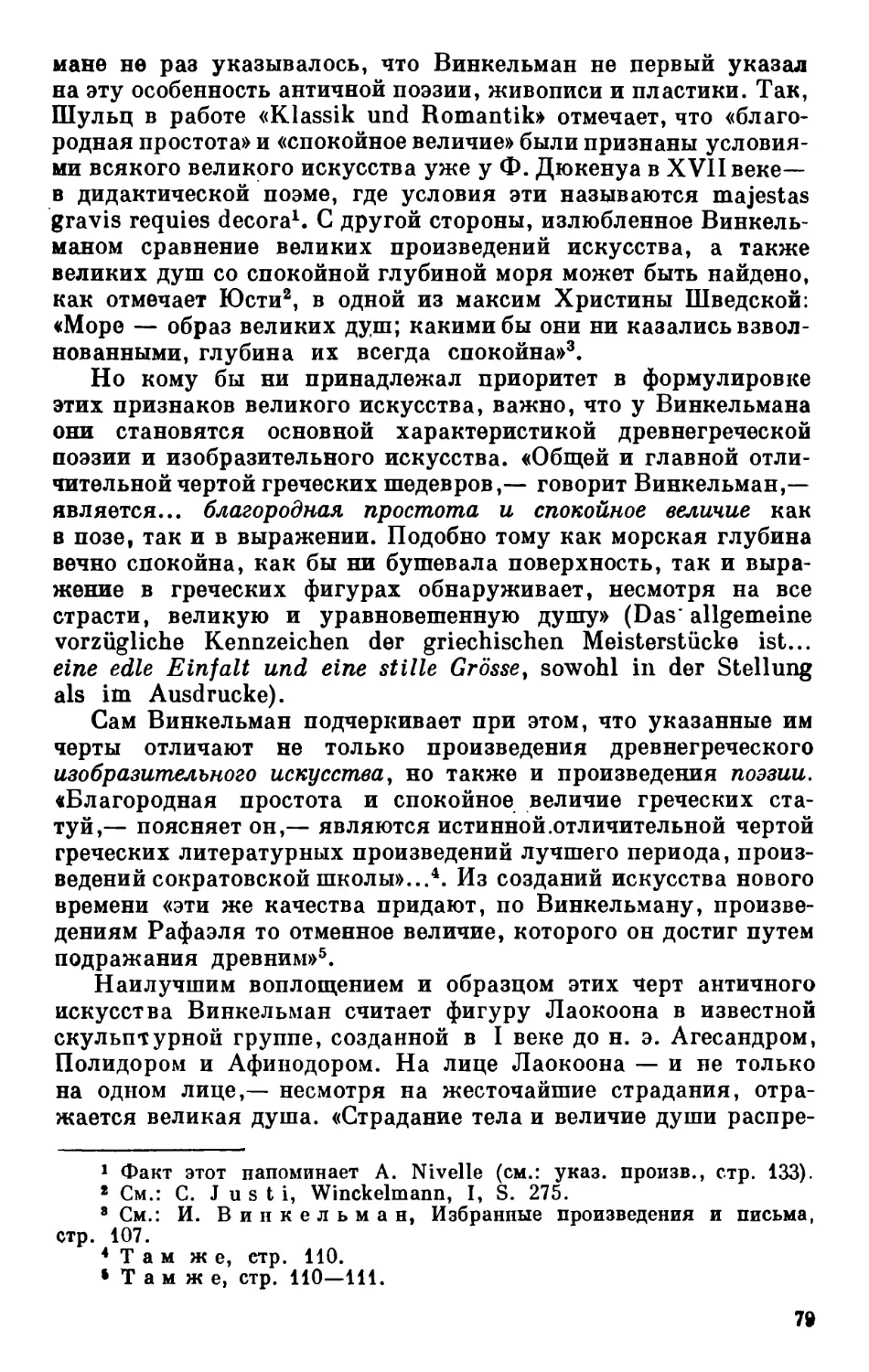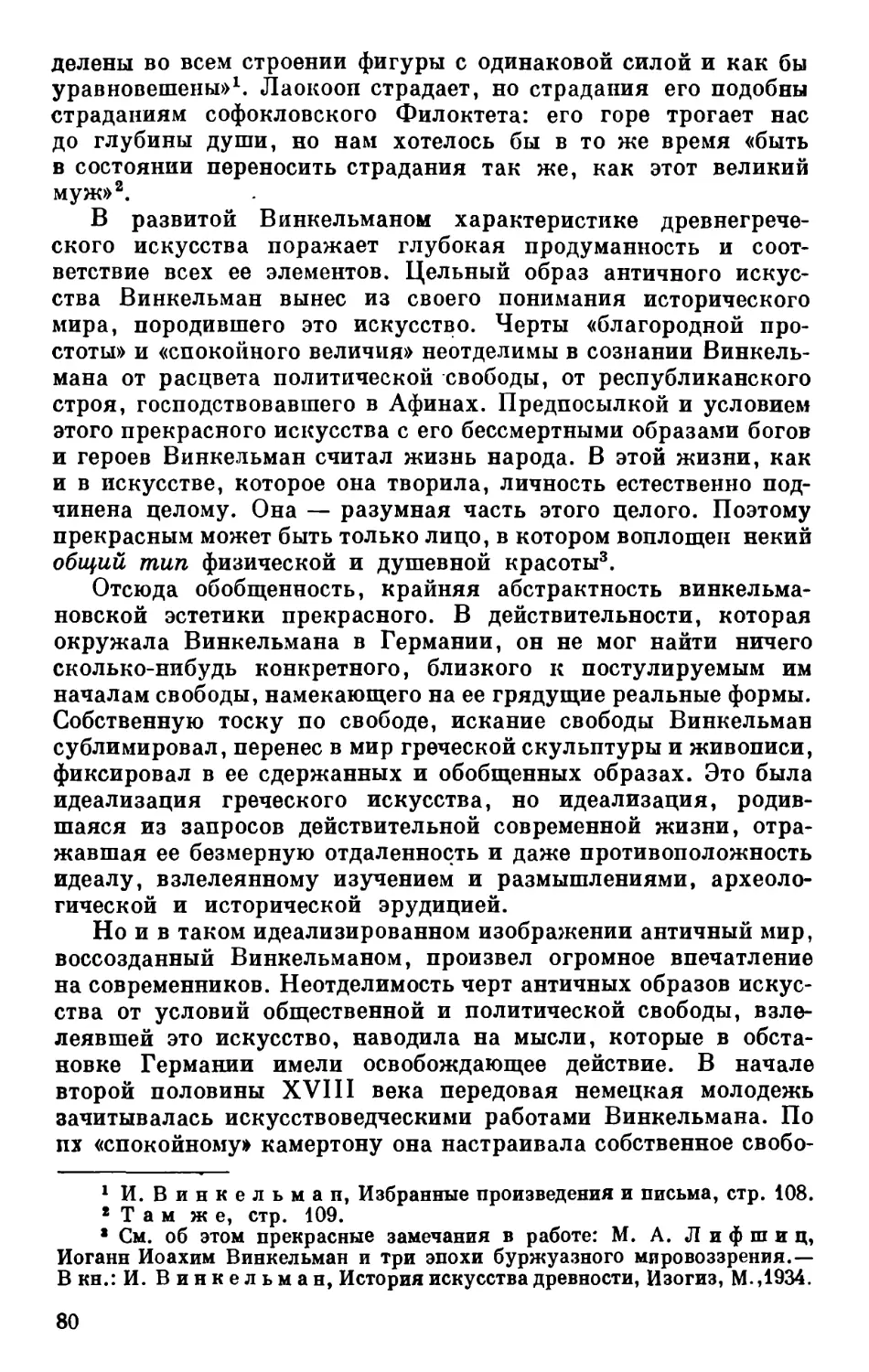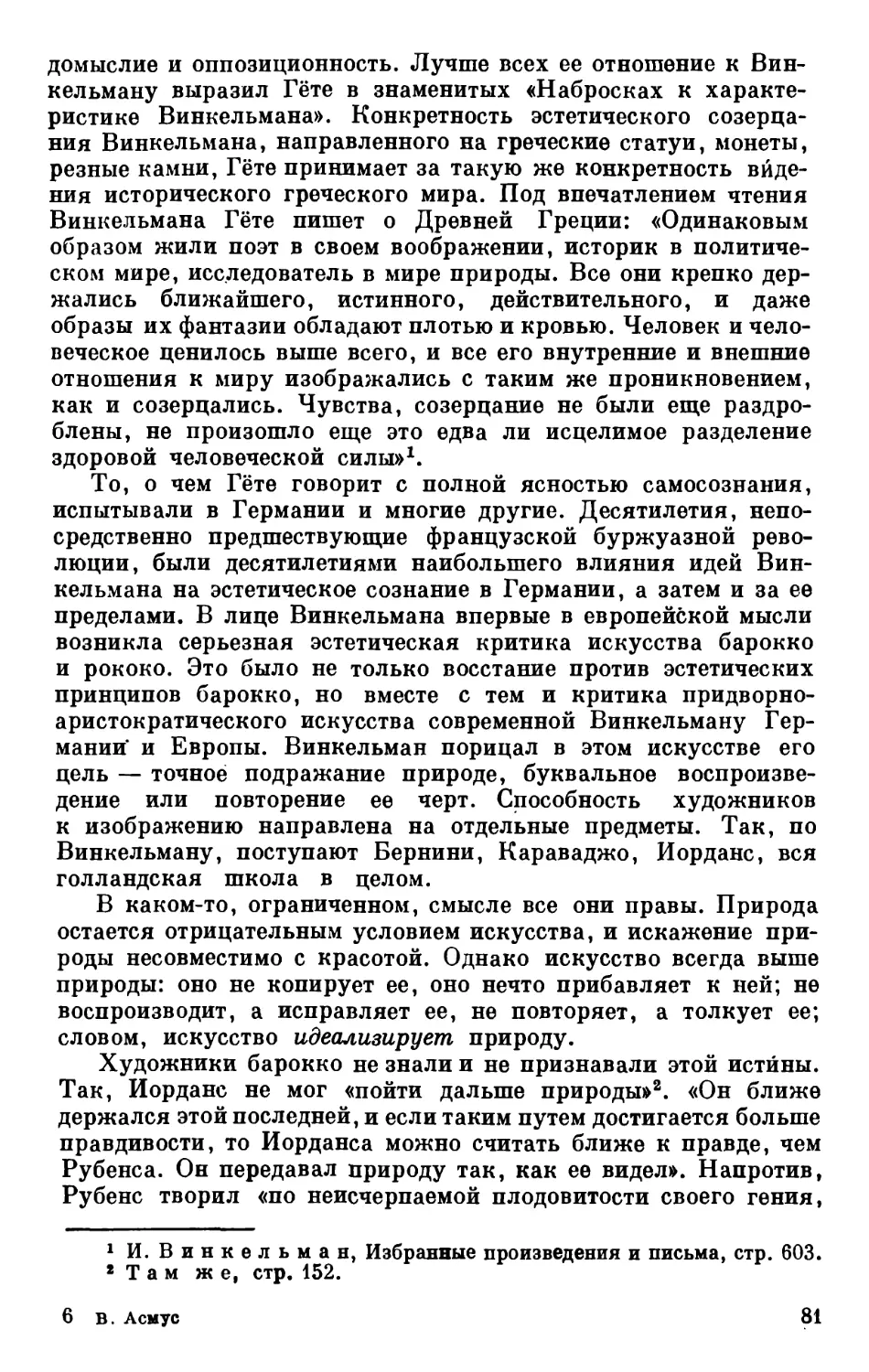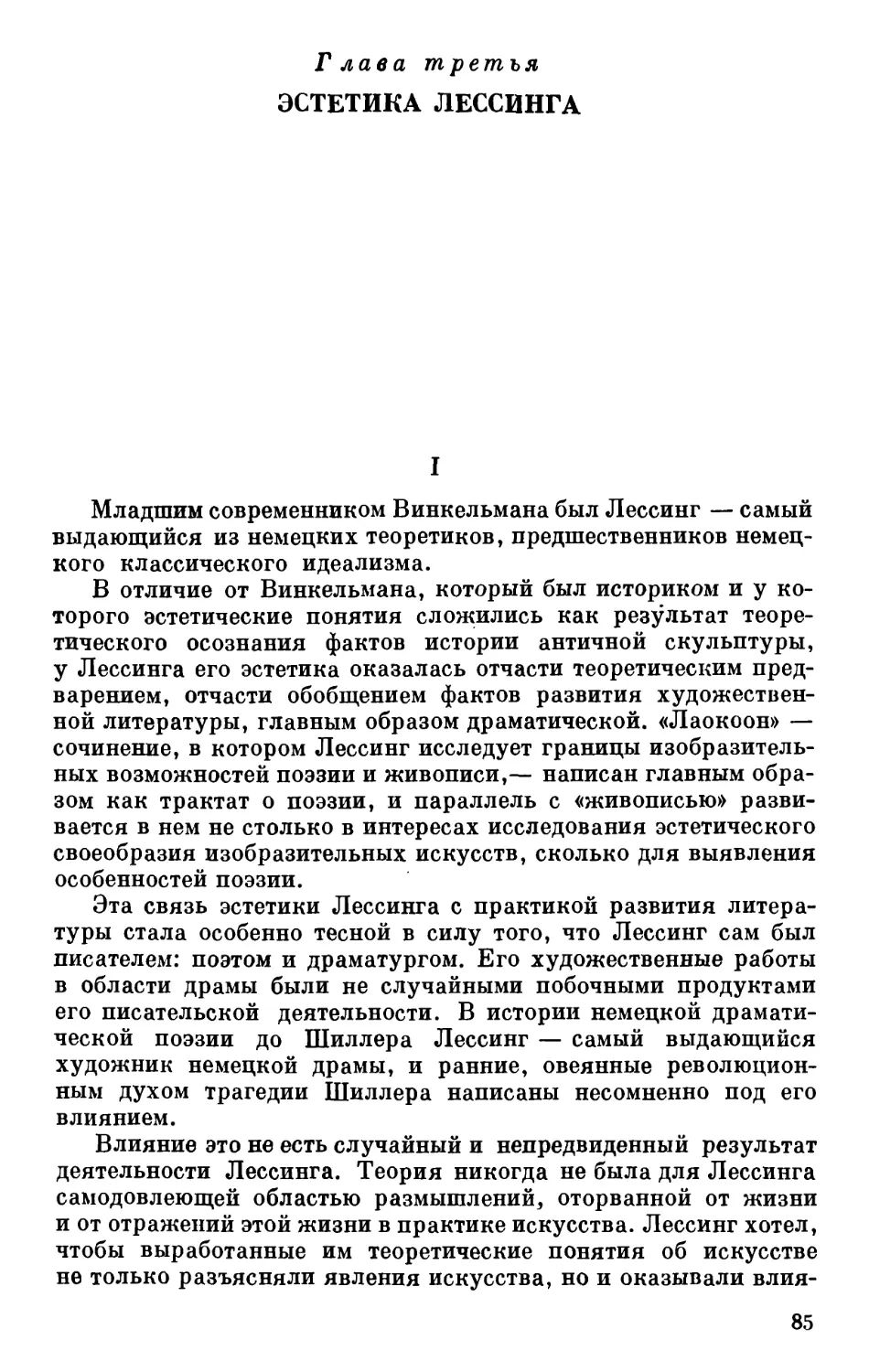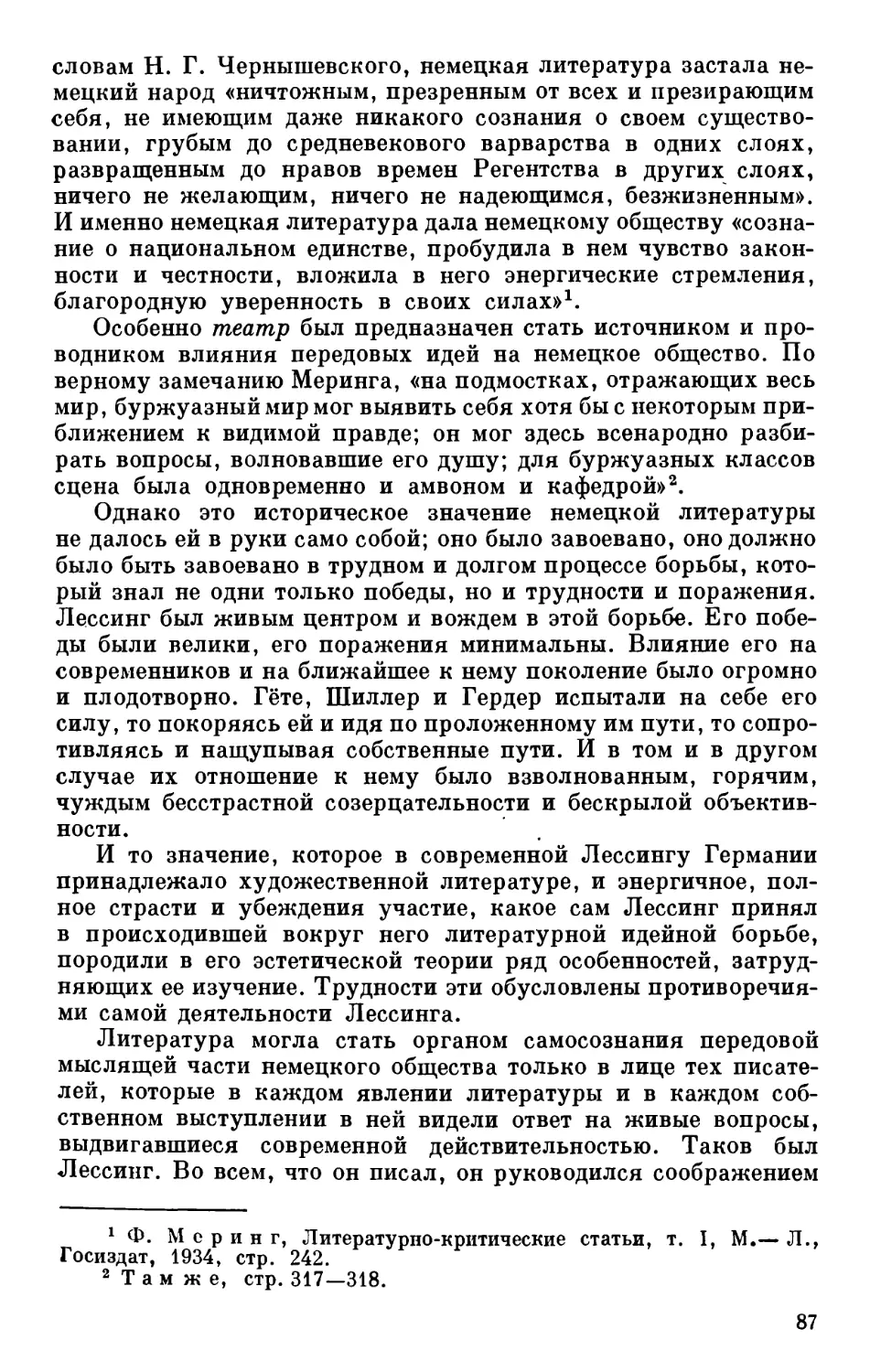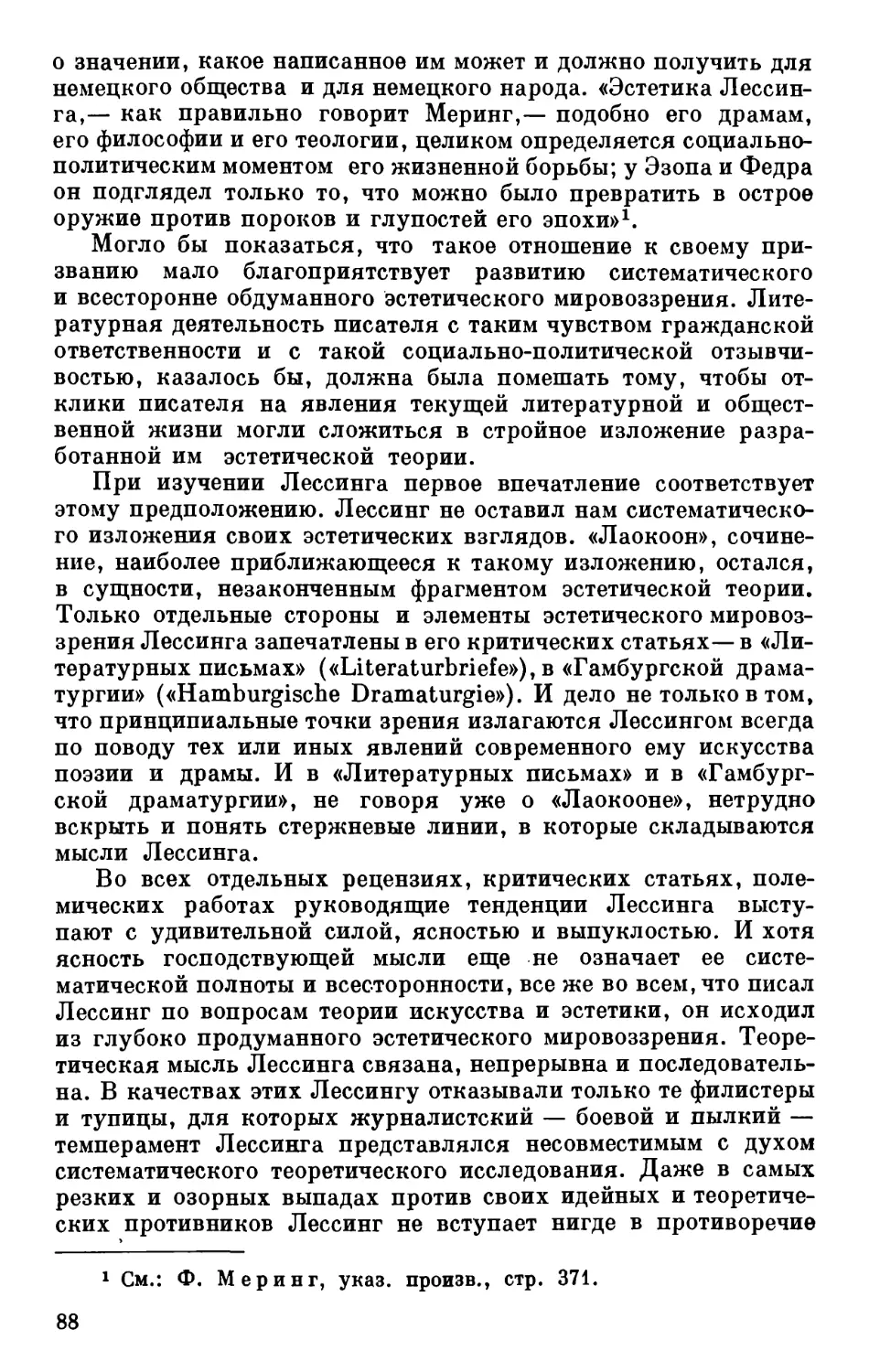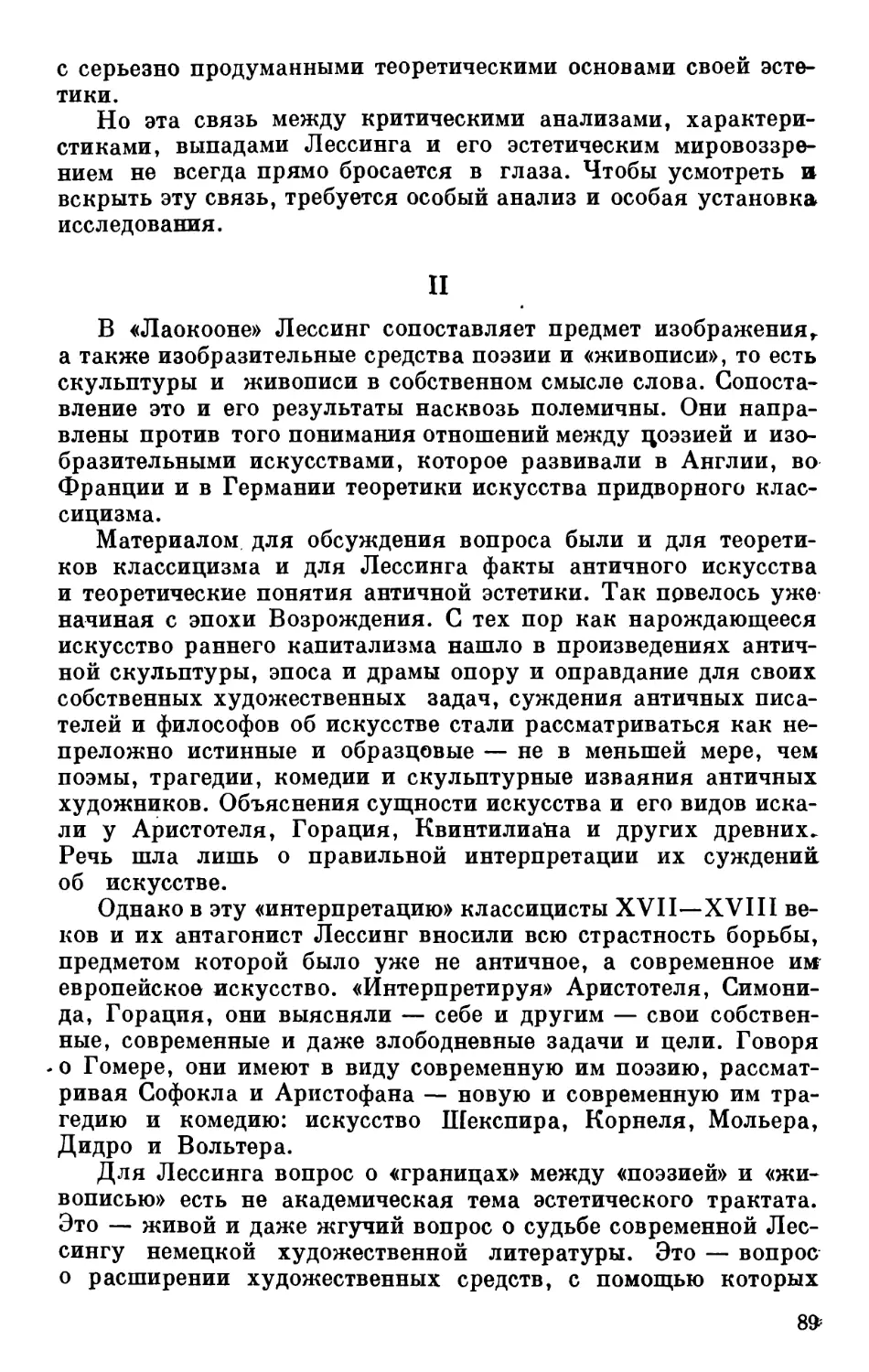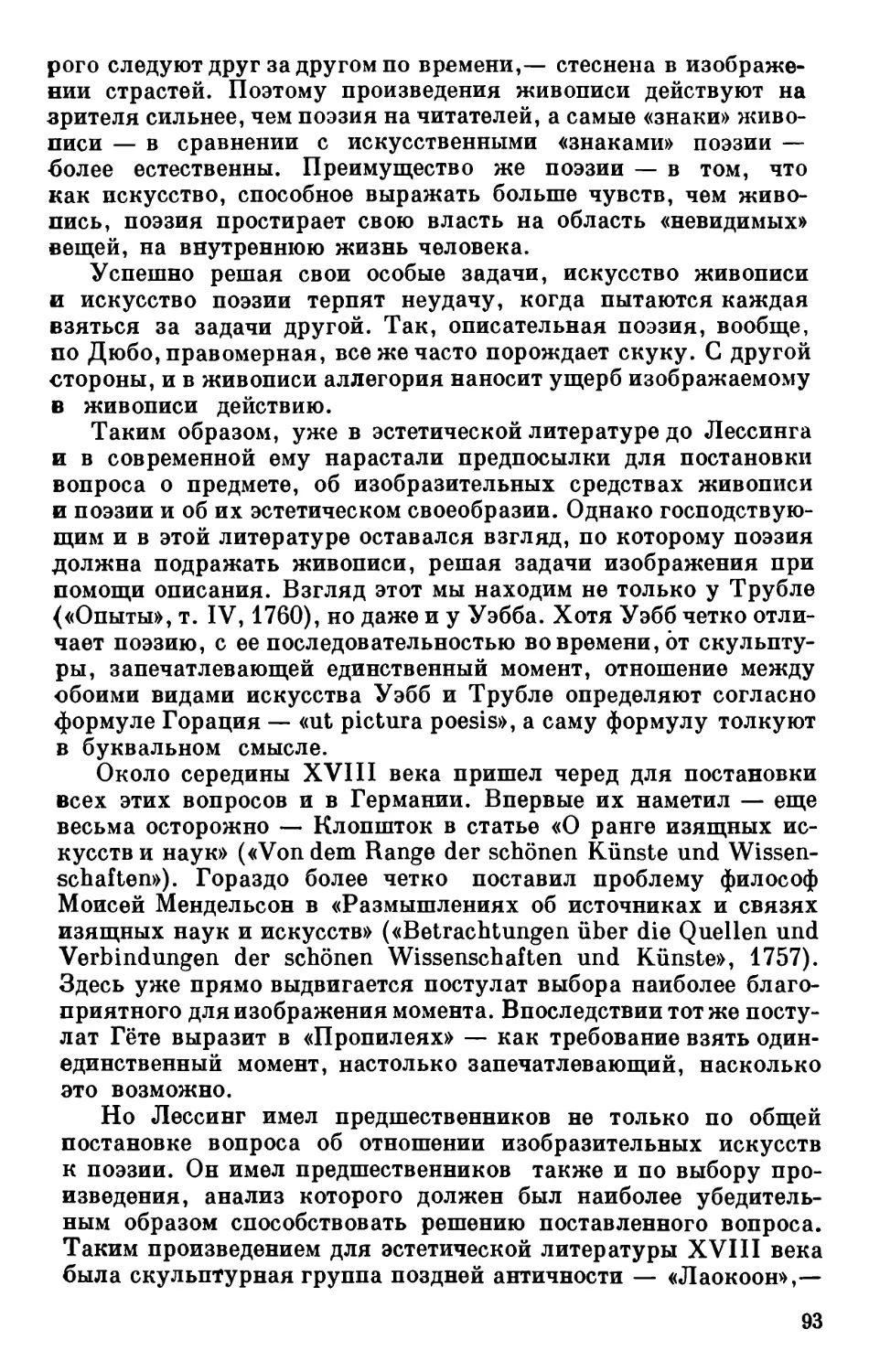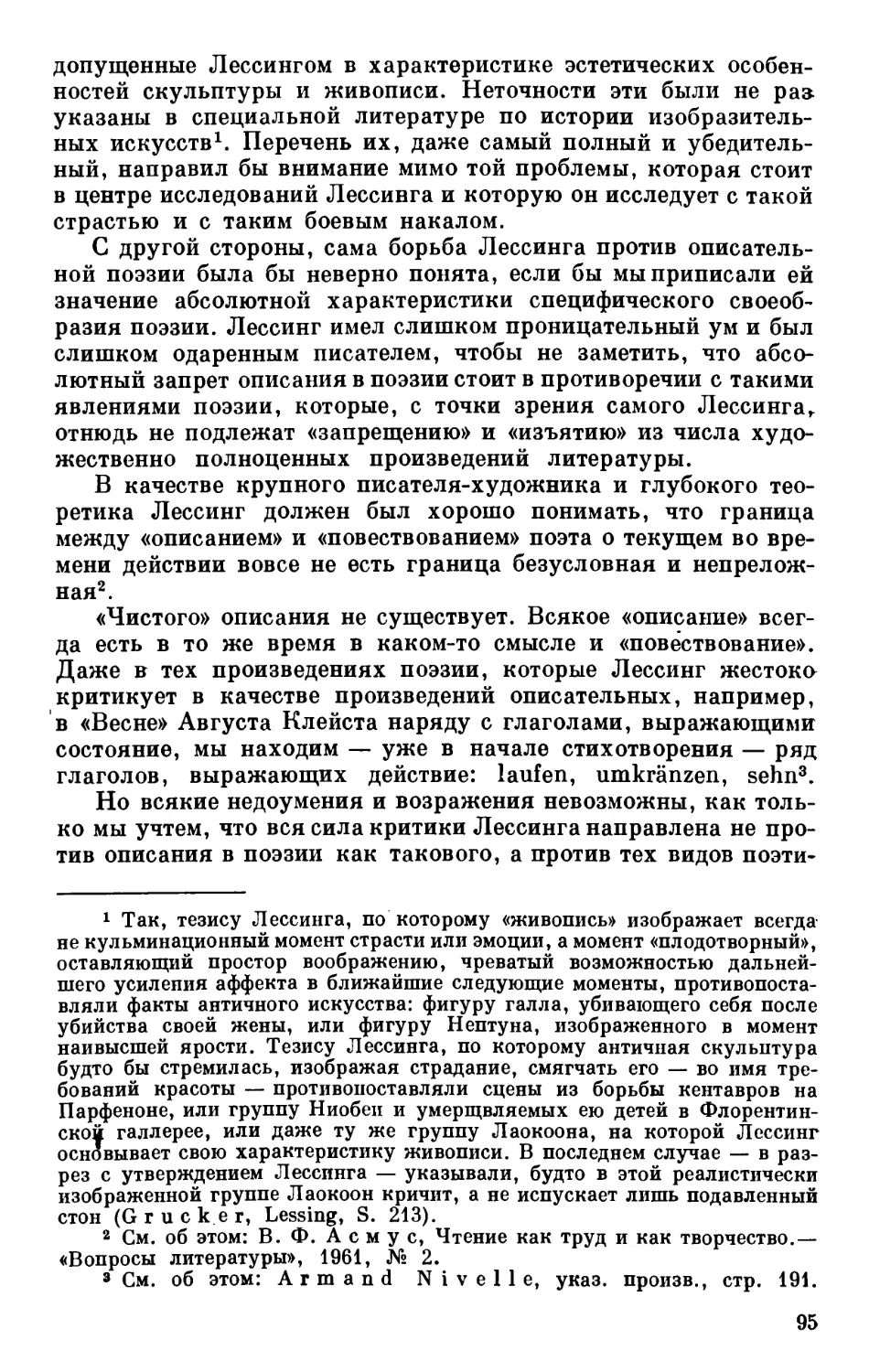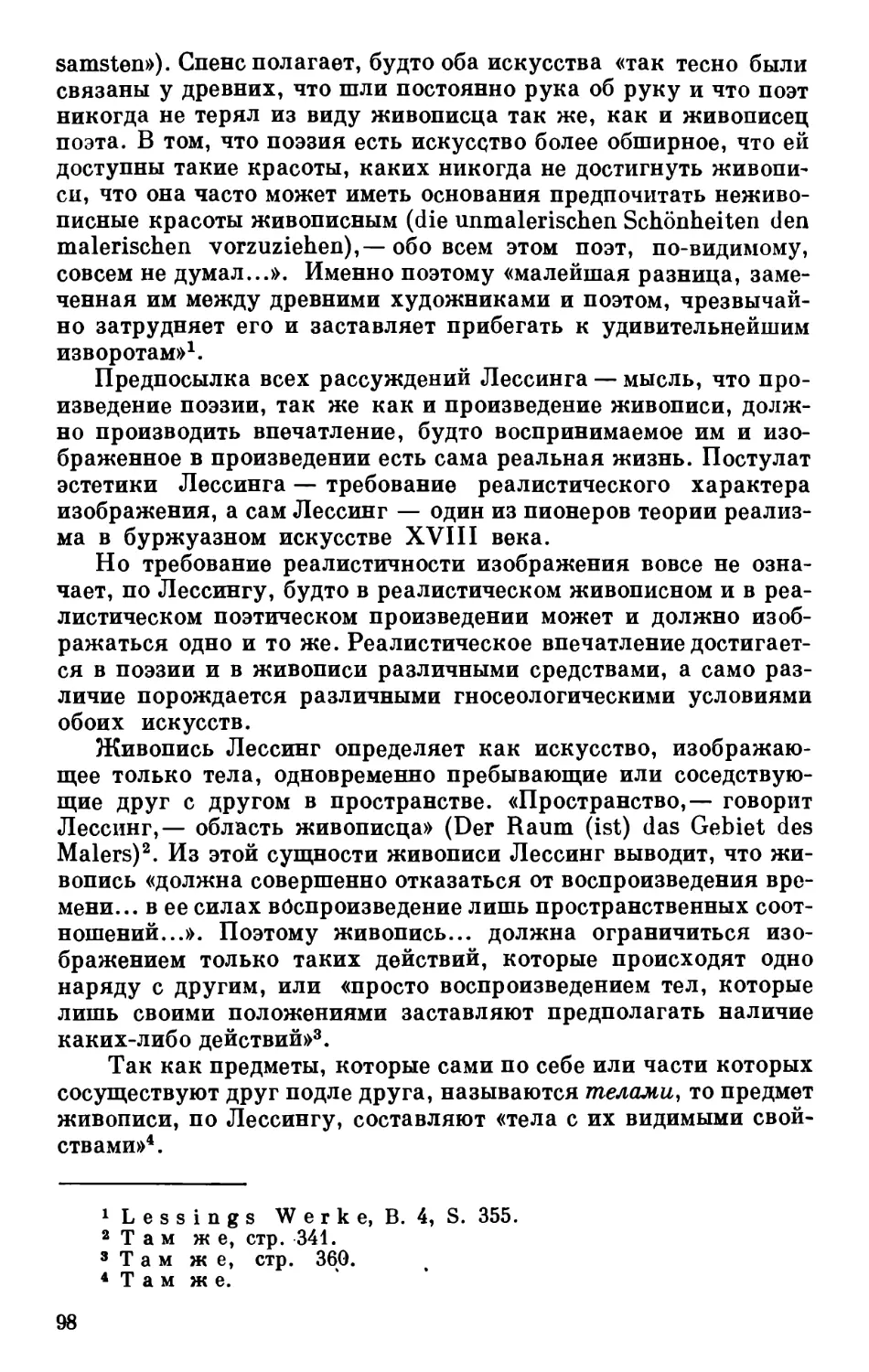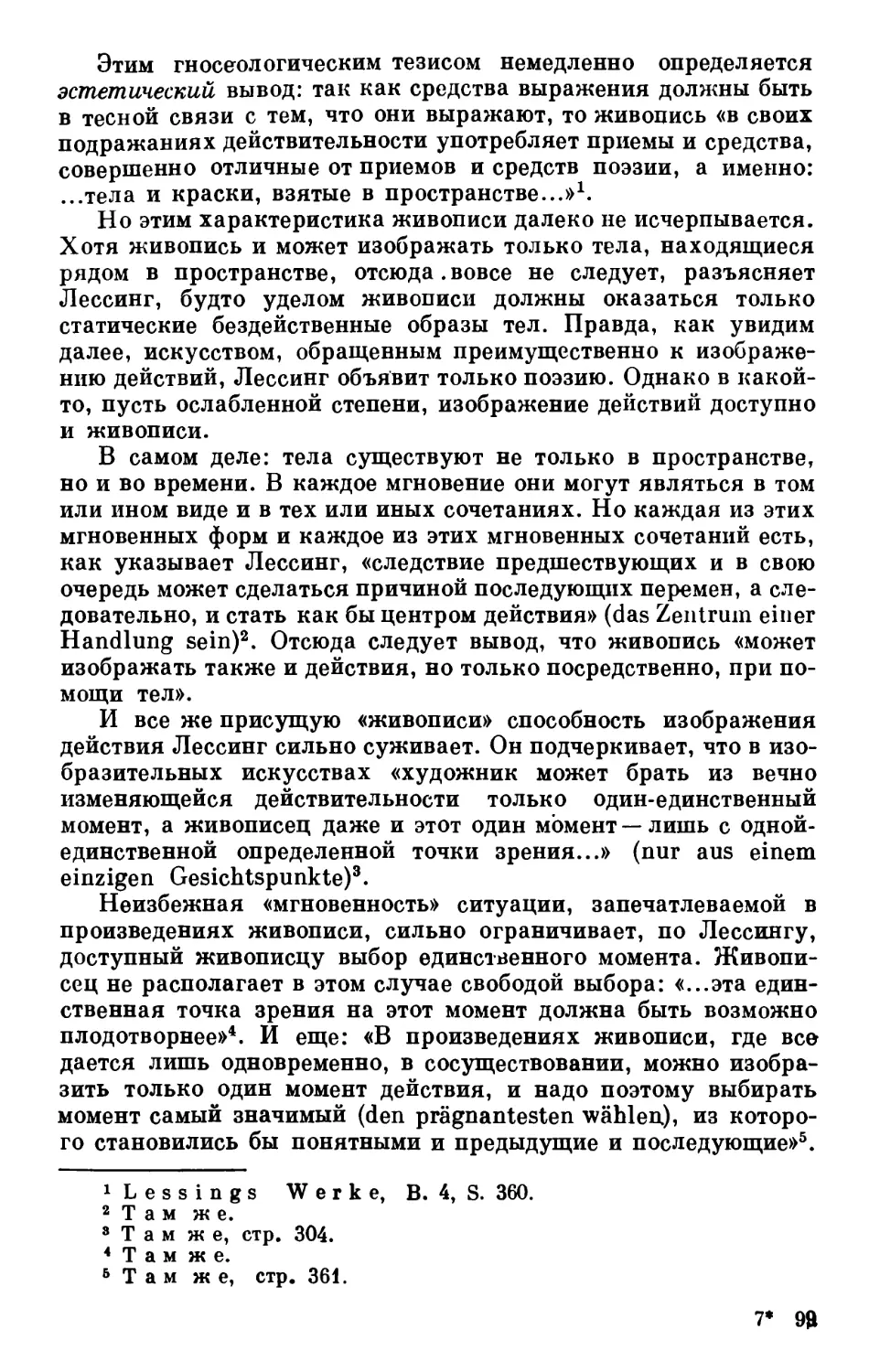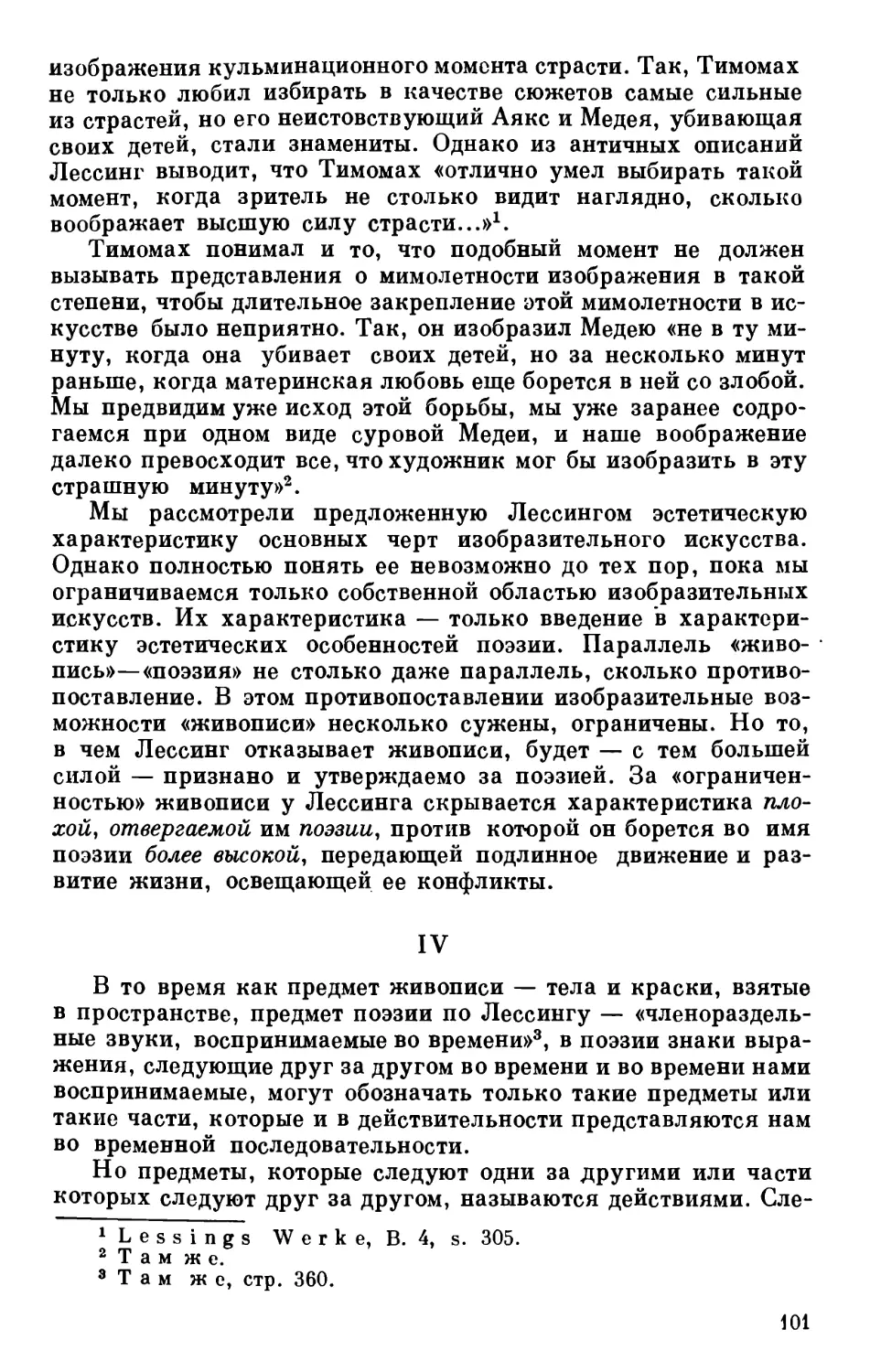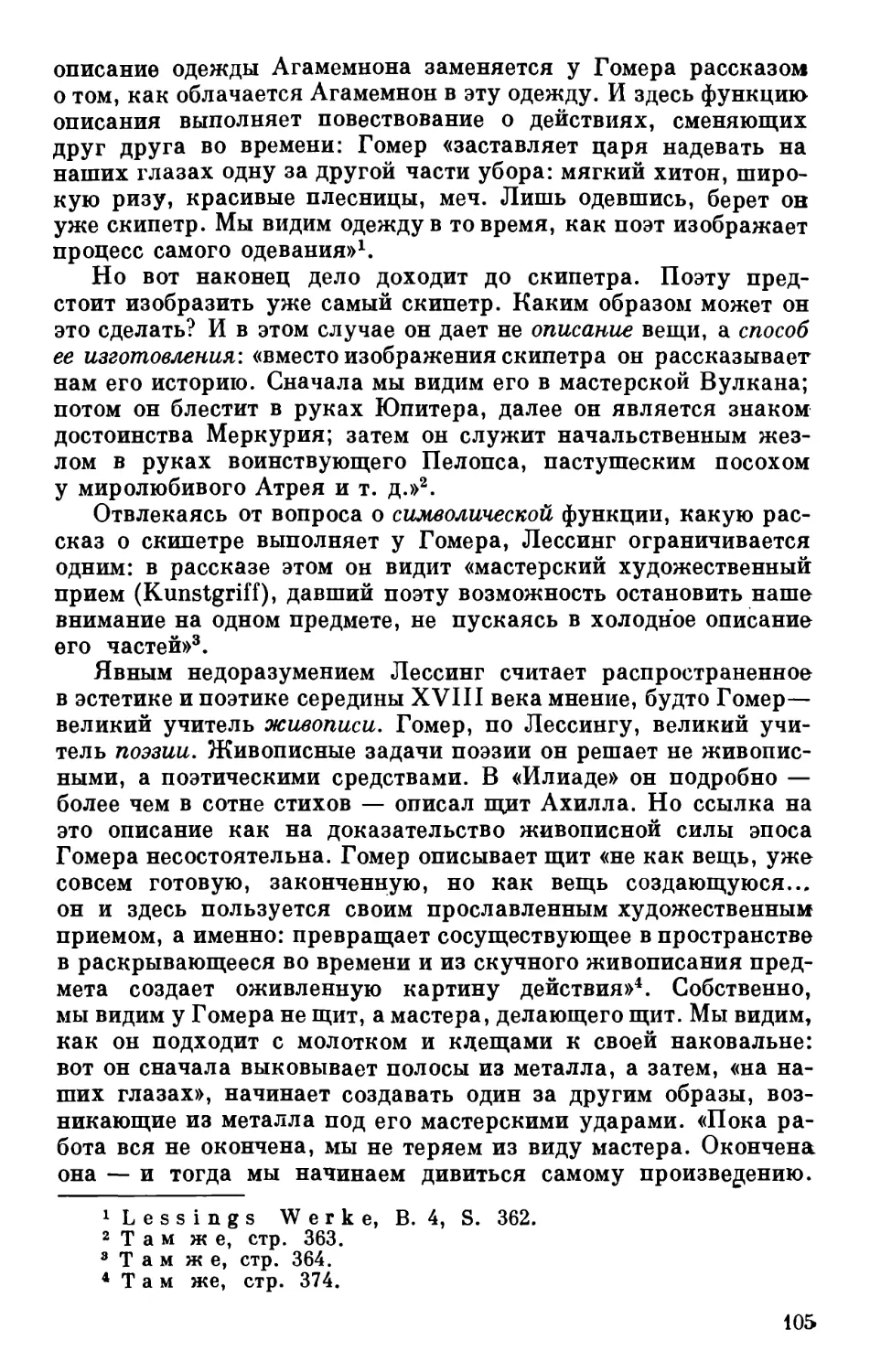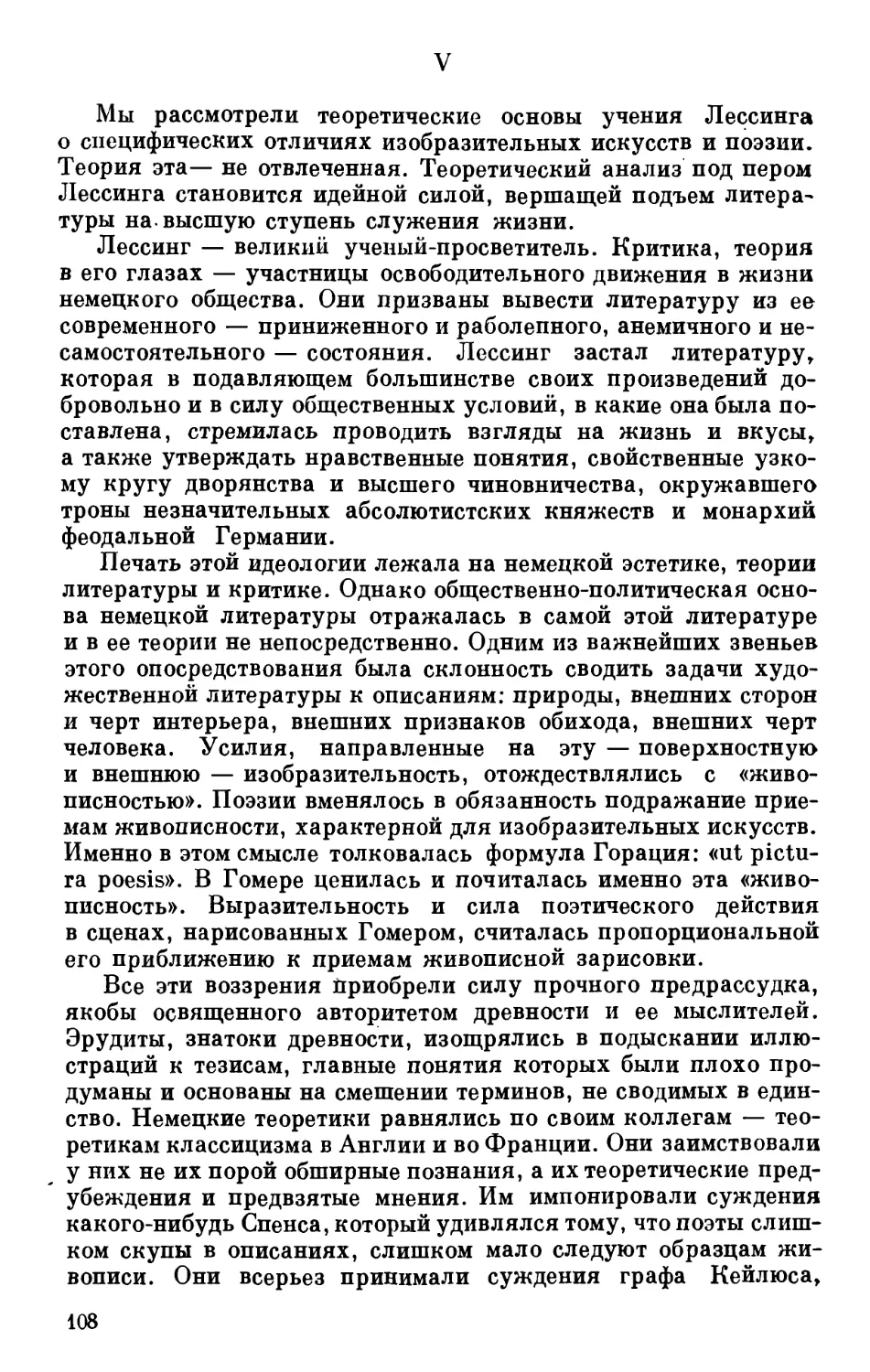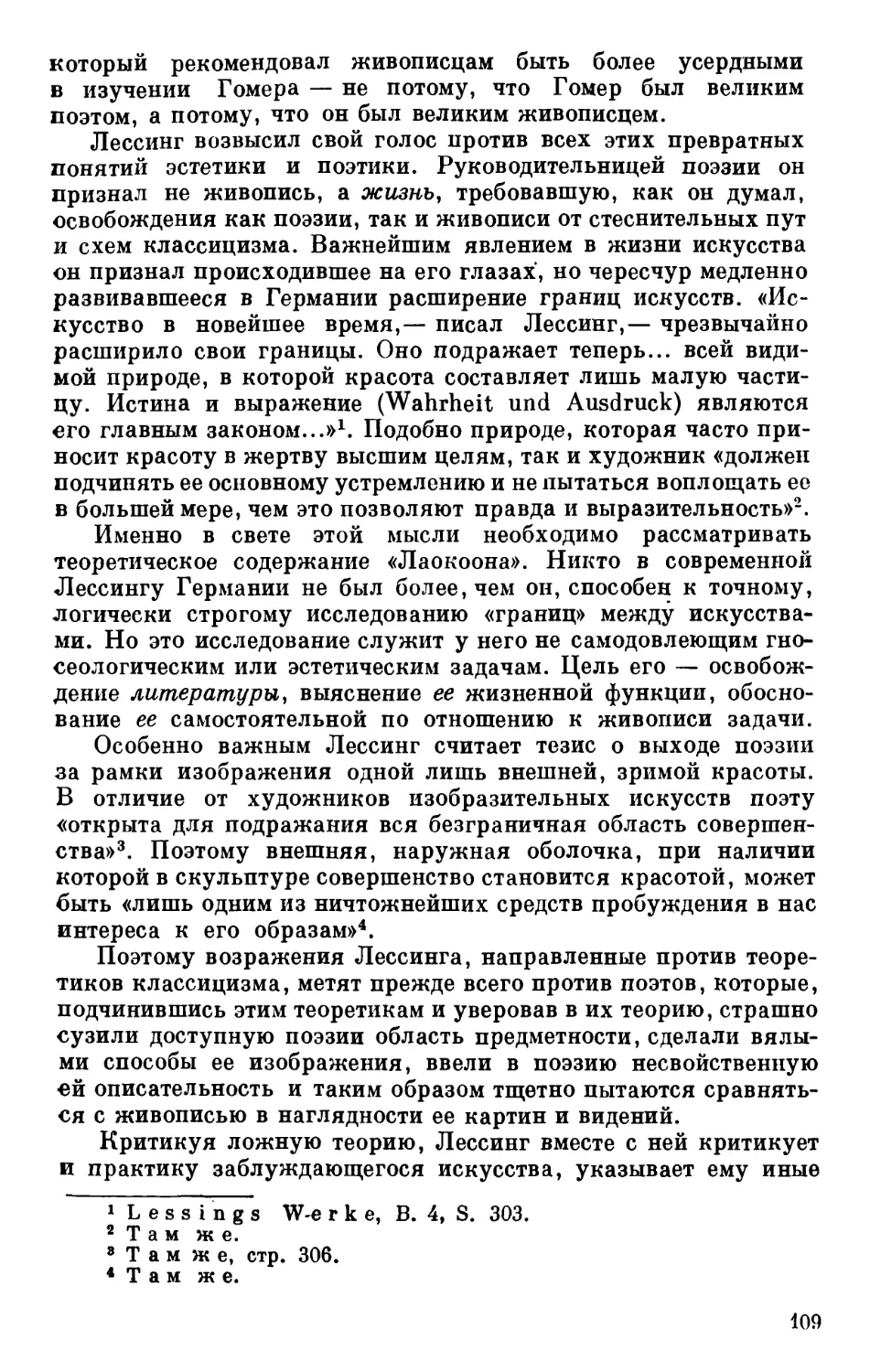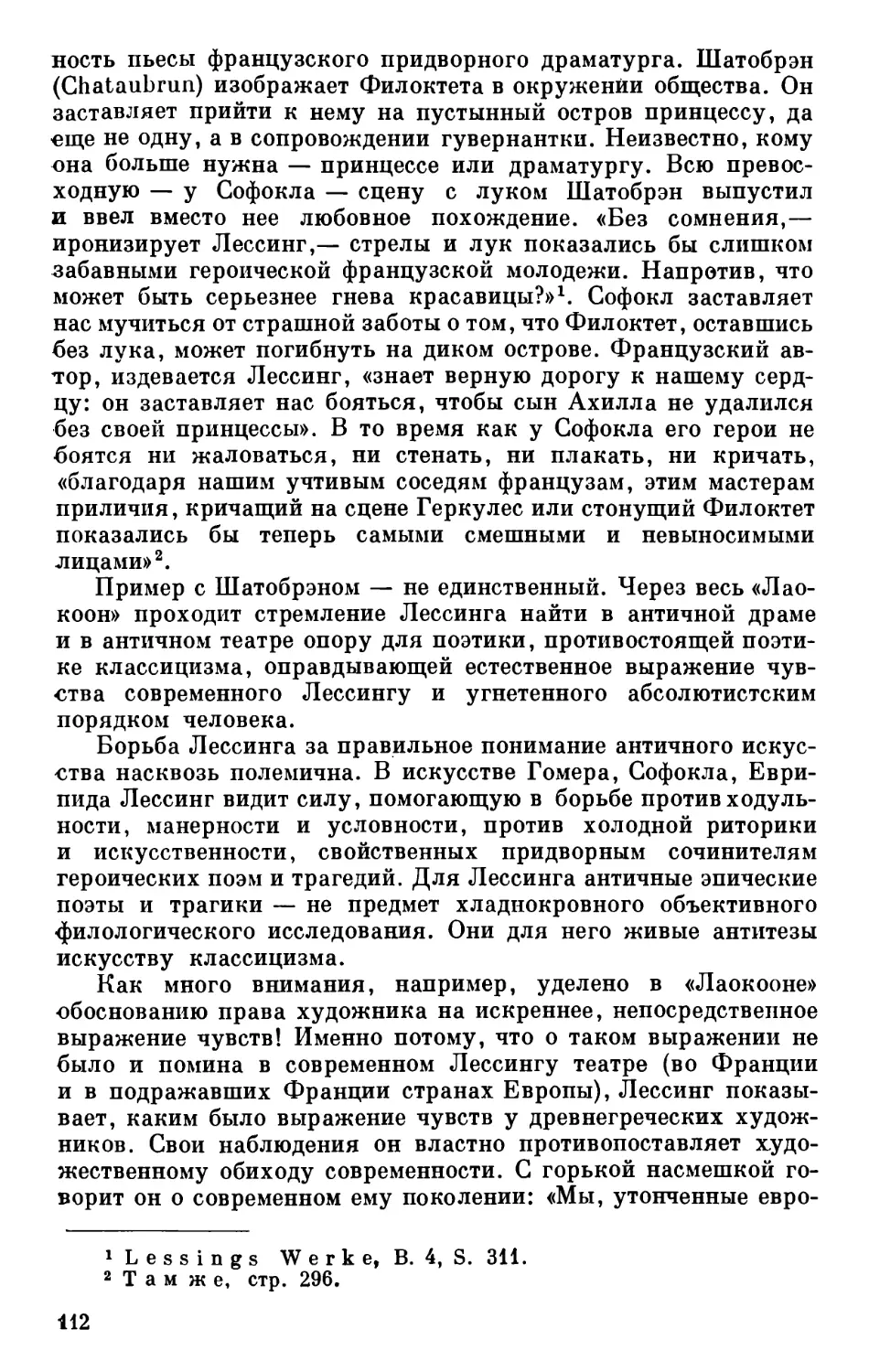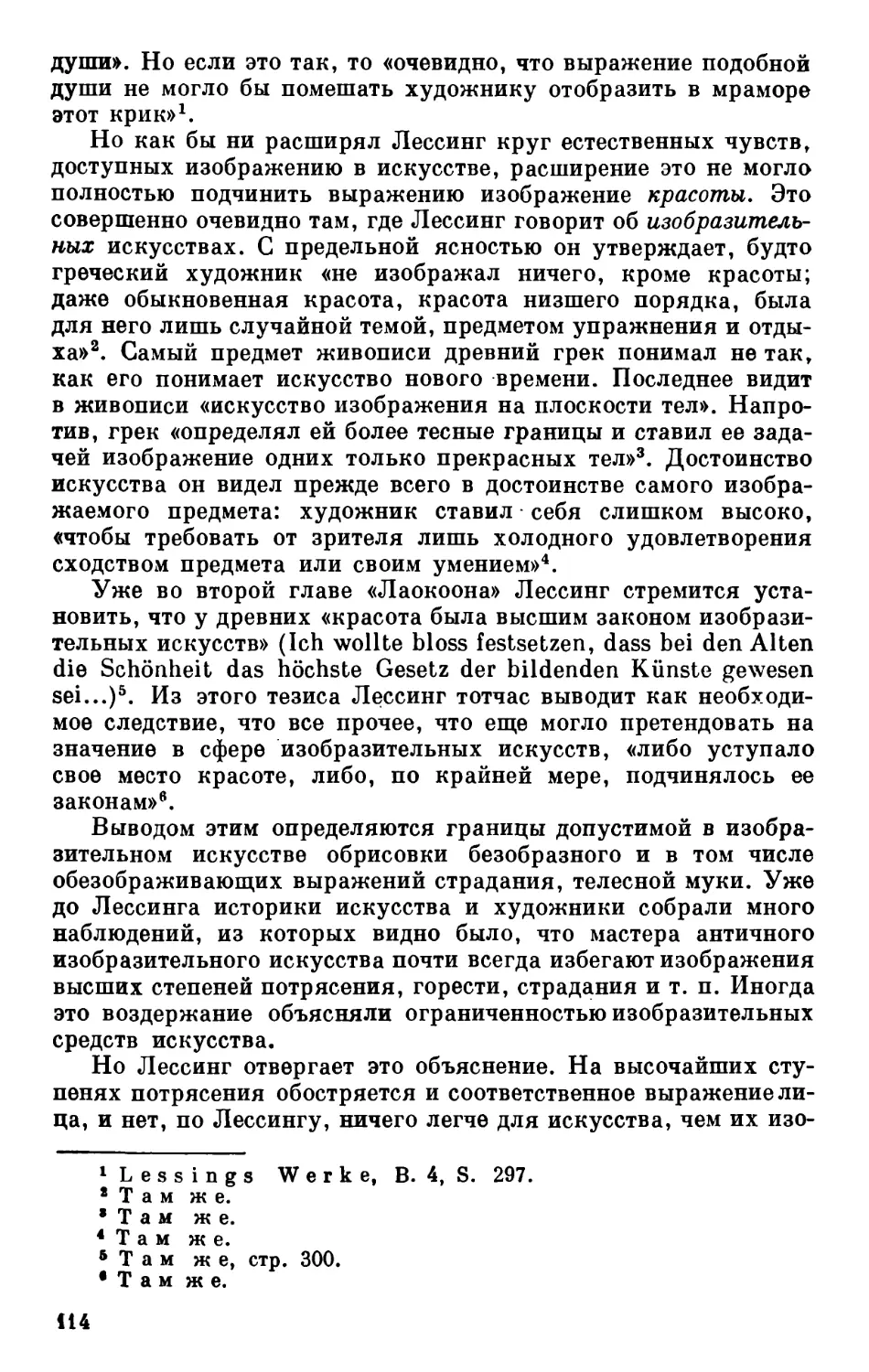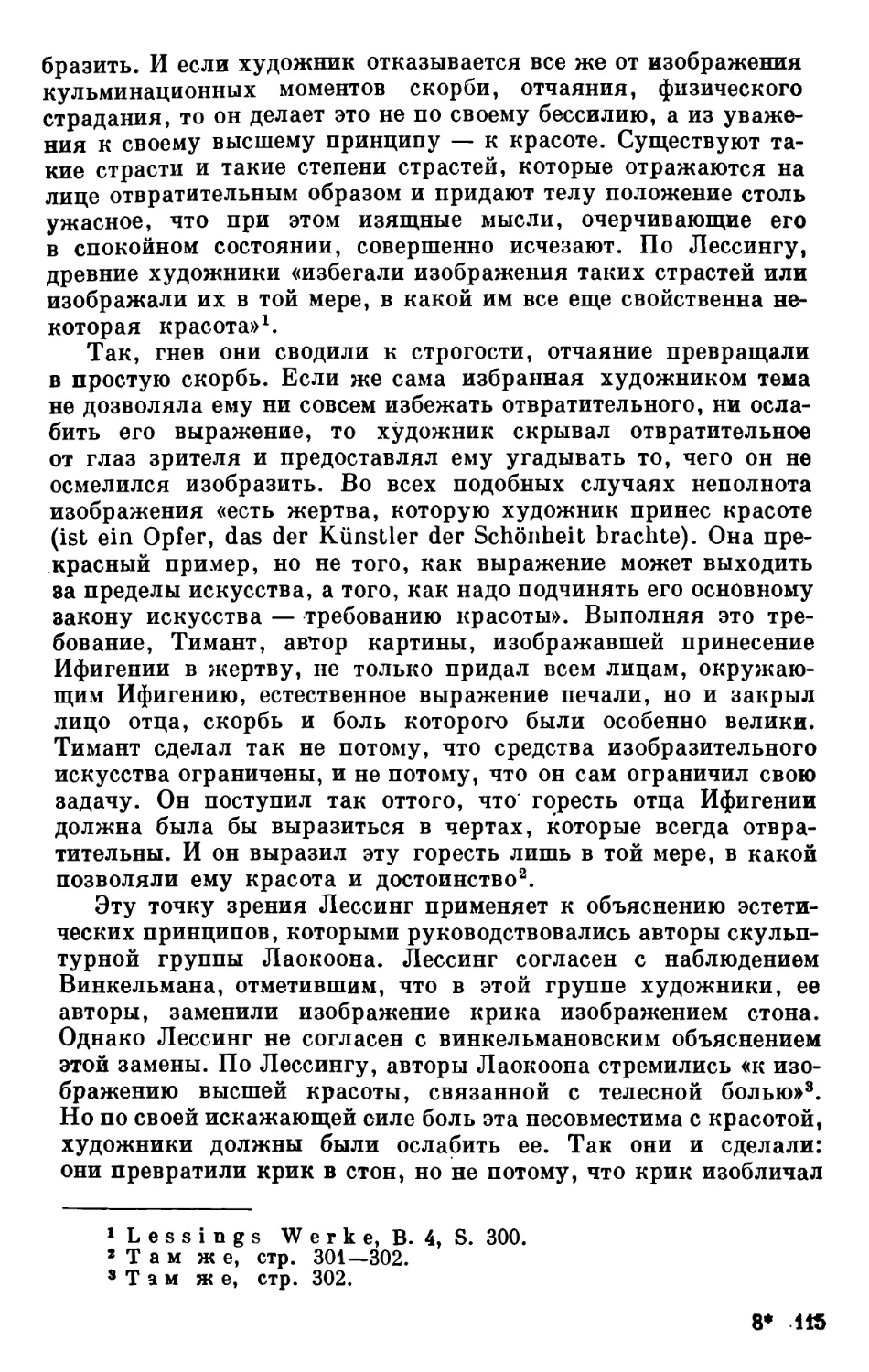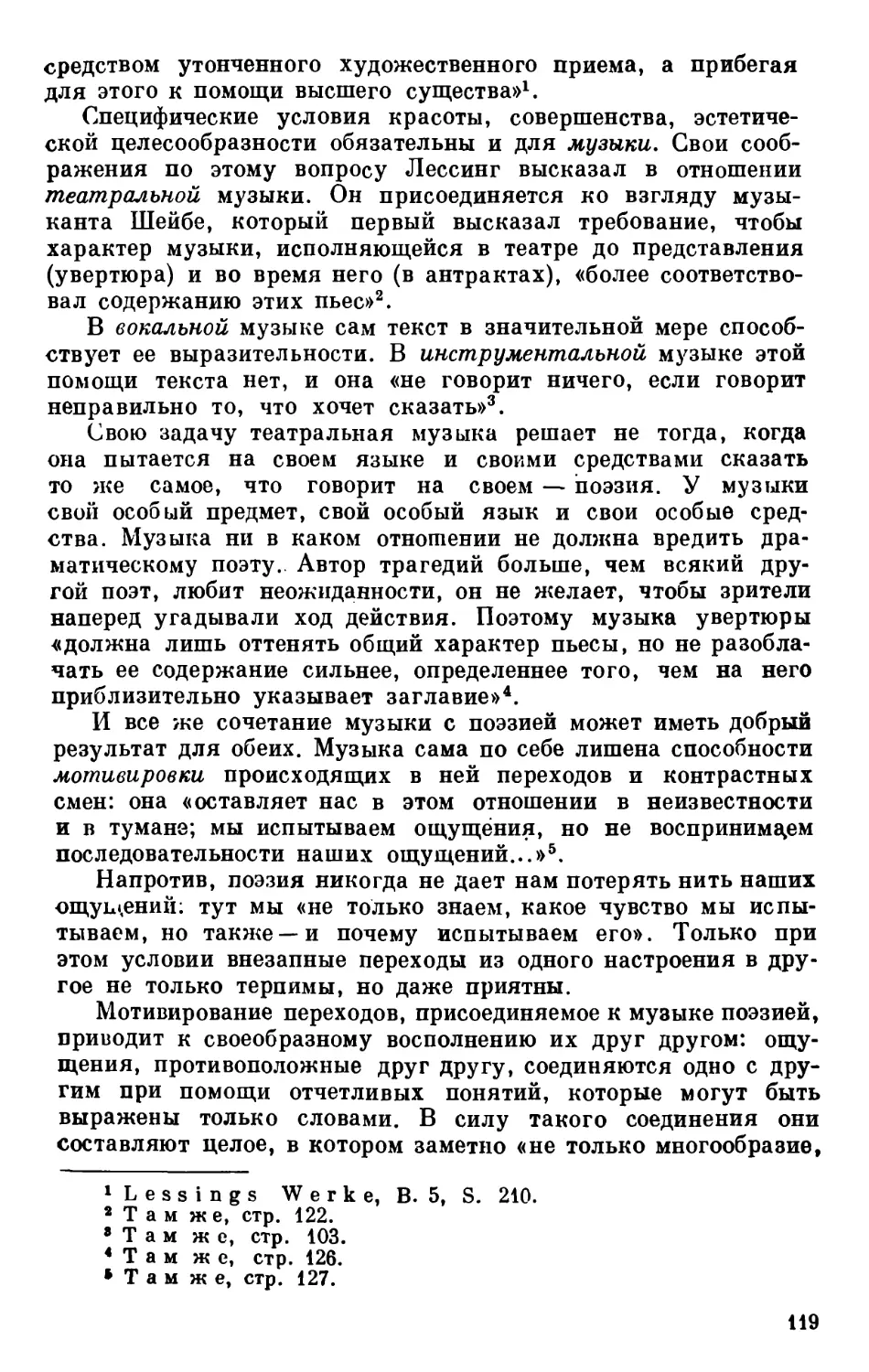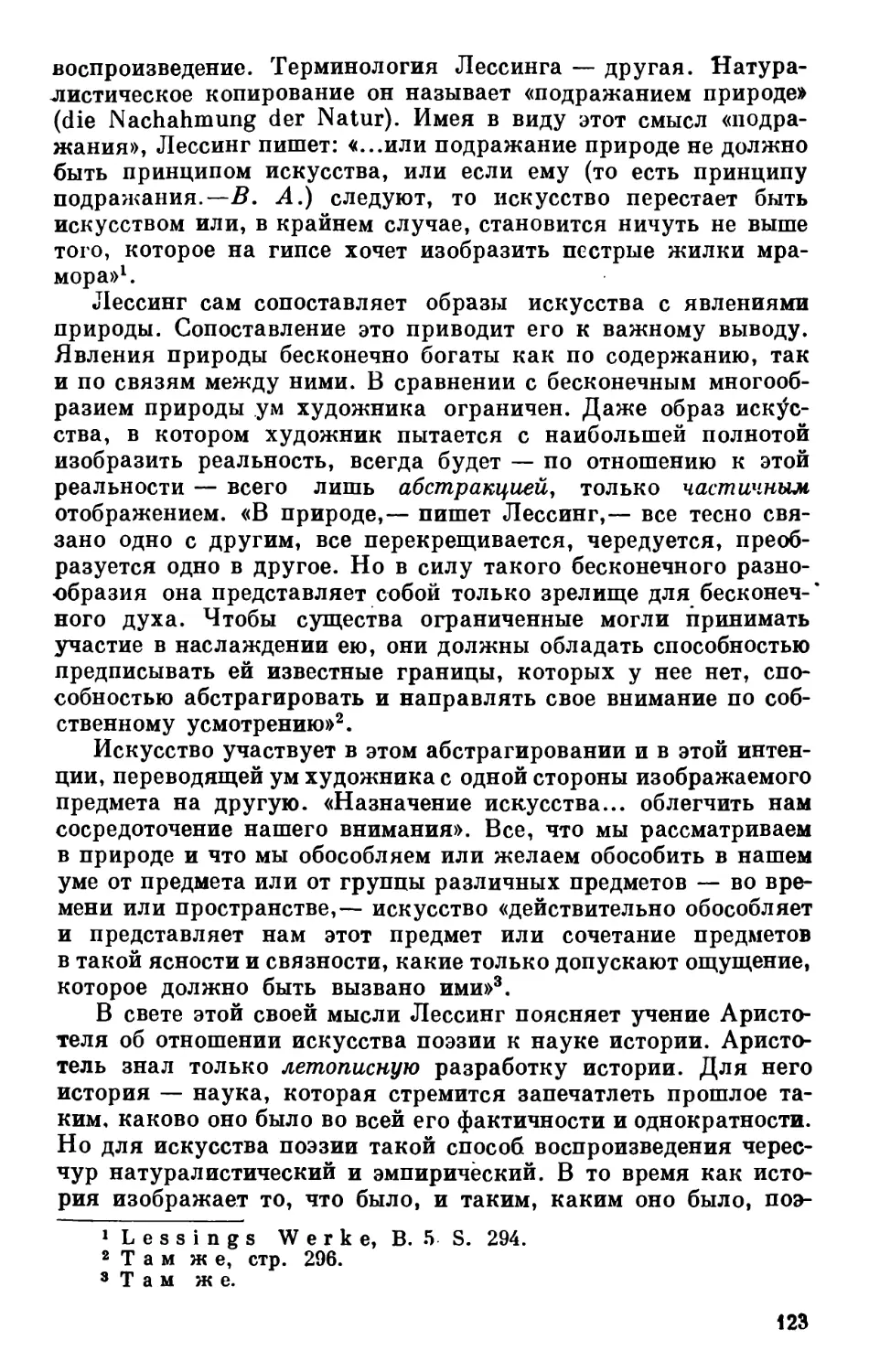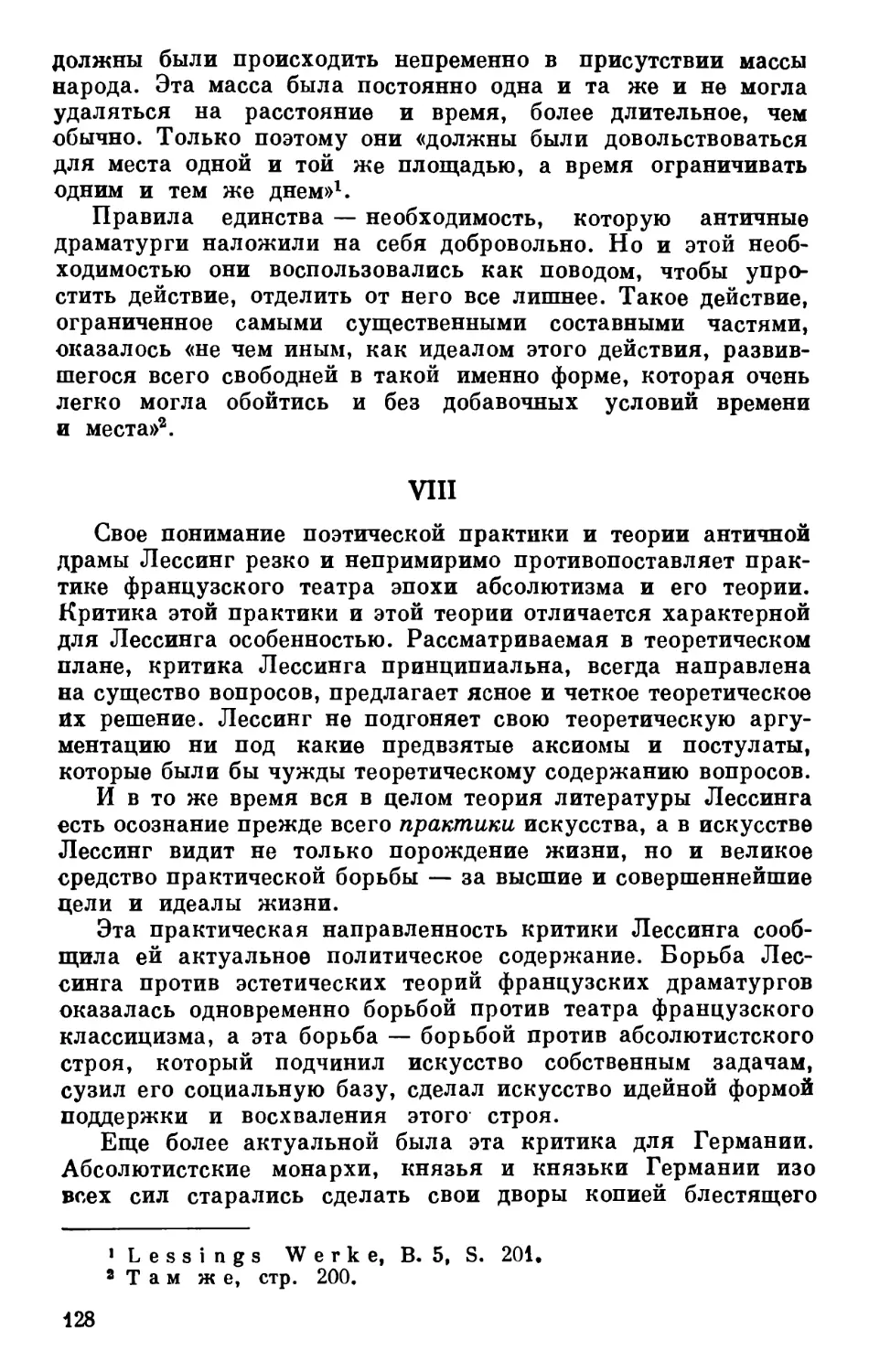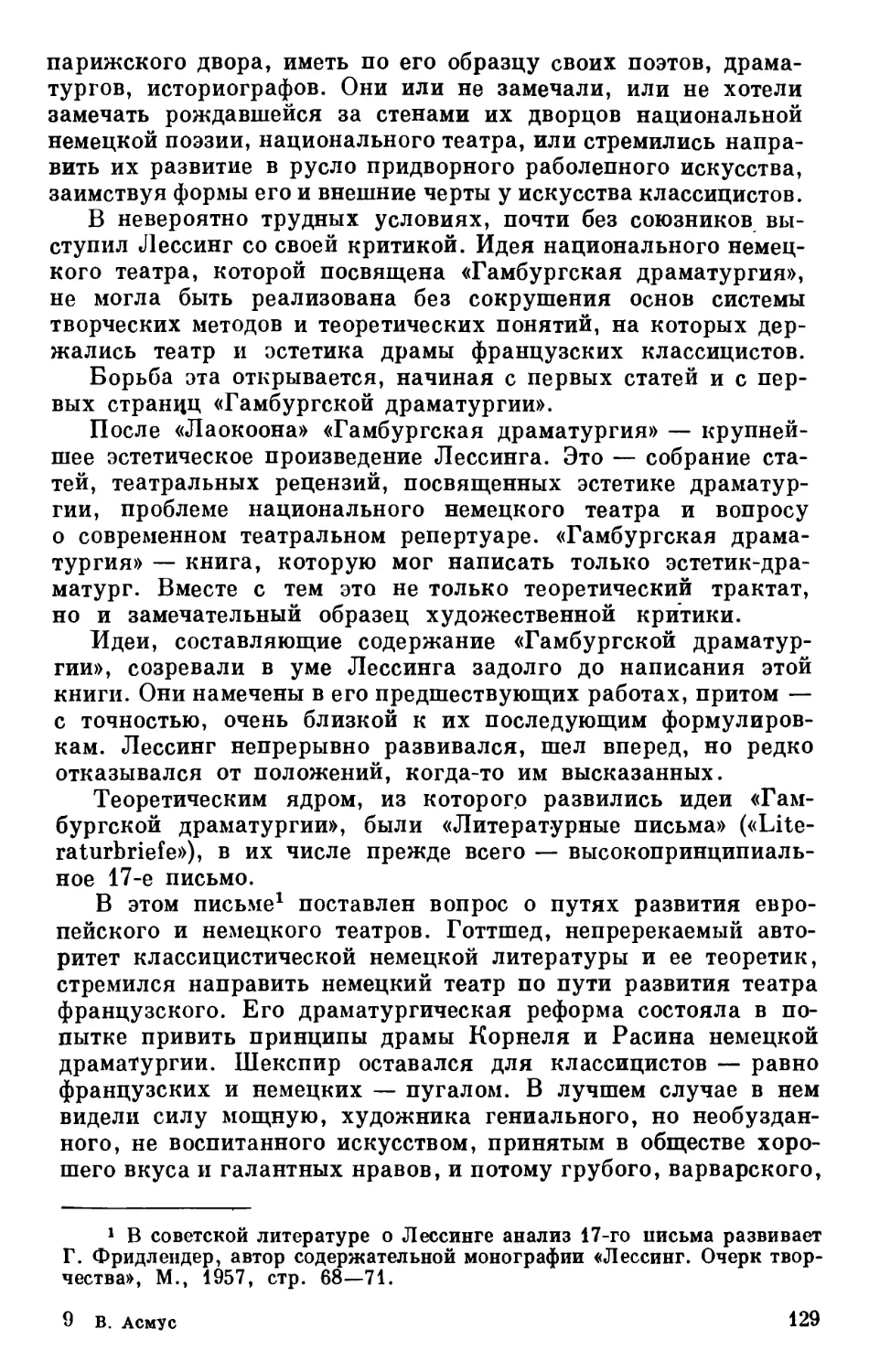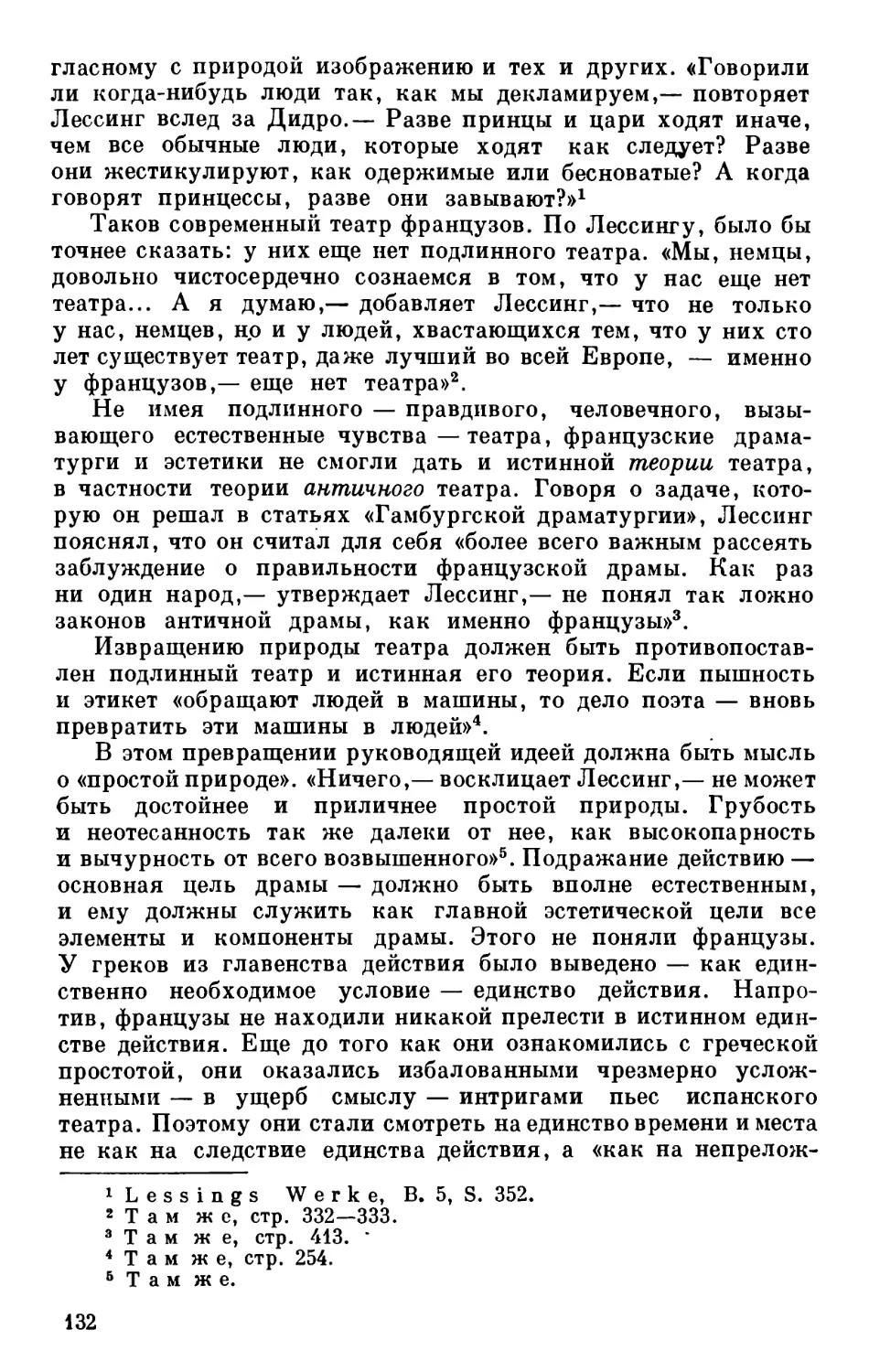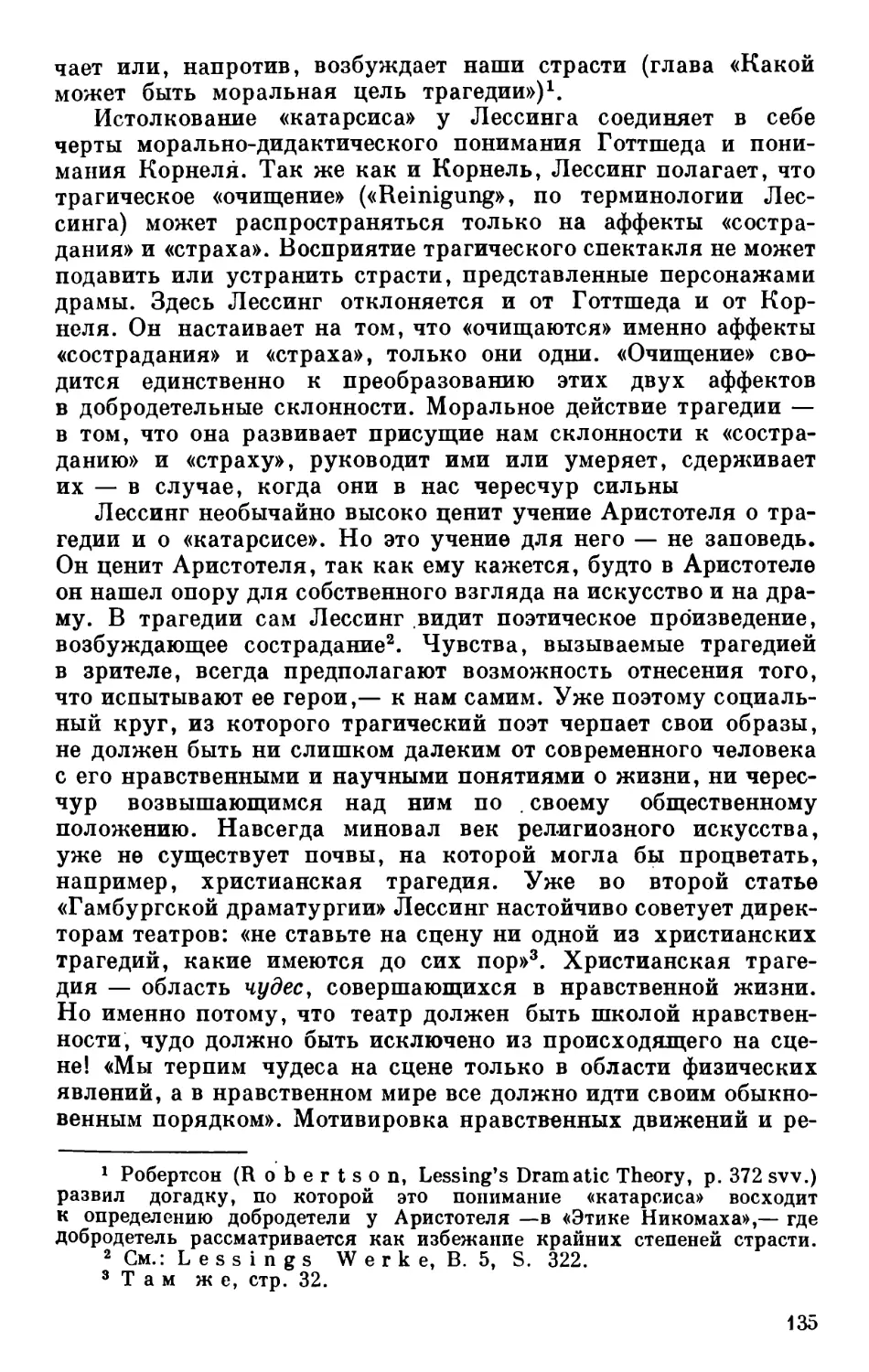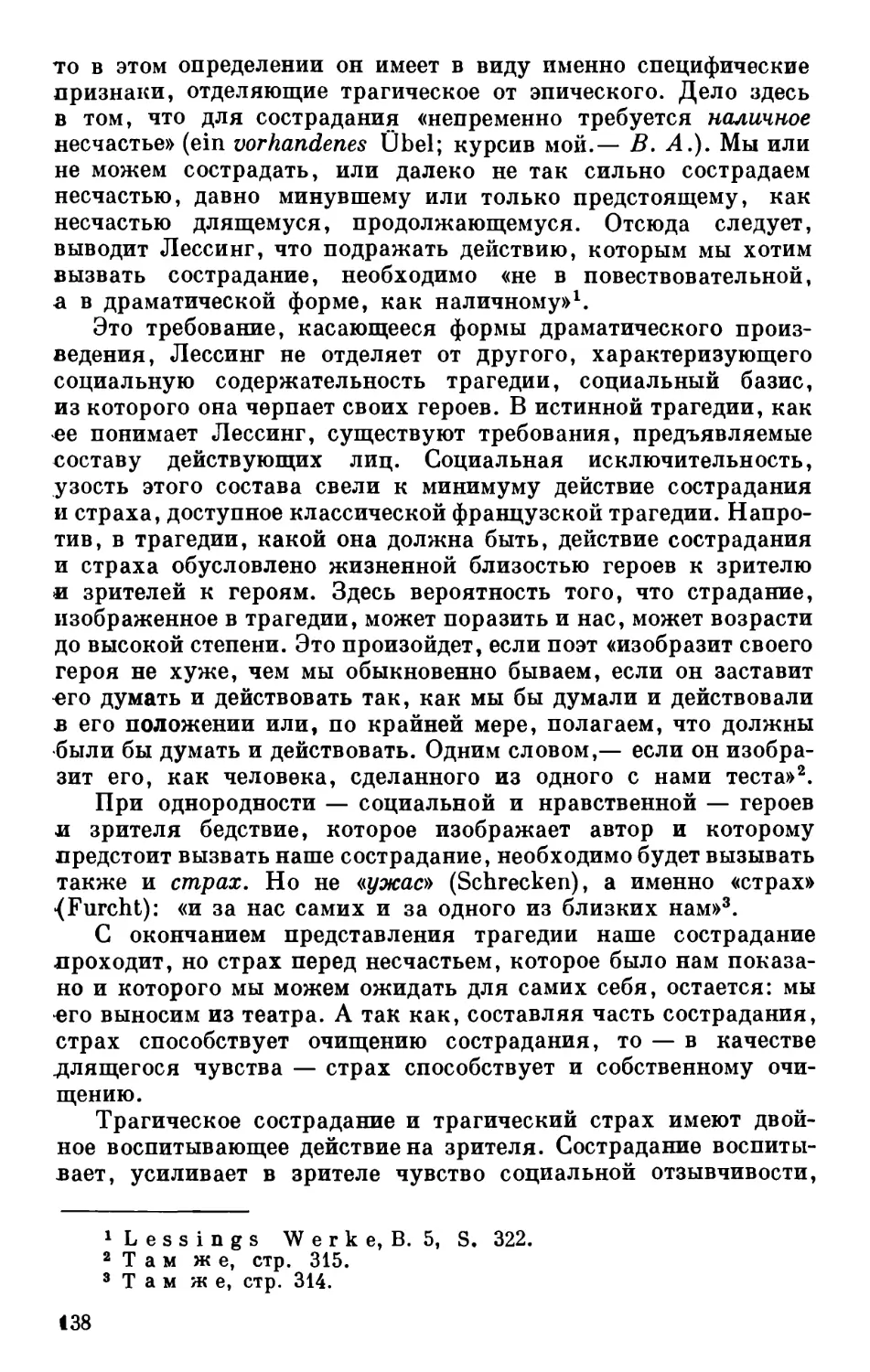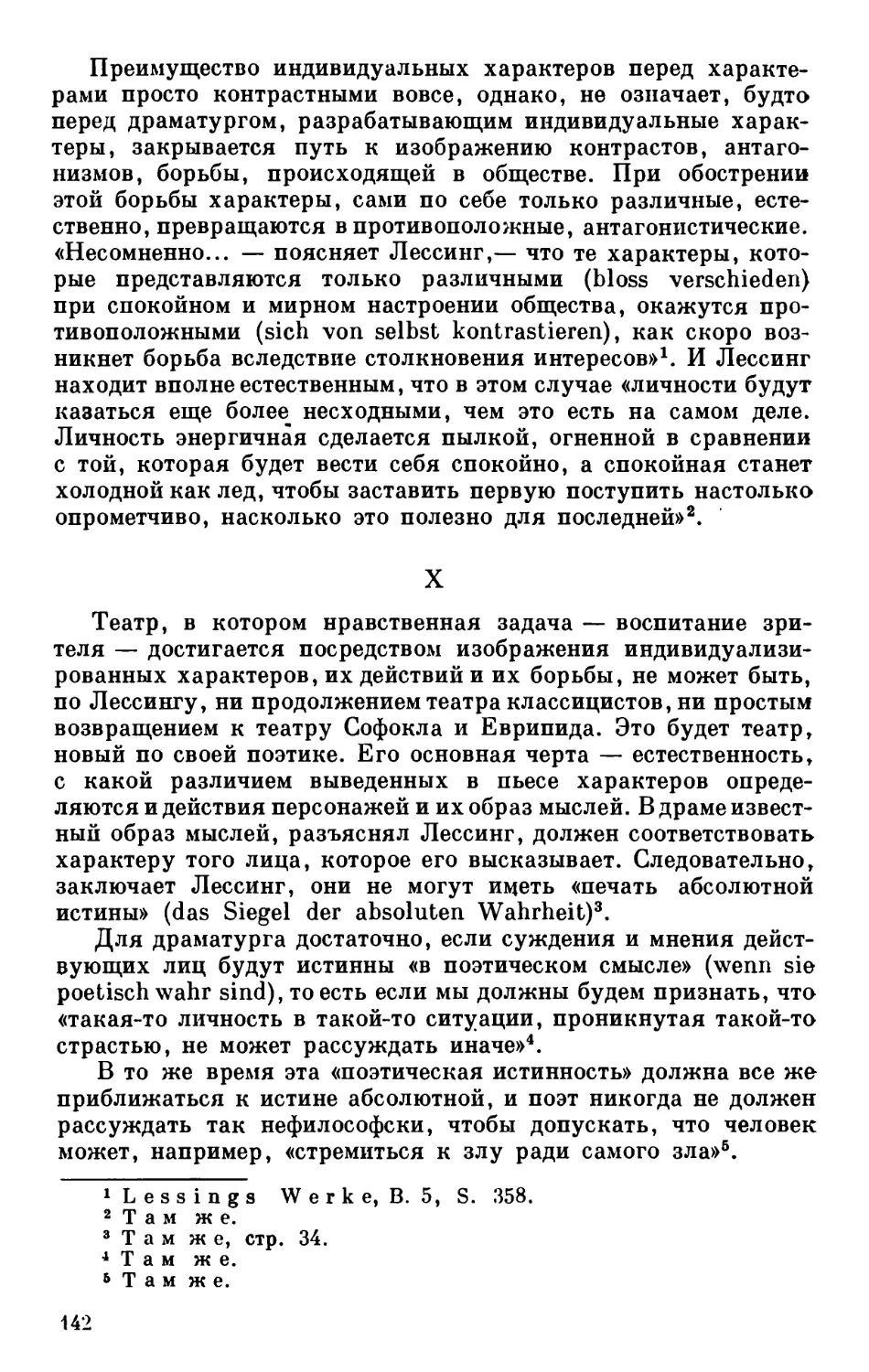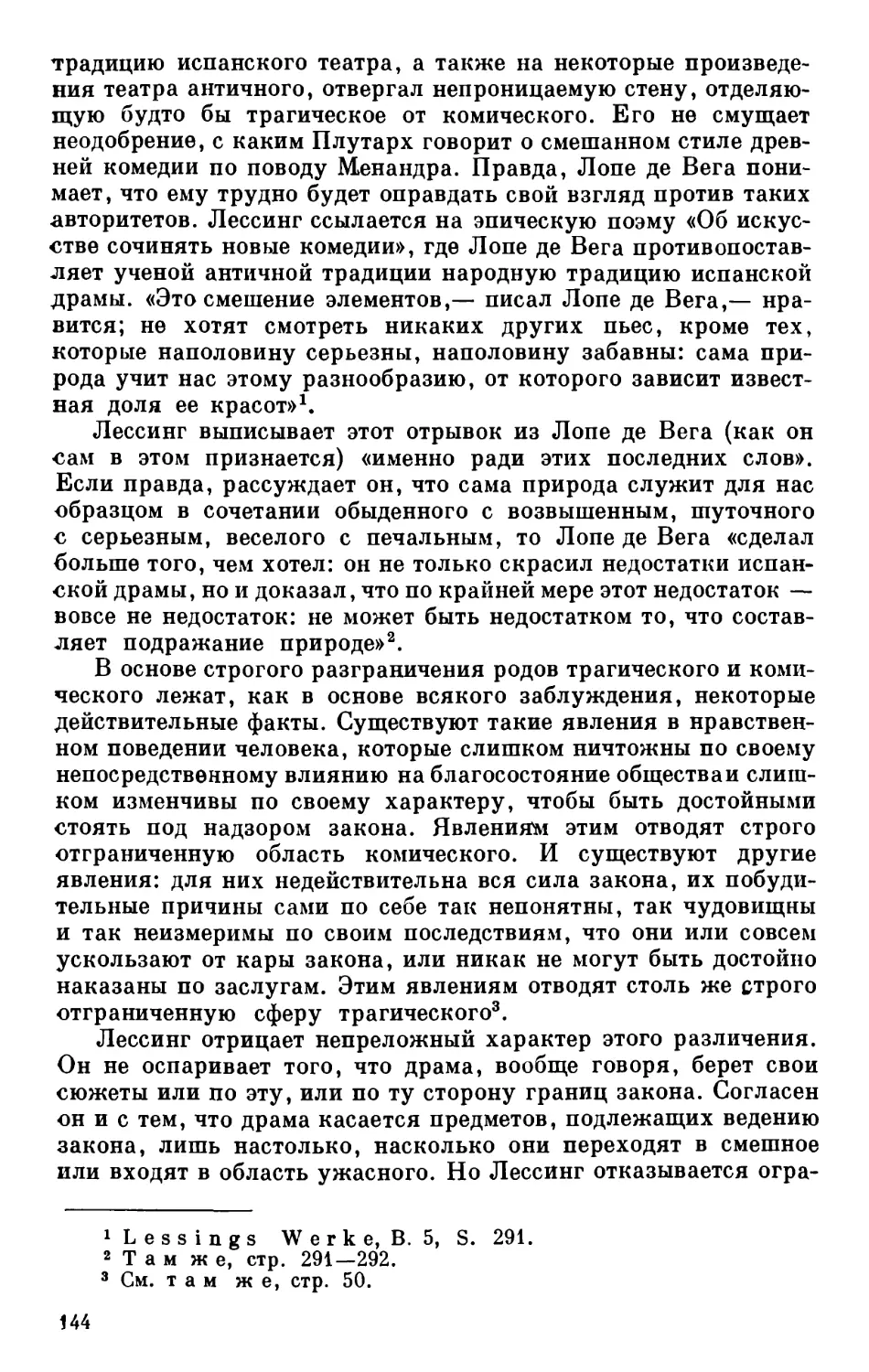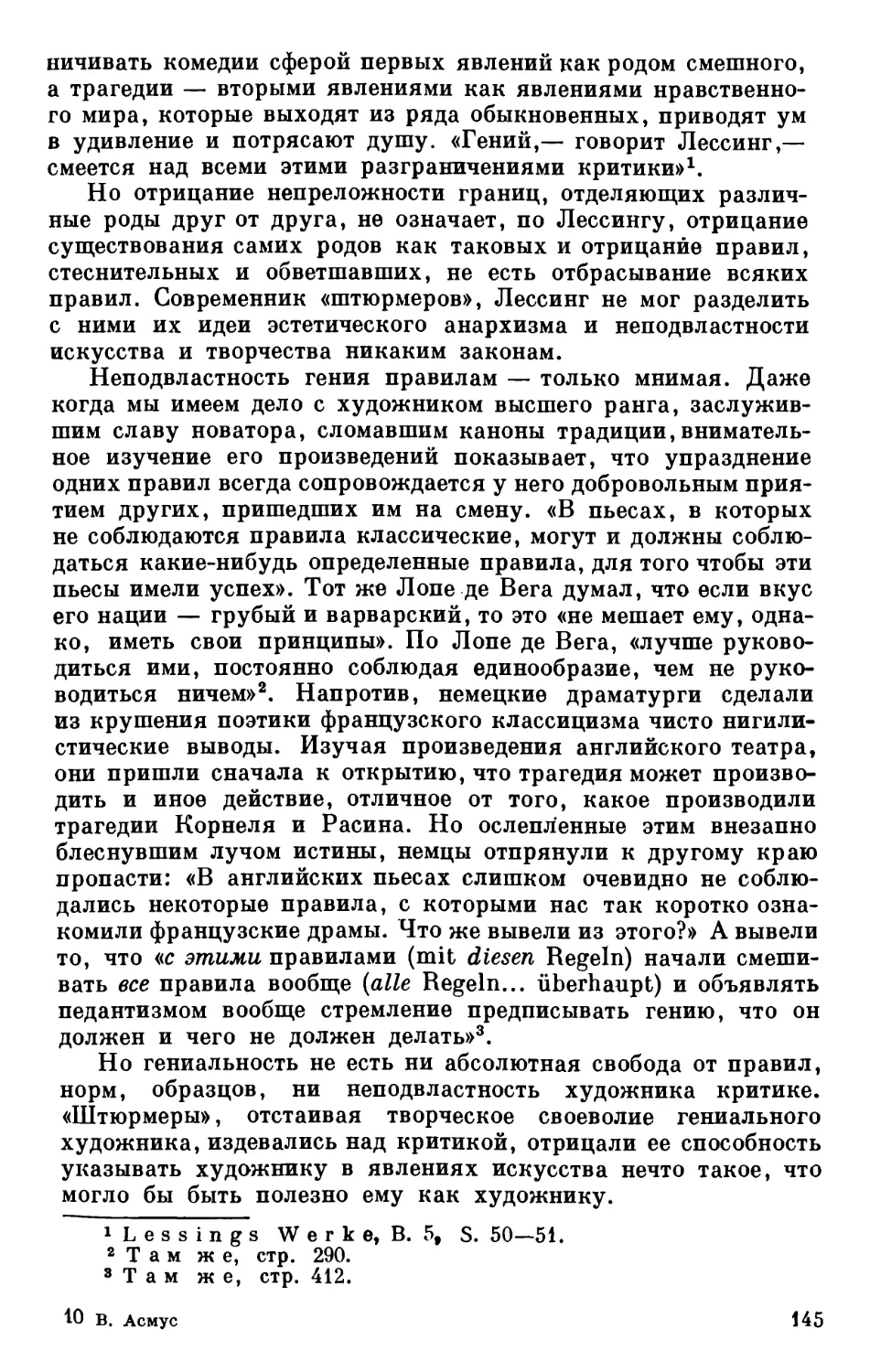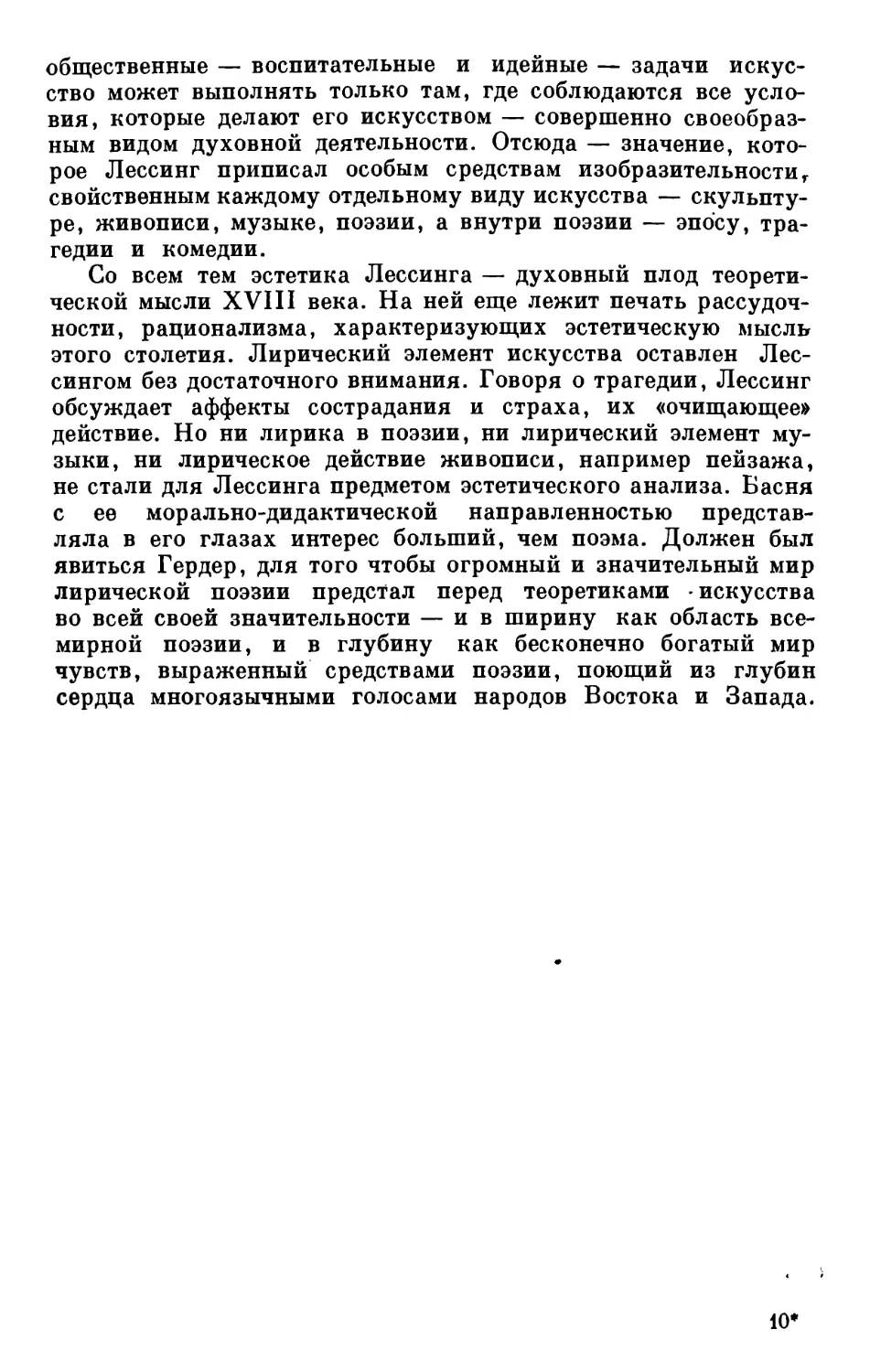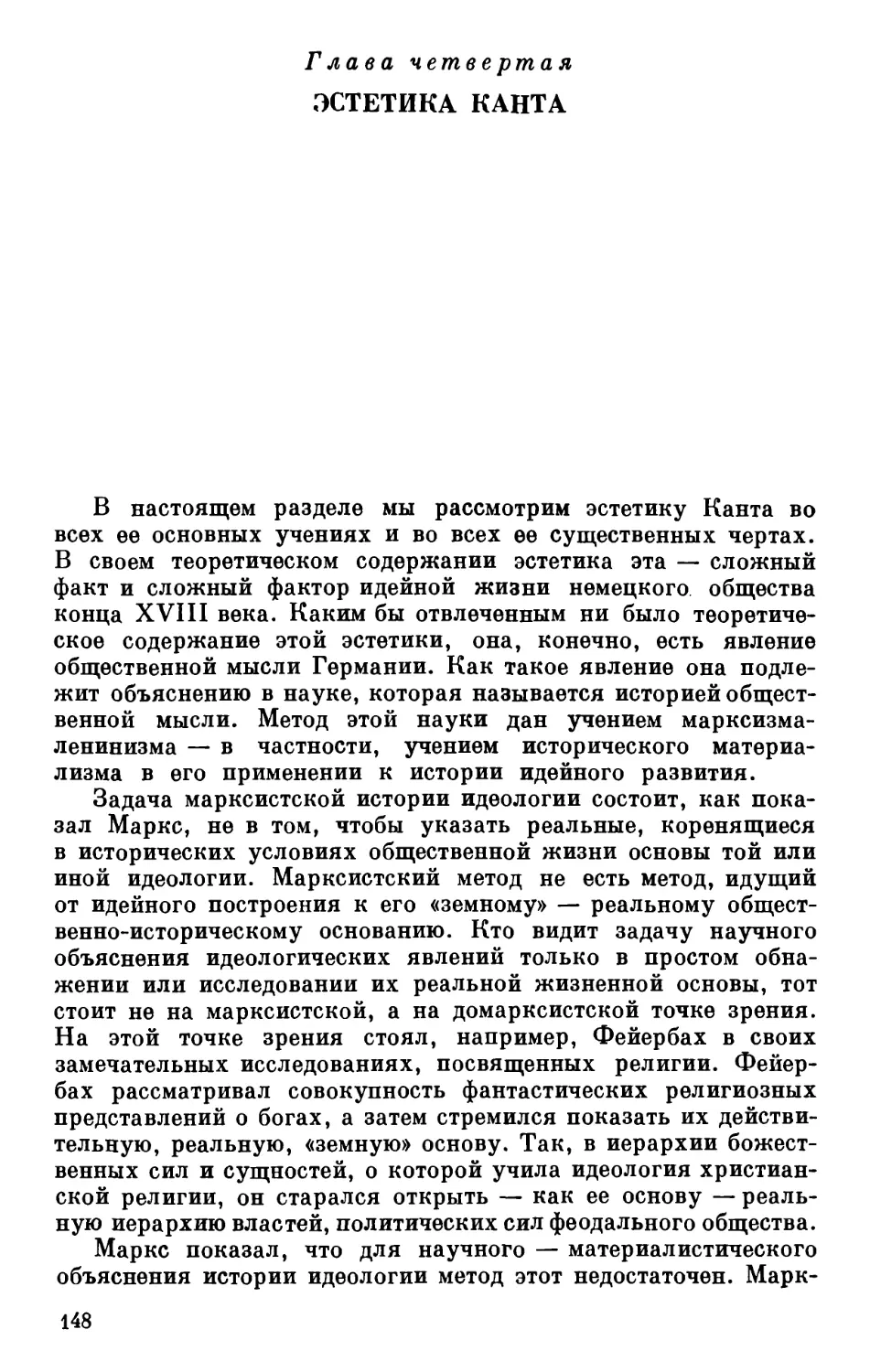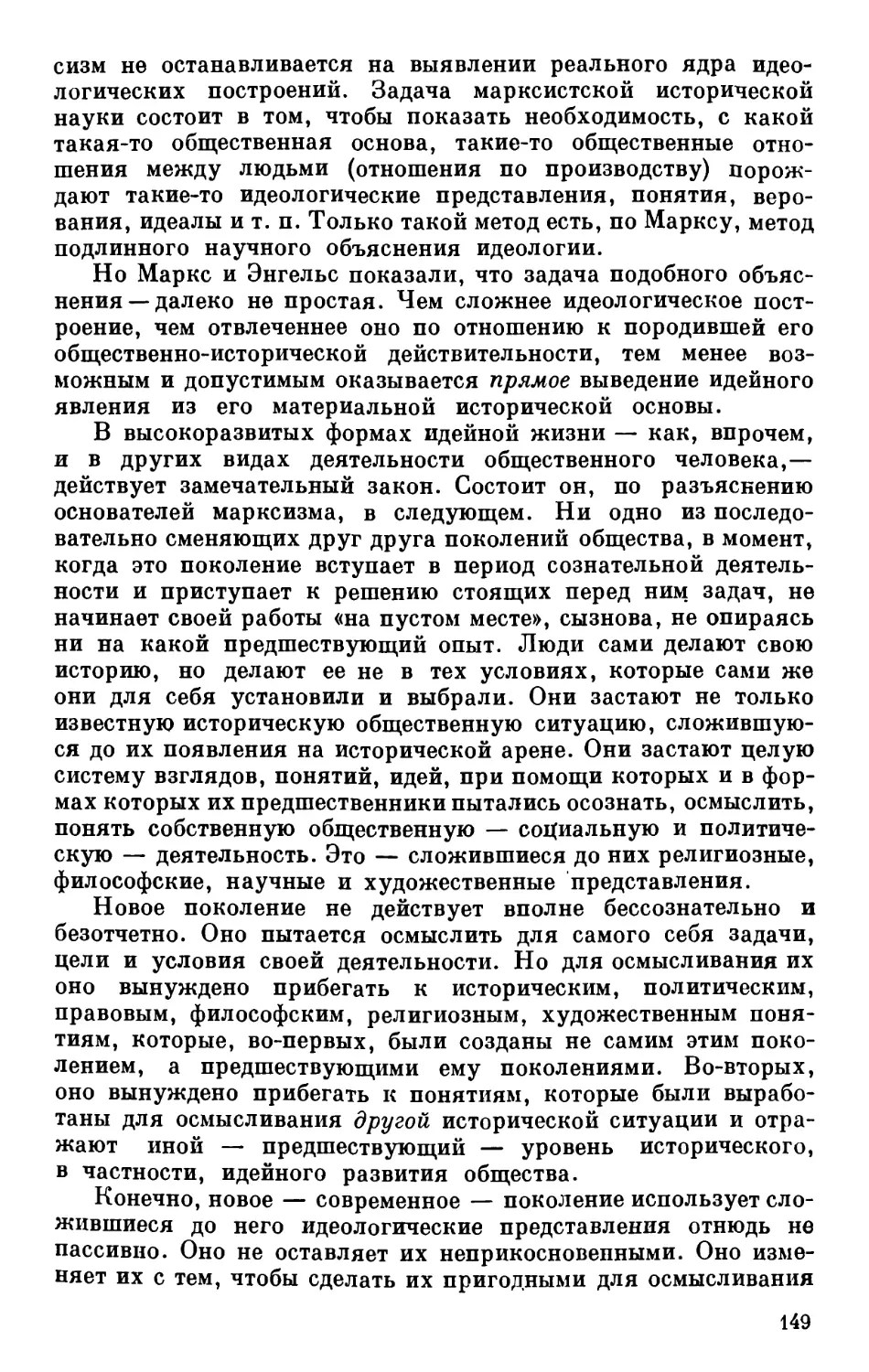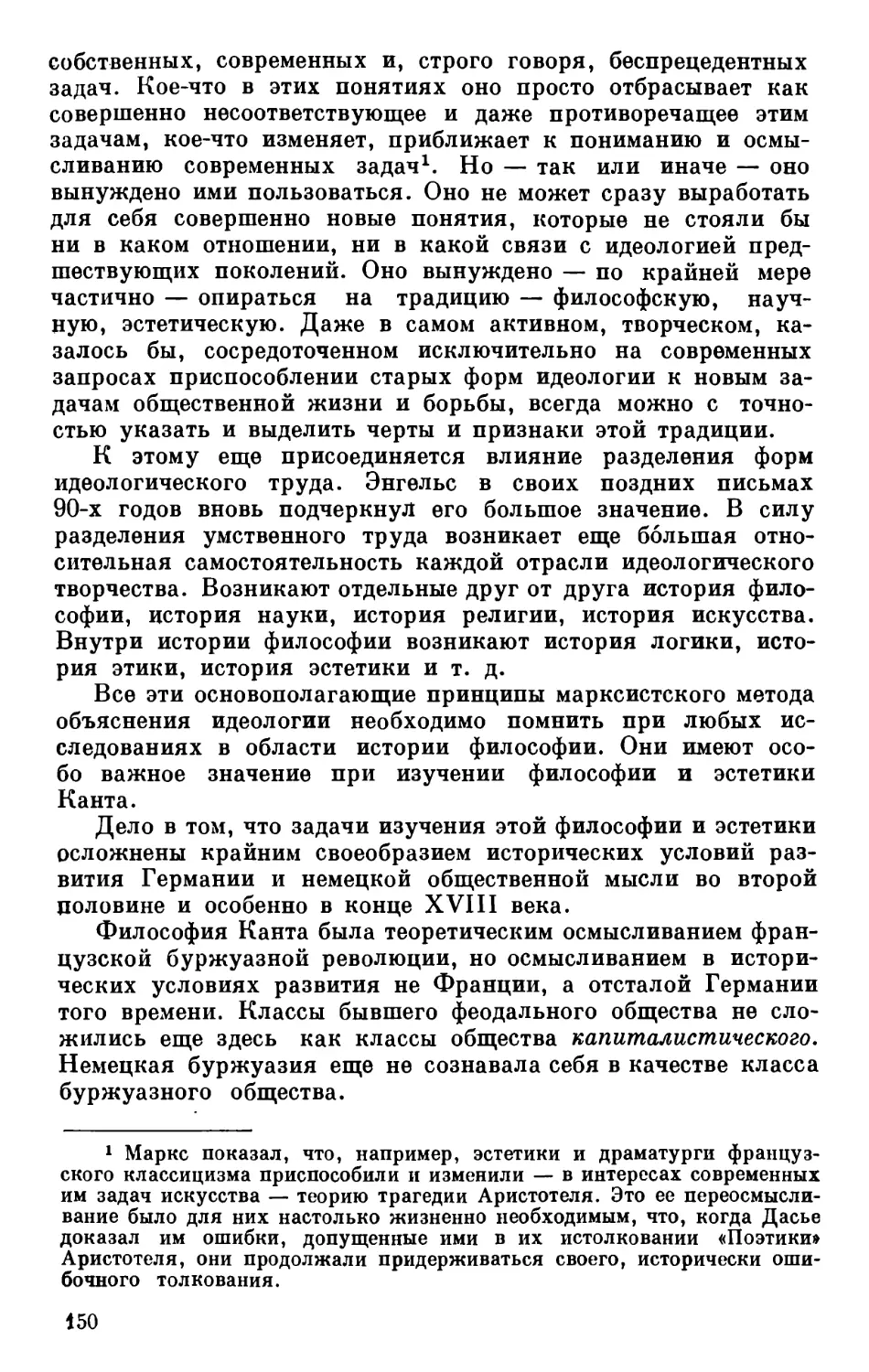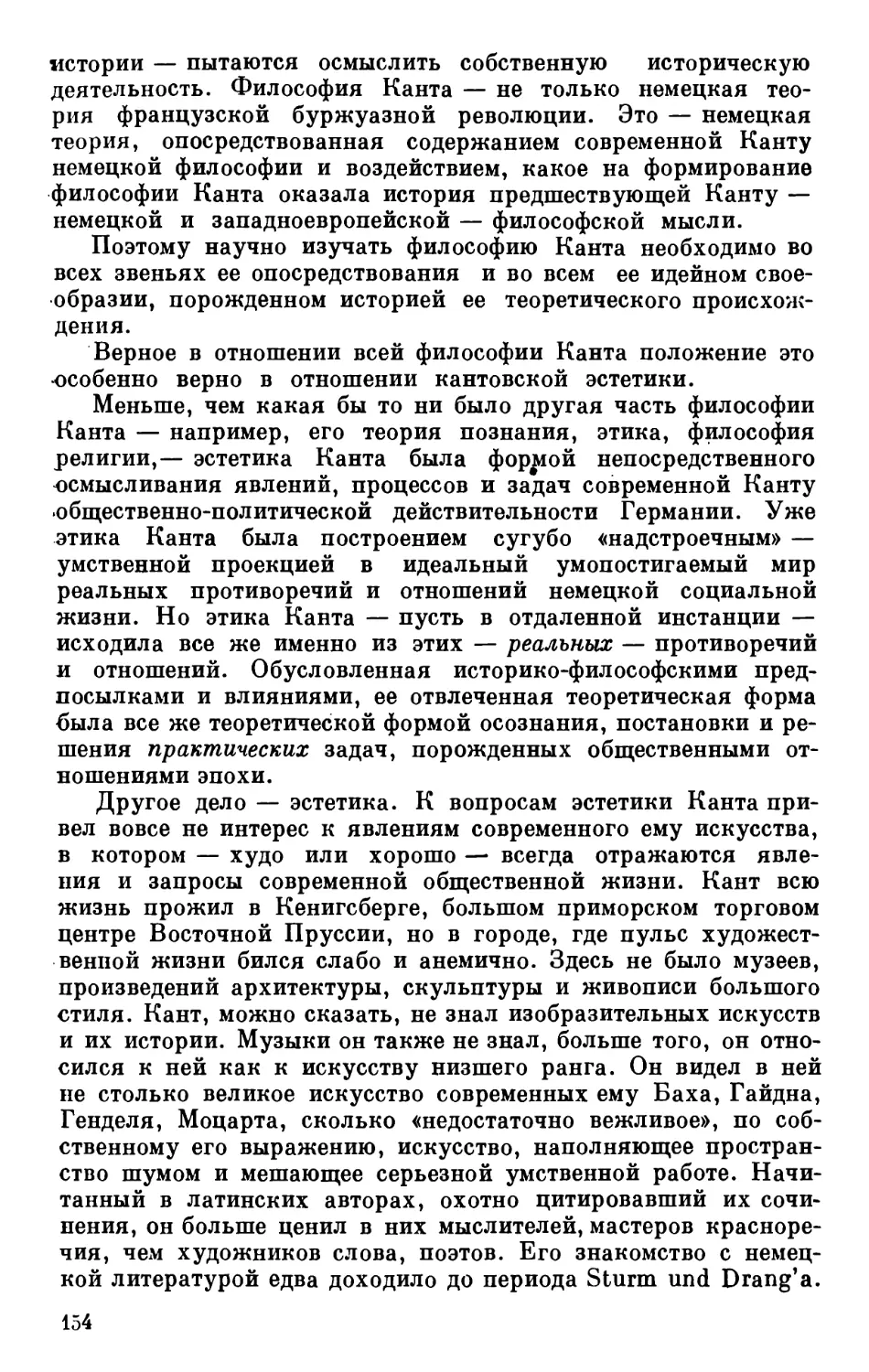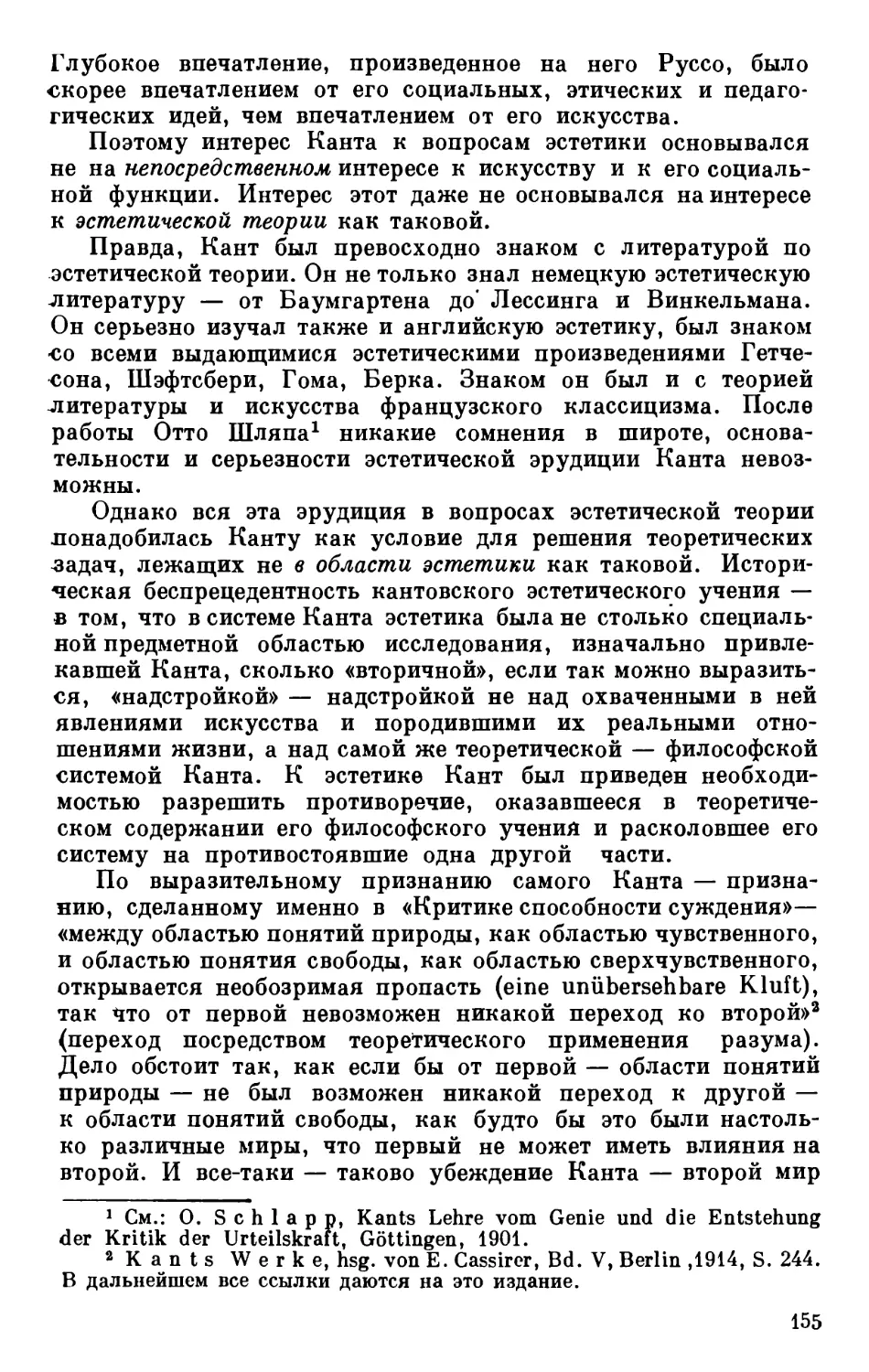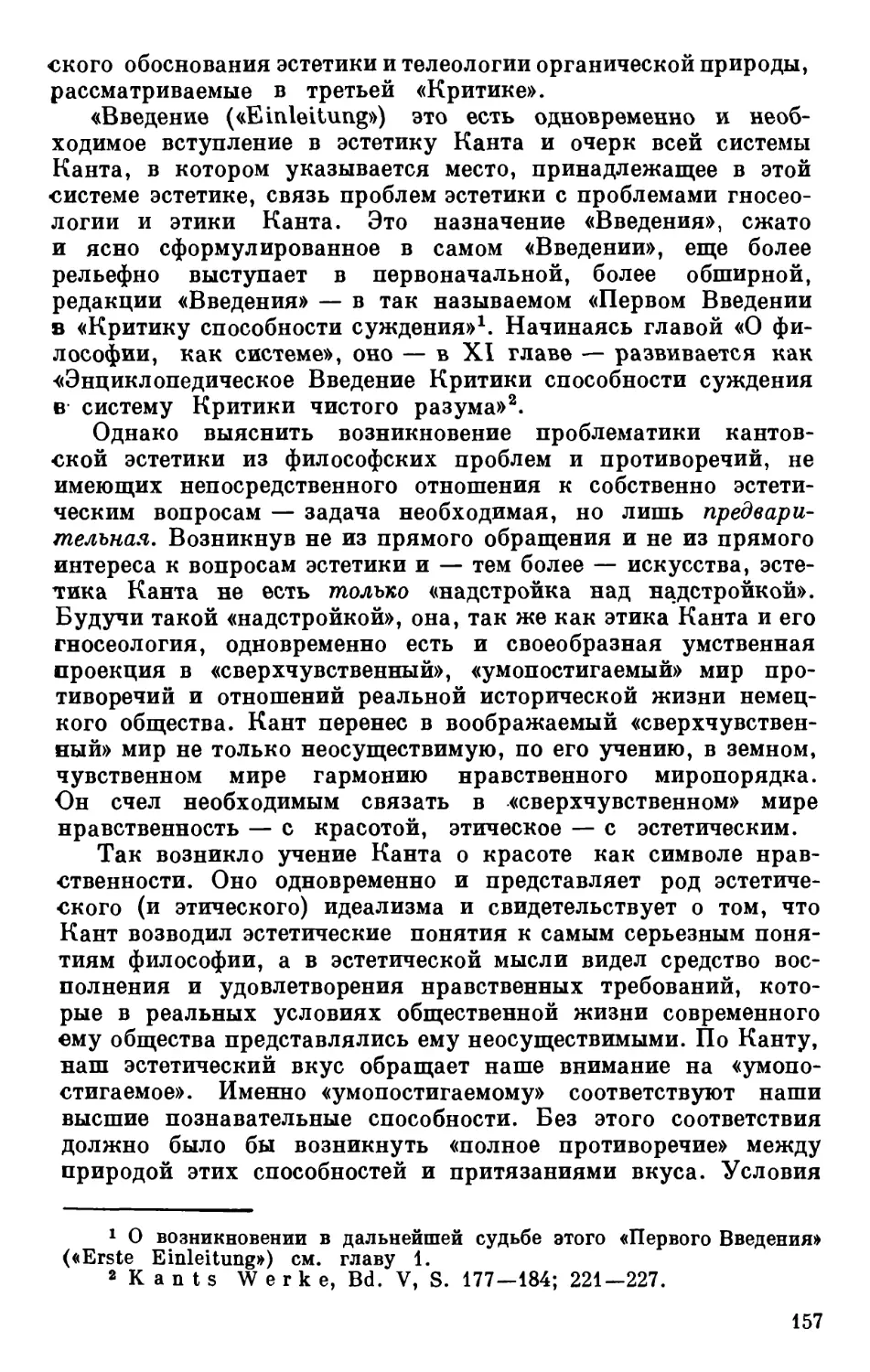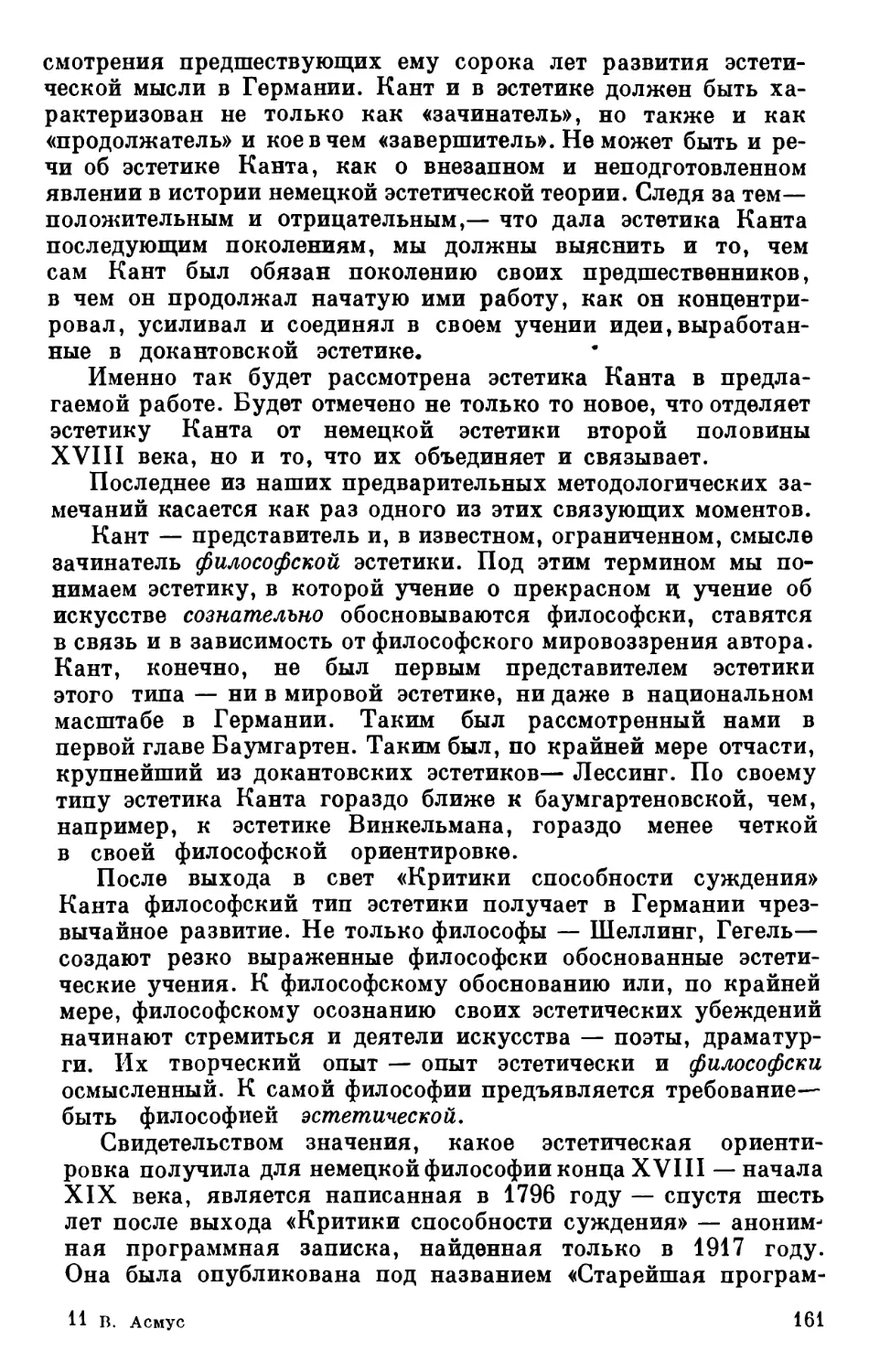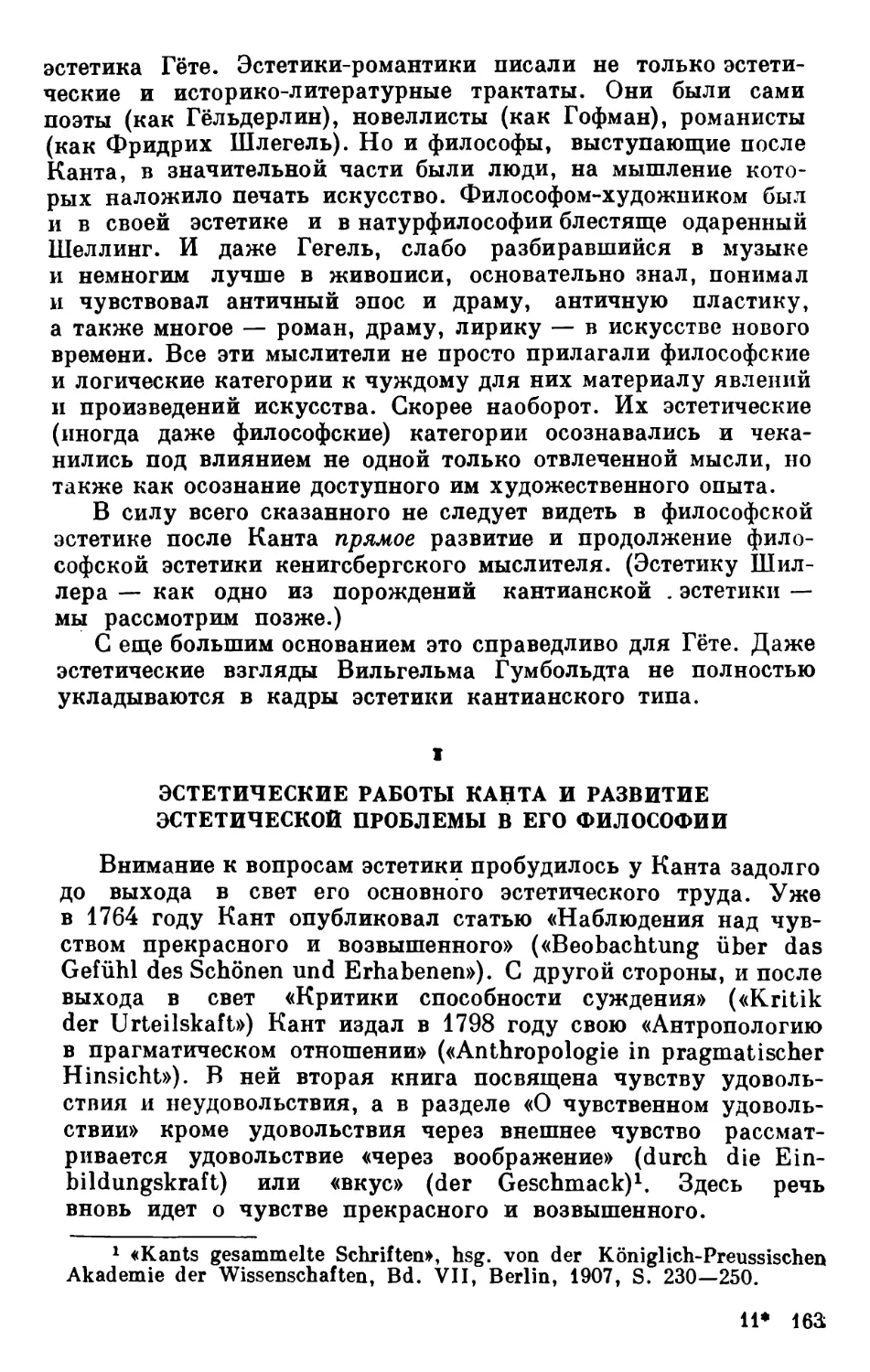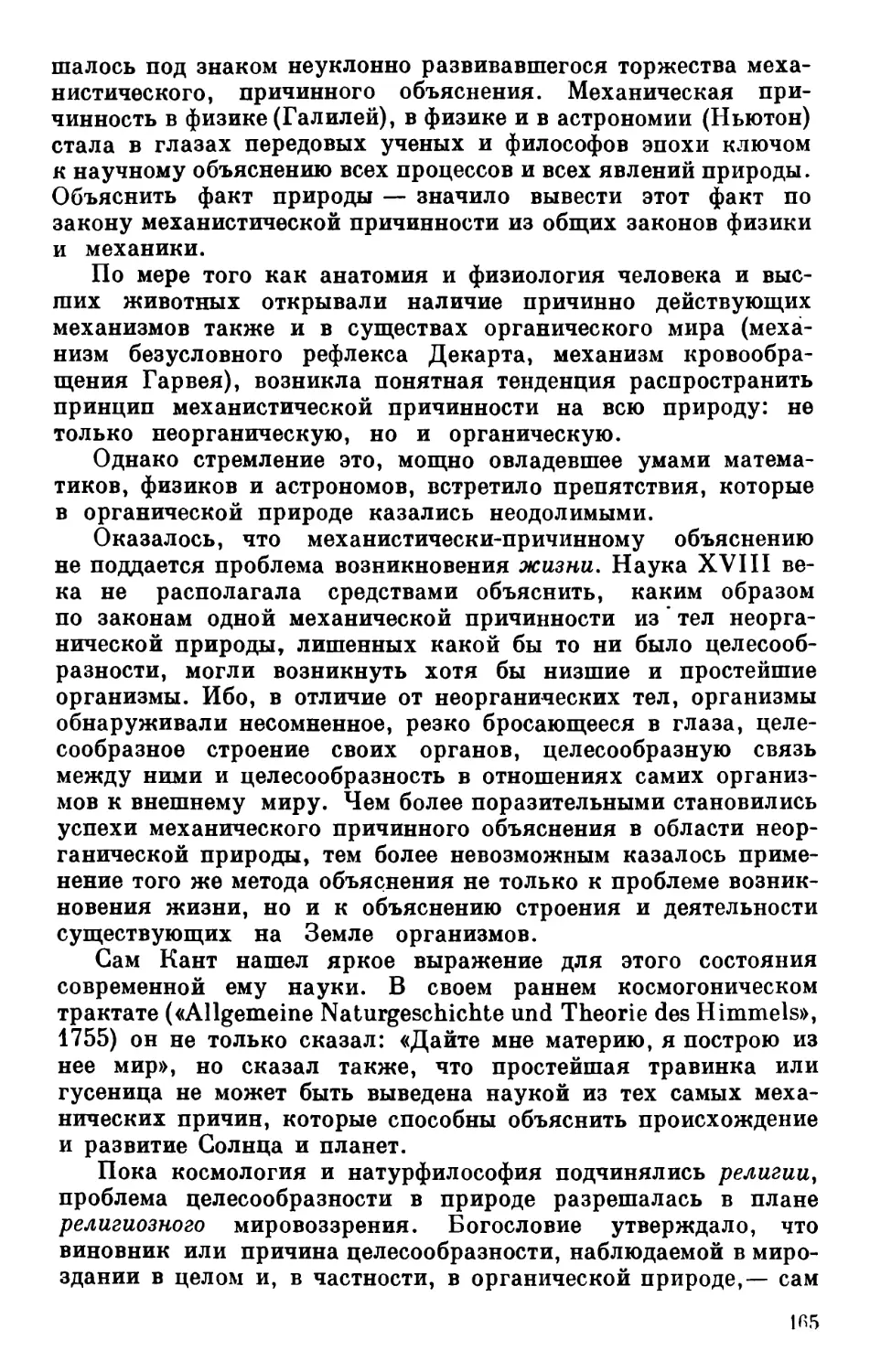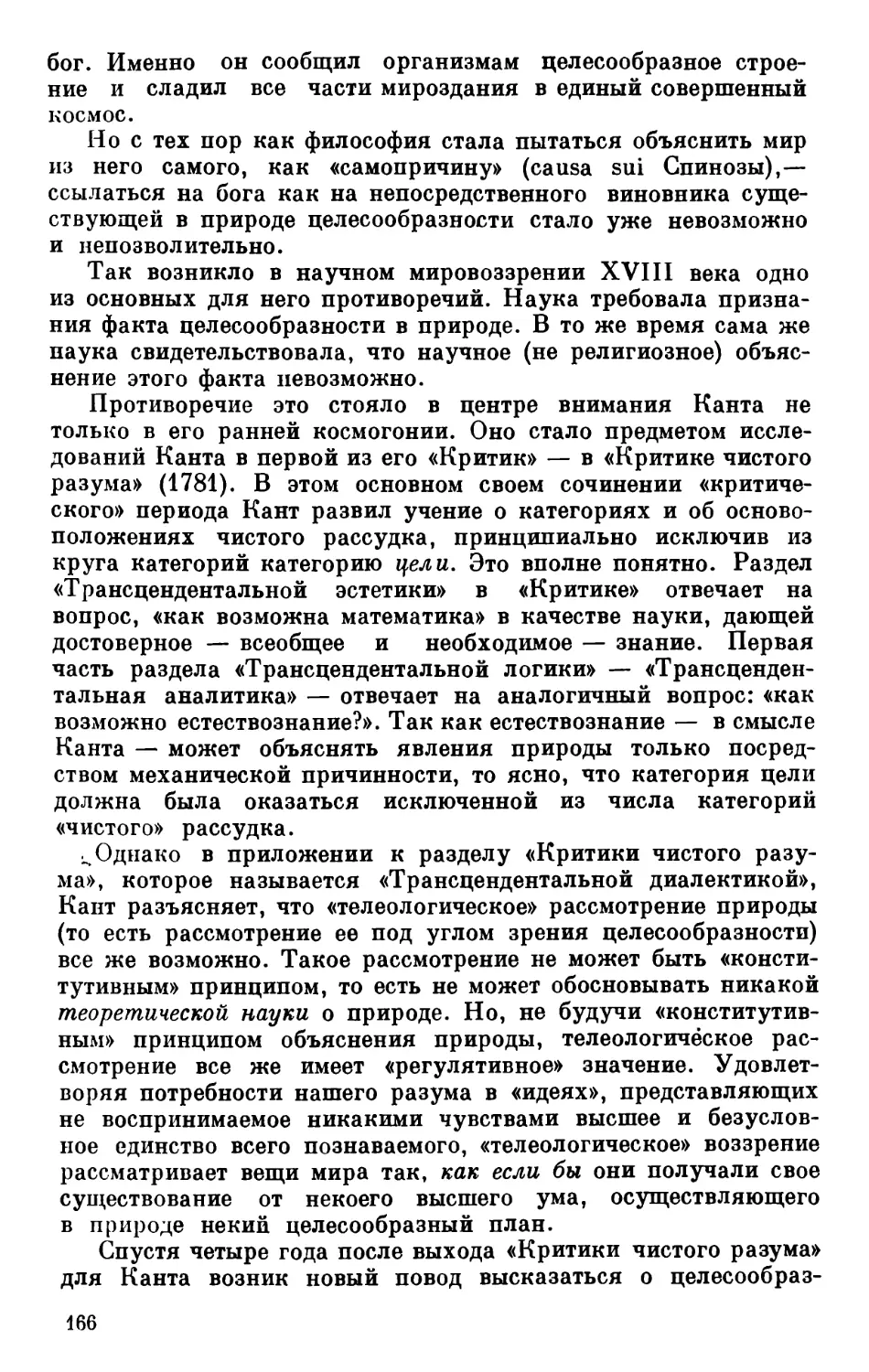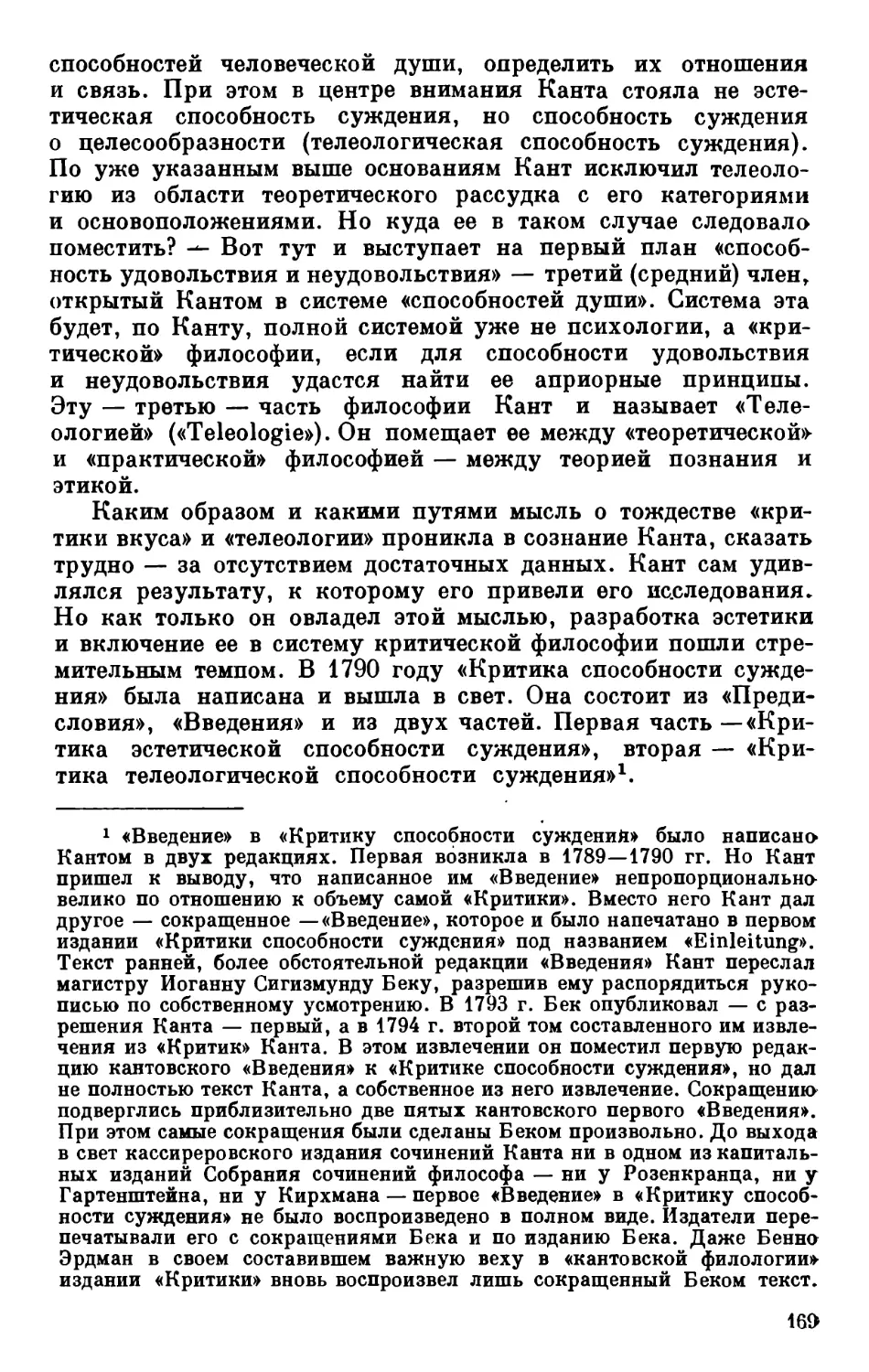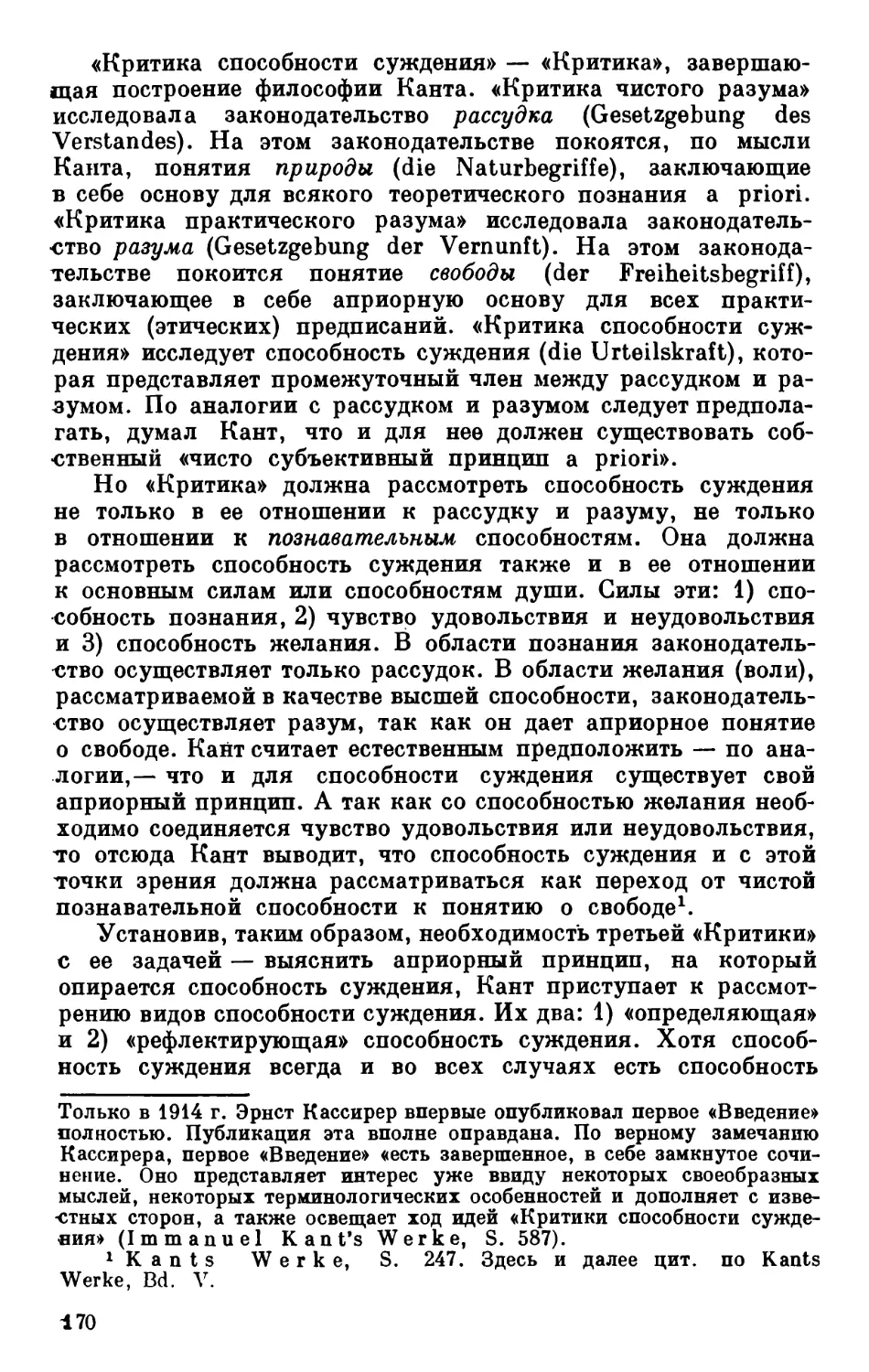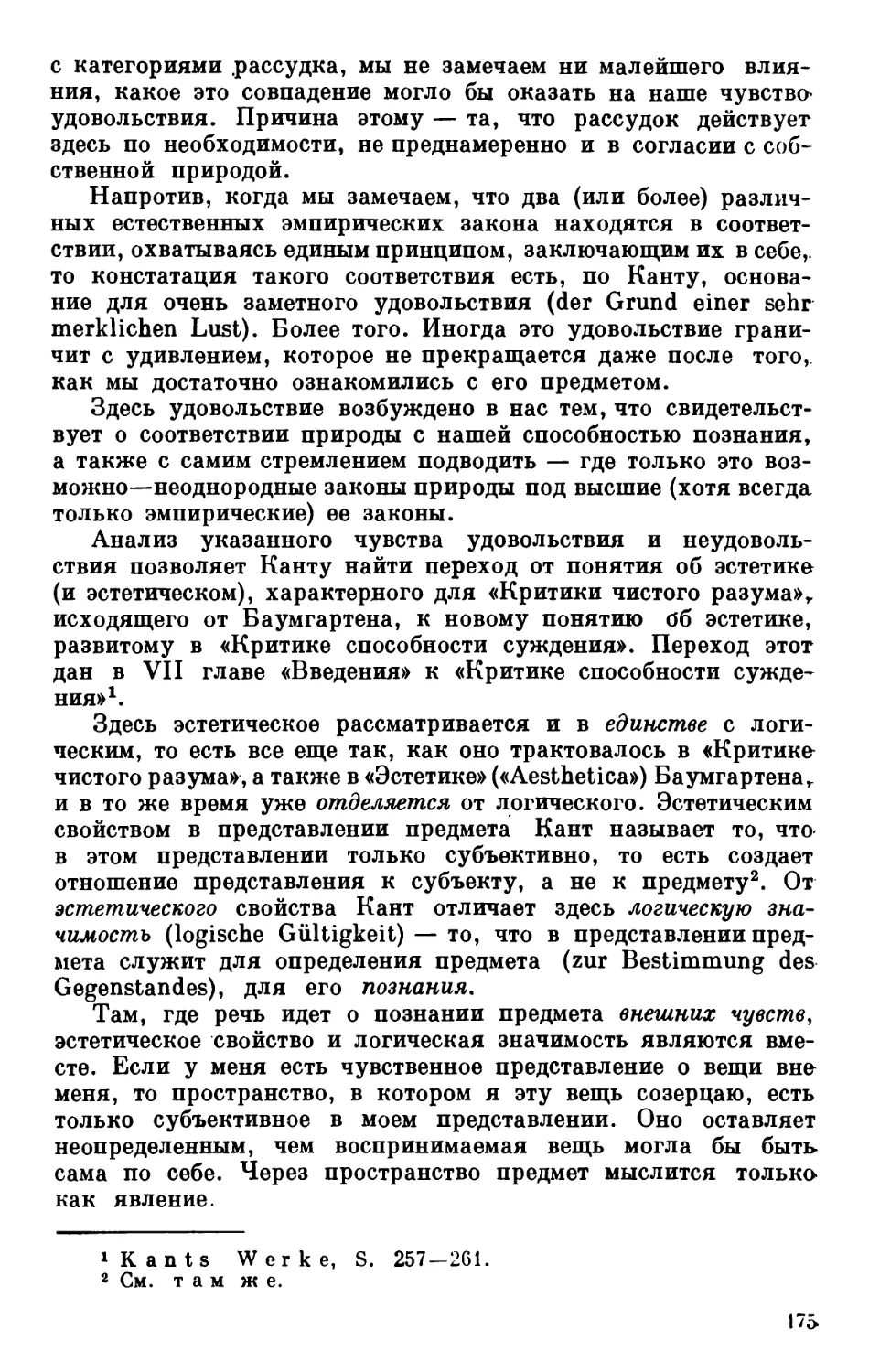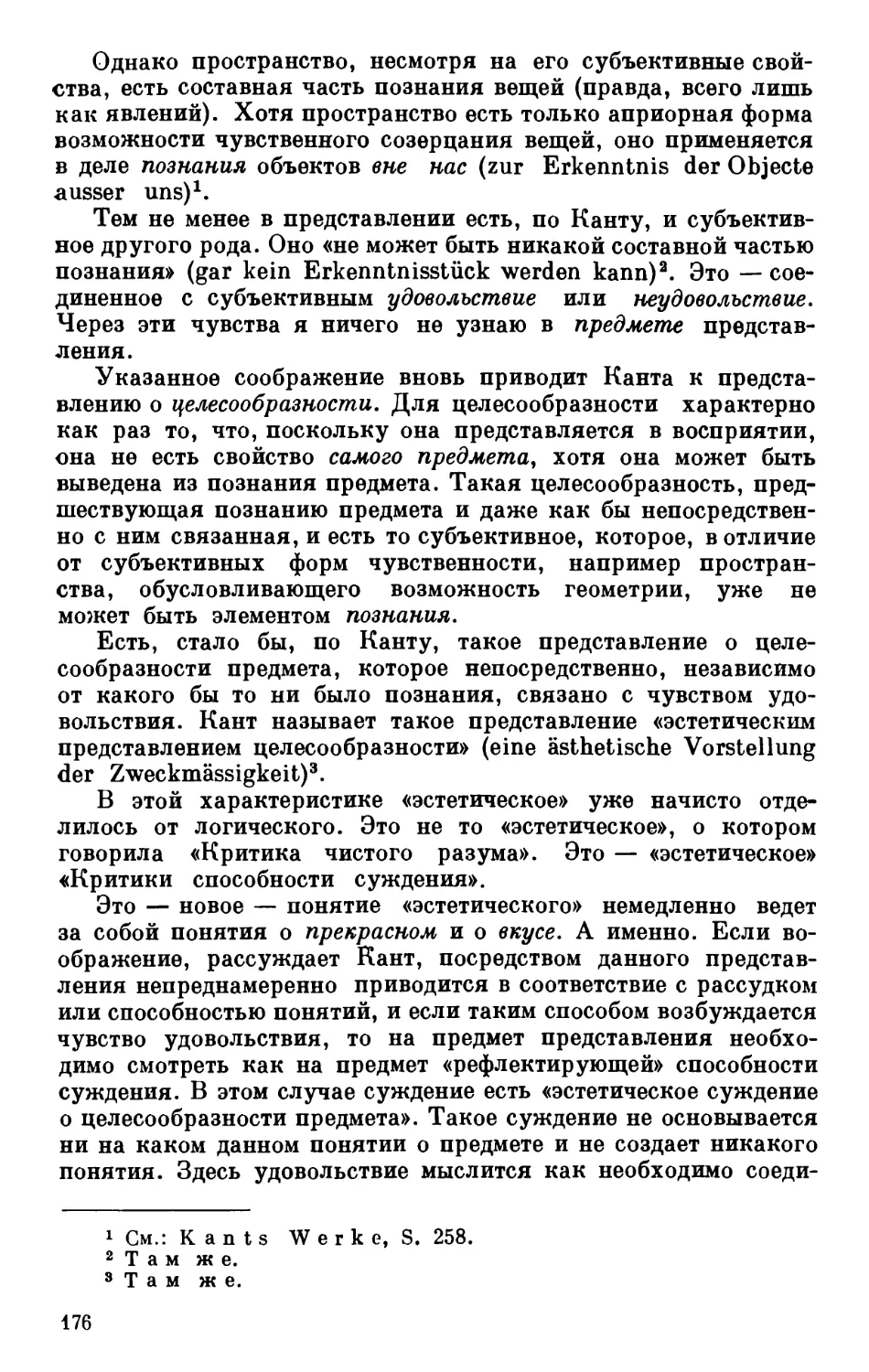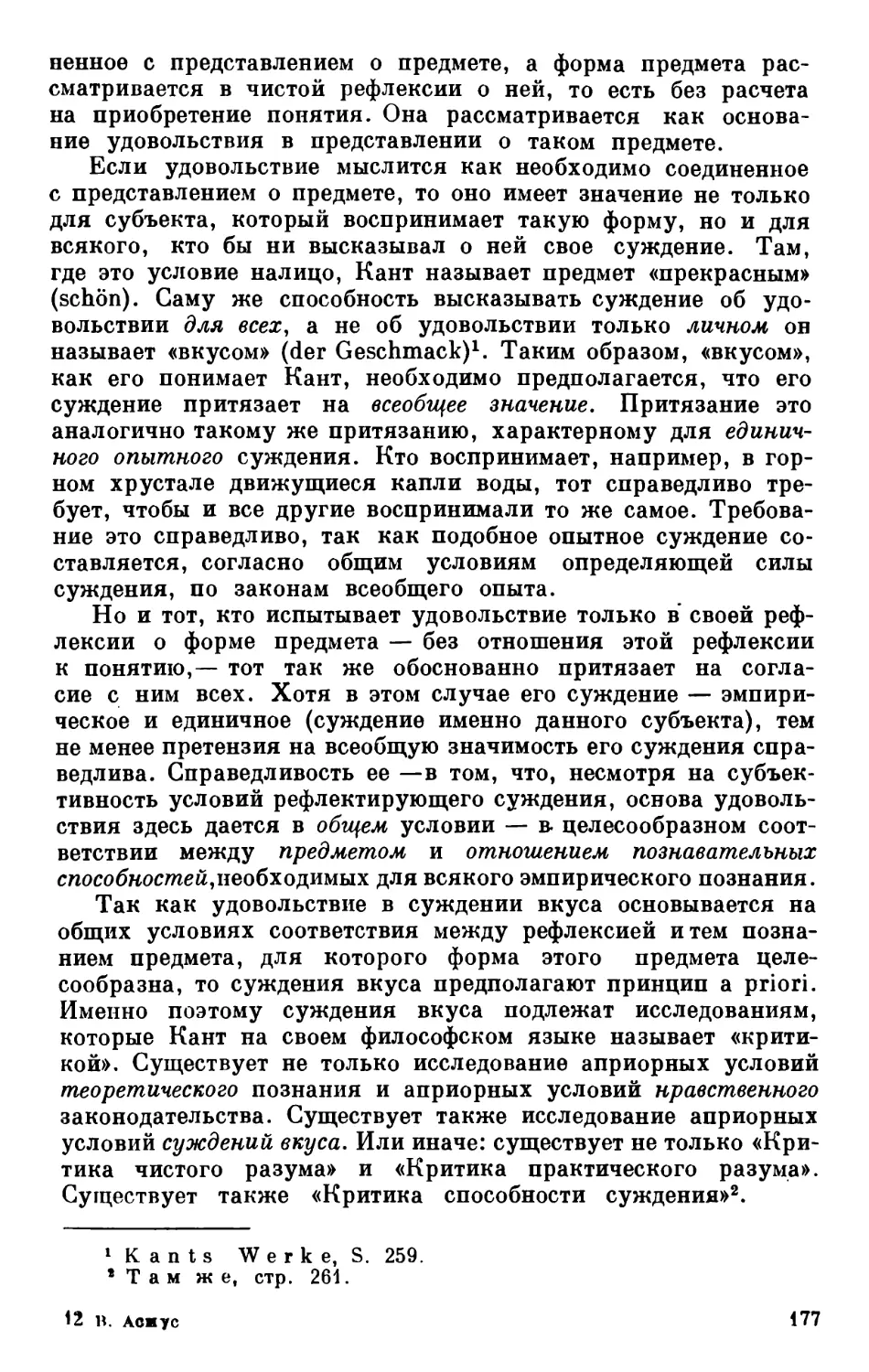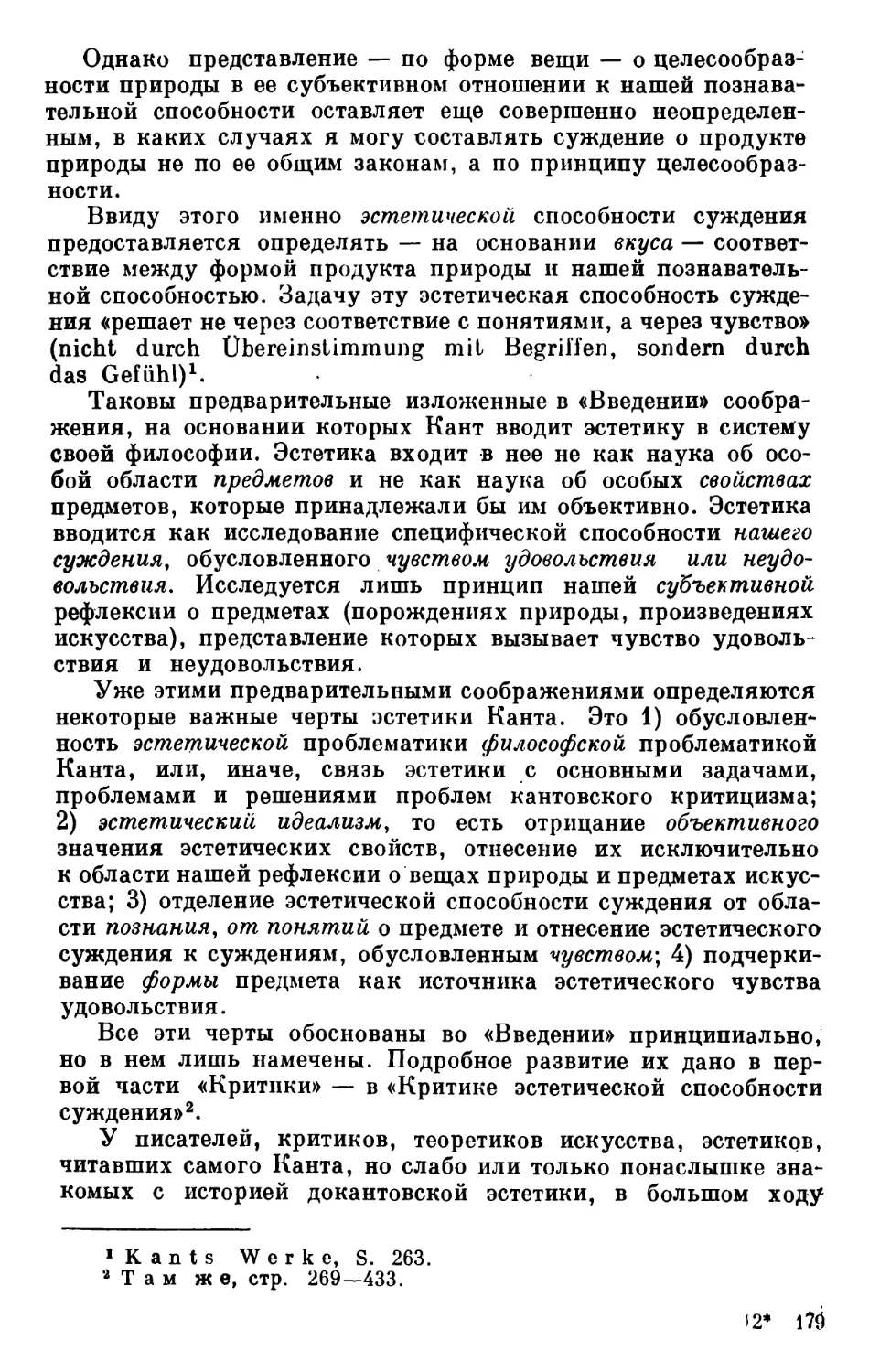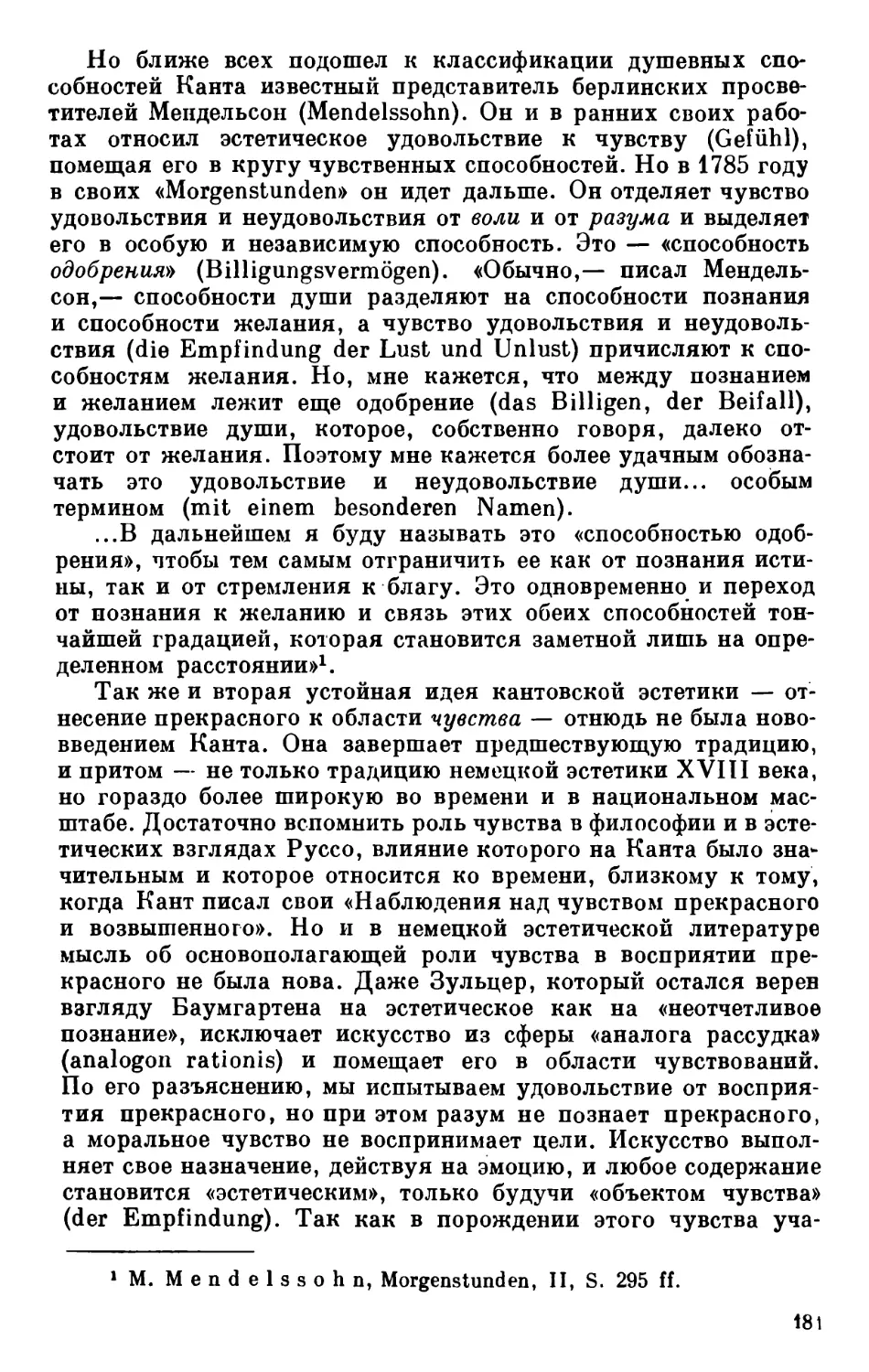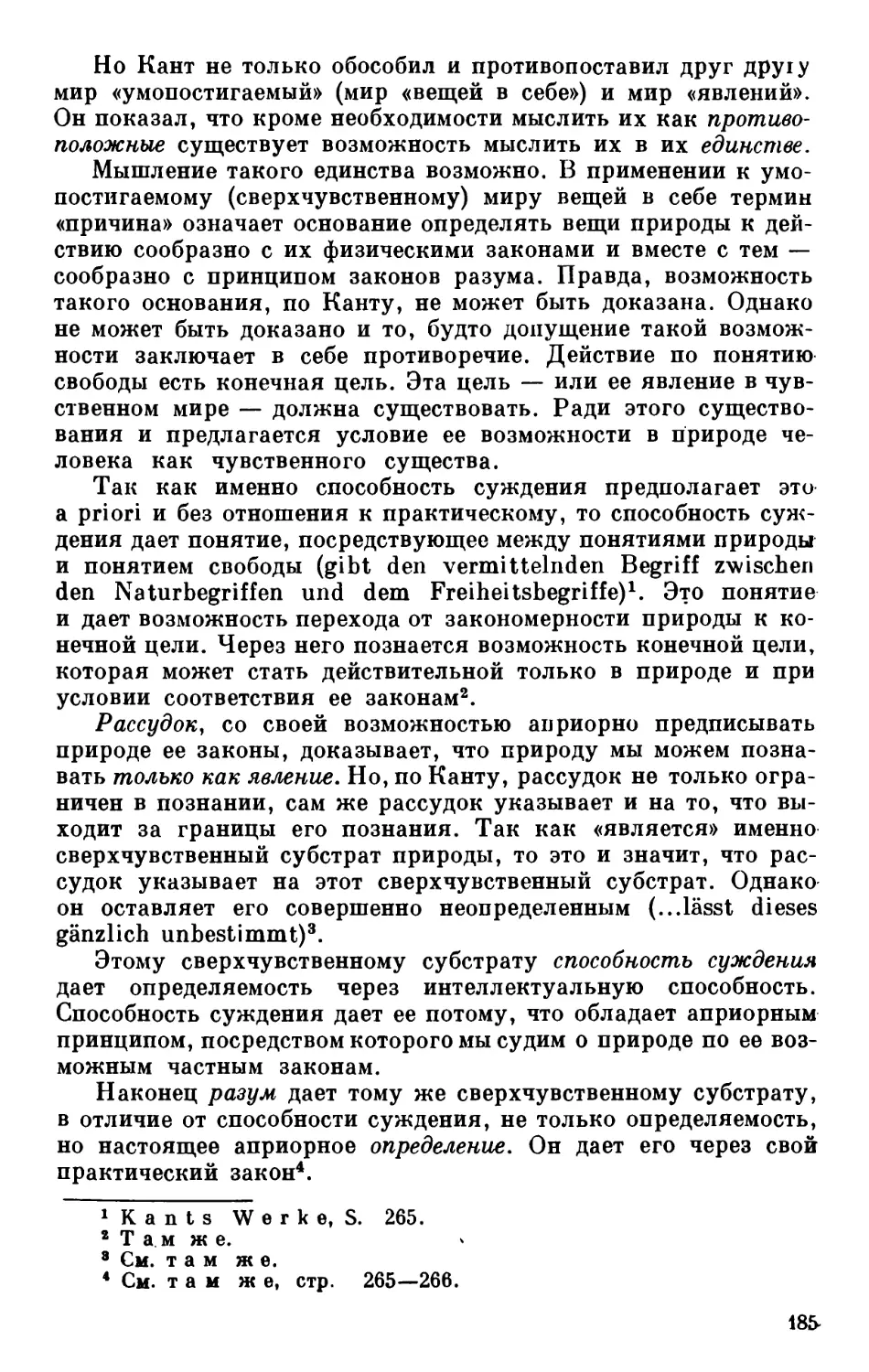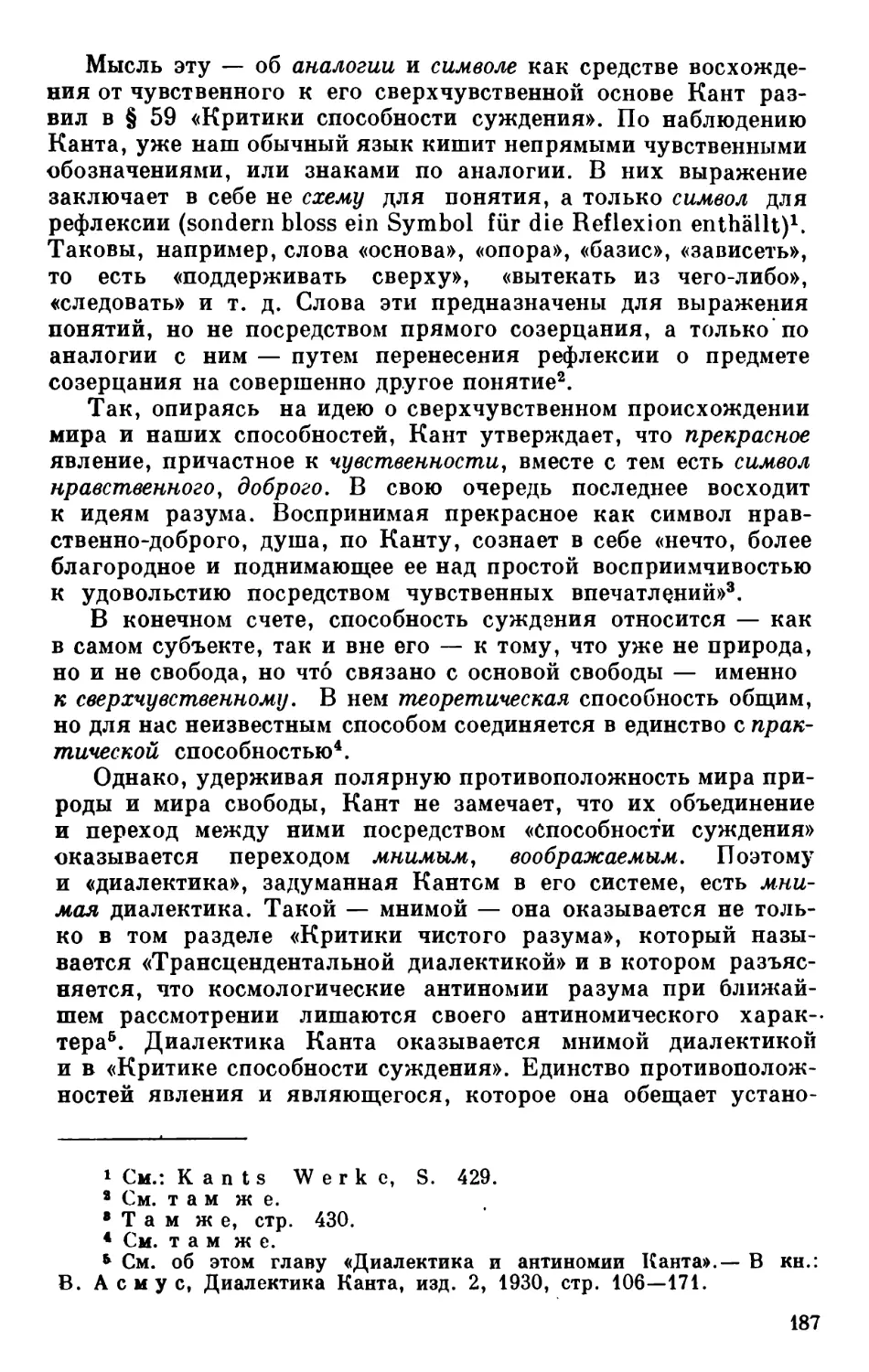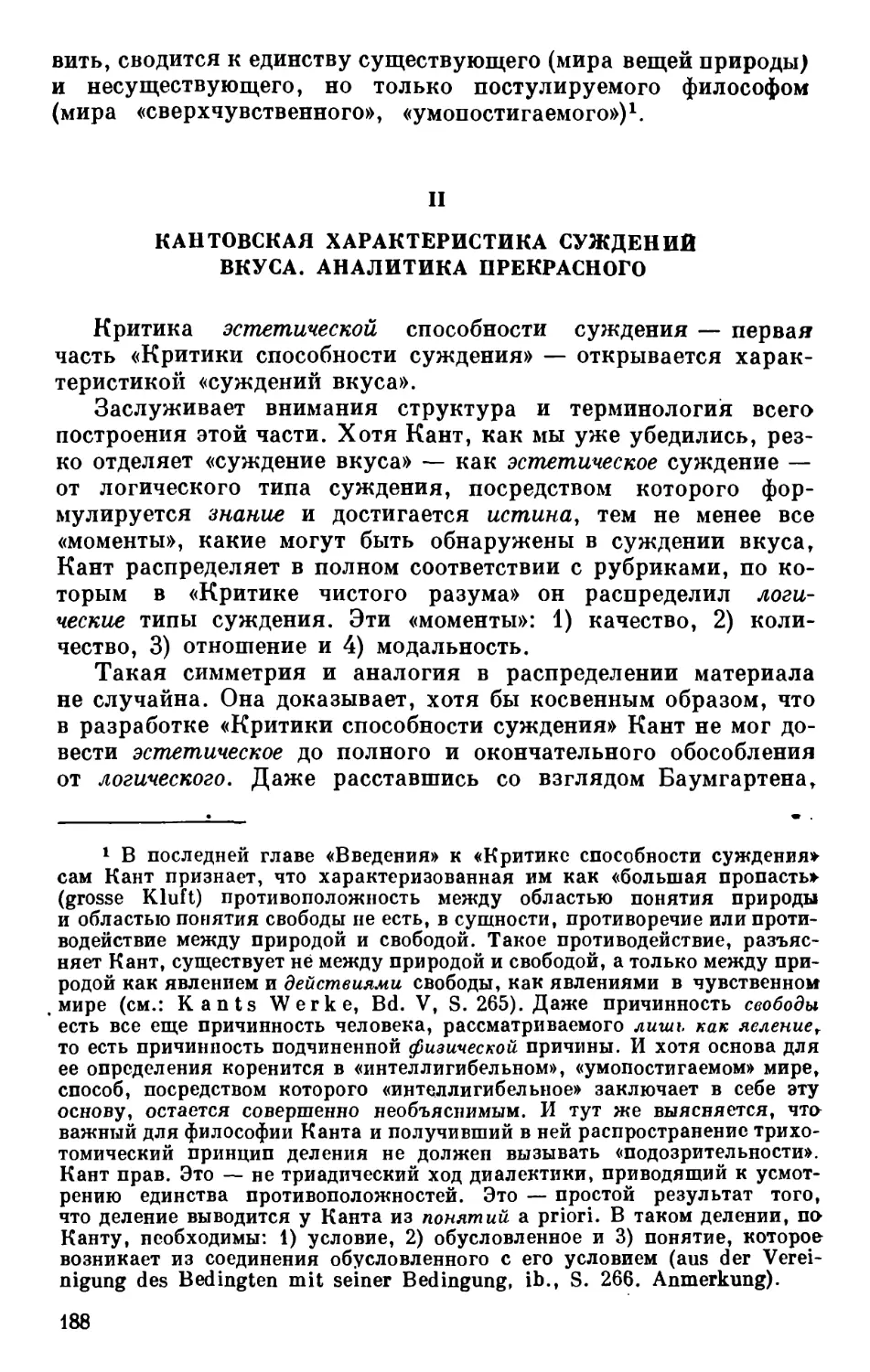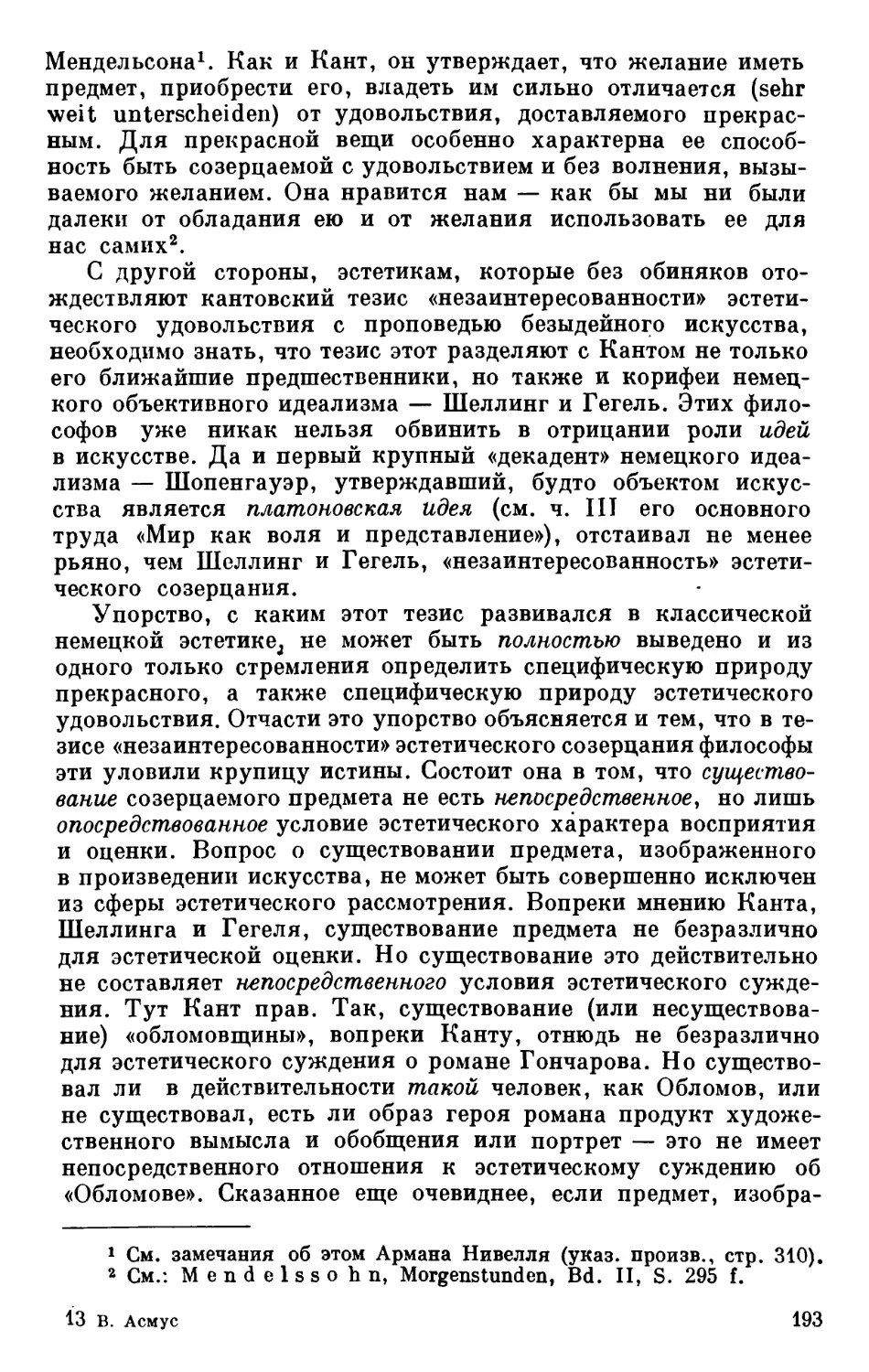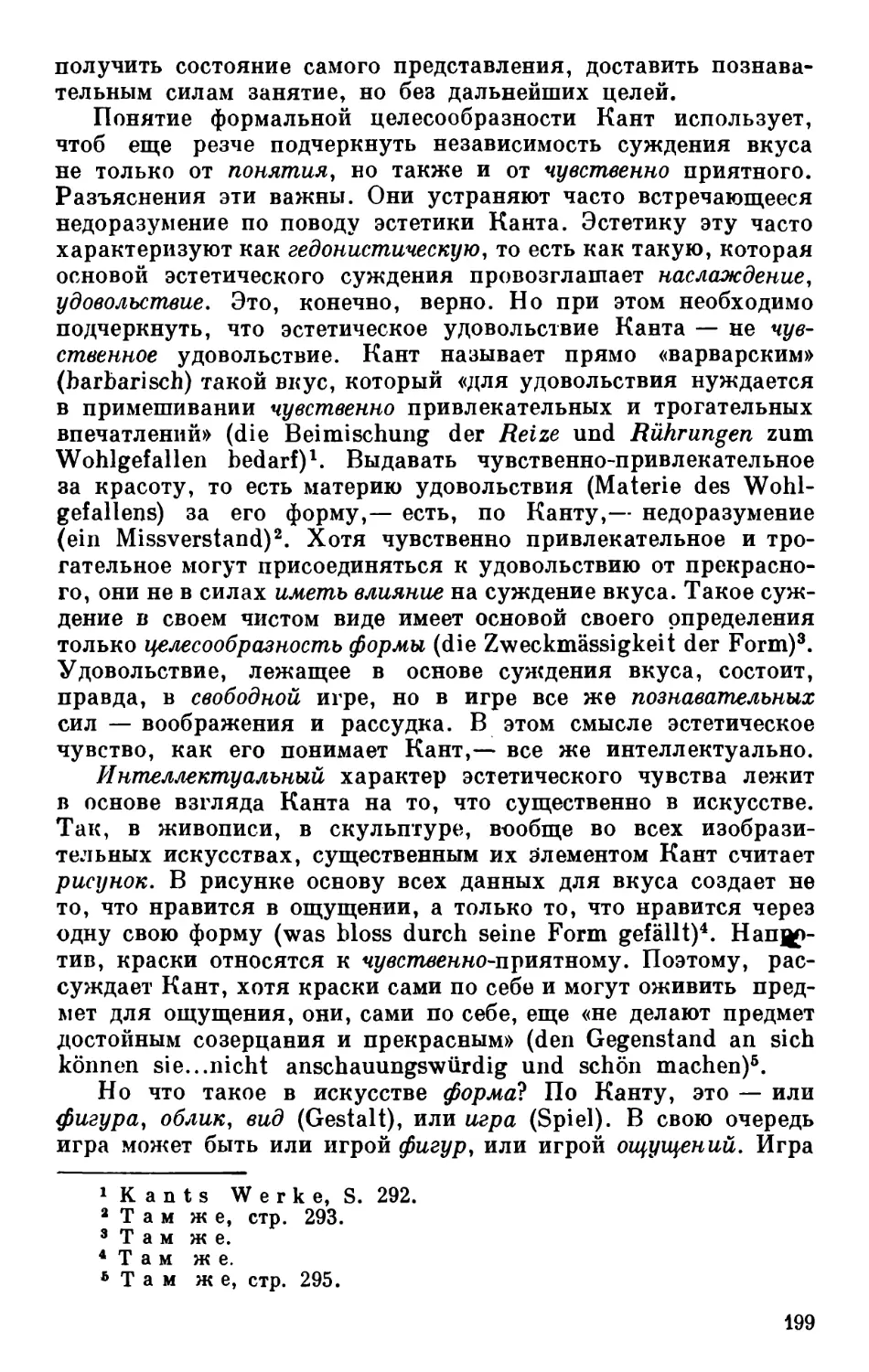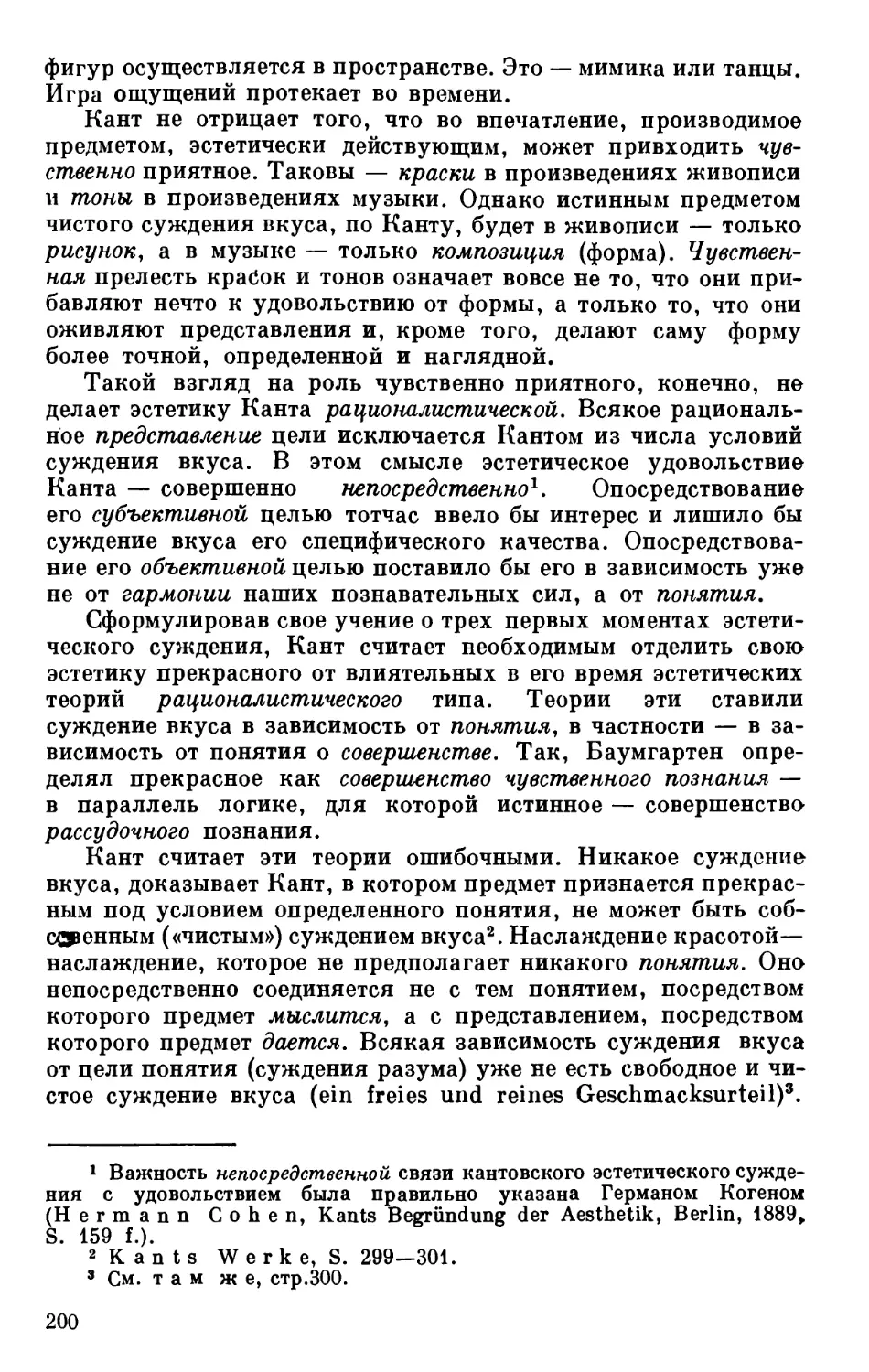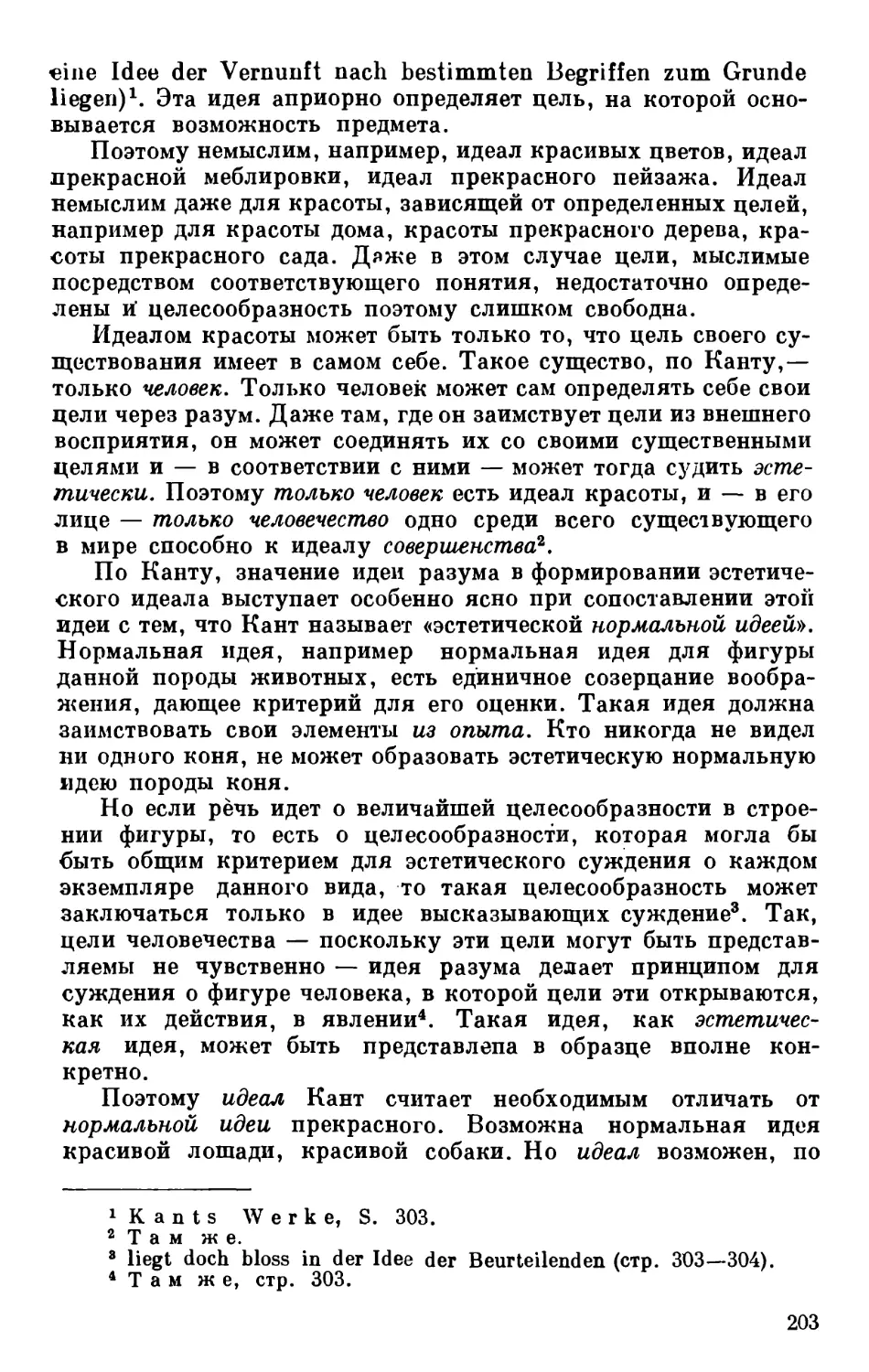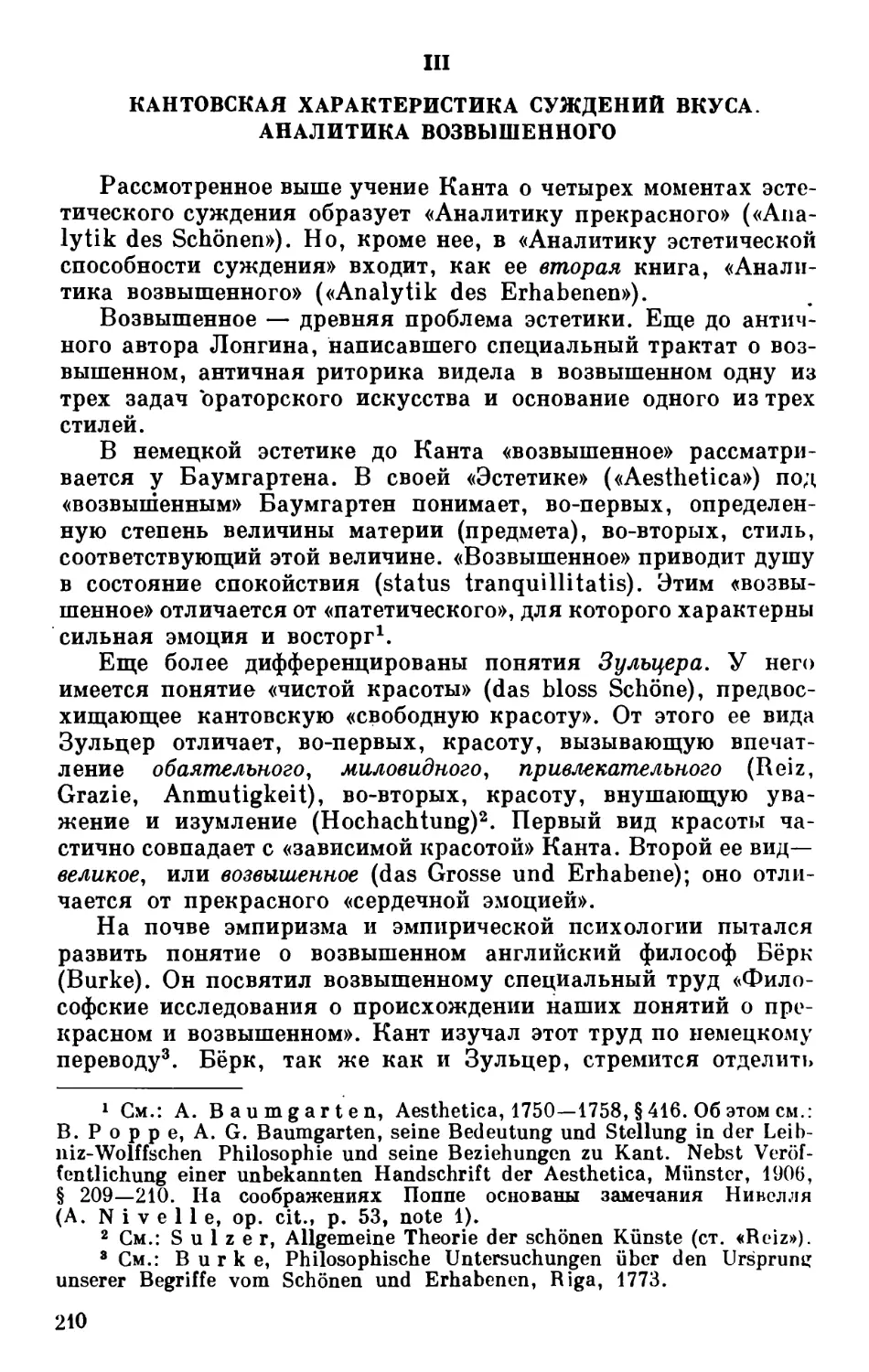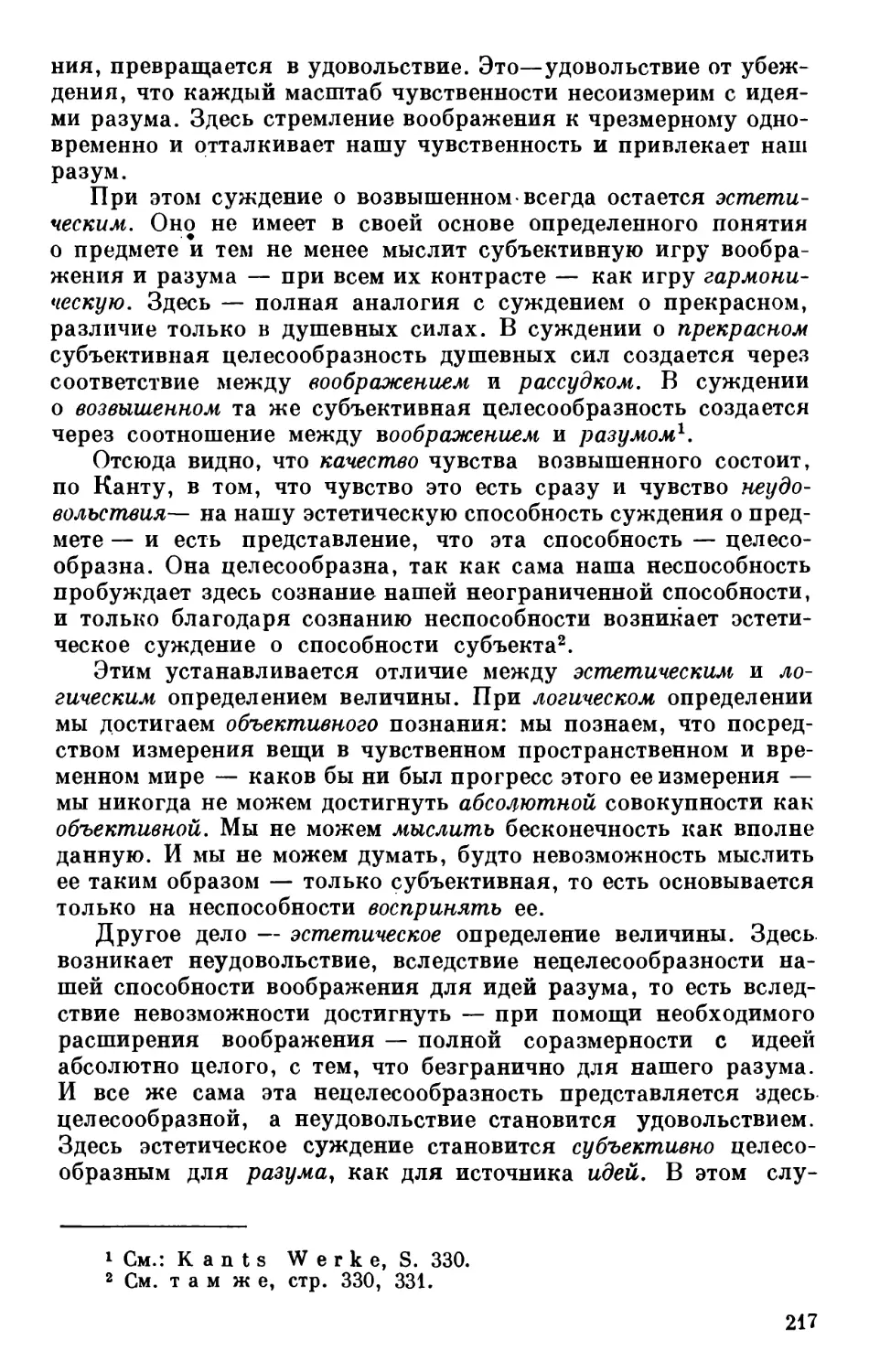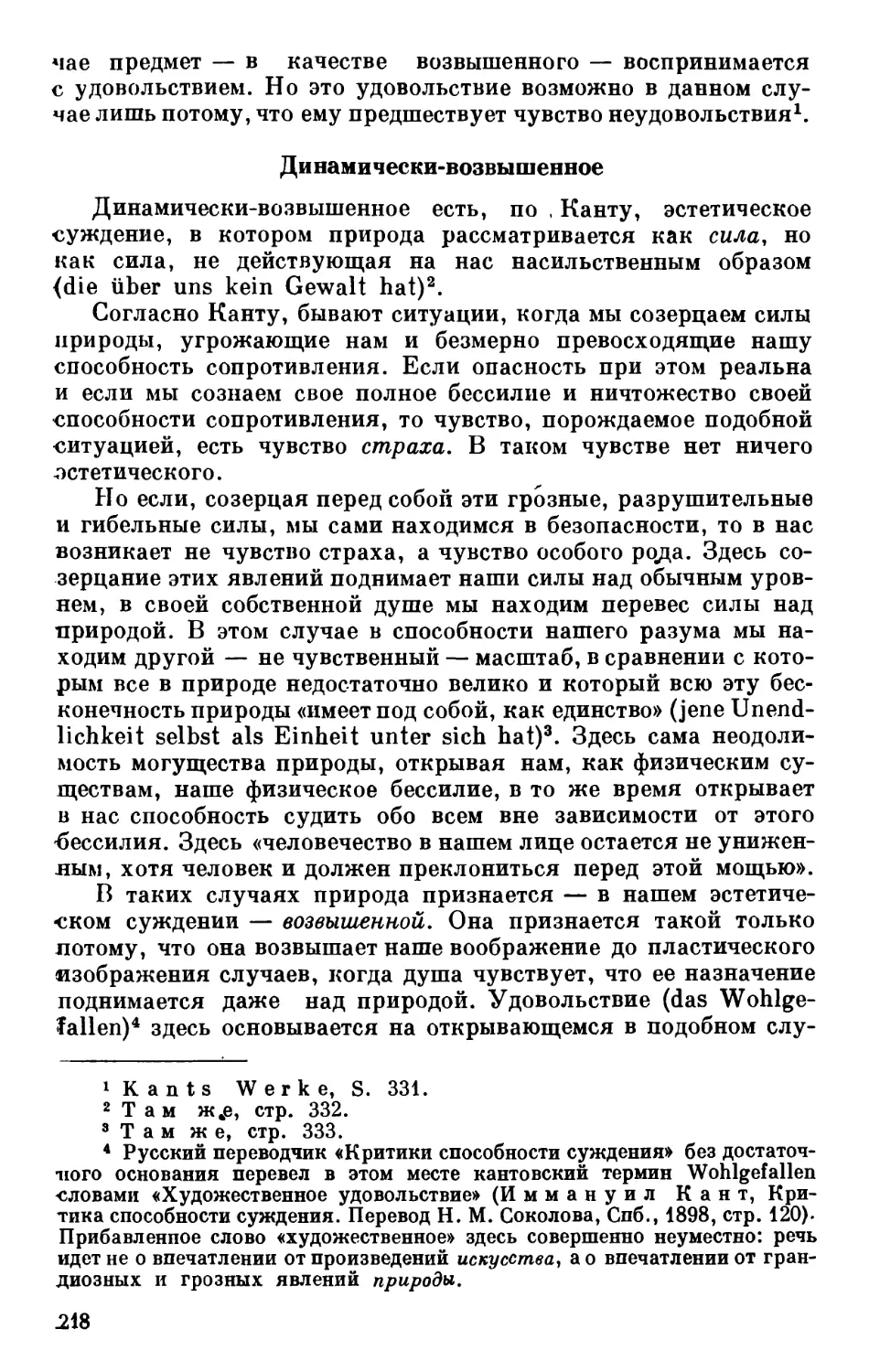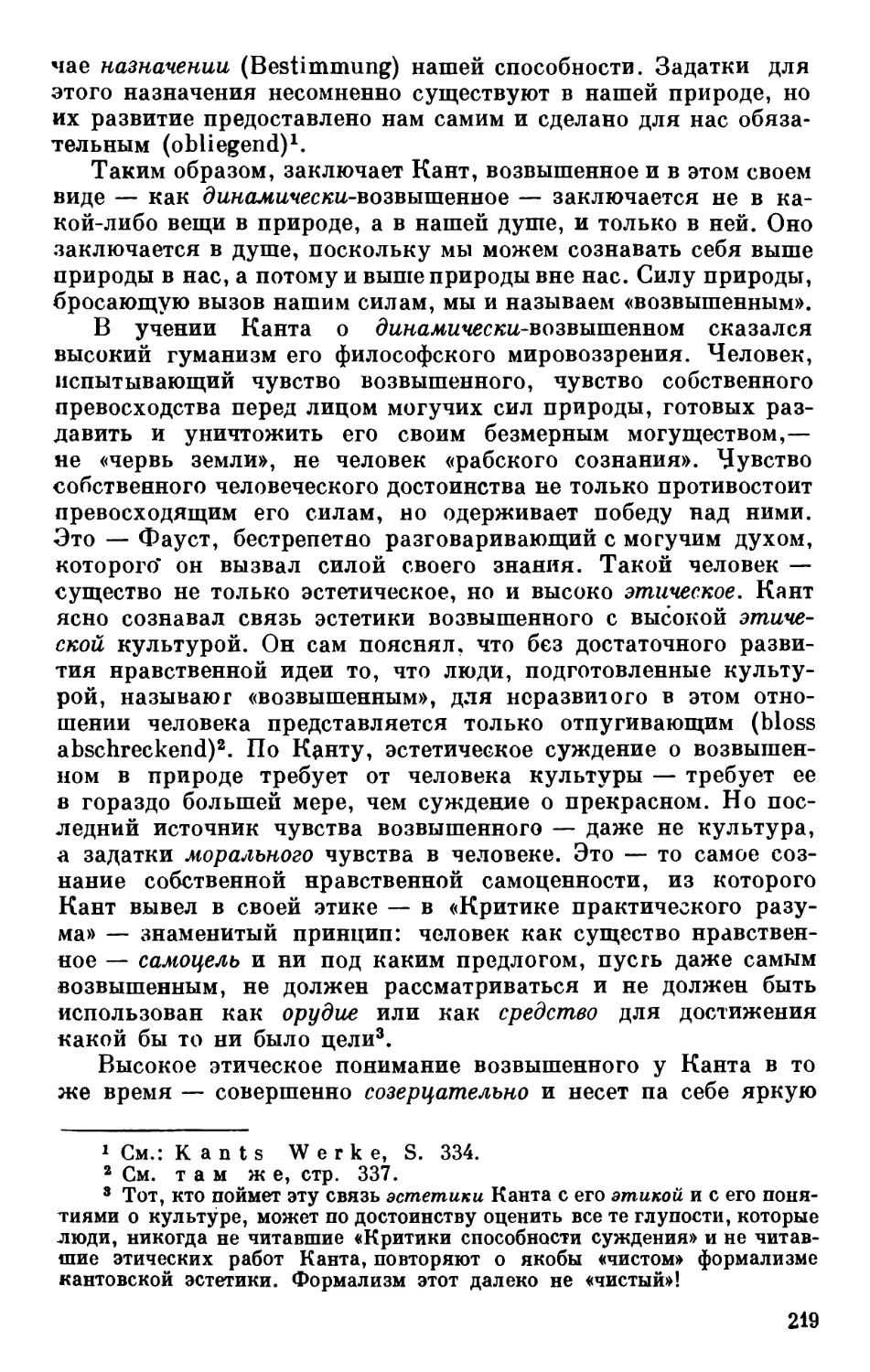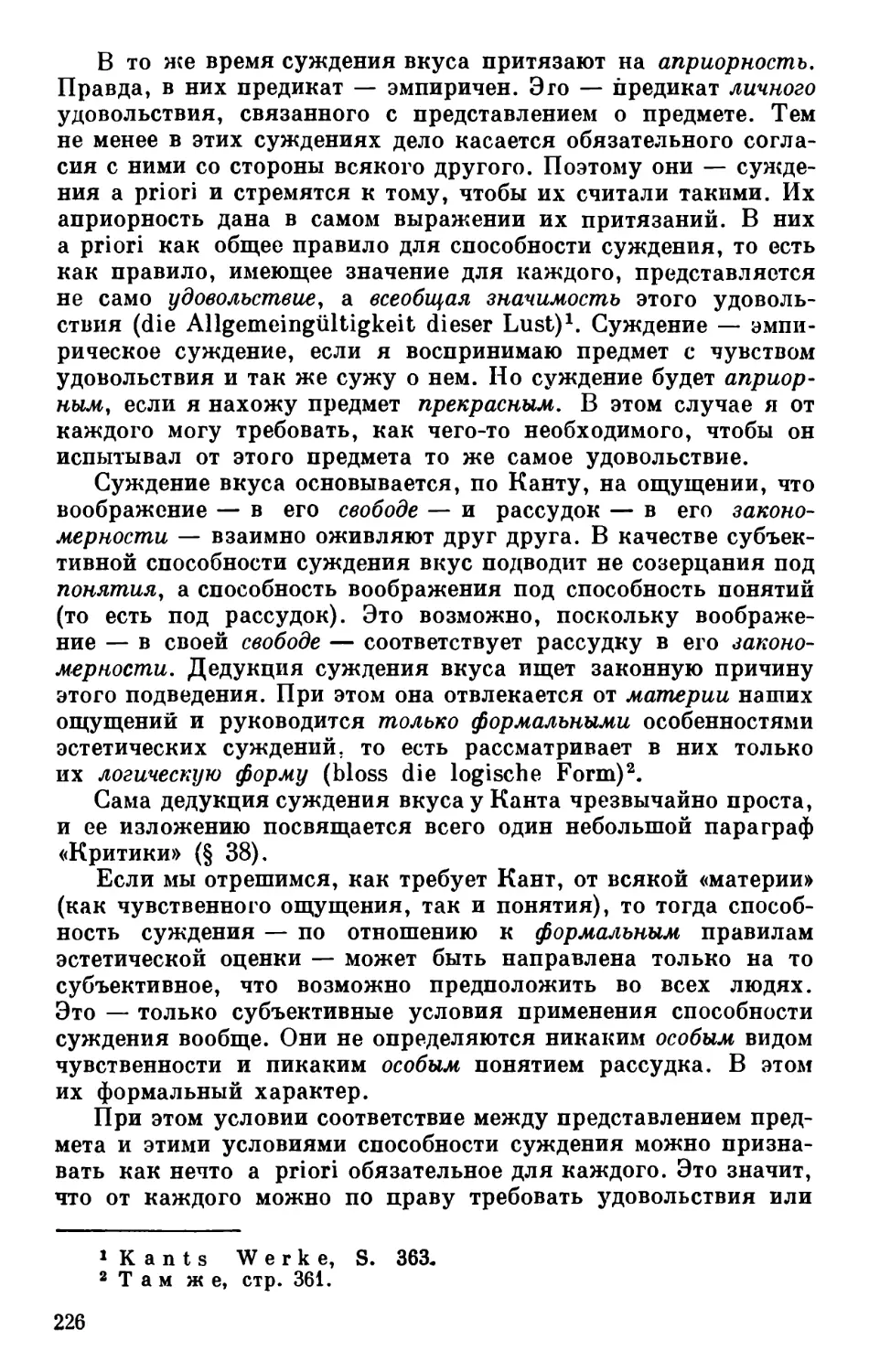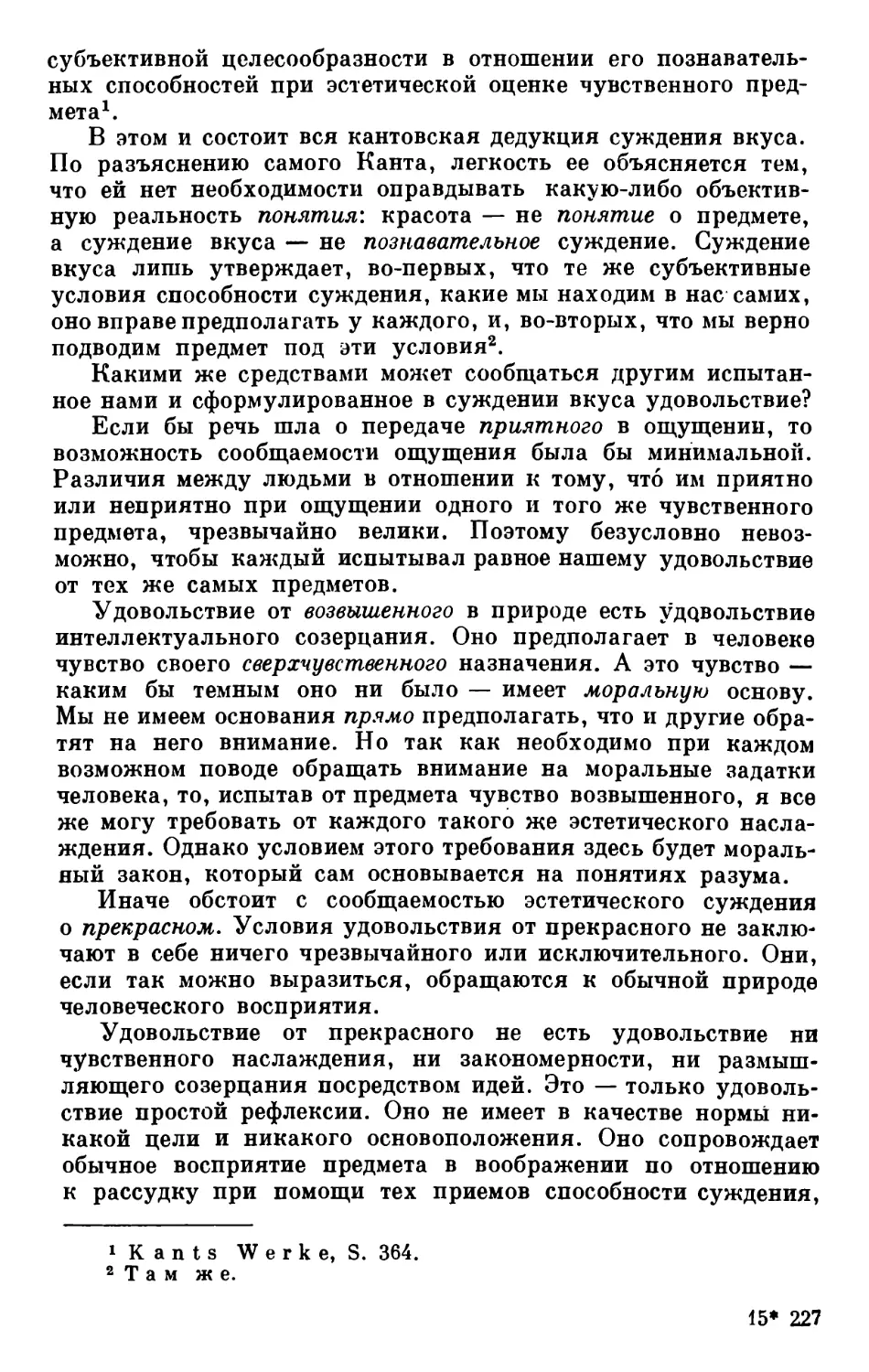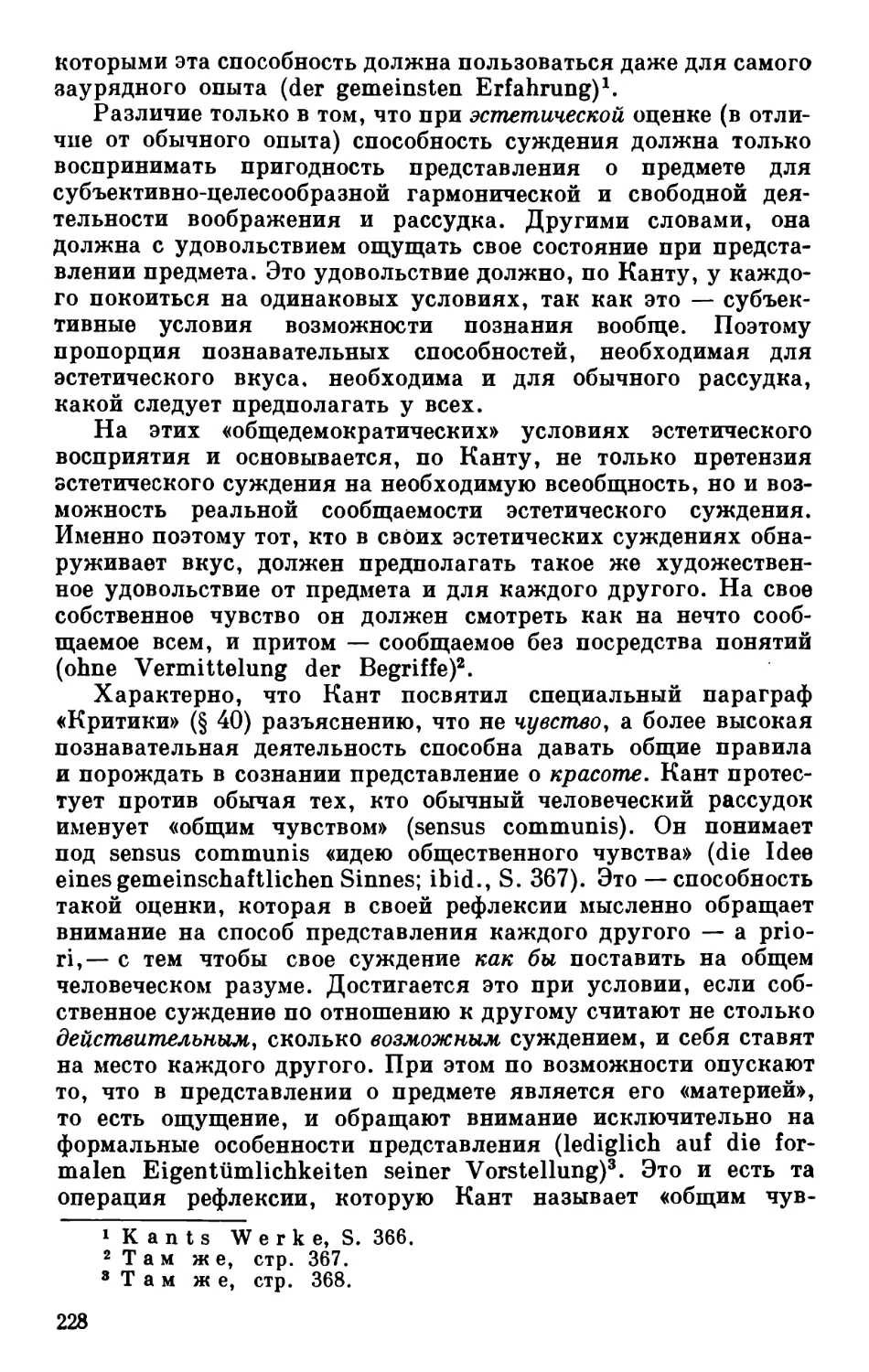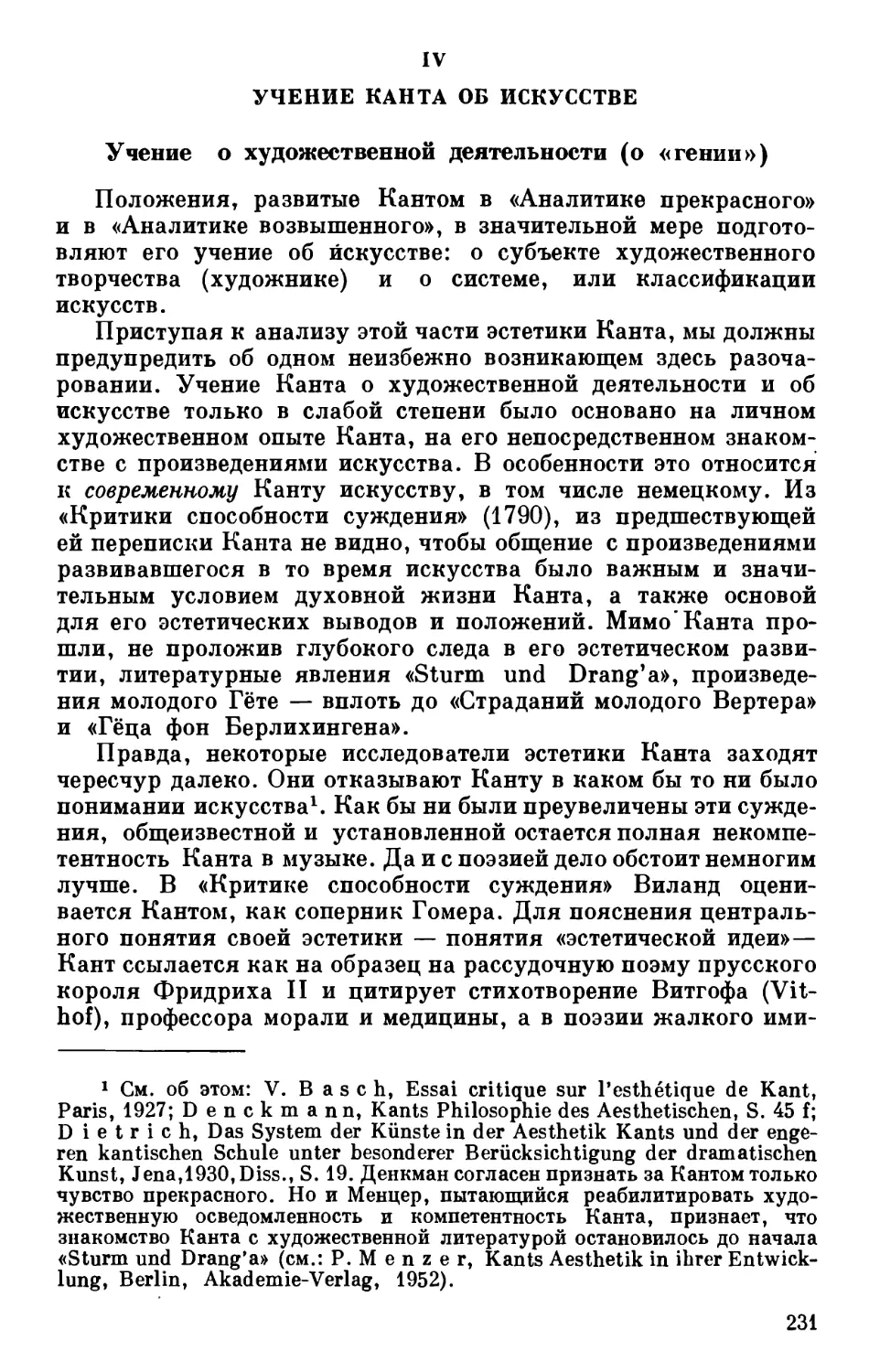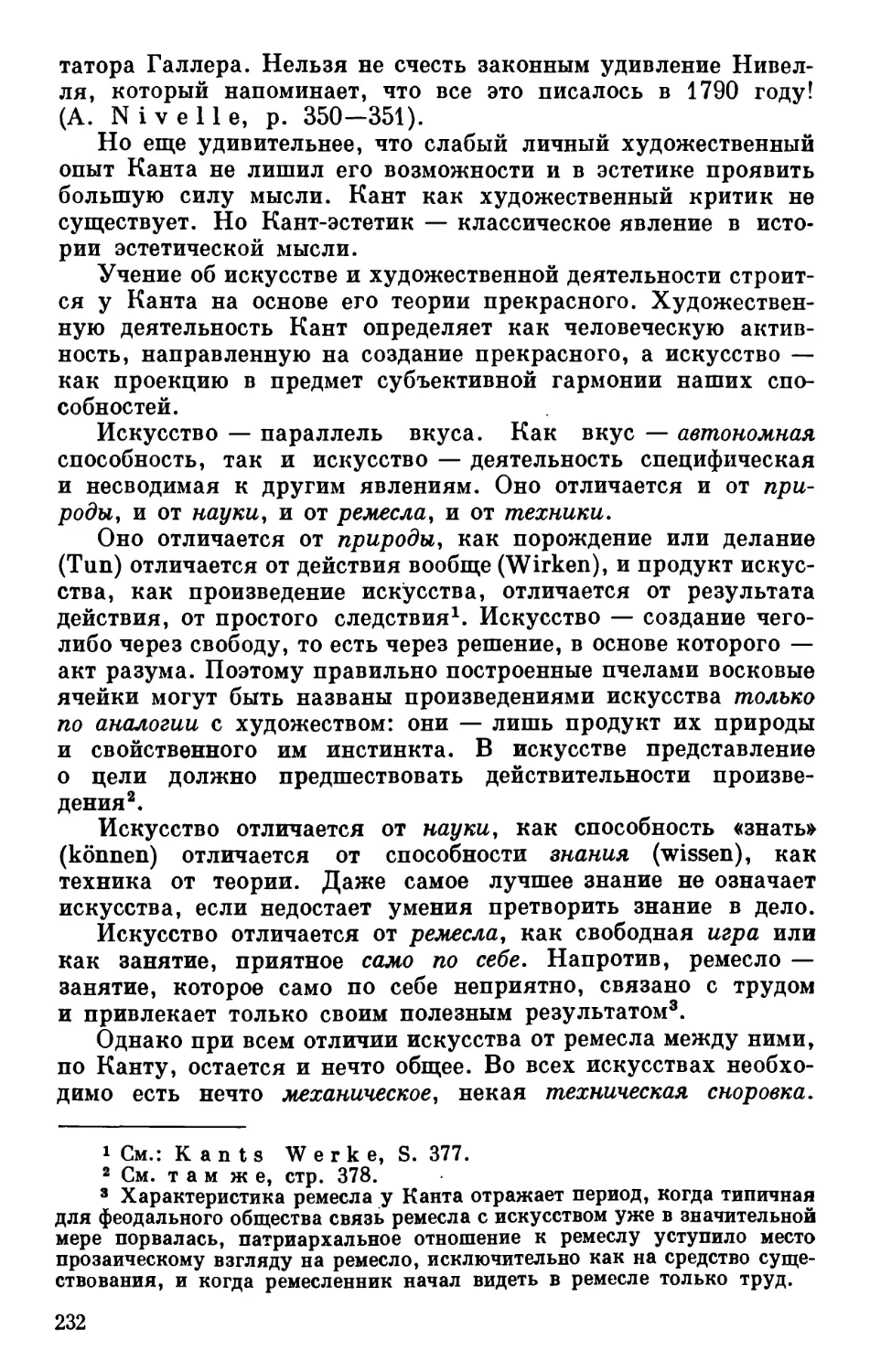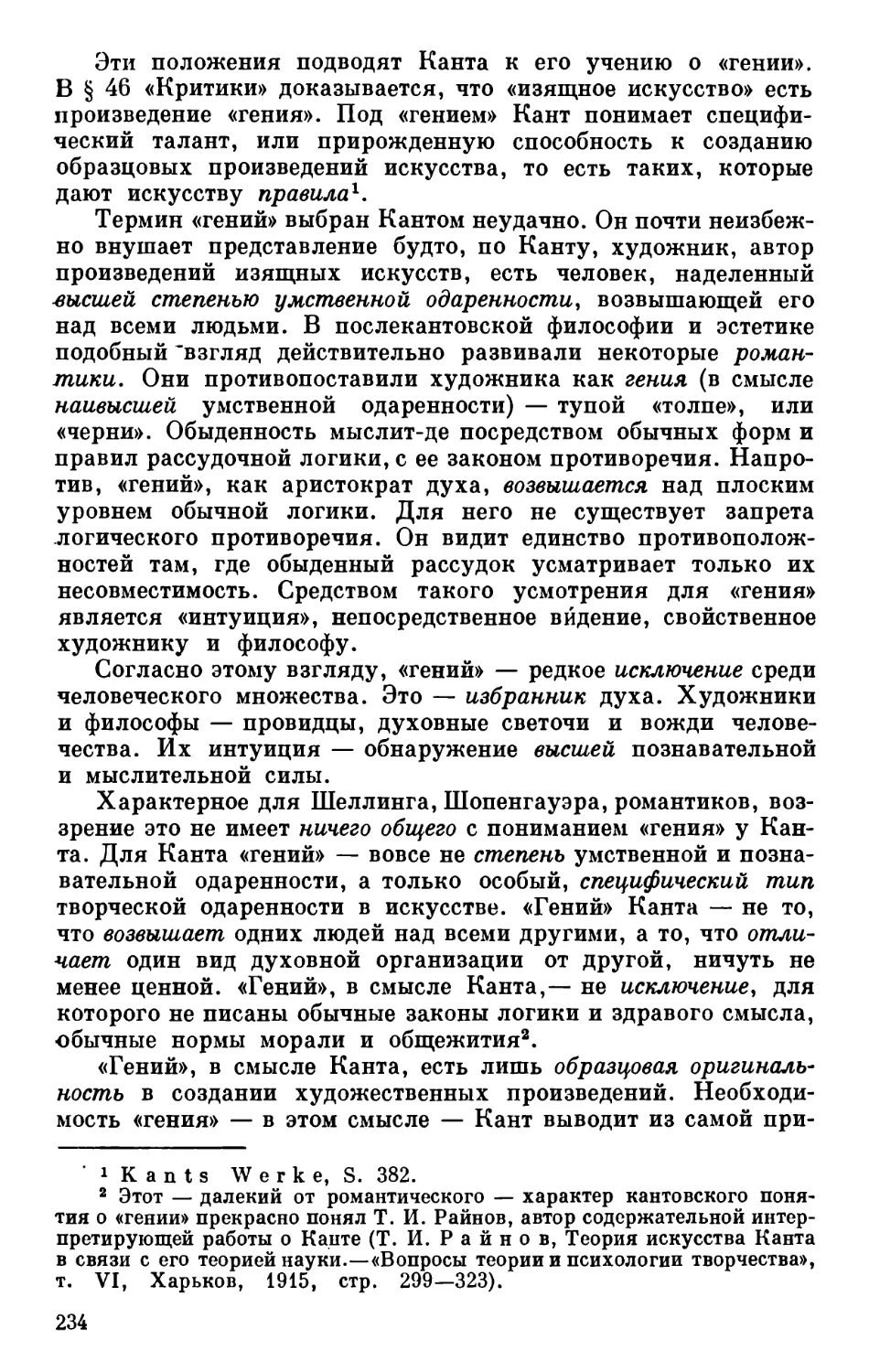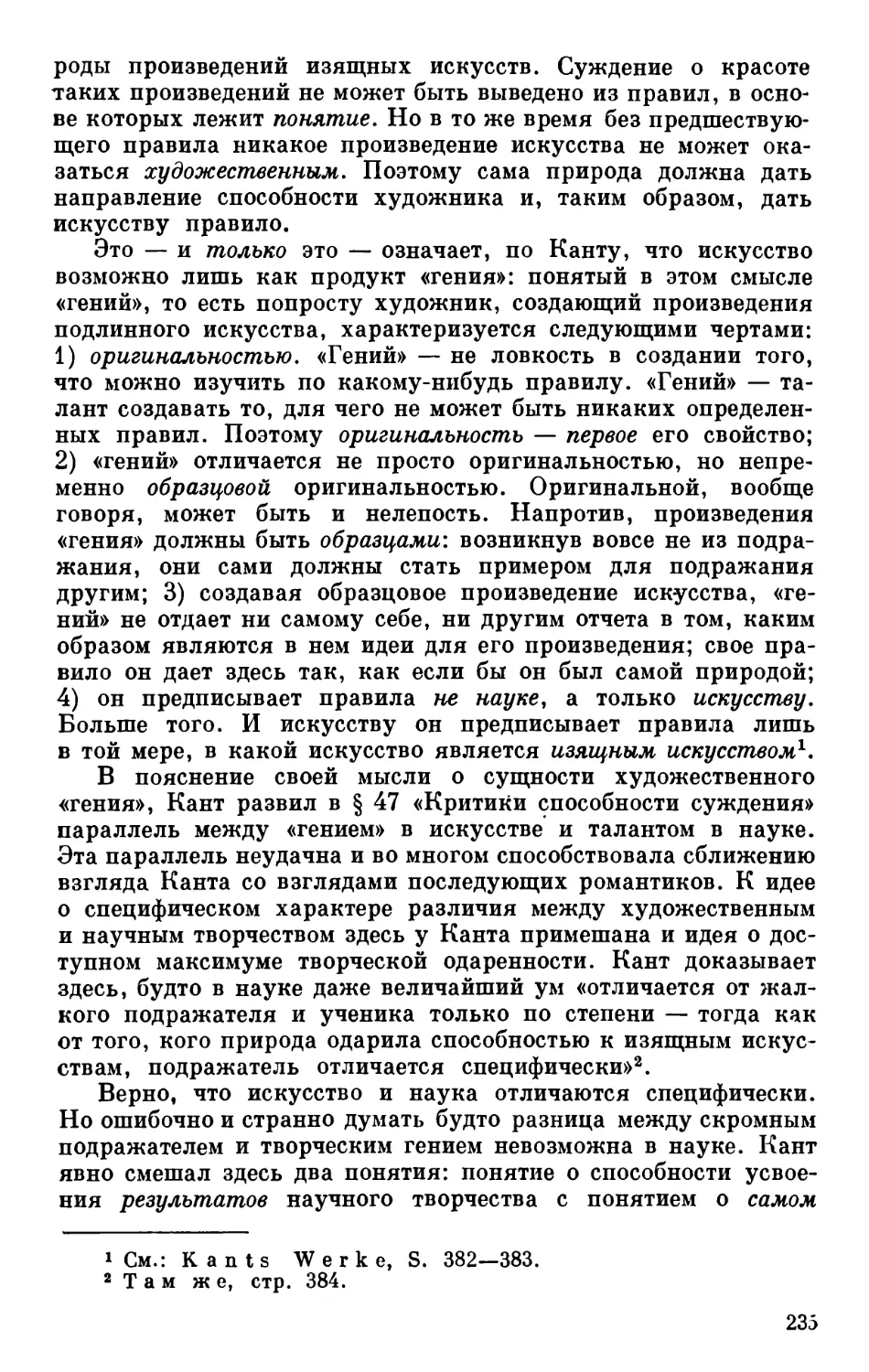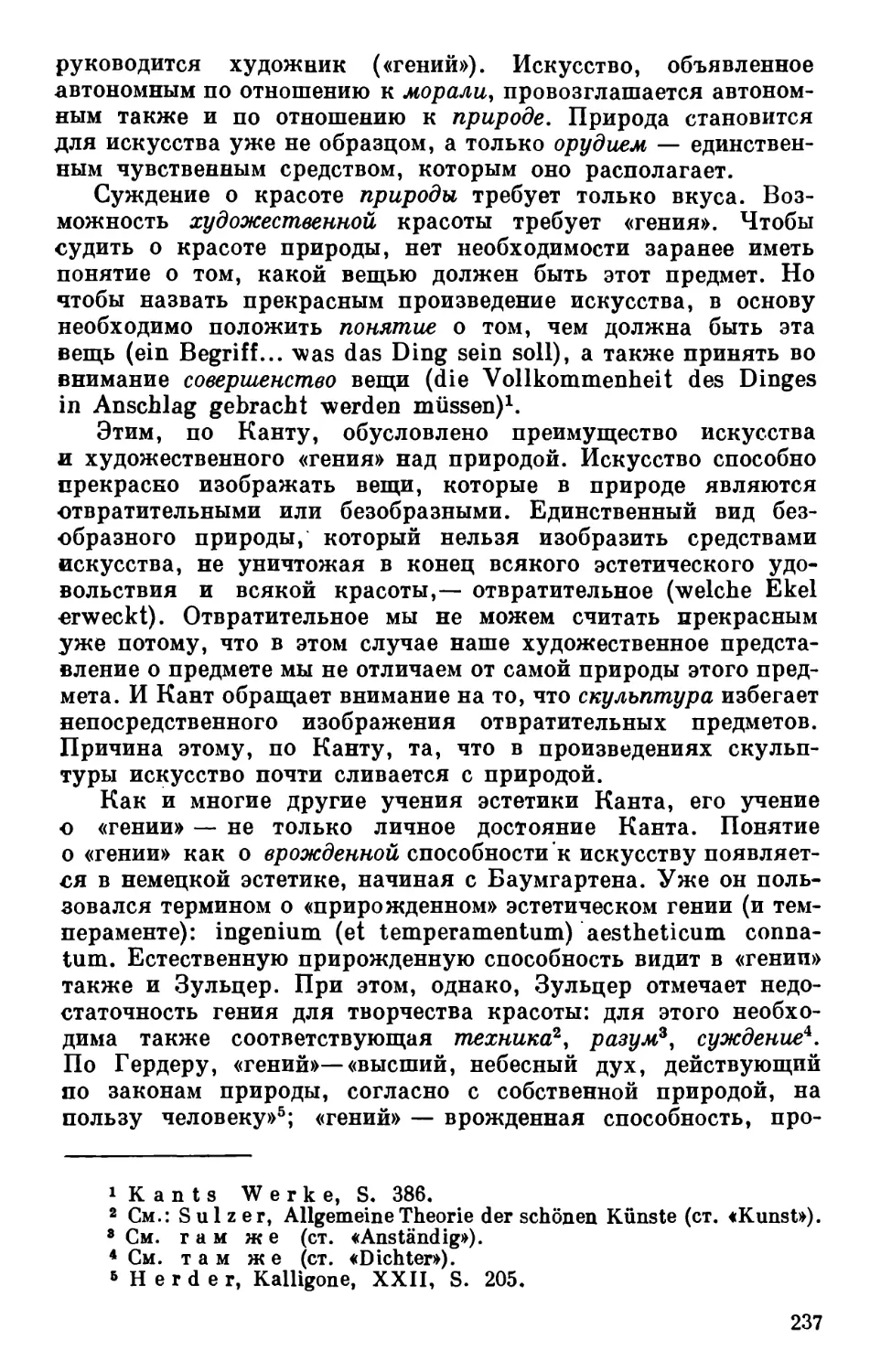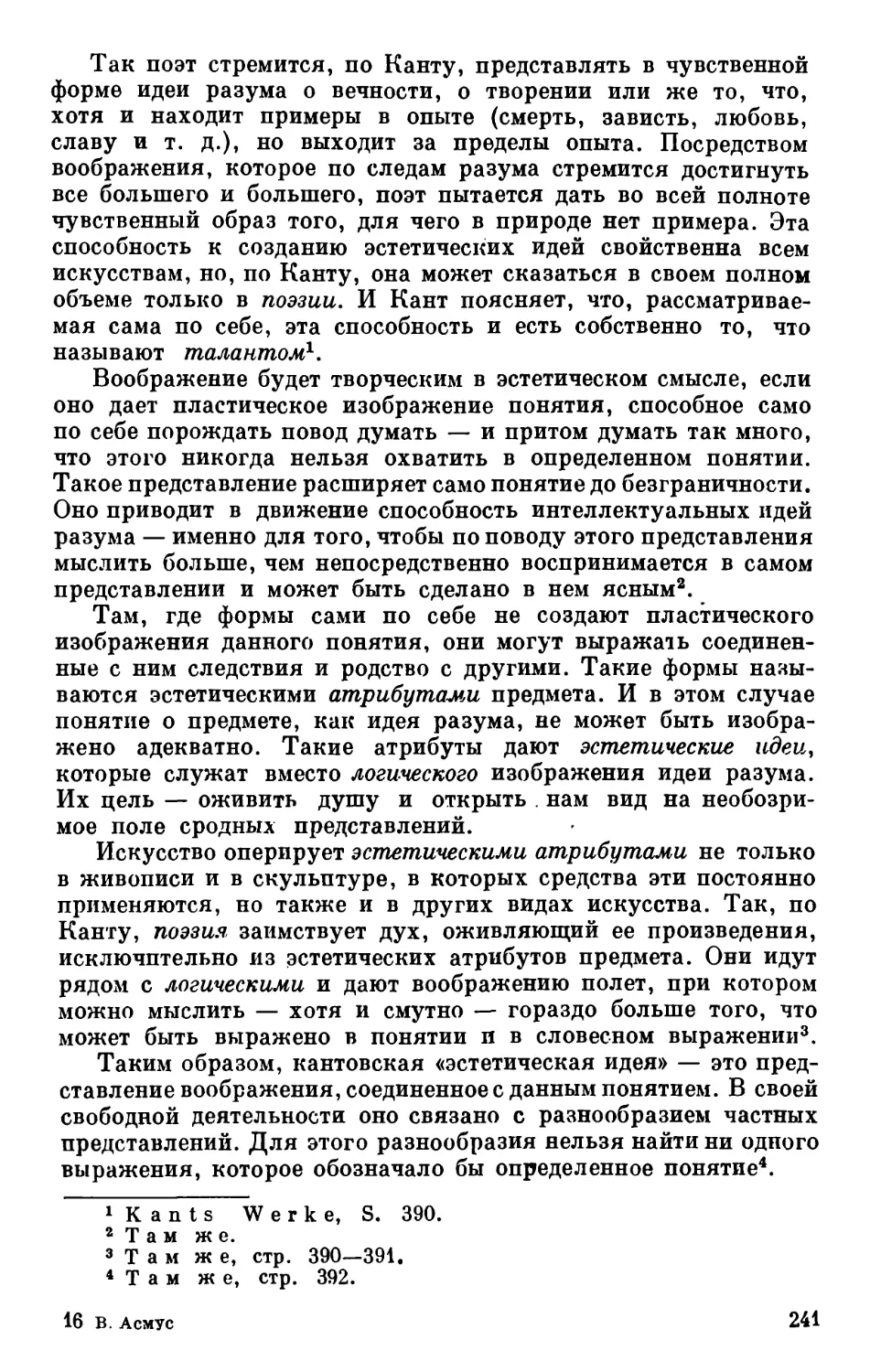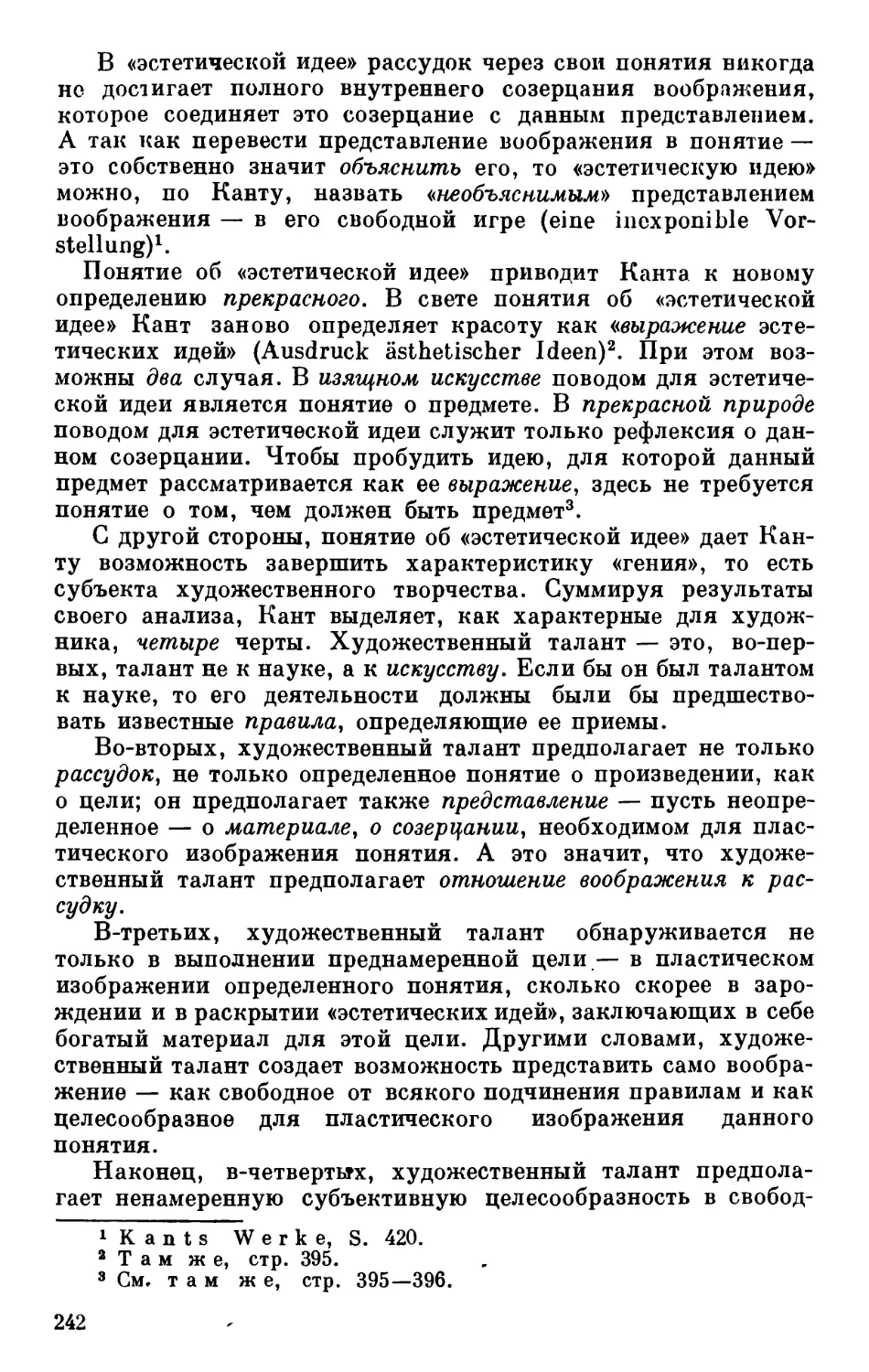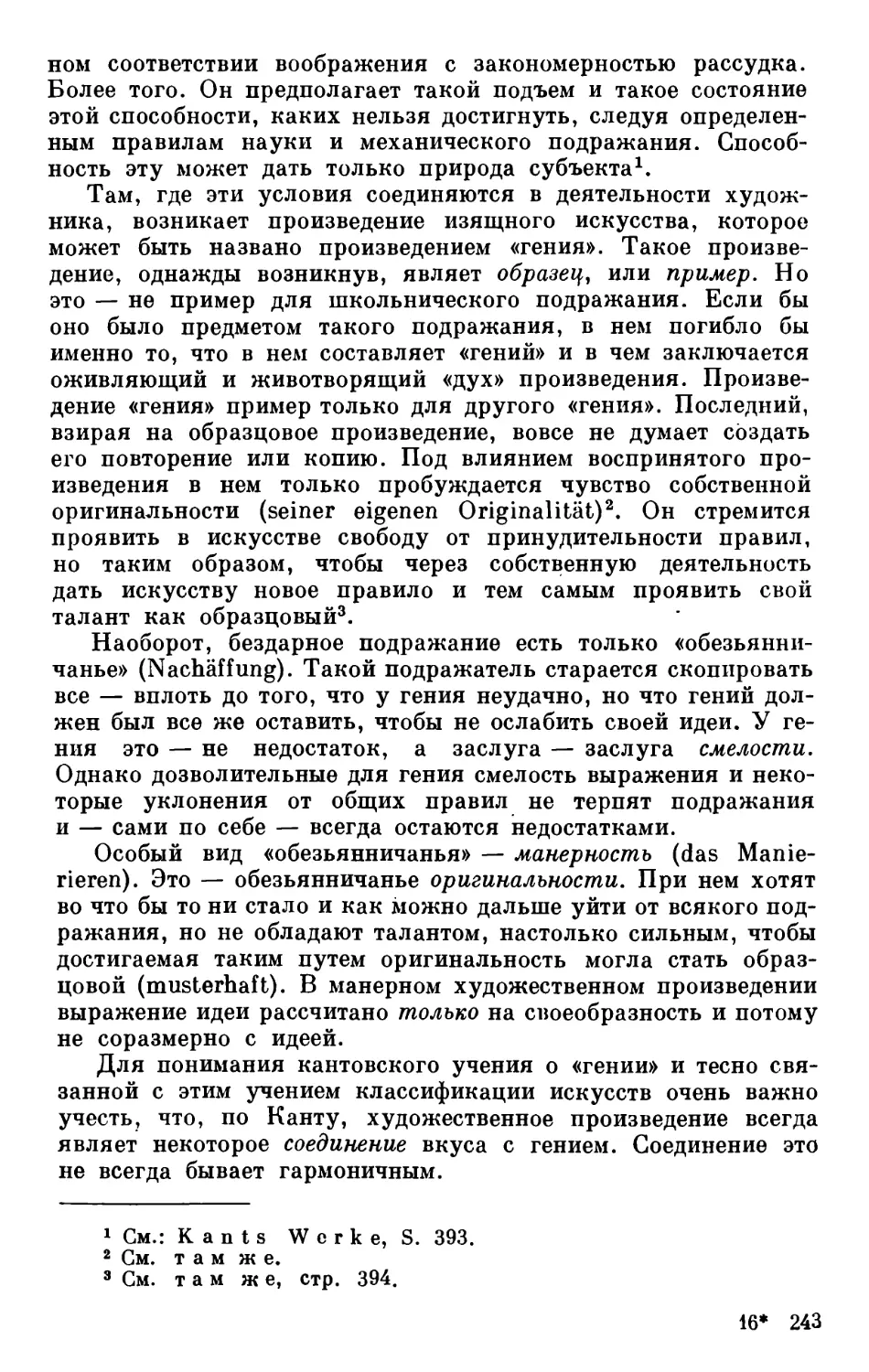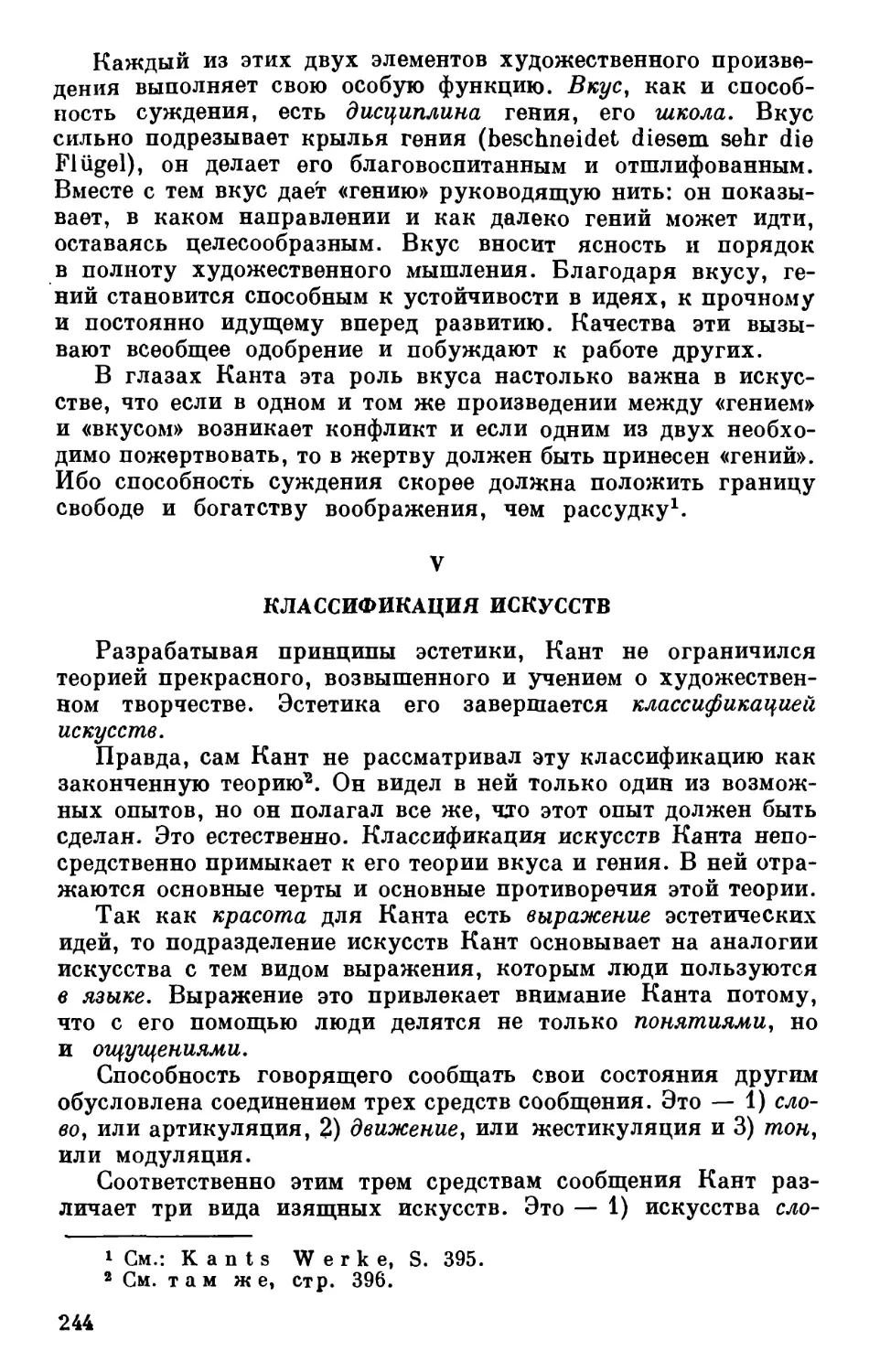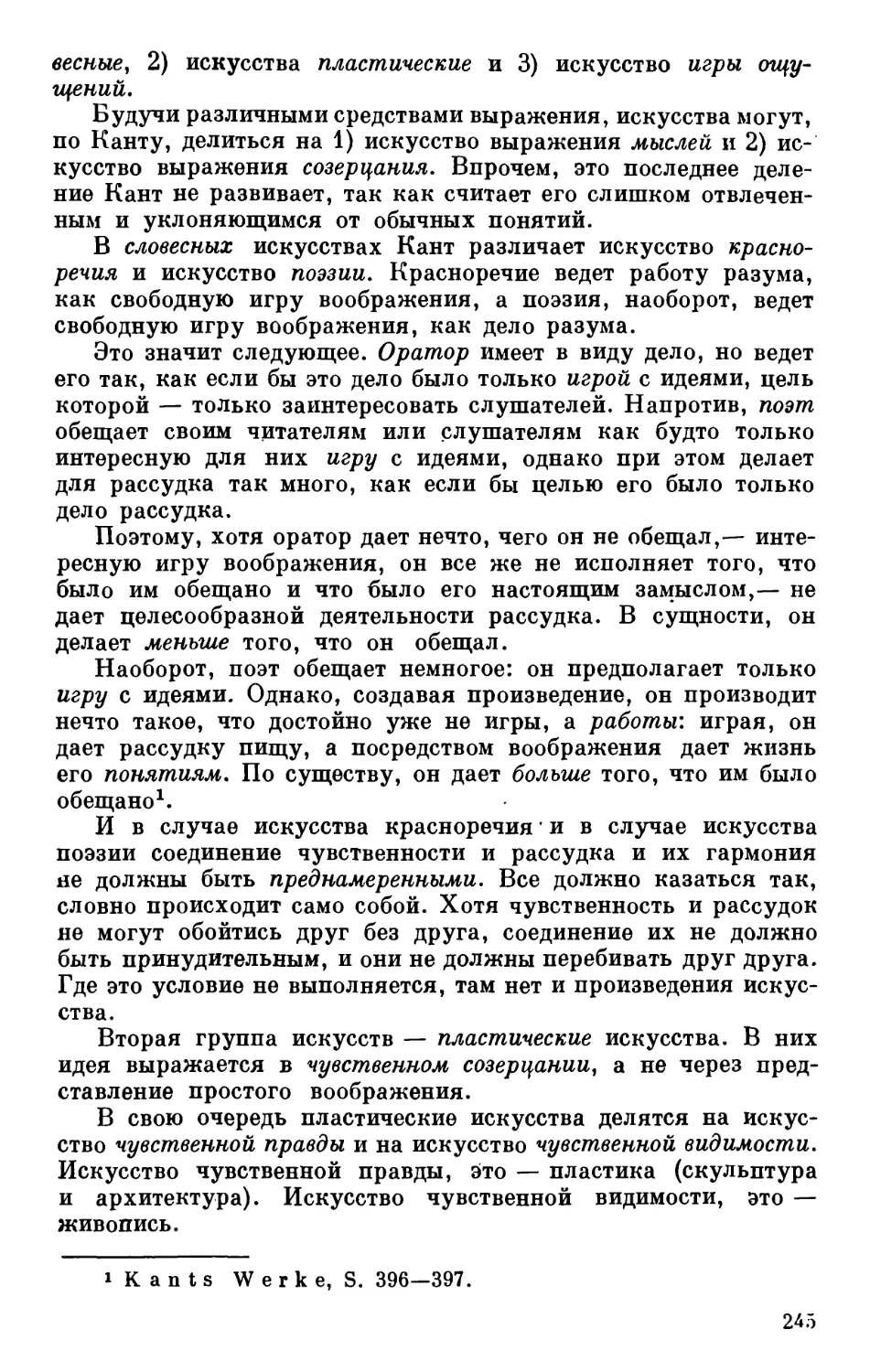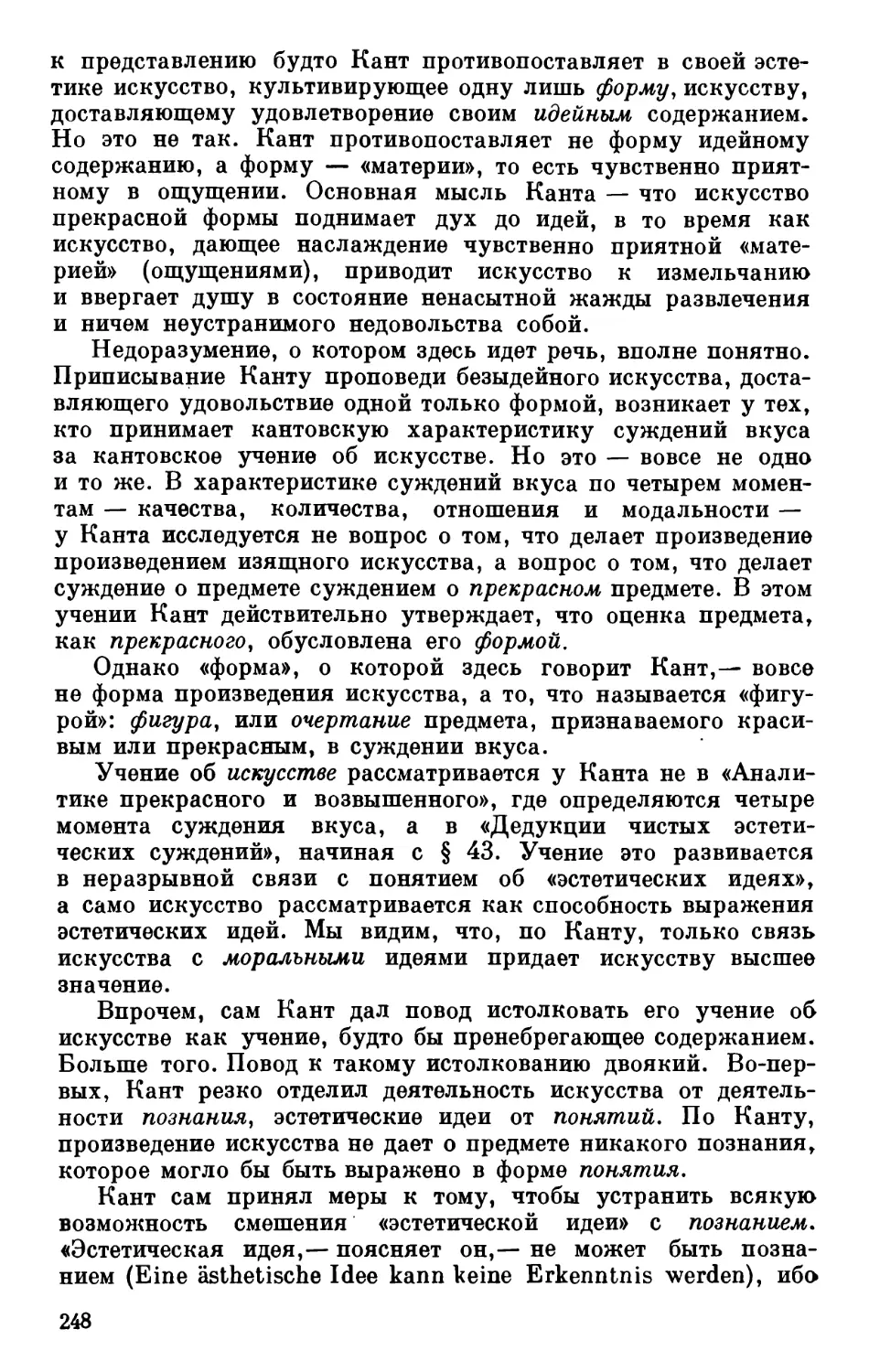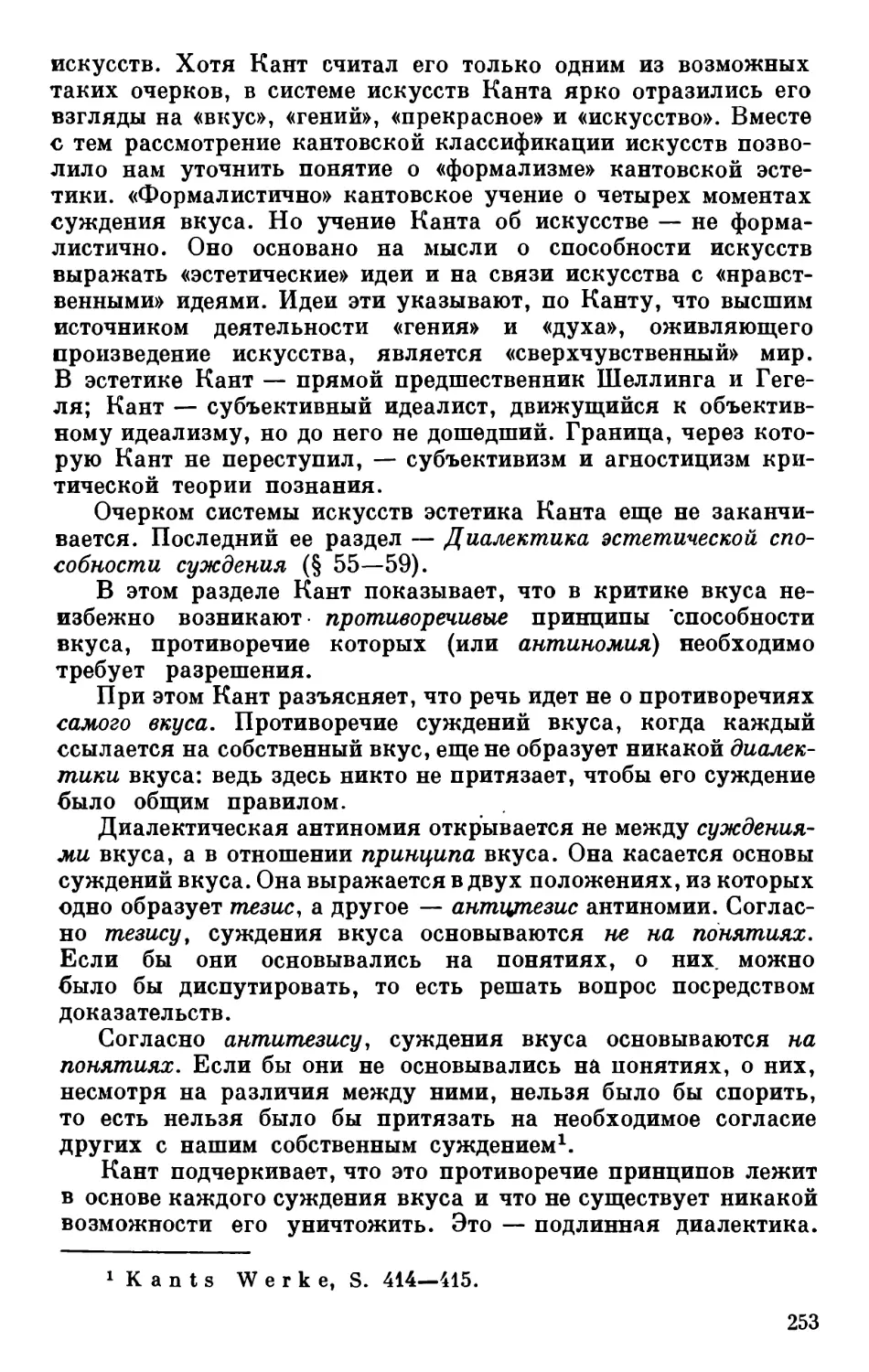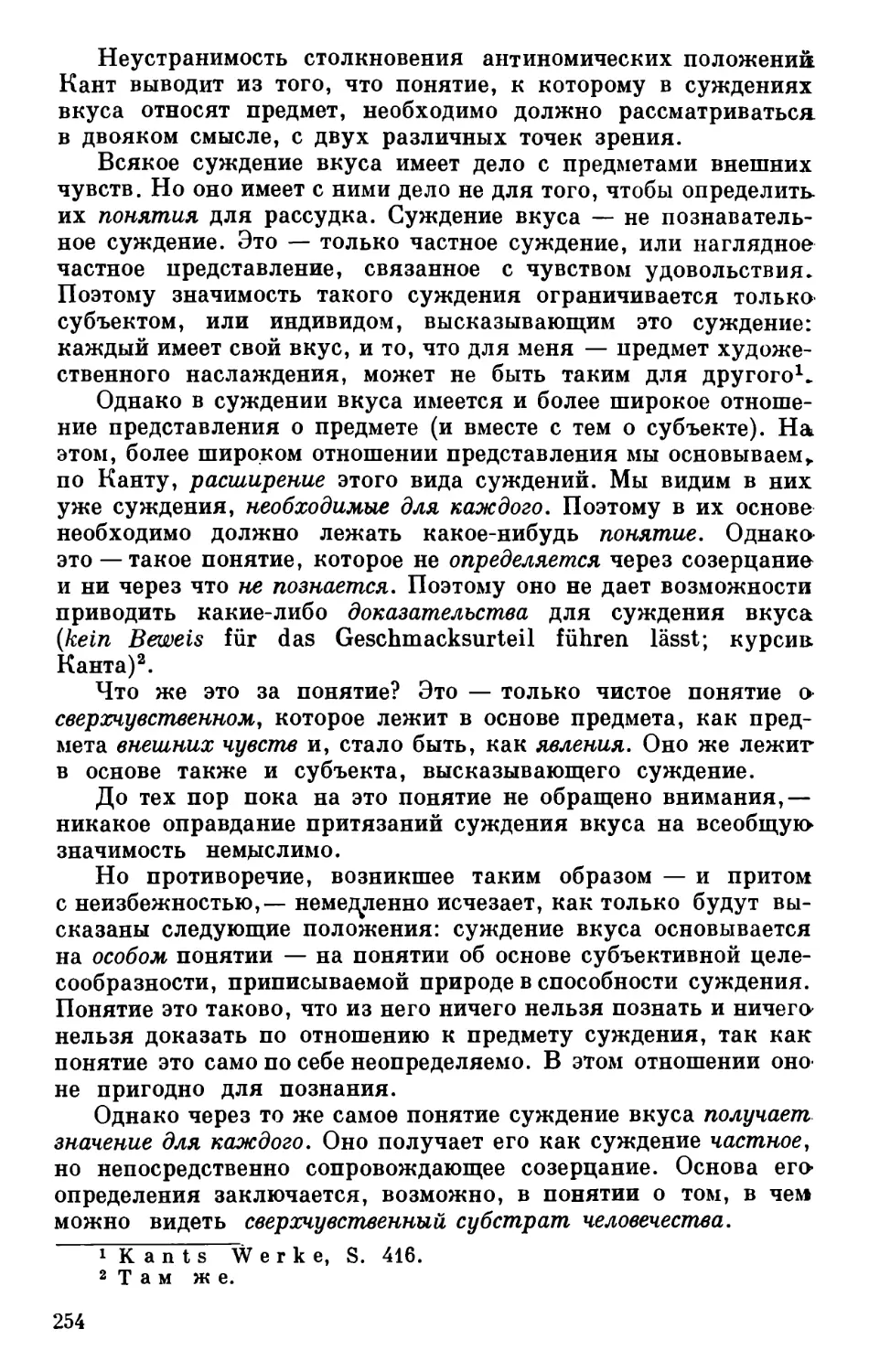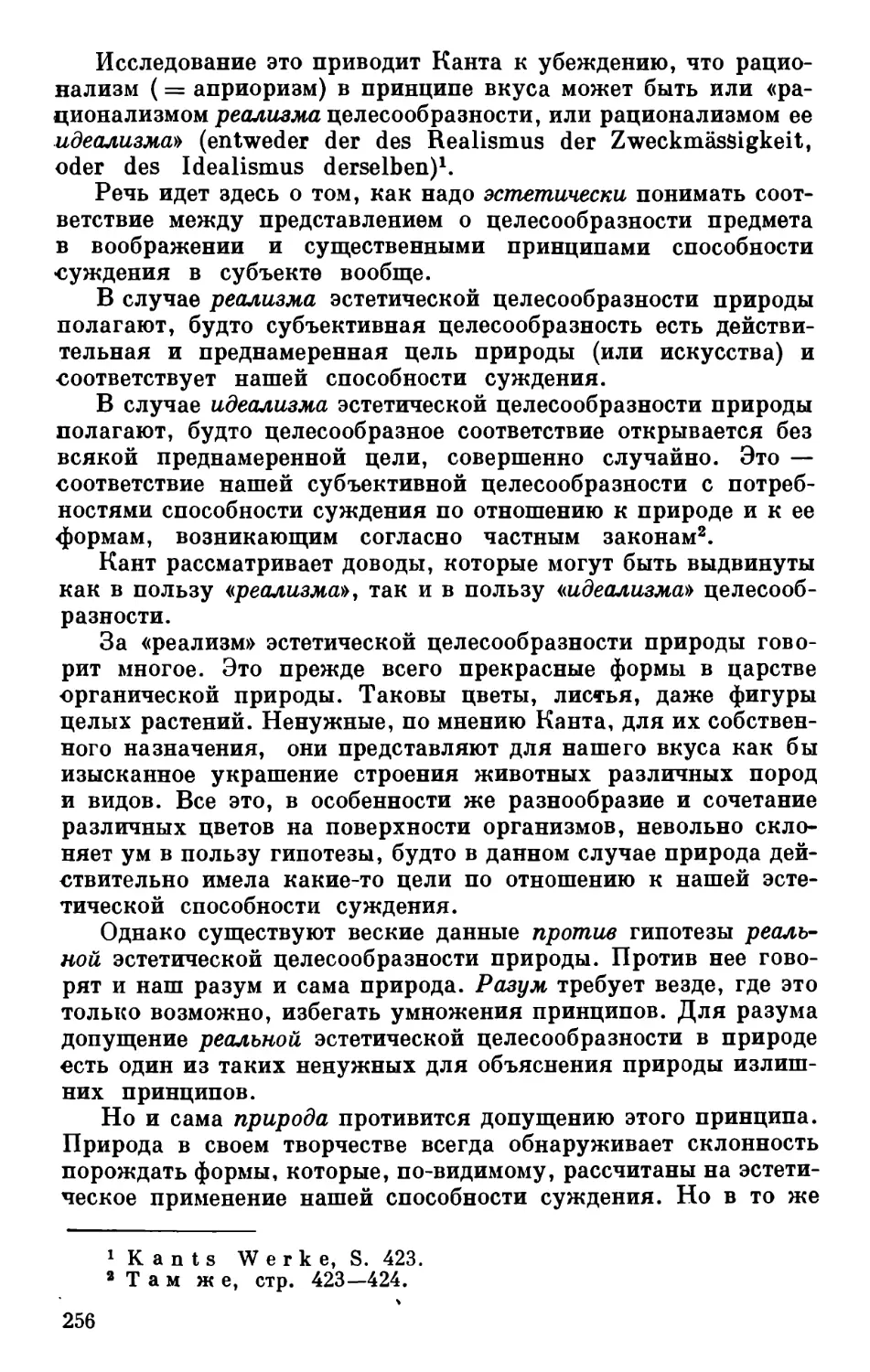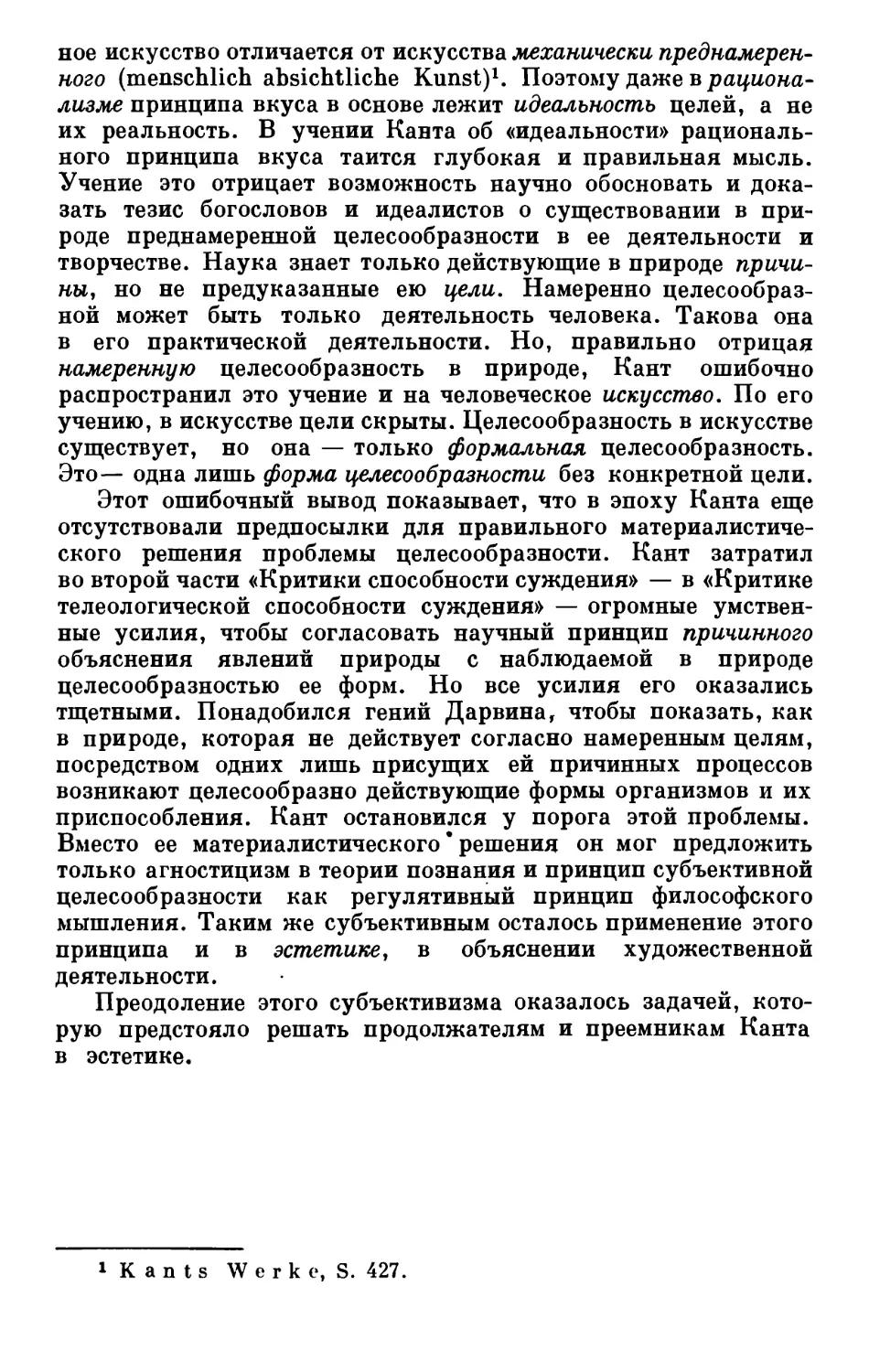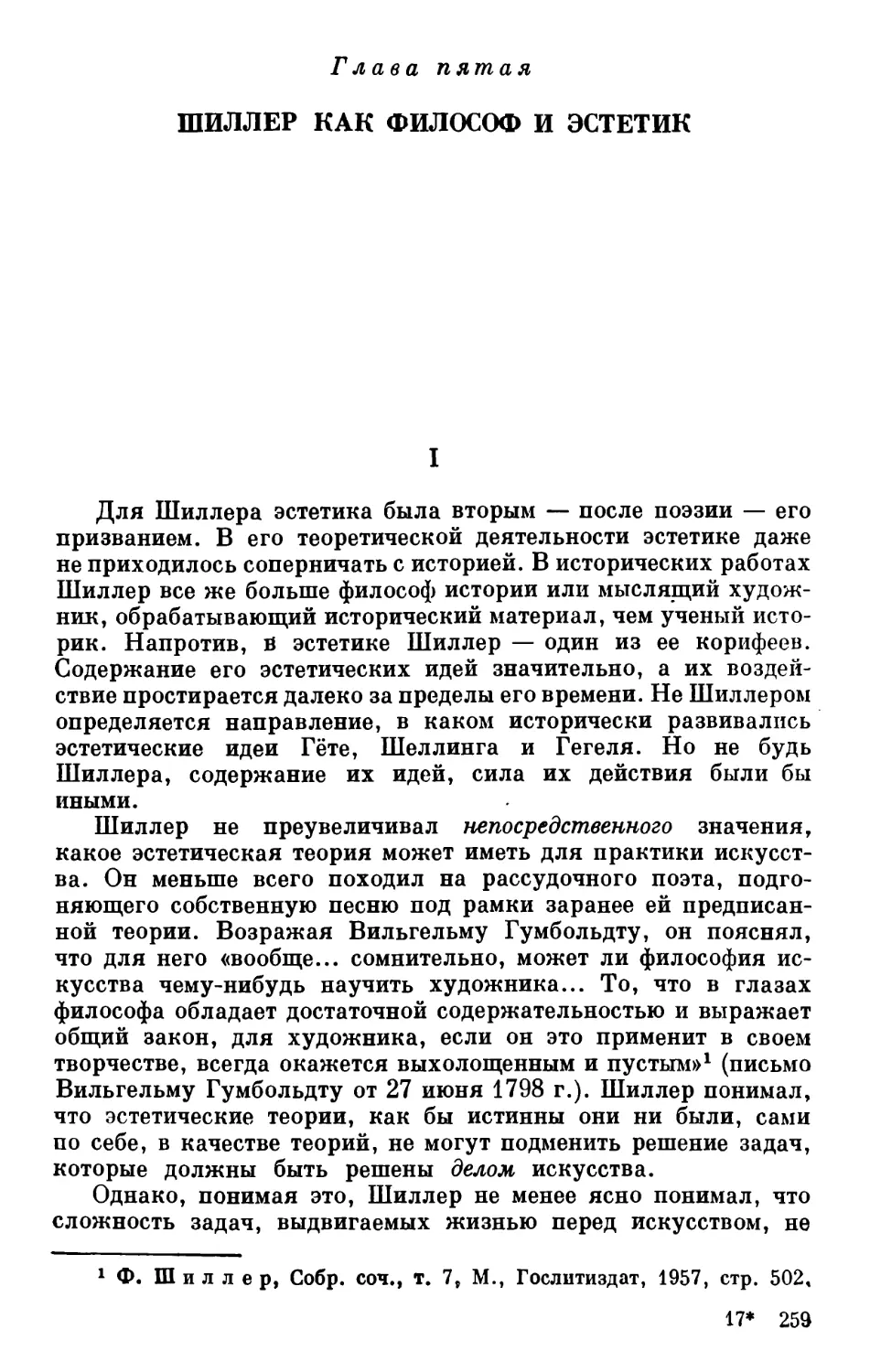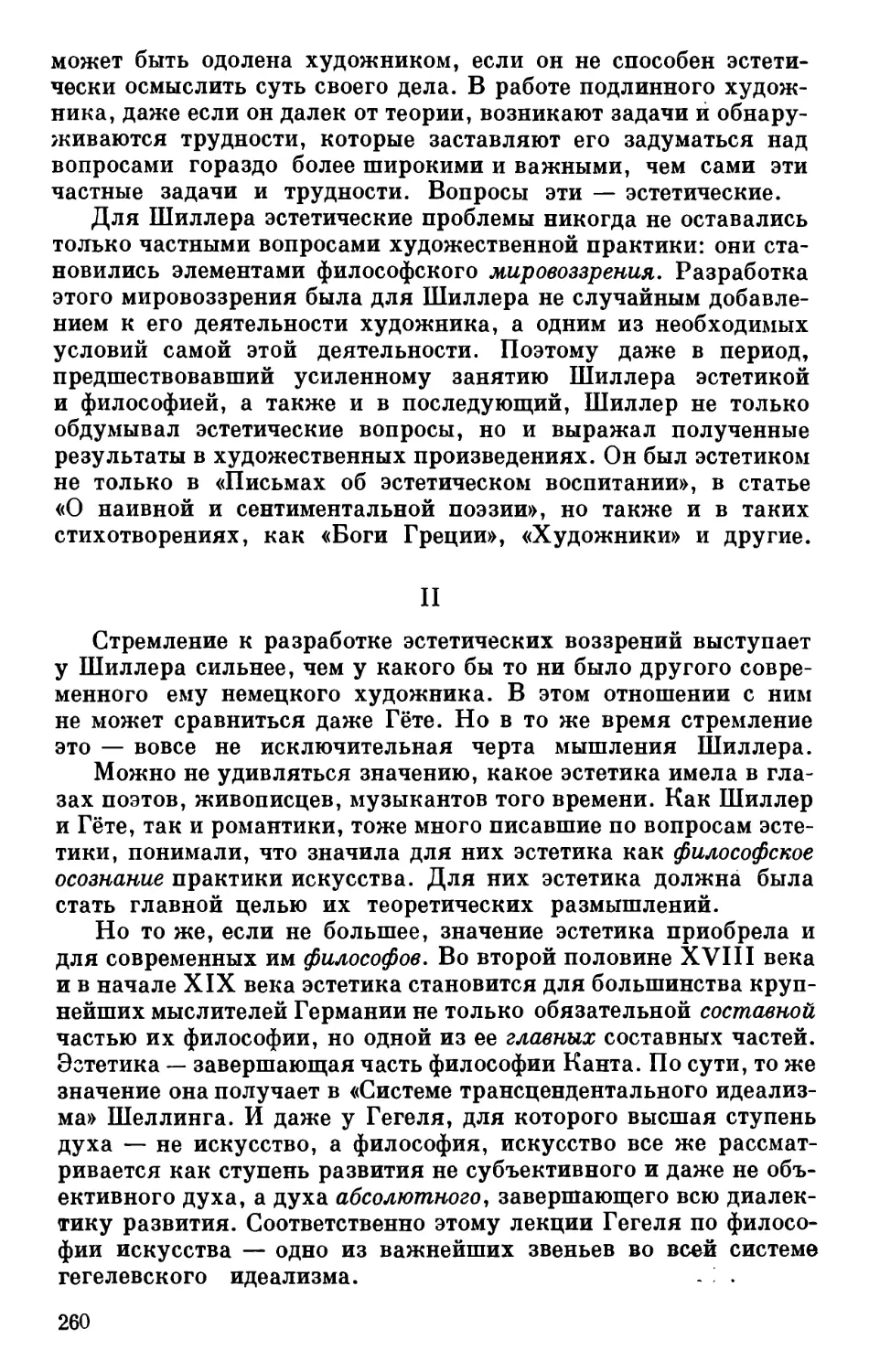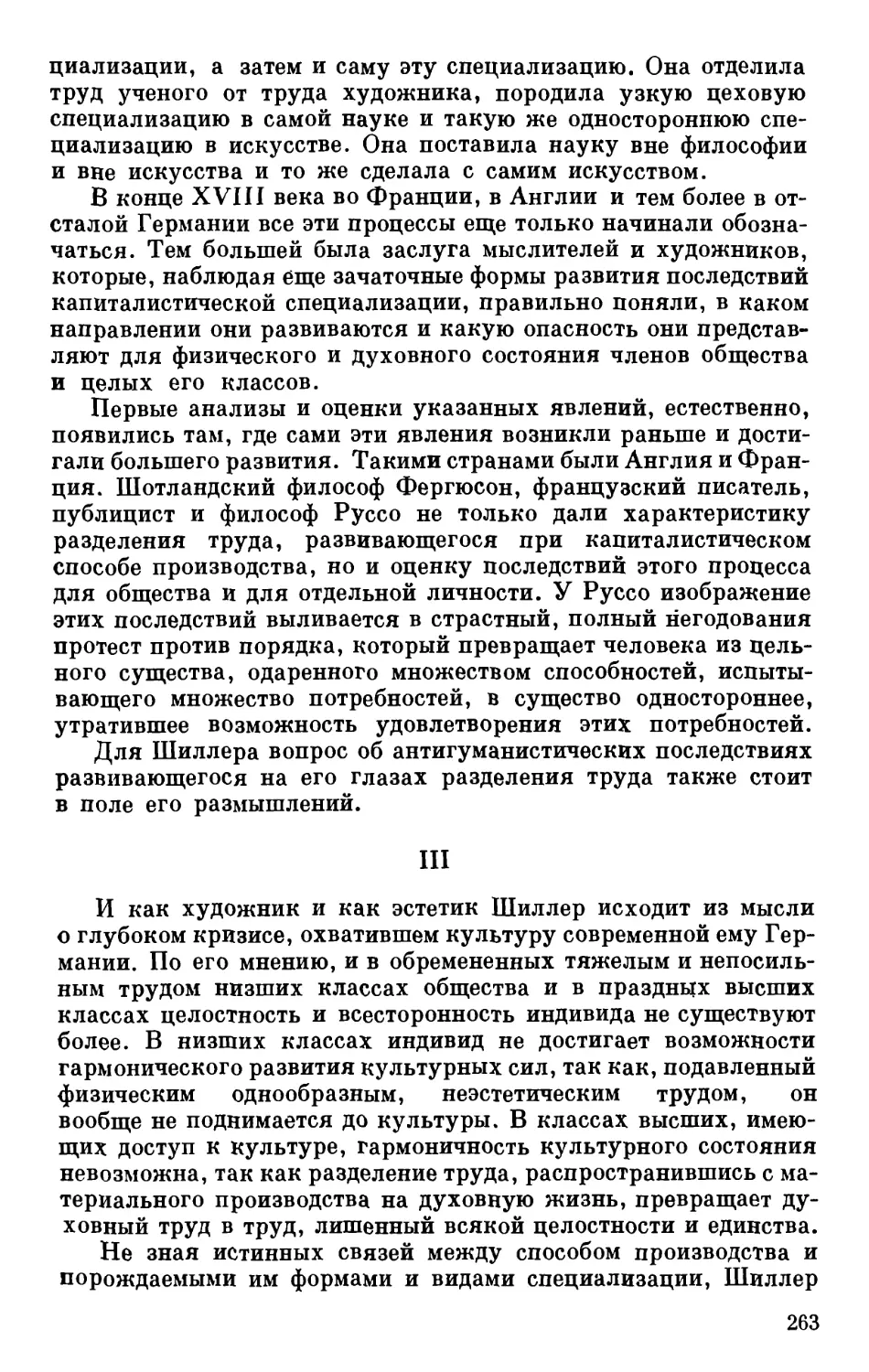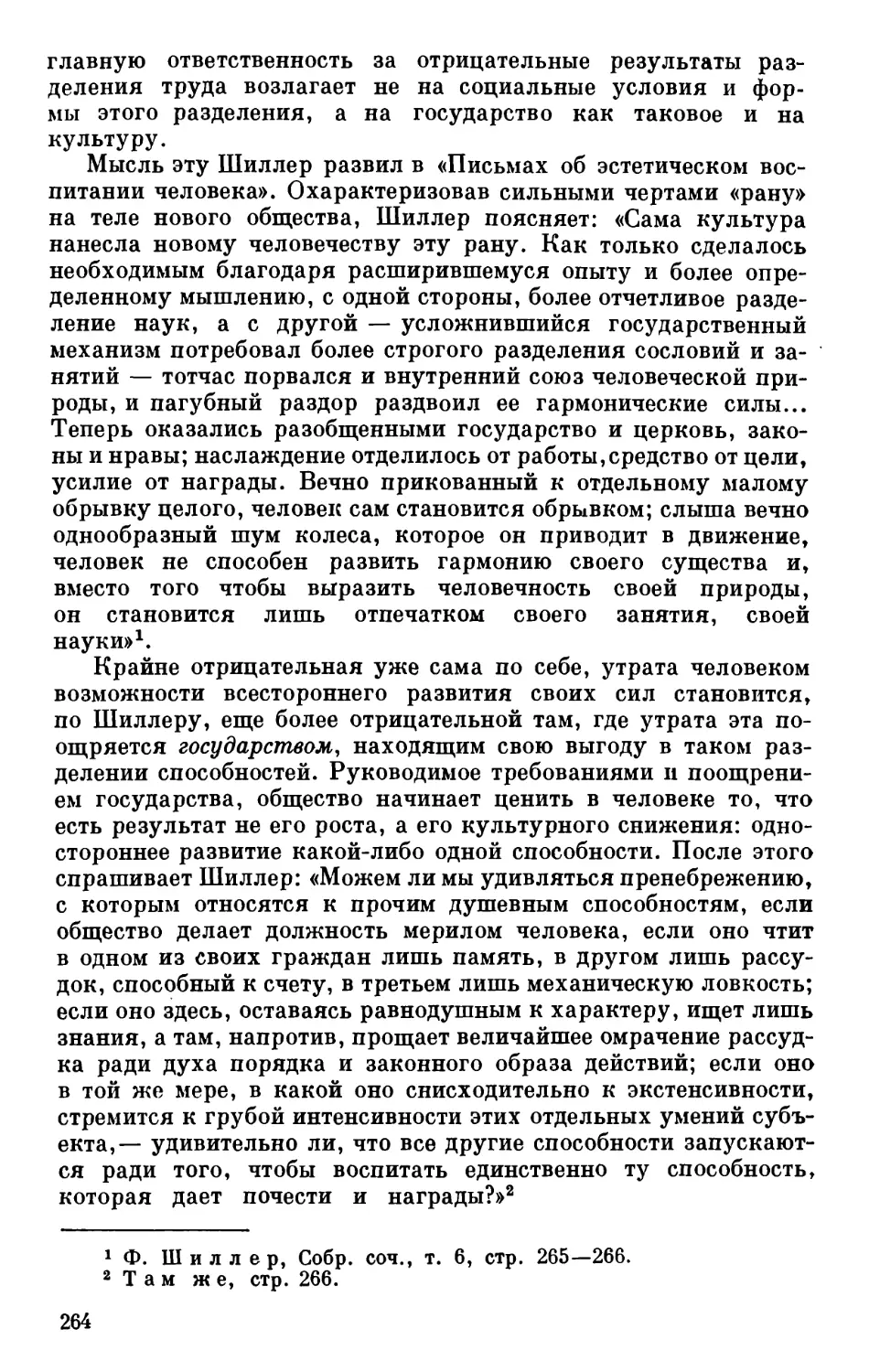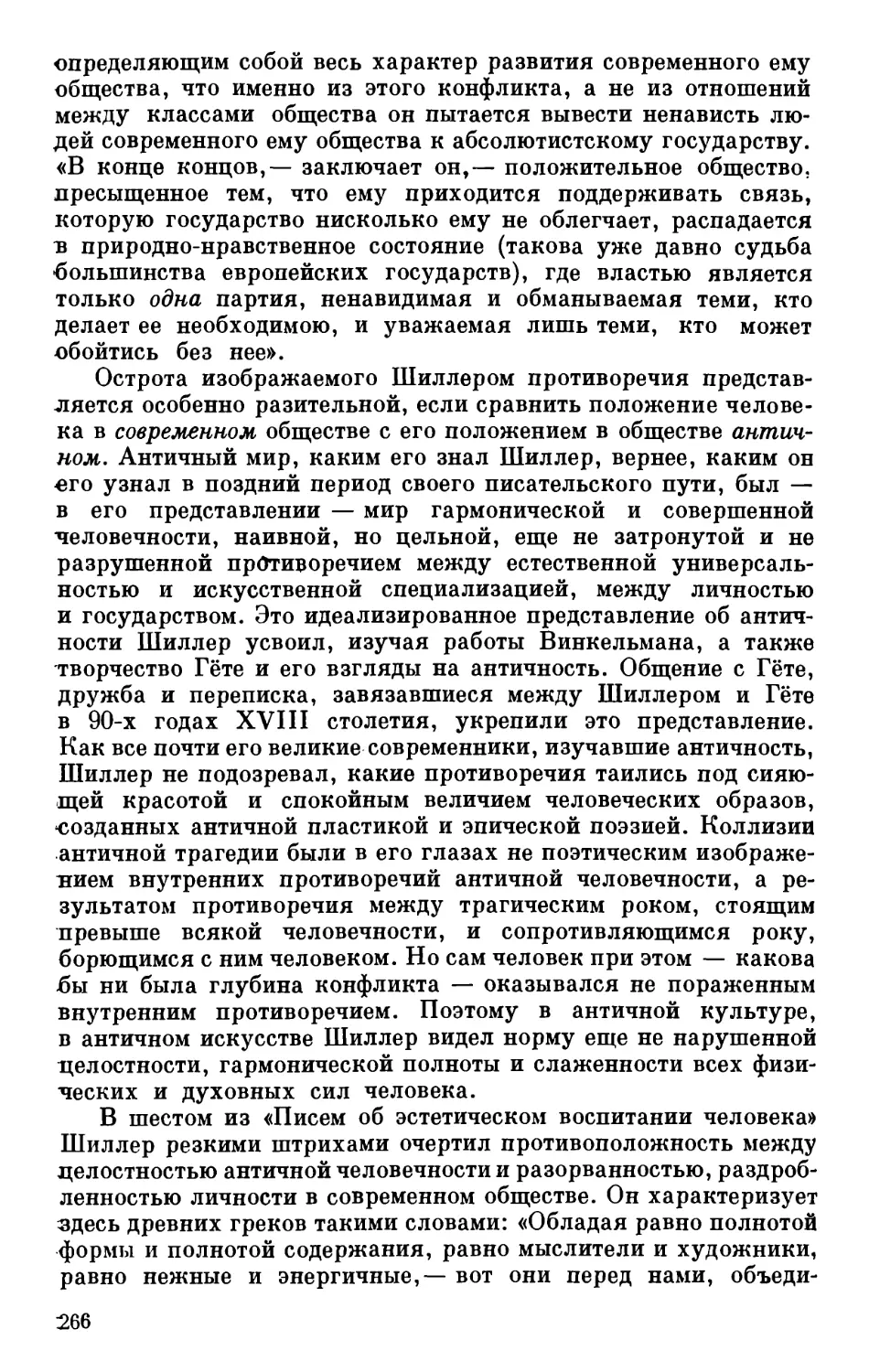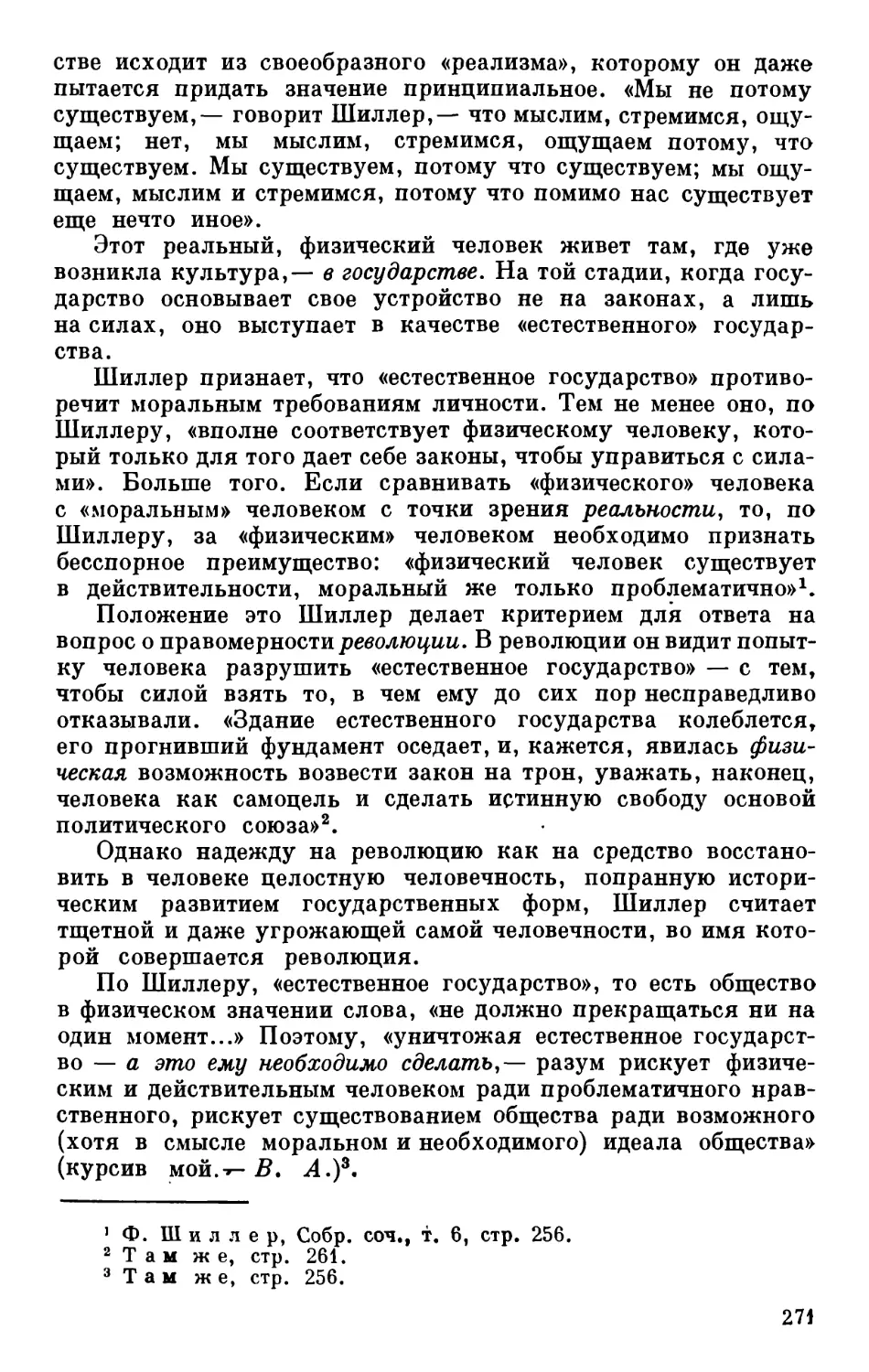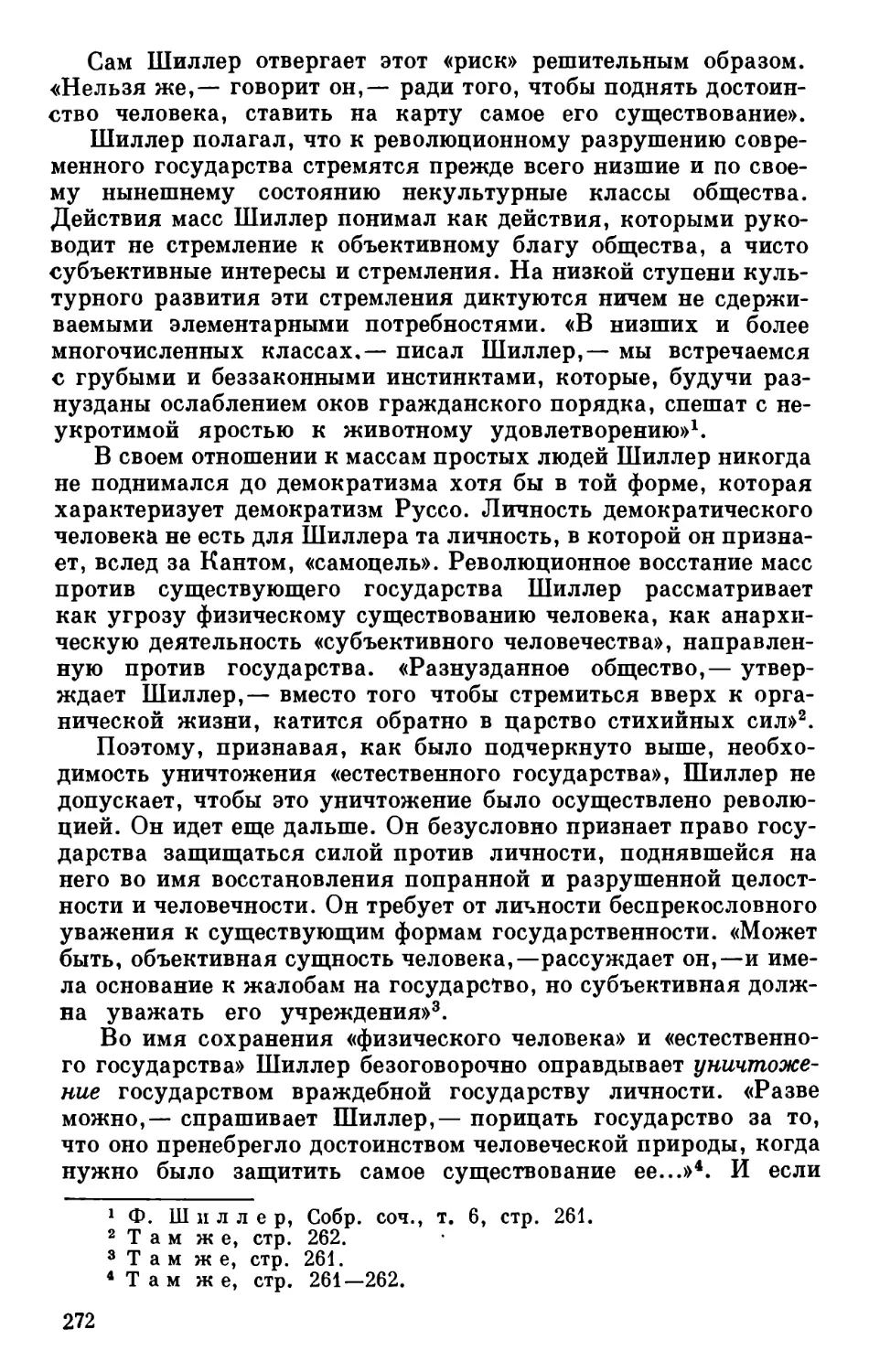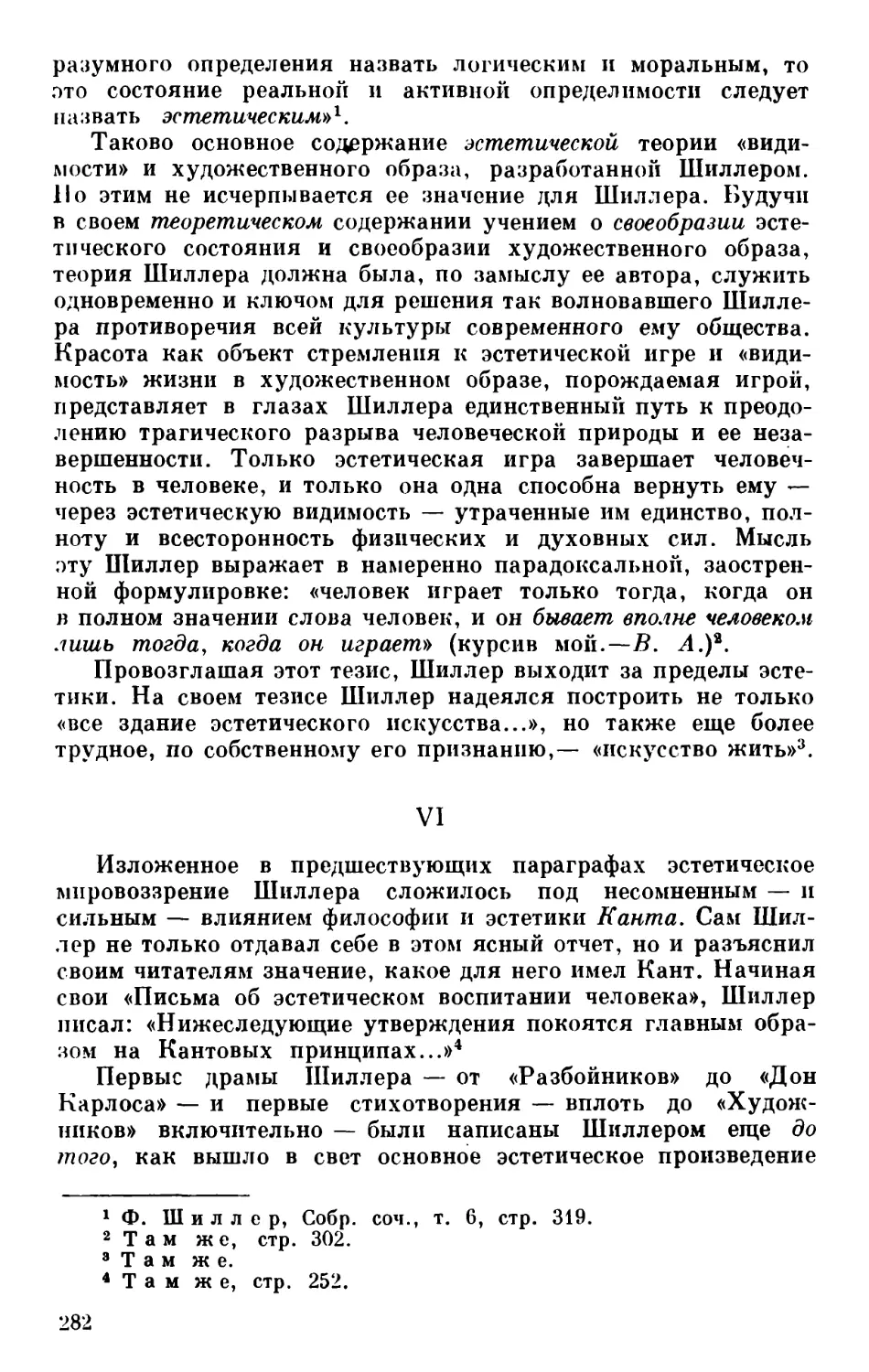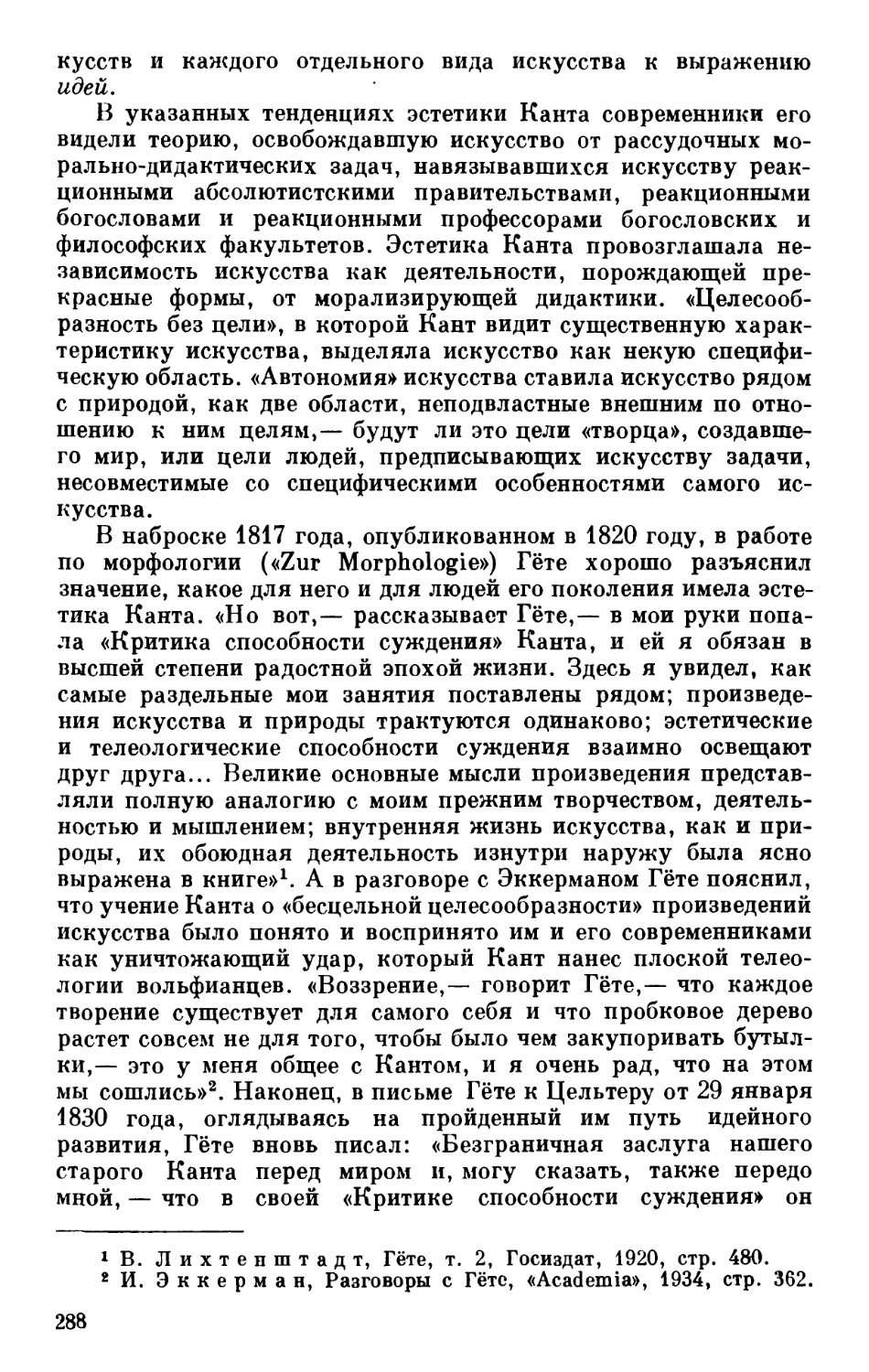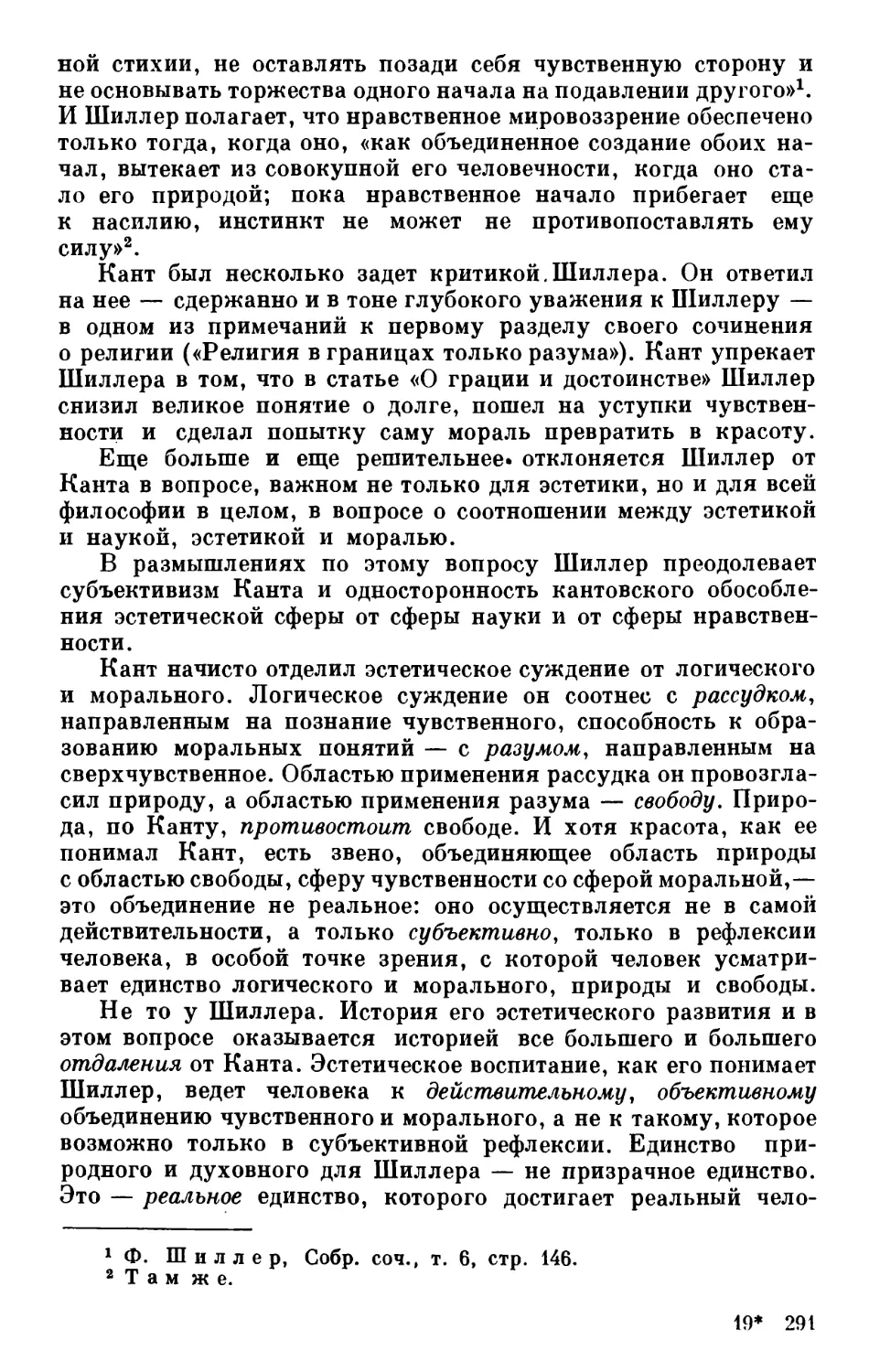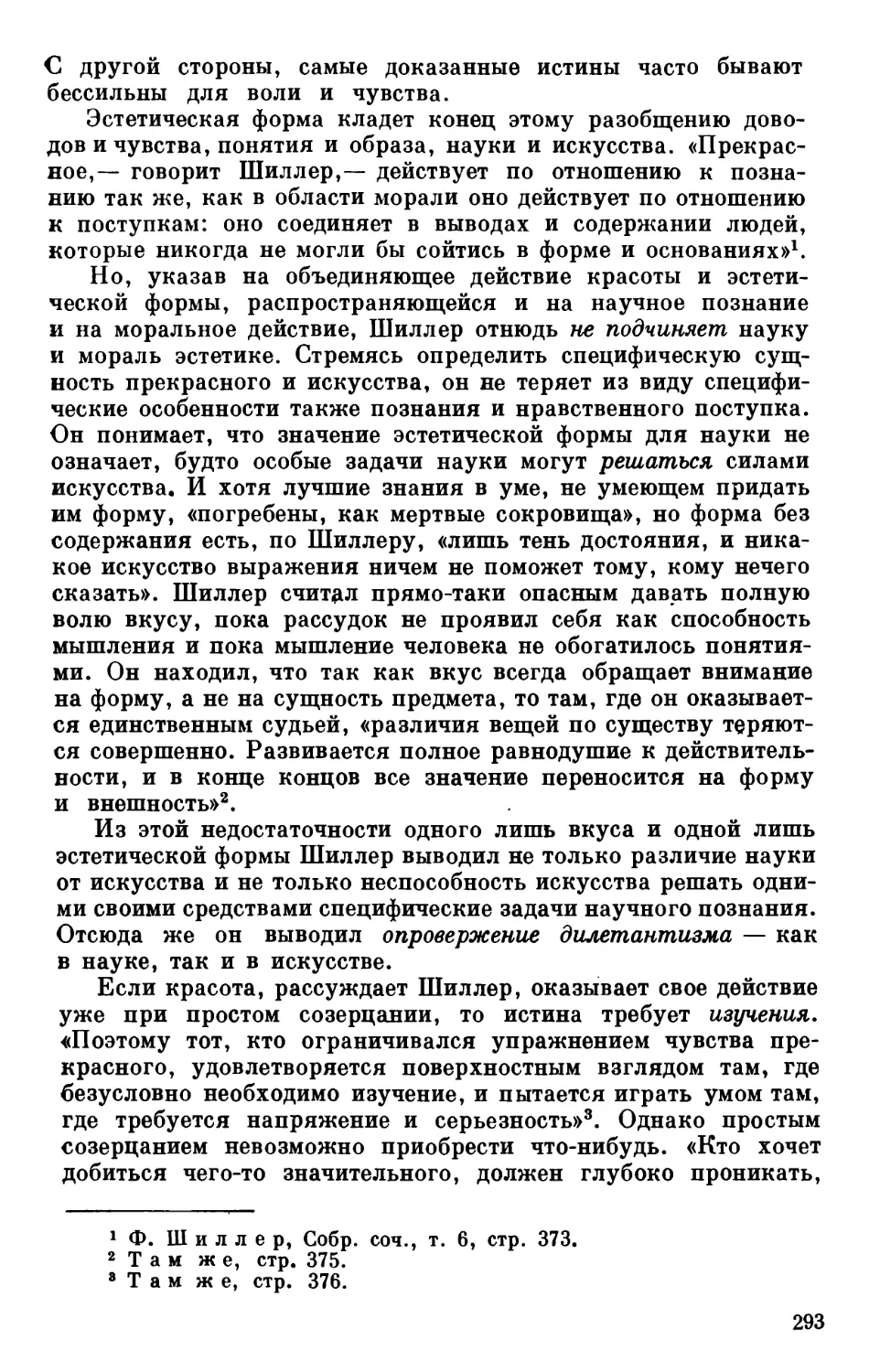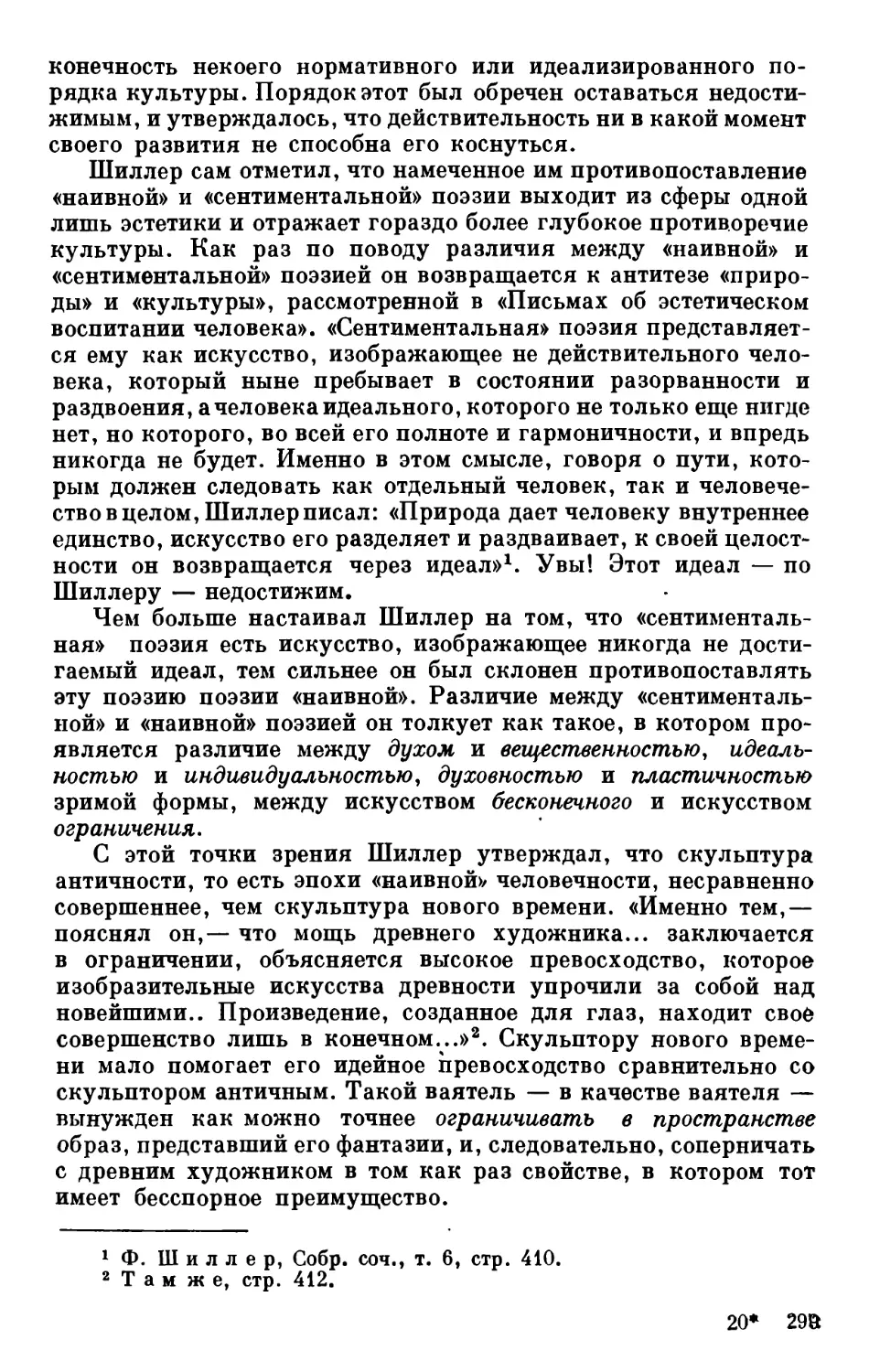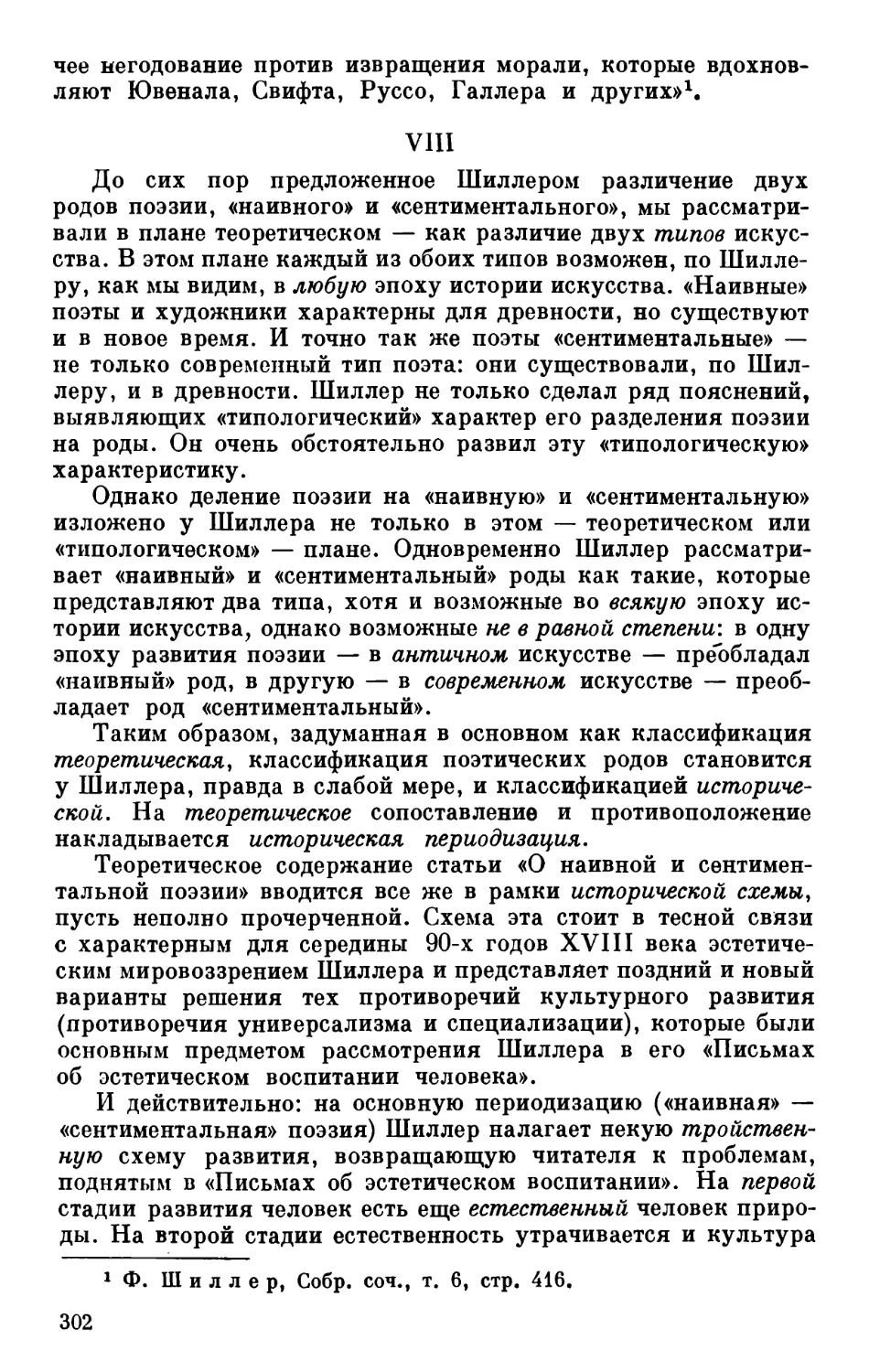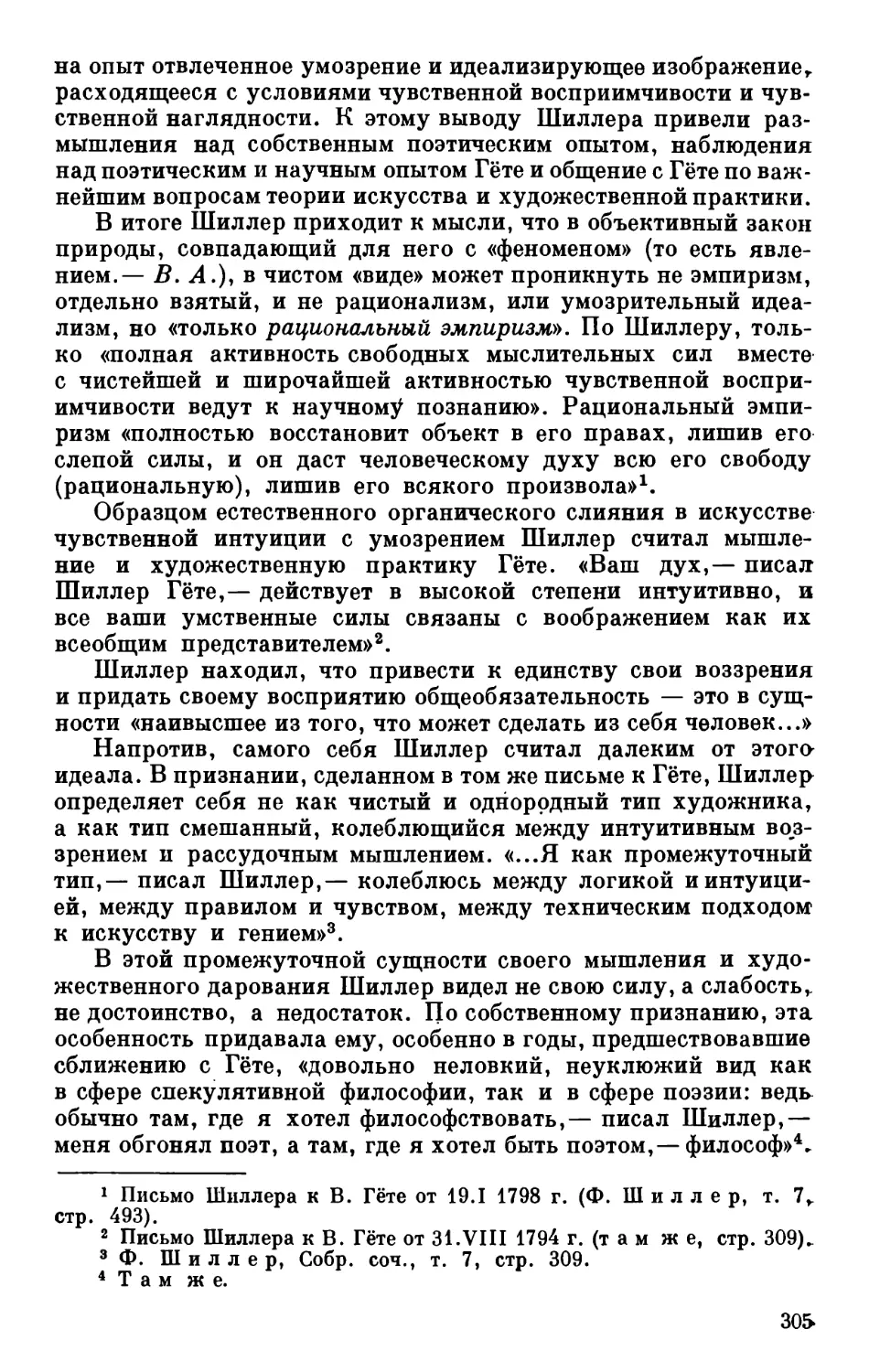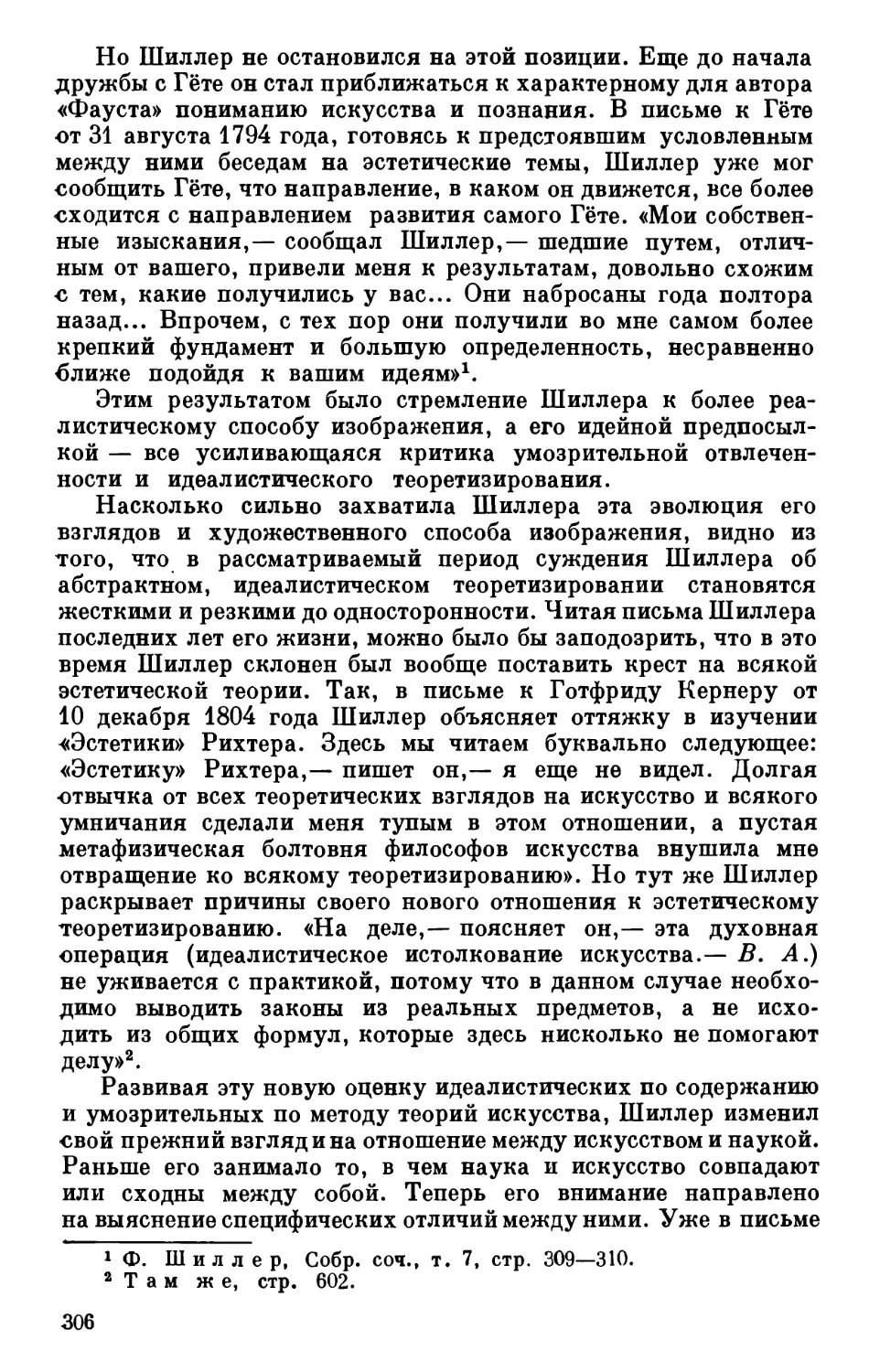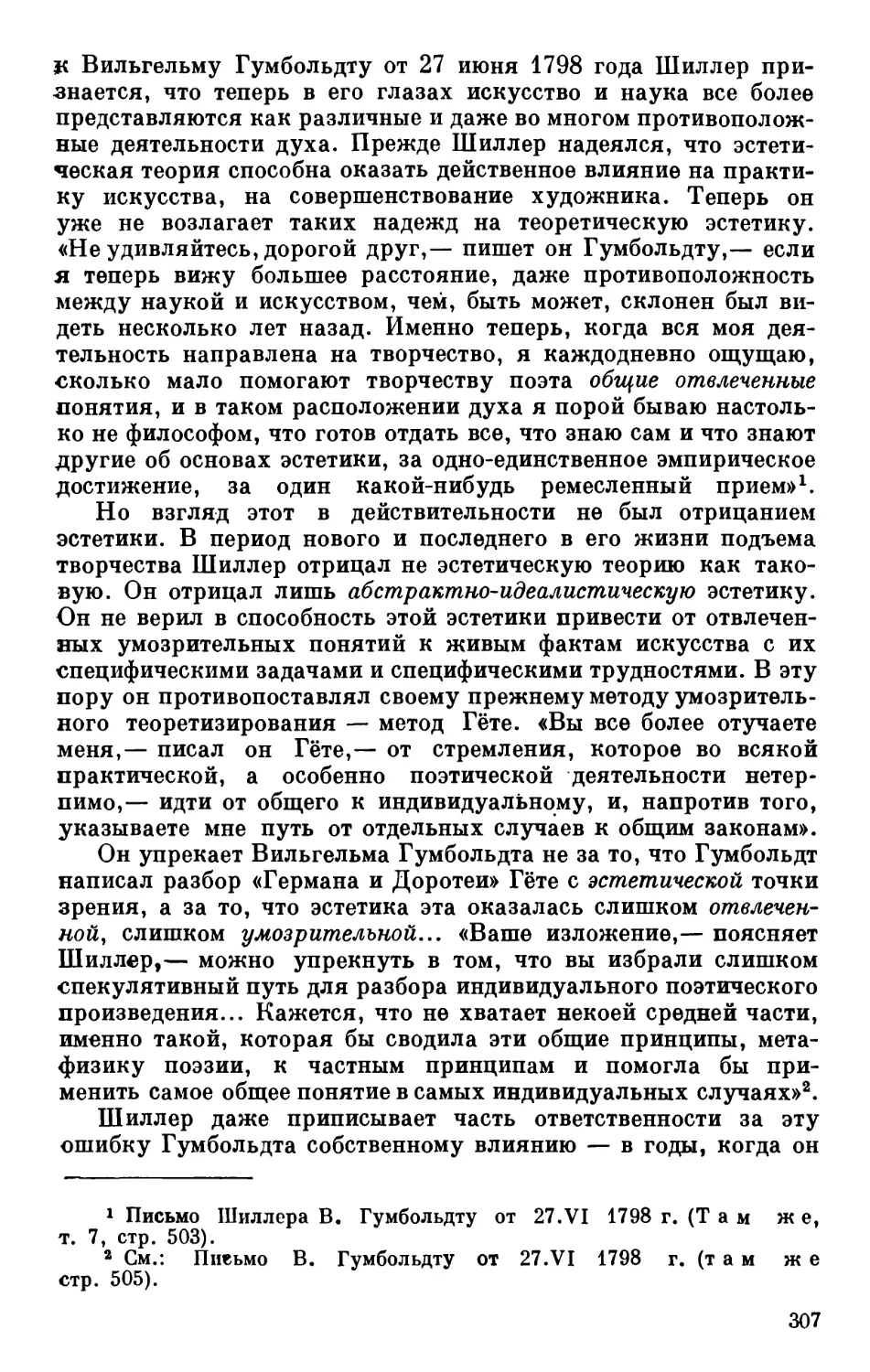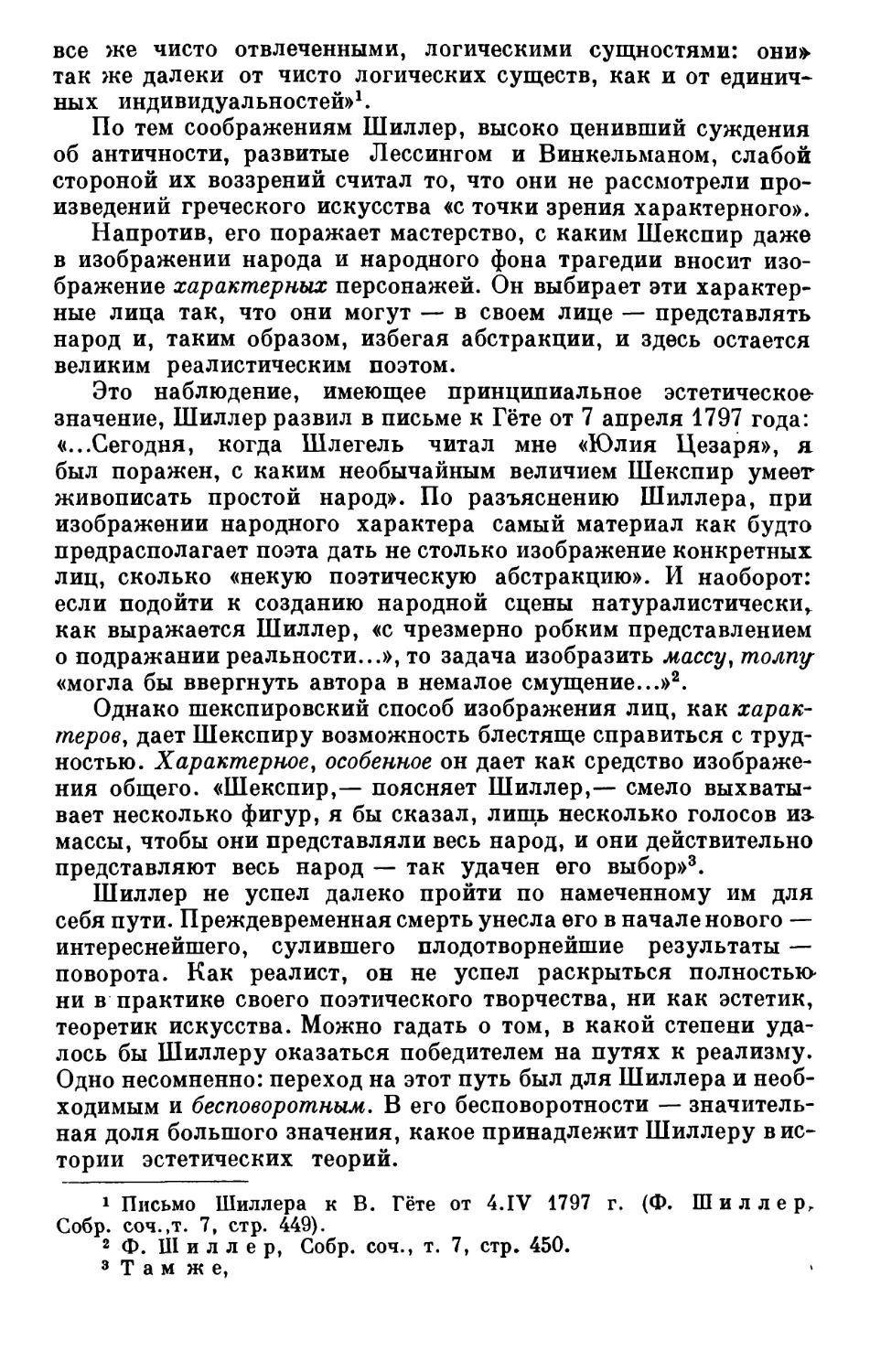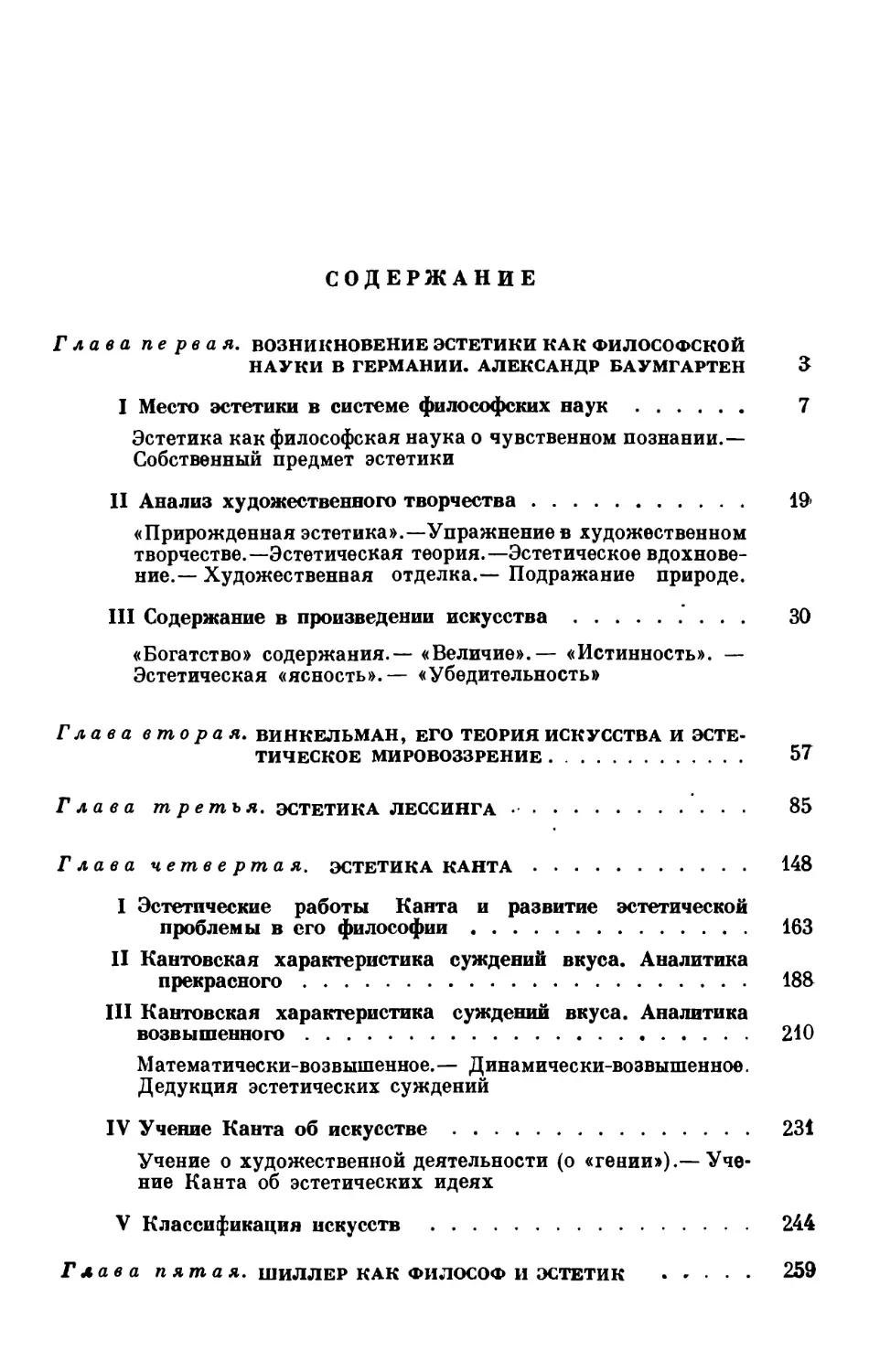Текст
В ФА С МУС
НЕМЕЦКАЯ
ЭСТЕТИКА
XVIII
В ЕКА
ИЗДАТЕЛЬСТВО
искусство
м о с к в А
Глава первая
ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЭСТЕТИКИ
КАК ФИЛОСОФСКОЙ НАУКИ В ГЕРМАНИИ.
АЛЕКСАНДР БАУМГАРТЕН
Одним из наиболее плодотворных для истории эстетики
философских течений было течение немецкого классического
идеализма. Не только корифеи этого движения — Кант, Шеллинг,
Гегель — разработали эстетические учения, ставшие
классическими. Даже второстепенные писатели этого направления
много занимались вопросами эстетики и видели в ней одно из
важнейших связующих звеньев всякой философской системы.
Ценные эстетические работы написали Гер дер, Зольгер, Шлейер-
махер и другие.
Огромное историческое значение эстетики немецкого
классического идеализма может быть охарактеризовано только в
результате комплекса исследований. Вполне уместной и
необходимой, однако, является постановка в первом разделе вопроса
о начале эстетики немецкого классического идеализма.
Общепризнанным родоначальником немецкой классической
эстетики считается Александр Баумгартен, известный
писатель и университетский профессор школы Христиана Вольфа,
ученика Лейбница. Во всех общих курсах и даже в
специальных работах, посвященных истории эстетики XVIII века в
Германии, обычно характеризуется роль Баумгартена как
создателя термина «эстетика» и излагаются гносеологические доводы,
опираясь на которые Баумгартен пришел к мысли о
существовании — параллельно с логикой, наукой о совершенстве
рассудочного познания, другой философской науки —
«эстетики», исследующей совершенство чувственного познания —
красоту, или прекрасное.
Этому общему признанию исторической роли Баумгартена
в истории немецкой эстетики далеко не соответствует степень
а
обстоятельности и точности, с какой его эстетическое учение
изучено в специальной литературе. Ряд причин препятствовал
изучению эстетической теории Баумгартена во всем ее
содержании и значении.
Первая из них заключалась, как это ни странно может
показаться, особенно для немецкой науки,— в недостаточном
знакомстве историков эстетики с сочинениями Баумгартена.
Его основными трудами в области эстетики были:
«Философские размышления о некоторых предметах, относящихся к
поэме» («Meditationis philosophicae de nonnulis ad poema perti-
nentibus») и появившаяся в двух частях «Эстетика»
(«Aesthetica»). Из них первая работа была докторской диссертацией,
представленной к защите в Халле (Halle) в 1735 году. Первая
часть «Эстетики» появилась в 1750. году, вторая
(неоконченная) — в 1758 году. Кроме того, вопросов эстетики Баумгартен
касался в работах, вышедших после 1740 года,— в
«Philosophische Briefe vom Aletheophilus» (1741) и в «Sciagraphia
encyclopediae philosophicae» (Halle, 1769).
По замыслу Баумгартена система эстетики должна была
охватить: 1) теоретическую и 2) практическую часть.
Теоретическая эстетика разделялась на: а) эвристику, б) методологию
и в) семиотику^. Однако изданная автором книга доведена
только до окончания эвристики. Суждения о
неосуществленной части системы и о ее содержании можно составить прежде
всего на основании размышлений самого Баумгартена, а
также с помощью трехтомной работы его ученика Г. Ф. Мейера —
«Основоположения всех изящных искусств и наук»2. Здесь
Мейер изложил большую часть эстетических учений, развитых
Баумгартеном в университетских курсах.
Вся эта информация и даже опубликованные работы самого
Баумгартена редко изучались историками, даже крупными, во
всем их объеме. К этому изучению прежде всего не располагал
язык и стиль Баумгартена. И дело не в том, что «Meditationes»
и «Aesthetica» написаны на латинском языке. Латынь была
языком науки того времени. Латинский слог Баумгартена —
трудный, синтаксис его сложен, изобилует специальными
терминами, изложение чрезвычайно абстрактное. Ряд историков
эстетики отмечают эти трудности. Г. Лотце, автор «Истории
эстетики в Германии», жалуется на то, что эстетика Баумгартена
«написана на утомительном латинском языке и перегружена
техническими выражениями»3. Бергман и Петере, авторы моно-
1 А. Baumgarten, Aesthetica, § 13.
2 G. M е i е г, Anfangsgründe aller schönen Künste und Wissenschaften,
Halle, 1748—1750.
3 «...in ermüdendem Latein geschrieben und durch Kunstausdrücke
überlastet» (H. L о t z e, Geschichte der Aesthetik in Deutschland, München,
1913).
4
графий, посвященных основанию немецкой эстетики и
эстетики Баумгартена, также отмечают, что теория Баумгартена
изложена «на темнейшем латинском языке нового
времени»1, что «в отношении чисто языковом она трудно
доступна»2.
Автор «Истории теории поэзии» Брайтмайер находит даже,
что язык Баумгартена «настолько темен, что предложения часто
не поддаются построению и смысл их может быть установлен
только из их целой связи»3.
Правда, Г. Ф. Мейер сделал попытку передать эстетические
идеи Баумгартена на немецком языке, освободив изложение
и стиль от баумгартеновской сложности и трудности. И
действительно, «Anfangsgründe» Мейер а читаются легко, мысль
Баумгартена кажется прозрачной, но Мейер, как справедливо
отмечает Нивелль, «часто упрощал не только форму, но и мысль
своего учителя»4.
Второй и главной причиной неполного знакомства историков
эстетики с эстетической теорией Баумгартена была
абстрактность изложения — особенно в части, посвященной
гносеологическому обоснованию эстетики. Найдя изложение этой точки
зрения в первых параграфах «Эстетики», историки легко
приходили к ошибочному мнению, будто для Баумгартена эстетика
была только составной частью, только завершением его
философии, будто она возникла не из интереса к специфическим
проблемам эстетической науки. Точка зрения эта была
резко сформулирована В. Виндельбандом в его «Учебнике
истории философии»6 и часто повторялась — без проверки —
другими.
Решив на основании начала «Эстетики», что книга эта —
скорее отвлеченный трактат по вопросам гносеологии и что
все значение ее только в том, что в ней чувственное познание
выделяется в особый предмет теории, получившей новое, ad hoc
придуманное название — «эстетика», историки эстетики,
естественно, мало вникали в дальнейшие параграфы большой книги
%Баумгартена объемом в шестьсот страниц.
1 «...im dunkelsten Neulatein abgefasst» (см.: Bergmann, Die
Begründung der deutschen Aesthetik durch A. G. Baumgarten und G. F. Meier,
Leipzig, 1911, S. 24).
2 «...rein sprechend schwer zugänglich» (Peters, Die Aesthetik
A. G. Baumgartens und ihre Beziehungen zum Ethischen, Berlin, 1934,
S. 12).
8 Breitmayer, Geschichte der poetischen Theorie und Kritik
von den Diskursen der Maler bis auf Lessing, 1899, Bd. 2, S. 18 f.
4 «...a souvent simplifie non seulement la forme, mais la pensée de son
maître (см.: A. N i ν e 1 1 e, Les Theories esthétiques en Allemagne de Baum-
garten a Kant, Paris, 1955, p. 19).
• W. Windelband, Lehrbuch der Geschichte der Philosophie,
Tübingen, S. 404—405.
Одни из них, как Кроче и Гильберт1, утверждали, будто
все значение Баумгартена только в том, что он придумал новое
название для древней и издревле известной вещи. Другие,
укрепившись в этом взгляде и не дав себе труда тщательно
рассмотреть все содержание основного труда Баумгартена,
высказывали «априорные» характеристики эстетики поверхностно
прочитанного ими писателя. Уже суждения талантливого
Лотце, который в других случаях отличался примерной
серьезностью и основательностью, оказались несвободными от
недоразумений и прямых ошибок. Второстепенные же авторы
частью повторяли, частью умножали эти ошибки.
Так сложилось неверное представление, будто в общем
построении и в характеристике основных черт
художественного произведения Баумгартен во всем ученически следует
теориям античной риторики и поэтики, как будто он вовсе не был
творцом новой, самостоятельно им найденной науки.
Ограниченные латинским текстом одной лишь «Эстетики»
и не изучавшие «Meditationes», историки эстетики пришли
к утверждению, будто теоретические источники Баумгартена
и его эрудиция в произведениях искусства ограничены узкими
пределами античной риторики и поэтики, а также
произведениями римских поэтов. Источники эти — Цицерон, Плиний,
Лонгин, Квинтилиан, Гораций. Утверждали также, будто
в^«Эстетике» Баумгартена нет следов знакомства ни с
Аристотелем, ни с авторами нового времени.
В этой характеристике теоретического кругозора
Баумгартена должен был наступить поворот, после того как Поппе
(Poppe) опубликовал в 1907 году рукопись Баумгартена
(«Kollegenhandschrift»), заключающую немало ссылок Баумгартена
на литературу нового времени2. Из этих ссылок видно, что
эстетические воззрения Баумгартена складывались под
влиянием не только античных эстетиков и античных мастеров.
Баумгартен цитирует немецких, французских и английских
авторов XVIII века. Он цитирует Геллерта (§ 538 рукописи,
изданной Поппе), Клопштока (§ 158, 395), Гюнтера (§ 229), Лоенштейна.
(§ 319), Вольтера (§ 183, 595), Фонтенелля (§ 244, 429), Адди-
сона (§ 302), Поппа (§ 493). Из более ранних произведений он
ссылается на Эдду (§ 513), на Рабана Мавра и Абеляра (§ 359),
на Сервантеса (§ 323), на «Поэтику» Скалигера (§ 272) и на
Буало (§ 237). Он не только знает Аристотеля, но и крити-
1 В. С г о с е, Estetica come scienza del'espressione e linguistica gene-
rale, Sesia edizione, Bari, 1928; G i 1 b e г t and К u h n, A History of
Esthetics, New York, 1939, p. 289.
2 B. Poppe, A. G. Baumgarten, Seine Bedeutung und Stellung in
der Leibniz-Wolffschen Philosophie und seine Beziehungen zu Kant. Nebst
Veröffentlichung einer unbekannten Handschri t der Aesthetica, Münster.
1907.
6
кует некоторые из его эстетических положений (§ 104, 586,
595).
Однако и после публикации Поппе, вплоть до наших дней,
в специальной литературе повторяются ошибочные суждения
о границах осведомленности и о теоретических источниках
Баумгартена. Еще в 1949 году Салмони в работе «Философия
молодого Гер дера» утверждал, будто эстетика Баумгартена не
обнаруживает ни малейшего знания литературы нового
времени .
Во всех этих суждениях все же верно то, что эстетические
понятия Баумгартена складывались на довольно узкой основе
изучения фактов литературы и риторики, преимущественно
латинской. Чаще всего это ода и речь оратора, гораздо реже —
эпическая поэма. О драме Баумгартен не говорит ни слова.
Ссылки на факты живописи и даже музыки имеются (об этом
свидетельствуют примечания к курсам, изданным Поппе),
но они малочисленны и из них не извлекаются возможные
теоретические выводы.
Теоретические источники Баумгартена — прежде всего
Лейбниц и Вольф. Кроме того, сам Баумгартен признает, что
некоторые из его положений находятся в трудах Брейтингера,
Фоссиуса, Готтшеда, Веренфельса и Гесснера. ' Имеются еще
ссылки на Вико, на Дюбо и изредка на Баттё.
Впрочем, вопрос об историческом месте Баумгартена
должен решаться независимо от объема его эрудиции в фактах
искусства и в теоретической литературе по эстетике. Значение
Баумгартена — не в индуктивных выводах из изученного им
материала. Основываясь на скромном, даже узком, исторически
ограниченном материале, Баумгартен, талантливый ученик
Вольфа (а через Вольфа и самого Лейбница), сделал первую
попытку указать место эстетики в системе философских наук,
какой он ее себе представлял, развил определение предмета
эстетики и набросал первый очерк ее системы.
I
МЕСТО ЭСТЕТИКИ В СИСТЕМЕ ФИЛОСОФСКИХ НАУК
Две черты характерны для баумгартеновского понимания
эстетики: 1) эстетика для Баумгартена — одна из философских
наук о познании, а именно — наука о чувственном познании
и 2) цель чувственного познания, исследуемого эстетикой,
достигается, по Баумгартену, с помощью искусства.
Первая черта вводит эстетику Баумгартена в круг
философских наук. Вторая — делает учение Баумгартена о
чувственном познании не просто частью гносеологии, но вместе с тем
и философской теорией искусства.
7
Эстети а как философская наука
о чувственном познании
Уже в первом параграфе «Эстетики»1 Баумгартен поясняет,
что эстетика, которую он также называет «теорией свободных
искусств» (theoria liberalium artium), «низшей гносеологией»
(gnoseologia inferior), «искусством изящного мышления» (ars
pulcre cogitandi), есть «наука чувственного познания» (Aesthe-
tica... est scientia cognitionis sensitivae).
Для оценки этой мысли очень важно правильно понимать,
какое место отводится в философии Баумгартена чувственному
познанию. Само по себе взятое указание на чувственный
характер художественного познания, конечно, недостаточно для
характеристики позиции, какую эстетическое учение занимает
в борьбе материализма против идеализма. Как бы ни
подчеркивалась в теории чувственная основа образов искусства,
теория будет идеалистической, если сама чувственная природа
образов получит в ней идеалистическую интерпретацию.
У Баумгартена взгляд на художественное познание как
на чувственное неотделим от взгляда на чувственные образы
как на низший вид познания в сравнении с высшими формами
познания, какими для него являются формы интеллектуального
познания. Именно поэтому он называет эстетику не просто
«гносеологией» (gnoseologia), но низшей гносеологией (inferior).
Рассмотрение показывает, что философия, в систему
которой Баумгартен вводит свою новую философскую науку —
«эстетику», есть рационалистический идеализм. Учение это
восходит — через Вольфа — к рационалистическому идеализму
Лейбница. Это — идеализм, так как высшие виды
интеллектуального познания Баумгартен, так же как оба его учителя,
провозглашает априорными. Будучи всеобщими и
необходимыми, они не могут почерпнуть эти свои признаки —
всеобщность и необходимость — из опыта, из эмпирического
обобщения. Последний и высший источник всеобщности и
необходимости — разум, бестелесная функция познания.
Вместе с тем идеализм этого воззрения —
рационалистический. Высшее познание — интеллектуальное, а не
чувственное. Ясные и отчетливые интуиции разума принципиально
вознесены над ощущениями, над интуициями чувственными.
В соответствии с этими «чувственными» представлениями
(representationes sensitivae) рационализм XVII—XVIII веков
1 Следуя общепринятому в литературе способу цитирования
научных сочинений, в настоящей книге я буду цитировать все
классические работы, разделенные их авторами на параграфы, указывая не
страницу, а параграф, из которого взято цитируемое место. Так будут
цитироваться «Aesthetica» Баумгартена, «Prolegomena» Канта и другие
аналогичные работы.
8
называет представления, которые добываются посредством-
«низшей части» познавательной способности (per partem facul-
tatis cognoscitivae inferiorem1).
Рассматриваемое в плане эстетики, это идеалистическое
воззрение восходит к пониманию чувственности, которое известно
уже из философской литературы феодальной эпохи. В
литературе этой различались четыре вида чувственных способностей
(vires sensitivae): 1) общее чувство (sensus communie), 2)
воображение (imaginatio), 3) память (memoria) и 4) способность
суждения, или оценки (vis aestimativa).
Для Баумгартена, так же как для других рационалистов
школы Лейбница — Вольфа, характерно отделение, отличение
чувственного способа познания от способа интеллектуального.
Отличение это одновременно есть оценка чувственности в
сравнении с разумом. В чувственном восприятии Баумгартен видит
только «аналог разума» (analogon rationis). Содержание
понятия об «аналоге разума» Баумгартен раскрывает не в
эстетических трактатах, а в своей «Метафизике» («Metaphysica», § 640).
В понятии «аналога разума» Баумгартена включены: 1) ingenium
sensitivum (чувственная проницательность, то есть способность
узнавать сходство)', 2) acumen sensitivum (острота чувств, то
есть способность видеть различия)', 3) memoria sénsitiva
(чувственная память); 4) facultas fingendi (способность
воображения); 5) judicium sensitivum (чувственное суждение); 6) ехре-
ctatio casuum similium (усмотрение сходных случаев) и 7)
facultas characteristica sénsitiva (специфическая способность
чувствования)2.
1 «Meditationes», § 3.
2 Из всех этих понятий наиболее важны и ранее других выделились
первое и второе. При переводе их на немецкий язык ученик Баумгартена
Мейер пользуется немецкими терминами Witz и Scharfsinn.
Происхождение этих понятий уходит в глубь истории эстетических и гносеологических
идей. Из ближайших предшественников Баумгартена мы находим их у
Вольфа, где они определяются в его «Эмпирической психологии» («Psycho-
logia empirica», § 332 и 476). Но Вольф — только продолжатель традиции,
истоки которой ведут к Локку, Гоббсу и даже Френсису Бэкону. В своей
чрезвычайно ценной работе «Эстетические теории в Германии от
Баумгартена до Канта» Арман Нивелль ограничивается констатированием
формального сходства между определениями различных видов «аналога
разума» у всех названных авторов. Он игнорирует принципиальную-
противоположность между материалистами Бэконом, Гоббсом и Локком,
с одной стороны, и рационалистическими идеалистами — Лейбницем,
Вольфом, Баумгартеном — с другой. Их объединяет только мысль о
происхождении всех знаний из ощущений, из опыта. Общность эта касается
только вопроса о генезисе знания. Но их глубоко разделяет понимание
природы интеллектуального знания. Для идеалистических рационалистов
знание это — в своих высших формах — априорно и коренится не в опыте,
а в свойствах самого ума. В этом смысле его источник все же не
эмпирический, а идеальный. Уже Лейбниц, соглашаясь с тем, что «в уме
нет ничего, чего не было бы ранее в ощущении» (nihil est in intellectu quod
non prius fuerit in sensu), выразительно добавлял: «кроме самого ума»
9
Это многообразие видов «аналога разума» заслуживает
внимания. Оно доказывает, что понятие о «чувственном познании»
у Баумгартена широкое. Различие между чувственным и
интеллектуальным знанием сохраняется и даже подчеркивается, но
противоположность между ними в известной мере сглаживается.
Баумгартен ни в какой мере не сводит чувственное знание
к знанию посредством одних ощущений.
Подчеркнуть это обстоятельство важно и необходимо ввиду
значения, какое понятие о чувственном знании получило
в дальнейшем развитии немецкой классической эстетики,
прежде всего в эстетике Канта (см. раздел IV). Как увидим,
Кант включает в понятие чувственного знания не только
познание из ощущений, но также интуицию и воображение. Поступая
таким образом, он, возможно, прямо следовал за Баумгарте-
ном, который в понятие «чувственного познания» включил все
виды и функции познания, низшие по отношению к
интеллектуальному знанию1.
В литературе о Баумгартене понятие «чувственного
познания» толковалось в одних случаях слишком узко, в других
слишком широко. Рассмотренное выше сведение «чувственного
познания» исключительно к знанию из ощущений — пример
ошибочного сужения понятия. Но «чувственное познание»
Баумгартена толковалось и в расширенном смысле. Поводом
для него явилось предложенное Баумгартеном в
«Размышлениях» определение поэзии. Поэзия, согласно этому определению,
«есть совершенная чувственная речь» (Oratio sensitiva perfecta
€st poema, «Meditationes», § 9).
Определение это дало повод Гердеру для неосновательного
утверждения, будто Баумгартен включал в содержание
понятия «чувственного познания» признак выразительной силы2.
Еще дальше пошел К. Штейн, автор «Происхождения
новейшей эстетики»3. Штейн находит в понятии «чувственного»
(sensitivus) у Баумгартена кроме чувственных представлений
элементы эмотивности и даже воли. Он полагает, что
первоначально термин sensitivus был заимствован из сферы воли
и уже затем применен к одному из видов познания. Он сближает
мысль Баумгартена с мыслью Дюбо, который утверждал, что
{nisi intellects ipse) — это значит: в ощущении есть все, что есть в
последующем знании. В нем нет только тех логических признаков всеобщности
и необходимости, которые отличают интеллектуальное знание от
чувственного.
1 Данные по вопросу о возможном влиянии эстетической
терминологии Баумгартена на терминологию Канта см.: A. Riemann, Die Aesthe-
tik A. G. Baumgartens unter besonderer Berücksichtigung der Meditationes,
nebst einer Übersetzung dieser Schrift, Halle, 1928.
2 См.: Herder, Kritische Wälder, 1769 (viertes kritisches Wäldchen,
IV, § 132).
3 K.H.Stein, Die Entstehung der neueren Aesthetik, Stuttgart, 1866.
10
к сущности поэтического принадлежит способность возбуждать
аффекты, что поэт тем совершеннее, чем больше способна
волновать его поэзия. Основываясь на этих соображениях, Штейн
переводит латинский термин sensitivus посредством немецкого
gefühlsartig. Таким образом предложенное Баумгартеном
определение поэзии («совершенная чувственная речь») приобретает
у Штейна смысл речи, живо действующей на чувства1.
Интерпретация Штейна может быть применена только
к Вольфу, но не к Баумгартену. В «Эмпирической психологии»2
Вольф определяет термин «чувственный» как смутное
представление блага. Это определение приводит и Баумгартен в своих
«Meditationes» (в примечании к § 3). Однако здесь же
Баумгартен противопоставляет значению, какое термин sensitivus
приобрел у Вольфа и которое он признает «собственным»
значением слова,— другое, свое, которому он следует в своем
труде: термин будет применяться к слитным (confuses) и
темным (obscures) представлениям для отличения их от всех
представлений, составляющих достояние разума.
Таким образом расширенная интерпретация Штейна
лишается основания. Терминология Баумгартена выдержана в
понятиях рационалистической теории познания Лейбница. Она
восходит к тому пониманию места и роли чувственного познания,
которое мы находим в знаменитой статье Лейбница
«Размышления о познании, истине и идеях» («Meditationes de cognitio-
ne, veritate et ideis»), а также в его «Монадологии».
Согласно разъяснениям Лейбница, познание бывает «либо
темным, либо ясным» (est... cognitio vel obscura, vel clara).
В свою очередь ясное познание бывает «либо слитным, либо
отчетливым» (et clara rursus, vel confusa, vel distincta)3. Далее
следуют определения всех этих видов познания. Темное
познание определяется как познание, недостаточное для узнавания
представляемого предмета (obscura est notio, quae non suf-
ficit ad rem representatam agnoscendam)4, в
противоположность ясному, которое достаточно для этой цели. Ясное, но при
этом слитное понятие есть то понятие, посредством которого
мы, хотя и отличаем предмет от других, но не можем
перечислить в отдельности его достаточные признаки. Это имеет место,
например, когда мы узнаем цвета, запахи, вкусовые свойства.
Наконец, ясным и отчетливым понятие бывает, когда оно
нам дает возможность усмотреть свойства предмета посредством
сообщения или возвещения его признаков6.
». К. H. S t е i η, Die Entstehung der neueren Aesthetik, S. 336 ff.
2 См.: «Psychologia empirica», § 580.
8 Leibniz, Philosophische Schriften, hrsg. von Gerhardt, B. IV,
1880, S. 422.
4 См.: Leibniz, S. 422.
5 Τ а м же, стр. 423.
И
Эти определения поясняют, в чем состоит превосходство
интеллектуального познания над чувственным. Ясное и
отчетливое познание достигается только с помощью интеллекта.
Напротив, темное познание, а также познание ясное, но при
этом слитное, или смутное получается посредством «низших»
способностей. Они и составляют область «чувственного
познания», то есть того, что школа Лейбница называет «cognitio sen-
sitiva». Верный рационализму школы, Баумгартен именует
«аналогом разума» (analogon rationis) способность, которая
так относится к чувственным представлениям, как разум
относится к ясным и отчетливым понятиям.
Если бы предложенное Баумгартеном определение предмета
эстетики ограничилось указанием на «чувственное познание» —
в разъясненном смысле,— то было бы непонятно, какое
отношение имеет эта «эстетика» к философской теории искусства.
Можно было бы думать, что словом «эстетика» Баумгартен
называет просто часть гносеологии, параллельную логике..
Согласно этой мысли, сфера гносеологии делится на логику —
науку об условиях и правилах совершенства
интеллектуального (рассудочного) познания — и на эстетику — науку об
условиях и правилах совершенства сенситивного
(чувственного) познания.
Однако, проводя эту параллель, Баумгартен развивает
двойственное понятие как о «логике», так и об «эстетике».
Именно эта двойственность, как будет показано ниже, дает ему
возможность перейти от чисто гносеологического аспекта
«эстетики» к аспекту, который делает эстетику теорией искусства
и художественной деятельности.
Намек на этот переход имеется уже в первом параграфе
«Эстетики» — в указанных здесь синонимах термина «эстетика».
Последняя определяется здесь одновременно и как наука
(scientia) и как искусство (ars). Она — не только «наука о
чувственном познании», но и «искусство аналога разума» (ars
analogi rationis), не только «теория свободных искусств», но
и «искусство изящно мыслить» (ars pulcre cogitandi). Это — не
колебания мысли Баумгартена, а сознательное раздвоение
определяемого предмета эстетики на два аспекта. Само деление
«эстетики» на разделы теоретической и практической эстетики
есть результат этой двойственности.
Чтобы оценить возвышающее эстетику значение, какое
развитая Баумгартеном параллель должна была получить для
дальнейшей истории эстетической науки, необходимо учесть
духовную атмосферу, господствовавшую в отсталой Германии
середины XVIII века. В области религиозно-моральной здесь
царил мистический пиетизм, в области теории и философии —
самый крайний рационализм. Ни то, ни другое течение не
считало чувственное познание достойным предметом исследова-
i2
ния. Для пиетизма интерес к чувственному познанию означал
уступку суетности и распущенности, для рационализма —
снижение понятий о науке и философии.
Для современников Баумгартена его воззрение заключало
элемент дерзания и восстания против господствовавших
взглядов: в операциях чувственного познания он открывал нечто
подобное логическим операциям ума.
Впрочем, в этой своей тенденции Баумгартен не был
совершенно одинок: параллель между чувственным и
интеллектуальным, логическим, проведенная им в 1750 году, резко и
сознательно назревала, намечалась, предчувствовалась и другими:
предшественниками и современниками. Идея «низшей логики»
была сформулирована за четверть века до Баумгартена Биль-
фингером в его «Философских разъяснениях». Бодмер также
высказывал мысль о логике изящного мышления, которая
должна была стать чем-то вроде уложения вкуса (см. его
переписку с Конти Калепио, относящуюся к 1729 году, но
опубликованную в 1736 году1). Наконец, Брейтингер выдвинул идею
о «логике фантазии»2.
Баумгартен в известной мере синтезирует эти планы. В его
«Эстетике» соединяются замысел «логики низшей способности»
познания с замыслом философски обоснованной поэтики.
Соединение в понятии об эстетике одновременно понятия
об особой философской «науке» и понятия об особом «искусстве»
было поводом для многочисленных возражений и упреков,
каким подвергалась впоследствии эстетика Баумгартена.
Возражения эти выдвигались авторами, в глазах которых
эстетика была отнюдь не искусством, а прежде всего только наукой.
Уже Гердер критиковал Баумгартена именно с этой точки
зрения. На этом же основании глава марбу'ргской школы
неокантианства Герман Коген (Cohen) утверждал, что начало
немецкой научной эстетики было положено вовсе не Баумгартеном,
а лишь Кантом спустя сорок лет после появления баумгартенов-
ской «Эстетики»3. Однако двоякая задача эстетики, как ее
понимал Баумгартен, не вела его к путанице и к смешению понятий.
Баумгартен ясно видел, что чувственное познание, как
творческий процесс, и наука об этом познании — отнюдь не одно и то
же: если чувственное познание художника смутно и
нераздельно, то теория этого познания должна состоять из ясных и
отчетливых понятий4.
1 См.: «Briefwechsel von der Natur des poetischen Geschmacks», Zürich,
1736.
2 См.: Breitinge г, Kritische Abhandlung von der Natur... Zürich,
1740.
8 H. Cohen, Kants Begründung der Aesthetik, Berlin, 1889, S. 35.
* Ср.: В. P о p p e, A. G. Baumgarten, seine Bedeutung und Stellung
in der Leibniz-Wolffschen Philosophie und seine Beziehungen zu Kant,
Münster, 1907, S. 76.
13
Не более основательны суждения тех исследователей,
которые упрекают Баумгартена в том, что он ограничил предмет
эстетики только областью теории чувственного познания. Если
на эту мысль еще могли навести первые параграфы латинской
«Эстетики», то уже на первой странице опубликованного Поппе
немецкого текста эстетики Баумгартен заявляет: «Мы намерены
систематически изложить основные положения всех изящных
наук»1. И тут же Баумгартен поясняет, что наука,
исследующая этот предмет, «известна в целом под названием эстетики»
(Die ganze Wissenschaft ist unter dem Namen der Aesthetik
bekannt)2.
В этом своем содержании эстетика отделяется у Баумгартена
от риторики, поэтики, а также от художественной критики
От первых двух дисциплин эстетику отделяет обширность ее
объема: она исследует музыку и живопись, лежащие за
пределами поэтики и риторики, и возводит все искусства к их
принципам. От критики эстетику отличает то, что эстетика
заключает в себе теоретические основания всякой критики. Всякое
суждение вкуса основывается на эстетике, и именно
эстетическая теория не дает спорам об искусстве снизиться до спора
«об одних лишь вкусах» (de meris gustibus)3.
Устанавливая все эти различия, Баумгартен подчеркивает
научный характер эстетики. Хотя предметом эстетики не
является ясное и отчетливое познание интеллекта,
исследование ее предмета ведет все же к теоретическим принципам,
которые формулируются в рациональных положениях и которые
доступны доказательству4. «Нельзя думать поэтому, будто
эстетиком (aestheticus) надо родиться, как, по слову Горация,
надо родиться поэтом»5. Правда, эпитет «счастливый эстетик»
(feiix aestheticus) свидетельствует о некотором смешении
терминологии: в понятии aestheticus сливаются и философ,
размышляющий об искусстве, и человек, произносящий суждение
о произведении с позиции «вкуса», и, наконец, художник,
создающий само произведение. Но за сбивчивостью
терминологии — терминологии, которая, кстати говоря, впервые
создается самим Баумгартеном6, отнюдь не скрывается сбивчивость
самой мысли, и в своем существенном содержании эстетика
1 В. Ρ о ρ ρ е, A. G. Baumgarten, S. 65.
2 Τ а м же.
8 Baumgarten, Aesthetica, § 5.
4 Там же, § 5, 10.
5Тамже § 11. Имеется в виду знаменитый стих Горация:
«Poetae nascitur».
β Вряд ли необходимо здесь напоминать, что термин «aesthetica»—
искусственный (от греческого αισθάνομαι, означающего «чувственное
восприятие»), и что впервые введен он был — в качестве наименования особой
философской науки — именно Баумгартеном в «Meditationes» и в
«Aesthetica».
14
остается для Баумгартена рациональной философской наукой
о чувственном познании и об условиях его совершенства (рег-
fectio) в художественном мышлении и в произведениях
искусства.
Баумгартен жил в Германии, где в середине XVIII века
приходилось еще доказывать, что различные формы и виды
чувственного познания — вполне достойный предмет
философского исследования. В § 6—9 и 12 «Эстетики» он действительно
развивает «апологию» эстетики как философской науки. Он
опровергает возможный взгляд, согласно которому
воображаемый (имагинативный) мир, вымыслы художественной фантазии,
область чувств и т. д. лежат вне кругозора философии. Он
показывает несостоятельность мнения, согласно которому
«слитное» или «смутное» (confusa) чувственное познание — этот
главный предмет эстетики — может быть лишь источником
заблуждений. Он отклоняет предрассудок, будто низшие
познавательные функции и способности должны быть скорее
подавляемы, чем вызываемы к действию, и будто только отчетливому
познанию рассудка должно быть оказываемо безусловное
предпочтение. Он призывает различать предмет науки от самой
науки как таковой. Пусть эстетические операции
художественного мышления бесполезны для философа. Из этого не следует,
что для него должна быть бесполезной и ненужной теория
эстетической деятельности. Последняя предполагает особую
область.
Собственный предмет эстетики
До сих пор речь шла только об определении понятия
чувственного познания и об оправдании соответствующей этому
познанию философской науки. Указание на то, что эстетика
включает также исследование вопросов о художественной
деятельности и об искусствах, осталось пока еще необоснованным.
Требовалось еще выяснить, каким должен быть переход,
ведущий от понятия о чувственном познании к понятиям об
искусстве и об эстетической активности.
Этот переход указывается уже в первой главе «Эстетики».
Уже здесь вводятся кроме понятия о «чувственном познании»
два новых важных познания — о «совершенстве» (perfectio)
и о «прекрасном», или «красоте» (pulcritudo): «Цель эстетики —
совершенство чувственного познания, как таковое.
Совершенство же это — красота» (Aesthetices finis est perfectio cognitio-
nis sensitivae, qua talis. Haec autem est pulcritudo)1.
Понятие «совершенства», в котором Баумгартен видит цель
чувственного эстетического познания, вновь ведет нас к поня-
1 Baumgarten, Aesthetica, § 14.
15
тиям учителя вольфовской школы — Лейбница. Из всех
определений этого понятия, встречающихся у Лейбница,
наибольшее распространение в философии XVIII века получило
определение, согласно которому совершенство есть «единое в
многообразии». Баумгартен повторяет его в своей «Метафизике»1:
«Если многие элементы, взятые вместе, образуют достаточное
основание для единства, то они согласуются». «Само же
согласование есть совершенство, а единое, в котором [элементы]
согласуются [между собой], есть определяющее основание [их]
совершенства» (Consensus ipse est perfectio, et unum in quod
consentitur, ratio perfectionis determinans)2.
Определения эти предполагают не разрыв между
чувственным и интеллектуальным знанием, но отношение аналогии.
Непосредственно понятие «совершенства», в указанном его
содержании, применимо только к интеллектуальному, а не
к чувственному знанию, так как, по Лейбницу, понятие
«достаточного основания» (principium rationis sufficientis), или
понятие «определяющего основания» (principium rationis determi-
nantis) — понятия интеллектуального, а не сенситивного
познания. То же справедливо и относительно понятия единого.
Однако невыводимость понятий «достаточного основания»
■и единого непосредственно из чувственного знания не
препятствует применению их и в этой сфере — на началах аналогии.
В этом — аналогическом — смысле чувственное познание
будет «совершенным», если над ним будет господствовать некое
объединяющее начало. Это начало необходимо должно быть
явлением (phaenomenon), то есть способным быть воспринятым
низшими познавательными функциями. И точно так же
согласование частей должно составлять предмет восприятия, не
требующего деятельности разума.
В параграфах 18—20 «Эстетики» Баумгартен поясняет, что
многообразные элементы (называемые в «Метафизике» plura),
согласие которых необходимо для достижения «совершенства»,
суть: 1) мысли (cogitationes), 2) порядок (ordo) и 3) обозначение
(significatio). Они составляют соответственно предмет трех
частей, из каких должна, по мысли Баумгартена, состоять
эстетика: предмет эвристики, методологии и семиотики*.
Так устанавливается важное для эстетики Баумгартена
понятие «совершенства». Это—согласие между мыслями, их
порядок и их выражение. Именно эти признаки и составляют
содержание понятия красоты, или прекрасного. Формально
1 Baumgarten, Metaphysica, § 94.
2 Т а м ж е, § 94.
8 В «Meditationes» Баумгартена (§ 6) термину plura соответствует
термин varia. Это —«чувственные представления» (representationes sensi-
tivae), «их связь» (nexus earum) и «звуки — их знаки» (et voces... earum
•signa).
16
понятие красоты появляется лишь в «Эстетике». Оно еще
отсутствует в «Meditationes». Возможно, что прав Нивелль и что
это отсутствие здесь объясняется только тем, что Баумгартен
не хотел обобщить мысли, развитые в «Meditationes» по
отношению к одной лишь поэзии, на все остальные искусства. По
существу же, как правильно полагает Нивелль, понятие
«поэтического» (poeticum), рассматриваемое в «Meditationes», есть
только частный случай понятия «прекрасного» (pulcrum),
и таким образом различие между обоими есть различие
лишь по объему1.
Интерпретация понятий Баумгартена о «совершенстве»
и «прекрасном», развитая Нивеллем и близкая к пониманию
Петерса, оригинальна. Она расходится с обычными в
литературе толкованиями этих понятий. Большинство авторов видели
в баумгартеновском понятии о cognitio (познании) только
субъективную деятельность познавания. Напротив, Нивелль
видит в нем, кроме того, «объективное содержание познания,
совокупность выраженных представлений» (le contenu objectif
de la connaissance, un ensemble de représentations exprimées).
Истолкование это сразу делает понятным, почему термин
perfectio (совершенство) Баумгартен употребляет и во
множественном числе. Идея «совершенства» всегда предполагает
некоторое целое, которое должно быть хорошо определено, и не
всякое совершенство есть совершенство в эстетическом смысле.
Сжатость и невразумительность выражения «совершенство
чувственного познания» породила множество ошибочных
толкований. Часть этих толкований была предложена
литературоведами и искусствоведами, часть —философами.
Из литературоведов и искусствоведов наиболее простое,
но несостоятельное решение вопроса предложил Брайтмайер.
В своей «Истории поэтической теории и критики от
рассуждений живописцев до Лессинга»2 Брайтмайер приписывает Баум-
гартену явно несовместимые значения термина «совершенство».
В § 14 он переводит: «Zweck der Aesthetik ist die
Vervollkommnung der sinnlichen Erkenntnis als solcher»... и тут же далее:
«Die Vollkommenheit nun der sinnlichen Erkenntnis heisst
Schönheit», то есть: «Цель эстетики есть совершенствование
чувственного познания как такового... Но совершенство
чувственного познания называется красотой».
В работах философов, писавших об эстетике Баумгартена,
имеется точка зрения, безоговорочно сближающая
определения Баумгартена с позицией Лейбница. Таковы истолкования
1 Ср. также: R i е m а n n, Die Aesthetik A. G. Baumgartens unter
besonderer Berücksichtigung der Meditationes, nebst einer Übersetzung
dieser Schrift, Halle, 1928, § 34.
2A. Breitmayer, Geschichte der poetischen Theorie und Kritik
von den Diskursen der Maler bis auf Lessing, Frauenfeld, 1888—1889.
2 в. Асмус
17
Боймлера и Римана. Боймлер усматривает в cognitio черту
единства, в sensitivus — различие и богатство, и, наконец,
в perfectio — усиление обоих элементов, между которыми
имеется гармоническая связь1.
В том же направлении и в явной зависимости от Боймлера
идет Риман. Согласно его пониманию, совершенство
предполагает, что множество представлений доведено до наивысшей
степени Anschaulichkeit и что все они гармонически
объединяются ввиду некоторой цели.
И то и другое толкование обоснованы, но не выражают всей
истины. Точка зрения Боймлера принимает во внимание только
мысли (cogitationes). Точка зрения Римана игнорирует вопрос
об их выражении и вводит чуждое Баумгартену понятие цели,
впервые появляющееся в немецкой эстетике только у Мейера.
У обоих «совершенство» вытекает из особой деятельности
мысли, получает характер логической функции.
Еще более распространена точка зрения, представленная
Лотце и Бенедетто Кроче. К ним также приближается П. Грап-
пэн. Согласно их пониманию, Баумгартен находился во власти
нередкого в XVIII веке взгляда, по которому красота есть
совершенство, познанное посредством чувственности.
Восходящая к Лейбницу, эта теория была воспринята Вольфом,
Готтшедом, а затем Мейером, Зульцером и Мендельсоном.
Но поводы для приписания этого взгляда Баумгартену
недостаточны. Баумгартен отнюдь не думал, будто
«совершенство чувственного познания» — то же самое, что «познание
совершенства с помощью чувственности». Он понимал, что
подобный взгляд подчиняет предмет эстетики предмету логики:
выходит, будто обе науки эти познают один и тот же объект —
совершенство — и отличаются только способом познания,
которым для логики является интеллект, а для эстетики —
чувственность.
В заблуждение это впал и Кроче. В исторической части
своей эстетики Кроче приписал Баумгартену взгляд на красоту,
как на чувственное познание совершенства. Подведя баум-
гартеновское понятие совершенства под понятие логической
истины, Кроче начисто отказал эстетике Баумгартена в каком
бы то ни было представлении о специфическом предмете ее
исследований2.
По приговору Кроче, Баумгартен только применил новое
название к старому предмету.
Во всех этих утверждениях следует за Кроче также и Грап-
пэн, автор работы «Теория гения у предшественников немец-
1 См.: А. B-äumler, Kants Kritik der Urteilskraft. Ihre Geschichte
und Systematik, Halle, 1923, Band I, S. 227.
2 См., напр.: Benedetto С г о с e, Esthetica. Teoria е Storia,
siesta edizione, Bari, 1928.
18
кого классицизма»1. И он того мнения, будто Баумгартен
определяет прекрасное только через совершенство его объекта.
Наконец, Лотце полагает, что «прекрасное» Баумгартена
следует искать в несовершенстве познания. А именно, говоря
о «несовершенном познании», он имеет в виду
противоположность между познанием чувственным и логическим.
Чувственное познание квалифицируется как несовершенное с точки
зрения логической, а логическое оказывается несовершенным —
с точки зрения эстетической2.
Действительное мнение Баумгартена не таково. Оно
восходит к учению, которое Аристотель изложил в «Поэтике» (IV, 3)
и которое состоит в утверждении, что самые безобразные
животные, и даже трупы, могут нам нравиться, поскольку мы
рассматриваем их художественные изображения (по
Аристотелю — «подражания»). В «Эстетике» Баумгартен чрезвычайно
точно отличает прекрасное, как предмет изображения, от
прекрасного изображения предмета: «Возможно,— говорит
он,— красиво мыслить о безобразных предметах, как таковых,
и безобразно мыслить о прекраснейших» (possunt turpia pulcre
cogitari, ut talia, et pulcriora turpiter)3.
Петере и Нивелль отдали себе должный отчет в важности
этого различения. В этом их заслуга и самостоятельность их
интерпретации. В их работах получило должное разъяснение
баумгартеновское определение эстетики как науки о
чувственном познании4. Согласно его новому смыслу, эстетика есть
наука не просто о чувственном познании, а о совершенном
чувственном познании. Само совершенство понимается при
этом как гармония трех элементов: содержания, порядка
и выражения. Такое совершенное чувственное познание и есть
красота. В этом своем качестве оно составляет собственный,
или специфический, предмет, эстетики5. Именно для
исследования указанных трех элементов «Эстетика» Баумгартена
делится на три части: эвристику, методологию и семиотику.
II
АНАЛИЗ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА
Учением об элементах эстетического совершенства у
Баумгартена предполагается определенная теория художе-
1 См.: P. G г а ρ ρ i η, La Theorie du génie dans le préclassicisme
allemand, Paris, 1952.
2 См.: H. Lot ze, Geschichte der AesthStik in Deutschland, München,
1868; 2. aufl., 1913.
8 Baumgarten, Aesthetica, § 18.
4 Τ a m же, § 1.
5 См.: H. G. Peters, Die Aesthetik A. G. Baumgartens und ihre
Beziehungen zum Ethischen, Berlin, 1934; Armand Nivelle, указ.
произв., стр. 32—35.
2* 19
ственного творчества. Говоря языком самого Баумгартена,
эта теория есть учение о составных элементах художественно
мыслящего ума. В «Эстетике» изложение этой теории сжато,
не развито в подробностях. Ему посвящены разделы III—
VI трактата. В них последовательно рассматриваются: 1)
«прирожденная эстетика» (aesthetica naturalis), 2) «упражнение
в художественном творчестве» (exercitatio aesthetica), 3)
«эстетическая теория» (disciplina aesthetica), 4) «эстетическое
вдохновение» (impetus aestheticus) и 5) «художественная отделка»
(correctio aesthetica).
« Прирожденная эстетика »
Первым условием художественного творчества является,
согласно Баумгартену, «прирожденная» (connata), или
«естественная», эстетика, прирожденное расположение души к
изящному мышлению (ad pulcre oogitandum)1.
Говоря о прирожденном эстетическом уме, Баумгартен
понимает «ум» широко — как совокупность не только
интеллектуальных, но и чувственных способностей, необходимых
для восприятия и для порождения прекрасного в искусстве.
Что касается чувственного познания, то в его сфере первой
прирожденной эстетической склонностью или
предрасположением Баумгартен считает «предрасположение к острому
чувствованию» (dispositio acute sentiendi)2. Природа этого
предрасположения — двоякая. Она предполагает не только
достаточную остроту органов ощущения, но также и внутреннее
чувство, достаточное для того, чтобы душа могла как судить
о воспринимаемом, так и использовать материал, доставляемый
ей внешними чувствами3.
Для использования материала требуется, во-вторых,
«естественное предрасположение к воображению» (dispositio
naturalis ad imaginandum)4. «Воображение», о котором здесь идет
речь, состоит прежде всего в воспроизведении. По
разъяснению Баумгартена, художник часто неспособен к
художественному творчеству в моменты особенно живого чувствования.
Нельзя, например, требовать от поэта, чтобы он стал писать
поэму тотчас после смерти друга, во время агонии которого
1 См.: Baumgarten, Aesthetica, § 28. Ср. также: В. Poppe,
A. G. Baumgarten, 1907, где^в § 105 читаем: «...когда прирожденное
расположение... имеется не в заметной степени, тогда нет и предпосылки для
образования изящного ума» (Wenn man die natürliche Anlage... nicht in
einem merklichen Grade hat, so lasse man den Vorsatz fahren, ein schöner
Geist zu werden).
2 Baumgarten, Aesthetica, § 30.
3 Там же.
« Там же, § 31.
20
он присутствовал1. Для этого необходима дистанция времени
и помощь воображения.
В-третьих, к «прирожденной» эстетике относится
«предрасположение к проницательности» (dispositio ad perspicaciam).
Благодаря этому расположению способность к восприятию
сходств (ingenium) и способность к восприятию различий
(acumen)2 оттачивают впечатления и образы чувств и
воображения.
Четвертое условие «прирожденной
эстетики»—«предрасположение к узнаванию и память» (dispositio ad perspicaciam et
memoria). По этому поводу Баумгартен вспоминает, что греки
и римляне видели в памяти «мать муз»3.
Пятым условием «прирожденной» эстетики Баумгартен
считает «поэтическую композицию» (dispositio poetica).
Благодаря ей поэт не только воспроизводит однажды воспринятое.
Он преобразует испытанные впечатления посредством
воображения и сочетает их, комбинируя с новыми восприятиями. Это
то, что называют «способностью воображения» (facultas fin-
gendi)4.
В-шестых, условием «прирожденной» эстетики является
предрасположение или способность к вкусу — не площадному,
но тонкому, или хорошему вкусу (dispositio ad saporem non
publicum, immo delicatum)5. Вкус — важное условие
«прирожденной» эстетики. Он судит о вещах, относительно которых
рассудок не хочет принимать никаких решений (Der Geschmack
ist ein Richter in den Sachen, wo der Verstand nichts entscheiden
will)6. Будучи отделен от разума, вкус относится к низшим
способностям познания — так же как эстетика в целом есть
гносеология низшего вида знания.
Седьмое условие «прирожденной» ' эстетики —
предрасположение к предвидению и предвещанию (dispositio ad pravi-
dendum et praesagiendum), или к прорицанию. Так понимали
деятельность поэта древние, для которых поэт был vates —
прорицатель и вещун7. Но эту способность нельзя смешивать
с видениями пророков. Она скорее есть дар представлять
ближайшее будущее настолько верно, что этого представления
достаточно для возбуждения — посредством эстетического
чувства — желания этого будущего. И Баумгартен ставит эту
способность в связь со способностью допускать существование
1 Немецкий текст у Поппе (В. Poppe, A. G. Baumgarten, S. 87).
2 См. выше, стр. 9—10, где ingenium и acumen образуют первые две
компоненты «аналога разума».
3 В а и mg arten, Aesthetica, § 33.
4 Там же, § 31, 34.
5 Τ а м же, § 35.
6 В. Poppe, Α. G. Baumgarten, § 89.
7 Baumgarten, Aesthetica, § 36.
21
миров иных, чем наш. Такие допущения возникают посредством
построения способных к реализации гипотез1.
Такова основа учения Баумгартена о художественном
вымысле и об эстетической истине. Она почерпнута,
по-видимому, из мысли Лейбница о «возможных мирах», примененной
в данном случае к области и к предмету эстетики.
Наконец, восьмое условие «прирожденной» эстетики —
предрасположение к выражению собственных представлений
(dispositio ad significandas perceptiones suas)2.
Все перечисленные здесь условия — условия,
принадлежащие к сфере чувственности. Но к прирожденному эстетическому
гению относятся также способности интеллекта и разума3 —
без них художественное произведение невозможно. Здесь
понятие Баумгартена об эстетическом познании уже выходит
за рамки одной чувственности и включает содействие разума.
Кроме условий чувственных способностей, как таковых,
существует еще условие их гармонии. Если бы силы познания
ограничивались одной чувственностью, то познание всегда стояло
бы перед опасностью. Состоит она в том, что многочисленные
сочетания данных чувственной интуиции с почти фатальной
необходимостью вызывают в человеческом уме раздельные,
не связанные между собой представления.
Упражнение в художественном творчестве
Прирожденная эстетическая способность не может
сохраняться неопределенно долго. Она должна быть поддержана
и подкреплена постоянным упражнением. Поэтому второй
важной компонентой художественной натуры является, по Баум-
гартену, «художественное упражнение». Оно относится не
только к деятельности ума, но ко всему существу художника,
к его сердцу и к темпераменту. Баумгартен называет это
упражнение ασκησίς, или exercitatio aesthetica4.
Эстетическая теория
Но и эстетическое упражнение совершалось бы вслепую,
а также было бы бесполезно, если бы им не руководило знание
правил и теория прекрасного — то, что Баумгартен, в
согласии с древними греками, называет «наукой» μάϋησίς.
Латинский термин для передачи этого понятия — «disciplina
aesthetica». Эта теория и эти правила руководят художником в
решении поставленной им задачи. Одно лишь прирожденное эсте^-
1 Liaumgarten, Aesthetica, § 36.
2 Τ а м же, § 37.
3 Τ а м же, § 38.
4 Τ а м же, sectio III.
22
тическое чувство, лишенное света теоретического
руководства, могло бы привести к глубоким заблуждениям.
«Наука», или «теория», о которой говорит здесь Баумгар-
тен, предполагает начитанность во всем, что относится к
«прекрасным вещам». Сюда входят прежде всего осведомленность
в науках: о боге, о вселенной, о человеке, об истории, о мифах.
К «теории» этой относится, кроме того, изучение способов
художественного выражения, а также «теория формы изящного
мышления, или эстетическое искусство». Под последним
разумеются правила художественного творчества.
Баумгартен далек от того, чтобы считать эту «теорию»
и ее правила безусловной гарантией художественного успеха.
Они еще не формируют великого художника как такового. Их
значение — в том, что они помогают избегать определенных
черт безобразия и даже достигать красоты, которой без этих
правил художник, быть может, даже не подозревал бы1.
Эстетическое вдохновение
Ни естественное эстетическое предрасположение, ни
упражнение в художественном творчестве, ни эстетическая теория,
сами по себе взятые, еще недостаточны для того, чтобы
породить произведение искусства. Для этого необходимо еще одно
условие — эстетическое вдохновение (impetus aesteticus). Его
виды, или аспекты, а также степени его силы могут быть самыми
различными. Но во всех случаях это прежде всего состояние
души, при котором душа преодолевает пассивный характер
эстетических сил как прирожденных, так и
благоприобретенных. В зависимости от интенсивности это «прекрасное...
воспламенение ума» (pulcra mentis... inflammatio) обозначается
у Баумгартена различными терминами, выражающими
понятия экстаза, исступления, энтузиазма, божественного
вдохновения (ecstasis, furor, evfroixnaauàç, nveöu-a Феои)2. Признак
вдохновения — в неподражаемых чертах, в неподражаемом
характере произведения. Даже в наших собственных
сочинениях мы можем обнаружить его действие и результат. Так
бывает, когда, написав работу, мы чувствуем — по прошествии
известного времени,— что мы уже неспособны воспроизвести
ее так же хорошо, как сделали первоначально. Это значит,
что в первом случае мы испытали вдохновение (impetus).
Другой приметой вдохновения может быть быстрота и легкость,
с какими мысли текут, приходят в порядок и выражаются.
Во всех случаях вдохновения ум не только воспринимает в
качестве ясных все образы, внушаемые ему предметом; кроме того,
1 Baumgarten, Aesthetica, sectio, IV.
2 Там же, § 78.
23
он нисходит в мир темных восприятий (перцепций), и, таким
образом, тема произведения предстоит ему уже в новом аспекте1.
Введя в систему условий художественного творчества
вдохновение, Баумгартен ставит важный вопрос о возможности
воздействия на вдохновение. Предстоит решить, располагает ли
художник возможностью усилить состояние вдохновения,
вызвать его по своему желанию, или же вдохновение находится
совершенно вне всякой способности воздействия на него и есть
некий дар судьбы?
Сама по себе способность испытывать вдохновение —
врожденная, но существуют благоприятствующие ей условия,
которые могут быть вызываемы к действию самим художником.
Условия эти — совершенно индивидуальны, связаны с
личностью художника и стоят в самой тесной зависимости от его
телесного состояния.
В разделе V «Эстетики» Баумгартен обстоятельно
рассматривает условия и обстоятельства, благоприятные для
художественного творчества. Они весьма разнообразны. Тут и физиче-,
екая тренировка, и желание подражать, охватывающее порой
художника, и чувство любви, и бедность, и гнев, и
восторженность и. т. д. При этом Баумгартен отмечает, что указанный им
ряд обстоятельств, содействующих творчеству, с одной
стороны, далек от исчерпывающей полноты, с другой —
вдохновение может наступить и без помощи этих обстоятельств. По
отношению к природе вдохновения они — внешние. Во всяком
случае, история искусства говорит, что они часто оказывались
действенными2.
Художественная отделка
Созданное художником на этапе творческого вдохновения
подлежит в дальнейшем правке, усовершенствованию и
шлифовке. «Обучение отделке» (correctionis Studium) происходит под
руководством разума и рассудка (интеллекта). В результате
вносятся коррективы в первый набросок или очерк
произведения, который был порожден непосредственным вдохновением.
Вся эта работа отделки рассматривается в разделе VI
«Эстетики».
Подражание природе
За перечислением всех рассмотренных условий, или
элементов художественного творчества Баумгартен приступает
к сообщению правил, руководящих советов. Здесь же он
рекомендует некоторые меры, которые должны быть приняты для
того, чтобы писать естественным образом (naturaliter).
1 В. Poppe, A. G. Baumgarten, § 80.
2 Т а м же, sectio V, passim.
24
Баумгартен отдает себе ясный отчет в неопределенности
и двусмысленности понятия о «естественности» творчества.
Поэтому он стремится довести его определение до полной
точности. Он утверждает, что «естественный стиль» совершенно
необходим — настолько, что все «искусственное» (artificium)
в художественном творчестве обнимается и подразумевается
его единственным правилом — «подражать природе» (naturam
imitare)1.
Сущность этого «подражания природе» требует
предварительных объяснений, а само понятие должно быть рассмотрено
в историческом контексте. Только такое рассмотрение позволит
установить отношение баумгартеновского «подражания
природе» к современному ему и последующему реализму.
Начатое Баумгартеном исследование художественного
творчества широко развилось в эстетике второй половины
XVIII века и далее. В то время подобные исследования
назывались исследованием вопроса о «гении». Под «гением»
подразумевалась не высшая, превосходящая обычные пределы
степень художественной и умственной одаренности, а
приблизительно то, что впоследствии — в психологии и эстетике
XIX века — стали называть «субъектом художественного
творчества». Самый термин «гений» был впервые введен в Германии,
если прав Граппэн, Иоганном Адольфом Шлегелем в 1751 году
в переводе появившейся в 1746 году работы Баттё «Сведение
изящных искусств к единому принципу» («Reduction des beaux
arts a un même principe»)2. В связи с этим стоит тот факт, что
в первой части «Эстетики» Баумгартена, опубликованной
в 1750 году, термин «гений» (genius) не встречается. Во второй
части, вышедшей спустя восемь лет. (1758), он уже
применяется наравне со старым термином «ingenium»3. Термин этот
быстро приобретает распространение в эстетической
литературе.
В параграфах «Эстетики», посвященных «естественной» или
«прирожденной» эстетике (aesthetica naturalis), «гений»
понимается как гармоническое действие естественных склонностей
в сферах чувственной, интеллектуальной и аффективной.
Источник этого понимания — во Франции. В нем
несомненно брезжит уже некая реалистическая идея. Во всяком
случае, это понимание явно направлено против теорий
сверхъестественного, или божественного происхождения «гения»,
введенных неоплатониками и платониками Возрождения. И Дюбо
(Dubos) и Баттё (Batteux) сводят «гений» к счастливому равно-
1 Baumgarten, Aesthetica, § 104.
2 P.Grappin, La Théorie du génie dans le préclassicisme allemand Y
Paris, 1952, p. 110.
3 См.: Baumgarten, Aesthetica, § 633.
25
весию естественных способностей — телесных и духовных1.
К их понятию о «гении» примкнул в Германии Готтшед.
Баумгартен не просто воспроизводит мысль французских
теоретиков. Посредством понятия об impetus aestheticus он
вводит в понятие о «гении» как компоненту «энтузиазм»
(ενθουσιασμός), «воодушевление». Развивая это понятие о вдохновении,
он в одном важном пункте выступает против теорий
вдохновения, созданных эстетиками античности, Возрождения, а также
эстетиками XVII века.
Во всех этих трех типах учений о вдохновении высоко
ценилось то, что в них называлось «поэтическим неистовством».
От Демокрита до Аристотеля («Поэтика», XVII) мы слышим
о поэтах, отдающихся во власть «поэтического безумия» или
«исступления». Примеры такого же понимания мы находим
в эстетике Возрождения2. Наконец, в XVII веке Буало в самом
начале своей «Поэтики» также говорит о «тайном влиянии
неба», о звезде, которая в час рождения поэта создает его
поэтом и т. д.3.
Напротив, соглашаясь с этими своими предшественниками,
в их мысли, будто «вдохновение» — особый вид «исступления»,
или возбуждения, повышенного действия умственных сил,
эмоций и т. д., Баумгартен отказывается признать, будто источник
этого поэтического «безумия».— «тайное влияние неба». Он
ищет природные, естественные источники «вдохновения». Он
видит во «вдохновении» реальное явление, реальный процесс,
доступный точному выражению и сводимый к его естественным
психологическим условиям. И хотя «вдохновение» — не
повседневный, обычный факт жизни поэта, оно все же явление
отнюдь не сверхъестественное. Оно может быть вызвано — при
известных условиях — самим художником.
Для всех этих мыслей Баумгартен стремится найти опору
в античной литературе, но не в той, которая — устами
Демокрита, Платона, Аристотеля — провозгласила «вдохновение»
особым видом «неистовства». Он использует главным образом
латинских авторов. Его источники — Гораций, Цицерон,
Квинтилиан, Лонгин4. Все они утверждали необходимость
1 См.: Grappin, указ. произв., стр. 112.
2 См.: Н. Wolff, Versuch einer Geschichte des Geniebegriffs in der
deutschen Aesthetik des 18 Jahrhunderts, B. I. Von Gottsched bis Lessing,
Heidelberg, 1923, S. 19; E. D e В г u у η e, De Renaissance, 1951, p. 10—43;
138—145; 269—282; A. S о г e i 1, Introduction à l'histoire de l'esthétique
française, Liège, 1930, p. 35 svv.
8 Аналогичные тексты и наблюдения у Г. Вольфа (указ. произв.,
стр. 10 ff, 77 ff).
* См.: Г о ρ а ц и й, Ad Pisones; Цицерон, De Oratore, § 5, 71—74;
Orator, § 14—16; Квинтилиан, De Institutione oratoria X, 4;
XII, 1—4; Лонгин, О возвышенном, II, 1—2.
26
естественных предрасположений для того, чтобы возникла
возможность отдаться поэтической деятельности или ораторскому
искусству. Зависимость Баумгартена от рассуждений этих
авторов велика. Все, что Баумгартен говорит на эти темы
в разделах об exercitatio, disciplina и correctionis Studium,
лишено оригинальности. По-видимому, как догадывается Ни-
велль1, Баумгартен ввел эти понятия в систему своей
«Эстетики» не столько ввиду интереса, какой они представляли в его
глазах, сколько из стремления к систематической полноте;
само же это стремление должно быть поставлено в связь со
школьным догматизмом в духе Готтшеда. В «Эстетике»
Баумгартена эти понятия появляются в последний раз, излагаются
крайне схематично, и само их появление кажется явным
пережитком.
Чрезвычайно поучительно сопоставить «Meditationes» и
«Эстетику» в той части обеих работ, где рассматриваются
условия творческого процесса. На протяжении между 1735 годом,
годом написания диссертации, и 1750 годом, когда появился
первый том «Эстетики», во взглядах Баумгартена произошла
эволюция. Она соответствует эволюции понятий о «гении»
в эстетике XVIII века. В «Meditationes» трактовка чисто
философская. В «Эстетике» на первый план выдвигается задача
практическая: автора больше интересует описание уже
готового, созданного произведения, чем условия его создания.
Впрочем, обе эти задачи не противопоставлены одна другой.
В обоих случаях предполагается врожденность «гения» и
необходимость «вдохновения». Но при этом в «Meditationes»
больше подчеркивается творческая природа художника и его
деятельности. Художественное произведение рассматривается
как обладающий строением, расчлененный, гармонический,
пропорционально слаженный организм — так же как вся
сотворенная богом вселенная. В этой мысли еще слышится отзвук
платонизма, который в первой половине XVIII века переживал
на Западе последнюю фазу своего влияния. Скалигер и
Лейбниц были его предвестниками для XVIII столетия, но первое
настоящее выражение он нашел у Шэфтсбёри (Shaftesbury) —
в его взгляде на поэта, как на Прометея, творящего под властью
Юпитера2.
Теперь мы можем приступить наконец к анализу понятия
Баумгартена о подражании природе. Именно в нем с
наибольшей ясностью выступает различие между «Meditationes»
и «Эстетикой», о котором только что было сказано.
В § 110 «Meditationes» понятие подражания сформулиро-
1 См.: Armand Nivelle, указ. произв., стр. 42.
2 О. W а 1 z е 1, Das Wortkunstwerk. Mittel seiner Erforschung,
Leipzig, 1926, S. 50.
27
вано так: «Поэма есть подражание природе и зависящим от нее
действиям».
Но что же такое само это «подражание»? Какой смысл
должен быть соединяем с этим термином?
Баумгартен отклоняет ряд ложных, с его точки зрения,
значений. Прежде всего под «подражанием» пе следует
понимать воспроизведение только чувственной реальности вещей.
Величайшие художники допускали изображение чудесного,
даже изображение чудес, в которых нет ничего общего с
природой в обычном смысле слова1.
Но если так, то в каком смысле произведение искусства
может быть подражанием природе? — В том, что, как и сама
природа, оно есть творение, полностью зависящее от своего
творца. Поэма — аналог вселенной. Законы вселенной,
открытые философами, по аналогии приложимы и к поэме2. Поэтому
и действие произведения искусства подобно действиям,
производимым самой природой3. При этом «природа», о которой
здесь идет речь, не есть лишь совокупность всего
существующего, natura naturata в смысле натурфилософов Возрождения
и Спинозы, но — главным образом «внутренний принцип
происходящих во вселенной изменений» (intrinsecum mutationum
in universo principium)4. «Подражание» и есть действие,
согласное с этим внутренним принципом, так что «природа и поэт
производят подобное» (natura et poeta producunt similia).
Для Баумгартена в основе художественного творчества
лежит единство многообразия, которое и есть совершенство
мира (perfectio mundi). К этому же принципу восходит
требование тематического единства, которому подчиняются5 поэтика
и теория искусства. Таким образом понятие «подражания
природе» совпадает у Баумгартена с лейбницевским принципом
единства в многообразии. Теория творчества Баумгартена не
есть теория реализма в нашем смысле. Она покоится на основе
объективного идеализма школы Лейбница. Первоначальным
античным типом этой теории были теории «подражания»
(fujj/naia'a), развитые не в материалистической школе Демокрита,
а в школах античного объективного идеализма — в школах
Платона и Аристотеля. При этом позиция Баумгартена (в
отличие от позиции Лейбница) в данном вопросе ближе к
объективному идеализму Аристотеля: в то время как у Платона
объективный принцип единства для многого имеет трансцендентный
характер, вынесен за пределы реального мира в
умопостигаемый бестелесный мир «эйдосов» или «идей», у Баумгартена
1 Baumgarten, Meditationes, § 49 (примеч.).
2 Там ж е, § 68 (примеч.).
3 Т а м ж е, § 109.
4Там же, § НО.
5 Там же, § 66—67.
28
(подобно Аристотелю1) предмет подражания — единое для
многого совершенство — вполне имманентный реальному миру.
В «Эстетике» Баумгартен не останавливается подробно на
философских вопросах «подражания природе», которым
принадлежит видная роль в «Méditationes». Главный его предмет
в «Эстетике» — не проблема «подражания природе», а проблема
«естественного стиля».
Согласно воззрению, развитому в «Эстетике»,
«естественный», или «натуральный» характер стиля зависит от трех
условий. Эти условия относятся: 1) к автору, 2) к теме
произведения и 3) к воспринимающим произведение (к публике).
Все три условия должны быть выполнены одновременно.
Для «естественности» стиля от автора требуется, во-первых,
чтобы он отдавал себе ясный отчет в своих естественных
предрасположениях и в своих силах. Во-вторых, автор должен
хорошо знать предмет своего изображения и хорошо понимать
этот предмет. В-третьих, автор должен помнить о том, к кому,
к какому общественному кругу он обращается в своем
произведении. Выполняя эти три условия, автор проявляет
необходимую осторожность, сдержанность и обеспечивает себе успех.
Напротив, идти в художественной работе «против природы»
{contra naturam) или стремиться к тому, что «сверх природы»
{praeter naturam), значит всегда обрекать себя на неудачу2.
Баумгартен перечисляет ряд погрешностей стиля, к
которым ведет нарушение естественности. Вслед за Горацием,
Цицероном и Квинтилианом он отбрасывает как негодные роды
искусства: род, обусловленный незнанием общества, для
которого предназначается произведение; туманный и
схоластический род мышления (umbratile et scholasticum cogitandi genus;
die pedantische Denkungsart), аффектированный род; холодный
род, лишенный вдохновения (impetus) и пылкости (inflamma-
tio); разнузданный и экстравагантный род, когда чувства
художника преувеличены и не соответствуют теме;
преувеличенную работу над отделкой произведения и т. д.
Все эти предостережения и меры обеспечения
«естественного» стиля явно почерпнуты из античной литературы.
Горацию Баумгартен следует в совете взвешивать собственные силы,
выбирать предмет, отвечающий собственным возможностям,
и досконально изучать его. Цицерону — в его совете всегда
держаться «подходящего», соответствующего как взятому
предмету, так и уровню понимания аудитории. Квинтилиану —
1 Только всемирный бог Аристотеля, неподвижный перводвигатель
мира, мыслящее себя мышление, трансцендентен миру и есть бестелесная
форма. Напротив, каждая отдельная вещь есть субстанция, единство
материи и формы, принадлежит имманентной миру природе (об этом см.:
В. Асмус, Реализм в эстетике Аристотеля, «Театр», 1938, № 1—2).
2 Baumgarten, Aesthetica, § 105.
29
в сходном совете учитывать благоприятные условия, помнить
о необходимости соответствия между оратором и трактуемым
вопросом, между характером речи и характером аудитории.
Несмотря на элементарную ясность всех этих положений,
некоторые авторы сводят баумгартеновское понятие об
«естественном роде», или стиле и о «подражании природе» к
требованию изображать реальную сущность явлений, даже
материальную реальность вещей. Из этого понимания они выводят,
будто теорией Баумгартена исключается все, выходящее за
непосредственные пределы этой реальности,— всякая выдумка,,
вымысел. Принадлежа к «иному миру», выдумка и вымысел
будто бы, с точки зрения Баумгартена, «искусственны» и потому
должны быть исключены из области искусства1.
Утверждения эти противоречат и букве и смыслу теории
основателя немецкой эстетики. Баумгартен не только
допускает возможность художественного вымысла. Он полагает, что
в искусстве создания вымысла составляют его существенное
условие2. «Подражание природе», как его понимает
Баумгартен, вовсе не сводится к копированию реальности. Для
искусства природа — образец, натура, модель, но ее значение
как образца касается только принципа творчества (аналогия
между творением мира и творчеством художника), а также
необходимой для произведения искусства гармонии элементов:
художника, его предмета и его публики.
III
СОДЕРЖАНИЕ В ПРОИЗВЕДЕНИИ ИСКУССТВА
Рассмотренные условия художественного творчества
подготовляют постановку вопроса о содержании произведения
искусства. К содержанию Баумгартен относит как «вещи» (res),
изображаемые художником, так и «мысли» (cogitationes)
художника относительно изображаемых вещей. В § 22 «Эстетики»
перечисляются основные черты, или стороны «содержания»
(в только что поясненном смысле). Это 1) «богатство» (über-
tas), 2) «величие» (magnitudo), 3) «истинность» (veritas),
4) «ясность» (claritas или lux), 5) «достоверность» или
«убедительность» (certitudo или persuasio).
Классификация элементов содержания проводится Баум-
гартеном довольно педантично. Последовательно рассматри-
1 H. L о t z е, Geschichte der Aesthetik in Deutschland, München,
1868, 2-te Aufl., 1913, passim; M. S с h a s 1 e г, Kritische Geschichte der
Aesthetik. Grundlegung der Aesthetik als Philosophie des Schönen und der
Kunst, Berlin, 1872, S. 350 ff.
2 Baumgarten, Aesthetica, § 511—525.
30
ваемые стороны содержания ставятся автором на одну линию,
но в действительности они далеко не равноценны. Во всем
обзоре каждый элемент содержания рассматривается в двух
аспектах: в отношении к «предметам», образующим
содержание, и в отношении к «мыслям» по поводу этих «предметов».
Так, в § 18устанавливается строгое различение между красотой
предметов как таковых и красотой мыслей. Последняя и есть
прекрасное, выступающее в произведении искусства. «Онти-
ческой» («бытийной») красоте самого предмета соответствует
эстетическая красота художественной вещи. Но это
соответствие предполагает точное различение обеих.
« Богатство » содержания
На первом месте среди элементов, или условий
«содержания» художественного произведения Баумгартен ставит его
«богатство». Понятие «богатство» связано с учением Баумгар-
тена (и вообще рационализма) о «перцепциях» (представлениях).
Отчетливые перцепции относятся к сфере логического,
слитные — к сфере эстетического. Но и первый и второй виды
перцепций образуют группу перцепций ясных. От них строго
отличаются перцепции темные. К области эстетического темные
перцепции относятся, поскольку они оказывают влияние на
эстетическое вдохновение (impetus aestheticus).
Ясные, но слитные перцепции, относящиеся к сфере
эстетического, называются также «ясными в экстенсивном смысле»
(extensive clarae, по-немецки — extensiv-klar).
Термин этот указывает на наибольшее количество
элементов, из которых слагаются эти перцепции. Это и есть
«богатство» как черта эстетического содержания: богатство темы
произведения и богатство самого произведения.
В собственном смысле слова термин «богатство» выражает
степень определенности, или конкретности, как сказали бы
сегодня, поэтических представлений. Чем конкретнее
представления, тем, вообще говоря, они поэтичнее.
Эта характеристика «богатства» представлений как
элемента содержания в «Meditationes» развита более выразительно,
чем в «Эстетике», и отличается большей глубиной.
По разъяснению Баумгартена, темные представления менее
поэтичны, чем представления ясные. Происходит это от того,
что в темных представлениях недостает элементов для их
различения. В свою очередь из ясных представлений ясные, но
слитные более поэтичны, чем представления ясные и
раздельные. Причина этому в том, что в слитных представлениях число
их черт более значительно. Но самые поэтичные и эстетичные
из слитных представлений — представления более ясные
в экстенсивном смысле, то есть наиболее сложные по составу
31
своих элементов, наиболее богатые, наиболее определенные,
наиболее конкретные.
Самыми конкретными существами бывают единичные
предметы, или индивиды. Поэтому представления о единичных
предметах и существах — самые поэтичные. Один конкретный
пример стоит большего, чем общее понятие, и вид выше рода.
В этом положении Баумгартен видит единственно
возможное оправдание мысли Лейбница, который утверждал, что
цель поэзии — обучать благоразумию и добродетели
посредством «примеров»1.
В дальнейшем Баумгартен различает «богатство»
содержания в безусловном и в относительном смысле слова.
Безусловное богатство необходимо для всякого произведения искусства.
Относительное богатство изменяется в зависимости от рода
искусства, от его предмета и от стиля.
Баумгартен отличает объективное богатство, наличное в
самом предмете изображения, от субъективного богатства,
коренящегося в даровании и в личности художника (ingenii et per-
sonae). Первое не требует от художника особых усилий
воображения. Второе художник должен почерпнуть личным усилием
из самого себя и тем самым обогатить скудную тему.
Чтобы правильно понять учение Баумгартена о содержании
произведения искусства, необходимо рассмотреть его
классификацию человеческих знаний. Предметы, адекватно
постигаемые умом, очерчивают область разума и интеллекта. Это —
сфера логического знания. Предметы, обращенные более
непосредственно к чувству красоты, образуют эстетическую
область. Это — сфера «аналога разума»2.
И область логического и область эстетического изменяется
в зависимости от индивидуальных особенностей человека.
В то же время, совершенно независимо от личных особенностей,
существуют предметы, лежащие — абсолютным образом —
ниже или выше эстетического горизонта. Некоторым предметам
мы никогда не сможем приписать чувственной красоты. И есть
предметы, не допускающие перенесения из области высшего,
отчетливого, адекватного знания в светлую область
прекрасного, которой требует искусство.
Это не значит, что Баумгартен стремится разделить всю
область знания на виды, руководясь в качестве критерия
только предметом знания. Существует многое, что является
общим для обеих областей. Существуют не только различные
объекты, но также и два различных — и в то же время основ-
1 Baumgarten, Meditationes, § 13—23.
Заслуживает внимания, что сформулированное в 1753 г. учение
Баумгартена об индивидуальном получило продолжение в развитии немецкой
эстетики. В частности, как будет показано ниже, его развил Гердер.
2 Baumgarten, Aesthetica, § 119.
32
лих — рода мышления: род научный и род эстетический1.
Оба они в ряде случаев могут применяться к одному и тому же
предмету и постигать его двояким образом: с точностью
философии или математики и чувственным способом2. Таковы,
например, отечество, счастье, дружба, любовь и т. д. и т. п.
Отсюда, по Баумгартену, следует, что художник, к какой
бы художественной работе он ни приступал, должен
предварительно учесть самым точным образом, какое место
занимает предмет, выбранный им для изображения, в области
знания.
Здесь возникает вопрос: каким образом художник может
овладеть всем богатством своего предмета? Античные писатели,
задававшиеся этим вопросом, предложили для его решения
два способа с выработанной для каждого техникой. Способы
эти — аналогия и так называемая «топика»3. Но Баумгартен
сомневается в действительности этих способов, ибо
предполагается, будто художник может ввести свое произведение в
рамки строго определенного плана. Но как раз этого он стремится
избежать во всех случаях: он ждет вдохновения4.
Таковы объективные признаки «богатства» в предмете
и^в содержании художественного произведения. Вслед за ними
Баумгартен рассматривает субъективное «богатство»: в
мышлении художника, в творческом даровании, или «гении» (uber-
tas ingenii).
Художник должен сообразоваться не только с
привлекательностью предмета изображения, но также с
собственными художественными силами: если избранная тема выше или
ниже «эстетического горизонта» (по выражению Нивелля),—
объективно данного или индивидуального горизонта
художника, то выбор такой темы бесполезен и ею не следует
заниматься5.
Субъективное богатство содержания не есть нечто, раз
навсегда определенное: оно может возрастать — в результате
упражнения, художественной эрудиции и усвоения правил
искусства.
При усвоении этих определений «объективного» и
«субъективного» богатства содержания необходимо остерегаться
возможной путаницы. Под стремлением к изображению
«богатства» предмета ни в коем случае не следует понимать
стремление к исчерпывающей передаче в образе всех черт и элементов
1 Baumgarten, Aesthetica, § 122.
2 Там же, § 123.
3 «Топика» — рассмотрение трудного вопроса с общих точек зрения,
под которые он может быть подведен и которые хорошо известны из
обычной практики мышления.
4 Baumgarten, Aesthetica, § 129.
»Там же, § 157.
3 в. Асмус
33
предмета. Подобное стремление означало бы смешение
полноты, к которой может стремиться только паука, с полнотой
эстетической. В искусстве — далее — задача никогда не может
состоять в определении. Здесь совокупность изображенных
черт будет полной уже при условии, если чувственное
познание не находит в образе пробелов, несовместимых с красотой.
Там, где чувственное познание встречается с пробелом этого
рода, мысль художника не совершенна1.
Но в искусстве недопусшма также и избыточность. В образе
искусства необходимо отбросить все, что в нем может быть
опущено (разумеется, без ущерба для красоты), если только
существует опасность впасть в чрезмерность. Требование это
есть требование «безусловной краткости» (brevitas absoluta).
Однако в зависимости от родов и видов искусства существует
и «относительная краткость» (brevitas relativa). Ее пример —
краткость, присущая сентенциям. В искусстве она, по Баум-
гартену, лишена серьезного значения и в ряде случаев можег
быть оспариваема.
И богатство предметное и богатство мышления художника
возможны только в пределах согласия, какое существует между
качествами предмета, между элементами художественного
произведения, между материей и умом.
С современной точки зрения большинство правил Баумгар-
тена, касающихся «богатства» содержания,— элементарны. Они
не оригинальны. Можно без труда найти их источники в
античных поэтиках. К «Поэтике» Аристотеля (гл. VIII) восходит
запрещение всего избыточного. Из нее же, очевидно,
почерпнуто утверждение, что в художественном произведении нельзя
ни исключить, ни изменить никакой отдельной черты, не
изменяя тем самым целого. К той же VIII главе, а также к XIV
восходит мысль, что оценка любого элемента произведения
может быть правильной только при учете роли, какую оно
играет в составе целого.
У Квинтилиана, очевидно, почерпнуто различие между
фигурами речи и фигурами мысли2. Горацию Баумгартен
обязан понятием об «относительной краткости».
Из всех этих понятий выделяется своей значительностью
и влиянием, какое она оказала на дальнейшее развитие
эстетики, мысль о важности единичных «представлений» для
художественного творчества. Так же важно в учении о «богатстве»
неоднократно заявленное отрицание школьных правил п
отвращение к эстетическим «рецептам». Еще более важна мысль
о необходимом согласии (consensus) между предметом и
мысленным образом, а также между элементами произведения
1 Baumgarte n, Aesthetica, § 159.
2 Ср.: Квинтилиан, De institutione oratoria, IX, 1—3.
34
В античной эстетике эта мысль ограничена областью риторики,
Баумгартен распространил ее на всю область искусства и на
все его произведения.
«Величие»
Вторым элементом прекрасного является, по Баумгартену,
«величие», но «величие» в эстетическом смысле1.
«Величие», как и «богатство», бывает абсолютное,
необходимое для всякого произведения искусства, и относительное,
изменяющееся в зависимости от темы произведения и от рода
искусства. Это — деление величия по степени необходимости.
Но величие различается и в зависимости от отношения к
природе. Бывает величие «природное», или величие в
собственном смысле. Оно свойственно предметам, лишенным свободы.
И бывает величие «моральное». Это — величие предметов,
наделенных свободой. Величие второго рода есть эстетическое
«достоинство» (dignitas), первого рода — «прелесть» (venustas)2.
По наблюдению Баумгартена, немцы, следуя в этом
римлянам, предпочитают «достоинство» (dignitas). Напротив,
французы ближе к грекам и отдают предпочтение природному
величию, или «изяществу», «прелести» (venustas).
И «величие» в натуральном, собственном смысле слова,
и «достоинство» могут быть объективными или субъективными.
Субъективное величие есть «величие души» (magnanimitas)
и «эстетическая значительность» (gravitas aesthetica)3.
За установлением этих различий у Баумгартена идет
исследование абсолютного объективного величия. Оно проявляется
строгим и всеобщим образом и обусловливает запрещение
выбирать в качестве «предмета изображения какого бы то ни было
рода «безделки», «низкие и пустяковые вещи» (migae, res infi-
mae et nugatoriae)4.
В свою очередь моральное величие (достоинство)
разделяется на отрицательное и положительное. В силу своего
отношения к предметам, наделенным свободой, область его
многообразно пересекается с областью морали. Само его
разделение на отрицательный и положительный виды
основывается на различии двоякого эстетического «этоса»
(ήθος)—отрицательного и положительного (ήθος aestheticum negativum et
positivum). Под «этосом» Баумгартен понимает «моральную
1 «Secunda cura sit in rebus venusta cogitandis magnitudo, sed aesthe*
tica» (Baumgarte n, Aesthetica, § 177).
2 Различие, почерпнутое у Цицерона.
8 Baumgarten, Aesthetica, § 178—189.
4 Там же, § 191, где приводится цитата из Цицерона: ♦Poetam
non audio in nugis» («В говорящем пустяки не слышу поэта»).
3* 85
возможность», то есть согласованность, отсутствие
противоречий между изображенными фактами, состояниями души
и характером лица, которому они принадлежат. Здесь
минимальное требование может состоять в отсутствии абсурдных
противоречий в изображаемом: например, крестьянин не
должен говорить о государстве так, как о нем говорит министр.
Но возможны и случаи, когда характеры обрисованы во всей
своей истинности. Так, когда поэт влагает в уста крестьянина
речи, которых не мог бы держать человек, непричастный к
поэзии и к труду земледельца, он удовлетворяет требованиям
«положительного этоса» (rj^oç positivum). «Этос» этот требует,
чтобы все сказанное художником «согласовалось истинным
образом с нравами и соответствовало им»1 или по крайней мере,
чтобы оно порождало впечатление «аналога разума» (analo-
gon rationis).
Формулируя эти требования, Баумгартен делает важную
оговорку, выясняющую границы допускаемого им реализма.
Под «нравами» он разумеет не реально бытующие нравы,
которые могут быть порой очень низкими, но только добрые нравы.
Всё противное добрым нравам исключается из понятия
«эстетического достоинства» (dignitas aesthetica). Все вульгарные,
порочные, низкие вещи не могут служить целям искусства2.
В то же время Баумгартен отнюдь не абсолютизирует этот
запрет. Он далек от требования безудержной идеализации
действительности. В § 203—204 «Эстетики» он отводит возможное
здесь недоразумение. Он поясняет, что и порок может стать
темой поэтического шедевра, если только изображение порока
отвечает правилам искусства. И точно так же безобразное
может стать в искусстве эстетически прекрасным.
Уже из сказанного видна важная особенность раздела
«Эстетики», посвященного элементу «величия»: в нем на
каждом шагу затрагиваются вопросы об отношении искусства
к морали, эстетического к этическому. Эстетика Баумгартена —
отнюдь не теория, ограниченная сферой прекрасных форм,
отвлеченных от реальных отношений между людьми в
обществе. Крайне абстрактная по характеру разработки, она все же
касается областей, где искусство не только соприкасается
с жизнью, но черпает из нее важные принципы, подчиняясь ее
нравственным нормам и критериям.
Так, в одном месте (§ 190 немецкого текста) Баумгартен
поясняет, что приключение, поставившее человека на грани
смерти, могло бы дать сюжет разве что для письма к другу,
но никак не для героической поэмы. Существует
относительное объективное величие.
1 Baumgarten, Aesthetica, § 194.
2 В. Poppe, A. G. Baumgarten, § 196.
36
Этот вид величия разделяется на три класса, а каждый из
них в свою очередь имеет бесчисленные подразделения
(Millionen Untereinteilungen)1. Так, в растительном мире наименее
величественны низкорослые тамариски — myricae. Это —
«простые материи». Им противоположны леса — материи,
наделенные наибольшей величественностью. Они называются
«великими» (magпае), «возвышенными». Между первыми и вторыми
находятся «кустарники» (arbusta), материи промежуточные,
или посредствующие2.
Достойно внимания, что в примере Баумгартена все эти
три градации «величия» рассматриваются исключительно
в эстетическом плане. По понятию Баумгартена, это значит,
что они рассматриваются только как предмет чувственного
познания. «Величие» не существует для искусства, если оно
не подлежит восприятию чувств или не обращается к
воображению. И это верно — даже в случае, если разум и рассудок
доказывают нам, что оно действительно существует. Может
случиться и так, что в объективном смысле понятие о величии
ложно, но если его ложность не обнаружится в чувственном
познании, то художник изобразит «величие» таким, каким оно
чувственно воспринимается или воображается. В этом случае
художник прав, так как не его задача заботиться "о логической
или научной истинности предметов его изображения.
Наиболее часто возможность логического и возможность
чувственного познания представляются в области морали.
Так как логическая и эстетическая точки зрения отделены
одна от другой, то, по Баумгартену, добродетель и нравы
никогда не должны рассматриваться в искусстве в плане общих
понятий о них, как это делает философия. Они всегда должны
рассматриваться в своих частных проявлениях: в индивиде,
в семье, в обществе, в государстве3.
Между тремя порядками «величия» и тремя степенями
моральной жизни существует соответствие: незначительной
степени величия соответствует «попросту честный образ жизни»
(simpliciter honesta vivendi ratio), средней степени —
«благородный образ жизни» (vivendi ratio nobilis) и, наконец,
великому соответствует «героическая доблесть и образ жизни,
1 В. Poppe, A. G. Baumgarten, § 202.
* Baumgarten, Aesthetica, § 202—208. Пример этот важен.
В нем выступает впервые в немецкой эстетике понятие «возвышенного»,
которому предстояло сыграть большую роль в последующем развитии
эстетических категорий. Мысль Баумгартена воспроизведет впоследствии —
почти в тождественном выражении — Винкельман. Она составит важный
предмет исследования в ранней эстетической работе Канта «Наблюдения
относительно чувства прекрасного и возвышенного» («Beobachtungen über
das Gefühl des Schönen und Erhabenen», 1764) и в «Критике способности
суждения» («Kritik der Urteilskraft», 1790).
8 Baumgarten, Aesthetica, § 212.
37
сочетающийся с исключительным величием» (heroica virtus
vivendique ratio singulari cum majestate conjuncta)1.
Итак, сознание эстетической ценности необходимо для
того, чтобы художник мог приступить к художественному
исполнению темы определенной степени величия. Но этого
сознания недостаточно. Необходима еще гармоническая
пропорция между предметом («материей») и его выражением в искус*
стве. Говоря словами Баумгартена, это — «отношение мыслей
к материи». Простым «материям» будет соответствовать в прот
изведении искусства и простой стиль; посредствующим
материям — умеренный стиль; возвышенным материям — высокий
стиль.
«Простой» стиль наиболее адекватным образом
приспособляется к простым нравам и к образу жизни, который был
характеризован выше как «попросту честный». Но в нем имеется
ряд градаций. Этими градациями определяются некоторые
предписания или советы художнику. Не следует смешивать
«простое» с «тривиальным», вводить в стиль чрезмерные
тонкости, надо отбрасывать украшения, которые делают стиль
искусственным, избегать болтовни2.
«Умеренный», или «средний» стиль (medium cogitandi ge*
nus) подобает предметам, представляющим «относительное вег
личие», а также благородству нравов. В «среднем» стиле, как
и в «простом», имеется множество подвидов3.
«Возвышенный», или «высокий» стиль (sublime cogitandi
genus) применяется для изображения наивысших доблестей,
героических нравов и, вообще говоря, всех предметов,
характеризующихся своим величием. Здесь величие предмета —
непременное условие: нельзя сообщить величие теме, которая
сама им не обладает4.
Необходимое для произведения «согласие» его элементов
не ограничивается согласием или соответствием между
«предметом» («материей») и стилем. Постигать величие предметов
и сообщать это величие произведению искусства возможно
только при условии, если в мыслящем художнике имеются
предрасположения ума, эквивалентные чертам изображаемого
1 Baumgarten, Aesthetica, § 213.
2 Baumgart en, Aesthetica, § 231. Тут же — набор синонимов,
вернее, оттенков простого стиля — tenue cogitandi genus: subtile, attenua-
tum, deductum, gracile, atticum, Ίσχνόν.
3 Ряд оттенков в характеристике «среднего» стиля перечисляется
В «Эстетике» в § 266 (aequabile, mediocre, intnrjectum, temperatum).
Подвиды «среднего» стиля указаны в § 272.
\. 4 Многочисленные синонимы «высокого» см. в «Эстетике» (§ 281):
magnificum, magnum, al turn, summum, plenum, grave, copiosum, validum.
Здесь же — ряд греческих: μεγαλοπρεπές, αξίωμα ΰψος, ύφηλόν.
О необходимости величия предмета см.: В. Ρ о р р е, A. G.
Baumgarten, § 281.
38
предмета, величия души. Это — качество, которое Баумгар-
тен называет «эстетической значительностью» (gravitas aesthe-
tica)1.
Величие души — врожденное свойство, но оно усиливается
благодаря упражнению и с помощью теории. Каждому
художнику оно дано абсолютным образом, но у разных художников
встречаются различные степени этого свойства: у одних —
простая честность, у других — благородство, у третьих —
величие души.
Изложенные в XXV и XXVI разделах «Эстетики», эти
положения приводят автора в дальнейшем к соображениям не
только морального, но и социологического характера. Баум-
гартен призывает художника изучать общественные нравы,
сообразоваться с наилучшими нравами и не нарушать по
личному произволу установленных правил хорошего вкуса2.
Во всех этих рассуждениях Баумгартен ставит
чрезвычайно важный вопрос об отношении искусства к морали,
эстетики, к этике. В значительной мере он — пионер в постановке
этой проблемы в немецкой эстетике. Трудность, возникшая
перед ним, была велика. При отсутствии понятия о взаимной
связи различных явлений и сторон общественной жизни и
общественной мысли задача определения предмета эстетики легко
может получить ошибочное решение. Стремление определить
специфический предмет эстетики, освободить его от смешения
с предметами других наук может легко привести к отсечению
эстетики и искусства от того, с чем они неразрывно связаны
в действительной жизни искусства и общества.
В немецком обществе, к которому принадлежал
Баумгартен, положение вещей было таково, что правильное
определение специфического предмета эстетики сильно затруднялось
не только отсутствием истинной теории и классификации видов
общественной мысли, но также уровнем и положением самого
искусства в немецкой жизни. Над искусством тяготела грубая
опека феодальной власти и феодального духовенства.
Раболепствовавшее перед светскими и духовными властями бюргерство
искало в искусстве морального наставления. Морализирующая
1 Baumgarten, Aesthetica, § 356.
2 Во всех этих понятиях о «величии» и о его видах Баумгартен
опирается на идеи античных теоретиков, а также теоретиков Возрождения.
Классификация «материи» и «стилей» обстоятельно обсуждалась уже у
Цицерона и у Квинтилиана. Три стиля Баумгартена соответствуют трем
целям ораторского искусства, о которых Цицерон говорит в «Ораторе»
(«Orator», § 20—21, 69). Сходное находим и во вступлении к кпиге VIII
«De institutione oratoria» Квинтилиана. У тех же античных писателей мы
найдем и мысль о необходимости соответствия между стилем и идеями:
у Цицерона — в «Ораторе» (Cicero, Orator, § 100 и 123), у
Квинтилиана в «De institutione oratoria» (VIII, 3 и IX, 1). По существу то же
требование формулирует и Лонгин в трактате о возвышенном (III, 1, 2).
38
дидактика стремилась подчинить искусство «извне», не вникая
в специфические способы и средства, с помощью которых
искусство осознает, ставит и решает возникающие в общественной
жизни и в ходе борьбы классов нравственные и социальные
вопросы. Смутно понимали, что искусство призвано быть одной
из форм руководства поведением человека, но не понимали
и не искали способа понять, каким образом оно это делает,
при каких условиях искусство действительно выполняет эту
свою функцию.
Господствующий взгляд, отождествляя задачу искусства
с задачей морали, всецело подчинял искусство
морализирующей наставительности и назидательности.
Уже у Лейбница эта морализирующая тенденция,
растворяющая искусство в морали, была выражена со всей
отчетливостью. В «Теодицее» («Theodicée») Лейбниц утверждал, что
«главная цель истории, а также поэзии должна состоять в
обучении благоразумию и добродетели посредством
примеров» (Le but principal de l'histoire aussi bien que de la poésie
doit être d'enseigner la prudence et la vertu par des
exemples)1.
На этой же точке зрения стоит Баумгартен в своей
«Метафизике»2. Прекрасное определяется здесь только как данный
в явлении вид «метафизического» (умозрительно постигаемого)
или морального совершенства. Но уже в § 22 «Meditationes»
Баумгартен критикует формулу Лейбница. Возражая против
нее, он возражает тем самым против всего господствовавшего
в XVIII веке узкоморалистического понимания задач
искусства, против сухой рационалистической поучительности. Этому
воззрению Баумгартен противопоставляет в «Эстетике» свой
взгляд, по которому прекрасное есть совершенство
чувственного познания как таковое. Единственная цель искусства —
красота в чувственном познании. Напротив, добро в
моральном смысле не может быть требованием, предъявляемым к
художественно прекрасному: «Я могу представить предмет
великий в собственно эстетическом смысле, не взирая на его
моральность и не помышляя об его достоинстве. И тем не менее он
останется великим в эстетическом отношении» (Ich kann eine
Sache natürlich ästhetisch gross denken, ohne auf ihre
Sittlichkeit zu sehen und ohne an ihre Würdigkeit zu denken, und sie
bleibt dennoch ästhetisch gross)3. И точно так же искусство
никогда не должно стремиться к рассудочному осознанию
сущности вопроса. Интерес искусства имеет отношение только
к чувственности. И потому, если все видимые признаки добро-
1 Leibniz, Philosophische Schriften, Bd. VI, Gerhardt, Berlin, 1885.
2 Baumgarten, Metaphysica, § 62.
» B. Poppe, A. G. Baumgarten, § 182.
40
детели восприняты посредством ясных и вместе слитных
представлений (clarae et confusae),— художник вправе без
смущения создать образ этой добродетели, и образ этот будет верным.
Он не обязан искать в рассудочном плане предположений,
которые были бы способны вскрыть мотивы видимого величия
души1. Особенно четко выражение этой мысли в «Эстетике»
(§ 183). Красота «мыслей», утверждает Баумгартен, никогда
не основывается на этике или на религии. Даже в случаях,
когда предметы изображения — возвышенное или моральное
достоинство, основа их эстетического превосходства всегда
кроется в области самого же эстетического. Всякие поиски
какой бы то ни было другой основы означают непонимание
специфических законов прекрасного и вторжение в чуждую ему
область (μετάβασις εις άλλο γένος).
Во всем этом ходе мыслей Баумгартена следует различать
их здравую основу и несомненное наличное в них
заблуждение. Здравая основа их — в стремлении определить
специфическую природу прекрасного и искусства, отличить
прекрасное от доброго и истинного. Заблуждение же Баумгартена
в том, что, стремясь отличить эстетическое от этического,
Баумгартен, в сущности, стоит на грани полного отделения
их друг от друга. Характеристика эстетического грозит
превратиться в его изоляцию. Это — пока еще лишь тенденция,
но тенденция, чреватая серьезными последствиями, которые
ведут эстетику по склону ложно понятой «автономности»
и формализма.
Что в изложенном взгляде Баумгартена можно видеть лишь
тенденцию к теориям «автономности» («автаркии») эстетики
и искусства, видно по ряду признаков. Главнейший из них —
то, что, рассматривая прекрасное как совершенство
чувственного познания и отличая его от познания рассудочного,
Баумгартен все же видит в эстетическом творчестве вид познания,
хотя и низшего. Эстетика и логика у него — виды одного рода,
науки о познании.
Даже там, где Баумгартен говорит о независимости
эстетического от этического, он понимает эту независимость вовсе
не в безусловном смысле. Особенно показателен в этом
отношении немецкий текст «Эстетики», опубликованный Поппе.
Ряд нормативных положений этого текста перекликается с
мыслями «Метафизики», где прекрасное, как мы видели,
рассматривается в качестве чувственного явления морального
совершенства.
Поэтому нельзя не отметить явного противоречия в
превосходном исследовании Нивелля, посвященном истории
немецкой эстетики второй половины XVIII века. С одной сто-
Baumgarten, Aesthetica, § 211.
41
роны, Нивелль правильно отмечает, что Баумгартен «не
достигает полного освобождения от господствующего вокруг него
морализма» (...ne pervient pas à se dégager entièrement du
moralisme ambiant)1.
В целях осуществления добра, как и во всех человеческих
действиях, известные темы и некоторые действия должны быть
исключаемы как неморальные. Моральное зло должно
рассматриваться как главное препятствие для эстетического
наслаждения2. В то же время Нивелль утверждает, будто смысл
«Эстетики» — в утверждении полной самоцелъности
прекрасного, которое до Баумгартена «никогда не рассматривалось,
как самоцель». Напротив, Баумгартен —- так утверждает
Нивелль — отказывается от какого бы то ни было включения
эстетики в определение прекрасного, категорически отрицает
моральное назначение искусства.
Все это явно преувеличено. Отличение еще не есть
отсечение. Как ни велика дистанция, отделяющая воззрение
Баумгартена от взглядов Лейбница и современных Баумгартену
теоретиков, дистанция эта еще не привела Баумгартена к
концепции «чистого» или «самоцельного» искусства,
изолированного от «этической» жизни. Оценка формулы Баумгартена как
формулы «революционной»3 больше отвечает тому, что хотел бы
видеть в прекрасном и в искусстве сам Нивелль, чем
действительному содержанию эстетики Баумгартена.
«Истинность»
Понятие об «истинности» как о необходимой черте
содержания в искусстве ясно сформулировано у Баумгартена
в «Эстетике» в § 423. Здесь указано, что третьим после
«богатства» и «величия» предметом забот изящного мышления должна
быть чистина», «но истина эстетическая, то есть истина,
поскольку она должна быть познаваема в качестве чувствепной»
(veritas, sed aesthetica, i. e. veritas, quatenus sensitiva cogno-
scenda est). Понятая таким образом, эстетическая истина
представляется посредством «аналога разума». Напротив,
логическая истина выступает в отчетливых (distinctae)
представлениях.
По Баумгартену, оба эти вида истины не исключают друг
друга и могут совпадать. Тем не менее они не должны
смешиваться, так как обе соответствуют различным задачам. Во
всяком случае, их согласие, или совпадение не должно составлять
цель сознательных поисков.
1 Armand Nivelle, указ. произв., стр. 57.
2 Там же, стр. 58.
"Там же, стр. 57.
42
Существуют истины логические. Они доступны только рас*
«судку и не могут быть представляемы в какой-либо
чувственной форме. Истины эти — выше горизонта эстетики.
Область искусства — посередине между этими двумя
крайностями. При этом есть два условия эстетической истины.
Согласно первому из них предмет эстетической истины должен
быть возможен. В свою очередь возможность эта бывает или
абсолютная, или гипотетическая. В первом случае она должна
действительно усматриваться посредством чувств и
воображения. Во втором случае, то есть в случае гипотетической
возможности, последняя бывает естественная (если чувственное
познание не находит в ней противоречий) либо моральном
(если допущение согласуется с описываемым характером).
Согласно второму условию эстетической истины должна
существовать связь между обусловливающим и обусловлен
ным, поскольку эта связь составляет предмет чувственного
познания1.
Необходимой принадлежностью эстетической истины
служит единство: «всякая возможность требует единства или един*
ства места и времени»2.
Истина художественного произведения есть истина
единичного, или индивидуального (veritas singularis, или veritas indi-
vidui)3. Она может быть, во-первых, истиной в строгом смысле
слова. Такая истина относится к реальным явлениям нашего
мира. Во-вторых, она может быть истиной «гиперокосмической»,
то есть истиной, которая возможна или только в ином мире,
или в иных обстоятельствах4. Если вещь невозможна ни в
нашем мире, ни в каком бы то ни было другом, она относится
к области «утопии» и, вообще говоря,, исключается из области
искусства. «Утопия» — творение ума, в основе которого
некоторые элементы взаимно исключают друг друга; в силу этого
вся совокупность этих элементов становится недоступной для
воображения и, стало быть, неподвластной чувственным
представлениям. В этом случае представление становится
невозможным и ложным вследствие отсутствия единства и
связности.
Таким образом художественная истина заключается во
внутренней истинности. Это — истина как связь взаимно
согласующихся различных частей.
Впервые вопрос о возможности как условии искусства
1 «Nexus cum rationibus et rationatis, quatenus ille sensitive cognoscen-
<ius est» (Baumgarte η, Aesthetica, § 439). В немецком тексте эта связь
между обусловливающим и обусловленным называется «основанием»
(«Grund») (В. Poppe, § 439).
2 Baumgarten, Aesthetica, § 439.
* Τ а м же, § 440.
4 Ta м же, § 441.
43
и художественного познания был сформулирован Баумгарте-
ном в «Meditationes». В этой работе для обозначения
«возможного» применяется термин «вероятное» (probabile). В «Эстетике»
то же понятие обозначается посредством термина
«правдоподобное» (verisimile)1.
«Утопия» расценивается у Баумгартена как эстетическое
заблуждение, как субъективная ложность и расхождение между
мыслями и «истиной вещей», составляющих предмет
мышления, поскольку указанная ложность может быть
воспринята чувственностью2. В произведении искусства может быть
допущена логическая или научная ошибка при условии,
если она не будет помехой для чувственного познания. Но если
ошибка слишком очевидна и сразу поражает разум своей
нелепостью, она может разрушить красоту и художественную
истину3. Всякое нарушение единства, требуемого
«возможностью» вещей, всякий ущерб, наносимый основным принципам
разума, будут эстетическими ошибками, если они оказываются
насилием над чувственностью. Впрочем, ничто не принуждает
искусство быть верным объективной истине в строгом смысле
слова. Истине этой обязательно следовать только в случае,
когда она предписывается эстетической необходимостью.
Безусловно требуется лишь правдоподобие, а оно существует уже
там, где произведение искусства не содержит в себе никакой
явной для наблюдения ошибки4.
Ни историческая истинность изображения, ни
действительная реальность вещей, изображенных в произведении
искусства, не имеют сами по себе значения. Важна только
«внутренняя» истинность, непротиворечивая возможность, свободная
от явной ложности. Большая часть содержания в произведении
искусства и, стало быть, большая часть художественной
истинности, составляющей необходимую принадлежность этого
содержания, состоят из образов воображения («фикций»).
Имеется два вида фикций. Первый — исторические
фикции. Они повествуют о некогда протекших событиях или о тех,
которые могли бы иметь место. Другой вид фикций —
поэтические. Они повествуют о том, что возможно в другом мире.
Поэтому они называются еще и гетерокосмическими (от
греческого hetairos «другой» и kosmos — «мир»). Вся совокупность
поэтических фикций образует мир поэтов (mundus poetarum);
из этого мира приходят мифы, басни, легенды, космогонии —
не только древних времен, но и новейшие.
1 Baumgarten, Meditationes, § 57.
8 «...falsitas subjectiva et disconvenientia cogitationum cum veritate-
rerum cogitandarum, quatenus ilia sensitive percipi potest» («Aesthetica»,
§ 445).
» Β. Ρ ο ρ ρ e, Α. G. Baumgarten, § 453.
4 Baumgarten, Aesthetica, § 473.
44
Говоря о «поэтических» фикциях, Баумгартен рекомендует
поэтам не стараться выдумывать все их элементы, так как это
утомило бы зрителя или читателя. Авторы лучше поступят,
если станут создавать вымыслы по аналогии. В этих образах
та или другая их черта, хотя бы внешняя, напоминает об уже
известном вымысле1.
Согласно Баумгартену, признак «истинности» — так же как
признак «богатства» и «величия» — должен быть воспринят
умом художника — автора произведения. Художник —
искренний друг истины и стремится к отысканию ее всем своим
сердцем2. Баумгартен близок к мысли Шефтсбери, по его словам,
«одного из самых выдающихся арбитров изящного среди
англичан»3. Мысль эта, в формулировке Баумгартена, утверждает, что
«всякая красота — это истина». Но, высказывая эту мысль,
Баумгартен опасается, что она может привести и к
заблуждению — к попытке установить новый критерий красоты,
лежащей вне области искусства. Чтобы уточнить свой тезис,
Баумгартен подчеркивает, что эстетическая красота, или красота
в искусстве, не выходит за пределы чувственного. Одновременно
он еще раз подчеркивает значение гармонии, которая
необходимо должна существовать между качеством «мыслей» (cogita-
tiones) и частями самого произведения искусства. Поэтому
стремление к истине ни в коем случае не должпо наносить
ущерб другим атрибутам красоты4.
Истинность, подобно прочим чертам содержания, имеет
различные степени. Им соответствуют различные стили. Они
образуют градацию переходов от «эстетически-догматического»
к «поэтическому». В основе всех этих переходов лежит связь
элементов произведения: простое правдоподобие так или иначе
связано в нем с логическим и отчетливым знанием5. Знание это
наименее представлено и наиболее подчинено правдоподобию
в области «поэтически истинного» (verum poeticum). Область
эта, по Баумгартену, вполне закономерна, и сама цель
искусства подтверждает необходимость вымысла, фикций. Так,
в немецком тексте «Эстетики» читаем: «Изящный ум не связан
обязательством быть всегда верным истине этого мира,
придерживаться собственно исторической истины. Он должен чаще
всего вступать в другой возможный мир или в мир поэтиче-
1 Вопросу об этих фикциях посвящены в «Эстетике» разделы XXX —
XXXII.
2 См.: В. Poppe, А. G. Baumgarten, § 555.
3 Там же, § 556.
4 Baumgarten, Aesthetica, § 556.
0 См. : В. Р о р р е, А. G. Baumgarten, § 571. Мысль об этой связи с
новой стороны опровергает мнение Нивелля, который, как мы видели,
находит в эстетике Баумгартена идею «автономности искусства», выраженную
в чистой форме (Armand Nivelle, указ. произв., стр. 57: «...en
principe, il va séparé nettement le beau du bien»).
45
ских вымыслов, ибо иначе он не всегда мог бы придерживаться
своей цели1.
К этому присоединяется, по Баумгартену, и другое
соображение. «Вещественная» реальность, то есть реальность, как
она дана в самой действительности, иногда наносит вред
«моральной» истинности, единству характера. Часто приходится
«подрисовывать» ее, чтобы сделать ее приемлемой для
искусства. Но, с другой стороны, если художник хочет создать нечто
совершенно новое, он должен представить это новое сообразна
основным законам науки, логики, морали или эстетики —
законам этого — реального — мира: «dieser Welt gemäss».
Во всяком случае, художественная иллюзия никогда не
должна быть разрушена, мечта не должна прерываться
призывом материальной реальности, противоречащим эстетической
истинности. К тому же всякий изящный ум должен знать
мифологию, которая составляет часть эстетического образования
(pulcra eruditio). Такой ум станет избегать вторично создавать
образы уже существующих героев, так как это потребовало бы
от читателя бесполезных усилий. И здесь дело не только в
мифах греков и римлян: каждый народ имеет свою мифологию,
которой поэт не вправе пренебрегать2.
Этим, собственно, заканчивается у Баумгартена изложение
первого тома «Эстетики» (1750). Болезнь, наступившая вслед
за выпуском книги в свет, позволила Баумгартену выполнить
только часть плана. Спустя восемь лет было опубликовано
только начало второго тома (1758). В нем содержится
окончание главы «Эстетическая ясность» (Lux aesthetica) и наброски
главы о художественной достоверности. Последний элемент
содержания — «Жизнь» (Vita) — остался неразработанным,
равно как и две последние главы первой части —
«Методология» и «Семиотика», а также во второй части вся целиком —
«Практическая эстетика».
Эстетическая « ясность »
Представления, запечатленные в произведении искусства,
должны быть ясными (dilucidae) и доступными слушателям
или читателям, даже мало внимательным.
Ясность, о которой здесь идет речь, существенно отличается
от логической ясности. Логическая ясность достигается посред-
1 «Der schöne Geist ist nicht verbunden, immer bei der Wahrheit dieser
Welt, bei der eigentlichen historischen Wahrheit stehen zu bleiben. Er muss
öfters in eine andere mögliche Welt oder in Erdichtungen eingehen, weil
er sonst nicht immer seinen Zweck erhalten würde» (B. P о p p e, A. G.
Baumgarten, § 585).
2 Baumgarten, Aesthetica и В. Poppe, A. G. Baumgarten,
sectiones XXXIV-XXXVI.
46
ством отчетливости, адекватности, глубины и чистоты
рассудочных понятий1. Эстетическая ясность — это ясность
чувственного восприятия. Она состоит в соединении некоторого
числа черт — достаточного для того, чтобы предмет мог быть
воспринят чувственностью и узнан. Чем многочисленнее
и разнообразнее будут эти черты (notae) и чем больше они
будут уточняться в быстрой последовательности, тем более
«живыми» (vividae) будут мысли, которыми эти черты
выражаются2.
Эстетическая ясность, или эстетический «свет» (lux), имеет
две степени. Это, во-первых, абсолютная ясность. Она
необходима для всякого прекрасного предмета. Во-вторых, это —
относительная ясность, характеризующая некоторые особые
представления, как представления блестящие3.
Ясность должна быть естественной. Она должна
удовлетворять трем условиям: 1) в искусстве возбраняется всякий
произвол, всякое насилие и принуждение по отношению к
произведению; произведение искусства должно казаться прямо
вытекающим из законов самой природы; 2) избранный
художником предмет изображения должен отличаться
принадлежащим ему самому внутренним богатством; 3) знакомство с
произведениями не должно быть утомительным для
воспринимающих их. Другими словами, должно существовать соответствие
между степенью ясности произведения и уровнем публики,
ее умом, темпераментом4.
Естественной ясности в искусстве противоположна мнимая
и кажущаяся ясность, имитация ясности, «эстетические
румяна» (fucus aestheticus)5.
Но ясность, так же как и блеск художественного
произведения, не должна походить на одинаковый всюду свет,
подобный свету солнца6. В искусстве часто требуется «эстетическая
темнота». Она также может быть или безусловной, или
относительной. Ее соответственные названия — эстетический
«мрак» и эстетическая «тень». Из них безусловная темнота
и соответствующий ей стиль должны быть исключены из
произведения искусства, так как полная тьма всегда безобразна7.
Другое дело — относительная темнота. Порой она
необходима. Это бывает:
1) в представлениях, которые в силу богатства не могут
быть ни поставлены в ярком свете, ни исключены;
1 См.: Baumgarten, Aesthetica, § 617.
2 Там же, § 619.
8 Там же, § 617—618.
* Там же, § 622—623.
5 Τ а м же, § 622.
6 Там же, § 616.
7 Там же, § 631—641.
47
2) в элементах произведения, которые в сравнении с
другими частями произведения недостаточно значительны. Этого
требует «величие»;
3) в мыслях, которые, согласно велению «эстетической
истинности», не могут быть ни обойдены молчанием, ни
полностью выражены;
4) в мыслях, которые, будучи выставлены на полный свет,
не давали бы достигнуть максимальной ясности целому, части
которого они образуют. Это следует из «эстетической ясности»
(lux aesthetica);
5) в мыслях, препятствующих убедительности и в то же время
настолько необходимых для нее, что они не могут быть
полностью оставлены в тени и т. д.1.
Относительная «освещенность» различных частей зависит
от требований, которые предъявляются другими частями,
а также ясностью произведения в целом. Здесь действует
принцип «согласия» (consensus). Он выражается в требовании
«верного распределения света и тени». Вновь повторяется троякое
требование «естественности» (§ 667—679). Поясняется важность
внимания того, чтобы ясность гармонически, то есть
пропорционально, была распределена по всему произведению в целом.
Это необходимо для того, чтобы главные элементы не
оказались затемненными, но чтобы, напротив, их свет выделялся
по контрасту с тенью, в которую погружены второстепенные
элементы произведения2.
В той же главе об «эстетическом свете» проводится —
несколько ниже — параллель между цветами в физическом
и эстетическом смысле. Обычные цвета — видоизменения
эстетической ясности. Они различаются количеством, качеством
и способом соединения количества с качеством3.
В сущности, понятие Баумгартена об «эстетических цветах»
близко к понятию о различных оттенках изображения.
Крупный художник не затрудняется в их применении, но он будет
остерегаться умножать их без необходимости.
Произведения, наиболее богатые цветами или оттенками,—
не самые лучшие: один-единственный цвет, но истинный и
естественный, должен быть предпочтен множеству,
порожденному плохим вкусом. Для искусства достаточно, если
художник варьирует цвета по их количеству, следуя правилам верного
распределения4. Проблема выбора цветов — частный случай
принципа единства в многообразии.
1 Baumgarten, Aesthetica, § 657—662.
»Там же, § 682.
3 Т а м же, § 688—689.
4 Т а м же, § 690.
48^
Градация эстетических «цветов» движется от наиболее
густых теней, сравнимых по степени густоты с абсолютной
степенью эстетической яркости, к наибольшему сиянию света.
Обеим этим группам «цветов» соответствует каждой
собственный стиль. Каждый из них может быть совершенным в своем
роде1. Стиль слишком пылкий или слишком блестящий для
изображаемого предмета отвергаемся, как «аффектированная
живость» (affect at a vivid it as)2.
Черты и «доводы», имеющие целью внести в произведение
искусства больше света, называются «поясняющими
аргументами» (argumenta illustrantia). Это — сравнения, антитезы,
тропы и т. п.3. Особое место уделяется средствам изображения,
удивляющим новизной, но не содержания, а новизной его
художественного изображения4.
«Убедительность»
Последнему условию красоты, которое называется «жизнью»
(vita) и которое осталось — за смертью Баумгартена —
неразработанным, предшествует в «Эстетике» рассмотрение
«эстетической убедительности» (persuasio aesthetica). Под этим Баум-
гартен понимает чувственную достоверность и обладающее
аналогом разума ясное сознание истины и правдоподобия
(«certitudo sensitiva, analogo rationis etiam obtinenda veritatis
et verisimilitudinis conscientia et lux»)6.
«Убеждение» — способность, в силу которой душа, в то
время когда она видит истину, достоверно знает или чувствует,
что видит ее. Эта достоверность может быть истинной, но может
быть и ложной. Зная это, художник будет силиться
убеждать только в том, что истинно или по крайней мере
правдоподобно.
Правдоподобие и ясность ведут к эстетической
достоверности6. Последняя отличается от логической достоверности
и бывает абсолютная или относительная. Художник,
способный убеждать абсолютным или относительным способом,
называется «сильным в эстетическом отношении» (aesthetice soli-
dus)7.
Наивысшая степень эстетического убеждения —
«очевидность». Это — особый род доказательства, осязательного,
обращенного к зрению и к чувствам (ad oculos, ad sensus). Очевид-
i Baumgarten, Aesthetica, § 693, 694.
2 Τ a m же, § 684, 704.
3 Их рассмотрению посвящаются разделы XIII—XVIII «Эстетики».
4 Baumgarten. Aesthetica, § 803, 812.
6 Τ а м же, § 829.
«Там же, § 833—838.
7 Там же, § 839.
4 в. Асмус
49
ность отличается непосредственностью, интуитивна, ясна сама
по себе и может усиливаться с помощью более убедительных
доводов1.
Этими положениями заканчивается «Эстетика» Баумгар-
тена. Последняя ее глава проработана менее тщательно, чем
все остальные, а в изложении — отрывочна и клочковата.
Основные особенности эстетики Баумгартена выступают
чрезвычайно ясно. Эта эстетика вся разработана применительно
к области чувственного познания. Цель эстетической
деятельности, по Баумгартену, двоякая — познание и создание
художественной красоты. Красота есть эстетическое совершенство.
Она состоит в согласии (consensus) трех основных элементов:
1) содержания, 2) порядка и 3) выражения. В свою очередь
каждый из этих трех элементов представляет связь некоторого
числа черт, которые должны быть между собой согласны или
в равновесии. Эти черты содержания: богатство, величие,
истинность, ясность, убедительность и жизненность. Каждая
из них выступает в двух аспектах, которые должны
согласоваться друг с другом: они отличают как ум художника, его
стиль, так и тему его произведения.
Черты двух последних элементов — «порядка» и
«выражения» Баумгартен не успел развить в тексте «Эстетики». Кое-
какие наброски, относящиеся к этим вопросам, близки к
предписаниям, какие можно найти в трактатах риторики.
Опираясь на «Meditationes», можно, однако, установить,
каким должно было быть содержание соответствующих двух
глав.
Методология (§ 65—76) охватывает последовательность
представлений и их связь (nexus). Связь эта должна
содействовать красоте произведения и сама должна быть
прекрасной. Тема содержит в себе достаточное основание всех
представлений, заключенных в каждом данном произведении
искусства, и не требует основания для самой себя в других
произведениях. Порядок в произведении (ordo) возникает там, где
связь правильна, где все представления, выраженные в
произведении, определяются его темой, и где они образуют
последовательную цепь причин и действий.
Идеальный «порядок» в поэтическом произведении есть
«ясный метод» (methodus lucida). Благодаря ему тема
прогрессивно возрастает в своей ясности. Достигается это тем, что
представления поэт заставляет следовать друг за другом в
порядке все возрастающей определенности.
Предмет семиотики (§ 77—107) — знаки, применяемые
художником в произведении и, в частности, слова поэмы. Слова
выступают в двояком аспекте — как носители значения и как
1 Baumgarter, Aesthetica, sectio LUI.
50
артикулированные звуки. Именно посредством этих своих
двух аспектов слова содействуют красоте поэмы.
Наиболее поэтичны несобственные значения, фигуральные
и образные выражения. Именно они порождают сложные
чувственные представления. Метафора, синекдоха, аллегория
и т. д.— преимущественные орудия поэта при условии, если
количество их в произведении ограничено и если поэт умеет
избегать темноты. Звуки, производимые словами, вызывают
приятные или неприятные ощущения, «чувственные идеи»
(ideae sensuales). Судит о них «суждение чувств» (judicium sen-
suum), в частном случае— «суждение слуха» (judicium aurium).
Производимое ими впечатление должно быть приятным, в этом
состоит дополнительный элемент определенности.
Соответственное этому условию качество поэмы называется
«звучностью» (sonoritas).
Необходимое условие художественного творчества есть
«гений» — психологический строй ума, свойственный творцу.
Чтобы вести произведение к благой цели, художник должен
обладать врожденным умом и врожденным эстетическим
темпераментом. Эти природные способности, кроме того, должны
быть развиты упражнением и обучением. Однако было бы
бесполезно затевать работу над произведением искусства без
вдохновения, без «энтузиазма». Помимо того, истинный
художник всегда будет в процессе длительного труда по отделке и по
правке совершенствовать свой первоначальный набросок.
Историческая оценка эстетики Баумгартена должна
учитывать не только и, может быть, не столько влияние, оказанное
ею на дальнейшее развитие немецкой эстетики, сколько тот шаг
вперед, который эстетика благодаря Баумгартену сделала
сравнительно с ее предшествующим состоянием.
Рассматриваемая с этих двух точек зрения эстетика
Баумгартена заслуживает оценки достаточно высокой, несомненно
высшей, чем та, которой она обычно удостаивалась в истории
эстетики.
Конечно, нет основания для преувеличения новизны и
оригинальности эстетических идей Баумгартена. В своем
большинстве идеи эти были выработаны и сформулированы
предшествовавшими теоретиками, прежде всего — античными
авторами «Поэтик» и «Риторик». Велико было также влияние на
Баумгартена идей немецкого рационализма — идей Лейбница
и Вольфа.
И тем не менее Баумгартен оригинален. Он связал
результаты и философские принципы своих предшественников в
теоретическую систему, оригинальную уже в своей
направленности, в своих основных определениях и в точках зрения,
которым было суждено получить развитие в будущем. Поэтому
нельзя согласиться ни с Джильбертом и Куном, ни с Бенедетто
4* 51
Кроче, которые единственную заслугу Баумгартена видят
в том, что он придумал новое слово — «эстетика» — и окрестил
им новую науку, не внеся при этом ничего существенно нового
в ее содержание1.
Новой была у Баумгартена уже мысль о необходимости
философского осмысления основ поэтики и риторики. Баум-
гартен убежден, что отсутствие серьезных размышлений по
вопросу о чувственном познании и об искусстве было зияющим
пробелом в системе знания. Баумгартен выделил в особую
область эстетическое чувство и подверг эту область
философскому рассмотрению. Он указал эстетике ее систематическое
место в философии Лейбница и Вольфа, определил задачу
и границы эстетики и сделал из нее самостоятельную науку.
Для достижения этой цели Баумгартен отделил эстетику
от наук, с которыми в его время обычно связывали теории
прекрасного и теории искусства, как только их начинали
рассматривать с философской точки зрения. Он отделил эстетику от
логики, от этики и от теоретической философии («метафизики»).
Опираясь на введенное им понятие о совершенстве
чувственного познания, он наметил границы, которыми отделяются
эти науки: эстетика отличается, во-первых, от логики, так как
предмет эстетики определяется характером чувственного
познания; во-вторых, эстетика отличается от морали, так как она
рассматривает не существо моральных проблем, но
исключительно чувственное явление морального; эстетика не опирается
и на метафизику, так как для эстетики истина представляет
интерес не сама по себе.
Во всех этих различениях мы вскрыли двойственность.
Положительное их значение — в первой серьезной и
философски обоснованной попытке точно определить специфический
предмет, задачу и метод эстетики, преодолеть путаницу и
смешение различных областей и понятий, которая мешала
эстетике найти самое себя. Но эта работа по отмежеванию
эстетики и по выделению ее в самостоятельную дисциплину несла
в себе и отрицательную тенденцию. Она возвышала роль
чувственности в восприятии и в оценке прекрасного. Но в
теории искусства и, в частности, в поэтике она означала
недооценку интеллектуальной функции искусства. Недооценка эта
следовала и из различия в видах совершенства, доступного,
по Баумгартену, рассудочному, логическому знанию, с одной
стороны, и чувственному, с другой. Только для
интеллектуального, логического познания присущим ему совершенством
будет истина. Напротив, для чувственного познания присущее
1 См.: К. Gilbert and H. Kuhn, A History of Estetics, New York,
1939, p. 289; Benedetto Сгосе, Estetica come scienza dell'espres-
sione e linguistica générale, Bari, 1901, p. 301.
52
ему совершенство состоит, по Баумгартену, не в истине,
а в красоте. И хотя в числе элементов художественного
содержания у Баумгартена рядом с «богатством» и «величием»
поставлена, как мы видели, «истинность» — под «истиной» в этом
случае понимается нечто находящееся по ту сторону
интеллектуальных ценностей и ограниченное областью только
чувственных явлений.
Воззрение это таило в себе наряду с принижением роли
чувственного познания вообще возможность принижения и
познавательной функции искусства. От решительных шагов в этом
направлении Баумгартена удерживала широта развитого им
понятия о чувственности, которое включало в себя, как мы
видели, не только чувственные ощущения и восприятия, но
также общее чувство, образы фантазии, память и другие
функции.
Столь же двусмысленным было проведенное Баумгартеном
отделение эстетики от этики. И здесь ценным было стремление
указать специфические признаки эстетического, оградить его
область от смешения с этикой. В применении к искусству —
это означало разрыв с господствовавшим взглядом на
искусство как на область моральных аллегорий и воплощенных
в картинах и образах искусства моральных назиданий. Но
развитый до своего предела взгляд этот грозил привести искусство
к такому «освобождению» от этики, при котором этический
смысл изображаемых искусством характеров, отношений
и явлений общественной жизни оказывался уже чем-то для
искусства будто бы посторонним, чуждым его
специфической природе и лишенным для художника существенного
интереса.
С двойственностью этих эстетических понятий у
Баумгартена . связывается аналогичная двойственность во взгляде на
познание общего и индивидуального. Начиная с 1735 года
Баумгартен упорно утверждает, что постижение общего и
постижение индивидуального не соединены в познании, а строго
разделены между его различными видами.
Наука, утверждает Баумгартен, познает только общее,
искусство—только индивидуальное. Утверждением этим
пронизана насквозь вся философия Баумгартена, и на нем покоится
вся его эстетика. Здесь в теории Баумгартена также можно
обнаружить глубокую двойственность. В исторических
условиях развития немецкой литературы XVIII века мысль,
согласно которой искусство направлено на изображение
индивидуального, личного, была благоприятна для искусства. Она
заключала в себе призыв к освобождению искусства от сухого
рационализма господствовавшей теории. Теория же эта в свою
очередь отражала характерную для Германии подавленность
личности казарменной регламентацией феодального абсолю-
53
тизма, невероятно мелочного, педантического, мертвящего.
Для всей политической системы, дробившей Германию на
множество карликовых абсолютистских государственных
образований, было характерно презрение к личности, подавленность
личной общественной инициативы, незрелость, слабость,
трусость личного самосознания.
Однако в стеснительной оболочке немецкой феодальной
системы, осложненной экономической и политической
раздробленностью, чересполосицей владений и чересполосицей умов,
медленно вырастали и складывались отношения будущего
буржуазного общества. Его развитие и успехи его развития
требовали развития личности и личного самосознания.
При крайней отсталости немецкой политической жизни
была только одна область, где стремление личности к
самоутверждению, к осознанию своего достоинства, к развитию
своих сил могло получить известный, хотя и здесь
ограниченный выход. Эта область — философия, искусство, поэзия,
музыка. Сюда направились силы нации и здесь одержали свои
первые победы.
В свете этого процесса характерное для Баумгартена
понимание искусства как деятельности, где предметом изображения
и творчества является индивидуальное, а результатом
восприятия — индивидуально-чувственное, следует признать
успехом и завоеванием эстетической теории. Мысль Баумгартена
оказалась важным звеном эстетического развития не только
в национальном масштабе, но и в масштабе европейском. Чтобы
убедиться в этом, достаточно сопоставить эстетику Баумгартена
с эстетикой Шэфтсбери. Английский эстетик отрицал роль
индивидуального в искусстве.
Что касается национального развития немецкой эстетики,
то в этом развитии мысль Баумгартена о значении
индивидуального для поэзии и для других искусств не только не заглохла,
но получила в середине и во второй половине XVIII века
энергичное развитие. Она продолжает развиваться и в самой
немецкой литературе и в эстетике — у Лессинга и у Гердера.
В то же время у Баумгартена обоснование идеи о роли
индивидуального в эстетической деятельности связано и с глубоким
заблуждением. Апология индивидуального достигается у
Баумгартена ценой ошибочного — метафизического —
противопоставления индивидуального общему. Баумгартен рассуждает,
как метафизик, и там, где он отделяет эстетику от логики
и этики, и там, где он отделяет индивидуальное от общего.
И если в особой, беспримерной обстановке, сложившейся в
XVIII веке в Германии, усиленное подчеркивание
индивидуального освобождало художественную мысль, то, рассматриваемое
более широко и по существу, оно свидетельствовало о крайней
метафизической ограниченности автора.
54
Взгляд на роль индивидуального в искусстве приводит
Баумгартена к пересмотру вопроса о значении правил в поэтике
и в эстетике. В сущности, Баумгартен отрицает
целесообразность правил. Он мало доверяет эстетическим рецептам и
предписаниям приемов. Предваряя идею Гердера, он утверждает,
что так называемые правила искусства не приносят ощутимой
пользы художнику и что — в лучшем случае — они могут
представлять наблюдения философа. Во всяком случае,
значение, какое они могут иметь для создания художественного
произведения,— ограничено. «Правила» способны
предупреждать ошибки. Иногда, случайным образом, они могут
содействовать открытию некоторых сторон прекрасного. Но ими
никогда не может быть создаваемо большое искусство, и
соблюдение правил никогда не должно быть предметом строгого
предписания. Суть дела — только в самостоятельном
обдумывании художественной задачи, которая всегда есть
индивидуальная проблема.
Все эти мысли выражены в эстетике Баумгартена не смело
и не резко. Они только слегка намечены. Но общая их
тенденция предугадывает тенденции, которые четко выступили в
последующем развитии немецкой эстетики XVIII века. Рожденные
на общей исторической почве, они усилятся к концу'ХУШ века.
Проводимое Баумгартеном различение областей эстетики, с
одной стороны, и логики, этики, метафизики, с другой,
превратится у некоторых его продолжателей в тезис о безразличии
искусства, как такового, к морали и в утверждение резкого
различия между логической истиной и эстетическим
правдоподобием.
Со всеми своими метафизическими недостатками эстетика
Баумгартена заложила первый камень в фундамент
классической немецкой эстетики. Баумгартен не только дал имя
нарождавшейся новой философской науке. Он указал ей — пусть
односторонне, в ограниченном круге рационалистических
понятий его времени·— ее особый предмет. Он объединил и обобщил
в учении о предмете эстетики ряд воззрений, которые до него
оставались разобщенными между собой и частными. Он связал
в одно целое элементы, взятые из различных дисциплин — из
теории познания, из лингвистики, из поэтики, из риторики,—
и сделал их объединение предметом новой науки. Выполнив
только часть намеченного плана, он дал недвусмысленное
понятие о том, чем должно было стать целое.
Сказанным определяется мера оригинальности Баумгартена.
Материалы его эрудиции и учености — хорошо известны. Они
довольно скромны и ограничены. Большая часть его положений—
общих и частных — почерпнута из понятий античных
теоретиков. Но у Баумгартена эти понятия поставлены на основу,
которая характеризует его личную позицию, личное отношение.
55
Работа Баумгартена над идеями, найденными в античной
эстетике, была работой по их обновлению. Последующие теоретики
прекрасного и теоретики искусства широко воспользовались
результатами его труда. Поколение эстетиков, выступивших
непосредственно вслед за Баумгартеном, исходило из круга
идей его «Эстетики». Люди этого поколения не только трудились
над поставленной им проблемой, но развили ряд его точек
зрения, которые в «Эстетике» были только намечены и которые
соответствовали их собственным задачам. Немецкая
классическая эстетика действительно начинается с Баумгартена.
Глава вторая
ВИНКЕЛЬМАН, ЕГО ТЕОРИЯ
ИСКУССТВА И ЭСТЕТИЧЕСКОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ
I
Если Баумгартен был родоначальником немецкой
философской эстетики, то Винкельман оказался родоначальником
эстетики, основывающейся на теории искусства. В свою очередь-
теория искусства Винкельман а была обобщением и осмыслением
результатов исследований, посвященных истории античного·
искусства.
Различие между обеими эстетиками еще более оттеняется
тем, что Винкельман был некоторое время слушателем Баум-
гартена в университете в Галле. По верному слову Юсти,
биографа Винкельмана и автора посвященной ему основательной
и обстоятельной монографии, зарождение науки о прекрасном
произошло в Галле на глазах Винкельмана1.
Но ни штудирование сочинений главы галльской школы
Христиана Вольфа, ни слушание лекций его ученика Баумгар-
тена не сделали Винкельмана философом. Сферой Винкельмана
было не философское умозрение, не строгая дедукция по
образцам знаменитых рационалистов его века, а конкретное
созерцание. Памятники древней пластики, резные камни, монеты,
гравюры, воспроизводящие античные статуи, произведения
античных поэтов были источником, из которого Винкельман
черпал не только свои характеристики древнегреческого
искусства, но и свои понятия о прекрасном, о красоте и о средствах
ее выражения.
Правда, рационализм, господствовавший в немецкой мысли
середины XVIII столетия, наложил свою печать и на воззрения·
Винкельмана.
1 См.: G. J u s t i, Winckelmann, sein Leben, seine Werke und seina
Zeitgenossen, Leipzig, 1886, S. 76.
57
К постижению красоты, по Винкельману, ведет не
безотчетное чувство удовольствия и не только чувственная интуиция.
«Красота,— говорит Винкельман,— отлична от чувства
«нравится»1. Хотя красота воспринимается чувствами, но
постигается и познается она умом: «Чувства, наученные умом,
становятся менее отзывчивыми, но должны приобретать больше
верности»2.
И все же рациональное постижение красоты, в принципе
доступное всем и независящее от произвола частных мнений
и оценок, в действительности трудно достижимо. Красота —
одна из величайших тайн природы. Мы видим и чувствуем
ее действие, «но дать ясное общеобязательное понятие о ее
сущности — это одна из безуспешных задач»3. Если бы понятие
о прекрасном было геометрически точно, то человеческое
суждение о нем «не было бы так изменчиво, и было бы легко убедить
людей в истинной красоте». Положительная идея красоты
требует знания самой ее сущности, но проникнуть в эту сущность
«мы можем только в немногом». Во всяком случае, приблизиться
к познанию этой сущности мы можем не посредством дедукции
и общих логических и философских определений, а только идя
обратным путем — от чувственно созерцаемых отдельных
фактов к вероятным выводам об их общей сущности. «Здесь, как
и в большинстве философских исследований, мы не можем
рассуждать по способу геометрии, переходя от общего к частному
и делая от сущности вещей заключения об их свойствах. Мы
должны удовлетвориться тем, чтобы из многих отдельных
частей делать наиболее вероятные выводы»»4.
Иногда Винкельман предпочитает даже говорить не о ходе
мысли, при помощи которой достигается прекрасное, а о
непосредственном созерцании прекрасного. И тогда это
созерцание характеризуется как безотчетное и независимое от всяких
размышлений: дедуктивных и индуктивных. «Вообще,— пишет
Винкельман,— я держусь того мнения, что... прекрасное в
искусстве основывается больше на тонком чутье и
просвещенном вкусе, чем на глубоких размышлениях»5.
В «Предварительном трактате Винкельмана» («Trattato preli-
minare») как вывод из сказанного утверждается, что, хотя
прекрасное может быть сведено к некоторым понятиям,
составляющим его основу, никакое частное объяснение не может дать
о нем отчет исчерпывающим образом. Больше того, невозмож-
1 И.-И. Винкельман, История искусства древности, М., Изогиз,
1933, стр. 132.
2 Τ а м же, стр. 131.
8 Τ а м ж е, стр. 128.
* Τ а м же, стр. 132.
5 ИоганнИоахим Винкельман, Избранные
произведения и письма, М.— Л., «Academia», 1935, стр. 137.
58
ность объяснить и определить прекрасное точным способом
происходит оттого, что оно превышает способность нашего
рассудка»1.
Поэтому «чистая красота» (die reine Schönheit), утверждает
Винкельман, не может быть единственным предметом изучения:
«Нам надо придать ей положение действия и страстей, то есть
то, что в искусстве мы понимаем под выражением»2.
Не удивительно поэтому, что некоторые исследователи
характеризовали метод эстетических исследований Винкельмана
как индуктивный. Так, Валентэн, ссылаясь на письмо
Винкельмана к архитектору Клериссо (Clérisseau), отмечает, что
Винкельман отправляется всегда от чувственного и
непосредственного объективного впечатления вещей, а не от априорных идей.
И точно так же Нивелль доказывает, что винкельмановское
понятие «идеальной красоты» есть «лишь результат
последовательных наблюдений и индукций»3.
Впрочем, индуктивный путь, следуя по которому
Винкельман пришел к своему учению о прекрасном и об его воплощении
в искусстве, ничуть не противоречит рационализму воззрений
Винкельмана на искусство. Теория искусства — не
отвлеченная логика. Для нее показателен не только путь, цо которому
ее автор пришел к своим понятиям, но не менее показателен
и характер самих понятий.
У Винкельмана эти понятия пронизаны ясным и спокойным
светом рассудка и разума. Его эстетика и теория искусства
не могут быть подведены под рубрику учений неоплатонизма,
как это пытались сделать некоторые эстетики. Знаменитое место
в «Истории искусства древности», в котором видят
доказательстве близости Винкельмана к платонизму и неоплатонизму,—
одно из очень немногих, на которые опирается это утверждение.
Еще важнее, что, будучи едва ли не единственным, оно вместе
с тем не имеет доказательной силы. В нем сам Винкельман
дает понять, что он предлагает скорее аналогию между
красотой и ее прообразом в божественном разуме, чем доктринальное
положение, повторяющее теорию Платона. «Высшая красота
в божестве,— поясняет он,— и понятие о человеческой красоте
совершенствуются по мере приближения и согласования ее
с идеей верховного существа, которое для нас понятиями
единства и неделимости отлично от материи. Это понятие красоты
есть как бы (курсив мой.— В. А.) отвлеченный от материи,
очищенный огнем дух, стремящийся олицетвориться в творении
по образу первого разумного существа, созданного
божественным разумом»4. Здесь подчеркнутое мной «как бы» указывает
1 I. I. Winckelmann, Trattato preliminare, VII, p. 73.
2 И. Винкельман, История искусства древности, стр. 134.
8 A. Nivelle, Les Théories esthétiques en Allemagne..., стр. 122.
4 См.: И. Винкельман, История искусства древности, стр. 133.
59
на метафорический характер развиваемого Винкельманом
построения. И это понятно. Нигде мы не можем обнаружить
у Винкельмана ни интереса к философии, хотя бы
платоновской, ни понимания ее отвлеченных учений. В Платоне
Винкельмана привлекала не' диалектика и метафизика «идей»г
а блестяще нарисованные изображения политической жизни,
картины нравов и художественной культуры афинского
общества.
Поэтому нельзя не согласиться с Нивеллем, когда он
утверждает, что мнение о зависимости Винкельмана от эстетики
платонизма преувеличено1. Только неспособность Винкельмана
определить красоту в той сфере, в какой он ее поместил —
в сфере эмпирических наблюдений,— привела его к попытке
найти- опору в сверхчувственном мире. Сама теория искусства
и эстетика Винкельмана не зависят от этой опоры. Ссылка на
единство и простоту, приписываемые богу, сделала
Винкельмана жертвой слов (dupe de mots), так как это единство и
простота «только по имени имеют нечто общее с единым и простым
художественного произведения»2.
В отличие от первоединого неоплатоников художественное
произведение состоит из частей, кроет в себе многообразие,
является делимым. Необходимость этой множественности и
делимости обусловлена тем, что всякая художественная красота
принадлежит, по Винкельману, к области материи. Понятие
о «единстве» произведения — всегда описательное понятие
и опирается на чувственное впечатление, даже если в
дальнейшем оно постигнуто и одобрено умом. Подобным образом
и «простота» произведения означает отсутствие в нем излишества,
чувство меры, сдержанность. Она состоит в том, чтобы
выражение достигалось при помощи возможно меньшего числа знаков,
чтобы зритель не терялся во множестве подробностей и
представлений, чтобы ему казалось, будто сделанное автором в
действительности не таково3. В тех — редчайших — случаях,
когда Винкельман говорит о божественной простоте и
неделимости, он пользуется немецким термином «Unteilbarkeit»,
в тех же, когда под «простотой» он понимает простоту
произведений искусства, он применяет термин «Einfalt» или «Einfachheit».
В глубоком соответствии со сдержанным рационализмом
эстетического мировоззрения Винкельмана стоит его понимание
элементов изобразительного искусства, в частности — живописи.
Основным его элементом Винкельман признал контур, ясное,
твердой рукой выполненное очертание фигуры, лица, предмета.
1 См.: A. Nivelle, указ. произв., стр. 123.
2 Τ а м же.
8 И. Винкельман, Напоминание о том, как созерцать древпее-
искусство.— В кн.: И. Винкельман, Избранные произведения
и письма, стр. 189.
60
При этом в контуре для Винкельмана важна не отвлеченно
взятая композиция, или гармония, или ритм линий как таковых,
а способность контура определять границы и направление
«скульптурного» видения человеческой фигуры. Контур —
условие наилучшего видения фигуры, как образа прекрасного
изваянного тела. Здесь, в искусстве разработки контура, нормой для
Винкельмана является древнегреческое искусство. По
утверждению Винкельмана, «благороднейший контур в греческих
фигурах объединяет или очерчивает все части прекраснейшей
натуры». Хотя многие из художников нового времени пытались
подражать греческому контуру, по Винкельману, это «почти
никому... не удавалось». В частности, даже Рубенс, в котором
Винкельман признает великого художника, «далек от греческих
очертаний тела», а Микеланджело единственный художник,
о котором можно было бы сказать, что он сравнивается с
мастерами древнего искусства, достигает этого «только в сильных
и мускулистых фигурах, в телах из времен героев...»1.
Напротив, греческий художник, согласно оценке
Винкельмана, «довел контур во всех своих фигурах до величайшей
точности, даже и в таких тончайших кропотливейших работах,
какими являются резные камни»2. Неподражаемые образцы
контура даны, по Винкельману, в работах Диоскорида, Тевкра
и Паррасия.
Греческий контур Винкельман считал не только величайшим,
но и труднейшим достижением греческого искусства. Ссылаясь
на Цицерона, Винкельман находил, что у греков «форма
определяла фигуру, а мера — соотношения». Очертание нагого
тела основывалось на знании и на понятиях красоты, а эти
понятия «заключаются отчасти в мерах и соотношениях, отчасти
в формах, красота которых была основным принципом первых
греческих художников»3.
При этом высшим сюжетом в искусстве, по Винкельману,
является «человек или по крайней мере его внешняя сторона».
Но исследование внешней стороны для художника «так же
трудно, как для мудреца изучение внутреннего мира». Самое же
трудное, по Винкельману, это красота, так как она «не
измеряется, в сущности говоря, ни числом, ни мерой»4. Познание
прекрасного более трудно и реже встречается, чем понимание
пропорциональности целого или знание скелета и мускулатуры.
Даже если бы красота, которой ищет художник, «могла быть
определена посредством какого-нибудь общего понятия, то это
нисколько не помогло бы тому, кому небо отказало в чувстве».
Так, в эллиптической линии, очерчивающей красоту, «есть
1 И. В и н к е л ь м а н, Избранные произведения и письма, стр. 102.
2 И. Винкельман, История искусства древности, стр. 127.
8 И. Винкельман, Избранные произведения и письма, стр. 194.
4 Τ а м же.
61
единство и постоянное изменение»1. Однако линию эту «нельзя
описать никаким циркулем, так как она в каждой точке
изменяет свое направление... какая именно более или менее
эллиптическая линия образует различные составные части красоты,
алгебраическим путем определить невозможно». И все же
древние знали ее, и мы находим ее у них, «начиная с человека и
кончая сосудами»2.
Учтя неизменно эмпирическую основу взгляда Винкельмана
на «единство» и «простоту» художественного произведения,
мы можем лучше понять функцию, которую в эстетике
Винкельмана выполняет идея высшей красоты. В «Истории
искусства древности» Винкельман поясняет, что, согласно этой идее,
красота подобна воде, зачерпнутой из чистейшего источника.
«Красоту,— говорит он,— можно сравнить с самой чистой
водой, черпаемой из источника: чем меньше в ней вкуса, тем
она здоровее, потому что она очищена от всяких посторонних
примесей»3. Понятие о такой красоте кажется вещью самой
простой, самой легкой, не требующей ни философского знания
человека, ни изучения душевных страстей и их внешнего-
проявления.
Однако, по Винкельману, такая чистая красота «не может
быть единственным предметом нашего изучения...».
К понятию этой красоты мы подходим как к идеалу,
возвышающемуся над действительностью. Божественная идеальная
красота, отделенная от всего частного, от всякого
эмпирического ее выражения,— только проекция идеального в
естественном, или природном смысле.
В конечном итоге роль этой идеальной проекции в эстетике
Винкельмана совершенно не велика и чисто формальна. Она
понадобилась лишь для завершения круга идей Винкельмана,
но никак не для их обоснования или разъяснения. Мысль
Винкельмана прочно привязана к реальному чувственному миру,,
к его явлениям.
II
Эстетические воззрения Винкельмана складывались в
трудных условиях общественно-политической жизни. Годы его·
учения и первые годы научно-литературной деятельности
протекли в Германии: сначала в Пруссии, а затем в Саксонии.
Условия эти оказались для Винкельмана особенно тяжкими
в силу особенностей его умственной и нравственной
организации. В отличие от Баумгартена, мало интересовавшегося
событиями общественной и политической жизни, Винкельман —
1 И. Винкельман, Избранные произведения и письма,стр. 194..
2 Τ а м же, стр. 195.
8 И. Винкельман, История искусства древности, стр. 133—134·
62
их живой и впечатлительный восприемник и наблюдатель.
Эмоциональная реакция на явления современной общественной
жизни и на отношения интеллектуальной — научной и
литературной — для него не менее характерна, чем сосредоточенное
и напряженное размышление над изучаемыми материалами
искусства и его истории. В современном ему искусстве и
искусствоведении Винкельман видит и различает течения,
направления, тенденции. Он определяет по отношению к ним
собственную позицию, полемизирует, критикует, развенчивает
отвергаемые идеалы и возвышает вместо них другие. В литературе
о Винкельмане не раз отмечался полемический характер
научной деятельности Винкельмана, его борьба против искусства
и эстетических принципов барокко и рококо1.
Удивительно, как подобная натура могла сложиться в
Пруссии, где прошла юность Винкельмана и где к неблагоприятным
условиям политического режима присоединялись чрезвычайно
трудные условия личной жизни: бедность, отсутствие книг
и источников, необходимых для изучения.
Оглядываясь впоследствии, после переезда в Италию, на
свою молодость, Винкельман прямо называет свою родину
«деспотической страной». О себе самом он говорит, что он
испытал господствовавший в ней деспотизм «в большей степени,
чем можно себе представить». В одном из писем он признавался:
«Дрожь пробегает мое тело от макушки до пяток, когда я думаю
о прусском деспотизме и о том живодере народов, который эту
самой природой отверженную и ливийским песком засыпанную
страну делает отвращением человечества и навлекает на нее
вечное проклятие»2.
Подавленный беспросветными условиями прусской
действительности, Винкельман переселяется в 1748 году в Саксонию.
Ему была предложена должность сотрудника библиотеки
видного историка графа Бюнау — в его имении близ Дрездена.
Сама по себе должность эта не представляла для Винкельмана
ничего привлекательного: он должен был разыскивать и
подготовлять материалы для обширного исторического труда
Бюнау. Однако Винкельман, ученый любознательный и
трудолюбивый, прекрасно использовал имевшиеся в библиотеке
Бюнау рукописи, книги и коллекции для изучения
возбуждавшего в нем жгучий интерес мира античной истории, литературы
1 См., напр.: W а е t ζ о 1 d, Die Begründung der deutschen
Kunstwissenschaft; ср. также: W. H. Pater, Studies in the History of the
Renaissance, London, 1873. Уже о первой книге Винкельмана Патер говорит, что·
она была «призывом обратиться от искусственного классицизма эпохи
к изучению античности...» (an appeal from the artificial classicism of the
day to the study of the antique, p. 158).
2 Цит.: И. И. Винкельман, Избранные произведения и
письма, стр. 38.
63
и искусства. В Нетенице — имении Бюнау — Винкельман
заложил фундамент своих последующих обширных познаний
в области античного искусства. Интеллектуальная атмосфера
Саксонии была гораздо более благоприятна для этой
деятельности, чем обстановка в Пруссии. Начиная с XVI века
Саксония шла впереди других немецких государств по своему
экономическому — промышленному, торговому — и культурному
развитию. Городская буржуазия предъявляла умственные
запросы, выводившие за пределы мировоззрения феодальной
эпохи. В Саксонии окрепло возникшее в первой четверти
XVI века движение протестантизма. Здесь учились многие
корифеи немецкой культуры XVII—XVIII веков: Лейбниц, Клоп-
шток, Лессинг, Гёте. Для Винкельмана огромное значение
имела возможность изучать произведения живописи и
скульптуры, собранные в столице Саксонии Дрездене. Город этот
изобиловал памятниками и образцами архитектуры, ваяния
и живописи. Винкельман видел здесь перед собой и
произведения немецкого и итальянского Возрождения, и множество
произведений барочного классицизма — римского,
нидерландского, французского, и произведения античной скульптуры.
Винкельман углубился здесь в изучение и того искусства
(барокко), против которого он впоследствии поведет борьбу,
и античного искусства, которое станет для него непреложной
нормой и критерием прекрасного.
В искусстве Древней Греции Винкельман увидел образы
мира, которого он искал, но не нашел в современной ему
немецкой действительности. Это было искусство, как думал
Винкельман, свободное, созданное свободными людьми, гражданами
свободного государства.
Взгляд этот на античную культуру представлял, конечно,
ее идеализацию и был основан на целом комплексе
исторических иллюзий. В поле зрения Винкельмана стояла только
свободная часть античного рабовладельческого общества. Он
даже не пытается заглянуть в глубинный слой народной жизни
Древней Греции; он не видит того, что блестящие
художественные произведения античной культуры оказались возможными
и возникли только потому, что досужие и свободные люди,
их создавшие, опирались на непрекращающийся труд рабов.
Идеализируя античный мир, как мир свободных людей
(свободным в Греции было лишь господствовавшее меньшинство),
Винкельман идеализирует и ту часть древнегреческого общества,
которая была в нем действительно свободной. Он явно
идеализирует античную демократию. Ему кажется, что это была
общественная демократия, а не народоправство рабовладельцев,
демократия для рабовладельцев.
Это воззрение на античность было не столько результатом
реального исторического изучения, сколько проекцией в антич-
64
ный мир социальных понятий и идеалов самого историка.
Вместе с тем эта идеализированная проекция
противопоставлялась Винкельманом реальному историческому миру, в котором
он жил и в котором зажившееся феодальное рабство было
отягчено гнетом полицейского абсолютизма.
Противопоставление это не могло сложиться в сознании Вин-
кельмана только в результате его личного жизненного опыта
и в результате одних лишь занятий античной археологией
и скульптурой. При возникновении мировоззрения Винкель-
мана значительную роль сыграло его знакомство с литературой
буржуазного французского Просвещения, предшествовавшего
французской революции XVIII века.
Так, Винкельман внимательно изучал десятитомную
«Историю Англии» Рапэна (1661 — 1725), гугенота, эмигрировавшего
из Франции в Англию. Особый интерес Винкельмана
привлекали события английской буржуазной революции XVII века.
Из французской литературы, повлиявшей на Винкельмана,
на первое место должно быть поставлено влияние Монтеня,
Бейля, Монтескье и Вольтера. В «Опытах» Монтеня, которые
Винкельман изучал еще в молодые годы, на Винкельмана
глубокое впечатление произвел проницательный взгляд на
историческую и моральную жизнь как на ткань противоречий, а также
постулат, или требование сохранения равновесия души и тела.
Требование это вошло как элемент в винкельмановское
понимание античного образа жизни.
В формировании Винкельмана как ученого, особенно в
развитии в нем духа критического непредвзятого исследования,
основывающегося на фактах, но не подавляемого фактами,
независимого и самостоятельного, ему помогло прилежное
длительное изучение и эксцерпирование знаменитого вышедшего
в 1695—1697 годах «Исторического и критического словаря»
Бейля («Dictionaire historique et critique»)1. Важным
результатом изучения Бейля было то, что Бейль укрепил в Винкель-
мане безразличие к вероисповеданиям. Это помогло Винкель-
ману в решающий момент его жизни оставить протестантизм
и, следуя приглашению папского нунция при дрезденском
дворе, принять католичество (1754). Вслед за тем Винкельман
переехал в Рим и получил там должность, давшую ему досуг,
необходимый для археологических, исторических и
эстетических занятий. В последний год жизни в Дрездене Винкельман
написал прославившую его во всем ученом мире работу —
«Мысли о подражании греческим произведениям в живописи
и скульптуре».
1 Прекрасная характеристика Бейля и его словаря см. в кн.: С. J u s t i,
Winkelmann, Sein Leben, seine Werke und seine Zeitgenossen, особенно
S. 110-114. Впрочем, утверждение Юсти, будто Винкельман нашел
в Бейле «своего человека», по-видимому, преувеличено.
5 в. Асмус
65
Значительным также было влияние на Винкельмана
политических идей Монтескье. Чтение книг Монтескье, которыми в то
время (середина XVIII в.) зачитывалась вся просвещенная
Европа, способствовало развитию и укреплению
демократических тенденций мировоззрения Винкельмана. Одновременно
с чтением Монтескье шло чтение и изучение Вольтера.
Формально перешедший в католичество, но совершенно чуждый
ему в своих внутренних убеждениях, Винкельман впитывал
в себя не только идеи Вольтера, направленные против церкви,
клерикализма, ханжества и лицемерия, но также своеобразное
идеализированное представление Вольтера о классической
древности. Представление это отнюдь не отличалось
историческим реализмом, но не расходилось резко и с теми понятиями,
которые вынес из ее изучения сам Винкельман, видевший
в блестящем обществе античных Афин образцовое явление
политической и интеллектуальной свободы.
У всех названных философских писателей Винкельман
черпал не их чисто теоретические — метафизические,
гносеологические — понятия, но понятия, характеризующие
политическое и историческое мировоззрение, а также их отношение к
церкви и к религии.
Совершенно иным было влияние на Винкельмана
английского философа и эстетика Шефтсбери. Во всем
противоположный скептику Монтеню, Шефтсбери содействовал развитию
в Винкельмане его эстетического восприятия мира как
вселенской гармонии, его демократического убеждения в исконном
благородстве человеческого рода, его эстетического
рационализма.
Всех этих идейных источников было бы, однако,
недостаточно для того, чтобы осветить путь эстетического развития
Винкельмана. Основа его эстетического мировоззрения была
создана его усердным, вдумчивым и проницательным изучением
материальных памятников древнегреческого искусства:
архитектуры, скульптуры, художественной и исторической
литературы, нумизматики и гемм. Скромный сотрудник немецкой
графской библиотеки стал со временем археологом первоклассного
ранга, признанным всей ученой Европой. Выводы, добытые
непосредственным созерцанием произведений античного
искусства, обобщались в сознании ученого археолога, становились
гранями эстетического мировоззрения и элементами
характеристики своеобразия античного мира и его духовной культуры.
Наблюдения над чертами древнегреческого искусства
превращались у Винкельмана в некие всеобщие эстетические нормы,
отражавшие в то же время политические идеалы и тенденции
самого исследователя.
Работу эту Винкельман не мог бы провести, если бы он
ограничился изучением одних лишь произведений искусства. Ему
66
необходимо изучение также работ по теории искусства, и он
усердно предается этому изучению. Еще в Саксонии он
познакомился с искусствоведческими работами немецких ученых
Гагедорна (Hagedorn) и Эзера (Oeser). Чрезвычайно тщательным
было также изучение работ французских теоретиков искусства.
Это были Роже де Пиль (1635—1709), аббат Дюбо (1670—
1742). В особенности работа последнего «Размышления о
поэзии и прозе» помогла Винкельману осветить в искусстве связь
явлений, которые дотоле считались отделенными друг от друга.
Но наиболее подробные извлечения Винкельман сделал из
работ Ричардсона.
III
Эмпирический и индуктивный метод характеризует только
путь исследований Винкельмана. Задавшись целью
представить в обширном труде («История искусства древности»)
результаты своей многолетней работы, Винкельман в самом
изложении этих результатов идет уже не путем индукции: он
предпосылает всему изложению некоторую сумму общих
положений, составляющих основу его теории искусства.
Он исходит из утверждения, что искусство греков «по
своему совершенству достойно стать предметом изучения и
подражаний»1. Исследование должно «достичь самой сущности
вещей, результатом чего были бы не просто сведения для
сведений, но и руководство для выполнения»2.
Первая причина высоты, которой достигло искусство греков,
состоит, по Винкельману, во влиянии «климата», то есть
природы страны и господствующих в ней климатических условий3.
«В Греции природа придала своим жителям высшую степень
совершенства»4. Пройдя все степени тепла и холода, она
«остановилась в Греции как бы в таком центре, где царствует
температура, уравновешенная между зимней и летней». В этой
стране сама природа выражается «в изящных, грациозных
образах, в чертах ясных и многообещающих»5.
Вторая, по Винкельману, причина высоты древнегреческого
искусства «должна быть приписана... политическому устройству
и происходящему отсюда складу мыслей...»6. А именно: одной
из главных причин расцвета искусства в Греции была, по
Винкельману, «свобода, царствовавшая в управлении и
государственном устройстве страны...»7. Так как Винкельман, как уже
1 См.: И. Винкельман, История искусства древности, стр. 120.
2 Там же.
8 Τ а м же, стр. 120—121.
4 Там же.
* Τ а м же, стр. 121.
• Τ а м же, стр. 120.
' Там же, стр. 121.
5* 67
было сказано, имеет в виду свободу, доступную только
рабовладельческим классам греческого населения, и совершенно
не взирает на политическое положение класса рабов, то об
идеализирует степень и широту распространения политической
свободы в древнегреческом мире. «Свобода,— уверяет он,— в
Греции всегда имел а свою родину, даже у трона царей, отечески
управлявших своим народом, пока просвещение не позволило
ему вкусить сладости полной свободы»1. Ссылаясь на Геродота,
Винкельман. повторяет его утверждение, будто свобода «была
единственным основанием могущества и величия Афин»2.
Из греческой свободы, согласно Винкельману, «вырос,
подобно благородной ветви из здорового ствола, образ мыслей
греков». Подобно тому как мысль привыкшего размышлять
человека возвышается больше в чистом поле, или в открытой
галлерее, или на вершине зданий, чем в низкой комнате или
узком месте, «так и образ мыслей свободных греков должен был
отличаться от понятий подчиненных народов»3.
Наконец, причина процветания древнегреческого искусства
отчасти, по мысли Винкельмана, была обязана и «тому
уважению, которым пользовались греческие художники в обществе,
и роли, которую они в нем играли»4. В свой черед
общественный вес античного художника Винкельман ставит в связь
с демократическим строением греческого государства. Ссылаясь
на Аристотеля, он доказывает, что художник в Древней Греции
«мог быть законодателем, ибо все законодатели были... простыми
гражданами»5.
Как историческое объяснение все эти утверждения
Винкельмана преувеличены и основаны на идеалистической иллюзии.
Древнегреческий мир не был миром свободы; он был миром,
в котором свобода меньшинства зиждилась на рабстве
значительной части общества.
Оценка суждений Винкельмана будет, однако, совершенно
иной, если видеть в них не попытку исторического объяснения,
а выражение взглядов самого Винкельмана на общественные
условия, необходимые для расцвета искусства в современном
ему обществе. Тогда все эти преувеличения и наивный
исторический идеализм предстанут в другом свете: в них мы увидим
постулаты демократического мировоззрения самого
Винкельмана, протест против печальной судьбы искусства,
подавленного в условиях феодально-абсолютистского строя.
Как бы явны ни были преувеличения и иллюзии
Винкельмана в отношении античности и античного искусства, преуве-
1И. Винкельман, История искусства древности, стр. 121.
2 Τ а м же, стр. 123.
• Τ а м же.
* Τ а м ж е, стр. 120.
6 Τ а м же, стр. 124.
68
личения эти имели реальную основу: Винкельман только
заострил действительные черты, присущие древнегреческому
искусству. Призма, сквозь которую он рассматривал древнегреческий
мир, оставляла многое в тени, многое преувеличивала и ставила
в особо ярком свете, но ничего не «вымышляла» и не искажала
пропорций рассматриваемого.
Гениальная прозорливость Винкельмана позволила ему
подметить в произведениях древнегреческой скульптуры черты,
которые не только действительно ей принадлежат, но которые
характерны для ее существа. Эти черты Винкельман связал
с образом мыслей античных поэтов, философов, и таким образом
винкельмановская характеристика греческой пластики была
обобщена и превратилась в характеристику античного способа
видения не только красоты, но и всего доступного
чувственному созерцанию мира.
Этот способ видения античности сделал искусствоведческие
работы Винкельмана важным и влиятельным звеном в развитии
буржуазного и не только буржуазного понимания античности.
Винкельмановская характеристика античного искусства,
переросшая в характеристику античного способа видеть мир,—
предшественница тех концепций античности, которые, опираясь
на Винкельмана, а частично преодолевая его, развили
впоследствии Гер дер, Шиллер, Гёт,е и Гегель.
Итак, по Винкельману, наиболее благоприятные условия
для художественной деятельности возникли в античной
Греции. Но как понимал Винкельман художественную
деятельность?
Исходным в его анализе искусства было различие между
«идеей» художественного произведения и воплощенной в нем
«красотой». «Все искусства,— говорит Винкельман,— имеют
двоякую конечную цель: они должны услаждать (vergnügen),
а вместе с тем — поучать (unterrichten)»1. Но при этом высшая
ценность произведения искусства принадлежит его идее. «Все
наслаждения,— поясняет Винкельман,—... становятся
продолжительными и охраняют нас от отвращения и пресыщения
лишь в той мере, в какой они занимают наш ум. Одни только
чувственные восприятия носят исключительно поверхностный
характер и мало действуют на разум»2.
Первенствующим значением идеи произведения Винкельман
объясняет многочисленность случаев, когда античное
искусство — и не только оно — обращается к аллегории. Чем больше
понятий включает в себя изображенная фигура, «тем она
возвышеннее; и чем больше она заставляет о себе задуматься, тем
1 И. Винкельман, Избранные произведения и письма, стр. 132,
* Τ а м ж е, стр. 160.
69
глубже производимое ею впечатление, и тем более она
становится доступной чувствам»1.
Выдвигая тезис о главенствующей роли идеи, мысли в
произведении искусства, Винкельман отнюдь не был новатором. Тезис
этот разделялся большинством эстетиков того времени и
характеризует эстетику рационалистического Просвещения. В
особенности в произведениях скульптуры, которая составляла
главный предмет занятий Винкельмана, искали прежде всего
воплощенный в них смысл. Это понимание искусства не могло
быть расшатано даже влиянием эстетических идей Баумгартена,
который с кафедры университета в Галле развивал эстетику,
отождествлявшую красоту с совершенством чувственного
восприятия.
Но и живопись понимали не иначе. Обычным для эпохи был
взгляд, согласно которому живопись есть система знаков,
а изображаемые в ней фигуры представляют олицетворение
идей. Не удивительно, что, когда в эстетике немецкого
романтизма возникло иное понимание идейного элемента искусства,
понятия Винкельмана о роли аллегории стали казаться
преувеличенными и рассудочными. Фридриху Шлегелю, например,
казалось иногда, будто Винкельман не столько исследует
явления искусства, сколько изобретает систему иероглифов, а
Герман Лотце в своей известной «Истории эстетики»2 даже
утверждает, будто Винкельман сводит идею художественного
произведения к отвлеченной мысли, которая, собственно говоря,
даже не нуждается в красоте для выражения того, что она хочет
высказать.
Однако был ли Винкельман в такой мере, как это кажется
Лотце, рационалистом? Ответ на этот вопрос дает изучение
анализов и экскурсов, которые он посвящает вопросу о красоте.
. В «Напоминании о том, как созерцать древнее искусство»
Винкельман целью искусства объявляет красоту:
«...благодарнейшая цель искусства,— читаем мы здесь,— красота»3.
Утверждая это, он не отступает, однако, от мысли о роли
идейного начала в искусстве: он только ставит вопрос о роли обоих
элементов — «идеи» и «красоты». «Обрати внимание на то,—
призывает он,— мыслил ли творец того произведения, которое
ты созерцаешь, самостоятельно или ограничился подражанием;
была ли ему знакома благороднейшая цель искусства —
красота — или же он работал по привычным ему формам...»4.
Здесь перед произведением искусства ставится двоякое
требование: в произведении идея должна быть оригинальной,
а форма совершенной.
1 И. Винкельман, Избранные произведения и письма, стр. 164.
8 См.: H. L о t ζ е, Geschichte der Aesthetik, S. 17 ff
» И. Винкельман, Избранные произведения и письма, стр. 190.
4 Τ а м ж е.
70
Что же такое винкельмановская «красота»?
Отчасти мы уже коснулись этого понятия. Мы видели, что
категория «высшей красоты» была для Винкельмана идеальным
пределом, к которому стремится представление о красоте,
выведенное из наблюдения ее низших форм — в природе и в
искусстве. Дать точное определение этой высшей красоты Вин-
кельман затрудняется и даже не считает возможным. «Красота,—
заявляет он,— одна из великих тайн природы, действие
которой мы видим и чувствуем, но дать ясное общеобязательное
понятие о ее сущности — это одна из истин, недоступных
открытию» (Die Schönheit ist eine von den grossen Geheimnissen der
Natur, deren Wirkung wir sehen und alle empfinden, von deren
Wesen aber ein allgemeiner deutlicher Begriff unter die
unerfundenen Wahrheiten gehört).
Тем не менее Винкельман отвергает взгляд скептиков,
которые сомневаются в возможности и истинности общего понятия
о красоте; скептики эти «основывают свои сомнения главным
образом на различных представлениях о прекрасном у
отдаленных народов...». Отличаясь от пас формами лица, такие народы
«должны отличаться и понятиями красоты»1.
Однако эти различия форм и соответствующие им различия
понятий о прекрасном обусловлены, по Винкельману, только
тем, что, порождая свои формы, природа иногда отклоняется
от нормального типа, приближается «к крайним своим точкам»2.
В постоянной борьбе либо с холодом, либо со зноем она
«порождает или преувеличенные и скороспелые, или незрелые породы
всех видов». Зато та же природа «становится все правильнее
в своих формах, постепенно приближаясь к своей середине, под
умеренным небом...». Именно это произошло на почве Древней
Греции, климат которой породил совершенных людей, а люди —
совершенное искусство. Из этого Винкельман выводит, что наши
понятия о красоте, как и древнегреческие, основанные на самых
правильных формах, «должны быть вернее понятий тех
народов, которые... являются лишь наполовину искаженными
подобиями своего творца». Поэтому разнобой и разноголосица
представлений о красоте не противоречат, по Винкельману,
существованию некоей общей нормы прекрасного. «Что касается
общих форм красоты,— заключает Винкельман,— то
большинство цивилизованных народов Европы, как и Азии и Африки,
было в этом отношении всегда одного мнения. Поэтому понятия
о красоте не должны считаться произвольными, хотя бы мы и не
всегда могли их обосновать»3.
В итоге нормативное и общеобязательное понятие высшей
красоты, возможно, существует. Однако указать его признаки
1 И. Винкельман, История искусства древности, стр. 130.
2 Τ а м же, стр. 131.
»Там же.
71
или качества в высшей степени трудно. В то время как всякое
понятие имеет свои причины, находящиеся вне его, причины
красоты «приходится искать в ней самой — поскольку она
находится во всех созданных предметах»1. К этой трудности
присоединяется и другая: все наши знания «приобретаются
сравнением, а красота не может быть сравниваема ни с чем более
высоким»2. Тем не менее Винкельман пытается хотя бы
частично преодолеть указанную им самим трудность. Некоторые
признаки, или свойства, высшей красоты он все же указывает.
Первый из этих признаков — единство и простота. «Всякая
красота,— поясняет он,— возвышается благодаря единству и
простоте, и все, что мы делаем и говорим, становится
возвышенным благодаря красоте». Единство предмета не противоречит
ни его величию, ни красоте. И наоборот: все, что мы должны
рассматривать частями, чего нельзя обозреть сразу благодаря
количеству составных частей, теряет в величии. И в другом
месте: «Чем больше единства в соединении форм и в
перетекании одной формы в другую, тем больше красоты в целом»8.
Из единства высшей красоты Винкельман выводит другое
ее качество — ее неопределимость. В силу этой
неопределимости формы высшей красоты «не могут быть описаны ни
точками, ни линиями, которые были бы единственными,
образующими красоту».
Поэзии эта неопределимость красоты была известна не
менее, чем пластике и живописи. Поэтические произведения,
утверждает Винкельман, учили скульпторов при создании
статуй «не определять точно воспроизведенной фигуры и
оставлять зрителя в некотором сомнении относительно
изображенного». Так создается художником образ, «не присущий никакому
лицу, не выражающий никакого состояния чувства или
движения страсти: все эти посторонние черты нарушили бы единство
красоты». Именно в этом смысле Винкельман сравнивает
красоту, как было сказано, «с самой чистой водой, черпаемой из
источника: чем меньше в ней вкуса, тем она здоровее...»4.
Для тех кто воспринимает явление чистой красоты,
восприятие это может показаться чем-то легким, не требующим труда.
Дело в том, что, по Винкельману, отсутствие страдания и
наслаждение удовлетворением «приобретается в природе без
усилий, и дорога к нему наиболее пряма и может быть пройдена
без труда и страданий»5. Поэтому понятие о высшей красоте
«кажется вещью самой простой, самой легкой, не требующей
1 И. Винкельман, История искусства древности, стр. 132—133.
• Τ а м же, стр. 133.
•Там же.
4 Τ а м ж е.
• Τ а м ж е, стр. 134.
72
ни философского знания человека, ни изучения душевных
страстей и их внешнего проявления».
И все же легкость соприкосновения с высшей красотой есть,
по Винкельману, только иллюзия и самообольщение. Ссылаясь
на Эпикура, Винкельман утверждает, что в природе человека
нет ничего, что было бы чем-то средним между страданием
и наслаждением. А так как наш «корабль жизни» гонят по морю
существования наши страсти, «подобно ветрам, которые
наполняют паруса поэта и поднимают художника», то чистая красота,
по разъяснению Винкельмана, «не может быть единственным
предметом нашего изучения: нам надо придать ей положение
действия и страстей, то есть то, что в искусстве мы понимаем
под выражением»1. Поэтому в разделе «О сущности искусства»
в четвертой главе своего труда Винкельман говорит сначала
«об образовании «красоты», а затем «о выражении».
В сознании разумно мыслящего существа Винкельман
обнаруживает прирожденное, как ему кажется, стремление
«подняться над материей в сферу отвлеченных понятий»2, истинное
удовлетворение «состоит в образовании новых и утонченных
идей». Следуя этому естественному стремлению, великие мастера
греков, даже когда они работали менее для создания, чем для
чувств, «старались преодолеть жесткость материи и по
возможности придать ей жизнь». Так как, по Винкельману,
первые основатели греческой религии были поэтами, то они «дали
высокие идеи для этих образов». В свою очередь идеи эти «дали
крылья воображению, дали ему силу возвысить произведение
над ним самим и над чувственной сферой»3.
Возникший таким способом образ идеальной красоты не был
копией какого-нибудь единичного тела или существа: он
возникал как образ обобщенный, как воплощение единой красотыi
общей для целой группы существ. По словам Винкельмана,
мудрые греческие художники поступали в этом случае, «как
трудолюбивый садовник, который делает стволу дерева
прививки лучшего качества; и как пчела собирает мед из многих
цветов, так и идеи красоты не ограничивались одним
прекрасным предметом... греки стремились соединить прекрасное из
многих прекрасных тел. Они очищали свои образы от всех
личных склонностей, отвлекающих наше сознание от истинна
прекрасного»4.
Не будучи слепком единичного тела или существа, образ
идеальной красоты вообще не может быть натуралистической
копией предметов и явлений чувственного мира. Во все времена,
когда древние последовательно поднимались «от человеческой
1 И. Винкельман, История искусства древности, стр. 134.
2 Τ а м же, стр. 137.
'Там же.
4 Τ а м ж е, стр. 136.
П
красоты до божественной, лестницею для них оставалась
красота»1. Уже в своей знаменитой первой статье «Мысли по
поводу подражания греческим произведениям в скульптуре и
живописи» Винкельман разъяснял, что не только он, но и все
знатоки греческих произведений находят в них «не только
прекраснейшую натуру, но и больше, чем натуру, а именно
некую идеальную ее красоту...» (finden... nicht allein die
schönste Natur, sondern noch mehr als Natur, das ist gewisse
idealische Schönheit derselben...)2. В природе художник может
найти все, кроме искусства, и только искусство знает идеальную
красоту. «Если бы подражание природе,— говорит
Винкельман,— и могло дать художнику все, то он, во всяком случае,
не мог бы у нее позаимствовать правильность контуров; ей
можно научиться только у греков»3. Поэтому изучение природы
является «по меньшей мере более длинным и трудным путем
к познанию совершенной красоты, чем изучение античных
статуй...»4.
Правда, греки научились воспроизводить прекраснейшие
тела только потому, что они благодаря счастливому климату
Греции имели возможность «ежедневно наблюдать красоту
природы...». Однако, раз научившись этому, они быстро
превзошли свою учительницу. В конечном счете, утверждает
Винкельман, наша природа «вряд ли в состоянии будет произвести
столь совершенное тело, какое мы видим у «дивного» Антиноя
(Antinous Admirandus), и воображение не сможет создать ничего,
что превзошло бы ватиканского Аполлона с его более чем
человеческой пропорциональностью прекрасного божества...»6.
Отсюда Винкельман выводит, что «легче открыть красоту
греческих статуй, чем красоту в природе, и что, следовательно,
первая более волнует, не так разрознена, более сосредоточена
в одно целое, чем последняя»6. Созерцая произведения
греческого искусства, мы видим перед собой гений и искусство — все,
что в состоянии была произвести природа. Именно подражая
гению и искусству, художник может быстро научиться
мудрости, ибо в гении он «находит совокупность того, что рассеяно
во всей природе», а в искусстве он видит, «насколько
прекраснейшая природа смело, но в то же время мудро может превзойти
самое себя»7.
Поэтому, в глазах Винкельмана, Рубенс, которому он,
вообще говоря, не слишком симпатизирует, все же — гораздо
1 И. Винкельмап, История искусства древности, стр. 149.
2 Τ а м же, стр. 88.
8 Τ а м же, стр. 101.
4 Τ а м же, стр. 08.
5 Τ а м ж е, стр. 99.
β Τ а м же, стр. 98.
' Там же, стр. 99.
74
выше Иорданса. Ученик Рубенса, но «принадлежащий к
талантам более низкой категории», Иордане «не смог подняться до его
высоты и пойти дальше природы». Иорданса «можно считать
ближе к правде, чем Рубенса. Он передавал природу так, как
ое видел». Но не в этом, по Винкельману, признак высшего
искусства. Подобно Гомеру, подобно вообще всякому
поэтическому и всестороннему живописцу, Рубенс размещал свои
фигуры «сообразно неизвестной до него манере распределять
света, и эти света, сосредоточенные на главной массе, он
сочетал с большей силой, чем в самой природе...»1. Тем самым он
оживлял свои произведения и вкладывал в них «нечто
необычное»2. Только искусство способно даже прекраснейшую природу
возвысить над ней самой. Такова скульптурная группа Лао-
коона. В ней выражение великой души «далеко превосходит
изображение прекрасной натуры. Художник должен был
почувствовать в себе самом ту силу духа, которую запечатлел на
мраморе»3.
Таким образом, сама природа Древней Греции привела
искусство к тому, что попытка подражать ей должна была узнать
нечто, превышающее образец подражания,— идеальную
красоту. Но последняя находится и достигается только средствами
искусства.
В характеризованном отношении между искусством и
природой Винкельман видит причину, по которой произведения
греческой поэзии и скульптуры приобрели для всего искусства
последующих времен значение непреходящей и недосягаемой
нормы прекрасного. Таковы, по Винкельману, поэмы Гомера
и скульптурная группа Лаокоона, которая уже для римских
художников была тем, чем она стала для искусства
последующих времен,— совершеннейшим образцом искусства и
прекраснейшим из явленных в искусстве образов красоты. Повторяя
мысль, высказанную уже ла Брюйером в его «Характерах»,
Винкельман утверждает, что «единственный путь для нас
сделаться великим и, если можно, даже неподражаемым — это
подражание древним...» (Der einzige Weg für uns, gross, ja wenn
es möglich ist, unnachahmlich zu werden, ist die Nachahmung
der Alten... Cp. La Bruyère: «On ne saurait, en écrivant,
rencontrer le parfait et, s'il se peut, surpasser les Anciens, que par leur
imitations»).
Именно в искусстве античной Греции Винкельман нашел
тот синтез идеи и красоты, ума и вкуса, к которому, по его
убеждению, должно стремиться подлинно великое искусство. По той
же причине из всего искусства древности, рассмотренного
1 И.Винкельман, Избранные произведения и письма, стр. 152.
2 Τ а м ж е.
8 Τ а м же, стр. 108.
75
в его знаменитой «Истории искусства древности» (в нее входило
рассмотрение искусства Древнего Египта, искусства этрусков)
Винкельман ставит в центре искусство древних греков. Винкель-
ман далек еще от мысли, которую станет развивать после него
Гердер, для которого искусства всех древних народов —
равноправный предмет изучения.
Как старается доказать Винкельман, не только у древних
греков, но и во всяком подлинном искусстве главная цель —
красота. В то время как у художников новейшего времени
первое место занимает подражание природе, у греков, в эпоху
расцвета, их искусство стремится к творчеству красоты.
Искусство это либо изображало предметы, прекрасные сами по себе,
либо усиливало красоту в предметах посредственных.
IV
Тем самым ближе определяется отношение между красотой
и выражением. В современном ему искусстве барокко
Винкельман видел искусство, для которого высшей целью было
выражение. В живописи, в скульптуре, в архитектуре барокко
выражению принесена в жертву красота.
Но, по Винкельману, жертва эта — великое заблуждение
искусства. Что такое выражение? По определению Винкельмана,
это — «подражание активному или пассивному состоянию души
и тела (воспроизведение) наших страстей и движений»1.
Но в обоих этих состояниях черты лица и положение тела
изменяются; следовательно, «изменяются... и формы, составляющие
красоту»2. И чем сильнее это изменение, «тем вреднее оно для
красоты».
Впрочем, исключить вовсе выражение было бы совершенно
невозможно и даже нецелесообразно. В известном смысле
выражение даже есть необходимое и существенное условие искусства.
Необходимость выражения прямо вытекает из недопустимости
натурализма, повторяющего то, что найдено им в природе.
Выражение видоизменяет, модифицирует найденные в природе
черты модели. Насколько необходимо это видоизменение,
настолько необходимо и выражение.
В идеальных образах древнегреческих богов,
изображавшихся античными скульпторами, глаз лежит «всегда глубже,
чем обыкновенно в природе, и глазная кость кажется оттого
выпуклее»3. Такие глубоко лежащие глаза «не являются
особенностью красоты и не дают очень открытого выражения;
но здесь,— поясняет Винкельман,— искусство не могло все
1 И. Винкельман, История искусства древности, стр. 154.
* Τ а м же.
• Τ а м же, стр. 170.
76
время следовать за природой, а осталось при понятиях о
величии высокого стиля». Дело в том, что на больших фигурах,
отстоящих от зрителя дальше, чем маленькие, глаза и брови были бы
издали мало заметны: в скульптуре глазное яблоко обычно
обозначается совсем гладко. Если же оно, как это мы видим
в природе, лежит выпукло, глазная кость именно по этой
причине менее заметна. Поэтому греческие скульпторы стремились
придать верхней части лица больше света и теней. Оттого «глаз,
который иначе не имел бы значения и казался бы как бы
умершим, становился живее и выразительнее»1. Искусство, которое
здесь с полным основанием возвысилось над природой, сделало
из этого приема изображения общее правило.
Итак, выражение — необходимая для искусства степень
видоизменения натуральных черт и пропорций фигур, лиц. Всякая
реализация красоты в итоге дает выражение. Однако
необходимость выражения всецело подчиняется в высшем искусстве
требованиям красоты. Красота без выражения не имела бы
значения, но выражение без красоты было бы неприятно: только
соединение выражения с красотой дает тот вид красоты,
который захватывает и способен трогать.
Отсюда Винкельман выводит правила, которым должно в
искусстве подчиняться выражение и которые приводят
произведение искусства к наибольшему согласию с красотой. Правила
эти Винкельман выводит не из априорного начала, а из
рассмотрения произведений древнегреческой пластики. В ней для
сообщения лицу выразительности художники стремились
«придавать ему выражение спокойствия и тишины»2 (курсив мой.—
В. Α.). По утверждению Винкельмана, спокойствие —«качество
более всего свойственное красоте» и «понятие высшей красоты
не может зародиться иначе, чем в спокойном и отрешенном
от всех единичных образов размышлении». Только спокойствие
«дает человеку возможность наблюдать и познавать природу
и сущность вещей; так, дно рек или морей изучается лишь тогда,
когда последние находятся в спокойном состоянии»3.
Выражение этого спокойствия и тишины не могло иметь
места там, где фигуры изображались в действии и в движении.
А так как у греков божественные образы представлялись под
видом людей, то им «нельзя было всегда придавать характер
высшей красоты». По выражению самого Винкельмана, степень
выразительности отпускалась, так сказать, на вес и на меру,
и красота «преобладала в произведениях художников, как
клавесин выделяется среди других инструментов...»4.
1 И. Винкельман, История искусства древности, стр. 170.
2 Τ а м же, стр. 154.
8 Τ а м же.
4 Τ а м же, стр. 157.
77
Такова была выразительность в древнегреческих образах
богов. Но так же мудро, по Винкельману, греческие художники
изображали фигуры героев и чисто человеческие страсти. Они
придавали им «сдержанность мудреца, умеющего умерять...
порывы, выдающего лишь искры огня, который его пожирает...»1.
Огонь этот открывается «только тому, кто ищет в нем скрытоеf
почитает и хочет его распознать». Поэты поступали не иначе:
Гомер сравнивает речи Одиссея «с хлопьями снега, падающими
в изобилии, но мягко на землю»2
Более ярко и характерно проявляется душа в минуту
сильной страсти; новеличава и благородна она бывает «лишь в
состоянии гармонии, в состоянии покоя»3. Чем спокойнее положение
тела, тем более оно способно передать истинный характер души.
Однако при этом покое «душа должна была быть выражена
посредством черт, свойственных только ей и никакой другой
душе,— с тем, чтобы ее изобразить покойной, но вместе с тем
действенной, тихой, но не безразличной или сонливой»4.
Спокойствие лучших фигур античного искусства сочетается
с простотой изображения. В свою очередь простота ведет
за собой сдержанность, умеренность в использовании
выразительных средств. Намерением древних художников было, так же
как и их мудрецов,—«немногим выражать многое»5.
Единственным нажимом руки древний художник выразил не только боль
укушенного змеей Лаокоона, но и негодование на
незаслуженное страдание и родительское сострадание. Гомер дает более
величественную картину, когда у него при появлении Аполлона
все боги поднимаются со своих мест, чем Каллимах во всей
своей поэме, полной учености, но перегруженной средствами
выражения. В «Афинской школе» Рафаэля изображенный
художником Платон «одним движением пальца говорит все, что
нужно»6.
Добиваясь содержательной простоты и сдержанной в своих
средствах выразительности, греческие художники выбирали
не самый легкий, а, напротив, труднейший путь. «Ибо труднее
выразить многое посредством немногого, чем наоборот, и
истинный разум предпочитает произвести действие малыми
средствами, чем большими»7.
В обобщенной характеристике древнегреческого искусства
Винкельман выдвигает как центральные его черты —
благородную простоту и спокойное величие. В литературе о Винкель-
1 И. Винкельман, История искусства древности, стр. 158.
2 Τ а м же.
3 И. Винкельман, Избранные произведения и письма, стр. 10£:
4 Τ а м же.
6 Τ а м ж с, стр. 192.
•Там же, стр. 190.
7 Τ а м же.
78
мане не раз указывалось, что Винкельман не первый указал
на эту особенность античной поэзии, живописи и пластики. Так,
Шульц в работе «Klassik und Romantik» отмечает, что
«благородная простота» и «спокойное величие» были признаны
условиями всякого великого искусства уже у Ф. Дюкенуа в XVII веке—
в дидактической поэме, где условия эти называются majestas
gravis requies decora1. С другой стороны, излюбленное Винкель
малом сравнение великих произведений искусства, а также
великих душ со спокойной глубиной моря может быть найдено,
как отмечает Юсти2, в одной из максим Христины Шведской:
«Море — образ великих душ; какими бы они ни казались
взволнованными, глубина их всегда спокойна»3.
Но кому бы ни принадлежал приоритет в формулировке
этих признаков великого искусства, важно, что у Винкельмана
они становятся основной характеристикой древнегреческой
поэзии и изобразительного искусства. «Общей и главной
отличительной чертой греческих шедевров,— говорит Винкельман,—
является... благородная простота и спокойное величие как
в позе, так и в выражении. Подобно тому как морская глубина
вечно спокойна, как бы ни бушевала поверхность, так и
выражение в греческих фигурах обнаруживает, несмотря на все
страсти, великую и уравновешенную душу» (Das' allgemeine
vorzügliche Kennzeichen der griechischen Meisterstücke ist...
eine edle Einfalt und eine stille Grosse, sowohl in der Stellung
als im Ausdrucke).
Сам Винкельман подчеркивает при этом, что указанные им
черты отличают не только произведения древнегреческого
изобразительного искусства, но также и произведения поэзии.
«Благородная простота и спокойное величие греческих
статуй,— поясняет он,— являются истинной.отличительной чертой
греческих литературных произведений лучшего периода,
произведений сократовской школы»...4. Из созданий искусства нового
времени «эти же качества придают, по Винкельману,
произведениям Рафаэля то отменное величие, которого он достиг путем
подражания древним»5.
Наилучшим воплощением и образцом этих черт античного
искусства Винкельман считает фигуру Лаокоона в известной
скульптурной группе, созданной в I веке до н. э. Агесандром,
Полидором и Афинодором. На лице Лаокоона — и не только
на одном лице,— несмотря на жесточайшие страдания,
отражается великая душа. «Страдание тела и величие души распре-
1 Факт этот напоминает A. Nivelle (см.: указ. произв., стр. 133).
* См.: С. J u s t i, Winckelmann, I, S. 275.
3 См.: И. Винкельман, Избранные произведения и письма,
стр. 107.
4 Τ а м же, стр. НО.
1 Τ а м ж е, стр. 110—111.
7»
делены во всем строении фигуры с одинаковой силой и как бы
уравновешены»1. Лаокооп страдает, но страдания его подобны
страданиям софокловского Филоктета: его горе трогает нас
до глубины души, но нам хотелось бы в то же время «быть
в состоянии переносить страдания так же, как этот великий
муж»2.
В развитой Винкельманом характеристике
древнегреческого искусства поражает глубокая продуманность и
соответствие всех ее элементов. Цельный образ античного
искусства Винкельман вынес из своего понимания исторического
мира, породившего это искусство. Черты «благородной
простоты» и «спокойного величия» неотделимы в сознании Винкель-
мана от расцвета политической свободы, от республиканского
строя, господствовавшего в Афинах. Предпосылкой и условием
этого прекрасного искусства с его бессмертными образами богов
и героев Винкельман считал жизнь народа. В этой жизни, как
и в искусстве, которое она творила, личность естественно
подчинена целому. Она — разумная часть этого целого. Поэтому
прекрасным может быть только лицо, в котором воплощен некий
общий тип физической и душевной красоты3.
Отсюда обобщенность, крайняя абстрактность винкельма-
новской эстетики прекрасного. В действительности, которая
окружала Винкельмана в Германии, он не мог найти ничего
сколько-нибудь конкретного, близкого к постулируемым им
началам свободы, намекающего на ее грядущие реальные формы.
Собственную тоску по свободе, искание свободы Винкельман
сублимировал, перенес в мир греческой скульптуры и живописи,
фиксировал в ее сдержанных и обобщенных образах. Это была
идеализация греческого искусства, но идеализация,
родившаяся из запросов действительной современной жизни,
отражавшая ее безмерную отдаленность и даже противоположность
идеалу, взлелеянному изучением и размышлениями,
археологической и исторической эрудицией.
Но и в таком идеализированном изображении античный мир,
воссозданный Винкельманом, произвел огромное впечатление
на современников. Неотделимость черт античных образов
искусства от условий общественной и политической свободы,
взлелеявшей это искусство, наводила на мысли, которые в
обстановке Германии имели освобождающее действие. В начале
второй половины XVIII века передовая немецкая молодежь
зачитывалась искусствоведческими работами Винкельмана. По
пх «спокойному» камертону она настраивала собственное свобо-
1 И. Винкельмап, Избранные произведения и письма, стр. 108.
2 Τ а м же, стр. 109.
* См. об этом прекрасные замечания в работе: М. А. Л и φ ш и ц,
Иоганн Иоахим Винкельман и три эпохи буржуазного мировоззрения.—
В кн.: И. Винкельман, История искусства древности, Изогиз, М. ,1934.
80
домыслив и оппозиционность. Лучше всех ее отношение к Вин-
кельману выразил Гёте в знаменитых «Набросках к
характеристике Винкельмана». Конкретность эстетического
созерцания Винкельмана, направленного на греческие статуи, монеты,
резные камни, Гёте принимает за такую же конкретность
видения исторического греческого мира. Под впечатлением чтения
Винкельмана Гёте пишет о Древней Греции: «Одинаковым
образом жили поэт в своем воображении, историк в
политическом мире, исследователь в мире природы. Все они крепко
держались ближайшего, истинного, действительного, и даже
образы их фантазии обладают плотью и кровью. Человек и
человеческое ценилось выше всего, и все его внутренние и внешние
отношения к миру изображались с таким же проникновением,
как и созерцались. Чувства, созерцание не были еще
раздроблены, не произошло еще это едва ли исцелимое разделение
здоровой человеческой силы»1.
То, о чем Гёте говорит с полной ясностью самосознания,
испытывали в Германии и многие другие. Десятилетия,
непосредственно предшествующие французской буржуазной
революции, были десятилетиями наибольшего влияния идей
Винкельмана на эстетическое сознание в Германии, а затем и за ее
пределами. В лице Винкельмана впервые в европейской мысли
возникла серьезная эстетическая критика искусства барокко
и рококо. Это было не только восстание против эстетических
принципов барокко, но вместе с тем и критика придворно-
аристократического искусства современной Винкельману
Германии и Европы. Винкельман порицал в этом искусстве его
цель — точное подражание природе, буквальное
воспроизведение или повторение ее черт. Способность художников
к изображению направлена на отдельные предметы. Так, по
Винкельману, поступают Бернини, Караваджо, Иордане, вся
голландская школа в целом.
В каком-то, ограниченном, смысле все они правы. Природа
остается отрицательным условием искусства, и искажение
природы несовместимо с красотой. Однако искусство всегда выше
природы: оно не копирует ее, оно нечто прибавляет к ней; не
воспроизводит, а исправляет ее, не повторяет, а толкует ее;
словом, искусство идеализирует природу.
Художники барокко не знали и не признавали этой истины.
Так, Иордане не мог «пойти дальше природы»2. «Он ближе
держался этой последней, и если таким путем достигается больше
правдивости, то Иорданса можно считать ближе к правде, чем
Рубенса. Он передавал природу так, как ее видел». Напротив,
Рубенс творил «по неисчерпаемой плодовитости своего гения,
1 И. Винкельман, Избранные произведения и письма, стр. 603.
2 Там же, стр. 152.
6 В. Асмус
81
подобно Гомеру... Он стремился к чудесному, особенно в области
композиции и света и тени»1.
Идеальная красота, о которой говорит Винкельман, не может
быть найдена непосредственно в природе; не есть она и
платоновская сверхчувственная «идея»: человеческий ум постигает
и вырабатывает ее путем наблюдения. Эта возможность частых
наблюдений человеческого тела «побудила греческих
художников к тому, что они в дальнейшем начали составлять
определенные общие понятия о красоте как отдельных частей, так
и общих пропорций тел, которые должны были стать выше
природы. Прообразом сделалась для них творимая только разумом
(самих художников.— В. А.) духовная природа»2.
"Только там, где нельзя было без ущерба для портретного
сходства применить так называемый «греческий профиль»,
они «строго придерживались оригинала». Но там, где к этому
их не вынуждала особенность модели, «обычай... передавать
сходство людей и в то же время их прикрашивать» был всегда
наивысшим законом, которому подчинялись греческие
художники, и это заставляет предполагать, что у мастера
существовало стремление к более прекрасной и совершенной
природе»3.
Идеальная красота, воплощенная в фигурах греческой
пластики, полных благородной простоты и спокойного величия,
казалась образцовой не только Винкельману — уроженцу
феодальной Пруссии, беженцу, нашедшему приют в мире
художественных памятников Рима. К Винкельману обращалось
передовое искусство революционной Франции. Принципу
«спокойного величия» подчинил свои фигуры Давид — знаменитый
живописец французской революции, а впоследствии живописец
Наполеона. Однако, следуя Винкельману, Давид, гражданин
революционной Франции, превосходит немецкого теоретика:
вместо образов древнегреческой грации с полотен Давида на
зрителя глядят образы, воплощающие революционный героизм
и любовь к отечеству. Именно революция оказалась, по меткому
выражению М. А. Лифшица, проявлением сильного и слабого
в идеях Винкельмана: она «вскрывала могущественную силу
распространения, таившуюся в идеях скромного археолога
Винкельмана»4. Но вместе с тем она обнаружила и все их
слабости: представление о средней типической красоте, способной
подчинить себе все разнообразие жизненных положений, идеал
формальной гармонии, абстрактную «противоположность
красоты и безобразия». Неисторический и отвлеченный характер
винкельмановской эстетики «идеала» «был отражением абстрак-
1 И. В и н к е л ь м а н, Избранные произведения и письма, стр. 152.
2 Τ а м же, стр. 94.
8 Τ а м же, стр. 95.
4 Τ а м же, стр. XX.
82
тности буржуазно-демократических принципов революционного
движения XVIII века, с которым неразрывно связана судьба
классицизма»1.
Для отсталой Германии эстетика Винкельмана была
идейной силой, пробудившей эстетическое сознание. Теоретические
идеи Винкельмана, сформулированные как обобщение
наблюдений над античной скульптурой и живописью, вскоре
оказались примененными ко всей области искусства и эстетики.
Сначала Гаман стал доказывать применимость идей
Винкельмана к искусству поэзии. Фридрих Шлегель перенес в 1798 году
его исторические воззрения и методы в историю литературы.
Винкельман непосредственно подготовил теоретическую
почву для эстетических исследований Лессинга. Здесь нет места
для рассмотрения этого вопроса, так как место такого
рассмотрения — в следующей главе, посвященной Лессингу. Отметим
лишь предварительно, что теоретическая рознь между Лессин-
гом и Винкельманом была преувеличена и что причиной этого
преувеличения были критические замечания, сделанные Лес-
сингом по существу первой работы Винкельмана — «Мысли
по поводу подражания греческим произведениям в живописи
и скульптуре». Излагая свои соображения, Лессинг еще не мог
знать «Истории искусства древности». Сопоставление обеих
работ Винкельмана с работами Лессинга доказывает, несмотря
на все различия, некую общность теоретических взглядов. Как
и Винкельман, Лессинг распределяет отдельные
изобразительные искусства, подчиняя их красоте. Он исключает из
искусства изображение безобразного, неистового, яростного. Отводя
скульптуре и живописи задачу изображения, он оставляет
художественной литературе область выражения2.
Для историков искусства и, в частности, историков
литературы большой интерес представляет отношение Винкельмана
к Гердеру. Винкельман предваряет ряд идей гердеровского
историзма. Мысль Винкельмана о значении для истории искусства
«климата» и социально-политических условий станет для Гер-
дера одной из руководящих идей его «философии истории».
Не меньшее влияние имело и значение, которое Винкельман
приписал историческому развитию стилей и жанров.
Нивелль утверждал, что идеи Винкельмана «прокладывают
путь позитивистской критике, признающей причинность
внешних условий искусства»3. Но у эстетического позитивизма,
начиная с Ипполита Тэна, были другие (помимо Винкельмана
найденные) теоретические источники.
1 И. Винкельман, Избранные произведениям письма, стр. XXI.
2 Нельзя не согласиться с Юсти, который в указанной выше работе
(т. 2, стр. 238) утверждает, будто Лессинг хотел видеть в искусстве не
истину, не действие, не выражение, но только красоту (В. Α.).
3 См.: A. Nivelle, указ. произв., стр. 116.
6* 83
Чрезвычайно важной оказалась общая у Гердера с Винкель-
маном мысль, по которой хронологическая последовательность
художественных произведений не есть дело случая, но
обусловлена необходимостью1. Это — необходимость связей и
отношений, корни которых уходят в развитие органического типа.
И все же отношение Гердера к Винкельману —
двойственное. Гердер правильно усмотрел во взглядах Винкельмана
противоречие или несоответствие между основным, чрезвычайно
плодотворным историческим воззрением и привилегированным
значением, какое Винкельман приписывает грекам. У
Винкельмана греческое искусство не имеет ни исторических корней в
предшествующем ему, ни исторических связей с современным
ему искусством народов Востока и Европы: оно самодовлеет.
Но, подобно тому как александрийская эпоха необходимо
возникла из предшествовавших ей исторических периодов, так
и искусство Древней Греции должно было иметь свои
исторические корни в искусстве Древнего Востока и Древнего Египта.
С этим связан и другой недостаток в исторических взглядах
Винкельмана. Когда Винкельман начинает судить об искусстве
этрусков, об искусстве Древнего Египта и Востока, он не
считает необходимым применить к ним тот же исторический метод
объяснения, который сам установили сформулировал.
Винкельман не исследует исторических условий, определивших
появление этих искусств. Он просто рассматривает и оценивает их
глазами своих излюбленных греков. Не удивительно, что,
вскрывая эти непоследовательности, Гердер упрекает Винкельмана
в недостатке и даже в отсутствии у него исторического чувства2.
Ограниченность исторического мировоззрения Винкельмана
выяснилась значительно позже. Современники его не замечали
и покорились влиянию той стороны его идей, которая отвечала
освободительным тенденциям эпохи. Винкельман внес
огромный вклад в представление об античном осознании жизни и
искусства, над выработкой и развитием которого трудились
впоследствии Гёте, Шиллер и Гегель. Винкельман — первый по
времени из классических немецких мыслителей, для которых
античная Греция стала светоносным живым изваянием,
прекрасным миром свободы, породившим искусство зримых
пластических образов.
1 См. об этом в кн.: О. W а 1 ζ е 1, Gehalt und Gestalt, S. If.
2 См.: Herder, Denkmal Iohann Winckelmanns (Werke, B. VIII,
S. 472).
Глава третья
ЭСТЕТИКА ЛЕССИНГА
I
Младшим современником Винкельмана был Лессинг — самый
выдающийся из немецких теоретиков, предшественников
немецкого классического идеализма.
В отличие от Винкельмана, который был историком и у
которого эстетические понятия сложились как результат
теоретического осознания фактов истории античной скульптуры,
у Лессинга его эстетика оказалась отчасти теоретическим
предварением, отчасти обобщением фактов развития
художественной литературы, главным образом драматической. «Лаокоон» —
сочинение, в котором Лессинг исследует границы
изобразительных возможностей поэзии и живописи,— написан главным
образом как трактат о поэзии, и параллель с «живописью»
развивается в нем не столько в интересах исследования эстетического
своеобразия изобразительных искусств, сколько для выявления
особенностей поэзии.
Эта связь эстетики Лессинга с практикой развития
литературы стала особенно тесной в силу того, что Лессинг сам был
писателем: поэтом и драматургом. Его художественные работы
в области драмы были не случайными побочными продуктами
его писательской деятельности. В истории немецкой
драматической поэзии до Шиллера Лессинг — самый выдающийся
художник немецкой драмы, и ранние, овеянные
революционным духом трагедии Шиллера написаны несомненно под его
влиянием.
Влияние это не есть случайный и непредвиденный результат
деятельности Лессинга. Теория никогда не была для Лессинга
самодовлеющей областью размышлений, оторванной от жизни
и от отражений этой жизни в практике искусства. Лессинг хотел,
чтобы выработанные им теоретические понятия об искусстве
не только разъясняли явления искусства, но и оказывали влия-
85
ние на ход его развития. Эстетика Лессинга — действенная
теория искусства.
Формой такой эстетики, естественно, должна была стать
художественная критика, эстетическая и критическая полемика,
идейная борьба. Борьбу теоретических понятий определяла
у Лессинга борьба, которую он вел в общественной жизни в
условиях современной ему Германии. Лессинг — крупнейшая
умственная и нравственная сила в процессе начинавшегося во
второй половине XVIII века и протекавшего с большими
задержками и трудностями формирования классового сознания
немецкой буржуазии.
Этот процесс менее всего мог развиваться в
непосредственной области общественно-политической деятельности. Большую
часть своей сознательной жизни Лессинг провел в Пруссии,
деспотической монархии, опиравшейся на отсталое прусское
дворянство, на военщину и на угодливое чиновничество.
Буржуазный класс был здесь подавлен не только
неблагоприятными общенемецкими экономическими и политическими
условиями, но и условиями специфически-прусскими.
В этих условиях важным фактором возникновения
классового и национального самосознания немецкой буржуазии стало
развитие немецкой литературы и — прежде всего —
художественной критики, способной влиять на литературный процесс,
указывать пути развития литературы, отвечавшие жизненным
запросам и потребностям немецкого общества. Экономическая
чересполосица, феодальное раздробление, политическая
слабость и узкое своекорыстие имперской, почти номинальной,
власти, запутанность внешних отношений многочисленных
отдельных немецких государств привели к тому, что
художественная литература на немецком языке стала одним из
важнейших условий возникновения представления о национальном
единстве немецкого народа.
На это выдающееся значение немецкой литературы для
исторического развития немецкого общества XVIII века обратил
внимание в своей монографии о Лессинге Н. Г. Чернышевский.
Он указал, что в наиболее передовых странах Западной
Европы XVII—XVIII веков определяющее значение в их
развитии получили политические и экономические вопросы,
литература же была «не основною пружиною, не главною двига-
тельницею их жизни»1. В Германии второй половины XVIII
и начала XIX века, напротив, «участие всех остальных
общественных сил и событий в национальном развитии должно назвать
незначительным сравнительно с влиянием литературы»2. По
1 Н. Г. Чернышевский, Лессинг (Эстетика и поэзия), Спб.,
изд. М. II. Чернышевского, 1893, стр. 240.
2 Там же, стр. 241.
86
словам H. Г. Чернышевского, немецкая литература застала
немецкий народ «ничтожным, презренным от всех и презирающим
себя, не имеющим даже никакого сознания о своем
существовании, грубым до средневекового варварства в одних слоях,
развращенным до нравов времен Регентства в других слоях,
ничего не желающим, ничего не надеющимся, безжизненным».
И именно немецкая литература дала немецкому обществу
«сознание о национальном единстве, пробудила в нем чувство
законности и честности, вложила в него энергические стремления,
благородную уверенность в своих силах»1.
Особенно театр был предназначен стать источником и
проводником влияния передовых идей на немецкое общество. По
верному замечанию Меринга, «на подмостках, отражающих весь
мир, буржуазный мир мог выявить себя хотя бы с некоторым
приближением к видимой правде; он мог здесь всенародно
разбирать вопросы, волновавшие его душу; для буржуазных классов
сцена была одновременно и амвоном и кафедрой»2.
Однако это историческое значение немецкой литературы
не далось ей в руки само собой; оно было завоевано, оно должно
было быть завоевано в трудном и долгом процессе борьбы,
который знал не одни только победы, но и трудности и поражения.
Лессинг был живым центром и вождем в этой борьбе. Его
победы были велики, его поражения минимальны. Влияние его на
современников и на ближайшее к нему поколение было огромно
и плодотворно. Гёте, Шиллер и Гердер испытали на себе его
силу, то покоряясь ей и идя по проложенному им пути, то
сопротивляясь и нащупывая собственные пути. И в том и в другом
случае их отношение к нему было взволнованным, горячим,
чуждым бесстрастной созерцательности и бескрылой
объективности.
И то значение, которое в современной Лессингу Германии
принадлежало художественной литературе, и энергичное,
полное страсти и убеждения участие, какое сам Лессинг принял
в происходившей вокруг него литературной идейной борьбе,
породили в его эстетической теории ряд особенностей,
затрудняющих ее изучение. Трудности эти обусловлены
противоречиями самой деятельности Лессинга.
Литература могла стать органом самосознания передовой
мыслящей части немецкого общества только в лице тех
писателей, которые в каждом явлении литературы и в каждом
собственном выступлении в ней видели ответ на живые вопросы,
выдвигавшиеся современной действительностью. Таков был
Лессинг. Во всем, что он писал, он руководился соображением
1 Φ. M е ρ и н г, Литературно-критические статьи, т. I, М.— Л.,
Госиздат, 1934, стр. 242.
2 Τ а м ж е, стр. 317—318.
87
о значении, какое написанное им может и должно получить для
немецкого общества и для немецкого народа. «Эстетика Лессин-
га,— как правильно говорит Меринг,— подобно его драмам,
его философии и его теологии, целиком определяется социально-
политическим моментом его жизненной борьбы; у Эзопа и Федра
он подглядел только то, что можно было превратить в острое
оружие против пороков и глупостей его эпохи»1.
Могло бы показаться, что такое отношение к своему
призванию мало благоприятствует развитию систематического
и всесторонне обдуманного эстетического мировоззрения.
Литературная деятельность писателя с таким чувством гражданской
ответственности и с такой социально-политической
отзывчивостью, казалось бы, должна была помешать тому, чтобы
отклики писателя на явления текущей литературной и
общественной жизни могли сложиться в стройное изложение
разработанной им эстетической теории.
При изучении Лессинга первое впечатление соответствует
этому предположению. Лессинг не оставил нам
систематического изложения своих эстетических взглядов. «Лаокоон»,
сочинение, наиболее приближающееся к такому изложению, остался,
в сущности, незаконченным фрагментом эстетической теории.
Только отдельные стороны и элементы эстетического
мировоззрения Лессинга запечатлены в его критических статьях— в
«Литературных письмах» («Literaturbriefe»), в «Гамбургской
драматургии» («Hamburgische Dramaturgie»). И дело не только в том,
что принципиальные точки зрения излагаются Лессингом всегда
по поводу тех или иных явлений современного ему искусства
поэзии и драмы. И в «Литературных письмах» и в
«Гамбургской драматургии», не говоря уже о «Лаокооне», нетрудно
вскрыть и понять стержневые линии, в которые складываются
мысли Лессинга.
Во всех отдельных рецензиях, критических статьях,
полемических работах руководящие тенденции Лессинга
выступают с удивительной силой, ясностью и выпуклостью. И хотя
ясность господствующей мысли еще не означает ее
систематической полноты и всесторонности, все же во всем, что писал
Лессинг по вопросам теории искусства и эстетики, он исходил
из глубоко продуманного эстетического мировоззрения.
Теоретическая мысль Лессинга связана, непрерывна и
последовательна. В качествах этих Лессингу отказывали только те филистеры
и тупицы, для которых журналистский — боевой и пылкий —
темперамент Лессинга представлялся несовместимым с духом
систематического теоретического исследования. Даже в самых
резких и озорных выпадах против своих идейных и
теоретических противников Лессинг не вступает нигде в противоречие
1 См.: Ф. Меринг, указ. произв., стр. 371.
88
с серьезно продуманными теоретическими основами своей
эстетики.
Но эта связь между критическими анализами,
характеристиками, выпадами Лессинга и его эстетическим
мировоззрением не всегда прямо бросается в глаза. Чтобы усмотреть в
вскрыть эту связь, требуется особый анализ и особая установка
исследования.
II
В «Лаокооне» Лессинг сопоставляет предмет изображенияг
а также изобразительные средства поэзии и «живописи», то есть
скульптуры и живописи в собственном смысле слова.
Сопоставление это и его результаты насквозь полемичны. Они
направлены против того понимания отношений между цоэзией и
изобразительными искусствами, которое развивали в Англии, во
Франции и в Германии теоретики искусства придворного
классицизма.
Материалом для обсуждения вопроса были и для
теоретиков классицизма и для Лессинга факты античного искусства
и теоретические понятия античной эстетики. Так повелось уже
начиная с эпохи Возрождения. С тех пор как нарождающееся
искусство раннего капитализма нашло в произведениях
античной скульптуры, эпоса и драмы опору и оправдание для своих
собственных художественных задач, суждения античных
писателей и философов об искусстве стали рассматриваться как
непреложно истинные и образцовые — не в меньшей мере, чем
поэмы, трагедии, комедии и скульптурные изваяния античных
художников. Объяснения сущности искусства и его видов
искали у Аристотеля, Горация, Квинтилиана и других древних.
Речь шла лишь о правильной интерпретации их суждений
об искусстве.
Однако в эту «интерпретацию» классицисты XVII—XVIII
веков и их антагонист Лессинг вносили всю страстность борьбы,
предметом которой было уже не античное, а современное им
европейское искусство. «Интерпретируя» Аристотеля, Симони-
да, Горация, они выясняли — себе и другим — свои
собственные, современные и даже злободневные задачи и цели. Говоря
-о Гомере, они имеют в виду современную им поэзию,
рассматривая Софокла и Аристофана — новую и современную им
трагедию и комедию: искусство Шекспира, Корнеля, Мольера,
Дидро и Вольтера.
Для Лессинга вопрос о «границах» между «поэзией» и
«живописью» есть не академическая тема эстетического трактата.
Это — живой и даже жгучий вопрос о судьбе современной Лес-
сингу немецкой художественной литературы. Это — вопрос
о расширении художественных средств, с помощью которых
8£
поэзия и драма действуют на чувство и мысль современников.
Это — вопрос о преодолении всех черт, которые делали
придворное искусство классицизма бездейственным,
описательным в изображении, узким и бедным по диапазону чувств и
страстей, движущих поведением, условным и искусственным в
выражении чувств и мыслей, ограниченным в выборе ситуаций
и конфликтов.
Однако эта практическая актуальность обсуждаемой темы
введена у Лессинга в рамки принципиального теоретического
вопроса, а самый вопрос рассматривается у него в свете фактов
и теорий античного искусства.
Античные теоретики полагали, что поэзия и
изобразительное искусство в существе своем — едины. Но античные
художники в самом художественном творчестве все же различали
приемы изображения и выражения, между которыми не видели
различий теоретики античного искусства.
Одной из знаменитейших формул, в которых античность
выразила свое понимание отношения поэзии к изобразительным
искусствам, была формула Горация: «ut pictura poesis» («подобна
живописи поэзия»). В чем состоит, по мысли Горация, их
подобие? Говоря о нем, Гораций вряд ли имел в виду нечто большее,
чем простую мысль о том, что поэзия и изобразительное
искусство сходны в том действии, которое они оказывают на
воспринимающего. С другой стороны, он хотел отметить, что и внутри
каждого из этих разрядов искусства имеются виды,
произведения которых оказывают различное действие. О сходном
действии обоих видов искусства говорил и поэт Симонид,
сближающий область поэзии с областью живописи.
Точки зрения Горация и Симонида долгое время
главенствовали, несмотря на существовавшие в античности попытки
оттенить и различие между изобразительным искусством и поэзией.
Так, Аристотель различал искусства и по предмету
изображения и по способам его воспроизведения. Софокл, согласно
известному рассказу о нем, считал приемлемыми и допустимыми
в поэзии образы, запретные для живописи. Плутарх отмечал
различия между искусствами по способу выражения.
В целом все же господствовал взгляд, представленный
афоризмом Горация и сходным изречением Симонида. Их взгляды
были усвоены теоретиками раннего феодального общества.
В одной из «Риторик» этого времени ученые Алкуин (VIII в.)
и Рабан Мавр (IX в.) могли найти формулировку Симонида:
«поэзия — говорящая живопись, живопись — безмолвная поэ-
-зия» («poema loquens pictura, pictura taciturn poema»).
Первые попытки выяснить более точно различия между
поэзией и живописью восходят к Диону Златоусту (I в. н. э.). Дион
сделал важное указание, что художник не может изображать
свои фигуры, иначе как в один-единственный момент, его изо-
$0
бражение — неподвижно и как бы застывает во времени.
Напротив, слова, которыми пользуется поэзия,— знаки всех
вещей, как видимых, так и невидимых. Поэтому область поэзии —
много шире, чем область живописи1.
В эпоху раннего феодального общества католицизм
навязывает изобразительному искусству дидактические задачи.
Внушается мысль, что фигуры и предметы должны иметь
аллегорическое значение, выражать религиозные идеи, иллюстрировать
положения морали.
Смысл формулы Горация — ut pictura poesis —
обращается: ut poesis pictura, живопись уподобляется поэзии, поэзия же
рассматривается как средство дидактического наставления.
Алкуин предлагает к каждой статуе прибивать надпись, из
которой было бы видно, что эта статуя должна обозначать.
Превыше всех сферой изобразительных искусств ставится поэзия.
Такова ее оценка у Алкуина и у Рабана Мавра. Своеобразная
значимость пластической красоты найдет признание только в
романском искусстве, а еще больше— в искусстве готики.
Среди всех этих оценок выделяются проницательностью
взгляда суждения Алена де Лилля, по которому сходная
задача поэзии и живописи состоит в том, чтобы изображенное в них
производило впечатление реальности и жизни2.
Эпоха Возрождения привлекла всеобщее внимание к
произведениям античной и современной скульптуры. Теоретическая
литература XV века обсуждает почти исключительно
творения этого искусства. Перелом наступил после 1500 года, когда,
после открытия «Поэтики» Аристотеля, усиливается интерес
к вопросам теории поэзии.
В теоретической литературе Возрождения господствуют
формулы Горация и Симонида. Они понимаются в том смысле, что
законы вымысла одни и те же в искусстве поэзии и в искусстве
живописи; так же аналогично и доставляемое ими
удовольствие; различие между ними — не в темах, а в способах
выражения; принципиально любой предмет может быть объектом
изображения как живописи, так и поэзии.
Однако в рассматриваемый период суждения теоретиков
по вопросу об отношении изобразительных искусств к поэзии
еще фрагментарны и лишены систематической обоснованности.
Практическое влияние их незначительно.
Проблема отношения поэзии к живописи выдвигается на
передний план в теоретической литературе в конце XVII и
в XVIII веке. Она привлекает к себе внимание в новых
национальных литературах — английской, итальянской,
французской, а вслед за ними и в немецкой. В обсуждение проблемы
1 См.: De Bruine, L'esthétique du moyen âge, p. 55; В 1 ü m-
n e r, Laokoon, S. 91; G г u с k e r, Lessing, S. 207. Bemerkung.
2 См.: De Bruine, L'esthétique du moyen âge, p. 255.
91
вступают из английских авторов — Шефтсбери, Спенс, Аддисон,
Ричардсон, Гаррис, Уэбб; из итальянских — Алгаротти, Квад-
рио; из французских — де Пиль, дю Френуа, де Марси, Дюбог
Вателе, Дидро; из немецких — Брейтингер и Бодмер.
Для всей этой литературы в целом характерна
по-прежнему мысль, отождествляющая поэзию с живописью;
специфические черты различия между ними не выдвигаются и не
подчеркиваются. Показательна в этом отношении позиция Батте.
Первое предвосхищение будущих исследований Лессинга
намечается у Шефтсбери («Суд Геркулеса»). И Шефтсбери видит сходство
между поэзией и изобразительным искусством. Для поэзии и для
живописи необходимы, во-первых, «правдоподобие», во-вторых,
«единство действия». Но оба искусства имеют и специфические
отличия. Так, в живописи изображение необходимо приурочена
к одному-единственному моменту. Собственно, мысль эта не была
открытием Шефтсбери, и с нею мы можем встретиться у ряда
предшествующих ему эстетиков. Но у Шефтсбери с этой мыслью
соединяется действительно новая и оригинальная идея.
Шефтсбери полагает, что присущую ей ограниченность и связанность
только одним моментом изображаемой ситуации живопись
может в значительной мере преодолеть. Она способна к этому,
так как она выбирает особый «критический момент» («critical
moment»). Момент этот заключает в себе указание на
непосредственно предшествующую ему ситуацию и на ситуацию,
непосредственно за ним следующую. При этом — что особенно
важно — Шефтсбери подчеркнул, что «критический момент» должен
быть выбран живописцем разумно, то есть с учетом всех
изобразительных возможностей, которые ему предоставляет этот
выбор.
Наконец, для Шефтсбери характерно отрицательное
отношение к аллегории в искусстве.
Вслед за Шефтсбери вопрос о своеобразии изобразительных
искусств и поэзии ставит Ричардсон. В «Теории живописи»
(1715) он, так же как и Шефтсбери, указывает, что в скульптуре
изображение всегда относится к одному-единственному моменту.
Из этой характеристики скульптуры он выводит необходимость
наиболее целесообразного выбора, взятого для изображения
момента. Сравнивая живопись с поэзией, он находит, что язык
живописи — более всеобщий, чем язык поэзии. Кроме того,
живопись вводит свои идеи в сознание зрителя сразу;
напротив, поэзия вынуждена внедрять их последовательно — капля
за каплей.
Дюбо, автор «Размышлений» («Réflexions»), исследует не
только вопрос о сравнительной ценности изображений в поэзии
и в живописи. Он также задается вопросом о способности поэзии
решать задачи живописи, и наоборот. По его мнению, сходному
со взглядами Ричардсона, поэзия — как искусство, кадры кото-
92
рого следуют друг за другом по времени,— стеснена в
изображении страстей. Поэтому произведения живописи действуют на
зрителя сильнее, чем поэзия на читателей, а самые «знаки»
живописи — в сравнении с искусственными «знаками» поэзии —
■более естественны. Преимущество же поэзии — в том, что
как искусство, способное выражать больше чувств, чем
живопись, поэзия простирает свою власть на область «невидимых»
вещей, на внутреннюю жизнь человека.
Успешно решая свои особые задачи, искусство живописи
и искусство поэзии терпят неудачу, когда пытаются каждая
взяться за задачи другой. Так, описательная поэзия, вообще,
по Дюбо, правомерная, все же часто порождает скуку. С другой
стороны, и в живописи аллегория наносит ущерб изображаемому
в живописи действию.
Таким образом, уже в эстетической литературе до Лессинга
и в современной ему нарастали предпосылки для постановки
вопроса о предмете, об изобразительных средствах живописи
и поэзии и об их эстетическом своеобразии. Однако
господствующим и в этой литературе оставался взгляд, по которому поэзия
должна подражать живописи, решая задачи изображения при
помощи описания. Взгляд этот мы находим не только у Трубле
(«Опыты», т. IV, 1760), но даже и у Уэбба. Хотя Уэбб четко
отличает поэзию, с ее последовательностью во времени, от
скульптуры, запечатлевающей единственный момент, отношение между
обоими видами искусства Уэбб и Трубле определяют согласно
формуле Горация — «ut pictura poesis», а саму формулу толкуют
в буквальном смысле.
Около середины XVIII века пришел черед для постановки
всех этих вопросов и в Германии. Впервые их наметил — еще
весьма осторожно — Клопшток в статье «О ранге изящных
искусств и наук» («Von dem Range der schönen Künste und
Wissenschaften»). Гораздо более четко поставил проблему философ
Моисей Мендельсон в «Размышлениях об источниках и связях
изящных наук и искусств» («Betrachtungen über die Quellen und
Verbindungen der schönen Wissenschaften und Künste», 1757).
Здесь уже прямо выдвигается постулат выбора наиболее
благоприятного для изображения момента. Впоследствии тот же
постулат Гёте выразит в «Пропилеях» — как требование взять один-
единственный момент, настолько запечатлевающий, насколько
это возможно.
Но Лессинг имел предшественников не только по общей
постановке вопроса об отношении изобразительных искусств
к поэзии. Он имел предшественников также и по выбору
произведения, анализ которого должен был наиболее
убедительным образом способствовать решению поставленного вопроса.
Таким произведением для эстетической литературы XVIII века
была скульптурная группа поздней античности — «Лаокоон»,—
93
созданная Агесандром, Полидором и Афинодором. Со
скульптурным изображением Лаокоона теоретики XVIII века
сравнивали поэтическое изображение гибели Лаокоона в «Энеиде»
Виргилия.
Внимание к скульптурной группе Лаокоона привлек Вин-
кельман. Историков искусства интересовал вопрос о времени
создания группы и об ее авторах. Эстетики исследовали
примененный в ней способ изображения красоты, отношение
изображения к выражению.
Лессинг не только сформулировал саму проблему более
определенно и строго, чем все его предшественники. Он
предложил — что гораздо важнее — новое ее решение.
Чтобы оценить значение исследования Лессинга, надо иметь
правильное представление о его цели. По этому вопросу
существуют ошибочные мнения. Целью Лессинга был не столько
сравнительный анализ живописи и поэзии, сколько выяснение—
с помощью этого анализа — эстетического своеобразия
предмета и специфических средств именно поэзии. Говоря в
«Гамбургской драматургии» о музыке, Лессинг говорит о ней только
в связи с драмой, то есть драматической поэзией. И точно так жег
говоря в «Лаокооне» о «живописи», Лессинг стремится, проводя
свое сопоставление, подчеркнуть специфические особенности
поэзии. Изобразительное искусство было ему известно в гораздо
меньшей мере, чем искусство художественной литературы, и
анализ скульптуры у него еще недостаточно дифференцирован,
не отделен от анализа живописи1.
В сущности, Лессинг не ставил перед собой задачи дать
теорию изобразительных искусств. Дискуссией, которая была
начата Винкельманом по поводу Лаокоона, Лессинг
воспользовался для того, чтобы точно выразить свое понимание
художественной литературы, ее предмета, ее задач, ее
изобразительных средств, присущей ей выразительности.
Больше того, в «Лаокооне» Лессинга имеются в виду не
столько задачи литературы «вообще», сколько задачи
современной Лессингу (прежде всего — современной немецкой)
литературы. Речь шла о такой теории поэзии, которая могла бы указать
путь к преодолению мертвящих норм и канонов эстетики
придворного классицизма.
Поэтому для оценки взглядов Лессинга на задачи
современной ему немецкой литературы не могут иметь существенно™
значения некоторые неточности, пробелы и преувеличения,
1 Лессинг полагал, что законы живописи совпадают с законами
скульптуры. Он выдвигал в живописи на первый план все общее у нее со
скульптурой: для него живопись, как и скульптура,— прежде всего искусства
рисунка, ее предмет — прекрасные формы. Он низко ценил пейзажную·
живопись, так как в ней изображаются предметы, для которых не может-
быть указан их идеал.
94
допущенные Лессингом в характеристике эстетических
особенностей скульптуры и живописи. Неточности эти были не pas
указаны в специальной литературе по истории
изобразительных искусств1. Перечень их, даже самый полный и
убедительный, направил бы внимание мимо той проблемы, которая стоит
в центре исследований Лессинга и которую он исследует с такой
страстью и с таким боевым накалом.
С другой стороны, сама борьба Лессинга против
описательной поэзии была бы неверно понята, если бы мы приписали ей
значение абсолютной характеристики специфического
своеобразия поэзии. Лессинг имел слишком проницательный ум и был
слишком одаренным писателем, чтобы не заметить, что
абсолютный запрет описания в поэзии стоит в противоречии с такими
явлениями поэзии, которые, с точки зрения самого Лессингау
отнюдь не подлежат «запрещению» и «изъятию» из числа
художественно полноценных произведений литературы.
В качестве крупного писателя-художника и глубокого
теоретика Лессинг должен был хорошо понимать, что граница
между «описанием» и «повествованием» поэта о текущем во
времени действии вовсе не есть граница безусловная и
непреложная2.
«Чистого» описания не существует. Всякое «описание»
всегда есть в то же время в каком-то смысле и «повествование».
Даже в тех произведениях поэзии, которые Лессинг жестока
критикует в качестве произведений описательных, например,
в «Весне» Августа Клейста наряду с глаголами, выражающими
состояние, мы находим — уже в начале стихотворения — ряд
глаголов, выражающих действие: laufen, umkränzen, sehn3.
Но всякие недоумения и возражения невозможны, как
только мы учтем, что вся сила критики Лессинга направлена не
против описания в поэзии как такового, а против тех видов поэти-
1 Так, тезису Лессинга, по которому «живопись» изображает всегда
не кульминационный момент страсти или эмоции, а момент «плодотворный»,
оставляющий простор воображению, чреватый возможностью
дальнейшего усиления аффекта в ближайшие следующие моменты,
противопоставляли факты античного искусства: фигуру галла, убивающего себя после
убийства своей жены, или фигуру Нептуна, изображенного в момент
наивысшей ярости. Тезису Лессинга, по которому античная скульптура
будто бы стремилась, изображая страдание, смягчать его — во имя
требований красоты — противопоставляли сцены из борьбы кентавров на
Парфеноне, или группу Ниобеи и умерщвляемых ею детей в
Флорентийской галлерее, или даже ту же группу Лаокоона, на которой Лессинг
основывает свою характеристику живописи. В последнем случае — в
разрез с утверждением Лессинга — указывали, будто в этой реалистически
изображенной группе Лаокоон кричит, а не испускает лишь подавленный
стон (G г и с k е г, Lessing, S. 213).
2 См. об этом: В. Ф. Асмус, Чтение как труд и как творчество.—
«Вопросы литературы», 1961, № 2.
3 См. об этом: Armand Nivelle, указ. произв., стр. 191.
95
ческой описательности, которые культивировались и
внедрялись поэтами и поэтиками, драматургами и кропателями
трагедий придворного пошиба. В критике их «поэтики» таился тот
смысл «Лаокоона», которого, как жаловался сам Лессинг, никто
не понимал.
Цель критики Лессинга правильно понял Роберт Гайм.
В своем труде, посвященном Гер деру, он разъяснил, что когда
Лессинг говорил, будто действие есть настоящая сущность
поэзии, «то он имел в виду следующую практическую цель: он хотел
нанести смертельный удар той поэзии, которой занимались его
современники... и которая была более описательной, чем
картинной, и более картинной, чем живо и наглядно излагающей
свою мысль»1.
Поняв эту тенденцию Лессинга, мы приобретаем посылку,
необходимую, чтобы разобраться в знаменитом сочинении, где
Лессинг исследует «границы живописи и поэзии». С тех пор как
слава этого произведения укоренилась, было сделано немало
попыток трактовать его как некий отвлеченный трактат о
специфических различиях изобразительных искусств и поэзии.
Центр тяжести переносили на сравнение «гносеологических»
условий живописного и поэтического изображения.
Но Лессинг менее всего похож на гносеологического
схоласта-эстетика. Он не кладет на различные чашки весов
изобразительные способности поэзии и живописи с тем, чтобы
бесстрастно вычислить их сравнительное достоинство. Его
теоретическое внимание неотделимо от страстного взора публициста.
Он не просто сопоставляет предмет и изобразительные
возможности обоих искусств. Он защищает поэзию, которая должна
изображать подлинную жизнь, борьбу людей за достоинство
и свободу, подавленные деспотизмом и абсолютизмом их
действия, против безжизненных аллегорий и вялых и бесцветных
описаний.
Сама форма теоретического сопоставления поэзии с
живописью была навязана Лессингу теоретиками, защищавшими
в искусстве угодливость, прислужничество и лишенную мысли
развлекательность. Взгляд этот на поэзию обосновывали,
подчиняя изобразительные задачи поэзии изобразительным
задачам живописи и скульптуры. Граф Кейлюс (Caylus) считался
признанным и авторитетным представителем этой точки зрения.
По словам Лессинга, Кейлюс хотел, «чтобы пробным камнем
для поэта была возможность использования художником
поэтического произведения и чтобы степень поэтического таланта
определялась числом картин, которые поэт доставляет
живописцу»2.
1 См.: Р. Г а й м, Гердер, его жизнь и сочинения, т. Ι, Μ., 1888, стр. 280.
2 Lessings Werke, Berlin — Leipzig — Wien — Stuttgart
(год не указан), В. 4, S. 357.
96
Вооруженный знанием полигистора и филолога, Лессинг
со всей страстью убеждения выступает в «Лаокооне» против
подчинения поэзии «живописи». Его цель — указать поэзии,
поставленной на службу вкусам абсолютистских княжеских
дворов, путь к ее освобождению. Но теоретическое оправдание
подчинения поэзии задачам сервилизма проводилось под знаком
ее подчинения задачам изобразительных искусств. Не
удивительно поэтому, что и свою борьбу за освобождение
художественной литературы Лессинг проводит, основываясь на
сравнительном анализе поэзии и изобразительных искусств. Он
доказывает, что выводы их неверны, так как получены из
ошибочного, неточного анализа.
Существовавшие и господствовавшие нормы поэтики
классицизма выводились из способности поэзии «живописать»
изображаемые в ней явления. За доказательством этой
способности следовало вменение ее в обязанность поэту. Со стороны
изобразительных средств и задач поэзия приравнивалась к
«живописи». Условием этого приравнения была двусмысленность
самого понятия «живописности». «Только двусмысленность
(Zweideutigkeit) слова «живописный»,— разъяснял Лессинг,—
обманывает иных и заставляет думать, будто поэтическая
картина должна непременно давать материал для картины
художника»1.
«Лаокоон» Лессинга не только стремится устранить эту
двусмысленность. Лессинг подчеркивает предметное и
художественное своеобразие искусства поэзии. Он сознательно усиливает
в нем черты отличия, отделяющие поэзию от живописи и
обусловливающие отличие ее задач от таких же задач живописи.
Для того чтобы сделать это различие, с одной стороны,
как можно более резким, а с другой стороны, чтобы сделать
обоснование этого различия как можно более убедительным,
Лессинг стремится вывести свою характеристику поэзии из
углубленного гносеологического анализа условий изобразительности,
доступных живописи и поэзии. Тем самым публицистическая
тенденция, которой насквозь пронизан «Лаокоон»,
сублимируется, возносится в план отвлеченного философского
рассмотрения. Впрочем, эта сублимация, по существу, не ослабляет ни
актуальности поставленного в «Лаокооне» вопроса, ни
философского темперамента, с каким он обсуждается.
III
Уже критикуя воззрения Спенса, Лессинг обнажает
собственную тенденцию. Мысли Спенса о сходстве между
живописью и поэзией он аттестует как «самые странные»2 («allerselt-
1 Lessings Werke, S. 4, В. 358.
2 Τ a м же, стр. 355.
7 в. Асмус
97
samsten»). Спенс полагает, будто оба искусства «так тесно были
связаны у древних, что шли постоянно рука об руку и что поэт
никогда не терял из виду живописца так же, как и живописец
поэта. В том, что поэзия есть искусство более обширное, что ей
доступны такие красоты, каких никогда не достигнуть
живописи, что она часто может иметь основания предпочитать
неживописные красоты живописным (die unmalerischen Schönheiten den
malerischen vorzuziehen),—обо всем этом поэт, по-видимому,
совсем не думал...». Именно поэтому «малейшая разница,
замеченная им между древними художниками и поэтом,
чрезвычайно затрудняет его и заставляет прибегать к удивительнейшим
изворотам»1.
Предпосылка всех рассуждений Лессинга — мысль, что
произведение поэзии, так же как и произведение живописи,
должно производить впечатление, будто воспринимаемое им и
изображенное в произведении есть сама реальная жизнь. Постулат
эстетики Лессинга — требование реалистического характера
изображения, а сам Лессинг — один из пионеров теории
реализма в буржуазном искусстве XVIII века.
Но требование реалистичности изображения вовсе не
означает, по Лессингу, будто в реалистическом живописном и в
реалистическом поэтическом произведении может и должно
изображаться одно и то же. Реалистическое впечатление
достигается в поэзии и в живописи различными средствами, а само
различие порождается различными гносеологическими условиями
обоих искусств.
Живопись Лессинг определяет как искусство,
изображающее только тела, одновременно пребывающие или
соседствующие друг с другом в пространстве. «Пространство,— говорит
Лессинг,— область живописца» (Der Raum (ist) das Gebiet des
Malers)2. Из этой сущности живописи Лессинг выводит, что
живопись «должна совершенно отказаться от воспроизведения
времени... в ее силах воспроизведение лишь пространственных
соотношений...». Поэтому живопись... должна ограничиться
изображением только таких действий, которые происходят одно
наряду с другим, или «просто воспроизведением тел, которые
лишь своими положениями заставляют предполагать наличие
каких-либо действий»3.
Так как предметы, которые сами по себе или части которых
сосуществуют друг подле друга, называются телами, то предмет
живописи, по Лессингу, составляют «тела с их видимыми
свойствами»4.
1 Lessings Werke, В. 4, S. 355.
2 Τ а м же, стр. 341.
»Там же, стр. 360.
4 Τ а м ж е.
98
Этим гносеологическим тезисом немедленно определяется
эстетический вывод: так как средства выражения должны быть
в тесной связи с тем, что они выражают, то живопись «в своих
подражаниях действительности употребляет приемы и средства,
совершенно отличные от приемов и средств поэзии, а именно:
...тела и краски, взятые в пространстве...»1.
Но этим характеристика живописи далеко не исчерпывается.
Хотя живопись и может изображать только тела, находящиеся
рядом в пространстве, отсюда.вовсе не следует, разъясняет
Лессинг, будто уделом живописи должны оказаться только
статические бездейственные образы тел. Правда, как увидим
далее, искусством, обращенным преимущественно к
изображению действий, Лессинг объявит только поэзию. Однако в какой-
то, пусть ослабленной степени, изображение действий доступно
и живописи.
В самом деле: тела существуют не только в пространстве,
но и во времени. В каждое мгновение они могут являться в том
или ином виде и в тех или иных сочетаниях. Но каждая из этих
мгновенных форм и каждое из этих мгновенных сочетаний есть,
как указывает Лессинг, «следствие предшествующих и в свою
очередь может сделаться причиной последующих перемен, а
следовательно, и стать как бы центром действия» (das Zentrum einer
Handlung sein)2. Отсюда следует вывод, что живопись «может
изображать также и действия, но только посредственно, при
помощи тел».
И все же присущую «живописи» способность изображения
действия Лессинг сильно суживает. Он подчеркивает, что в
изобразительных искусствах «художник может брать из вечно
изменяющейся действительности только один-единственный
момент, а живописец даже и этот один момент—лишь с одной-
единственной определенной точки зрения...» (nur aus einem
einzigen Gesichtspunkte)3.
Неизбежная «мгновенность» ситуации, запечатлеваемой в
произведениях живописи, сильно ограничивает, по Лессингу,
доступный живописцу выбор единственного момента.
Живописец не располагает в этом случае свободой выбора: «...эта
единственная точка зрения на этот момент должна быть возможно
плодотворнее»4. И еще: «В произведениях живописи, где все
дается лишь одновременно, в сосуществовании, можно
изобразить только один момент действия, и надо поэтому выбирать
момент самый значимый (den prägnantesten wählen), из
которого становились бы понятными и предыдущие и последующие»5.
1Lessings Werke, В. 4, S. 360.
2 Τ а м же.
8 Τ а м ж е, стр. 304.
4 Τ а м ж е.
5 Τ а м же, стр. 361.
7* 9(t
Но что значит «наиболее плодотворный», или «наиболее
значимый момент»? — Плодотворно, согласно Лессингу,
«только то, что оставляет свободное поле воображению» (was der
Einbildungskraft freies Spiel lässt)1. Если произведение
искусства удовлетворяет этому условию, то, чем более мы
вглядываемся в него, «тем более мысль наша добавляет к видимому»,
чем сильнее работает мысль, «тем больше возбуждается наше
воображение».
Но если изображается аффект, то его высший момент «всего
менее обладает этим свойством», то есть свойством возбуждать
воображение. За таким моментом «уже не остается больше
ничего: показывать глазу эту предельную точку аффекта —
значит связывать крылья фантазии...»2.
Так как фантазия не может выйти за пределы данного
чувственного впечатления, то показать в произведении наивысшую
точку аффекта значит, по Лессингу, принуждать фантазию
довольствоваться слабейшими образами, над которыми
господствует изображение кульминационного момента.
Так как изображенный в античной скульптурной группе
Лаокоон только стонет, то воображению легко представить его
кричащим; но «если бы он кричал, фантазия не могла бы
подняться ни на одну ступень выше, ни спуститься одним шагом
ниже представленного образа без того, чтобы Лаокоон не
предстал перед ней страдающим, а следовательно, неинтересным»3.
Закрепленное в произведении изобразительного искусства
мгновение приобретает благодаря этому искусству
«неизменную длительность («eine unveränderliche Dauer») и как бы его
увековечивает». Но именно поэтому — таков вывод Лессинга —
все явления, которые по самой своей природе скоротечны и
мимолетны и которые могут быть тем, чем они есть, только одно
мгновение, «приобретают благодаря продолжению их бытия
в искусстве... противоестественный вид... с каждым новым
взглядом впечатление от них ослабляется...»4.
Из всех этих положений Лессинг выводит вовсе не то, что
изобразительным искусствам недоступно изображение самых
сильных страстей, но лишь то, что их изображение ограничено
условиями выбора момента. Это всегда — момент,
предшествующий наивысшей ступени страсти или следующий за ней,
а не совпадающий с ней.
Справедливость этих своих соображений Лессинг
подтверждает ссылками на произведения античного изобразительного
искусства. Могло бы показаться, что некоторые из них
опровергают тезис Лессинга о недопустимости для «живописи»
ι Lessings W е г к е, В. 4, S. 304.
2 Τ а м же.
8 Τ а м же.
4 Τ а м же.
100
изображения кульминационного момента страсти. Так, Тимомах
не только любил избирать в качестве сюжетов самые сильные
из страстей, но его неистовствующий Аякс и Медея, убивающая
своих детей, стали знамениты. Однако из античных описаний
Лессинг выводит, что Тимомах «отлично умел выбирать такой
момент, когда зритель не столько видит наглядно, сколько
воображает высшую силу страсти...»1.
Тимомах понимал и то, что подобный момент не должен
вызывать представления о мимолетности изображения в такой
степени, чтобы длительное закрепление этой мимолетности в
искусстве было неприятно. Так, он изобразил Медею «не в ту
минуту, когда она убивает своих детей, но за несколько минут
раньше, когда материнская любовь еще борется в ней со злобой.
Мы предвидим уже исход этой борьбы, мы уже заранее
содрогаемся при одном виде суровой Медеи, и наше воображение
далеко превосходит все, что художник мог бы изобразить в эту
страшную минуту»2.
Мы рассмотрели предложенную Лессингом эстетическую
характеристику основных черт изобразительного искусства.
Однако полностью понять ее невозможно до тех пор, пока мы
ограничиваемся только собственной областью изобразительных
искусств. Их характеристика — только введение в
характеристику эстетических особенностей поэзии. Параллель
«живопись»—«поэзия» не столько даже параллель, сколько
противопоставление. В этом противопоставлении изобразительные
возможности «живописи» несколько сужены, ограничены. Но то,
в чем Лессинг отказывает живописи, будет — с тем большей
силой — признано и утверждаемо за поэзией. За
«ограниченностью» живописи у Лессинга скрывается характеристика
плохой, отвергаемой им поэзии, против которой он борется во имя
поэзии более высокой, передающей подлинное движение и
развитие жизни, освещающей ее конфликты.
IV
В то время как предмет живописи — тела и краски, взятые
в пространстве, предмет поэзии по Лессингу —
«членораздельные звуки, воспринимаемые во времени»3, в поэзии знаки
выражения, следующие друг за другом во времени и во времени нами
воспринимаемые, могут обозначать только такие предметы или
такие части, которые и в действительности представляются нам
во временной последовательности.
Но предметы, которые следуют одни за другими или части
которых следуют друг за другом, называются действиями. Сле-
1 Lessings Werke, В. 4, s. 305.
2 Τ а м же.
3 Τ а м же, стр. 360.
101
довательно, заключает Лессинг, «действия составляют предмет
поэзии» (folglich sind Handlungen der eigentliche Gegenstand
der Poesie)1.
Это не значит, однако, будто «поэзии» недоступно
изображение тел, составляющих непосредственный предмет «живописи».
Действие невозможно без носителя, «действия не могут
происходить сами по себе, а должны быть функцией каких-либо
существ»2. Поскольку эти существа — действительные тела или
по крайней мере должны быть рассматриваемы как тела, «поэзия
должна изображать также и тела, но лишь опосредованно (nur
andeutungsweise) при помощи действий»3.
Из этой характеристики «поэзии» Лессинг сразу заключает,
что, в сравнении с предметами, изображаемыми в «живописи»,
«поэзия» располагает бесконечно более широким кругом
предметности. Художник в изобразительных искусствах вынужден
изображать только один момент развертывающегося действия;
поэт не знает этого ограничения. «Ничто... не принуждает
поэта ограничивать изображаемое на картине одним лишь
моментом. Он берет, если хочет, каждое действие в самом его
начале и доводит его, всячески видоизменяя, до конца»4,—
пишет Лессинг.
Способность изображать действие посредством целой серии
кадров, развертывающихся во времени, ставит поэзию на много
выше живописи. В одном месте «Лаокоона» Лессинг цитирует
место из «Илиады» Гомера, где изображается моровая язва,
ниспосланная Аполлоном на войско греков. «Насколько жизнь
превосходит картину,— пишет Лессинг,— настолько поэт здесь
выше живописца. Разгневанный, с луком и колчаном, сходит
Аполлон с вершины Олимпа. Я не только вижу — я слышу, как
он идет; каждый шаг сопровождается звоном стрел за плечами
гневного бога. Он выступает, похожий на ночь. Он садится
против кораблей и спускает первую стрелу (страшно звенит
серебряный лук) в мулов и собак. Потом он мечет ядовитейшие
стрелы и в самих людей, и повсюду начинают беспрерывно пылать
костры с трупами... поэт при помощи целого ряда картин
подводит нас к тому, что составляет сюжет одной определенной
картины художника»5.
Обобщая свое наблюдение, Лессинг находит, что Гомер «не
изображает ничего, кроме последовательных действий, и все
тела, все отдельные предметы он рисует лишь в меру участия
их в действии...»6.
1 Lessings Werke, В. 4, S. 360.
2 Τ а м же.
8 Τ а м же, стр. 361.
4 Τ а м же, стр. 306.
Б Там же, стр. 356.
β Τ а м ж е, стр. 361.
102
Коренной чертой поэзии — ее способностью рисовать
протекающее во времени действие — определяются важнейшие
эстетические особенности этого искусства. Так же как и искусство
живописи, поэзия не отрешена от изображения красоты.
Но эта «красота» — специфична. В поэзии она не может быть
изображением так называемой телесной красоты предметов
внешнего мира. Такая телесная красота «является результатом
согласованного сочетания разнообразных частей, которые сразу
могут быть охвачены одним взглядом»1. Она требует, чтобы эти
части располагались в пространстве одна подле другой. Но так
как воспроизведение предметов в подобном порядке составляет
истинный и исключительный предмет живописи, то именно
живопись, и только она, может подражать телесной красоте
(so kann sie, und nur sie allein, körperliche Schönheit
nachahmen)2.
Так как поэт может показывать элементы видимой телесной
красоты лишь одни за другими, то он должен, следовательно,
совершенно отказаться от изображения телесной красоты, как
красоты. Элементы этой красоты, изображенные во временной
последовательности, никак не могут произвести того
впечатления, какое они производят в «живописи», будучи даны
одновременно, один подле другого в пространстве. Если бы даже поэт
захотел последовательно перечислить все эти элементы, то
«сосредоточивающий взгляд, который мы хотели бы бросить на них
после их перечисления, не соберет этих элементов красоты в
стройный образ»3. Задача представить себе их соединенными
вместе «превосходит силы человеческого воображения» (über
die menschliche Einbildung gehet)4.
Отсюда следует совершенная недопустимость для «поэзии»
описания, то есть «постатейного» перечисления черт видимой,
доступной лишь для «живописи», телесной красоты.
«Перечислять читателю одну за другой различные детали или вещи,
которые в природе необходимо увидеть разом, для того чтобы
создать себе образ целого; думать, будто таким путем можно
дать читателю полный и живой образ описываемой вещи,—
значит для поэта вторгаться в область живописца»5.
Как всегда у Лессинга, теоретически обоснованная им
характеристика поэзии дает в применении ряд выводов, имеющих
нормативное значение для творчества. Обычно выводы эти
иллюстрируются образцами, взятыми из мировой литературы,
прежде всего — из Гомера, Софокла и Шекспира.
1 Lessings Werke, В. 4, S. 381.
2 Τ а м ж е.
3 Τ а м же.
4 Там же.
8Там же, стр. 371.
103
В поэзии восприятие не может задержаться, оно течет,
переходит от кадра к кадру. Воспроизводя видимую телесную
картину, поэт не может превысить максимальную нагрузку,
возможную для поэтического восприятия: но может изобразить
в каждом предмете только какую-либо одну черту его видимой
красоты. Именно такова функция эпитета у Гомера. «Для
характеристики каждой вещи... Гомер употребляет лишь одну
черту (hat... gemeinüblich nur einen Zug)1. Корабль для
Гомера — «или черный корабль, или пустой корабль, или быстрый
корабль, или — самое большее — хорошо снабженный всем
многовесельный черный корабль. В дальнейшее описание
корабля Гомер не входит»2.
Но эта ограниченность поэтического изображения видимой
телесной красотой не есть бедность или скудость средств
поэтического воспроизведения реальности. Телесный мир проявляет
свои свойства различными способами, и некоторые из них
доступны именно поэзии, и даже только ей одной.
Во-первых, реальный мир есть мир, в котором человек
действует. Недостаток способности к изображению сложной
зримой красоты поэт возмещает способностью изображать мир
действий. Гомер, не властный изобразить множество
принадлежащих предмету и одновременно воспринимаемых на картине
живописца черт, может зато изображать множество действий,
движений, поступков, протекающих во времени. Так,
плавание, отплытие, приставание корабля «составляют у него предмет
подробного изображения...»3. Щивописец должен был бы из
одного такого изображения сделать пять, шесть или более
отдельных картин, если бы он захотел перенести это
изображение на свое полотно.
Но этого мало. Поэт в рамках своего специфического
искусства часто испытывает потребность изобразить не только один
элемент телесной красоты, но и всю красоту, как целое. И Лес-
синг доказывает, что поэзия может это сделать, но только
особыми средствами, которые отличают ее от живописи.
Подчиняясь особым условиям своего искусства, поэт,
неспособный дать цельный живописный образ красоты, может зато
изображать серию действий, которые порождают, производят
эту красоту. Повествование о действиях заменяет собой
неосуществимое в поэзии и антихудожественное описание. Если
Гомер, например, хочет дать образ колесницы Юноны, то он
«заставляет Гебу составлять эту колесницу по частям на наших
глазах. Мы видим колеса, оси, кузов, дышла и упряжь не в
собранном виде, а по мере того как Геба собирает их»4. Или еще:
1 Lessings Werke, В. 4, S. 361.
2 Τ а м же.
3 Τ а м же, стр. 361—362.
4 Τ а м же, стр. 362.
104
описание одежды Агамемнона заменяется у Гомера рассказом
о том, как облачается Агамемнон в эту одежду. И здесь функцию
описания выполняет повествование о действиях, сменяющих
друг друга во времени: Гомер «заставляет царя надевать на
наших глазах одну за другой части убора: мягкий хитон,
широкую ризу, красивые плесницы, меч. Лишь одевшись, берет он
уже скипетр. Мы видим одежду в то время, как поэт изображает
процесс самого одевания»1.
Но вот наконец дело доходит до скипетра. Поэту
предстоит изобразить уже самый скипетр. Каким образом может он
это сделать? И в этом случае он дает не описание вещи, а способ
ее изготовления: «вместо изображения скипетра он рассказывает
нам его историю. Сначала мы видим его в мастерской Вулкана;
потом он блестит в руках Юпитера, далее он является знаком
достоинства Меркурия; затем он служит начальственным
жезлом в руках воинствующего Пелопса, пастушеским посохом
у миролюбивого Атрея и т. д.»2.
Отвлекаясь от вопроса о символической функции, какую
рассказ о скипетре выполняет у Гомера, Лессинг ограничивается
одним: в рассказе этом он видит «мастерский художественный
прием (Kunstgriff), давший поэту возможность остановить наше
внимание на одном предмете, не пускаясь в холодное описание
его частей»3.
Явным недоразумением Лессинг считает распространенное
в эстетике и поэтике середины XVIII века мнение, будто Гомер—
великий учитель живописи. Гомер, по Лессингу, великий
учитель поэзии. Живописные задачи поэзии он решает не
живописными, а поэтическими средствами. В «Илиаде» он подробно —
более чем в сотне стихов — описал щит Ахилла. Но ссылка на
это описание как на доказательство живописной силы эпоса
Гомера несостоятельна. Гомер описывает щит «не как вещь, уже
совсем готовую, законченную, но как вещь создающуюся...
он и здесь пользуется своим прославленным художественным
приемом, а именно: превращает сосуществующее в пространстве
в раскрывающееся во времени и из скучного живописания
предмета создает оживленную картину действия»4. Собственно,
мы видим у Гомера не щит, а мастера, делающего щит. Мы видим,
как он подходит с молотком и кдещами к своей наковальне:
вот он сначала выковывает полосы из металла, а затем, «на
наших глазах», начинает создавать один за другим образы,
возникающие из металла под его мастерскими ударами. «Пока
работа вся не окончена, мы не теряем из виду мастера. Окончена
она — и тогда мы начинаем дивиться самому произведению.
1 Lessings Werke, В. 4, S. 362.
2 Τ а м же, стр. 363.
8 Τ а м же, стр. 364.
4 Τ а м же, стр. 374.
105
Однако удивляемся мы ему, как очевидцы, наблюдавшие, как
оно делалось»1.
Каковы бы ни были намерения поэта, во всех случаях, когда
дело идет об известной картине, поэт развивает эту картину
при помощи какого-нибудь повествования и, таким образом,
«части определенного предмета, которые мы привыкли видеть
в действительности соединенными вместе, одна подле другой,
столь же естественно в его рассказе представляются нашему
воображению последовательно одна за другой, и картина
слагается по мере рассказа»2. Во всех таких случаях поэт
«показывает нам постепенное образование того, что у живописца мы
могли бы увидеть лишь в готовом виде» (nicht anders als
entstanden)3.
Во всех этих анализах Лессинга речь идет не вообще о
способности поэзии живописать предметы зримого мира — речь
идет о способности, которая соответствовала бы специфическому
характеру поэзии, как искусства. Лессинг вовсе не отрицает
того, что как искусство, пользующееся средствами языка, поэзия
способна перечислять посредством словесных обозначений «все
части какого-либо предмета, которые в действительности
предстают перед нами в пространстве»4. Способность эта прямо
вытекает из свойств, принадлежащих всякой речи. Она есть «только
одно из свойств, принадлежащих вообще речи и употребляемым
ею обозначениям...»5.
Другое дело, вопрос о том, может ли эта способность,
свойственная поэзии, поскольку поэзия пользуется языком,
оказаться средством для решения ее специфических задач, как
искусства. На этот-вопрос ответ может быть, по Лессингу, только
отрицательным. «Поэт заботится не только о том, чтобы быть
понятным (will nicht bloss verständlich werden), изображения
его должны быть не только ясны и отчетливы (nicht bloss klar
und deutlich sein) — этим удовлетворяется и прозаик. Поэт
хочет сделать идеи, которые он возбуждает в нас, настолько
живыми, чтобы мы воображали, будто получаем действительно
чувственное представление об изображаемых предметах и в то же
время совершенно забывали об употребленном для этого
средстве — слове»6.
Поэтому, не отрицая ни в какой мере за речью способности
изображать какое-либо телесное целое по частям, Лессинг
решительно отрицает такую способность «за речью, как средством
поэзии, ибо всякое изображение тел при помощи слова нарушает
1Lessings Werke, В. 4, стр. 374.
2 Τ а м же, стр. 375.
8 Τ а м же, стр. 365.
4 Τ а м же, стр. 366.
6 Τ а м же.
β Τ а м же.
106
то очарование, возбуждение которого и составляет одну из
главных задач поэзии»1. Поэтому же поэт должен «совершенно
отказаться от изображения телесной красоты, как красоты»2.
Отказ этот не означает, будто перед лицом красоты поэзия
обречена остаться немой и бессильной. Следуя собственной
сущности, поэзия ищет в красоте ту сторону ее явления, которая
может передаваться средствами поэзии. Этой стороной
оказывается действие красоты на человека. Красота не только
предстоит человеку как зримая форма. Красота, кроме того,—
действенная сила, изменяющая чувства и мысли человека,
влияющая на его поведение.
Гомеру трудно не заговорить о красоте Елены, из-за
которой произошла, согласно мифу, война между греками и
троянцами. Но как он выполняет эту задачу? Только однажды, да
и то мимоходом, он напоминает, что у Елены были прекрасные
волосы и белые руки. Он избегает всякого описания ее красоты.
Но он делает зато гораздо больше. Он рассказывает о том, как,
увидев Елену на собрании, старейшины троянского народа
говорят друг другу:
Нет, осуждать невозможно, что Трои сыны и ахейцы
Брань за такую жену и беды столь долгие терпят;
Истинно, вечным богиням она красотою подобна.
Здесь Гомер нашел решение вопроса о приеме изображения
красоты в поэзии. Он изображает не самое красоту, а силу ее
действия на людей. То, чего средствами поэзии нельзя описать
по частям и в подробностях, Гомер умеет показать в его действии
на нас. «Изображайте нам, поэты, удовольствие, влечение,
любовь и восторг, которые возбуждает в нас красота, и тем самым
вы уже изобразите нам самое красоту»3.
Другим — родственным, по Лессингу,— способом
изображения красоты в поэзии является изображение прелести
(Reiz). Поэзия «превращает красоту в прелесть»4. Так как
прелесть есть «красота в движении» (Schönheit in Bewegung),
то изображение прелести не только доступно поэту, но даже
«более доступно поэту, чем живописцу».
В поэзии прелестное может оставаться тем, что есть:
переходной формой красоты, которую мы бы хотели видеть повторно.
Прелестное «живет и движется перед нами, и так как нам вообще
легче припоминать движение, нежели формы и краски, то
понятно, что и прелестное должно действовать на нас сильнее, чем
неподвижная красота»5.
1 Lessings Werke, В. 4, S. 368.
2 Τ а м же, стр. 389.
3 Τ а м же, стр. 388.
4 Τ а м ж *, стр. 389.
6 Τ а м же.
107
ν
Мы рассмотрели теоретические основы учения Лессинга
о специфических отличиях изобразительных искусств и поэзии.
Теория эта— не отвлеченная. Теоретический анализ под пером
Лессинга становится идейной силой, вершащей подъем
литературы на. высшую ступень служения жизни.
Лессинг — великий ученый-просветитель. Критика, теория
в его глазах — участницы освободительного движения в жизни
немецкого общества. Они призваны вывести литературу из ее
современного — приниженного и раболепного, анемичного и
несамостоятельного — состояния. Лессинг застал литературу,
которая в подавляющем большинстве своих произведений
добровольно и в силу общественных условий, в какие она была
поставлена, стремилась проводить взгляды на жизнь и вкусы,
а также утверждать нравственные понятия, свойственные
узкому кругу дворянства и высшего чиновничества, окружавшего
троны незначительных абсолютистских княжеств и монархий
феодальной Германии.
Печать этой идеологии лежала на немецкой эстетике, теории
литературы и критике. Однако общественно-политическая
основа немецкой литературы отражалась в самой этой литературе
и в ее теории не непосредственно. Одним из важнейших звеньев
этого опосредствования была склонность сводить задачи
художественной литературы к описаниям: природы, внешних сторон
и черт интерьера, внешних признаков обихода, внешних черт
человека. Усилия, направленные на эту — поверхностную
и внешнюю — изобразительность, отождествлялись с
«живописностью». Поэзии вменялось в обязанность подражание
приемам живописности, характерной для изобразительных искусств.
Именно в этом смысле толковалась формула Горация: «ut pictu-
га poesis». В Гомере ценилась и почиталась именно эта
«живописность». Выразительность и сила поэтического действия
в сценах, нарисованных Гомером, считалась пропорциональной
его приближению к приемам живописной зарисовки.
Все эти воззрения приобрели силу прочного предрассудка,
якобы освященного авторитетом древности и ее мыслителей.
Эрудиты, знатоки древности, изощрялись в подыскании
иллюстраций к тезисам, главные понятия которых были плохо
продуманы и основаны на смешении терминов, не сводимых в
единство. Немецкие теоретики равнялись по своим коллегам —
теоретикам классицизма в Англии и во Франции. Они заимствовали
у них не их порой обширные познания, а их теоретические
предубеждения и предвзятые мнения. Им импонировали суждения
какого-нибудь Спенса, который удивлялся тому, что поэты
слишком скупы в описаниях, слишком мало следуют образцам
живописи. Они всерьез принимали суждения графа Кейлюса,
108
который рекомендовал живописцам быть более усердными
в изучении Гомера — не потому, что Гомер был великим
поэтом, а потому, что он был великим живописцем.
Лессинг возвысил свой голос против всех этих превратных
понятий эстетики и поэтики. Руководительницей поэзии он
признал не живопись, а жизнь, требовавшую, как он думал,
освобождения как поэзии, так и живописи от стеснительных пут
и схем классицизма. Важнейшим явлением в жизни искусства
он признал происходившее на его глазах, но чересчур медленно
развивавшееся в Германии расширение границ искусств.
«Искусство в новейшее время,— писал Лессинг,— чрезвычайно
расширило свои границы. Оно подражает теперь... всей
видимой природе, в которой красота составляет лишь малую
частицу. Истина и выражение (Wahrheit und Ausdruck) являются
его главным законом...»1. Подобно природе, которая часто
приносит красоту в жертву высшим целям, так и художник «должен
подчинять ее основному устремлению и не пытаться воплощать ее
в большей мере, чем это позволяют правда и выразительность»2.
Именно в свете этой мысли необходимо рассматривать
теоретическое содержание «Лаокоона». Никто в современной
Лессингу Германии не был более, чем он, способен к точному,
логически строгому исследованию «границ» между
искусствами. Но это исследование служит у него не самодовлеющим
гносеологическим или эстетическим задачам. Цель его —
освобождение литературы, выяснение ее жизненной функции,
обоснование ее самостоятельной по отношению к живописи задачи.
Особенно важным Лессинг считает тезис о выходе поэзии
за рамки изображения одной лишь внешней, зримой красоты.
В отличие от художников изобразительных искусств поэту
«открыта для подражания вся безграничная область
совершенства»3. Поэтому внешняя, наружная оболочка, при наличии
которой в скульптуре совершенство становится красотой, может
быть «лишь одним из ничтожнейших средств пробуждения в нас
интереса к его образам»4.
Поэтому возражения Лессинга, направленные против
теоретиков классицизма, метят прежде всего против поэтов, которые,
подчинившись этим теоретикам и уверовав в их теорию, страшно
сузили доступную поэзии область предметности, сделали
вялыми способы ее изображения, ввели в поэзию несвойственную
ей описательность и таким образом тщетно пытаются
сравняться с живописью в наглядности ее картин и видений.
Критикуя ложную теорию, Лессинг вместе с ней критикует
и практику заблуждающегося искусства, указывает ему иные
1 Lessings We г к е, В. 4, S. 303.
2 Там же.
8 Τ а м ж е, стр. 306.
4 Τ а м же.
109
пути к его совершенству. Даже у самых великих художников
слова он не боится отмечать их ошибки, обусловленные
ошибочным пониманием задачи искусства. Так, он порицает у Ариосто
известное прославленное в диалоге Дольче описание красоты
Альцины. Для Дольче ариостовское описание красоты Альци-
ны — образец «тонкости, какую обнаруживает поэт в знании
телесной красоты»1. Но Лессинга «интересует только
впечатление, какое производят на воображение эти знания, выраженные
словами»2. С этой точки зрения, говорит Лессинг, «по
впечатлению, которое производит на меня описание, я вижу, что
хорошо выражаемое посредством линий и красок живописцем может
в то же время совсем плохо передаваться (am schlechtesten
ausdrücken lässt) при помощи слова». Поэтому те самые стихи
Ариосто, которые Дольче восхваляет устами Аретино,
представляют для Лессинга «пример картины, которая ничего не рисует»
(ein Exempel eines Gemäldes ohne Gemälde)3.
И, напротив, лучшие поэты остерегались обычно
заимствовать у живописи свойственные ей приемы изображения. Во
всяком случае, они не считали описание эквивалентным такому
изображению. Виргилий подражает не живописцам, а Гомеру,
у которого красота или вообще внешность предмета
характеризуется одним-единственным признаком. Точно так же и Лу-
киан не находит другого способа дать понятие о красоте Антеи,
как путем указания на лучшие женские статуи древних
художников. «Но что же это означает,— спрашивает Лессинг,— как
не сознание, что слово само по себе здесь бессильно, что поэзия
становится бессвязным лепетом, и красноречие немеет, если
искусство не придет к нему каким-либо образом на помощь
в качестве толкователя»4.
Ограниченный в изображении малодоступной ему зримой
красоты, поэт зато волен в выражении всех естественных
чувств, способных волновать сердце человека. По диапазону
доступных ей чувств и по интенсивности их воплощения поэзия
намного превосходит живопись. Едва ли не с отвращением
говорит Лессинг о Цицероне, который находил, будто поэты...
«расслабляют нас, заставляя плакать даже самых храбрых
людей»5.
Да, отвечает он Цицерону, поэты заставляют нас плакать,
но они и должны это делать. Театр — не арена, где ведутся
гладиаторские игры. Там, на состязаниях гладиаторов,
действительно не терпели никаких внешних выражений физической
боли. Осужденному или наемному бойцу положено было дей-
1 Lessings Werke, В. 4, S. 385.
2 Τ а м же.
3 Τ а м же, стр. 384—385.
4 Τ а м же, стр. 387.
6 Τ а м же, стр. 313.
МО
ствовать и переносить все с невозмутимой твердостью. Он
должен был учиться скрывать свои страдания, даже сильнейшие,
«так как его раны и смерть должны были служить забавой для
зрителей»1. Это отношение к страданию и к его обнаружению
было перенесено в Риме — такова догадка Лессинга — и на
трагедию. Лессинг даже твердо убежден в том, что гладиаторские
игры «были главнейшей причиной низкого уровня римской
трагедии». В героях трагедий Сенеки Лессинг осуждает
«искусственность и принужденность» (Abrichtung und Zwang). Эти
качества героев римской трагедии «оставляют нас холодными,
и гладиаторы в котурнах должны возбуждать в нас одно
удивление» (können höchstens nur bewundert werden). Даже самый
мощный трагический гений, привыкнув к сценам убийства,
возведенного в ранг искусства, «неизбежно должен был впадать в
напыщенность и в хвастовство»2. В конце концов в
окровавленном амфитеатре зрители забывали о всех требованиях природы.
Искусству, стыдящемуся обнаружения чувств и страданий,
холодному и напыщенному, Лессинг противопоставляет образцы
греческой трагедии эпохи расцвета — искусство Софокла и
Еврипида. Его высшую человечность он видит в том, что
искусство это не избегало выражения сильных чувств и не боялось
выражения страдания. Софокл заставляет своего - Филоктета
сильно плакать, стонать и даже кричать от боли в ране. Но его
крики и жалобы ничуть не расслабляют зрителя. Стоны
Филоктета «принадлежат человеку, а действия — герою»3.
Характеристики приемов и эстетических принципов
греческой трагедии у Лессинга верны, точны и проницательны.
Чрезвычайно поучителен разбор «Филоктета» Софокла. Но самое
интересное и самое важное в анализах Лессинга — их
актуальность. При всем своем интересе к античной трагедии Лессинг
глядит на нее не глазами археолога или классического
филолога, эрудита, а глазами критика, который хочет направить
современное ему искусство — искусство буржуазной драмы —
к его высшим современным задачам. В поэтике Софокла Лессинг
черпает образцы и принципы для рождающейся немецкой
трагедии. Он хочет освободить ее от традиций и от гнета
принципов классицистического театра — английского и особенно
французского. Он рассматривает «Филоктета» Софокла не
безотносительно. Он противопоставляет его Филоктету французского
драматурга Шатобрэна. Он пишет страницу, полную
убийственной насмешки и презрения. Простому, естественному,
страшному и вместе человечному трагизму Софокла он
противопоставляет условность, противоестественность, холодную напыщен-
1 Lessings Werke, В. 4, S. 313.
2 Τ а м же.
'Там же.
111
ность пьесы французского придворного драматурга. Шатобрэн
(Ghataubrun) изображает Филоктета в окружении общества. Он
заставляет прийти к нему на пустынный остров принцессу, да
еще не одну, а в сопровождении гувернантки. Неизвестно, кому
она больше нужна — принцессе или драматургу. Всю
превосходную — у Софокла — сцену с луком Шатобрэн выпустил
и ввел вместо нее любовное похождение. «Без сомнения,—
иронизирует Лессинг,— стрелы и лук показались бы слишком
забавными героической французской молодежи. Напротив, что
может быть серьезнее гнева красавицы?»1. Софокл заставляет
нас мучиться от страшной заботы о том, что Фил октет, оставшись
без лука, может погибнуть на диком острове. Французский
автор, издевается Лессинг, «знает верную дорогу к нашему
сердцу: он заставляет нас бояться, чтобы сын Ахилла не удалился
без своей принцессы». В то время как у Софокла его герои не
боятся ни жаловаться, ни стенать, ни плакать, ни кричать,
«благодаря нашим учтивым соседям французам, этим мастерам
приличия, кричащий на сцене Геркулес или стонущий Филоктет
показались бы теперь самыми смешными и невыносимыми
лицами»2.
Пример с Шатобрэном — не единственный. Через весь «Лао-
коон» проходит стремление Лессинга найти в античной драме
и в античном театре опору для поэтики, противостоящей
поэтике классицизма, оправдывающей естественное выражение
чувства современного Лессингу и угнетенного абсолютистским
порядком человека.
Борьба Лессинга за правильное понимание античного
искусства насквозь полемична. В искусстве Гомера, Софокла, Еври-
пида Лессинг видит силу, помогающую в борьбе против
ходульности, манерности и условности, против холодной риторики
и искусственности, свойственных придворным сочинителям
героических поэм и трагедий. Для Лессинга античные эпические
поэты и трагики — не предмет хладнокровного объективного
филологического исследования. Они для него живые антитезы
искусству классицизма.
Как много внимания, например, уделено в «Лаокооне»
обоснованию права художника на искреннее, непосредственное
выражение чувств! Именно потому, что о таком выражении не
было и помина в современном Лессингу театре (во Франции
и в подражавших Франции странах Европы), Лессинг
показывает, каким было выражение чувств у древнегреческих
художников. Свои наблюдения он властно противопоставляет
художественному обиходу современности. С горькой насмешкой
говорит он о современном ему поколении: «Мы, утонченные евро-
1 Lessings Werke, В. 4, S. 311.
2 Τ а м ж е, стр. 296.
412
цейцы, более позднего и благоразумного времени, умеем лучше
владеть нашим ртом и глазами. Приличия и благопристойность
запрещают нам кричать и плакать. Действенная храбрость (die
tätige Tapferkeit) первобытной грубой старины превратилась
у нас в храбрость страдательную»1.
Иное дело — Гомер и другие древние. Как ни старается
Гомер поставить своих героев выше людей, они все же «всегда
остаются верными человеческой природе, если дело касается
ощущений боли и страдания и выражения этих чувств в крике,
в слезах или в брани»2. По своим действиям герои Гомера —
существа высшего порядка, но по своим ощущениям они—
люди. Лессинг рассматривает множество примеров, которые все
показывают, что античные художники не боялись и не
стыдились выражения чувств, в том числе — страданий, боли.
Раненые герои Гомера часто падают на землю с криком. Сам Марс,
почувствовав в своем теле копье Диомеда, кричит так ужасно,
что оба войска пугаются — как будто сразу закричали десять
тысяч разъяренных воинов. Стенает от нестерпимой боли в ране
Филоктет. Даже умирающего Геркулеса Софокл заставляет
жаловаться, стонать, плакать и кричать. По поводу утраченной
трагедии Софокла «Лаокрон» Лессинг высказывает догадку,
что в ней Софокл вряд ли «представил Лаокоона стойком в
большей мере, нежели Филоктета и Геркулеса» (stoischer als den
Philoktet und Herkules)3.
Обобщая эти свои наблюдения и соображения, Лессинг
прямо утверждает, что «все стоическое не сценично» (alles Stoische
ist untheatralisch) и что наше сочувствие «всегда соразмерно
тому страданию, какое мы видим у интересующего нас
существа»4.
Взгляд Лессинга на совместимость героического с искренним
выражением естественных человеческих чувств привел
Лессинга к полемике с Винкельманом. Автор «Истории искусства
древности» полагал, как мы знаем, что искусству скульптуры не
дозволено изображение крика. Утверждая, что
Лаокоонскульптурной группы страдает так же, как и Филоктет Софокла,
Винкельман подчеркивал и высоко оценивал сдержанность
авторов обоих произведений в выражении телесных мук.
Сдержанность эту он выводил из эстетического предела, который
якобы существует в поэзии и в изобразительных
искусствах для степени интенсивности изображаемого страдания.
Лессинг восстает против этого ограничения. Ценную черту
и особенность древнегреческих воззрений он видит в том, что
«крик при ощущении физической боли... совместим с величием
1 L е s s i η g s Werke, В. 4, S. 295.
2 Τ а м же.
8 Τ a м же, стр. 297.
•Там же.
8 в. Асмус
113
души». Но если это так, то «очевидно, что выражение подобной
души не могло бы помешать художнику отобразить в мраморе
этот крик»1.
Но как бы ни расширял Лессинг круг естественных чувств,
доступных изображению в искусстве, расширение это не могло
полностью подчинить выражению изображение красоты. Это
совершенно очевидно там, где Лессинг говорит об
изобразительных искусствах. С предельной ясностью он утверждает, будто
греческий художник «не изображал ничего, кроме красоты;
даже обыкновенная красота, красота низшего порядка, была
для него лишь случайной темой, предметом упражнения и
отдыха»2. Самый предмет живописи древний грек понимал не так,
как его понимает искусство нового времени. Последнее видит
в живописи «искусство изображения на плоскости тел».
Напротив, грек «определял ей более тесные границы и ставил ее
задачей изображение одних только прекрасных тел»3. Достоинство
искусства он видел прежде всего в достоинстве самого
изображаемого предмета: художник ставил себя слишком высоко,
«чтобы требовать от зрителя лишь холодного удовлетворения
сходством предмета или своим умением»4.
Уже во второй главе «Лаокоона» Лессинг стремится
установить, что у древних «красота была высшим законом
изобразительных искусств» (Ich wollte bloss festsetzen, dass bei den Alten
die Schönheit das höchste Gesetz der bildenden Künste gewesen
sei...)5. Из этого тезиса Лессинг тотчас выводит как
необходимое следствие, что все прочее, что еще могло претендовать на
значение в сфере изобразительных искусств, «либо уступало
свое место красоте, либо, по крайней мере, подчинялось ее
законам»6.
Выводом этим определяются границы допустимой в
изобразительном искусстве обрисовки безобразного и в том числе
обезображивающих выражений страдания, телесной муки. Уже
до Лессинга историки искусства и художники собрали много
наблюдений, из которых видно было, что мастера античного
изобразительного искусства почти всегда избегают изображения
высших степеней потрясения, горести, страдания и т. п. Иногда
это воздержание объясняли ограниченностью изобразительных
средств искусства.
Но Лессинг отвергает это объяснение. На высочайших
ступенях потрясения обостряется и соответственное выражение
лица, и нет, по Лессингу, ничего легче для искусства, чем их изо-
1 Lessings Werke, В. 4, S. 297.
2 Τ а м же.
• Τ а м же.
4 Τ а м же.
5 Τ а м же, стр. 300.
• Τ а м же.
114
бразить. И если художник отказывается все же от изображения
кульминационных моментов скорби, отчаяния, физического
страдания, то он делает это не по своему бессилию, а из
уважения к своему высшему принципу — к красоте. Существуют
такие страсти и такие степени страстей, которые отражаются на
лице отвратительным образом и придают телу положение столь
ужасное, что при этом изящные мысли, очерчивающие его
в спокойном состоянии, совершенно исчезают. По Лессингу,
древние художники «избегали изображения таких страстей или
изображали их в той мере, в какой им все еще свойственна
некоторая красота»1.
Так, гнев они сводили к строгости, отчаяние превращали
в простую скорбь. Если же сама избранная художником тема
не дозволяла ему ни совсем избежать отвратительного, ни
ослабить его выражение, то художник скрывал отвратительное
от глаз зрителя и предоставлял ему угадывать то, чего он не
осмелился изобразить. Во всех подобных случаях неполнота
изображения «есть жертва, которую художник принес красоте
(ist ein Opfer, das der Künstler der Schönheit brachte). Она
прекрасный пример, но не того, как выражение может выходить
эа пределы искусства, а того, как надо подчинять его основному
закону искусства — требованию красоты». Выполняя это
требование, Тимант, автор картины, изображавшей принесение
Ифигении в жертву, не только придал всем лицам,
окружающим Ифигению, естественное выражение печали, но и закрыл
лицо отца, скорбь и боль которого были особенно велики.
Тимант сделал так не потому, что средства изобразительного
искусства ограничены, и не потому, что он сам ограничил свою
задачу. Он поступил так оттого, что горесть отца Ифигении
должна была бы выразиться в чертах, которые всегда
отвратительны. И он выразил эту горесть лишь в той мере, в какой
позволяли ему красота и достоинство2.
Эту точку зрения Лессинг применяет к объяснению
эстетических принципов, которыми руководствовались авторы
скульптурной группы Лаокоона. Лессинг согласен с наблюдением
Винкельмана, отметившим, что в этой группе художники, ее
авторы, заменили изображение крика изображением стона.
Однако Лессинг не согласен с винкельмановским объяснением
этой замены. По Лессингу, авторы Лаокоона стремились «к
изображению высшей красоты, связанной с телесной болью»3.
Но по своей искажающей силе боль эта несовместима с красотой,
художники должны были ослабить ее. Так они и сделали:
они превратили крик в стон, но не потому, что крик изобличал
1 L е s s i η g s Wer k е, В. 4, S. 300.
«Там же, стр. 301—302.
8 Τ а м же, стр. 302.
8* 115
неблагородство, а потому, что он «отвратительно искажает
лицо»1.
Достаточно, по Лессингу, представить себе мысленно Лао-
коона с раскрытым для крика ртом: стонущий Лаокоон был
фигурой, внушавшей сострадание, в нем боль сочеталась с
красотой. Напротив, кричащий Лаокоон — неприятная,
отвратительная фигура: в нем вид боли возбуждает неудовольствие,
а красота «не приходит на помощь и не превращает чувство
неудовольствия в чувство сострадания».
Лаокоон — вовсе не единственный пример подчинения
задач выражения задачам изображения красоты. По Лессингу,
и в эпоху упадка античного искусства художники, в том числе
более посредственные, чем авторы группы Лаокоона, «не
позволяют себе ни разу раскрыть рот до крика — даже диким
варварам, умиравшим под мечом победителя»2.
VI
До сих пор мы рассматривали суждения Лессинга о красоте
в применении к изобразительным искусствам. Здесь суждения
эти особенно резки и отчетливы. Менее четко выражены они
в отношении музыки и поэзии. Но и для этих искусств
требования красоты Лессинг считает необходимыми.
В работах Лессинга по эстетике драмы, поэзии и театра
на первый план выдвигается общественная и «учительная»
функции искусства. Уже во второй статье «Гамбургской
драматургии» провозглашается, что театр «должен быть школой для
нравственного мира» (das Theater die Schule der moralischen
Welt sein soll). Его задача — исправить простой народ, а не
«укреплять в нем его предрассудки»3.
Хороший писатель пишет «для лучших и просвещеннейших
людей своего времени». Поэт, даже гениальный, достигнув
творческой зрелости, осуществляет поучительные цели поэзии.
Он подражает, когда находится в периоде созревания. Он
может подражать и в более зрелых и крупных своих
произведениях. Но когда он создает и изображает свои главные
характеры, он имеет в виду более глубокие и возвышенные цели.
Он хочет «научить нас, что мы должны делать и чего не делать;
ознакомить нас с истинной сущностью добра и зла,
приличного и смешного; показать нам красоту первого во всех его
сочетаниях и следствиях, и как оно дает счастье даже в несчастье,
и выяснить, наоборот, безобразие последнего, которое
бедственно даже и в счастье... упражнять наши способности
1 L е s s i η g s Wer к е, В. 4, S. 302.
' Τ а м ж е.
8 Τ а м же, т. 5, стр. 31.
416
к симпатии и отвращению — на таких предметах, которые
достойны этого, и постоянно показывать эти предметы в их
истинном свете, чтобы мы не увлекались ложным блеском,
не чуждались того, чего должны желать, и не желали того, чего
должны чуждаться»1. %
Искусство поэзии — деятельность целесообразная, но сама
эта целесообразность или намеренность есть функция ее
назидательности: «если в характере нет назидательности, то для
поэта нет в нем и намерения»2.
Как следствие отсюда получается недопустимость в поэзии
(и, в частности, в драме) изображения насквозь
противоречивых характеров. Такие характеры возможны в жизни, но
не заслуживают поэтического изображения, «потому что в них
нет ничего назидательного, если только не считать предметом
назидания самые эти противоречия их природы, их смешную
сторону или печальные следствия...»3.
Но и подчиненное «намерению», то есть целесообразностиv
искусство поэзии (и драмы) остается подчиненным красоте.
Особенно же заметно это подчинение в искусстве
театрального исполнения, в искусстве актера. Искусство это
«занимает середину между изобразительными искусствами и поэ-
вией»4.
Так как по видимости искусство актера — живописное, то
его высшим законом (ihr höchstes Gesetz) должна быть красота
(die Schönheit). Но так как игра актера — не просто
живописное искусство, а живописное искусство в движении (transito-
rische Malerei), то ему нет необходимости «всегда придавать
позам то выражение спокойствия», которое так поражает нас
в произведениях античного искусства5. Оно вправе позволять
себе и буйство и дерзкие порывы: «все это в нем имеет
свойственную сценическому искусству выразительность, не
оскорбляя чувств»6.
Оно только не должно слишком долго останавливаться
на этих положениях: оно должно лишь постепенно
подготовлять их предшествующими движениями, а последующими снова
возвратить к общему тону благопристойности.
Искусство актера — поскольку оно есть искусство
сценических движений — немая поэзия, которая должна быть
непосредственно понятна в наших глазах (die sich unmittelbar
unsern Augen verständlich machen will). Поэтому жесты актера
должны быть, собственно говоря, не внешне красивы, а внут-
1 Lessings Werke, В. 5, S. 155.
»Там же.
• Τ а м же.
* Τ а м же, стр. 45.
6 Там же.
β Τ а м же.
117
ренне значительны. Они должны индивидуализировать
характеры действующих лиц. Только такая индивидуализация одна
поможет актеру «внести свет и жизнь в его мораль»1.
Из целесообразности, которой подчинено искусство,
следует важный вывод. В каждом произведении искусства оценке
подлежит соответствие между целью и художественными
средствами, примененными для ее достижения. Независимо от
нравственной цели целесообразное доставляет нам наслаждение.
На этом основано то, что может быть названо красотой
отвратительного. Так, Ричард Шекспира — «отвратительный
злодей, но и в самом чувстве отвращения к нему есть своего
рода наслаждение, особенно когда оно вызывается
подражанием» (besonders in der Nachahmung)2.
Насколько важна, по Лессингу, эта целесообразность
исполнения, видно из его замечания о прологах трагедий
Еврипида. Известно, что обычно трагедии Еврипида
предшествует пролог. В нем какой-нибудь бог рассказывает зрителям
все главное содержание трагедии — вплоть до катастрофы
и развязки. Французский критик Геделен (Hedelin) в своей
работе «Практика театра» сильно порицал Еврипида за этот
его обычай. Он видел в нем очень важный недостаток,
совершенно противоречащий неизвестности и ожиданию, которые
должны постоянно господствовать на сцене. По мнению Геде-
лена, это недостаток, уничтожающий все черты заманчивости
пьесы, которые состоят почти единственно и исключительно
в новизне событий и в их неожиданности.
Напротив, по мнению Лессинга, Еврипид, которого он
вслед за Аристотелем называет «трагичнейшим из всех
трагических поэтов»3, поступал в этом случае не опрометчиво,
но основывался на глубоком понимании сущности своего
искусства. Он знал, что искусство способно к более
высокому совершенству и что меньше всего оно стремится к
удовлетворению детского любопытства.
Еврипид без всякого стеснения сообщал зрителям о
готовящемся действии. Он хотел вызвать сочувствие публики «не
тем, что будет совершаться, а тем, как это будет совершаться»
(von der Art, wie es geschehen sollte)4 (курсив мой.— Β. Α.).
Поэтому ценители искусства могли бы находить в прологах
Еврипида странным, собственно, только то, что он сообщал
зрителю нужные сведения о прошедшем и будущем «не по-
1 L е s s i η g s W e г k e, В. 5, S. 40.
* Τ a m же, стр. 330. В русском переводе этого места («Academia»,
1936, стр. 291) вместо «подражанием» стоит «созданием
изобразительного искусства» — явная неточность, сужающая мысль Лессинга.
* Τ а м ж е, стр. 210.
4 Τ а м ж е.
418
средством утонченного художественного приема, а прибегая
для этого к помощи высшего существа»1.
Специфические условия красоты, совершенства,
эстетической целесообразности обязательны и для музыки. Свои
соображения по этому вопросу Лессинг высказал в отношении
театральной музыки. Он присоединяется ко взгляду
музыканта Шейбе, который первый высказал требование, чтобы
характер музыки, исполняющейся в театре до представления
(увертюра) и во время него (в антрактах), «более
соответствовал содержанию этих пьес»2.
В вокальной музыке сам текст в значительной мере
способствует ее выразительности. В инструментальной музыке этой
помощи текста нет, и она «не говорит ничего, если говорит
неправильно то, что хочет сказать»3.
Свою задачу театральная музыка решает не тогда, когда
она пытается на своем языке и своими средствами сказать
то же самое, что говорит на своем — поэзия. У музыки
свой особый предмет, свой особый язык и свои особые
средства. Музыка ни в каком отношении не должна вредить
драматическому поэту. Автор трагедий больше, чем всякий
другой поэт, любит неожиданности, он не желает, чтобы зрители
наперед угадывали ход действия. Поэтому музыка увертюры
«должна лишь оттенять общий характер пьесы, но не
разоблачать ее содержание сильнее, определеннее того, чем на него
приблизительно указывает заглавие»4.
И все же сочетание музыки с поэзией может иметь добрый
результат для обеих. Музыка сама по себе лишена способности
мотивировки происходящих в ней переходов и контрастных
смен: она «оставляет нас в этом отношении в неизвестности
и в тумане; мы испытываем ощущения, но не воспринимаем
последовательности наших ощущений...»5.
Напротив, поэзия никогда не дает нам потерять нить наших
ощущений: тут мы «не только знаем, какое чувство мы
испытываем, но также —и почему испытываем его». Только при
этом условии внезапные переходы из одного настроения в
другое не только терпимы, но даже приятны.
Мотивирование переходов, присоединяемое к музыке поэзией,
приводит к своеобразному восполнению их друг другом:
ощущения, противоположные друг другу, соединяются одно с
другим при помощи отчетливых понятий, которые могут быть
выражены только словами. В силу такого соединения они
составляют целое, в котором заметно «не только многообразие,
1 Lessings Werke, В. 5, S. 210.
2 Τ а м ж е, стр. 122.
8 Τ а м же, стр. 103.
4 Τ а м же, стр. 126.
* Τ а м ж е, стр. 127.
119
но и согласование этого многообразия» (in welchem man nicht
allein Mannigfaltiges, sondern auch Übereinstimmung des
Mannigfaltigen bemerke)1.
В этом отношении и музыка подчинена условиям красоты
или совершенства, состоящего в последовательности, в связи
ее построений. «Без последовательности, без строгой
внутренней связи всех частей между собой самая лучшая музыка — куча
зыбкого песку: она неспособна произвести глубокого
впечатления. Только последовательная связь частей сообщает ей
плотность мрамора, на котором рука художника может
увековечить себя»2.
Таким образом во всех искусствах Лессинг находит
требования красоты. В известном смысле требования эти
независимы от содержания, от предмета изображения, от материи
впечатлений. Там, где они остаются неудовлетворенными,
не может возникнуть самый факт искусства — полноценное
его произведение. Там, где они удовлетворяются, можно уже
говорить о продукте деятельности, как о произведении
искусства.
Некоторые зарубежные исследователи Лессинга заметили
эту важную особенность его эстетики. Но, заметив роль, какую
Лессинг отводил в искусстве соблюдению условий красоты,
они сделали отсюда ложный вывод. Они не только отождествили
условия красоты с совершенством одной лишь формы, но стали
доказывать, будто для эстетики Лессинга характерно
утверждение примата «формы» над «материей». Такова точка зрения
Армана Нивелля. Превосходный знаток немецких эстетических
теорий, Нивелль в истолковании их находится под явным
и сильным влиянием немецкого буржуазного
формалистического литературоведения и искусствоведения. Над его мыслью
тяготеют теоретические схемы Вальцеля, Вёльфлина и других
теоретиков формализма. Согласно Нивеллю, то, что в
литературе соответствует «выражению» скульптуры, есть
«трактованная материя», тема произведения, весь комплекс
содержания, основания, одним словом: «выраженного». Напротив,
«красота... примененная к поэзии, есть форма»3.
Противопоставив в искусстве «материю» «форме», Нивелль
ставит затем вопрос о том, кому из этих двух полюсов
принадлежит примат в эстетике Лессинга. Согласно Нивеллю,
Лессинг «сначала выбирает из обоих этих полюсов тот, которым
определяется другой...»4 И Лессинг «решает вопрос в пользу
формы, красоты» (Gestalt).
1 Leasings Werke, В. 5, S. 127.
«Там же, стр. 128.
» См.: A. Nivelle, указ. произв., стр. 144.
* См. там же, стр. 145.
120
Опору для своей характеристики эстетики Лессинга Нивелль
нашел в суждениях Лессинга об изобразительных искусствах.
Когда авторы Лаокоона смягчают выражение страдания в
чертах троянского жреца, ими руководят, по Нивеллю, не
моральная, философская или какая-либо иная позиция, но лишь
«законы формы, законы изобразительных искусств,
требования красоты».
Нивелль вынужден признать, что для поэзии проблема
«оказывается более сложной». Однако, учтя различие
предметов и их наименований, мы видим, утверждает Нивелль, что
«точка зрения Лессинга остается точно той же»1.
Нивелль не только не может доказать это свое утверждение,
он даже не может провести его последовательно. Нивелль
сам обращает внимание на то, что, например, в важном для
теории драмы вопросе о «трех единствах» Лессинг самым
решительным образом отрицал формалистическое истолкование этих
единств. Для Лессинга, как вынужден признать Нивелль,
«форма — не условна, не фиксирована, не произвольна и не есть
(только) внешняя (форма). Например, он не знает ничего,
кроме насмешек, для драматических единств времени и места».
С этими правилами, разъясняет Лессинг, не приходится
считаться: «сознательно применять их, усваивая значение правил,
определяющих содержание,— заблуждение. Речь идет не о
поверхностных законах, не об универсальных схемах, которые
были бы применимы почти безразлично к различным (видам)
содержания, но о существенных законах искусства — о
законах, служащих специфически художественной цели»2.
Все это справедливо, но признать справедливость
сказанного значит признать ошибочность тезиса о примате у Лессинга
«формы» над «материей». Продолжать ' настаивать, как это
делает Нивелль, на этом тезисе можно только неправомерно
изменив, расширив понятие «формы», превратив его в
понятие о необходимых для всякого искусства специфических
условиях мастерства. Именно так и поступает Нивелль. Он вводит
в обсуждение вопроса о примате формы ряд положений
Лессинга, которые действительно характерны для его эстетики,
но которые доказывают вовсе не то, что Лессинг отстаивал
примат формы в искусстве. Сюда относятся, например: взгляд
Лессинга, по которому оригинальность произведения
искусства — в манере его трактовки, а не в новизне сюжета,
исключение из живописи аллегории; возобновление характерной
для Возрождения теории вымысла; перенесение центра тяжести
с вопроса о подражании в вопрос об эмоциональном
воздействии искусства и т. д. и т. п.
См.: A. Nivelle, указ. произв., стр. 145.
См. там же, стр. 146.
12«
VII
Над эстетикой Лессинга высится и освещает все ее поле
мысль о том, что в искусстве «нравится и трогает только то,
что правдиво» (nur das Wahre gefällt und rühret)1. Высказанная,
как цитата из Дидро, мысль эта составляет глубочайшее
убеждение самого Лессинга. Согласно Лессингу, положение это,
истинное вообще, вдвойне истинно по отношению к искусству
театра. Достоинство пьесы зависит «от умелого подражания
какому-нибудь действию, так что зритель, находясь постоянно
под обаянием иллюзии, думает, что он присутствует при самом
действии»2. Не только трагедия, но и комедия «должна быть
зеркалом человеческой жизни» (die Komödie soll ein Spiegel
des menschlichen Lebens sein)3.
Высоко ценя функцию вымысла в искусстве, Лессинг
подчиняет игру вымысла реалистической мотивировке. Вымысел
в искусстве не только всегда должен быть целесообразен.
Поэт может вывести в произведении события и действия,
которые, отвлеченно взятые, кажутся невероятными. Однако
и в этом случае изображаемые события должны быть
мотивированы. Если он истинный поэт, «то он прежде всего
постарается придумать такой ряд причин и действий, в силу
которых эти невероятные преступления должны совершиться»4.
При этом требования реалистического художника,
предъявляемые мотивировке, чрезвычайно высоки. Для художника,
например, не может быть достаточным основанием то, что событие,
включенное им в сюжет, засвидетельствовано историей как
несомненный факт. Факты — не мотивы. Поэту «будет
недостаточно основывать возможность их просто на исторической
достоверности. Он будет стараться соответственно изобразить
характеры действующих лиц; будет стараться, чтобы те
происшествия, которые вызывают его героев к деятельности, вытекали
одни из других с необходимостью,— и чтобы страсти так строго
гармонировали с характерами и развивались с такой
постепенностью, чтобы мы всюду видели только естественный,
правильный ход вещей»5.
Изображаемое в произведении искусства должно
соответствовать правде человеческой жизни, искусство должно быть
верным природе. Но это соответствие не есть копирование,
стремление изобразить природу во всем составе ее черт и
явлений. Как мы бы сказали на нашем современном языке,
реалистическое изображение природы не есть натуралистическое
1 Lessings Werke, В. 5, S. 350.
2 Τ а м ж е.
8 Τ а м же, стр. 105.
4 Τ а м же, стр. 145.
6 Там же, стр. 145—146.
122
воспроизведение. Терминология Лессинга — другая.
Натуралистическое копирование он называет «подражанием природе»
(die Nachahmung der Natur). Имея в виду этот смысл
«подражания», Лессинг пишет: «...или подражание природе не должно
быть принципом искусства, или если ему (то есть принципу
подражания.—В. А.) следуют, то искусство перестает быть
искусством или, в крайнем случае, становится ничуть не выше
того, которое на гипсе хочет изобразить пестрые жилки
мрамора»1.
Лессинг сам сопоставляет образы искусства с явлениями
природы. Сопоставление это приводит его к важному выводу.
Явления природы бесконечно богаты как по содержанию, так
и по связям между ними. В сравнении с бесконечным
многообразием природы ум художника ограничен. Даже образ
искусства, в котором художник пытается с наибольшей полнотой
изобразить реальность, всегда будет — по отношению к этой
реальности — всего лишь абстракцией, только частичным
отображением. «В природе,— пишет Лессинг,— все тесно
связано одно с другим, все перекрещивается, чередуется,
преобразуется одно в другое. Но в силу такого бесконечного
разнообразия она представляет собой только зрелище для бесконеч-*
ного духа. Чтобы существа ограниченные могли принимать
участие в наслаждении ею, они должны обладать способностью
предписывать ей известные границы, которых у нее нет,
способностью абстрагировать и направлять свое внимание по
собственному усмотрению»2.
Искусство участвует в этом абстрагировании и в этой
интенции, переводящей ум художника с одной стороны изображаемого
предмета на другую. «Назначение искусства... облегчить нам
сосредоточение нашего внимания». Все, что мы рассматриваем
в природе и что мы обособляем или желаем обособить в нашем
уме от предмета или от группы различных предметов — во
времени или пространстве,— искусство «действительно обособляет
и представляет нам этот предмет или сочетание предметов
в такой ясности и связности, какие только допускают ощущение,
которое должно быть вызвано ими»3.
В свете этой своей мысли Лессинг поясняет учение
Аристотеля об отношении искусства поэзии к науке истории.
Аристотель знал только летописную разработку истории. Для него
история — наука, которая стремится запечатлеть прошлое
таким, каково оно было во всей его фактичности и однократности.
Но для искусства поэзии такой способ воспроизведения
чересчур натуралистический и эмпирический. В то время как
история изображает то, что было, и таким, каким оно было, поэ-
1 Lessings Werke, В. 5 S. 294.
2 Τ а м же, стр. 296.
3 Τ а м же.
123
8ия, даже тогда, когда поэт обрабатывает мифы (тоже род
исторического сказания), изображает событие таким, каким
оно могло бы быть: по законам либо правдоподобия, либо
необходимости. Поэтому изображение в образе искусства —
шире, обобщеннее, ближе к типическому, чем повествование
о том же событии в истории.
Особенно резко подчеркивает Лессинг превосходство
доступной искусству типизации над ограниченностью исторического
изображения, всегда привязанного только к единичному и
однократному. Поклонник Дидро, сам испытавший сильное
влияние его эстетических идей, Лессинг никак не может разделить
отрицательное отношение Дидро к учению Аристотеля о
типическом, обобщающем значении образов трагедии. Лессинг
подчеркивает, что в отношении всеобщности Аристотель «прямо
не признает никакого различия между действующими лицами
трагедии и комедии»1. Как те, так и другие, и даже герои
эпоса, то есть все персонажи, выводимые в поэтическом
подражании, должны и говорить и действовать не так, как свойственно
им одним, но так, как стал бы говорить и действовать каждый,
имеющий их свойства при тех же самых обстоятельствах.
И, поясняя мысль Аристотеля, с которой он совершенно
согласен, Лессинг подчеркивает, что только «в этом καθόλου,
в этой всеобщности... и кроется причина, почему (согласно
Аристотелю.— В. А.) поэзия философичнее, а следовательно,
и назидательнее истории.:.»2. В комедии даже имена, которыми
поэты наделяли своих лиц, подчеркивали их обобщенные,
типические черты: «этими самыми именами они старались
достичь общего»3. Поэты давали героям комедии «имена со
значением, говорящие» (redende Namen)4: достаточно было только
услышать эти имена, чтобы тотчас же понять, каковы будут
те лица, которым они даются, так как самые имена — или
по своему этимологическому происхождению и составу, или
по своему значению — выражали свойства этих лиц (die
Beschaffenheit dieser Personen ausdrückten).
Даже имена действительных, всем известных лиц скорее
означали тип, чем отдельные лица. Лессинг ссылается, как
на пример на карикатурный образ философа Сократа,
выведенный Аристофаном в комедии «Облака». Под именем «Сократа»
Аристофан хотел выставить смешным и подозрительным
не одного только Сократа, но также — и даже прежде всего —
всех софистов, занимавшихся образованием и воспитанием
молодых людей. «Его героем был вообще опасный софист, и он
1 Lessings Werke, В. 5, S. 366.
»Там же.
» Τ а м ж е, стр. 367.
4 Τ а м же, стр. 369.
124
назвал его «Сократом» только потому, что таковым
провозгласила Сократа молва» (weil Sokrates als ein solcher verschrien
war)1.
Особенность свойственного Лессингу понимания
художественной правды всего прозрачнее выступает в его суждениях
о комедии. С одной стороны, как мы уже убедились, комедия
должна быть, по Лессингу, зеркалом человеческой жизни.
С другой стороны, Лессинг разъясняет, что средством для
достижения этой ее цели ни в коем случае не может и не должно
быть натуралистическое копирование. Недопустимость
натурализма особенно очевидна там, где изображаемые лица и
совершаемые ими действия почерпнуты поэтом из истории. Реньяр
(Regnard) написал пьесу «Демокрит», полную исторических
промахов и даже всяческой исторической несуразности и
нелепости. «Его Демокрит ничем не похож на настоящего
Демокрита; его Афины совсем не те, какими мы их знаем». Но
главная задача комического писателя — «не историческая истина»
{ist... nicht die historische Wahrheit)2.
Конечно, если поэт берет иные характеры, чем
исторические, или даже совершенно противоположные им, то лучше
ему не брать и исторических имен. Лучше приписывать
известные поступки совершенно неизвестным личностям, чем
навязывать несоответствующие характеры личностям известным.
Так как во втором случае он идет наперекор тому, что мы
уже знаем, то это нам неприятно. И все же, по мнению Лес-
синга, даже если поэт приписывает лицам не те характеры,
которыми их наделила история, его ошибка «гораздо
простительнее, чем погрешность в изображении самих характеров,
со стороны ли внутреннего правдоподобия или со стороны
поучительности»3. Первая ошибка — отступление от
исторической реальности — совместима с гением, ошибка в
изображении характеров — никогда.
Но художественное правдоподобие есть именно мир «гения».
Поэтому драматург, например автор трагедии, должен
заботиться об исторической истине «именно лишь настолько, чтобы
она была похожа на удачно придуманную фабулу,
соответствующую его целям. Историческое событие необходимо ему не
потому, что оно совершилось, а потому, что оно совершилось
так, что лучше этого он едва ли мог бы придумать для своей
цели»4. В произведении драматического писателя
изображенное им событие делает достоверным только его «внутренняя
вероятность» (ihre innere Wahrscheinlichkeit), а не тот. или
другой способ удостоверения в его исторической реальности.
1 Lessings Werke, В. 5, S. 371.
2 Τ а м же, стр. 90.
8 Τ а м же, стр. 152.
4 Τ а м же, стр. 96.
125
Именно в этом смысле Лессинг полностью принимает взгляд
Аристотеля, по которому цель трагедии «гораздо более
философская, чем цель истории» (ist weit philosophischer, als die
Absicht der Geschichte), ß театре нам следует узнавать «не то,
что сделал тот или другой человек, но что сделает каждый
человек с известным характером при известных данных
условиях»1.
В конце концов история для трагедии — только «перечень
имен (ein Repertorium von Namen), с которыми мы привыкли
соединять известные характеры»2. Поэту, обращающемуся
за содержанием к истории, мы вправе сказать: если он находит
в истории достаточно условий для своего сюжета и для era
индивидуации — пусть пользуется ими.
Но где предел, до которого может простираться творческая
свобода драматурга, или «гения», по терминологии Лессинга?
Для решения вопроса о том, насколько поэт вправе отступать
от исторической истины, критерием, по Лессингу, будет естест-»
венность и правдивость, а также внутренняя последовательность
в изображении характеров. Во всем, что не относится к
характерам, поэт «может отступать, насколько хочет. Только
характеры священны для него; придать им больше силы,
представить их в более ярком свете — вот все, что он может
прибавить от себя»4. В своей критике исторических ошибок
трагедии «Эссекс» Корне ля Вольтер был неправ, так как он
руководствовался не критерием внутренней правдоподобности
и логичности в развитии характеров, а мелочными
соображениями о противоречиях между содержанием пьесы Корнеля
и отдельными историческими событиями. Вольтер забыл, что-
поэта заставляют избирать предпочтительнее то лли другое
событие не голые факты, не обстоятельства времени и места,
а характеры действующих лиц4.
Итак, цель драматического поэта — изображение
характеров: либо героических, ведущих борьбу за высшие задачи
человеческой жизни,— в трагедии, либо комических, достойных
осмеяния в силу порочности, вреда, какой они способны
нанести обществу,— в комедии.
Так как драматург может достичь своей цели только изсь
бражая характеры, то главным элементом драматического
произведения должно быть изображение совершаемых лицами
действий, то есть фабула пьесы. По Лессингу, это прямо
следует из того, что мы можем судить о характере человека лишь
по действиям, в которых его характер обнаруживается.
1 Lessings Werke, В. 5, S. 96.
2 Τ а м же, стр. 115.
8 Τ а м же, стр. 113.
* Τ а м же.
126
Правда, в обиходной жизни мы не относимся к людям
с обидным для них недоверием и обычно полагаемся на отзывы,
которые одни честные люди высказывают о других. Но
драматический писатель не имеет права угощать нас «дешевкой этого
правила». «На сцене мы хотим видеть, каковы выведенные
личности, а видеть это можно только по их действиям»1. Если
мы будем допускать в них хорошие качества только на веру,
с чужих слов, «то они сами по себе нисколько не заинтересуют
нас; мы будем совершенно равнодушны к ним»2.
Так же как доверие к суждениям других лиц о герое,
в драме недопустима подмена происходящего на глазах
зрителей действия — рассказом, повествованием о действии.
«Рассказ, более или менее искусно веденный, остается все же
рассказом, а мы хотим видеть на сцене настоящее действие»
(wirkliche Handlungen)3. Именно учитывая эту роль действия
в драматическом произведении, Аристотель рекомендовал
авторам трагедий «искусно задумывать и сочинять фабулу»4.
Не что иное как удачная фабула составляет главное
отличительное достоинство трагического поэта: «изображение
нравов, душевного настроения и выразительность удаются
десятерым против одного, безукоризненно строящего превосходную
фабулу»5.
Бывают пьесы, которые, по-видимому, опровергают
всеобщность этого правила. Такой пьесой была, например, «Школа
жен» Мольера, и Вольтер порицал ее за преобладание
«повествовательного элемента». Но, по Лессингу, исключение это —
только кажущееся. Цель Мольера в этой пьесе —
изображение смешного положения старика и его поведения перед
лицом угрожающей ему опасности. Мы не видели бы этого
ясно, «если бы то, о чем поэт заставляет рассказывать,
происходило перед нашими глазами, а то, что происходит, было бы
превращено в рассказ»6.
Роль действия в драме прекрасно понимали античные
драматурги и античные теоретики литературы. Первым законом
драмы у них было «единство действия» (die Einheit der
Handlung). Напротив, единство времени и места были только
следствиями единства действия. В этих следствиях не было ничего
непреложного. И если античные драматурги обычно все же
строго выполняли условия единства места и времени, то их
вынуждал к этому трагический хор, который в античной
трагедии был «связующим началом». Античные представления
1 Lessings Werke, В. 5, S. 58.
* Τ а м же.
8 Τ а м же, стр. 232.
4 Τ а м же, стр. 169.
β Τ а м ж е.
•Там же, стр. 232.
127
должны были происходить непременно в присутствии массы
народа. Эта масса была постоянно одна и та же и не могла
удаляться на расстояние и время, более длительное, чем
обычно. Только поэтому они «должны были довольствоваться
для места одной и той же площадью, а время ограничивать
одним и тем же днем»1.
Правила единства — необходимость, которую античные
драматурги наложили на себя добровольно. Но и этой
необходимостью они воспользовались как поводом, чтобы
упростить действие, отделить от него все липшее. Такое действие,
ограниченное самыми существенными составными частями,
оказалось «не чем иным, как идеалом этого действия,
развившегося всего свободней в такой именно форме, которая очень
легко могла обойтись и без добавочных условий времени
и места»2.
VIII
Свое понимание поэтической практики и теории античной
драмы Лессинг резко и непримиримо противопоставляет
практике французского театра эпохи абсолютизма и его теории.
Критика этой практики и этой теории отличается характерной
для Лессинга особенностью. Рассматриваемая в теоретическом
плане, критика Лессинга принципиальна, всегда направлена
на существо вопросов, предлагает ясное и четкое теоретическое
их решение. Лессинг не подгоняет свою теоретическую
аргументацию ни под какие предвзятые аксиомы и постулаты,
которые были бы чужды теоретическому содержанию вопросов.
И в то же время вся в целом теория литературы Лессинга
есть осознание прежде всего практики искусства, а в искусстве
Лессинг видит не только порождение жизни, но и великое
средство практической борьбы — за высшие и совершеннейшие
цели и идеалы жизни.
Эта практическая направленность критики Лессинга
сообщила ей актуальное политическое содержание. Борьба
Лессинга против эстетических теорий французских драматургов
оказалась одновременно борьбой против театра французского
классицизма, а эта борьба — борьбой против абсолютистского
строя, который подчинил искусство собственным задачам,
сузил его социальную базу, сделал искусство идейной формой
поддержки и восхваления этого строя.
Еще более актуальной была эта критика для Германии.
Абсолютистские монархи, князья и князьки Германии изо
всех сил старались сделать свои дворы копией блестящего
> Lessings Werke, В. 5, S. 201.
2 Τ а м же, стр. 200.
128
парижского двора, иметь по его образцу своих поэтов,
драматургов, историографов. Они или не замечали, или не хотели
замечать рождавшейся за стенами их дворцов национальной
немецкой поэзии, национального театра, или стремились
направить их развитие в русло придворного раболепного искусства,
заимствуя формы его и внешние черты у искусства классицистов.
В невероятно трудных условиях, почти без союзников
выступил Лессинг со своей критикой. Идея национального
немецкого театра, которой посвящена «Гамбургская драматургия»,
не могла быть реализована без сокрушения основ системы
творческих методов и теоретических понятий, на которых
держались театр и эстетика драмы французских классицистов.
Борьба эта открывается, начиная с первых статей и с
первых страни.ц «Гамбургской драматургии».
После «Лаокоона» «Гамбургская драматургия» —
крупнейшее эстетическое произведение Лессинга. Это — собрание
статей, театральных рецензий, посвященных эстетике
драматургии, проблеме национального немецкого театра и вопросу
о современном театральном репертуаре. «Гамбургская
драматургия» — книга, которую мог написать только
эстетик-драматург. Вместе с тем это не только теоретический трактат,
но и замечательный образец художественной критики.
Идеи, составляющие содержание «Гамбургской
драматургии», созревали в уме Лессинга задолго до написания этой
книги. Они намечены в его предшествующих работах, притом —
с точностью, очень близкой к их последующим
формулировкам. Лессинг непрерывно развивался, шел вперед, но редко
отказывался от положений, когда-то им высказанных.
Теоретическим ядром, из которого развились идеи
«Гамбургской драматургии», были «Литературные письма»
(«Literaturbriefe»), в их числе прежде всего —
высокопринципиальное 17-е письмо.
В этом письме1 поставлен вопрос о путях развития
европейского и немецкого театров. Готтшед, непререкаемый
авторитет классицистической немецкой литературы и ее теоретик,
стремился направить немецкий театр по пути развития театра
французского. Его драматургическая реформа состояла в
попытке привить принципы драмы Корнеля и Расина немецкой
драматургии. Шекспир оставался для классицистов — равно
французских и немецких — пугалом. В лучшем случае в нем
видели силу мощную, художника гениального, но
необузданного, не воспитанного искусством, принятым в обществе
хорошего вкуса и галантных нравов, и потому грубого, варварского,
1 В советской литературе о Лессинге анализ 17-го ипсьма развивает
Г. Фридлендер, автор содержательной монографии «Лессинг. Очерк
творчества», М., 1957, стр. 68—71.
9 в. Асмус
129
неотесанного. В предисловии к своей «Семирамиде» Вольтер
прямо назвал его «пьяным дикарем».
По Лессингу, реформа Готтшеда не исправила, да и не могла
исправить положение немецкого театра, существовавшее в XVII—
XVIII веках. Положение это было в высшей степени
неприглядно. «Наши исторические и героические действия,— писал Лес-
синг,— были полны вздора, напыщенности (Bombast), грязи
(Schmutz) и грубых шуток». «Наши комедии,— читаем далее,—
состояли из переодеваний и волшебных превращений, а
верхом остроумия в них были палочные побои» (Prügel)1.
Готтшед повел борьбу с этой площадной и плоской
грубостью немецкой драматургии, ориентируя ее на подражание
французским образцам. Но то, что выиграла здесь немецкая
сцена, не может идти в сравнение с тем, что она при этом
потеряла. Если бы Готтшед не пренебрег полностью
образцами старого немецкого театра, он бы увидел, что старинные
немецкие пьесы XVII—XVIII веков «больше подходили
ко вкусу англичан, чем французов» и что «мы хотели видеть
и мыслить в своих трагедиях больше, чем позволяет нам
боязливая французская трагедия». Все великое, ужасное (das
Schreckliche) «действует на нас сильнее, чем все учтивое (das Artige),
нежное, меланхолическое»2. Пойди Готтшед по пути,
намеченному старинным национальным немецким театром,— этот
след указал бы ему прямой путь к английскому театру.
Правда, могут сказать, что Готтшед пытался использовать
этот театр, как видно из его «Катона». Но Лессинг не
согласен с этим: то, что Готтшед считал лучшей пьесой английского
театра адиссоновского «Катона», безусловно доказывает,
в глазах Лессинга, что Готтшед рассматривает это
произведение глазами француза и что он не знал при этом (и не хотел
знать) никакого Шекспира, никакого Джонсона, Бомонта,
Флетчера и других3.
Со смелостью и с оригинальностью, неизвестными дотоле
в Германии, Лессинг противопоставляет «офранцуженному»
театру Готтшеда театр Шекспира, полный не только силы,
но прежде всего правды, верности отображения жизни.
Лессинг убежден, что если бы шедевры Шекспира были
переведены на немецкий язык — с небольшими изменениями,— то
это имело бы куда более благотворнейшие последствия, чем те,
которые наступили от знакомства с Корнелем и Расином.
Шекспир — не только гений, который один способен
воспламенять гениальность в других и который, «кажется, всем обязан
природе» (alles bloss der Natur zu danken zu haben scheint).
1 L e s s i η g s W e r k e, В. 4, S. 62.
2 Τ a m же, стр. 62.
3 См. там же, стр. 63.
130
В сравнении с Корнелем Шекспир — если вопрос
рассматривать согласно с образцами древних — «гораздо более
трагический поэт, чем Корнель»1.
Качества эти сделали Шекспира, недостаточно знавшего
древних, гораздо более близким к ним, чем был корифей
французской трагедии. Корнель ближе к древним в «механическом
построении». Шекспир же —«в существенном». Поэтому
«англичанин почти всегда достигает цели трагедии, какие бы
необычные и ему одному свойственные пути он ни избирал бы;
напротив, француз почти никогда ее не достигает — хотя он как раз
идет по пути, проложенному древними». И Лессинг заключает
свою сравнительную оценку, говоря, что после «Эдипа»
Софокла «ни одна трагедия в мире не будет иметь больше власти
над нашими страстями, чем «Отелло», «Король Лир», «Гамлет»
и т. д.»2;
Сближая немецкую старинную драматургию с драматургией
Шекспира, Лессинг не был голословен: пред ним носился
образ старонемецкого «Фауста» и пьеса английского драматурга
Кристофера Марло. В его «Фаусте» Лессинг находил «множество
сцен, которые могли быть под стать только шекспировскому
гению» (menge Szenen, die nur ein Schakespearesches Genie zu
denken vermögend gewesen)3.
Через всю «Гамбургскую драматургию» проходит мысль
о губительности для театра его нынешнего — придворного —
служения, его угождения вкусам, запросам и интересам
абсолютистской феодальной верхушки.
«Двор,— разъясняет Лессинг,— вовсе не такое место, где
поэт может изучать природу» (die Natur)4. Внесение
изысканных придворных нравов в область театра и подчинение драмы
политической тенденции в угоду интересам абсолютистских
дворов делает театральное искусство далеким от подлинной
жизни, рассудочным и холодным. «Галантность и политика
всегда придают пьесе холодный тон, и ни одному поэту в мире
не удалось еще соединить с ними возбуждение сострадания
и страха»5.
Господствующая на французской сцене изысканная,
напыщенная, чопорная речь «несовместима с чувством. Она не
служит истинным выражением ему и не может его вызвать»6.
Французский театр стремился возвысить образы королей,
принцев, принцесс, вельмож над образами простых людей.
Но он утратил способность к правдивому, естественному, со-
1 Lessings W е г к е, В. 4, S. 63.
2 Τ а м же.
8 Τ а м же.
4 Τ а м ж е, т. 5, стр. 254.
6 Τ а м же, стр. 334.
β Τ а м же, стр. 253.
9* 131
гласному с природой изображению и тех и других. «Говорили
ли когда-нибудь люди так, как мы декламируем,— повторяет
Лессинг вслед за Дидро.— Разве принцы и цари ходят иначе,
чем все обычные люди, которые ходят как следует? Разве
они жестикулируют, как одержимые или бесноватые? А когда
говорят принцессы, разве они завывают?»1
Таков современный театр французов. По Лессингу, было бы
точнее сказать: у них еще нет подлинного театра. «Мы, немцы,
довольно чистосердечно сознаемся в том, что у нас еще нет
театра... А я думаю,— добавляет Лессинг,— что не только
у нас, немцев, но и у людей, хвастающихся тем, что у них сто
лет существует театр, даже лучший во всей Европе, — именно
у французов,— еще нет театра»2.
Не имея подлинного — правдивого, человечного,
вызывающего естественные чувства—театра, французские
драматурги и эстетики не смогли дать и истинной теории театра,
в частности теории античного театра. Говоря о задаче,
которую он решал в статьях «Гамбургской драматургии», Лессинг
пояснял, что он считал для себя «более всего важным рассеять
заблуждение о правильности французской драмы. Как раз
ни один народ,— утверждает Лессинг,— не понял так ложно
законов античной драмы, как именно французы»3.
Извращению природы театра должен быть
противопоставлен подлинный театр и истинная его теория. Если пышность
и этикет «обращают людей в машины, то дело поэта — вновь
превратить эти машины в людей»4.
В этом превращении руководящей идеей должна быть мысль
о «простой природе». «Ничего,— восклицает Лессинг,— не может
быть достойнее и приличнее простой природы. Грубость
и неотесанность так же далеки от нее, как высокопарность
и вычурность от всего возвышенного»5. Подражание действию —
основная цель драмы — должно быть вполне естественным,
и ему должны служить как главной эстетической цели все
элементы и компоненты драмы. Этого не поняли французы.
У греков из главенства действия было выведено — как
единственно необходимое условие — единство действия.
Напротив, французы не находили никакой прелести в истинном
единстве действия. Еще до того как они ознакомились с греческой
простотой, они оказались избалованными чрезмерно
усложненными — в ущерб смыслу — интригами пьес испанского
театра. Поэтому они стали смотреть на единство времени и места
не как на следствие единства действия, а «как на непрелож-
1 Lessings Werke, В. 5, S. 352.
2 Τ а м же, стр. 332—333.
3 Τ а м же, стр. 413. *
4 Τ а м же, стр. 254.
5 Там же.
132
ные требования (unumgängliche Erfordernisse) при изображении
действия»1. Они полагали, что должны применять эти
требования к более запутанным действиям с такой строгостью, какую
могло бы оправдать только участие трагического хора,
подобного античному. Испытывая при этом затруднения, так как
французы совсем отказались от хора, они стали входить в сделку
с тираническими правилами, от которых не имели мужества
совершенно отказаться. Вместо единства места они ввели
неопределенную местность, под которой можно было разуметь
то одну, то другую. Вместо единства времени, рассчитанного
на сутки, вводится единство неопределенной
продолжительности времени, которое могло сойти за сутки, так как в
течение этого промежутка времени избегали говорить о восходе
и заходе солнца и никто не ложился спать больше одного
раза2.
Пороки драматургической практики питались у французов
заблуждениями и ошибками их эстетической теории. Расин
ввел французов в искушение «только своими образцами,
а Корнель — и образцами и учениями»3. Учения эти, принятые
целой нацией за изречения оракула, «не могли дать в
результате ничего другого, кроме произведений самых
скудных,холодных, водянистых, самых нетрагичных»4. Поэтика
французского театра несостоятельна там, где речь идет о выражении
живых и естественных чувств, подлинных страстей. Вольтер
прекрасно понимает «канцелярский стиль любви» (den Кап-
zeleistil der Liebe), то есть тот язык, к которому прибегает
любовь, «если хочет сказать только то, чем можно угодить
чопорной софистике и холодному критику»5. Однако и самый
лучший канцелярист «не всегда хорошо знает все
правительственные тайны» (von den Geheimnissen der Regierung)6.
Искусство Вольтера — только первая ступень мудрости: «понимание
лжи», но не вторая: «познание истины»7.
Ослабленной трагичности сценического действия
соответствует у французов ослабленное понятие о существе
трагического, в частности — о трагическом, как его понимал
Аристотель. Знаменитые суждения Аристотеля о трагическом
«катарсисе» («очищении»), о трагическом сострадании и страхе
Лессинг толкует, как выведенный из практики драмы постулат,
согласно которому состраданием и страхом, которые возбуж-
1 Lessings W е г к е, В. 5, S. 200.
2 См. там же, стр. 201.
3 Τ а м же.
4 Τ а м же, стр. 337.
5 Τ а м же, стр. 81.
•Там же.
7 Τ а м ж е, стр. 297.
133
дает трагедия, «должны очищаться наше сострадание и наш
страх и все относящееся к ним»1. Это понимание «катарсиса»
было новым.
Истолкование трагического «катарсиса» имело в эстетике
до Лессинга долгую историю и прошло через различные
стадии. В XVIII веке особенно богатым различными оттенками
были истолкования, развивавшиеся теоретиками
французского классицизма.
Корнель, переводивший καθαρσις посредством
французского purgation («очищение»), не верил в действительность
этого «очищения». Во втором своем «Размышлении» («Discours»)
Корнель ставит это «очищение» на четвертое место — в числе
результатов трагедии: после морального назидания, после
живого изображения добродетелей и пороков и после
поэтической справедливости, которая проявляется в трагической
судьбе героев. Согласно разъяснению Корнеля, сострадание,
которое мы испытываем при созерцании постигших героев
бедствий, есть предостережение: оно побуждает нас страшиться
этих бедствий ради нас самих; испытанный страх побуждает
нас «очищать» те страсти, которые навлекли эти бедствия на
других.
Однако сам Корнель сомневался в возможности такого
очищения: по его мнению, зритель не выходит из театра ни лучшим,
ни худшим,.чем каков он был до спектакля2.
Готтшед принял основу истолкования Корнеля, но с той
разницей, что, будучи верным своему педантизму, он вполне
верит в действительность и эффективность трагического
«очищения». Он видит моральную пользу трагедии в предметном
(exemplaire) уроке, который она дает-: трагедия побуждает
избегать страстей и сильных пороков, так как они —
причина нашей гибели. И подобным образом комедия избавляет
нас от небольших недостатков, которые делают нас
смешными.
Некоторое изменение в интерпретацию «катарсиса» внес
Баттё (Batteux) в «Началах литературы» («Principes de
littérature»), он пояснил, что, по мысли Аристотеля, как он его
понимает, «очищаются» в душе зрителя только аффекты
сострадания и страха и никакие другие. «Катарсис» упражняет нашу
аффективную способность; в зависимости от случая, он смяг-
1 Lessings Werke, В. 5, S. 338.
2 Нивелль обращает внимание (op. cit., р. 203) на повторение этого
взгляда у Гёте. И действительно, в «Nachlese zu Aristotels Poetik» ( Jubiläum's
Ausgabe, Bd. 38, S. 84f) читаем: «Der Zuschauer... wird um nichts gebessert
nach Hause gehen; er würde vielmehr... sich über sich selbst verwundern,
dass er ebenso leichtsinnig als hartnäckig, ebenso heftig als schwach, ebenso
liebvoll als lieblos sich wieder in seiner Wohnung findet, wie er
hinausgegangen».
134
чает или, напротив, возбуждает наши страсти (глава «Какой
может быть моральная цель трагедии»)1.
Истолкование «катарсиса» у Лессинга соединяет в себе
черты морально-дидактического понимания Готтшеда и
понимания Корнеля. Так же как и Корнель, Лессинг полагает, что
трагическое «очищение» («Reinigung», по терминологии
Лессинга) может распространяться только на аффекты
«сострадания» и «страха». Восприятие трагического спектакля не может
подавить или устранить страсти, представленные персонажами
драмы. Здесь Лессинг отклоняется и от Готтшеда и от
Корнеля. Он настаивает на том, что «очищаются» именно аффекты
«сострадания» и «страха», только они одни. «Очищение»
сводится единственно к преобразованию этих двух аффектов
в добродетельные склонности. Моральное действие трагедии —
в том, что она развивает присущие нам склонности к
«состраданию» и «страху», руководит ими или умеряет, сдерживает
их — в случае, когда они в нас чересчур сильны
Лессинг необычайно высоко ценит учение Аристотеля о
трагедии и о «катарсисе». Но это учение для него — не заповедь.
Он ценит Аристотеля, так как ему кажется, будто в Аристотеле
он нашел опору для собственного взгляда на искусство и на
драму. В трагедии сам Лессинг видит поэтическое произведение,
возбуждающее сострадание2. Чувства, вызываемые трагедией
в зрителе, всегда предполагают возможность отнесения того,
что испытывают ее герои,— к нам самим. Уже поэтому
социальный круг, из которого трагический поэт черпает свои образы,
не должен быть ни слишком далеким от современного человека
с его нравственными и научными понятиями о жизни, ни
чересчур возвышающимся над ним по . своему общественному
положению. Навсегда миновал век религиозного искусства,
уже не существует почвы, на которой могла бы процветать,
например, христианская трагедия. Уже во второй статье
«Гамбургской драматургии» Лессинг настойчиво советует
директорам театров: «не ставьте на сцену ни одной из христианских
трагедий, какие имеются до сих пор»3. Христианская
трагедия — область чудес, совершающихся в нравственной жизни.
Но именно потому, что театр должен быть школой
нравственности, чудо должно быть исключено из происходящего на
сцене! «Мы терпим чудеса на сцене только в области физических
явлений, а в нравственном мире все должно идти своим
обыкновенным порядком». Мотивировка нравственных движений и ре-
1 Робертсон (Robertson, Lessing's Dramatic Theory, p. 372 svv.)
развил догадку, по которой это понимание «катарсиса» восходит
к определению добродетели у Аристотеля —в «Этике Никомаха»,— где
добродетель рассматривается как избежание крайних степеней страсти.
2 См.: Lessings W е г к е, В. 5, S. 322.
3 Τ а м же, стр. 32.
135
шений, происходящих в душе, не может быть
сверхъестественной, но только естественной. Современный зритель,
приходящий в театр со своими нравственными запросами, ищет ответа
на них только в сфере реального. «Побудительные причины
(die Bewegungsgründe) всякого решения, всякой малейшей
перемены в мыслях и взглядах, должны быть в точности
взвешены между собой по отношению к раз задуманному характеру,
и они должны производить только то впечатление, какое могут
по самой строгой справедливости»1.
Еще более важным аргументом против христианской
трагедии Лессинг считает характерный для нее состав героев. Герои
эти обычно — мученики. «Но мы живем,— говорит Лессинг,—
в такое время, когда голос здравого рассудка раздается
слишком громко, чтобы всякий сумасброд, который охотно идет
на смерть без всякой нужды, презрев все свои гражданские
обязанности, смел притязать на титул мученика»2.
Отходит в область прошлого также расцветшая во Франции
и навязанная французским тщеславием Европе, питающаяся
духом низкопоклонства и переимчивости трагедия
классицистов. Ее исключительные персонажи, взятые из придворного
круга, не способны вызывать чувства сострадания и страха
в простом зрителе. Несчастья людей, положение которых очень
близко к нашему, всего сильнее действуют на нашу душу,
«и если мы сочувствуем королям, то просто как людям,
а не как королям». Имена князей и героев «могут придать пьесе
пышность и величие, но нисколько не способствуют ее
трогательности». Если даже благодаря их сану несчастья их
«приобретают большее значение, то для нас оно не становится от этого
более интересным»3.
Правда, во Франции гением Дидро, Мармонтеля и других
рождена и оправдана «буржуазная трагедия». Но Лессинг
не видит для нее возможностей успеха здесь, во Франции.
Развращающее влияние французского высшего общества привило
дух тщеславия и городскому — буржуазному — сословию:
«по-видимому, буржуазная трагедия все-таки не будет иметь
у них большого успеха». Эта нация, по мнению Дидро, «слишком
тщеславна (ist zu eitel), слишком влюблена в титулы и в другие
внешние знаки отличия. У них все, вплоть до самых простых
людей, хотят знаться с высшими, а общество равных себе
считается дурным обществом». Впрочем, может быть, природа
и во Франции «только ждет поэта, который был бы в состоянии
изобразить ее во всем ее истинном величии и силе»4.
1 Lessings W е г к е, В. 5, S. 31.
2 Τ а м же, стр. 30.
3 Τ а м же, стр. 77.
4 Τ а м же.
136
Осужденной им поэтике классицизма Лессинг
противопоставляет поэтику Аристотеля, правильно понятого, очищен-
ного от ложных истолкований французских драматургов и
теоретиков. В теоретические понятия и термины автора «Поэтики»
Лессинг вдохнул характерный для него самого, но
несвойственный Аристотелю, революционный дух — дух ненависти и
восстания против общества феодально-абсолютистского угнетения
личности. Ненавистью и страстью революционного мыслителя
дышат страницы «Гамбургской драматургии», на которых
Лессинг разбирает такие понятия Аристотеля, как νέμεσις —
негодование на «счастье злодея» или μιοψον — отвратительное г
состоящее в бедствии людей, вполне добродетельных, вполне
невинных1.
Но особенность Лессинга как эстетика и теоретика
литературы в том, что у него общественно-политическая
направленность искусства и теории не ослабляет внимания,
направленного на познание и определение специфических черт, признаков
и форм искусства. В тех же анализах, которые были средством
восстания против целей и задач театра классицизма, орудием
критики его узкой социальной базы, его угоднической морали,.
Лессинг выясняет специфические особенности, отличающие
драму от эпоса, трагедию — от поэмы.
В исследовании этих особенностей Лессинг отдает должное
форме. Он исходит из предположения, что существуют роды
искусства — каждый со своими чертами и со своей областью
применения. Если это так, рассуждает он, то произведение
искусства, например пьеса, не только должна «производить
на нас впечатление — она должна производить такое
(впечатление), какое подобает ей сообразно ее роду»2. Но и здесь, при
выборе формы или рода, автор должен руководствоваться
значительностью, силой чувств и мыслей, отливающихся в
избранную им форму: «К чему трудиться над тяжелой обработкой
драматической формы; к чему строить театр, переодевать мужчин
и женщин, утруждать их память, собирать в одно место целый
город, если я моим произведением и представлением его на сцене
могу вызвать лишь некоторые из тех душевных волнений, какие
может вызвать и хороший рассказ?»3
Оправдание драматической формы — в том, что только
произведением в драматической форме можно возбудить
сострадание и страх: по крайней мере никакая другая поэтическая форма
не может возбудить этих чувств в столь сильной степени. Когда
Аристотель определяет трагедию как подражание действию
не при помощи рассказа, а при помощи сострадания и страх а г
1 См.: Lessings Werke, В. 5, S. 329.
2 Τ а м же, стр. 331.
3 Τ а м же, стр. 322.
137
то в этом определении он имеет в виду именно специфические
признаки, отделяющие трагическое от эпического. Дело здесь
в том, что для сострадания «непременно требуется наличное
несчастье» (ein vorhandenes Übel; курсив мой.— В. Α.). Мы или
не можем сострадать, или далеко не так сильно сострадаем
несчастью, давно минувшему или только предстоящему, как
несчастью длящемуся, продолжающемуся. Отсюда следует,
выводит Лессинг, что подражать действию, которым мы хотим
вызвать сострадание, необходимо «не в повествовательной,
а в драматической форме, как наличному»1.
Это требование, касающееся формы драматического
произведения, Лессинг не отделяет от другого, характеризующего
социальную содержательность трагедии, социальный базис,
из которого она черпает своих героев. В истинной трагедии, как
«е понимает Лессинг, существуют требования, предъявляемые
составу действующих лиц. Социальная исключительность,
узость этого состава свели к минимуму действие сострадания
и страха, доступное классической французской трагедии.
Напротив, в трагедии, какой она должна быть, действие сострадания
и страха обусловлено жизненной близостью героев к зрителю
я зрителей к героям. Здесь вероятность того, что страдание,
изображенное в трагедии, может поразить и нас, может возрасти
до высокой степени. Это произойдет, если поэт «изобразит своего
героя не хуже, чем мы обыкновенно бываем, если он заставит
«го думать и действовать так, как мы бы думали и действовали
в его положении или, по крайней мере, полагаем, что должны
были бы думать и действовать. Одним словом,— если он
изобразит его, как человека, сделанного из одного с нами теста»2.
При однородности — социальной и нравственной — героев
и зрителя бедствие, которое изображает автор и которому
предстоит вызвать наше сострадание, необходимо будет вызывать
также и страх. Но не «ужас» (Schrecken), а именно «страх»
{Furcht): «и за нас самих и за одного из близких нам»3.
С окончанием представления трагедии наше сострадание
лроходит, но страх перед несчастьем, которое было нам
показано и которого мы можем ожидать для самих себя, остается: мы
^го выносим из театра. А так как, составляя часть сострадания,
страх способствует очищению сострадания, то — в качестве
длящегося чувства — страх способствует и собственному
очищению.
Трагическое сострадание и трагический страх имеют
двойное воспитывающее действие на зрителя. Сострадание
воспитывает, усиливает в зрителе чувство социальной отзывчивости,
1 Lessings Werke, В. 5, S. 322.
2 Τ а м же, стр. 315.
3 Τ а м же, стр. 314.
138
способность захватываться самому зрелищем страданий и
бедствий, которые испытывают другие. «Трагическое сострадание
должно не только — по отношению к состраданию — очищать
душу того, кто чувствует слишком сильное сострадание, но
и того, кто чувствует его слишком слабо» (welcher zu wenig
empfindet)1. Трагический страх очищает не только душу того, кто
вовсе не боится никакого несчастья, но и «того, в ком вызывает
тревогу всякое несчастье, даже самое отдаленное, самое
невероятное».
Эти свои разъяснения Лессинг направляет против Дасье,
который не объяснил, почему Аристотель, признавая, что
сострадание включает в себя чувство страха, в то же время особо
говорит о страхе, показывает, какие именно страсти должны
очищаться в нас страстями, вызываемыми трагедией2.
IX
Из сказанного видно, что в понимании действия, какое
драматическое произведение должно оказывать на зрителя,
Лессинг сильно отклонился от взглядов драматургов и
теоретиков классицизма. Отклонение это не так бросается в глаза
в теории комического, но тем более резко выступает в теории
трагического. «Общество», возводившееся на подмостки театра
в трагедиях классицистов, было отделено от зрителя из «третьего
сословия» всей той пропастью, которая отделяла в XVIII веке
абсолютистскую верхушку — двор и придворное дворянство —
от городской буржуазной публики. Относить к самому себе
чувство страха, вызываемое трагическими и нравственными
коллизиями, противоречиями этого общественного круга,
буржуазный зритель мог лишь в слабой степени.'
Напротив, трагическое очищение, о котором говорит
Лессинг, предполагает, что социальная разнородность «общества»,
изображаемого на сцене, и общества, наполняющего зрительный
зал, не существует. Зритель, естественно, относит к самому
себе, как свое возможное будущее, трагические судьбы
выведенных автором героев. Его сострадание к этим героям, страх,
внушенный их трагической участью, есть сострадание и страх,
перенесенный на собственную участь.
Такая трагедия предполагает, что главным элементом
театрального произведения будут характеры героев и их
обусловленные характерами действия.
Мысль эта отделяет Лессинга от Дидро. В Приложении
к «Побочному сыну» Дидро исходил из предвзятой предпосылки,
будто человеческие характеры различаются между собой только
1 L е s s i η g s Werke.B. 5, S. 327.
2 См. τ a m же, стр. 314, 315, 321.
139
немногими мелкими чертами и потому не легко поддаются
изображению. В применении к комедии он полагал, будто в жизни
не найдется более дюжины истинно комических характеров»
которые могли бы быть обрисованы яркими, широкими чертами.
«До сих пор,— писал Дидро,— в комедии рисовались главным
образом характеры, а общественное положение было лишь
аксессуаром; нужно, чтобы на первый план выдвинуто было
общественное положение, а характер стал аксессуаром... Общественное
положение, его обязанности, его преимущества, его трудности
должны быть основой произведения. Мне кажется,— заявляет
Дидро,— что этот источник плодотворнее, шире и полезнее,
чем характеры. Если характер хоть немного шаржирован,
зритель может сказать себе: это не я. Но он не может скрыть от себя,
что положение, которое изображают перед ним, это его
положение, но не сможет не узнать свои обязанности. Он неизбежно
должен применить к себе то, что услышит со сцены»1.
Но Лессинг не согласен с такой оценкой значения
характеров. Ни общественное положение, ни сословие, ни государство,
думает он, не могут вызвать нашей симпатии как понятия,
слишком отвлеченные для наших чувств: «для нашего сострадания
нужен отдельный предмет» (unsere Sympathie erfordert einen
einzelnen Gegenstand)2. Такой предмет есть личность, наделенная
и движимая характером. Личность, которая слишком легко
стушевывается, не есть вовсе характер и «недостойна
изображения в драме». Даже в комедии, где характеры отличаются
наибольшей общностью, они все же — характеры. Комический
характер — общий, обыкновенный, но «не потому, что обыкно-
венен самый характер, а потому, что обыкновенна степеньt
мера его»3.
В своих возражениях против Дидро Лессинг
солидаризируется с Палиссо. В «Маленьких письмах о великих философах»
(«Petites lettres sur les grands philosophes». Lettre II) писатель
этот, ссылаясь на опыт Мольера, доказал, что природа «вовсе
не так уж бедна самобытными характерами и (что) неправда —
(мнение), будто комические поэты исчерпали их»4. Так, Мольер
имел перед собой еще достаточный запас новых характеров
и полагал, что разработал «лишь самую малую часть того,
сколько можно было разработать»5.
Непреложным законом сценической рисовки жизни Лессинг
считает изображение естественных причин образования
характеров: «все, что относится к характерам действующих лицг
1 Д. Д и д ρ о, Собр. соч., т. V, М.— Л., «Academia», 1936, стр. 160—
161.
2 Less in g s Werke, В. 5, S. 76.
3 Τ а м же, стр. 387.
4 Τ а м же, стр. 355.
5 Τ а м же,
140
должно вытекать из самых естественных причин»1. Недопустимы
не только применяемые христианской трагедией
сверхъестественные силы, действующие на характеры героев. Недопустима
также подмена живого характера абстрактным образом
сословия. Особенно в комедии недопустимы, по Лессингу,
идеализированные олицетворения сословий, которыми подменяется
изображение живых индивидуальных характеров. «Личности,
олицетворяющие сословия,— говорит Лессинг,— стали бы
поступать всегда так, как того требуют долг и совесть, в
полном согласии с книжной мудростью» (völlig wie es im Buche
steht)2... Но разве мы этого требуем от комедии?
Даже если признать, что действительно комических
характеров мало и что все они уже обработаны авторами комедий, то
и тогда, утверждает вслед за Палиссо Лессинг, сословие,
поставленное на месте индивидуальных характеров, не устранит
затруднение. Возьмем хотя бы судейское сословие. «Разве я не должен
придать судье известный характер? Разве он не должен быть
или печален, или весел, приветлив или суров? Не в силу ли
характера выйдет он из ряда метафизических отвлеченностей
и станет живой личностью? Стало быть, не на характере ли вновь
будут основаны и интрига и мораль пьесы?»3 (Лессинг дает
свой немецкий перевод процитированной тирады Палиссо).
Через всю поэтику Лессинга энергично проходит требование
индивидуализации характеров. Лессинг обосновывает это
требование и собственными доводами, и ссылками на Аристотеля,
и полемикой против Дидро и Дасье. Особенно настаивает
Лессинг на необходимости изображения в драме возможно более
различных характеров. Он явно предпочитает различные
характеры характерам противоположным: «характеры, составляющие
между собой контраст», не столь естественны, по Лессингу,
и усиливают «романтический оттенок, без которого и помимо
того редко обходится дело при создании драматической фабулы»4.
Особенно трудной представляется Лессингу задача
изображения идеального характера. Изображению этому препятствует
то, что идеальный образ чаще всего сбивается на образ,
лишенный индивидуальных отличительных черт: так, «пьесы, в
которых будет изображаться идеальный отец, будут не только
неестественнее, но и однообразнее тех, в которых будут
выводиться отцы, следующие различным принципам»5. «Идеальный»
отец — всегда одинаков и типичен, отклонений же от этого
типа бесчисленное множество6.
1 L е s s i и g s Werke, В. 5, S. 31.
2 Τ a m же, стр. 356.
3 Τ a м же.
4 Τ a м же, стр. 357.
6 Τ a м же, стр. 359.
β См. там же, стр. 357.
141
Преимущество индивидуальных характеров перед
характерами просто контрастными вовсе, однако, не означает, будто
перед драматургом, разрабатывающим индивидуальные
характеры, закрывается путь к изображению контрастов,
антагонизмов, борьбы, происходящей в обществе. При обострении
этой борьбы характеры, сами по себе только различные,
естественно, превращаются в противоположные, антагонистические.
«Несомненно... — поясняет Лессинг,— что те характеры,
которые представляются только различными (bloss verschieden)
при спокойном и мирном настроении общества, окажутся
противоположными (sich von selbst kontrastieren), как скоро
возникнет борьба вследствие столкновения интересов»1. И Лессинг
находит вполне естественным, что в этом случае «личности будут
казаться еще более^ несходными, чем это есть на самом деле.
Личность энергичная сделается пылкой, огненной в сравнении
с той, которая будет вести себя спокойно, а спокойная станет
холодной как лед, чтобы заставить первую поступить настолько
опрометчиво, насколько это полезно для последней»2.
X
Театр, в котором нравственная задача — воспитание
зрителя — достигается посредством изображения
индивидуализированных характеров, их действий и их борьбы, не может быть,
по Лессингу, ни продолжением театра классицистов, ни простым
возвращением к театру Софокла и Еврипида. Это будет театр,
новый по своей поэтике. Его основная черта — естественность,
с какой различием выведенных в пьесе характеров
определяются и действия персонажей и их образ мыслей. В драме
известный образ мыслей, разъяснял Лессинг, должен соответствовать
характеру того лица, которое его высказывает. Следовательно,
заключает Лессинг, они не могут иметь «печать абсолютной
истины» (das Siegel der absoluten Wahrheit)3.
Для драматурга достаточно, если суждения и мнения
действующих лиц будут истинны «в поэтическом смысле» (wenn sie
poetisch wahr sind), то есть если мы должны будем признать, что
«такая-то личность в такой-то ситуации, проникнутая такой-то
страстью, не может рассуждать иначе»4.
В то же время эта «поэтическая истинность» должна все же
приближаться к истине абсолютной, и поэт никогда не должен
рассуждать так нефилософски, чтобы допускать, что человек
может, например, «стремиться к злу ради самого зла»5.
1 Lessings Werke, В. 5, S. 358.
2 Τ а м же.
3 Τ а м же, стр. 34.
4 Τ а м же.
6 Τ а м ж е.
142
Лессинг сознавал, что драматургия, построенная на его
принципах и преследующая указанные им общественные и
нравственные задачи, должна быть новаторской. Такой драматургии
не было в современной Лессингу Германии. Он сам
содействовал ее основанию собственными драмами. Не было такой
драматургии и в театре французских классицистов. Даже поэтика
Дидро, оказавшего на Лессинга сильное и плодотворное
влияние, не полностью совпадала с понятиями Лессинга о драме
и не полностью им разделялась. Мы только что видели, с какой
убежденностью отклонил Лессинг мысль Дидро, будто драматург
должен идти от сословия к характеру, и требовал, чтобы все
исходило от характера, помещенного в известную ситуацию.
Причастный к новаторству в самом искусстве, Лессинг
должен был и в качестве теоретика поставить вопрос о новаторстве
и о традиции. И он действительно его ставит, хотя не в самом
общем его содержании, а всегда по поводу той или иной более
или менее частной проблемы. Так, многие из своих мыслей
о новаторстве, о границах обязательного для драматурга
подчинения правилам, о необходимости самих правил и т. п.
Лессинг развил в разборе «Меропы» Вольтера и порожденных
ею суждений критики.
Задолго до Канта Лессинг пришел к убеждению, что
гениальный художник создает произведение не по предписанным ему
и принятым к исполнению общим правилам. Напротив: после
того как гениальное произведение искусства уже возникло, оно-
становится основанием, откуда педантами теории выводятся
правила. Вместе с Дидро и его же словами Лессинг бичует
эстетическое доктринерство, кодекс незыблемых и неотменяемых
правил, выведенных из принятого и признанного критикой
круга образцов искусства. «О вы, составители общих правил!
Как мало вы понимаете искусство и как мало в вас от гения г
создавшего те образцы, на которых вы их основываете, и
могущего нарушать их, сколько ему угодно»1.
Одним из смешных проявлений педантического понимания
традиции и эстетических правил Лессинг считал проводившееся
драматургами классицизма резкое разделение родов:
трагического и комического. Теория эта предполагала, будто в жизни
постоянно встречается и «чисто» трагическое без всякой примеси
комического и, наоборот, «чисто» комическое без примеси
трагического. Во всяком случае, так должно быть в искусстве.
Искусству не подобает смешивать различные роды в одном
произведении.
Лессинг отрицает доктрину «чистых», «несмешанных» родов
как с точки зрения искусства, так и с точки зрения жизни. Он
напоминает, что уже Л one де Вега, ссылаясь на национальную
Lessings Werke, В, 5, S. 208. Цитата из Дидро.
143
традицию испанского театра, а также на некоторые
произведения театра античного, отвергал непроницаемую стену,
отделяющую будто бы трагическое от комического. Его не смущает
неодобрение, с каким Плутарх говорит о смешанном стиле
древней комедии по поводу Менандра. Правда, Лопе де Вега
понимает, что ему трудно будет оправдать свой взгляд против таких
авторитетов. Лессинг ссылается на эпическую поэму «Об
искусстве сочинять новые комедии», где Лопе де Вега
противопоставляет ученой античной традиции народную традицию испанской
драмы. «Это смешение элементов,— писал Лопе де Вега,—
нравится; не хотят смотреть никаких других пьес, кроме тех,
которые наполовину серьезны, наполовину забавны: сама
природа учит нас этому разнообразию, от которого зависит
известная доля ее красот»1.
Лессинг выписывает этот отрывок из Лопе де Вега (как он
■сам в этом признается) «именно ради этих последних слов».
Если правда, рассуждает он, что сама природа служит для нас
образцом в сочетании обыденного с возвышенным, шуточного
€ серьезным, веселого с печальным, то Лопе де Вега «сделал
больше того, чем хотел: он не только скрасил недостатки
испанской драмы, но и доказал, что по крайней мере этот недостаток —
вовсе не недостаток: не может быть недостатком то, что
составляет подражание природе»2.
В основе строгого разграничения родов трагического и
комического лежат, как в основе всякого заблуждения, некоторые
действительные факты. Существуют такие явления в
нравственном поведении человека, которые слишком ничтожны по своему
непосредственному влиянию на благосостояние обществаи
слишком изменчивы по своему характеру, чтобы быть достойными
стоять под надзором закона. Явлениям этим отводят строго
отграниченную область комического. И существуют другие
явления: для них недействительна вся сила закона, их
побудительные причины сами по себе так непонятны, так чудовищны
и так неизмеримы по своим последствиям, что они или совсем
ускользают от кары закона, или никак не могут быть достойно
наказаны по заслугам. Этим явлениям отводят столь же строго
отграниченную сферу трагического3.
Лессинг отрицает непреложный характер этого различения.
Он не оспаривает того, что драма, вообще говоря, берет свои
сюжеты или по эту, или по ту сторону границ закона. Согласен
он и с тем, что драма касается предметов, подлежащих ведению
закона, лишь настолько, насколько они переходят в смешное
или входят в область ужасного. Но Лессинг отказывается огра-
1 Les s in g s Werke, В. 5, S. 291.
2 Τ а м же, стр. 291—292.
3 См. там же, стр. 50.
144
ничивать комедии сферой первых явлений как родом смешного,
а трагедии — вторыми явлениями как явлениями
нравственного мира, которые выходят из ряда обыкновенных, приводят ум
в удивление и потрясают душу. «Гений,— говорит Лессинг,—
смеется над всеми этими разграничениями критики»1.
Но отрицание непреложности границ, отделяющих
различные роды друг от друга, не означает, по Лессингу, отрицание
существования самих родов как таковых и отрицание правил,
стеснительных и обветшавших, не есть отбрасывание всяких
правил. Современник «штюрмеров», Лессинг не мог разделить
с ними их идеи эстетического анархизма и неподвластности
искусства и творчества никаким законам.
Неподвластность гения правилам — только мнимая. Даже
когда мы имеем дело с художником высшего ранга,
заслужившим славу новатора, сломавшим каноны традиции,
внимательное изучение его произведений показывает, что упразднение
одних правил всегда сопровождается у него добровольным
приятием других, пришедших им на смену. «В пьесах, в которых
не соблюдаются правила классические, могут и должны
соблюдаться какие-нибудь определенные правила, для того чтобы эти
пьесы имели успех». Тот же Л one де Вега думал, что если вкус
его нации — грубый и варварский, то это «не мешает ему,
однако, иметь свои принципы». По Лопе де Вега, «лучше
руководиться ими, постоянно соблюдая единообразие, чем не
руководиться ничем»2. Напротив, немецкие драматурги сделали
из крушения поэтики французского классицизма чисто
нигилистические выводы. Изучая произведения английского театра,
они пришли сначала к открытию, что трагедия может
производить и иное действие, отличное от того, какое производили
трагедии Корнеля и Расина. Но ослепленные этим внезапно
блеснувшим лучом истины, немцы отпрянули к другому краю
пропасти: «В английских пьесах слишком очевидно не
соблюдались некоторые правила, с которыми нас так коротко
ознакомили французские драмы. Что же вывели из этого?» А вывели
то, что «с этими правилами (mit diesen Regeln) начали
смешивать все правила вообще {alle Regeln... überhaupt) и объявлять
педантизмом вообще стремление предписывать гению, что он
должен и чего не должен делать»3.
Но гениальность не есть ни абсолютная свобода от правил,
норм, образцов, ни неподвластность художника критике.
«Штюрмеры», отстаивая творческое своеволие гениального
художника, издевались над критикой, отрицали ее способность
указывать художнику в явлениях искусства нечто такое, что
могло бы быть полезно ему как художнику.
1 L е s s i η g s W e г k β, В. 5, S. 50—51.
2 Τ a m же, стр. 290.
8 Τ a м же, стр. 412.
10 в. Асмус
145
Взгляд этот на критику усвоили не только писатели,
которым кажется, что они — гении, но и некоторые критики,
которые думают о себе самих то же самое. С убийственной
насмешкой говорит Лессинг о возникшей в Германии школе критиков,
«самая лучшая критика которых состоит в том, что они
подрывают доверие ко всякой критике. «Гений! гений! — кричат они: —
гений выше всяких правил! То, что делает гений, то и правило!»1.
Но, по Лессингу, льстят таким образом, гениям, вероятно,
для того, чтобы самим прослыть гениями. Однако, прибавляя,
будто правила подавляют гений, подобные критики слишком
скоро обнаруживают, что в них самих «нет следа даже и искры
гениальности»2.
Абсолютному метафизическому пониманию непреложности
правил, непререкаемой авторитетности критики и такому же
абсолютному пониманию их недействительности и
неавторитетности Лессинг противопоставил свое представление об
относительном, преходящем характере традиции, авторитетов
и о всегда остающейся необходимости существования какой-то
традиции и каких-то авторитетов. Лессингу кажется нелепой
сама мысль, будто подлинный гений может быть подавлен чем
бы то ни было. Особенно нелепо думать, будто он может быть
подавлен тем, что, согласно мнению этих критиков, порождено
им же самим. Ибо, рассуждает Лессинг, если не всякий критик
гений, то уж, во всяком случае, «каждый гений —
прирожденный критик. Он в самом себе заключает мерило всех правил.
Он понимает, запоминает и соблюдает только те правила,
которые помогают ему выражать в словах его ощущения»3.
Творческая сила неотделима от сознательной рефлексии
художника о принципах и о методах его собственной работы.
«Кто правильно рассуждает, тот и созидает, а кто хочет
созидать, тот должен уметь рассуждать. Только тот, кто неспособен
ни к тому, ни к другому, полагает, будто это — две разные
вещи»4.
Эстетические исследования и анализы самого Лессинга —
пример необходимой и плодотворной рефлексии об искусстве,
которой он требовал от художника и от критика. По широте
охвата и по глубине трактовки эстетических проблем теория
искусства Лессинга оказалась выдающимся звеном в развитии
немецкой эстетики XVIII века. Искусство рассматривается
в ней как одна из серьезнейших деятельностей человека, как
сила, формирующая нравственное воспитание члена общества.
Вместе с тем эстетика Лессинга отдавала должное
искусству как искусству. Она исходила из убеждения, что свои
1 L е s s i η g s W e г k e, B. 5, S. 390.
2 Τ a m же.
8 Τ a m же.
4 Τ a м же, стр. 391.
146
общественные — воспитательные и идейные — задачи
искусство может выполнять только там, где соблюдаются все
условия, которые делают его искусством — совершенно
своеобразным видом духовной деятельности. Отсюда — значение,
которое Лессинг приписал особым средствам изобразительности г
свойственным каждому отдельному виду искусства —
скульптуре, живописи, музыке, поэзии, а внутри поэзии — эпосу,
трагедии и комедии.
Со всем тем эстетика Лессинга — духовный плод
теоретической мысли XVIII века. На ней еще лежит печать
рассудочности, рационализма, характеризующих эстетическую мысль
этого столетия. Лирический элемент искусства оставлен Лес-
сингом без достаточного внимания. Говоря о трагедии, Лессинг
обсуждает аффекты сострадания и страха, их «очищающее»
действие. Но ни лирика в поэзии, ни лирический элемент
музыки, ни лирическое действие живописи, например пейзажа,
не стали для Лессинга предметом эстетического анализа. Басня
с ее морально-дидактической направленностью
представляла в его глазах интерес больший, чем поэма. Должен был
явиться Гердер, для того чтобы огромный и значительный мир
лирической поэзии предстал перед теоретиками -искусства
во всей своей значительности — ив ширину как область
всемирной поэзии, и в глубину как бесконечно богатый мир
чувств, выраженный средствами поэзии, поющий из глубин
сердца многоязычными голосами народов Востока и Запада.
10*
Глава четвертая
ЭСТЕТИКА КАНТА
В настоящем разделе мы рассмотрим эстетику Канта во
всех ее основных учениях и во всех ее существенных чертах.
В своем теоретическом содержании эстетика эта — сложный
факт и сложный фактор идейной жизни немецкого общества
конца XVIII века. Каким бы отвлеченным ни было
теоретическое содержание этой эстетики, она, конечно, есть явление
общественной мысли Германии. Как такое явление она
подлежит объяснению в науке, которая называется историей
общественной мысли. Метод этой науки дан учением марксизма-
ленинизма — в частности, учением исторического
материализма в его применении к истории идейного развития.
Задача марксистской истории идеологии состоит, как
показал Маркс, не в том, чтобы указать реальные, коренящиеся
в исторических условиях общественной жизни основы той или
иной идеологии. Марксистский метод не есть метод, идущий
от идейного построения к его «земному» — реальному
общественно-историческому основанию. Кто видит задачу научного
объяснения идеологических явлений только в простом
обнажении или исследовании их реальной жизненной основы, тот
стоит не на марксистской, а на домарксистской точке зрения.
На этой точке зрения стоял, например, Фейербах в своих
замечательных исследованиях, посвященных религии.
Фейербах рассматривал совокупность фантастических религиозных
представлений о богах, а затем стремился показать их
действительную, реальную, «земную» основу. Так, в иерархии
божественных сил и сущностей, о которой учила идеология
христианской религии, он старался открыть — как ее основу —
реальную иерархию властей, политических сил феодального общества.
Маркс показал, что для научного — материалистического
объяснения истории идеологии метод этот недостаточен. Марк-
148
сизм не останавливается на выявлении реального ядра
идеологических построений. Задача марксистской исторической
науки состоит в том, чтобы показать необходимость, с какой
такая-то общественная основа, такие-то общественные
отношения между людьми (отношения по производству)
порождают такие-то идеологические представления, понятия,
верования, идеалы и т. п. Только такой метод есть, по Марксу, метод
подлинного научного объяснения идеологии.
Но Маркс и Энгельс показали, что задача подобного
объяснения—далеко не простая. Чем сложнее идеологическое
построение, чем отвлеченнее оно по отношению к породившей его
общественно-исторической действительности, тем менее
возможным и допустимым оказывается прямое выведение идейного
явления из его материальной исторической основы.
В высокоразвитых формах идейной жизни — как, впрочем,
и в других видах деятельности общественного человека,—
действует замечательный закон. Состоит он, по разъяснению
основателей марксизма, в следующем. Ни одно из
последовательно сменяющих друг друга поколений общества, в момент,
когда это поколение вступает в период сознательной
деятельности и приступает к решению стоящих перед ним задач, не
начинает своей работы «на пустом месте», сызнова, не опираясь
ни на какой предшествующий опыт. Люди сами делают свою
историю, но делают ее не в тех условиях, которые сами же
они для себя установили и выбрали. Они застают не только
известную историческую общественную ситуацию,
сложившуюся до их появления на исторической арене. Они застают целую
систему взглядов, понятий, идей, при помощи которых и в
формах которых их предшественники пытались осознать, осмыслить,
понять собственную общественную — социальную и
политическую — деятельность. Это — сложившиеся до них религиозные,
философские, научные и художественные представления.
Новое поколение не действует вполне бессознательно и
безотчетно. Оно пытается осмыслить для самого себя задачи,
цели и условия своей деятельности. Но для осмысливания их
оно вынуждено прибегать к историческим, политическим,
правовым, философским, религиозным, художественным
понятиям, которые, во-первых, были созданы не самим этим
поколением, а предшествующими ему поколениями. Во-вторых,
оно вынуждено прибегать к понятиям, которые были
выработаны для осмысливания другой исторической ситуации и
отражают иной — предшествующий — уровень исторического,
в частности, идейного развития общества.
Конечно, новое — современное — поколение использует
сложившиеся до него идеологические представления отнюдь не
пассивно. Оно не оставляет их неприкосновенными. Оно
изменяет их с тем, чтобы сделать их пригодными для осмысливания
149
собственных, современных и, строго говоря, беспрецедентных
задач. Кое-что в этих понятиях оно просто отбрасывает как
совершенно несоответствующее и даже противоречащее этим
задачам, кое-что изменяет, приближает к пониманию и
осмысливанию современных задач1. Но — так или иначе — оно
вынуждено ими пользоваться. Оно не может сразу выработать
для себя совершенно новые понятия, которые не стояли бы
ни в каком отношении, ни в какой связи с идеологией
предшествующих поколений. Оно вынуждено — по крайней мере
частично — опираться на традицию — философскую,
научную, эстетическую. Даже в самом активном, творческом,
казалось бы, сосредоточенном исключительно на современных
запросах приспособлении старых форм идеологии к новым
задачам общественной жизни и борьбы, всегда можно с
точностью указать и выделить черты и признаки этой традиции.
К этому еще присоединяется влияние разделения форм
идеологического труда. Энгельс в своих поздних письмах
90-х годов вновь подчеркнул его большое значение. В силу
разделения умственного труда возникает еще большая
относительная самостоятельность каждой отрасли идеологического
творчества. Возникают отдельные друг от друга история
философии, история науки, история религии, история искусства.
Внутри истории философии возникают история логики,
история этики, история эстетики и т. д.
Все эти основополагающие принципы марксистского метода
объяснения идеологии необходимо помнить при любых
исследованиях в области истории философии. Они имеют
особо важное значение при изучении философии и эстетики
Канта.
Дело в том, что задачи изучения этой философии и эстетики
осложнены крайним своеобразием исторических условий
развития Германии и немецкой общественной мысли во второй
цоловине и особенно в конце XVIII века.
Философия Канта была теоретическим осмысливанием
французской буржуазной революции, но осмысливанием в
исторических условиях развития не Франции, а отсталой Германии
того времени. Классы бывшего феодального общества не
сложились еще здесь как классы общества капиталистического.
Немецкая буржуазия еще не сознавала себя в качестве класса
буржуазного общества.
1 Маркс показал, что, например, эстетики и драматурги
французского классицизма приспособили и изменили — в интересах современных
им задач искусства — теорию трагедии Аристотеля. Это ее
переосмысливание было для них настолько жизненно необходимым, что, когда Дасье
доказал им ошибки, допущенные ими в их истолковании «Поэтики»
Аристотеля, они продолжали придерживаться своего, исторически
ошибочного толкования.
150
Это положение вещей привело к неизвестному во Франции,
но крайне характерному для Германии явлению. Во Франции
буржуазный класс в своей политической и идеологической
деятельности, конечно, не был свободен от всяких иллюзий. Борьбу
за свои непосредственные — узкие, эгоистические — классовые
интересы французские революционные буржуа осознавали
как борьбу, которую они вели в интересах всего угнетенного
феодальным строем народа, как борьбу за всеобщую свободу
и равенство. Конечно, это была иллюзия. Но в условиях
революционной ситуации, а затем и революции, разразившейся во
Франции, иллюзия эта имела и вполне реальную основу.
Буржуазный класс Франции действительно объединил вокруг
себя в конце XVIII века и затем повел за собой в начавшейся
в 1789 году революции все оппозиционные и все
революционные слои, классы и силы французского народа. Это был момент
истории, когда революционный класс, действующий как
отдельный класс, в то же время оказывался на известный
период представителем интересов всей угнетенной старым
порядком части общества. Впоследствии представительство
это прекратится. Внутри самого «третьего сословия» выступит
антагонистическая противоположность интересов рабочего
класса и класса капиталистов. Буржуазия уже не будет
представлять интересы угнетенного народа в целом. Революционные
иллюзии уступят место реалистической прозе. Классовый
эгоизм и классовая корысть выступят в своей неприкрытой,
неприглядной форме.
Чтобы все это могло произойти, буржуазному классу
необходимо было уже в период своего революционного общенацио-·
нального «представительства» понимать и ясно сознавать свои
классовые, в последнем счете — материальные, интересы. Так
оно и было в действительности. Французская буржуазия
провела свою революцию на высоком, уровне классового
самосознания. Она уже не нуждалась во многих иллюзиях, которые
оставались еще духовным условием революционной деятельности
предшествовавших буржуазных революций XVI—XVII веков.
Она не испытывала потребности в религиозной мотивировке
и в религиозном оправдании своего революционного действия,
как ее испытывали, например, немецкие революционные
крестьяне и горожане в начале XVI века или английские
революционные буржуа в 40-х годах XVII века. На ее идейных
знаменах были начертаны только «светские», а не религиозные
лозунги.
Совершенно другая обстановка сложилась в конце XVIII
века в Германии. Мыслители и публицисты Германии, и первый
из них Кант, приветствовавшие начало французской
буржуазной революции, не могли развить прямую мотивировку
своих революционных симпатий, опиравшуюся на прямые
151
материальные классовые интересы. Эти интересы не были еще
осознаны как интересы класса. Германия была страной, в
которой сословия феодального общества уже отмирали, а
классы капиталистического общества — как классы, осознавшие свои
интересы,— еще не родились. В этих условиях идейное
выражение еще неоформившегося классового сознания
отделилось — в отвлеченной мысли Канта — от материального
классового интереса, отражением которого это сознание на деле
является.
По разъяснению Маркса, ни Кант, ни немецкие бюргеры,
выразителем интересов которых он был, «не заметили, что
в основе... теоретических мыслей буржуазии лежали
материальные интересы и воля, обусловленная и определенная
материальными производственными отношениями; поэтому он
отделил это теоретическое выражение от выражаемых им
интересов, превратил материально мотивированные определения
воли французской буржуазии в чистые самоопределения
«свободной воли», воли в себе и для себя, человеческой воли и сделал
из нее, таким образом, чисто идеологические моральные
постулаты и логические определения»1.
Недостаток реальной политической силы и ясного
классового самосознания привел к тому, что внимание философа
направилось не на вопрос о борьбе с противоречиями и язвами
общественного строя, а только на чисто мысленное —
«идеологическое» — их преодоление и на их устранение в отвлеченном
мире философской мысли. Политическая мысль Канта «этизи-
руется», то есть сводится к мысли об этических
противоречиях общественной жизни и об этическом, только этическом,
способе их устранения. Реальные классовые интересы
превращаются — в сознании Канта — в отвлеченные «постулаты»
«практического», то есть этического «разума». Формальный
в своем содержании, «категорический императив»
(безусловное веление нравственного долженствования) подменяет
собой категорическую волю к революционному
преобразованию общества. «В то время,— говорит Маркс,— как
французская буржуазия, благодаря колоссальнейшей революции,
какую только знает история, достигла господства и завоевала
европейский континент, в то время как политически уже
эмансипированная английская буржуазия революционизировала
промышленность и подчинила себе Индию политически, а весь
остальной мир коммерчески,— в это время бессильные
немецкие бюргеры дошли только до «доброй воли». Кант
успокоился на одной лишь «доброй воле», даже если она остается
безрезультатной, и перенес осуществление этой доброй воли, гар-
1 К.Маркс и Ф.Энгельс, Соч., изд. 1, т. IV, М., 1933,
стр. 175—176.
152
монию между нею и потребностями и влечениями индивидовг
в потусторонний мир»1.
В результате философское сознание Канта пронизывается
глубоким противоречием. Влияние демократических идей
Руссо способствует осознанию тезиса о непререкаемом
достоинстве каждой отдельной человеческой личности. Личность
рассматривается как самоцель, а не как орудие достижения
внеличных целей. В свете этой мысли обостряется сознание
господствующего в общественной жизни зла, несовместимого
с самоценным значением личности и на каждом шагу
попирающего ее значение.
Но вместе с тем отрицается всякая возможность борьбы
против этого зла и искоренения его посредством революции.
Реальный мир провозглашается «лежащим во зле» и
неспособным избавиться от этого зла противоборствующими злу
силами. Достижение гармонии в человеческих отношениях
постулируется не в реальном земном мире, а в мире
философского умозрения, в «умопостигаемом», «сверхчувственном» мире,
лежащем по ту сторону «явлений» — в области «вещей в себе».
В то же время чрезвычайная субъективная честность Канта
делает в его глазах недопустимой всякую надежду .на
обоснование веры в «сверхчувственный», «умопостигаемый» мир
(в котором якобы гармонически разрешаются этические и
социальные противоречия жизни) в качестве доказанного тезиса
научного мировоззрения. Единственно доступным для науки
провозглашается только пространственно-временный «мир
явлений», подчиненный законам причинной связи. Мир
«умопостигаемый», «сверхчувственный» объявляется навсегда,
принципиально недоступным познанию. В этот мир необходима
верить, ибо без веры в него рушится всякая возможность
нравственности и нравственного миропорядка, но о нем нельзя
иметь никакого научного достоверного знания, обоснованного«
доказательством или хотя бы самоочевидного. Дуализм мира
причинной обусловленности и мира свободы, мира явлений и
сверхчувственного мира «вещей в себе», мира необходимости
и мира целесообразности — не просто противоречивое
мысленное построение идеалистического немецкого философа. Эта
построение и этот дуализм — порождение беспрецедентной
противоречивости общества, в котором эта философия
возникла, беспрецедентной исторической ситуации и социальной
раздвоенности, отражением которой она является.
Но это отражение — далеко не прямое, не
непосредственное, не однозначно-причинное. К Канту во всей мере
применено то, что сказано выше о необходимо опосредствованном
характере мышления, при помощи которого люди — творцы своей
1 К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. IV, стр. 174.
153.
истории — пытаются осмыслить собственную историческую
деятельность. Философия Канта — не только немецкая
теория французской буржуазной революции. Это — немецкая
теория, опосредствованная содержанием современной Канту
немецкой философии и воздействием, какое на формирование
философии Канта оказала история предшествующей Канту —
немецкой и западноевропейской — философской мысли.
Поэтому научно изучать философию Канта необходимо во
всех звеньях ее опосредствования и во всем ее идейном
своеобразии, порожденном историей ее теоретического
происхождения.
Верное в отношении всей философии Канта положение это
особенно верно в отношении кантовской эстетики.
Меньше, чем какая бы то ни было другая часть философии
Канта — например, его теория познания, этика, философия
религии,— эстетика Канта была формой непосредственного
осмысливания явлений, процессов и задач современной Канту
общественно-политической действительности Германии. Уже
этика Канта была построением сугубо «надстроечным» —
умственной проекцией в идеальный умопостигаемый мир
реальных противоречий и отношений немецкой социальной
жизни. Но этика Канта — пусть в отдаленной инстанции —
исходила все же именно из этих — реальных — противоречий
и отношений. Обусловленная историко-философскими
предпосылками и влияниями, ее отвлеченная теоретическая форма
была все же теоретической формой осознания, постановки и
решения практических задач, порожденных общественными
отношениями эпохи.
Другое дело — эстетика. К вопросам эстетики Канта
привел вовсе не интерес к явлениям современного ему искусства,
в котором — худо или хорошо — всегда отражаются
явления и запросы современной общественной жизни. Кант всю
жизнь прожил в Кенигсберге, большом приморском торговом
центре Восточной Пруссии, но в городе, где пульс
художественной жизни бился слабо и анемично. Здесь не было музеев,
произведений архитектуры, скульптуры и живописи большого
стиля. Кант, можно сказать, не знал изобразительных искусств
и их истории. Музыки он также не знал, больше того, он
относился к ней как к искусству низшего ранга. Он видел в ней
не столько великое искусство современных ему Баха, Гайдна,
Генделя, Моцарта, сколько «недостаточно вежливое», по
собственному его выражению, искусство, наполняющее
пространство шумом и мешающее серьезной умственной работе.
Начитанный в латинских авторах, охотно цитировавший их
сочинения, он больше ценил в них мыслителей, мастеров
красноречия, чем художников слова, поэтов. Его знакомство с
немецкой литературой едва доходило до периода Sturm und Drang'a.
154
Глубокое впечатление, произведенное на него Руссо, было
скорее впечатлением от его социальных, этических и
педагогических идей, чем впечатлением от его искусства.
Поэтому интерес Канта к вопросам эстетики основывался
не на непосредственном интересе к искусству и к его
социальной функции. Интерес этот даже не основывался на интересе
к эстетической теории как таковой.
Правда, Кант был превосходно знаком с литературой по
эстетической теории. Он не только знал немецкую эстетическую
литературу — от Баумгартена до* Лессинга и Винкельмана.
Он серьезно изучал также и английскую эстетику, был знаком
со всеми выдающимися эстетическими произведениями Гетче-
сона, Шэфтсбери, Гома, Берка. Знаком он был и с теорией
литературы и искусства французского классицизма. После
работы Отто Шляпа1 никакие сомнения в широте,
основательности и серьезности эстетической эрудиции Канта
невозможны.
Однако вся эта эрудиция в вопросах эстетической теории
лонадобилась Канту как условие для решения теоретических
задач, лежащих не в области эстетики как таковой.
Историческая беспрецедентность кантовского эстетического учения —
в том, что в системе Канта эстетика была не столько
специальной предметной областью исследования, изначально
привлекавшей Канта, сколько «вторичной», если так можно
выразиться, «надстройкой» — надстройкой не над охваченными в ней
явлениями искусства и породившими их реальными
отношениями жизни, а над самой же теоретической — философской
системой Канта. К эстетике Кант был приведен
необходимостью разрешить противоречие, оказавшееся в
теоретическом содержании его философского учения и расколовшее его
систему на противостоявшие одна другой части.
По выразительному признанию самого Канта —
признанию, сделанному именно в «Критике способности суждения»—
«между областью понятий природы, как областью чувственного,
и областью понятия свободы, как областью сверхчувственного,
открывается необозримая пропасть (eine unübersehbare Kluft),
так что от первой невозможен никакой переход ко второй»2
(переход посредством теоретического применения разума).
Дело обстоит так, как если бы от первой — области понятий
природы — не был возможен никакой переход к другой —
к области понятий свободы, как будто бы это были
настолько различные миры, что первый не может иметь влияния на
второй. И все-таки — таково убеждение Канта — второй мир
1 См.: О. Schlapp, Kants Lehre vom Genie und die Entstehung
der Kritik der Urteilskraft, Göttingen, 1901.
2 Kants Werke, hsg. von E. Cassirer, Bd. V, Berlin ,1914, S. 244.
В дальнейшем все ссылки даются на это издание.
155
должен иметь влияние на первый: понятие свободы должно
осуществлять в чувственном мире ту цель, которую ставят
его законы. Поэтому природу необходимо мыслить так, чтобы
закономерность ее формы соответствовала, по крайней мере,
возможности цели, осуществляемой в природе по законам
свободы. Следовательно, это «должно дать основу единства
сверхчувственного, которое лежит в основе природы, с тем, что —
практически — заключает в себе понятие свободы»1.
Исследование того, как возможно в философии мыслить
такую основу единства сверхчувственного, с тем, что
заключает в себе понятие свободы, —мыслить не в теоретических
понятиях, а в особой функции суждения — и составляет
задачу «Критики способности суждения». Если гносеология Канта
была воздвигнутой им «надстройкой» над фактом достоверного
научного знания — в математике и в естествознании,— а этика
Канта была надстройкой над — оторванными друг от друга —
теоретическим выражением интересов буржуазного класса
и действительным — материальным — содержанием этих
интересов, то эстетика Канта и его учение о целесообразности
в природе, выраженные в «Критике способности суждения»,
возникли как «надстройка» над обеими этими «надстройками»,
как «надстройка второй степени».
В первой главе настоящего раздела нашей работы это
противоречие будет рассмотрено специальным образом. Здесь
же, в предварительных методологических замечаниях, мы
указываем на факт этого противоречия лишь для того, чтобы
выяснить своеобразие задачи, какую эстетика Канта ставит
перед ее исследователем. Будучи, как мы сказали,
«надстройкой второй степени» над всем зданием теоретической философии
Канта, она требует — в качестве непременного условия —
исследования, которое должно установить место и значение
эстетической проблематики в системе философии Канта. И это — не
задача, которую исследователь ставит «сам от себя», без
решения которой мощно было бы обойтись, ограничившись
«анализом» «чисто эстетического» содержания учений Канта о
прекрасном и об искусстве. Это — задача, которую сам Кант ввел
в непосредственное содержание своего главного эстетического
труда. Труд этот — «Критика способности суждения» —
открывается обширным «Введением», в котором сам Кант
стремится показать, что вопросы, составляющие содержание
двух первых его «Критик» — «Критики чистого разума» и
«Критики практического разума»,— вопросы гносеологического
обоснования теории научного знания и этики могут получить свое
полное разрешение и необходимую между ними связь только
при условии, если будут разрешены вопросы гносеологиче-
1 К a η t s W е г k е, Bd. V, S. 244.
156
«кого обоснования эстетики и телеологии органической природы,
рассматриваемые в третьей «Критике».
«Введение («Einleitung») это есть одновременно и
необходимое вступление в эстетику Канта и очерк всей системы
Канта, в котором указывается место, принадлежащее в этой
системе эстетике, связь проблем эстетики с проблемами
гносеологии и этики Канта. Это назначение «Введения», сжато
и ясно сформулированное в самом «Введении», еще более
рельефно выступает в первоначальной, более обширной,
редакции «Введения» — в так называемом «Первом Введении
б «Критику способности суждения»1. Начинаясь главой «О
философии, как системе», оно — в XI главе — развивается как
«Энциклопедическое Введение Критики способности суждения
в систему Критики чистого разума»2.
Однако выяснить возникновение проблематики кантов-
ской эстетики из философских проблем и противоречий, не
имеющих непосредственного отношения к собственно
эстетическим вопросам — задача необходимая, но лишь
предварительная. Возникнув не из прямого обращения и не из прямого
интереса к вопросам эстетики и — тем более — искусства,
эстетика Канта не есть только «надстройка над надстройкой».
Будучи такой «надстройкой», она, так же как этика Канта и его
гносеология, одновременно есть и своеобразная умственная
проекция в «сверхчувственный», «умопостигаемый» мир
противоречий и отношений реальной исторической жизни
немецкого общества. Кант перенес в воображаемый
«сверхчувственный» мир не только неосуществимую, по его учению, в земном,
чувственном мире гармонию нравственного миропорядка.
Он счел необходимым связать в «сверхчувственном» мире
нравственность — с красотой, этическое — с эстетическим.
Так возникло учение Канта о красоте как символе
нравственности. Оно одновременно и представляет род
эстетического (и этического) идеализма и свидетельствует о том, что
Кант возводил эстетические понятия к самым серьезным
понятиям философии, а в эстетической мысли видел средство
восполнения и удовлетворения нравственных требований,
которые в реальных условиях общественной жизни современного
ему общества представлялись ему неосуществимыми. По Канту,
наш эстетический вкус обращает наше внимание на
«умопостигаемое». Именно «умопостигаемому» соответствуют наши
высшие познавательные способности. Без этого соответствия
должно было бы возникнуть «полное противоречие» между
природой этих способностей и притязаниями вкуса. Условия
1 О возникновении в дальнейшей судьбе этого «Первого Введения»
(«Erste Einleitung») см. главу 1.
2Kants Werke, Bd. V, S. 177—184; 221—227.
157
для этого соответствия существуют, по Канту, как возможностьу
и в самом субъекте и в природе. Но эта возможность
относится как в самом субъекте, так и вне его, к чему-то такому, что·
уже не природа, но еще и несвобода. Возможность соответствия
существует по отношению к тому, что связано с основой сво
боды, а именно — к «сверхчувственному». В «сверхчувственном»
теоретическая способность неизвестным для нас, но всеобщим
способом соединяется с практической способностью в единстве
(mit dem practischen, auf gemeinschaftliche und unbekannte
Art, zur Einheit verbunden ist)1.
На этом символизме красоты, представляющей
нравственное, но образующей с ним единство не в реальном чувственном,
а в умопостигаемом сверхчувственном мире, Кант основывает
свое объяснение важной аналогии, бытующей в языке. Согласно
этой аналогии, прекрасные предметы природы или искусства
мы часто называем именами, которые, по-видимому, имеют
в своей основе нравственную оценку. Так, мы называем
здания или деревья «величественными», поля — «смеющимися»
или «веселыми». Даже цвета называют иногда «невинными»,
«скромными», «нежными». Они возбуждают ощущения,
которые имеют нечто аналогичное с сознанием душевного
состояния, вызванного посредством морального суждения. Во всех
этих случаях эстетический вкус делает возможным переход от
чувственно-привлекательного к постоянному моральному
интересу2.
Но этого мало. Эстетические понятия не только дают Канту
недостающую его системе связь между ее различными частями—
между теорией познания и этикой, между миром причинной
необходимости и свободы, случайности и целесообразности.
Эстетические понятия доставляют не только дополнительную
возможность перенесения за грани чувственного мира в мир
«сверхчувственный» неразрешенных историей и современной
Канту ситуацией конфликтов и противоречий нравственного
сознания.
Эстетика в самой своей функции, объединяющей
разорванные и разобщенные части теоретической и практической
философии, находит также и собственные, ей одной принадлежащие,
специфические проблемы.
Здесь перед нами открывается одна из удивительнейших
особенностей эстетики Канта. Кант шел и пришел к эстетике,
как философ, но, оказавшись в ее области и осветив эту
область лучами своей философии, он затронул ряд важных
вопросов и предложил ряд решений, относящихся уже не к теории
познания или этике, а именно к существу эстетики и теории
iRants Wer k е, Bd. V, S. 430.
2 См. там же, стр. 431.
158
искусства. Проблема философии как системы приводит его»
к открытию особой области вопросов эстетики. Задуманная как
звено системы, эстетика превращается у Канта в специальную
философскую науку.
Результат этот не был «случайным», неожиданной для
искателя находкой. Он был в известной мере предопределен самим
способом постановки проблемы . Кант — не гносеолог,
непонятным образом забредший в область эстетики. Его эстетические
понятия — не просто гносеологические псевдонимы.
Специфичность эстетических проблем, не решенных, но
поднятых Кантом, и глубина их анализа делают Канта одним из
классиков немецкой эстетики. В специальной литературе
об эстетике Канта уже оставлен когда-то распространенный
взгляд, будто эстетика Канта обязана своим возникновением.
только любви Канта к архитектонической полноте и расчленению
системы. Эрнст Кассирер, автор монографии о Канте,
составившей заключительный, XI том его издания
сочинений Канта, справедливо отмечает, что если бы этот взгляд
на происхождение и содержание эстетики Канта был верен,
то оказанное этой эстетикой влияние — и на эстетику и на
немецкую литературу, начиная от Шиллера и Гёте,— пришлось
бы признать непонятным и даже настоящим «чудом»1. В
действительности чуда этого не было. Проблематика эстетических
работ Канта закономерно выросла не только из философских
задач и из тенденции к построению философской системы.
Другой ее корень — специфический интерес Канта к вопросам
эстетики.
Именно этим интересом объясняется основательность кан-
товского изучения специальной эстетической литературы. В
сочинениях Мендельсона, Винкельмана, Лессинга, Берка, Гетче-
сона Кант не мог искать ответа на вопросы, возникавшие у него
из интереса к архитектонической завершенности его системы,
чрезвычайно далекой от философских взглядов этих его
предшественников. Интерес Канта к этим авторам был интересом
к самому содержанию их эстетических теорий. Кант изучал
их сочинения не только как философ, но и как эстетик.
Но это отношение Канта к вопросам эстетической теории
вводит Канта в русло эстетической традиции. Характерное
для него понимание и решение эстетических проблем Кант
выработал не только в результате единоличных усилий — пусть
даже усилий гениального и чрезвычайно оригинального
мыслителя. Он выработал его посредством своеобразного использо-
1 «Folgt man indessen dieser Ansicht über die geschichtliche
Entstehung der Kritik der Urteilskraft, so muss ihre geschichtliche W i r-
k u η g fast wie ein Wunder erscheinen» (Ernst Cassirer, Kants
Leben und Lehre, Berlin, 1921, S. 291).
159
вания, истолкования и понимания эстетических идей,
выработанных его предшественниками.
Поэтому эстетику Канта нельзя изучать, как если бы она
возникла в абсолютном историческом «вакууме». За
немногими исключениями, специальная научная литература об
эстетике Канта часто сбивалась на такое представление. Она
рассматривала эстетику Канта как едва ли не беспрецедентное
явление в истории эстетической мысли. Она видела в эстетике
Канта абсолютную исходную точку движения,
результатом которого — в порядке своеобразной «филиации идей» —
явились: эстетика Шиллера (и даже Гёте), эстетика Шеллинга
и романтиков, эстетика Гегеля. Всячески подчеркивалась
полная оригинальность, новизна эстетики Канта: и в постановке
эстетической проблемы и в попытке ее решения. Усиленно
ставилось на вид существенное отличие эстетической теории
Канта от теорий, разработанных его предшественниками,
начиная с «Эстетики» Баумгартена (1750—1758) вплоть до
«Критики способности суждения» самого Канта (1790).
Взгляд этот во многом справедлив, но сильно грешит
абсолютизацией кантовской оригинальности. Ни в коем случае
не допустима переоценка беспрецедентности кантовской
эстетики. Характеристика оригинального содержания эстетики
Канта должна быть введена в точные исторические границы
традиции. Роль этой традиции гораздо более велика, чем
думают многие буржуазные (в особенности немецкие) историки
эстетики. Будучи началом эстетики классического идеализма,
эстетика Канта одновременно была и завершением немецкой
эстетики, развивавшейся в течение сорока лет до Канта.
Предшественниками и современниками Канта в эстетике были,
кроме Баумгартена, Мейер, Зульцер, Мендельсон, Винкельман,
Лессинг. Некоторые из них (Винкельман, Лессипг) были
настоящими корифеями эстетической мысли. Ими были — в
значительной мере — поставлены те самые проблемы эстетики,
которые возникли впоследствии перед Кантом. Эти ученые
и философы частью подготовили, наметили эстетические идеи
Канта, частью им противоборствовали. Постоянным
антагонистом Канта был слушавший его лекции в Кенигсбергском
университете Гердер. Развитие классической немецкой
эстетики начинается вовсе не «с Канта» (seit Kant), как читаем
в названии известной книги Эдуарда Гартмана, посвященной
истории эстетики в Германии1.
Методологическое значение этих соображений неоспоримо.
Рассмотрение эстетики Канта — как бы ни было велико и явно
ее историческое действие — нельзя начисто отделять от рас-
1 См.: Eduard Hartmann, Die deutsche Aesthetik seit Kant,
Berlin, 1886.
160
смотрения предшествующих ему сорока лет развития
эстетической мысли в Германии. Кант и в эстетике должен быть
характеризован не только как «зачинатель», но также и как
«продолжатель» и кое в чем «завершитель». Не может быть и
речи об эстетике Канта, как о внезапном и неподготовленном
явлении в истории немецкой эстетической теории. Следя за тем—
положительным и отрицательным,— что дала эстетика Канта
последующим поколениям, мы должны выяснить и то, чем
сам Кант был обязан поколению своих предшественников,
в чем он продолжал начатую ими работу, как он
концентрировал, усиливал и соединял в своем учении идеи,
выработанные в докантовской эстетике.
Именно так будет рассмотрена эстетика Канта в
предлагаемой работе. Будет отмечено не только то новое, что отделяет
эстетику Канта от немецкой эстетики второй половины
XVIII века, но и то, что их объединяет и связывает.
Последнее из наших предварительных методологических
замечаний касается как раз одного из этих связующих моментов.
Кант — представитель и, в известном, ограниченном, смысле
зачинатель философской эстетики. Под этим термином мы
понимаем эстетику, в которой учение о прекрасном ц учение об
искусстве сознательно обосновываются философски, ставятся
в связь и в зависимость от философского мировоззрения автора.
Кант, конечно, не был первым представителем эстетики
этого типа — ни в мировой эстетике, ни даже в национальном
масштабе в Германии. Таким был рассмотренный нами в
первой главе Баумгартен. Таким был, по крайней мере отчасти,
крупнейший из докантовских эстетиков— Лессинг. По своему
типу эстетика Канта гораздо ближе к баумгартеновской, чем,
например, к эстетике Винкельмана, гораздо менее четкой
в своей философской ориентировке.
После выхода в свет «Критики способности суждения»
Канта философский тип эстетики получает в Германии
чрезвычайное развитие. Не только философы — Шеллинг, Гегель—
создают резко выраженные философски обоснованные
эстетические учения. К философскому обоснованию или, по крайней
мере, философскому осознанию своих эстетических убеждений
начинают стремиться и деятели искусства — поэты,
драматурги. Их творческий опыт — опыт эстетически и философски
осмысленный. К самой философии предъявляется требование—
быть философией эстетической.
Свидетельством значения, какое эстетическая
ориентировка получила для немецкой философии конца XVIII — начала
XIX века, является написанная в 1796 году — спустя шесть
лет после выхода «Критики способности суждения» — аноним-
ная программная записка, найденная только в 1917 году.
Она была опубликована под названием «Старейшая програм-
11 В. Асмус
161
ма системы немецкого идеализма» («Das älteste Systemprogramm
des deutschen Idealismus») Францем Розенцвейгом в
«Отчетах о заседаниях Гейдельбергской Академии наук»1. До сих
пор неизвестно, кто был ее автор. Издатель программы Франц
Розенцвейг считал ее автором Шеллинга. Кассирер — в книге
«Idee und Gestalt» (Berlin, 1921, S. 130 ff) — полагает, что она
написана скорее Гёльдерлином. К этому предположению
присоединился Бём2. Наконец, Вальцель приписывает ее
Фридриху Шлегелю (О. W а 1 ζ е 1, Poesie und Nicht-Poesie, S.128 f).
Кто бы ни был автор программы, основной тезис ее
совершенно недвусмыслен. «Я убежден,— пишет автор
«Программы»,— что высший акт разума, акт, в силу которого разум
обнимает все идеи,— есть акт эстетический. Я убежден, что
истина и добро едины только в красоте и что философ должен
обладать эстетической способностью, равной способности поэта.
Наши профессиональные философы — люди, лишенные
эстетического чувства. Философия духа — эстетическая философия
(Die Philosophie des Geistes ist eine ästhetische Philosophie).
...Нельзя быть ни в чем человеком с умом, нельзя даже с умом
рассуждать об истории, не имея эстетического чувства» (ohne
ästhetischen Sinn).
Какую роль могла играть эстетика Канта в возникновении
этого строя мыслей? Ведь эстетика Канта была философской
эстетикой. Более того, в системе самой философии Канта
эстетика оказалась объединяющим и завершающим звеном этой
философии. Не могла ли уже эстетика Канта дать толчок для
развития мыслей, изложенных в «Программе»?
Есть важное обстоятельство, говорящее против такого
предположения. Конечно, эстетика Канта была философская,
а его философия завершается эстетикой. Но имеется важное
отличие, отделяющее философскую эстетику Канта от
философской эстетики послекантовских немецких идеалистов.
Состоит это отличие в различном значении, какое при
формировании эстетического мировоззрения имел
непосредственный художественный опыт. У Канта, как мы отметили,
это значение было ничтожным. В послекантовском идеализме
оно было огромным. У корифеев немецкого послекантовского
идеализма эстетическая теория рождалась не только из логики
развития чисто философских проблем и категорий, но была
кроме того, и даже иногда — прежде всего, философским
осознанием художественного опыта. Эстетика Шиллера была
эстетикой не кантианствующего теоретика, а эстетикой великого
немецкого драматурга и поэта. Еще в большей мере такой была
1 «Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften,
Philosophisch-historische Klasse, 5 Abhandlung, Heidelberg, Winter, 1917.
2 См.: W. В ö h m, Deutsche Vierteljahrschrift für Literaturwissenschaft
und Geistesgeschichte, IV, S. 399 ff.
162
эстетика Гёте. Эстетики-романтики писали не только
эстетические и историко-литературные трактаты. Они были сами
поэты (как Гёльдерлин), новеллисты (как Гофман), романисты
(как Фридрих Шлегель). Но и философы, выступающие после
Канта, в значительной части были люди, на мышление
которых наложило печать искусство. Философом-художником был
и в своей эстетике и в натурфилософии блестяще одаренный
Шеллинг. И даже Гегель, слабо разбиравшийся в музыке
и немногим лучше в живописи, основательно знал, понимал
н чувствовал античный эпос и драму, античную пластику,
а также многое — роман, драму, лирику — в искусстве нового
времени. Все эти мыслители не просто прилагали философские
и логические категории к чуждому для них материалу явлений
и произведений искусства. Скорее наоборот. Их эстетические
(иногда даже философские) категории осознавались и
чеканились под влиянием не одной только отвлеченной мысли, но
также как осознание доступного им художественного опыта.
В силу всего сказанного не следует видеть в философской
эстетике после Канта прямое развитие и продолжение
философской эстетики кенигсбергского мыслителя. (Эстетику
Шиллера — как одно из порождений кантианской . эстетики —
мы рассмотрим позже.)
С еще большим основанием это справедливо для Гёте. Даже
эстетические взгляды Вильгельма Гумбольдта не полностью
укладываются в кадры эстетики кантианского типа.
τ
ЭСТЕТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ КАНТА И РАЗВИТИЕ
ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМЫ В ЕГО ФИЛОСОФИИ
Внимание к вопросам эстетики пробудилось у Канта задолго
до выхода в свет его основного эстетического труда. Уже
в 1764 году Кант опубликовал статью «Наблюдения над
чувством прекрасного и возвышенного» («Beobachtung über das
Gefühl des Schönen und Erhabenen»). С другой стороны, и после
выхода в свет «Критики способности суждения» («Kritik
der Urteilskaft») Кант издал в 1798 году свою «Антропологию
в прагматическом отношении» («Anthropologie in pragmatischer
Hinsicht»). В ней вторая книга посвящена чувству
удовольствия и неудовольствия, а в разделе «О чувственном
удовольствии» кроме удовольствия через внешнее чувство
рассматривается удовольствие «через воображение» (durch die
Einbildungskraft) или «вкус» (der Geschmack)1. Здесь речь
вновь идет о чувстве прекрасного и возвышенного.
1 «Kants gesammelte Schriften», hsg. von der Königlich-Preussischen
Akademie der Wissenschaften, Bd. VII, Berlin, 1907, S. 230—250.
11* 16a
Однако ни в статье 1764 года, ни в «Антропологии», воз·
никшей на основе лекций, читавшихся Кантом по этому
предмету в университете, мы не найдем еще той трактовки
вопросов эстетики, которая имеется в его «Критике способности
суждения» и которая связана в ней со всей системой
«критической» философии Канта, представляя чрезвычайно важное
теоретическое звено этой системы.
В то же время статья о чувстве прекрасного и
возвышенного, написанная за двадцать шесть лет до возникновения
«Критики способности суждения», в одном отношении
однородна с «Критикой». Правда, точка зрения в ней еще чисто
психологическая и антропологическая. Никакого намека
на «трансцендентальную» трактовку вопросов эстетики в ней
не содержится. Однако, так же как и «Критика способности
суждения», статья Канта 1) обнаруживает интерес к проблеме
прекрасного и возвышенного — центральной проблеме
будущей «Критики» и 2) свидетельствует о превосходном
знакомстве Канта с современной ему эстетической литературой1.
Около времени написания статьи о прекрасном и
возвышенном Кант касался некоторых вопросов эстетики в своих
университетских лекциях. В них взгляд на эстетику все еще
тот же, что у Баумгартена: эстетика рассматривается как
простое дополнение к логике. Так, в объявлении Канта о плане
его лекций в зимнем семестре 1765/66 года в конце
сообщения о логике Кант отмечал, что «весьма близкое родство
материй (die sehr nahe Verwandschaft der Materien) дает повод
бросить — при критике разума — некий взгляд на
критику вкуса, то есть на эстетику, исходя из того,
что правила одной всегда служат для разъяснения правил
другой, а их расхождение есть средство лучше понять как
ту, так и другую»2.
Взгляд Канта на эстетические категории и на искусство
стал изменяться лишь с того времени, когда Кант подвел
эстетическую способность суждения под одну точку зрения со
способностью суждения о целесообразности (со способностью
«телеологического» суждения).
Вопрос о целесообразности ставился в философии и в науке
XVIII века прежде всего как вопрос о целесообразности в
природе. В такой постановке это был один из центральных
вопросов века. К постановке этого вопроса вело все развитие
естествознания начиная с XVII столетия. Развитие это совер-
1 Обстоятельные доказательства осведомленности Канта в этой
литературе дал О. Шляпп в книге «Учение Канта о гении и критика
способности суждения» (Otto Schlapp, Kants Lehre vom Genie und die
Kritik der Urteilskraft, Göttingen, 1901).
2 Цит. по кн.: Immanuel Kant, Sämmtliche Werke, Bd. V,
Berlin, 1908, S. 514.
164
шалось под знаком неуклонно развивавшегося торжества
механистического, причинного объяснения. Механическая
причинность в физике (Галилей), в физике и в астрономии (Ньютон)
стала в глазах передовых ученых и философов эпохи ключом
к научному объяснению всех процессов и всех явлений природы.
Объяснить факт природы — значило вывести этот факт по
закону механистической причинности из общих законов физики
и механики.
По мере того как анатомия и физиология человека и
высших животных открывали наличие причинно действующих
механизмов также и в существах органического мира
(механизм безусловного рефлекса Декарта, механизм
кровообращения Гарвея), возникла понятная тенденция распространить
принцип механистической причинности на всю природу: не
только неорганическую, но и органическую.
Однако стремление это, мощно овладевшее умами
математиков, физиков и астрономов, встретило препятствия, которые
в органической природе казались неодолимыми.
Оказалось, что механистически-причинному объяснению
не поддается проблема возникновения жизни. Наука XVIII
века не располагала средствами объяснить, каким образом
по законам одной механической причинности из " тел
неорганической природы, лишенных какой бы то ни было
целесообразности, могли возникнуть хотя бы низшие и простейшие
организмы. Ибо, в отличие от неорганических тел, организмы
обнаруживали несомненное, резко бросающееся в глаза,
целесообразное строение своих органов, целесообразную связь
между ними и целесообразность в отношениях самих
организмов к внешнему миру. Чем более поразительными становились
успехи механического причинного объяснения в области
неорганической природы, тем более невозможным казалось
применение того же метода объяснения не только к проблеме
возникновения жизни, но и к объяснению строения и деятельности
существующих на Земле организмов.
Сам Кант нашел яркое выражение для этого состояния
современной ему науки. В своем раннем космогоническом
трактате («Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels»,
1755) он не только сказал: «Дайте мне материю, я построю из
нее мир», но сказал также, что простейшая травинка или
гусеница не может быть выведена наукой из тех самых
механических причин, которые способны объяснить происхождение
и развитие Солнца и планет.
Пока космология и натурфилософия подчинялись религии,
проблема целесообразности в природе разрешалась в плане
религиозного мировоззрения. Богословие утверждало, что
виновник или причина целесообразности, наблюдаемой в
мироздании в целом и, в частности, в органической природе,— сам
tes
бог. Именно он сообщил организмам целесообразное
строение и сладил все части мироздания в единый совершенный
космос.
Но с тех пор как философия стала пытаться объяснить мир
из него самого, как «самопричину» (causa sui Спинозы),—
ссылаться на бога как на непосредственного виновника
существующей в природе целесообразности стало уже невозможно
и непозволительно.
Так возникло в научном мировоззрении XVIII века одно
из основных для него противоречий. Наука требовала
признания факта целесообразности в природе. В то же время сама же
паука свидетельствовала, что научное (не религиозное)
объяснение этого факта невозможно.
Противоречие это стояло в центре внимания Канта не
только в его ранней космогонии. Оно стало предметом
исследований Канта в первой из его «Критик» — в «Критике чистого
разума» (1781). В этом основном своем сочинении
«критического» периода Кант развил учение о категориях и об
основоположениях чистого рассудка, принципиально исключив из
круга категорий категорию цели. Это вполне понятно. Раздел
«Трансцендентальной эстетики» в «Критике» отвечает на
вопрос, «как возможна математика» в качестве науки, дающей
достоверное — всеобщее и необходимое — знание. Первая
часть раздела «Трансцендентальной логики» —
«Трансцендентальная аналитика» — отвечает на аналогичный вопрос: «как
возможно естествознание?». Так как естествознание — в смысле
Канта — может объяснять явления природы только
посредством механической причинности, то ясно, что категория цели
должна была оказаться исключенной из числа категорий
«чистого» рассудка.
^Однако в приложении к разделу «Критики чистого
разума», которое называется «Трансцендентальной диалектикой»,
Кант разъясняет, что «телеологическое» рассмотрение природы
(то есть рассмотрение ее под углом зрения целесообразности)
все же возможно. Такое рассмотрение не может быть
«конститутивным» принципом, то есть не может обосновывать никакой
теоретической науки о природе. Но, не будучи
«конститутивным» принципом объяснения природы, телеологическое
рассмотрение все же имеет «регулятивное» значение.
Удовлетворяя потребности нашего разума в «идеях», представляющих
не воспринимаемое никакими чувствами высшее и
безусловное единство всего познаваемого, «телеологическое» воззрение
рассматривает вещи мира так, как если бы они получали свое
существование от некоего высшего ума, осуществляющего
в природе некий целесообразный план.
Спустя четыре года после выхода «Критики чистого разума»
для Канта возник новый повод высказаться о
целесообразно
еости в органической природе. Повод этот дала ему его работа
«Определение понятия о человеческой расе» («Bestimmung
des Begriffes einer Menschenrasse»). В статье этой, появившейся
в ноябрьской книжке «Берлинского ежемесячника» («Berliner
Monatsschrift», 1785), вопрос о целесообразности ставился
в связь с философскими взглядами Канта на исторический
процесс. В сравнении с «Критикой чистого разума» статья Канта,
вызвавшая возражения со стороны Георга Форстера1, не
заключала по сути ничего принципиально нового. Из этой работы
еще не видно, чтобы у Канта было намерение связать проблему
органической целесообразности с вопросами эстетики.
Что касается самой эстетики, то в эпоху написания
«Критики чистого разума» Кант еще полагал, что критическое
обсуждение прекрасного, составляющее ее содержание, не может
быть подведено под принципы разума. Во «Введении» к
«Трансцендентальной эстетике»2, возражая Баумгартену, Кант писал:
«Немцы в настоящее время единственные, кто пользуются
словом «эстетика» для выражения этим словом того, что
другие называют «критикой вкуса». В основе здесь лежит
неоправданная надежда, которую питал превосходный аналитик Баум-
гартен,— надежда подвести критическое обсуждение
прекрасного под принципы разума и возвысить правила этого
обсуждения до науки. Однако труд этот напрасен. Ибо искомые
(gedachte) правила или критерии по своим источникам — чисто
эмпирические и в силу этого никогда не могут служить
законами a priori, согласно которым должно было бы направляться
наше суждение вкуса».
Впервые признаки перемены в убеждениях Канта по этому
вопросу появляются во втором издании «Критики чистого
разума», подготовлявшемся в 1786 году. В тексте этого издания
в процитированном только что рассуждении Канта
некоторые выражения смягчены. Вместо «никогда не могут служить
законами a priori» (1-е издание) о правилах и критериях
эстетики сказано, что они «никогда не могут служить
определенными законами a priori»3. Вместо «по своим источникам», во
втором издании сказано «по своим важнейшим источникам»
(ihren vornehmsten Quellen)4. Здесь же Кант указывает, что
помимо возможности сохранить терминологию Баумгартена
существует еще и возможность разделить «вместе со
спекулятивной философией» ее способ обозначения и понимать тер-
1 См.: G. F о г s t е г, Über den Gebrauch teleologischer Prinzipien
in der Philosophie (в журн.: «Deutscher Mercur», 1788, J-anuar).
2 Kants sämmtliche Werke, Bd. IV, S. 30. Напомним,
что в «Критике чистого разума» Кант называет «эстетикой» не философию
прекрасного и искусства, а учение об априорных формах чувственного
познания.
3 Ка nts sämmtliche Werke, Bd. Ill, S. 50. Anmerkung.
4 Τ a м же.
167
мин «эстетика» «частью в трансцендентальном смысле, частью
же — в психологическом значении».
Параллельно с завершением работ, посвященных
обоснованию этики интенсивность занятий Канта проблемами эстетики
возрастает. В лейпцигском каталоге на 1787 год среди
возвещенных работ значится «Обоснование критики вкуса» Канта
(«Grundlegung der Kritik des Geschmacks»), а в письме к Шютцу
от 25 июня 1787 года Кант сообщает, что тотчас после отсылки
издателю рукописи «Критики практического разума» он
приступит к работе над «Основами критики вкуса». Основываясь
на этих данных, Бенно Эрдман, редактор первого научно
выполненного (в текстологическом отношении) издания
«Критики способности суждения», высказал даже предположение,
будто в это время Кант лелеял мысль предпослать обдумы-
вавшейся им «Критике вкуса» популярное основоположение—
подобно тому, как он предпослал «Критике практического
разума» более популярное «Основоположение метафизики
нравов»1.
Как бы то ни было, но уже 28 декабря 1787 года в письме
к К.-Л. Рейнгольду, первому популяризатору кантовской
философии, Кант сообщает не только о том, что он работает
над «критикой вкуса», но что работа эта основывается у него
на рассмотрении всей системы способностей души... «В
настоящее время,— пишет Кант,— я занимаюсь критикой вкуса,
и по этому поводу будет открыт другой род принципов a priori,
чем каковы предыдущие. Ибо способностей души три:
способность познания, чувство удовольствия и неудовольствия и
способность желания. Для первой я нашел принципы a priori
в Критике чистого (теоретического) разума, для третьей —
в Критике практического разума. Я ищу их также для
второй, хотя я обычно считал невозможным найти таковые...
теперь я признаю три части философии, каждая из которых
имеет свои принципы a priori, которые могут быть перечислены,
а объем возможного таким образом знания может быть
достоверно определен — теоретическая философия, телеология и
практическая философия. Из них средняя, конечно, окажется
беднейшей по основам определения» (an Bestimmungsgründen
a priori)2.
Письмо Канта чрезвычайно важно. Из него видно, что
к проблеме эстетики Кант действительно шел, отправляясь
не от искусства и даже не от собственных вопросов эстетики,
а от стремления довести до ясности и полноты всю систему
1 «Immanuel Kant's Kritik der Urtheilskraft», hsg. von Benno
Erdmann, zweite Stereotypausgabe, Hamburg und Leipzig, 1884. Einleitung
des Herausgebers, S. XIX.
2 «Briefwechsel von Imm. Kant», in drei Bänden, hsg. von H. E. Fischer,
Erster Band, München, 1912, S. 369.
168
способностей человеческой души, определить их отношения
и связь. При этом в центре внимания Канта стояла не
эстетическая способность суждения, но способность суждения
о целесообразности (телеологическая способность суждения).
По уже указанным выше основаниям Кант исключил
телеологию из области теоретического рассудка с его категориями
и основоположениями. Но куда ее в таком случае следовало
поместить? — Вот тут и выступает на первый план
«способность удовольствия и неудовольствия» — третий (средний) член,
открытый Кантом в системе «способностей души». Система эта
будет, по Канту, полной системой уже не психологии, а
«критической» философии, если для способности удовольствия
и неудовольствия удастся найти ее априорные принципы.
Эту — третью — часть философии Кант и называет
«Телеологией» («Teleologie»). Он помещает ее между «теоретической»
и «практической» философией — между теорией познания и
этикой.
Каким образом и какими путями мысль о тождестве
«критики вкуса» и «телеологии» проникла в сознание Канта, сказать
трудно — за отсутствием достаточных данных. Кант сам
удивлялся результату, к которому его привели его исследования►
Но как только он овладел этой мыслью, разработка эстетики
и включение ее в систему критической философии пошли
стремительным темпом. В 1790 году «Критика способности
суждения» была написана и вышла в свет. Она состоит из
«Предисловия», «Введения» и из двух частей. Первая
часть—«Критика эстетической способности суждения», вторая —
«Критика телеологической способности суждения»1.
1 «Введение» в «Критику способности суждений» было написано·
Кантом в двух редакциях. Первая возникла в 1789—1790 гг. Но Кант
пришел к выводу, что написанное им «Введение» непропорционально-
велико по отношению к объему самой «Критики». Вместо него Кант дал
другое — сокращенное —«Введение», которое и было напечатано в первом
издании «Критики способности суждения» под названием «Einleitung».
Текст ранней, более обстоятельной редакции «Введения» Кант переслал
магистру Иоганну Сигизмунду Беку, разрешив ему распорядиться
рукописью по собственному усмотрению. В 1793 г. Бек опубликовал — с
разрешения Канта — первый, а в 1794 г. второй том составленного им
извлечения из «Критик» Канта. В этом извлечении он поместил первую
редакцию кантовского «Введения» к «Критике способности суждения», но дал
не полностью текст Канта, а собственное из него извлечение. Сокращению
подверглись приблизительно две пятых кантовского первого «Введения».
При этом самые сокращения были сделаны Беком произвольно. До выхода
в свет кассиреровского издания сочинений Канта ни в одном из
капитальных изданий Собрания сочинений философа — ни у Розенкранца, ни у
Гартенштейна, ни у Кирхмана — первое «Введение» в «Критику
способности суждения» не было воспроизведено в полном виде. Издатели
перепечатывали его с сокращениями Бека и по изданию Бека. Даже Бенна
Эрдман в своем составившем важную веху в «кантовской филологии»
издании «Критики» вновь воспроизвел лишь сокращенный Беком текст.
169
«Критика способности суждения» — «Критика»,
завершающая построение философии Канта. «Критика чистого разума»
исследовала законодательство рассудка (Gesetzgebung des
Verstandes). На этом законодательстве покоятся, по мысли
Канта, понятия природы (die Naturbegriffe), заключающие
в себе основу для всякого теоретического познания a priori.
«Критика практического разума» исследовала
законодательство разума (Gesetzgebung der Vernunft). На этом
законодательстве покоится понятие свободы (der Freiheitsbegriff),
заключающее в себе априорную основу для всех
практических (этических) предписаний. «Критика способности
суждения» исследует способность суждения (die Urteilskraft),
которая представляет промежуточный член между рассудком и
разумом. По аналогии с рассудком и разумом следует
предполагать, думал Кант, что и для нее должен существовать
собственный «чисто субъективный принцип a priori».
Но «Критика» должна рассмотреть способность суждения
не только в ее отношении к рассудку и разуму, не только
в отношении к познавательным способностям. Она должна
рассмотреть способность суждения также и в ее отношении
к основным силам или способностям души. Силы эти: 1)
способность познания, 2) чувство удовольствия и неудовольствия
и 3) способность желания. В области познания
законодательство осуществляет только рассудок. В области желания (воли),
рассматриваемой в качестве высшей способности,
законодательство осуществляет разум, так как он дает априорное понятие
о свободе. Кант считает естественным предположить — по
аналогии,— что и для способности суждения существует свой
априорный принцип. А так как со способностью желания
необходимо соединяется чувство удовольствия или неудовольствия,
то отсюда Кант выводит, что способность суждения и с этой
точки зрения должна рассматриваться как переход от чистой
познавательной способности к понятию о свободе1.
Установив, таким образом, необходимость третьей «Критики»
с ее задачей — выяснить априорный принцип, на который
опирается способность суждения, Кант приступает к
рассмотрению видов способности суждения. Их два: 1) «определяющая»
и 2) «рефлектирующая» способность суждения. Хотя
способность суждения всегда и во всех случаях есть способность
Только в 1914 г. Эрнст Кассирер впервые опубликовал первое «Введение»
полностью. Публикация эта вполне оправдана. По верному замечанию
Кассирера, первое «Введение» «есть завершенное, в себе замкнутое
сочинение. Оно представляет интерес уже ввиду некоторых своеобразных
мыслей, некоторых терминологических особенностей и дополняет с
известных сторон, а также освещает ход идей «Критики способности сужде-
«ия» (Immanuel Kant's Werke, S. 587).
1 Kants Werke, S. 247. Здесь и далее цит. по Kants
Werke, Bd. V.
170
мыслить особенное, как заключающееся в общем, существуют,
по Канту, два способа мышления связи особенного с общим.
Первый имеет место, когда общее (правило, принцип, закон)
уже дано, и способность суждения должна лишь подводить
особенное под заранее данное общее. В этом случае
способность суждения называется «определяющей». Общие законы
«определяющей» способности суждения дает рассудок. Законы
эти предначертаны ей a priori.
Определив первый вид способности суждения, Кант в
дальнейшем содержании «Критики» ею вовсе не занимается. Он
пользуется понятием «определяющей» способности суждения
только для того, чтобы оттенить различие, существующее
между нею и вторым видом способности суждения.
Этот — второй — вид имеет место, когда нам дано
особенное и когда общее для этого особенного только еще предстоит
найти. Это — «рефлектирующая» способность суждения. Так
как она должна для особенного указать или найти его общее,
то, тем самым, она нуждается в принципе. Однако принцип
этот она не может почерпнуть ни из опыта, ни из рассудка.
Она не может найти его в опыте, так как именно этот принцип
и должен обосновать единство всех эмпирических законов,
подводя их тоже под эмпирические, но высшие принципы.
Но рефлектирующая способность суждения не может
почерпнуть свой принцип и из рассудка — иначе она была бы
уже не «рефлектирующей», а «определяющей» способностью
суждения. Она может дать себе свой принцип только сама.
Неспособная ниоткуда заимствовать свой закон, она, в отличие
от рассудка, не может и предписывать закон природе, так
как «рефлексия о законах природы направляется согласно
с природой (sich nach der Natur... richtet)', а не природа
согласно с условиями, при которых мы стремимся получить о ней
понятие...»1.
Искомый принцип «рефлектирующей» способности
суждения состоит в том, что частные эмпирические законы,— если
исключить из них все, что в них определяется общими законами
и выводится из этих законов, — должны рассматриваться как
некое единство. Это — единство, которое мы рассматриваем так,
как если бы его дал рассудок. Однако это — не наш,
человеческий, рассудок, и дал он эти законы для того, чтобы сделать
возможной систему опыта согласно частным законам природы.
Благодаря «рефлектирующей» способности суждения — и
только благодаря ей — мы можем мыслить целесообразность.
Пока мы в пределах категорий рассудка, в границах
«определяющей» способности суждения, для понятий целесообразности
природы нет и не должно быть места. Рассудок рассматривает
1Kants Werke, S. 249.
171
природу и ее предметы не под углом зрения цели, но под углом
зрения причинной определяемое™ всех вещей и событий.
Дело совершенно меняется как только мы вступаем в область
«рефлектирующей способности» суждения. В ней мы мыслим
такое понятие о предмете, которое заключает в самом себе
и основу действительности этого предмета. Такое понятие,
разъясняет Кант, есть понятие цели, а соответствие вещи
свойству вещей, возможное только согласно с целями, есть, по
Канту, целесообразность в форме вещи (die Zweckmässigkeit
der Form).
Примененный к форме вещей природы, подчиненных ее
эмпирическим законам, принцип способности суждения
становится понятием о целесообразности природы. Именно
посредством этого понятия природа мыслится нами так, как если бы
основой единства в многообразии ее эмпирических законов
был рассудок.
Понятие о целесообразности природы не есть понятие
теоретически мыслящего рассудка: оно не определяет
предметов природы в качестве таких, которые имели бы сами по себе
отношение к каким-то целям природы. Оно, правда, мыслится
по аналогии с практической целесообразностью человеческой
деятельности, но совершенно отличается от нее. Понятием
этим пользуются только для того, чтобы мыслить предметы
природы в отношении к тому соединению ее явлений, которое
дано согласно эмпирическим законам.
В природе, если рассматривать ее эмпирические законы,
возможно бесконечное разнообразие таких законов. Как
эмпирические законы эти не могут быть познаваемы a priori и
потому для нашего усмотрения совершенно случайны. Правда,
общие законы природы, предписываемые формами рассудка,
дают соединение знания в единство опыта. Однако они дают его
для вещей природы вообще, но не дают его специфически —
как единство именно для таких-то и таких-то сущностей
природы. Тем не менее такое единство необходимо предполагать.
Если не признавать его, то не может получиться объединения
эмпирических знаний в целое опыта. Поэтому способность
суждения должна признать — как условие своего априорного
применения,— что то, что для нашего человеческого
усмотрения представляется в частных законах природы совершенно
случайным, имеет теоретически непостигаемое для нас, но
все же мыслимое закономерное единство. Это единство мы
мыслим одновременно и как совершенно необходимое — для
нашего стремления к познанию — и как совершенно
случайное — само по себе. Но это и значит, что рассматриваемое
единство мыслится нами как целесообразность природы.
Так как здесь речь идет только о возможных, но еще не
открытых, не данных эмпирических законах, то способность
172
суждения, посредством которой мыслится целесообразность
природы, будет не «определяющей», а «рефлектирующей».
Мыслимое в ней понятие о целесообразности не есть ни
понятие природы (в теоретическом смысле), ни понятие свободы. Оно
ничего не приписывает самому предмету природы. Оно только
указывает, какой должна быть наша рефлексия о предметах
природы — в необходимом для нас интересе к сплошному
единству. Другими словами, понятие о целесообразности природы
дает лишь субъективный принцип способности суждения (или
субъективную максиму).
Для рассудка соответствие природы с нашей познавательной
способностью — случайно. Можно было бы думать, что в
рассудке существует ровно столько же различных видов
причинных связей, сколько в самой природе различных видов ее
действий. Будь это так — наш рассудок не мог бы усмотреть
в природе какой-либо понятный порядок, не мог бы разделить
продукты природы на виды и роды.
Действительность познания, по Канту, совершенно не
такова. В основе нашей рефлексии об эмпирических законах
природы лежит некий априорный принцип. Он ничего не может
определить a priori по отношению к объекту. Но он гласит,
что порядок природы, познаваемый согласно эмпирическим
законам, возможен. Принцип этот — априорный
(трансцендентальный) не для объекта, а для нашего мышления об
объектах природы. Он предполагает a priori, что в природе
существует постижимое для нас подчинение (субординация) ее
родов и видов, что каждый из этих родов и видов — опять-таки
в силу общего принципа — может приближаться к другому
и что благодаря этому приближению возможны переходы от
одного из них к другому и, наконец, к высшему роду.
Этот априорный принцип способности суждения Кант
называет законом спецификации природы по отношению к
эмпирическим законам1.
Из всего до сих пор сказанного видно, какое значение для
философии Канта — как системы — получил вопрос о
целесообразности природы и соответственно вопрос о
«рефлектирующей» способности суждения: посредством нее мыслится
понятие целесообразности природы. Но ни из чего до сих пор
сказанного никак не видно, какая связь существует между
телеологией Канта и эстетикой, то есть учением о прекрасном,
о возвышенном и об искусстве. Какие соображения заставили
Канта в книгу, рассматривающую суждение о
целесообразности природы, включить рассмотрение вопросов эстетики?
Вопрос этот важен потому, что в «Критике способности
суждения» под термином «Эстетика» Кант разумеет уже не то,
1 К a η t s Werke, S. 250—255.
173
что обозначал этот термин в «Критике чистого разума». Там,
в первой «Критике», «эстетикой» называлась, как было уже
замечено, часть гносеологии — учение об априорных формах
чувственности — о пространстве и времени. В связи с этим
рассматривалось значение, какое эти формы имеют для
обоснования математики: арифметики и геометрии. В соответствии
со сказанным посвященная этим вопросам первая часть
«Критики чистого разума» называется «Трансцендентальной
эстетикой». За ней следует, как вторая часть «Критики»,
«Трансцендентальная логика». В ней рассматриваются (в «Аналитике»)
априорные формы рассудка, а также формы связи рассудка
с чувственностью, составляющие условие и обоснование
теоретического естествознания.
Такое — параллельное — рассмотрение «эстетики» и
«логики» восходит к идее Баумгартена. Последний понимал под
«эстетикой» гносеологию низшего вида знания — чувственного
знания. В теории знания Баумгартена «эстетика» — лишь
дополнение логики. Будучи низшей частью гносеологии, она
все же есть часть теории познания. Она трактует лишь о
смутной форме знания, но это — форма того самого знания,
высшая, ясная и отчетливая, форма коего составляет
предмет логики. Различие между «эстетическим» и «логическим»
знанием — не специфическое, а только в степени.
Совершенно другое значение термин «эстетика»
приобретает в «Критике способности суждения». Здесь под
«эстетикой» понимается уже «критика вкуса», критическое
исследование прекрасного и возвышенного, критическое рассмотрение
художественной деятельности (учение о «гении») и опыт учения
о видах искусства (система искусств).
Понятая в этом — новом — смысле эстетика уже не есть
часть гносеологии. Она уже не объединяется с логикой в
обнимающем их родовом понятии теоретического знания. Она
связывается не с теоретической функцией рассудка, а со
способностью суждения. При этом речь идет уже не о той способности
суждения, которая рассматривалась в «Критике чистого разума»
и которая там — в «Аналитике основоположений чистого
рассудка» — трактовалась в качестве «трансцендентальной»
способности суждения. Речь идет о «рефлектирующей»
способности суждения — о той самой, которой, как мы видели,
Кант подчинил понятие целесообразности в природе.
Почему же рассмотрение прекрасного и искусства также
должно быть отнесено к этой «рефлектирующей» способности
суждения? Основанием для такого отнесения Кант считает
связь между понятием целесообразности и чувством
удовольствия и неудовольствия.
Ход мысли Канта следующий. Когда мы констатируем
совпадение наших восприятий с законами, которые сообразуются
174
с категориями рассудка, мы не замечаем ни малейшего
влияния, какое это совпадение могло бы оказать на наше чувство-
удовольствия. Причина этому — та, что рассудок действует
здесь по необходимости, не преднамеренно и в согласии с
собственной природой.
Напротив, когда мы замечаем, что два (или более)
различных естественных эмпирических закона находятся в
соответствии, охватываясь единым принципом, заключающим их в себе,,
то констатация такого соответствия есть, по Канту,
основание для очень заметного удовольствия (der Grund einer sehr
merklichen Lust). Более того. Иногда это удовольствие
граничит с удивлением, которое не прекращается даже после того,
как мы достаточно ознакомились с его предметом.
Здесь удовольствие возбуждено в нас тем, что
свидетельствует о соответствии природы с нашей способностью познания,
а также с самим стремлением подводить — где только это
возможно—неоднородные законы природы под высшие (хотя всегда
только эмпирические) ее законы.
Анализ указанного чувства удовольствия и
неудовольствия позволяет Канту найти переход от понятия об эстетика
(и эстетическом), характерного для «Критики чистого разума»,
исходящего от Баумгартена, к новому понятию об эстетике,
развитому в «Критике способности суждения». Переход этот
дан в VII главе «Введения» к «Критике способности
суждения»1.
Здесь эстетическое рассматривается и в единстве с
логическим, то есть все еще так, как оно трактовалось в «Критике
чистого разума», а также в «Эстетике» («Aesthetica») Баумгартенаг
и в то же время уже отделяется от логического. Эстетическим
свойством в представлении предмета Кант называет то, что
в этом представлении только субъективно, то есть создает
отношение представления к субъекту, а не к предмету2. От
эстетического свойства Кант отличает здесь логическую
значимость (logische Gültigkeit) — то, что в представлении
предмета служит для определения предмета (zur Bestimmung des
Gegenstandes), для его познания.
Там, где речь идет о познании предмета внешних чувств,
эстетическое свойство и логическая значимость являются
вместе. Если у меня есть чувственное представление о вещи вне
меня, то пространство, в котором я эту вещь созерцаю, есть
только субъективное в моем представлении. Оно оставляет
неопределенным, чем воспринимаемая вещь могла бы быть
сама по себе. Через пространство предмет мыслится только-
как явление.
ι Kants Werke, S. 257-261.
2 См. там же.
175.
Однако пространство, несмотря на его субъективные
свойства, есть составная часть познания вещей (правда, всего лишь
как явлений). Хотя пространство есть только априорная форма
возможности чувственного созерцания вещей, оно применяется
в деле познания объектов вне нас (zur Erkenntnis der Objecte
ausser uns)1.
Тем не менее в представлении есть, по Канту, и
субъективное другого рода. Оно «не может быть никакой составной частью
познания» (gar kein Erkenntnisstück werden kann)2. Это —
соединенное с субъективным удовольствие или неудовольствие.
Через эти чувства я ничего не узнаю в предмете
представления.
Указанное соображение вновь приводит Канта к
представлению о целесообразности. Для целесообразности характерно
как раз то, что, поскольку она представляется в восприятии,
она не есть свойство самого предмета, хотя она может быть
выведена из познания предмета. Такая целесообразность,
предшествующая познанию предмета и даже как бы
непосредственно с ним связанная, и есть то субъективное, которое, в отличие
от субъективных форм чувственности, например
пространства, обусловливающего возможность геометрии, уже не
может быть элементом познания.
Есть, стало бы, по Канту, такое представление о
целесообразности предмета, которое непосредственно, независимо
от какого бы то ни было познания, связано с чувством
удовольствия. Кант называет такое представление «эстетическим
представлением целесообразности» (eine ästhetische Vorstellung
der Zweckmässigkeit)3.
В этой характеристике «эстетическое» уже начисто
отделилось от логического. Это не то «эстетическое», о котором
говорила «Критика чистого разума». Это — «эстетическое»
«Критики способности суждения».
Это — новое — понятие «эстетического» немедленно ведет
за собой понятия о прекрасном и о вкусе. А именно. Если
воображение, рассуждает Кант, посредством данного
представления непреднамеренно приводится в соответствие с рассудком
или способностью понятий, и если таким способом возбуждается
чувство удовольствия, то на предмет представления
необходимо смотреть как на предмет «рефлектирующей» способности
суждения. В этом случае суждение есть «эстетическое суждение
о целесообразности предмета». Такое суждение не основывается
ни на каком данном понятии о предмете и не создает никакого
понятия. Здесь удовольствие мыслится как необходимо соеди-
1 См.: Kants Werke, S. 258.
2 Τ а м же.
3 Τ a м же.
176
пенное с представлением о предмете, а форма предмета
рассматривается в чистой рефлексии о ней, то есть без расчета
на приобретение понятия. Она рассматривается как
основание удовольствия в представлении о таком предмете.
Если удовольствие мыслится как необходимо соединенное
с представлением о предмете, то оно имеет значение не только
для субъекта, который воспринимает такую форму, но и для
всякого, кто бы ни высказывал о ней свое суждение. Там,
где это условие налицо, Кант называет предмет «прекрасным»
(schön). Саму же способность высказывать суждение об
удовольствии для всех, а не об удовольствии только личном он
называет «вкусом» (der Geschmack)1. Таким образом, «вкусом»,
как его понимает Кант, необходимо предполагается, что его
суждение притязает на всеобщее значение. Притязание это
аналогично такому же притязанию, характерному для
единичного опытного суждения. Кто воспринимает, например, в
горном хрустале движущиеся капли воды, тот справедливо
требует, чтобы и все другие воспринимали то же самое.
Требование это справедливо, так как подобное опытное суждение
составляется, согласно общим условиям определяющей силы
суждения, по законам всеобщего опыта.
Но и тот, кто испытывает удовольствие только в своей
рефлексии о форме предмета — без отношения этой рефлексии
к понятию,— тот так же обоснованно притязает на
согласие с ним всех. Хотя в этом случае его суждение —
эмпирическое и единичное (суждение именно данного субъекта), тем
не менее претензия на всеобщую значимость его суждения
справедлива. Справедливость ее —в том, что, несмотря на
субъективность условий рефлектирующего суждения, основа
удовольствия здесь дается в общем условии — в- целесообразном
соответствии между предметом и отношением познавательных
способностей,необходимых для всякого эмпирического познания.
Так как удовольствие в суждении вкуса основывается на
общих условиях соответствия между рефлексией и тем
познанием предмета, для которого форма этого предмета
целесообразна, то суждения вкуса предполагают принцип a priori.
Именно поэтому суждения вкуса подлежат исследованиям,
которые Кант на своем философском языке называет
«критикой». Существует не только исследование априорных условий
теоретического познания и априорных условий нравственного
законодательства. Существует также исследование априорных
условий суждений вкуса. Или иначе: существует не только
«Критика чистого разума» и «Критика практического разума».
Существует также «Критика способности суждения»2.
1 Kants Werke, S. 259.
* Τ а м же, стр. 261.
12 в. Асмус
177
«Критика способности суждения» делится на две части.
Основанием для деления являются два различных способа,
посредством которых способность суждения может применять
понятие о предмете к его изображению, иначе — два способа,
посредством которых рядом с понятием о предмете ставится
соответствующее этому понятию созерцание. Первый способ
имеет место в искусстве и происходит посредством
воображения. Здесь мы реализуем заранее составленное понятие о
предмете, а самый предмет для нас есть цель. Второй способ имеет
место по отношению к природе (именно по отношению к
организмам природы). Чтобы судить о таких продуктах природы, как
организмы, мы приписываем природе наше собственное
понятие о цели (unser Begriff vom Zweck)1.
Здесь дана не только целесообразность природы в форме
вещи, но и самый организм или продукт природы
представляется как цель природы (Naturzweck).
Первому способу постановки созерцания рядом с понятием
соответствует Критика эстетической способности суждения,
второму — Критика телеологической способности суждения.
Под эстетической способностью суждения Кант понимает
способность судить о формальной (субъективной)
целесообразности на основании чувства удовольствия и неудовольствия.
Под телеологической способностью суждения он понимает
способность судить о реальной (объективной) целесообразности
природы — на основании рассудка и разума.
Установив это разделение «Критики» на две основные
части, Кант стремится устранить всякое возможное сомнение
в том, что предметом этой «Критики» может быть анализ
эстетической способности суждения. Кант выразительно
подчеркивает, что часть «Критики», заключающая в себе
рассмотрение эстетической способности суждения, «принадлежит ей
по существу» (ist... ihr wesentlich angehörig)2.
Больше того. Только эта часть заключает в себе, по Канту,
принцип, который «совершенно a priori полагает способность
суждения в основу своей рефлексии о природе»3. Это —
принцип формальной приспособленности природы — по ее
частным эмпирическим законам — к нашей познавательной
деятельности. Без рассмотрения эстетической способности
суждения не может быть проведено и завершено рассмотрение
телеологической способности. Без принципа формальной
приспособленности природы к нашей познавательной способности
выясняемого критикой эстетической способности суждения
наш рассудок не мог бы, по Канту, в ней разобраться.
1 См.: Kants Werke, S. 262.
2 Τ а м же, стр. 262.
3 Τ а м же.
178
Однако представление — по форме вещи — о
целесообразности природы в ее субъективном отношении к нашей
познавательной способности оставляет еще совершенно
неопределенным, в каких случаях я могу составлять суждение о продукте
природы не по ее общим законам, а по принципу
целесообразности.
Ввиду этого именно эстетической способности суждения
предоставляется определять — на основании вкуса —
соответствие между формой продукта природы и нашей
познавательной способностью. Задачу эту эстетическая способность
суждения «решает не через соответствие с понятиями, а через чувство»
(nicht durch Übereinstimmung mit Begriffen, sondern durch
das Gefühl)1.
Таковы предварительные изложенные в «Введении»
соображения, на основании которых Кант вводит эстетику в систему
своей философии. Эстетика входит в нее не как наука об
особой области предметов и не как наука об особых свойствах
предметов, которые принадлежали бы им объективно. Эстетика
вводится как исследование специфической способности нашего
суждения, обусловленного чувством удовольствия или
неудовольствия. Исследуется лишь принцип нашей субъективной
рефлексии о предметах (порождениях природы, произведениях
искусства), представление которых вызывает чувство
удовольствия и неудовольствия.
Уже этими предварительными соображениями определяются
некоторые важные черты эстетики Канта. Это 1)
обусловленность эстетической проблематики философской проблематикой
Канта, или, иначе, связь эстетики с основными задачами,
проблемами и решениями проблем кантовского критицизма;
2) эстетический идеализм, то есть отрицание объективного
значения эстетических свойств, отнесение их исключительно
к области нашей рефлексии о вещах природы и предметах
искусства; 3) отделение эстетической способности суждения от
области познания, от понятий о предмете и отнесение эстетического
суждения к суждениям, обусловленным чувством; 4)
подчеркивание формы предмета как источника эстетического чувства
удовольствия.
Все эти черты обоснованы во «Введении» принципиально,
но в нем лишь намечены. Подробное развитие их дано в
первой части «Критики» — в «Критике эстетической способности
суждения»2.
У писателей, критиков, теоретиков искусства, эстетиков,
читавших самого Канта, но слабо или только понаслышке
знакомых с историей докантовской эстетики, в большом ходу
«Kants Werke, S. 263.
2 Τ а м же, стр. 269—433.
i2* m
мнение, будто указанные черты эстетики Канта принадлежат —
и в своей связи и по отдельности — исключительно Канту,
и были впервые им введены в эстетику и выделяют его из круга
его современников и предшественников.
Действительность сложнее этой схемы. То, что мы знаем
как эстетику Канта, возникло в результате эстетического
развития, начавшегося в середине XVIII века и прошедшего три
последовательных этапа. В течение первого сложилось деление
души на три «способности». Второй — привел к тому, что
восприятие прекрасного было отнесено не к интеллекту, а к
чувству. В итоге третьего — сущность прекрасного стали
сводить к удовольствию.
Все эти три учения — обоснование эстетики на
различении трех «способностей» души, исключение прекрасного из
области интеллекта и сведение прекрасного к восприятию
специфического удовольствия — вошли в эстетику Канта. Но
Кант не ввел их впервые. Он использовал традицию, которой
они были подготовлены.
Роль предшественников Канта (немецких) в подготовке
основных идей кантовской эстетики тщательно прослеживает,
опираясь на превосходное знание первоисточников, Армап
Нивелль, автор книги «Эстетические теории в Германии от
Баумгартена до Канта»1. Как это ни странно, но даже в
немецкой литературе по истории эстетики связь эстетики Канта
с эстетическими теориями его предшественников изучена
далеко не полно.
Начнем с различения трех «способностей». Уже давно
указывали, что Кант заимствовал его у талантливого психолога
и философа Тетенса. Но Тетенс не был ни единственным, ни
первым, на кого в этом вопросе опирался Кант. Уже вскоре
после 1750 года — в дополнение к лейбницевскому и баумгарте-
новскому делению души на высшие и низшие способности -г
в кругу «высших» способностей как элемент, подчиненный
восприятию прекрасного, стали помещать «вкус» (der Geschmack).
В 1767 году Ридель (Riedel) возвестил в своей «Теории изящ
ных искусств» о существовании трех независимых,
автономных способностей. Это — «общее чувство», «совесть» и «вкус»,
подчиненные соответственно истине, благу и красоте.
В 1771 году Зульцер (Sulzer) намечает тройственное деление
души на «разум» (Vernunft), «нравственное чувство» (das
Sittiche Gefühl) и «вкус» (соответствующий ощущению: empfinden).
Только в 1777 году Тетенс предложил сходное разделение
в своих «Философских опытах о человеческой природе»
(«Philosophische Versuche über die menschliche Natur»).
1 A. N i ν e 1 1 e, Les Theories estéhtiques en Allemagne de Baumgarten
в Kant, Paris, 1955, p. 287-362.
180
Но ближе всех подошел к классификации душевных
способностей Канта известный представитель берлинских
просветителей Мендельсон (Mendelssohn). Он и в ранних своих
работах относил эстетическое удовольствие к чувству (Gefühl),
помещая его в кругу чувственных способностей. Но в 1785 году
в своих «Morgenstunden» он идет дальше. Он отделяет чувство
удовольствия и неудовольствия от воли и от разума и выделяет
его в особую и независимую способность. Это — «способность
одобрения» (Billigungsvermögen). «Обычно,— писал
Мендельсон,— способности души разделяют на способности познания
и способности желания, а чувство удовольствия и
неудовольствия (die Empfindung der Lust und Unlust) причисляют к
способностям желания. Но, мне кажется, что между познанием
и желанием лежит еще одобрение (das Billigen, der Beifall),
удовольствие души, которое, собственно говоря, далеко
отстоит от желания. Поэтому мне кажется более удачным
обозначать это удовольствие и неудовольствие души... особым
термином (mit einem besonderen Namen).
...В дальнейшем я буду называть это «способностью
одобрения», чтобы тем самым отграничить ее как от познания
истины, так и от стремления к благу. Это одновременно и переход
от познания к желанию и связь этих обеих способностей
тончайшей градацией, которая становится заметной лишь на
определенном расстоянии»1.
Так же и вторая устойная идея кантовской эстетики —
отнесение прекрасного к области чувства — отнюдь не была
нововведением Канта. Она завершает предшествующую традицию,
и притом — не только тра7;ицию немецкой эстетики XVIΠ века,
но гораздо более широкую во времени и в национальном
масштабе. Достаточно вспомнить роль чувства в философии и в
эстетических взглядах Руссо, влияние которого на Канта было
значительным и которое относится ко времени, близкому к тому,
когда Кант писал свои «Наблюдения над чувством прекрасного
и возвышенного». Но и в немецкой эстетической литературе
мысль об основополагающей роли чувства в восприятии
прекрасного не была нова. Даже Зульцер, который остался верен
взгляду Баумгартена на эстетическое как на «неотчетливое
познание», исключает искусство из сферы «аналога рассудка»
(analogon rationis) и помещает его в области чувствований.
По его разъяснению, мы испытываем удовольствие от
восприятия прекрасного, но при этом разум не познает прекрасного,
а моральное чувство не воспринимает цели. Искусство
выполняет свое назначение, действуя на эмоцию, и любое содержание
становится «эстетическим», только будучи «объектом чувства»
(der Empfindung). Так как в порождении этого чувства уча-
1 М. Mendelssohn, Morgenstunden, II, S. 295 ff.
181
ствует душа, то «прекрасное» — вовсе не единственный
эстетический предмет: таким предметом — с тем же основанием —
могут быть чувства страха, отвращения и т. п1.
В прямую связь с чувством поставил восприятие
прекрасного и Мендельсон, исключивший какое бы то ни было
вторжение при этом разума и воли. Винкелъман видел в чувстве
единственную функцию, способную основываться на прекрасном.
Отчет в сущности восприятия прекрасного не может быть дан
никаким определением, никаким рациональным объяснением:
прекрасное воспринимается только чувством2.
Самый «вкус» Винкельман определял как «чувство
прекрасного» (Winckelmann, Empfindung, Werke, В. II, S. 93).
Он утверждал, что прекрасное в искусстве покоится скорее на
утонченных чувствах и на очищенном вкусе, чем на глубоком
размышлении, и что в конечном счете эстетическое суждение
производится «внутренним чувством».
Так же и Лессинг видел в действии искусства на
чувствования саму цель искусства и утверждал, что действию этому
подчинено все остальное.
Наконец, традицией была подготовлена и третья основная
идея эстетики Канта — сведение прекрасного к субъективности.
Так, Зулъцер отделяет красоту от познания. По его мысли,
эстетическое удовольствие может быть достигнуто при
созерцании предметов, ни цель которых, ни понятие которых —
неизвестны. Место чувства прекрасного — между простым
ощущением и отчетливым познанием. Чувство прекрасного
сложнее простого ощущения. Прекрасное нравится без
вмешательства отчетливого познания вещей и их строения: для
эстетического удовольствия достаточно одной их формы3.
Подобные мысли развивал, приближаясь даже к
терминологии Канта, Мендельсон. Он отличает «материальное»
познание от познания «формального». «Материальное» познание —
результат понятийной деятельности рассудка. Оно бывает
«истинным» или «ложным». Напротив, «формальное» познание
связано только с чувством. Оно возбуждает — без связи с
объективным познанием — чувство «удовольствия» или
«неудовольствия», приводит к «одобрению» или «неодобрению». «Wir
können also,— писал Мендельсон, — die Erkenntnis der Seele
in verschiedener Rücksicht betrachten; entweder in so weit
sie wahr oder falsch ist, und dieses nenne ich das Materiale
der Erkenntnis; oder in so weit sie Lust oder Unlust erreget, Bil-
1 См.: S u 1 ζ e г, Allgemeine Theorie der schönen Künste, Bd. 1,1771,
art. Aesthetisch.
2 См.: Winckelmann, Trattato preliminare, Fernow — Meyer —
Schultze, Bd. VII, p. 73 f.
3 См.: Sulzer, Allgemeine Theorie der schönen Künste. Статьи:
«Schön», «Vollkommenheit», «Angenehm».
182
ligung oder Missbilligung der Seele zur Folge hat, und dieses
kann das Formale der Erkenntnis genannt werden»1.
Сущность (das Wesen) прекрасного и безобразного
коренится, по Мендельсону, именно в «формальном» познании.
Различие между способностью познания и способностью одобрения
есть то различие, которое существует между объективным и
субъективным. Способность познания исходит от вещей и
завершается в нас (geht von den Dingen aus, und endiget sich in uns).
Способность одобрения идет обратным путем: исходит от нас
самих и, в качестве своей дели, направляется ко внешним
вещам (von uns selbst ausgehet, und die äusseren Dinge zu
ihrem Ziele hat)2. Познание стремится преобразовать
человека, следуя природе вещей, одобрение стремится преобразовать
вещи согласно природе человека (Jener will den Menschen nach
der Natur der Dinge, dieser die Dinge nach der Natur des
Menschen umbilden)3.
В очерченном развитии идей от Риделя — через Зульцера,
Тетенса, Мендельсона — к Канту нетрудно найти
объединяющую всех этих авторов тенденцию — назревающее
стремление указать для восприятия прекрасного и искусства
специфическую область, выявить своеобразие эстетического предмета.
Теории эти — первая в немецкой эстетике попытка
отличить красоту от добра, восприятие в искусстве от познания
в науке. Но в соответствии с господствовавшим типом мышления
средством для характеристики специфической сферы
эстетического на первых порах стало одностороннее рассудочное
отделение, обособление, аналитическое расчленение души на
отдельные изолированные «способности». Это — продолжение
рассудочной психологии, начатой знаменитым «Опытом» Локка.
Задача была сама по себе необходимая и плодотворная, но
метод ее решения — метафизический, аналитически-расчленяю-
щий. Метод этот абсолютизировал различия и игнорировал
единство, связь, общность, взаимодействие.
Общая -тенденция всех этих теорий состояла в преодолении
рационализма, введенного в эстетику Декартом во Франции,
Лейбницем и школой Вольфа — в Германии. Рационализм
сводил чувство к интеллекту, не видел в чувстве ничего
специфического. Лейбниц и его последователи отождествили
«прекрасное» с «совершенством». Единственное различие между
ними они видели в способе их «познания». Немецкое
«Просвещение» присоединило к этому гносеологическому
рационализму порядочную долю этического рационализма. В искусстве
видели только средство абстрактной морализирующей дидак-
1 М. Mendelssohn, Morgenstunden, II, S. 295 f.
2 Τ а м же, стр. 297.
* См. там же.
18^
тики. Не видели специфических средств, которыми искусство
осуществляет свое этическое действие.
По отношению к этому рационализму эстетика
предшественников Канта и — тем более — самого Канта выполняла
исторически назревшую и благодарную задачу. Она стремилась
очертить своеобразную область прекрасного и искусства, не
сводимую к пограничным с нею областям. В то же время
эстетика эта была — в самых истоках своих — поражена
противоречием. Задачу преодоления рационализма она решала
рационалистическими средствами. Самые средства эти она черпала
из идеалистического мировоззрения. Поэтому в лице Канта
она не только ищет для искусства и прекрасного «автономную»
сферу, но убеждена в том, что сферу эту можно найти только
как сферу субъективную, среди «способностей души». Она
не только исследует самостоятельный принцип, на котором
основывается эстетическое суждение, но полагает, что принцип
этот необходимо должен быть априорным, предшествующим
опыту и от опыта независящим.
Но Кант не просто повторил или суммировал учения своих
предшественников. Во-первых, он резко, точно, строго
сформулировал то, что в их эстетике еще только намечалось и не
отделялось от воззрений, против которых они сами выступали.
Он внес в эстетику идеалистический принцип априоризма,
которому они оставались еще чужды. Во-вторых, пользуясь, как
и его предшественники, рассудочным —
односторонне-аналитическим — методом, Кант пытается все же подняться над его
метафизической ограниченностью. Он вносит и в область
эстетики если не диалектику в точном смысле, то, по крайней мере,
ее аналог. «Критика способности суждения» становится у него
средством выявления и снятия противоположности,
обнаружившейся между обеими предшествующими «Критиками». В том
самом «Введении», в котором Кант дал краткий очерк всей своей
системы (глава IX), он сжато сформулировал учение о
соединении законодательства рассудка и законодательства разума —
через способность суждения.
В «Критике чистого разума» и в «Критике практического
разума» вещи, как они существуют сами по себе, были самым
резким образом противопоставлены способу, посредством
которого они являются нашему познанию. «Умопостигаемый»
(«интеллигибельный») мир свободы был противопоставлен миру
природы (миру «явлений»). «Область понятия природы под
одним законодательством,— писал сам Кант,— и область
понятия свободы под другим... совершенно отделены большой
пропастью (sind... durch die grosse Kluft... gänzlich abgesondert),
которая обособляет сверхчувственное от явлений»1.
»Kants Werke, S. 264.
184
Но Кант не только обособил и противопоставил друг Другу
мир «умопостигаемый» (мир «вещей в себе») и мир «явлений».
Он показал, что кроме необходимости мыслить их как
противоположные существует возможность мыслить их в их единстве.
Мышление такого единства возможно. В применении к
умопостигаемому (сверхчувственному) миру вещей в себе термин
«причина» означает основание определять вещи природы к
действию сообразно с их физическими законами и вместе с тем —
сообразно с принципом законов разума. Правда, возможность
такого основания, по Канту, не может быть доказана. Однако
не может быть доказано и то, будто допущение такой
возможности заключает в себе противоречие. Действие по понятию
свободы есть конечная цель. Эта цель — или ее явление в
чувственном мире — должна существовать. Ради этого
существования и предлагается условие ее возможности в природе
человека как чувственного существа.
Так как именно способность суждения предполагает это
a priori и без отношения к практическому, то способность
суждения дает понятие, посредствующее между понятиями природы
и понятием свободы (gibt den vermittelnden Begriff zwischen
den Naturbegriffen und dem Freiheitsbegriffe)1. Это понятие
и дает возможность перехода от закономерности природы к
конечной цели. Через него познается возможность конечной цели,
которая может стать действительной только в природе и при
условии соответствия ее законам2.
Рассудок, со своей возможностью априорно предписывать
природе ее законы, доказывает, что природу мы можем
познавать только как явление. Но, по Канту, рассудок не только
ограничен в познании, сам же рассудок указывает и на то, что
выходит за границы его познания. Так как «является» именно
сверхчувственный субстрат природы, то это и значит, что
рассудок указывает на этот сверхчувственный субстрат. Однако
он оставляет его совершенно неопределенным (...lässt dieses
gänzlich unbestimmt)3.
Этому сверхчувственному субстрату способность суждения
дает определяемость через интеллектуальную способность.
Способность суждения дает ее потому, что обладает априорным
принципом, посредством которого мы судим о природе по ее
возможным частным законам.
Наконец разум дает тому же сверхчувственному субстрату,
в отличие от способности суждения, не только определяемость,
но настоящее априорное определение. Он дает его через свой
практический закон4.
1 К a η t s W е г k е, S. 265.
2 Τ а м ж е.
8 См. там же.
4 См. τ а м же, стр. 265—266.
185-
Таким образом, в системе Канта способность суждения
действительно призвана играть роль перехода или
посредствующего звена между областью «понятий природы» и областью
понятия свободы. Именно способностью суждения
осуществляется объединение миров природы и свободы, причинности и
целесообразности, явлений и вещей в себе.
Однако, какой ценой осуществляется это объединение и
каким результатом оно завершается! Единство явления и
сущности, явления для нас и вещи, как она существует для себя,
имеет у Канта в качестве своего условия отождествление мира
«вещей в себе», «феноменального» мира, с миром
«ноуменальным» (умопостигаемым). Способность суждения может сыграть
у Канта роль посредницы, связывающей явление с вещью в себе
только потому, что роль эта предполагает сохранение
противоположности как полярного отношения между ними и, больше
того, предполагает чисто идеальный, «умопостигаемый»,
«интеллигибельный» характер самого мира «вещей в себе».
Сущность являющегося Кант ищет не в реальном мире, а в мире,
который он Надстроил в своей системе над реальным миром
как его антипод и который характеризуется как мир
идеальный. Последнее слово и высшая роль в эстетике Канта
отведены миру сверхчувственному. Как ни странно, но эта роль
сверхчувственного в эстетической теории Канта далеко не достаточно
выяснена в специальной литературе1.
Исследователи первых двух «Критик» Канта, естественно,
склонны скорее подчеркивать разнородность, несводимость
кантовских миров природы и свободы. Однако внимательное
изучение «Критики способности суждения» и ее отношения к
«Критике чистого разума» и к «Критике практического разума»
показывает, что, по мысли Канта, существует не только
противоположность, но и глубокое сродство между миром природы
и миром свободы. Только на первый взгляд могло бы
показаться будто, по Канту, нет ничего общего между, например,
идеей разума и чувственной интуицией. Между ними все же
существует переход. Этот переход нам дает аналогия. В силу
своего отношения к трансцендентальной идее чувственное (или
причастное к чувственности) явление представляет собой некий
символ. Иначе, по Канту, не может и быть. Только посредством
символа можем мы осуществлять указанный переход, так как
мы неспособны создать адекватное чувственное представление
для идеи разума. Мы вступаем в обладание символом, когда
относим чувственный образ к эмпирическому понятию,
отвлекаем правило этого отношения и переносим его в совершенно
иную область — в область сверхчувственного.
1 Исключение здесь составляет не раз указанная недавно
опубликованная содержательная работа Армана Нивелля «Les Théories
esthétiques en Allemagne de Baumgarten à Kant, p. 302—304.
186
Мысль эту — об аналогии и символе как средстве
восхождения от чувственного к его сверхчувственной основе Кант
развил в § 59 «Критики способности суждения». По наблюдению
Канта, уже наш обычный язык кишит непрямыми чувственными
обозначениями, или знаками по аналогии. В них выражение
заключает в себе не схему для понятия, а только символ для
рефлексии (sondern bloss ein Symbol für die Reflexion enthällt)1.
Таковы, например, слова «основа», «опора», «базис», «зависеть»,
то есть «поддерживать сверху», «вытекать из чего-либо»,
«следовать» и т. д. Слова эти предназначены для выражения
понятий, но не посредством прямого созерцания, а только по
аналогии с ним — путем перенесения рефлексии о предмете
созерцания на совершенно другое понятие2.
Так, опираясь на идею о сверхчувственном происхождении
мира и наших способностей, Кант утверждает, что прекрасное
явление, причастное к чувственности, вместе с тем есть символ
нравственного, доброго. В свою очередь последнее восходит
к идеям разума. Воспринимая прекрасное как символ
нравственно-доброго, душа, по Канту, сознает в себе «нечто, более
благородное и поднимающее ее над простой восприимчивостью
к удовольстию посредством чувственных впечатлений»3.
В конечном счете, способность суждения относится — как
в самом субъекте, так и вне его — к тому, что уже не природа,
но и не свобода, но что связано с основой свободы — именно
к сверхчувственному. В нем теоретическая способность общим,
но для нас неизвестным способом соединяется в единство с
практической способностью4.
Однако, удерживая полярную противоположность мира
природы и мира свободы, Кант не замечает, что их объединение
и переход между ними посредством «способности суждения»
оказывается переходом мнимым, воображаемым. Поэтому
и «диалектика», задуманная Кантом в его системе, есть
мнимая диалектика. Такой — мнимой — она оказывается не
только в том разделе «Критики чистого разума», который
называется «Трансцендентальной диалектикой» и в котором
разъясняется, что космологические антиномии разума при
ближайшем рассмотрении лишаются своего антиномического
характера6. Диалектика Канта оказывается мнимой диалектикой
и в «Критике способности суждения». Единство
противоположностей явления и являющегося, которое она обещает устано-
1 См.: Kants Werke, S. 429.
а См. τ а м ж е.
• Τ а м же, стр. 430.
4 См. там же.
* См. об этом главу «Диалектика и антиномии Канта».— В кн.:
В. Асмус, Диалектика Канта, изд. 2, 1930, стр. 106—171.
187
вить, сводится к единству существующего (мира вещей природы)
и несуществующего, но только постулируемого философом
(мира «сверхчувственного», «умопостигаемого»)1.
II
КАНТОВСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СУЖДЕНИЙ
ВКУСА. АНАЛИТИКА ПРЕКРАСНОГО
Критика эстетической способности суждения — первая
часть «Критики способности суждения» — открывается
характеристикой «суждений вкуса».
Заслуживает внимания структура и терминология всего
построения этой части. Хотя Кант, как мы уже убедились,
резко отделяет «суждение вкуса» — как эстетическое суждение —
от логического типа суждения, посредством которого
формулируется знание и достигается истина, тем не менее все
«моменты», какие могут быть обнаружены в суждении вкуса,
Кант распределяет в полном соответствии с рубриками, по
которым в «Критике чистого разума» он распределил
логические типы суждения. Эти «моменты»: 1) качество, 2)
количество, 3) отношение и 4) модальность.
Такая симметрия и аналогия в распределении материала
не случайна. Она доказывает, хотя бы косвенным образом, что
в разработке «Критики способности суждения» Кант не мог
довести эстетическое до полного и окончательного обособления
от логического. Даже расставшись со взглядом Баумгартена,
1 В последней главе «Введения» к «Критике способности суждения»
сам Кант признает, что характеризованная им как «большая пропасть»
(grosse Kluft) противоположность между областью понятия природы
и областью понятия свободы не есть, в сущности, противоречие или
противодействие между природой и свободой. Такое противодействие,
разъясняет Кант, существует не между природой и свободой, а только между
природой как явлением и действиями свободы, как явлениями в чувственном
.мире (см.: Kants Werke, Bd. V, S. 265). Даже причинность свободы
есть все еще причинность человека, рассматриваемого лишь как яелениег
то есть причинность подчиненной физической причины. И хотя основа для
ее определения коренится в «интеллигибельном», «умопостигаемом» мире,
способ, посредством которого «интеллигибельное» заключает в себе эту
основу, остается совершенно необъяснимым. И тут же выясняется, чта
важный для философии Канта и получивший в ней распространение
трихотомический принцип деления не должеп вызывать «подозрительности».
Кант прав. Это — не триадический ход диалектики, приводящий к
усмотрению единства противоположностей. Это — простой результат того,
что деление выводится у Канта из понятий a priori. В таком делении, по·
Канту, необходимы: 1) условие, 2) обусловленное и 3) понятие, которое
возникает из соединения обусловленного с его условием (aus der
Vereinigung des Bedingten mit seiner Bedingung, ib., S. 266. Anmerkung).
188
do которому «эстетика» — дисциплина параллельная логике
и соподчиненная, вместе с логикой теории познания, Кант
переносит в сферу эстетического некоторые важные свойства
логического. За эстетическим суждением он признает претензию
на всеобщее и необходимое значение. А это как раз —
логические признаки достоверного знания1.
Но как бы ни была значительна роль, какую при
формировании кантовского учения о «суждении вкуса» сыграли
аналогии с логикой, теория «вкуса» у Канта имеет задачей выявить
и подчеркнуть не то, что в «эстетическом суждении» совпадает
с познавательным суждением, а то, что их радикально
отличает, разделяет и даже противопоставляет. Именно на
примере кантовского анализа «суждения вкуса» отчетливо
выступают и задача Канта и метод, привлекаемый для ее решения.
Задача вполне правомерна: Кант стремится определить
специфические черты «эстетического суждения», принадлежащие
только ему одному. Для ответа на этот вопрос Кант сопоставляет
и отличает друг от друга области «приятного», «прекрасного»,
«доброго». Он тщательно стремится устранить всякую
возможность их смешения или отождествления.
Но метод кантовского определения специфических
признаков прекрасного — односторонне рассудочный, аналитический.
Реальная эстетическая оценка — явление сложное. В ней
нерасторжимо сочетаются мотивы собственно эстетические,
познавательные, этические, социальные. Вместо того чтобы
исследовать реальную связь этих мотивов, выявить их
субординацию, Кант пытается выделить из них «чистую культуру»
эстетического как такового. Абстрагируясь от всех звеньев связи
и от всех переходов между ними, Кант получает в итоге
«чистый», эстетический экстракт: «чистое» суждение эстетического
вкуса. Но то, что у него таким образом получается, есть
рассудочная абстракция, анатомический препарат вместо живого
тела.
Конечно, и анатомический препарат необходим для науки2.
Без анатомии невозможна физиология. Но физиолог ничего не
мог бы открыть в процессах жизни, если бы он видел в них
только то, на что их разлагает метод анатомического
препарирования.
Канту не было совершенно чуждо понимание недостаточ-
1 Ниже — при анализе момента «количества» эстетического
суждения — мы вернемся к этому важному вопросу. Там же будет выяснено,
чем отличается «всеобщность и необходимость», о которой идет речь
в эстетике Канта, от «всеобщности и необходимости» в его логике.
2 Непонимание этой необходимости приводит к односторонности
обратного типа: к стремлению остаться (не в жизни, а в науке) при нерэс-
члененной и потому смутной, для науки вовеки бесплодной целостности
яепосредственного восприятия.
189
ности обособляющего и отделяющего анализа. В нем была
сильна тенденция и к синтезу. В частности, Кант не останавливается
на результате, к которому его привел анализ суждения —
«эстетического вкуса». Кант создает не только учение о
«моментах» суждения эстетического вкуса. Он создает, как мы
увидим, также и учение об «эстетических идеях». В учении
этом частично преодолеваются крайние результаты
аналитического обособления и отделения эстетического суждения от
суждения познавательного. Эстетическая форма
рассматривается уже как средство выражения эстетической идеи.
Искусству присваивается функция изображения идеала.
Соответственно с этими понятиями развивается и сравнительная
оценка отдельных видов искусства.
Но все это выясняется не сразу. В развитии идей,
составляющих содержание «Критики способности суждения», имеется
своеобразная «диалектика». Чтобы прийти к учению об
«эстетических идеях» и об «идеале», Кант предварительно развивает
учение о специфических признаках «суждения вкуса». В этом
учении абстрактность аналитического метода и формализм
результата, к которому он приводит, доведены до предела.
Именно этот раздел «критики» и породил распространенное
представление о Канте, как о «чистом» формалисте. Но это
представление ошибочно. В противоречивой системе эстетики Канта
формализм — только звено изложения, только элемент этой
системы, но не ее последнее, решающее слово. Представление об
эстетике Канта, как об эстетике чистого формализма, в лучшем
случае соответствует не учению самого Канта, а его
истолкованию, возникшему в формалистических теориях буржуазного
искусствоведения и буржуазной эстетики XIX и первой
половины XX века. Формалисты — это Гербарт, Эдуард Ганслик,
Гейнрих Вельфлин, Гильдебранд и им подобные. Они
прочитали Канта сквозь очки собственного формализма. Но только
они, а не Кант, несут за него ответственность.
К сожалению, им поверили на слово некоторые наши
эстетики и искусствоведы. В изучении «Критики» они не пошли
дальше кантовского изложения моментов эстетического
суждения. Формализм этого раздела «Критики» они приняли за фор
мализм эстетики Канта в ее целом.
Повод для этого — расширительного — истолкования дал
сам Кант. Учение о моментах вкуса, развитое Кантом в
«Аналитике прекрасного», действительно формалистично.
Исходной для него является мысль, будто суждение вкуса «не есть
познавательное суждение» (ist...kein Erkenntnisurteil)1. Оно —
«не логическое, а эстетическое» (nicht logisch, sondern
ästhetisch). Это — суждение, основа определения которого «может
»Kants WerkcS. 271.
190
быть только субъективной и не может быть какой-либо другой»
(dessen Bestimmungsgrund nicht anders als subjektiv sein kann)1.
Всякое отношение представлений, даже отношение ощущений
может быть, по Канту, объективным. Не может быть таким
только отношение к чувству удовольствия и неудовольствия.
Здесь ничего не отмечается в объекте, здесь только субъект
чувствует, какое действие производит на него представление
о воспринимаемом предмете.
Из этой предпосылки Кант выводит как первый «момент»
эстетического суждения его практическое бескорыстие,
свободу от всякого интереса.
И интерес, по Канту, вызывает наслаждение. Но в интересе
наслаждение связано с представлением о существовании
предмета. Поэтому интерес всегда имеет отношение к способности
желания.
Напротив, наслаждение, которым определяется суждение
эстетического вкуса,— совершенно специфично. Там, где
речь идет об эстетическом суждении, мы хотим знать только
одно: сопровождается ли мое простое представление о предмете
чувством удовольствия. Вопрос о том, существует ли самый
предмет, не имеет здесь никакого значения и не влияет никак
на само чувство удовольствия. Возможность сказать-, что
предмет прекрасен, не обусловлена никакой моей зависимостью от
существования предмета. Она зависит только от того, что я
делаю из представления о предмете в себе самом. Чтобы быть
судьей в делах вкуса, надо быть совершенно равнодушным
к существованию вещи. В этом смысле Кант утверждает, будто
суждение о красоте, к которому примешивается хотя бы
малейший интерес, «очень партийно и отнюдь не есть чистое
суждение вкуса» (sehr parteilich und kein reines GeschmacksurteiJ
sei)2.
Таково знаменитое учение Канта о «незаинтересованности»
как первом условии, или моменте эстетическою суждения.
Установим точный смысл этой «незаинтересованности». Иногда
ее понимали как требование полного равнодушия к выбору
предмета изображения в искусстве. Понимание это ошибочно. Из
учения Канта об «эстетических идеях» и об «идеале» видно, что
для Канта отнюдь не было безразличным, какой предмет
избирается в искусстве как предмет для изображения. Кант считает
специфическим для вкуса равнодушие не к тому, каков
предмет, а равнодушие к вопросу, существует ли в реальности
предмет, изображенный в произведении искусства, например
существует ли, существовал ли герой литературного
произведения или же художник его выдумал. И в том и в другом случае
1 Kants Werke, S. 272.
2 Τ а м же, стр. 273.
191
важно не существование (или несуществование) предмета
{героя). Важна способность изображения предмета — и в
случае, если он существует, и в случае, если его не существует,—
доставлять чувство удовольствия.
Специфический характер этого удовольствия Кант
подчеркивает, резко отделяя прекрасное от приятного и доброго.
И приятное, и прекрасное, и доброе нравятся нам, но каждое —
особым образом. «Приятно» — то, что нравится чувствам
в ощущении. Приятное всегда зависит от существования
предмета и всегда соединено с интересом к предмету. Нравится не
только предмет, но и существование предмета. Так как оно
нравится в ощущении, то наслаждение, доставляемое приятным,
всегда только субъективно. Можно самому испытать приятное,
но немыслимо и бессмысленно требование, чтобы то, что я
нашел приятным для себя, нашли таким же приятным для себя
и другие.
В отличие от прекрасного добрым мы называем то, что ценим,
то есть то, в чем полагаем объективное значение. Доброе, так же
как прекрасное и так же как приятное, доставляет нам
удовольствие. Но это удовольствие вызывается не только через
простое представление о предмете. Оно определяется также
через представляемое отношение субъекта к существованию
предмета.
Таким образом, стремление Канта указать специфические
признаки прекрасного привело его — уже при характеристике
первого момента вкуса — к отделению и обособлению
эстетического в особую область. Эстетическое отделяется не только
от сферы познания. Оно отделяется и от всей сферы этического.
Оно вполне автономно и независимо.
Воззрение это нельзя рассматривать как специфическое
воззрение Канта, как его нововведение в эстетику. Развивая
тезис о «незаинтересованности» эстетического удовольствия,
Кант лишь доводит до крайнего вывода мысль, развивавшуюся
его предшественниками в Англии и в Германии. Как и у самого
Канта, мысль эта у них выражала отнюдь не доктрину чистого
формализма и безыдейности. Она выражала стремление —
Гётчесона и Бёрка в Англии, Мендельсона и Винкельмана в
Германии — определить специфические черты эстетического
суждения. Удивляться надо не тому, что в лице Канта в конце
XVIII века в Германии возникло подобное учение. Удивляться
приходится тому, как близко подошли к Канту в развитии
этого стремления некоторые из его предшественников. Даже
далекий от философских умозрений Винкельман утверждает,
будто условие «чистоты» вкуса состоит в «очищении его от
всякой намеренности», в освобождении субъекта, высказывающего
эстетическое суждение, от влияний инстинкта и от влечений
страстей. Еще ближе к формулировкам Канта формулировки
192
Мендельсона1. Как и Кант, он утверждает, что желание иметь
предмет, приобрести его, владеть им сильно отличается (sehr
weit unterscheiden) от удовольствия, доставляемого
прекрасным. Для прекрасной вещи особенно характерна ее
способность быть созерцаемой с удовольствием и без волнения,
вызываемого желанием. Она нравится нам — как бы мы ни были
далеки от обладания ею и от желания использовать ее для
нас самих2.
С другой стороны, эстетикам, которые без обиняков
отождествляют кантовский тезис «незаинтересованности»
эстетического удовольствия с проповедью безыдейного искусства,
необходимо знать, что тезис этот разделяют с Кантом не только
его ближайшие предшественники, но также и корифеи
немецкого объективного идеализма — Шеллинг и Гегель. Этих
философов уже никак нельзя обвинить в отрицании роли идей
в искусстве. Да и первый крупный «декадент» немецкого
идеализма — Шопенгауэр, утверждавший, будто объектом
искусства является платоновская идея (см. ч. III его основного
труда «Мир как воля и представление»), отстаивал не менее
рьяно, чем Шеллинг и Гегель, «незаинтересованность»
эстетического созерцания.
Упорство, с каким этот тезис развивался в классической
немецкой эстетике^ не может быть полностью выведено и из
одного только стремления определить специфическую природу
прекрасного, а также специфическую природу эстетического
удовольствия. Отчасти это упорство объясняется и тем, что в
тезисе «незаинтересованности» эстетического созерцания философы
эти уловили крупицу истины. Состоит она в том, что
существование созерцаемого предмета не есть непосредственное, но лишь
опосредствованное условие эстетического характера восприятия
и оценки. Вопрос о существовании предмета, изображенного
в произведении искусства, не может быть совершенно исключен
из сферы эстетического рассмотрения. Вопреки мнению Канта,
Шеллинга и Гегеля, существование предмета не безразлично
для эстетической оценки. Но существование это действительно
не составляет непосредственного условия эстетического
суждения. Тут Кант прав. Так, существование (или
несуществование) «обломовщины», вопреки Канту, отнюдь не безразлично
для эстетического суждения о романе Гончарова. Но
существовал ли в действительности такой человек, как Обломов, или
не существовал, есть ли образ героя романа продукт
художественного вымысла и обобщения или портрет — это не имеет
непосредственного отношения к эстетическому суждению об
«Обломове». Сказанное еще очевиднее, если предмет, изобра-
1 См. замечания об этом Армана Нивелля (указ. произв., стр. 310).
2 См.: Mendelssohn, Morgenstunden, Bd. II, S. 295 f.
13 в. Асмус
193
женный в художественном произведении, заведомо
фантастический. Вопрос о том, существовал ли в действительности Вий,
не имеет значения для эстетического суждения о рассказе
Гоголя. В относительной независимости эстетического суждения
о предмете от существования предмета, точнее говоря, в
опосредствованном характере его зависимости от этого
существования, и состоит ограниченная истинность тезиса Канта,
Шеллинга, Гегеля и их продолжателей.
Второй момент суждения вкуса Кант, по аналогии с
логической характеристикой суждения, называет характеристикой
эстетического суждения по его количеству. Согласно этой
характеристике эстетическое суждение высказывается не как
простое заявление о личном — и только личном —
впечатлении от предмета. Оно высказывается с претензией на значение
его для всех. Когда я называю предмет «прекрасным», то моя
оценка всегда предполагает, что прекрасен он не только для
меня, но что и всякий другой человек, воспринимающий тот же
предмет, найдет его прекрасным. Поэтому эстетическое
суждение — не один лишь отчет о личном мнении. Оно призывает
и других согласиться с нашим мнением.
Притязание эстетического суждения на всеобщность Кант
считает прямым следствием его «незаинтересованности».
Эстетическое суждение не основывается ни на сознательном
интересе субъекта, ни на его склонности. Высказывая суждение по
поводу удовольствия, доставляемого предметом, субъект
чувствует себя свободным. Он не может указать как на основу
своего удовольствия ни на какие особенные условия, которые
были бы присущи только ему, как данному субъекту. Но именно
поэтому он должен смотреть на испытанное им личное
удовольствие от предмета, как на имеющее основу в том, что он вправе
предполагать у всякого другого. Он имеет основание
предполагать такое же удовольствие для каждого.
Эта претензия на всеобщность сближает в известном
отношении эстетическое суждение с логическим. Называя предмет
«прекрасным», мы говорим о нем так, как если бы красота была
объективным свойством предмета, а суждение о красоте —
логическим суждением, основанным на познании через понятие.
Но это — только иллюзия. «Всеобщность» эстетического
суждения никогда не может, по Канту, возникать из понятий.
Не существует никакого перехода от понятий к чувству
удовольствия (или неудовольствия), порождающему
эстетическую оценку. Своеобразие и парадоксальность «суждения вкуса»—
в том, что, будучи высказано независимо от всякого интереса, оно
притязает на всеобщность, на значение для каждого. Но вместе
с тем сама всеобщность эта не основывается на предмете:
притязание на всеобщность имеет здесь всего лишь
субъективное значение.
194
Всеобщая сообщаемость эстетической оценки опирается не
на объективные свойства предмета, не на понятие о нем, а на
свободную игру познавательных сил. При отсутствии понятия,
характерного для суждения вкуса, представление о предмете
порождает эстетическую оценку только в силу особого
отношения между способностями души. Состояние души становится
субъективной основой предположения о всеобщем значении
суждения только в силу взаимного отношения познавательных
способностей. Здесь эти способности не ограничены никаким
определенным представлением ни о каком определенном
правиле познания. И потому их отношение — свободная игра
воображения и рассудка (der Einbildungskraft und des
Verstandes)1.
Такая эстетическая оценка предмета (или представления,
посредством которого предмет дается) — чисто субъективна.
Она предшествует чувству удовольствия от предмета и есть
основа этого удовольствия в гармонии наших познавательных
способностей. И только на этой всеобщности субъективных
условий в оценке предметов основывается наше представление о
всеобщей значимости эстетического удовольствия.
Учение Канта о претензии эстетического суждения на
всеобщность (так же как рассматриваемое ниже его учение о
необходимости суждения вкуса) — вполне оригинальная черта
эстетики Канта. Оно развито Кантом применительно к эстетике по
аналогии с логикой. Оно показывает, что стремление Канта
ΐί полному отделению эстетического от логического не могло
быть проведено Кантом последовательно, до конца. В учении
этом эстетика Канта сохраняет еще некоторую связь с
рационализмом — с рационалистической теорией познания и
логикой. Но связь эта — призрачная и растворяется в
субъективизме, составляющем основу учения Канта об эстетическом
вкусе.
Поэтому неправ французский исследователь Канта —
Виктор Бэш, утверждающий, будто Кант, выдвигая учение о
всеобщей сообщаемости суждения вкуса, превращает то, что
воспринято посредством чувства, в познанное2. Напротив, Нивелль
правильно указывает, что, по Канту, чувство, возбуждаемое
в нас свободной игрой наших способностей, отнюдь не есть
нечто познанное. Говоря об этом чувстве, Кант всегда имеет в
виду, что оно предшествует познанию и не выходит за пределы
»Kants Werke, S. 287.
2См.: Victor Base h, Essai critique sur l'esthétique de Kant,
Paris, 1897; 2. éd., 1927, p. 104, где Баш уверяет, будто для Канта
познание главенствует над всеми остальными способностями и что эти
последние могут иметь, по Канту, ценность только в силу своего участия в*
познании.
13* 195
субъективных условий познания. Речь идет об отношении,
существующем между чувственностью и рассудком, еще до того
как рассудок применил свои понятия к данным чувственности,
то есть именно о том, что Кант называет «свободной игрой»1.
Всеобщую сообщаемость этим субъективным условиям
придает только то, что познание само опирается на эти условия.
Но входят в сферу сознания они только посредством чувства2.
«Красота, без отношения к чувству субъекта, сама по себе,
есть, по Канту,— ничто» (Schönheit ohne Beziehung auf das
Gefühl des Subjekts für sich nichts ist)3.
Эти соображения дают Канту возможность уточнить его
представление об отношении прекрасного к понятию. Если бы,
рассуждает Кант, представление, дающее повод к суждению
вкуса, было понятием, которое рассудок и воображение
объединяют в познании предмета, то наше сознание отношения между
ними было бы интеллектуальным. Таково оно в «схематизме
чистых понятий рассудка», который Кант рассматривал в
«Критике чистого разума» и который состоит в особой форме связи
категории рассудка с данными чувственности. Но если таким
же было бы представление, ведущее к эстетическому
суждению, то суждение это возникало бы не в силу чувства
удовольствия (или неудовольствия) и потому не было бы суждением
вкуса. Ибо такое суждение определяет предмет лишь со
стороны удовольствия и со стороны красоты.
Определение это независимо от понятий. Здесь субъективное
единство отношения между воображением и рассудком
становится заметным только через ощущение. Это — ощущение того
действия, которое порождается взаимным соответствием
воображения и рассудка в их свободной и облегченной игре. Здесь
представление,— несмотря на то, что оно лишь единично и выступает
без сравнения с другими,— все же согласуется с условиями
всеобщности (dennoch eine Zusammenstimmung zu den Bedingungen
der Allgemeinheit hat)4. Оно приводит познавательную
способность в гармоническое настроение, которого мы требуем для
всякого познания. Именно поэтому оно может притязать на
значение для каждого, кто приходит к суждению благодаря
соединению рассудка с чувствами (durch Verstand und
Sinne)5.
Учение Канта о всеобщей сообщаемости эстетического
суждения заключало в себе две важные тенденции.
Первая состояла в стремлении поставить эстетическую оцен-
1 См.: Armand Nivelle, указ. произв., стр. 314—315.
2 См. там же, стр. 314.
»Kants Werke, S. 287.
4 См. там же, стр. 288.
6 Τ а м же.
196
ку выше удовольствия, доставляемого простым ощущением.
Претензия на всеобщее значение поднимала суждение вкуса
выше наслаждения приятным. И действительно. Удовольствие
от приятного заключено в границах ощущений. Это — тот
вид субъективного, которым исключается какая бы то ни было
возможность спора или убеждения. Если под «вкусом» понимать
оценку предмета как дающего приятное ощущение, то
относительно вкусов в этом смысле справедлива старинная латинская
поговорка: de gustibus non disputandum (о вкусах спорить
не следует).
Но если под «вкусом» понимать оценку предмета как
эстетически прекрасного, то в этом случае спор — не бессмыслица.
Он основывается на закономерной претензии «суждения вкуса» —
иметь значение для всех, то есть на всеобщности. И хотя к
убеждению во всеобщей значимости эстетической оценки никого
никогда нельзя привести посредством логического
доказательства (в этом смысле эта оценка остается субъективной), но сама
ее «субъективность» противоречива. В ней есть предпосылка
сверхличного, сверхсубъективного эстетического значения. Это
то, что возвышает ее над ней самой. В учении о всеобщей сооб-
щаемости эстетической оценки Кант делает первый робкий шаг,
ведущий от основного для него воззрения субъективного
идеализма к идеализму объективному. Сквозь облик Канта здесь
впервые проступили облики Шеллинга и Гегеля.
Вторая тенденция кантовского учения о всеобщей сообщае-
мости суждения вкуса возвращает Канта в границы
субъективистского понимания эстетического суждения. Кант исключил
понятие из числа средств, при помощи которых возникает и
высказывается эстетическая оценка. Тем самым он усилил
непосредственно субъективный характер суждения вкуса.
Последнее основывается не на аппарате понятий, образующих
построение аргументации. Оно основывается на непосредственно
испытываемом, никаким понятием не определяемом чувстве
удовольствия. Вместе с понятием, как его невозможной
основой, из поля эстетического суждения уходят предпосылки
объективной всеобщности. Единственно допустимым для
эстетической оценки видом всеобщности оказывается лишь
субъективное притязание на всеобщность, составляющее молчаливо
предполагаемую посылку суждения вкуса.
От кантовского понимания всеобщности суждений
эстетического вкуса — прямая дорога к теориям эстетического
интуитивизма. В идеях Канта — ключ к пониманию не
только «интеллектуальной интуиции» Шеллинга и романтиков.
Идеи эти — исходная точка и для интуитивизма
Шопенгауэра. Последний никогда не скрывал своего генезиса от
Канта.
Третий, по Канту, момент эстетического суждения
197
Кант называет, продолжая аналогию с логической
характеристикой познавательного суждения, «моментом по
отношению»1.
Ближайшим образом это отношение определяется как
отношение к целям2. В рассуждении, которым открывается это
исследование, Кант вводит понятия цели и целесообразности.
Целью он называет предмет понятия, рассматриваемого в
качестве причины этого предмета. Целесообразностью он называет
причинность понятия по отношению к его предмету. Там, где
мыслят форму или существование предмета, как действие,
возможное только благодаря понятию о нем,— там тем самым
мыслят и цель.
Кант разъясняет, что если речь идет о простом наблюдении,
то мы можем наблюдать целесообразность по форме, не
полагая для нее в качестве ее основы никакой цели. Мы можем
замечать такую целесообразность в предметах, но, добавляет
Кант, «только путем рефлексии» (durch Reflexion)3.
Разъяснив такую возможность — усматривать
целесообразность по форме, без усмотрения для нее реальной цели,— Кант
пытается далее доказать, что «суждение вкуса» основывается
именно на целесообразности этого типа. «Суждение вкуса,—
говорит Кант,— не имеет в своей основе ничего, кроме формы
целесообразности предмета» (nichts als die Form der Zweck-
mässigkeit eines Gegenstandes)4.
Форма целесообразности — это причинность представления,
рассматриваемого не в отношении к предмету представления,
а в отношении к состоянию души субъекта, испытывающего
представление. Сознание причинности, необходимой, чтобы
создать в субъекте такое состояние, Кант характеризует как
удовольствие.
Но удовольствие это — совершенно особого рода. В основе
суждения вкуса не может лежать ни субъективная цель, ни
представление о цели объективной. Эстетическое суждение
касается только отношения наших способностей представления
друг к другу. Эстетическое удовольствие, определяемое без
понятия, но вместе с тем как нечто, сообщаемое всем, может
порождаться лишь субъективной целесообразностью. Это —
представление о предмете без всякой цели — без субъективной
и без объективной. Здесь удовольствие дает только форма
целесообразности через представление, в котором нам дается
предмет. Такое удовольствие — не познавательное и не
этическое. Оно имеет причинность в самом себе и есть стремление
1 К a η t s Werke, S. 289—306.
2 Τ а м же, стр. 289.
8 Τ а м же, стр. 290.
4 Τ а м же.
198
получить состояние самого представления, доставить
познавательным силам занятие, но без дальнейших целей.
Понятие формальной целесообразности Кант использует,
чтоб еще резче подчеркнуть независимость суждения вкуса
не только от понятия, но также и от чувственно приятного.
Разъяснения эти важны. Они устраняют часто встречающееся
недоразумение по поводу эстетики Канта. Эстетику эту часто
характеризуют как гедонистическую, то есть как такую, которая
основой эстетического суждения провозглашает наслаждение,
удовольствие. Это, конечно, верно. Но при этом необходимо
подчеркнуть, что эстетическое удовольствие Канта — не
чувственное удовольствие. Кант называет прямо «варварским»
(barbarisch) такой вкус, который «для удовольствия нуждается
в примешивании чувственно привлекательных и трогательных
впечатлений» (die Beimischung der Reize und Rührungen zum
Wohlgefallen bedarf)1. Выдавать чувственно-привлекательное
за красоту, то есть материю удовольствия (Materie des
Wohlgefallens) за его форму,— есть, по Канту,— недоразумение
(ein Missverstand)2. Хотя чувственно привлекательное и
трогательное могут присоединяться к удовольствию от
прекрасного, они не в силах иметь влияние на суждение вкуса. Такое
суждение в своем чистом виде имеет основой своего определения
только целесообразность формы (die Zweckmässigkeit der Form)3.
Удовольствие, лежащее в основе суждения вкуса, состоит,
правда, в свободной игре, но в игре все же познавательных
сил — воображения и рассудка. В этом смысле эстетическое
чувство, как его понимает Кант,—· все же интеллектуально.
Интеллектуальный характер эстетического чувства лежит
в основе взгляда Канта на то, что существенно в искусстве.
Так, в живописи, в скульптуре, вообще во всех
изобразительных искусствах, существенным их элементом Кант считает
рисунок. В рисунке основу всех данных для вкуса создает не
то, что нравится в ощущении, а только то, что нравится через
одну свою форму (was bloss durch seine Form gefällt)4.
Напятив, краски относятся к vi/ecmtfe/шсьприятному. Поэтому,
рассуждает Кант, хотя краски сами по себе и могут оживить
предмет для ощущения, они, сами по себе, еще «не делают предмет
достойным созерцания и прекрасным» (den Gegenstand an sich
können sie...nicht anschauungswürdig und schön machen)6.
Но что такое в искусстве форма? По Канту, это — или
фигура, облик, вид (Gestalt), или игра (Spiel). В свою очередь
игра может быть или игрой фигур, или игрой ощущений. Игра
1 К a η t s Werke, S. 292.
2 Τ а м же, стр. 293.
3 Τ а м же.
4 Τ а м же.
6 Τ а м же, стр. 295.
199
фигур осуществляется в пространстве. Это — мимика или танцы.
Игра ощущений протекает во времени.
Кант не отрицает того, что во впечатление, производимое
предметом, эстетически действующим, может привходить
чувственно приятное. Таковы — краски в произведениях живописи
и тоны в произведениях музыки. Однако истинным предметом
чистого суждения вкуса, по Канту, будет в живописи — только
рисунок, а в музыке — только композиция (форма).
Чувственная прелесть красок и тонов означает вовсе не то, что они
прибавляют нечто к удовольствию от формы, а только то, что они
оживляют представления и, кроме того, делают саму форму
более точной, определенной и наглядной.
Такой взгляд на роль чувственно приятного, конечно, не
делает эстетику Канта рационалистической. Всякое
рациональное представление цели исключается Кантом из числа условий
суждения вкуса. В этом смысле эстетическое удовольствие
Канта — совершенно непосредственно1. Опосредствование
его субъективной целью тотчас ввело бы интерес и лишило бы
суждение вкуса его специфического качества.
Опосредствование его объективной целью поставило бы его в зависимость уже
не от гармонии наших познавательных сил, а от понятия.
Сформулировав свое учение о трех первых моментах
эстетического суждения, Кант считает необходимым отделить свою
эстетику прекрасного от влиятельных в его время эстетических
теорий рационалистического типа. Теории эти ставили
суждение вкуса в зависимость от понятия, в частности — в
зависимость от понятия о совершенстве. Так, Баумгартен
определял прекрасное как совершенство чувственного познания —
в параллель логике, для которой истинное — совершенство
рассудочного познания.
Кант считает эти теории ошибочными. Никакое суждение
вкуса, доказывает Кант, в котором предмет признается
прекрасным под условием определенного понятия, не может быть
собственным («чистым») суждением вкуса2. Наслаждение красотой—
наслаждение, которое не предполагает никакого понятия. Оно
непосредственно соединяется не с тем понятием, посредством
которого предмет мыслится, а с представлением, посредством
которого предмет дается. Всякая зависимость суждения вкуса
от цели понятия (суждения разума) уже не есть свободное и
чистое суждение вкуса (ein freies und reines Geschmacksurteil)3.
1 Важность непосредственной связи кантовского эстетического
суждения с удовольствием была правильно указана Германом Когеном
(Hermann Cohen, Kants Begründung der Aesthetik, Berlin, 1889,.
S. 159 f.).
2Kants Werke, S. 299—301.
3 См. там же, стр.300.
200
Правда, в ряде случаев красота все же предполагает
понятие о цели. Так, красота человека, животного, здания
привносят понятие о цели, которая определяет, какой должна быть
вещь. Но такая красота есть, по Канту, всего лишь
привходящая красота (ist... bloss adhärirende Schönheit)1. И как бы
ни выигрывало в таких случаях соединение эстетического
удовольствия с удовольствием интеллектуальным, правила,
которые могут быть извлечены из этого соединения,— уже не
правила вкуса, а только правила условий соединения вкуса
с разумом, прекрасного с добрым.
Красоту, доставляющую удовольствие в чистом суждении
вкуса, Кант называет «свободной» (freie Schönheit). Красоту,
присущую понятию, он называет «обусловленной» (anhängende-
Schönheit). Пример «свободной» красоты — цветы,
беспредметные узоры, инструментальная музыка без текста.
Пример «обусловленной» красоты — красота церкви, дворца,
беседки.
«Свободная» красота не зависит ни от какого понятия о
совершенстве. Понятие о совершенстве всегда предполагает не
только форму, но и материю. Невозможно мыслить только-
форму совершенства — без всякого понятия о том, чему она
должна была бы соответствовать. Форма совершенства без
материи, по Канту,— настоящее противоречие (ist ein wahrer
Widerspruch)2.
Напротив, целесообразность может мыслиться как одна
лишь форма целесообразности. Но такая целесообразность —
субъективная целесообразность. Именно она и дается красотой.
При этом, однако, исключается всякое понятие о совершенстве,
всякая материя совершенства. Мыслится только его форма.
От того, какой вещь должна бить, здесь отрешаются, и остается
только субъективная целесообразность в душе
созерцающего.
Именно потому, что суждение вкуса есть эстетическое
и покоится на субъективных основах, основа его определения
не может быть понятием определенной цели. Так как красота —
формальная субъективная целесообразность, то через нее
никогда не мыслится совершенство предмета: оно не может быть
всего лишь формальной целесообразностью3.
Кант полагает, что изложенные различия достаточно
определяют своеобразие эстетического суждения. Это суждение —
единственное в своем роде. Оно не дает никакого познания —
даже смутного — о предмете. Познание предмета дается только-
через логическое суждение. Напротив, эстетическое суждение,
1 См.: Kants Werke, S. 300.
2 См. там же, стр. 297.
8 См. там же, стр. 298.
20*
посредством которого дается предмет, относится исключительно
к субъекту, не показывает в предмете никакого свойства. Оно
только отмечает целесообразную форму в определении тех
способностей нашего представления, которые занимаются
предметом1.
Из этого учения, решительно переносящего центр
исследований эстетического суждения в субъект и в субъективные
условия оценки, Кант непосредственно выводит следствия,
касающиеся правил вкуса. Возможны ли они вообще? Возможно
ли объективное правило, которое определяло бы посредством
понятия у что прекрасно и что безобразно.
Ответ на этот вопрос может быть у Канта только
отрицательным. Не понятие о предмете, а только чувство субъекта
(das Gefühl des Subjekts) есть основа определения прекрасного.
Правда, многочисленные примеры доказывают происхождение
вкуса от общей для всех людей основы их согласия в оценке
форм, посредством которых людям даются предметы. Однако
основа эта глубоко скрыта от всех людей, и критерий
происхождения вкуса может быть только эмпирическим. Критерий этот —
всеобщая сообщаемость ощущения, не опирающаяся на
понятие, другими словами — согласие, насколько возможно, всех
народов во все времена по отношению к чувству прекрасного.
Критерий этот слишком слаб, для того чтобы из него можно
было вывести искомые правила.
По Канту, искать принцип вкуса, который был бы способен
дать общий критерий прекрасного через определенные
понятия,— задача неосуществимая. Здесь то, что ищут,
заключает в себе внутреннее противоречие. Поэтому вкус всегда
должен быть личной способностью. Можно указать другому на
образец и проявить умение, подражая указанному извне
образцу, но обнаружить подлинный вкус способен только тот, кто
может самостоятельно судить об образце.
Поэтому высший образец есть идея, которую каждый должен
создать сам для себя. Такая идея есть, по сути,— понятие .
разума, а представление о существе, адекватном этой идее,
есть идеал.
Исследуя понятие об идеале, Кант возвышается над
субъективизмом и формализмом собственного эстетического учения.
Согласно его разъяснениям, возникновение идеала выводит
сознание за пределы чистого суждения вкуса. Суждение это
основывалось на чувстве удовольствия, доставляемом
свободной гармонической игрой познавательных сил. Для
возникновения идеала этого уже недостаточно. Там, где в ряду основ
суждения должен иметь место идеал, в основе должна быть
какая-нибудь «идея разума по определенным понятиям» (muss
1 Ca.: Kants Werke, S. 298.
202
«ine Idee der Vernunft nach bestimmten Begriffen zum Grunde
liegen)1. Эта идея априорно определяет цель, на которой
основывается возможность предмета.
Поэтому немыслим, например, идеал красивых цветов, идеал
прекрасной меблировки, идеал прекрасного пейзажа. Идеал
немыслим даже для красоты, зависящей от определенных целей,
например для красоты дома, красоты прекрасного дерева,
красоты прекрасного сада. Даже в этом случае цели, мыслимые
посредством соответствующего понятия, недостаточно
определены и" целесообразность поэтому слишком свободна.
Идеалом красоты может быть только то, что цель своего
существования имеет в самом себе. Такое существо, по Канту,—
только человек. Только человек может сам определять себе свои
цели через разум. Даже там, где он заимствует цели из внешнего
восприятия, он может соединять их со своими существенными
целями и — в соответствии с ними — может тогда судить
эстетически. Поэтому только человек есть идеал красоты, и — в его
лице — только человечество одно среди всего существующего
в мире способно к идеалу совершенства2.
По Канту, значение идеи разума в формировании
эстетического идеала выступает особенно ясно при сопоставлении этой
идеи с тем, что Кант называет «эстетической нормальной идеей».
Нормальная идея, например нормальная идея для фигуры
данной породы животных, есть единичное созерцание
воображения, дающее критерий для его оценки. Такая идея должна
заимствовать свои элементы из опыта. Кто никогда не видел
ни одного коня, не может образовать эстетическую нормальную
идею породы коня.
Но если речь идет о величайшей целесообразности в
строении фигуры, то есть о целесообразности, которая могла бы
быть общим критерием для эстетического суждения о каждом
экземпляре данного вида, то такая целесообразность может
заключаться только в идее высказывающих суждение3. Так,
цели человечества — поскольку эти цели могут быть
представляемы не чувственно — идея разума делает принципом для
суждения о фигуре человека, в которой цели эти открываются,
как их действия, в явлении4. Такая идея, как
эстетическая идея, может быть представ л епа в образце вполне
конкретно.
Поэтому идеал Кант считает необходимым отличать от
нормальной идеи прекрасного. Возможна нормальная идея
красивой лошади, красивой собаки. Но идеал возможен, по
1 К a η t s Werke, S. 303.
2 Τ а м же.
8 liegt doch bloss in der Idee der Beurteilenden (стр. 303—304).
4 Τ а м же, стр. 303.
203
Канту, только для фигуры человека. Суждение по такому
масштабу уже «не может быть чистым эстетическим суждением»
(niemals rein ästhetisch sein könne)1, оно не есть «только
суждение вкуса» (kein blosses Urteil des Geschmacks sei). Идеал
человеческой фигуры состоит в выражении начала
нравственного, бег которого в данном случае предмет не мог бы нравиться
вообще. Задача эта, по Канту,— самая возвышенная, но вместе
с тем и самая трудная для искусства. Душевную доброту или
чистоту, или силу и т. д. здесь необходимо не только соединить
со всем, что связывает наш разум с нравственно-добрым,—
в идее высшей целесообразности. Кроме того, соединение это
здесь необходимо сделать как бы видимым в телесном
выражении. А для этого в свою очередь следует соединить идеи разума
с большой силой воображения. Это требуется даже от того, кто
только судит о таких идеях, но еще в большей степени от тех,
кто хочет их изображать в искусстве2.
Теперь мы видим, что учение об идеале действительно
разрывает тесный круг кантовского эстетического формализма.
Только в абстракции от живого действительного искусства, только
в чисто аналитическом рассмотрении прекрасное может быть
мыслимо как начисто отделенное от доброго, а суждение
вкуса — как совершенно независимое от интереса и от понятия.
Как только речь идет не об отрешенном понятии прекрасногог
а о реальном человеческом искусстве, оказывается, что оно
руководится идеей разума и изображает, по крайней мере
способно изображать, высшие идеалы нравственности и
человечности. При изложении моментов суждения вкуса взгляд этот
развит Кантом только как отступление от всего хода его
исследования или как некоторое дополнение. Но ниже Кант вернется
к нему при рассмотрении системы искусств. Там будет показано,
что кроме оценки отдельных искусств с точки зрения,
характерной для кантовского учения о прекрасном и о
незаинтересованном суждении вкуса, необходима также их оценка,
основывающаяся на способности искусства к выражению идеала. Оценки
эти, как мы увидим, окажутся глубоко различными.
Четвертым «моментом» в эстетическом суждении вкуса
является его модальность. Как и при разъяснении трех
предшествующих «моментов» — качества, количества и отношения —
термин этот соответствует модальной характеристике
логического суждения. В то же время он должен выражать
специфическое своеобразие суждения вкуса.
Модальность эстетического суждения состоит в том, что,
мысля прекрасное, о нем думают, что оно имеет необходимое
отношение к чувству удовольствия. Этим суждение вкуса от-
1 Kants Werke, S. 303.
2 Τ а м ж е, стр. 306.
204
личается от одобрения того, что приятно. Приятное
действительно возбуждает чувство удовольствия. Но здесь между
ощущаемым и чувством удовольствия, которое оно вызывает, нет
необходимости.
С другой стороны, необходимость, мыслимая в суждении
вкуса,— особого рода. Она отличается, во-первых, от
теоретической — объективной — необходимости. В случае
теоретической необходимости мы априори познаем, что каждый
необходимо будет чувствовать наслаждение от предмета, который я
называю прекрасным.
Во-вторых, необходимость, мыслимая в суждении вкуса,
отличается и от практической необходимости. В случае
практической необходимости удовольствие является необходимым
следствием объективного закона. Закон этот действует через
понятие разумной воли, а это понятие служит правилом для
свободно действующего существа. Такое удовольствие не
означает ничего, кроме того, что безусловно должно действовать
известным образом. Практически необходимое относится к
области велений категорического императива — с точки зрения
характера мыслимой в нем необходимости.
Напротив, необходимость, мыслимая в эстетическом
суждении — только «примерная» (nur exemplarisch genannt werden)1.
Это — необходимость согласия всех с данным суждением
вкуса. Однако это — «пример» общего правила, которое само не
может быть дано. Так как эстетическое суждение не есть
суждение объективное и познавательное, то его необходимость нельзя
вывести из определенных понятий. Необходимость эта — не
«аподиктическая» необходимость логического суждения. Еще
того менее она может быть выведена из опыта. Понятие о
необходимости эстетического суждения не может быть обосновано
на эмпирическом суждении.
Будучи субъективной, необходимость приписываемая
суждению вкуса, всегда высказывается лишь как обусловленная
{wird... nur bedingt ausgesprochen)2. Так как здесь имеют основу,
общую для всех, то, казалось бы, можно было бы всегда
рассчитывать на общее согласие. Однако так рассчитывать можно
было бы только при условии, если данный случай верно
подводится под эту основу.
Претендовать на безусловную необходимость суждения
вкуса мог бы только тот, кто имел бы объективный принцип и кто
судил бы в соответствии с этим принципом. Но если бы, с
другой стороны, он совсем не имел никакого принципа, как не
имеет его суждение чувственного вкуса, то, конечно, не могла
бы явиться никакая мысль о его необходимости. Следовательно,
iKants Werke, S. 307.
»Там же, стр. 308.
205
какой-то принцип для необходимости суждения вкуса должен
существовать. Однако — это только субъективный принцип.
То, что нравится (или не нравится), он определяет для всех.
но не через понятие, а через чувство. Это — общее чувства
(ein Gemeinsinn)1. Только при предположении, что существует
«общее чувство», может быть составлено суждение вкуса. Оно-
существенно отличается от общего рассудка (который иногда
тоже называют общим чувством — sensus commun is).
Различие — в том, что такой рассудок всегда судит не по чувству,
а по понятиям, хотя в этом случае понятия — только смутна
представляемые принципы.
Познания и выражающие их логические суждения всегда
могут быть сообщаемы всем. Иначе они не могли бы соответство-т
вать своим предметам и оставались бы только субъективной
игрой способностей представления. Именно это утверждает
скептицизм, точку зрения которого2 Кант здесь решительно-
отрицает.
Но если познания, как убежден Кант, могут быть
передаваемы другим, то должно быть способно к сообщаемости также
и «душевное состояние» (der Gemütszustand). Это — тенденция
познавательных сил к познанию вообще, и притом не простая
тенденция, а тенденция к той их пропорции, которая
необходима им для представления,— для того, чтобы предмет был дан.
Без этого познание не могло бы возникнуть как действие.
Здесь речь идет, подчеркивает Кант, не о всякой пропорции,
а о той — единственной,— при которой внутреннее соотношение-
познавательных способностей было бы самым выгодным для
рассудка и воображения — в интересах познания данных
предметов вообще. Это настроение не может быть определяемо иначе,
как только через чувство. Это и есть общее чувство. Для
обоснования его нет нужды опираться на психологические
наблюдения: его существование как необходимое условие всеобщей
сообщаемости нашего знания предполагается каждой логикой
и каждым принципом познания. Исключение составляет только-
догма скептицизма3.
Говоря о соответствии и об игре познавательных сил,
составляющей основу эстетического удовольствия, Кант всегда ,
имеет в виду игру (или соответствие) воображения и рассудка.
В параграфах «Критики», посвященных модальности
эстетического суждения, он пытается точнее определить отношение
между ними. Кант исходит из того, что во многих случаях
удовольствие, испытываемое при созерцании предмета, обладаю-
1 К a η t s Werke, S. 308.
2 Отрицает, конечно, только по отношению к опытному знанию.
В вопросе о познании вещей, как они существуют сами по себе, Кант —
такой же агностик, как порицаемый им Юм.
3 Τ а м же, стр. 309.
206
щего известными эстетическими свойствами, определяется
в большей мере практической целесообразностью в строении
предмета, чем собственно эстетическими его формами. В таких
случаях легко возникает смещение. Мы принимаем за
эстетическую оценку оценку свойств предмета (в том числе пропорций,
форм), обусловленных практической пригодностью предмета —
их способность выполнять свое практическое назначение.
Чтобы устранить это смешение и выделить то, чем — в
настоящем восприятии предмета — обусловлена эстетическая
оценка, воображение, участвующее в игре познавательных сил,
должно быть воображением особого рода. Воображение это ха-
рактериз7/ется свободной законосообразностью. Это — не
репродуктивное воображение, только воспроизводящее данные формы
данного предмета. Это — «продуктивное» и «самодеятельное»
воображение, источник произвольных форм всевозможных
созерцаний. Правда, там, где речь идет об усвоении предмета
внешних чувств, воображение связано определенной формой
этого предмета. В этом отношении оно не имеет свободной
игры. Но и в этом случае предмет дает ему такую форму, какую
воображение могло бы создать самому себе в соответствии с
рассудочной законосообразностью, если бы оно было
предоставлено самому себе.
Если воображение должно действовать согласно
определенным законам рассудка, то продукт такого воображения по-
своей форме определяется понятиями. В этом случае
удовольствие дается не в прекрасном, а в добром, в совершенстве, и
тогда суждение уже не есть суждение вкуса.
Напротив, суждение вкуса вполне совместимо со свободной
закономерностью рассудка. Здесь возможны, как это ни
кажется парадоксальным, субъективное соответствие
воображения с рассудком без объективного соответствия,
закономерность без закона, целесообразность без цели1.
Отсюда Кант выводит, что удовольствие, доставляемое
созерцанием правильных геометрических фигур и геометрических
тел, основывается не на красоте, а на правильности. На них
следует смотреть только как на изображение определенного
понятия, которое и предписывает фигуре ее правила. Во всех
таких случаях удовольствие основывается не непосредственно
на виде фигуры, а на ее пригодности для определенных целей.
Напротив, в «суждении вкуса» — если только оно «чисто»,
то есть свободно от всяких примесей,— удовольствие (или
неудовольствие) непосредственно соединяется только с
созерцанием предмета, без всякого отношения к его определенному
назначению или к определенной цели2.
»Kants Werke, S. 311—312.
Там же, стр. 313.
207
На «правильности» основывается «нормальная» идея
красоты. Это — «канон» («правило») в смысле античного
скульптора Поликлета. Это — школьный идеал. Он нравится не
столько в силу своего превосходства, сколько в силу правильности
и безупречности. Напротив, «идея разума» образует принцип
суждения о человеческой форме, основываясь на целях
человечности. Это — форма, посредством которой цели осуществляются
в чувственном. Она представляется как действие этих целей
s мире явлений. По существу идея эта есть выражение
морального в чувственном. Ее осуществление предполагает совместное
действие разума и воображения. В этом случае ее автономия
растворяется в моральном благе.
Таково проводимое Кантом различение двух видов красоты:
красоты «свободной» и красоты «зависимой», или
«обусловленной». Как во многих других случаях, Кант не первый ввел в
эстетику это различение. У него были серьезные предшественники,
которые не пользовались его терминологией, но своими
средствами выражали сходное эстетическое учение. Это — Зульцер,
Мендельсон, Винкельман, Лессинг.
Так, Зульцер делит вещи, способные нам нравиться, на
три класса. Прекрасными он называет те, которые возбуждают
удовольствие до вступления в действие способностей познания
и желания. Прекрасное привлекает нас своей формой, без
отношения к материи (Stoff) и целесообразности (Zweckmässig-
keit)1.
Мендельсон продолжает развивать эти различения. Действие,
производимое красотой, он отделяет и от понятия и от
интереса. Отсутствие понятия отделяет красоту и от совершенства.
Совершенство получает начало от единства в понятии, от цели,
общей для элементов представления. Напротив, красота
определяется простой видимостью единства,
чувственно-воспринимаемой гармонией2. Способность одобрения осуществляет свои
действия независимо от интереса, восприятие красоты не
вызывает никакого желания обладать прекрасным предметом.
Взгляды эти Мендельсон формулирует дважды: менее
определенно — в «Рапсодии» и гораздо точнее — в «Утренних
часах». В «Рапсодии» он утверждает, будто в этой жизни мы
призваны не только совершенствовать силы воли и рассудка,
но также воспитывать, доводя до более высокого совершенства,
чувство посредством чувственного познания3.
Уточнение этого взгляда произошло в 1785 году, за пять
лет до появления кантовской «Критики способности суждения».
1 См.: S и 1 ζ е г, Allgemeine Theorie der schönen Künste (ст. «Schön»).
2 См.: M. Mendelssohn, Briefe über die Empfindungen, 1,
1755, S. 123 f.
3 См.: M. Mendelssohn, Rhapsodie oder Zusätze zu den Briefen
über die Empfindungen, 1, S. 247.
208
В «Утренних часах» Мендельсон уже возражает против
распространенного в рационализме деления души на способности
познания и желания. «Чувство удовольствия и неудовольствия»
(die Empfindung der Lust und Unlust), разъясняет он, не
происходит от способности желания. Оно составляет часть
третьей способности и независимо от двух первых. Это — способность
«одобрения, удовольствия» (das Billigen, der Beifall, das
Wohlgefallen)1. «По-видимому,— пишет Мендельсон,— особый
признак красоты — тот, что мы созерцаем ее со спокойным
чувством удовольствия, что она нравится нам, когда мы как
нельзя более далеки от потребности обладать ею или
пользоваться ею» (Es scheint vielmehr ein besonderes Merkmal der
Schönheit zu sein, dass sie mit ruhigem Wohlgefallen betrachtet
wird, dass sie gefällt, wenn wir sie auch nicht besitzen und von
dem Verlangen sie zu benutzen auch noch so weit entfernt sind)2.
Но и понятие эстетического «идеала» было намечено в
развитии немецкой эстетики до Канта. Оно имеется уже у Влнкель-
мана, от которого оно перешло к Мендельсону. По Винкельману,
понятие это возникает как итог множества частных наблюдений.
Их собирают и сопоставляют, и таким способом возникает
представление о совершенном образце человеческой красоты.
Могло бы показаться, что этот «идеал» Винкельмана
соответствует в лучшем случае «нормальной идее» Канта и не
достигает до кантовской «идеи разума». Но Нивелль3 убедительно
показал, что в этом вопросе разница между Винкельманом и
Кантом — больше терминологическая. Чтобы «идея разума»
могла быть выражена в произведении искусства, к прекрасному
должно, по Винкельману, присоединиться выражение. Но
последнее необходимо4.
Есть понятие об «идеале» и в эстетике Лессинга. Так же
как и Кант, он ограничивает область идеала красотой человека.
«Величайшая телесная красота существует только в человеке,
и существует в нем только в силу идеала. Этот идеал реже
встречается в животных, и уж совершенно не имеет места в
растительной и безжизненной природе»5. Из этого тезиса Лессинг
заключал, что пейзажная живопись — низший вид искусства.
Пейзажный живописец подражает красотам, совершенно
неспособным к выражению идеала; он трудится таким образом
только с помощью глаза и руки, и гений либо вовсе не
участвует ч его творении, либо его участие незначительно.
1 М. Mendelssohn, Morgenstunden, 1785, Bd. V, II, S. 295.
2 Τ a м же, стр. 294.
3 См.: Armand Nivelle, op. cit., p. 125, note 1.
4 См.: Winckelraann, Geschichte der Kunst des Altertums,
1764, S. 150 f.
5 См.: Η. В 1 ü m η е г, Lessings Laokoon, Berlin, 1880, S. 440.
14 в. Асмус 209
Ill
КАНТОВСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СУЖДЕНИЙ ВКУСА.
АНАЛИТИКА ВОЗВЫШЕННОГО
Рассмотренное выше учение Канта о четырех моментах
эстетического суждения образует «Аналитику прекрасного»
(«Analytik des Schönen»). Но, кроме нее, в «Аналитику эстетической
способности суждения» входит, как ее вторая книга,
«Аналитика возвышенного» («Analytik des Erhabenen»).
Возвышенное — древняя проблема эстетики. Еще до
античного автора Лонгина, написавшего специальный трактат о
возвышенном, античная риторика видела в возвышенном одну из
трех задач ораторского искусства и основание одного из трех
стилей.
В немецкой эстетике до Канта «возвышенное»
рассматривается у Баумгартена. В своей «Эстетике» («Aesthetica») под
«возвышенным» Баумгартен понимает, во-первых,
определенную степень величины материи (предмета), во-вторых, стиль,
соответствующий этой величине. «Возвышенное» приводит душу
в состояние спокойствия (status tranquillitatis). Этим
«возвышенное» отличается от «патетического», для которого характерны
сильная эмоция и восторг1.
Еще более дифференцированы понятия Зульцера. У него
имеется понятие «чистой красоты» (das bloss Schöne),
предвосхищающее кантовскую «свободную красоту». От этого ее вида
Зульцер отличает, во-первых, красоту, вызывающую
впечатление обаятельного, миловидного, привлекательного (Reiz,
Grazie, Anmutigkeit), во-вторых, красоту, внушающую
уважение и изумление (Hochachtung)2. Первый вид красоты
частично совпадает с «зависимой красотой» Канта. Второй ее вид—
великое, или возвышенное (das Grosse und Erhabene); оно
отличается от прекрасного «сердечной эмоцией».
На почве эмпиризма и эмпирической психологии пытался
развить понятие о возвышенном английский философ Бёрк
(Burke). Он посвятил возвышенному специальный труд
«Философские исследования о происхождении наших понятий о
прекрасном и возвышенном». Кант изучал этот труд по немецкому
переводу3. Бёрк, так же как и Зульцер, стремится отделить
1 См.: А. Baumgarten, Aesthetica, 1750—1758, §416. Об этом см.:
В. Ρ о ρ ρ е, А. G. Baumgarten, seine Bedeutung und Stellung in der Leib-
niz-Wolffschen Philosophie und seine Beziehungen zu Kant. Nebst
Veröffentlichung einer unbekannten Handschrift der Aesthetica, Münster, 1906,
§ 209—210. На соображениях Поппе основаны замечания Нинслля
(A. Nivelle, op. cit., p. 53, note 1).
2 См.: S u 1 ζ e г, Allgemeine Theorie der schönen Künste (ст. «Reiz»).
8 См.: Burke, Philosophische Untersuchungen über den Ursprung
unserer Begriffe vom Schönen und Erhabenen, Riga, 1773.
210
прекрасное от возвышенного. Прекрасное основывается, по Бёрку,
на любви и сводится к ослаблению, прекращению напряжения,
к размягчению, разрешению, утомлению, замиранию и
томлению от удовольствия1.
Напротив, чувство возвышенного сводится, согласно Бёрку,
на стремление к самосохранению, а также сводится к страху,
то есть к скорби, которая — если только она не доведена до
действительного потрясения телесных органов — возбуждает
приятные ощущения. Это — не удовольствие в собственном
смысле, но род приятного ужаса, или покой, смешанный со
страхом2.
Подготовленное исторически, понятие Канта о возвышенном
не повторяет учений его предшественников. В разработке этого
понятия эстетика Канта поставлена в связь с его этикой,
познавательные способности — воображение и рассудок — с
разумом, учение об искусстве — с учением о природе,
антропология — с трансцендентальной философией. Именно поэтому
в учении о возвышенном слабее, чем в учении о прекрасном,
звучит формализм эстетики Канта. Вместе с тем в этом учении
еще более ясно, чем в учении о прекрасном, выступает
субъективный идеализм кантовской эстетики, очевиднее роль и
первенство сверхчувственного над чувственным, умопостигаемого над
эмпирическим.
Суждение о возвышенном — вид эстетического суждения.
Как вид рода, оно имеет ряд черт, общих у него с суждением
о прекрасном. Как и прекрасное, возвышенное нравится само
по себе3. Суждение о возвышенном, как и суждение о
прекрасном,— не чувственное и не логически определяющее, а
рефлективное суждение. При восприятии возвышенного
удовольствие возникает не из ощущения (как удовольствие от
приятного) и не из определенного понятия (как удовольствие от
доброго). Удовольствие это относится к понятию,'но
неопределенно к какому. Здесь удовольствие соединяется со способностью
изображения или воображением. Само же воображение при
созерцании возвышенного рассматривается в соответствии со
способностью понятий рассудка или разума — как нечто,
содействующее рассудку и разуму.
И суждение о прекрасном и суждение о возвышенном —
единичные суждения, но оба они претендуют на общее
значение, то есть на значение для каждого субъекта. Это —
притязание только на чувство удовольствия, а не на познание
предмета^.
1 См.: Burke, указ. произв. стр. 251—252.
2 См. там же, стр. 223.
3 См.: Kants Werke, S. 315.
* См. там же.
14* 211
В то же время возвышенное имеет ряд черт, отличающих
его от прекрасного. По своему существу прекрасное относится
к форме предмета, которая состоит в ограничении. Напротив,
возвышенное можно находить и в бесформенном предмете, если
только он представляется безграничным и если при этом он
мыслится как нечто целостное. Прекрасное и возвышенное
обращаются далее к различным деятельностям души: прекрасное
служит для изображения неопределенного понятия рассудка,
возвышенное — для изображения неопределенного понятия
разума. При созерцании прекрасного удовольствие соединяется
с представлением качества, при созерцании возвышенного —
с представлением количества.
Это последнее различие важно. Прекрасное
непосредственно внушает чувство симпатии и содействия жизни; оно
соединяется с чувственно-приятным и с игрой воображения.
Напротив, удовольствие от возвышенного возникает не
непосредственно. Оно предполагает, что жизненная сила испытала
мгновенную задержку, а затем пролилась с удвоенной силой.
Это уже — не игра воображения, а его серьезная деятельность.
Такое удовольствие уже несовместимо с явственно-приятным.
В то время как удовольствие от прекрасного — положительно,
удовольствие от возвышенного предполагает, что душа
попеременно привлекается созерцаемым предметом и отталкивается
им. Поэтому удовольствие от возвышенного — отрицательное
и граничит с удивлением или уважением1.
Еще более важным Кант считает внутреннее различие между
прекрасным и возвышенным. Оно особенно ясно выступает при
рассмотрении прекрасного и возвышенного в предметах и
явлениях природы.
Красота природы уже своей формой вводит целесообразность.
Прекрасный предмет как бы предназначен заранее для нашей
способности суждения. Здесь целесообразность сама по себе
создает предмет удовольствия.
Напротив, в созерцании возвышенного кроется
противоречие. То, что возбуждает в нас чувство возвышенного, по форме
своей противно цели, кажется несоразмерным с нашей
способностью изображения, представляется насильственным для нашего
воображения. Но в то же время, больше того — именно поэтому
оно становится, согласно нашему суждению, еще более
возвышенным.
Возвышенное делает явным антагонизм между
чувственностью и разумом, а также торжество, превосходство разума.
Истинно возвышенное не может заключаться ни в какой
чувственной форме. Оно касается только идей разума. Возвышенное
оживляет и возбуждает в душе идеи разума — именно через не-
1 См.: Kants Werke, S. 315-316.
212
соответствие между этими идеями и соответствующим им
изображением. Несоответствие это можно представить чувственно.
Из этой параллели между прекрасным и возвышенным Кант
выводит различие их роли по отношению к познанию природы.
Свободная красота природы открывает нам природу как
систему — по законам, принципа для которой мы не находим
во всей нашей рассудочной деятельности. А именно: красота
открывает природу как систему по принципу целесообразности1.
В результате о системе этой надо судить не только как о такой,
которая относится к бесцельному механизму природы, но и по
аналогии с искусством. Обстоятельство это стимулирует
развитие нашего знания о природе. Правда, сама по себе красота
природы не расширяет нашего действительного познания о
предметах природы. Однако она поднимает наше понятие о природе,
как о простом механизме, до понятия о ней, как об искусстве.
А это побуждает нас к более глубоким исследованиям самой
возможности такой формы2.
Напротив, в возвышенных явлениях природы нет ничего,
что вело бы к особым объективным принципам и к
соответствующим им формам природы. Именно в хаосе, в дичайшем —
ничего, далеком от правил — беспорядке, в опустошении
(Verwüstung) природа сильнее всего возбуждает в нас идею о
"возвышенном3.
Поэтому понятие о прекрасном в природе и более
содержательно и более значительно, чем понятие о возвышенном.
Последнее указывает на целесообразное не в самой природе, а только
в возможном применении наших созерцаний о природе.
Применение это создает нечто целесообразное не в природе, а
совершенно независимо от природы. Основу для прекрасного в
природе мы должны искать «вне нас» (ausser uns), основу для
возвышенного — «только в нас» (bloss in uns) и в том способе
мышления (in... der Denkungsart), который в наше представление
о природе вносит возвышенное4.
Различение это Кант считает совершенно необходимым
для того, чтобы нацело обособить понятие о возвышенном от
целесообразности природы. Понятие о возвышенном не открывает
никакой особой формы в природе: оно только указывает на
целесообразное применение, которое наше воображение делает
из представления о природе. Эти предварительные замечания
открывают перед Кантом путь к исследованию чувства
возвышенного.
1 Кант прибавляет: «...в отношении применения способности
суждения к явлениям» (respektiv auf den Gebrauch der Urteilskraft in Ansehung
der Erscheinungen; см.: К a η t s W с г k e, S. 317).
2Kants Werke, S. 317.
3 См. там же.
4 См. там же.
213
Так как суждение о возвышенном — суждение эстетической
рефлектирующей способности суждения, то удовольствие от
возвышенного должно рассматриваться в тех же четырех
«моментах», согласно которым было рассмотрено удовольствие от
прекрасного. Моменты эти — «количество», «качество»,
«отношение» и «модальность». По «количеству» удовольствие от
возвышенного следует представлять как имеющее общее значение,
по «качеству»— как свободное от интереса, по «отношению»—
как характеризуемое целесообразностью, но всего лишь
субъективной, по «модальности» — как характеризуемое необходимой
целесообразностью. В отношении возвышенного Кант только
слегка изменяет порядок рассмотрения: так как возвышенное
отличается бесформенностью, то, приступая к его анализу,
следует начинать с количества. Однако при исследовании
возвышенного возникает необходимость нового деления.
В отличие от спокойного созерцания прекрасного при
созерцании возвышенного возникает субъективно целесообразное
движение (волнение) души. Оно может относиться либо к
способности познания, либо к способности желания. В первом
случае возникает представление о «математически-возвышенном»
(vom Mathematisch-Erhabenen), во втором — о «динамически-
возвышенном» (vom Dynamisch-Ertiabenen) природы.
Математически-возвышенное
Если удовольствие нам доставляет созерцание предмета,
который представляется безусловно великим, то это —
удовольствие от математически-возвышенного. Здесь великое отнюдь
не тождественно с величиной. При оценке величины всегда
предполагается сравнение с другой величиной и некоторый
эталон величины. Такая величина всегда относительна — как бы
ни была она велика или мала. Возвышенное, представляемое
в качестве великого, тоже предполагает масштаб, но в этом
случае масштаб пригоден не для логического
(математически-определенного) суждения о величине, а только для эстетического
суждения о величине. Это — масштаб только для субъектив
ного суждения, рефлектирующего о величине. Для возвышенного
мы не позволяем себе искать масштаба вне его, а всегда ищем
этот масштаб только в нем самом. Это значит, что возвышенное
следует искать не в вещах природы, но «исключительно в
наших идеях» (allein in unseren Ideen)1. В каких именно идеях —
об этом Кант скажет ниже, в разделе «Дедукции чистых
эстетических суждений». Возможность чувства возвышенного
обусловлена противоречием между нашим воображением и нашим
1 К an ts Werke, S. 321.
214
разумом. В воображении есть стремление к движению в
бесконечность. В разуме есть притязание на реальную идею
безусловной целостности. Но наша способность к оценке величины
вещей чувственного мира, по Канту, несоразмерна
сравнительно с этой идеей. Именно эта несоразмерность и пробуждает
в нас, по Канту, чувство существования в нас
сверхчувственной способности (eines übersinnlichen Vermögens in uns)1.
И в этом смысле можно сказать, что, по Канту, математически-
возвышенное — это то, одна мысль о чем доказывает
существование способности духа, превышающей всякий масштаб
внешних чувств. Поэтому возвышенным не может быть названо ничто,
способное быть предметом внешних чувств2.
В душе, по Канту, звучит голос разума, который для всех
величин, данных в чувственном восприятии, в том числе даже
для тех, которые никогда не могут быть восприняты целиком,
требует соединения их в одном созерцании. Голос этот требует
изображения для всех членов возрастающего прогрессивного
движения числового ряда. Из этого требования не исключается
даже бесконечное пространство и бесконечное истекшее время.
Чтобы иметь возможность мыслить их как целое, должна
существовать способность души, превосходящая всякий
масштаб внешних чувств. Парадоксальность здесь в том, что
бесконечность должна мыслиться, как нечто данное3. Но для того
чтобы только иметь возможность мыслить без противоречия
данное бесконечное,— человеческой душе необходима
способность, которая «сама была бы сверхчувственной» (das selbst
übersinnlich ist)4. Способность мыслить бесконечность
сверхчувственного созерцания, как данное, превосходит всякий
масштаб чувственности.
Из трудности этой задачи и рождается чувство
«математически» возвышенного. Чувство возвышенного может возникнуть
только при восприятии тех явлений природы, созерцание
которых возбуждает идею об ее бесконечности. Такое созерцание
может возникнуть только при условии несоразмерности даже
величайших усилий нашего воображения с определением
величины предмета.
ι См.: Kants Werke, S. 321.
2 См. там же, стр. 322.
8 В этих рассуждениях Кант касается вопроса об «актуальной
бесконечности», введенной вновь в науку Георгом Кантором. Идея эта
показалась бы абсурдной большинству ученых XVII в., например Гоббсу.
Для последнего идея бесконечности может иметь разумный смысл только
«ели под нею понимают возможность к любой величине, как бы мала она
ни была, прибавить еще некоторую величину того же рода. Отличие Канта
здесь в том, что он не допускал возможности мыслить такую идею как
теоретическое понятие.
*Kants Werke, S. 326.
215
Следовательно, должно существовать, по Канту, такое
эстетическое определение величины, в котором стремление к
соединению превосходит способность воображения обнимать
прогрессивно нарастающие восприятия в целом созерцании и в котором
одновременно воспринимается недостаточность этой способности
для того, чтобы найти меру, пригодную для определения
величины. Здесь основная мера — совокупная бесконечность.
Такая мера — понятие, заключающее в себе внутреннее
противоречие. На такую величину предмета природы воображение
напрасно тратит всю свою способность соединения. Поэтому
такая величина возводит понятие природы к сверхчувственному
субстрату. Этот — сверхчувственный — субстрат лежит
одновременно и в основе природы и в основе нашей способности
мыслить. Он-то и дает возможность смотреть, как на нечто
возвышенное, не столько на предмет, сколько на наше душевное
настроение при определении предмета1.
Эстетическая способность суждения о возвышенном и о
прекрасном обращается к различным способностям познания. При
оценке прекрасного воображение, в своей свободной игре, не
определяет понятия, а обращается к рассудку, с тем чтобы
согласовать их между собой. И та же эстетическая способность
суждения — при оценке возвышенного — обращается к разуму,
с тем чтобы субъективно соответствовать его идеям
(неопределенно каким), то есть, чтобы вызвать душевное настроение,
соответствующее идеям и совместимое с ними.
Отсюда Кант черпает новое, как ему кажется, убеждение
в том, что возвышенное следует искать только в душе того,
кто высказывает суждение, а не в предмете природы.
Суждение о предмете дает лишь повод для этого настроения.
Таков момент количества в эстетическом суждении о
возвышенном. За его рассмотрением у Канта следует рассмотрение
качества. Это рассмотрение открывает в суждении о
возвышенном противоречие. С одной стороны, чувство возвышенного
есть чувство неудовольствия. Происходит это неудовольствие
от несоразмерности между воображением, эстетически
оценивающим величину, и определением величины через разум. В то
же время чувство возвышенного есть и чувство удовольствия.
Это — удовольствие, так как стремление к идеям разума для
нас все же — закон, даже когда мы видим несоразмерность
между наисильнейшей способностью чувственности и идеями
разума. В силу этого закона все, что природа — как предмет
внешних чувств — имеет для нас великого, мы склонны считать
незначительным в сравнении с идеями разума.
Таким образом, то неудовольствие, которое первоначально
возникло в нас из чувства нашего сверхчувственного назначе-
* К an ts Werke, S. 327.
216
ния, превращается в удовольствие. Это—удовольствие от
убеждения, что каждый масштаб чувственности несоизмерим с
идеями разума. Здесь стремление воображения к чрезмерному
одновременно и отталкивает нашу чувственность и привлекает наш
разум.
При этом суждение о возвышенном·всегда остается
эстетическим. Оно не имеет в своей основе определенного понятия
о предмете и тем не менее мыслит субъективную игру
воображения и разума — при всем их контрасте — как игру
гармоническую. Здесь — полная аналогия с суждением о прекрасном,
различие только в душевных силах. В суждении о прекрасном
субъективная целесообразность душевных сил создается через
соответствие между воображением и рассудком. В суждении
о возвышенном та же субъективная целесообразность создается
через соотношение между воображением и разумом1.
Отсюда видно, что качество чувства возвышенного состоит,
по Канту, в том, что чувство это есть сразу и чувство
неудовольствия— на нашу эстетическую способность суждения о
предмете — и есть представление, что эта способность —
целесообразна. Она целесообразна, так как сама наша неспособность
пробуждает здесь сознание нашей неограниченной способности,
и только благодаря сознанию неспособности возникает
эстетическое суждение о способности субъекта2.
Этим устанавливается отличие между эстетическим и
логическим определением величины. При логическом определении
мы достигаем объективного познания: мы познаем, что
посредством измерения вещи в чувственном пространственном и
временном мире — каков бы ни был прогресс этого ее измерения —
мы никогда не можем достигнуть абсолютной совокупности как
объективной. Мы не можем мыслить бесконечность как вполне
данную. И мы не можем думать, будто невозможность мыслить
ее таким образом — только субъективная, то есть основывается
только на неспособности воспринять ее.
Другое дело — эстетическое определение величины. Здесь
возникает неудовольствие, вследствие нецелесообразности
нашей способности воображения для идей разума, то есть
вследствие невозможности достигнуть — при помощи необходимого
расширения воображения — полной соразмерности с идеей
абсолютно целого, с тем, что безгранично для нашего разума.
И все же сама эта нецелесообразность представляется здесь
целесообразной, а неудовольствие становится удовольствием.
Здесь эстетическое суждение становится субъективно
целесообразным для разума, как для источника идей. В этом слу-
1 См.: Kants Werke, S. 330.
2 См. τ а м ж е, стр. 330, 331.
217
мае предмет — в качестве возвышенного — воспринимается
с удовольствием. Но это удовольствие возможно в данном
случае лишь потому, что ему предшествует чувство неудовольствия1.
Д и нами чески-возвышенное
Динамически-возвышенное есть, по , Канту, эстетическое
суждение, в котором природа рассматривается как сила, но
как сила, не действующая на нас насильственным образом
{die über uns kein Gewalt hat)2.
Согласно Канту, бывают ситуации, когда мы созерцаем силы
природы, угрожающие нам и безмерно превосходящие нашу
способность сопротивления. Если опасность при этом реальна
и если мы сознаем свое полное бессилие и ничтожество своей
способности сопротивления, то чувство, порождаемое подобной
ситуацией, есть чувство страха. В таком чувстве нет ничего
эстетического.
Но если, созерцая перед собой эти грозные, разрушительные
и гибельные силы, мы сами находимся в безопасности, то в нас
возникает не чувство страха, а чувство особого рода. Здесь
созерцание этих явлений поднимает наши силы над обычным
уровнем, в своей собственной душе мы находим перевес силы над
природой. В этом случае в способности нашего разума мы
находим другой — не чувственный — масштаб, в сравнении с
которым все в природе недостаточно велико и который всю эту
бесконечность природы «имеет под собой, как единство» (jene
Unendlichkeit selbst als Einheit unter sich hat)3. Здесь сама
неодолимость могущества природы, открывая нам, как физическим
существам, наше физическое бессилие, в то же время открывает
в нас способность судить обо всем вне зависимости от этого
бессилия. Здесь «человечество в нашем лице остается не
униженным, хотя человек и должен преклониться перед этой мощью».
В таких случаях природа признается — в нашем
эстетическом суждении — возвышенной. Она признается такой только
потому, что она возвышает наше воображение до пластического
изображения случаев, когда душа чувствует, что ее назначение
поднимается даже над природой. Удовольствие (das
Wohlgefallen)4 здесь основывается на открывающемся в подобном слу-
i К ants Werke, S. 331.
2 Τ а м ж%е, стр. 332.
8 Τ а м же, стр. 333.
4 Русский переводчик «Критики способности суждения» без
достаточного основания перевел в этом месте кантовский термин Wohlgefallen
словами «Художественное удовольствие» (Иммануил Кант,
Критика способности суждения. Перевод H. М. Соколова, Спб., 1898, стр. 120).
Прибавленное слово «художественное» здесь совершенно неуместно: речь
идет не о впечатлении от произведений искусства, а о впечатлении от
грандиозных и грозных явлений природы.
218
чае назначении (Bestimmung) нашей способности. Задатки для
этого назначения несомненно существуют в нашей природе, но
их развитие предоставлено нам самим и сделано для нас
обязательным (obliegend)1.
Таким образом, заключает Кант, возвышенное и в этом своем
виде — как динамически-возвытеяяое — заключается не в
какой-либо вещи в природе, а в нашей душе, и только в ней. Оно
заключается в душе, поскольку мы можем сознавать себя выше
природы в нас, а потому и выше природы вне нас. Силу природы,
бросающую вызов нашим силам, мы и называем «возвышенным».
В учении Канта о динамически-возвышеяяом сказался
высокий гуманизм его философского мировоззрения. Человек,
испытывающий чувство возвышенного, чувство собственного
превосходства перед лицом могучих сил природы, готовых
раздавить и уничтожить его своим безмерным могуществом,—
не «червь земли», не человек «рабского сознания». Чувство
собственного человеческого достоинства не только противостоит
превосходящим его силам, но одерживает победу над ними.
Это — Фауст, бестрепетно разговаривающий с могучим духом,
которого" он вызвал силой своего знания. Такой человек —
существо не только эстетическое, но и высоко этическое. Кант
ясно сознавал связь эстетики возвышенного с высокой
этической культурой. Он сам пояснял, что без достаточного
развития нравственной идеи то, что люди, подготовленные
культурой, называют «возвышенным», для неразвитого в этом
отношении человека представляется только отпугивающим (bloss
abschreckend)2. По Канту, эстетическое суждение о
возвышенном в природе требует от человека культуры — требует ее
в гораздо большей мере, чем суждение о прекрасном. Но
последний источник чувства возвышенного — даже не культура,
а задатки морального чувства в человеке. Это — то самое
сознание собственной нравственной самоценности, из которого
Кант вывел в своей этике — в «Критике практического
разума» — знаменитый принцип: человек как существо
нравственное — самоцель и ни под каким предлогом, пусгь даже самым
возвышенным, не должен рассматриваться и не должен быть
использован как орудие или как средство для достижения
какой бы то ни было цели3.
Высокое этическое понимание возвышенного у Канта в то
же время — совершенно созерцательно и несет па себе яркую
1 См.: Kants Werke, S. 334.
2 См. там же, стр. 337.
8 Тот, кто поймет эту связь эстетики Канта с его этикой и с его
понятиями о культуре, может по достоинству оценить все те глупости, которые
люди, никогда не читавшие «Критики способности суждения» и не
читавшие этических работ Канта, повторяют о якобы «чистом» формализме
кантовской эстетики. Формализм этот далеко не «чистый»!
219
печать кантонского идеализма. Оно созерцательно. Как бы m*
поднимало человека нравственное сознание его превосходства
над природой и над ее могущественными, угрожающими
человеку силами, это сознание остается в плане чистого созерцания.
Силам природы человек противопоставляет не свою
основанную на знании материальную силу, не бэконовскую мощь,
достигаемую «повиновением природе» (natura parendo vicitur),.
а только внутреннее сознание своего нравственного
достоинства. Эстетическое чувство «возвышенного» — чувство
человека, не действующего на основе законов природы и не
преобразующего природу, но только созерцающего природу,
человека, правда, исполненного гуманистического сознания
собственной нравственной самоценности.
Будучи созерцательным, кантовское понимание
возвышенного замкнуто в пределах идеализма. Так же как при чувстве
прекрасного, при чувстве возвышенного последний источник
этого чувства — не природа, не предметы природы и не их
объективные свойства. Источник чувства возвышенного —
в нашем сознании. Для эстетической способности суждения
предмет имеет значение силы, лишь поскольку он
рассматривается, как предмет чувства: чувства страха и противостоящего
ему, превосходящего его, побеждающего его чувства
нравственного назначения и нравственного превосходства над
природой.
Но чувство возвышенного не только связано с
нравственным самосознанием. Через эту связь оно соединяет человека
со сверхчувственным миром. В «Критике чистого разума»,
в «Пролегоменах» идеалистическое понятие о сверхчувственном
мире, по мотивам, вполне понятным, было отодвинуто на грань
рассмотрения. В этих трактатах объясняется возможность
априорного теоретического знания в опытных науках и
доказывается невозможность такого знания в «метафизике»,
в умозрительной философии о сущем. Но в «Критике
практического разума» и в «Критике способности суждения»
сверхчувственное выступает из глубины на первый план. Понятие
о сверхчувственном мире — предпосылка этики Канта, его
учения о нравственном законе, о свободе и о самоценности
каждой человеческой личности. Понятие о сверхчувственном
мире — предпосылка также и эстетики возвышенного Канта.
Чувство возвышенного прямо ведет нас, по Канту, к сознанию
сверхчувственного, к нашему моральпому чувству.
Неадекватность воображения, составляющая отрицательное условие
эстетического удовольствия от возвышенного, есть неадекватность
его именно по отношению к практическим (моральным) идеям.
Но источник этих идей — сверхчувственное.
Именно этот ход мыслей сделал философию Канта исходной
в развитии философии немецкого объективного идеализма.
220
Это — то, что в философии Канта больше всего ценили
Шеллинг и Гегель.
Из своей характеристики возвышенного Кант вывел
моральность суждения о возвышенном. Как и в случае
прекрасного, суждение о возвышенном отличается претензией на
всеобщность, то есть на значение для всех. Правда, в случае
возвышенного, претензия эга не так очевидна, как в случае
прекрасного. Суждение о возвышенном предполагает, как было
выяснено, более высокие требования — сравнительно с
суждением о прекрасном. Оно предполагает большую степень
культуры, большее развитие познавательной способности и более
высокий уровень нравственного самосознания.
Однако отсюда вовсе не следует, по Канту, будто чувство
возвышенного возникает именно из культуры и что в обществе
оно существует «только — условным образом» (bloss konven-
tionsmässig)1. Оно имеет свою основу в самой человеческой
природе: в том, чего можно требовать от каждого человека,
одаренного здоровым рассудком и задатками морального
чувства.
Поэтому в наше суждение о возвышенном включается, как
«го момент, необходимость согласия с нашим суждением о
возвышенном всех других людей. В связи с этим о том, кто остается
холодным при виде того, что мы называем «возвышенным»,
говорят, что у такого человека нет чувства. Уже сама
склонность души к чувству возвышенного предполагает в ней
восприимчивость к идеям. Поэтому и вкуса и чувства
возвышенного мы требуем от каждого человека, сколько-нибудь
развитого и образованного.
Однако между вкусом и чувством возвышенного есть
различие. Вкуса мы требуем от каждого безусловно, так как в
случае вкуса способность суждения относит силу воображения
только к рассудку, или способности понятий. Напротив,
чувства возвышенного мы требуем только под субъективными
предположениями (правда, мы вправе предполагать их у
каждого), так как здесь способность суждения относит
воображение не к рассудку, а к разуму, то есть к способности идей.
Это — субъективное предположение морального чувства в
человеке.
В предполагаемой эстетическим суждением его
необходимости Кант видит главный момент критики способности
суждения. Именно эта необходимость отмечает в эстетическом
суждении искомый в нем Кантом принцип a priori. Именно она
отличает критику способности суждения от простой эмпирической
психологии. Не будь этого принципа необходимости,
эстетическое чувство осталось бы погребенным среди чувств
удоволfanant s Werke, S. 337.
221
ствия и неудовольствия и не могло бы быть отличено от них, не
могло бы быть выделено как специфическое. Посредством
принципа необходимости Кант переносит способность суждения
в область «трансцендентальной философии», вводит в круг
способностей, которые имеют в своей основе априорные
принципы1.
В учении Канта о необходимости эстетического суждения
есть еще один мотив, достойный внимания, хотя самим Кантом
этот мотив едва лишь намечен. По Канту, удовольствие от
прекрасного, так же как и удовольствие от возвышенного, заметно·
отличается от всех других эстетических суждений — не только
через всеобщую сообщаемость, но также и тем, что в силу
всеобщей сообщаемости оно приобретает интерес для общества
(in Beziehung auf Gesellschaft... ein Interesse bekommt)2
Дедукция эстетических суждений
Установив в учении о модальности эстетических суждений
мыслимую в них, хотя лишь субъективную необходимость,.
их всеобщую значимость для каждого субъекта, Кант считает
необходимым доказать основательность этой претензии или,,
как он выражается, дать ее «легитимацию». Задачу эту решает
раздел «Критики», который Кант назвал «Дедукцией чистых
эстетических суждений»3. Дать такую дедукцию — значит
показать, что суждение вкуса имеет двоякое своеобразие.
Во-первых, оно имеет всеобщую априорную значимость. Это — не
логическая всеобщая значимость по понятиям, а только
всеобщность единичного суждения. Во-вторых, такое суждение
имеет покоящуюся на априорных основаниях необходимость.
Однако эта необходимость вовсе не зависит от каких-либо
доказательств.
Объяснить и вывести эти особенности, которыми суждение
вкуса отличается от всех познавательных суждений,— это·
и значит дать искомую дедукцию способности эстетических
суждений.
Первая особенность суждения вкуса состоит, по Кантуг
в том, что суждение это не просто называет предмет
прекрасным, но выражает притязание на согласие с этой оценкой
каждого — как будто удовольствие от прекрасного есть нечто-
объективное (ibid., S. 355). Кто говорит: «этот цветок
прекрасен»— высказывает вовсе не только то, что запах цветка ему
приятен. Если бы он не хотел сказать ничего больше, его-
суждение не заключало бы никакой претензии. Но оно ее заклю-
1 К a η t s Werke, S. 338.
2 Τ а м ж е, стр. 348.
8 Τ а м же, § 30—54, стр. 352—412.
222
чает. Суждение: «этот цветок прекрасен» — предполагает
согласие с этим суждением всякого другого, а не только мое
одобрение.
Заметив эту претензию суждений вкуса, обычно выводят
из нее, что красоту следует считать за свойство самого цветка:
свойство это, говорят, не зависит от разнообразия
чувственных впечатлений и от различия вкусов у разных людей, но,
напротив, само по себе определяет их вкус и ощущение1.
Но Кант не согласен с таким выводом. Суждение вкуса,
думает он, конечно, судит о свойствах вещи, в данном
примере — о свойствах цветка. Но оно называет вещь прекрасной
только по тем свойствам вещи, в каких вещь «следует способу,
посредством которого мы ее воспринимаем» (in welcher sie sich
nach unserer Art, sie aufzunehmen, richtet)2.
К этому присоединяется, по Канту, еще одно важное
обстоятельство. Вкус притязает только на автономию (der Geschmack
macht bloss auf Autonomie Anspruch)3. Он требует, чтобы
субъект не собирал справок о том, как судят о данном
предмете другие, испытывают ли они от него чувство удовольствия
или неудовольствия, чтобы он говорил совершенно
самостоятельно, высказывал свое суждение a priori, а не потому, что
данный предмет нравится всем.
Так, молодой поэт, поясняет Кант, не может отказаться
от убеждения в том, что его стихотворение прекрасно, только-
потому, что читатели и друзья думают об этом иначе. Если же
он станет прислушиваться к этим суждениям и делать уступки,
то это значит, что он в данном случае руководится жаждой
одобрения и похвалы, а вовсе не то, что его убеждения
изменились.
Такова первая особенность суждения вкуса «дедукции»—
априорное притязание на всеобщее значение.
Вторая особенность суждения вкуса, подлежащая
«дедукции», заключается в том, что суждение вкуса «определяется
отнюдь не через основания доказательства» (ist gar nicht durch
Beweisgründe bestimmbar)4.
Ни опровержение эстетического достоинства предмета (или
произведения искусства), ни утверждение, что предмет обладает
высоким достоинством, не могут быть, по Канту, доказаны.
«Если кто-нибудь,— говорит Кант,— не находит прекрасным
какого-нибудь здания, ландшафта или стихотворения, то...
сотни голосов, утверждающих противное, не могут побудить
его к искреннему восхищению: «то, что нравится другим.
ι К a η t s Werke, S. 355.
2 Τ а м же.
3 Τ a м же.
* Τ a м же, стр. 357.
22;*
никогда не может лежать в основе эстетического суждения»1.
Правда, суждение других, противоположное в сравнении
с нашим, может заставить нас задуматься по поводу их
собственного суждения, но оно никогда не может убедить нас
в том, что наше суждение не верно.
Никакое априорное доказательство не может обосновывать
по определенным правилам суждение о красоте. Положение
это Кант, обычно спокойный в ведении доводов, высказывает
даже в несколько приподнятом тоне, который подчеркивает
его глубокое убеждение в истинности его мысли: «Если мне
кто-нибудь,— говорит Кант,— читает свое стихотворение или
ведет меня на театральное зрелище, которое в конце концов
не правится моему вкусу, то пусть Ватте или Лессинг, или
какой-либо другой, еще более старый и еще более знаменитый
критик вкуса приводит мне все установленные ими правила
в доказательство того, что это стихотворение хорошо,— пусть
известные места, которые именно мне и не нравятся, вполне
соответствуют правилам красоты (как эти правила даны там
и всеми признаны),— я затыкаю себе уши, не хочу слышать
никаких доказательств и размышлений и скорее признаю, что
эти правила ложны или, по крайней мере, неприменимы к
данному случаю, чем допущу, будто мое суждение можно
определять априорными доказательствами. Ибо это — суждение
вкуса, а не рассудка или разума»2.
Суждение вкуса всегда возникает как единичное суждение
о предмете. Правда, рассудок, сравнив предмет по
доставляемому им удовольствию с суждениями других людей, может
составить суждение вроде суждения «все тюльпаны прекрасны».
Но это — уже не суждение вкуса, а обычное логическое
суждение. В нем в качестве предиката суждения высказывается
отношение предмета к вкусу. Однако подлинное суждение вкуса —
только то, в котором я нахожу вот этот, отдельный, данный
тюльпан прекрасным. Своеобразным и загадочным в этом
суждении — суждении вкуса — будет . то, что, хотя такое
суждение имеет только субъективную значимость, оно в то же
время притязает на значимость для всех. Происходит это так,
как если бы суждение вкуса было объективным суждением.,
которое покоится на основах познания и может быть
принудительным в силу некоторого доказательства3.
Именно эта загадочная особенность суждения вкуса — его
субъективность и единичность в сочетании с его притязанием
на объективность и всеобщность — и должна быть объяснена
в «дедукции чистых эстетических суждений». Задача эта, ко-
1 К an ts Werke, S. 357.
2 Τ а м же, стр. 357—358.
3 См. там же, стр. 358.
244
нечно, не могла бы даже и возникнуть, если бы Кант
отождествлял эстетическое суждение вкуса с тем, что просто приятно
в субъективном ощущении. Но именно этого-то и нет. Кант
все время исходит из мысли о специфическом характере
суждения вкуса. Поэтому сближение эстетического с субъективно-
приятным у Канта всегда только частично и не касается
специфической сущности обоих. Эстетическое и приятное
совпадают, по Канту, только в том, что суждение о том и о другом
всегда субъективно и что объективный принцип
эстетического вкуса так же невозможен, как невозможен объективный
принцип, который устанавливал бы, какое кушанье приятно
для всех. Только в этом смысле Кант соглашается с Юмом,
сказавшим как-то, что, хотя все художественные критики
несомненно могут умозаключать убедительнее, чем повара, все-таки
судьба тех и других одинакова1.
Но на этом сходство между высказыванием о приятном
в ощущении и об эстетически прекрасном ограничивается.
Особенность суждения вкуса, подлежащая объяснению в
«дедукции», состоит именно в том, что с субъективным характером
суждения вкуса, недоступного (как и суждение о приятном)
никакому доказательству и невыводимого ни из какого
объективного принципа, связывается тем не менее необходимая и
неустранимая претензия на его всеобщее значение.
Поэтому задача дедукции суждения вкуса формулируется
у Канта (§ 36 «Критики») так: каким образом возможно
суждение, которое, основываясь только на субъективном чувстве
удовольствия, независимом от понятия о предмете, может
говорить об этом удовольствии a priori, как о представлении того
же предмета, обязательном и для каждого другого субъекта,—
говорить, не дожидаясь для этого предварительного согласия
со стороны других?2
Задача эта отличает эстетику Канта от всех идеалистических
эстетик психологического и эмпирического типа и вводит
эстетику Канта, как звено, в систему его «критической» или
«трансцендентальной» философии. В самом деле: задача последней,
как известно из первой «Критики» Канта, состоит в
исследовании условий и самой возможности синтетических априорных
суждений — в науке и в философии. Но не иначе обстоит
и с дедукцией суждений вкуса в эстетике Канта. Суждения эти
одновременно — и синтетические и притязающие на
априорность. Они — синтетические. Они выходят, как все
синтетические суждения, за пределы понятия и даже за пределы
созерцания предмета. Они присоединяют к предмету в качестве
его предиката нечто такое, что уже отнюдь не есть познание
а именно — чувство удовольствия или неудовольствия.
ι См.: Kants Werke, S. 359.
2 См. там же, стр. 362.
15 в. Асмус
225
В то же время суждения вкуса притязают на априорность.
Правда, в них предикат — эмпиричен. Эго — предикат личного
удовольствия, связанного с представлением о предмете. Тем
не менее в этих суждениях дело касается обязательного
согласия с ними со стороны всякого другого. Поэтому они —
суждения a priori и стремятся к тому, чтобы их считали такими. Их
априорность дана в самом выражении их притязаний. В них
a priori как общее правило для способности суждения, то есть
как правило, имеющее значение для каждого, представляется
не само удовольствие, а всеобщая значимость этого
удовольствия (die Allgemeingültigkeit dieser Lust)1. Суждение —
эмпирическое суждение, если я воспринимаю предмет с чувством
удовольствия и так же сужу о нем. Но суждение будет
априорным, если я нахожу предмет прекрасным. В этом случае я от
каждого могу требовать, как чего-то необходимого, чтобы он
испытывал от этого предмета то же самое удовольствие.
Суждение вкуса основывается, по Канту, на ощущении, что
воображение — в его свободе — и рассудок — в его
закономерности — взаимно оживляют друг друга. В качестве
субъективной способности суждения вкус подводит не созерцания под
понятия, а способность воображения под способность понятий
(то есть под рассудок). Это возможно, поскольку
воображение — в своей свободе — соответствует рассудку в его
закономерности. Дедукция суждения вкуса ищет законную причину
этого подведения. При этом она отвлекается от материи наших
ощущений и руководится только формальными особенностями
эстетических суждений, то есть рассматривает в них только
их логическую форму (bloss die logische Form)2.
Сама дедукция суждения вкуса у Канта чрезвычайно проста,
и ее изложению посвящается всего один небольшой параграф
«Критики» (§ 38).
Если мы отрешимся, как требует Кант, от всякой «материи»
(как чувственного ощущения, так и понятия), то тогда
способность суждения — по отношению к формальным правилам
эстетической оценки — может быть направлена только на то
субъективное, что возможно предположить во всех людях.
Это — только субъективные условия применения способности
суждения вообще. Они не определяются никаким особым видом
чувственности и пикаким особым понятием рассудка. В этом
их формальный характер.
При этом условии соответствие между представлением
предмета и этими условиями способности суждения можно
признавать как нечто a priori обязательное для каждого. Это значит,
что от каждого можно по праву требовать удовольствия или
»Kants Werke, S. 363.
2 Τ а м же, стр. 361.
226
субъективной целесообразности в отношении его
познавательных способностей при эстетической оценке чувственного
предмета1.
В этом и состоит вся кантовская дедукция суждения вкуса.
По разъяснению самого Канта, легкость ее объясняется тем,
что ей нет необходимости оправдывать какую-либо
объективную реальность понятия: красота — не понятие о предмете,
а суждение вкуса — не познавательное суждение. Суждение
вкуса лишь утверждает, во-первых, что те же субъективные
условия способности суждения, какие мы находим в нас самих,
оно вправе предполагать у каждого, и, во-вторых, что мы верно
подводим предмет под эти условия2.
Какими же средствами может сообщаться другим
испытанное нами и сформулированное в суждении вкуса удовольствие?
Если бы речь шла о передаче приятного в ощущении, то
возможность сообщаемости ощущения была бы минимальной.
Различия между людьми в отношении к тому, что им приятно
или неприятно при ощущении одного и того же чувственного
предмета, чрезвычайно велики. Поэтому безусловно
невозможно, чтобы каждый испытывал равное нашему удовольствие
от тех же самых предметов.
Удовольствие от возвышенного в природе есть удовольствие
интеллектуального созерцания. Оно предполагает в человеке
чувство своего сверхчувственного назначения. А это чувство —
каким бы темным оно ни было — имеет моральную основу.
Мы не имеем основания прямо предполагать, что и другие
обратят на него внимание. Но так как необходимо при каждом
возможном поводе обращать внимание на моральные задатки
человека, то, испытав от предмета чувство возвышенного, я все
же могу требовать от каждого такого же эстетического
наслаждения. Однако условием этого требования здесь будет
моральный закон, который сам основывается на понятиях разума.
Иначе обстоит с сообщаемостью эстетического суждения
о прекрасном. Условия удовольствия от прекрасного не
заключают в себе ничего чрезвычайного или исключительного. Они,
если так можно выразиться, обращаются к обычной природе
человеческого восприятия.
Удовольствие от прекрасного не есть удовольствие ни
чувственного наслаждения, ни закономерности, ни
размышляющего созерцания посредством идей. Это — только
удовольствие простой рефлексии. Оно не имеет в качестве нормы
никакой цели и никакого основоположения. Оно сопровождает
обычное восприятие предмета в воображении по отношению
к рассудку при помощи тех приемов способности суждения,
iKants Werke, S. 364.
2 Τ а м же.
15* 227
которыми эта способность должна пользоваться даже для самого
заурядного опыта (der gemeinsten Erfahrung)1.
Различие только в том, что при эстетической оценке (в
отличие от обычного опыта) способность суждения должна только
воспринимать пригодность представления о предмете для
субъективно-целесообразной гармонической и свободной
деятельности воображения и рассудка. Другими словами, она
должна с удовольствием ощущать свое состояние при
представлении предмета. Это удовольствие должно, по Канту, у
каждого покоиться на одинаковых условиях, так как это —
субъективные условия возможности познания вообще. Поэтому
пропорция познавательных способностей, необходимая для
эстетического вкуса, необходима и для обычного рассудка,
какой следует предполагать у всех.
На этих «общедемократических» условиях эстетического
восприятия и основывается, по Канту, не только претензия
эстетического суждения на необходимую всеобщность, но и
возможность реальной сообщаемости эстетического суждения.
Именно поэтому тот, кто в своих эстетических суждениях
обнаруживает вкус, должен предполагать такое же
художественное удовольствие от предмета и для каждого другого. На свое
собственное чувство он должен смотреть как на нечто
сообщаемое всем, и притом — сообщаемое без посредства понятий
(ohne Vermittelung der Begriffe)2.
Характерно, что Кант посвятил специальный параграф
«Критики» (§ 40) разъяснению, что не чувство, а более высокая
познавательная деятельность способна давать общие правила
и порождать в сознании представление о красоте. Кант
протестует против обычая тех, кто обычный человеческий рассудок
именует «общим чувством» (sensus communis). Он понимает
под sensus communis «идею общественного чувства» (die Idee
eines gemeinschaftlichen Sinnes; ibid., S. 367). Это — способность
такой оценки, которая в своей рефлексии мысленно обращает
внимание на способ представления каждого другого — a
priori,— с тем чтобы свое суждение как бы поставить на общем
человеческом разуме. Достигается это при условии, если
собственное суждение по отношению к другому считают не столько
действительным у сколько возможным суждением, и себя ставят
на место каждого другого. При этом по возможности опускают
то, что в представлении о предмете является его «материей»,
то есть ощущение, и обращают внимание исключительно на
формальные особенности представления (lediglich auf die
formalen Eigentümlichkeiten seiner Vorstellung)3. Это и есть та
операция рефлексии, которую Кант называет «общим чув-
! К ants W erke, S. 366.
2 Τ а м же, стр. 367.
8 Τ а м же, стр. 368.
228
ством». И Кант поясняет, что она кажется искусственной,
только когда ее выражают в абстрактных формулах. На самом
же деле, говорит он, «нет ничего естественнее, как отрешиться
от чувственно-приятного и трогательного, когда хотят
составить суждение, которое могло бы служить общим правилом»1.
Поэтому Кант утверждает, что словом sensus communis
с гораздо большим правом можно назвать вкус, чем здравый
смысл, и что именем общественного чувства (eines
gemeinschaftlichen Sinnes) скорее можно назвать эстетическую
способность суждения, чем интеллектуальную2.
Из сказанного видно, насколько далека эстетика Канта
от эстетического индивидуализма или солипсизма, за которую
иногда ее принимали люди, знакомые с нею не по
первоисточнику. Эстетика эта не имеет ничего общего с воззрением, по
которому прекрасно и вообще эстетически ценно только то, что
нравится мне в моем личном восприятии или ощущении.
Понятие всеобщей сообщаемости эстетического суждения настолько
главенствует в эстетике Канта, что в одном месте он даже
определяет эстетический вкус как «способность оценки того,
что наше чувство по поводу данного представления делает
всеобще сообщаемым (allgemein mitteilbar macht) .без
посредства понятия»3. Или, другими словами: вкус — это
«способность a priori определять сообщаемость чувств (die
Mitteilbarkeit der Gefühle), которые соединяются с данным
представлением без посредства понятия»4.
Разъяснения, которыми сопровождается кантовская
дедукция чистых суждений вкуса, устраняют еще одно из
недоразумений, которые в таком изобилии накопились по поводу
эстетики Канта.
Выше уже было показано, что кантовская характеристика
эстетического суждения развита Кантом не столько ввиду
эмпирического суждения, как оно возникает и протекает в
действительности, сколько по поводу «чистого» суждения вкуса,
которое может быть выделено как таковое только в
абстракции и которое мы выше назвали «экстрактом» или
«препаратом» живого эстетического суждения.
Мы видели, что первым «моментом», характеризующим
подобное отпрепарированное, или «чистое» суждение вкуса,
Кант признал его «незаинтересованность», свободу от всякого
интереса к существованию предмета эстетического
представления.
Но Кант вовсе не думал будто этот результат абстракции
так и существует в реальном эстетическом опыте — в виде
1 К a η t s Werke, S. 368.
2 См. там же, стр. 369.
8 Τ а м же.
4 Τ а м же, стр. 370.
229
«чистого» незаинтересованного созерцания. В § 41 «Критики»
он поясняет, что из тезиса о «незаинтересованности»
эстетического суждения вкуса «еще не следует, будто, раз оно дано
как чистое эстетическое суждение, с ним нельзя соединять
никакого интереса» (dass... kein Interesse damit verbunden
werden könne; ibid., S. 370). Косвенно такое соединение с
интересом всегда возможно. Вкус способен соединяться либо со
склонностью, свойственной природе человека, либо с чем-нибудь
интеллектуальным. В обоих случаях возникает удовольствие
от существования предмета, и таким образом полагается основа
для интереса в том, что нравится уже само по себе и без
отношения к интересу.
Так, к потребностям существа, предназначенного для
общества, относится общительность. А так как эмпирически
прекрасное представляет интерес только в обществе, то на вкус
необходимо смотреть, как на способность оценки того, через
что даже чувство может быть сообщаемо каждому другому.
Таков, по Канту, эмпирический интерес к прекрасному,
возникающий из склонности к общественному. Гораздо более
значительным Кант считает интеллектуальный интерес к
прекрасному. Правда, Кант признает, что интерес к
прекрасному в искусстве далеко еще не признак мышления,
проникнутого идеями морально-доброго или хотя бы только
расположенного к нему. Эстетический вкус не совпадает необходимо
с этическим настроением. Однако непосредственный интерес
к красоте в природе всегда бывает, по Канту, признаком доброй
души и обнаруживает интеллектуальный интерес. В этом
случае продукты природы нравятся не только по форме, но
нравится также и само существование этих продуктов.
Такой — интеллектуальный — интерес к прекрасному в
природе Кант считает признаком более высокого уровня
нравственной культуры. Это преимущество красоты природы перед
красотой искусства — способность вызывать в зрителе
непосредственный интерес к себе,— хотя бы даже произведение
искусства по форме стояло значительно выше продуктов
природы, вполне совпадает, по Канту, с просвещенным и
серьезным образом мыслей всех людей, культивирующих в себе
нравственное чувство1.
Поэтому интерес к красоте природы состоит, по Канту,
в некотором родстве с интересом моральным, и тот, кого
интересует прекрасное в природе, может интересоваться им лишь
в той мере, в какой — еще прежде этого — его интерес был
обоснован на морально-добром (am Sittlichguten
wohlgegründet hat)1.
!Kants Werke, S. 375.
230
IV
УЧЕНИЕ КАНТА ОБ ИСКУССТВЕ
Учение о художественной деятельности (о «гении»)
Положения, развитые Кантом в «Аналитике прекрасного»
и в «Аналитике возвышенного», в значительной мере
подготовляют его учение об искусстве: о субъекте художественного
творчества (художнике) и о системе, или классификации
искусств.
Приступая к анализу этой части эстетики Канта, мы должны
предупредить об одном неизбежно возникающем здесь
разочаровании. Учение Канта о художественной деятельности и об
искусстве только в слабой степени было основано на личном
художественном опыте Канта, на его непосредственном
знакомстве с произведениями искусства. В особенности это относится
к современному Канту искусству, в том числе немецкому. Из
«Критики способности суждения» (1790), из предшествующей
ей переписки Канта не видно, чтобы общение с произведениями
развивавшегося в то время искусства было важным и
значительным условием духовной жизни Канта, а также основой
для его эстетических выводов и положений. Мимо" Канта
прошли, не проложив глубокого следа в его эстетическом
развитии, литературные явления «Sturm und Drang'а»,
произведения молодого Гёте — вплоть до «Страданий молодого Вертера»
и «Гёца фон Берлихингена».
Правда, некоторые исследователи эстетики Канта заходят
чересчур далеко. Они отказывают Канту в каком бы то ни было
понимании искусства1. Как бы ни были преувеличены эти
суждения, общеизвестной и установленной остается полная
некомпетентность Канта в музыке. Да и с поэзией дело обстоит немногим
лучше. В «Критике способности суждения» Виланд
оценивается Кантом, как соперник Гомера. Для пояснения
центрального понятия своей эстетики — понятия «эстетической идеи»—
Кант ссылается как на образец на рассудочную поэму прусского
короля Фридриха II и цитирует стихотворение Витгофа (Vit-
hof), профессора морали и медицины, а в поэзии жалкого ими-
1 См. об этом: V. В a s с h, Essai critique sur l'esthétique de Kant,
Paris, 1927; Denckmann, Kants Philosophie des Aesthetischen, S. 45 f;
D ietrich, Das System der Künste in der Aesthetik Kants und der
engeren kantischen Schule unter besonderer Berücksichtigung der dramatischen
Kunst, Jena,1930, Diss., S. 19. Денкман согласен признать за Кантом только
чувство прекрасного. Но и Менцер, пытающийся реабилитировать
художественную осведомленность и компетентность Канта, признает, что
знакомство Канта с художественной литературой остановилось до начала
«Sturm und Drang'a» (см.: P. M е η ζ е г, Kants Aesthetik in ihrer
Entwicklung, Berlin, Akademie-Verlag, 1952).
231
татора Галлера. Нельзя не счесть законным удивление Нивел-
ля, который напоминает, что все это писалось в 1790 году!
(A. Nivelle, р. 350—351).
Но еще удивительнее, что слабый личный художественный
опыт Канта не лишил его возможности и в эстетике проявить
большую силу мысли. Кант как художественный критик не
существует. Но Кант-эстетик — классическое явление в
истории эстетической мысли.
Учение об искусстве и художественной деятельности
строится у Канта на основе его теории прекрасного.
Художественную деятельность Кант определяет как человеческую
активность, направленную на создание прекрасного, а искусство —
как проекцию в предмет субъективной гармонии наших
способностей.
Искусство — параллель вкуса. Как вкус — автономная
способность, так и искусство — деятельность специфическая
и несводимая к другим явлениям. Оно отличается и от
природы, и от науки, и от ремесла, и от техники.
Оно отличается от природы, как порождение или делание
(Tun) отличается от действия вообще (Wirken), и продукт
искусства, как произведение искусства, отличается от результата
действия, от простого следствия1. Искусство — создание чего-
либо через свободу, то есть через решение, в основе которого —
акт разума. Поэтому правильно построенные пчелами восковые
ячейки могут быть названы произведениями искусства только
по аналогии с художеством: они — лишь продукт их природы
и свойственного им инстинкта. В искусстве представление
о цели должно предшествовать действительности
произведения2.
Искусство отличается от науки, как способность «знать»
(können) отличается от способности знания (wissen), как
техника от теории. Даже самое лучшее знание не означает
искусства, если недостает умения претворить знание в дело.
Искусство отличается от ремесла, как свободная игра или
как занятие, приятное само по себе. Напротив, ремесло —
занятие, которое само по себе неприятно, связано с трудом
и привлекает только своим полезным результатом3.
Однако при всем отличии искусства от ремесла между ними,
по Канту, остается и нечто общее. Во всех искусствах
необходимо есть нечто механическое, некая техническая сноровка.
ι См.: Kants Werke, S. 377.
2 См. там же, стр. 378.
8 Характеристика ремесла у Канта отражает период, когда типичная
для феодального общества связь ремесла с искусством уже в значительной
мере порвалась, патриархальное отношение к ремеслу уступило место
прозаическому взгляду на ремесло, исключительно как на средство
существования, и когда ремесленник начал видеть в ремесле только труд.
232
Если бы она полностью отсутствовала, то дух, который в
искусстве должен быть осободным и который один способен оживлять
работу, «был бы бестелесным и совершенно выдохся бы» (gar
keinen Körper haben und gänzlich verdunsten würde)1.
Все искусства делятся на механические и эстетические.
Механическое искусство основано на познании о возможном
предмете и делает только то, что необходимо для реализации
этого предмета. Эстетическое искусство имеет непосредственной
задачей не реализацию предмета, а порождение чувства
удовольствия (das Gefühl der Lust)2.
В свою очередь эстетическое искусство бывает или приятное,
или изящное искусство (entweder angenehme oder schöne
Kunst). В приятных искусствах цель искусства — чтобы
удовольствие сопровождало наши представления только в виде
ощущения. В изящных искусствах цель искусства — в том,
чтобы удовольствие сопровождало наши представления как
виды познания (als Erkenntnisarten)3.
В кантовском отграничении художественного искусства от
приятного вновь выступает мысль Канта об общественной
функции искусства: хотя произведение изящного искусства —
самоцельно, оно все же содействует культуре душевных сил
в деле общительности и сообщения (zur geselligen Mitteilung)4.
Сама же сообщаемость удовольствия, доставляемого
произведениями искусства, основывается, по Канту, на особом
свойстве художественных произведений: будучи произведениями
искусства и принципиально отличаясь как такие от природы,
произведения эти одновременно кажутся нам самой природой.
Парадоксальность искусства соперничает здесь с
парадоксальностью природы: природа прекрасна, если имеет вид искусства,
а искусство прекрасно, если мы видим в нем искусство, несмотря
на то, что оно кажется нам природой5. Другими словами, на
произведения изящных искусств надо смотреть, как на
природу, и в то же время сознавать, что они все-таки —
произведения искусства.
Но что может означать, что произведение искусства кажется
нам самой природой? Отнюдь не то, что мы отождествляем его
с физическими порождениями природы. Это значит только, что
произведение искусства — не вымучено; в нем не сквозит
школьная и педантичная форма; в его выполнении не видно,
чтобы при создании его перед глазами художника неотступно»
стояло правило, налагающее оковы на его духовные силы.
1 Kants Werke, S. 379.
2 Τ а м ж е, стр. 380.
8 Τ а м же.
4 Там же.
5 См. там же, стр. 381.
233
Эти положения подводят Канта к его учению о «гении».
В § 46 «Критики» доказывается, что «изящное искусство» есть
произведение «гения». Под «гением» Кант понимает
специфический талант, или прирожденную способность к созданию
образцовых произведений искусства, то есть таких, которые
дают искусству правила1.
Термин «гений» выбран Кантом неудачно. Он почти
неизбежно внушает представление будто, по Канту, художник, автор
произведений изящных искусств, есть человек, наделенный
высшей степенью умственной одаренности, возвышающей его
над всеми людьми. В послекантовской философии и эстетике
подобный "взгляд действительно развивали некоторые
романтики. Они противопоставили художника как гения (в смысле
наивысшей умственной одаренности) — тупой «толпе», или
«черни». Обыденность мыслит-де посредством обычных форм и
правил рассудочной логики, с ее законом противоречия.
Напротив, «гений», как аристократ духа, возвышается над плоским
уровнем обычной логики. Для него не существует запрета
логического противоречия. Он видит единство
противоположностей там, где обыденный рассудок усматривает только их
несовместимость. Средством такого усмотрения для «гения»
является «интуиция», непосредственное видение, свойственное
художнику и философу.
Согласно этому взгляду, «гений» — редкое исключение среди
человеческого множества. Это — избранник духа. Художники
и философы — провидцы, духовные светочи и вожди
человечества. Их интуиция — обнаружение высшей познавательной
и мыслительной силы.
Характерное для Шеллинга, Шопенгауэра, романтиков,
воззрение это не имеет ничего общего с пониманием «гения» у
Канта. Для Канта «гений» — вовсе не степень умственной и
познавательной одаренности, а только особый, специфический тип
творческой одаренности в искусстве. «Гений» Канта — не то,
что возвышает одних людей над всеми другими, а то, что
отличает один вид духовной организации от другой, ничуть не
менее ценной. «Гений», в смысле Канта,— не исключение, для
которого не писаны обычные законы логики и здравого смысла,
обычные нормы морали и общежития2.
«Гений», в смысле Канта, есть лишь образцовая
оригинальность в создании художественных произведений.
Необходимость «гения» — в этом смысле — Кант выводит из самой при-
1 К a η t s Werke, S. 382.
2 Этот — далекий от романтического — характер кантовского
понятия о «гении» прекрасно понял Т. И. Райнов, автор содержательной
интерпретирующей работы о Канте (Т. И. Ρ а й н о в, Теория искусства Канта
в связи с его теорией науки.—«Вопросы теории и психологии творчества»,
т. VI, Харьков, 1915, стр. 299—323).
234
роды произведений изящных искусств. Суждение о красоте
таких произведений не может быть выведено из правил, в
основе которых лежит понятие. Но в то же время без
предшествующего правила никакое произведение искусства не может
оказаться художественным. Поэтому сама природа должна дать
направление способности художника и, таким образом, дать
искусству правило.
Это — и только это — означает, по Канту, что искусство
возможно лишь как продукт «гения»: понятый в этом смысле
«гений», то есть попросту художник, создающий произведения
подлинного искусства, характеризуется следующими чертами:
1) оригинальностью. «Гений» — не ловкость в создании того,
что можно изучить по какому-нибудь правилу. «Гений» —
талант создавать то, для чего не может быть никаких
определенных правил. Поэтому оригинальность — первое его свойство;
2) «гений» отличается не просто оригинальностью, но
непременно образцовой оригинальностью. Оригинальной, вообще
говоря, может быть и нелепость. Напротив, произведения
«гения» должны быть образцами: возникнув вовсе не из
подражания, они сами должны стать примером для подражания
другим; 3) создавая образцовое произведение искусства,
«гений» не отдает ни самому себе, ни другим отчета в том, каким
образом являются в нем идеи для его произведения; свое
правило он дает здесь так, как если бы он был самой природой;
4) он предписывает правила не науке, а только искусству.
Больше того. И искусству он предписывает правила лишь
в той мере, в какой искусство является изящным искусством1.
В пояснение своей мысли о сущности художественного
«гения», Кант развил в § 47 «Критики способности суждения»
параллель между «гением» в искусстве и талантом в науке.
Эта параллель неудачна и во многом способствовала сближению
взгляда Канта со взглядами последующих романтиков. К идее
о специфическом характере различия между художественным
и научным творчеством здесь у Канта примешана и идея о
доступном максимуме творческой одаренности. Кант доказывает
здесь, будто в науке даже величайший ум «отличается от
жалкого подражателя и ученика только по степени — тогда как
от того, кого природа одарила способностью к изящным
искусствам, подражатель отличается специфически»2.
Верно, что искусство и наука отличаются специфически.
Но ошибочно и странно думать будто разница между скромным
подражателем и творческим гением невозможна в науке. Кант
явно смешал здесь два понятия: понятие о способности
усвоения результатов научного творчества с понятием о самом
ι См.: Kants Werke, S. 382—383.
2 Τ а м же, стр. 384.
235
научном творчестве. Кант прав, когда утверждает, что в науке
даже величайшие ее результаты принципиально доступны для
усвоения всеми, даже посредственными умами. Но он
совершенно неправ, когда именно в этой доступности он видит черту
специфического отличия науки от искусства. В искусстве, как
и в науке, не надо быть Сервантесом или Львом Толстым, для
того чтобы с восхищением читать «Дон-Кихота» или «Войну
и мир».
Впрочем, в том же параграфе (§ 47), где проводится эта
сбивающая читателя параллель, Кант развивает правильную
мысль о возможности и необходимости обучения в искусстве.
Нельзя научиться у других, как создавать образцовые
оригинальные произведения искусства. Но можно — и должно —
учиться в искусстве тому, что относится к необходимой для
каждого искусства технической сноровке. В этом — но и только
в этом — смысле Кант признал, что «нечто правильное в
школьном смысле», как он выражается, всегда составляло
«существенное условие искусства» (etwas Schul gerechtes die wesentliche
Bedingung der Kunst ausmachte)1. Необходимы определенные
правила, от которых нельзя отказаться. Только неглубокие
умы думают будто лучше парадировать на бешеном коне,
чем на школьной кляче, и будто нет лучшего способа доказать
свою гениальность, как наотрез отказаться от школьной
принудительности всех правил. Гений (здесь это слово Кант
употребляет уже не в своем специфическом, а в обычном смысле —
высшей степени одаренности) может дать только богатый
материал для продуктов изящного искусства, но обработка этого
материала и форма требуют таланта, развитого школой2.
Итак, «гений» Канта — попросту субъект творчества, автор
произведений изящного искусства. Термин «гений» — не
должен нас смущать и внушать ассоциации, связанные со
значением, какое этот термин приобрел впоследствии.
Учение Канта о «гении» — сложно и отмечено
противоречиями.
Предпосылку этого учения составляет мысль о первенстве
прекрасного над природой. Прекрасное в природе открывается
только через прекрасное в искусстве. Так было исторически:
об этом свидетельствует история искусства. Кант возводит
этот факт в ранг эстетической теории. При этом отношение
искусства к природе, которое античная эстетика
рассматривала как отношение подражания, у Канта переворачивается.
Искусство — не подражание природе, а модель для нее, идея
образца. Природа кажется прекрасной только при условии,
если являет целесообразность — аналогичную той, которой
1 К a η t s Werke, S. 385.
2 См. там же.
236
руководится художник («гений»). Искусство, объявленное
автономным по отношению к морали, провозглашается
автономным также и по отношению к природе. Природа становится
для искусства уже не образцом, а только орудием —
единственным чувственным средством, которым оно располагает.
Суждение о красоте природы требует только вкуса.
Возможность художественной красоты требует «гения». Чтобы
судить о красоте природы, нет необходимости заранее иметь
понятие о том, какой вещью должен быть этот предмет. Но
чтобы назвать прекрасным произведение искусства, в основу
необходимо положить понятие о том, чем должна быть эта
вещь (ein Begriff... was das Ding sein soll), а также принять во
внимание совершенство вещи (die Vollkommenheit des Dinges
in Anschlag gebracht werden müssen)1.
Этим, по Канту, обусловлено преимущество искусства
и художественного «гения» над природой. Искусство способно
прекрасно изображать вещи, которые в природе являются
отвратительными или безобразными. Единственный вид
безобразного природы, который нельзя изобразить средствами
искусства, не уничтожая в конец всякого эстетического
удовольствия и всякой красоты,— отвратительное (welche Ekel
erweckt). Отвратительное мы не можем считать прекрасным
уже потому, что в этом случае наше художественное
представление о предмете мы не отличаем от самой природы этого
предмета. И Кант обращает внимание на то, что скульптура избегает
непосредственного изображения отвратительных предметов.
Причина этому, по Канту, та, что в произведениях
скульптуры искусство почти сливается с природой.
Как и многие другие учения эстетики Канта, его учение
о «гении» — не только личное достояние Канта. Понятие
о «гении» как о врожденной способности к искусству
появляется в немецкой эстетике, начиная с Баумгартена. Уже он
пользовался термином о «прирожденном» эстетическом гении (и
темпераменте): ingenium (et temperamentum) aestheticum conna-
tum. Естественную прирожденную способность видит в «гении»
также и Зульцер. При этом, однако, Зульцер отмечает
недостаточность гения для творчества красоты: для этого
необходима также соответствующая техника2, разум3, суждение*.
По Гер деру, «гений»—«высший, небесный дух, действующий
по законам природы, согласно с собственной природой, на
пользу человеку»5; «гений» — врожденная способность, про-
iKants Werke, S. 386.
2 См.: Sulz er, Allgemeine Theorie der schönen Künste (ст. «Kunst»).
8 См. там же (ст. «Anständig»).
4 См. там же (ст. «Dichter»).
»Herder, Kalligone, XXII, S. 205.
237
исходящая из начала, трансцендентного по отношению к
человеческому духу1.
Наиболее характерной и в то же время несколько
неожиданной для Канта чертой его учения о «гении» надо признать
несводимость «гения» к началам, которые могут быть познаны
обычными средствами познания. С алогической тенденцией
романтизма учение Канта сближает не мысль о более высоком
достоинстве «гений» сравнительно с умом, опирающимся на
рассудок и разум, а именно его учение о невозможности
рационального объяснения «гения». Только в этом отношении
взгляды Канта могут быть сопоставляемы с идеями художников
и эстетиков романтизма, а также «Sturm und Drang'а». Однако·
генетически этот взгляд Канта не столько связан с «Sturm und
Drang'oM», сколько восходит к традиции немецкой эстетики
после Баумгартена.
Согласно этому взгляду, произведение «гения», то есть
подлинного художника, возникает способом, непознаваемым
для ясного сознания. Художник не отдает себе отчета в том,
каким образом в нем рождаются и действуют его идеи. Он не
в состоянии ни описать — в понятиях науки — собственную
внутреннюю деятельность, ни передать другим метод,
необходимый для создания произведений, подобных его собственным.
«Каким образом гений создает свое произведение,— пишет
Кант,— даже нельзя и описать или указать научным образом»
(selbst nicht beschreiben oder wissenschaftlich anzeigen könne)2.
Он дает свое правило, как природа. Поэтому автор
произведения даже сам не знает, каким образом в нем являются идеи,
и даже не в его власти произвольно и преднамеренно
изыскивать такие произведения и передавать свое искусство другим,
сообщая правила, которые и других сделали бы способными
создавать подобные же произведения3.
И все же Кант — не иррационалист в эстетике! Так как,
по Канту, искусство — деятельность, предполагающая знание
цели, которой оно подчиняется, то Кант, как справедливо
указывает Нивелль4, предполагает решающее привхождение
разума, формирующего основное понятие. И эта мысль о
вторжении в творческий процесс разума сближает Канта с Лессин-
гом. И действительно: отличительной чертой подлинного гения
Лессинг считает основанное на разуме намерение (Absicht)5.
Сама идея о том, что гений дает правила искусству, также
1 См.: Herder, Kalligone, XXII, S. 197 ff (см.: A. Nivelle,
указ. произв., стр. 248).
2 Kants Werke, S. 383.
3 Ср.: Kants Werke, S. 383 (A. Nivelle, указ. произв.,
стр. 336).
4 См.: A. Nivelle, указ. произв., стр. 338.
6 См.: L е s s i η g, Hamburgische Dramaturgie, III, S. 146.
238
свойственна Лессингу. Но у него она основывается на более-
глубоком познании сущности искусств и их специфических
целей. Это познание и есть, по Лессингу, достояние гения.
Оно отмечает гения от посредственности и позволяет ему
пренебрегать произвольными правилами и устанавливать истинные
законы искусства, согласующиеся с порядком природы.
Рассматривая учение Канта о «гении», исследователи давно
заметили в эстетике Канта противоречие. В вопросе об
отношении искусства к природе Кант признал первенство искусства.
Но в учении о «гении» он как будто отстаивает первенство
природы; «гений» выступает у него как бессознательный
проводник правил, данных самой природой, как
персонифицированная в лице художника природа.
Противоречие это окажется мнимым, как только мы поймем,
что в обоих утверждениях термин «природа» имеет у Канта
не один и тот же, а различный смысл. В первом случае — там,
где утверждается первенство искусства,— Кант имеет в виду
природу как мир явлений. Во втором — там, где утверждается
первенство природы, под «природой» понимается мир
умопостигаемый. Чтобы быть прекрасной, вещь, принадлежащая к миру
явлений, должна казаться произведением искусства или быть
им. Но как порождение гения, произведение искусства само
есть выражение мира сверхчувственного, обнаружение
умопостигаемого субстрата наших способностей.
Поэтому неправ Виктор Баш1, который в кантовской
теории «гения» видит явное противоречие и «аномалию» учения
Канта, именно — уступку эмпиризму. Учение Канта о
«гении» вполне укладывается в русло кантовского
трансцендентального идеализма: Кант всюду постулирует
сверхчувственное единство наших способностей. В «гении» это единство
обнаруживается и оказывается продуктивным. В гениальной
деятельности художника выражается природа, как она
существует в себе, в качестве умопостигаемого. В своей эстетике
Кант — такой же идеалист, какой он — в этике, и самый
идеализм его — не эмпирический, как, например, у Юма, а
предполагает двойственность (дуализм) мира явлений
(«феноменального») и мира умопостигаемого («ноуменального»).
Особенность эстетики Канта (но отнюдь не внутреннее ее
противоречие, как ошибочно полагает Баш) — только в том, что в
теории «гения» у Канта сильнее, чем в других частях его системы,
подчеркивается роль индивидуального. Здесь Кант
приближается к своему постоянному противнику в эстетике — Гер-
деру2.
1 См.: Victor Base h, Essai critique sur l'esthétique de Rant,
p. 479.
2 Превосходные соображения по этому вопросу см. у Нивелля
(A. Nivelle, указ. произв., стр. 338—339).
239
Учение Канта об эстетических идеях
Понятие о «гении» вплотную подводит Канта к понятию
об «эстетических идеях». Сформулировав определение «гения»,
Кант немедленно ставит вопрос о том, какая способность души
создаеТх «гения». Ответ на этот вопрос и дает кантовская теория
«эстетических идей».
По Канту, формальная слаженность художественного,
например поэтического, произведения еще не делает его
подлинным произведением искусства. «Стихотворение,— говорит
Кант,— может быть очень милым и элегантным, но лишенным
духа» (Ein Gedicht kann recht nett und elegant sein, aber es
ist ohne Geist)1.
Произведение искусства может даже не заключать в себе
ничего заслуживающего порицания с точки зрения вкуса
и все же — быть бездушным.
Что же такое этот «дух»? В эстетическом смысле под «духом»
Кант понимает принцип, оживляющий материал
художественного произведения, иначе — то, что приводит душевные силы
в целесообразное движение, порождает игру, которая
поддерживается сама собой и даже увеличивает наши силы. И Кант
утверждает, что этот принцип — не что иное как «способность
изображения эстетических идей» (das Vermögen der
Darstellung ästhetischer Ideen)2. Под «эстетической идеей» Кант
понимает, согласно его собственному разъяснению, «предста-
• вление воображения, которое дает повод много думать (die
viel zu denken veranlasst...), хотя никакая определенная мысль,
то есть никакое понятие, не может быть вполне адекватным
ему и, следовательно, никакой язык не в состоянии вполне до
него достигнуть и сделать его понятным». И Кант тут же
поясняет, что «эстетическая идея» соответствует «идее разума» (das
Gegenstück (pendant) von einer Vernunftidee ist). Различие
между ними — то, что «идея разума есть, наоборот, понятие,
для которого никакое созерцание (keine Anschauung) или
представление воображения (Vorstellung der Einbildungskraft) не
может быть адекватным»3.
Кант называет такие представления воображения «идеями»
по двум основаниям. Во-первых, потому, что они стремятся
к тому, что лежит вне границ опыта, пытаются приблизиться
к изображению понятий разума (интеллектуальных идей).
Это стремление дает им вид объективной реальности, и дает его
потому, что эстетическим идеям как внутренним созерцаниям
не может быть вполне адекватно никакое понятие4.
»Kants Werke, S. 388.
2 Τ а м же, стр. 389.
3 Τ а м же.
4 Τ а м же, стр. 389—390.
240
Так поэт стремится, по Канту, представлять в чувственной
форме идеи разума о вечности, о творении или же то, что,
хотя и находит примеры в опыте (смерть, зависть, любовь,
славу и т. д.), но выходит за пределы опыта. Посредством
воображения, которое по следам разума стремится достигнуть
все большего и большего, поэт пытается дать во всей полноте
чувственный образ того, для чего в природе нет примера. Эта
способность к созданию эстетических идей свойственна всем
искусствам, но, по Канту, она может сказаться в своем полном
объеме только в поэзии. И Кант поясняет, что,
рассматриваемая сама по себе, эта способность и есть собственно то, что
называют талантом1.
Воображение будет творческим в эстетическом смысле, если
оно дает пластическое изображение понятия, способное само
по себе порождать повод думать — и притом думать так много,
что этого никогда нельзя охватить в определенном понятии.
Такое представление расширяет само понятие до безграничности.
Оно приводит в движение способность интеллектуальных идей
разума — именно для того, чтобы по поводу этого представления
мыслить больше, чем непосредственно воспринимается в самом
представлении и может быть сделано в нем ясным2.
Там, где формы сами по себе не создают пластического
изображения данного понятия, они могут выражать
соединенные с ним следствия и родство с другими. Такие формы
называются эстетическими атрибутами предмета. И в этом случае
понятие о предмете, как идея разума, не может быть
изображено адекватно. Такие атрибуты дают эстетические идеи,
которые служат вместо логического изображения идеи разума.
Их цель — оживить душу и открыть . нам вид на
необозримое поле сродных представлений.
Искусство оперирует эстетическими атрибутами не только
в живописи и в скульптуре, в которых средства эти постоянно
применяются, но также и в других видах искусства. Так, по
Канту, поэзия заимствует дух, оживляющий ее произведения,
исключительно из эстетических атрибутов предмета. Они идут
рядом с логическими и дают воображению полет, при котором
можно мыслить — хотя и смутно — гораздо больше того, что
может быть выражено в понятии π в словесном выражении3.
Таким образом, кантовская «эстетическая идея» — это
представление воображения, соединенное с данным понятием. В своей
свободной деятельности оно связано с разнообразием частных
представлений. Для этого разнообразия нельзя найти ни одпого
выражения, которое обозначало бы определенное понятие4.
ι Kants Werke, S. 390.
2 Τ а м же.
3 Там же, стр. 390—391.
4 Τ а м же, стр. 392.
16 В. Асмус
241
В «эстетической идее» рассудок через свои понятия никогда
не достигает полного внутреннего созерцания воображения,
которое соединяет это созерцание с данным представлением.
А так как перевести представление воображения в понятие —
это собственно значит объяснить его, то «эстетическую идею»
можно, по Канту, назвать «необъяснимым» представлением
воображения — в его свободной игре (eine incxponible
Vorstellung)1.
Понятие об «эстетической идее» приводит Канта к новому
определению прекрасного. В свете понятия об «эстетической
идее» Кант заново определяет красоту как «выражение
эстетических идей» (Ausdruck ästhetischer Ideen)2. При этом
возможны два случая. В изящном искусстве поводом для
эстетической идеи является понятие о предмете. В прекрасной природе
поводом для эстетической идеи служит только рефлексия о
данном созерцании. Чтобы пробудить идею, для которой данный
предмет рассматривается как ее выражение, здесь не требуется
понятие о том, чем должен быть предмет3.
С другой стороны, понятие об «эстетической идее» дает
Канту возможность завершить характеристику «гения», то есть
субъекта художественного творчества. Суммируя результаты
своего анализа, Кант выделяет, как характерные для
художника, четыре черты. Художественный талант — это,
во-первых, талант не к науке, а к искусству. Если бы он был талантом
к науке, то его деятельности должны были бы
предшествовать известные правила, определяющие ее приемы.
Во-вторых, художественный талант предполагает не только
рассудок, не только определенное понятие о произведении, как
о цели; он предполагает также представление — пусть
неопределенное — о материале, о созерцании, необходимом для
пластического изображения понятия. А это значит, что
художественный талант предполагает отношение воображения к
рассудку.
В-третьих, художественный талант обнаруживается не
только в выполнении преднамеренной цели — в пластическом
изображении определенного понятия, сколько скорее в
зарождении и в раскрытии «эстетических идей», заключающих в себе
богатый материал для этой цели. Другими словами,
художественный талант создает возможность представить само
воображение — как свободное от всякого подчинения правилам и как
целесообразное для пластического изображения данного
понятия.
Наконец, в-четвертых, художественный талант
предполагает ненамеренную субъективную целесообразность в свобод-
ι К an ts W е г k е, S. 420.
2 Τ а м же, стр. 395.
3 См, там же, стр. 395—396.
242
ном соответствии воображения с закономерностью рассудка.
Более того. Он предполагает такой подъем и такое состояние
этой способности, каких нельзя достигнуть, следуя
определенным правилам науки и механического подражания.
Способность эту может дать только природа субъекта1.
Там, где эти условия соединяются в деятельности
художника, возникает произведение изящного искусства, которое
может быть названо произведением «гения». Такое
произведение, однажды возникнув, являет образец, или пример. Но
это — не пример для школьнического подражания. Если бы
оно было предметом такого подражания, в нем погибло бы
именно то, что в нем составляет «гений» и в чем заключается
оживляющий и животворящий «дух» произведения.
Произведение «гения» пример только для другого «гения». Последний,
взирая на образцовое произведение, вовсе не думает создать
его повторение или копию. Под влиянием воспринятого
произведения в нем только пробуждается чувство собственной
оригинальности (seiner eigenen Originalität)2. Он стремится
проявить в искусстве свободу от принудительности правил,
но таким образом, чтобы через собственную деятельность
дать искусству новое правило и тем самым проявить свой
талант как образцовый3.
Наоборот, бездарное подражание есть только
«обезьянничанье» (Nachäffung). Такой подражатель старается скопировать
все — вплоть до того, что у гения неудачно, но что гений
должен был все же оставить, чтобы не ослабить своей идеи. У
гения это — не недостаток, а заслуга — заслуга смелости.
Однако дозволительные для гения смелость выражения и
некоторые уклонения от общих правил не терпят подражания
и — сами по себе — всегда остаются недостатками.
Особый вид «обезьянничанья» — манерность (das Manie-
rieren). Это — обезьянничанье оригинальности. При нем хотят
во что бы то ни стало и как можно дальше уйти от всякого
подражания, но не обладают талантом, настолько сильным, чтобы
достигаемая таким путем оригинальность могла стать
образцовой (musterhaft). В манерном художественном произведении
выражение идеи рассчитано только на своеобразность и потому
не соразмерно с идеей.
Для понимания кантовского учения о «гении» и тесно
связанной с этим учением классификации искусств очень важно
учесть, что, по Канту, художественное произведение всегда
являет некоторое соединение вкуса с гением. Соединение это
не всегда бывает гармоничным.
1 См.: Kants Werke, S. 393.
2 См. там же.
3 См. там же, стр. 394.
46* 243
Каждый из этих двух элементов художественного
произведения выполняет свою особую функцию. Вкус, как и
способность суждения, есть дисциплина гения, его школа. Вкус
сильно подрезывает крылья гения (beschneidet diesem sehr die
Flügel), он делает его благовоспитанным и отшлифованным.
Вместе с тем вкус дает «гению» руководящую нить: он
показывает, в каком направлении и как далеко гений может идти,
оставаясь целесообразным. Вкус вносит ясность и порядок
в полноту художественного мышления. Благодаря вкусу,
гений становится способным к устойчивости в идеях, к прочному
и постоянно идущему вперед развитию. Качества эти
вызывают всеобщее одобрение и побуждают к работе других.
В глазах Канта эта роль вкуса настолько важна в
искусстве, что если в одном и том же произведении между «гением»
и «вкусом» возникает конфликт и если одним из двух
необходимо пожертвовать, то в жертву должен быть принесен «гений».
Ибо способность суждения скорее должна положить границу
свободе и богатству воображения, чем рассудку1.
V
КЛАССИФИКАЦИЯ ИСКУССТВ
Разрабатывая принципы эстетики, Кант не ограничился
теорией прекрасного, возвышенного и учением о
художественном творчестве. Эстетика его завершается классификацией
искусств.
Правда, сам Кант не рассматривал эту классификацию как
законченную теорию12. Он видел в ней только один из
возможных опытов, но он полагал все же, что этот опыт должен быть
сделан. Это естественно. Классификация искусств Канта
непосредственно примыкает к его теории вкуса и гения. В ней
отражаются основные черты и основные противоречия этой теории.
Так как красота для Канта есть выражение эстетических
идей, то подразделение искусств Кант основывает на аналогии
искусства с тем видом выражения, которым люди пользуются
в языке. Выражение это привлекает внимание Канта потому,
что с его помощью люди делятся не только понятиями, но
и ощущениями.
Способность говорящего сообщать свои состояния другим
обусловлена соединением трех средств сообщения. Это — 1)
слово, или артикуляция, 2) движение, или жестикуляция и 3) тон,
или модуляция.
Соответственно этим трем средствам сообщения Кант
различает три вида изящных искусств. Это — 1) искусства сло-
1 См.: Kants Werke, S. 395.
2 См. τ а м же, стр. 396.
244
весные, 2) искусства пластические и 3) искусство игры
ощущений.
Будучи различными средствами выражения, искусства могут,
по Канту, делиться на 1) искусство выражения мыслей и 2)
искусство выражения созерцания. Впрочем, это последнее
деление Кант не развивает, так как считает его слишком
отвлеченным и уклоняющимся от обычных понятий.
В словесных искусствах Кант различает искусство
красноречия и искусство поэзии. Красноречие ведет работу разума,
как свободную игру воображения, а поэзия, наоборот, ведет
свободную игру воображения, как дело разума.
Это значит следующее. Оратор имеет в виду дело, но ведет
его так, как если бы это дело было только игрой с идеями, цель
которой — только заинтересовать слушателей. Напротив, поэт
обещает своим читателям или слушателям как будто только
интересную для них игру с идеями, однако при этом делает
для рассудка так много, как если бы целью его было только
дело рассудка.
Поэтому, хотя оратор дает нечто, чего он не обещал,—
интересную игру воображения, он все же не исполняет того, что
было им обещано и что было его настоящим замыслом,— не
дает целесообразной деятельности рассудка. В сущности, он
делает меньше того, что он обещал.
Наоборот, поэт обещает немногое: он предполагает только
игру с идеями. Однако, создавая произведение, он производит
нечто такое, что достойно уже не игры, а работы: играя, он
дает рассудку пищу, а посредством воображения дает жизнь
его понятиям. По существу, он дает больше того, что им было
обещано1.
И в случае искусства красноречия · и в случае искусства
поэзии соединение чувственности и рассудка и их гармония
не должны быть преднамеренными. Все должно казаться так,
словно происходит само собой. Хотя чувственность и рассудок
не могут обойтись друг без друга, соединение их не должно
быть принудительным, и они не должны перебивать друг друга.
Где это условие не выполняется, там нет и произведения
искусства.
Вторая группа искусств — пластические искусства. В них
идея выражается в чувственном созерцании, а не через
представление простого воображения.
В свою очередь пластические искусства делятся на
искусство чувственной правды и на искусство чувственной видимости.
Искусство чувственной правды, это — пластика (скульптура
и архитектура). Искусство чувственной видимости, это —
живопись.
iKants Werke, S. 396-397.
245
И пластика и живопись для выражения своих идей создают
в пространстве фигуры. Пластика создает эти фигуры для
зрения и осязания, живопись — только для зрения.
В основе живописи и скульптуры лежит эстетическая идея
в воображении. При этом, однако, в пластике фигура, поро·
ждающая выражение, или копия идеи дается в ее телесном
измерении, то есть так, как существует сам предмет. Напротив,
в живописи фигура дается в форме, в какой она представляется
глазу — по ее видимости на плоскости.
Скульптура и архитектура — первый вид изящных
изобразительных искусств (schöner bildender Künste)1. Скульптура
телесно представляет понятие о вещах, как они могли бы
существовать в природе; однако в качестве изящного искусства она
принимает во внимание не только физическую реальность, но
также и эстетическую целесообразность. Архитектура —тоже
искусство, представляющее понятие о вещах, однако — о
таких вещах, которые возможны только через искусство. При
этом в архитектуре форма основой определения имеет не
природу, а произвольную цель. Но хотя архитектура представляет
вещи именно ради этой цели, она представляет их эстетически
целесообразно. В архитектуре эстетические идеи ограничены
применением художественного предмета. Существенным в
архитектуре является именно соответствие между продуктом и его
определенным назначением.
Напротив, в скульптуре главная ее цель — только
выражение эстетических идей. Работа скульптора производится
исключительно для созерцания. Здесь произведение должно
нравиться и само по себе, как телесное изображение. Оно — только
подражание природе и при нем всегда имеются в виду также
и эстетические идеи. Поэтому в скульптуре правда
чувственности не должна идти так далеко, чтобы произведение ваяния
перестало казаться произведением искусства и продуктом
произвола2.
Второй вид изобразительных искусств — живопись.
Искусство это художественно представляет чувственную видимость
в ее соединении с идеями (den Sinnenschein künstlich mit Ideen
verbunden darstellt)3. Кант различает в живописи два ее вида:
1) искусство изящного изображения природы и 2) искусство
изящного соединения продуктов природы. Первый вид —
живопись в собственном смысле, второй — искусство, которым
увлекались в XVIII веке — искусство садоводства, точнее, живо-
1 Переводчик «Критики способности суждения» H. М. Соколов, как
и многие другие русские писатели XIX в., передает немецкое выражение
«bildende Künste» невразумительным и неуклюжим термином
«образовательные» искусства (указ. произв., стр. 197 и passim).
2 См.: Kants Werke, S. 398.
8 Там ж е.
246
писного оформления садов (деревьев, кустарников, газонов
и т. д.).
Искусство живописи создает иллюзию — и только
иллюзию телесного протяжения. Оно представляет только
свободную игру воображения в созерцании и не имеет никакой
определенной темы. Оно только дает в интересном сопоставлении
воздух, землю и воду посредством света и теней.
Третья группа искусств в кантовской классификации —
искусство изящной игры ощущений (des schönen Spiels der
Empfindungen). Хотя эта игра возбуждается в нас извне, она
имеет свойство сообщаться и другим. Она касается только
пропорции между различными степенями напряжения
внешнего чувства, к которому относится ощущение, то есть касается
его тона. В этом — весьма широком — значении слова
искусство игры ощущений Кант делит на два вида: 1) на музыку
и 2) на искусство красок. С тонами и красками соединяется
только приятное ощущение, а не красота их композиции.
Музыка — прекрасная игра ощущений (через слух). Только
поэтому музыка относится к области изящных искусств1.
К какому бы виду ни относилось искусство, во всяком
искусстве существенное, по Канту, состоит не в материи ощущения,
то есть не в чувственно-приятном или трогательном, а только
в форме, которая является целесообразной для наблюдения
и художественной оценки. Здесь удовольствие, производимое
восприятием формы, есть вместе с тем и культура. Оно
поднимает дух до идей (den Geist zu Ideen stimmt)2.
Напротив, в материи ощущения дело идет только о
чувственно приятном, только о чувственном наслаждении,
которое ничего не оставляет для идей (nichts in der Idee zurücklässt),
притупляет дух и мало-помалу делает лредмет омерзительным,
а душу неудовлетворенной и капризной в силу сознания своего
настроения, противного цели по суждению разума.
Кант выразительно подчеркивает, что такова в конце
концов судьба всех художественных произведений, в случае когда
искусства не соединяются с моральными целями. Только эти
цели и дают, по Канту, вполне самостоятельные
наслаждения. Искусства, отделенные от моральных целей, служат
только для развлечения. Чем чаще люди это развлечение
получают, тем больше в нем нуждаются, чтобы разгонять
недовольство души.
При этом искусства все больше и больше утрачивают свое
значение, и душа становится все больше недовольна собой3.
Это рассуждение Канта заслуживает пристального
внимания. Поверхностное знакомство с Кантом часто приводило
1 См.: Kants Werke, S. 400—401.
2 См. там же, стр. 401.
3 См. там же, стр. 402.
247
к представлению будто Кант противопоставляет в своей
эстетике искусство, культивирующее одну лишь форму, искусству,
доставляющему удовлетворение своим идейным содержанием.
Но это не так. Кант противопоставляет не форму идейному
содержанию, а форму — «материи», то есть чувственно
приятному в ощущении. Основная мысль Канта — что искусство
прекрасной формы поднимает дух до идей, в то время как
искусство, дающее наслаждение чувственно приятной
«материей» (ощущениями), приводит искусство к измельчанию
и ввергает душу в состояние ненасытной жажды развлечения
и ничем неустранимого недовольства собой.
Недоразумение, о котором здесь идет речь, вполне понятно.
Приписывание Канту проповеди безыдейного искусства,
доставляющего удовольствие одной только формой, возникает у тех,
кто принимает кантовскую характеристику суждений вкуса
за кантовское учение об искусстве. Но это — вовсе не одно
и то же. В характеристике суждений вкуса по четырем
моментам — качества, количества, отношения и модальности —
у Канта исследуется не вопрос о том, что делает произведение
произведением изящного искусства, а вопрос о том, что делает
суждение о предмете суждением о прекрасном предмете. В этом
учении Кант действительно утверждает, что оценка предмета,
как прекрасного, обусловлена его формой.
Однако «форма», о которой здесь говорит Кант,— вовсе
не форма произведения искусства, а то, что называется
«фигурой»: фигура, или очертание предмета, признаваемого
красивым или прекрасным, в суждении вкуса.
Учение об искусстве рассматривается у Канта не в
«Аналитике прекрасного и возвышенного», где определяются четыре
момента суждения вкуса, а в «Дедукции чистых
эстетических суждений», начиная с § 43. Учение это развивается
в неразрывной связи с понятием об «эстетических идеях»,
а само искусство рассматривается как способность выражения
эстетических идей. Мы видим, что, по Канту, только связь
искусства с моральными идеями придает искусству высшее
значение.
Впрочем, сам Кант дал повод истолковать его учение об
искусстве как учение, будто бы пренебрегающее содержанием.
Больше того. Повод к такому истолкованию двоякий.
Во-первых, Кант резко отделил деятельность искусства от
деятельности познания, эстетические идеи от понятий. По Канту,
произведение искусства не дает о предмете никакого познания,
которое могло бы быть выражено в форме понятия.
Кант сам принял меры к тому, чтобы устранить всякую
возможность смешения «эстетической идеи» с познанием.
«Эстетическая идея,— поясняет он,— не может быть
познанием (Eine ästhetische Idee kann keine Erkenntnis werden), ибо
248
она есть созерцание (eine Anschauung) воображения, для
которого никогда нельзя найти адекватного понятия»1.
Поэтому, когда Кант говорит, что искусство и действующий
в гении «дух» возвышают нас до идей, утверждение это,
конечно, несовместимо с формалистическим пониманием кантовской
теории искусства, но оно вовсе не значит, будто в этом своем
тезисе Кант преодолевает характерное для его эстетики полное
обособление художественной деятельности от деятельности
познания. Ибо, по разъяснению самого Канта, «идея разума
не может быть познанием (eine Vernunftidee kann nie
Erkenntnis werden), ибо она заключает в себе понятие о
сверхчувственном (vom Obersinnlichen), которому никогда нельзя придать
соответствующего созерцания»2.
И хотя «эстетические идеи», а также «идеи разума»
возникают не без основания, а по известным принципам
познавательной способности (gewissen Prinzipien der
Erkenntnisvermögen... gemäss erzeugt seien) — все же «эстетическая идея» есть
лишь неизъясняемое представление воображения, а идея
разума — недоказуемое понятие разума3.
Постоянство, с каким Кант проводит это учение, склоняет
всех, кто полагает, что познание может существовать только
в форме понятия, ко мнению, будто Кант единственной задачей,
искусства считал удовольствие, доставляемое его формой^
Сторонники такого истолкования эстетики Канта совершенно
игнорируют центральное учение эстетики Канта — учение об
«эстетических идеях», а также учение Канта о том, что
подлинное искусство всегда связано с нравственными идеями.
Во-вторых, Кант дал еще более серьезный повод думать,
будто он главным элементом искусства признал только форму.
Повод этот — в сравнительной оценке отдельных видов
искусства, которую Кант развил в § 53 и отчасти в § 51—52
«Критики способности суждения».
Оценка эта ведется Кантом по двум различным основаниям.
Особенно ясно различие этих оснований выступает в оценке^
музыки. С одной стороны, в музыке Кант видит только
искусство изящной игры ощущений. Как такое, музыка касается
только тона, то есть только пропорции различных степеней-
напряжения внешнего чувства слуха, к которому относится
ощущение. Как искусство музыка — только прекрасная игра
ощущений через слух. Музыка, по Канту, говорит только череа
ощущения без понятий. Она ничего не оставляет для
размышления. В ней дается больше чувственного наслаждения, чем
культуры. Игра мысли, которая при этом косвенно возбуждается,
1 Kants Werke, § 57. Anmerkung I, S. 418.
2 Там же.
3 Τ а м же.
24»
есть только результат механической ассоциации. Как всякие
чувственные наслаждения, музыка требует частой смены и не
выносит многократного повторения.
Поэтому, когда значение изящных искусств ценят по
культуре, какую они дают душе, а критерием берут то расширение
наших способностей, которое в способности суждения должно
объединиться для познания, то среди всех других искусств
музыка занимает низшее место, так как она играет только
с ощущениями.
Но есть и другое основание для сравнительной оценки
отдельных видов искусств. Искусства можно и должно ценить
не по удовольствию, которое они доставляют игрой
чувственного воображения и формой, возникающей при соединении
разнообразного в воображении. Искусства можно и должно
ценить по обнаружению в них не только вкуса, но и духа. Мысль
эту Кант развил не только в «Критике способности суждения»,
но и в своей «Антропологии». По разъяснению, развитому
в этом сочинении, вкус — «только регулятивная эстетическая
способность для оценки формы при соединении разнообразного
в воображении» (ein blosses regulatives Beurtheilungsvermögen
der Form in der Verbindung des Mannigfaltigen in der Einbil-
dunkgskraft)1. Напротив, дух (Geist) — это продуктивная
способность разума, способность давать образец для этой формы
воображения a priori2. Дух привходит в искусство, чтобы
«создавать идеи» (um Ideen zu schaffen), вкус, чтобы
«ограничивать их ради формы, соразмеренной с законами
продуктивного воображения, и таким образом вымышлять нечто, не
подражая, а первоначально (und so ursprünglich (nicht nachahmend)
zu bilden (fingendi)3. Поэтично и может быть названо поэзией
вообще всякое произведение, обнаруживающее и дух и вкус
(ein mit Geist und Geschmack abgefasstes Product)4. Это и есть
произведение изящных искусств.
Если к сравнительной оценке различных видов искусств
подойти под углом зрения этого понятия о произведении
искусства, то искусство войдет уже в круг высших деятельностей
человеческого духа, а не в круг средств, доставляющих
удовольствие приятными ощущениями или восприятием чистых
свободны y форм вроде рисунков à la grecque, резьбы на рамах
или обоях5.
Тогда выясняется, что продукт изящных искусств «требует
не только вкуса, который может возникнуть и на почве подра-
1 «Kants gesammelte Schriften», hsg. von der Königlich Preussischen
Akademie der Wissenschaften, Bd. VII, Berlin, 1907, S. 246.
2 См. там же.
3 Τ а м же.
4 Τ а м же.
5 См.: Kants Werke, S. 259.
250
знания, но требует также оригинальности мысли (sondern auch
Originalität der Gedanken erfordert)1. А это уже называется
духом, как начало (die, als aus sich selbst belebend, Geist genannt
wird)2.
Поэтому живописец природы (der Naturmaler) — с кистью
или пером в руках, а если с пером, то как в прозе, так и в
стихах—это еще, по Канту, не настоящий художник, а лишь
«подражатель»—«натуралист», как сказали бы мы сегодня.
Истинный мастер искусства, по Канту, — это «живописец идей»
{der Ideenmaler ist allein der Meister der schönen Künste).
Именно с этой точки зрения расцениваются в § 53
«Критики» все изящные искусства. На первое место в их кругу Кант
ставит искусство поэзии. Своим происхождением она почти
целиком обязана «гению», соединяющему «вкус» с «духом».
Она расширяет душу. Воображению она дает свободу. В
пределах данного понятия — среди безграничного разнообразия
возможных его форм —она указывает ту, которая соединяет
пластическое изображение с такой полнотой мыслей, которой
не может быть вполне адекватным ни одно выражение в языке
(mit einer Gedankenfülle verknüpft, der kein Sprachausdruck
völlig adäquat ist)3. Тем самым поэзия эстетически поднимается
до идей (sich also ästhetisch zu Ideen erhebt).
Поэзия имеет преимущество не только перед красноречием,
но и перед всеми другими искусствами, даже перед музыкой.
Ибо музыка только потому — изящное, а не просто приятное
искусство, что она пользуется поэзией как своим орудием
(Anthropologie)4. Среди поэтов—меньше поверхностных умов,
чем среди музыкантов, так как поэты все-таки говорят
рассудку (zum Verstände... reden), а музыканты — только
внешним чувствам (bloss zu den Sinnen)6.
Эта интерпретация искусства поэзии —конечно, не
формалистическая. Однако она остается целиком в границах кантов-
ского идеализма, а также в границах характерного для эстетики
Канта отделения искусства от функции познания.
И действительно: по Канту, поэзия дает душе
почувствовать свободную, самодеятельную и независимую от
естественных определений способность. Это — способность созерцать
и рассматривать природу как явление —по воззрениям,
которые сами по себе не даются в опыте ни для внешних чувств, ни
для рассудка. Другими словами, это — способность
пользоваться эстетическим содержанием в интересах сверхчувствен-
1 «Kants gesammelte Schriften», Bd. VII, S. 248.
2 Τ а м же.
'Kants Werke, S. 402.
4 «Kants gesammelte Schriften», S. 247.
δ Τ а м же.
251
кого — как бы в виде его схемы (zum Behuf und gleichsam zum
Schema des Obersinnlichen zu gebrauchen)1.
Поэзия играет с «видимостью» (mit dem Schein), которую
она создает по своему произволу. При этом она не обманывает
себя, так как признает свое дело только за простую игру,
хотя эта игра может быть целесообразно применена разумом
и для его работы2. В отличие от красноречия поэзия выполняет
свою функцию честно и открыто: она имеет в виду дать только
занимательную игру воображения и притом в соответствии
с законами рассудка; она вовсе не имеет в виду посредством
чувственного образа застать рассудок врасплох и запутать его.
Но и музыка не исключается Кантом, несмотря на все выше
о ней сказанное, из числа искусств, способных к выражению
«эстетических идей». Само чувственно приятное, характерное
для музыки, основывается, по Канту, на свойстве,
аналогичном свойству языка. Каждое выражение языка имеет в своем
контексте известный тон, соответствующий смыслу. Этот тон
выражает аффект говорящего и в свою очередь возбуждает
такой же аффект в слушателе. А это возбуждает в слушателе
и ту идею, какая сказалась в этом тоне при разговоре.
Модуляция есть как бы общий каждому понятный язык ощущений.
Музыка пользуется им во всем объеме его влияния. Поэтому,
согласно закону ассоциации, она может естественным образом
сообщать всем соединенные с этими ассоциациями
эстетические идеи.
Однако для выражения эстетической идеи всей полноты
мыслей, невыразимой в своей целостности,— выражения,
соответствующего известной теме,— в музыке служит не форма
языка, а только форма соединения ощущений: гармония и
мелодия3. Здесь эстетические идеи — не понятия и не
определенные мысли, а именно формы соединения ощущений.
Наконец, в области изобразительных искусств Кант на
первое место ставит живопись. Основанием для этой оценки
Кант считает, во-первых, то, что он видит в ней искусство
рисунка, а это искусство есть, по Канту, основа всех других
изобразительных искусств. Во-вторых, и это главное,
живопись, по мнению Канта, гораздо дальше проникает в область
идей (weil sie weit mehr in die Region der Ideen eindringen..»
kann)4 и — соответственно этому — может расширить поле
созерцания (das Feld der Anschauung) больше, чем это возможно
для всех других искусств.
Этой сравнительной оценкой основных видов искусства
завершается кантовский набросок классификации или системы
1 К a η t s Werke, S. 402.
2 См. там же, стр. 402—403.
3 См. там же, стр. 404, 405.
4 Τ а м же, стр. 406.
252
искусств. Хотя Кант считал его только одним из возможных
таких очерков, в системе искусств Канта ярко отразились его
взгляды на «вкус», «гений», «прекрасное» и «искусство». Вместе
с тем рассмотрение кантовской классификации искусств
позволило нам уточнить понятие о «формализме» кантовской
эстетики. «Формалистично» кантовское учение о четырех моментах
суждения вкуса. Но учение Канта об искусстве — не
формалистично. Оно основано на мысли о способности искусств
выражать «эстетические» идеи и на связи искусства с
«нравственными» идеями. Идеи эти указывают, по Канту, что высшим
источником деятельности «гения» и «духа», оживляющего
произведение искусства, является «сверхчувственный» мир.
В эстетике Кант — прямой предшественник Шеллинга и
Гегеля; Кант — субъективный идеалист, движущийся к
объективному идеализму, но до него не дошедший. Граница, через
которую Кант не переступил, — субъективизм и агностицизм
критической теории познания.
Очерком системы искусств эстетика Канта еще не
заканчивается. Последний ее раздел — Диалектика эстетической
способности суждения (§ 55—59).
В этом разделе Кант показывает, что в критике вкуса
неизбежно возникают противоречивые принципы способности
вкуса, противоречие которых (или антиномия) необходимо
требует разрешения.
При этом Кант разъясняет, что речь идет не о противоречиях
самого вкуса. Противоречие суждений вкуса, когда каждый
ссылается на собственный вкус, еще не образует никакой
диалектики вкуса: ведь здесь никто не притязает, чтобы его суждение
было общим правилом.
Диалектическая антиномия открывается не между
суждениями вкуса, а в отношении принципа вкуса. Она касается основы
суждений вкуса. Она выражается в двух положениях, из которых
одно образует тезис, а другое — анти/пезис антиномии.
Согласно тезису, суждения вкуса основываются не на понятиях.
Если бы они основывались на понятиях, о них. можно
было бы диспутировать, то есть решать вопрос посредством
доказательств.
Согласно антитезису, суждения вкуса основываются на
понятиях. Если бы они не основывались на понятиях, о них,
несмотря на различия между ними, нельзя было бы спорить,
то есть нельзя было бы притязать на необходимое согласие
других с нашим собственным суждением1.
Кант подчеркивает, что это противоречие принципов лежит
в основе каждого суждения вкуса и что не существует никакой
возможности его уничтожить. Это — подлинная диалектика.
1Kants Werke, S. 414—415.
253
Неустранимость столкновения антиномических положений
Кант выводит из того, что понятие, к которому в суждениях
вкуса относят предмет, необходимо должно рассматриваться
в двояком смысле, с двух различных точек зрения.
Всякое суждение вкуса имеет дело с предметами внешних
чувств. Но оно имеет с ними дело не для того, чтобы определить,
их понятия для рассудка. Суждение вкуса — не
познавательное суждение. Это — только частное суждение, или наглядное
частное представление, связанное с чувством удовольствия.
Поэтому значимость такого суждения ограничивается только
субъектом, или индивидом, высказывающим это суждение:
каждый имеет свой вкус, и то, что для меня — предмет
художественного наслаждения, может не быть таким для другого1.
Однако в суждении вкуса имеется и более широкое
отношение представления о предмете (и вместе с тем о субъекте). На
этом, более широком отношении представления мы основываем,,
по Канту, расширение этого вида суждений. Мы видим в них
уже суждения, необходимые для каждого. Поэтому в их основе
необходимо должно лежать какое-нибудь понятие. Однако*
это — такое понятие, которое не определяется через созерцание
и ни через что не познается. Поэтому оно не дает возможности
приводить какие-либо доказательства для суждения вкуса
(kein Beweis für das Geschmacksurteil führen lässt; курсив.
Канта)2.
Что же это за понятие? Это — только чистое понятие о
сверхчувственном^ которое лежит в основе предмета, как
предмета внешних чувств и, стало быть, как явления. Оно же лежит
в основе также и субъекта, высказывающего суждение.
До тех пор пока на это понятие не обращено внимания,—
никакое оправдание притязаний суждения вкуса на всеобщую*
значимость немыслимо.
Но противоречие, возникшее таким образом — и притом
с неизбежностью,— немедленно исчезает, как только будут
высказаны следующие положения: суждение вкуса основывается
на особом понятии — на понятии об основе субъективной
целесообразности, приписываемой природе в способности суждения.
Понятие это таково, что из него ничего нельзя познать и ничего-
нельзя доказать по отношению к предмету суждения, так как
понятие это само по себе неопределяемо. В этом отношении оно-
не пригодно для познания.
Однако через то же самое понятие суждение вкуса получает
значение для каждого. Оно получает его как суждение частное,
но непосредственно сопровождающее созерцание. Основа его·
определения заключается, возможно, в понятии о том, в чем»
можно видеть сверхчувственный субстрат человечества.
iRants Werke, S. 416.
2 Τ а м же.
254
Этими соображениями предрешается разрешение указанной
Кантом и изложенной им в § 56 «Критики» антиномии вкуса.
Так же как это было в «Критике чистого разума» — при
рассмотрении диалектики чистого теоретического разума1,— Кант
пытается доказать, что тезис и антитезис в суждении вкуса
только по видимости противоречат друг другу. В сущности они
не исключают взаимно друг друга, но могут существовать вместе,
хотя объяснение возможности их понятия превышает нашу
познавательную способность. Иначе говоря, диалектика
эстетической способности суждения есть лишь «видимость» (Schein)
противоречия. Но это — видимость естественная и
неизбежная для человеческого разума (natürlich und der menschlichen
Vernunft unvermeidlich)2.
Поэтому она остается и после разрешения кажущегося
противоречия, хотя теперь она уже неспособна нас обманывать.
Из всего нашего анализа эстетики Канта видно, что в
обосновании принципа эстетической способности суждения Кант
в одном чрезвычайно важном вопросе решительно отклоняется
от эстетики эмпиризма и пытается основать эстетику
своеобразного рационализма.
Рационалистом в эстетике Канта делает признание
априорных основ художественного удовольствия. Именно априоризм
отличает Канта даже от тех немецких эстетиков XVIII века,
которым Кант был многим обязан своим эстетическим
развитием и которые сами обнаруживают в своих эстетических
взглядах черты рассудочности.
Кант отдавал себя ясный отчет в рационалистической
тенденции собственного эстетического учения. «Мы показали,—
пишет он в одном из заключительных параграфов «Критики
эстетической способности суждения»,— что есть основы
художественного наслаждения a priori, которые, следовательно,
могут существовать рядом с принципом рационализма, хотя
их нельзя выразить в определенных понятиях»*.
Но Канта не удовлетворяет простая констатация или
признание близости его точки зрения в эстетике к рационализму.
Кант считает необходимым дифференцированное исследование
этого рационализма в принципе вкуса.
1 Кант сам указал на сходство метода экспозиции и разрешения
диалектических противоречий во всех своих трех «Критиках». «Устранение
антиномии эстетической способности,— писал он,— идет по дороге,
похожей на ту, по которой шла критика в решении антиномии чистого
теоретического разума... Здесь, как в критике практического разума,
антиномии против нашей воли заставляют нас смотреть за пределы чувственного-
и a priori искать объединительный пункт для всех наших способностей
в сверхчувственном» (стр. 417—418).
2Kants Werke, S. 416.
3 Τ а м же, стр. 423.
255
Исследование это приводит Канта к убеждению, что
рационализм ( = априоризм) в принципе вкуса может быть или
«рационализмом реализма целесообразности, или рационализмом ее
идеализма» (entweder der des Realismus der Zweckmässigkeit,
oder des Idealismus derselben)1.
Речь идет здесь о том, как надо эстетически понимать
соответствие между представлением о целесообразности предмета
в воображении и существенными принципами способности
•суждения в субъекте вообще.
В случае реализма эстетической целесообразности природы
полагают, будто субъективная целесообразность есть
действительная и преднамеренная цель природы (или искусства) и
соответствует нашей способности суждения.
В случае идеализма эстетической целесообразности природы
полагают, будто целесообразное соответствие открывается без
всякой преднамеренной цели, совершенно случайно. Это —
соответствие нашей субъективной целесообразности с
потребностями способности суждения по отношению к природе и к ее
формам, возникающим согласно частным законам2.
Кант рассматривает доводы, которые могут быть выдвинуты
как в пользу «реализма», так и в пользу «идеализма»
целесообразности.
За «реализм» эстетической целесообразности природы
говорит многое. Это прежде всего прекрасные формы в царстве
органической природы. Таковы цветы, листья, даже фигуры
целых растений. Ненужные, по мнению Канта, для их
собственного назначения, они представляют для нашего вкуса как бы
изысканное украшение строения животных различных пород
и видов. Все это, в особенности же разнообразие и сочетание
различных цветов на поверхности организмов, невольно
склоняет ум в пользу гипотезы, будто в данном случае природа
действительно имела какие-то цели по отношению к нашей
эстетической способности суждения.
Однако существуют веские данные против гипотезы
реальной эстетической целесообразности природы. Против нее
говорят и наш разум и сама природа. Разум требует везде, где это
только возможно, избегать умножения принципов. Для разума
допущение реальной эстетической целесообразности в природе
есть один из таких ненужных для объяснения природы
излишних принципов.
Но и сама природа противится допущению этого принципа.
Природа в своем творчестве всегда обнаруживает склонность
порождать формы, которые, по-видимому, рассчитаны на
эстетическое применение нашей способности суждения. Но в то же
1Kants Werke, S. 423.
2 Τ а м же, стр. 423—424.
256
время природа не дает нам даже малейшего основания
предполагать, будто для порождения этих форм она нуждалась в чем-
либо другом, кроме своего обычного причинного механизма.
Поэтому все эти порождения могут казаться целесообразными—
по отношению к нашей способности суждения — без какой бы
то ни было идеи, которая лежала бы в их основе (wonach sie,
auch ohne alle ihnen zum Grunde liegende Idee, für unsere
Beurteilung zweckmässig sein können)1.
Поскольку речь идет о красоте цветов, оперения птиц,
раковин — как в их фигуре, так и в их окраске,— все это,
утверждает Кант, необходимо приписать природе и ее
способности творить эстетически целесообразно «без какой-либо особой,
поставленной для этого цели, просто по химическим законам,
через выделение материи, необходимой для организации» (ohne
besondere darauf gerichtete Zwecke, nach chemischen Gesetzen,
durch Absetzung der zur Organisation erforderlichen Materie)2.
Но есть, по Канту, довод, который прямо доказывает
идеальность эстетической целесообразности природы и который не
позволяет нам пользоваться никаким реализмом цели природы
как основой для объяснения нашей способности представления.
Довод этот состоит в том, что при оценке красоты мы вообще
ищем критерия для нее в нас самих и притом a priori'. Если
допустить реализм целесообразности природы, то учиться тому, что
мы должны считать прекрасным, мы должны у природы. Но тогда
суждение вкуса было бы подчинено эмпирическим законам.
На самом деле, по отношению к вопросу, действительно ли
рассматриваемый предмет прекрасен или нет, наша эстетическая
способность суждения сама по себе законодательна (selbst
gesetzgebend ist). При эстетической оценке дело идет не о том,
что такое природа или что такое она для нас в качестве цели,
но только о том, как мы ее воспринимаем*. Если бы природа
создавала свои формы для нашего удовольствия, то тогда
существовала бы объективная целесообразность природы, а не та
субъективная целесообразность, которая основывается на
свободной игре воображения4. Идеальный характер
целесообразности еще яснее выступает, по Канту, в искусстве. Здесь,
во-первых, нельзя допустить реального характера
целесообразности через ощущения. Иначе вместо искусства и прекрасного
было бы только приятное в искусстве. Во-вторых, даже если
речь идет не об удовольствии от приятного, а о
художественном наслаждении «эстетическими идеями», наслаждение это не
должно зависеть от достижения определенных целей. Этим изящ-
1 Kants Werke, S. 424.
2 Τ а м ж е, стр. 426.
3 Τ а м ж е, стр. 426—427.
4 Τ а м же, стр. 427.
17 В. Асмус
ное искусство отличается от искусства механически
преднамеренного (menschlich absichtliche Kunst)1. Поэтому даже в
рационализме принципа вкуса в основе лежит идеальность целей, а не
их реальность. В учении Канта об «идеальности»
рационального принципа вкуса таится глубокая и правильная мысль.
Учение это отрицает возможность научно обосновать и
доказать тезис богословов и идеалистов о существовании в
природе преднамеренной целесообразности в ее деятельности и
творчестве. Наука знает только действующие в природе
причины, но не предуказанные ею цели. Намеренно
целесообразной может быть только деятельность человека. Такова она
в его практической деятельности. Но, правильно отрицая
намеренную целесообразность в природе, Кант ошибочно
распространил это учение и на человеческое искусство. По его
учению, в искусстве цели скрыты. Целесообразность в искусстве
существует, но она — только формальная целесообразность.
Это— одна лишь форма целесообразности без конкретной цели.
Этот ошибочный вывод показывает, что в эпоху Канта еще
отсутствовали предпосылки для правильного
материалистического решения проблемы целесообразности. Кант затратил
во второй части «Критики способности суждения» — в «Критике
телеологической способности суждения» — огромные
умственные усилия, чтобы согласовать научный принцип причинного
объяснения явлений природы с наблюдаемой в природе
целесообразностью ее форм. Но все усилия его оказались
тщетными. Понадобился гений Дарвина, чтобы показать, как
в природе, которая не действует согласно намеренным целям,
посредством одних лишь присущих ей причинных процессов
возникают целесообразно действующие формы организмов и их
приспособления. Кант остановился у порога этой проблемы.
Вместо ее материалистического * решения он мог предложить
только агностицизм в теории познания и принцип субъективной
целесообразности как регулятивный принцип философского
мышления. Таким же субъективным осталось применение этого
принципа и в эстетике, в объяснении художественной
деятельности.
Преодоление этого субъективизма оказалось задачей,
которую предстояло решать продолжателям и преемникам Канта
в эстетике.
1 К an ts Werke, S. 427.
Глава пятая
ШИЛЛЕР КАК ФИЛОСОФ И ЭСТЕТИК
I
Для Шиллера эстетика была вторым — после поэзии — его
призванием. В его теоретической деятельности эстетике даже
не приходилось соперничать с историей. В исторических работах
Шиллер все же больше философ истории или мыслящий
художник, обрабатывающий исторический материал, чем ученый
историк. Напротив, в эстетике Шиллер — один из ее корифеев.
Содержание его эстетических идей значительно, а их
воздействие простирается далеко за пределы его времени. Не Шиллером
определяется направление, в каком исторически развивались
эстетические идеи Гёте, Шеллинга и Гегеля. Но не будь
Шиллера, содержание их идей, сила их действия были бы
иными.
Шиллер не преувеличивал непосредственного значения,
какое эстетическая теория может иметь для практики
искусства. Он меньше всего походил на рассудочного поэта,
подгоняющего собственную песню под рамки заранее ей
предписанной теории. Возражая Вильгельму Гумбольдту, он пояснял,
что для него «вообще... сомнительно, может ли философия
искусства чему-нибудь научить художника... То, что в глазах
философа обладает достаточной содержательностью и выражает
общий закон, для художника, если он это применит в своем
творчестве, всегда окажется выхолощенным и пустым»1 (письмо
Вильгельму Гумбольдту от 27 июня 1798 г.). Шиллер понимал,
что эстетические теории, как бы истинны они ни были, сами
по себе, в качестве теорий, не могут подменить решение задач,
которые должны быть решены делом искусства.
Однако, понимая это, Шиллер не менее ясно понимал, что
сложность задач, выдвигаемых жизнью перед искусством, не
Ф. Шиллер, Собр. соч., т. 7, М., Гослитиздат, 1957, стр. 502,
17* 259
может быть одолена художником, если он не способен
эстетически осмыслить суть своего дела. В работе подлинного
художника, даже если он далек от теории, возникают задачи и
обнаруживаются трудности, которые заставляют его задуматься над
вопросами гораздо более широкими и важными, чем сами эти
частные задачи и трудности. Вопросы эти — эстетические.
Для Шиллера эстетические проблемы никогда не оставались
только частными вопросами художественной практики: они
становились элементами философского мировоззрения. Разработка
этого мировоззрения была для Шиллера не случайным
добавлением к его деятельности художника, а одним из необходимых
условий самой этой деятельности. Поэтому даже в период,
предшествовавший усиленному занятию Шиллера эстетикой
и философией, а также и в последующий, Шиллер не только
обдумывал эстетические вопросы, но и выражал полученные
результаты в художественных произведениях. Он был эстетиком
не только в «Письмах об эстетическом воспитании», в статье
«О наивной и сентиментальной поэзии», но также и в таких
стихотворениях, как «Боги Греции», «Художники» и другие.
II
Стремление к разработке эстетических воззрений выступает
у Шиллера сильнее, чем у какого бы то ни было другого
современного ему немецкого художника. В этом отношении с ним
не может сравниться даже Гёте. Но в то же время стремление
это — вовсе не исключительная черта мышления Шиллера.
Можно не удивляться значению, какое эстетика имела в
глазах поэтов, живописцев, музыкантов того времени. Как Шиллер
и Гёте, так и романтики, тоже много писавшие по вопросам
эстетики, понимали, что значила для них эстетика как философское
осознание практики искусства. Для них эстетика должна была
стать главной целью их теоретических размышлений.
Но то же, если не большее, значение эстетика приобрела и
для современных им философов. Во второй половине XVIII века
и в начале XIX века эстетика становится для большинства
крупнейших мыслителей Германии не только обязательной составной
частью их философии, но одной из ее главных составных частей.
Эстетика — завершающая часть философии Канта. По сути, то же
значение она получает в «Системе трансцендентального
идеализма» Шеллинга. И даже у Гегеля, для которого высшая ступень
духа — не искусство, а философия, искусство все же
рассматривается как ступень развития не субъективного и даже не
объективного духа, а духа абсолютного, завершающего всю
диалектику развития. Соответственно этому лекции Гегеля по
философии искусства — одно из важнейших звеньев во всей системе
гегелевского идеализма.
260
Чем объясняется это исключительное значение эстетики
в глазах немецких философов конца XVIII века? Чем объяснить,
что даже люди, по сути далекие от искусства, как Кант, или
имевшие все же скромный опыт в понимании искусства, как
Гегель1, придавали такое значение искусству, что эстетика,
или философия искусства, стала для них не просто одним из
предметов философского исследования, а важнейшей
архитектонической частью философской системы?
Причина этого явления — не в искусстве, отдельно взятом,
и даже не в отношении искусства к философии, а в отношении
искусства к современной ему общественной жизни.
Важнейшим событием в жизни европейского общества конца
XVIII века стала французская буржуазная революция.
Причины, ее породившие, действовали — по крайней мере частично —
и в тех странах Европы, в которых в это время еще не возникла
революционная ситуация. И в этих странах — в рамках
политической системы абсолютизма — созревали и развивались
общественные отношения и общественные классы будущего
буржуазного общества.
Отношения эти были пронизаны глубоким противоречием.
Капиталистический способ производства предполагал и
порождал технический прогресс, развитие разделения труда и
специализации, совершенствование и количественное увеличение
вырабатываемого на капиталистических предприятиях продукта.
Но вместе с тем этот способ производства, основанный на
жестокой эксплуатации труда, производил глубокие изменения и
отрицательные явления в жизни и в культурном облике не
только рабочих, но и людей умственного труда, затронутых
процессом капиталистического разделения труда и капиталистической
специализации. Не специализация как таковая, но именно
капиталистические условия и формы специализации стали
непреодолимым препятствием для всестороннего развития
физических сил и духовных способностей. Потребность во всестороннем
развитии оставалась, не возможность их удовлетворения
исключалась или сводилась на нет. Специализированный труд
поглощал все время и все силы рабочего, ремесленника, работника
интеллектуальных профессий. Само отношение работника к
труду и к продукту труда резко изменилось. В феодальном
обществе один и тот же человек выполнял различные работы,
соответствовавшие различным видам труда. Продукт вырабатывался
им для удовлетворения собственных потребностей при помощи
1 Гегель опирался на личный, хотя и ограниченный, эстетический
опыт лишь в своем рассмотрении античной поэзии. Уже в своих
суждениях об античном изобразительном искусстве он сильнейшим образом
зависит от Винкельмана и от других историков искусства. Его суждения
о музыке внушают подозрение, что музыка как искусство была ему
малодоступна.
261
орудий, которые также принадлежали ему самому.
Удовлетворяя непосредственному — практическому — назначению,
продукт вместе с тем должен был удовлетворять и эстетическим
потребностям, запросам и вкусам производителя. Продукт
ремесла был одновременно и продуктом искусства. Мастера
архитектуры, скульптуры, живописи, ювелирного дела были
одновременно и художниками и ремесленниками, а самое
ремесло их — не узкоспециализированным. Один и тот же
художник был вместе и архитектором, и живописцем, и ваятелем,
и гравером. Принято думать, что этот универсализм
характеризует художников Возрождения — Леонардо, Микеланджело,
Дюрера. Это верно. Но некоторые черты универсализма —
в области искусства — возникли не в эпоху Возрождения,
а еще раньше — в искусстве позднего средневековья. Основа
этого универсализма — художественные традиции средневековых
ремесленников.
Положение труда в средневековом обществе приводило к
тому, что посредством труда создавался продукт,
удовлетворявший одновременно и утилитарную потребность и потребность
эстетическую. Само отношение производителя к продукту было
отношением также и эстетическим. Стремление к
удовлетворению многоразличных потребностей частично достигало своей
цели уже в самом труде, а печать эстетической красоты,
целесообразности лежала на самом продукте этого труда.
Капиталистический способ производства разрушил этот
отнюдь не идиллический, тоже основанный на угнетении, но
гораздо более цельный, чем в мире капитализма, характер
отношений между трудящимся человеком, орудиями его труда
и производимым продуктом. Он отделил, отнял у рабочего
и орудия его труда и самый продукт труда, превратил его в
товар капиталистического рынка. Он специализировал самый труд,
довел его до постоянного утомительного повторения в высшей
степени однообразных действий, необходимых для выработки
даже не продукта в целом, а какой-нибудь его детали.
Сосредоточив все внимание рабочего на притупляющей выработке одной
какой-нибудь детали, он вывел из поля зрения рабочего
продукт, как целостную вещь, обладающую также и эстетическими
качествами. Он лишил рабочего возможности пользоваться
создаваемым им продуктом. Тем самым он исключил
характеризовавшее средневекового работника эстетическое и
эмоциональное отношение к его труду, к его продукту и способствовал
вообще подавлению и ослаблению эстетического отношения
рабочего к действительности — к окружающей природе, к
красоте жилища, к предметам обихода, к одежде и т. д. Даже в
такой далекой от промышленного производства области
умственного труда, как художественное творчество, капиталистическая
форма специализации создала сначала предпосылки узкой спе-
262
циализации, а затем и саму эту специализацию. Она отделила
труд ученого от труда художника, породила узкую цеховую
специализацию в самой науке и такую же одностороннюю
специализацию в искусстве. Она поставила науку вне философии
и вне искусства и то же сделала с самим искусством.
В конце XVIII века во Франции, в Англии и тем более в
отсталой Германии все эти процессы еще только начинали
обозначаться. Тем большей была заслуга мыслителей и художников,
которые, наблюдая еще зачаточные формы развития последствий
капиталистической специализации, правильно поняли, в каком
направлении они развиваются и какую опасность они
представляют для физического и духовного состояния членов общества
и целых его классов.
Первые анализы и оценки указанных явлений, естественно,
появились там, где сами эти явления возникли раньше и
достигали большего развития. Такими странами были Англия и
Франция. Шотландский философ Фергюсон, французский писатель,
публицист и философ Руссо не только дали характеристику
разделения труда, развивающегося при капиталистическом
способе производства, но и оценку последствий этого процесса
для общества и для отдельной личности. У Руссо изображение
этих последствий выливается в страстный, полный негодования
протест против порядка, который превращает человека из
цельного существа, одаренного множеством способностей,
испытывающего множество потребностей, в существо одностороннее,
утратившее возможность удовлетворения этих потребностей.
Для Шиллера вопрос об антигуманистических последствиях
развивающегося на его глазах разделения труда также стоит
в поле его размышлений.
III
И как художник и как эстетик Шиллер исходит из мысли
о глубоком кризисе, охватившем культуру современной ему
Германии. По его мнению, и в обремененных тяжелым и
непосильным трудом низших классах общества и в праздных высших
классах целостность и всесторонность индивида не существуют
более. В низших классах индивид не достигает возможности
гармонического развития культурных сил, так как, подавленный
физическим однообразным, неэстетическим трудом, он
вообще не поднимается до культуры. В классах высших,
имеющих доступ к культуре, гармоничность культурного состояния
невозможна, так как разделение труда, распространившись с
материального производства на духовную жизнь, превращает
духовный труд в труд, лишенный всякой целостности и единства.
Не зная истинных связей между способом производства и
порождаемыми им формами и видами специализации, Шиллер
263
главную ответственность за отрицательные результаты
разделения труда возлагает не на социальные условия и
формы этого разделения, а на государство как таковое и на
культуру.
Мысль эту Шиллер развил в «Письмах об эстетическом
воспитании человека». Охарактеризовав сильными чертами «рану»
на теле нового общества, Шиллер поясняет: «Сама культура
нанесла новому человечеству эту рану. Как только сделалось
необходимым благодаря расширившемуся опыту и более
определенному мышлению, с одной стороны, более отчетливое
разделение наук, а с другой — усложнившийся государственный
механизм потребовал более строгого разделения сословий и
занятий — тотчас порвался и внутренний союз человеческой
природы, и пагубный раздор раздвоил ее гармонические силы...
Теперь оказались разобщенными государство и церковь,
законы и нравы; наслаждение отделилось от работы,средство от цели,
усилие от награды. Вечно прикованный к отдельному малому
обрывку целого, человек сам становится обрывком; слыша вечно
однообразный шум колеса, которое он приводит в движение,
человек не способен развить гармонию своего существа и,
вместо того чтобы выразить человечность своей природы,
он становится лишь отпечатком своего занятия, своей
науки»1.
Крайне отрицательная уже сама по себе, утрата человеком
возможности всестороннего развития своих сил становится,
по Шиллеру, еще более отрицательной там, где утрата эта
поощряется государством, находящим свою выгоду в таком
разделении способностей. Руководимое требованиями и
поощрением государства, общество начинает ценить в человеке то, что
есть результат не его роста, а его культурного снижения:
одностороннее развитие какой-либо одной способности. После этого
спрашивает Шиллер: «Можем ли мы удивляться пренебрежению,
с которым относятся к прочим душевным способностям, если
общество делает должность мерилом человека, если оно чтит
в одном из своих граждан лишь память, в другом лишь
рассудок, способный к счету, в третьем лишь механическую ловкость;
если оно здесь, оставаясь равнодушным к характеру, ищет лишь
знания, а там, напротив, прощает величайшее омрачение
рассудка ради духа порядка и законного образа действий; если оно
в той же мере, в какой оно снисходительно к экстенсивности,
стремится к грубой интенсивности этих отдельных умений
субъекта,— удивительно ли, что все другие способности
запускаются ради того, чтобы воспитать единственно ту способность,
которая дает почести и награды?»2
1 Ф. Шиллер, Собр. соч., т. 6, стр. 265—266.
2 Τ а м же, стр. 266.
264
Этот анализ противоречий разделения труда отличается
у Шиллера особенностью, которая делает развиваемую им
теорию эстетической культуры теорией специально немецкой,
отражающей особенности общественной жизни и идейного
состояния современной ему Германии. Здесь, как отметили
в «Немецкой идеологии» Маркс и Энгельс, классы общества,
в качестве классов именно капиталистического общества,
еще только начинали формироваться. Процесс их формирования
и сопутствовавшие ему явления общественной и политической
жизни отражались в сознании немцев отнюдь не соответственно
их действительному историческому содержанию. Не только
рядовые члены общества, но даже немецкие философы, юристы,
филологи, писатели, пытаясь понять явления современной им
жизни, впадали в иллюзии относительно причин и сущности
этих явлений. Одной из важнейших таких иллюзий было
непомерно преувеличенное представление о самостоятельной ролиг
какую в развитии форм разделения труда, в частности труда
культурных профессий, играло государство.
В связи с этим противоречие между потребностью личности
во всестороннем культурном и эстетическом развитии и
неуклонно углублявшейся специализацией отражалось в сознании
немецких теоретиков не как противоречие капиталистической
общественной формы разделения труда, а как противоречие
или антитеза между абстрактно рассматриваемой личностью
и столь же абстрактно рассматриваемым государством.
В «Письмах об эстетическом воспитании человека»
указанная иллюзия выступает совершенно ясно. Конфликт между
всесторонними, в том числе эстетическими запросами личности
и односторонностью, ущербностью, на какую обречена личность
в реальных современных условиях труда и жизни, сводится
у Шиллера главным образом к конфликту между индивидом
и государством как надиндивидуальной силой. Обобщая мысли
об этом конфликте, Шиллер писал: «Таким-то образом
постепенно уничтожается отдельная конкретная жизнь ради того, чтобы
абстракция целого могла поддержать свое скудное
существование, и государство вечно остается чуждым своим гражданам,
ибо чувство нигде его не может найти. Правящая часть под конец
совершенно теряет из виду разнообразие граждан, ибо она
принуждена ради удобства классифицировать их и иметь дело с
людьми только как с представителями, так сказать, получать их
из вторых рук, то есть смешивать людей с чисто рассудочной
стряпней; и управляемый не может не принимать с холодностью
законы, которые так мало приспособлены к нему самому»1.
Изображенный здесь конфликт — между личностью и
государством — Шиллер считает настолько глубоким и настолько
1 Ф. Шиллер, Собр. соч., т. 6, стр. 266—267.
265
определяющим собой весь характер развития современного ему
общества, что именно из этого конфликта, а не из отношений
между классами общества он пытается вывести ненависть
людей современного ему общества к абсолютистскому государству.
«В конце концов,— заключает он,— положительное общество,
пресыщенное тем, что ему приходится поддерживать связь,
которую государство нисколько ему не облегчает, распадается
ъ природно-нравственное состояние (такова уже давно судьба
•большинства европейских государств), где властью является
только одна партия, ненавидимая и обманываемая теми, кто
делает ее необходимою, и уважаемая лишь теми, кто может
обойтись без нее».
Острота изображаемого Шиллером противоречия
представляется особенно разительной, если сравнить положение
человека в современном обществе с его положением в обществе
античном. Античный мир, каким его знал Шиллер, вернее, каким он
«го узнал в поздний период своего писательского пути, был —
в его представлении — мир гармонической и совершенной
человечности, наивной, но цельной, еще не затронутой и не
разрушенной противоречием между естественной
универсальностью и искусственной специализацией, между личностью
и государством. Это идеализированное представление об
античности Шиллер усвоил, изучая работы Винкельмана, а также
творчество Гёте и его взгляды на античность. Общение с Гёте,
дружба и переписка, завязавшиеся между Шиллером и Гёте
в 90-х годах XVIII столетия, укрепили это представление.
Как все почти его великие современники, изучавшие античность,
Шиллер не подозревал, какие противоречия таились под
сияющей красотой и спокойным величием человеческих образов,
^созданных античной пластикой и эпической поэзией. Коллизии
античной трагедии были в его глазах не поэтическим изображе-
ΉΗβΜ внутренних противоречий античной человечности, а
результатом противоречия между трагическим роком, стоящим
превыше всякой человечности, и сопротивляющимся року,
борющимся с ним человеком. Но сам человек при этом — какова
-бы ни была глубина конфликта — оказывался не пораженным
внутренним противоречием. Поэтому в античной культуре,
в античном искусстве Шиллер видел норму еще не нарушенной
целостности, гармонической полноты и слаженности всех
физических и духовных сил человека.
В шестом из «Писем об эстетическом воспитании человека»
Шиллер резкими штрихами очертил противоположность между
целостностью античной человечности и разорванностью,
раздробленностью личности в современном обществе. Он характеризует
здесь древних греков такими словами: «Обладая равно полнотой
формы и полнотой содержания, равно мыслители и художники,
равно нежные и энергичные,— вот они перед нами, объеди-
266
няющие в чудной человечности юность воображения и зрелость
разума... В те времена,— продолжает Шиллер,— при том
прекрасном пробуждении духовных сил, чувства и ум еще не
владели строго разграниченными областями... Как высоко ни
подымался разум, он любовно возвышал до себя материю, и как тонко
и остро он ни разделял, он никогда не калечил... разум не
разрывал человеческой природы на части, а лишь только
различным образом перемешивал их, так что в каждом боге
присутствовало все человечество»1.
Нельзя сказать, чтобы Шиллер представлял себе античный
культурный мир как совершенно свободный от каких бы то ни
было противоречий. И личные наблюдения над отношениями
современного общества, и изучение истории, и изучение
философской социологической литературы рано привели Шиллера
к убеждению в том, что историческое развитие есть развитие
противоречивое. Убеждение это в особенности окрепло в
результате чтения книг Руссо. Во всех исторических эпохах, в которые
наблюдается расцвет искусства и эстетической культуры,
Шиллер находил противоречие между высоким уровнем искусства
и упадком политической свободы, гражданской доблести,
нравственности. «Мы видим,— писал Шиллер,— упадок
человечества во все эпохи истории, в которые процветали искусства
и господствовал вкус, и не можем привести ни одного примера,
когда у народа высокая степень и большое распространение
эстетической культуры шли бы рука об руку с политической
свободой и гражданскою доблестью, когда красота нравов
уживалась бы с добрыми нравами, а внешний лоск обращения —
с истиною». «Куда бы мы ни обратили свой взор в мирное
прошлое, мы всюду находим, что вкус и свобода бегут друг от друга
и что красота основывает свое господство лишь на гибели
героических доблестей». И Шиллер ссылается в доказательство
своей мысли на историю культуры античной, арабской и
культуры итальянского Возрождения.
Однако каким неизбежным ни было в глазах Шиллера
указанное им противоречие и каким бы острым ни представлялось
само это противоречие для античной культуры, как думал
Шиллер, оно не было противоречием самого античного
искусства. По мысли Шиллера, это было противоречие между высотой,
какой достигло искусство, и упадком политической силы и
общественных нравов. Но при этом само искусство оставалось
искусством гармонической человечности, цельной и не
разорванной на части разделением труда, характеризующим искусство
нового времени. Противоречие между целостностью,
совершенством искусства и снижением уровня нравов не перешло еще
в античном мире, так думал Шиллер, в противоречие между
1 Ф. Шиллер, Собр. соч., т. 6, стр. 263—264.
267
личностью и государством. Шиллер сравнивает древнегреческие
государства с колониями полипов, «где каждый индивид
наслаждался независимою жизнью, а когда наступала
необходимость, мог сливаться с целым»1.
Античной культуре совершенно противоположна, по
Шиллеру, культура современного общества. Здесь существует не
только противоречие между высотой искусства и отсутствием
политической свободы, падением нравов. Здесь, кроме того,
внутри области самого искусства существует противоречие
между природой, гением, интуицией, чувством и искусственной
разобщенностью духовных сил, рассудочностью, абстракцией,
трезвым практическим расчетом.
Противоречие это Шиллер считает не случайным
преходящим состоянием, в котором оказались культура и искусство
современного общества. Он полагает, что «сама культура
нанесла новому человечеству эту рану». Другими словами,
открывшееся ему противоречие он понимает как противоречие
исторически необходимое. Больше того, Шиллер предвидит, что
противоречивый характер исторического и культурного развития,
будучи бедствием для человечества, есть вместе с тем и
необходимое условие его поступательного движения. Правда, пока
антагонизм существует, человек «находится лишь на пути к
культуре». И все же, будучи лишь орудием культуры, а не самой
культурой, этот антагонизм представляет, по Шиллеру,
«великое орудие культуры».
Шиллер, как идеалист, не понимал причин
обнаруживающихся в истории антагонизмов. Однако достигнутое им
признание их исторической необходимости сделало для Шиллера
невозможным искать выхода из осознанного противоречия
в возвращении к покинутому состоянию «целостной
человечности» .
Еще яснее, чем Руссо, Шиллер понимал утопичность и
бессмысленность всех призывов к возвращению из неприглядного
настоящего в навсегда покинутое и уже невозвратимое прошлое.
С истинно диалектическим тактом он понимал, что
антагонистический характер развития порождал не только обеднение,
односторонность, дисгармоничность—для отдельной личности,—
но порождал одновременно и более развитую
дифференциацию, возможность более богатой целостности — для общества
в целом. «Не было другого средства,— писал Шиллер,— к
развитию разнообразных способностей человека, кроме их
противопоставления». Так, специализация способностей стала условием
более совершенного познания наукой ее предметов. «Только
благодаря тому, что отдельные силы в человеке обособляются
и присваивают себе исключительное право на законодательство,
1 Ф. Ш и л л е р, Собр. соч., т. 6, стр. 265.
268
они впадают в противоречие с предметной истиной и заставляют
здравый смысл, обыкновенно лениво довольствующийся лишь
внешностью явления, проникать в глубину объектов»1.
Однако это признание исторической необходимости и даже
благотворности — для общества в целом,— возникшего в ходе
его истории и укоренившегося разделения труда, обособления
отдельных способностей,— вовсе не означали для Шиллера
необходимости примирения со сложившимся положением.
Шиллер полагал, что отвлеченное благо общества в целом, то есть
такое благо, которое не находило никакого воплощения в благе
отдельно взятого члена общества, не могло быть выходом.
Здесь —черта, отделяющая Шиллера от бесчисленных пошлых
апологетов специализации, сложившейся на основе угнетенного
положения работников специализированных отраслей
культуры. В глазах Шиллера благо, порождаемое разделением труда,
но неспособное — при существующих условиях — стать
реальным для отдельной личности, еще не есть подлинное благо.
«Сколько бы ни выигрывал мир, как целое,— писал Шиллер,—
от этого раздельного развития человеческих сил, все же нельзя
отрицать того, что индивиды, затронутые им, страдают под
гнетом этой мировой цели. Гимнастические упражнения создают,
правда, атлетическое тело, но красота создается лишь
свободною и равномерною игрою членов. Точно так же напряжение
отдельных духовных сил может создавать выдающихся людей,
но только равномерное их сочетание создает людей
счастливых и совершенных»2.
Еще с большей силой, чем Кант, Шиллер отстаивает
самоценность каждой отдельной личности. У Канта учение о том,
что личность никогда не должна рассматриваться как средство—
пусть даже средство для самой возвышенной и всеобщей цели,—
сводилось на нет формальной тенденцией кантовской этики.
Безусловное (и притом формальное) веление нравственного
закона («категорический императив»), противопоставление
морального долга личной склонности вели Канта к тому, что в
известных коллизиях он поступался принципом самоценности
личности — во имя неумолимо последовательного проведения
основного формального принципа этики.
Не то у Шиллера. Отбросив кантовское противопоставление
долга личной склонности и даже осмеяв его в известной
эпиграмме3, Шиллер раз навсегда отказался от того, чтобы ущерб,
приносимый каждой отдельной личности развитием культуры,
1 Ф. Шиллер, Собр. соч., т. 6, стр. 268—269.
2 Τ а м же, стр. 270.
3 «Ближним охотно служу, но — увы!— имею к ним склонность.
Вот и гложет вопрос: вправду ли нравствен я?
Нет другого пути: стараясь питать к ним презренье
И с отвращеньем в душе, делай, что требует долг».
269
оправдывать ссылками на выигрыш, который, несмотря на этот
ущерб, получает общество в целом. «Неужели же, однако,—
восклицает Шиллер,— назначение человека состоит в том,
чтобы ради известной цели пренебречь самим собою?.. Неверно,
что развитие отдельных сил должно влечь за собой
пожертвование целостностью... сколько бы законы природы к этому ни
стремились, все же в нашей власти при помощи искусства еще-
более высокого должно находиться восстановление этой,
уничтоженной искусством, целостности нашей природы»1. Поэтому,
сформулировав основное по его представлению культурное
противоречие современного общества, Шиллер не
останавливается ни на его обнаружении, ни на утопических проектах его
устранения посредством отказа от самого принципа разделения
труда и культурной специализации. Шиллер ищет не
утопического, а осуществимого решения открывшегося противоречия.
IV
В поисках такого решения Шиллер, естественно, должен
был обратить внимание на крупнейшее событие в жизни
современного ему европейского общества. Часть современников
Шиллера видела в этом событии реальное условие уничтожения
односторонней специализации, порабощавшей человека и
грозившей ему культурной деградацией. Этим событием была, как
уже сказано выше, французская буржуазная революция.
Отношение Шиллера к французской революции изменялось
по мере развития самой революции. Шиллер принадлежал
к той — значительной — части немецкой интеллигенции, которая
восторженно встретила события революции, но вскоре
отшатнулась от нее, когда революционная борьба против
политических и социальных сил феодальной реакции приняла формы
якобинского террора. Даже в период наибольшего своего
сочувствия революции, осознававшейся и перетолковывавшейся им в
понятиях стоической этики гражданской доблести, Шиллер
никогда не заходил так далеко, как, например, молодой Фихтеу
написавший специальное сочинение для оправдания —
морального и юридического — террора якобинцев.
К 1793 году, когда Шиллер начал работу над «Письмами
об эстетическом воспитании человека», прежнее увлечение
революцией сменилось у него отношением критическим и
отрицательным: оселком, на котором Шиллер испытывал свой взгляд
на революцию, стала — в его сознании — «физическая»
прочность общественных связей между людьми, охраняемая и
гарантируемая, как он думал, только государством. Идеалист в
философии, этике, эстетике, Шиллер в своих понятиях о государ-
1 Ф. Шиллер, Собр. соч., т. 6, стр. 270.
270
стве исходит из своеобразного «реализма», которому он даже
пытается придать значение принципиальное. «Мы не потому
существуем,— говорит Шиллер,— что мыслим, стремимся,
ощущаем; нет, мы мыслим, стремимся, ощущаем потому, что
существуем. Мы существуем, потому что существуем; мы
ощущаем, мыслим и стремимся, потому что помимо нас существует
еще нечто иное».
Этот реальный, физический человек живет там, где уже
возникла культура,— в государстве. На той стадии, когда
государство основывает свое устройство не на законах, а лишь
на силах, оно выступает в качестве «естественного»
государства.
Шиллер признает, что «естественное государство»
противоречит моральным требованиям личности. Тем не менее оно, по
Шиллеру, «вполне соответствует физическому человеку,
который только для того дает себе законы, чтобы управиться с
силами». Больше того. Если сравнивать «физического» человека
с «моральным» человеком с точки зрения реальности, то, по
Шиллеру, за «физическим» человеком необходимо признать
бесспорное преимущество: «физический человек существует
в действительности, моральный же только проблематично»1.
Положение это Шиллер делает критерием для ответа на
вопрос о правомерности революции. В революции он видит
попытку человека разрушить «естественное государство» — с тем,
чтобы силой взять то, в чем ему до сих пор несправедливо
отказывали. «Здание естественного государства колеблется,
его прогнивший фундамент оседает, и, кажется, явилась
физическая возможность возвести закон на трон, уважать, наконец,
человека как самоцель и сделать истинную свободу основой
политического союза»2.
Однако надежду на революцию как на средство
восстановить в человеке целостную человечность, попранную
историческим развитием государственных форм, Шиллер считает
тщетной и даже угрожающей самой человечности, во имя
которой совершается революция.
По Шиллеру, «естественное государство», то есть общество
в физическом значении слова, «не должно прекращаться ни на
один момент...» Поэтому, «уничтожая естественное
государство—а это ему необходимо сделать,— разум рискует
физическим и действительным человеком ради проблематичного
нравственного, рискует существованием общества ради возможного
(хотя в смысле моральном и необходимого) идеала общества»
(курсив мой.-г- В. А.)3.
1 Ф. Шиллер, Собр. соч., т. 6, стр. 256.
2 Τ а м же, стр. 261.
3 Там же, стр. 256.
271
Сам Шиллер отвергает этот «риск» решительным образом.
«Нельзя же,— говорит он,— ради того, чтобы поднять
достоинство человека, ставить на карту самое его существование».
Шиллер полагал, что к революционному разрушению
современного государства стремятся прежде всего низшие и по
своему нынешнему состоянию некультурные классы общества.
Действия масс Шиллер понимал как действия, которыми
руководит не стремление к объективному благу общества, а чисто
субъективные интересы и стремления. На низкой ступени
культурного развития эти стремления диктуются ничем не
сдерживаемыми элементарными потребностями. «В низших и более
многочисленных классах,— писал Шиллер,— мы встречаемся
с грубыми и беззаконными инстинктами, которые, будучи
разнузданы ослаблением оков гражданского порядка, спешат с
неукротимой яростью к животному удовлетворению»1.
В своем отношении к массам простых людей Шиллер никогда
не поднимался до демократизма хотя бы в той форме, которая
характеризует демократизм Руссо. Личность демократического
человека не есть для Шиллера та личность, в которой он
признает, вслед за Кантом, «самоцель». Революционное восстание масс
против существующего государства Шиллер рассматривает
как угрозу физическому существованию человека, как
анархическую деятельность «субъективного человечества»,
направленную против государства. «Разнузданное общество,—
утверждает Шиллер,— вместо того чтобы стремиться вверх к
органической жизни, катится обратно в царство стихийных сил»2.
Поэтому, признавая, как было подчеркнуто выше,
необходимость уничтожения «естественного государства», Шиллер не
допускает, чтобы это уничтожение было осуществлено
революцией. Он идет еще дальше. Он безусловно признает право
государства защищаться силой против личности, поднявшейся на
него во имя восстановления попранной и разрушенной
целостности и человечности. Он требует от личности беспрекословного
уважения к существующим формам государственности. «Может
быть, объективная сущность человека,—рассуждает он,—и
имела основание к жалобам на государство, но субъективная
должна уважать его учреждения»3.
Во имя сохранения «физического человека» и
«естественного государства» Шиллер безоговорочно оправдывает
уничтожение государством враждебной государству личности. «Разве
можно,— спрашивает Шиллер,— порицать государство за то,
что оно пренебрегло достоинством человеческой природы, когда
нужно было защитить самое существование ее...»4. И если
1 Ф. Шиллер, Собр. соч., т. 6, стр. 261.
2 Τ а м же, стр. 262.
3 Τ а м же, стр. 261.
4 Τ а м же, стр. 261—262.
272
в характере известного народа «субъективный человек еще
настолько противоречит объективному, что только подавлением
первого можно доставить второму победу, то и государство
выкажет по отношению к гражданам суровую строгость закона
и, чтобы не сделаться жертвой их, должно будет без уважения
раздавить враждебную индивидуальность» (курсив мой.—В. Α.).
Такое решение вопроса о неправомерности революции и о
правомерности подавления личности, восставшей против
государства, стояло в вопиющем противоречии с предпосылками
шиллеровской философии культуры. От «самоцельности
личности» и «безусловного ее достоинства» не остается и следа.
Оправдывается уничтожение этой «самоцельной» личности —
как только она делает попытку уничтожить «естественное
государство», которое, по признанию самого же Шиллера,
необходимо должно быть уничтожено. Единственным реальным
результатом революции провозглашается развязывание слепых и
разрушительных «животных» инстинктов масс. Благородный
протест мыслителя против порядка. ведущего человека к деградации
человечности, подменяется трусливым «реализмом»,
отрицающим революционный риск, отказывающимся от
«проблематического» человека, который восстановит утраченную им
целостность — во имя «физического», то есть действительного
нынешнего человека, лишенного этой целостности.
Чем объяснить непоследовательность Шиллера? Одними
личными недостатками его философского мышления и
мировоззрения? Разумеется, нет. В шиллеровском отказе от
революционных методов разрешения противоречий и проблем
культурной жизни кроме личной слабости Шиллера необходимо видеть
также и отражение некоторых объективных черт современного
ему общества. Нельзя забывать, что революция во Франции,
современником и наблюдателем которой оказался Шиллер,
была революция буржуазная. Задача, поставленная перед ней
ходом истории, состояла в том, чтобы смести феодальные
учреждения и отношения и тем самым расчистить путь к
беспрепятственному развитию капиталистического способа
производства и отвечавших ему общественно-политических форм.
По отношению к захватившей Шиллера проблеме целостной
и гармоничной личности успех французской революции не
только не означал решения этой проблемы, но скорее делал это
решение еще более затруднительным. Победа революции, как
буржуазной революции, вовсе не была средством для
устранения тех форм разделения труда и специализации, от развития
которых страдала физическая и духовная жизнь личности.
Как раз наоборот. Социальным результатом революции должно
было стать не ослабление, а усиление, дальнейшее развитие
разделения труда и специализации — в формах, еще более
угрожавших всестороннему развитию личных сил и
способного В. Асмус
273
стей. В гораздо большей степени, чем при феодализме,
работники физического и умственного труда должны были
превратиться — при капитализме — в «винтики» огромной «фабрики»
капиталистического производства.
Неверие Шиллера в революцию объективно было отражением
неспособности не революции вообще, но именно буржуазной
революции, какой была французская революция 1789 года,
создать в материальной основе жизни капиталистического
общества предпосылки для радикального решения противоречия
между универсализмом и специализацией.
Соображение это, конечно, не может снять с Шиллера
ответственности за его отношение к революции. Вопрос о революции
Шиллер поставил очень узко и совершенно идеалистически.
Он принимает во внимание не то новое — безусловно
прогрессивное, что революция принесла в экономическую,
политическую, духовную жизнь людей французского (и не только
французского) общества. Вопрос о последствиях революции для
общества он рассматривает главным образом как вопрос о том,
что сулит революция чаемому Шиллером восстановлению в
человеке разрушенной цельности, всесторонности и
гармоничности. За «проблематичностью» этого результата, верно им
угаданной (но не объясненной в качестве результата буржуазной
революции), Шиллер просмотрел отнюдь не «проблематическое»,
а весьма реальное прогрессивное для европейского общества
XVIII века значение якобинской диктатуры —
кульминационной точки французской буржуазной революции.
V
В критической части своих культурно-исторических
исследований Шиллер отверг как утопический, так и революционный
пути решения поставленной им проблемы.
Но этот двойной отрицательный результат ни в какой мере
не ослабил энергии, с какой Шиллер все же искал разрешение
осознанного им противоречия культуры.
Выход он нашел в идее об эстетическом воспитании
человека и об искусстве, как об игре. Здесь философия культуры
Шиллера переходит в его эстетику — в теорию прекрасного
и в теорию искусства.
Переход этот намечен в семнадцатом из «Писем об
эстетическом воспитании человека». Шиллер начинает с несколько
отвлеченного рассуждения о возможных видах отклонения человека
от идеи совершенной законченной человечности. Если
совершенство человека, рассуждает Шиллер, заключается в
согласной энергии его чувственных и духовных сил, то человек может
утратить это совершенство только или в случае отсутствия
гармонии всех его сил, или в случае ослабления их энергии. Там,
274
где односторонняя деятельность отдельных сил нарушает
гармонию человеческого существа, возникает состояние
напряжения. Там же, где единство человеческой природы сохраняется
ценой равномерного ослабления чувственных и духовных сил,
человек впадает в состояние ослабления. Таковы два
противоположных предела, к которым движется человек в результате
охватившего всю область общественной жизни разделения
труда.
Однако движению этому все же может быть положен конец.
Шиллер доказывает, что оба противоположных предела —
распад цельности человека и ослабление энергии его физических
и духовных сил — «уничтожаются красотою». Именно красота,
и только она одна, утверждает Шиллер, «восстановляет в
напряженном человеке гармонию, а в ослабленном — энергию...».
Таким образом, красота приводит нынешнее — ограниченное —
состояние человека к безусловному и делает человека
«законченным в самом себе целым»1.
Своё восстановительное и объединяющее действие красота
оказывает, по Шиллеру, и на чувственного человека и на
человека духовного: чувственного она «ведет к форме и к
мышлению...», духовного — «направляет обратно к материи и
возвращает чувственному миру»2.
Это — двойное — действие красоты нельзя, но Шиллерут
понимать так, будто красота приводит человека к какому-то
среднему состоянию между материей и формой, между
пассивностью и активностью. Правда, красота соединяет
противоположные состояния ощущения и мышления, но так как между
ними, по Шиллеру, не существует ничего «среднего», то
соединение их может быть только таким соединением, при котором
оба противоположных состояния будут уничтожены. Оба
противоположных состояния должны совершенно исчезнуть в
третьем — так, чтобы в целом не осталось никаких следов деления.
Красота может стать средством для перехода от материи к
форме, от ощущений к законам, от бытия ограниченного к бытию
безусловному не тем, что она помогает мышлению (по
Шиллеру, это невозможно), а тем — и только тем,— что она Дает
силам мышления свободу обнаружения, согласного с ее
собственными законами. Преодоление нынешней подавленности
человека, разорванности его физических и разорванности его
духовных сил возможно, по Шиллеру, только тогда, когда
человек действует как художник, как творец художественной
формы. По Шиллеру, содержание, «как бы ни было оно
возвышенно и всеобъемлюще, всегда действует на дух
ограничивающим образом, и истинной эстетической свободы можно ожн-
1 Ф. Шиллер, Собр. соч., т. 6, стр. 307.
2 Τ а м же, стр. 309.
18* 275
дать лишь от формы». Ибо «только форма действует на
всего человека в целом, содержание же — лишь на отдельные
силы».
Но действие на человека эстетической формы не есть
действие только эстетическое. Порождение эстетической формы
есть, по Шиллеру, одновременно и возвышение человека со
ступени чувственности на ступень разумности. Хотя красота
в качестве красоты ничего не дает ни рассудку, ни воле, не
вмешивается в дело мышления и решения и только делает
человека способным пользоваться рассудком и волей, все же
красота — условие разумности. Ибо переход от страдательного
состояния ощущения к деятельному состоянию мышления
совершается, по Шиллеру, не иначе, как при посредстве состояния
«эстетической свободы»1.
При этом красота, как утверждает Шиллер, есть не только
необходимое условие возвышения человека до разумности.
Будучи необходимым, условие это одновременно и единственное:
«Нет иного пути,— говорит Шиллер,— сделать чувственного
человека разумным, как только сделав его сначала
эстетическим»2. Чем же обусловлено такое значение эстетического
в жизни человека?
Эстетическое расположение духа есть, по Шиллеру,
расположение, которое «заключает в себе всю человеческую природу
в целом...» и необходимо должно, по крайней мере в
возможности, «заключать и каждое отдельное ее выражение...».
Расположение это «благоприятствует всем функциям человеческой
природы без различия...»3. В эстетическом расположении духа
находится основание всех отдельных функций человеческой
природы. Все остальные виды деятельности дают духу
какое-нибудь специальное умение лишь ценой известного ограничения.
Только эстетическая деятельность ведет к безграничному, и
только в эстетическом состоянии человеческая природа
«проявляется в такой чистоте и неприкосновенности, как
будто бы она еще нисколько не поддалась влиянию внешних
сил»4.
Такова, по Шиллеру, роль эстетической деятельности,
эстетического оформления и эстетического расположения духа.
Им Шиллер передоверил и передал все функции, а также все
решения задач культуры, отнятые им у революции.
Это было несомненное бегство мыслителя и поэта от
действительности. Решение вопроса, предложенное Шиллером, было
иллюзорно. Реальная действительность оставалась этим
решением незатронутой, а порожденное ею противоречие культу-
i Ф. Шиллер, Собр. соч., т. 6, стр. 327.
2 Τ а м ж е.
3 Τ а м же, стр. 323.
4 Τ а м же.
276
ры — неустраненным. Плоское убожество современной
Шиллеру немецкой действительности оставалось убожеством. Оно
лишь подменялось — не в реальности, а только в сознании
писателя — убожеством «высокопарным». Так оценили
общественно-политическую позицию Шиллера основатели
марксизма, и эта их оценка до сих пор сохраняет для нас всю свою
принципиальную — теоретическую и историческую — силу.
Если бы эстетика была для Шиллера только средством
решения раскрытой им антиномии культуры, то сказанным можно
было бы удовлетвориться. Однако эстетика Шиллера есть не
только такое средство. Будучи им, она вместе с тем имеет и
собственное содержание. В ней ставятся вопросы и
предлагаются решения, которые остаются вопросами и решениями
эстетической теории,— независимо от того, каким образом сам
Шиллер пользовался ими для решения проблем культуры,
выдвигавшихся развитием современной ему действительности.
Поэтому эстетика Шиллера для нас — не только
построение, при помощи которого Шиллер пытался обосновать свой
отказ от революционных путей решения
культурно-исторических проблем. Разрабатывая это обоснование, Шиллер
одновременно прокладывал путь и в область эстетических вопросов,
теоретическое значение которых не ограничивается
историческими и политическими горизонтами мысли Шиллера. Как это
не раз случалось с великими художниками и мыслителями,
объективное содержание и объективный результат эстетики
Шиллера далеко не полностью совпали с тем, в чем сам Шиллер —
субъективно — видел смысл своей теории.
Только этим несовпадением можно объяснить влияние,
какое эстетика Шиллера оказала на последующее развитие
эстетической теории в Германии и за ее пределами. Влияние это
было значительным. Ряд положений эстетики Шиллера был
усвоен и переработан художниками и мыслителями
различных, иногда даже противоположных оттенков, направлений
немецкого идеализма и художественного реализма: Гёте и
романтиками, Шеллингом и Гегелем.
В этом плане привлекают внимание разработанные
Шиллером понятия «игры» и эстетической «видимости» (Schein).
Из этих понятий понятие «игры» иногда толковалось
эстетиками и историками эстетики в смысле, отдаляющем от
подлинной мысли Шиллера. В шиллеровском понятии «игры»
видели исходную точку последующих теорий о происхождении
искусства из игры — вроде теорий Карла Гроса и других
буржуазных эстетиков XIX и XX веков.
Однако для столь тесного сближения эстетики Шиллера с
теориями, выводившими возникновение искусства из игры,
нет основания. Понятие «игры» у Шиллера — не только
понятие истории или происхождения искусства и не столько поня-
277
тие биологии или эстетики, биологизирующей искусство,
сколько понятие эстетической теории. Понятие «игры» призвано
выяснить своеобразное место искусства в ряду других деятель-
ностей человека*
По мысли Шиллера, понятие «игры» — так же, как тесно
связанное с ним понятие о «видимости», порождаемой
посредством эстетической «игры»,— характеризует особое место,
занимаемое искусством между непосредственной жизнью и
сознанием, а внутри сознания — между научным познанием и
художественным изображением. Другими словами, «игра» для
Шиллера — не только источник искусства, но — прежде всего
и главным образом — явление, выражающее специфическую,
как теперь говорят, особенность искусства.
«Игра», как ее понимает Шиллер,— не утилитарное
«прозаическое» действие человека, но и не отрешенная от всякой
действительности фантастическая деятельность воображения.
Эстетическая «игра» — свободная деятельность всех
творческих сил и способностей человека, а порождаемый «игрой»
продукт — не непосредственный предмет реальной жизни и не
чистая греза воображения. Продукт игры — «видимость», нечто
идеальное (в сравнении с жизнью) и реальное (в сравнении с
продукцией чистого воображения).
Так как, по Шиллеру, красота есть завершение существа
человека, то она не может быть ни непосредственно самой
жизнью, как это утверждал английский эстетик Бёрк, ни только
образом жизни, как это думал Рафаэль Менгс1. Писатели,
отождествившие красоту непосредственно с жизнью, слишком
точно следовали указаниям опыта, а писатели, видевшие в
красоте только образ жизни и начисто отделившие ее от самой
жизни, слишком удалились от указаний опыта.
Не будучи ни только жизнью, ни только образом жизни,
красота, по Шиллеру, есть «общий объект обоих побуждений,
то есть объект побуждения к игре»2. К игре, так как «игра»,
согласно разъяснению Шиллера,— это «все то, что не есть ни
объективно, ни субъективно случайно, но в то же время не
заключает в себе ни внутреннего, ни внешнего
принуждения»3.
Понятие «игры» сразу ведет Шиллера к понятию об образе
в искусстве. Ибо представленный в общей схеме предмет
побуждения к игре «может быть назван живым образом, понятием,
1 Бёрк обосновал свой тезис в «Философских исследованиях
относительно возникновения наших понятий о возвышенном и прекрасном»,
Менгс свое положение — в «Мыслях о вкусе в живописи». Называя этих
авторов, Шиллер видит в них представителей двух направлений:
«эмпирического» и «догматического».
2 Ф. Шиллер, Собр. соч., т. 6, стр. 300.
я Τ а м же.
278
служащим для обозначения всех эстетических свойств явлений,
одним словом, всего того, что в обширнейшем смысле слова на-
называется красотой»1.
Понятая в этом смысле как общий объект побуждения к
«игре», красота есть, по Шиллеру, требование или постулат
разума. Постулат этот необходим. По самому своему существу
разум настаивает на законченности и на устранении всех
ограничений. Напротив, всякая исключительная деятельность того
или другого побуждения оставляет человека незаконченным
и полагает предел его природе. Понятие человеческой
сущности завершается — такова мысль Шиллера — «только
благодаря единству реальности и формы, случайности и
необходимости, пассивности и свободы». Так разум приходит к
требованию: «...между материальным и формальным побуждениями
должна быть общность, то есть должно существовать
побуждение к игре...». Но это и значит, на языке Шиллера, что как
выражение подлинно человеческой природы — должна
существовать красота. Тот же разум, постулирующий побуждение
к игре, одновременно постулирует и существование красоты:
«как только разум провозгласил: должна быть человеческая
природа,— он этим самым постановил закон: должна
существовать красота»2.
Сам Шиллер ясно видел и даже подчеркнул, что все его
соображения о соотношении между совершенством человека,
побуждением к игре и красотой, как объектом побуждения
к игре, имеют целью выяснить определяющие признаки
эстетического предмета и такие же определяющие черты образов
искусства. Специфический признак игры он видел в серединном
положении игры между серьезностью той деятельности, которой
человек занят в действительной жизни, и совершенно
неоформленной и бесцельной деятельностью фантазии. В то время как
в добре, в совершенстве человек проявляет только свою
серьезность, с красотой он играет. Красота есть, по Шиллеру,
своеобразная диалектика, или единство противоположностей
формального и реального. Она предписывает человеку
«двойной закон — безусловной формальности и безусловной
реальности»3.
Учение это одновременно есть и эстетическая теория и
философия культуры Шиллера. Его эстетический смысл — в
том, что образ искусства рассматривается в нем не как двойник
жизни, не как непосредственное, натуралистическое
изображение предметов реальной жизни, а как изображение,
представляющее роль игры и в этом смысле идеализирующее, возвышающее-
1 Ф. Шиллер, Собр. соч., т. 6, стр. 298.
Там же, стр. 299.
3 Τ а м же, стр. 302.
279
ся над натуральностью обыденного. Поэтому красота, а стало
быть и образ искусства, представляющий условие ее
обнаружения, есть одновременно и создание свободного созерцания,
с которым мы вступаем в мир идей, и порождение, не
покидающее чувственного мира. Она одновременно — и предмет
и состояние нашего сознания: предмет, так как только
отражение предмета может дать ощущение красоты, и состояние
сознания, так как только чувство «есть условие, благодаря коему
мы можем иметь представление красоты». Красота — это и
форма и жизнь: «форма, ибо мы ее созерцаем, но в то же время
она есть жизнь, ибо мы ее чувствуем»1.
Искусство как деятельность, порождающая
художественные образы жизни, есть область игры. То же искусство,
рассматриваемое как совокупность создаваемых игрой образов, есть
область «видимости».
Образ как «видимость» — основное понятие эстетической
теории Шиллера. В понятии этом крылись задатки богатого
диалектического содержания. Именно от него ведут прямые
нити к диалектической эстетике Гегеля, к диалектическим
элементам эстетики некоторых немецких романтиков, к философии
искусства Шеллинга.
Характеризуя образ искусства как «видимость», Шиллер
связывал образ и со сферой чувственности и со сферой идей.
При этом он не отождествлял образ ни непосредственно с
чувственностью, ни непосредственно с мышлением. Как
«эстетическая» видимость, образ уже поднимается над
непосредственным чувственным восприятием предмета. Возможность такого
возвышения коренится в самой чувственности. Уже зрение
и слух ведут к познанию действительности только путем
видимости. В зрении, как и в слухе, материя, производящая
впечатление, уже удалена на известное расстояние от чувственных
органов, посредством которых она воспринимается. То, что мы
видим глазом, отлично от того, что мы ощущаем, ибо рассудок
перескакивает через свет к самим предметам.
Переход от дикости к культуре сказывается в эстетической
области тем, что «видимость», которая на докультурной
ступени была подчинена низшим чувствам, получает самостоятельную
ценность и становится предметом особого наслаждения. В этом
смысле внимание к «видимости» Шиллер считает не только
«истинным расширением человеческой природы», но вместе и
«решительным шагом к культуре».
Однако, возвысившись над непосредственной чувственной
реальностью, «видимость» не отождествляется с теоретическим
мышлением, направленным на познание истины. Вступив в
царство идей, «видимость» сохраняет свой специфический характер,
1 Ф. Шиллер. Собр. соч., т. 6, стр. 341.
280
определяющий ее особое место между чувственностью как
таковой и логическим мышлением как таковым. Эстетическая
видимость, по Шиллеру, отлична и от действительности и от
истины. Будучи эстетической видимостью, она не есть
логическая.
По Шиллеру, истина способна доказать только то, что
чувственная природа может следовать за разумной, и наоборот. Но
истина не может доказать того, что они сосуществуют, что они
находятся во взаимодействии, что они должны быть безусловно
и необходимо соединены. Напротив, при наслаждении красотой,
то есть эстетическим единством, происходит, по Шиллеру,
«действительное соединение и превращение материи в форму,
пассивности в деятельность...»1. Именно этим и доказывается,
полагает Шиллер, соединимость этих двух природ —
чувственной и разумной,— проявление бесконечного в конечном,
а следовательно, возможность самой возвышенной человеческой
природы.
С особой силой Шиллер подчеркивает, что образ
эстетической видимости, то есть художественный образ, не есть
пассивное воспроизведение реальности. Эстетическая игра,
порождающая эстетическую видимость, есть не созерцательное состояние,
а активная деятельность. В качестве образа эстетической
видимости художественный образ может быть создан только
деятельной и свободной силой воображения. Поэтому искусство
есть путь к преодолению созерцательности и пассивности. Оно
расковывает дремлющие в человеке деятельные силы. На место
пассивного отношения человека к действительности оно ставит
отношение активное. В искусстве человек — не только
восприемник реальности, но и творческий производитель. Мысль
эту Шиллер отчеканивает в афоризме: «Реальность вещей —
это их дело; видимость вещей — это дело человека, и дух,
наслаждающийся видимостью, радуется уже не тому, что он
воспринимает, а тому, что он производит»2.
Так определил Шиллер диалектическое место эстетического
отношения человека к действительности, своеобразие
эстетической игры и эстетической видимости, составляющей сущность
образов искусства. Согласно его теории дух «переходит от
ощущения к мышлению путем некоторого среднего настроения,
в котором чувственность и разум одновременно деятельны...
Это среднее настроение, в котором дух не испытывает ни
физического, ни морального понуждения, но деятелен и тем и другим
способом, заслуживает быть названным свободным настроением
по преимуществу...» И если, поясняет Шиллер, «состояние
чувственной определенности назвать физическим, а состояние
1 Ф. Шиллер, Собр. соч., т. 6, стр. 342.
2 Τ а м же, стр. 344.
281
разумного определения назвать логическим и моральным, то
ото состояние реальной и активной определимости следует
назвать эстетическим»1.
Таково основное содержание эстетической теории
«видимости» и художественного образа, разработанной Шиллером.
Но этим не исчерпывается ее значение для Шиллера. Будучи
в своем теоретическом содержании учением о своеобразии
эстетического состояния и своеобразии художественного образа,
теория Шиллера должна была, по замыслу ее автора, служить
одновременно и ключом для решения так волновавшего
Шиллера противоречия всей культуры современного ему общества.
Красота как объект стремления к эстетической игре и
«видимость» жизни в художественном образе, порождаемая игрой,
представляет в глазах Шиллера единственный путь к
преодолению трагического разрыва человеческой природы и ее
незавершенности. Только эстетическая игра завершает
человечность в человеке, и только она одна способна вернуть ему —
через эстетическую видимость — утраченные им единство,
полноту и всесторонность физических и духовных сил. Мысль
эту Шиллер выражает в намеренно парадоксальной,
заостренной формулировке: «человек играет только тогда, когда он
в полном значении слова человек, и он бывает вполне человеком
лишь тогда, когда он играет» (курсив мой.—В. А.)г.
Провозглашая этот тезис, Шиллер выходит за пределы
эстетики. На своем тезисе Шиллер надеялся построить не только
«все здание эстетического искусства...», но также еще более
трудное, по собственному его признанию,— «искусство жить»3.
VI
Изложенное в предшествующих параграфах эстетическое
мировоззрение Шиллера сложилось под несомненным — и
сильным — влиянием философии и эстетики Канта. Сам
Шиллер не только отдавал себе в этом ясный отчет, но и разъяснил
своим читателям значение, какое для него имел Кант. Начиная
свои «Письма об эстетическом воспитании человека», Шиллер
писал: «Нижеследующие утверждения покоятся главным
образом на Кантовых принципах...»4
Первые драмы Шиллера — от «Разбойников» до «Дон
Карлоса» — и первые стихотворения — вплоть до
«Художников» включительно — были написаны Шиллером еще до
7пого, как вышло в свет основное эстетическое произведение
1 Ф. Шиллер, Собр. соч., т. 6, стр. 319.
2 Там же, стр. 302.
3 Τ а м же.
4 Τ а м же, стр. 252.
282
Канта — «Критика способности суждения» (1790). Однако
сближение философских взглядов Шиллера со взглядами Канта
обнаруживается не только в эстетических работах,
написанных Шиллером поем 1790 года, например в «Письмах об
эстетическом воспитании человека» (1793—1794). Шиллер был
кантианцем в философии il в морали еще до того, как он стал
кантианцем в эстетике. И это понятно. «Критика способности
суждения» была новым (для 1790 г.) трактатом Канта, так как
в ней Кант впервые изложил полную систему своих
эстетических взглядов1. Однако этот трактат был в то же время только
завершающим звеном в ряду сочинений Канта, основанных на
идеях, развитых Кантом еще в 1788 году,— в «Критике
практического разума».
Поэтому не приходится удивляться, что уже в
«Философских письмах» Шиллера, законченных в 1786 году, за четыре
года до появления основного эстетического сочинения Канта,
мы находим у Шиллера программное заявление, близкое к
основной идее Канта. Именно с этой точки зрения Шиллер будет в
своих последующих сочинениях разрабатывать вопросы эстетики.
Эта точка зрения сводится к мысли, что результаты творческой
и теоретической деятельности определяются не только — и даже
не столько — самим материалом творчества и исследования,
сколько методом исследования, а также границами,
положенными нашей способности исследования. «По принятому
предубеждению,— читаем здесь,— значение человека определяют
тем материалом, которым он занимается, а не тем способом,
каким он его разрабатывает... высшее совершенство не может
быть постигнуто нами в нашей теперешней ограниченности... Ты
сначала должен вполне ознакомиться с размером твоих сил,
тогда ты вполне сумеешь оценить значение свободнейшего их
проявления».
Перенос центра тяжести с исследования эстетического
предмета на исследование сознания об эстетическом предмете
и мысль, будто формами этого сознания определяется и самый
предмет,— основная кантианская по духу и по происхождению
мысль эстетики Шиллера. В этой своей мысли Шиллер
бесспорно идеалист, и притом идеалист кантовского типа.
Вторая кантианская мысль эстетики Шиллера вытекает из
предыдущей. Это — мысль, что искусство или художественная
деятельность есть по существу только деятельность оформления,
только творчество формы. Цель искусства — «уничтожение»
содержания формой. «В истинно прекрасном произведении
искусства,— утверждал Шиллер,— все должно зависеть от
1 Большая статья Канта, посвященная наблюдениям над чувством
прекрасного и возвышенного (1764), написана еще в период,
предшествующий зрелой фазе кантовской философии.
283
формы и ничто — от содержания... истинной эстетической
свободы можно ожидать лишь от формы... настоящая тайна
искусства мастера заключается в том, чтобы формою уничтожить
содержание; и тем больше торжество искусства,
отодвигающего содержание и господствующего над ним, чем величественнее,
притязательнее и соблазнительнее содержание само по себе,
чем более оно со своим действием выдвигается на первый план
или же чем более зритель склонен поддаться содержанию»1.
Наконец, третье кантианское положение эстетики Шиллера
есть мысль о необходимости строго отличать и отделять
искусство как деятельность художественного оформления от
познания, эстетическую область от морально-практической
и научно-теоретической. «Следует вполне согласиться с теми,—
говорит Шиллер,— которые считают прекрасное и
расположение духа, проистекающее из прекрасного, совершенно
безразличными и бесплодными в точки зрения познания и убеждения.
Они совершенно правы, ибо красота в отдельности не доставляет
ровно ничего ни рассудку, ни воле; она не преследует никакой
отдельной интеллектуальной или моральной цели; она не
находит ни единой истины, не помогает выполнению какой-либо
обязанности, одним словом — в одинаковой мере не способна
создать характер и просветить рассудок»2.
Если бы отношение эстетических идей Шиллера к идеям
Канта исчерпывалось только что сказанным, то как мыслитель
и как эстетик Шиллер был бы только кантианцем и ничего
более. Но это вовсе не так. Шиллер велик и оригинален не только
как поэт, как драматург. Он велик и оригинален также и как
философ, как теоретик искусства. Шиллер — не только
кантианец в эстетике. Он — не только кантианец, во-первых,
потому, что, усвоив некоторые основы эстетики Канта, он не остался
в их пределах. Он пошел дальше Канта и в направлении,
отдалявшем его от идей Канта и сближавшем его с Гёте. Во-вторых,
Шиллер — не только кантианец еще и потому, что даже в
период наибольшей своей близости к Канту он не просто повторял
Канта, не был лишь отголоском Канта. Кантианство Шиллера —
оригинальная интерпретация Канта, развитая умом
сильным и самобытным. На примере Шиллера еще раз
подтвердилась недостаточность обычного — слишком механического —
понятия о том, чем может быть «влияние» в жизни идей.
Конечно, бывали в истории идей и в истории искусства
случаи, когда мыслитель или художник, оказавший влияние на
другого, подчинял его себе внезапно и с огромной, неотразимой
силой впечатления. Но и тут не так легко было бы указать
убедительный пример такого влияния и такого подчинения.
1 Ф. Шиллер, Собр. соч., т. 6, стр. 326.
2 Τ а м же, стр. 321.
284
Может быть, таким было влияние Вольфа на каких-нибудь
второстепенных немецких вольфианцев или Канта — на таких
же второстепенных кантианцев.
Но с творческими умами происходит иначе. Творческий
ум не столько «набредает» на того, кто впоследствии окажет на
него влияние, сколько сам его «ищет». Он ищет в родственном
ему уме лишь опору для мыслей, которые созревают в нем самом,
которые еще не оформились, но которые станут в дальнейшем
его собственными и неповторимыми мыслями. Для творческого
ума влияние, которому он подчиняется, есть результат
собственного выбора. Такой ум не столько подвергается «влиянию»,
сколько «позволяет» влиять на себя — и притом в направлении,
определяемом тенденциями собственного развития. Влияние,
в тени которого он вырастает, есть не пассивное состояние, но
проявление и условие его собственной деятельности, его
личного отношения. В таком влиянии есть нечто избирательное.
Таким было влияние Канта на Шиллера. Для Шиллера
значение Канта состояло вовсе не в том, что Кант обосновал
формалистическое понимание искусства, свел удовольствие,
доставляемое искусством, к удовольствию от одной лишь формы и
отделил эстетическое от логического и морального. Шиллер
понимал, что эстетика Канта противоречива, и брал из нее ту
сторону противоречия, которая отвечала его собственным исканиям
и стремлениям.
В эстетике Канта была сильная формалистическая
тенденция. Именно на нее опирались впоследствии теоретики
искусства и эстетики формалистического направления. К Канту
восходит эстетический формализм Гербарта, ученика Гербар-
та — Роберта Циммермана и ученика Циммермана — немецкого
музыковеда Эдуарда Ганслика. От Канта же в конечном счете
ведут свое происхождение формалистические теории эстетиков
неокантианцев — Германа Когена, Бродера Христиансена,
Ионаса Кона.
Но Кант не был только формалистом в эстетике.
Произведение искусства было для него не только результатом свободной
игры эстетических сил, порождающих форму, и лишь ее одну.
В искусстве Кант видел деятельность, способную особыми для
каждого искусства средствами и в особом материале поднимать
образ от изображения наличного, действительного до
выражения идеала.
Правда, по Канту, вкус есть только эстетическая
способность для оценки формы при соединении разнообразного в
воображении. Вкус ограничивает идеи ради формы, соразмеренной
с Iзаконами продуктивного воображения. Вкус создается не
посредством простого подражания, но первоначально.
Но произведение искусства, по Канту, есть обнаружение
не только вкуса, но также и духа. Под духом же Кант пони-
285
мает «принцип души, который оживляется посредством идей».
Иначе, «дух» — это продуктивная способность разума,
способность давать априорный образец для формы воображения.
Взгляд на произведение искусства как на обнаружение не
только вкуса, но также и духа, открыл перед Кантом
возможность новой классификации искусств. Формалистическая
тенденция эстетики Канта внушала ему классификацию, в
которой критерием признавалась только степень чистоты формы,
доступной для данного искусства. С этой точки зрения
наивысшим видом искусства Кант должен бы признать совершенно
беспредметное искусство, представляющее, вроде искусства
арабески, свободную игру чистых форм.
Напротив, взгляд на произведение искусства, как на
обнаружение духа, заставил Канта построить другую классификацию
искусства. В этой классификации высшим критерием является
уже не степень чистоты формы, а способность искусства к
выражению идей. С этой точки зрения наивысшим искусством
Кант признал искусство поэзии, а все остальные искусства
расположил по степени их близости к поэзии. Поэтому и
внутри самой поэзии Кант наиболее ценил не те ее произведения,
в которых поэт дает натуралистическую копию реальности,
а те, в которых он возвышается до изображения идей.
«Живописец природы,— писал Кант,— с кистью или пером в руках,
с последним как в прозе, так и в стихах, это еще не настоящий
художник, потому что он только подражает; истинный мастер
в изящных искусствах — это живописец идей».
Еще точнее и полнее эту характеристику поэзии (то есть
искусства художественной литературы) Кант выразил в
«Критике способности суждения». «Среди всех других искусств,—
читаем здесь,— первое место удерживает за собою поэзия...
Она расширяет душу тем, что дает воображению свободу и в
пределах данного понятия среди безграничного разнообразия
возможных соответствующих ему форм указывает ту, которая
соединяет его пластическое изображение с такою полнотою
мыслей, которой не может быть вполне адекватным ни одно
выражение в языке; следовательно, эстетически поднимается
до идей».
Даже музыка, которая, по Канту, «говорит только через
ощущения без понятий и, значит, ничего не оставляет для
размышления...» не исключается Кантом из числа искусств,
способных к выражению идей. Только в музыке выражение это
опосредствовано музыкальным тоном и тем аффектом, который
вызывает тон в слушателе: «Тон до известной степени выражает
аффект того, кто говорит, и в свою очередь возбуждает такой же
аффект в слушателе и ту идею, какая сказалась в этом тоне при
разговоре...». Таким образом, и музыка вводит слушателей
в область эстетических идей. Но делает она это посредством
286
ассоциаций: «...так как модуляция есть как бы общий и
каждому понятный язык ощущений, то музыка... пользуется им
во всем объеме его влияния, как языком аффектов... и, таким
образом, по закону ассоциации, естественным образом может
сообщать всем соединенные с этим эстетические идеи...»
И в полном соответствии с этими взглядами Кант в области
изобразительных искусств ставит живопись выше всех других
искусств этой группы. Он отдает ей предпочтение не только
потому, что живопись, «как искусство рисунка, лежит в основе
всех других изобразительных искусств...», но и потому, что
«гораздо дальше проникает в область идей и — соответственно
этому — может больше расширить поле созерцания, чем это
возможно для всех других искусств».
Отмеченные положения Канга делали возможным
приближение Шиллера к Канту. Если бы Канг был только формалистом
в эстетике, то было бы совершенно непонятно, каким образом
Шиллер, поэт, не только наскозь идейный, но в своих драмах
зачастую выводивший героев, которые были лишь «рупорами
духа времени»1, мог найти у Канта опору для собственного
понимания эстетического, для понимания эстетической
«видимости» искусства, как «игры», и художественной деятельности,
как творчества «формы».
Шиллер читал Канта, как его читали все творчески
мыслившие современники Канта в Германии, обращаясь к контексту
не только всех его эстетических идей, но и к контексту всех его
главнейших сочинений: и «Критики способности суждения»,
и «Критики практического разума», и «Критики чистого
разума». Больше того, Шиллер, как и Гёте, соотносил философию
Канта со всей господствовавшей тогда в Германии философией —
с учением Вольфа и его последователей. В сопоставлении с этой
философией — с метафизикой вольфианцев и их плоской,
прислуживавшей богословию телеологией, учением о
целесообразном плане сотворения богом всех вещей,— философия Канта
была силой, освобождающей мысль. Она была такой силой
и представлялась как такая сила. Так понимали Канта Шиллер,
Гёте, Вильгельм Гумбольдт, Фихте, молодой Шеллинг и многие
другие.
Сама энергия, с какой Кант настаивал на независимости
эстетического удовольствия от непосредственного практического
интереса и отделял форму от содержания, искусство — от
морали, понималась лучшими современниками Канта отнюдь
не как чистый формализм. Да и как было возможно сводить
к чистому формализму только что очерченную нами
классификацию искусств Канта, в которой за принципиальную основу
классификации принимается способность каждой группы ис-
1 К. M а ρ к с и Ф. Э н г е л ь с, Соч., изд. 1, т. XXV, стр. 252.
кусств и каждого отдельного вида искусства к выражению
идей.
В указанных тенденциях эстетики Канта современники его
видели теорию, освобождавшую искусство от рассудочных
морально-дидактических задач, навязывавшихся искусству
реакционными абсолютистскими правительствами, реакционными
богословами и реакционными профессорами богословских и
философских факультетов. Эстетика Канта провозглашала
независимость искусства как деятельности, порождающей
прекрасные формы, от морализирующей дидактики.
«Целесообразность без цели», в которой Кант видит существенную
характеристику искусства, выделяла искусство как некую
специфическую область. «Автономия» искусства ставила искусство рядом
с природой, как две области, неподвластные внешним по
отношению к ним целям,— будут ли это цели «творца»,
создавшего мир, или цели людей, предписывающих искусству задачи,
несовместимые со специфическими особенностями самого
искусства.
В наброске 1817 года, опубликованном в 1820 году, в работе
по морфологии («Zur Morphologie») Гёте хорошо разъяснил
значение, какое для него и для людей его поколения имела
эстетика Канта. «Но вот,— рассказывает Гёте,— в мои руки
попала «Критика способности суждения» Канта, и ей я обязан в
высшей степени радостной эпохой жизни. Здесь я увидел, как
самые раздельные мои занятия поставлены рядом;
произведения искусства и природы трактуются одинаково; эстетические
и телеологические способности суждения взаимно освещают
друг друга... Великие основные мысли произведения
представляли полную аналогию с моим прежним творчеством,
деятельностью и мышлением; внутренняя жизнь искусства, как и
природы, их обоюдная деятельность изнутри наружу была ясно
выражена в книге»1. А в разговоре с Эккерманом Гёте пояснил,
что учение Канта о «бесцельной целесообразности» произведений
искусства было понято и воспринято им и его современниками
как уничтожающий удар, который Кант нанес плоской
телеологии вольфианцев. «Воззрение,— говорит Гёте,— что каждое
творение существует для самого себя и что пробковое дерево
растет совсем не для того, чтобы было чем закупоривать
бутылки,— это у меня общее с Кантом, и я очень рад, что на этом
мы сошлись»2. Наконец, в письме Гёте к Цельтеру от 29 января
1830 года, оглядываясь на пройденный им путь идейного
развития, Гёте вновь писал: «Безграничная заслуга нашего
старого Канта перед миром и, могу сказать, также передо
мной, — что в своей «Критике способности суждения» он
1 В. Лихтепштадт, Гёте, т. 2, Госиздат, 1920, стр. 480.
2 И. Эккерман, Разговоры с Гёте, «Academia», 1934, стр. 362.
288
властно ставит рядом искусство и природу и за обоими признает
право поступать бесцельно, исходя из великих принципов. Так
и Спиноза уже раньше утвердил меня в ненависти к нелепым
«конечным причинам» (то есть внешним целям.— В, Α.).
Природа и искусство слишком велики для того, чтобы ставить себе
цели, да и не нуждаются в этом, ибо отношения существуют
везде, а отношения — это и есть жизнь» (Bezüge gibt's überall
und Bezüge sind das Leben)1. И Шиллер точно так же понимал
учение Канта о форме и о «бесцельной целесообразности»
искусства. Он полагал, что резко сформулированный Кантом
принцип формы как единственного предмета эстетического
удовольствия не следует понимать в чисто буквальном смысле, во
всяком случае его не следует понимать как единственный смысл
учения Канта. Шиллер сам полагал, что материя «имеет
значение не только в подчинении форме, но и рядом с формою, и
независимо от нее». Он понимал, что непосредственно найти у
Канта подобную точку зрения невозможно. Он сам разъяснял, что
для Канта главная задача философии есть «освобождение формы
от содержания» и что такая философия легко может
рассматривать все материальное лишь как препятствие, а чувственность —
как стоящую «в непримиримом противоречии с разумом».
Однако, хотя Шиллер находил, что эта точка зрения, быть
может, соответствует буквальному пониманию кантовской
философии, она «не заключается в духе Кантовой системы...».
У Канта Шиллер мог найти опору для своего убеждения
в том, что эстетическая «игра» есть деятельность, порождающая
видимость, сама же видимость есть не только ослабление
реальности до образа, но и возвышение ее до идеала. Однако
искусство возвышает до идеала не путем абстракции, а изображая
идеальное как возможное. В этом смысле Шиллер пояснял, что
писатель-художник представляет предмет, о котором идет речь,
«скорее как возможный или желательный, чем как
действительный или необходимый»2. И только писатель-философ
«возвышает эту веру до степени убеждения; ибо, исходя из несомненных
оснований, он доказывает, что так оно неизбежно должно быть»3.
Самостоятельное отношение Шиллера к Канту сказалось
не только в том, что Шиллер усвоил в эстетике Канта
сильнейшую ее сторону — взгляд на искусство как на деятельность,
поднимающуюся посредством творчества формы до выражения
идей. Самостоятельность Шиллера обнаружилась еще ярче там,
где Шиллер уже не интерпретирует Канта, а отступает
от него, возражает Канту, преодолевает Канта. Полемизируя
1В. Лихтенштадт, Гёте, т. 2, стр. 481, примечание.
2 Ф. Шиллер,О необходимых пределах применения
художественных форм (см.: Шиллер, Собр. соч., т. 6, стр. 366).
3 Τ а м же.
V» 19 в. Асмус
289
с Кантом, Шиллер движется от Канта к Гёте и даже к Гегелю,
от идеализма субъективного к объективному, от метафизики
к диалектике, от эстетической теории познания к эстетике как
средству разрешения противоречий культуры и истории.
Шиллер никогда не мог полностью согласиться с учением
Канта о безусловной противоположности между моральным
долгом и влечением, или склонностью. Кант не допускал даже
и мысли о том, что моральное поведение может диктоваться
влечением к моральным поступкам, личной склонностью к
доблести. Всякое поведение, основанное на такой склонности, Кант
называл всего лишь «легальным» (по отношению к
нравственному закону), но никак не «моральным». Чтобы поступок был
«моральным», он должен совершаться, как утверждал Кант,
вопреки всякой склонности, наперекор влечению, из одного лишь
уважения к нравственному закону. Влечение, склонность
относятся, по Канту, к чувственной природе человека, а то уважение,
какое человек оказывает нравственному закону,— к природе
разумной. Поэтому, развивая свое учение, Кант самым резким
и неумолимым образом подчинил влечения чувственности
разуму. Необходимым условием морального поведения Кант
провозгласил подавление чувственности. А так как подавление это
трудно и противится естественной природе человека, то
добродетель, по Канту, всегда может явиться только как результат
огромного труда и жертвы.
Учение это было неприемлемо для Шиллера. При всем
уважении к Канту Шиллер не соглашался признать, что человек
может быть доблестным лишь вопреки склонности и что влечение
к доблести, любовь к доблести, соединенная с доблестными
поступками, лишает эти поступки их нравственного значения.
Он находил, что в нравственной философии Канта «идея долга
выражена с жестокостью, отпугивающей от него всех граций
и способной легко соблазнить слабый ум к поискам морального
совершенства на путях мрачного и монашеского аскетизма».
Свои возражения Канту по этому вопросу Шиллер изложил
в статье «О грации и достоинстве». Здесь он доказывает, что
противопоставление действия по долгу действию по склонности,
на котором Кант пытался обосновать свою характеристику
морального поведения,— искусственно и насильно разрывает
в человеке то, что в действительности должно быть соединено.
По Шиллеру, человек «не только может, но и должен связать
удовольствие с долгом; он должен повиноваться своему разуму
с радостью» (подчеркнуто мною.— В. А.)1. Уже тем, что природа
создала человека человеком, то есть «разумно чувственным
существом», она вменила ему в обязанность «не разделять того,
что она соединила в чистейших проявлениях своей божествен-
1 Ф. Шиллер, Собр. соч., т. 6, стр. 146.
290
ной стихии, не оставлять позади себя чувственную сторону и
не основывать торжества одного начала на подавлении другого»1.
И Шиллер полагает, что нравственное мировоззрение обеспечено
только тогда, когда оно, «как объединенное создание обоих
начал, вытекает из совокупной его человечности, когда оно
стало его природой; пока нравственное начало прибегает еще
к насилию, инстинкт не может не противопоставлять ему
силу»2.
Кант был несколько задет критикой.Шиллера. Он ответил
на нее — сдержанно и в тоне глубокого уважения к Шиллеру —
в одном из примечаний к первому разделу своего сочинения
о религии («Религия в границах только разума»). Кант упрекает
Шиллера в том, что в статье «О грации и достоинстве» Шиллер
снизил великое понятие о долге, пошел на уступки
чувственности и сделал попытку саму мораль превратить в красоту.
Еще больше и еще решительнее· отклоняется Шиллер от
Канта в вопросе, важном не только для эстетики, но и для всей
философии в целом, в вопросе о соотношении между эстетикой
и наукой, эстетикой и моралью.
В размышлениях по этому вопросу Шиллер преодолевает
субъективизм Канта и односторонность кантовского
обособления эстетической сферы от сферы науки и от сферы
нравственности.
Кант начисто отделил эстетическое суждение от логического
и морального. Логическое суждение он соотнес с рассудком,
направленным на познание чувственного, способность к
образованию моральных понятий — с разумом, направленным на
сверхчувственное. Областью применения рассудка он
провозгласил природу, а областью применения разума — свободу.
Природа, по Канту, противостоит свободе. И хотя красота, как ее
понимал Кант, есть звено, объединяющее область природы
с областью свободы, сферу чувственности со сферой моральной,—
это объединение не реальное: оно осуществляется не в самой
действительности, а только субъективно, только в рефлексии
человека, в особой точке зрения, с которой человек
усматривает единство логического и морального, природы и свободы.
Не то у Шиллера. История его эстетического развития и в
этом вопросе оказывается историей все большего и большего
отдаления от Канта. Эстетическое воспитание, как его понимает
Шиллер, ведет человека к действительному, объективному
объединению чувственного и морального, а не к такому, которое
возможно только в субъективной рефлексии. Единство
природного и духовного для Шиллера — не призрачное единство.
Это — реальное единство, которого достигает реальный чело-
1 Ф. Шиллер, Собр. соч., т. 6, стр. 146.
2 Τ а м же.
19* 291
век, по мере того как он становится человеком в полном смысле
слова, то есть человеком эстетическим.
Эстетическое воспитание, согласно Шиллеру,
распространяется не на одну какую-нибудь грань человеческого существа:
оно захватывает всего человека — теоретического,
познающего и морального, действующего.
Только в случае если бы наука могла быть неоформленной
наукой, а нравстенность — неоформленной нравственностью,
они могли бы существовать и развиваться каждая независимо
от эстетического воспитания. Но это, по Шиллеру, невозможно:
и научное познание и моральное действование всегда даны в
известной форме. Поэтому эстетическое воспитание должно быть
распространено и на человека познающего и на человека
морального.
Правда, Шиллер признает, что есть много людей,
умственная жизнь которых «ограничивается лишь образами и
впечатлениями...». Нагружать их работой мышления значило бы
обременить их непосильным трудом. И точно так же есть люди,
«которые умеют только мыслить...». Заставить их творить
в образах было бы просто невозможно.
Однако, по Шиллеру, и те и другие — «весьма
несовершенные представители истинной и всеобщей человеческой
природы...»1. Природа эта требует «непременно сочетания обоих
родов деятельности...». Кто передает свои знания в научной
логической форме, тот, конечно, «убеждает меня, что он
правильно усвоил их и умеет отстоять; но тот, кто в то же время
может передать мне их в художественной форме, тот не только
доказывает, что способен распространить их; он доказывает
также, что он приобщил их к своей природе и способен
воплотить их в своих поступках»2.
Необходимость эстетического оформления всякого
содержания — научного не меньше, чем художественного — Шиллер
выводит из творческого характера всякой подлинно
теоретической деятельности. «Для результатов мышления,— говорит
он,— нет иного пути к воле и к жизни, кроме самостоятельного
творчества. Лишь то может стать живым деянием вне нас, что
сделалось таковым в нас\ создания духа в этом отношении
подобны органическим образованиям; только из цветка
рождается плод»3.
Сам опыт ведет к такому выводу: наблюдения показывают, что
многие истины давно уже оказывали живое действие в качестве
внутренних образов — еще до того, как их доказала философия.
1 Ф. Шиллер, О необходимых пределах применения
художественных форм (см.: Ф. Шиллер, Собр. соч., т. 6, стр. 371).
2 Ф. Шиллер, Собр. соч., т. 6, стр. 372.
3 Там же.
292
С другой стороны, самые доказанные истины часто бывают
бессильны для воли и чувства.
Эстетическая форма кладет конец этому разобщению
доводов и чувства, понятия и образа, науки и искусства.
«Прекрасное,— говорит Шиллер,— действует по отношению к
познанию так же, как в области морали оно действует по отношению
к поступкам: оно соединяет в выводах и содержании людей,
которые никогда не могли бы сойтись в форме и основаниях»1.
Но, указав на объединяющее действие красоты и
эстетической формы, распространяющейся и на научное познание
и на моральное действие, Шиллер отнюдь не подчиняет науку
и мораль эстетике. Стремясь определить специфическую
сущность прекрасного и искусства, он не теряет из виду
специфические особенности также познания и нравственного поступка.
Он понимает, что значение эстетической формы для науки не
означает, будто особые задачи науки могут решаться силами
искусства. И хотя лучшие знания в уме, не умеющем придать
им форму, «погребены, как мертвые сокровища», но форма без
содержания есть, по Шиллеру, «лишь тень достояния, и
никакое искусство выражения ничем не поможет тому, кому нечего
сказать». Шиллер считдл прямо-таки опасным давать полную
волю вкусу, пока рассудок не проявил себя как способность
мышления и пока мышление человека не обогатилось
понятиями. Он находил, что так как вкус всегда обращает внимание
на форму, а не на сущность предмета, то там, где он
оказывается единственным судьей, «различия вещей по существу
теряются совершенно. Развивается полное равнодушие к
действительности, и в конце концов все значение переносится на форму
и внешность»2.
Из этой недостаточности одного лишь вкуса и одной лишь
эстетической формы Шиллер выводил не только различие науки
от искусства и не только неспособность искусства решать
одними своими средствами специфические задачи научного познания.
Отсюда же он выводил опровержение дилетантизма — как
в науке, так и в искусстве.
Если красота, рассуждает Шиллер, оказывает свое действие
уже при простом созерцании, то истина требует изучения.
«Поэтому тот, кто ограничивался упражнением чувства
прекрасного, удовлетворяется поверхностным взглядом там, где
безусловно необходимо изучение, и пытается играть умом там,
где требуется напряжение и серьезность»3. Однако простым
созерцанием невозможно приобрести что-нибудь. «Кто хочет
добиться чего-то значительного, должен глубоко проникать,
1 Ф. Шиллер, Собр. соч., т. 6, стр. 373.
2 Τ а м же, стр. 375.
»Там же, стр. 376.
293
тонко различать, многообразно соединять и упорствовать в
работе. Даже поэт и художник, несмотря на то, что оба творят лишь
в расчете на созерцательное наслаждение, могут лишь путем
утомительного и менее всего приятного напряжения достигнуть
того, чтобы их произведения развлекали нас, играя»1.
VII
Заканчивая «Письма об эстетическом воспитании человека»
(1794) и работу «О необходимых пределах применения
художественных форм» (1795), Шиллер в сущности уже вышел из сферы
влияния Канта: в этот период на развитие его эстетического
мировоззрения влияет возникшая в 1794 году дружба между
ним и Гёте. Дружба эта перешла в творческое сотрудничество
в «Орах» и в оживленный обмен письмами. Многие из писем
Шиллера к Гёте — настоящие статьи по вопросам эстетики.
Из теоретических сочинений Шиллера, относящихся к этому
периоду, наиболее важна его статья «О наивной и
сентиментальной поэзии» (1795).
И в этой статье и в письмах намечается новый поворот
в идейном развитии Шиллера. От отвлечённых, чрезвычайно
широко и абстрактно поставленных вопросов философии культуры
и философской эстетики Шиллер все больше и больше переходит
к конкретным вопросам искусства и поэтики. В нем
просыпается критическое и скептическое отношение не только к
эстетическим абстракциям, но и к лежащим в их основе теориям
субъективного идеализма. Шиллер отходит от Канта и неприязненно
относится к поэтической практике и к эстетическим теориям
романтиков. Он внимательно изучает круг идей Гёте,
проникается некоторыми из них и в свою очередь сам оказывает
влияние на Гёте.
В это время в его эстетическом сознании возникает мысль
о двух основных типах поэзии, между которыми так или иначе
распределяются все крупные явления истории поэтического
искусства. Шиллер назвал эти два основных типа поэзией
«наивной» и поэзией «сентиментальной».
Нельзя сказать, чтобы термины эти ясно и точно выражали
его мысль. С одной стороны, термины эти связаны с
намечающимся различием между поэтическим реализмом и поэтическим
идеализмом. Сам Шиллер подал повод к такому толкованию
своей мысли.
С другой стороны, различие это в ряде случаев не связано
в сущности с эстетикой. Шиллер выводит его не из самого
искусства как такового, а из различий двух основных — этических,
а не эстетических типов человеческого характера. Но различия
1 Ф. Шиллер, Соч., т. 6, стр. 376.
294
эти в свою очередь становятся основой для различия
соответствующих этим этическим характерам видов, или типов
искусства.
В письме к Вильгельму Гумбольдту Шиллер разъяснил,
каким образом он пришел к установлению этих — скорее
этических, чем эстетических различий. «Я извлекаю,— писал
Шиллер,— из обоих поэтических характеров все, что в них есть
от поэзии, и получаю таким образом два совершенно
противоположных друг другу человеческих характера, которым даю
название реализма и идеализма; они полностью соответствуют
вышеупомянутым поэтическим видам и представляют собой
их прозаические подобия»1.
Но это деление поэзии на «наивный» и «сентиментальный»
роды есть у Шиллера одновременно и теоретическая
классификация и некоторая, правда, лишь эскизно намеченная и
обставленная существенными оговорками схема исторического
развития поэзии. В этом последнем плане «наивная» поэзия
определяет существенный характер античного искусства (эпос
Гомера), а «сентиментальная» поэзия — такой же характер
искусства нового времени. Другими словами — но лишь в той мере,
в какой Шиллер рассматривает оба эти вида поэзии, как
исторические ступени ее развития,— классификация Шиллера
предвосхищает будущее учение Гегеля о «формах искусства»:
«классической» (характеризующей античное искусство) и
«романтической» (характеризующей искусство нового времени)2.
Обе эти трактовки разделения поэзии — и теоретическая
(по различию основных типов) и историческая (по различию
основных ступеней развития) — в статье Шиллера и в его
письмах перемежаются. Сам Шиллер подчеркнул, что вводимое
им различие двух видов поэзии есть скорее различие двух
основных типов искусства, возможных во всякую эпоху его
существования, чем различие двух сменяющих друг друга во времени
стадий развития искусства. «Противополагая здесь,— писал
он в одном из примечаний к статье «О наивной и
сентиментальной поэзии»,— новых поэтов древним, мы имеем в виду не
столько различие эпох, сколько различие манеры. В новые, даже
в новейшие времена есть, хотя и не совсем чистые, образцы
наивной поэзии всех видов, а в древнеримской и даже греческой
поэзии нет недостатка в примерах поэзии сентиментальной. Оба
рода соединяются иногда не только в одном поэте, но даже в
одном произведении...»3. Примером соединения в одном и том же
1 Ф. Шиллер, Собр. соч., т. 7, стр. 383. Письмо В. Гумбольдту
от 9.1 1796 г.
2 Основным различием между Гегелем и Шиллером здесь остается
то, что классификация Гегеля имеет ярко выраженный диалектический
характер.
3 Ф. Шиллер, Собр. соч., т. 6, стр. 410.
295
произведении черт наивной и сентиментальной поэзии Шиллер
считал «Страдания юного Вертера» Гёте.
В этом — уже отнюдь не историческом смысле — Шиллер
полагал, что «наивная» поэзия есть вечная спутница духовного
и, в частности, эстетического развития человечества, вечна
существующий вид искусства. Искусство должно быть
«наивным», во-первых, для того, чтобы оно оказалось способным
изображать природу. Только при наивном рассмотрении природа
может, приходя в столкновение с искусством, посрамлять его.
И Шиллер разъясняет, что рассматриваемая таким образом
природа есть для нас не что иное, как «пребывание вещей в силу их
самих...», их существование «по своему собственному закону...»
Во-вторых, наивность есть, по Шиллеру, вечное
необходимое условие гениальности, в том числе художественной.
«Наивным,— утверждает Шиллер,— должен быть каждый истинный
гений — или он вовсе не гений. Гением его делает только
наивность, а если он таков в интеллектуальной и эстетической
областях, то не может быть иным и в области моральной»1. Наивность
гения — условие силы и внутренней необходимости образов
искусства, их естественности и вместе с тем их свободы,
оригинальности, смелости. Рассудочность всегда боязлива,
«распинает свои слова и понятия на кресте грамматики и логики...».
Боясь неопределенности, рассудочность делается жесткой и
неподатливой. Чтобы не сказать слишком много, она громоздит
много слов. Чтобы неосторожный читатель не порезался о
мысль, рассудочность лишает ее остроты и силы.
Напротив, наивный гений одним счастливым ударом кисти
«сообщает своей мысли во веки веков определенное, твердое
и при этом, однако, вполне свободное очертание». Его язык,
«словно движимый внутренней необходимостью, брызжет из
мысли» и настолько сливается воедино с мыслью, «что дух
как бы более обнажает свою телесную оболочку»2.
Эта мысль наивного поэта и соответствующий ей язык во
все эпохи существования поэзии — одни и те же, представляют
один и тот же тип отношения к миру и один и тот же метод
творчества. «Поэт наивного и одухотворенного юного мира..,
строг и целомудрен, как юная и девственная Диана в своих
лесах... Его сухая правдивость в обращении с предметами
нередко кажется бесчувственностью. Объект владеет им целиком,
его сердце не лежит, подобно дешевому металлу, тут же у
поверхности, но хочет, чтобы его, как золото, искали в глубине»3.
Так как изображенный здесь характер художника есть,
для Шиллера, тип — «вечный», одно из возможных для всякой
1 Ф. Шиллер, О наивной и сентиментальной поэзии (см.: Ф. Ш и л-
л е р, Собр. соч., т. 6, стр. 396).
2 Τ а м же, стр. 398.
3 Τ а м же, стр. 405.
296
эпохи проявлений художественного отношения к реальности,
то Шиллер находит образцы «наивной» поэзии не только в
искусстве древних греков и римлян. Он находит их и среди
величайших художников нового времени. Шекспир для него—
«наивный» поэт, не меньше, чем Гомер, хотя обоих разделяет целая
пропасть различий исторических обстоятельств, общественных
нравов и художественных особенностей. Это — две «в высшей
степени несхожие, разделенные неизмеримым расстоянием эпох
натуры, но вполне совпадающие в этой характерной черте»1
(в «наивности» и присущей ей объективности, холодности. —
В. Α.).
И точно так же «сентиментальная» поэзия, как ее понимает
Шиллер, не есть ограниченный определенными историческими
рамками вид поэзии, или период ее развития. Как и «наивная»
поэзия, «сентиментальная» поэзия есть всегда, во все эпохи,
существующий тип поэтического изображения реальности.
«Сентиментальная» поэзия противостоит «наивной» не как одна
эпоха другой, ей предшествующей. Она противостоит «наивной»
поэзии, как противоположный ей тип.
Если поэт, как Гомер, как Шекспир, есть сама природа,
то его поэзия будет «наивная». Но если поэт, не будучи уже
«природой», стремится к природе, его поэзия будет,
сентиментальной.
Нельзя не признать, что термины, взятые Шиллером для
выражения этой противоположности, сбивчивы. Они внушают
читателю мысль, будто основа противоположности между
«наивной» и «сентиментальной» поэзией есть противоположность
«холодности» и «чувствительности». Однако эта
противоположность —только вторичная, производная. Основной, первичной
противоположностью, которая определяет различие между
«наивной» и «сентиментальной» поэзией," является
противоположность двух художественных методов: непосредственного
и рефлектирующего. По Шиллеру, это — «два вида, в которых
только и может проявиться поэтический гений вообще»2.
С другой стороны, понятие «наивной» поэзии сближается
в известной мере и с реализмом. В этом смысле «наивная
поэзия» есть искусство реалистического изображения
действительности. Она возникает на ступени естественной простоты, где
человек действует всеми своими силами как гармоническое
единство и где цельность его природы получает полное
выражение в действительности. «Наивным» поэта делает его метод —
«наиболее совершенное подражание действительному миру...».
Напротив, «сентиментальная» поэзия есть искусство, задача
которого состоит в изображении не действительного мира, но
1 Ф. Шиллер, Собр. соч., т. 6, стр. 405.
2 Τ а м же, стр. 409.
20 в.Асмус 297
мира идеального. Она возникает на той ступени, где
«гармоническое общее действие всей человеческой природы является лишь
идеей». «Сентиментальным» поэта делает «возведение
действительности до идеала или, что ведет к тому же, изображение
идеала»1.
Но почему искусство, изображающее идеал,
противоположно искусству, дающему изображение действительного мира?
Разве оба эти изображения принципиально несовместимы?
Разве художник, рисующий идеал, не может изобразить его
как часть самой действительности — в виде идеального героя,
идеальных действий, идеальных мыслей и чувств
действительного человека? Разве правомерно, как это сделал Шиллер,
превращать различие, существующее между идеалом и
действительностью, в их полную противоположность, в основу для
противопоставления поэзии «наивной» и поэзии «сентиментальной»,
«реалистической» и «идеальной»?
Шиллер бесспорно абсолютизирует указанное различие,
несмотря на весь ряд сделанных им оговорок и пояснений2.
«Наивную» и «сентиментальную» поэзию он характеризует
скорее как антиподы.
В основе этой антитезы лежит коренная ошибка не только
эстетического, не только философского, но и общественно-
политического и исторического мировоззрения Шиллера. Она
состоит в убеждении, будто для человека идеал «есть
бесконечность, не достигаемая никогда»3. Идеал—то, к чему человек
должен стремиться, но без всякой надежды когда-нибудь его
достичь.
В этой антитезе отразилось реальное противоречие жизни,
поведения и образа мыслей современного Шиллеру немецкого
бюргерства. В социальной и политической действительности
Германии отсутствовали предпосылки, которые делали бы
возможным реальный переход от этой действительности к
действительности иной, уже осуществленной во Франции в результате
французской буржуазной революции.
Для немецких мыслителей эта — иная и высшая в сравнении
с тем, что их окружало,— действительность должна была
представиться как область недостижимого «идеала», а не как
приближающаяся новая форма реального существования общества.
Все «идеальное» понималось не как завтрашний день развития
конкретной, наличной действительности, а как проекция в бес-
1 Ф. Шиллер, Собр. соч., т. 6, стр. 409.
2 Говоря о противоположности методов «наивной» и
«сентиментальной» поэзии — двух единственно возможных ее методов,— Шиллер
поясняет, что, несмотря на чрезвычайное их различие, все же «есть более
высокое понятие, охватывающее их». По Шиллеру, это понятие совпадает
с идеей человечества.
3 Ф. Шиллер, Собр. соч., т. 6, стр. 411.
298
конечность некоего нормативного или идеализированного
порядка культуры. Порядок этот был обречен оставаться
недостижимым, и утверждалось, что действительность ни в какой момент
своего развития не способна его коснуться.
Шиллер сам отметил, что намеченное им противопоставление
«наивной» и «сентиментальной» поэзии выходит из сферы одной
лишь эстетики и отражает гораздо более глубокое противоречие
культуры. Как раз по поводу различия между «наивной» и
«сентиментальной» поэзией он возвращается к антитезе
«природы» и «культуры», рассмотренной в «Письмах об эстетическом
воспитании человека». «Сентиментальная» поэзия
представляется ему как искусство, изображающее не действительного
человека, который ныне пребывает в состоянии разорванности и
раздвоения, а человека идеального, которого не только еще нигде
нет, но которого, во всей его полноте и гармоничности, и впредь
никогда не будет. Именно в этом смысле, говоря о пути,
которым должен следовать как отдельный человек, так и
человечество в целом, Шиллер писал: «Природа дает человеку внутреннее
единство, искусство его разделяет и раздваивает, к своей
целостности он возвращается через идеал»1. Увы! Этот идеал — по
Шиллеру — недостижим.
Чем больше настаивал Шиллер на том, что
«сентиментальная» поэзия есть искусство, изображающее никогда не
достигаемый идеал, тем сильнее он был склонен противопоставлять
эту поэзию поэзии «наивной». Различие между
«сентиментальной» и «наивной» поэзией он толкует как такое, в котором
проявляется различие между духом и вещественностью,
идеальностью и индивидуальностью у духовностью и пластичностью
зримой формы, между искусством бесконечного и искусством
ограничения.
С этой точки зрения Шиллер утверждал, что скульптура
античности, то есть эпохи «наивной)/ человечности, несравненно
совершеннее, чем скульптура нового времени. «Именно тем,—
пояснял он,— что мощь древнего художника... заключается
в ограничении, объясняется высокое превосходство, которое
изобразительные искусства древности упрочили за собой над
новейшими.. Произведение, созданное для глаз, находит свое
совершенство лишь в конечном...»2. Скульптору нового
времени мало помогает его идейное превосходство сравнительно со
скульптором античным. Такой ваятель — в качестве ваятеля —
вынужден как можно точнее ограничивать в пространстве
образ, представший его фантазии, и, следовательно, соперничать
с древним художником в том как раз свойстве, в котором тот
имеет бесспорное преимущество.
1 Ф. Шиллер, Собр. соч., т. 6, стр. 410.
2 Τ а м ж е, стр. 412.
20* 298
В ряду всех различий, устанавливаемых Шиллером между
«наивной» и «сентиментальной» поэзией, основным остается
различие, которое существует между искусством,
представляющим простое воспроизведение действительности, и искусством,
всегда представляющим связь изображаемого предмета «с идеей».
Из этого — основного — различия Шиллер выводит
различие возможных для каждого из обоих родов поэзии способа
изображения. И здесь мысль Шиллера двоится. Наряду с
основным пониманием различия между «наивной» и «сентиментальной»
поэзией, как между искусством непосредственным и
рефлектирующим, выступает и другое: «наивная» и
«сентиментальная» поэзия различаются и как два метода изображения —
реалистический, воспроизводящий сущее, в случае «наивного»
искусства, и изображающий идеальное, идеал, — в случае
искусства «сентиментального».
Для «наивной» поэзии возможен в сущности только один
метод. «Наивный поэт следует лишь простой природе,
ограничиваясь подражанием действительности, поэтому он может
относиться к своему предмету лишь на какой-нибудь один
лад и с этой точки зрения не имеет выбора в трактовке»1.
По той же причине действие, оказываемое произведениями
«наивной» поэзии, не зависит, по Шиллеру, от формы
произведения. Форма эта может быть лирической или эпической,
драматической или описательной, и действие ее может быть боле*»
сильным или более слабым. Однако во всех этих случаях
чувство, испытываемое самим поэтом и людьми, воспринимающими
его произведение, «остается неизменным, оно состоит из одного
элемента, мы не можем в нем найти никаких различий»2.
Напротив, в «сентиментальной» поэзии возможны, по
Шиллеру, два способа изображения. Возможность эта обусловлена
ролью, какую при создании и при восприятии произведения
«сентиментальной» поэзии и играет размышление. Изображая
предметы, «сентиментальный» поэт предается размышлениям
о впечатлении, производимом на него предметами.
Растроганность, в которую погружен он сам и в которую он погружает
нас, покоится только на таком размышлении. Изображаемый
предмет «ставится здесь в связь с идеей, и только на этой связи
покоится сила поэзии». Поэтому «сентиментальному» поэту
приходится иметь дело не с однородным ощущением от предмета,
а всегда с двумя представлениями и с двумя ощущениями, между
которыми происходит борьба. «Сентиментальный» поэт имеет
дело «с действительностью, как конечным, и со своей идеей,
как бесконечностью...»3.
1 Ф. Шиллер, Собр. соч., т. 6, стр. 412.
2 Τ а м же, стр. 413.
3 Τ а м же.
300
Но там, где идет борьба двух начал, взять верх может либо
одно из них, либо другое. В зависимости от того, какое из обоих
перевесит в ощущении и в изображении поэта, возникает внутри
рода «сентиментальной» поэзии возможность двух методов
изображения. Если «сентиментальный» поэт больше сосредоточится
на действительности, если он изобразит действительность как
предмет своего влечения, то его произведение, будучи
«сентиментальным», окажется — по способу изображения —
«элегическим», в широком смысле этого понятия. Но если поэт больше
сосредоточится на идеале и изобразит действительность как
предмет своего нерасположения, то, будучи также
«сентиментальным» — по роли, какую в нем играет размышление,— его
произведение будет, по способу изображения, «сатирическим»1.
В этом, широком, смысле «сатирическим» будет произведение,
в котором поэт предметом своего изображения избирает
противоречие между действительностью и идеалом.
В свою очередь сатирическое изображение противоречия
между идеалом и действительностью может быть выполнено
или под главенством воли, или под главенством рассудка. В
первом случае сатирическое произведение выполняется серьезно
и страстно. Это «бичующая» или «патетическая»- сатира. Во
втором случае — когда поэт пребывает в области рассудка,—
сатирическое произведение создается шутливо и весело. Это
сатира «шутливая»2.
В характеристике сатирической поэзии Шиллер достигает
большой высоты. Шиллер считает недостойным поэзии всякое
изображение, в котором автор, отрицая изображаемую им
действительность, не исходит из высшего идеала,
противостоящего изображаемому. По верному наблюдению Шиллера, часто
принимают за сатиру такое изображение действительности,
которое не руководится никаким идеалом. Автор подобного
изображения осуждает изображаемую действительность только
потому, что она расходится с его личными склонностями и
потребностями, а не потому, что видит противоречие между
идеалом и действительностью. Но подлинная ценность сатиры может
определяться, по Шиллеру, только высотой идейного уровня,
на котором стоит сатирик и с вершин которого он
рассматривает изображаемую им жизнь. Только идеями должен нас
трогать истинный поэт, и только посредством разума может он
проложить путь к нашему сердцу.
Поэтому «патетическая» сатира «всегда должна иметь
источником дух, насыщенный живым идеалом». Только в
стремлении сатирического поэта к гармонии «может и должно
создавать то глубокое ощущение моральной дисгармонии и то жгу-
1 Ф. Шиллер, Собр. соч., т. 6, стр. 413.
2 Там же, стр. 414.
301
чее негодование против извращения морали, которые
вдохновляют Ювенала, Свифта, Руссо, Галлера и других»1.
VIII
До сих пор предложенное Шиллером различение двух
родов поэзии, «наивного» и «сентиментального», мы
рассматривали в плане теоретическом — как различие двух типов
искусства. В этом плане каждый из обоих типов возможен, по
Шиллеру, как мы видим, в любую эпоху истории искусства. «Наивные»
поэты и художники характерны для древности, но существуют
и в новое время. И точно так же поэты «сентиментальные» —
не только современный тип поэта: они существовали, по
Шиллеру, и в древности. Шиллер не только сделал ряд пояснений,
выявляющих «типологический» характер его разделения поэзии
на роды. Он очень обстоятельно развил эту «типологическую»
характеристику.
Однако деление поэзии на «наивную» и «сентиментальную»
изложено у Шиллера не только в этом — теоретическом или
«типологическом» — плане. Одновременно Шиллер
рассматривает «наивный» и «сентиментальный» роды как такие, которые
представляют два типа, хотя и возможные во всякую эпоху
истории искусства, однако возможные не в равной степени: в одну
эпоху развития поэзии — в античном искусстве — преобладал
«наивный» род, в другую — в современном искусстве —
преобладает род «сентиментальный».
Таким образом, задуманная в основном как классификация
теоретическая, классификация поэтических родов становится
у Шиллера, правда в слабой мере, и классификацией
исторической. На теоретическое сопоставление и противоположение
накладывается историческая периодизация.
Теоретическое содержание статьи «О наивной и
сентиментальной поэзии» вводится все же в рамки исторической схемы,
пусть неполно прочерченной. Схема эта стоит в тесной связи
с характерным для середины 90-х годов XVIII века
эстетическим мировоззрением Шиллера и представляет поздний и новый
варианты решения тех противоречий культурного развития
(противоречия универсализма и специализации), которые были
основным предметом рассмотрения Шиллера в его «Письмах
об эстетическом воспитании человека».
И действительно: на основную периодизацию («наивная» —
«сентиментальная» поэзия) Шиллер налагает некую
тройственную схему развития, возвращающую читателя к проблемам,
поднятым в «Письмах об эстетическом воспитании». На первой
стадии развития человек есть еще естественный человек
природы. На второй стадии естественность утрачивается и культура
1 Ф. Шиллер, Собр. соч., т. 6, стр. 416.
302
обременяет человека тяготами искусственности и социальными
противоречиями. Наконец, на третьей стадии культура должна
путем разума и свободы вновь привести нас к природе.
Этой тройственности ступеней развития человечности
соответствует тройственность в развитии человеческого ощущения
реальности. Здесь Шиллер намечает — впрочем, очень эскизно,
всего лишь в одном из примечаний,— подлинно диалектическую
последовательность категорий сознания. Он поясняет, что
оба способа ощущения, лежащие в основе «наивного» и «сен~
тиментального» родов поэзии, относятся между собой не как
первая и вторая категории, а как первая и третья. Ибо способ
ощущения, характеризующий «сентиментальную» поэзию, не
может возникнуть непосредственно из способа ощущения,
характеризующего поэзию «наивную». Он всегда возникает
только оттого, что ощущение, дающее начало «наивной» поэзии,
связывается с его прямой противоположностью. В самом деле:
«сентиментальное» расположение духа есть, по Шиллеру,
результат стремления восстановить по содержанию «наивное»
ощущение, но восстановить его непременно при условии
рефлексии. Но «рефлексия», или «размышляющий рассудок» есть,
по Шиллеру, противоположность наивного ощущения.
Но если это так, то каким образом может произойти
восстановление «наивного» ощущения? «Это могло бы произойти,—
отвечает Шиллер,— посредством осуществленного идеала,
в котором искусство вновь встречается с природой. Если
проследить,— продолжает он,— все три понятия по категориям,
то мы найдем природу и соответствующее ей наивное настроение
всегда в первой категории, искусство — как отрицание
природы свободно действующим рассудком — во второй, и, наконец,
идеал, в котором завершенное искусство возвращается к
природе,— в третьей»1.
Эта богатая диалектическим и соответственно
историческим содержанием схема осталась, однако, лишь намеченной,
но не развитой и не разработанной. Теория «наивной» и
«сентиментальной» поэзии только указывает путь к диалектико-
историческим построениям лекций Гегеля по «Философии
искусства». В своем основном содержании теория эта остается
теорией типов поэтического творчества или основой для их
классификации.
В связи с несомненным преобладанием в рассмотренной
классификации теоретического, а не исторического разреза стоит
и предложенное Шиллером решение вопроса о сравнительной
ценности обоих основных родов поэзии. Сам Шиллер определил
самого себя как поэта по существу «сентиментального». Но это
самонаблюдение и самоопределение не сделало его оценки исклю-
1 Ф. Шиллер, Собр. соч., т. 6, стр. 446—447.
303
чительными и несправедливыми в отношении к реализму. К этой
широте взгляда и оценок Шиллера привели два важных
основания. Первое из них состояло в том, что для Шиллера
«реализм» или «наивная» поэзия и «сентиментальная» поэзия
представлялись не как абсолютные методы художественного
изображения и не как исключающие друг друга направления
искусства. Шиллер скорее видел в них методы, необходимо
восполняющие друг друга. Только в их сосуществовании Шиллер
находил необходимое условие полной и совершенной
человечности, доступной искусству.
В статье «О наивной и сентиментальной поэзии» Шиллер
чрезвычайно обстоятельно характеризует односторонность,
неполноту каждого из обоих методов, взятого в отдельности.
В итоге Шиллер приходит к выводу, что идеал человеческой
природы распределен между обеими сторонами, но «ни одной из
них не достигается вполне». «Наивная» поэзия опирается на
опыт, «сентиментальная» — на разум. Но опыт и разум, по
Шиллеру, «имеют каждый свои права и преимущества, и ни один из
них не может вторгаться в область другого без дурных
последствий для внутреннего или внешнего состояния человека»1.
Только «опыт» может показать нам, что существует при
известных условиях, происходит при определенных
обстоятельствах и должно быть сделано для определенных целей. Но,
с другой стороны, только разум может показать, что имеет место
независимо от всяких условий и что необходимо должно быть.
Поэтому Шиллер самым решительным образом отказывается
от предпочтения поэзии «наивной», опирающейся на опыт,—
поэзии, опирающейся на разум, «сентиментальной», и от
обратного предпочтения второго рода поэзии — первому. С
подлинным пылом Шиллер заверяет, что при установленном им
разделении он совершенно не имел «намерения советовать... чтобы
отдавали предпочтение одному из классов, а другой
исключали... Лишь совершенно равноправное включение обоих
классов может дать удовлетворительное содержание
разумному понятию человечности»2.
Но у Шиллера было и другое, еще более серьезное
основание, в силу которого он отказывался оказать
предпочтение какому-либо одному из обоих установленных им родов
поэзии. Сознавая себя «сентиментальным» поэтом, Шиллер не
считал это самоопределение ни исчерпывающим, ни
окончательным. Поэтический путь самого Шиллера вел его, по
крайней мере в последнее десятилетие его деятельности, к
реализму. И в области познания и в области искусства Шиллер
признавал недостаточным и односторонним не опирающееся
1 Ф. Шиллер, Собр. соч., т. 6, стр. 475.
2 Τ а м же, стр. 466—467.
304
на опыт отвлеченное умозрение и идеализирующее изображение,»
расходящееся с условиями чувственной восприимчивости и
чувственной наглядности. К этому выводу Шиллера привели
размышления над собственным поэтическим опытом, наблюдения
над поэтическим и научным опытом Гёте и общение с Гёте по
важнейшим вопросам теории искусства и художественной практики.
В итоге Шиллер приходит к мысли, что в объективный закон
природы, совпадающий для него с «феноменом» (то есть
явлением.— В. Α.), в чистом «виде» может проникнуть не эмпиризм,
отдельно взятый, и не рационализм, или умозрительный
идеализм, но «только рациональный эмпиризм». По Шиллеру,
только «полная активность свободных мыслительных сил вместе
с чистейшей и широчайшей активностью чувственной
восприимчивости ведут к научному познанию». Рациональный
эмпиризм «полностью восстановит объект в его правах, лишив его
слепой силы, и он даст человеческому духу всю его свободу
(рациональную), лишив его всякого произвола»1.
Образцом естественного органического слияния в искусстве
чувственной интуиции с умозрением Шиллер считал
мышление и художественную практику Гёте. «Ваш дух,— писал
Шиллер Гёте,— действует в высокой степени интуитивно, и
все ваши умственные силы связаны с воображением как их
всеобщим представителем»2.
Шиллер находил, что привести к единству свои воззрения
и придать своему восприятию общеобязательность — это в
сущности «наивысшее из того, что может сделать из себя человек...»
Напротив, самого себя Шиллер считал далеким от этога
идеала. В признании, сделанном в том же письме к Гёте, Шиллер
определяет себя не как чистый и однородный тип художника,
а как тип смешанный, колеблющийся между интуитивным
воззрением и рассудочным мышлением. «...Я как промежуточный
тип,— писал Шиллер,— колеблюсь между логикой и
интуицией, между правилом и чувством, между техническим подходом
к искусству и гением»3.
В этой промежуточной сущности своего мышления и
художественного дарования Шиллер видел не свою силу, а слабость,,
не достоинство, а недостаток. По собственному признанию, эта
особенность придавала ему, особенно в годы, предшествовавшие
сближению с Гёте, «довольно неловкий, неуклюжий вид как
в сфере спекулятивной философии, так и в сфере поэзии: ведь
обычно там, где я хотел философствовать,— писал Шиллер,—
меня обгонял поэт, а там, где я хотел быть поэтом,— философ»4.
1 Письмо Шиллера к В. Гёте от 19.1 1798 г. (Ф. Шиллер, т. 1У
стр. 493).
2 Письмо Шиллера к В. Гёте от 31. VIII 1794 г. (т а м же, стр. 309).
3 Ф. Шиллер, Собр. соч., т. 7, стр. 309.
4 Τ а м же.
30S
Но Шиллер не остановился на этой позиции. Еще до начала
дружбы с Гёте он стал приближаться к характерному для автора
«Фауста» пониманию искусства и познания. В письме к Гёте
от 31 августа 1794 года, готовясь к предстоявшим условленным
между ними беседам на эстетические темы, Шиллер уже мог
сообщить Гёте, что направление, в каком он движется, все более
сходится с направлением развития самого Гёте. «Мои
собственные изыскания,— сообщал Шиллер,— шедшие путем,
отличным от вашего, привели меня к результатам, довольно схожим
с тем, какие получились у вас... Они набросаны года полтора
назад... Впрочем, с тех пор они получили во мне самом более
крепкий фундамент и большую определенность, несравненно
ближе подойдя к вашим идеям»1.
Этим результатом было стремление Шиллера к более
реалистическому способу изображения, а его идейной
предпосылкой — все усиливающаяся критика умозрительной
отвлеченности и идеалистического теоретизирования.
Насколько сильно захватила Шиллера эта эволюция его
взглядов и художественного способа изображения, видно из
того, что в рассматриваемый период суждения Шиллера об
абстрактном, идеалистическом теоретизировании становятся
жесткими и резкими до односторонности. Читая письма Шиллера
последних лет его жизни, можно было бы заподозрить, что в это
время Шиллер склонен был вообще поставить крест на всякой
эстетической теории. Так, в письме к Готфриду Кернеру от
10 декабря 1804 года Шиллер объясняет оттяжку в изучении
«Эстетики» Рихтера. Здесь мы читаем буквально следующее:
«Эстетику» Рихтера,— пишет он,— я еще не видел. Долгая
отвычка от всех теоретических взглядов на искусство и всякого
умничания сделали меня тупым в этом отношении, а пустая
метафизическая болтовня философов искусства внушила мне
отвращение ко всякому теоретизированию». Но тут же Шиллер
раскрывает причины своего нового отношения к эстетическому
теоретизированию. «На деле,— поясняет он,— эта духовная
операция (идеалистическое истолкование искусства.— В. А.)
не уживается с практикой, потому что в данном случае
необходимо выводить законы из реальных предметов, а не
исходить из общих формул, которые здесь нисколько не помогают
делу»2.
Развивая эту новую оценку идеалистических по содержанию
и умозрительных по методу теорий искусства, Шиллер изменил
свой прежний взгляд и на отношение между искусством и наукой.
Раньше его занимало то, в чем наука и искусство совпадают
или сходны между собой. Теперь его внимание направлено
на выяснение специфических отличий между ними. Уже в письме
1 Ф. Шиллер, Собр. соч., т. 7, стр. 309—310.
2 Τ а м же, стр. 602.
306
je Вильгельму Гумбольдту от 27 июня 1798 года Шиллер
признается, что теперь в его глазах искусство и наука все более
представляются как различные и даже во многом
противоположные деятельности духа. Прежде Шиллер надеялся, что
эстетическая теория способна оказать действенное влияние на
практику искусства, на совершенствование художника. Теперь он
уже не возлагает таких надежд на теоретическую эстетику.
«Не удивляйтесь, дорогой друг,— пишет он Гумбольдту,— если
я теперь вижу большее расстояние, даже противоположность
между наукой и искусством, чем, быть может, склонен был
видеть несколько лет назад. Именно теперь, когда вся моя
деятельность направлена на творчество, я каждодневно ощущаю,
сколько мало помогают творчеству поэта общие отвлеченные
понятия, и в таком расположении духа я порой бываю
настолько не философом, что готов отдать все, что знаю сам и что знают
другие об основах эстетики, за одно-единственное эмпирическое
достижение, за один какой-нибудь ремесленный прием»1.
Но взгляд этот в действительности не был отрицанием
эстетики. В период нового и последнего в его жизни подъема
творчества Шиллер отрицал не эстетическую теорию как
таковую. Он отрицал лишь абстрактно-идеалистическую эстетику.
Он не верил в способность этой эстетики привести от
отвлеченных умозрительных понятий к живым фактам искусства с их
специфическими задачами и специфическими трудностями. В эту
пору он противопоставлял своему прежнему методу
умозрительного теоретизирования — метод Гёте. «Вы все более отучаете
меня,— писал он Гёте,— от стремления, которое во всякой
практической, а особенно поэтической деятельности
нетерпимо,— идти от общего к индивидуальному, и, напротив того,
указываете мне путь от отдельных случаев к общим законам».
Он упрекает Вильгельма Гумбольдта не за то, что Гумбольдт
написал разбор «Германа и Доротеи» Гёте с эстетической точки
зрения, а за то, что эстетика эта оказалась слишком
отвлеченной, слишком умозрительной... «Ваше изложение,— поясняет
Шиллер,— можно упрекнуть в том, что вы избрали слишком
спекулятивный путь для разбора индивидуального поэтического
произведения... Кажется, что не хватает некоей средней части,
именно такой, которая бы сводила эти общие принципы,
метафизику поэзии, к частным принципам и помогла бы
применить самое общее понятие в самых индивидуальных случаях»2.
Шиллер даже приписывает часть ответственности за эту
ошибку Гумбольдта собственному влиянию — в годы, когда он
1 Письмо Шиллера В. Гумбольдту от 27.VI 1798 г. (Т а м же,
т. 7, стр. 503).
2 См.: Пиеьмо В. Гумбольдту от 27.VI 1798 г. (т а м же
стр. 505).
307
сам грешил недостатками умозрительного понимания искусства·
«...В этой ошибке,— признавался он,— я, как мне кажется,
узнаю свое влияние. Действительно, наше общее стремление
к основным понятиям в эстетических предметах привело нас
обоих к тому, что мы слишком непосредственно сводим
метафизику искусства к его конкретным проявлениям, используя
ее как практическое орудие, для чего она не очень годна»1.
Этим — спекулятивным — ошибкам и заблуждениям
Шиллер противопоставляет теперь реалистическое понимание
искусства. Вехой, отмечающей этот поворот, стала для Шиллера
работа над «Валленштейном», а идейным источником самого
поворота — эстетика Гёте.
В ходе написания этой трагедии поиски художественного
реалистического метода изображения шли у Шиллера рука об
руку с пересмотром теоретических взглядов на искусство.
Шиллер отдавал себе ясный отчет в происходившей в нем
перемене. «Прежде,— признавался он Вильгельму Гумбольдту,—
я старался, например в Позе и Карл осе, заменить недостающую
правду прекрасным идеалом, теперь, в Валленштейне, я хочу
за отсутствующий идеал (сентиментальный) вознаградить голой
правдой». Он не только говорит о характере Валленштейна как
об «истинно реалистическом», но выражает надежду, «следуя
по чисто реалистическому пути, создать характер драматически
сильный и заключающий в себе подлинно жизненный принцип»
(курсив мой.— В, Α.).
Но Шиллер не просто поставил задачей изобразить сильный
и драматический характер. «Реализм» он понимает не только
как изображение людей реального действия, свободных от
иллюзий и идеалистических предрассудков. «Реализм» для него —
не только предмет в его неискаженной реальности, но и
реалистический способ изображения предмета. В письме к
Вильгельму Гумбольдту от 21 марта 1796 года Шиллер уже прямо
называет новый путь развития, на который он вышел,—
реалистическим. «Поразительно,— писал он,— как много
реалистического приходит с годами, как много развилось во мне от
постоянного общения с Гёте и от работы над древними...».
Об этой новой, клонящейся к реализму эстетике он уже не
думает, будто от нее нет никакого перехода к практике искусства.
Напротив, он надеется на то, что осознанные им реалистические
принципы усовершенствуют поэтическую ткань и поэтическое
построение его новой трагедии. «Я набрел,— сообщает он
Вильгельму Гумбольдту,— на поразительное доказательство своих
идей о реализме и идеализме, которое одновременно сможет
успешно помочь мне в моей поэтической композиции»2. И он
1 Ф. Шиллер, Собр. соч., т. 7, стр. 506.
2 Τ а м же, стр. 391.
308
находит, что все, что было им сказано в статье «О наивной и
сентиментальной поэзии» о реализме, «в высокой степени верно
для Валленшейна»1.
Обобщая эти мысли, он даже приходит к выводу, что в
пределах реалистической эстетики отпадает необходимость
идеалистических иллюзий о жизни, не возникает потребности в тех
утешительных доводах, которые можно черпать только из
спекулятивного мышления»2. Он не только согласен с Гёте в его
мысли, что здоровая и прекрасная натура «не нуждается ни
в какой морали, ни в каком естественном праве, ни в какой
политической метафизике». Он идет еще дальше. «Вы вполне
могли бы еще добавить,— пишет Шиллер,— что для своего
утверждения и дальнейшего существования она не нуждается
ни в каком божестве, ни в каком бессмертии»3.
Движение к реализму, на путь которого Шиллер вступил
в последнее десятилетие своей жизни, привело Шиллера к
новым взглядам на разработку характеров в трагедии. Шиллер
сопоставляет способ изображения характеров у античных
трагиков со способом их изображения у Шекспира. Теперь он
считает необходимым, чтобы трагический характер был не
воплощением некой отвлеченной идеи: он должен быть выведен
из конкретной исторической ситуации. Шиллер называет свое
нынешнее творчество «чисто объективным» и поясняет, что для
этого творчества ему необходимо углубленное изучение
источников: «Я должен был вывести действие и характеры из их
времени, их обстановки и всей совокупности событий...»4.
Образцом такого изображения характеров он считает
Шекспира, которого он во весь предшествующий период почитал,
но ощущал совершенно чуждым себе. Необходимый признак
реалистичности действующих лиц Шиллер видит теперь в их
характерности, а степень характерности ставит в зависимость от
искусства, с каким автор умеет вывести характер из
определяющих его обстоятельств, исторической обстановки, окружения.
Сравнивая античных трагиков с Шекспиром и с Тёте,
Шиллер находит, что у греческих драматургов характеры — только
маски, а не индивидуальности. «Я обратил внимание,— писал
Шиллер Гёте, — ...что характеры в греческих трагедиях в
большей или меньшей степени идеальные маски, а не конкретные
индивидуальности, какие я вижу в шекспировских, а также
и в ваших драмах». И если Шиллер не ставит этого в упрек
греческим поэтам, то только потому, что, будучи обобщенными
и в этом смысле идеализированными, их герои не являются
1 Ф. Шиллер, Собр. соч., т. 7, стр. 391.
2 См.: Письмо к В. Гёте от 9.VII 1796 г. (т а м ж е, стр. 420).
3 Ф. Шиллер, т. 7, стр. 421.
4 См.: Письмо Шиллера к Г. Кернеру от 28. XI 1796 г. (там же,
стр. 442).
309
все же чисто отвлеченными, логическими сущностями: они»
так же далеки от чисто логических существ, как и от
единичных индивидуальностей»1.
По тем соображениям Шиллер, высоко ценивший суждения
об античности, развитые Лессингом и Винкельманом, слабой
стороной их воззрений считал то, что они не рассмотрели
произведений греческого искусства «с точки зрения характерного».
Напротив, его поражает мастерство, с каким Шекспир даже
в изображении народа и народного фона трагедии вносит
изображение характерных персонажей. Он выбирает эти
характерные лица так, что они могут — в своем лице — представлять
народ и, таким образом, избегая абстракции, и здесь остается
великим реалистическим поэтом.
Это наблюдение, имеющее принципиальное эстетическое
значение, Шиллер развил в письме к Гёте от 7 апреля 1797 года:
«...Сегодня, когда Шлегель читал мне «Юлия Цезаря», я
был поражен, с каким необычайным величием Шекспир умеет
живописать простой народ». По разъяснению Шиллера, при
изображении народного характера самый материал как будто
предрасполагает поэта дать не столько изображение конкретных
лиц, сколько «некую поэтическую абстракцию». И наоборот:
если подойти к созданию народной сцены натуралистически^
как выражается Шиллер, «с чрезмерно робким представлением
о подражании реальности...», то задача изобразить массу, толпу
«могла бы ввергнуть автора в немалое смущение...»2.
Однако шекспировский способ изображения лиц, как
характеров, дает Шекспиру возможность блестяще справиться с
трудностью. Характерное, особенное он дает как средство
изображения общего. «Шекспир,— поясняет Шиллер,— смело
выхватывает несколько фигур, я бы сказал, лишь несколько голосов из-
массы, чтобы они представляли весь народ, и они действительно
представляют весь народ — так удачен его выбор»3.
Шиллер не успел далеко пройти по намеченному им для
себя пути. Преждевременная смерть унесла его в начале нового —
интереснейшего, сулившего плодотворнейшие результаты —
поворота. Как реалист, он не успел раскрыться полностью-
ни в практике своего поэтического творчества, ни как эстетик,
теоретик искусства. Можно гадать о том, в какой степени
удалось бы Шиллеру оказаться победителем на путях к реализму.
Одно несомненно: переход на этот путь был для Шиллера и
необходимым и бесповоротным. В его бесповоротности —
значительная доля большого значения, какое принадлежит Шиллеру вис-
тории эстетических теорий.
1 Письмо Шиллера к В. Гёте от 4.IV 1797 г. (Ф. Шиллер,
Собр. соч.,т. 7, стр. 449).
2 Ф. Шиллер, Собр. соч., т. 7, стр. 450.
3 Τ а м ж е,
СОДЕРЖАНИЕ
Глава первая. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЭСТЕТИКИ КАК ФИЛОСОФСКОЙ
НАУКИ В ГЕРМАНИИ. АЛЕКСАНДР БАУМГАРТЕН 3
I Место эстетики в системе философских наук 7
Эстетика как философская наука о чувственном познании.—
Собственный предмет эстетики
II Анализ художественного творчества 19'
«Прирожденная эстетика».—Упражнение в художественном
творчестве.—Эстетическая теория.—Эстетическое
вдохновение.— Художественная отделка.— Подражание природе.
III Содержание в произведении искусства 30
«Богатство» содержания.— «Величие».— «Истинность». —
Эстетическая «ясность».— «Убедительность»
Глава вторая. ВИНКЕЛЬМАН, его теория ИСКУССТВА и
эстетическое МИРОВОЗЗРЕНИЕ 57
Глава третья, эстетика ЛЕССИНГА · 85
Глава четвертая. ЭСТЕТИКА КАНТА 148
I Эстетические работы Канта и развитие эстетической
проблемы в его философии 163
II Кантовская характеристика суждений вкуса. Аналитика
прекрасного 188
III Кантовская характеристика суждений вкуса. Аналитика
возвышенного 210
Математически-возвышенное.— Динамически-возвышенное.
Дедукция эстетических суждений
IV Учение Канта об искусстве 231
Учение о художественной деятельности (о «гении»).—
Учение Канта об эстетических идеях
V Классификация искусств 244
Глава пятая, шиллер КАК философ и эстетик 259
Валентин Фердинандович Асмус
НЕМЕЦКАЯ ЭСТЕТИКА XVIII века